Борис Бондаренко Залив Терпения Повести
Залив Терпения
1
Лет ему было тридцать два, звали — Василием Макаренковым.
Высокий, тяжелый, густобородый, — шагал он по жизни легко, была она проста и понятна ему, и редко задумывался Василий о своем будущем — оно не пугало его, знал он, что сил у него много, хватит на любую работу, деньги всегда будут — а что еще нужно? Никого не было у него. Отец погиб на войне, — Василий даже не знал, когда он был убит и где похоронен, — мать осталась смутным воспоминанием голодного послевоенного детства, такого далекого, что Василий почти и не думал о нем, и в том городе, где он родился и где умерла его мать, не был уже лет десять. А жены у него не только не было, но он и не задумывался о том, надо ли ему жениться, просто твердо знал — не надо. Зачем? Всегда находились женщины, которых тянуло к нему как магнитом. Василий легко сходился с ними и так же легко расставался, и на всякие попытки удержать его отвечал с естественным, добродушным изумлением: «Да какой же из меня муж?» И у женщин замирали на губах заранее приготовленные слова, а немного погодя они уже и сами говорили себе: «А в самом деле, какой из него муж?»
А впрочем, таких попыток было немного. Так уж получалось, что и женщины встречались ему под стать — с неустроенной беговой жизнью, прошедшие уже не через одни мужские руки, давно поставившие крест на своей любви. И когда Василий уходил от них, они даже не обижались на него, ставя себе в вину свое прошлое, а если и просили остаться, то потому только, что им было хорошо с ним — был Василий добр, щедр и на деньги, и на ласки, и выгодно выделялся из толпы таких же, как он, бродяг и странников. Да и женское чутье безошибочно подсказывало им — не удержать Василия, все равно уйдет. И Василий уходил — не сиделось ему на месте, неудержимо манила его вольная жизнь и еще не виданные места.
А жизнь эта могла получиться совсем другой. Когда умерла мать, Василию шел всего одиннадцатый год, и детдомовская шантрапа легко увлекла его в свою разгульную жизнь. Года через два он попался на мелкой краже и угодил в колонию. И с первых же дней заключения так затосковал по воле, что почти заболел от этой тоски, и дал себе твердый зарок — выйти отсюда и никогда уже не только не брать чужого, но и вообще жить так, чтобы не было на совести даже крохотного пятнышка от неправого дела. И зарок этот соблюдал неукоснительно.
Когда вышел из колонии, было ему шестнадцать лет. Тут же уехал из этого города. И закрутилась-завертелась жизнь Василия Макаренкова — не жизнь, а малина… Где только не пришлось побывать ему! Ходил с экспедициями по Сибири и Дальнему Востоку, мыл золото на Чукотке, шоферил в Якутии, рыбачил и в Атлантике и на Тихом, валил лес на Печоре. Он умел и любил работать, и то, что казалось порой невыносимо тяжелым и трудным для других, было для него делом обычным, неизменно выручали его огромная физическая сила и несокрушимое здоровье, и, бахвалясь своей закалкой и выносливостью, он на потеху дружкам купался в льдистом Охотском море, помногу пил, почти не пьянея, после жарких сибирских бань голяком подолгу барахтался в снегу. И не брала его никакая простуда, не валила с ног никакая работа. Вернувшись из очередного рейса или экспедиции, он брал расчет, уезжал в Россию, просаживал деньги в московских и ленинградских ресторанах, поил каких-то приблудившихся к нему, жадных на дармовщину людей, ездил на Юг. А прожившись и пропившись, с легким сердцем и пустым бумажником возвращался на Север или Дальний Восток, и в дороге иной раз приходилось питаться черствыми пирожками и обшаривать карманы в поисках медяка для стакана газировки… Но это ли беда? Знал он, что где-то ждет его койка в общежитии или каюте сейнера, что в любом порту, в любой конторе ему всегда найдется работа — и не за какие-нибудь там сотню-полторы в месяц, которых и на семечки не хватит, а настоящая, фартовая, с полдюжины его специальностей тому гарантия, такого работягу — с руками оторвут. И находилась ему и работа, и койка, — и так шли годы, и не то чтобы не надоедала Василию эта жизнь, но другой он просто не знал и почти не задумывался о том, что мог бы жить как-то иначе. Так жили все его дружки — так или хуже, потому что у других не было его силы и здоровья, его молодости и уверенности в себе, его бесстрашия. Бывали в его жизни минуты отчаянные, почти безнадежные, но и тогда он не пугался, не терял уверенности в том, что все обойдется… И все обходилось — хотя случалось ему и в море тонуть, и в тайге замерзать, и проваливаться под лед вместе с грузовиком.
И в бурной этой жизни как-то не находилось у него ни времени, ни желания как следует задуматься о том, что же дальше будет. Все считали его человеком сильным, удачливым, Василий охотно соглашался с ними, и другого в жизни ему как будто и не надо было. Правда, случались минуты, когда начинало казаться ему, что жизнь его — не такой уж и «блеск», и порой он невольно завидовал тем, кто живет спокойно, в своем углу, и в жизни их, расписанной вперед на годы, все ясно и просто, и не надо думать о том, что будет завтра или через месяц, завидовал их женам, друзьям, — постоянным, а не временным, — даже чистым постелям и надраенным ботинкам. Но выпадали такие минуты редко — если уж очень донимали холод и сырость, забулдыжные компании и никчемные людишки, с которыми поневоле приходилось жить бок о бок, жилястые столовские гуляши и похмельные пробуждения по утрам. И проходили такие минуты скоро — нытиков и хлюпиков Василий терпеть не мог и в компанию к ним записываться не собирался.
Сейчас он возвращался с Севера, с золотых приисков. Василий не совсем еще отошел от тяжелейшего старательского лета, от долгих северных дождей и гнуса, тело его еще густо полнилось непроходящей усталостью, но впереди уже заманчиво маячили месяцы веселой, свободной жизни. Как всегда, планы у него были самые неопределенные — добраться до Москвы, прибарахлиться немного, пару дней покуролесить в ресторанах, потом — куда-нибудь на Юг, погреться на солнышке. А дальше — видно будет… Загадывать надолго Василий не любил. Пока деньги не выйдут — гульнет как следует… Вся жизнь Василия резко ломалась на такие вот периоды. «Жизнь — как зебра, — любил со смешком говорить Василий. — Полоска черная, полоска белая». И не то чтобы черной полоской представлялась ему работа, а белой — гульба. Просто разные были времена, только и всего. Работать так работать, чтобы чертям тошно стало, а гулять так гулять, чтобы дым коромыслом.
И, наверно, была бы эта осень как и все остальные, но случилось вдруг, что их самолет посадили за две тысячи километров от Москвы, — не было погоды, — и объявили, что придется задержаться здесь до утра. И как только объявили это и сказали название города, Василий сразу вспомнил, что здесь живет женщина, с которой он полтора года назад провел месяц на Юге, — самая необыкновенная и непонятная из всех встреченных им женщин, — и, не раздумывая, решил повидать ее. Адреса, конечно, у него не было, но он знал о ней достаточно, чтобы разыскать ее. Новожилова Татьяна Георгиевна, родилась в одна тысяча девятьсот тридцать девятом году в Рязани, — этих сведений вполне хватило для того, чтобы в справочном бюро ему выдали бумажку с адресом и подробнейшими объяснениями, куда и на чем ехать. Бумажку Василий взял, объяснения выслушал вполуха — таксист довезет.
Машина осязаемо качнулась под тяжестью его тела, когда Василий влез в нее с коробкой наилучших конфет и бутылкой коньяку. Шофер с уважительным одобрением покосился на него:
— А и здоров ты, парень.
— Ничего, есть маленько, — согласился Василий.
— Куда ехать?
— Прямо, — Василий махнул рукой. — Покажи, что у вас за город.
Шофер хмыкнул и тронул с места.
Город не нравился Василию, как не нравились ему все города. Не понимал он, что хорошего жить в них, в каменной тесноте домов, среди толп суетящихся и всегда куда-то спешащих людей, дышать дымом заводов и бензиновой гарью. В душе он презирал горожан за их стремление к удобствам, за беспомощность, как только они отрывались от своих автобусов, электричек, горячей воды и мягких постелей. Но, сталкиваясь с ними в своей стихии, с грубоватым добродушием опекал этих «слабаков», подсказывал, помогал. А оказываясь в городе, не то что терялся, но часть его обычной уверенности исчезала, и, глядя на толпу с высоты своего роста, он преувеличенно осторожно шагал по улице — не задеть бы кого ненароком, не наступить на ноги.
И сейчас, поглазев на серые мокрые дома, на толпы будто съежившихся, — и не столько от холода, наверно, а от скверной погоды, — людей, Василий заскучал, зевнул и сказал шоферу:
— Давай-ка на Байкальскую, дом десять.
И стал думать, что бы такое соврать мужу Татьяны, если он окажется дома, — а где же ему быть сейчас, вечер уже, — но ничего не придумал и, понадеявшись на авось, решил: да как-нибудь выкручусь. А интересно, что за мужик у нее… Василий знал только, что он вроде бы лет на десять старше Татьяны, доктор каких-то наук. Шишка, однако…
Сунув шоферу пятерку и отмахнувшись от сдачи, — хотя счетчик и двух рублей не настукал, — Василий выбрался из машины, подвигал затекшими ногами и пошел искать тридцать девятую квартиру, вглядываясь в таблички на дверях подъездов.
2
Встретились они в мае прошлого года, оказавшись соседями в самолете, летевшем в Адлер. Сидела она у окна, и хотя теснота кресла и скрадывала ее фигуру, но видно было, что тело у нее высокое, крупное, а когда встала она, полчаса спустя, и пошла по узкому проходу, задевая бедрами за спинки кресел, Василий, проводив ее долгим взглядом, подумал, что вот такая — как раз была бы для него. Но подумал мимоходом, он вовсе не собирался делать какие-то закидоны. Дохлая была бы затея — стоило только взглянуть на нее, и дурак поймет, что таких для него быть не может. А Василий дураком себя не считал. Держись своих, они не продадут — эту истину он усвоил крепко. А эта женщина своей никак не могла быть: прическа, взгляд, одежда, а главное, руки, — очень чистые, белые, гладкие, с ярким маникюром, — все говорило о том, что она — чужачка, из того народа, которого Василий не знал и с которым почти не сталкивался. Но когда она возвращалась обратно, а он почему-то замешкался, глядя на нее, и не успел встать, а она его об этом не попросила, как несколько минут назад, и, задевая длинными горячими ногами его колени, протиснулась мимо него и села на место, — Василию уже не казалось, что она такая чужачка. У нее была хорошая улыбка, когда он неловко извинился за свою забывчивость, и дружеский тон, когда она вынула сигарету и попросила прикурить.
В ту весну Василий возвращался после долгой зимовки с острова Хейса, где женщин можно было видеть только на фотографиях да на картинках, вырезанных из журналов. И тогда, в самолете, он даже не мог решить, действительно ли Татьяна так красива, или это только кажется ему — все женщины в ту пору нравились ему, потому только, что они были женщинами. И лишь потом, когда исчез голод тела и он мог смотреть на женщин беспристрастно, Василий увидел, что она и в самом деле красива. Очень красива.
Но тогда, в самолете, этот голод не давал ему покоя и все время заставлял помнить о том, что рядом сидит женщина. Три часа полета просто измучили его. И уж лучше бы она не улыбалась ему такой хорошей улыбкой, не расспрашивала таким красивым голосом о его жизни, не трогала его руку своей белой гладкой рукой, когда внизу проплывал Дон… Она так ласково прервала разговор, извинилась и сказала: «Давайте посмотрим», и он послушно умолк, придвинулся к окошку, но увидел не Дон, а красивый изгиб ее шеи, курчавые завитки волос, нежную розовую мочку уха, вдыхал тонкий запах ее духов, а когда она наконец отклонилась от окна, ее волосы скользнули по его щеке… Тогда, может быть, и не казалось бы Василию, что та преграда, которую он всегда чувствовал, встречаясь с такими, как она, становится меньше. А была минута, когда показалось, что никакой преграды и совсем нет, — это когда Татьяна, с огромным интересом, который она и не собиралась скрывать, выслушала рассказ о том, как он один, с голыми руками, пошел на пьяного взбесившегося старателя, вооруженного ножом. Сам он никогда не стал бы распространяться об этой истории, но Таня спросила, откуда у него шрам на шее, и пришлось рассказать, как было дело. Она сказала ему:
— Какой вы… смелый. — И, передернув плечами, добавила: — Это же просто страшно.
Василий, смущенный ее похвалой, стал оправдываться:
— Ну, чего там страшного… Я сам виноват. Понадеялся, что он совсем окосел. А так бы огреть его лесиной — и дело с концом.
Она чуть улыбнулась.
— Почему же… не огрели?
— Жалко стало.
— Жалко? — удивилась Таня. — Такого бандита?
— Ну, какой же он бандит? — Теперь уже Василий удивился. — Такой же работяга, как и все. Перепил малость — так с кем не бывает? Он потом говорил, что ему какие-то чертики стали чудиться.
— А-а, — догадалась Таня. — Алкогольная горячка.
— Во-во, она самая.
— Но ведь он же мог убить вас.
— Ну что вы, — сказал Василий таким тоном, что она засмеялась:
— Да, вас так просто не свалишь… А что ему было за это?
— Да ничего. Стукнул я ему раз по уху — он и отключился. На всякий случай связали, пока совсем не очухался.
— А потом?
Василий озадаченно посмотрел на нее.
— Ну, что потом… Ничего. Оклемался, выпили мы с ним по стаканчику, чтобы замять это дело, и все. А шея через неделю зажила.
— А милиция не вмешивалась?
Василий даже глаза на нее вытаращил, догадавшись наконец, насколько плохо она представляет его жизнь.
— Ну что вы, какая милиция… Там на двести километров вокруг нет ни одного милиционера. Да и на кой… — он запнулся о слово «черт», едва не сорвавшееся с языка, и поправился: — Зачем же милицию вмешивать? Люди все свои, сами разберемся.
И вот когда он увидел ее взгляд, и показалось ему, что никакой преграды нет, — все это выдумки. Что из того, что у нее высшее образование (Таня уже сказала ему, что окончила университет, работает в каком-то институте), а у него — семь классов, восьмой — коридор? Пусть она умная, образованная, интеллигентная, — но и он повидал кое-что, чего ей и не снилось, и это еще вопрос, что лучше. Что она там видела в этом институте из-за своих пробирок? У него жизнь тоже — будь здоров.
Но было это всего минуту, а потом она сказала какое-то слово, которое он не понял, и преграда встала на место, — правда, уже не такая основательная и прочная, как раньше. Василий продолжал рассказывать о том, что видел и знал, Таня слушала его как зачарованная, и он торжествовал про себя: «Это тебе не фунт изюму… Небось твои очкарики тебе такого не расскажут…» Василий понял, что ей интересно с ним, и почувствовал себя гораздо свободнее.
Когда вышли они из самолета, стали на площади, высматривая такси, Таня взглянула на него как будто выжидающе.
— Куда вы теперь? — спросил он.
— Думаю, где-нибудь в Гагре остановиться. А вы?
— Да ведь мне все равно.
— Тогда поедемте вместе, — просто предложила Таня, и Василий, обрадовавшись, подумал: «А чем черт не шутит… Остановлюсь где-нибудь рядом, посмотрим, что выйдет…» И сказал:
— Конечно, если вы не возражаете.
В Гагре все получилось как-то само собой — у квартирного бюро перехватила их ласковая старушка, запричитала:
— Ой да хорошие вы мои, идите ко мне, не пожалеете…
— Две комнаты найдется? — решительно прервал ее Василий.
— Дак ить цельный дом пустует, как не найдется.
— Ну, идем, мамаша.
И, подхватив чемоданы, зашагал за бодро семенящей старушкой, продолжавшей радостно причитать:
— Вот спасибо, милые, выручили, а то я уже шесть дён хожу, постояльцев ищу. Что-то мало нонче едут, погода плохая. Только вы не бойтесь, через неделю такое солнце будет, что сжаритесь. А мне-то уж как кстати, одна я, на пенсию живу, да что эта пенсия — двадцать один рубель всего…
И поселились они в одном доме, в соседних комнатах, выходящих на застекленную веранду.
Спали оба с раскрытыми окнами, и по вечерам Василий слышал, как ходит Таня рядом, за стеной, как скрипит сетка ее кровати, как все стихает потом.
А на третью ночь он вышел на веранду, постоял, прислушиваясь к тишине в ее комнате, и подошел к ее окну, загородив его спиной, вгляделся в темноту. Там, внутри, ничего не было видно. Но он знал, что Татьяна не спит, — незадолго до этого он слышал ее покашливание, — и решительно перемахнул через подоконник. Таня молчала — и только когда он сел на кровать и протянул руки к ее плечам, белевшим в темноте, она потянулась и обняла его.
Потом, ошеломленный случившимся, он лежал рядом с ней на узкой кровати, Таня плотно, всем телом, прижималась к нему, он слышал ее голос в темноте и смех, чувствовал руки, ласкавшие его лицо:
— У-у, колючий… Зачем тебе борода? Зарос, как медведь. Завтра же сбрей.
— Слушаюсь, — засмеялся Василий, а сам все еще не верил — неужели это правда?
Бороду он сбрил, но когда Таня сказала, что неплохо бы и галстук надеть, Василий поморщился:
— Никогда не носил эти удавки.
Но, подчиняясь ее ласковой настойчивости, пошел с ней в магазин, купил несколько галстуков и, поносив один вечер, сказал:
— Ну, с этими финтифлюшками я — пас.
Таня засмеялась:
— Господи, да разве я заставляю тебя? Не носи.
И когда он с облегчением сорвал галстук и расстегнул верхнюю пуговицу рубашки, она, погладив его шею, сказала:
— И правда, что это мне взбрело в голову? Для такой шеи — и галстук.
— А какая у меня шея? — не понял Василий.
Таня засмеялась и поцеловала его.
— Такая…
Весь тот месяц вспоминался какими-то отрывками вроде этого. Лучше всего помнились ночи — может быть, потому, что вспоминать их было приятнее всего. По ночам Таня была понятным и по-настоящему близким ему человеком, — и до сих пор, вспоминая ее ласки, ее восхищение красотой и силой его тела, Василий испытывал приятное чувство гордости от того, что его любила такая женщина. Любила? А так ли уж важно, как это называть? Ведь были минуты, когда Василию казалось, что он дает этой женщине то, что никто другой дать не мог. Да и не только казалось — Таня сама говорила ему так, и это были лучшие минуты его жизни — потом Василий не раз думал об этом.
Но все же это были только минуты. Утром все уходило куда-то. Они пили чай, завтракали на скорую руку, и Таня, в простеньком халате, с небрежно заколотыми волосами, резала хлеб, пододвигала масло, улыбалась ему — и все еще оставалось ощущение ночной близости. Но потом она начинала собираться, подводила глаза, красила губы, делала прическу — и в какие-то полчаса становилась совсем другой: строгой, очень уверенной в себе, не слишком-то ласковой, и однажды Василий насмешливо сказал:
— При твоем марафете так и тянет назвать тебя Татьяной Георгиевной.
Она посмотрела на него и усмехнулась:
— Между прочим, меня многие так и называют.
И он, не поняв, шутит она или нет, промолчал.
А кое о чем вспоминать и до сих пор было неприятно. Спустя неделю, когда они сидели в ресторане, Василию вдруг захотелось выпить. Не так, как они обычно выпивали за ужином, — бутылку сухого на двоих, — а по-настоящему. Он заказал бутылку коньяка и, заметив взгляд Тани, с недоумением спросил:
— Ты что?
— С чего это тебе вдруг вздумалось пить?
— А что, нельзя? — попробовал отшутиться Василий.
— Разумеется, можно, — небрежно ответила она, — но мне бы, откровенно говоря, не хотелось, чтобы ты пил.
— Почему?
— Не люблю пьяных, — пренебрежительно бросила Таня.
— Ого! — Уязвленный Василий не сразу нашел, что сказать. — А с чего ты взяла, что я буду пьян?
Таня не ответила и молчала весь вечер, с кем-то танцевала, не обращая на Василия никакого внимания. Он сначала разозлился: «Да что она мне, жена?!», и за какие-то полчаса выцедил всю бутылку. Но когда увидел, как посмотрела на него Таня, настроение у него упало. А она, смерив взглядом пустую бутылку, спросила:
— Все?
— Что «все»?
— Ты все выпил?
— Как видишь.
— Тогда пойдем.
И, не дожидаясь, пока он расплатится, пошла к выходу. Василий поманил официантку, бросил на стол четвертную и, буркнув «сдачи не надо», торопливо двинулся за Таней, догнав ее уже на улице. Они в молчании прошагали до дома. Василий, по обыкновению, прошел в ее комнату, сел на постель и попытался обнять Таню, но она решительно отстранилась и с убийственной вежливостью сказала:
— Пожалуйста, уходи к себе, я хочу спать.
— Вместе ляжем.
— Нет, — сухо сказала она и не садилась, ожидая, когда он уйдет.
И Василий опустил глаза, молча поднялся и ушел в свою комнату.
Утром она говорила с ним так вежливо, словно Василий был милиционером на перекрестке и она обращалась к нему с вопросом, как найти какую-то улицу. Василий крепился, — ночью он дал себе слово, что будет держать себя как ни в чем не бывало, а если она будет ерепениться — черт с ней, — но наконец виновато сказал:
— Ну ты чо, Тань? Ну, выпил малость, что тут такого?
— Это что, надо понимать как извинение? — не сразу спросила она, не поворачиваясь.
— Как хочешь, — буркнул Василий.
— Даже так, — не скрывая насмешки, бросила Таня, и Василий, не выдержав ее молчания, сдался:
— Извини.
— Это уже другое дело, — сказала она и повернулась к нему. Натирая руки душистым кремом, она разглядывала его так, словно видела впервые, и спокойно продолжала: — Слава богу, хоть до этого ты догадался. И неплохо было бы, если бы ты запомнил: когда женщина просит мужчину о чем-то, ее просьбы принято выполнять. Тем более что просьба была очень естественная и выполнить ее для тебя было не так уж трудно.
— Но я же и в самом деле не был пьяный, — попытался возразить Василий, но Таня подняла брови и небрежно осведомилась:
— Ты полагаешь, что быть пьяным — это обязательно орать песни и валяться под забором? Если ты хотел доказать мне, что умеешь пить, то напрасно старался. Я и так, между прочим, не сомневалась в этом. И, надо сказать, это качество далеко не самое ценное в человеке. В моем, разумеется, понимании, — все так же вежливо добавила она и уже совсем другим тоном сказала: — Ну и кончим на этом, идем завтракать.
Но это, пожалуй, был единственный случай, когда она так явно дала понять ему свое превосходство. Обычно же она ни словом не подчеркивала разницы между ними, но иногда по ее взглядам Василий видел, что делает и говорит что-то не так. А что не так — он не догадывался, злился на себя, а случалось — и на Таню, но она так умела не замечать его злости, что он тут же сникал. Больше всего она любила слушать рассказы о его приключениях, но недели через две оказалось, что рассказывать Василию уже как будто и нечего. И они все чаще молчали, Таня читала, а он скучал, уплывал чуть ли не к горизонту, за ним гонялся катер спасательной службы, с которого орали на него в «матюгальничек», и наконец оштрафовали. Раза два Василий собирался было снова как следует выпить, но в последнюю минуту отказывался от этого намерения. И не то чтобы он боялся Тани, но понимал, что она в любую минуту может дать ему от ворот поворот — а этого ему никак не хотелось. Слишком уж хороши были ночи у них…
Василий пытался расспрашивать ее о муже, о работе, но Таня, и вообще-то не слишком разговорчивая, отделывалась пустыми словами, а о муже и вовсе отказывалась говорить. Однажды он спросил:
— А ты не боишься со мной так… в открытую ходить?
— Почему я должна бояться? — как будто удивилась Таня, и он недоверчиво посмотрел на нее — не разыгрывает ли.
— Ну, как почему? Вдруг кто-нибудь знакомый из вашего города встретится.
— Ну и что?
— Как что? Твоему благоверному накапают.
Таня чуть заметно поморщилась, вероятно, на «благоверного», и спокойно спросила:
— О чем это они могут «накапать»?
— Вот те на… С кем-то все время ходишь, в одном доме с ним живешь, в ресторанах рассиживаешь…
Таня пожала плечами.
— Ну и что из этого?
Василий даже присвистнул от удивления:
— Как это что? Ты хочешь сказать, что ему будет все равно?
— Более или менее. Я и у себя в городе не только с ним хожу, да и его не контролирую — с кем и куда пошел…
Василий озадаченно посмотрел на нее, покрутил головой:
— Ну и порядочки у вас…
— У кого это у нас?
Он явственно увидел в ее глазах какое-то легкое пренебрежение и буркнул:
— У интеллигентов, у кого же еще.
Таня засмеялась.
— При чем тут интеллигенты? Речь идет об элементарном уважении друг к другу, о доверии…
«Таким, как ты, только и доверять», — чуть было не сорвалось у него, но он вовремя спохватился. А Таня, догадавшись, вероятно, о его невысказанной мысли, насмешливо спросила:
— А у вас порядочки не такие? Прошелся с другим — и по физиономии получишь?
— Бывает.
Василий отвернулся от нее и уставился в небо черными очками.
Прощалась она с ним до обидного буднично — и слова ласкового не сказала. Василий хотел обнять ее, но Таня, словно не заметив его движения, протянула руку, равнодушно сказала:
— Ну, всего тебе доброго.
— И тебе того же, — сказал обиженный Василий, задерживая ее руку в своей и все еще надеясь, что она скажет ему что-нибудь еще. Но Таня легонько высвободилась и пошла к самолету. Василий смотрел ей вслед, думал — обернется или нет? Таня обернулась уже на трапе, на секунду, не больше, — вряд ли она даже успела разглядеть его в толпе, — и небрежно махнула рукой. А Василий стоял до тех пор, пока самолет не увезли на взлетную полосу, считал маленькие круглые дырки оконцев, пытался угадать, за которым из них она. И, не возвращаясь в Гагру, напился тут же, в ресторане аэропорта, и пил потом почти неделю, возвращаясь в свою опостылевшую комнату только для того, чтобы отоспаться. Стал было думать: уехала — и бог с ней, баба как баба, ничего особенного, другую себе найдет. И с удивлением обнаружил, что Татьяна не забывается и других ему совсем не хотелось. И чем больше времени проходило после ее отъезда, тем больше нарастала в нем какая-то непонятная обида на Таню. Однажды даже подумалось: «Как кутенка поманила, поигралась — и бросила…» И тут же он разозлился на себя: «Вот дурака кусок, а чего ты хотел? Да и никто не манил тебя, сам рассопливился…» И все-таки странная эта обида не проходила, с, нею он и уехал, и долго еще не забывалась эта женщина, снилась по ночам, помнились ее ласки…
3
Отыскав квартиру, Василий вдруг почти с испугом подумал: а что, если она не живет здесь? Сунув свертки под мышку, он торопливо потянулся к кнопке звонка, с силой надавил. Но вместо звонка послышалось тихое мелодичное звяканье, и он надавил еще раз. Снова звякнуло, послышались шаги, которые он сразу узнал, — ее шаги, — и Василий удивился тому, как вдруг заколотилось сердце.
Дверь открылась, и он увидел Таню.
— Здрассьте, Татьяна Георгиевна, не узнаете? — гулко забасил он в расчете на мужа и продолжал, не давая ей ответить: — Помните, года полтора назад встречались, вы еще книжки давали мне читать, объясняли… Вот случайно оказался в вашем городе, решил зайти, проведать. Извините, если что не так…
Таня спокойно, словно не узнавая, смотрела на него, и он уже с отчаянием подумал: «Забыла…» Но тут она улыбнулась, шире открыла дверь:
— Здравствуй, Вася.
И посторонилась, пропуская его. А он, войдя в переднюю, продолжал играть свою роль:
— Вы уж извините, если помешал, я ненадолго…
Таня засмеялась, и он обрадовался, узнав по этому легкому смеху ее, прежнюю, и с облегчением вздохнул, услышав:
— Хватит конспирации, я одна. Раздевайся, проходи.
— Фу! — радостно выдохнул Василий, свалил свертки прямо на пол и затоптался, освобождаясь от одежды. — А я боялся твоего мужа застать… Скоро он придет?
— Проходи, — словно не услышала вопроса Таня и усадила его в низкое, показавшееся Василию очень неудобным кресло. Сама села напротив, и Василий, разглядывая ее, отметил, что Таня пополнела, стала как будто еще красивее и что смотрит на него так спокойно, словно знакомство у них было шапочное.
— Ну, рассказывай, — откуда, куда? И борода опять, — улыбнулась она ему.
— Борода — что, ерунда, — смущенно пробасил Василий. — Сбрить — минутное дело.
— Ну, зачем же? Она идет тебе… Так откуда ты?
— С Севера, золотишко там добывали.
— А здесь какими судьбами?
— Да вот, это самое… из-за погоды. Посадили нас здесь, до утра продержат… Слушай, я там… это самое… коньяку принес, конфет… Может, выпьем за встречу?
Василий и сам чувствовал, что тон у него какой-то чересчур уж просительный. Он боялся, что Таня откажется, но она тут же согласилась:
— Немножко можно.
— Ну, это ты молодец! — обрадовался Василий и пошел за свертками.
Таня на низеньком столике собрала закуску, тонкими пластинками нарезала сыр, лимон, и даже кусочки хлеба выглядели какими-то очень уж тощими. И рюмки были чуть ли не с наперсток и с такими тонкими ножками, что Василий боялся притронуться к ним. «Как котенка, кормить собирается, — неодобрительно покосился Василий на это подобие еды. — А интересно, когда же это ее мужик заявится?» — не без тревоги подумал он, взглянув на часы. Таня, перехватив его взгляд, спокойно объяснила:
— Зря волнуешься — муж в командировке.
«Во дает!» — восхитился Василий и невольно подумал, что, может быть, останется здесь на ночь. Но тут же прогнал эту мысль — очень уж чужой и далекой казалась Таня. Она разглядывала его так, словно ничего, кроме его имени, не помнила и знать не знала, что это за человек сидит перед ней. А Василий на мгновение вспомнил ее тихий голос, шептавший какие-то ласковые благодарные слова. Но только на мгновение — очень уж непохожа была та Таня на эту, нынешнюю, сидящую сейчас перед ним.
— Не женился? — спросила она.
— Бог миловал.
— Так и бродишь по свету?
— Так и брожу.
— И не собираешься осесть где-нибудь?
Сказала так, будто мать у взрослой девки спрашивала — не надоело ли ей в куклы играть. Василий с вызовом ответил:
— А зачем? Мне и так хорошо.
Таня с сомнением посмотрела на него и явно не поверила, что ему так уж хорошо. Василий торопливо сказал:
— Ладно, чего насухую разговаривать, давай-ка выпьем… — И со значением добавил: — Помянем старое…
Таня выпила, не морщась, закусила лимоном и усмехнулась:
— Помянуть покойника можно, а старое — вспоминают.
Василий, задетый ее тоном, сказал, сдерживая злость:
— Где уж нам, со свиным-то рылом, в таких тонкостях разбираться.
Таня небрежно бросила, не глядя на него:
— Напрасно обижаешься, к слову так пришлось. Я воспитывать тебя не собираюсь. Да и не так уж ты не прав, ведь говорят же — кто старое помянет, тому глаз вон.
Это показалось Василию совсем уж обидным, он стал думать, как ответить ей, но тут в соседней комнате, за дверью, раздалось какое-то кряхтенье, а затем — чей-то тонкий жалобный голос. Василий не сразу понял, что это плачет ребенок. Таня быстро встала и пошла в комнату. Через минуту она вернулась с маленьким круглолицым человечком на руках, изумленно вглядывавшимся во все круглыми и темными, как спелые вишни, глазами. Таня, — с преображенным, светившимся радостью лицом, — прошлась по комнате, бережно прижимая его к себе красивыми сильными руками. Даже походка у нее изменилась — стала плавной, неторопливой. Остановившись перед Василием, она горделиво спросила:
— Ну, каковы мы?
— Это что же, твой? — спросил Василий.
— Нет, дядин, — радостно засмеялась Таня. И маленький человечек неудержимо заулыбался, качая большой головой, обнажая розовые десны с четырьмя торчащими в них зубами.
— Мальчик?
— Ну конечно, — сказала Таня таким тоном, словно во всем мире рождались одни только мальчики. — Сын, сынище…
Она поцеловала его в редкие темные волосы и сказала:
— Ну, ты посиди пока, а мы наши дела сделаем.
И ушла на кухню.
Василий прошелся по комнате, оглядел шкафы, туго набитые книгами, — многие были на каких-то иностранных языках, — чудные картинки на стенах, — видно, художник и рисовать-то как следует не умел, не сразу и разберешь, что намалевано, — машинально отметил, что мебель в квартире дорогая, даже занавески на окнах из какого-то плотного, красивого материала, из которого можно было бы, наверно, штук пять приличных платьев сшить.
Почему-то неприятно было ему, что у Тани родился сын. «Интересно, сколько ему? С год, наверно, крупный пацан…» И тут же Василий сообразил, что если так, то Таня наверняка была беременна, когда они встретились, и в изумлении покрутил головой: «Вот это да… Хват-баба… Решила, видно, погулять напоследок…» На всякий случай он все же спросил, остановившись на пороге кухни:
— Сколько ему?
— Скоро девять.
— И только-то? — удивился Василий. — Крупный мальчишка.
— А мы с мелочью не связываемся. Мы — такие…
Василий снова вернулся в комнату — и вдруг остановился.
— А когда скоро?
— Через восемь дней, — невнятно отозвалась Таня.
Василий стал думать — и вдруг его кинуло в жар. Жарко стало даже ногам, и руки сделались тяжелыми, горячими. Он выпил рюмку коньяку, тут же налил другую, зажевал невесомым ломтиком сыра. Стал считать, загибая пальцы на руках, и опять получалось то же самое — если Татьяна говорит правду, то забеременела она в мае прошлого года, когда они вместе были в Гагре, и этот большеголовый человечек мог быть только его сыном. Только его… Он выплеснул в себя еще рюмку и пошел на кухню.
Таня кормила ребенка кашей, вытирая ему рот после каждой ложки. Василий вгляделся в круглое лицо малыша — и без труда увидел его сходство с собой. Даже в маленьких, едва наметившихся бровках угадывался будущий разлет его собственных густых бровей, даже в улыбке почудилось ему что-то знакомое…
— Ну что, сосчитал? — спросила Таня, поднимая на него глаза.
— Мой? — спросил Василий.
— Нет, мой, — спокойно сказала Таня.
— Не шути, Татьяна…
— А я и не шучу. Это мой сын.
Василий опустился на стул и растерянно сказал:
— Вот так номер… Выходит, что я — папаша…
— Ну, какой ты папаша? — усмехнулась Таня, но, перехватив его взгляд, серьезно сказала: — Да ты не так понял меня. Твой это, чей же еще. Я уж думала, ты и так, без всякой арифметики догадался, да не сообразила, что с детьми ты дела никогда не имел.
— Как его зовут?
— Олежек.
— Олежек… — повторил Василий. Он все еще не мог до конца понять, что этот Олежек, о существовании которого он не подозревал еще полчаса назад, его сын. Сын… — Значит, Олег Васильевич…
Таня, снимая с сына крошечный фартучек, невозмутимо сказала:
— Ну, какой же он Васильевич… — И, поднимая и целуя его, весело проговорила, улыбаясь темным глазам сына: — Мы не Васильевич, мы Александрович…
«Какой еще Александрович?» — чуть было не сказал Василий, но спохватился и тихо спросил:
— А он… знает?
Таня промолчала, потом протянула ему ребенка:
— Подержи-ка, я немного приберусь.
Василий взял маленькое податливое тельце, подержал в отдалении, боясь приблизить к себе, чтобы не повредить что-нибудь. Таня улыбнулась:
— Да ты на колени его посади, не бойся, не сломаешь, кость у него крепкая…
«Отцовская», — про себя договорил за нее Василий. Сын, — его сын, — ухватил Василия за палец, и у него было такое ощущение, будто кусочек шелка лег на его руку. Таня быстро убрала со стола и взяла у него Олега.
— Ну, идем туда.
Вернулись в комнату. Василий снова сел на свое место, чувствуя, как мешают ему ноги, не помещавшиеся под низким столиком, — и встал, отодвинул кресло, сел на нормальный человеческий стул. Правда, теперь приходилось сильно нагибаться, чтобы взять со столика что-нибудь, но все-таки на стуле было лучше.
— Он знает? — настойчиво повторил свой вопрос Василий.
Таня, прямо взглянув на него, твердо ответила:
— Знает или нет — значения не имеет. Для тебя, конечно. Мы уж сами как-нибудь разберемся.
— Значит, не знает… — медленно сказал Василий и посмотрел на сына. — А не боишься, что узнает?
— От кого же это?
— От меня, например.
— Не боюсь.
— Это ты верно… Васька Макаренков подонком никогда не был… А что же ты от него-то не рожала?
— Вот что, Вася, — спокойно сказала Таня. — Ты мне таких вопросов не задавай, объясняться я не собираюсь. Это — мой сын, и тебя это никак не должно волновать. Узнал ты о нем случайно, не будь этой вынужденной посадки — и вообще никогда не узнал бы. Так что забудь о том, что у тебя есть сын. Это мой сын, — с силой сказала она, — понимаешь? Мой, и ничей больше. И хватит об этом.
Василий мрачно посмотрел на нее.
— Хватит? Ишь ты, как шустро рассудила… А ты бы спросила у меня, хотел ли я сына… Все-таки в этом деле я не последняя сторона, Олег-то не от святого духа родился. Могла бы и поинтересоваться, что я на этот счет думаю.
— А что тебе думать? Захотела — и родила. И претензий, Вася, ко мне не предъявляй.
— Вот оно как… А и невелика претензия-то… Пока что… — значительно сказал Василий. — И объяснить тебе кое-что все-таки придется…
— Что именно?
Василий молча смотрел на нее. Действительно, что она должна объяснять? Ему трудно было высказать это словами. Но объяснить нужно, и уж конечно, нельзя так открыто отметать его попытки разговаривать по-человечески. Она небось с дворником куда ласковее здоровается…
Таня, видимо, поняла его обиду и миролюбиво сказала:
— Не сердись, Вася, объяснять-то действительно нечего. Ну, родила — и дело с концом. Почему да как — долго объяснять, да и незачем.
— Это как же незачем? Не пойму, что ли? — недобро усмехнулся Василий.
— Пожалуй, что и не поймешь, — спокойно согласилась Таня.
— Вежливая ты… «Пожалуй»… Говорила бы уж прямо — не поймешь из-за своей серости, и точка…
Она кинула на него быстрый взгляд и промолчала, словно соглашаясь с ним. И от этого молчаливого унижения обида захлестнула Василия. «Сука», — грубо подумал он о ней, глядя в пол, но тут же ему стало стыдно. Он все еще не мог привыкнуть к тому, что теперь Таня не просто женщина, — одна из тех, кто был у него, — но мать его сына… Он пристально посмотрел на Олега, снова поразился его сходству с самим собой, — сейчас оно казалось ему еще большим, — и потянулся к бутылке, налил себе, подосадовав на малость рюмки, и Тане, спросил, глядя на нее:
— За сына-то выпьешь? — И, покосившись на рюмки-недомерки, насмешливо сказал: — Не бойся, с этих капель не окосеешь.
— Выпью.
— Ну, давай, Олег… Васильевич, — сказал Василий, поднимая рюмку и глядя в радостные, улыбающиеся глаза сына. — Расти большой да умный, не то что… твой папашка-бродяга.
Выпили. Василию давно уже нестерпимо хотелось курить, и он встал:
— На кухне-то можно покурить?
— Можно, — тихо сказала Таня.
Он внимательно посмотрел на нее и заметил, что настроение ее как будто изменилось — была она теперь тихой, спало с лица прежнее выражение, которое Василию трудно было определить — отчужденности, высокомерия, строгости?
Он ушел на кухню, уставленную белой гладкой мебелью, открыл форточку и стал у окна. Обида на Таню, пришедшая на смену первой злости, вырастала в нем как на дрожжах. «И за человека не считает, поговорить толком не хочет… Небось тогда в рот глядела, ахала да охала, а с глаз долой — и знать не знаю… Наверно, в первый же день, как приехала, к мужику своему в постель улеглась, чтобы грешки свои скрыть… А чего это она, в самом деле, раньше от него не рожала? Они вроде уже лет восемь женаты… А может, он хворый? — подумал он и даже вздрогнул от этой обидной догадки. — Так Танька совсем уж… Как под бугая под меня легла, что ли? Ну, баба…» — мстительно подумал Василий и стал вызывать в памяти сцены, унижавшие ее, и тут же обругал себя, опять ему стало стыдно, вспомнил, что она — мать Олега.
Он выкурил подряд две папиросы, но из кухни не уходил, хотя очень хотелось еще посмотреть на сына, — не знал, что же теперь говорить Тане, и боялся, что его обида и злость на нее как-то вырвутся наружу, а этого ему очень не хотелось. И долго стоял, смотрел в окно, ничего не видя за ним.
4
Таня сама пришла к нему — вместе с недопитой бутылкой, но убогая закуска и рюмки-наперстки остались там.
— Давай здесь посидим, хорошо? — предложила она.
Василий кивнул, внимательно посмотрел на нее. Голос у Тани был дружеский, даже как будто робкий, но радости у Василия это не вызвало, с прежней обидой подумалось: «Нашкодила, теперь облизывать будет…»
— А Олег… спит?
— Да.
Таня задернула штору на окне — и это тоже обидело Василия: «Боится, как бы не увидели…» Таня достала другие рюмки, почти нормальные, — пить из них можно было, — спросила:
— Грибов хочешь?
— Давай.
Грибы оказались отменные, и хлеб теперь Таня резала так, что есть вполне можно было, и колбаса копченая появилась, тоже нарезанная нормальными кусками. «Интеллигенция», — усмехнулся Василий, глядя на это преображение.
Он с удовольствием выпил полную рюмку. Таня только чуть пригубила, вытащила пачку сигарет с каким-то иностранным названием. Василий дал ей прикурить, покосился на тонкий, слабого табака, дымок:
— Раньше ты вроде не курила.
— Курила, но редко, ты просто забыл.
— И в самом деле курила, — вспомнил Василий, — даже знакомство их с этого началось. Таня пододвинула ему пачку:
— Попробуй.
Но Василий вытащил «беломорину».
— Я уж свои.
Таня, коснувшись рукой его колена, участливо спросила:
— Обиделся?
И это напоминание об его обиде заставило Василия отвернуться:
— А тебе-то разве не все равно? Ты же небось считаешь, что обижаться на тебя я права не имею. Я же для тебя… так, человек случайный. Подумаешь, переспала, мало ли…
— Не надо так, Вася. Ты же ничего не знаешь.
— А вот ты и объясни мне, — повысил он голос, резко вскидывая голову и поворачиваясь к ней. — Не думай, что только ты одна все понимаешь, а другие… А ты… смотришь на меня, как на… — Он не находил слов, чтобы объяснить свое состояние, и чертыхнулся про себя. — Ты же умная, интеллигентная женщина, а говоришь такую… Что ж, по-твоему, я такой совсем уж пустой человек, что мне должно быть все равно, есть у меня сын или нет? Думаешь, уеду и тут же забуду? Да пойми ты, что это не только твой сын, но и мой тоже! Мой!
Таня опустила глаза и тихо сказала:
— Извини, я и в самом деле… не так сказала.
Василий, не ожидая этого, смешался, проворчал, снова отворачиваясь:
— Да ладно, чего там…
— Понимаешь, — сбивчиво заговорила Таня, — ты так неожиданно появился… ну, я и растерялась, сначала даже не хотела показывать тебе Олежку…
Василий, вспомнив, как спокойно встретила она его, и верил и не верил ей. Таня продолжала:
— Конечно, я совсем не думаю, что тебе должно быть все равно. Но, понимаешь… я уже как-то забыла, что ты… что он твой сын. Давно ведь мы не виделись с тобой. Да и ты наверняка забыл меня…
Таня выжидающе смотрела на него, но Василий молчал.
— Вот видишь, и сам соглашаешься… — И, заметив его протестующее движение, торопливо продолжала: — Ну, не совсем так, конечно, ты, наверно, помнишь, что мы когда-то вместе месяц жили… То есть не наверно, а просто помнишь, но ведь с тех пор у тебя были другие женщины, и не одна, наверно…
Василий чувствовал, что Таня говорит об этом только для того, чтобы оправдать себя, и усмехнулся. Таня сделала вид, что не заметила этой усмешки, и продолжала:
— Да и в самом деле, если разобраться — что у нас было? Встретились случайно, провели вместе месяц, разъехались… Не встретились бы — другая у тебя была бы…
— А у тебя — другой, — грубо прервал ее Василий. — Все хорошо, прекрасная маркиза, и топай ты отсюда подальше, нечего тебе здесь делать, — так, что ли? И к сыну ты имеешь отношение постольку-поскольку… А?
Таня молчала, разглаживая на коленях юбку, и Василий, глядя на ее руки, на открытые колени, вспоминая, как он когда-то ласкал ее, с горечью спросил:
— Неужели так сразу и забыла меня, а? Забыла, Татьяна Георгиевна?
Таня молчала.
— И что говорила мне тогда — тоже забыла?
Он напомнил ей некоторые ее слова. Таня покраснела, опустила голову и тихо попросила:
— Не надо, Вася.
— Почему не надо? Ведь было же это. Может быть, я об этом до сих пор помню… как о самом лучшем, что было у меня, — с усилием выговорил он. — Об этом ты не подумала? А ты мне такие слова говоришь, да еще хочешь, чтобы я не обижался.
— Ну я же сказала — извини.
— Это-то конечно, — сразу сник Василий. — Я и забыл, что это слово у вас всегда наготове. Толкнул кого чуть — извините, чихнул — извините. Даже, наверно, перед собакой извиняетесь, если на ногу ей наступите…
Василий чувствовал, что говорит не так, как нужно, что это обида его говорит, но никак не мог найти других слов, медленно продолжал, запинаясь:
— А вот поговорить со мной по-человечески, понять, что у меня тоже… душа есть, — это тебе в голову не пришло.
— Да нет же, Вася, — чуть ли не умоляюще сказала Таня. — Ты тоже не хочешь понять меня. Я же сказала, что растерялась — вот и наговорила лишнего.
— Не очень-то ты растерялась, — только и нашел, что сказать Василий.
— Ну пожалуйста, поверь мне, — уже увереннее сказала Таня. — Ну да, правда, я не хотела тебе ничего объяснять, но ведь… потому, что мне и самой нелегко это сделать. Да ведь и ты, я же помню, иногда в Гагре смотрел на меня… как на девку, которая приехала развлечься на стороне, разве нет?
— Нет, — не совсем искренне сказал Василий, пряча от нее глаза.
— Неправда, Вася, — мягко сказала Таня. — Где-то в глубине души ты иногда думал так, я же чувствовала…
— Чувствовала… А не чувствовала, сколько раз я потом вспоминал тебя? Не икалось?
Она улыбнулась, но тут же снова стала серьезной.
— И я тебя вспоминала, Вася, и не раз. Да что сейчас говорить об этом… Что было, то было, жизни-то наши разошлись, у каждого теперь своя.
— А может, и не совсем еще разошлись, — сказал вдруг Василий.
— Что?! — посмотрела на него Таня.
— Может, говорю, и не совсем разошлись, — медленно повторил Василий, пристально глядя на нее. Он уже забыл о своей обиде — он видел ее прежней и думал только о том, что эта женщина нравится ему… Нравится — не то слово. Нравилась она ему тогда, в Гагре, а сейчас, когда у них был сын, — а теперь Василий все время не то чтобы помнил об этом, а ощущал это так же хорошо, как и то, что не нужна ему никакая другая женщина, кроме Тани, — сейчас его чувство к ней было другим, куда более сильным и глубоким, и он жалел о том, что не сумеет высказать всего, и все-таки сказал то, о чем подумалось, — что жизни их, может быть, и не совсем разошлись, раз у них есть сын, и на минуту поверил в то, что у них возможно будущее. Втроем. И он продолжал:
— Разойтись-то разошлись, это верно, да почему обязательно насовсем? Почему снова не могут сойтись, особенно сейчас? Все-таки как ни крути, а сын-то наш, мой и твой. Отец-то Олежки я, а не твой муж. И мужа ты не любишь, иначе не сделала бы так…
Он придвинулся к ней вместе со стулом и взял ее за руку.
— Тань, послушай… Веришь или нет, а не забыл я тебя. Ну да, бабенки у меня были, чего греха таить, да ведь это так, мелочь, сегодня есть, завтра нет. А о тебе я всегда помнил. И не будь этой посадки, я все равно приехал бы к тебе, — говорил он, сам веря в это, и вспомнил, как у него не раз появлялось желание и в самом деле съездить к ней. — И сама ты говоришь, что вспоминала обо мне — значит, не так уж… и плохо было тогда у нас. Ведь если бы в самом деле было у нас только это самое «сошлись-разошлись» — не вспоминали бы друг друга, а? Слушай, давай сделаем так: ты разойдешься с мужем, возьмешь Олежку, и мы поженимся, а?
— Что?!
Василий, не понимая ее взгляда, все еще веря в это будущее, неожиданно представившееся ему, заторопился, глотая слова:
— А что? Уйдешь от него, чего тебе с ним жить, раз так, пока где-нибудь комнату снимем, а потом найдем что-нибудь или кооператив построим. Думаешь, я всю жизнь таким бродягой буду? Да я… Тань, да ради тебя я горы сворочу! Заживем втроем, вот увидишь! Ну и что с того, что ты с высшим образованием, а я нет? Я тоже учиться буду, я же не дурак какой-нибудь, просто так уж жизнь у меня… наперекосяк сложилась, что учиться не пришлось… Но ты не бойся, нуждаться и сейчас ни в чем не будешь, сотни две я всегда выколочу, я же умею работать… И мебель такую же купим. Да чего там такую — в десять раз лучше! В последний раз схожу на селедку, тыщи три наверняка заработаю, хватит на первое время. И пить больше все — завязываю… Ты что, не веришь? Думаешь, я совсем уж пропащий человек? Чего ты так смотришь? — медленно трезвея, спросил Василий, выпуская ее руки.
А Таня смотрела на него с таким изумлением, что Василий, поняв наконец, что означает ее взгляд, встал и отвернулся к окну, с мучительным стыдом подумал: «Я-то разливаюсь перед ней, а она… как на вошь, на меня смотрит…»
Встала и Таня, подошла к нему, легко положила руку на плечо.
— Вася…
— Ну?
— Ты… не обижайся, но сам ведь видишь, что это невозможно.
— Чего уж не видеть, — криво усмехнулся Василий. — Совсем уж дураком надо быть, чтобы не понять — не по себе дерево гну. Ты уж извини, что я наговорил тут. Померещилось, что ты… А, чего толковать об этом. Живи, как жила, раз тебя такая жизнь… с коврами да финтифлюшками…
— А что ты о моей жизни знаешь? — так резко сказала Таня, что он тут же обернулся. Таня, сузив глаза, с гневом смотрела на него. — Что ты обо мне из своей норы судишь? Все расписал — мужа не люблю, за ковры да финтифлюшки продалась, с тобой как шлюха сошлась, родила — так мужем прикрылась… Да кто ты такой, чтобы судить меня?
— Да не сужу я тебя, — хмуро сказал Василий, разглядывая ее. — Обидно мне — смотрела ты так, что…
И запнулся, остро почувствовав, что не может найти нужных слов, чтобы объяснить свое состояние. Раньше такого с ним не бывало — с другими женщинами он говорил легко, на удобном и привычном и для него и для них языке. А теперь он хорошо понимал, что, вздумай он объясниться на этом языке с Таней, вышло бы просто грубо, да и все равно не сумел бы объяснить того, что хотел.
Таня несколько секунд молча смотрела на него, отошла и устало села за стол, потянулась за сигаретой.
— Никак особенно я на тебя не смотрела… А ты тоже хорош — чуть ли не прямо обвиняешь меня в продажности, да сам же еще и обижаешься.
— Не говорил я этого, — тихо сказал Василий.
— Не говорил — так подумал, разница невелика… Да ладно, что мы обиды считать будем. Так и быть, попытаюсь рассказать тебе, как все это вышло. Садись.
Он сел, тоже закурил. Таня сказала:
— Налей себе, если хочешь.
— А ты?
— Я это допью.
Выпили молча. Таня спокойно заговорила:
— Что мужа я не люблю — это твои догадки, и только. Хочется тебе, чтобы я его не любила — вот и говоришь. Знаю, о чем сейчас думаешь, мол, концы с концами не сходятся, любила бы — не жила с тобой. Не так-то все просто, Вася. Любовь ведь тоже… всякая бывает. Иногда кажется, что человека чуть ли не ненавидеть начинаешь, а пройдет злая минута — и дороже его на всем свете нет, все ему простить готов. А у нас с Сашей… скверное время тогда было. Видишь ли, муж у меня очень больной. И сейчас он не в командировке, а в больнице лежит, второй месяц уже. Каждый год ложится на полтора-два месяца. И детей я не могу от него иметь — из-за этой самой болезни.
— Поэтому от меня и рожала? — поднял на нее глаза Василий.
— Ты не перебивай меня, — тихо попросила Таня, — подожди, сейчас сам все поймешь. Видишь ли, мой муж — талантливый ученый, я у него еще студенткой училась. Это не главное, конечно, просто хочу сказать — для меня он человек необыкновенный, влюбилась я в него еще девчонкой, и когда вышла за него — счастливее меня, наверно, человека не было. А он и тогда уже был болен, предупреждал меня об этом. Правда, что детей у нас не будет, он и сам тогда не знал… Жизнь у нас всегда была непростая, но главное — мы любили друг друга… Но, понимаешь… в физическом отношении он человек слабый, часто болеет… А, да не в этом дело, буду уж говорить прямо. Видишь ли, он всегда считал, что с мужской точки зрения он… человек неполноценный, а когда узнал, что по его вине у меня детей не будет — совсем измучился, да и меня, откровенно говоря, замучил тем, что все время себя мучил. Тем более что он знал, как мне ребенка хочется, — я не раз ему об этом говорила, когда еще ничего точно известно не было. И он сам предлагал мне разойтись, хотя и любил меня…
Таня замолчала, нервно ломая спички и бросая их в пепельницу. Мельком взглянув на Василия, неохотно продолжала:
— Ну ладно, тут много еще можно говорить, да не стоит… Незадолго перед тем, как мы с тобой встретились, он очень болел. Да и на Юг мы собирались вместе поехать. И вдруг, буквально за день до отъезда, он обидел меня. Очень обидел… И прямо заявил, что не любит меня и жить со мной больше не будет. Тогда я не знала, почему он это сделал. Просто не могла себе представить, что он может так грубо оскорбить меня. Ну, и решила, что надо, наверно, и в самом деле расходиться. Да и вообще весь год перед этим очень тяжелый для нас обоих был, нервы расшатались — дальше некуда… Ты не смотри, что тогда, с тобой, я такая спокойная была — держать себя в руках я умею. Да только не вечно же это может продолжаться, когда-то и сорвешься. Вот я и сорвалась… Тоже накричала на него, собрала вещи — и сказала, что не вернусь к нему. И ведь действительно так думала. А потом… — Таня помолчала. — Да что потом… Знаешь, ребенка мне до того хотелось, что на детей смотреть уже спокойно не могла, плакала по ночам, — потихоньку, чтобы Саша не слышал. А он все замечал… Ну вот, по дороге в Гагру…
Таня надолго замолчала, явно не зная, как объяснить ему, и Василий, не выдержав, бухнул:
— Да говори ты, елки-палки, все, как было… Начала — так не тяни за душу.
Таня вздохнула:
— Легко сказать — как было… Ты думаешь — словами все можно объяснить?
— Можно, — отрезал Василий.
Таня усмехнулась, покачала головой.
— Не все, Вася… Вот скажи я тебе сейчас, что по дороге в Гагру решила обязательно родить, иначе поздно будет, — и ты сразу подумаешь, что я только потому и жить с тобой стала…
Василий, с удивлением глядя на нее, спросил:
— Ты что, и в самом деле… тогда решила родить?
— Да нет, Вася, ничего я тогда еще не решила… Не до того мне было. Мне скорее уехать надо было… Знаешь, тогда мне казалось, что вся моя жизнь… как-то по-другому, по-новому должна пойти. Назад мне дороги не было, — то есть это тогда я так думала, — а впереди… впереди все неясным казалось. Кроме, пожалуй, одного, — замуж снова я не собиралась. Во всяком случае, не скоро… А мне ведь тогда уже под тридцать было… И как только подумаю, что так до конца жизни без детей жить придется…
Таня, глубоко вздохнув, с какой-то необидной снисходительностью посмотрела на него и сказала:
— Тут ты вряд ли поймешь меня, для этого надо женщиной быть… Знаешь, какой бы красивой и умной женщина ни была, а без детей она — все равно человек неполноценный. Рано или поздно, а ребенок нужен каждой. И если нет его — трагедия такая иногда бывает, что и свет не мил становится…
«Говорит — как лекцию читает», — неприязненно подумал Василий.
— А тут все одно к одному сошлось… Знаешь, когда человек обижен, — ему все по-другому видится… И то, что было, и то, что будет. Ну, что было — прошло, так я тогда считала, а что будет… Ну… что могло быть? Решила, что уеду куда-нибудь от Саши, в другой город…
И опять Таня замолчала. А потом, прямо взглянув на него, спросила:
— Слушай, а если бы я и в самом деле… только потому с тобой жить стала, что мне очень ребенка хотелось… это что, преступление? Я-то для чего тебе нужна была? — почему-то заторопилась вдруг Таня. — На что ты рассчитывал, когда мы вместе поселились? Ты же просто не задумывался об этом, так? Тебе просто нужна была женщина, и что дальше будет, ты даже не думал, ведь так, Вася? — торопилась ответить она за него, и эта торопливость почему-то очень задела Василия, он угрюмо взглянул на нее и отрезал:
— А чего это ты за меня расписываешься? Думал не думал, — ты-то откуда знаешь?
— Не знаю, а предполагаю.
— Предположить все можно.
— А как было-то, Вася?
— Как, как, — окончательно разозлился Василий. — Сначала ты объясни, раз уж начала.
— Ну хорошо, хорошо, попытаюсь, — легко согласилась Таня. — Ты выпей, если хочешь.
Василию и в самом деле хотелось выпить, но то, что Таня угадала его желание, показалось ему обидным, и он проворчал:
— Успеется… Давай, говори дальше.
— Ну что дальше… — невеселым голосом сказала Таня. — В сущности-то все довольно просто было. Чтобы так, заранее решила от кого-то обязательно родить — такого не было, Вася. Но знаешь, когда все время думаешь об одном и том же… а я думала о ребенке постоянно, и не один год… наверно, поневоле начинаешь вести себя так, чтобы как-то… исполнилось это задуманное… Пока я с Сашей жила, все было просто, то есть невозможно. Ну, а уехала… что меня могло удержать? Вот тут мы с тобой и встретились. Сначала мне было… немножко смешно смотреть на тебя…
— Смешно? — зло прищурился Василий, но Таня, ласково улыбнувшись, тронула его за руку, и он весь напрягся.
— Да ты не обижайся, Вася, смешно ведь тоже по-всякому бывает, — и по-хорошему, и по-плохому… Ты тогда так смотрел на меня… У тебя же все на лице бывает написано, ты совсем не умеешь скрывать свои мысли… Вот и сейчас — сердишься на меня, а за что — и сам ведь толком не знаешь, да? А я знаю, — говорила Таня, не дожидаясь его ответа. — Обидно тебе, что я… так могла бы с тобой… только ради ребенка… Но не было этого, Вася, поверь, пожалуйста… Тогда, в самолете, у меня и в мыслях ничего такого не было…
— А потом?
— И потом все не так было, как тебе кажется… Помнишь, о чем мы в самолете говорили?
— Еще бы не помнить, — проворчал Василий.
— Мне же очень интересно было с тобой, я никогда таких людей не встречала… Читала в книгах о такой жизни, но книги, знаешь ли, совсем не то. А тут вдруг ты… такой неожиданный, не книжный, а живой, настоящий, и… красивый, сильный мужчина, — Таня смущенно улыбнулась. — Это тоже, знаешь, подействовало на меня. И я видела, что нравлюсь тебе. А потом, когда прилетели в Адлер, тебе очень не хотелось расставаться со мной, ты просто стеснялся сказать мне об этом. Вот я и предложила тебе поехать вместе со мной в Гагру. Но и тогда у меня еще ничего… никакого намерения не было. Просто хотелось еще поговорить с тобой. Ну, а потом, когда ты пришел ко мне… ночью… Откровенно говоря, я сейчас уже и сама не знаю, о чем тогда думала. Наверно, ни о чем. Может, подсознательно и сработала мысль о том, что мне нужен ребенок, но чтобы заранее думать об этом и только потому не оттолкнуть тебя… — Таня покачала головой и твердо сказала: — Нет, Вася, не было этого…
— А когда стало?
— Что стало? — не сразу поняла его Таня. — А, вон ты о чем… Обманывать не буду — после первой же ночи решила, что если забеременею — оставлю ребенка обязательно. А потом… — она смущенно улыбнулась, — ты как будто забыл, Вася, как нам хорошо было тогда.
— Ну да, забыл!
— А не забыл — так как же говорить можешь, что только потому я и жила с тобой, что забеременеть хотела? Что ж я, по-твоему, каждую ночь лгала тебе, притворялась? Ты ведь тогда очень… дорог мне был. С тобой я впервые в жизни поняла, что такое настоящая мужская ласка, и сама себя настоящей женщиной почувствовала. Да вспомни, я тогда же и говорила тебе об этом.
— Помню, — не сразу сказал Василий. И ведь действительно говорила…
— А почему же тогда не веришь?
— Ладно, дальше рассказывай.
— Ну что дальше? Вернулась сюда…
— К мужу, — жестко уточнил Василий.
— Нет, это потом было, — опять непонятно взглянула на него Таня. — Я два месяца одна жила, о нем и не знала ничего. А потом он снова в больницу попал, я пошла к врачам, с ним увиделась и поняла, почему он тогда, перед отъездом, так обидел меня. Он узнал, что болезнь у него неизлечимая и жить ему осталось лет пять, самое большее.
Василий вздрогнул от неожиданности и с жалостью взглянул на Таню. Она смотрела прямо перед собой, на свои руки, в которых крошилась очередная спичка. Вся пепельница уже была полна изломанными спичками.
— А что это за болезнь? — тихо спросил Василий.
— Лучевая. Ты такой фильм — «Девять дней одного года» — видел?
— Видел.
— Вот и у него такая болезнь, как у того Гусева. — Таня невесело усмехнулась. — Но там, в кино, все сошло благополучно, — так то ж в кино. А я вот… не такая оказалась, не сообразила, почему он так со мной поступил. Да и ему надо отдать должное — разыграл все так, что, наверно, редкая женщина смогла бы остаться. Или просто я такая уж…
— Да почему он так?
Таня с досадой посмотрела на него.
— Господи, да все же очень просто… Он не хотел, чтобы я связывала себя с ним, умирающим. Он же хочет, чтобы я счастлива была. На свой, конечно, лад хочет. Он думает, что если уж не может дать мне всего, так пусть с другим мне будет счастье. Да и болезнь у него такая страшная, что, может быть, и в самом деле от его любви ко мне не так уж много осталось… Ох, Вася, если бы ты знал, как он иногда мучается! — с отчаянием сказала Таня, и Василию показалось, что сейчас она заплачет. — И ведь самое-то страшное в том, что ничем ему помочь нельзя и что он знает об этом… А ты мне… такое говоришь — ковры да финтифлюшки…
Таня закусила губу, быстрым движением смахнула с глаз слезинки и потянулась за сигаретой. Василий торопливо зажег спичку и дал ей прикурить. Таня, помолчав, уже спокойнее продолжала:
— Вот видишь, как все непросто оказалось… Ты, конечно, можешь не поверить мне… ну, да тут уж я ничем не могу помочь…
Она прямо, твердо смотрела на него, и Василий сказал:
— Верю, Татьяна… Только и ты пойми… Обидно мне было, что ты… сначала так… ну, что это меня не касается…
— Вот тут я и в самом деле виновата, — легко согласилась Таня. — Ты уж прости… — и чуть улыбнулась ему мокрыми глазами. — Я не со зла, просто думала, что так лучше будет — обидишься на меня, уедешь и скорей забудешь. Я ведь знаю, что тебе это не может быть безразлично. Ты ведь добрый, сердце у тебя доброе… И если бы ты не встретился тогда… Не знаю уж, как было бы… А сейчас… ты даже не представляешь, как хорошо с Олежкой. И Саша ведь все знает.
— Знает? — удивился Василий.
— Ну, конечно, — Таня улыбнулась. — Я с самого начала ничего не скрывала. Да и как бы я объяснила ему?
— А, ну да…
— И любит он его ничуть не меньше, чем собственного.
«Ну, это уж вряд ли», — подумал Василий и спросил:
— А знает он, кто я такой?
— Знает, хотя ни разу не спрашивал, я сама рассказала.
— Зачем?
— Ну, как зачем? — Таня неуверенно посмотрела на него. — А что скрывать?
«Интересно, что она могла наговорить обо мне», — подумал Василий и невесело сказал:
— Думаешь, к такому, как я… серому, ревновать меньше будет?
— Да что ты, Вася…
Но по ее смущению Василий понял, что угадал, и натянуто улыбнулся:
— Да нет, ничего, это я так. Ну, а… как же вы теперь?
— Да по-разному, Вася. Только… не взыщи, об этом я говорить не буду, это — наше с ним…
— Да я ведь потому спросил, — торопливо сказал Василий, — что… — и опять замялся, не находя слов.
— Я понимаю почему, — тут же пришла на помощь Таня. — В общем-то хорошо. Не так, конечно, как раньше, но… ведь и мы другие стали.
И надолго замолчали оба.
5
Василию оставалось только одно — встать и уйти, ему неловко было смотреть на Таню, но, подумав, он задал мучивший его вопрос:
— Ну, а если бы… ты не любила его… ушла бы ко мне?
И снова он не понял ее взгляда, не сразу понял ответный вопрос:
— Только потому, что родила от тебя?
— Мало этого?
— Мало, Вася, — спокойно сказала Таня.
— Ну ладно, а полюбить меня… такого, смогла бы?
Таня отвела взгляд, пожала плечами:
— Ну, откуда я знаю.
— Да ты уж прямо говори, чего жалеешь. Я не слабак, переживу как-нибудь.
Таня с легкой, едва уловимой досадой сказала:
— Ты так спрашиваешь, как будто всегда и на все можно дать определенный ответ — да или нет.
— Ну, на это-то можно, — настаивал на своем Василий. — Смогла бы?
— Нет, наверно, — тихо ответила Таня, помолчав.
Такой ответ не мог быть неожиданным для Василия, но все же у него неприятно кольнуло где-то под сердцем.
— Это почему же? — стараясь быть спокойным, спросил он. — Давай, выкладывай, крой правду-матку.
— А ты сам-то… разве иначе думаешь?
— Ну, как я думаю — это дело десятое. Говори, как ты думаешь.
— А много ли у нас общего-то, Вася? — каким-то мягким, просительным тоном сказала Таня. — Что в постели хорошо нам было — и только?
— Вон как… — протянул Василий. — Ну, спасибо хоть и на этом.
— Сам просишь правду сказать — и тут же обижаешься.
— Да не обижаюсь я, говори дальше.
И Таня, поправив прическу, решительно заговорила:
— Скажу, Вася, может, хоть чуть-чуть и на пользу тебе это будет… Дело не в том, что у меня высшее образование, а ты и десятилетки не окончил. То есть не только в этом, — поправилась она. — Тогда — я уже говорила — мне было очень интересно с тобой, но ведь только потому, что я не имела никакого представления о той жизни, которой живешь. А потом? Знаешь, Вася, иногда мне просто обидно было, что ты — такой большой, сильный человек, а растрачиваешь себя на пустяки, живешь, как мотылек…
— Как мотылек? — неприятно удивился Василий. — Это как же понять?
— Да-да, именно как мотылек, — живешь только сегодняшним днем. Ты же сам не знаешь, что с тобой завтра будет, чего ты хочешь. И что хуже всего — тебе ведь самому нравится такая жизнь. Ну скажи, для чего ты кочуешь с места на место?
— А сиднем сидеть — лучше?
Таня вздохнула.
— Да не в том дело.
— А в чем? — не понимал Василий.
— А в том, что у тебя нет ничего прочного, постоянного, нет никого и ничего… ради чего должен жить человек. Ну скажи по совести — есть хоть кто-нибудь, хоть один человек, которому ты по-настоящему нужен, кому бы ты помог в трудную минуту?
— Есть, — не сразу сказал Василий. — Кешка Сенюков, я рассказывал тебе о нем.
— Это которому ты жизнь спас?
— Да.
— Не о том я, Вася. Я и не сомневаюсь, что ты любому встречному готов помочь, чем только сможешь. Да ведь тут же и забудешь об этом. Ну, скажи, где сейчас этот Кешка?
— Не знаю.
— Вот видишь…
— Что видишь? Не пойму я тебя, Татьяна. Сама же говорила тогда, что тоже хотела бы поездить, повидать разные места, — а сейчас этим самым укоряешь.
— Эх, Вася, да ведь тут все просто. Ну, ездишь ты туда, сюда, а что толку? Где-нибудь вспоминают тебя добрым словом? Или вот работаешь — а следы твоей работы где?
— Путаешь ты что-то… Как это где следы? Мало я рыбы наловил, мало золота намыл? Это что — не работа?
— Работа, конечно, — усталым, безнадежным каким-то тоном сказала Таня. — А что она тебе самому дает, эта работа, — кроме денег, конечно?
— Ну, знаешь ли… Деньги — это тоже не так уж мало. Можно подумать, что ты без денег живешь, святым духом питаешься.
— Да не о том я, Вася. Деньги всем нужны, да не в них же в конце концов счастье. Я все это к тому говорю, что и работаешь только для себя, не думаешь о том, что это за работа, что стоит за ней. А может, — допустим на минуту, — ее вовсе и не нужно делать? Ты так привык, что за тебя всегда кто-то думает, а сам думать не умеешь, да и желания у тебя такого нет… Или другое возьми. Книг ты почти не читаешь, газеты одним глазом просматриваешь, что в мире делается — тебе совсем неинтересно… Разве нет?
— Это верно, читаю я мало, — пришлось признаться Василию.
— Очень мало, да и то всякую чепуху, — про шпионов, в основном, я же помню. Даже дети во многом лучше тебя разбираются… Вот вспомни — как кончились твои рассказы, с тобой и говорить было не о чем. Чего не коснешься — этого ты не знаешь, об этом ты не слышал, этого не читал… Ну, и вообрази теперь, что за жизнь у нас была бы, вздумай я за тебя замуж выйти. Тут поневоле удивишься такому предложению…
От этих слов Василия даже передернуло. Таня заметила это и мягко сказала:
— Ты уж извини, что я так говорю, но это же правда… Ну, проживешь ты так еще пятнадцать, двадцать лет, — а что толку? Думал ты об этом?
— Ну, не всем же такими, как твой муж, быть…
Сказал — и тут же пожалел: глупо, по-детски получилось.
— Почему обязательно как мой муж? Таким, как он, дано быть немногим… Но ведь мог бы и ты… не таким дремучим быть, надо только захотеть. Ты же в самом деле не глупый человек. А ты считаешь, что если здоров, силен, умеешь работать — и хватит с тебя. Мало этого, Вася, ой как мало… Время сейчас такое, что без знаний никуда не денешься. Трудно тебе будет… В конце концов поймешь и сам, что так нельзя, да ведь время-то уходит… Растратишь себя на пьянки, на случайных женщин — и останешься у разбитого корыта. Ты думаешь, все в то упирается, что ты газет не читаешь? Нет, Вася, тут все сложнее… Ты вот сказал, что ради меня горы своротишь, да сам посуди, какие это горы могут быть? Что ты можешь дать женщине — не мне, я вообще говорю? Деньги, квартиру, мебель? Свою мужскую красоту, силу? Ой, Вася, далеко не каждой этого хватит, поверь ты мне… И о том еще подумай — женишься, дети пойдут, а как же ты их воспитывать будешь, если сам так мало знаешь и понимаешь? Они ведь, чего доброго, потом тебя же и стыдиться будут…
Молчал Василий — возражать было нечего. Потом спросил:
— А что же ты мне тогда, в Гагре, ничего не говорила?
— Надо было, конечно… Сейчас жалею, что не сказала. Да ведь пока сама разобралась… А потом, перед отъездом, не хотелось портить тебе настроение. Не очень-то приятно такие вещи выслушивать.
— Это уж точно, — усмехнулся Василий и, взглянув на часы, поднялся. — Ладно, Татьяна, пойду я. Извини, если что не так. Каюсь, сначала плохое о тебе подумал, но ты правильно сделала, что все рассказала. Да только не такой уж я пропащий человек, как ты думаешь.
— А я и не думаю.
— Ну, это я так сказал, да все равно…
— Куда ты сейчас?
— В аэропорт.
— А то здесь оставайся, переночуешь, — неожиданно сказала Таня. Василий, удивленный ее словами, посмотрел на нее и спросил:
— А не боишься?
— Чего?
— Что приставать буду?
— Нет, — она улыбнулась. — Знаю, что не будешь, и зря ты на себя наговариваешь.
— Все-то ты знаешь, — неловко отвел глаза Василий. — Не буду, конечно, только все равно не останусь.
— Ну, смотри.
— Давай-ка выпьем на прощанье.
— Давай.
Чокнулись с тонким тихим звоном. Василий сразу опрокинул в себя рюмку, а Таня почему-то крутила свою в руках, не пила, смотрела на Василия и словно ждала от него чего-то.
— Пей, — сказал Василий.
Показалось ему, что Таня как будто жалеет его и вроде бы собирается сказать об этом, и ему захотелось поскорее уйти, хватит с него этих слов. Он повторил:
— Пей, да пойду я.
И она выпила всю рюмку, чуть поморщилась, сказала:
— Счастливого пути.
— Сына мне еще раз покажи, — попросил Василий.
— Пойдем.
Сын спал, легкого его дыхания почти не было слышно. Василий молча стоял над ним и не понимал, как это он сейчас совсем уйдет отсюда и никогда уже не увидит его… На всякий случай он попросил, уверенный в том, что Таня откажет:
— Написать тебе можно будет?
— Конечно, — неожиданно согласилась Таня. — Вот сфотографирую Олежку — карточки пришлю.
— Спасибо.
Прощаясь, она ласково задержала свою руку в его руке, и лицо у нее было хорошее, грустное.
— Ну, поезжай, Вася.
И Василий ушел. Недолго постоял на улице, под мелким холодным дождем, отыскал два неярко светившихся окна Таниной квартиры, рядом чернело третье, темное, за которым спал его сын. «Эх, Татьяна, подрубила ты меня моим сыном прямо под корень», — подумал он, еще не понимая, почему это так. И усмехнулся: «Прямо как та собака из анекдота — все понимаю, а сказать не могу».
Да и не понимал он еще всего, что произошло с ним.
6
Сначала все шло так, как и наметил Василий еще на Севере. На следующий день он прилетел в Москву и в трехдневной гульбе стал было забывать и о Тане, и о сыне. А точнее, водка помогала не вспоминать о них слишком часто. И на Юг он отправился все по тому же первоначальному плану. Но, изменяя своему старому правилу, — не бывать дважды в одних и тех же местах, — снова поехал в Гагру и даже поселился почему-то в том же доме, где жил когда-то с Таней. Хозяйка узнала его, пустилась было вспоминать об их совместном житье, расспрашивать о Тане, но Василий решительно оборвал ее. Заглянув в прежнюю комнату Тани, он увидел голую кровать с рябой, тронутой ржавчиной сеткой, посидел на ней, поморщился от воспоминаний и подумал, что зря он остановился здесь, надо с этим кончать, забыть Таню — и жить, как прежде жилось, нечего голову себе ломать, все равно ничего не исправишь и не изменишь… Да и не мальчик он, чтобы плакаться в жилетку и распускать нюни из-за того, что не так все получилось, как хотелось бы. С Татьяной не получилось — с другой получится, на его век баб хватит. Не хотелось бы, конечно, сыновьями разбрасываться, — да что делать, раз уж так вышло. Будут и у него сыновья — времени впереди много, успеет еще и жениться, и детей нарожать. А пока свободен, деньги есть — гуляй, Василий…
И он загулял. И женщина нашлась почти сразу же — здоровая, красивая девка из Казани. Звали ее Верой, работала она на кондитерской фабрике. Понравились они друг другу с первого же вечера, после второго Вера уже ночевала у него, а на следующий день и совсем перебралась в его комнату. И Василий с почти что прежним удовольствием окунулся в спокойную, привычную жизнь. И только жалел, что вместе им оставалось быть недолго — через десять дней Вере надо было уезжать. Но тут же подумал — невелика беда, найдется другая…
А через два или три дня, проснувшись на рассвете, он увидел за окном темное лохматое небо, услышал мелкую скрипучую дробь дождя по крыше и рядом — дыхание спящей Веры, стал разглядывать ее лицо с припухшими веками и сеткой чуть видимых, тоненьких морщинок под глазами, — и вдруг подумал, что знает об этой женщине разве что чуть-чуть больше, чем о первой встречной, не знает даже, добрая она или злая, двадцать шесть лет ее жизни для него — сплошная загадка, и хотя можно было предположить, что ничего необычного в этой неизвестной ему жизни не было, но сам факт, что он так мало знает о ней, почему-то поразил его. Василий стал вспоминать других женщин, которые были у него — и увидел, что остались они в его памяти какими-то бледными пятнами, лица некоторых совсем уже забылись, случайно встретишь на улице — наверняка не узнаешь… Все, кроме Тани. Но думать о Тане ему не хотелось, — и вдруг он задал себе совсем уж неожиданный вопрос: а для чего нужны были ему все эти женщины? Для чего нужна Вера? Через неделю она уедет и тут же забудет о нем, в Казани у нее наверняка будет кто-то другой, потом выйдет за кого-нибудь замуж, — и точно так же при встрече вряд ли узнает его, если такая встреча когда-нибудь и случится. Да никакой встречи и не будет, это уж точно… Тогда зачем он ей? Поразвлечься, покутить, побольше урвать от короткого отпуска, прежде чем вернуться к опостылевшей работе? Как ни крути, а больше вроде бы ни для чего он ей и не нужен… Да, Вася, небогато живешь, — спокойно, как не о себе, подумал он, встал зачем-то и начал одеваться. Зашевелилась и Вера, чуть приоткрыла один глаз и капризно протянула:
— Ну, Вась, что встал, рано же еще…
И словно невзначай до половины откинула одеяло, показывая свое крепкое, красивое тело. Василий отвернулся, пробурчал:
— Спи.
Вера обиделась, демонстративно повернулась к нему спиной, а он вышел на веранду, закурил и подумал о том, что впереди длинный тоскливый день, который надо как-то убить.
После завтрака стали думать, куда пойти, — и оказалось, что идти решительно некуда: в кино были вчера, танцы — вечером, да и то если дождь кончится. Василий вспомнил, как Таня говорила, что недалеко отсюда есть какой-то древний монастырь — туда съездить, что ли? Сказал об этом Вере, но та капризно вытянула губы:
— Ну вот еще, какие-то камни смотреть… И дождь идет.
И Василий легко согласился, что ехать не стоит.
Прошлись по набережной, но холодно было, и скоро повернули обратно. Серое море лениво билось о пляжи, оставляя на гальке клочья грязной пены. Василию казалось, что более скучного и противного дня у него в жизни не было. Когда проходили мимо библиотеки, он коротко бросил Вере:
— Давай зайдем.
И, не слушая ее возражений, по шатким скрипучим ступенькам взобрался на крыльцо библиотеки, протиснулся в неширокую дверь. Вера все же вошла следом, расстегнула мокрую шуршащую болонью, выставила высокую грудь, обтянутую ярким свитером, и брезгливо оглядела стенды с журналами, худенькую очкастую девчонку с тонкими детскими пальцами, измазанными чернилами.
— Слушаю вас, — строго сказала очкастенькая, привычно взяв ручку наизготовку.
— Почитать бы что-нибудь, — нерешительно сказал Василий.
— Записаны?
— Нет.
— Три рубля в залог.
Василий выложил трешку, ответил на допрос очкастенькой, и та воинственно спросила, метнув на Веру уничтожающий взгляд:
— Что вы хотите почитать?
— Так… что-нибудь.
— Выбирайте, — кивнула она на стопку замурзанных книг.
Василий стал смотреть. Все книги были почему-то про шпионов, почти все уже читанные им, и он спросил:
— А еще есть что-нибудь?
— Про шпионов ничего больше нет, — небрежно бросила очкастенькая, упорно разглядывая что-то в толстой, очень новой книге с блестящими страницами.
— А что, у меня на лбу написано, что мне надо про шпионов? — вдруг зло спросил Василий.
Очкастенькая удивленно подняла голову и как будто смешалась, нерешительно сказала:
— Ну, если вы сами не знаете, что вам нужно… Можете пройти, посмотреть на полках.
Василий покосился на узкие щели между полками, угрюмо пробасил:
— Пройти-то можно, да выйти как…
— Что? — не поняла очкастенькая.
— Ничего.
Очкастенькая обиженно передернула плечами и снова уткнулась в книгу. Василий стал думать, какую книгу попросить, но ничего не приходило в голову. Стал вспоминать, что читала Таня, — и из этого ничего не вышло. Наконец вспомнилась одна фамилия — Достоевский, и он решительно сказал:
— Дайте Достоевского.
— Что именно? — неприязненно спросила очкастенькая.
— Все равно.
Она сходила куда-то в угол и принесла книгу.
— Вот, только «Преступление и наказание».
— Давайте.
Молча пошли домой. Вера отчужденно тянулась чуть сзади, Василий не обращал на нее внимания — покуксится и перестанет. Дома, не раздеваясь, он лег на кровать и стал читать. Вера послонялась по комнате, нерешительно постояла перед ним и села на кровать, капризным тоном десятилетней девочки протянула:
— Ну Ва-ась…
Он отложил книгу, поднял глаза, Вера наклонилась к нему, и Василий обнял ее — только потому, что не хотелось обижать женщину.
Кое-как дотянули до вечера, изнывая от скуки. Читать Вера ему не дала, затеяла какой-то пустой разговор, — слушать ее было невыносимо скучно. Дождь так и не кончился, оставалось одно — идти в ресторан. «Напиться, что ли?» — вяло подумал Василий, усаживаясь за столик. Заказал бутылку коньяку, выпил рюмку — и долго не притрагивался к бутылке: пить почему-то не хотелось. Вера оживилась, поглядывала по сторонам, ловила взгляды мужчин — и Василий подумал, что она с легкостью может променять его почти на любого, кто как следует поманит ее. А если из-за нее он подерется с кем-нибудь или хотя бы немного поскандалит — она будет только довольна. И с неожиданной неприязнью он спросил ее:
— Слушай, а чего ты замуж не выходишь?
Вера удивленно взглянула на него.
— Вот еще, была нужда… Успею с пеленками навозиться.
— А вдруг не успеешь?
— С чего бы это? — не поняла Вера.
— Тебе же не семнадцать лет.
— Не волнуйся, в старых девах не останусь.
— А я и не волнуюсь.
Вера горделиво повела плечами.
— Вот уж для меня не забота — замуж выскочить. Стоит только пальцем поманить — любой побежит. А пока не горит — погуляю еще.
— Ну, погуляй, — усмехнулся Василий.
Бутылку, с помощью Веры, он все-таки допил, к концу вечера даже как будто немного опьянел, но когда вышли на улицу, холодный дождливый ветер тут же выбил весь хмель. Вера повисла на его руке, и они быстро пошли по пустой темной улице. И опять им овладела скука. Скучно было возвращаться в неприветливую сырую комнату, ложиться с Верой в постель, отвечать на ее словно на всю жизнь заученные ласки.
Это ощущение неистребимой скуки не оставляло его все дни, остававшиеся до отъезда Веры. И он почти обрадовался, когда она уехала. Последние часы перед ее отлетом были особенно длинными. Говорить им было совершенно не о чем, и они были не нужны друг другу. И у обоих на прощанье не нашлось друг для друга ни одного теплого слова.
С неделю Василий прожил словно в каком-то полусне. Над морем и узким длинным городом все время висела низкая густая тьма облаков, оттуда, почти не переставая, сыпался дождь, даже днем было по-вечернему сумрачно. От такой погоды Василия неудержимо клонило в сон, и он, не сопротивляясь, помногу спал. Просыпался всегда с тяжелой, глухо гудевшей головой, смотрел в потолок, ни о чем не думая, — думать как будто совсем было не о чем. И хотя от долгого лежания ныли бока, вставать ему не хотелось, — да и зачем? Даже голода не чувствовалось, хотя ел он раз в сутки, в ресторане. И на выпивку почему-то тоже не тянуло, вполне хватало двух рюмок, которые он выпивал только для того, чтобы поесть как следует.
Однажды подумалось, что надо бы куда-то уехать, — хотя бы в Ялту, что ли… И тут же отказался от этой мысли — что толку? И там будет такая же убогая комнатенка, найдется — при желании — какая-нибудь Люба или Маня, с которой все будет в точности так же, как с Верой и со всеми другими. Второй Тани для него уже не найдется… Но и о Тане вспомнилось уже почти спокойно, без прежней саднящей обиды. А ехать куда-то работать тоже было незачем — денег у него оставалось еще много.
Из этого одуряющего оцепенения Василия вывел его день рождения. Он совсем забыл о нем и вспомнил только под вечер, проглядывая газету и обратив внимание на число. «Вот елки-моталки, — ругнулся про себя Василий. — Все-таки — тридцать два года…» Он недолго подумал над этой цифрой, пытаясь понять, много это или мало. Получалось вроде бы ни то ни се — до старости далеко еще, но и салагой его не назовешь.
Он решил как-то отметить этот день, приоделся, зашел в парикмахерскую поправить бороду. Разглядывая себя в зеркале, он подумал, что выглядит явно старше своих тридцати двух — из-за бороды, что ли? Да нет, не только из-за нее, хотя седых волос в ее угольной черноте и на висках поприбавилось. Седеть он начал лет шесть назад, но все говорили, что это идет ему и совсем не старит. А сейчас лицо было одутловатое, какое-то серое, нездоровое, глаза припухли, глядели мутно, — с пересыпу, наверно. «К черту это спанье», — решил Василий.
Он пошел в «Гагрипшу», заказал основательный ужин, закуски, но и половины не съел за весь вечер. Ему хотелось, чтобы кто-нибудь подсел к нему, но ресторан не был заполнен и на четверть, свободных столиков сколько угодно, и в конце концов он оказался один на всем ряду. А когда уходил, в ресторане, кроме официанток, никого не было.
Дорогой ему вдруг представилось, что день рождения можно было бы встретить не в пустой холодной «Гагрипше», а где-нибудь в своем доме, вместе с Таней и сыном. Представилось всего на какие-то секунды, но так разительно различались эти две картины, — только что закончившееся ресторанное застолье в одиночку и воображаемое сиденье за столом вместе с Таней и Олежком на коленях, — что Василию стало как-то жалко себя. Давно уже понимал он, что Таня кругом была права, когда говорила о невозможности их совместной жизни, понимал и то, что, не будь сына, и к ней он относился бы по-другому, забылось бы уже все. И вдруг, как только вспомнил он об Олежке, больно резанула неожиданная мысль: а что, если и еще где-нибудь есть у него ребенок? Его даже потом прошибло. А ведь очень даже может быть такое — много с кем он встречался за эти годы. Что, если сейчас какая-нибудь бедолага в одиночку мается с его сыном или дочерью, — и что скажет ему об отце, когда тот спросит о нем? Мол, знать не знаю, где он, и ты никогда не узнаешь? Вот оно, Вася, как может повернуться… Сам рос безотцовщиной и сам же плодишь ее… Ну ладно, у Олега пока формально отец есть — да и то, надолго ли? Говорила же Татьяна, что ему жить осталось лет пять, самое большее, а два года с тех пор уже прошло… Так что и Олегу несладко придется, а без отца мальчишке ой как плохо, по себе должен знать… Будь у тебя отец — наверняка бы и учиться заставил, и с воришками ты не связался бы, и в колонию не попал бы, да и вообще — совсем другая жизнь была бы… Ну, Олежку Татьяна, конечно, воспитает, — а если и в самом деле еще где-нибудь твое семя в рост пошло? Раньше почему-то и не думал об этом. А ведь не больно много и ума-то надо, чтобы додуматься до этого. Видать, верно Татьяна говорила, — думать не умеешь, привык, что всегда за тебя думальщики находятся. Хоть и большой ты, Вася, а дурной, наверно… А пора бы за ум браться, тридцать третий уже… Как бы и в самом деле у разбитого корыта не оказаться…
Прежде чем зайти в свою комнату, он постучался к хозяйке и сказал, что завтра уезжает. Хозяйка явно расстроилась, — где теперь найдешь постояльцев? — и он дал ей вдвое больше того, что причиталось с него. Потом зашел в свою комнату, зажег свет и собрал вещи. Ушло на это всего пятнадцать минут, и он не знал, что делать дальше. Лег на кровать и стал читать.
К утру он закончил книгу, отложил ее и подумал: «Ничего, лихо закручено… Только чего это он, чудак, сам признался? Хотя — все равно этот Порфирий арестовал бы его».
Василий улетел в Москву и пробыл там два дня, раздумывая, куда двинуться дальше. И решил полететь на Сахалин, где был три года назад. Куда ехать, ему было в общем-то все равно. Просто на Сахалине наверняка легче разыскать кого-нибудь из старых дружков, чтобы не мыкаться одному.
И действительно, в Невельске он сразу наткнулся на Петра Довганя, с которым проплавал когда-то сезон на СРТ[1]. С ним он вскоре и ушел в плавание.
7
Новый год встречали между двумя заметами. До этого они две недели гонялись за рыбой, хватали «пустырей» и наконец прочно стали на косяк и начали заливаться селедкой. И тут уж не до Нового года было. Только и успели, что сойтись на полчаса и, не снимая заледеневших, колом стоящих роб, пропустить по сто грамм. И снова полезли на палубу.
По палубе метался ветер, сек лица стальной крупой и ледяными брызгами. В свете прожекторов белым огнем сверкали обледеневшие снасти, и Василий подумал, что пора бы и обколоться, иначе можно и в ящик сыграть. Такое, хоть и очень редко, но случалось, — надстройка, обрастая льдом, отяжелевала настолько, что траулеры на хорошей волне переворачивались. Но думать об этом было некогда — пришлось браться за работу. Да и не его это в конце концов забота, пусть комсостав думает, ему это по штату положено.
Через двое суток они нагрузились рыбой под завязку, обкололись и отправились спать. Потом снова обкалывались и снова спали.
Ждали перегрузчика, бездельно болтались на волнах.
Василию вдруг все опостылело, муторно было глядеть на унылое, безнадежно холодное море, на до тошноты знакомые лица, слышать их слова, — тоже, казалось, знакомые с пеленок, — и делать тяжелую работу, неожиданно потерявшую всякий смысл. Ну, сдадут они рыбу, еще наловят, еще сдадут, месяца через два вернутся в порт, получит он свои три-четыре тысячи, — а на кой, собственно, черт они нужны ему? Опять куда-то в теплые края, опять какая-нибудь Верка под боком, и — как телок на привязи, а веревка — эти самые убывающие тысячи? И что, опять все сначала?
В такую невеселую минуту сцепился он с штурманом. Была у того гнусная привычка — ходить по сейнеру как в собственном доме, где места невпроворот, а все живущие в нем — его слуги, — расступись, хозяин идет. Василий — не расступился да так саданул штурмана плечом, что тот чуть через леер не сыграл, изумленно выставился на него зрачками:
— Ты что?
— А — ходи ладом, не в тещином доме! — рявкнул Василий.
— Ах ты… — раскатился было матюками штурман, но Василий, надвинувшись на него, понизил голос:
— Ты чего пасть разеваешь, начальничек? Тебя разговаривать с людьми не учили?
Начальничек сузил глаза, деловито пообещал:
— Ну, смотри, Макаренков, ты у меня попрыгаешь.
— А вот это видал? — Василий сложил дулю и сунул под нос отшатнувшемуся штурману. — Топай, куда шел.
Штурман молчком убрался. А Василий, зло сомкнув губы, направился к капитану, угрюмо сказал:
— Давай проси мне замену, кэп.
— Ты что? — уставился на него капитан. Василий был одним из самых крепких и надежных моряков, да и время сейчас шло денежное, и капитан не мог понять, с чего это Василию взбрело в голову списываться с судна.
— Ничего. Списываюсь с твоей посудины.
— Иди-ка проспись, потом поговорим.
— Нечего мне просыпаться, — повысил голос Василий. — Хватит, наработался. А держать меня ты не имеешь права — я свои законные сто двадцать суток отплавал.
— Да постой ты, чудак-человек, — попытался успокоить его капитан, но Василий уже взялся за ручку двери и зло бросил:
— Нечего мне стоять, как сказал — так и будет.
И при первой же оказии Василий вернулся в Невельск.
Стояла холодная сумрачная весна, обещавшая такое же неласковое лето. В ожидании окончательного расчета Василий поселился в общежитии рыбаков вместе с Николаем Фоменковым — русым голубоглазым человеком со шрамом на левой щеке. Василий узнал всю нехитрую биографию нового знакомца. Из сорока своих лет Николай больше двадцати проплавал едва ли не во всех морях, не было у него никого и ничего, кроме чемодана с самой необходимой одеждой, — и никогда уже ничего больше не будет, как понял Василий, понаблюдав за ним. Николай был человеком конченым — в чем и сам довольно спокойно признался Василию. За два-три месяца он пропивал все, что удавалось заработать за рейс, и когда деньги кончались, снова уходил в плавание. История его была самая обычная, Василий знал таких десятки, — да и его-то жизнь многим ли отличается от Николаевой?
…Среди ночи Василий услышал, как Николай откашливается, встает, жадно пьет воду прямо из графина. Василий потянулся за папиросами, нашарил спички.
— Не спишь? — хрипло спросил Николай.
— Нет.
— Тогда я свет зажгу.
— Зажигай.
Николай, избегая глядеть на него, стянул с себя плащ, свитер, бросил все в угол и сел за стол в одной майке, выставив синие, обезображенные сплошной татуировкой руки.
— Черт, ничего не помню… Как я попал сюда?
— Я тебя привел.
— А-а… Костюма при мне не было?
— Какого костюма?
— В магазине купил.
— Ничего не было.
— Значит, свистнул кто-то, — без особого сожаления сказал Николай.
— Хороший?
Николай наморщил лоб, вспоминая.
— Кажется, сто сорок отвалил.
— Деньги-то целы?
— Целы.
Василий, внимательно разглядывая его, спросил:
— А ты лечиться не пробовал?
— Пробовал. Всяко лечили — и гипнозом, и травами поили, и антабусом накачивали — все без толку.
— Да-а, — только и сказал Василий и подумал: «Менять надо жизнь, Вася, менять…»
Да, жизнь надо было менять, — это Василий чувствовал давно, еще с прошлогодней встречи с Таней. И не в Тане тут было дело, не ради нее собирался он ломать себя. Вспоминалось о ней спокойно, часто как-то механически, — только потому, что нельзя было отделить ее от Олега. А вот мысль о сыне каждый раз больно царапала его, помнил он его так хорошо, словно видел вчера, — темные любопытные глаза, редкие волосики на голове, странное ощущение шелкового прикосновения крохотной ручонки. И то, что он никогда уже не увидит его, своего родного сына, — разве что мимоходом, тайком, незваным залетным гостем, — что не ему, Василию, а кому-то другому говорит он сейчас «папа», — в иные минуты казалось Василию дикой, ни с чем не сообразной несправедливостью, и глухая злоба на Таню, на себя, вообще — на жизнь охватывала его… Но он тут же брал себя в руки, понимая, что злостью не поможешь, что винить, кроме себя, некого, и злые эти минуты лишний раз убеждали его, что жизнь свою надо как-то менять… Надо-то надо, но как? Что сейчас-то вот, как получит деньги, делать? Ехать на материк? А что — и кто — там ждет его?
На простой этот вопрос ответа не находилось.
На материк он не поехал. Но и в Невельске делать было нечего, и Василий отправился в Южный, решил пожить пока там, осмотреться, подумать. Нашел комнату на окраине, с неделю отсыпался, сбрасывал с себя усталость, накопившуюся за четыре месяца плавания.
А потом опять навалилась на него безысходная скука. Он смотрел все фильмы, какие только шли в городе, — и не знал, как убить остававшееся время. Пробовал читать. Брал сначала книги серьезные, из тех, которые читала когда-то при нем Таня, — но скоро скучно становилось ему, многого не понимал он, многое в этих книгах казалось ему ненужным, лишним. Ну вот, взять хотя бы «Войну и мир». Таня говорила ему, что это самая великая книга из всех написанных на земле. А он из этой великой книги и сотни страниц не одолел — скулы заломило от скуки. На кой черт ему про этих князей и графьев знать? Они и разговаривают-то не по-русски, глаза вывихнешь то и дело в сноски заглядывать. И зачем тогда по-французски писать, если то же самое рядом по-русски стоит?
И Василий снова взялся за детективы, но теперь и они почему-то не доставляли никакого удовольствия. Однажды он основательно напился, но, протрезвев, невольно вспомнил о Николае и решил, что хватит, иначе можно и в самом деле в алкаши записаться. Да и о своем решении менять жизнь он не забывал и, не зная еще, в чем именно должны заключаться эти изменения, догадывался, что с пьянками в любом случае надо кончать, до добра они не доведут.
И Тане он так и не написал. Решил, что напишет только в том случае, если жизнь его как-то переменится, — а так что ж писать?
Наконец Василий решил, что надо где-то поработать. Не очень-то ему и хотелось работать, но, наверно, это все же лучше, чем бока пролеживать да глядеть в потолок. И работа нашлась тут же — в Старорусском колхозе, матросом на сейнере. Но проплавали всего неделю, и на наспех отремонтированном судне отказала машина. Случилось это в шторм, и сейнер выбросило на камни. Через сутки их сняли, сейнер наскоро заштопали и увели ремонтироваться в Холмск, а команда осела на берегу в ожидании работы.
Уныло тянулось гнилое сахалинское лето — почти без солнца, с холодом и дождями, с непроходящей сыростью, от которой плесневела даже одежда в чемоданах. Старорусское — скучное длинное село в две тысячи жителей — тихо покоилось в мутной дождливой мгле, постоянно накатывавшейся с моря. И хотя фильмы в клубе крутились новейшие и было кафе с музыкальным автоматом, — немногие свободные жители поселка отчаянно скучали.
В один из таких скучных дней Василий встретился с Демьянычем — начальником бригады прибрежного лова, в которой Василию довелось работать три года назад.
Демьяныч был одним из первых южно-сахалинских поселенцев, прибрежные воды знал чуть ли не наизусть и рыбу ловил умело. В то время, когда Василий работал у него, это был крепкий властный старик, легко справлявшийся с разношерстной толпой «бичей», отпускников, проштрафившихся и прочего случайного народа, из которых в основном и состояли бригады. Прибрежным ловом в колхозе занимались всего несколько месяцев в году, когда горбуша и кета шли на нерест, да зимой иногда ловили навагу, — потому-то и не было в бригадах постоянного состава.
А сейчас Василий едва узнал Демьяныча — будто не три года прошло, а все тридцать. Шаркал старыми рыбацкими броднями по мокрому деревянному тротуару грузный старик с большим обвисшим животом, и лицо его, очень старое, дряблое, с маленькими светлыми глазами, равнодушно опущенными в землю, выражало бесконечную усталость и тихую покорность перед всем, что предстояло в недалеком будущем, — потому что более или менее далекого будущего у него наверняка не было. Однако друг друга узнали сразу, оба обрадовались и, с минуту поговорив на улице, отправились к Василию в общежитие.
Демьяныч жил в Восточном — небольшом поселке километрах в ста пятидесяти на север, — сюда приехал за винтом для «мотодоры» и шкипером для нее же. Винт обещали дать завтра, шкипера — прислать через несколько дней, оставалось только ждать. Василий коротко рассказал ему о себе, о неудачном плавании, и Демьяныч тут же предложил:
— Слухай сюда, Васыль. Давай ко мне в бригаду, а?
— К тебе? — задумался Василий.
— А чего? — сразу оживился Демьяныч. — Бог знает, сколько еще просидишь здесь, а мы месяца через полтора все равно снимемся, как горбуша пройдет, сразу же и уйдешь, куда захочешь… Большого заработка не обещаю, сам знаешь, что год не лососевый, но сот пять-шесть будет.
— Надо подумать, — сказал Василий.
— А чего думать?
Очень уж хотелось Демьянычу, чтобы Василий согласился. Василий знал, что в другом месте он, может быть, и заработает за это время на три-четыре сотни больше, — да только где это другое место и сколько искать его? Да и погоду эти сотни не делали — деньги у него были. И жить все-таки на берегу, не бессменно болтаться в море… И он сказал:
— Ладно, согласен.
— Ну вот, — обрадовался Демьяныч. — Завтра с утра зайдем в правление, оформишься — и поедем.
И на следующий день они уехали в Усть-Кандыбу, где стояли ставные невода бригады Демьяныча.
8
Когда-то были три Кандыбы: два села — просто Кандыба и Усть-Кандыба — и река, на которой они стояли. Лет пять назад Усть-Кандыбу сселили, и теперь только остовы полуразрушенных домов догнивали среди высокой травы. Одну из этих изб приспособила для жилья бригада Демьяныча — затянули оконные проемы полиэтиленовой пленкой, поставили две железные печки, сколотили столы и скамейки. По сравнению с двумя другими колхозными бригадами жилье было хоть куда. И место красивое. Впереди — пустое море, по бокам — скалы, позади сопки. Впрочем, о красоте особенно не думали — было бы удобно работать. И на это жаловаться не приходилось — береговые скалы образовали удобную бухту, песку для пикулей[2] было вдоволь. Одно только плохо было — Кандыба забросала свое устье песком, оставив лишь неширокий проход, упиравшийся в гряду камней, и во время отлива войти в речку было не так-то просто. На этих камнях и потеряла дорка винт, из-за которого приезжал в Старорусское Демьяныч.
От Кандыбы, куда они приехали поездом, идти было восемь километров, — сначала по шпалам назад, потом — к морю, по бывшей дороге, от которой осталась узенькая тропка. Когда-то дорога была основательная, проложенная еще японцами, но теперь начисто заросла травой, местами ушла в болото.
Шли втроем — был с Демьянычем высокий ладный парень лет двадцати пяти, назвавшийся Русланом. Демьяныч, хотя и шел налегке, все время отставал, с трудом волочил ноги. Василий спросил:
— Демьяныч, у тебя что, лодки нет?
— Есть, да оба мотора не работают.
— Починить некому, что ли?
— Запчастей нет, — уныло отозвался тяжело дышавший старик.
— За продуктами тоже пешком ходите?
— Пешком.
«Да, не тот стал Демьяныч», — подумал Василий, оглядывая его. Три года назад такого ответа от него наверняка не услышал бы — всеми правдами и неправдами, а запчасти были бы.
Это ощущение — не тот Демьяныч — окрепло у Василия в первый же день житья на новом месте. Демьяныч стал непомерно болтливым, говорить готов был с утра до вечера, но его никто не слушал, а молодые, — кроме Руслана, таких было еще четверо, — в открытую посмеивались над ним, пользуясь тем, что старик плохо слышал. Остальные просто не обращали на него внимания и порой, выслушав какое-нибудь его приказание, лениво отговаривались, преспокойно продолжали лежать на раскладушках.
Народ оказался — весь с бору по сосенке, тех, кто раньше уже ловил рыбу, было всего пять человек. Остальные же почти ничего не знали и не умели, даже простенькие узлы вязать. Приходилось постоянно подсказывать им, как крепить кунгасы, расстилать невода и многое другое из самой нехитрой рыбацкой техники. «С такой публикой много не наработаешь», — удрученно подумал Василий на следующий день, оглядывая людей, лениво рассевшихся и разлегшихся на берегу в ожидании указаний.
И работа, в самом деле, оказалась — слезы горькие. Вставали поздно — в девять, долго пили чай, пререкались из-за того, кому убираться, кому носить воду, пилить дрова, идти за продуктами в Кандыбу. И наконец не спеша тянулись на берег, устраивали перекур, бесконечный треп. Правда, и работы особенно срочной не было, — рыба ожидалась недели через две, не раньше. Потому-то, видно, и Демьяныч не слишком торопил их. Он и сам был не прочь потрепать языком, порассказать байки. Только здесь и слушали его — деваться-то все равно было некуда.
Неводов было два. Дальний, у водопада, был уже поставлен, туда наведывались через день, привозили десятка три горбуш, — смех, а не улов, себе на икру не хватало.
Второй невод — поблизости, в полукилометре от устья Кандыбы, — как раз начинали ставить при Василии. Как это делается, он хорошо помнил еще с той поры, когда работал у Демьяныча, и с первого дня как-то само собой получилось, что признали его помощником Демьяныча, спрашивали совета, ждали указаний. Да и сам Василий работал больше других, с удовольствием бросал тяжелые пикули, истомившись надоевшим бездельем.
Самую тяжелую работу — вытягивание центральной — сделали за два дня. Центральная — стальной трос в триста метров длиной — держится на воде на разноцветных полых шарах — наплавах. Один конец центральной крепится на берегу, другой — с большим железным цилиндром — «мальчиком» — на дне моря, для чего утопили несколько десятков пикулей. К этому же концу крепится «рама» — два прямоугольника по обе стороны центральной. На раму и навешивается невод, а на центральную — крыло. Горбуша во время нереста жмется к берегу, ищет пресную воду. Наткнувшись на крыло, рыба идет вдоль него, пока не попадает в ворота невода, а оттуда путь один — через узкие проходы в «котлы», основную часть невода. Во время хорошей путины в этих котлах горбуши скапливается до двухсот центнеров. Обратно через ворота она выйти не может — инстинкт гонит ее вперед. И остается только перекрыть «котлы» и выбирать рыбу в кунгасы.
А рыбы пока не было, и потянулась ленивая бездельная жизнь. К обеду выходили в море, дорка оставляла один кунгас на ближнем неводе, другой тянула к водопаду. Там привязывались к «мальчику», часа два скучно болтались на волнах — и возвращались обратно.
Много спали, читали, «травили баланду», до одури резались в карты. Признавался только покер. В субботу почти все отправлялись в Кандыбу — в баню. Ну а после бани — непременная выпивка, танцы в клубе, и, случалось, местные донжуаны, ревниво оберегавшие свои владения, поколачивали кое-кого из бригадных, хотя те и старались держаться вместе.
С первого дня к Василию прочно прицепилось прозвище «Макар». Василий не обижался — Макар так Макар. Вообще же, как и обычно, сошелся он со всеми быстро. Слева его соседом по раскладушке оказался Руслан. Василий с любопытством присматривался к этому странному парню. Чем он занимался до прихода в бригаду — никто не знал, а сам Руслан явно темнил на этот счет. Удивляла всех его необыкновенная чистоплотность, Руслан неизменно был чист и опрятен, брился ежедневно, раз в неделю устраивал основательную стирку, и даже было у него что-то вроде маленького кожаного чемоданчика, в котором хранились всевозможные щетки и щеточки, тюбики с какими-то кремами, зеркало, и туалетом своим Руслан занимался по меньшей мере полчаса, приглаживаясь и прилизываясь, как… Василий даже сравнения не находил. Был у Руслана дружок, во всем старавшийся походить на него, — Вадик. Ростом и силой он не уступал Руслану, но выглядел сущим младенцем — румяные щеки, пухлые губы и наивные глаза. Даже на взгляд Василия Вадик был круглым дураком — такую чепуху иной раз он говорил.
За Русланом и Вадиком прочно утвердилась общая кличка «лбы». Работать «лбы» не любили — начинали последними, кончали первыми. А море ненавидели самой лютой ненавистью и пользовались любой возможностью, чтобы не выходить на невода. Даже слабая зыбь немилосердно укачивала их, и раза два «лбы» добирались до раскладушек почти что на четвереньках. Обычно «лбы» по очереди ходили в Кандыбу за продуктами, пилили дрова, носили воду.
А еще у «лбов» была гитара. Играли они часто, особенно Руслан. Песни признавались только блатные, из которых щедро сыпались разные «малины», «тюряги», «шалманы», «мусора». Но была одна какая-то странная песня, в которой слова были нормальные, не блатные. Песня про залив Терпения, в котором кому-то жить совсем уже терпения не стало, и этот кто-то мечтал уехать на какие-то острова, где каждый день солнце, вино, знойные женщины и коралловые рифы. Эту песню Руслан пел особенно часто и каждый куплет заканчивал долгим мрачным повтором на похоронный мотив: «Долга-а-я ле-е-та…» Однажды Василий спросил:
— А что это за залив Терпения?
Руслан снисходительно посмотрел на него и лениво протянул:
— Ну и темная же ты личность, Макар… Живешь на Сахалине и не знаешь, где залив Терпения? А вот это самое место, где мы находимся, и есть залив Терпения.
Перехватив взгляд Василия, Руслан миролюбиво сказал:
— Не злись, я же шучу.
Прошли обещанные Демьянычем две недели, прошла и третья, а горбуши все не было. Демьяныча донимали вопросами — где же рыба? Тот только кряхтел, матерился, — видно было, что он и сам не понимает, куда делась горбуша. И в других бригадах улова не было. Ждали еще.
Дальний невод полностью оказался на попечении Василия, Демьяныч туда и не заглядывал.
И наконец рыба пришла. Было ее немного, но — лиха беда начало. Василий увидел это сразу, как вышли из бухты, — в море то тут, то там возникали быстрые полоски ряби. Он весело крикнул Демьянычу, сидевшему на втором кунгасе:
— Пошла, Демьяныч!
Но тот не расслышал его и только рукой махнул. Он, конечно, и сам видел следы косяков, но лицо его оставалось безучастным.
Пристали к ближнему неводу, из которого высовывались черные усатые морды нерп. Это было хорошим признаком — значит, и в неводе есть горбуша. Демьяныч на шлюпке поехал осматривать «котлы», и Василий с нетерпением ждал, что он скажет. Демьяныч разочарованно протянул:
— Та, разве же это рыба… Центнера три всего.
Это, конечно, была не рыба, но Василий весело сказал:
— Ничего, будет и больше. Поехали, кэп!
И на дальнем неводе улов был не бог весть какой — центнеров пять-шесть, как определил на глаз Василий. Они подождали часа три, сделали переборку и выпустили рыбу в садки. К вечеру настроение у Василия упало — косяки по-прежнему кружили вокруг невода, а в «котлы» почему-то не шли.
— Что она, такая шибко умная, что ли? — удивлялся Володя Карасев, техник-строитель из Южного, решивший подзаработать в отпуске. — Вокруг ходит, а внутрь не хочет. Может, нерпы ее пугают? — он кивнул на черные круглые морды, выстроившиеся вдоль центральной.
Василий посмотрел на него и ничего не ответил. Дело было, конечно, не в нерпах. Вероятно, просто усилилось течение, и подняло крыло, и рыба уходит низом. Он решил проверить это и стал отвязывать шлюпку.
Опасения его оправдались — крыло во многих местах почти стелилось под поверхностью воды, и Василий разразился злой руганью:
— Работнички, мать вашу… Кто это крыло ставил?
— Демьяныч, кто же, — огрызнулся Володя.
— Не может быть, — не поверил Василий.
— Ну точно. То есть ставили мы, а он проверял, потом на шлюпке всю центральную объехал… Да чего ты злишься? Кто виноват, что течение поднялось?
— Кто виноват… Демьяныч, вот кто! Надо было камней побольше навязать!
— А ведь верно, — Володя почесал затылок. — А чего же он, старый хрен, не сделал этого? Сам говорил нам, чтобы поменьше и пореже камни вязали.
Но Василий и сам не мог понять, почему Демьяныч сделал так, и сразу же, как только подъехали к ближнему неводу, спросил его об этом.
— Нельзя, сорвать может, — сказал Демьяныч. — Крылья слабые, их уже списывать пора.
— А чего же ты брал такие? — разозлился Василий.
— Какие дали, — Демьяныч равнодушно сплюнул в воду.
Два дня они дежурили на неводах с утра до вечера. Косяки горбуши продолжали рябить воду, а в невод заходило — кот наплакал, течение не ослабевало.
А когда течение ослабло и крылья опустились на дно, никаких косяков уже не было, и никто не знал, появятся ли они опять. Демьяныч на вопросы отмалчивался или неуверенно отвечал:
— Должна быть…
И опять оставалось только ждать.
А однажды под кучей старого изопревшего невода Василий обнаружил крепкое, почти новехонькое крыло и, в бешенстве сжимая кулаки, пошел к Демьянычу, возившемуся с мешками, показал рукой на крыло:
— Слушай, Демьяныч, а это что там?
Демьяныч посмотрел туда и промолчал, продолжал считать мешки, беззвучно шевеля губами. Василий дернул его за рукав.
— Нет, ты уж ответь! Почему это крыло не ставил? На него-то можно было камней навязать? Хоть на одном неводе была бы рыба… А может, у тебя и еще где одно крыло припрятано?
Демьяныч вздохнул, потянулся за папиросами.
— Да не шуми ты… Садись, покурим.
— Покурим? — протянул Василий. — И долго курить будем?
— Да сядь ты, Васыль, послухай меня.
И таким просящим голосом сказал это Демьяныч, что Василию вдруг стало жалко его. «Совсем сдал старик», — подумал он, оглядывая его усталое лицо и потухшие глаза. Он сел, закурили вместе, и Демьяныч медленно заговорил:
— Слухай сюда, Васыль… Ну сколько мы взяли бы на одном неводе? Сам же видишь, рыбы мало шло, заработали бы самое большое по сотне на душу, — так нам же хуже. Ничего не сдадим — так хоть за пролов получим, сотни по две на брата выйдет. Враг я себе, что ли? Или мне заработать неохота? Пойдет настоящая рыба — за полдня крыло сменим и камни навяжем…
— А чего же ты сразу его не ставил?
— Да сам не видишь, какая погода? Того и гляди шторм вдарит. Невода снять быстро, десяток концов обрезал — и готово, а крылья? Если побьет, нам за него, — кивнул он на новое крыло, — пять лет рассчитываться придется. А эти сорвет — не жалко, все равно спишут.
— Если, если, — сердито сказал Василий. — Раньше ты не боялся…
— Раньше не боялся, а теперь боюсь, — спокойно сказал Демьяныч. — Да и ты пойми меня. Я последний год работаю, на пенсию выхожу. А народ у нас, сам видишь какой, надежды на него мало.
— Это-то верно, — неохотно согласился Василий, думая о том, что Демьяныч не так уж и не прав. И все-таки жалко было, что упустили рыбу. Он спросил:
— Скажи честно, Демьяныч, будет еще рыба?
— Да кто ж ее знает… — уклонился от ответа старик.
— Ты не темни, говори прямо, я никому не скажу.
Демьяныч помолчал и уверенно сказал:
— Если через неделю не пойдет — совсем уже не будет. Только не проговорись — разбегутся, некому невода снимать будет.
— Ясно, — помрачнел Василий.
Через неделю рыба так и не пошла. И хотя Василий о предсказании Демьяныча молчал, ее уже почти перестали ждать: тоже не все были лыком шиты. Трое тут же уехали, Демьяныч отпустил их почти без разговоров. Сам он раздобыл моторную пилу и с утра до вечера разбирал брошенные дома, пилил дрова, — готовился везти к себе в Восточный. В море почти не выходили, ждали команды сниматься. Заранее сняли дальний невод, а на ближний наведывались только для того, чтобы привезти рыбы кандею на готовку.
Наконец-то выпали яркие солнечные дни, и те, кто не уходил в Кандыбу, с утра до вечера загорали, купались, отогревались после многомесячной сырости. Василий часто ходил на охоту, но и это не отвлекало его. Становилось ему все неспокойнее, все чаще задумывался он о том, что же дальше делать. Ну вот, через две недели снимутся отсюда, — куда дальше? Опять пить, потом вкалывать, — и опять все сначала? Нет, хватит с него, пора и за ум браться, — настойчиво говорил себе Василий. Но как? Этого он не знал.
Однажды в Кандыбе он зашел в книжный магазин и накупил учебников для восьмого класса. Руслан удивленно спросил:
— Ты что, Макар, решил на старости лет в науку вдариться?
— Пошел ты… — огрызнулся Василий.
Из всех учебников он не одолел и по десятку страниц — школьная премудрость забылась начисто. Попросил Володю объяснить кое-что, и тот, повозившись с ним полчаса, с сожалением сказал:
— Тебе, Вася, не с восьмого класса надо начинать, а с пятого.
Василий мрачно чертыхнулся и засунул учебники под раскладушку.
Тане он все-таки написал, не выдержал, — очень уж хотелось узнать хоть что-нибудь об Олежке. Она ответила тут же, — письмо было спокойное, дружеское, — и прислала фотографии Олега. С них на Василия с веселым удивлением смотрел красивый, еще больше, чем раньше, похожий на него мальчишка, и Василию с трудом верилось, что ему всего полтора года — таким осмысленным был его взгляд.
Таня писала в основном об Олежке, в конце письма спрашивала, что у него нового, и просила, чтобы он не пропадал надолго и хоть изредка сообщал о себе. Василий вздохнул — и вот уже третью неделю никак не мог собраться и ответить ей. Что у него может быть нового? Разве что пить бросил — да не бог весть какое достижение…
Фотографии он бережно завернул в целлофан и каждый вечер украдкой разглядывал их. Однажды Володя застал его за этим занятием и спросил:
— Племянник?
— Сын, — не подумав, ответил Василий.
Володя удивился.
— Ты же говорил, что не был женат.
— Мало ли что говорил, — буркнул Василий, пряча фотографии.
9
В субботу отправились в Восточный, повезли Демьянычу дрова. Дорку и большой пятитонный кунгас нагрузили до отказа, плыли весело, — и погода стояла почти что крымская. Демьяныч отправился искать машины. Потом весело нагрузили два огромных трехосных грузовика, отвезли, разгрузили и к вечеру уселись в огороде, за щедро уставленным закусками столом. Быстро опьянели, Витька Косых тут же, на лавочке, свалился и захрапел, а капитан, механик и двое других пошли на промысел — попытать счастья у здешних бабенок. Звали с собой Василия, но он отказался, не хотелось ему никуда идти. Пьян он не был, невесело смотрел перед собой в стол, вполуха слушал болтовню Демьяныча. А когда они остались вдвоем, Демьяныч, помолчав немного, поднялся на нетвердых ногах, тронул Василия за плечо:
— Пойдем-ка, Васыль, в дом, разговор есть.
Василий молча пошел за ним, недоумевая, что за разговор может быть по пьянке. Но Демьяныч был не так уж и пьян, смотрел серьезно. Усадив его за стол, он ушел куда-то и скоро вернулся с тремя пухлыми общими тетрадями, положил перед собой, бережно разгладил загнувшиеся уголки обложек.
— Что это? — равнодушно спросил Василий, глядя на тетради.
— Сейчас все скажу, — значительно сказал Демьяныч. — И не думай, что это только по пьянке, я не пьяный.
— Да ладно, говори, — вяло сказал Василий, раздумывая, не лечь ли ему спать.
— Да ты слухай внимательно, — с досадой сказал Демьяныч, — я тебе дело говорю, а ты как дохлая рыба глядишь.
— Говори, я слушаю.
— Знаешь, что в этих тетрадях? — торжественно начал Демьяныч. — Я тут двадцать три года все записывал — когда рыба начинала идти, когда кончала, какие течения, ветры, погода, — в общем, все, что лова касается. Этим записям цены нет, сколько уже человек выпрашивали их у меня. Я же на всем побережье ловил — и горбушу, и кету, и навагу, и селедку…
— Интересно, — безразлично проронил Василий.
— Погоди, дай до конца сказать. Кому попадут в руки эти тетради — гарантию даю, и в самый плохой год без рыбы не останется. Ты не смотри, что в этот раз так вышло. Не идти бы мне на пенсию — я давно бы уже из Кандыбы на другое место перебрался, без рыбы не остались бы…
— Другие тоже впустую сидят.
— Другие сидят, а я не сидел бы, верно тебе говорю. Да стар я уже стал, силы не те…
Демьяныч помолчал, глядя на него, и словно ждал от Василия какого-то ответа.
— А мне-то зачем ты все это говоришь? — безразлично спросил Василий.
— А затем и говорю, что идти мне на пенсию, а вместо себя надо кого-то в бригадиры ставить. Вот я и думаю тебя.
— Меня? — опешил Василий.
— Ну да, тебя. Парень ты с головой, рыбацкое дело знаешь, характером тоже бог не обидел, — справишься…
— Это ты загнул, Демьяныч, — Василий покачал головой, еще не зная, как отнестись к неожиданному предложению.
— Чего это я загнул? — Демьяныч даже обиделся. — Мне надо все хозяйство в надежные руки передать, тут не до шуток. А чем тебе это плохо? Сам себе хозяин будешь, никто тебе не указ, наоборот — сам приказывать будешь. Ну что, согласен?
— Да все равно правление не утвердит, — уходил от прямого ответа Василий. — Я же для них «бич», голь перекатная.
— Ну, это не твоя забота, — решительно отмел его возражение Демьяныч. — Утвердят, раз я рекомендую, со мной там пока еще считаются… Говори прямо — согласен?
— Погоди, Демьяныч, не горит ведь, — сказал Василий, решив про себя, что не пойдет на это, не стоит привязываться к такому месту. — Подумать надо.
— Ну, думай, — согласился Демьяныч. — Время пока терпит. А только дурак дураком будешь, если откажешься. Я десять лет на Азове простым рыбаком вкалывал, пока в бригадиры вышел. А тебе такая возможность выпала…
— А почему ты именно меня выбрал?
— А кого? — поднял на него светлые глаза Демьяныч. — Народ шебутной пошел, на месте не сидит, вечно несется куда-то.
— А у меня ведь тоже ни кола ни двора.
— Живи зиму здесь, если хочешь, только рад буду. Такой домина — а сам знаешь, вдвоем со старухой живем. А там колхоз даст тебе что-нибудь в самом Старорусском, к лету вроде дом намечают сдавать.
— Ладно, успеем еще поговорить, — оборвал разговор Василий и встал. — Давай-ка я спать лягу.
— Ложись, ложись, — засуетился Демьяныч, тоже вставая. — Сейчас скажу Матрене, постелит.
Утро для всех было — словно нож острый. Демьяныч за бок держался, морщился — вчерашняя выпивка явно не в прок пошла. И капитана, Вальки Кузнецова, тоже не было. Подождали немного и решили отправиться без него.
До ковша идти было неблизко. Демьяныч сразу отстал, весь посерел лицом, и Василий, подождав его, сказал:
— Оставайся-ка здесь, Демьяныч, отлежись, потом поездом приедешь. Делать там все равно нечего.
Демьяныч с трудом выдохнул, тяжело привалился к штакетнику. И, подумав, согласился:
— Ладно, Васыль, что-то и в самом деле плохо мне.
— Печень, что ли?
— Она, проклятая. Только ты уж проследи там…
— Да ладно, иди, ложись.
И Демьяныч медленно побрел обратно.
Капитан храпел в дорке, крючком согнувшись вокруг мотора. Витька Косых, — маленький, быстрый, резкий в движениях, — открыл дверь рубки и дурным голосом заорал:
— Кэп, мать твою, подъем, в Японию уносит!
Капитан и ухом не повел, выдал такую руладу, что Витька с завистью сплюнул:
— Вот гад, хитрый, лишних два часа урвал. Скойлался, как цуцик, и хоть трава ему не расти… Кэп, дорка от твоего храпа уже течь дала!
Наконец и капитан очухался… Только к обеду снова вышли в море.
Бодро поплыли по ярким синим волнам, под горячим, необычным для Сахалина солнцем. Василий лежал на носу кунгаса, надвинув на лоб капюшон робы, думал о предложении Демьяныча. Идти в бригадиры было и заманчиво, и страшновато. Весь опыт прошлой его жизни, прожитой налегке, без всякой ответственности за кого-то и за что-то, подсказывал ему — не соглашайся, не связывай себя, не вешай ярма на шею, — как бы ко дну не утянуло. Придется отвечать за людей, за бригадное имущество, за ошибки и неудачи. Не прав Демьяныч — какое уж тут сам себе хозяин, когда хозяев над ним будет куча и спросят они за любую провинность по всей строгости. А зачем тебе это? На жизнь себе всегда заработаешь, как вольная птица — езжай куда хочешь… И тут же о другом думалось — а куда ехать? Будет везде все то же, что было в семнадцать лет этой вольной жизни. От такой воли иногда уже волком выть хочется… Да и надоело окрики и приказания слушать, неплохо бы и самому покомандовать, посмотреть, на что ты годен, Василий Макаренков… Можно и попробовать, не получится — недолго и уйти, а не то и самого уйдут…
Но так ничего и не надумал он, привычно отложил решение на потом, — авось как-нибудь само собой все утрясется, время есть…
К концу пути дорка стала выписывать такие кренделя, что Василий подумал — надо бы взять у капитана руль. И, по буксирному тросу подтянув кунгас к дорке, он перепрыгнул на корму и сказал Вальке:
— Дай-ка я постою.
Но Валька мотнул головой, заорал ему в ухо:
— Давай, Макар, гуляй отсюда, я сам!
Василий пытался настаивать, но Валька зло ощерился:
— Я капитан или ты?
И Василий, махнув рукой, перебрался на нос дорки, на всякий случай приготовил весло, чтобы отталкиваться от камней. Хорошо еще, что был прилив. Дорка по широкой дуге на полном ходу влетела в бухту и, замедлив ход, направилась к устью реки. И, казалось, все уже сошло с рук веселому капитану, — оставалось сделать последний нетрудный поворот, выключить мотор и ткнуться носом в берег. Валька крикнул механику, чтобы он сбавил обороты. Жорка Смагин, одуревший от бензинового чада, вместо того чтобы сбросить газ — прибавил обороты до полного. Дорка рванулась вперед, и Валька вылетел за борт, не успев вовремя выпустить румпель. Дорка круто развернулась влево, Смагин тут же выключил зажигание, но было уже поздно — корма дорки с грохотом налетела на камень. Василий, тоже едва не свалившийся в воду, уперся длинным веслом в дно реки и с трудом подтолкнул дорку к берегу.
Двое безмятежно спавших на дне дорки, даже не проснулись. Василий закрепил дорку и пошел к корме посмотреть на винт. Смотреть оказалось не на что — все три лопасти срезало с вала так аккуратно, словно их там никогда и не было.
Из реки, отфыркиваясь, вылез мигом протрезвевший Валька. Василий, глядя на него, пожалел, что сам не сбросил его с кормы еще в море, — авось протрезвел бы часом раньше и ничего не случилось бы. Плавал Валька как рыба, так что опасаться было нечего.
— С приехалом, капитан, — мрачно сказал Василий. — Морду бы тебе набить за такое вождение.
— Да брось, — миролюбиво сказал Валька. — Обошлось, и ладно.
— Обошлось? А ты на винт посмотри, — посоветовал Василий.
Валька посмотрел — и даже икнул от неожиданности. И полез в дорку — бить Жорку Смагина. Тот уже вылез из рубки, обалдело щурился на солнце. Василий, не трогаясь с места, спокойно пообещал, глядя на Вальку:
— Будете счеты сводить — обоих за борт выброшу.
И Валька присмирел, сел на борт, зябко поводя плечами.
Из всей бригады на месте оказался только Степан Хомяков — тихий многодетный мужичок.
— А где остальные? — спросил Василий.
— «Лбы» здесь, с бабами, остальные еще вчера в Кандыбу умотали.
Василий, не раздеваясь, лег на раскладушку и задремал. Сквозь сон слышал, как Валька бодро докладывает по рации в Старорусское:
— «Ролик», я «двенадцатый». Докладываю обстановочку. Были в море, рыбы нет. Прием.
— Вас понял, «двенадцатый». Примите прогноз погоды.
Прогноз был обычный, спокойный.
— «Ролик», как у «шестого» и «десятого»?
У «шестого» и «десятого» рыбы тоже не было.
— У меня все, «ролик», — сказал Валька и выключил рацию.
Василий посмотрел на него. Валька, в выходном костюме и сапогах, готов был отчалить. И остальные, кроме Степана и Володи Карасева, тоже.
— Ты что, о винте ничего не сказал? — спросил Василий.
— Это не твоя забота, Макар, — небрежно ответил Валька, даже не взглянув на него. — Винт в Кандыбе достанем.
— Где, в пивной?
— Не ерепенься, сказал, достанем, — значит, достанем. И вообще — тебе-то что за дело? Будете выходить на связь, докладывайте, как обычно: были в море, рыбы нет.
И все умотали в Кандыбу. Василий повернулся на бок и снова заснул.
10
Утром Василий ушел на охоту, предупредил Степана:
— Не забудь на связь выйти.
— Ладно.
Когда Василий вернулся и спросил, что нового передавали, Степан виновато сказал:
— Так, понимаешь, вчера спать-то рано легли, двигун не включили. Аккумуляторы сели, ничего не было слышно.
— Ну и черт с ними, — бросил Василий. На связь, случалось, и раньше не всегда выходили, ничего страшного в этом не было.
В двенадцать он сам включил рацию и приготовился было привычно соврать, — были в море, рыбы нет, — но диспетчер сразу обрушился на него:
— «Двенадцатый», почему утром на связь не вышли?
— Все в море были, а у кандея часы стали, — ляпнул Василий первое, что пришло в голову.
— Кто это говорит?
— Макаренков.
— А где бригадир, капитан? — бушевал «ролик».
— В море все, вот-вот должны вернуться, — изворачивался Василий.
— Примите штормовое предупреждение, — вдруг спокойным голосом сказал диспетчер, и у Василия вспотели ладони. Он успел подумать, что шторм, может быть, ожидается так себе, но четкие, скупые слова прогноза не оставляли никаких надежд: восемь — девять баллов, ветер западный с переходом на юго-западный, порывистый, до двадцати пяти метров в секунду. Приказ по всем бригадам: невода немедленно снять, плавсредства закрепить, — в общем все, что полагается в таких случаях.
— Повторите, как поняли, — приказал «ролик».
Василий повторил, и «ролик» сказал:
— Все.
Василий медленно повесил микрофон и выключил рацию.
— Пропал невод, — жалобно сказал сзади Степан.
Василий повернулся. Степан и Володя смотрели на него так, словно ждали каких-то указаний. Каких? И почему именно от него? «А от кого же еще», — спокойно подумал Василий. Не им же, впервые столкнувшимся с морем, что-то решать…
— Что же теперь будет? — сморщился Степан. Казалось, он вот-вот заплачет. — Побьет ведь невод — что тогда? Посадят Демьяныча…
— Да не ной ты, — оборвал его Василий и вышел из избы.
Над землей и морем полыхало яркое солнце, с берега дул теплый, совсем не сильный ветер. Вышедший следом Володя, глядя на это благостное великолепие, с надеждой сказал:
— А может, они того… загнули с прогнозом? Больно уж не похоже на шторм.
— Все похоже, — невесело сказал Василий. — К вечеру такая свистопляска начнется — всем чертям тошно станет.
Его-то эта благодать ничуть не успокаивала. Скорее наоборот — по опыту он знал, что летом самые сильные штормы бывают именно после таких вот теплых дней. Он посмотрел на море. И там ничто не предвещало бури — неторопливо бил в берег невысокий накат, кое-где прорезывались «белячки». Он прикинул, что еще часа два-три будет сравнительно спокойно. Была бы дорка на ходу — всей работы с неводом на час, не больше. А теперь оставалось одно — попытаться снять невод на кунгасе…
Мысль эта пришла сразу, как только он выключил рацию. И он стал обдумывать, как это сделать.
— А где «лбы»? — спросил он.
— Да где же им быть… — сказал Володя и покосился на дом под скалами.
— В Кандыбу не умотали?
— Вроде нет, утром я видел их… Слушай, Вась, что делать-то будем?
— Невод снимать, — спокойно сказал Василий.
— На кунгасе?
— А на чем же еще?
— А это самое… — Володя опасливо покосился на море, — не загремим? Ветер-то береговой, унесет к чертовой матери — и крышка нам.
— Не унесет, — уверенно сказал Василий, — впятером выгребемся, ветер несильный. Поторопиться только надо.
— Ты думаешь, эти «лбы» пойдут?
— Пойдут, куда они денутся.
На самом деле Василий совсем не был уверен в том, что «лбы» пойдут. Если не пойдут — все: втроем и соваться нечего. Он посмотрел на Степана — тот задергал глазами, опустил голову и мелко заперебирал ногами. Очень уж, видно, не хотелось ему идти в море. Василий негромко сказал:
— Братцы, невод надо снять, иначе Демьянычу и Вальке хана, упекут за решетку. Да и нам не поздоровится, — на всякий случай добавил он, — сами знаете, барахло на всей бригаде висит, это же колхоз, а не гослов. Припаяют — и будешь платить как миленький.
Зачем он говорил им об этом? Василий знал, что никто им ничего не припаяет и не придется платить ни копейки. Слишком уж явные тут были виновники, чтобы можно было взвалить ответственность на всю бригаду. Даже в том, что они утром не вышли на связь и вовремя не получили штормовое предупреждение, виноват был не Степан, забывший включить аккумуляторы на зарядку, а Валька и Демьяныч, оставившие бригаду. Они-то и получат на полную катушку…
Знали об этом Володя и Степан или нет, но оба промолчали, словно соглашаясь с ним. Василий сказал:
— Ничего страшного, ребята, поверьте уж мне, старому волку. Мне ведь тоже подыхать неохота. Часа четыре еще спокойно будет, — на всякий случай приврал он, — а мы и за полтора управимся.
— А чего стоим тогда, пошли, — заторопился Володя.
— Подожди, — остановил его Василий. — Возьмите спасательные жилеты и робы этих «лбов», а я за ними пойду. Готовьте пока кунгас и шлюпку. Весел возьмите четыре пары, проверьте уключины. Черпаки не забудьте, отлейте пока воду. На всякий случай «яшку» положите.
— А какой кунгас готовить? — спросил Степан.
— Трехтонный, — сказал Василий.
— А потянет?
— Потянет.
О том, какой кунгас брать, Василий думал с той самой минуты, как решил идти снимать невод. По всем правилам полагалось брать пятитонный. Трехтонный тоже выдержит, но наверняка сядет так основательно, что его захлестнет первой же хорошей волной. Но если ветер усилится, на пятитонном они не выгребутся даже впятером. Получалось, что и так, и этак — все плохо, и у Василия даже мелькнула мысль — не идти. В самом деле, почему он должен чужие грехи замаливать?
И все-таки он решил, что надо идти. А выбор в пользу трехтонного кунгаса решился сам собой, когда он сообразил, что пятитонный намного шире и он с трудом дотянется до весел. А если и дотянется, это будет не гребля, а мука мученическая. А грести ему придется за двоих — ведь их будет только пятеро…
— Ну, шагайте, — сказал он и пошел к дому, где обосновались «лбы».
«Лбы» развлекались. Из дома слышалось пение Руслана, женское взвизгивание. Василий погрохотал сапогами о стенку дома, чтобы предупредить о своем вторжении. Голоса стихли. Василий вошел в темную избу.
Руслан, с гитарой на животе, лежал на топчане, на который было брошено какое-то тряпье. Он дружелюбно кивнул Василию:
— Проходи, Макар, гостем будешь.
— Некогда гостить, дело есть, — спокойно сказал Василий. — Давайте, ребята, на берег, невод надо снять.
— Что так срочно? — удивился Руслан. — Демьяныч приехал, что ли?
— Никто не приехал. Приказ из Старорусского, шторм идет.
Руслан присвистнул и сел.
— Вот это пироги со смаком, и я понимаю… А на чем же это мы пойдем?
— На кунгасе.
— Ты что, спятил? Сколько нас человек?
— С вами пять будет.
— С нами пять не будет, — сказал Руслан и снова лег. — Мы не пойдем.
— Почему?
— А потому как мне рыб кормить не хочется, Макарушка, — ласково сказал Руслан. — Невод, оно, конечно, вещь ценная, да мне моя жизнь дороже. Она у меня вообще бесценная, поскольку в единственном экземпляре. Таких, как я, не было и больше не будет, и я не хочу лишать матушку-природу такого ценного экземпляра, — он любовно провел рукой по своему красивому телу.
— Твоя бесценная жизнь останется при тебе. Через полтора часа мы вернемся.
— А если нет?
— Ты думаешь, одному тебе жить охота? Только опасаться нам нечего. До шторма еще далеко, и накат слабый.
— А ветер?
— Ветер тоже слабый.
— А если усилится?
— Не усилится, — как можно увереннее сказал Василий. — Ты первый год на море, а я уже десять лет проплавал, знаю.
— А что техника безопасности на сей счет говорит?
Василий молча смотрел на него. Техника безопасности была не на его стороне, и они отлично знали об этом. Василий спросил:
— Слушай, певун, а ты знаешь, сколько невод стоит?
— Тысяч сто? — лениво поинтересовался Руслан.
Василий и сам не знал точно, сколько стоит невод. Может быть, и в самом деле сто тысяч, но уж вряд ли меньше пятидесяти.
— Около того. А что Демьянычу и Вальке будет, если невод сорвет, — тоже знаешь?
— Догадываюсь, — невозмутимо сказал Руслан. — Посадят.
— А ты и в самом деле догадливый…
— А ты как думал, — хохотнул Руслан.
Василий сумрачно посмотрел на него. Охотнее всего он врезал бы сейчас Руслану, но тогда они уж точно не пойдут. Он посмотрел на Вадика. Тот в разговор не вмешивался и слушал с таким видом, словно речь шла о том, идти ли на танцы. Девицы притихли в уголке, слушали.
— Посадят Демьяныча и Вальку — это еще вопрос, — медленно сказал Василий. — А вот что всем нам лет десять за этот невод расплачиваться придется — это уж точно.
— Не заливай, — сказал Руслан, но явно насторожился.
— Чего мне заливать, не первый год на свете живу, — равнодушно бросил Василий. — Слава богу, все эти порядки на своей шкуре испытал, — многозначительно добавил он. Руслан внимательно посмотрел на него — и сел.
— Над этим стоит подумать.
— Думай, только поскорее. Чем раньше выйдем, тем лучше для нас.
И Руслан стал думать. То, что Демьяныча и Вальку посадят, ему было наплевать, сами виноваты. Но если Макар не врет — тогда дело швах. А с чего бы ему врать?
И Руслан еще раз посмотрел на Василия. Руслан считал, что неплохо разбирается в людях. А тут и разбираться было нечего — примитивный малограмотный «бич», стремящийся, как и все, урвать побольше. И уж если он решил идти снимать невод, то, конечно, вовсе не для того, чтобы спасти от тюрьмы болтливого старикашку бригадира и пьяницу капитана. И на невод ему тоже наплевать — не свое добро. Значит, причина могла быть только одна — исполнительный лист, который будет гулять за ними по всем работам, ополовинивая заработки. А это — ой-е-ей, от милиции не убежишь, она свое дело знает…
И как ни думал Руслан, а другой причины, которая могла бы заставить Василия выйти в море, не находилось. И он сказал:
— Как говорил великий Остап Мария Бендер — надо чтить уголовный кодекс… Вадька, пойдем.
Василий отвернулся, скрывая радость, бросил из-за плеча:
— Дуйте на берег, ваши робы уже там.
И быстро ушел, не дожидаясь их.
11
Из бухты выскочили быстро. Так быстро, что Василий с тревогой подумал, уж не просчитался ли, понадеявшись на то, что ветер усилится не скоро. Небо на западе уже темнело, и солнце скрылось даже раньше, чем они успели добраться до невода. Василий сидел на носу, загребал двумя веслами. Приходилось постоянно выправлять неумелые гребки, командовать, подсказывать. «Лбы», хоть и со смешками, но слушались его. Они гоготали всю дорогу, Вадик корчился в приступах какого-то идиотского смеха, орал диким голосом:
— А лодку неотвр-ратимо несло на ска-алы…
Вышли из бухты, обогнули гряду камней — и сразу стало тише, ветер почти не чувствовался — скалы защищали их. Добрались до невода, привязались к раме, и Василий с Володей поехали на шлюпке обрезать концы, которыми невод крепился к раме. Заняло это больше времени, чем хотелось бы Василию, — Володя греб неумело, шлюпка плясала на волнах, и пока они объехали всю раму, прошло минут двадцать. К тому же Василий упустил из виду, что садки с невода не сняты, — это заняло еще пятнадцать минут, да и веса лишнего прибавилось. И когда они выбрали невод, все небо уже заволокло клубящимися тучами и болтанка ощутимо усилилась. Тяжесть их тел не могла уравновесить веса мокрого невода, и кунгас изрядно осел на корму. «Лбам» было уже не до шуток — их начало укачивать. Василий, стараясь не показать своей тревоги, бодро крикнул:
— Ну, братцы, теперь жми во все дыхало!
И они нажали. Все было хорошо, пока они не вышли из под прикрытия скал. А там встретил их такой ветер, что Василий похолодел: «Все, не выгребемся…» И с яростью крикнул:
— Давай-давай, завернем — легче будет!
Но прежде чем заворачивать, надо было пройти гряду камней. И не очень уж и длинна была она, но берег так ощутимо удалялся от них, что, не пройдя и половины, Василий приказал:
— К берегу!
— Куда? — обернулся побледневший Володя. — Там же камни, разобьемся!
— К берегу, я сказал! — заорал Василий. — Зайдем под скалы!
И кунгас пошел прямо на камни. Василий всей спиной чувствовал их мощный рев, его так и подмывало поскорее отвернуть в сторону, но он знал, что стоит только подставить ветру борт — и их тут же отбросит назад. И он тянул до последнего, и когда разворачивался, весла едва не заскребли по камням. Их тут же снова стало сносить в море. Василий видел перед собой четыре напрягшихся спины, видел, что гребут они из последних сил, — и закричал:
— Не останавливаться, еще немного!
Когда зашли под прикрытие скал и ветер стих, все, как по команде, бросили весла, но Василий приказал:
— К берегу, бросим якорь!
Это было уже совсем просто. Кунгас, казалось, летел по волнам, хотя на самом деле он едва двигался. И когда бросили якорь, все в блаженном изнеможении опустили руки, полезли за папиросами. Только теперь они поняли, какой опасности избежали, и бурно переживали свою радость. Володя безостановочно улыбался, Вадик снова заорал про лодку, которую неотвратимо несло на скалы. О том, что будет дальше, они просто не задумывались, — ведь рядом был твердый, спасительный берег.
А Василий думал, что делать дальше. Он-то видел, что опасность не только не миновала, но, пожалуй, стала еще больше — и именно потому, что рядом был берег. Высадиться на него нельзя — скалы отвесно уходили в море. И если до того, как по-настоящему разыграется шторм, не убраться отсюда, — им конец. Можно было только гадать о деталях этого конца — то ли их перевернет, то ли сорвет кунгас с якоря и разнесет в щепки о скалу. Надо было уходить, но куда? Назад, вдоль берега, и попытаться где-нибудь высадиться? Василий сразу отбросил этот вариант — высаживаться было негде. Насколько он помнил, первая мало-мальски пригодная площадка была у водопада, километрах в трех отсюда. Может быть, они и успели бы уйти туда, если бы не надо было огибать Буруны — далеко выступающую в море гряду камней, начинавшуюся метрах в пятистах за центральной. Как только они высунут туда нос, их тут же вынесет в море.
Оставалось одно — идти в бухту. Метров двести вдоль гряды и еще сто пятьдесят до берега.
А четверо ни о чем не догадывались, хотя любой мало-мальски опытный моряк сразу увидел бы, что положение их пиковое. Но в них сработал неистребимый инстинкт всех сухопутных людей, наивно полагающих, что берег, даже такой негостеприимный, как этот, всегда лучше и надежнее моря. Берег не качается под ногами и не плюется холодной горькой водой. На берегу, если и упадешь, в худшем случае ушибешься, и только. Берег не выворачивает внутренности, не воняет разложившимися медузами. В общем, берег — это хорошо, а море — плохо.
И они прямо-таки наслаждались видом этого могучего чернокаменного берега, надежно защитившего их от ветра.
Василий смотрел на них и думал о том, как лучше объяснить создавшееся положение. Не испугать, чтобы они не запаниковали, но и втолковать, что дело скверно, очень скверно, и если они не выложатся до последнего — им конец…
И он спокойным, будничным тоном сказал:
— Еще десять минут покурим — и поехали.
Все четверо, как по команде, повернули к нему головы.
— Куда? — словно недоумевая, спросил Володя.
— Домой, куда же еще.
Они переглянулись и снова уставились на него. Володя, явно растерявшись, спросил:
— Елки-палки, а как же это мы выберемся отсюда? Унесет же…
— Надо выбираться, не сидеть же здесь.
— Так… это самое… может, подождать, на лодке кто-нибудь подъедет?
— Кто сейчас на лодке поедет? Нельзя ждать, через час уже поздно будет.
— Почему?
— Шторм подымется — от нашего кунгаса только щепки полетят. Да и ветер может усилиться.
Руслан, скривившись вдруг сразу побледневшим лицом, угрожающе протянул:
— А кто это два часа назад говорил, что ветер не усилится? А, Макар?
— Я, — спокойно сказал Василий. — Только об этом потом будем разговаривать.
— Потом? — Руслан приподнялся с места, словно готовился броситься на Василия. — Когда это потом? И где — в преисподней?
— Ты, салага, заткни глотку! — гаркнул Василий, решив, что на Руслана это подействует лучше всего. — Я тебе покажу преисподнюю! Будешь нюни распускать — и в самом деле ко дну пойдешь!
— Ах ты… — оскалился Руслан, но вдруг торопливо перегнулся через борт и затрясся в судорожном приступе рвоты. Глядя на него, тут же полез к нему и Вадик, но Василий рявкнул:
— К другому борту!
Руслан наконец разогнулся, прохрипел, с ненавистью глядя на Василия:
— Ну, сволочь, подожди, дай только до берега добраться…
— А ну сядь, — сказал Володя. — Нашел время.
Руслан, согнувшись, сел, втянул голову в плечи. Володя, беспокойно рыская глазами по морю, уже сплошь покрытому «беляками», спросил:
— Слушай, Вась, что же делать?
— Я же сказал — идти в бухту. И перестаньте паниковать! — резко бросил Василий. — Ничего страшного нет, отдохнем немного — и тронемся. Только давайте договоримся — без соплей, иначе и в самом деле унесет. Слушать меня беспрекословно, а самое главное — не останавливаться. Бросите весла — конец.
— А если… того, — неуверенно предложил Володя, — невод выбросить? А то смотри — корму вот-вот захлестывать начнет.
— Нельзя, — мотнул головой Василий. И тут молчавший до сих пор Вадик вскочил и диким голосом заорал, выкатывая глаза:
— А-а, сука, нельзя?! Тебе это г… дороже жизни? Давай выбрасывай невод, гад!
И он уцепился за край невода и стал переваливать его за борт. Василий встал, схватил его за руки и так сжал, что лицо Вадика перекосилось. Он стал извиваться и дергаться в руках Василия, но тот сдавил еще, и Вадик сразу затих, жалобно сказал:
— Пусти, больно.
Василий отпустил его и сел на место, спокойно сказал:
— Валерьянки у меня нет, так что если кто вздумает психовать, получит по физиономии. Поймите, черт бы вас побрал, если вы будете выкидывать такие номера — сами же себя потопите. Невод нельзя выбрасывать — перевернемся.
— Почему? — спросил Володя.
— Потому. Не успеем и половины выкинуть, как он нас на дно утянет.
— Черт, а ведь верно, — согласился Володя.
— Слушайте, парни, — сказал Василий. — Ничего страшного нет, поверьте мне. Сейчас тронемся, и от вас только одно требуется — не бросайте весла! Не толкайтесь, не мешайте друг другу. И первым делом — без паники. Другого выхода у нас все равно нет. Всё поняли?
Четверо молчали. Василий видел, что им страшно, и если позволить этому страху овладеть ими — тогда конец. Ему и самому было страшно, как ни уверял он себя и их, что бояться нечего. От этого страха было только одно спасение — работа. И он, ни слова не говоря больше, вылез на нос кунгаса и потянул на себя якорь. Кунгас, лишенный опоры, сразу заболтало, и он услышал, как сзади поспешно схватились за весла. И сам быстро сел и взялся за весла.
— Ну, каторжане, с богом!
Из всех работ, которые им когда-либо приходилось делать, эта наверняка была самая изнурительная и тяжкая. Они даже не знали, сколько времени все это продолжалось. Как ни пытался Василий выправлять ход кунгаса, чтобы держаться поближе к гряде, их быстро сносило. Тогда он разворачивал кунгас и возвращался к камням. Пока прошли гряду, ему пришлось раз семь или восемь проделать этот маневр. Мешала наполовину затопленная шлюпка. Она рыскала, дергала буксирный трос, и Василий подумал, не отцепить ли ее, но решил, что она еще может пригодиться.
Когда гряда кончилась, Василию показалось, что сейчас все они бросят весла. Особенно часто срывались гребки у Вадика. Сначала он матерился, но Василий крикнул ему, чтобы он молчал и не сбивал себе дыхание, и Вадик послушно умолк. Кажется, они поняли, что надо беспрекословно слушать команды Василия. Они не оглядывались на него, но Василию казалось, что даже их спины выражают беспредельную ненависть к нему, втравившему их в эту гиблую затею.
Потом хлынул дождь. За те несколько секунд, когда они бросили весла, чтобы натянуть капюшоны, кунгас отнесло назад на добрый десяток метров. А чтобы наверстать этот десяток метров, понадобилось минут пять. Василий остался с непокрытой головой — часто оглядываться он не мог, и капюшон мешал бы ему ориентироваться.
И все-таки они продвигались к берегу. Гряда камней справа хоть и медленно, но все же отползала назад. Василий видел ее каждый раз, когда разгибался, преодолевая пружинящее сопротивление весел. А над головой неизменно возникало очень низкое, быстро движущееся к горизонту небо, откуда сыпал холодный дождь.
А потом он заметил, что сбоку все время виден один и тот же камень, — большой, черный, обрамленный белой клубящейся пеной. Это могло означать только одно — кунгас стоял на месте. Так было несколько минут, а затем камень стал сдвигаться к носу — их опять сносило.
Надо было бросать якорь. Василий не знал, какая здесь глубина и удержит ли их якорь при таком волнении и ветре, но другого выхода не было. Он резко занес весла назад, рассчитанным движением уложил их на носу и крикнул:
— Гребите!
И выбросил якорь за борт, и когда почувствовал, что он коснулся дна, быстро намотал оставшийся конец на кнехт и крикнул:
— Суши весла!
Кунгас подался назад, дернулся — и медленно потянулся вместе с якорем в море. И — стал. От радости у Василия задрожали руки. Он медленно сел на место и коснулся скользкой оранжевой спины Володи. Тот обернулся, и Василий, улыбаясь, сказал:
— Стоим пока. Отдохнем — и снова.
Володя молча кивнул — говорить у него просто не было сил.
До берега оставалось метров сорок — сущие пустяки по сравнению с тем, что они уже прошли. Теперь оставалась одна опасность — корма кунгаса осела еще больше, и его могло захлестнуть раньше, чем они доберутся до берега. «Надо отливаться», — решил Василий, хотя все тело ломило так, что трудно было пошевелить рукой.
— Давай все на нос, — сказал он.
Никто даже не пошевелился, — может быть, они просто не поняли его. Казалось, что никакая сила не заставит их подняться и снова сесть за весла.
— Я сказал — на нос! — крикнул Василий. — Пока отдохните, а я воду отолью!
Они медленно, неуклюже полезли на нос кунгаса, скользя руками по мокрому настилу. Корма поднялась, и из-под невода хлынула грязная вода. Василий с трудом высвободил придавленные неводом доски, закрывающие пайолы, и взялся за черпак.
Четверо вповалку лежали на носу, тесно прижавшись друг к другу, и даже не смотрели, как он отливает воду. Только Володя наконец поднял голову и взглянул на него, молчаливо предлагая свою помощь. Василий махнул рукой:
— Лежи, я сам.
Он не упускал из виду приметного камня и видел, что якорь хоть и держит, но медленно ползет по дну. «Пора», — наконец решил он, дал себе еще минуту передышки и крикнул:
— Подъем!
Четверо даже не пошевелились. Василий, подождав еще немного, спокойно, не повышая голоса, сказал:
— Если сейчас же не сядем на весла, сорвет с якоря.
И они услышали его, сразу поднялись и молча взялись за весла.
Прошли всего метров пятнадцать, и Василию снова пришлось бросить якорь. Теперь он зацепился прочно, и они лежали почти полчаса. Василий снова принялся отливать воду, но его хватило всего на десять минут. Потом он сел прямо на дно кунгаса, в грязную, перекатывающуюся по ногам воду, привалился спиной к неводу и смотрел на пустой и мрачный берег.
Он знал, что надо встать и заставить их сесть за весла, но почему-то сидел и бездумно смотрел на качающийся берег. Ему было все равно, доплывут они до этого берега или нет. Так же, как, наверно, и тем четверым, что неподвижно лежат на носу. Наверно, зря они все это затеяли, но Василий подумал об этом равнодушно, без всякой горечи. Ему ничего не хотелось сейчас — только сидеть вот так и не двигаться с места. Потом он подумал о том, что не учел всего, поторопился с выходом в море. Надо было сначала послать этих девиц, что были со «лбами», в Кандыбу, чтобы они разыскали там Вальку и всех остальных. Сейчас они, наверно, уже успели бы подъехать сюда на моторке и вытянули их. И еще раз он сглупил — не сообразил сразу, что без отдыха они не выгребутся, надо было сначала отстояться под скалами. Но и об этом думалось без сожаления.
Сверху на него обрушился тяжелый водяной вал, и Василий почувствовал, как кунгас осязаемо просел под его тяжестью, и вскочил. Волна дотянулась и до носа, и все четверо подняли головы.
— Берите черпаки, живо! — скомандовал Василий первое, что пришло в голову.
Полузатопленный кунгас едва держался на воде. И накрой их сейчас еще одна такая волна — и ни к чему был бы их долгий тяжкий путь. То, что до берега оставалось всего двадцать метров, не спасло бы их.
— Надеть жилеты! — приказал Василий.
Пока они торопливо облачались в спасательные жилеты, Василий безостановочно отливал воду. Потом они принялись помогать ему. Кунгас постепенно поднимался над водой, и наконец Василий сказал:
— Садись на весла.
И пошел на нос, чтобы выбрать якорь.
Кончилось все скоро. Когда забурлила под веслами грязная, с илом и песком вода, Василий перевалился через борт, подтащил кунгас к берегу, потом вытянул якорь и отнес его подальше, насколько хватало длины каната.
Четверо, шатаясь под напором ветра, вылезли из кунгаса. Вадик, пройдя несколько шагов, вдруг опустился на колени, оперся руками о землю, а потом и совсем лег. Василий сел рядом с ним, подождал, пока прекратятся судорожные вздрагивания, и тронул Вадика за плечо:
— Пойдем.
Вадик, повернув к нему страшное зеленое лицо, смотрел на него и ничего не понимал. Василий обхватил его за плечи и поднял. Вадик повис на нем всем телом, и Василию пришлось несколько раз останавливаться и отдыхать, пока они дошли до дома. «Простудятся, спиртом надо бы растереть», — подумал он, глядя на четыре неподвижных тела, лежавших на раскладушках. Спирт полагалось иметь в аптечке, но его, конечно, давно выпили. Василий вспомнил, что спирт должен быть на дорке, в компасе, — если, конечно, Валька и Жорка не выпили и его. Он отыскал пустую бутылку и пошел на берег, вылил из компаса спирт и вернулся.
Все лежали в прежних позах. Неподвижные, с закрытыми глазами, в грубой оранжевой одежде, исполосованной грязью и смолой, — робы они не сняли, — сейчас они были похожи на мертвецов. Василий толкнул Володю и сказал:
— Разденьтесь, разотрите друг друга спиртом, а то простудитесь.
— Какой спирт? — не понял Володя.
Василий дал ему бутылку и подождал, пока он поднимется. Ему и самому хотелось полежать, но он боялся, что потом не сможет встать. Надо было идти на берег, крепить кунгасы.
— Если сможешь, затопи печь, — сказал он Володе. — Мне надо на берег идти.
— Ладно, — неуверенно сказал Володя. Наверно, он и сам не знал, хватит ли у него на это сил. И Василий сам растопил печь и пошел на берег. Словно в каком-то полусне сделал он все, что нужно было, — нашел канат, намертво привязал его к якорю и дотянул до ближайшего дома. Потом пошел к причалу и закрепил оставшиеся кунгасы. И сел на берегу, под непрекращавшимся дождем, решил: еще пару минут, и домой.
И тут он услышал гул мотора. Сверху из Кандыбы быстро шла лодка. Василий вгляделся в нее и узнал Демьяныча, Вальку, Жорку и всех остальных.
Лодка круто развернулась и с ходу ткнулась в берег, забравшись на него чуть ли не половиной корпуса. Демьяныч, загребая сапогами песок, направился к Василию, и он, не вставая, медленно и громко сказал, не дожидаясь вопроса:
— Все в порядке, Демьяныч, невод сняли.
И тогда Демьяныч сел прямо на песок и заплакал. Он и без того был очень некрасив, этот старик, переживший две войны, смерть жены и сына, сотни штормов и ураганов, а сейчас, дергавшийся от всхлипываний, он был просто безобразен, но Василий не замечал этого. Он с любовью смотрел на него, понимая, что Демьяныч плачет не только от радости, но и от благодарности к нему, Василию, он был счастлив от того, что смог сделать для него все, что было в его силах.
И хотя это сделанное, может быть, и не столь уж значительно само по себе, но для Демьяныча сейчас ничего важнее не было. Да и не только для него…
Потом Демьяныч рассказал ему, как все было. О штормовом предупреждении он услышал еще утром и тут же кинулся в Кандыбу. Но пассажирский поезд ходил только два раза в сутки, а товарные в Восточном не останавливались, и в Кандыбу Демьяныч попал уже в четвертом часу. И первое, что он услышал, когда сошел с поезда, — что почти вся его бригада вместе с капитаном гуляет здесь. Он быстро разыскал всех, но двое оказались мертвецки пьяны, и их пришлось оставить. Они нашли лодку и поехали. У Демьяныча еще оставалась надежда, что Василий и сам сумеет снять невод, а если и нет, то, может быть, еще не поздно выйти в море, но когда он услышал, что дорка стоит без винта, — захрипел и мешком повалился на скамью. («Думал, кранты мне, — признавался он Василию. — Остановится мотор — и поминай как звали».) И когда подъехали к берегу и он вышел из лодки, то уже ни на что не надеялся и не сомневался в том, что невод погиб.
И вот теперь он плакал, сидя на земле, кулаком вытирая слезы, струившиеся по лицу вместе с дождем. А вокруг, понурив головы, молча стояли шесть человек, и Василий, глядя на них, подумал, что ему очень не хотелось бы быть на их месте.
12
Шторм продолжался три дня. Потом еще два дня пришлось ждать, пока уляжется зыбь. За это время привезли из Старорусского винт. Все четверо, бывшие на кунгасе вместе с Василием, все-таки простудились. Володя и Степан отлежались, а Вадика и Руслана пришлось отправить в Кандыбу, в больницу. Прощаясь с Василием, оба не глядели на него, молча пожали руки. Сам Василий почихал один вечер — на том все и кончилось.
Вышли наконец в море. Центральные устояли, с них сорвалось с десяток наплавов — и только. А оба крыла разнесло в клочья, и Демьяныч только крякнул, покосившись на Василия.
— Слава богу, что новое не поставили, было б тогда делов…
Василий промолчал.
О том, как они снимали невод, бригада в подробностях узнала от Володи, который не жалел красок, расписывая подвиги Василия. И отношение к нему стало как будто другое — предупредительное, более дружеское и уважительное, чем раньше. А Демьяныч все дни смотрел на него какими-то жалобными, почти что по-собачьи преданными глазами и явно не знал, как отблагодарить его. На второй день, выпив, завел было разговор об этом, но Василий тут же прервал его:
— Да ладно тебе, Демьяныч, дело прошлое.
— Ну, не буду, не буду, — покладисто согласился Демьяныч.
А Валька прятал от него глаза, молчал.
Через неделю пришел из Поронайска «жук»[3] и утянул их караван в Старорусское. Три дня разгружались, перетаскивали в склад снасти, вытягивали на берег кунгасы. Получили небогатый расчет, — то, что полагалось за пролов. Явился Демьяныч. Василий, уже зная, зачем он пришел, радушно сказал:
— Садись, Демьяныч.
Демьяныч сел и сразу приступил к делу:
— Ну, Васыль, говори, ждать времени больше нет. Пойдешь в бригадиры?
— Пойду, — сказал Василий и отвел глаза в сторону, увидев, как радостно просветлело лицо Демьяныча.
Через неделю Василий принимал дела. Он и не подозревал, насколько обширно хозяйство бригады и как много будет у него теперь разных дел и обязанностей. Целый день водил его Демьяныч по складу, отмечая в ведомостях самое разнообразное имущество. И наконец в присутствии председателя колхоза он поставил свою подпись на приемо-сдаточном акте и еще раз посмотрел на итоговую цифру. Получалось, что всего хозяйства висит теперь на нем — на двести с лишним тысяч. «Это тебе не фунт изюму, — подумал Василий. — Как-никак — два миллиона старыми…»
Но тревоги это почему-то не вызвало.
Проводив Демьяныча на поезд, Василий снова вернулся на свой склад. И хотя маячила перед глазами крупная табличка «Не курить», он с удовольствием затянулся и сел на мягкий, чуть влажный невод, — тот самый, который они снимали в шторм. Это другим здесь курить нельзя, а ему, бригадиру, можно. Ему теперь многое можно, чего раньше нельзя было. Раз уж он ответчик за все это хозяйство, то и права, само собой, должны быть не маленькие. В кармане тяжелела увесистая связка ключей — от склада, от дорки, от рации, от сейфа с документами.
Он стал думать, как будет бригадирствовать. На навагу его решили не посылать, давали время освоиться, но Василий подумал, что нечего зря зиму загорать, завтра же скажет, что поблажек ему не надо. А что, в самом деле? Съездит на недельку к Демьянычу, расспросит его толком, еще с кем-нибудь посоветуется, да и сам еще помнит кое-что, — приходилось ему и этим заниматься. Подберет толковых ребят — и с богом. Тут-то он не оплошает, всякую шантрапу брать не будет, всяких там хануриков и алкашей — побоку. Чем черт не шутит, может, и станет он классным рыбаком, не хуже Демьяныча будет ловить. Разберется в его записях, книжек почитает, люди помогут. Так что — держись, Василий Макаренков, бывший «бич», а ныне — бригадир третьей бригады, «ролик» двенадцатый… Другая теперь жизнь пойдет…
Тихо было в складе. Василий докурил папиросу, тщательно затоптал окурок и встал. Запер двери, подергал увесистый амбарный замок и стал навешивать пломбу. Делал он это впервые и с непривычки так сдавил щипцы, что перекусил проволоку и в веселом удивлении качнул головой. «Ишь ты, оказывается, и для такого плевого дела сноровка нужна… Ничего, Вася, всему научишься…»
Вторую пломбу он запечатал аккуратно и не спеша пошел в общежитие. А на следующий день перебрался в дом к одинокой старухе Портнягиной, с радостью уступившей ему чистую просторную комнату.
У изголовья кровати он прикрепил фотографии Олега, подумав о том, что надо бы найти для них рамки. В простенке, рядом с зеркалом, повесил большую карту Сахалина, выпрошенную в канцелярии. Карта была старая, и не существующая уже лет пять Усть-Кандыба была отмечена на ней черным кружком. Рядом с кружком Василий поставил синий чернильный крестик — захотелось как-то отметить это место. Крестик пришелся как раз против коричневой, по голубому, надписи из двух слов: «ЗАЛИВ ТЕРПЕНИЯ».
Остров
1
Теплым сентябрьским вечером вернулся в деревню сын Дарьи Андреевны, Генка Харабаров.
Ждали его еще с прошлой весны. Служил Генка на Дальнем Востоке, и давно уже кончились сроки этой службы, — а он все не ехал. Сначала писал, что задержится месяца на четыре, сходит с рыбаками в море, подзаработает деньжат — тогда уж и приедет. Но прошли обещанные месяцы, а вместо Генки прибыл денежный перевод на неслыханную сумму — пять тысяч рублей. И коротенькое письмецо, — только и поняла из него Дарья Андреевна, что сын еще задерживается, а надолго ли — неизвестно. И из других его писулек, по две-три недели шедших из каких-то незнакомых мест, ничего толком понять нельзя было, — когда же он наконец заявится домой. Дарья Андреевна в своих письмах спрашивала его об этом и так, и этак, но Генка будто и не читал их, невразумительно отписывался: некогда, дела важные, какие — расскажет, когда приедет. Дарью Андреевну уже и спрашивать о Генке перестали. Вернулся со службы и второй ее сын, Николай, а Генки все не было.
И вот — приехал.
На виду у всей деревни подпылила ко двору Дарьи Андреевны светлая легковушка с черной рябью шашек на боках. Глазастые мальчишки еще издали разглядели в ней Геннадия и обступили машину. А он, не спеша придавив в пепельнице окурок, круто пригнувшись лобастой головой, покрытой соломенной шляпой, высадился из машины и внушительно выпрямился во весь свой немалый рост. Блестящие его ботинки наполовину утонули в серой пыли, и Геннадий, глянув вниз, небрежно подтянул черные, до остроты наутюженные штанины, обнажая тонкие, полупрозрачные носки немыслимо пестрой расцветки. Окинув мальчишечью толпу веселым, чуть-чуть пьяным взглядом, кинул:
— Здорово, шантрапа!
«Шантрапа», изумленная великолепием его одеяния, отвечала невпопад, проглатывая слова.
Вылез и шофер, торопливо прошел к багажнику, открыл его — и явились на свет два новехоньких чемодана рябой желтой кожи. Шофер почтительно вытянул их и, согнувшись, отнес подальше, осторожно поставил на траву. Геннадий вытащил толстый бумажник, — тот сам распахнулся в его ладони, — не глядя, выудил из него три хрустящих полусотенки и сунул шоферу.
— Матыньки мои! — ахнул кто-то из баб, уже толпившихся позади ребятишек.
Тут и вышла из коровника Дарья Андреевна — в черной лоснящейся юбке почти до пят, в донельзя замызганном переднике, в серых сморщенных чулках, просторно обутых в калоши, и, спотыкаясь, пошла к Геннадию, на ходу вытирая руки. И как только увидел ее Геннадий — мигом слетела с него вся его важность и небрежность движений, он круто повернулся на каблуках и широко зашагал навстречу матери, загребая пыль уже потерявшими лоск ботинками. Дарья Андреевна, роняя слезы, потянулась к нему худыми морщинистыми руками, прижалась трясущейся седой головой к его груди. Геннадий наклонился, поддерживая мать, и шляпа свалилась с его головы и покатилась по светлой пыли. Так стояли они с минуту, и те, кто видел лицо Геннадия, без труда узнавали недавнего вихрастого мальчишку, босого, оборванного, с обычным для послевоенной поры голодным блеском в глазах, с большими, не по возрасту, руками, привычными ко всякой работе. И сейчас эти руки, — темные, мозолистые, со следами порезов и ссадин, с обломанными ногтями, обрамленными черными полосками несмываемой грязи, — нелепо торчали из белоснежных нейлоновых обшлагов, схваченных нестерпимо сверкавшими на солнце серебряными запонками. Наконец мать оторвалась от сына, поглядела на него снизу вверх невидящими, полными слез глазами, — она едва доставала ему до плеча, — и Геннадий, осторожно повернувшись, сунул в карман свою ручищу, вытянул пригоршню смятых трешек, пятерок и десятирублевок, сунул ближнему мальчишке:
— Это вам на конфеты, пацанва, только на всех поделите. А теперь — геть отсюда!
И осторожно повел мать в дом, забыв о чемоданах.
Долго сидели в тот вечер втроем, плотно задернув занавески на окнах — от любопытных соседских глаз.
Сыновья много пили, — и не простую «белоголовку», а дорогие коньяки с блестящими цветными наклейками, — много ели, а затем основательно уселись на стульях, потрескивавших под тяжестью их тел, — сытые, хмельные, довольные. Дарья Андреевна только пригубила рюмочку, вежливо перекатывала во рту скользкую рассыпчатую икру, не понимая, что есть в ней такого, что в городе платят за нее по сто рублей за килограмм (так сказал Геннадий). Не без опаски попробовала ломтик красной рыбы, решила про себя — ничего, есть можно. От крабов отказалась наотрез — воротило ее от резкого неслыханного запаха. С беспокойством поглядывала на сыновей, особенно на старшего, — Геннадий был какой-то взбудораженный, размахивал вилкой, стаканом с плескавшимся в нем коньяком, раскачивался на стуле, словно невмоготу было ему сидеть спокойно, и говорил он сбивчиво, громко, — таким не знала его Дарья Андреевна. Коля совсем уже осоловел, глядел перед собой мутными, неосмысленными глазами, невпопад вставлял слова в речь брата. Дарья Андреевна больше молчала, наконец не очень решительно сказала:
— Не пили бы больше, сынки.
Геннадий отмахнулся:
— Ничего, мать, сегодня можно.
Дарью Андреевну покоробило это «мать», впервые сказанное Геннадием, и то, что он не придал значения ее словам. А Геннадий продолжал:
— Мы ведь там месяцами капли в рот не берем. Сухой закон! Как выйдешь в море — только и видно кругом, что одна вода. До того намотаешься по волнам, что сойдешь на берег — и качает тебя, как пьяного, хоть снова учись ходить.
Неприятно и другое было. Испачкал Геннадий рубашку и на огорченные слова матери небрежно отмахнулся:
— А, ерунда это, мать. У меня таких рубашек пять, надо будет — еще десять куплю.
И веско сказал:
— Хватит нам бедовать, копейки считать. Заживем теперь — кум королю! Смотрите-ка, что я привез вам.
Долго ждал Геннадий минуты своего торжества… Теперь пришла эта минута — и он медленно встал, вытянул на середину комнаты чемоданы, звучно щелкнул замками:
— Дай-ка какое-нибудь одеяло, мать.
Постелила Дарья Андреевна на полу одеяло — и стали падать на него отрезы материи, кофты, сорочки, свитера, платки, куртки… Геннадий, все более возбуждаясь, уже кричал, небрежно швыряя на многоцветную кучу добра все новые и новые вещи:
— Это все вам, мать! Колька, бери, мерь! Да снимай ты с себя эти чертовы обноски, надевай все новое, это же тебе, пойми ты, дурья башка! Наконец-то на людей станем похожи!
Примеряли обновы, смотрелись в зеркало, снимали, надевали другое. Коля, пьяно путаясь в рукавах японской куртки, неловко натянул ее на плечи. Куртка треснула по шву, Дарья Андреевна охнула, а Геннадий привычно махнул рукой:
— Черт с ней, Колька, другую бери. Еще купим!
И, выпрямившись над кучей одежды, он ликующим голосом сказал:
— Вы думаете, это все? Как бы не так! Не все, не все!
Геннадий вытянул из-под подушки потертый полотняный мешочек, — грязный, резко пахнущий потом. Мешочек этот он сразу, как только вошел в избу, снял с шеи и быстро сунул под подушку, а сейчас торопливо разорвал его — и посыпались на гору одежды разноцветные денежные пачки, крест-накрест схваченные красно-белыми бумажными полосками.
— Это… с-сколько же здесь? — заикаясь, спросил Коля, широко раскрыв глаза и опустив руки.
— Двадцать восемь тысяч! — победно сказал Геннадий. — Да этого барахла, — он ткнул носком ботинка в ворох одежды, — без малого на восемнадцать тысяч! Хорошо, а?
Коля присел на корточки, боязливо взял в руки одну пачку, стал разглядывать ее. Геннадий захохотал.
— Смотри, смотри! Думаешь, фальшивые? Как бы не так! Да ты не бойся, они не горячие. Смотри!
И он выхватил из рук Коли пачку, сорвал бумажные полоски, веером раскрыл синие двадцатипятирублевки и подбросил их. Деньги с тихим шелестом посыпались на пол, на одежду, несколько бумажек упало к ногам Дарьи Андреевны. Она тяжело нагнулась, подобрала их, бережно положила на край стола и села, сложив руки на коленях. Геннадий, глядя кругом восторженными, блестящими, ничего не видящими глазами, все в той же победной позе стоял посреди избы и повторял:
— Ну как, здорово, а?
— Здорово… — выдавил из себя Коля, все еще сидя на корточках, и, качнувшись, опустился прямо на пол.
Дарья Андреевна молчала.
Геннадий посмотрел на нее — и улыбка медленно сошла с его лица. Он сдвинул брови и спросил:
— Да ты, никак, не рада, мать?
— Как не рада, Геня, рада… — не сразу ответила Дарья Андреевна и тихо спросила: — Откуда столько денег?
— Как откуда? — изумился Геннадий. — Заработал, конечно.
— За год?
— Ну да, за год, — почему-то раздражаясь, резко сказал Геннадий. — А ты подумала — украл, что ли?
Дарья Андреевна молчала. Ей, привыкшей к тому, что за каждый заработанный рубль, за каждый килограмм хлеба приходится расплачиваться тяжким трудом, непонятно было, как можно за один год заработать столько денег. Геннадий понял ее и, криво усмехнувшись, с горечью спросил:
— Не веришь, что заработал? А ты знаешь, какая это работа? Смотри!
Он рванул вверх рукав рубашки, запонка тоненько звякнула о пол. Дарья Андреевна взглянула — и ахнула: вся рука Геннадия, до самого плеча, была покрыта едва зажившими чирьями и засохшими струпьями.
— Да как же это, Геня? — плачущим голосом спросила она. — От чего это?
— От чего?! — зло ощерился Геннадий. — От того! От той самой работы, за которую такие тысячи платят!
Дарья Андреевна заплакала, и Геннадий пробасил, не глядя на нее:
— Да ладно, мать, чего там… Давайте-ка сядем.
Дарья Андреевна собрала деньги, сложила их на столе двумя аккуратными стопками, пододвинула Геннадию. Тот взял себе три пачки, две сунул Коле:
— Это тебе на конфеты. А остальные припрячь, мать, на хозяйство. Потом прикинем, что надо купить. А сейчас давайте гулять.
И сидели до поздней ночи, опять пили и ели. Говорил больше Геннадий, все громче, все сильнее размахивал руками. Рассказывал о далеких местах:
— Деньги там можно лопатой грести. И чего там только нет! Лопухи — выше человеческого роста, под каждым можно от дождя спрятаться. Зверья всякого на островах столько, что черно в глазах, камней под ними не видать. Грибы пойдут — хоть косой их коси, и пропадает все зазря, некому собирать. А рыбы, рыбы сколько — этого и представить себе не можете! Кто не видал своими глазами — не поверит. Как пойдет горбуша в реки икру метать — вода кипит, хватай ее хоть голыми руками…
Коля как будто протрезвел, весь подался вперед, боясь хоть слово пропустить из речи брата.
Где-то за полночь Дарья Андреевна робко спросила:
— А дальше-то что делать думаешь, Геня?
— Дальше? — Геннадий тряхнул головой, и Дарья Андреевна вздрогнула от его слов, хотя и чувствовала заранее, каким будет ответ: — Поживу здесь, помогу вам с хозяйством управиться, дом подремонтируем — и опять туда поеду. Дурак я, что ли, от таких денег отказываться? Еще подработаю — и все, в город подадимся, дом себе такой отгрохаем — закачаешься! Хватит за гроши в навозе ковыряться…
Промолчала Дарья Андреевна, только больно сжалось сердце…
Шел уже третий час ночи, а сыновья ложиться как будто и не думали. Когда Дарья Андреевна сказала им, не пора ли кончать, Геннадий небрежно кинул:
— Ты иди, мать, спи, мы еще посидим, побалакаем.
Дарья Андреевна молча поднялась, ушла спать на другую половину. Сыновья еще с час галдели за стеной, а потом как-то сразу затихли. Но свет у них еще горел. Дарья Андреевна встала, вышла к ним. Одетые сыновья, свесив ноги, лежали поперек кровати, — даже покрывало не сняли, — Коля, как кутенок, приткнулся к боку Геннадия, а тот тяжело дышал во сне, и лицо у него было угрюмое. Дарья Андреевна разула их, попыталась уложить, но очень уж тяжелы были они. Она укрыла их одеялом, потушила свет и легла сама. Но не спалось ей…
2
Всех сыновей было у Дарьи Андреевны пять.
Родив третьего, пока еще безымянного, — об имени заранее не позаботились, потому что бабки-шептуньи в один голос напророчили ей девочку, — Дарья, мучаясь от дурноты и слабости, тихим, безмерно усталым голосом сказала мужу:
— Все, Гриша, это последыш… Рожать больше не буду.
— Дело твое, — так же тихо ответил Григорий, испуганный видом бледного лица жены, чужим, незнакомым взглядом ее провалившихся глаз и тугими синими узлами вен на шее, еще не опавших от надрывных криков.
— Мое? — вдруг повысила голос Дарья. — А твое дело сторона? Или я от святого духа забрюхатела?
И при одном лишь воспоминании о недавно исчезнувшей боли, долгие часы рвавшей на части ее тело, Дарья залилась неслышными слезами — плакать в голос она уже не могла, все силы вышли истошными воплями и криками. Григорий совсем перепугался:
— Да что ты, Дашуня, что ты? Не будешь рожать, не будешь, сделаем как-нибудь…
Дарья еще с минуту плакала, не разжимая губ и не закрывая глаз. Потом трудно повернула голову, сказала Григорию:
— Иди, устала я… Спать буду.
И тут же провалилась в сладкую беспамятную пустоту сна.
Проснувшись среди ночи, прислушиваясь к тихому темному шуму дождя за окном и еще не веря, что боль совсем ушла и уже не вернется, — внизу живота еще болело, да что это была за боль по сравнению с минувшей, — она вспомнила разговор с мужем и снова решила: «Да, все, рожать больше не буду… Хватит…»
Так думала она и за четыре года до этого, родив первого сына, Илью, и два года назад, когда появился Петруша. Но тогда эти мысли быстро забывались, они были всего лишь данью родовым мукам, и Дарья понимала это, — но сейчас она повторила про себя: «Хватит, куда еще… Надо и самой пожить… Двадцать четвертый год всего, а уже трех таких мужиков отгрохала…»
И стала думать, как назвать новорожденного. Андреем, наконец решила она, — в честь деда.
Шесть лет она твердо держалась своего решения. Но пришлось ей рожать и в четвертый раз, и в пятый и надеяться, что, может быть, наконец-то будет девочка. Но опять рождались сыновья — крупные, здоровые, горластые. Все пятеро пошли в отца, — рослые, черноволосые, с чуть заметной раскосинкой, — бабка Григория была татаркой, — отчаянные драчуны и первые заводилы всех смут на деревне. «Харабаровская порода», — прочно утвердилась за ними кличка. Четвертого назвали Геннадием, а младшего, любимца отца, — Колей. А у Дарьи любимцев как будто не было — всем одинаково попадало от нее под горячую руку, над каждым провела она не одну бессонную ночь, выхаживая от обычных детских хворостей, всегда самым дорогим был для нее тот, кому в это время приходилось плохо. И хоть в бесконечных хлопотах порой и забывала она, когда чей день рождения, но всегда знала, кому нужно сделать что-то в первую очередь, а кто может и подождать, и безошибочно чувствовала, когда надо поднять голос, когда приласкать, а когда и промолчать и сделать вид, что ничего не заметила, — хотя видела и замечала она все, что касалось ее сыновей.
Жили, не в пример многим, на редкость дружно. Ребята, хоть и любили поозоровать и побуянить, не бежали ни от какой работы, и редко когда приходилось дважды просить их о чем-нибудь. И не одна баба на селе, вздыхая, завидовала Дарье:
— Не ребята у тебя, а золото. А мои-то непутевые растут. И как тебе удается такую ораву в руках держать?
Дарья, улыбаясь и краснея от похвалы, молчала…
Добрая и мирная жизнь эта, как и у многих, кончилась в сорок первом.
Григорий и Илья ушли на фронт в один день, а через полгода пришла повестка и Петру. Другая пошла жизнь… И не то страшно было, что работы теперь было втрое против прежнего, и даже не то, что долгие холодные зимы казались бесконечными, а веснами полдеревни опухало и отекало от голода… Страшны были дни ожидания, черная вдовья косынка почтальонши, при виде которой у Дарьи темнело в глазах и подкашивались ноги.
Первая в деревне похоронка пришла в ее дом — Илья погиб уже в июле, и хоть написано было на серой казенной бумаге, что погиб он смертью храбрых, да разве от этого матери легче?
Дарья Андреевна уже почти и не помнила, как она пережила эту смерть. Помнилась длинная вереница скорбно повязанных черным женщин, — оплакивать Илью приходила к ней вся деревня, — густая, без привычного стука ходиков тишина в ночном доме, — часы Дарья Андреевна остановила, будто и впрямь покойник лежал здесь, — а что чувствовала она тогда, о чем думала — этого Дарья Андреевна не знала, и как иногда ни силилась потом вспомнить, не удавалось…
Григория убили в сорок третьем, под Курском.
Не виделось еще конца войне, и Дарья Андреевна со страхом отсчитывала месяцы — подходил срок идти и Андрею. Почему именно за него больше всего тревожилась она? Вот приезжал же на недолгую побывку после ранения Петр — и провожала его Дарья Андреевна почти без слез, непоколебимо веря, что уцелеет он. А стоило только подумать, что придется и Андрея собирать в дальний, страшный путь, — и сразу слезы наворачивались на глаза, и она душила их в себе, старалась ничего не показывать детям.
Младшие как-то забылись в ту пору — они-то тут, под боком, им ничего не грозит, их-то она сумеет защитить от всех напастей, а вот как уберечь Андрюшу, Петра?
Ушел и Андрей на фронт — и даже самой маленькой весточки не дождалась от него Дарья Андреевна. Если бы похоронная пришла сразу, Дарья Андреевна, возможно, и не выдержала бы. Но сначала сообщили ей, что Андрей пропал без вести, и только в апреле сорок пятого стало известно, что он погиб при взятии Варшавы. А двумя неделями раньше пришла похоронка и на Петра — не спасли его ни отвага, ни ордена и медали, едва умещавшиеся на широкой груди…
С того апреля сорок пятого Дарья Андреевна, по наблюдениям односельчан, как будто тронулась умом. Стала она такой молчаливой, что днями и неделями не слышали от нее ни слова. Дети порой пугались ее молчания, ее нездешних глаз — и убегали на улицу. Она забывала покормить их, не замечала, что ходят они оборванные, грязные, — да и всегда ли она помнила, что у нее есть еще дети? Тот год был в ее памяти серым пустым провалом.
Очнулась она холодной метельной ночью, увидела себя сидящей за пустым широким столом, за которым когда-то собирались они, все семеро, — да только когда это было, не пять же лет назад? Казалось ей, что было это в какой-то другой жизни, настолько далекой, что никакими годами нельзя измерить эту даль. А тогдашняя новая жизнь начиналась с холодного желтого блеска коптилки, с долгого протяжного воя в печной трубе, с толстой наледи насквозь промерзших окон и с того единственного, что еще оставалось у нее, — ее сыновей, спящих на широкой скрипучей кровати. Дарья Андреевна взяла в руки коптилку, мельком заметила, как качнулась по стене огромная тень ее головы, подошла к кровати и взглянула на сыновей. И хоть укрылись они едва ли не всем, что нашлось в избе, но было им так холодно, так тесно прижимались они друг к другу, и даже дышали не наружу, а внутрь, под тяжелую свалявшуюся овчину полушубка, что ровное, ничего не чувствовавшее до тех пор сердце Дарьи Андреевны обдало острой горячей волной страха — а вдруг умрут они от этого холода? И она тут же хотела лечь рядом с ними и согреть их, как делала всегда в той, прежней жизни, но заметила, что у нее самой окоченели руки, что во всем ее теле нет и крупицы тепла, и единственное, чем она могла помочь своим сыновьям — накрыть их своей старой, почти негреющей шубейкой. И она накрыла их и медленно пошла к печке. Но ни в избе, ни в сенях не оказалось дров, и Дарья Андреевна, обжигая руки железом крючков и запоров, открыла дверь во двор и отшатнулась под напором снега, по колено завалившим ее. Сумрачное снежное небо косой стеной падало на деревню, на ее дом, на лицо и холодные руки Дарьи Андреевны, но не чувствовала она ни холода, ни снега, ни ветра, — ничего, кроме страха за сыновей, спящих в замерзшем доме. И она отыскала лопату и стала разгребать снег, но, боясь, что у нее не хватит сил добраться до сарая, — да и не могла вспомнить она, есть ли и там дрова, — Дарья Андреевна взяла топор и, по пояс проваливаясь в снегу, побрела напрямик, к забору, и стала отбивать от него доски. И когда занялся в печи огонь, она коротко обрадовалась будущему теплу и снова заспешила во двор за дровами.
Утром, когда в избе стало тепло, и на раскаленной докрасна плите варилась скудная еда, и сыновья ее спали свободно и спокойно, распрямившись под тяжелым ворохом одеял и одежд, Дарья Андреевна мельком увидела себя в осколке зеркала, вмазанного в печку. Внимательно, но без удивления разглядывала она свое старое морщинистое лицо, седые, без единого темного просвета, волосы и стала вспоминать — сколько же ей лет? Сорок три — не сразу сосчитала она, глядя на себя, шестидесятилетнюю, в зеркале. И вздохнула, радуясь тому, что тело у нее еще не такое старое и хватит сил, чтобы вырастить сыновей.
И вот — вырастила. Лежат они рядом, за стенкой, живые, здоровые, всхрапывают во сне, не надо их теперь согревать, не приходится думать о том, как их прокормить, во что обуть-одеть, — а почему же так неспокойно ей? Не их же пьянка встревожила ее? Ну, выпили лишнее, что тут страшного, с кем не бывает… А все-таки вдруг стало страшно Дарье Андреевне, да так, что она торопливо поднялась, включила свет, открыла дверь на половину сыновей и долго смотрела на них. В слабом свете, идущем из полуоткрытой двери, тела ее сыновей казались очень большими. А Дарья Андреевна почему-то снова вспомнила зимнюю ночь сорок шестого года, когда она так перепугалась, что они умрут от холода, и, как и тогда, ей захотелось укрыть их своим телом, уберечь от надвигающейся беды… А какая беда могла грозить им сейчас? Этого Дарья Андреевна знать не могла, но предчувствие этой беды еще долго не покидало ее… И наутро она проснулась с тем же ощущением неясной тревоги за детей и опять стояла в двери, смотрела на них, не понимая, откуда взялась эта тревога…
3
Поднялись сыновья только к обеду, — жадно припали к банкам с рассолом. На мать старались не смотреть — стыдно было. А она грустно оглядывала нетронутый стол, — не до еды сыновьям было, — думала: что же дальше с ними будет?
А вечером набились в избу соседи, дружки, — и пошел дым коромыслом, гульба почти до рассвета. Геннадий бессчетно сорил деньгами и на четвертый уже день смущенно попросил у матери:
— Ты, это самое… дай мне еще деньжонок… Надо бы еще ребят угостить.
— Бери, бери, — неловко засуетилась Дарья Андреевна, отпирая сундук. И не удержалась, добавила: — Не пил бы так, Геня. Смотри, зеленый уже весь стал.
— Ничего, покраснею, — отшутился Геннадий и быстро ушел.
И еще два раза спрашивал он у нее деньги. Теперь гуляли где-то у дружков, домой являлись только ночевать, да и то не всегда. Пришел к Дарье Андреевне мрачный председатель, угрюмо сказал:
— Уйми своих сыновей, Андреевна. Они мне всю деревню споят, никого на работу не выгонишь.
— Да я что могу, — растерялась Дарья Андреевна. — Они, чай, не маленькие, сами себе хозяева, какая я им теперь указчица…
— И то верно, — с досадой крякнул председатель. — Попала вожжа под хвост…
Все же Дарья Андреевна решила поговорить с Геннадием, да, видно, не совсем удачное время выбрала — тот не сразу и понял ее, а когда понял, зло нахмурился:
— А чего он тебе-то жалится? Пусть мне скажет, я уж ему найду, что ответить.
— Да что уж ты так, Геня? — испугалась Дарья Андреевна его непонятной злости. — Он же как лучше говорит.
— Лучше?! — оскалился Геннадий. — Я этому черту сухорукому покажу лучше! А не ты ли сама говорила, как он у нас пол-огорода чуть не оттяпал? А за что? Забыла? Это он тоже как лучше хотел сделать?
— Ну, когда это было… — вздохнула Дарья Андреевна.
И правда, было какое-то вздорное дело, взъелся на нее председатель, — сейчас уже и не вспомнить толком, из-за чего все началось. А огород и вправду чуть не ополовинили… Геннадий, брызгая слюной, продолжал:
— Он, может, и забыл, а я-то помню. Я все-е помню… — мстительно протянул Геннадий. — И как лебеду жрали, и как на «палочки» хрен с маслом получали, и как ты своих же ягнят от райфо по закутам прятала, будто украла их… А что я всю деревню пою — не попрекай. Я, может, для того целый год и вкалывал там, чтобы сейчас всю деревню споить… Пусть знают, кем стал Генка Харабаров. Они помнят, в каком дранье я в армию уходил, — а теперь на всю жизнь запомнят, каким обратно пришел… А этот дерьмовый председатель сам мою водку стаканами лакал, руку жал, Геннадием Григорьевичем величал. А выходит так, что этот Геннадий Григорьевич, — он вдруг засмеялся, — у него власть в колхозе отобрал… Во до чего дошло.
«Эх, глупой ты, — вздохнула Дарья Андреевна. — Нашел, чему радоваться».
— А о деньгах не жалей, — сказал Геннадий. — Я через год еще больше привезу…
— Не в деньгах дело… — начала было Дарья Андреевна, но Геннадий, не слушая ее, упрямо повторил:
— Не жалей о деньгах, еще больше привезу.
Недели через две Коля, по обыкновению, стал было собираться на очередную гулянку, натянул нейлоновую рубашку, но Геннадий, посмотрев на него долгим оценивающим взглядом, как бы в раздумье сказал:
— А не хватит ли нам куролесить, а, братишка?
И, подумав, сказал сам себе:
— Хватит. — Не ожидая ответа брата, сказал Дарье Андреевне: — Дай-ка, мать, рабочие штаны, пойдем дурь выгонять.
Коля стал покорно снимать рубашку.
И братья взялись за работу. Работали, как и гуляли, неистово.
За неделю привели они хозяйство в порядок, проверили все до последнего гвоздика, наготовили дров на зиму. А закончив работу — замаялись без дела, на второй же день крепко выпили, пошли колобродить по деревне. Наутро Геннадий твердо сказал:
— Все, мать, давай собирай меня в дорогу.
Дарья Андреевна так и села на лавку.
— Когда ехать-то думаешь? — спросила наконец, переводя дух.
— Дней через пять, — подумав, ответил Геннадий и виновато посмотрел на нее.
Дарья Андреевна весь день ходила молчаливая, все валилось у нее из рук. Боязливо посматривала на Колю — а тот глаза отводил, уходил во двор, принимался с остервенением кромсать на щепки уже наколотые дрова, — на растопку, как угрюмо объяснил матери. А вечером, когда все собрались за столом, Коля сказал, бледнея:
— Мама, отпусти меня с Генкой.
И как ни ждала этих слов Дарья Андреевна — дернулась, будто от удара, еще ниже склонилась над штопаньем, молчала. И Коля молчал, низко опустив голову. Потом весь вскинулся, подался вперед, тихо сказал:
— А, мама?
— А я-то как же? — хрипло выдавила из себя Дарья Андреевна, теряя голос, вслепую тыча иголкой в носок. Опустив руки вместе с шитьем на колени, с отчаянием взглянула на младшего сына. — Оба уедете, а я одна останусь?
Коля насупился, молча водил пальцем по узорам скатерти. Дарья Андреевна посмотрела на Геннадия.
— Геня, хоть ты скажи…
— Говорил уже, — не выдержал ее взгляда и Геннадий. — Да только и ты подумай — что его ждет здесь? Специальности никакой, выучиться чему-нибудь негде, а с лопатой и вилами много ли наработаешь? Сама посуди, что это за жизнь? Пусть уж лучше со мной едет. Поработаем там два-три года — вместе вернемся, переберемся в город, — снова заговорил он о старом, как о деле решенном, и Дарья Андреевна поняла, что возражать бесполезно, — все уже без нее обдумали сыновья. Сказала, боясь расплакаться:
— Поезжайте, бог с вами.
— Спасибо, мама, — быстро сказал Коля, не пряча радости, а Геннадий продолжал:
— Теперь тебе много легче будет. Деньги будем высылать, тяжелой работы сама не делай, попроси кого-нибудь, за деньги всякий тебе поможет. А мы через год приедем, тогда видно будет… Может, тогда и совсем останемся, — добавил он, подумав, но Дарья Андреевна поняла, что сказал он это только для того, чтобы ее утешить. Кивнула головой, соглашаясь с ним, а про себя подумала: «Эх ты, несмышленыш… Легче будет… Плохо же ты знаешь, что самое трудное на свете…»
Сама она слишком хорошо знала, что самое трудное в жизни — это ожидание, но ничего не стала говорить им. И в оставшиеся предотъездные дни старалась не показывать сыновьям своей печали, своего беспокойства, и они ничего не замечали — жили они уже другой, предстоящей им жизнью, и тревога матери за них была непонятна им: чего им бояться, таким здоровым, молодым, сильным?
4
Прошло и три года, и пять лет, а сыновья не только не вернулись совсем к Дарье Андреевне, но уже и не заговаривали об этом. Аккуратно присылали ей деньги, раз в месяц по очереди писали письма и каждый год, под зиму, приезжали к ней. Да что это были за свидания… Случалось, что видела их мать считанные дни, да были еще долгие зимние ночи сразу после приезда, когда сыновья отсыпались, и потом, когда они, пьяные, с трудом добредали до дома, прямо в одежде заваливались спать, — у Дарьи Андреевны не хватало сил поворачивать тяжелые тела и раздевать их, — и отечные их лица, нередко покрытые синяками и ссадинами, полученными в пьяных драках, могли бы вызвать отвращение у всякого постороннего, кто смотрел бы на них, но только не у нее, матери… И Дарья Андреевна часами просиживала между двумя постелями, смотрела то на одного, то на другого. Сильно изменились сыновья за эти годы. Погрубели, ожесточились их лица, просоленные ветрами всех дальневосточных морей, охрипли голоса, кожа на ладонях задубела, ходили они враскачку, излишне твердо упираясь в землю ногами. Изменилась речь — слушая их разговор между собой, Дарья Андреевна иногда только головой качала: чуть ли не каждое второе слово было непонятно ей, да и те, что понимала, не всегда укладывались в привычный смысл. Что, например, могло означать «намотать на винт», если это относится не к пароходу, а к человеку? — думала она и как-то спросила об этом Геннадия. Тот смущенно покрутил головой и нехотя ответил:
— Да так, ерунда…
Случалось, приезжали братья домой такими усталыми, что разуться в один прием не могли, и Дарья Андреевна становилась на колени и стягивала с них сапоги. В первую неделю сил у братьев не хватало даже на пьянство — выпивали вечером по стакану водки и валились в постель, беспробудно спали по десять — двенадцать часов. В эту первую неделю Дарья Андреевна каждый день топила баню, и братья часами отогревались на полках, ожесточенно хлестали друг друга вениками, долгими зимними вечерами отлеживались на горячей русской печи, дымили в низкий потолок папиросами, не спеша расспрашивали мать о деревенских новостях, иногда и сами рассказывали кое-что, — но редко и мало, — а Дарья Андреевна гнала со двора дружков-собутыльников, прослышавших об их приезде и нетерпеливо утаптывавших тропинки к дому в ожидании гулянок и даровых выпивок. И дружки дожидались своего часа — приходил день, когда братья влезали в шубы и валенки и вразвалку двигались к магазину, обрастая по пути ребячьей толпой, радостно взвизгивавшей в ожидании конфет и всякой прочей сладости. Братья начинали с того, что брали под мышку по ящику водки, набивали карманы флаконами с духами, цветными платками и всякой подобной мелочью, — одаривать девчат, — ждали их уже у крыльца магазина дружки, и начиналась в чьем-нибудь доме отчаянная гульба, перекатываясь по деревне, стихая только под утро, когда парни и мужики валились под столы, а то и под заборы, — а на следующий вечер все начиналось снова. Гуляли так неделю, десять дней, потом братья дружно говорили «хватит», отсыпались два-три дня и уезжали куда-нибудь на Юг, и месяца два от них не было ни слуху ни духу, разве что приходила откуда-нибудь из Крыма или с Кавказа телеграмма, извещавшая Дарью Андреевну о том, что сыновья живы-здоровы и скоро будут дома.
Братья частенько возвращались мрачные, неразговорчивые и не гоголем шли по деревне, красуясь богатством одежд, а старались незаметно проскользнуть в темноте, чтобы не встретить кого-нибудь. Случалось, что вместо дорогих заграничных пальто, в которых они уезжали на Юг, оказывались на них потрепанные плащишки, — проматывались на южных курортах до того, что на обратную дорогу не хватало, а у матери никогда не просили — гордость не позволяла. И тогда Дарья Андреевна доставала из сундука деньги и подкладывала в карманы их пиджаков. Братья с неделю отлеживались, и никаких дружков — те и близко к дому не подходили. Эта неделя была лучшим временем для Дарьи Андреевны — трезвые сыновья были тихи, покладисты, почти во всем охотно соглашались с ней. На одно только отмалчивались — когда она заводила разговор об их будущем.
— И долго вы так будете колобродить? — негромко говорила им Дарья Андреевна в тихие вечера. — Не надоела вам эта суматошная жизнь? И чего вы жилы себе рвете, тысячи зарабатываете, а потом на всяких забулдыг их спускаете? Ведь не маленькие уже, пора и за ум взяться. Тебе вон, Геня, четвертый десяток пошел, седина уже пробивается, а все как дите малое. Ну, заработали немного — и хватит. Приезжайте сюда, женитесь — и живите как люди, чего вам еще надо? Теперь и в колхозе неплохо заработать можно… А то и сейчас остались бы, а? Деньги, что вы мне посылали, почти все в целости лежат, берите… Хоть внуков ваших понянчу. А то помру — и похоронить некому будет…
Слушали братья, дымили папиросами, молчали. Наконец Геннадий неласково басил:
— Ладно, мать, будя об этом… Не последний год на свете живем, все успеем — и жениться, и детей нарожать…
И Дарья Андреевна умолкала, а по ночам тихо плакала, боясь, что услышат сыновья, считала дни, оставшиеся до их отъезда.
Но крепко спали сыновья, не слышали ее плача.
А затем вновь уезжали.
И начинались для Дарьи Андреевны долгие месяцы ожидания и нескончаемой тревоги — как там они, живы ли, здоровы? Боялась она моря. Когда сыновья приезжали, она иногда начинала расспрашивать их — какое оно, море?
— Ну, какое… обыкновенное, — пожимал плечами Геннадий. — Соленое, как и полагается. Много воды, и ничего больше.
— А тонут в нем? — допытывалась Дарья Андреевна.
— Бывает, — сказал однажды спокойно Геннадий и, видя, как испугалась мать, со смешком успокоил: — Да не бойся ты, ничего с нами до самой смерти не случится. Тонут, конечно, как же без этого? Море — оно и есть море, всегда в нем тонули. Да, сколько я знаю, тонут-то одни дураки. А мы с братишкой, — он подмигнул Коле, — вовсе не дураки, тебе-то уж положено знать это.
И Коля на ее расспросы отделывался смешками.
А все-таки боялась она моря, особенно длинными темными вечерами. Свободного времени было у нее теперь много — хозяйство осталось маленькое, всю живность можно было на пальцах пересчитать. Да и для кого было ей растить-кормить прежнюю многоголосую ораву? И деревенские бабы, с ранней весны до поздней осени маявшиеся от нелегкой крестьянской работы, в один голос завидовали ей:
— Не жизнь у тебя, Дарья, а конфетка. Сиди да чаи распивай. Эх, мне бы таких сыновей — в ножки бы им поклонилась.
И скажи им Дарья Андреевна, что от такой жизни-конфетки ей плакать хочется — не поверили бы.
Денег сыновья присылали помногу, об этом сразу становилось известно в деревне, и, встречая ее, бабы завистливо говорили:
— С прибытком тебя, Андреевна… Чай, кубышка-то доверху полна? И куда тебе столько денег?
Молчала Дарья Андреевна. А действительно, куда ей столько денег? На себя она расходовала самую малость, все остальное берегла для них же самих, сыновей, — да разве деньги им впрок? Вот если бы осели тут, женились… И когда приезжали сыновья, она снова заводила этот разговор — и опять впустую были ее слова. Уезжали сыновья…
И оставалось ей ждать их недолгих приездов, ночами сидеть у постелей и думать — что за жизнь у них там такая, что за работа, что тянет их туда?
И все ее уговоры остаться в деревне по-прежнему не действовали на них. Однажды только Геннадий сказал:
— Эх, мать, да разве только из-за денег мы ездим туда?
— А из-за чего же еще?
— Из-за чего… Тошно здесь, скукота заедает…
— А там-то какое веселье?
— Тоже, сравнила… Там — воля, простор… А… — махнул рукой Геннадий. — Не поймешь ты этого. Море — оно как отрава, раз хлебнешь — на всю жизнь привяжется… Думаешь, одни мы с Колькой такие?
— И все пьют? — спросила Дарья Андреевна.
Геннадий помрачнел.
— Дались тебе наши пьянки… Мы пьем, да ума не пропиваем…
Вот и весь разговор…
5
В тот год — шестьдесят третий — приехали они раньше обычного, в октябре. Дарью Андреевну почему-то не известили заранее, и перепугалась она, услышав, как остановилась у ворот машина, — теперь боялась она всего неожиданного. А узнав голос Геннадия, в страхе кинулась во двор — не случилось ли чего? Остановилась на крыльце, — дальше идти сил не было, — смотрела, как вылезают из машины сыновья. Геннадий спрыгнул легко, сказал Коле, стоявшему в кузове:
— Ну, давай.
А тот почему-то не решался слезть, стоял, держась руками за поясницу, и морщился. Наконец повернулся боком, медленно стал переносить ногу через борт. Нога повисла, и Геннадий осторожно взял ее в руки и поставил на колесо. Коля охнул и матюкнулся сквозь зубы, помедлил немного и так же осторожно стал перекидывать вторую ногу.
Мать молча смотрела, ничего не понимая.
Коля медленно зашагал ей навстречу, широко ставя ноги.
— Да что с тобой, Коля? — потерянно проговорила Дарья Андреевна.
Слабая улыбка проступила на бледном лице Коли, он хотел ответить, но только сжал зубы от нового приступа боли и мотнул головой. Геннадий бодро ответил:
— Да ты не пугайся, мать, ничего страшного. Радикулитом его малость прихватило. Отойдет…
У Дарьи Андреевны отлегло от сердца, она кинулась к Коле, подхватила его под руку, но он отстранил ее:
— Не надо, я сам… Баню затопи, да песку где-нибудь найдите, прокалите на печке…
— Сейчас, сейчас, — засуетилась Дарья Андреевна, сморкаясь в передник и смахивая со щек запоздавшие слезы.
Коля отлеживался почти две недели. Больно было смотреть, как мучается он на жесткой постели, кривится от боли, как медленно, по-стариковски, шаркает ногами, выбираясь из дома только по самой необходимой нужде. И садился он так, словно в его теле было что-то жесткое, негнущееся. Геннадий почти не выходил из дома, да и погода была такая, что не до гулянок, — все время шли дожди, — расхаживал по избе, сунув руки в карманы, много курил. Иногда, забывшись, начинал насвистывать и, поймав укоризненный взгляд матери, умолкал.
Осень прошла спокойно. Прежних гульбищ братья не устраивали, — год был неудачный, они и половины против обычного не заработали, — по деревне не шатались, дружков не приваживали. И к матери стали добрее, внимательнее и уже не обрывали ее, когда она осторожно начинала заводить разговор об их будущем. Дарья Андреевна молча радовалась, думала — может быть, сыновья решили за ум взяться?
Рано обрадовалась Дарья Андреевна. Заскучали братья от долгих осенних дождей, от беспролазной грязи, от унылого вида низкого темного неба. Засобирались на Юг. И как-то сразу сникла Дарья Андреевна. Все чаще уставала она даже от самой незначительной работы, все чаще не спала по ночам, чувствуя все свое старое тело. И случалось, что даже днем, — чего никогда не бывало с ней раньше, — ложилась она отдохнуть и все чаще думала о том, что ей уже шестьдесят, а сколько еще лет осталось на ее долю, неужели так и не придется пожить с сыновьями, невестками и внуками?
Замечали ее состояние сыновья или нет, но виду не показывали. Собрались и уехали.
Ездили недолго, месяц всего, — денег у них было немного. И вернулись почему-то порознь, впервые за все время. Первым приехал Коля, трезвый, как стеклышко, и сильно невеселый. И что уж совсем удивило Дарью Андреевну — деньги у него еще не вышли, мог бы с недельку и погулять. На вопрос Дарьи Андреевны, где Геннадий, Коля процедил сквозь зубы:
— Не знаю, мы две недели назад разъехались.
— Поругались, что ли?
— Нет.
И больше ничего не добилась она от сына.
Через пять дней явился и Геннадий. Вывалился из попутки весь скрюченный от холода, в легоньких ботиночках, в тонкой шляпе, надвинутой на синие холодные уши. Поздоровался с матерью, мрачно обвел глазами избу, словно не был здесь бог знает сколько лет, только чуть задержался взглядом на Коле — тот отвернулся к окну. Геннадий разделся, сгорбился на стуле, сунув руки под мышки. Дарья Андреевна стала собирать на стол. Геннадий отрывисто спросил, ни к кому не обращаясь:
— Водки нет?
Дарья Андреевна помедлила, ожидая, что ответит Коля, но тот молчал, будто и не слышал вовсе. И она сказала:
— Нет.
Геннадий посмотрел в окно, на холодную солнечную синь декабрьского дня, вздохнул и принялся за еду. Минут пять все молчали, будто воды в рот набрали. Потом Коля покрутил головой, словно тесно ему было в расстегнутом воротничке, усмехнулся чему-то и молча засобирался. Пришел скоро, выставил на стол матово заледеневшую бутылку, другую вынес в сени, сел сам, разлил водку в стаканы. Выпили молчком, без обычного звяка. Но и водка не развязала им языки, уткнулись оба в тарелки. Дарья Андреевна не выдержала:
— Чего, как сычи, надулись друг на друга? Девиц не поделили, что ли?
И тут оба — ни звука. Дарья Андреевна в сердцах отшвырнула вилку:
— У, бирюки лохмоногие… Ну точно как отец-покойник, тот тоже мог неделю молчать…
И ушла на свою половину плакать — в последнее время слаба на слезы стала, и это тоже пугало ее, настойчиво думалось: совсем старею…
А в избе по-прежнему тихо, только стук вилок да поскрипывание стульев. Дарья Андреевна пошла топить баню, молча собрала обоим белье. Братья мылись долго, вернулись — и Дарья Андреевна облегченно вздохнула, еще из сеней заслышав их густые ровные голоса.
А из-за чего так крупно повздорили сыновья — этого она так и не узнала.
Зима стояла тихая, снежная. Братья мучились от безделья, расшатывали половицы крупными тяжелыми шагами, с тоски принимались за всякую ненужную работу: сколачивали скамейки, — куда было девать их Дарье Андреевне? — выстругивали топорища, взялись даже плести кошевку, да не сумели и забросили кривой расползающийся кузов на сеновал. Помогали механизаторам, — оба неплохо разбирались во всякой технике, особенно Геннадий.
А в начале февраля они уже решили ехать. Сказал об этом Геннадий, и даже не Дарье Андреевне, а Коле, сказал мимоходом, как о деле решенном и само собой разумеющемся, и Дарья Андреевна сначала не поняла, переспросила:
— Куда ехать?
— Как это куда? — в свою очередь удивился Геннадий, и Дарья Андреевна тихо охнула и села на лавку. Геннадий растерялся, сказал так, как давно не говорил:
— Да что с тобой, мама? Мы же и не собирались оставаться. Ведь нам ехать надо…
И беспомощно посмотрел на Колю.
Дарья Андреевна медленно склонилась трясущейся головой на лавку, закрыла глаза.
— Мама! — крикнул Коля, и этот крик тихой музыкой отозвался в ее ушах, еще помнила она, как крепкие руки сыновей легко подняли ее и понесли куда-то, успела подумать: «Умираю» — и потеряла сознание.
Не умерла Дарья Андреевна. Уже через полчаса пришла в себя, увидела склонившееся над собой встревоженное лицо Геннадия, не сразу вспомнила, что случилось с ней, а вспомнив, равнодушно подумала: «Знать, не время еще умирать…»
— Как ты, мама? Лучше тебе? — спрашивал Геннадий, не понимая, почему мать молчит и смотрит на него такими странными глазами, словно не узнает. — Ты слышишь меня?
— Слышу, — пошевелила губами Дарья Андреевна. — Коля где?
— За врачом поехал.
— Ну, это уж зря, — так же равнодушно то ли сказала, то ли подумала Дарья Андреевна, потому что Геннадий, напряженно глядя на нее, громко спросил:
— Тебе нужно что-нибудь?
— Нет, — сказала Дарья Андреевна, и собственный голос показался ей громким и гулким. — Иди, я спать буду.
Почему-то не хотелось ей никого видеть.
Приехала молоденькая докторша, долго осматривала Дарью Андреевну, сделала укол и прописала какие-то лекарства, а пуще всего наказала ей не волноваться, не вставать с постели и больше спать. Потом поговорила о чем-то с сыновьями и уехала.
Через неделю Дарья Андреевна встала, и хотя не было в доме никаких срочных дел, — сыновья сами и варили, и в избе убирались, и даже стирали, — больше не ложилась, на уговоры сыновей поберечь себя отмалчивалась или нехотя говорила:
— Успею еще належаться.
И думала с обидой: «Вам бы раньше подумать о том, как поберечь меня». И упрямо, наперекор себе и сыновьям, продолжала носить свое тяжелое усталое тело, а если уж ноги совсем отказывались держать ее, садилась у окна, укутывала зябнущие плечи дорогой пуховой шалью, смотрела на занесенную снегом деревню. Сыновья в такие минуты снижали голос почти до шепота, ходили осторожно, стараясь не скрипеть половицами, но от этой необычной их предупредительности обида Дарьи Андреевны только разрасталась, ей хотелось плакать, назойливо думалось: «Раньше бы так…» И даже то, что сыновья теперь почти все время бывали дома, — если и уходили, то по одному, — и не пили при ней, — хотя водкой от них и попахивало, — раздражало ее, и думала она: «Все ведь могут, если захотят… Раньше бы так…»
Но прошло несколько дней, Дарья Андреевна окрепла, занялась хозяйством, и если и уставала, то была обычная усталость хорошо поработавшего за день человека. И обида на сыновей прошла, они сразу почувствовали это, стали прежними, снова пропадали где-то, и хоть в стельку пьяными не напивались, но водкой пахло от них крепко, и бутылки уже не прятали где-то в сенях, а со стуком ставили на стол, требовали закуску. Об отъезде не заговаривали, и Дарья Андреевна однажды сама спросила их:
— Когда думаете ехать?
Сыновья переглянулись. Геннадий неуверенно сказал:
— Не горит пока.
Дарья Андреевна резала лук, откинув голову в сторону от его горького едкого духа. Не глядя на сыновей, сказала:
— Чем так водку глохтать, уж лучше поезжайте.
Геннадий, помолчав, буркнул под нос:
— Ладно, дней через пяток тронемся.
Дарья Андреевна будто и не слышала, продолжала мелко стучать ножом, не вытирая катившихся из глаз слез.
Вечером, перед отъездом, собрались все за столом. Сыновья, трезвые и молчаливые, неохотно хлебали борщ. Их чемоданы, туго перетянутые ремнями, стояли рядышком у порога, братья старались не смотреть на них. Молчали. «Перед отъездом и слова ласкового у них для матери не находится», — с горечью думала Дарья Андреевна.
А Геннадий вдруг сказал слова, которых она ждала все эти годы. А сейчас, дождавшись таких слов, Дарья Андреевна почему-то не обрадовалась, спокойно слушала:
— Все, мать, в последний раз уезжаем. Вернемся — и больше никаких, это уж точно, слово тебе даем. Потом решим, где жить — здесь или в городе… Что так смотришь? Не веришь?
Говорил Геннадий уверенно, твердым голосом, — а Дарья Андреевна не верила ему. Сдержанно сказала:
— Останетесь — хорошо, не останетесь — дело ваше, просить больше не буду. Не так для меня это надо, как для вас же самих. Попомните мое слово: не останетесь — пропадете от водки и от ваших тысяч.
Геннадий опустил глаза, глухо сказал:
— Не будет этого. Нам эта жизнь уже тоже поперек горла стала, — рубанул он ладонью по шее. — Говорю тебе: еще раз съездим — и шабаш.
— Вот и пошабашили бы сейчас.
— Сначала заработать надо.
— Заработать… — с горечью сказала Дарья Андреевна. — Опять деньги вам нужны — а для чего? Чтобы снова пропить все?
Геннадий угрюмо сдвинул брови. Видно, не ожидал он, что мать так воспримет его слова, что вместо радости будет такое недоверие, а чем убедить ее — не знал. Неласково проговорил:
— Ну, не веришь — распинаться не буду, а только слово мое твердое: последний раз еду. За него не ручаюсь, — кивнул он на Колю, — у него своя голова на плечах, а сам точно останусь.
— И я останусь, — робко сказал Коля.
Ничего не ответила Дарья Андреевна. И хотела бы верить сыновьям — да не могла уже.
На том и расстались. Стала Дарья Андреевна, по обыкновению, ждать писем. Сыновья писали, что поставили их на ремонт, а когда удастся выйти в море — неизвестно. Вышли только в начале июня. А в октябре написал Геннадий из Магадана, чтобы она пока не ждала их, приедут только к весне. Год получился неудачный, — писал старший сын, — заработали пшик — меньше двух тысяч на душу, — возвращаться с такими деньгами нет смысла, и они решили пойти во вторую экспедицию, на зимний лов. И в конце письма снова писал, что это уж точно их последнее плавание и оба потом останутся с ней. Вот тогда только и поверила Дарья Андреевна, что сыновья всерьез решили взяться за ум, и заплакала тихими, радостными слезами.
6
А в январе утонули ее сыновья.
Сообщалось об этом в письме с синим казенным штампом на месте обратного адреса, и Дуся-почтальонша, разглядывая конверт, крутила его и так и эдак, раздумывая, что может быть в этом письме, и не лучше ли сначала вскрыть его и прочесть — помнили еще на селе, как в сорок четвертом упала замертво Аксинья Федоровна Богданова при одном только виде конверта с похоронкой. И Дуся решила вскрыть конверт. Прочла, охнула — и опрометью кинулась к бабке Василенчихе, первой советчице на деревне во всяких бедах и напастях. Глотая слезы, долго не могла выговорить, в чем дело, и только повторяла:
— Баба Маня, баба Маня…
Василенчиха сама взяла из ее рук наискось разорванный конверт, стала читать, далеко вытянув перед собой лист бумаги. Читала долго, — была она едва грамотна, — шевелила губами, пришептывая. Окинув Дусю посуровевшим взглядом, строго приказала:
— Будя слезы-то лить. Иди, да не говори пока никому.
Ушла Дуся, во дворе смахнула слезы, подумала с облегчением: слава богу, не мне идти.
А Василенчиха, вложив письмо в конверт, стала собираться. Достала из сундука все новое, чистое, — будто на праздник шла. Вот только шали новой у нее не было, пришлось надеть старую, черную. И вышла в синие снежные сумерки, побрела по деревне, и поземка тут же зализывала ее следы.
Так черной тенью вошла беда в дом Дарьи Андреевны.
А она не знала об этом, и материнское сердце ничем не предвещало беды. Легко было у нее на душе. Сидела она в просторной теплой избе, прислонившись спиной к печке, вязала сыновьям носки, пока было светло, а теперь, опустив руки на колени, вспоминала, что писал Геннадий в письме, полученном неделю назад. Письмо, читаное-перечитаное, лежало на специальной полочке, где хранились письма всех ее сыновей, и в этом, последнем, Геннадий писал, что пока все идет хорошо, рыбы много, плавать им еще месяца два, а потом дождутся расчета и сразу домой, и опять повторял, что больше оба уже никуда не поедут. И теперь верила Дарья Андреевна каждому его слову, думала о том, что наконец-то кончилась ее одинокая жизнь, и перебирала в уме всех деревенских девушек, прикидывая, кто мог бы стать ее снохой. В город перебираться ей не хотелось, и она думала, что ей удастся уговорить сыновей остаться здесь. Ну, а если уж будут настаивать — можно и в город…
Вошла Василенчиха, едва видимой тенью стала на пороге, сказала:
— Принимай гостя, Дарья.
Дарья Андреевна легко встала, пошла ей навстречу.
— Проходи, Ивановна, проходи. Я вот сижу тут, сумерничаю…
И включила свет.
— Раздевайся, сейчас самовар поставлю, почаевничаем. Вот спасибо, что зашла, а то одной, бывает, и чай-то пить не хочется, так и лягу…
Василенчиха разделась, но шаль почему-то не сняла, тяжелой поступью прошла к столу. Была она крупная, высокая, с грубым мужицким лицом и огромными, изуродованными работой руками. Встречались они редко. Три сына Василенчихи погибли в войну, дочь давно откололась, муж умер лет пятнадцать назад, — и о чем же было говорить им при встрече, как не о своих погибших… Разговоры эти всегда кончались слезами, обе расстраивались до того, что порой приходилось укладываться в постель, — вот и старались они встречаться пореже, чтобы не растравлять раны друг друга. Но два-три раза в год они сходились непременно, — обеим нужны были эти слезы, их общее горе, — подолгу сидели, вспоминая своих детей, и плакали и утешали друг друга, выливая в слезах накопившуюся тяжесть. Наверно, никто, кроме Дарьи Андреевны, и не видел на селе, как плачет Василенчиха. И Дарья Андреевна подумала, что, видно, и теперь Василенчиха пришла за этим, — повспоминать, поплакать, — и ей стало неловко за свое благодушное настроение, — всегда в такие часы помнила она, что у нее два сына, а у Василенчихи — никого и ничего, дочь присылала не больше одного письма в год, давно уже не приезжала в деревню и не звала мать к себе.
Дарья Андреевна разжигала самовар, ставила на стол посуду, говорила что-то нестоящее — и вдруг остановилась, вглядываясь в лицо Василенчихи.
— Ты что это, Ивановна? Ай случилось что?
— Случилось, Дарья…
Василенчиха стала стягивать на плоской груди концы своей черной шали, которую так и не сняла до сих пор.
— С дочерью что-нибудь? — испугалась Дарья Андреевна.
— Да что с ней сделается? Другая беда.
— У кого?
Василенчиха прямо взглянула на нее.
— У тебя.
— У меня? — удивленно спросила Дарья Андреевна, отвела глаза и коротко засмеялась. — Какая же у меня беда может быть? Нет, Ивановна, все мои беды позади, хватит, набедовалась. Сыновья, слава богу, живы-здоровы, а если другое что — так разве это беда? Вот, Геня недавно письмо прислал, пишет, что все хорошо, рыбы много наловили, заработали хорошо, еще месяца два поплавают — и все, домой, насовсем приедут…
Говорила Дарья Андреевна все быстрее, словно торопилась куда-то, на Василенчиху не смотрела, поднялась из-за стола, опираясь руками о края его, и пошла к полочке, за письмом, стала разворачивать его. И говорила, не смея взглянуть на Василенчиху, протягивала ей листок:
— Вот, смотри, шесть дней как письмо пришло, да неделю в дороге было…
Молчала Василенчиха, опустила голову, смотрела на свои черные руки с безобразно вздувшимися узлами вен. И Дарье Андреевне пришлось самой взглянуть на нее, и тогда она медленно опустилась на стул, но не всем телом, а присела на краешек, словно только на минуту, а потом встать и идти куда-то.
— Ну, говори, какая еще беда у меня…
Молчала Василенчиха. По дороге к Дарье Андреевне раздумывала она, как бы получше сказать свою страшную новость — и ничего придумать не могла. А сейчас совсем потерялась. Дарья Андреевна повторила:
— Не молчи, Ивановна, говори… Что за беда у меня?
И Василенчиха сказала:
— Нет больше твоих сыновей, Дарья. Утонули.
Ко всему готовилась Василенчиха в эту минуту. Ждала, что Дарья Андреевна закричит, забьется в плаче, обеспамятеет, как бывало раньше при известии о гибели других ее сыновей и мужа, как было и у нее самой. Но Дарья Андреевна молчала, даже не шевельнулась, и Василенчиха подумала: не поняла, что ли? И повторила:
— Утонули… Вот письмо.
И положила письмо перед собой.
— Кто утонул? — спросила Дарья Андреевна, не сводя глаз с письма.
— Сыновья твои.
— Да ведь не оба же… — подняла на нее глаза Дарья Андреевна. — Кто утонул — Геня или Коля?
Потом не раз будет Дарья Андреевна вспоминать эту минуту — и сама никак не сможет понять, почему она сказала так. А Василенчиха отшатнулась от ее глаз, словно от страшного видения, тяжко кинула:
— Оба, Дарья, и Геня, и Коля…
— Оба… — сказала Дарья Андреевна и потянулась рукой к горлу, расстегнула верхнюю пуговицу теплой вязаной кофты. Дышать теперь можно было свободно, но она дернулась от боли, пытаясь вдохнуть, — воздух натолкнулся на какую-то плотную горячую преграду, ставшую у нее в горле. Дарья Андреевна захрипела и, пугаясь этого хрипа, стала расстегивать оставшиеся пуговицы, хотя они никак не могли мешать, но она не понимала этого и расстегнула все до одной. Василенчиха встала, опрокинув стул, кинулась за водой, но Дарья Андреевна не понимала, зачем ей вода, отталкивала ковш слабой рукой и не слышала, как говорила ей Василенчиха плачущим голосом:
— Да испей ты, ради Христа, задохнешься ведь… Испей, Дарья…
Выпила Дарья Андреевна.
Василенчиха стояла над ней, широко расставив руки, и была похожа сейчас на старую безобразную ворону, в этой черной шали, с коричневыми морщинистыми руками-крыльями, готовыми подхватить падающее тело Дарьи Андреевны. Но Дарья Андреевна не упала. Она выпрямилась на стуле, сказала Василенчихе:
— Сядь.
И потянулась за письмом, но прочесть не могла — горячо и больно было смотреть на ровные печатные буквы, и она отдала письмо Василенчихе.
— Читай.
Василенчиха стала читать по складам.
Сообщалось в письме, что во время десятибалльного шторма, сопровождавшегося двадцатиградусным морозом, траулер СРТР-508 «Малома» начал обледеневать, и несмотря на то что команда в течение двух суток мужественно боролась со стихией, обкалывая лед, надстройка отяжелела настолько, что судно перевернулось, и вся команда — двадцать три человека — погибла. Еще сообщалось, что личных вещей Н. и Г. Харабаровых в камере хранения межрейсового дома отдыха моряков, где они проживали до выхода в море, не оказалось, а деньги, заработанные ими и причитающиеся по страховому полису, будут высланы Дарье Андреевне в течение двух недель.
И еще было в письме, что Управление тралового флота, местком, партком, комсомольская организация и все товарищи по работе скорбят о трагической гибели Н. и Г. Харабаровых и шлют Дарье Андреевне свои искренние соболезнования.
В конце письма неразборчивая подпись, придавленная синей круглой печатью.
Выслушала Дарья Андреевна косноязычное чтение Василенчихи, качнулась вперед, к письму, заглядывая ей в глаза, спросила:
— А верно ли читаешь, Маша? Может, про одного пишут, что утонул?
— Про обоих…
— Как же про обоих… — не понимала Дарья Андреевна. — Не может быть, чтобы про обоих. Ты читай как следует, ничего не пропускай.
— Все прочла, — давилась слезами Василенчиха. — Все, Дарья. Да ты поплачь, покричи, что сидишь как каменная. Поплачь, легше будет…
— Зачем же плакать-то, — сморщилась Дарья Андреевна. — Ну, один утонул, так я о нем потом поплачу… Да ведь другой-то остался, ты только скажи, кто — Геня или Коля?
— Да ведь они вместе плавали, Дарья, что ты говоришь? — все больше пугалась Василенчиха глаз Дарьи Андреевны и странных ее слов.
— Что ж с того, что вместе… Так это и хорошо, что вместе, — просветлела она вдруг лицом и почти с радостью сказала: — Вот потому и не могли оба утонуть, раз вместе… Один кто-нибудь… Как же так — оба?
— Да ведь все утонули, двадцать три человека, тут же пишут.
— Все? — поразилась Дарья Андреевна и заторопилась: — Как же так — все? Ты же про одного читала… Я вот только не дослышала, про кого — про Геню или Колю…
— Все, Дарья, все… Корабль перевернулся, все утонули.
— Ну, пусть все, — легко согласилась Дарья Андреевна. — Но кто-то же да остался, Геня или Коля… Не могли оба утонуть…
— Оба, Даша, оба…
— Как же так — оба? — смотрела на нее Дарья Андреевна светлыми непонимающими глазами. — Да разве ж это можно? За что же так бог наказывает меня? Ну, на фронте трех убило — так ведь война была, у всех убивали, у тебя вон тоже трех убили… Григорий погиб — так ведь не у меня одной мужа убили, у всех убивали… А сейчас-то ведь не война… Ну, утонул там кто-то, Геня сам говорил, что так бывает, да ведь не оба же, Маша, не оба? — допытывалась Дарья Андреевна и все пододвигала листок Василенчихе, просила: — Ты читай, хорошо читай. Не может быть, чтобы оба, — убежденно трясла она седой головой и совала листок Василенчихе, умоляла: — Читай, Маша, ладом читай, я бы сама, да вот не вижу что-то…
«Рехнулась», — подумала Василенчиха, взяла листок и снова стала читать, слово в слово. Читала громко, выговаривая каждую букву. Слушала Дарья Андреевна, молчала. А когда Василенчиха кончила читать, спросила:
— А не пишут там — не пьяные были, когда утонули?
— Дарья, да что ты, опомнись! — закричала Василенчиха, и Дарья Андреевна вздрогнула, испуганно посмотрела на нее:
— Чего ты кричишь? Не глухая я.
И оглядела избу так, словно впервые видела ее — широко раскрытыми, непонимающими глазами. Наткнулась взглядом на часы, стала вдруг пристально всматриваться в них — и торопливо встала из-за стола:
— Батюшки, шесть часов уже… Ну, иди, Марья, спасибо тебе на добром слове.
— Да как же ты одна-то будешь?
— Ничего, ничего, я спать лягу, — говорила Дарья Андреевна, снимая с вешалки пальто Василенчихи.
— Не гони ты меня, ради Христа, дай мне еще посидеть, — просила Василенчиха, но Дарья Андреевна не слушала ее, приговаривала:
— Иди, иди, поздно уже, спать надо.
Василенчиха не уходила, стояла на пороге, с тревогой глядя на нее, и Дарья Андреевна рассердилась:
— Да иди же, что стоишь? Вот беда-то еще с гостями, приходят незваные, а потом не выпроводишь их… Ступай, нечего тебе здесь делать.
И Василенчиха ушла, роняя на снег крупные редкие слезы.
Дарья Андреевна вышла в сени, заперла за Василенчихой дверь на два крючка, заложила засов, и так боялась она, что кто-то еще может прийти к ней, что подкатила к двери тяжелую кадушку с капустой. Вошла в дом, стала задергивать занавески на окнах, проверяя, не осталось ли какой щелочки. Убрала со стола посуду, аккуратно, как делала это всегда, сложила ее в шкафу. Тонким голосом ныл в углу забытый самовар. Дарья Андреевна заглушила его, постояла немного, вспоминая, что еще нужно сделать. Глаза ее жгло сухим горячим огнем, и не только плакать она не могла — глаза высохли настолько, что больно было моргать, и она, щурясь, добрела до стола — и упала на него, раскинув руки широким крестом, цепляясь за его твердые деревянные края. И только тут поняла она то, чему до сих пор отказывался верить ее помутившийся разум, — что нет больше ее сыновей и никогда уже никого не будет у нее.
7
Через две недели, как и было обещано в письме, прислали Дарье Андреевне деньги. Прибыли они в село в сопровождении молоденького милиционера, насквозь промерзшего в брезентовом «газике». Милиционеру и раньше приходилось сопровождать деньги, и суммы случались значительно большие, чем эта, — но то всегда бывали деньги казенные, направлявшиеся из банка в учреждения, и он спокойно и равнодушно сдавал их кому следует, отмечал документы и уезжал. А сейчас он не переставал удивляться тому, что такая сумма причитается не какой-то конторе, а вполне конкретному лицу, Дарье Андреевне Харабаровой, и он дорогой мучительно раздумывал о том, почему ей прислали так много и что можно купить на эти деньги. Получалось, что купить можно очень много самых разных вещей, хватало и на машину, и на гарнитур, и на самый дорогой телевизор, и на десяток костюмов, и на множество всякой мелочи вроде ботинок, сорочек, галстуков, и все еще оставалось на несколько лет спокойной безбедной жизни, и милиционер не переставал удивляться и говорил себе: «Надо же, как везет людям…» И ему не терпелось узнать, кто же такая эта Дарья Андреевна Харабарова, молодая или старая, и посмотреть, как она будет получать эти деньги, и интересно, знает ли она о том, что ей должны прислать столько. «Если не знает — вот будет радость», — думал милиционер и попытался представить, что почувствовал бы он, если бы вдруг получил такую кучу денег. Но представить это было трудно… И он трогал левой рукой тяжелую инкассаторскую сумку, а правой — кобуру пистолета и весь сжимался от холода.
Дуся-почтальонша только ахнула, когда он предъявил документы на эти деньги, и испуганно покосилась на дверь.
— Ой, как же это я приму столько… Я их и на минутку оставить боюсь.
— Могу сопроводить, — бодро сказал милиционер, улыбаясь синими непослушными губами. — Даже, между прочим, обязан.
И они вместе поехали к Дарье Андреевне.
Милиционер был сильно разочарован, увидев седую старуху, тяжело поднявшуюся им навстречу. Дарья Андреевна безучастно смотрела на них, и Дуся робко сказала:
— Это я, тетя Даша… Не узнаете?
— Чего не узнать-то? — тихо сказала Дарья Андреевна. — Проходите, садитесь.
— Вот деньги вам привезли… Оттуда, — потерянно сказала Дуся, оглядываясь на милиционера. Тот решительно подошел к столу, положил сумку, откашлялся:
— Расписаться надо будет, бабуся. Только сначала документик предъявите… Паспорт, стало быть. Дело, сами понимаете, денежное, оно порядок любит.
— Нет у меня паспорта, — сказала Дарья Андреевна.
— Как нет? — удивился было милиционер, но тут же вспомнил, что в деревне паспортов не дают. — Ну, тогда свидетельство о рождении.
— Метрику, что ли?
— Ну да.
Дарья Андреевна отыскала свидетельство, молча подала ему. Милиционер долго рассматривал его, переписал номер, удивился тому, что Дарье Андреевне и всего-то только шестьдесят два года, — выглядела она восьмидесятилетней. Он отдал свидетельство, бережно положил на стол голубую гербовую бумагу, отвинтил колпачок авторучки.
— Вот здесь, сумму прописью.
Дарья Андреевна неловко взяла ручку, посмотрела на то место, куда указывал милиционер, и, не читая бумаги, спросила:
— Чего писать-то?
— Значит, так, — торжественно начал милиционер, словно эти деньги были его личным подарком Дарье Андреевне. — Восемнадцать тысяч…
Дарья Андреевна медленно вывела первую букву на тонких частых линейках, и милиционер с недоумением подумал: «Не поняла, что ли? Как за пятерку расписывается…» И он громко повторил:
— Восемнадцать тысяч…
Дарья Андреевна от его голоса вздрогнула, посмотрела на милиционера:
— Чего кричишь, сынок? Не глухая я.
— Так ведь… чтобы верно написано было, — смешался милиционер. — А то бумага-то больно ответственная.
— Не бойся, грамотная я.
И написала: «Восемнадцать тысяч».
— Семьсот восемьдесят шесть рублей, — продолжал неприязненно диктовать милиционер, обиженный таким равнодушием к внушительной цифре, — тридцать шесть копеек… Копейки цифрами. И распишитесь, пожалуйста.
Дарья Андреевна расписалась. Милиционер взял бумагу, спрятал ее во внутренний карман и для верности заколол его булавкой. И стал выкладывать деньги.
Дарья Андреевна равнодушно смотрела, как громоздятся на столе разноцветные денежные пачки. Милиционер отсчитал копейки, сказал:
— Все. Пересчитайте, пожалуйста.
— Зачем считать-то? — подняла на него пустые глаза Дарья Андреевна. — Чай, верно все.
— Верно-то верно… — Милиционер озадаченно посмотрел на нее. — Да ведь порядок такой. И сумма, опять же, немалая…
Дарья Андреевна вздохнула, повторила:
— Чего считать, верно все. Может, чайку попьете?
— Да нет, спасибо, бабуся, — сказал милиционер. — Поедем, мы ведь на службе.
— Ну, поезжайте, — легко согласилась Дарья Андреевна и, подумав, добавила: — Да и сахару у меня нет.
Милиционер оглядел избу, спросил:
— А где вы деньги держать будете?
— Найду место.
— Здесь опасно, бабуся. Вы на сберкнижку их положите, — сказал милиционер, не сообразив, что в деревне сберкасс не бывает, — а то, не дай бог, ограбят.
— Не ограбят, — равнодушно бросила Дарья Андреевна, вставая. — Никого я не боюсь.
— Все-таки запирайтесь как следует, — говорил милиционер, но Дарья Андреевна уже не слушала его. «Какая-то полоумная, — подумал он, отводя взгляд от денег. — Вот уж правда — дуракам счастье. И зачем ей столько денег? Помирать пора…»
Выезжая из села, шофер, в избе молчавший все время и не сводивший завороженных глаз с денежной кучи, проворчал:
— Хоть бы четунчик старая карга на радостях поставила. А то — сахару у нее нету. Тьфу! — в сердцах сплюнул он.
— Да, скупа старуха, — согласился милиционер. — Могла бы и расщедриться…
И не из-за непоставленной четвертинки было обидно ему, — пить он все равно не стал бы, да и шоферу не позволил бы. Раздражала его нелепость ситуации — зачем этой одинокой, выжившей из ума старухе, которая одной ногой уже в могиле, такие деньги?
А Дарья Андреевна, проводив нежданных гостей, села у стола, тронула рукой деньги. Были они новенькие, незахватанные, туго спеленатые красно-белыми бумажными полосками. Эти полоски о чем-то напомнили Дарье Андреевне, и она силилась вспомнить — о чем? Наконец вспомнила: много-много лет назад, — так давно это было, что она не могла и сообразить, сколько времени прошло с тех пор, — приехал в дом ее сын, — но кто — Геня или Коля? — высыпал на пол кучу денег, оклеенных такими же бумажными полосками. Но зачем тогда нужны были те деньги — этого Дарья Андреевна не могла вспомнить. Ведь для чего-то же нужны они были, если сын привез их сюда и скоро поехал за ними снова, и ездили они потом вдвоем каждый год, оставляя ее здесь одну, пока не утонули в холодном море. Наверно, для чего-то нужны и эти деньги, подумала Дарья Андреевна и стала рассматривать пачки, — толстые, красные, десятирублевые, плотные синие четвертные и совсем тоненькие зелено-коричневые пачки пятидесятирублевок. Думалось трудно, надо было как-то связать эти разноцветные бумажные пачки с жизнью ее сыновей, понять, ради чего погибли они, — не может же быть, чтобы из-за этой кучи ненужного ей бумажного хлама… А если действительно из-за денег погибли они? Тогда должен быть в этих бумажках какой-то смысл, значит нужны они для чего-то большого, важного. Ведь не для того она рожала и воспитывала своих сыновей, чтобы они оставили ей только эти деньги… Нет, что-то здесь не так… И она продолжала сосредоточенно думать, но так и не находила этой необходимой ей связи и расстроилась, подумала про себя: «Совсем из ума выжила, что ли? Такую простую вещь понять не могу…» И решила, что потом еще подумает об этом, а пока решила убрать деньги и открыла обитый железом сундук темного старого дерева. Там уже лежало несколько таких же тысячных пачек, оставшихся от прежней жизни, но Дарье Андреевне почему-то не хотелось смешивать деньги, и для этих, только что полученных, она освободила место в уголке сундука, аккуратно сложила туда пачки, сверху положила семьсот восемьдесят шесть рублей россыпью и тридцать шесть копеек мелочью.
И села за пустой стол, стала думать.
8
Кончилась зима, прошла весна, стало над селом тяжелое жаркое лето. Дождей не было с конца мая, и хлеба стояли низкие, худые. Откуда-то с юга налетали быстрые горячие ветры, свободно раскатывались по ровным полям, вздымая к небу сухую горькую пыль. Солнце густо просаливало рубахи мужиков, выбеливало бабьи косынки, разгоняло с улицы все живое. По ночам стояла тяжелая неподвижная духота, дома топорщились раскрытыми створками окон, молчали даже собаки, утомленные небывалой жарой. По вечерам все жадно припадали к приемникам, слушали сводки погоды, гадали, когда пойдут дожди. Дожди были обещаны уже дважды, но то ли врало радио, то ли иссякали они где-то по пути. Собирались по вечерам черно одетые старухи, раскрывали засаленные Евангелия, нестройно бубнили слабыми голосами:
— Итак, братия, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши; потому что пришествие Господне приближается…
Застав однажды у себя такое сборище, Афанасий Казаков, могучий старик с красивым коричневым лицом, с минуту прислушивался к этому бормотанию и вдруг рявкнул:
— Ах вы, сучки чернохвостые, чего мелете? К долготерпению призываете, на господа надеетесь?! Тут и так с души воротит, а вы еще… А ну, геть отсюда, и чтобы мертвечины этой я больше не слыхал!
— Да ты что, отец, — укоризненно начала его жена, — не гневи бога…
— Вон, мать вашу с вашим богом! — затрясся Афанасий, хватаясь за стул, и старухи, подобрав юбки, кинулись к двери, испуганно крестясь и бормоча под нос:
— Свят, свят, господи…
Злобилась деревня, готовилась к скудной зиме, на ходу перекраивала давно выношенные планы. Начали весной строить крытый ток, а сейчас бросили: денег не хватало. Отказались от двух уже присланных машин — долги и без того намечались немалые. И в домах кроили и так, и эдак, покупали только самое необходимое. По утрам оглядывали синее, жаркое уже небо, тоскливо думали: когда же дождь?
Не было дождей.
И черные старухи пугали друг друга осторожным шепотом:
— Препояштесь вретищем и власяницами, оплакивайте сыновей ваших и болезнуйте; потому что приближается ваша погибель. Послан на вас меч, — и кто отклонит его? Послан на вас огонь, — и кто угасит его? Посланы на вас бедствия, — и кто отвратит их?
И умолкали, заслышав шаги во дворе, воровато прятали истрепанные Евангелия в складках черных необъятных юбок, крестились трясущимися черными руками, слыша злую мужицкую матерщину:
— Свят, свят… Господи, вразуми неразумных, избави нас от погибели, пошли дождь…
А во дворах и на улицах материли и бога, и черта, и душу, и весь белый свет…
Ничего этого не знала, не видела и не слышала Дарья Андреевна. Пустым казался ее дом, слепо глядевший на улицу голубыми бельмами всегда закрытых ставней, запертых изнутри ржавыми железками. Но Дарья Андреевна была в нем, ходила в его сумрачном душном пространстве, спала на неопрятной, никогда не убирающейся постели, не чувствуя дурного запаха своего давно не мытого тела. Из дома она выходила только по самой необходимости — больно ей было смотреть на яркий солнечный свет, черными кругами отражавшийся в ее глазах. Равнодушно смотрела она вокруг, не замечая, как рушится ее долгими годами возводившееся хозяйство. Двор и невскопанный огород заросли желтой травой и буйными лопухами, вода в колодце зацвела, сад безнадежно погибал, вытягивая к горячему небу жалкие ветви с черными остатками съеденных червями листьев. Изгородь еще весной повалилась в трех местах, и соседские коровы беспрепятственно ходили по огороду, терлись боками о покосившуюся баню, теряя бурые клочья шерсти. И живность постепенно пропадала куда-то. Сдохла свинья, по недосмотру Дарьи Андреевны хватившая горячего месива, кур осталось едва ли половина, они почти перестали нестись, бродили по двору голодные, красноглазые, с сухими раскрытыми клювами. Приходила Василенчиха, кормила их, потом шла в дом к Дарье Андреевне, смотрела, как ходит она по избе или лежит на постели, глядя в потолок ничего не видящими глазами. Не окликнешь ее — так и не заметит, был ли кто в доме. Василенчиха спрашивала:
— Болит у тебя что, Дарья?
Дарья Андреевна медленно переводила на нее глаза, слабо качала головой:
— Нет.
— Может, к доктору тебе надо?
— Нет, — тихо отвечала Дарья Андреевна и ждала, когда Василенчиха уйдет.
Однажды Василенчиха, выбросив в уборную околевшую курицу, сказала:
— Давай-ка я заберу у тебя курей, а то передохнут все.
— Забирай, — покорно согласилась Дарья Андреевна, а вечером, войдя в опустевший курятник, никак не могла понять, куда же подевались куры, думала: «Лиса перетаскала, что ли? Так перьев не видать…» Искать не стала и, войдя в дом, тут же забыла о курах.
Навещали ее соседки, приносили молоко, яйца, хлеб, творог, Дарья Андреевна каждый раз совала им красные хрустящие десятки, и ей приходилось напоминать, что деньги она уже давала. Но случалось, что соседки из-за своих хлопот или понадеявшись друг на друга, — не заходили по нескольку дней, и в доме не оставалось ни крошки хлеба. Но и это не могло заставить Дарью Андреевну выйти из дома, да и голода она никогда не чувствовала. Было что есть — ела, нет — и так ладно.
Чаще всего приходила все та же Василенчиха. На грубом ее лице как будто залегла печаль всей деревни, страстное ожидание дождей, злая мужицкая тоска, — было оно сурово, неулыбчиво, строгие глаза смотрели из-под черного платка словно из траурной рамы. Василенчиха молча садилась у порога на лавку, смотрела на Дарью Андреевну, наконец спрашивала:
— Ела нонче?
— Ела, — отвечала Дарья Андреевна, даже если и крошки в рот не брала, потому что никогда не помнила, ела ли она на самом деле. Василенчиха, не обращая внимания на ее ответ, разворачивала принесенную еду, повелительно говорила:
— Садись, ешь.
Дарья Андреевна равнодушно жевала, зная, что так легче всего отделаться от непрошеной гостьи. Василенчиха смотрела на нее, вздыхала, иногда говорила:
— Поплакала бы ты, Даша, легше ведь будет.
Дарья Андреевна отмалчивалась, раза два нехотя бросала:
— Я уж свое отплакала, нечем больше.
— А ты постарайся, поплачь, — уговаривала ее Василенчиха, но Дарья Андреевна только качала головой, молчала. Тогда Василенчиха начинала вспоминать ее давнюю жизнь, ее сыновей, Григория, надеясь на то, что, как и прежде, прошлой еще зимой, Дарья Андреевна расстроится, поплачет вместе с ней. Но и это не помогало — слушала Дарья Андреевна так спокойно, словно не о ней шла речь, не она получала похоронки, не ее сыновья делали то, о чем рассказывала Василенчиха. Да и слышала ли она? Однажды Дарья Андреевна прервала ее рассказ, некстати сказала:
— Помру я, Марья.
— Все умрем, — согласилась с ней Василенчиха, не понимая, почему она вдруг говорит это.
— Все, да в разное время, — Дарья Андреевна оживилась, посмотрела на Василенчиху почти нормальными, осмысленными глазами. — Я — скоро, к зиме, должно быть.
— Чуешь, что ли?
— Чую. К зиме, должно быть, — повторила Дарья Андреевна. — А то и раньше.
— Смертное-то себе приготовила?
— Приготовила. Вон в сундуке лежит. А ключ у меня под подушкой. Ты уж проследи тогда, чтобы все как следует сделали.
— Ладно, не боись, все сделаю, как надо. Деньги тоже там?
— Там.
— Что будешь делать с ними?
— Отложу немного на похороны да на поминки, а остальное разделю тем, кто победнее.
— Это ты хорошо надумала, — одобрила Василенчиха. — Только надо через нотариуса оформить.
— Успеется, время есть еще.
Василенчиха подумала недолго, осторожно предложила:
— Катерине Лифановой надо бы поболе оставить, сын у нее учится, да второго думает отправлять.
— Сделаю, — кивнула Дарья Андреевна.
Помолчали обе, и Василенчиха тяжело поднялась:
— Ну, пойду, надо еще к Пушихе зайти, хворает она что-то. Завтра приду.
И с порога тихо спросила:
— А может, поживешь еще, Даша?
— Зачем? — взглянула на нее Дарья Андреевна.
— Рано ведь… Ты же лет на восемь молодше меня.
— Рано, — вздохнула Дарья Андреевна. — Да только, видать, я свое отжила, чужое живу.
Ушла Василенчиха, а Дарья Андреевна, посидев немного, отыскала листок бумаги, огрызок карандаша и стала прикидывать, кому сколько оставить по завещанию. Она морщила лоб, перечеркивала цифры и со вздохом откладывала карандаш, — нелегко было разделить так, чтобы всем было по справедливости. Она уже несколько раз принималась делать это и все никак не могла довести до конца. Вот и сейчас показалось ей, что кто-то обязательно останется обиженным, и она опять отложила карандаш, подумала: «Успею, до зимы далеко еще».
9
Пошли наконец долгожданные дожди, деревня повеселела — какой-никакой, а урожай будет, без хлеба не останутся. Ну, а без мяса перебьются как-нибудь, не впервой. И к уборочной погода установилась как на заказ — ясная, добрая, словно природа решила вознаградить земледельцев за все неприятности, причиненные сушью. И бабье лето стояло долгое, чистое, сухое.
Оживилась и Дарья Андреевна. Теперь видели ее по вечерам на крыльце своего дома, сидела она во всем черном, смотрела на проходящих мимо односельчан, с ней здоровались, иногда она отвечала, но чаще глядела так, словно не узнавала никого. Пробовали бабы подсаживаться к ней, разговаривать, но Дарья Андреевна молчала или нехотя отговаривалась односложными «да» и «нет».
А однажды зазвала она к себе приезжего инженера, сына Антониды Ковалевой, проводившего здесь свой отпуск. Тот не сразу понял, что именно его зовет Дарья Андреевна, и удивился, что она так приветливо улыбается ему, — давно уже никто на селе не видел ее улыбки.
— Сынок, зайди-ка на минутку. Тебя как зовут-то, не Коля?
— Нет, Сергеем.
— Ну, не взыщи, запамятовала. Зайди, Сережа.
Инженер зашел. Дарья Андреевна усадила его за стол, стала зачем-то расспрашивать, женат ли он, есть ли дети, как их зовут. Инженер, слегка улыбаясь, отвечал, не понимая, с чего такая блажь пришла ей в голову — расспрашивать о его семейных делах, ведь и жену его, и детей Дарья Андреевна знала.
Дарья Андреевна замолчала. Инженер ждал, что будет дальше. Она вытащила откуда-то письмо, подала ему, ткнула пальцем в обратный адрес:
— Сделай милость, сынок, объясни, как мне добраться туда.
— Это на Сахалин, что ли? — удивился инженер.
— Ну да, на Сахалин.
— Далеко, тетя Даша.
— Знаю, что далеко. Да ты расскажи, как ехать туда, я уж как-нибудь доберусь.
— Проще всего — поезжайте в Москву, садитесь на самолет. Один день — и там.
— На самолет? — испугалась Дарья Андреевна. — А поездом нельзя?
— Прямо туда нельзя, это же остров, море кругом. Если не хотите самолетом, поезжайте на поезде до Владивостока, а оттуда на пароходе.
— По морю?
— Ну да, по морю.
— Боюсь я морем-то, — робко посмотрела на него Дарья Андреевна. Инженер развел руками.
— Ну, я не знаю тогда… А только поездом туда нельзя.
— А на самолете долго лететь?
— Да часов двенадцать, наверно.
Дарья Андреевна долго расспрашивала его, нельзя ли как-нибудь по-другому добраться до Сахалина, и инженер, подумав, объяснил, что есть еще только один путь — поехать в Пензу, сесть на поезд, идущий до Хабаровска, а оттуда все равно придется лететь самолетом до Южно-Сахалинска, но всего часа полтора-два.
— А потом как?
— А там поезда должны ходить, — не очень уверенно сказал инженер — название города, обозначенного на конверте, ничего не говорило ему.
— Ну, спасибо тебе, милок, — сказала наконец Дарья Андреевна, решив про себя, что так и поедет, и попросила: — Сделай еще милость, запиши на бумажке, а то забуду.
Инженер записал, попрощался и ушел.
Об этом разговоре в тот же вечер узнала Василенчиха, — Антонида, выслушав сына, тут же кинулась к ней, — и, мучаясь одышкой, побрела к Дарье Андреевне. Чуть не упала на пороге, плюхнулась на лавку, попросила хриплым свистящим шепотом:
— Дай водицы испить.
И, отдышавшись, строго спросила:
— Ты чего это удумала, девка?
— А чего? — не поняла ее Дарья Андреевна.
— Куда ехать-то собралась?
— К сыновьям.
— Ты что, совсем рехнулась, старая? — возвысила голос Василенчиха. — Кто ждет-то тебя на этом Сахалине? Ведь там и могил-то их нет!
— А тут что есть? — прямо посмотрела на нее Дарья Андреевна. — Одни стены голые? — повела она головой. — Хватит, досыта уже нагляделась.
Заплакала Василенчиха.
— Господи, и куда тебя несет? Помрешь ведь там, и похоронить-то по-человечески некому будет, зароют где-нибудь как собаку.
— Ничего, мир не без добрых людей, — уверенно ответила Дарья Андреевна. — Похоронят где-нибудь, земля всех примет. Да и не все ли едино, где гнить?
Василенчиха еще долго отговаривала ее, пугала трудностями дальней дороги, неустроенностью житья на новом месте, — на все это Дарья Андреевна упрямо отвечала, что найдутся добрые люди, помогут. Да и не жить она туда едет, а умереть рядом с сыновьями…
— Да ведь никого там нет, как одна будешь? — плакалась Василенчиха, и Дарья Андреевна рассердилась:
— Чего заладила — одна да одна? Не на пустое место еду, к сыновьям родным.
Василенчиха охнула.
— Господи, совсем из ума выжила… Да ведь нет их там!
— Как это нет? — строго посмотрела на нее Дарья Андреевна. — Это не я, а ты из ума выжила. Сколько лет там жили — аль памяти о них не осталось? Затем и еду — перед смертью поговорить о них, людей порасспрашивать… А здесь что — так и будем друг дружке плакаться?
— Далеко ведь, Дарья…
— Что ж с того, что далеко? — рассудительно сказала Дарья Андреевна. — Они вон каждый год туда ездили — неужто я один раз не доберусь?
— Да ты ж сроду никуда не ездила, не знаешь ничего, — пробовала убедить ее Василенчиха. — Обидит дорогой кто-нибудь аль заболеешь…
Дарья Андреевна рассердилась снова.
— Не дело говоришь, Ивановна. Кто меня, старого человека, обидит? Или думаешь, что одна ты добрая, а остальные — ай нелюди?
— Ну, езжай, бог с тобой, — сдалась Василенчиха.
10
Уезжала Дарья Андреевна погожим сентябрьским утром.
С легким сердцем вышла она из пустого дома с заколоченными уже окнами, и на ее глазах сосед забил дверь косым дощатым крестом.
Провожала ее Василенчиха. Дарья Андреевна сказала ей, кивая на дом:
— Если кто приедет и жить будет негде — пусти, чего ему зря стоять.
— Ладно… А то, может, вернешься еще?
— Да нет уж, — вздохнула Дарья Андреевна.
— Землицы-то на могилку взяла себе?
— Взяла.
— А смертное?
— Взяла, взяла, — нетерпеливо сказала Дарья Андреевна, вглядываясь в дальний конец улицы — не едет ли машина. И когда машина вывернулась из-за угла, запылила, заблестела на солнце стеклами, Дарья Андреевна светлыми сухими глазами огляделась кругом, низко поклонилась остающемуся дому и, выпрямившись, отвесила такой же поклон Василенчихе.
— Прощай, Марья, не поминай лихом.
— Прости и ты, Христос с тобой, — согнулась в пояснице Василенчиха, уронив две крупных слезы, темными дождинками ударившихся в светлую сухую пыль.
Уехала Дарья Андреевна.
Отправилась она в путь с плохоньким обшарпанным чемоданом с незапирающимися замками, в котором самым ценным были письма всех ее сыновей и мужа. В нем же безбоязненно везла она все свои тысячи, зашитые в два полотняных мешочка. В большом, зашитом накрепко, двойной стежкой, лежали деньги мертвые, те восемнадцать тысяч с рублями и копейками, что были получены зимой. В маленьком мешочке были деньги живые, и зашила его Дарья Андреевна легонько, чтобы можно было по мере надобности брать на расходы. С чемоданом этим Дарья Андреевна не могла пройти и нескольких шагов, но на всем ее пути до Сахалина всегда находились люди, готовые помочь ей, и она бесстрашно вручала им свои богатства, непоколебимо уверенная в том, что никто не посмеет обидеть ее.
Долго ехала Дарья Андреевна — уж и счет потеряла дням. Были на ее пути реки, такие большие, каких никогда не видела она, обильные леса, удивлявшие ее своей густотой, серые каменные горы, так близко нависавшие над дорогой, что Дарья Андреевна в испуге отшатывалась от окна. Полдня ехали мимо синего озера Байкал, где поезд изгибался так круто, что без труда были видны его хвостовые вагоны, едущие куда-то вбок. Надолго ныряли в темные гулкие туннели, и зябко становилось Дарье Андреевне при виде этой тяжко грохочущей темноты. И не переставала она удивляться огромности страны, бесконечности лесов и полей. «Господи, земли-то сколько, — думала она, глядя в окно. — Если все распахать — это сколько же народу прокормить можно?»
Попутчиков за дорогу в одном только ее купе сменилось человек двадцать. Были старые и молодые, тихие и горластые, трезвые и пьяные, не все одинаково внимательны к ней, — да и не ждала она ничьего внимания, — но все как-то старались помочь ей, подсказать, чем-то услужить. И хорошо ей было от бескорыстной людской доброты.
В Хабаровске кто-то подсадил ее в такси, объяснил, к кому обращаться в аэропорту за билетом.
Когда подъезжали к аэропорту, что-то вдруг загремело, засвистело над крышей машины. Дарья Андреевна испуганно втянула голову в плечи, глянула в окно и увидела, как с тяжелым гулом стремительно несется к земле огромный белый самолет с маленькими, словно игрушечными колесами под узкими, далеко откинутыми назад руками-крыльями.
— Ой, батюшки-светы, убьется! — ахнула она.
Шофер с удивлением взглянул на нее и засмеялся.
— Да что вы, мамаша, это он на посадку идет.
— Фу, нечистая сила! — облегченно вздохнула Дарья Андреевна, вглядываясь туда, где скрылся самолет. — А я уж, грешным делом, подумала, что разобьется.
— Вы что, не летали никогда?
— Нет, и видеть-то не приходилось.
— Далеко вам лететь?
— До Южно-Сахалинска, — тщательно выговорила она длинное название.
— Ничего, долетите, — успокоил ее шофер. — Все летают — и ничего не случается.
Он развернулся на площади, Дарья Андреевна дала ему три рубля, и шофер тщательно, до копейки, отсчитал ей сдачу, вытащил из багажника ее чемодан и спросил:
— А билет у вас есть?
— Нету, сынок.
— Тогда вам лучше пока сдать чемодан в камеру хранения.
— А не украдут? — боязливо спросила Дарья Андреевна.
— Да что вы, мамаша, все сдают.
А про себя подумал, оглядывая ее неказистый чемодан: «Да и было бы что воровать…» И сказал, видя, что Дарья Андреевна колеблется:
— Стоит это всего пятнадцать копеек, зато от хлопот избавитесь. Чего вы будете таскаться с ним? Неизвестно еще, когда улетите. Давайте я донесу.
— Донеси, сынок, а то я не знаю, где…
Кладовщик пренебрежительным взглядом окинул ее чемодан, небрежно затолкал его вниз, куда ставил самый нестоящий багаж, и дал Дарье Андреевне в обмен на пятнадцать копеек холодную жестяную кругляшку с выбитым номером. Дарья Андреевна сказала «спасибо», поблагодарила и шофера и пошла к зданию аэропорта.
Залы аэропорта были густо заполнены усталыми людьми, перегорожены очередями, вдоль стен до высоких подоконников громоздились горы узлов и чемоданов. Дарья Андреевна, оглохшая от плотного гула голосов, растерянно остановилась у входа, подумала с тоской: «Батюшки, народу-то сколько… Как же я на самолет сяду?» На секунду показалось ей, что весь этот ожидающий люд летит туда же, куда и она, но тут же Дарья Андреевна рассердилась на себя: «Вот старая перечница, и впрямь из ума выжила…» И решительно обратилась к первому попавшемуся мужчине, спросила, где взять билет до Южно-Сахалинска. Тот отвел ее к кассе, и, выстояв полчаса в очереди, Дарья Андреевна подала деньги и сказала, куда ей нужно.
— На какой рейс? — не глядя на нее, спросила толстая красивая кассирша с ярко накрашенными губами и черными подведенными глазами.
— Да на какой будет.
— Только на завтра, вечером.
— Ну, на завтра так на завтра, — вздохнула Дарья Андреевна.
— Документы.
Дарья Андреевна подала метрику, но кассирша почему-то сунула ее обратно и неприветливо сказала:
— Не то даете, гражданка. Паспорт надо и пропуск.
— Нету у меня паспорта, — потерянно сказала Дарья Андреевна.
— Как так нету? — вдруг закричала тонким неприятным голосом кассирша. — Что вы мне голову морочите? У всех есть, а у нее нету!
— А чего ты кричишь-то, милая? — тихо сказала Дарья Андреевна. — Нету у меня паспорта… Из деревни я, а там сроду ни у кого паспортов не бывало.
— Тогда пропуск, — уже тише сказала кассирша, только сейчас, видимо, разглядев ее старую седую голову в нешироком пространстве между толстыми мутными стеклами со следами множества пальцев на них.
— Какой пропуск? — не понимала Дарья Андреевна.
— Да что я вам, нянька, что ли? — снова раздражаясь, повысила голос кассирша. — Читайте, грамотная небось, там все написано.
Она ткнула куда-то за плечо себе, на черную табличку, на которой написано было, что гражданам, направляющимся в пограничные зоны и не имеющим местной прописки, нужно иметь специальное разрешение на въезд. Кассирша решила, что с этим покончено, и крикнула:
— Следующий!
Но в очереди, слышавшей ее разговор с Дарьей Андреевной, возмущенно кто-то начал стыдить кассиршу, та зло отговаривалась, а двое стали расспрашивать Дарью Андреевну, зачем она летит в Южно-Сахалинск. Один из них, высокий мужчина лет сорока, повел ее куда-то, осторожно поддерживая под локоть. И Дарья Андреевна, не понимавшая, почему ей не дают билета и что требуют от нее, покорно пошла, думая в отчаянии: «Да как же это? Почему не пускают?»
Мужчина привел ее в просторный кабинет, заполненный возбужденными людьми, обступившими стол, за которым сидел толстый человек в синем кителе с серебряными нашивками. Люди что-то требовали от него, размахивали билетами, говорили сразу в несколько голосов, человек в кителе негромко и спокойно отвечал им, но люди почему-то продолжали кричать, кто-то уходил, сердито хлопая дверью, приходили другие, пытались протиснуться к столу, вытянув над головой руки с билетами, и тоже начинали требовать что-то громкими голосами. Мужчина, с которым пришла Дарья Андреевна, постоял немного, оглядываясь, и принялся расталкивать толпу у стола, держа Дарью Андреевну за руку, вежливо, но твердо говорил:
— Разрешите, пожалуйста, разрешите…
Его тоже отталкивали, сердито оглядывались, но, увидев Дарью Андреевну, расступались с ворчанием, и она оказалась у самого стола.
— Слушаю вас, — сказал мужчина в синем кителе, переводя взгляд с Дарьи Андреевны на того, кто привел ее. Тот стал объяснять, но в кабинете было шумно, и мужчина в кителе сказал громким властным голосом:
— Тихо!
И сразу стало тихо, говорить продолжали только шепотом.
— Слушаю вас, — повторил мужчина в кителе и, выслушав объяснение, внимательно посмотрел на Дарью Андреевну усталыми глазами, мягко спросил: — Зачем вы на Сахалин летите?
— Так… сыновья у меня там, гражданин начальник, — почему-то оробела вдруг Дарья Андреевна, стесняясь людей, столпившихся у нее за спиной.
— Почему же они вызов вам не дали?
— Вызов? — переспросила Дарья Андреевна. — Так ведь нет их там больше…
— Как так нет? — удивился начальник. — Вы же только что сами сказали, что у вас там сыновья.
— Были, гражданин начальник… Утонули.
Совсем тихо стало в кабинете, и слышно было, как тонко жужжит вентилятор на столе.
— Утонули? — переспросил начальник, словно припоминая что-то. — Когда?
— Нонешней зимой… Вот письмо у меня, — заторопилась Дарья Андреевна, вытаскивая письмо, где сообщалось о гибели ее сыновей.
Начальник быстро пробежал глазами письмо, тихо сказал:
— Ясно… Да вы садитесь… Дайте там кто-нибудь стул.
Чьи-то руки торопливо подставили ей стул, мягко тронули за плечо, и Дарья Андреевна села.
— Сейчас все сделаем, мамаша, не волнуйтесь.
Начальник написал что-то на бумаге, сложил и подал ей:
— Вот, мамаша, пойдите в ту же кассу, в очередь не становитесь, отдайте эту бумажку, и вам билет дадут. Через два часа улетите.
— Как через два часа? — до крайности удивилась Дарья Андреевна. — А там сказали, что только завтра вечером.
— Ну, сказали, а теперь я вам говорю — через два часа улетите. Вы проводите ее? — спросил он у мужчины, который привел ее сюда.
— Разумеется, — торопливо ответил тот.
— Проследите, пожалуйста, чтобы ей все верно сделали. Если что — пусть оттуда соединят со мной.
Когда выходили они, люди, бывшие в кабинете, широко и молча расступились, пропуская их.
И через пять минут, зажав в кулаке билет и посадочный талон, отблагодарив своего благодетеля, — он же вызволил из камеры хранения ее чемодан, отдал куда-то, сказав, что она получит его в Южно-Сахалинске, — Дарья Андреевна пошла по залу, разглядывая людей. «Господи, и куда столько народу едет?» — думала она, жалея их, спящих прямо на каменных лестничных площадках, а особенно бледных, разморенных усталостью детей, клубками свернувшихся в кожаных креслах. Потом поднялась на второй этаж, удивилась виду сплошных стеклянных стен, вышла на длинную железную веранду, тянувшуюся вдоль всего здания, и стала глядеть на близко стоявшие самолеты.
Страшно и любопытно было ей смотреть, как самолеты садятся. Первая увиденная посадка напугала ее до смерти. Самолет так быстро приближался к земле, что Дарья Андреевна в страхе сцепила руки и подумала: «Господи, убьется…» И когда увидела, как колеса коснулись земли и из-под них вырвались два синих облачка дыма, закрыла глаза, ожидая грохота взрыва. Но ничего не было, и когда она открыла глаза, то увидела, что самолет уже далеко и поворачивается на месте, и потом он медленно поехал обратно, с негромким свистом подкатился к зданию аэропорта, покачиваясь на высоких прочных колесах, уже не казавшихся Дарье Андреевне такими маленькими. Затем сама подъехала к самолету лестница, скоро по ней стали спускаться живые веселые люди, Дарья Андреевна сверху смотрела на них и взглянула на небо, не веря, что они только что оттуда и сама она через два часа тоже поднимется в эту высоту.
Наконец объявили посадку и на ее рейс.
У низкой самолетной двери встретила Дарью Андреевну ладно одетая девушка с синими ласковыми глазами и провела в голову самолета, усадила у окна. Потом другая девушка зачем-то сказала, что надо привязаться ремнями, и все зашевелились, заворочались в креслах, доставая откуда-то из-под себя широкие ремни с белыми бляхами и застегивая их на животе.
— А зачем привязываться-то, сынок? — всполошилась Дарья Андреевна, трогая за руку соседа, молодого парня.
— Так положено, бабуся, — белозубо улыбнулся парень. — Давайте-ка я застегну вам.
И он вытащил откуда-то ремни и ловко защелкнул на Дарье Андреевне, и она успокоилась, потому что все кругом были спокойны. Но когда самолет стал разгоняться, и Дарью Андреевну потащило куда-то вверх, и она увидела в кривом, выгнутом наружу оконце, как быстро проваливается вниз знакомая надежная земля, а потом вдруг потемнело, — от страха ей стало даже жарко, она закрыла глаза и уныло подумала: «Вот дура старая, чего поперлась? Умирала бы себе дома, а то ить пока долетишь до земли, ни одной косточки целой не останется…» И хотя умом понимала она, что нечего бояться, ведь давным-давно летают эти самолеты и ничего не случается, но страх, вызванный необычным ощущением пустоты внизу, не проходил. Но шли минуты, ничего не случалось, самолет все так же ровно лез куда-то в гору, и Дарья Андреевна, оглядевшись кругом, увидела, что все по-прежнему спокойны, кто-то уже спал, вытянувшись в низко откинутом кресле, и она успокоилась. А потом сосед расстегнул ей ремень, Дарья Андреевна сказала «спасибо» и, осмелев, глянула вниз, за окно. Там незнакомо лежали белые снежные облака, ярко освещенные солнцем.
Но еще раз пришлось ей сильно испугаться, когда самолет пошел на посадку и задрожал, затрясся на ему одному видимых ухабах. А когда увидела она, как неотвратимо несется навстречу земля с острыми зубцами елок на ней, — откинула голову на спинку кресла и обреченно подумала: «Пришла моя смертынька…» Неожиданно стукнуло что-то под полом, жутко загремело, толкнуло Дарью Андреевну вперед, она закрыла глаза: «Все…» Но гремело все меньше, ремень на ее животе ослаб, и наконец поехали совсем тихо, плавно, и Дарья Андреевна открыла глаза, не веря тому, что жива и снова уже на земле. Но так было — виднелись за окном не облака, а лес и маленькие серые дома. Окончательно пришла она в себя, когда ступила на твердую бетонную землю аэродрома и увидела вдали город и невысокие горы за ним. И, пошатываясь на ненадежных ногах, засеменила прочь от этого белого чудища с чумазыми жерлами двигателей и прямыми железными крестами спокойных винтов, уставших от долгого бешеного вращения.
Когда ехала в город, вспомнила она слова Геннадия об этом острове: «Красивая земля, мать…» И подумала, глядя на сопки: «И правда, красивая…»
И за всеми этими хлопотами, впечатлениями, переживаниями уже не вспоминала она о том, что приехала на Сахалин умирать.
11
Спустя два часа она уже ехала в поезде, смотрела в окно, видела, как разверзаются под колесами глубокие пропасти, но страшно ей было только чуть-чуть, — кругом сидели спокойные, добрые люди, и она уже понимала, что ничего не может случиться с ней, пока они сидят рядом, разговаривают, читают газеты и книги. На вокзале в Южно-Сахалинске поднесли ее чемодан, на расспросы отвечали сразу несколько человек, подробно объяснили, как доехать, и кто-то купил ей билет и посадил на поезд. Не беспокоилась она даже о том, как бы не проехать свою станцию, потому что человек, посадивший ее в поезд, сказал сидящим рядом, чтобы они подсказали ей, где сойти.
А потом она увидела море. Дарья Андреевна не сразу поняла, что это такое, потому что море, убившее ее сыновей, не могло быть таким синим, гладким и ласковым, и она решила, что это какая-то другая вода, а море будет потом. Но поезд долго стучал по узким рельсам, а эта синяя вода все еще нескончаемо была кругом, и Дарья Андреевна спросила соседку:
— Дочка, это что, море?
Соседка оторвалась от газеты, глянула в окно и чуть-чуть удивленно сказала:
— Ну конечно, море.
Дарья Андреевна молча перевела взгляд за окно, на море, все еще не понимая, как оно, такое тихое и доброе, могло убить ее сыновей.
Над гладкой поверхностью моря висело большое красное солнце, и Дарья Андреевна подумала, что там, в родных местах, оставленных ею, солнце никогда не бывает таким большим и красным. И на минуту стало ей страшно, когда она поняла, что теперь надо будет начинать новую жизнь в этих краях, где даже солнце другое. И все-таки даже в голову ей не пришло, что можно хоть сейчас вернуться назад и тихо умереть в своем доме. Да и по-прежнему не помнила она о том, что ехала сюда умирать, и минута страха прошла и сменилась нетерпеливым ожиданием — ведь скоро увидит она дом, в котором жили ее сыновья, и, может быть, уже сегодня встретит людей, знавших их. И она продолжала с любопытством смотреть в окно, поражаясь огромности придорожных лопухов, — некоторые, как и рассказывал когда-то Геннадий, были выше человеческого роста, — необыкновенному запаху воздуха, врывавшегося в открытое окно, и вообще всему, что видела.
И наконец сказали ей, что сейчас выходить, проводили до двери и вынесли ее чемодан.
И увидела Дарья Андреевна этот город. Был он невелик, узко тянулся вдоль моря, плавно изгибаясь широкой дугой, состоял из обширной территории порта и, по существу, одной только улицы, длинно и криво бегущей между сопками и морем. К этой улице примыкали с обеих сторон коротенькие переулки, тупички, путаные закоулки, но все это разглядела Дарья Андреевна уже потом, когда узнала здесь все. А сейчас стояла она, озираясь кругом, пока не подошел к ней крепенький скуластый морячок в форменке с двумя острыми желтыми нашивками на рукаве.
— Бабушка, вам помочь?
— Помоги, дитятко, помоги, — обрадовалась Дарья Андреевна.
Морячок подхватил ее чемодан и спросил:
— Куда нести, на автобус?
— А не знаю, сынок. Вот сюда мне надо.
И она показала бумажку с адресом.
— Ну, это близко. Можно и на автобусе, одну остановку всего, а если хотите, пойдем пешком.
— Ну, пойдем пешком, — решила Дарья Андреевна.
Морячок споро зашагал впереди, Дарья Андреевна едва успевала за ним, и морячок останавливался, поджидая ее, но тут же снова убегал вперед, — видно, он просто не умел ходить медленно. Заметив наконец тяжелое дыхание Дарьи Андреевны, — а она не посмела просить его идти потише, решила, что он торопится куда-то, — морячок смутился, спросил:
— Устали, бабушка? — И бодро добавил: — Ничего, совсем немного осталось, вон это общежитие, — показал он на здание за железной дорогой.
— Где? — спросила Дарья Андреевна, посмотрела туда, куда показывал он рукой, и остановилась. — Погоди-ка, сынок, — попросила она. Морячок поставил чемодан, и Дарья Андреевна опустилась на него.
Наконец-то она увидела этот дом, — белый, каменный, четырехэтажный, — и поняла, что здесь жили ее сыновья, отсюда они приезжали к ней и уезжали сюда снова и ушли совсем, чтобы не вернуться, — и глядела на него, не отрываясь, а потом опустила голову на руки и заплакала — впервые с тех пор, как узнала о смерти детей.
— Что с вами, бабушка? — встревожился морячок. — Плохо вам?
Дарья Андреевна не отвечала и продолжала плакать. Шли мимо люди, замедляли шаги, видя старуху с белой трясущейся головой, согнувшуюся в тихом плаче, и растерянного морячка с темным юным пушком на верхней губе рядом с ней, и кто-то подошел и спросил его, почему она плачет, и морячок пожал плечами и сказал, что не знает. Это услышала Дарья Андреевна, подняла голову и вытерла глаза, но слезы все катились по ее лицу, она не успевала вытирать их и сказала:
— Пойдем, сынок, это ничего…
Так, плача, вошла Дарья Андреевна в дом ее сыновей, которому отныне суждено было стать и ее домом, и когда обступили ее три женщины, вышедшие из загородки слева, она с трудом выговорила, кто она такая, и подала им все то же письмо, посланное отсюда полгода назад, и женщины, тихо посовещавшись о чем-то, отвели ее в небольшую комнатку на третьем этаже, усадили на чисто застеленную постель и спросили, не нужно ли ей чего-нибудь. Дарья Андреевна мотнула головой, и женщины ушли, скоро одна из них принесла какую-то еду, тихо сказала что-то, но Дарья Андреевна не поняла ее и ничего не ответила, и женщина ушла. Дарья Андреевна, не раздеваясь, легла на кровать, почувствовала все свое старое тело и заболевшее вдруг сердце и продолжала плакать и всхлипывать, не зная, как остановить этот поток слез, хлынувших из нее после долгих месяцев тупого равнодушного страдания. Так и уснула она одетая, со следами слез на глазах, и во сне лицо ее разгладилось, стало спокойным и ясным, и дышала она ровно и тихо, и спала до утра, не просыпаясь.
Проснувшись, она увидела в окне, за крышами портовых складов, спокойное синее море, освещенное солнцем, и глубоко вздохнула, радуясь концу долгого пути. По тихим спящим коридорам вышла на улицу, направилась к берегу. Идти ей пришлось долго, вдоль длинных глухих заборов, мимо высоких железных ворот, охраняемых строгими людьми в форме и с оружием, и наконец узкий проулочек вывел ее на широкий яркий простор, уходящий в далекую бесконечность неба. Тихим, почти неслышным шагом подошла Дарья Андреевна к морю, осторожно нагнулась и тронула рукой чистую холодную воду. Потом развязала принесенный с собой мешочек, отделила половину мягкой, рассыпавшейся в пыль за время дороги земли, что везла она на свою могилу, и бережно высыпала в светлую прозрачную воду. Маленькая волна ласково подкатилась к ее ногам и унесла с собой мутный темный клубок. Дарья Андреевна села на гладкий холодный камень и, сощурив глаза, уставшие от синего блеска, тихо заплакала, отдаваясь светлой спокойной печали в своей душе.
Потом она медленно и долго шла по городу, вглядываясь в дома, в людей, среди которых ей предстояло теперь жить, думала о том, позволят ли ей остаться в доме, где были ее сыновья, или придется искать себе какое-нибудь пристанище. Высоко на горе заметила она что-то непонятное, обнесенное белой сплошной оградой, — как будто кто-то стоял, протягивая одной рукой что-то к небу, а другой поддерживая склонившуюся у его ног, падающую куда-то человеческую фигуру. Она спросила у высокого молодого моряка:
— Сынок, что это там такое?
Тот посмотрел вверх и ответил:
— Памятник, мамаша.
— Кому?
— Тем, кто в море погиб.
Дарья Андреевна подумала немного и с надеждой спросила:
— Всем?
— Ну как, всем? — Моряк внимательно посмотрел на нее. — Тем, кто в море погиб, я же сказал.
— И тем, которые нонешней зимой утонули?
— На «Маломе», что ли?
— На ней, на ней, сынок, — заторопилась Дарья Андреевна.
— Им тоже, само собой.
— А как пройти туда?
Моряк с головы до ног оглядел ее и сказал:
— Не доберетесь вы туда, мамаша, дорога очень крутая.
— Доберусь, ты только скажи как, — уверенно сказала Дарья Андреевна, нетерпеливо поглядывая на него. Моряк объяснил ей, как пройти к памятнику, и виновато сказал:
— Я бы проводил вас, да времени нет. Вы бы попросили кого-нибудь, чтобы помогли вам.
— Сама доберусь, сынок, иди, иди, спасибо тебе.
И Дарья Андреевна пошла к памятнику. Сначала дорога шла ровная, твердая — и вдруг уперлась в крутой откос с едва заметными ступеньками-выемками на склоне. Видно, не так уж много народу ходило сюда. Дарья Андреевна поискала глазами, нельзя ли как-нибудь еще пройти туда, но никакой другой дороги как будто больше не было. И она полезла по этим ненадежным ступенькам, цепляясь руками за высохшую траву. И наконец дрожащими ногами ступила на чистые каменные плиты, пошла к памятнику, помутившимися от усталости глазами стала разглядывать его. И, едва успев окинуть взглядом грубо вытесанные из камня фигуры, — их было три, а не две, как показалось ей снизу, — она увидела фамилии, высеченные на боковых плитах. Опустившись на подножие памятника, она стала читать их. И чуть качнулась вперед, прочитав: «Харабаров Г. Г.». И следующую за ней: «Харабаров Н. Г.». Она прочла еще раз и, поняв наконец, что это фамилии ее сыновей, хотела встать, чтобы подойти поближе, но ноги не удержали ее, она упала на колени и, не пытаясь больше подняться, так и проползла несколько шагов, отделявших ее от стены, и припала трясущейся головой к ее холодной каменной тверди…
12
Опомнилась она от того, что чьи-то сильные руки бережно подхватили ее и оторвали от земли.
— Встань, мать, простудишься, — сказал чей-то негромкий гулкий голос. Она подняла голову и сквозь мутную пелену, застилавшую глаза, очень близко увидела большое небритое лицо и внимательный жалеющий взгляд незнакомца. Он отвел ее к памятнику, постелил на камень свою куртку, резко пахнущую морем, и усадил Дарью Андреевну.
— Спасибо, сынок, — прошептала Дарья Андреевна.
Незнакомец промолчал, внимательно разглядывая ее, потом кивнул на стену с фамилиями:
— Сын?
— Двое…
— Двое? — Незнакомец сдвинул брови и, не спуская с нее глаз, немного растерянно сказал: — Значит, Харабаровы, раз двое…
Дарья Андреевна ахнула.
— Да ты аль знал их, сынок?
— Как не знать, вместе плавали три года назад…
— Господи… — Дарья Андреевна заплакала и невольно склонилась к широкому плечу незнакомца, но тут же вскинула голову и стала разглядывать его лицо, приговаривая: — Да как же это, сынок? И вправду знал, а? Да как же это? Как зовут-то тебя?
— Виктором, а фамилия Кротов.
— Витя, сыночек… — всхлипывала Дарья Андреевна. — Да как же утонули они? Как не убереглись-то?
— Да так уж… — помрачнел Виктор. — Тут, мать, как в лотерее — кому повезет, кому нет.
А Дарья Андреевна все всхлипывала и держалась рукой за плечо Виктора, словно боялась, что этот неожиданный человек, знавший ее сыновей, вдруг исчезнет куда-то.
— А как же ты здесь оказалась, мать? — спросил Виктор.
Дарья Андреевна, успокаиваясь, рассказала ему, откуда приехала, где остановилась, как зовут ее, и когда Виктор спросил, долго ли она собирается быть тут, робко взглянула на него:
— Насовсем хотела бы, если дозволят.
— Ну, как это не позволят? — Виктор даже удивился. — Не бойся, все сделаем, поможем… В «богадельне» хочешь остаться?
— В какой «богадельне»? — испугалась Дарья Андреевна, и Виктор смутился:
— Да это так, с языка сорвалось. Мы так наше общежитие называем…
— Так, конечно, хотела бы…
— Сделаем, мать, — уверенно сказал Виктор. — Я ведь тоже там живу, на четвертом этаже, восемьдесят первая комната. Если нужно что будет — в любое время приходи, за всякой помощью.
— Вот спасибо, сынок, а то ведь я ничего не знаю здесь, как да что… Витя, сыночек, — тронула она его за руку, — расскажи ты мне о них, о Гене и Коле.
— Ну, что о них рассказывать… — запнулся Виктор. — Сыновья у тебя были — дай бог каждому… Рыбаки настоящие, работать умели — любо-дорого смотреть было. И товарищи надежные, с такими хоть куда, не подведут… Знаешь что, мать? А это ничего, что я тебя так называю?
— Называй, называй, они тоже меня так звали… А у тебя-то мать есть?
— Нету, детдомовский я… Давай-ка помянем их, а?
Виктор вытащил из карманов бутылку водки, стакан, луковицу, несколько сухих серебристо-коричневых корюшек. Виновато взглянув на Дарью Андреевну, он объяснил:
— Сюда ведь многие как на могилку приходят, корешей поминают… дружков то есть. Я тоже после каждого рейса первым делом сюда иду, хороший кореш у меня был, Сеня Ромоданов, вон, — кивнул он на стену, — во втором ряду его фамилия. Земляки мы с ним, с Тамбовщины, сколько лет вместе кантовались. Тоже не повезло ему, смыло штормом четыре года назад, на моих глазах прямо… Был вот — и нету, — горестно качнул головой Виктор, плеснул чуть-чуть, на донышко, и протянул стакан Дарье Андреевне: — Выпей, мать, помяни сынов своих и Сеню, друга моего…
— Выпью, сынок, — дрогнула голосом Дарья Андреевна, — за них как не выпить, царствие им небесное…
И Дарья Андреевна выпила горькую водку, тихо роняя слезы, зажевала корюшкой.
— Эх, жизнь! — крякнул Виктор, с размаху налил себе полный стакан и, не морщась, выпил, захрустел луковицей.
Сидели молча, смотрели на каменные плиты, иссеченные прямыми бронзовыми строчками фамилий. Потом внизу, близко где-то, раздались голоса, и взобрались на холм, отдуваясь, два молодых, модно одетых парня в темных очках, с фотоаппаратами и плащами-болоньями через плечо. Виктор недружелюбно скосил глаза в их сторону, проворчал:
— Принесла нелегкая…
Двое, разговаривающие уверенными громкими голосами, сфотографировали памятник, плиты с надписями, потом один из них изогнулся у подножия, оперся о памятник рукой, а другой стал наводить на него аппарат. И тут Виктор встал и решительно направился ко второму, негромко сказал:
— А ну-ка, убери свою щелкалку.
— Это еще почему? — тот удивленно повернул к нему большие черные стекла очков.
— Потому… Здесь вам не цирк.
— А что здесь? — со спокойной иронией спросил тот, что стоял у памятника, и снял очки.
— А ну, мотайте отсюда… — тихо, с едва сдерживаемой яростью сказал Виктор, шагнул к парню с фотоаппаратом, и тот попятился, сказал товарищу:
— Пойдем, Стас, это псих какой-то…
Ушли, враждебно оглядываясь, бормоча под нос ругательства. Виктор снова сел рядом с Дарьей Андреевной, молча склонился, невесело глядя себе под ноги. Молчала и Дарья Андреевна, смотрела на плиты, принялась зачем-то считать фамилии — их оказалось семьдесят девять. Три плиты были исписаны полностью, четвертая на две трети сияла белой каменной чистотой.
Дарье Андреевне стало не по себе, она посмотрела на Виктора, страшась за него. А тот, встретив ее взгляд, обеспокоенно спросил:
— Устала, мать? Может, пойдем?
— Идем, сынок.
Даже с помощью Виктора спуститься с холма оказалось не так-то просто. Дарья Андреевна, оскальзываясь, почти скатилась вниз, спросила с невольной укоризной:
— Что ж дорогу-то к такому месту не сделали?
— Денег не хватило. Памятник-то на наши средства, собранные всем городом, строили. Все хотим как-нибудь сами ступеньки сделать, да руки не доходят.
Он бережно повел Дарью Андреевну в общежитие, причудливо прозванное «богадельней». Называлось оно так потому, что плата за жилье была смехотворно низкая — какие-то копейки в сутки, — а можно было и месяцами жить беспошлинно — контора запомнит, запишет, вычтет потом из заработка. И уже к вечеру пронесся по общежитию слух, что приехала мать Харабаровых, утонувших зимой на «Маломе», и будет, видно, ходить и искать тех, кто знал ее сыновей. Таких оказалось не так уж и мало, и как-то само собой решено было между ними, что говорить о Генке и Кольке только хорошее. И в тот же день многие увидели Дарью Андреевну, осмотрели, единогласно решено было — старушка добрая, тихая, одним словом — «правильная», и если кто обидит ее хоть ненароком — тому плохо будет.
И Дарья Андреевна вместе с Виктором, прочно взявшим ее под свою опеку, пошла по этажам. Указали ей комнаты, в которых жили ее сыновья, — их оказалось шесть, — и наплакалась и нарыдалась она вволю, слабыми руками ощупывая кровати, столы, тумбочки, которых касались руки ее сыновей. И слушала, что говорили ей… Рассказы эти были очень похожи один на другой — да и что особенного могли рассказать ей рыбаки? Как работали ее сыновья, как мерзли и мокли, как уставали, что ели и пили… Но Дарья Андреевна слушала каждый рассказ как бы заново, словно и не говорили ей только что почти то же самое. И хоть и догадывалась она, что не обо всем рассказывают ей, но молчала, сама почти ни о чем не спрашивала.
Под конец этого обхода встретился им пьяненький Ванька Губин, — распоследний алкаш, совсем уж доходяга, — и полез было к Дарье Андреевне целоваться, но Виктор перехватил его и легонько толкнул на койку. Ванька, не обижаясь, умильно смотрел на Дарью Андреевну, почти плакал, рассказывая:
— Ну да, пьяный я, мамаша, а что делать? Такая жизнь наша пропащая… А если бы не пьянство… да я бы вместе с этой «Маломой» и вашими сыновьями на дно пошел…
И Ванька рассказал Дарье Андреевне историю своего чудесного спасения, в подробностях известную каждому в городе. Ванька зачислен был на «Малому», собирался к утру явиться в порт, чтобы идти в море, да прибыли вдруг с рейса кореша-богодулы, — Дарья Андреевна уже знала, что странное слово «богодул» означает «пьяница», «гуляка», — зацепили с собой, и закеросинил Ванька на всю железку, так что дым столбом пошел, и опоздал к отходу «Маломы». Ваньку списали в резерв, а когда узнал он, что «Малома» со всей командой пошла ко дну, поклялся, что больше никогда не выйдет в море, и вот с самой зимы каждодневно напивается в стельку, празднуя свое спасение, сшибает рюмки и не нарадуется тому, что жив остался… Досказав свою историю, Ванька тут же свалился и заснул, а Дарья Андреевна, утомленная долгими разговорами, ушла к себе в комнату — плакать… Плакалось ей теперь легко.
И с комнатой этой все устроилось как нельзя лучше. Виктор написал за нее какие-то бумаги, — Дарья Андреевна только подписалась под ними, — взял ее метрику, сходил в милицию, еще куда-то, и через две недели ей выдали новенький, негнущийся паспорт. И дело ей нашлось — стала работать уборщицей. Не из-за денег, конечно, — но тело ее, с малых лет жившее работой, запросило работы и сейчас. И хотя порой и сильно уставала она за день, но никогда не жаловалась и не просила ничьей помощи. Все шесть комнат ее сыновей, хоть и были на разных этажах, оказались в ее ведении, и их она убирала с особенным тщанием.
Спустя месяц после приезда увидела она, каким грозным может быть море, и поняла, как могло случиться, что погибли ее сыновья. На остров обрушился тайфун с красивым, нерусским женским именем. О приближении его знали заранее, и хотя даже в день его прихода с утра светило солнце, город тревожился. В комнату Дарьи Андреевны пришел Виктор, озабоченно осмотрел окно, подергал закрытую форточку и серьезно сказал ей:
— Ты, мать, самое главное, не бойся. В случае чего — приходи ко мне.
— А чего бояться-то? — не поняла Дарья Андреевна, оглядывая свое убежище, казавшееся ей очень надежным.
— Ну, мало ли чего… Вдруг стекло вылетит. И на улицу ни в коем случае не выходи.
К обеду солнце скрылось и потемнело так быстро, что Дарье Андреевне пришлось включить свет. Но пока тихо было. И среди этой тишины вдруг с гулом покатилось что-то по городу, ударилось в дом, зазвенели в окне стекла, с дерева напротив окна за одну какую-то секунду слетели почти все листья и оно круто изогнулось и судорожно затряслось всеми своими голыми ветвями. Еще увидела она, как в доме, что стоял внизу, чуть наискось, из открытой почему-то форточки бесшумно выпрыгнуло стекло и осколки длинным косым веером отнесло далеко в сторону. А потом с тяжелым шумом обрушился дождь, и сквозь него уже почти ничего не было видно. Весь дом дрожал, страшно и гулко грохотал крышей, и Дарья Андреевна испуганно забилась в угол, опасливо поглядывая на звенящее окно, и ей казалось, что стекла выгибаются под напором этого необыкновенного могучего ветра. Потом дождь перестал, ветер тут же чуть ли не насухо вытер стекла, открылось за ними низкое, черными дымными тучами клубящееся небо, на которое жутко было смотреть Дарье Андреевне, и все же словно какая-то неведомая сила подняла ее и потянула к окну. По улице сплошной, отчетливо видимой стеной двигался ветер. С непостижимой легкостью нес он на себе листья, ветки, куски бумаги и фанеры, пустые консервные банки. Синим звездчатым клубком вспыхнули перепутавшиеся провода, и свет в комнате погас. Дарья Андреевна посмотрела в сторону моря, увидела, как над крышами портовых складов вздымаются и медленно опадают широкие белые столбы воды, и так страшно ей стало, что она поспешно отошла от окна, легла на кровать и закрыла голову подушкой, чтобы не слышать рева урагана. До ночи лежала так, а потом уснула.
Когда проснулась, было уже утро, и хотя вдалеке беспрерывно и мерно грохотало что-то, — Дарья Андреевна еще не знала, что так шумит море после шторма, — ей показалось, что на улице совсем тихо. Она оделась и вышла. Улица и тротуары были густо засыпаны опавшей листвой, осколками стекла, кое-где прямо на землю свисали оборванные провода. Прошла машина, нагруженная с корнем вырванными деревьями.
Знакомой дорогой Дарья Андреевна пошла к морю и по пути увидела стоявший в низинке дом, с которого сорвало крышу, и она, проломленная в двух местах, лежала на огороде, и серый обнаженный потолок, засыпанный красными кирпичными обломками, казался кровавой раной. Дарья Андреевна невольно отвела взгляд и ускорила шаги. А когда открылось перед нею море, она вздрогнула и попятилась назад, — так страшно было то, что увидела она. Там, где совсем недавно была спокойная солнечная гладь, теперь медленно двигались стальные холодные горы воды и с тяжким грохотом разбивались о берег, и от этих ударов земля под ногами Дарьи Андреевны гудела и вздрагивала, словно от боли. И страшно было даже не от огромности волн, а от той неотвратимости, с которой накатывались они на берег, — казалось, не может быть такой силы, что способна была бы остановить эти неторопливые, бесконечно идущие друг за другом валы. Дарья Андреевна так и не осмелилась подойти поближе, поспешила назад.
Через два дня город хоронил двух рыбаков, погибших во время шторма, — их смыло с плашкоута и разбило о камни. Народу за гробами шло много, — чуть ли не все, кто был свободен в этот вечер, — шла и Дарья Андреевна, держась за руку Виктора. Когда сказана была короткая речь и могилы стали забрасывать землей, Дарья Андреевна заплакала. В толпе хмурых, молчаливых людей ее плач отчетливо был слышен всем, и какой-то заезжий человек, случайно оказавшийся на похоронах, спросил у соседа:
— Кто это плачет?
— Мать, — был краткий ответ.
— Чья мать? — допытывался тот.
— Обоих.
— Да разве они братья? — удивился заезжий человек.
Тот, кого он спрашивал, недружелюбно посмотрел на него и молча отвернулся, а другой, помедлив, негромко сказал:
— Тут нынче все братья…
13
Прошло четыре года. Дарья Андреевна так крепко сжилась с городом, с общежитием, что редко уже вспоминала о своей прежней одинокой жизни в деревне. Давно знала она едва ли не всех в городе, и все знали ее и горькую историю гибели ее сыновей. Случалось, что останавливались в общежитии ненадолго приезжавшие люди, им скоро становилась известна история Дарьи Андреевны, и при встрече они с любопытством и жалостью оглядывали ее, поражаясь безмерности горя, обрушившегося на душу одного человека. И многие не понимали, как она после всего пережитого может быть так спокойна и приветлива, почему так ясно смотрят ее светлые глаза, — казалось им, что ни во взгляде ее, ни в старом, самом обыкновенном лице не отразилось и сотой доли тех переживаний, что должны быть после столь тяжких потрясений. А прослышав о чудачествах и странностях Дарьи Андреевны, они находили ответ, казавшийся им самым естественным: «Старуха из ума выжила, ничего не помнит…»
А чудачества эти начались с той первой осени, когда Дарья Андреевна приехала сюда. Как-то встретила она в коридоре Ваньку Губина, зазвала к себе, напоила чаем и стала расспрашивать, есть ли у него родители, семья и что он собирается дальше делать — не век же будет таскаться по забегаловкам, ждать подачек от подгулявших рыбаков. Ванька расчувствовался, стал бить себя кулаком в грудь и плакаться на неудавшуюся жизнь, признался, что в море идти он просто боится, да и комиссия «задробила» под корень, не пускает даже в малое прибрежное плаванье, — от постоянного пьянства у него поднялось давление и непроходящая трясучка в руках, — а что дальше делать, он и сам не знает, видно, так и придется под забором, как собаке, подыхать. Дарья Андреевна спросила, почему же он тогда не уедет отсюда. Ванька сказал, что уехать он готов хоть сейчас, в деревне под Калугой у него старая мать, давно уже просит, чтобы он вернулся, да как тут уедешь, если денег ни копейки, все давно спустил с себя. Дарья Андреевна спросила, сколько денег ему нужно, чтобы уехать и как-то перебиться первое время. Ванька, еще не понимая, к чему все это, сказал, что на одну дорогу надо почти две сотни, — а где их взять? И тогда Дарья Андреевна дала ему двести пятьдесят рублей. Ванька вытаращил глаза от такой непонятной щедрости, — давно уже от других он не слышал ничего, кроме матюков, — чуть ли не бухнулся перед ней на колени и слезно поклялся, что век не забудет ее доброты, тут же отправится на материк, а деньги постепенно вышлет ей, как начнет работать. И Ванька действительно отправился в Южный, купил билет до Москвы. Но тяжелая сахалинская погода намертво приковала к земле самолеты, и Ванька скоро пропил и оставшиеся после покупки билета деньги, и сам билет, и с тридцатью копейками в кармане снова появился в общежитии — больше деваться было некуда. Два дня он прятался в комнате, боясь показаться на глаза Дарье Андреевне, но она все-таки узнала о его возвращении и сама пришла к нему. Ванька громогласно каялся, щедро обзывал себя подлецом и негодяем, говорил, что его убить мало за такие штуки, — а кончилось все тем, что Дарья Андреевна снова предложила ему деньги, но с тем, конечно, условием, чтобы он непременно уехал отсюда. Всего мог ожидать Ванька Губин, но такого… Он молчал, глядя в пол. Тут даже он сообразил, как некстати были бы его биения кулаком в грудь. Он взял деньги и на следующий же день уехал. Как уж оно там было дальше, бросил ли Ванька пить — никто не знал. Но вскоре стали от него приходить на имя Дарьи Андреевны переводы. Когда двадцать рублей, когда десять, а однажды и вовсе всего только трешка. За два года он выплатил долг — и только тогда написал Дарье Андреевне первое письмо. О чем он там писал, никто не знал, но видели, что в тот день Дарья Андреевна была очень уж тиха и задумчива.
Рыбаки, конечно, не считали такой поступок Дарьи Андреевны каким-то чудачеством. Они и сами, особенно под пьяную руку, могли отвалить едва знакомому человеку немалую сумму, не требуя никаких гарантий. Но для заезжих конторщиков, сидевших на окладе, такое поведение несомненно должно было свидетельствовать о том, что с мозгами у нее не все в порядке. Действительно: мыть уборные за восемьдесят рублей в месяц — и вдруг отвалить полтысячи какому-то алкашу. Ну ладно, деньги эти он вернул, но это же чистая случайность, какая алкоголику может быть вера?
Очень скоро после случая с Ванькой Губиным не только в общежитии, но и все в городе знали, что к Дарье Андреевне может прийти любой, у кого есть нужда, и попросить у нее денег. Но с одним условием — если нужны они на дело, а не на пьянку или опохмелку. А если все-таки на пьянку, можешь сколько угодно врать и изворачиваться, а Дарья Андреевна все равно поймет это. Деньги она тебе даст, — не было случая, чтобы она отказывала кому-нибудь, — но так на тебя посмотрит, что будь у тебя кожа толщиной хоть в дюйм, а так искраснеешься, что больше уже никогда не придешь за этим. Да и другим непременно станет известно о том, что ты взял у нее деньги, и если увидят, что после этого ты забогодулил, — а увидят как пить дать, — по головке не погладят, тут уж и от своего ближайшего кореша добрых слов не дождешься. Ну, а о том, чтобы не отдать Дарье Андреевне хотя бы гривенник из взятого, не может быть и речи, хотя она никогда не записывает, кто сколько должен, и, может быть, ей даже твоя фамилия неизвестна. А вот имя она спросит обязательно, и если зовут тебя Николаем или Геннадием, Дарья Андреевна посмотрит на тебя особенно внимательно и ласково, угостит чаем с вареньем, начнет расспрашивать. А если у тебя с ее сыновьями было хотя бы шапочное знакомство, можешь быть уверен, что Дарья Андреевна навсегда запомнит тебя, первой поздоровается при встрече, спросит, какие вести из дома, — если, конечно, он есть у тебя, — как мать, отец. И если ты, по обычной бродяжьей привычке, не писал домой бог знает сколько времени, то, может быть, и не после первых таких расспросов, но уж после вторых-третьих обязательно пойдешь куда-нибудь в тихий уголок и письмо непременно напишешь, — потому что соврать о том, что написал, все равно не удастся, а не соврать — будешь стоять под взглядом Дарьи Андреевны как на угольях, бегать глазами, невразумительно хмыкать. А в следующий раз, глядишь, и без ее расспросов напишешь и подумаешь о том, каково там без тебя, и денег пошлешь больше обычного, и начнешь думать о том, что раньше, может быть, и в голову не приходило, — а не пора ли кончать эту забубенную жизнь? И если вдруг решишь ехать домой, — пусть не насовсем, на побывку только, — то первый человек, кому ты скажешь об этом, наверняка будет Дарья Андреевна, и можешь не сомневаться, что никто во всем городе не обрадуется твоему решению больше, чем она. Может быть, скажет она тебе всего несколько напутственных слов, а то и всплакнет, тихо скажет: «Поезжай, сынок, не забывай мать…» И не раз добрым словом помянешь потом Дарью Андреевну…
Вот такая картина получалась из рассказов о Дарье Андреевне. Может, и не все здесь правда, но говорилось это многими в один голос.
И помнила Дарья Андреевна все, что было с ней. Но сейчас, на склоне жизни своей, как никогда раньше умела она радоваться теплому солнечному дню, вечернему отдыху, рыбацкой удаче, доброй внимательности тех, чьими делами и заботами она жила теперь. Думалось, конечно, и о смерти, знала Дарья Андреевна, что жить ей осталось немного, — старое тело все настойчивее напоминало ей об этом, — по-прежнему не боялась она этой уже недалекой гостьи, но и не торопила ее, не готовилась к смерти заранее, как тогда, в деревне, после гибели своих сыновей, и печаль о погибших уже не отравляла ей жизни.
Работать ей становилось все труднее, но отказываться от этого Дарья Андреевна не хотела. И все чаще замечала она, что комнаты, которые должна была убирать она, уже кем-то убраны к ее приходу, — делали это или другие уборщицы, или сами жильцы. И наконец как-то само собой решено было, что следить она должна только за теми шестью комнатами, в которых когда-то жили ее сыновья. В них она и проводила почти полдня, не спеша убиралась, выискивая каждую соринку, вспоминала сыновей. Потом обедала, уходила к себе отдохнуть, а к вечеру, если была хорошая погода, неторопливо шла к памятнику. Там давно уже были сделаны надежные, выложенные камнем ступеньки, поставлена скамейка. Дарья Андреевна подолгу сидела там, смотрела на море, на плиты, где были высечены фамилии ее сыновей. Жалела о том, что сыновья и в самом деле не похоронены здесь, а сгинули где-то в пучине моря. Иногда думала о том, где похоронят ее, даже сходила на кладбище, осмотрела его, порадовалась тому, что место хорошее, высоко на берегу, — отсюда далеко было видно море, и воздух чистый, свежий, хорошо будет лежать тут…
И было еще одно дело, которое никогда не пропускала Дарья Андреевна. Заранее знала она, когда должны прийти суда с промысла, и в любую погоду шла встречать их, и, случалось, часами простаивала у причалов, вглядываясь в горизонт. Встречала она только СРТ — другие суда ее не интересовали. И когда рыбаки сходили на берег, она молча стояла у трапа и, беззвучно шевеля губами, считала их. В ее мозгу накрепко запала цифра, — в команде должно быть двадцать три человека, — но на берег всегда сходило меньше — оставались на борту вахтенные, кто-то списывался до окончания рейса. И хотя Дарья Андреевна знала это, но каждый раз, не досчитывая до двадцати трех, пугалась, поджидала капитана или помощника и спрашивала:
— А где остальные-то, сынок?
Все капитаны знали Дарью Андреевну, и порой им долго приходилось доказывать ей, что все живы, никто не утонул, и даже вызывать на палубу вахтенных, чтобы она сама убедилась, что ее не обманывают. И только тогда успокоенная Дарья Андреевна уходила домой. А если был в команде кто-то знакомый ей, раньше плававший с ее сыновьями, она потом непременно разыскивала его, приглашала к себе и просила еще раз рассказать о них. И слушала, не отрывая глаз, радуясь добрым словам. А рыбаки, порой не зная, о чем еще можно рассказать ей, начинали выдумывать, — и получалось, что не было на всем дальневосточном флоте работников лучше, чем ее сыновья, друзей надежнее. Впрочем, сочиняли они с легкой совестью, — что-что, а работать братья Харабаровы действительно умели, им ли не знать об этом. А Дарья Андреевна, отблагодарив рассказчика, долго потом сидела за столом, перечитывала письма детей и, уронив руки с листками бумаги, вспоминала их, уходя мыслями в далекие прошедшие годы…
14
Умерла Дарья Андреевна на закате солнечного сентябрьского дня, в лучшую сахалинскую пору.
В тот день было ей нехорошо — с утра покалывало сердце, болели отяжелевшие вдруг ноги, и когда нагибалась она, в голове появлялся глухой шум и в глазах мельтешили яркие остренькие точки. Но такое и прежде случалось с ней, и Дарья Андреевна не тревожилась, только ушла к себе пораньше и решила, что сегодня никуда не пойдет, отлежится. Но к вечеру напала на нее какая-то непонятная тоска, от которой нестерпимо хотелось плакать, тесно вдруг стало ей в комнате, и, взглянув на багровое закатное солнце, она собралась и пошла к памятнику. Шла долго, часто останавливалась отдохнуть. Немного постояла перед ступеньками, раздумывая, не вернуться ли. Она огляделась, увидела, что солнце уже ушло из города и рваная тень подбирается сюда, к подножию холма, — и заторопилась наверх, к сверкающей белизне каменных плит с именами сыновей. Там, на ступеньках, вскоре и нашли ее, уже мертвую.
О том, что было дальше, рассказывают разное. И попробуй теперь разберись, где правда, а где сочиненная сентиментальными, щедрыми на выдумку рыбаками легенда… А впрочем, так ли уж это важно?
Гроб с телом Дарьи Андреевны поставили в красном уголке, закрыли одеялом серое блестящее зеркало телевизора. И будто бы не было в городе человека, который не пришел бы сюда проститься с ней. Говорят, что провожали ее на кладбище чуть ли не тысяча человек, — а кое-кто утверждает, что даже две тысячи. Еще рассказывают, что в час ее похорон к тому месту, где высоко над морем расположилось кладбище, стянулись два десятка разных судов, — от средних траулеров до «эрбушек», — и в ту минуту, когда опускали гроб с телом Дарьи Андреевны, по знаку с горы взвыли все их сирены и гудки…
И много еще всякого рассказывают об этом.
Что в этом быль, что легенда, что было, чего не было, — трудно сказать.
Но достоверно известно, что через несколько дней после похорон пришел к памятнику погибших в море человек, вынул из сумки инструменты и высек на белой каменной плите фамилию Дарьи Андреевны. За четыре года ее жизни в этом городе в море погибло двенадцать человек, и фамилия Дарьи Андреевны оказалась по счету девяносто второй. И это была единственная женская фамилия в скорбном перечне.
А вскоре и на могиле Дарьи Андреевны был поставлен черный гранитный памятник, сделанный на деньги, собранные рыбаками.
Завещания Дарья Андреевна не оставила. Все вещи, письма и деньги, оставшиеся после нее, были записаны в акте. Денег оказалось много — около двух тысяч россыпью, лежавших в сундучке прямо сверху, и плотный, туго набитый полотняный мешочек, накрепко зашитый суровыми нитками. В нем было восемнадцать тысяч семьсот восемьдесят шесть рублей и тридцать шесть копеек мелочью. Люди, составлявшие акт, немало удивились, почему отложена такая странная, некруглая сумма, но кто-то сказал, что старуха вообще была чудаковата, и удивляться перестали. И так как точно было известно, что никаких родственников, ни ближних, ни дальних, у нее нет, то все деньги, после положенного по закону срока, были переданы на строительство детского сада.
А в городе до сих пор помнят Дарью Андреевну. И на могилу к ней ходят часто — всегда чисто и аккуратно там, высокая прочная ограда выкрашена белым, и гладкая каменная скамейка под черной твердью гранита даже в самые буранные месяцы очищена от снега.
Бедняк
1
Вот еду я к тебе, взрослой, тридцатилетней, давно уже успевшей и замуж выйти, и разойтись, матери восьмилетней дочери, и не знаю, совсем не знаю, какая ты. Знаю тебя другой — юной, смуглой, вижу, как смеются твои глаза, когда ты смотришь на меня, — неужели так они смеялись другому, твоему мужу? Я ничего не знаю — почему ты вдруг так поспешно вышла замуж, почему через три года ушла от него. Я только однажды видел твоего мужа — он такой высокий, толстый, важный, и я никак не мог понять, почему ты вышла за него. А понимал ли я тебя когда-нибудь? Глупый вопрос. Как можно говорить о понимании или непонимании, если мы росли вместе, — с пяти до восемнадцати лет, и ты была для меня чем-то естественным и необходимым — как отец, как мать, да что там — больше, чем отец и мать, потому что с ними я всегда жил неважно и все самое сокровенное говорил тебе, а не им, и за утешением шел к тебе, а не к ним… А сейчас я даже не могу представить, как ты выглядишь. Осталось ли что-нибудь от твоей стройности и гибкости? Я даже не знаю, почему ты тогда была смуглая — то ли от рождения, то ли потому, что мы все лето жарились на солнце, и сколько же раз я мазал твою спину одеколоном, а ты ойкала и терпеливо ждала, когда пройдет боль… Минуло уже бог знает сколько лет, но до сих пор я помню твое тело так же хорошо, как свое собственное. Я вижу длинный белый шрам на твоей пятке — это ты в воде наступила на осколок стекла и долго плакала, пока я неумело промывал рану и перевязывал ее носовым платком. И маленький шрам выше колена — я весной переносил тебя через ручей, поскользнулся на камне, и мы вместе упали в воду. И две маленькие коричневые родинки на левом плече — я вижу их так ясно, словно мы только вчера лежали на берегу, под горячим солнцем, и мне стоило чуть протянуть руку, чтобы дотронуться до них. Потом я очень любил целовать их…
Как медленно тянется время… Зря я не полетел самолетом. Но мне хотелось, чтобы эти тридцать два часа пути были только моими и твоими, захотелось вспомнить все, что было между нами, — а ведь вспоминать можно так много… Пожалуй, гораздо больше того, что было у меня потом. Странно… А впрочем, почему странно? С тех пор как я закончил университет, годы моей жизни были поразительно похожи один на другой, — я только сейчас понял это. Не считать же событиями переезд в трехкомнатную квартиру, защиту диссертации, поездку на конгресс математиков в Штутгарт. Ведь все это внешнее — а как же мало порой значит оно по сравнению с тем, что внутри нас. Вот сейчас, вспоминая наши годы, я чувствую себя просто нищим, — так много было тогда событий, открытий, ожиданий и так мало всего этого сейчас… Или это просто свойство молодости? А может быть, все дело в том, что тогда у меня была ты? А сейчас? Жена, сын, работа, — очень интересная и увлекательная, я таки стал неплохим математиком, как и предсказывала когда-то наша старенькая добренькая Валентина Георгиевна… Смешно — я с трудом могу вспомнить, как объяснялся в любви своей будущей жене, зато отлично помню, как рассердилась ты на меня за то, что я плохо отозвался о твоей подруге. Ты сказала, что это гадко, нехорошо, но ведь я просто ревновал тебя к ней и выходил из себя, когда видел вас шепчущимися в уголке. Тебе было тогда уже пятнадцать лет, и я еще не понимал, что у тебя могут быть какие-то свои, женские, секреты, о которых ты не можешь говорить со мной. Я многого тогда не понимал и сердился, если ты отказывалась купаться со мной и сидела на берегу, а я назло тебе заплывал так далеко, что ты начинала волноваться и кричала мне, чтобы я возвращался. Многого я не понимал тогда. Я не знал, что девушки взрослеют раньше, и меня просто бесили те нотки снисходительности, которые иногда прорывались в твоем тоне. Я грубил тебе, даже находил какие-то предлоги, чтобы не идти вместе с тобой домой, а потом сам мучился тем, что обидел тебя, но все-таки не подходил к тебе первым, видя твое нахмуренное, временами просто несчастное лицо… Я не знал, что именно в это время надо было особенно бережно обращаться с тобой, — господи, как много я еще не знал тогда! Но откуда я мог все это узнать? И сколько же дней было потеряно тогда из-за напрасных обид! И если бы знать мне, что дней этих осталось так немного… Но я просто не представлял, что придет время, когда нам придется расстаться, и даже не задумывался об этом. Мы оба хорошо учились и уже тогда решили, что вместе поедем поступать в МГУ — я на мехмат, ты на биологический. И то, что ты тоже не представляла своей жизни отдельно от меня, казалось мне чем-то само собой разумеющимся — разве мы не были одно и то же? Разве то общее, что было у нас, — а общим было все или почти все, — мы могли бы разделить с кем-нибудь? Даже мысль об этом казалась мне кощунственной, — да и тебе, вероятно, тоже…
А когда мы впервые поцеловались — ты помнишь это? Мне тот день запомнился до мельчайших подробностей. Это было под Новый год, весь день мела метель и было очень холодно, мы сидели по домам и готовились к школьному празднику, а потом, вечером, почти бежали, и я пытался загородить тебя от ветра. Наверно, школьный вечер был таким, как обычно, но нам обоим вдруг стало скучно. Именно обоим — я видел это по твоему лицу. Я осторожно взял тебя за руку, чуть пожал ее и тут же отпустил. Не глядя на тебя, я направился к выходу и в пустом коридоре ждал тебя. Почему мы не вышли вместе, как делали много раз до того вечера? Не знаю. Мне почему-то не хотелось, чтобы ребята видели, как мы уходим. Я не сомневался в том, что ты придешь, ведь я попросил тебя этим пожатием, — а разве тогда мы в чем-нибудь отказывали друг другу? И ты пришла, выжидающе глядя на меня. Наверно, ты уже знала, что сейчас произойдет что-то не совсем обычное, но не знала, что именно. Я молча взял тебя за руку и повел в наш класс. Там было темно, но я не стал включать свет, даже не довел тебя до нашей парты, как собирался, положил руки тебе на плечи и притянул к себе. Ты не сопротивлялась, — да я, откровенно говоря, и не думал, что ты будешь противиться, — и я в темноте нашел твои губы и прижался к ним. Мы еще не умели целоваться, мы просто прижались губами и немного постояли так. Но разве этот поцелуй не был лучшим из всех, какие выпали нам на долю? Разве потом было у меня хоть что-то похожее на то, что произошло тогда? А что это было? Что-то такое, что — я совсем не преувеличиваю — очень сильно изменило и меня самого, и весь мир, окружавший меня. Я понял и увидел это сразу, как разомкнулись наши губы, и не только не удивился этому, но принял как должное, необходимое. Наоборот, — я, наверно, удивился бы тому, если бы все вокруг осталось неизменным. Но все изменилось. А ведь был все тот же класс, так хорошо знакомый мне, только темный — я вижу, как на потолке протянулись широкие расходящиеся полосы света от фонарей внизу, — и все же он был не прежний, а другой, новый… И ветер не так гудел за окнами, как до нашего поцелуя. Не знаю как, но по-другому, совсем по-другому, я слышал, чувствовал это. А самое главное — я стал другим. Да разве могло быть иначе? Ведь рядом стояла ты, мои руки еще лежали на твоих плечах, и только что произошло событие, резко разделившее мою жизнь на две части — на до и после… До уже кончилось, а после только что началось, и от одной мысли о том, какая новая, необыкновенная жизнь будет теперь у нас, у меня закружилась голова… Может быть, и с тобой происходило что-то подобное? Хочется думать, что так, — иначе почему мы никогда не говорили о том, что произошло в тот вечер, даже когда стали настолько близкими, что могли говорить обо всем, не стесняясь друг друга, а об этом — никогда…
Наши отношения ни для кого не были тайной — ни для учителей, ни для ребят. Слава богу, учителя не вмешивались, да и ребята до некоторого времени — тоже. Но потом на них что-то нашло. Это было в девятом классе, все вдруг стали повально влюбляться друг в друга, пошли сплошные «романы» — бурные и скоротечные. В своих, «мужских», компаниях ребята принялись разбирать достоинства и недостатки девушек — и все единодушно решили, что ты далеко не красавица и я мог бы выбрать себе кого-нибудь получше. Я страшно злился, когда начинались такие разговоры, и уходил — мне просто непонятно было, как можно выбирать кого-то другого, когда есть ты, и как вообще можно выбирать — разве это не приходит само? И как они могли не замечать твоей красоты? А они говорили, что у тебя слишком широкие скулы и короткий нос, и брови тоже «не фонтан», и однажды я не выдержал и ударил кого-то, — сейчас уже и не помню точно, кого именно, кажется, Юрку Буянова. Мы основательно подрались, и с тех пор ребята при мне не разговаривали о тебе, но меня еще долго одолевало возмущенное недоумение — как они смеют не замечать твоей красоты? Твоих глаз — больших, блестящих и, главное, умных? Твоей красивой фигуры?
Когда я вспоминаю наши места, — а случается это, признаться, все реже, — становится порой так тоскливо и горько, словно я навсегда уехал оттуда и уже никогда не смогу вернуться. Да так оно, в сущности, и получается, — я не был в нашем городе лет десять, и хотя иногда невыносимо тянуло туда, — особенно в первые годы после нашего разрыва, — я удерживался. Что меня ждет там? Кроме тебя, там никого нет для меня, а как-то ты встретишь меня? Ведь ты теперь не моя… И вот — все-таки еду. Почему, зачем? Как, оказывается, непросто объяснить это даже самому себе. Проще всего сказать, что я случайно — а случайно ли? — наткнулся на пачку твоих писем, перечел их, все вспомнил, все пережил заново, — как будто это возможно — все пережить заново! — и желание видеть тебя стало таким сильным, что я уже ни о чем не рассуждал, быстро оформил отпуск и поехал к тебе. Просто и — неверно. Ведь знал же я, где лежат твои письма, их даже не пришлось искать, и года три назад тоже доставал и перечитывал их — но ведь не поехал тогда… Даже, кажется, и не подумал об этом. Было мне тогда грустно и хорошо, — как, вероятно, было бы на моем месте и любому другому, пережившему подобную юношескую любовь и спустя много лет вспомнившему о ней. И все было понятно и просто — хорошо потому, что было что-то настоящее, большое, и грустно потому, что такого уже не будет… Да ведь повспоминал тогда, погрустил — и снова запрятал эти письма подальше, забыл о них и о тебе забыл! Почему же сейчас не забыл? Почему сразу понял, что и не нужно забывать, надо поехать к тебе, увидеть тебя, почему сейчас считаю часы, оставшиеся до встречи с тобой? Не знаю… Да, откровенно говоря, и не хочу сейчас знать… Одно только хочу — видеть тебя. И странно мне сейчас думать, что за последние годы я так редко вспоминал о тебе. А ведь так оно и было. Я решил, что раз уж все кончено — зачем ворошить прошлое? А прошлое, оказывается, не надо и ворошить — оно живет во мне и всегда жило, спрятанное под слоем повседневности…
Все эти годы я глушил себя работой. Впрочем, почему глушил? Работа давно стала для меня состоянием наиболее естественным и удобным. Я часто задерживаюсь в институте по вечерам и даже в субботу и воскресенье большую часть дня провожу за работой. Когда не работаю — становится мне неспокойно, все остальное очень мало интересует меня, и я снова с облегчением усаживаюсь за письменный стол. И все смотрят на это как на должное — даже моя жена. Она не жалуется ни на скуку, ни на то, что я почти не помогаю ей, мало внимания уделяю ей и сыну. Она вообще ни на что не жалуется — и жизнь у нас идет спокойная, ровная, я мог бы по пальцам пересчитать все негромкие ссоры, случившиеся за эти восемь лет, что мы живем вместе. А сейчас я подумал — стал бы я вести себя так, если бы ты была моей женой? Нет, не стал бы, — уверен в этом. Возникает естественный вопрос — почему же я тогда женился, люблю ли свою жену? Нелегкий вопрос. Если уж быть честным до конца, не прибегать к помощи всяких спасительных «но», — не люблю и, вероятно, никогда не любил. «Вероятно» потому, что думал, конечно, что люблю ее, когда делал ей предложение. Она очень хорошая жена, — добрая, умная и — красивая, что тоже когда-то немало значило для меня, — и друзья завидуют мне. И все-таки даже когда я женился на ней, совесть моя была не совсем чиста. Тогда я уже понял, что потерял тебя окончательно, и потерял по своей вине, и был уверен, что такого чувства, которое было у меня к тебе — уже никогда ни к кому не будет. А Лена нравилась мне, очень нравилась. И я женился на ней. Подло с моей стороны? Не думаю. Кто же не знает, что первая юношеская любовь никогда не повторяется и потом все происходит иначе — проще, прозаичнее. В одном только моя «вина» — что я не смог забыть тебя. Но ведь я действительно был уверен, что все проходит, — и моя любовь к тебе тоже должна пройти. И вот оказалось достаточно, чтобы я наткнулся на пачку твоих писем, перечел их, — если бы ты знала, с каким волнением я читал! — и сразу сорвался и поехал к тебе. И что теперь будет? Не знаю…
А каким стал я? И этого я не знаю — или почти не знаю… Меня считают хорошим математиком, хорошим семьянином, — вероятно, потому, что я не пропиваю зарплату и не ищу удовольствий на стороне, — а что еще? Какой я на самом деле? Повседневная жизнь дает мне очень мало возможностей проявить себя. Не считать же, в самом деле, что я — это те тридцать с чем-то работ, опубликованных в разных журналах. Тогда что же я? А кто ты? Что я знаю о тебе, кроме того, что ты врач? Ничего — если не считать тринадцати лет нашей совместной жизни. Как смешно я говорю — «нашей совместной жизни»… А ведь это так и есть. Мы именно жили, и жили вместе. Как же могло случиться, что мы расстались? Я знаю — во всем виноват только я, но когда это началось? Может быть, в то наше последнее лето? Я помню все его дни и не вижу, где мы могли поступить иначе.
Мы закончили школу и готовились к экзаменам в МГУ. С утра мы честно садились за учебники, но боже, как неудержимо нас тогда влекло друг к другу… Редкий день мы выдерживали до двенадцати. Или я шел к тебе, или ты приходила ко мне — и тогда все учебники летели к черту, мы ничего не хотели знать и уходили в лес или на реку. Контролировать нас было некому, а мы сами, кажется, слишком надеялись на свои золотые медали, утешая себя немудреной философией — ведь не зря же в конце концов дают их, знаем же мы хоть чуть-чуть больше, чем остальные! В то лето часто бывали грозы, и мы нередко попадали под ливень и потом, полуголые, развешивали нашу одежду на какой-нибудь полянке. И какими глазами я тогда смотрел на тебя! Иногда ты, смеясь, говорила мне, чтобы я не глядел на тебя, но я видел, что тебе самой приятны мои взгляды, и я бросался к тебе, ты убегала, но я всегда настигал тебя и принимался жадно целовать твои губы, шею, плечи… Я думаю, мы просто не могли ограничиться только поцелуями — ведь мы любили друг друга. И это случилось — душным июльским днем, на твоей кровати.
Весь июль прошел так — в ласках, поцелуях, и помню, когда мы расставались, постоянным желанием было — именно постоянным, никогда не прекращающимся — быть с тобой… Видеть тебя, дотронуться до тебя, услышать твой голос, убедиться, что ты — есть, ты — моя… Сколько это продолжалось — месяц, год, вечность? Оказывается, неполных три недели. Потом мы уехали в Москву, нас поселили в разных корпусах, и нам только по вечерам удавалось найти укромный уголок и вдоволь нацеловаться… Но и это продолжалось недолго — ты провалилась на первом же экзамене, тебе надо было уезжать, и уже через два дня я провожал тебя на поезд. Ты держалась очень мужественно и даже не заплакала, когда мы прощались, и взяла с меня слово, что я обязательно сдам все экзамены, а ты приедешь на следующий год, и тогда мы будем вместе. И ты уехала, а я остался. Я действительно сдал все экзамены, — да еще и одним из первых, — но, боже мой, чего мне это стоило… Я занимался как проклятый, с утра до ночи, потому что, как только я отрывался от учебников, у меня появлялось непреодолимое желание уехать к тебе. Единственное, что поддерживало меня, — это твои письма. Ты писала часто, почти каждый день, и письма твои были так же просты и естественны, как ты сама, ты просто разговаривала со мной, — а я никак не мог ответить тебе тем же, слова, звучавшие ласково и нежно, когда я говорил их тебе, почему-то становились фальшивыми и напыщенными, как только я переносил их на бумагу. И ты понимала это и не сердилась, что я пишу так редко — всего раз в три-четыре дня. А я несколько раз принимался укладывать чемодан, собираясь ехать к тебе и сказать все то, чего не мог выразить в письмах. То, что я терял год, не слишком смущало меня, — ведь впереди этих лет было так много, а год этот я провел бы с тобой. И знаешь, сейчас я не то что жалею, что не сделал этого, а просто не понимаю, почему все-таки не уехал к тебе. Ведь наверняка тогда все было бы иначе. Может быть, наша любовь так или иначе кончилась бы, — хотя почему? — но ведь тот год мы были бы вместе… Но я уехал только после того, как сдал все экзамены. И — поверишь или нет — когда я увидел свою фамилию в списке принятых, я не испытывал большой радости. Ведь это означало, что мне придется год пробыть без тебя. Год… Если бы знать тогда, что не на год, а навсегда расстаемся мы… Но ведь мы оба были так уверены, что расстаемся всего на год. Да еще будут и зимние каникулы, и летние. И я приехал к тебе на те несколько дней, что оставались у меня до начала занятий, и удивился, как похудела и побледнела ты, и мне показалось, что ты не так хорошо встретила меня, как бы мне хотелось. Если бы знал я тогда, что ты беременна… Но ты ничего не сказала, и мы опять расстались — теперь уже надолго. И опять были письма — частые и нежные твои, редкие и неуклюжие — мои. Я описывал тебе наши веселые студенческие сборища, турпоходы, всякие хохмы, которые мы проделывали, писал, какая у нас замечательная группа, какие отличные и веселые ребята, — и не догадывался, как больно тебе читать это. Ведь ты была одна, совсем одна, у тебя была скучная, нелюбимая работа, и ты долго не могла оправиться от аборта, мать изводила тебя за твое «легкомыслие», — а я расписывал тебе, как мне весело живется… Вот тут уж точно начинается моя большая вина. И удивительно ли, что когда я приехал к тебе зимой, все уже было иначе. Я был просто нафарширован новыми впечатлениями, новыми друзьями, я взахлеб рассказывал тебе о них и лишь иногда спрашивал, как ты, что на работе, — а ты пожимала плечами и нехотя говорила: «Нормально». А разве можно было назвать нормальным то, что происходило между нами? Почему я не мог найти каких-то слов, чтобы подбодрить тебя, высказать тебе всю мою нежность, придать тебе уверенности в своих силах? А я — стыдно сейчас вспоминать об этом — даже обиделся на тебя за то, что ты отказалась прийти, когда я намекнул, что моих родителей не будет дома и мы останемся одни. С этой обидой я и уехал, — и, наверно, уже тогда наполовину потерял тебя.
А потом случилось так, что я не мог приехать к тебе на лето. Причина была как будто уважительная — весь курс отправлялся на целину, и у меня не было оснований не ехать. Но ведь знал же я, как ты ждала меня, как я нужен тебе, как плохо тебе одной. Знать-то знал, конечно, но — чувствовал ли по-настоящему? Иначе почему даже не попытался выкроить хотя бы неделю, чтобы повидать тебя, утешив себя тем, что скоро все равно будем вместе, всего через два месяца, — я почему-то не сомневался в том, что ты поступишь. (А почему не сомневался? Неужели только потому, что думать так было удобнее всего, это избавляло меня от необходимости принимать какие-то решения, — а я был не готов для них?) И опять я писал тебе глупые, восторженные письма, — о нашей «романтике», о жизни в палатках, о ночных кострах, о бескрайних просторах степей. А ты, по-прежнему одинокая, — я ведь и об этом знал, и даже не хотел, чтобы у тебя появлялись друзья, и заранее ревновал тебя к ним, — читала мои письма, сидя в душной комнате за столом, заваленном учебниками…
Когда я вернулся в Москву, тебя уже не было, — ты опять провалилась. Я еще не знал, что ты решила больше не поступать в МГУ, и писал бодренькие письма — ничего, все будет хорошо, на следующий год обязательно поступишь. А тут еще, как назло, беда случилась со мной, — я проболел целый месяц и так задержался с экзаменами, что ехать к тебе было уже поздно. А ведь если бы очень захотел — смог бы поехать, хотя бы на несколько дней. Но я еще ничего не понимал. И уже без особого огорчения написал тебе о том, что мне и в это лето не удастся поехать к тебе, — снова целина, — и опять считал, что до нашей окончательной встречи осталось всего два месяца. Я все еще был уверен, что узы, связывающие нас, слишком крепки, чтобы их могло что-то разорвать.
А потом от тебя вдруг целый месяц не было писем. Я был уверен, что ты поехала в Москву, и вдруг — твое короткое сухое письмо, в котором ты сообщала, что поступила в мединститут в нашем городе. Я трижды перечел его, прежде чем его смысл окончательно дошел до меня… И первое, что пришло мне в голову: «А как же я? Сколько же нам еще быть врозь?» И представь себе, что я, глупец, искренне считал тебя виноватой в нашей разлуке! Я убеждал себя, что ты просто струсила, побоялась провалиться, — как будто мало было двух провалов! — и, значит, только ты виновата в том, что мы не вместе. Поистине странная и удивительная логика! Я написал тебе раздраженное письмо с грудой упреков, и ты, совершенно справедливо обидевшись на меня, не отвечала мне два месяца, пока я сам не запросил пощады. Ты снова стала писать мне — но теперь твои письма были лишь бледной тенью прежних. И я начал понимать, что теряю тебя. А зимнее свидание только ухудшило наши отношения — ты не принимала никаких моих упреков и часто отвечала мне довольно грубо и насмешливо. Я растерялся — и с этой растерянностью уехал, не зная, что делать. Потом опять долгий перерыв в нашей переписке, и наконец это страшное письмо, — даже не письмо, а записка, без обращения и подписи, — ты просто извещала, что на днях выходишь замуж и наши отношения и переписка теряют всякий смысл… Что со мной было, Лиля! Только тогда я понял, как любил тебя и что потерял… Вот уж поистине — «что имеем — не храним, потерявши — плачем». Я насобирал денег и первым же рейсом улетел к тебе. Но ты уже не жила у себя — твоя мать сухо сказала мне, что ты переехала к мужу, и наотрез отказалась дать его адрес. Но я все-таки узнал, где ты живешь, и на следующий день, простояв два часа напротив твоего нового дома, увидел тебя. Сначала только тебя, а потом уж его, твоего мужа. Ты выглядела обычно, — как я ни всматривался, не мог заметить никаких перемен. А я не понимал, почему ты выглядишь так же, как всегда, как и в те дни, когда мы были вместе. Ведь что-то, хоть немного, но должно же было измениться в тебе! Ведь прежняя ты не могла идти с ним, не могла любить его, не могла целовать его, не могла отвечать на его ласки… Смешно? Наверно. Но мне тогда было не до смеха. Тогда я стал разглядывать его, твоего мужа, — и странно и дико мне было, что я стою, украдкой разглядывая тебя, а рядом с тобой идет о н, твой муж. Он шел, заботливо поддерживая тебя под локоть, и был такой большой, самоуверенный и важный, что я подумал — вот почему ты вышла за него. Он, вероятно, сделал то, чего не мог сделать для тебя я, — спас от одиночества, тоски, неуверенности… Не знаю, прав ли был я. Почему-то мне трудно было вообразить, что ты любишь его, — я слишком хорошо помнил, как ты любила меня. Но я знал, что уже ничего не могу изменить, — и остановился, провожая вас глазами. А когда вы скрылись в толпе, я поехал в аэропорт и в тот же день был в Москве.
Я солгал бы, сказав, что долго мучился от твоей «измены». Я уже начинал понимать всю глубину своей вины перед тобой и ни в чем не упрекал тебя. Просто я весь был какой-то опустошенный, словно из меня вытряхнули душу и пустое место заполнили уравнениями и формулами. Да и жизнь у меня была достаточно напряженная и нелегкая — приходилось много заниматься, подрабатывать на стройках, и очень скоро я научился не вспоминать ни тебя, ни твои ласки. И когда женился на Лене — даже не сомневался, что все прошло и никогда уже не вернется. Но напрасно я так понадеялся на «великого врачевателя» — время. Когда я узнал, что ты ушла от мужа и снова живешь с матерью — мне показалось, что мир покачнулся и все стало как будто не в фокусе. Это не преувеличение — наш общий знакомый, который сообщил мне эту новость, просто перепугался, глядя на меня. Это было в кафе, мы уже выпили грамм по двести коньяку, и я невнятно отговорился тем, что мне стало плохо, быстро распрощался и пошел по городу. Куда? Сам не знаю. Первая мысль была — сразу же лететь к тебе. Но тут же я вспомнил, что я женат и сыну моему три месяца…
Что было потом? Да ничего особенного. Я засел за работу — да так, что иногда меня чуть ли не силой приходилось отрывать от стола и заставлять есть. В такой работе и прошли все эти годы. И опять я забыл тебя. И вот — еду. Зачем? Не знаю… Наверно, за своим прошлым, богатства которого неизмеримо превышают все остальное, что было у меня и что будет. Это я знаю твердо.
А ты? Какая ты сейчас? Помнишь ли меня? Что скажешь мне?
А может быть — за своим будущим?
2
Он шел по городу, многого не узнавая вокруг, — знакомыми были названия улиц, повороты дороги, линия высоковольтной передачи, небольшой парк, — но всюду тесно громоздились новые пятиэтажные дома, очень похожие друг на друга, исчезли водоразборные колонки на перекрестках, вместо придорожной зелени везде мокро поблескивал асфальт, и ему казалось, что это не его город, в котором он родился и вырос, а просто один из десятков чужих, незнакомых городов.
Он не сразу нашел дом Лили и, поднимаясь по лестнице, вынужден был держаться за перила — так велико было его волнение.
Дверь открыла девочка с косичками, с большими любопытными глазами — и он безмерно обрадовался, увидев эти глаза, — ее глаза, — и тому, что девочка разительно была похожа на Лилю.
— Здравствуйте, — вежливо сказала девочка. — Вам кого?
— Мама дома?
— Нет, она на работе.
— А когда она придет?
— В пять.
Он взглянул на часы и увидел, что только десять минут четвертого. И эти предстоящие два часа ожидания показались ему невыносимыми, куда более долгими, чем десять лет разлуки.
— А вы кто, дядя?
— Я — человек, — ответил он и улыбнулся.
— Это я вижу, — серьезно сказала девочка. — Вы мамин знакомый?
— Да. А ты Надя, — не спросил, а уверенно сказал он, с нежностью разглядывая скуластое лицо девочки. Все в ней нравилось ему — а особенно то, что она не стала расспрашивать из-за двери, кто пришел, и сразу открыла ему.
— Правда, — удивилась Надя. — А откуда вы знаете? Вам мама сказала?
— Да… Вот что, милая моя, я не буду тебя задерживать, ты, наверно, уроки делаешь?
— Да.
— Если не возражаешь, я оставлю пока чемодан и подожду маму во дворе.
— Ладно, — кивнула Надя. — А вас как зовут?
— Дядя Саша.
Спускаясь по лестнице, он подумал: «А нашей дочери было бы уже одиннадцать лет». Почему именно дочери, а не сыну, он не стал думать.
Александр устроился в беседке, закурил и стал ждать.
Он заметил ее издали и узнал сразу, еще не видя лица, — у нее была такая же легкая походка, как и в юности. Он встал, пошел ей навстречу и уже видел, что немного осталось от ее стройности, что выглядит она старше своих тридцати лет, что у нее усталое лицо и что она не узнает его. Он остановился, и когда она с недоумением посмотрела на него — тихо сказал:
— Лиля…
И увидел, как сразу побледнела она, узнав его, — от радости или испуга?
Лиля поставила на землю сумку и неуверенно шагнула к нему, близоруко прищурив глаза:
— Саша! Господи, да неужели это ты?
— Ну да, я, — неудержимо заулыбался он, приняв ее волнение за радость встречи с ним, но она как-то испуганно спросила:
— Откуда ты, как?
— Ну, откуда же, из Долинска, конечно. А как… — он запнулся, не зная, что говорить, и скороговоркой закончил: — Да просто захотелось повидать тебя…
— Ну идем, идем домой, — почему-то заторопилась вдруг Лиля. — Там только одна Надя.
— Знаю, я уже познакомился с ней. Очень похожа на тебя.
— Да, все так говорят.
Лиля избегала смотреть на него и, поднимаясь по лестнице впереди него, чувствовала себя явно неловко. Открыв дверь, ненужно засуетилась:
— Ну, раздевайся, проходи. Нет-нет, ботинки не снимай, у нас не очень чисто… Наденька, познакомься с дядей Сашей.
— А мы уже познакомились, — сообщила Надя. — Вот тут его чемодан стоит.
— Ах да, — Лиля мельком взглянула на него и почему-то покраснела. — Ты же говорил.
— Мамочка, а можно я пойду на улицу погулять?
— Можно, только надень сапожки.
— Ладно, — с сожалением сказала Надя, и Александр невольно улыбнулся — так она сейчас напомнила ему сына, который никак не мог понять, почему взрослые не разрешают ходить по лужам.
Лиля закрыла за дочерью дверь и спросила, не глядя на него:
— Твоему сколько уже — шесть?
— Да, — сказал он.
— Ну, проходи в комнату, садись. Займись пока чем-нибудь, я быстренько поставлю варить, а потом уж будем разговаривать.
— А можно, я тоже на кухню пойду? — робко спросил он, и Лиля засмеялась и сказала:
— Можно.
И вот он сидел на кухне, смотрел на нее и с трудом верил — неужели это не сон и почему же этого так долго не было, — ведь только смотреть, как она ходит, как движутся ее руки, как знакомым жестом она откидывает со лба волосы, — было наслаждением для него, и он смотрел на нее не отрываясь и вдруг словно очнулся от вопроса:
— Что так смотришь? Постарела?
— Постарела? — с недоумением переспросил он, — так некстати прозвучал ее вопрос, — и вдруг увидел, что она по-прежнему избегает смотреть на него и движения у нее скованные, и он поразился — почему так, неужели ей неприятен его приезд? Он спросил:
— Ты не рада видеть меня?
Лиля положила нож, посмотрела на него и тихо сказала:
— Рада, конечно, но ведь столько лет прошло…
Голос ее дрогнул, и он поспешил перевести разговор:
— Как там наши поживают?
— Наши? Да ведь только и слово осталось, что «наши». Люся Белякова в Ленинграде, Слава Костырев где-то на Севере, летает, Валера, как сам знаешь, в Москве, остальные почти все здесь. Но видимся редко, а если и встретимся — перекинемся на бегу несколькими словами, поговорим о том, что надо бы собраться всем, но дальше разговоров дело не идет. У всех свои заботы. Большинство так и остались на заводах, нарожали детей, — в общем, все очень обыкновенно, буднично. Один ты у нас… далеко пошел.
— Как странно ты говоришь…
— Почему странно? Так оно и есть. Согласись, дистанция от слесаря до кандидата наук немалая. И знаешь, тобой гордятся. Зайди в школу — увидишь, твой портрет висит на самом почетном месте. А в библиотеке есть почти все номера журналов с твоими статьями — уж и не знаю, где Клавдия Андреевна достает их.
— Даже так? — удивился Александр.
— Да. И ты неплохо сделаешь, если пришлешь ей несколько работ со своими автографами.
— Хорошо, пришлю… А как твоя работа?
— Ну, что моя работа? — Лиля равнодушно пожала плечами. — Самый что ни на есть обыкновенный врач.
— А тебе это не нравится?
Лиля как-то странно посмотрела на него и с незнакомой ему решительностью сказала:
— Вопрос не из той категории, Саша. Нравится или не нравится — значения почти не имеет, потому что ничего другого у меня нет и, разумеется, не будет…
Она особенно энергично подчеркнула слово «разумеется», словно заранее не принимая его возражений на этот счет, и продолжала:
— А раз так — нетрудно убедить себя в чем угодно. Можно как дважды два доказать себе, что все это стандарт, рутина, текучка, — и на многие годы испортить себе жизнь. Можно и по-другому — решить, что ты делаешь что-то полезное, необходимое, — и на этом более или менее успокоиться. Я предпочитаю второй вариант.
Заметив на его лице удивление, которое он не сумел скрыть, Лиля усмехнулась:
— Что, удивлен такой приземленной философией? Но ведь такую проблему рано или поздно приходится решать едва ли не каждому. Творчество — удел немногих, и ты просто счастливец, что принадлежишь к этим немногим.
Она сказала это с такой убежденностью, что он не решился возразить ей, — да и что он мог бы сказать? Что его «творчество» тоже кажется ему в какой-то мере стандартным? Но Александр и сам знал, что эта стандартность — нечто совсем иное, чем то, что она подразумевает под этим словом, а значит, уже не является стандартным. А Лиля спокойно продолжала:
— Видишь ли, уже одно то, что ты можешь в любое время уйти с работы или вовсе не приезжать в институт, в любой день поехать в Москву или куда тебе угодно, — вообще, твоя личная свобода, которая просто несовместима с жесткой производственной дисциплиной, с необходимостью работать от звонка до звонка, — уже одно это делает твою жизнь совершенно иной.
Он озадаченно посмотрел на нее.
— В общем-то верно… Но откуда ты все это знаешь?
Лиля улыбнулась.
— Земля слухом полнится…
— И какие же еще слухи ходят?
— Что у тебя великолепная квартира рядом с лесом, очень милая жена и очаровательный сын… И что ты счастлив, — добавила она невнятно, отворачиваясь к плите.
— А-а, — протянул Александр. — Это все россказни Валерки…
— Конечно, — спокойно сказала Лиля, поворачиваясь к нему. — Только почему же «россказни»? Просто он по-хорошему завидует тебе.
— Часто он здесь бывает?
— Почти каждый год. Говорит, что очень тянет сюда. Часто заходит ко мне, и тогда почти все разговоры ведутся о тебе.
— Странно… Мне он почему-то ничего не говорил об этом.
— Наверно, видит, что тебя-то сюда не тянет. Да и ты, как я поняла из его слов, не очень-то внимателен к нему.
— Это правда, — признался Александр. — Видимся мы не очень часто. Он несколько раз приезжал ко мне в Долинск, но все как-то получалось, что я был занят.
— Да, он говорил, что ты очень много работаешь. Зато от твоей жены он просто в восторге.
— Может быть, потому, что самому не повезло с женитьбой?
— Может быть, — спокойно согласилась Лиля. А он закурил и с насмешливой улыбкой сказал:
— Как, оказывается, все ясно и просто выглядит со стороны…
Лиля промолчала, и это заставило его спросить:
— И ты веришь ему?
— Почему же нет? Разве это так невероятно — счастливая семья, любимая работа?
И теперь уже ему пришлось промолчать. В поезде он готовился к долгому разговору, но казалось просто невозможным начинать этот разговор сейчас, надо было сначала пробить броню ее спокойствия, — а он уже сомневался, что ему удастся сделать это, — и он ничего не сказал. А ее, казалось, ничуть не интересовало, что он ответит на ее вопрос, и не удивляло его молчание. Она продолжала спокойно возиться у плиты и непостижимо будничным тоном сказала:
— Если ты очень голоден — могу накормить сейчас. Но лучше подожди полчаса.
Александр подавленно сказал:
— Я не хочу есть.
Лиля внимательно посмотрела на него — и спросила с невеселой усмешкой:
— Что, немного осталось от той Лильки, которую ты знал?
— Почему? — растерянно сказал Александр, а она, не обращая внимания на его вопрос, продолжала:
— Что делать, Саша, мне и самой не нравится мое настроение. Да ведь десять этих лет были для меня не очень-то легкими. Долго и тяжело расходилась с Володей, да и потом не слишком-то весело было. Приходилось ко многому привыкать, со многим мириться. Сейчас как-то надежнее, спокойнее стало, — даже к своему одиночеству привыкла…
Она сделала небольшую паузу и посмотрела на него, и он поразился: неужели она так хорошо понимает его? У него уже мелькнула мысль, — даже только подобие мысли, — что ее скованность, сдержанный тон объясняются самыми элементарными причинами: у нее есть кто-то, — да и почему бы не быть? И вот она прямо заявила о своем одиночестве и продолжала прежним спокойным тоном:
— Да и дел много. Пока мама была жива, работала на полторы ставки, все хотелось покрепче устроиться, не зависеть ни от кого. А сейчас много с Надей вожусь, наверстываю упущенное.
— Хорошая она у тебя.
— Да, я довольна ею, — просто сказала Лиля.
— А что же… Владимир? — Александр невольно запнулся об это имя, не зная, как называть ее бывшего мужа.
— Да ничего, — пожала она плечами, пробуя суп. — Бывает, но довольно редко, живет далеко отсюда. Три года назад защитился, теперь заведует отделением. Он отличный хирург и чем-то напоминает тебя, — наверно, такой же жаждой к работе. Надя стала уже совсем равнодушна к нему, он, разумеется, упрекает меня в том, что я настраиваю ее против него, — но я тут ни при чем. Наоборот, мне иногда приходится уговаривать ее, чтобы она побыла с ним. Умные люди часто не понимают самых элементарных вещей. Володя, например, никак не может поверить тому, что Надя легко мирится с его отсутствием, и считает это чем-то неестественным…
— А разве это в самом деле естественно? — необдуманно спросил Александр. Лиля помолчала и сдержанно сказала:
— Но ведь она же ребенок… Ей было всего два года, когда мы разошлись.
— Он очень любит ее?
— Да… Ну, сейчас покормлю Надю, а потом уж и сами основательно сядем.
Надя на зов Лили отозвалась тут же, и через минуту веселый топот ее ног уже слышался на лестнице.
— Послушная она у тебя, — сказал Александр.
— Ну, не всегда, — возразила Лиля и пошла открывать дверь.
— Мамочка, — сразу заговорила Наденька, — я только поем и снова пойду играть, ага?
— Надо говорить не «ага», а «хорошо», сколько раз тебе нужно напоминать об этом?
— Ага, — охотно согласилась Наденька.
— Опять «ага»?
— Я в следующий раз скажу «хорошо», — пообещала Наденька.
— А ты опять ходила по лужам. И пальто забрызгала.
— Это я нечаянно, — беспечно сообщила Наденька. — Мы играли в пятнашки, а Витька нечаянно побежал по луже, а я нечаянно за ним.
— Все у тебя нечаянно, — ласково проворчала Лиля. — Иди мой руки и садись за стол.
Наденька вымыла руки и чинно уселась рядом с Александром, стрельнув в него любопытными глазами.
— Дядь Саш, а вы откуда?
— Из Москвы.
— Откуда дядя Валера, да?
— Примерно.
— А я вспомнила вас, — вдруг заявила Наденька. — У мамы есть фотографии, где вы сняты вдвоем, только вы тогда совсем молодой были.
Лиля слегка покраснела и строго сказала:
— Ешь и не разговаривай.
Наденька принялась есть, Александр не удержался и спросил, улыбаясь:
— А разве сейчас я старый?
Наденька критически оглядела его и объявила:
— Нет, вы еще не очень старый. Но и не совсем молодой. Вы как моя мама. Вы вместе в школе учились, да?
— Да, — сказал Александр. — Но ты ешь, а то мама опять рассердится. Мы потом поговорим.
— Ага, — сказала Наденька.
— Опять «ага»?
Наденька ойкнула и пожаловалась:
— Я все время помню, что надо говорить «хорошо», а когда начинаю говорить, почему-то получается «ага». Ну ладно, я больше не буду.
Лиля не выдержала и засмеялась, Надя от восторга заболтала ногами, но тут кто-то позвал ее с улицы, и она, вспомнив о своих ребячьих обязанностях, усиленно заработала ложкой.
— А уроки ты все сделала? — спросила Лиля.
— Да, мама.
И, доев суп, Наденька вскочила из-за стола и побежала одеваться, крикнув уже с порога:
— Спасибо, мама!
Лиля проводила ее и сказала:
— Теперь наша очередь.
— Тебе помочь?
— Да, сейчас будешь носить тарелки.
И вдруг она села, сложив руки на коленях, и сказала:
— Сашенька, а я ведь и впрямь рада, что ты приехал. Очень рада.
От неожиданных ее слов Александр заволновался и почувствовал, что бледнеет, — а Лиля отвела глаза, полезла зачем-то в шкаф. Оказалось, что за рюмками, и одну уронила — рюмка разбилась с протяжным тонким звоном, и Лиля весело сказала:
— Ну вот, к счастью.
И, присев на корточки, стала собирать осколки. Александр сбоку смотрел на нее, видел узел пышных темных волос на затылке, характерный овал ее скуластого лица — и вдруг подумал о том, что их разрыв не просто ошибка, а непоправимая катастрофа, и даже если теперь что-то еще и возможно у них, — об этом неясном «что-то» подумалось впервые, — все равно десять прошедших лет никогда не забудутся — таким ощутимым провалом в его жизни вдруг обозначились эти годы.
Лиля разогнулась, бросила осколки в мусорный бачок и повернулась к нему:
— Надо выпить за встречу, да? Ты сходи в магазин, тут недалеко, за углом, а я пока на стол соберу.
— У меня есть, — сказал Александр и заторопился к своему чемодану, вытащил коньяк и сухое вино, красивую дорогую куклу — подарок для Наденьки — и старинный мельхиоровый браслет с японскими или китайскими иероглифами, купленный случайно в антикварном магазине перед отъездом из Москвы.
— Это тебе, — сказал он, вернувшись на кухню, и протянул на раскрытой ладони браслет. Лиля взглянула на Александра, потом на браслет и, тщательно вытерев руки, осторожно взяла его.
— Какой красивый, — тихо сказала она. — Спасибо…
И вдруг быстро вышла из кухни. Александр посмотрел ей вслед, закурил и стал глядеть в окно. Там, в мягких апрельских сумерках, бегали ребята, слышался звонкий голос Наденьки, и Александр подумал, что очень хотел бы иметь такую дочь. О сыне он не вспомнил.
Вернулась Лиля, ровным бесцветным голосом, показавшимся ему чужим, сказала:
— Иди садись, я сейчас тоже приду.
— А тарелки?
— Да ведь тут совсем немного, я сама принесу.
Он пошел в комнату и стал ждать. Торопливое постукивание будильника раздражало его, он смотрел на стрелки часов, и не то чтобы ему казалось — он ясно видел, что они совсем не движутся. Пять минут ожидания показались ему очень долгими, и он уже хотел встать и пойти на кухню, но тут вошла Лиля, поставила на стол тарелки и, мельком взглянув на него, снова ушла, ничего не сказав. Александр встал, прошелся по комнате, увидел браслет, лежавший на туалетном столике, и стал рассматривать его. Снова вошла Лиля, но теперь она не спешила уходить, и он положил браслет и повернулся к ней. Лиля улыбнулась ему и спросила:
— Интересно, что означают эти иероглифы?
— Не знаю.
Он собрался было сказать, что ему самому хотелось это узнать и в поезде он перерисовал иероглифы в записную книжку, чтобы потом спросить у кого-нибудь, что они означают, но промолчал.
Наконец сели за стол, и Лиля, улыбнувшись ему, вздохнула и сказала:
— Ну что ж, наливай.
— Тебе коньяку?
— Да, только немного.
Выпили почему-то молча, глядя друг на друга. Лиля чуть поморщилась, но тут же тряхнула головой и весело сказала:
— Давно не пила, если вдруг опьянею и начну говорить глупости — не удивляйся.
— Не буду, — Александр улыбнулся.
— Валера говорил, что ты совсем не пьешь?
— Очень редко и мало.
— Почему?
— Ну, как это почему? — удивился он. — А зачем это нужно?
Лиля засмеялась.
— Ну вот, уже ерунду сказала… Действительно, зачем? Но ведь это так модно сейчас. Чуть ли не в любой современной книге герои то и дело пьют — по поводу и без всякого повода, а между выпивками совершают открытия, объясняются в любви, — ну, и все такое прочее. Но мода, как нам популярно объясняют в женских журналах, отражает требования жизни. И в данном случае, к сожалению, аналогия вполне уместна. Мне не так уж редко приходится направлять своих пациентов к психиатру — лечиться от алкоголизма.
— А Владимир пьет? — почему-то спросил он.
— Нет… Хотя однажды он мне признался, что иногда ему очень хочется напиться. Но при мне этого так ни разу и не случилось.
— Почему?
— Он говорил, что хирургам нельзя пить. Каждая рюмка в конце концов скажется.
— Железные у него принципы, — усмехнулся Александр.
— Да, он человек очень целеустремленный, — спокойно сказала Лиля.
— Почему ты ушла от него? — вдруг быстро спросил Александр.
Лиля помедлила с ответом и сдержанно сказала:
— Наверно, потому что не любила его.
— А когда выходила замуж — любила?
Она опустила голову и тихо сказала:
— Не надо об этом, Саша. Может быть, потом я расскажу тебе… Ты ведь не завтра уезжаешь?
— Нет.
— У тебя что, отпуск?
— Да.
Он хотел сказать, что в его распоряжении месяц, — а если она захочет, он сможет задержаться и дольше, — но боялся испугать ее и промолчал, потянулся к бутылке с коньяком. Лиля сказала:
— Мне — вина, пожалуйста.
И когда снова выпили, Лиля, улыбнувшись, сказала:
— Ну что, начнем с воспоминаний?
Его чуть-чуть покоробила эта прямолинейность, которой он не знал у нее раньше, и опять удивило, что она так верно поняла его, но не стала говорить об этом прямо, а внимательно посмотрела на него и начала издалека:
— Все-таки верно говорят, что профессии накладывают на людей свой отпечаток и в чем-то меняют их характер.
— Как же я изменился?
— Да в общем-то не слишком сильно… Разве что стал солидным, уверенным в себе.
— А разве раньше я был неуверенным?
— Нет, конечно. Но то была, пожалуй, не столько уверенность, сколько самоуверенность юности. Тем более что у тебя были все основания ждать от жизни немалого.
— А у тебя разве не было?
— А у меня не было.
И неожиданно просто Лиля сказала:
— Пока мы были вместе, я тоже ничего не боялась и была уверена, что и мне… выпадет доля значительная. Только не подумай, что я жалуюсь. У меня есть все основания считать себя неплохим врачом, — не потому, разумеется, что я умнее своих коллег, а просто — несколько иначе, может быть, отношусь к своей работе.
— И эта работа тоже изменила твой характер…
— Да, конечно. Когда вплотную сталкиваешься с болью, горем, страданиями и как-то вмешиваешься в это — поневоле начинаешь смотреть на жизнь несколько иначе, чем все смертные… Как-то проще, может быть, даже грубее, но в то же время и глубже. Знаешь, я довольно много читаю…
— Да, я заметил это по твоей библиотеке.
— И вот что иногда удивляет меня. Во многих книгах, — а особенно молодых писателей, — герои живут как будто в каком-то… надземном мире, что ли. Можно подумать, что они воспитывались в каких-то инкубаторах и никогда не жили в семье, не видели ни ссор, ни обид, ни болезней. А что особенно раздражает меня — как пишут о любви. Как будто это что-то… из ряда вон выходящее, настолько необыкновенное, словно и не любили до них миллионы людей. И, кстати, у меня иногда появляется ощущение, что многие люди живут так, будто мир образовался только при их появлении на свет, а до этого — ничего не было, и как умрут они — тоже ничего не будет. То есть они, конечно, знают, что и до них жизнь была и после них будет, но… не чувствуют этого, прошлое и будущее никак, в сущности, не сказываются на их сознании… Не замечал ты этого?
— Да как-то не задумывался, — признался Александр и — подумал: «А я — уж не из таких ли?»
— Да, о чем это я говорила? — спросила Лиля и засмеялась. — Я что, уже пьяная?
— Ну что ты!
— Ну, ничего, если и есть немножко, сегодня можно… А о чем я все-таки говорила?
— О необыкновенной любви.
— А, да… — Лиля вдруг поскучнела и небрежно бросила: — Да что о ней говорить… О любви, как известно, давно все сказано, как, впрочем, и о смерти и множестве других вещей, из которых состоит жизнь человеческая… Разница разве что в том, — Лиля усмехнулась, — что любовь не у всякого бывает, а вот умирать — каждому придется…
Упоминание о смерти заставило Александра спросить:
— А тебе часто приходилось видеть… как умирают?
— Немало. Как правило, это люди старые, беспомощные, и сами они порой ждут смерти как избавления. Но мы их лечим, конечно, — бесполезно и долго лечим. Но с этим еще как-то можно примириться, а вот когда умирают молодые, особенно дети, — это всегда страшно. И привыкнуть к таким смертям невозможно… Я, по крайней мере, еще не привыкла, — задумчиво добавила Лиля и, улыбнувшись, сказала: — Что-то мы на невеселую тему разговор завели. Ты ешь, а то остынет. И пей, если хочешь, я больше не буду.
— И мне не хочется.
Стали есть, перебрасываясь ничего не значащими фразами. Потом Лиля принялась убирать со стола. Александр спросил:
— Тебе помочь?
— Нет-нет, я только отнесу на кухню, а мыть буду потом. Ты покури пока.
А вернувшись, Лиля сказала слова, безмерно обрадовавшие его:
— Знаешь, иду сейчас — и как-то даже не верится, что здесь сидишь ты, куришь, ждешь меня. Я ведь часто думала, как мы встретимся… Ведь не могло быть так, чтобы мы не встретились?
— Не могло, — радостно сказал Александр.
— Ну вот и встретились, — ласковой улыбкой ответила она ему. — Я иногда думаю, как часто мы необдуманно рвем старые связи и этим как-то обкрадываем себя, свое прошлое, — а тем самым и свое будущее, потому что прошлое и будущее связаны друг с другом прочнее, чем мы думаем. Как часто мы все сводим к категориям «да — нет», словно и не существует множества промежуточных состояний…
Александр слушал ее — и удивлялся, почему он раньше не задумывался над такими простыми и очевидными вещами, и сразу вспомнил некоторые свои слова и поступки, когда нужно было бы все тщательно взвесить, обдумать, помедлить с решением — но он отрубал всякие сомнения категорическими «да» или «нет». И стало неловко, что еще полчаса назад он обвинял ее в прямолинейности. Он сказал:
— Как верно ты говоришь…
— Ну, это не бог весть как ново, — небрежно сказала Лиля, не глядя на него, и спросила: — Наш лес помнишь?
— Конечно.
— Первое время я довольно часто бывала там, все наши тропинки исходила, на все полянки поглядела…
Его и радовало, что она говорит «наш лес», «наши тропинки», и неприятно смущал ее бесстрастный тон. Лиля продолжала:
— А потом там строить начали, все перерыли, вырубили почти все деревья — хотя вполне можно было обойтись и без этого. Сейчас от леса почти ничего не осталось — стройка к самой реке подошла. Да и река совсем не та стала — грязная, даже купаться противно, рыбу всю извели. В общем, все как у людей, — со спокойной иронией сказала Лиля, — растем, ширимся, строимся, — а заодно рубим сук, на котором сидим…
И такой спокойной и уверенной в себе показалась она сейчас Александру, — в ней ничего не осталось от неловкости и скованности первых минут их встречи, — что он сказал ей:
— Какая ты стала…
И замялся, не находя подходящего слова.
— Какая? — с неприятной для него небрежностью осведомилась Лиля.
— Ну… действительно очень независимая…
Она засмеялась легким, снисходительно-ласковым смехом.
— Ты так сказал, что можно подумать — тебе не нравится это.
— Нет, конечно… — торопливо стал оправдываться он, но Лиля спокойно остановила его:
— Ну, разумеется, нет… А быть независимой… что ж, надо сказать, это очень приятно. Может быть, это даже самое важное в жизни… Во всяком случае, жизнь меня не пугает, я знаю, что как бы трудно ни пришлось — я сумею справиться сама…
Помолчала и добавила:
— Жаль, что десять лет назад я… не была такая независимая. — Она взглянула на часы и сказала: — Однако пора Надю звать.
И пошла на кухню, позвала сильным уверенным голосом:
— Надя, домой!
И Наденька тут же явилась, весело затараторила с порога, захлебываясь словами:
— Ой, мамочка, ты знаешь, эта Люська такая дура, такая дура…
— Нельзя так говорить, — строго остановила ее Лиля.
— Я знаю, мамочка, я знаю, — торопливо сказала Наденька. — Я больше не буду, но ведь она и в самом деле… — Наденька осеклась и презрительно сказала: — А еще в третьем классе.
— Почему же она… такая?
Наденька прыснула и объяснила:
— Мы играли в прятки, а Люська подсматривала, и я сказала, что это нечестно и я больше не буду с ней играть. А она разобиделась и кричит на весь двор: у меня есть список, в котором я пишу, с кем вожусь и с кем не вожусь. Ты, говорит, была в списке, с кем вожусь, а теперь я тебя оттуда вычеркну и запишу в список, с кем не вожусь. Ой, ну и какая же она… глупая, — нашлась наконец Наденька и радостно засмеялась, и Александр невольно улыбнулся, очень живо представив эту глупую Люську, — наверно, дочь какого-нибудь бухгалтера, — и с нежностью подумал о Наденьке: «А вот она умница…»
Наденька влетела в комнату, устремив на Александра глаза, — но тут же увидела куклу, и лицо ее стало таким изумленно-радостным, что у него защемило сердце, — он сразу вспомнил, что сын никогда так не радовался подаркам. Наденька ойкнула и, не веря, спросила:
— Это мне?
— Ну конечно, — засмеялся Александр, радуясь ее радости. Наденька вместе с куклой подошла к нему и, ткнувшись в колени, сказала:
— Спасибо, дядя Саша.
Он погладил ее мягкие, рассыпавшиеся под рукой волосы и забыл сказать «пожалуйста». А Наденька, разглядывая куклу, продолжала изумляться:
— Ой, и тапочки! А они снимаются?
— Да.
И Наденька сняла с куклы тапочки, снова надела их и спросила:
— А купать ее можно?
— Можно, только надо снять тапочки и платьице.
Наденька стала есть, то и дело поглядывая на куклу, сидящую на диване, и когда Лиля стала укладывать ее спать, Наденька умоляюще попросила:
— Мам, и Настя со мной.
— Какая Настя? — не поняла Лиля.
— Ну кукла!
— А… Сегодня можно, — разрешила Лиля и сказала Александру: — А мы еще на кухне посидим.
Было уже девять часов, и он неуверенно сказал:
— Наверно, мне пора идти…
— Ну, не выдумывай. Никуда ты не пойдешь, здесь ночевать будешь, — сказала Лиля как о чем-то само собой разумеющемся. — Мы с Надей вместе ляжем, тебе постелю на раскладушке.
— А может, лучше в гостиницу пойти?
Лиля засмеялась.
— Наивный ты человек. Как будто тебе там место приготовили. Да и зачем тебе гостиница, все равно ведь завтра придешь сюда. А здесь места всем хватит.
И Наденька попросила:
— Дядь Саш, оставайтесь.
И он согласился, с радостным изумлением подумал: «Неужели я буду спать в одной комнате с ней?»
Они до одиннадцати часов сидели на кухне. Разговор шел спокойный, Александр рассказывал ей о своей работе, — Лиля молча слушала, смотрела на него большими внимательными глазами. А потом он заметил, что лицо у нее усталое, и спохватился:
— Ну, хватит на сегодня, тебе спать надо.
— Да, пожалуй, — просто и необидно для него согласилась Лиля. — Наговоримся еще. Ты посиди, пока я постелю тебе.
Через несколько минут она позвала его:
— Иди ложись, я сейчас тоже приду.
И он вдруг поразился тому, что услышал от нее. Так часто говорила ему жена — но какая же разница была сейчас между этими словами… Раздеваясь, он подумал о том, что эти же слова могла говорить — и наверняка говорила — Лиля своему мужу, и впервые почувствовал ревность к нему.
Он был спокоен, дожидаясь ее возвращения, но когда услышал, как она раздевается в темноте за его спиной, — у него так бешено заколотилось сердце, что он испугался, и потом с мучительной сладкой болью вспоминал тот душный июльский день, первые мгновения их близости, — а она, помнила ли она об этом? Но сейчас Лиля наверняка ничего не вспоминала — дыхание ее было таким же спокойным и движения — он чувствовал это — размеренными и точными. Но она еще долго не спала, и это обрадовало его, и он наконец решился спросить:
— А ты знаешь, зачем я приехал?
— Да, — сразу сказала она. — Но не надо сейчас об этом.
— Хорошо, — покорно согласился он, обрадованный этим «сейчас». Если не сейчас — значит, потом. Просто, как дважды два.
Лиля наконец уснула, — он понял это по ее дыханию, — а он еще долго смотрел на светлую ровную поверхность потолка, — только это и видно было в комнате, — потом осторожно оделся, пошел на кухню и долго стоял, курил, смотрел на освещенную тусклым фонарем непроницаемо черную землю двора с редкими светлыми пятнами луж и думал.
3
Утром его разбудил тихий шепот Лили и капризный сонный голос Наденьки, которая никак не могла проснуться. Он осторожно повернул голову и чуть приоткрыл глаза. Лиля, уже одетая, ласково уговаривала Наденьку:
— Ну все, доченька, вставай, а то опоздаешь в школу.
— Ну ма-а-м, — тянула Наденька, — еще немножечко…
— Никаких немножечко… И говори тише — дядя Саша спит.
И Наденька затихла, посидела немного с закрытыми глазами и шепотом сказала:
— Я уже все, мамочка, проснулась, только чуть-чуть осталось.
— Никаких чуть-чуть.
— Ну вот столечко, — показала Наденька на мизинце, все еще не открывая глаз.
— Нет, Надя, все.
— Встаю, — тяжело вздохнула Наденька, и Александру стало жаль ее и чуть-чуть стыдно за себя — ведь сам он мог спать сколько угодно. Он закрыл глаза и притворился спящим. Но когда Наденька оделась и они все еще продолжали говорить шепотом, даже на кухне, и старались не греметь посудой, — он откашлялся, и тут же пришла Лиля, с улыбкой сказала:
— Доброе утро.
— Утро действительно доброе, — весело сказал он, показывая на острый яркий луч солнца, протянувшийся от щели в шторах до стены. — Давно у вас такая погода?
— Дней пять.
— А у нас дожди.
— И у нас еще будут, — пообещала Лиля. — Мы сейчас уходим, а ты поспи еще. Я тебе оставлю ключ, можешь уходить и приходить когда угодно, У Нади есть свой. Еда в холодильнике, не поленись и разогрей. Я приду как обычно, в пять.
— А Надя?
— В час. Чем ты собираешься заняться?
— Да надо, наверно, город посмотреть.
— Ну, смотри.
И они ушли. Наденька перед уходом серьезно сказала кукле:
— А ты сиди смирно, не шали, пока меня не будет.
И чуть-чуть смутилась, оглянувшись на него.
Но Александр даже и не пытался больше спать, — хотя и заснул ночью около четырех, — сразу встал и, увидев на кухне в раковине горку грязной посуды, с непривычным удовольствием принялся мыть ее, — чего никогда не делал дома, даже если у него и бывало свободное время. А потом, выпив чаю, — он никогда не завтракал, — вышел во двор, мимо любопытных взглядов двух женщин, стоявших на лестничной площадке, с ног до головы осмотревших его. «Ну, теперь будет работы их языкам», — весело подумал он, не сомневаясь в том, что Лиле глубоко безразличны пересуды соседей.
Он прошелся по близлежащим улицам — но все вокруг было незнакомо, чуждо ему. Он даже не мог точно определить место, где когда-то стоял его дом, проданный старшим братом после смерти матери. Подошел к школе — и удивился тому, какая же она маленькая. В воспоминаниях она почему-то представлялась большой, как обычная современная школа. Войти он не решился — просто не знал, о чем станет говорить с теми немногими учителями, оставшимися со времени его ученичества. Да и оказалось, что он не может вспомнить всех даже по имени — запомнилась только Валентина Георгиевна. И Александр поехал в центр — и хотя здесь почти ничего не изменилось за десять лет, но память лишь механически отмечала знакомые места. Взволновал его только вид сквера около театра, где они однажды с Лилей просидели до глубокой ночи и потом возвращались домой пешком по тихому ночному городу. И ему захотелось поскорее вернуться домой, — он так и подумал — «домой», и даже не удивился этому, — увидеть Наденьку и вместе с ней дождаться возвращения Лили. Он накупил цветов, конфет, взял такси, — так велико было его нетерпение, — заранее разогрел обед и, когда Наденька пришла из школы, весело, по-хозяйски скомандовал:
— Ну, раздевайся, мой руки, сейчас будем обедать.
— Ой, как хорошо, что мы вместе будем обедать! — воскликнула Наденька.
— Одной-то скучно? — улыбнулся Александр.
— Конечно… И есть совсем не хочется… Ой, вы и посуду вымыли! — обрадовалась Наденька. — Хорошо, мне не возиться.
— А разве ты моешь посуду? — удивился Александр.
— Конечно, — со снисходительной важностью ответила Наденька. — Я ведь уже большая, а мама приходит с работы усталая, надо же ей помогать.
— Надо, — с улыбкой согласился Александр.
Обедали весело — Наденька беспрерывно щебетала, с детской непосредственностью рассказывала о школе. А когда кончили, Александр сказал:
— Иди делай уроки, а я вымою посуду.
— Сейчас, — со вздохом сказала Наденька. — Я только немножко поиграю с Настей, можно?
— Можно, — сказал он, стараясь говорить безразличным тоном.
Наденька играла с полчаса, и потом Александр напомнил ей:
— А не пора ли браться за уроки?
— Пора, — с сожалением сказала Наденька и, усадив куклу, неохотно стала раскладывать тетради. Александр спросил:
— Тебе не нравится делать уроки?
Наденька потупилась.
— Нет.
— Почему?
— Скучно, — пожаловалась она. — Заставляют одни и те же слова писать по десять раз. И читать тоже. А я все это еще в прошлом году выучила. Мама хотела отдать меня сразу во второй класс, но меня не пустили.
— Тогда действительно скучно, — согласился Александр. — Но раз велят — надо делать.
— Я делаю, — опять вздохнула Наденька.
— А какие у тебя отметки?
— Пятерки, — сказала Наденька таким тоном, словно других отметок вообще не существовало.
И когда он смотрел, как Наденька старательно выводит буквы, высунув язычок и склонив голову набок, — он подумал о том, как хорошо было бы остаться здесь навсегда и каждый день видеть, как Наденька готовит уроки. О том, как это могло бы произойти, он старался не думать, зная, что тотчас же возникнут вопросы тяжелые и вряд ли разрешимые, а ему ничем не хотелось омрачать свое радужное настроение. Просто приятно вообразить хотя бы на минуту, что такое возможно…
Пришла Лиля, и снова был вечер спокойных разговоров, но когда наступила третья ночь, Александр, простояв на кухне два часа и выкурив множество сигарет, понял, что не может больше вынести этой неопределенности. Он тихим, но решительным шагом вошел в комнату и уверенно сказал:
— Ты не спишь.
— Нет, — ответила Лиля, и он присел на край ее постели и осторожным движением взял ее руку, приятно пахнущую чем-то душистым, и прижал ее к своему лицу. Рука Лили безвольно касалась его губ. Она молчала — и когда Александр выпустил ее руку, попросила:
— Не надо, Саша. Иди спи.
— Почему не надо?
— Завтра у меня свободный день, и мы обо всем поговорим.
— Хорошо, — не сразу сказал он. — Спи.
И, не удержавшись, он легким движением коснулся ее плеча, смутно белевшего в темноте, и ушел на кухню. И опять, как и в предыдущие ночи, смотрел в темноту и много курил. А потом услышал, как осторожно встает Лиля, и замер от тревожного предчувствия: «Сейчас…»
Было два часа ночи.
Лиля, не глядя на него, зажгла плиту и поставила чайник, сказала, не оборачиваясь:
— Если хочешь, могу сварить тебе кофе.
— Не нужно.
Она вытряхнула пепельницу и сказала:
— Ты очень много куришь.
— Извини.
— Я не потому. — Лиля наконец-то улыбнулась. — Кури, сколько хочешь, но ведь это же вредно.
— Зато я не пью, — вымученно улыбнулся Александр. — А курю действительно много, особенно во время работы. Когда прохожу рентген, у меня даже не спрашивают, курю или нет. Сразу в лоб: «Сколько курите?»
Лиля села напротив него и спросила:
— Ты часто вспоминал меня?
— Да, — солгал он, отводя взгляд от кружевного выреза на груди Лили.
— А почему раньше не приезжал? Почему не писал?
Он промолчал — что он мог сказать? Как объяснить, что он забыл ее, а когда вспомнил и приехал сюда — понял, что любит ее и любил всегда? Любил всегда, несмотря на долгие годы разлуки?
— Чего ты хочешь, Саша?
— Тебя, — выпалил он и впился в нее глазами.
— Вот как, — сказала она, не удивившись его словам. — Ну, допустим на минуту, что это случилось — и что же дальше?
— Я разведусь с Леной, мы поженимся, и вы переедете ко мне, — медленно и твердо сказал он свое решение, принятое за последние дни и ночи.
И этому она как будто не удивилась.
— А что же будет с ними? С твоей женой, твоим сыном? Что будет с нами, наконец?
Александр, не вдумываясь в ее слова, — их заглушили усиленно подчеркнутые ею «твоей», «твоим», — поспешно сказал:
— Я думал об этом. Можно устроить все так, что никто не будет в обиде. Мою квартиру легко разменять на однокомнатную и двухкомнатную, и работа тебе там всегда найдется.
Она подняла брови.
— Ты не понял меня. Я и не сомневаюсь в том, что ты сделаешь все так, что им будет удобно. А я не боюсь неудобств, если бы они и были. Я о другом говорю. Вы прожили вместе восемь лет — это очень много, Саша. И прожили, как я думаю, неплохо. И потом… Ведь у твоего сына не будет другого отца.
— Да-да, я понимаю, — заторопился он. — Все это не так легко и просто, как может показаться из моих слов. Но ведь я… люблю тебя.
Лиля молчала, сложив руки на груди и глядя прямо перед собой.
— Что же ты молчишь? — робко сказал Александр.
— Мне кажется, — Лиля прямо взглянула на него — большими и строгими сейчас глазами, не умеющими лгать, — что ты слишком поспешно все решил.
— Нет, — быстро сказал он и с досадой подумал, что эта торопливость может только усилить ее ощущение о поспешности его решения. Лиля ничего не сказала, стала заваривать чай, размеренными движениями нарезала лимон аккуратными дольками. «Почему она так спокойна?» — тревожно думал Александр. Сам он волновался до того, что под коленом задрожали мышцы, и, выкурив сигарету, тут же взял другую, даже не заметив этого.
Лиля дала ему чай, стала медленно размешивать сахар в своей чашке.
— Я люблю тебя, — повторил Александр. — Ты не веришь мне?
Она отставила свою чашку, с непонятным отчаянием взглянула на него.
— Господи, Сашенька, о чем ты? Да как же я могу не верить тебе?
«Верит», — сказал он себе, еще не смея верить в ее веру и тому, что не нужно ничего объяснять, — а для него сейчас важно было только это — его любовь к ней и ее вера в нее, — и чужим голосом, эхом отдавшимся внутри него, спросил:
— Тогда что же нам может помешать? Что может помешать нашей любви?
Он сказал «нашей», но Лиля словно не заметила этого и недоверчиво спросила:
— А ты не понимаешь?
— Нет, — сказал он, действительно ничего не понимая, и Лиля откинулась на спинку стула и убежденно сказала:
— Но ведь этого не может быть!
— Чего?
— Что ты не понимаешь. Ты же просто не о том говоришь!
Он растерянно смотрел на нее — а Лиля вдруг засмеялась, и таким странным показался ему этот смех, что его растерянность сменилась изумлением — над чем тут можно смеяться? А Лиля внезапно оборвала смех и, дотронувшись до его колена рукой, очень серьезно сказала:
— Да ведь все очень просто, Сашенька. Нашей любви не то что может — должна помешать наша же любовь, та, что была у нас двенадцать лет назад…
— К… К-как это понять?
Лиля молчала, давая ему время осмыслить ее слова. И он вдруг с ошеломившей его ясностью понял ее — и тут же поразился своему только что окончившемуся непониманию, провел по лбу дрожащей ладонью и сказал первое, что пришло в голову:
— Ну вот…
А Лиля, помолчав, поднялась и осторожно, словно боялась причинить ему боль, коснулась губами его волос и с неожиданной, поразившей его нежностью тихо, почти шепотом, сказала:
— А теперь тебе надо спать. Завтра мы продолжим этот разговор… Хочешь, я дам тебе снотворное?
— Давай, — покорно согласился он.
Александр выпил таблетку и, подождав, пока Лиля уляжется, пошел к своей постели.
Но оба так и не уснули в эту ночь — и молча лежали в темноте, прислушиваясь к дыханию друг друга, и оба боялись заговорить, оберегая тяжкий покой другого, ждали утра. И утро наконец пришло, — такое же яркое и солнечное, как и во все эти дни, и словно ничего не изменилось — прежнее солнце било в стекла окон, закрытых плотными шторами, прежний звон будильника напомнил о том, что надо вставать и провожать Наденьку в школу. Когда она ушла, Александр оделся и на вопрос Лили, будет ли он завтракать, покачал головой:
— Только чаю.
Чай пили молча — только «да», «нет», «спасибо», «пожалуйста». Потом, взглянув на часы, — было девять, — он сказал:
— Я пойду погуляю немного, а ты поспи.
— Хорошо, — кивнула Лиля.
Ходил он долго, не зная, где идет, — повсюду были одинаковые улицы с тощими прутиками акаций и кленов, горячее солнце однообразно сверкало в стеклах одинаковых домов, и люди казались ему одинаковыми — чужие, равнодушные, далекие. И усталость, которой он так хотел сейчас, никак не приходила к нему. Возбуждение его иногда становилось настолько сильным, что Александр начинал думать, что не удержится и ударит кулаком по какому-нибудь стеклу, и очень ясно представлял, как со звоном посыпятся осколки и как будут сверкать в лучах солнца, пока их не уберут… Спокойно, — говорил он себе, — спокойно… Давай разберемся. Зачем, собственно, ты ехал сюда, на что надеялся? Что Лиля все эти десять лет продолжала любить тебя и стоит только приехать и сказать ей об этом — и сразу станет все так, как тебе хочется? Чушь какая… А впрочем, почему непременно чушь, что в этом невозможного? Если такое случилось с тобой — почему же и с ней не могло быть? Но подожди, подожди, — остановил он себя, — разве ты думал о том, что все еще любишь ее, когда ехал сюда? Ведь нет же… Ехал только потому, что тебе захотелось увидеть ее, вспомнить прошлое, но ведь и в голову не приходило уйти от Лены и сына… А впрочем, что-то такое все-таки мелькнуло, когда подъезжал к городу, — он вспомнил, как подумал в поезде: «А может быть, за своим будущим?» Но мелькнуло и пропало, и вот прошло всего три дня и три ночи, и ты готов и на развод, и на расставание с сыном… А действительно, не слишком ли скорое решение? Он недолго подумал об этом и покачал головой: решение по-прежнему представлялось единственно возможным. Ведь не лгал же он ни ей, ни себе, когда говорил, что любит ее… И действительно, всегда любил, хотя казалось, и забыл ее. Пусть это и странно, но разве так не может быть? Значит, выход и в самом деле только один — снова быть вместе? Но как она сказала — «нашей любви должна помешать наша же любовь, та, что была у нас двенадцать лет назад…».
Он вспомнил, как сначала не понял ее, что ее слова в первое мгновение показались ему бессмысленными и как тут же пришло ощущение, что это правда, действительно так и должно быть, но ему не хотелось верить в эту правду, и сейчас он снова и снова пытался доказать себе, что ничего страшного нет, если и помешает им прежняя любовь, то совсем немножко, чуть-чуть, и в их силах сделать так, чтобы прошлое из помехи превратилось в союзника, надо только очень захотеть. «Конечно, мы оба всегда будем помнить о том, что было, — ну и что? Да, мы оба повзрослели, изменились, и пусть прежнее уже невозможно, — но разве это означает, что у нас совсем ничего не может быть?» И Александр на все лады продолжал убеждать себя в том, что ничего страшного не случилось, что десять лет разлуки и его вина перед Лилей — препятствия не настолько тяжелые, чтобы только из-за этого они не могли бы соединиться… И он уже почти уверовал в то, что стоит им как следует поговорить, — и все наладится, она не сможет не согласиться с тем, что для них обоих самый разумный, единственно возможный выход — снова быть вместе… Конечно, Лена и его сын — проблема не из легких, но что же делать, если все так получилось? В конце концов не он один в таком положении, тысячи, десятки тысяч семей распадаются, это неизбежно и естественно, если люди приходят к выводу, что не могут жить вместе…
Но где-то в глубине души он смутно чувствовал неправоту своих логических доводов и догадывался, что еще не понимает всего случившегося — и того, что было двенадцать лет назад, и того, что происходит сейчас. Но ему так не хотелось верить тому, что никакое будущее с Лилей не возможно, что он просто боялся думать об этом и заторопился к ней, уверенный в том, что она не спит и ждет его.
4
Он вошел и увидел, что Лиля стоит у окна, держась левой рукой за штору, и понял, что она не спала. Он молча разделся, — Лиля даже не повернула головы, — и, подойдя к ней, осторожно положил руки на плечи. И его собственные руки казались ему сейчас такими тяжелыми, что он боялся причинить ей боль этой тяжестью, и только слегка касался ее плеч. Она прижалась затылком к его лицу и сказала:
— Я видела, как ты идешь. Трудно тебе сейчас…
Она не спрашивала, а утверждала, и он молчал — ему казалось, что он вообще может больше ни о чем не говорить ей, потому что она и так все знает — все, что было с ним за эти десять лет. И его больше не удивляла ее проницательность, он воспринимал ее как что-то естественное — как и то, что сам он ничего не знает о ней и ждет, когда она расскажет ему. И Лиля, угадав и это его желание, стала рассказывать, по-прежнему не поворачиваясь, — наверно, она знала и то, что так ему легче слушать, — и он молчал, вдыхая запах ее волос, и слушал:
— В первый день ты спрашивал меня, знаю ли я, зачем ты приехал… Да как же мне не знать, если у меня самой не раз бывали такие минуты, когда мне хотелось бросить все и поехать в твой город — даже не к тебе, а только в твой город, походить по его улицам, посмотреть на людей, среди которых ты живешь, может быть — издали увидеть тебя. Только издали — я знала, что не подойду к тебе, да и зачем? Ты вчера солгал мне, когда я спрашивала, часто ли ты вспоминал обо мне…
— Да, — беззвучно пошевелил он губами, но ей и не нужно было его подтверждение, и она продолжала:
— Я знала, что ты забыл меня, — иначе ты давно бы уже приехал. Но почему-то была уверена, что когда-нибудь по-настоящему вспомнишь и обязательно приедешь, и ждала тебя. И никаким рассказам Валеры о твоей счастливой жизни я не верила — ты просто не мог быть счастливым, твое счастье осталось позади, как и у меня, оно кончилось в тот день, когда ты провожал меня на Казанском вокзале… Конечно, мы оба не думали тогда, что это конец, — иначе сделали бы как-то по-другому. Я верила, что через год мы снова будем вместе… Но что со мной потом началось, Саша! Уже через минуту после отхода поезда я заметалась по тамбуру, чувство… необходимости тебя, — звучит неуклюже, но других слов я просто не подберу, — было таким сильным, что на первой же остановке, в Рязани, я выскочила с чемоданом на перрон и решила вернуться к тебе. Но поезд стоял минут пятнадцать, и я опомнилась. Я знала, что, если вернусь, ты все бросишь и поедешь со мной, — я помнила, какое у тебя было лицо, когда мы прощались. И знаешь, что помогло мне справиться? Очень трезвый расчет: неизвестно, поступишь ли ты на следующий год, а если не поступишь, тебя взяли бы в армию, и нам пришлось бы расстаться уже на три года. И эта простая арифметика — три и один — заставила меня вернуться в вагон. А потом началось ожидание, похожее на голод, который ничем нельзя было утолить. Ожидание твоих писем, результатов экзаменов, твоего приезда. Я знала, что ты сможешь приехать всего на несколько дней, и когда думала о том, что будет в эти дни — начинала смеяться от счастья и даже не задумывалась, что будет потом — ведь перед этим «потом» будешь ты… Но все вышло иначе. Как ни неопытна я была, но довольно быстро сообразила, что забеременела. Что греха таить — я испугалась, так неожиданно и некстати все это было. И сделала одну глупость…
— Какую?
— Это уже физиология, Саша, об этом не нужно… Ну, а как дальше было, ты, наверно, помнишь…
— Да.
— Встретила я тебя совсем не так, как бы мне хотелось, — а ты ничего не понимал и обиделся на меня.
— Почему ты ничего не сказала мне?
— И что получилось бы? Ты ведь остался бы со мной…
— Да.
— Я долго думала — говорить тебе или нет. Решила, что скажу все потом, когда это кончится. И ты уехал…
Она замолчала, и Александр тихо сказал:
— Если тебе тяжело рассказывать — не надо.
— Нет, ничего… Это ведь только наше с тобой — кому же мне еще говорить? Да и тебе нужно все знать.
Александр промолчал, соглашаясь с ней.
— И ты уехал — обиженный, непонятый… Но знаешь, мне и в голову не пришло ответить на твою обиду тем же. Я как-то сразу… повзрослела, что ли, и чувствовала себя ответственной за твое будущее. Я решила, что все это должно касаться только меня одной, и я должна справиться со всем сама… И пока ты был рядом, я ничего не боялась… А как уехал — такой маленькой и слабой показалась я самой себе! И дело было не только в этом… затруднении. Мне страшно было думать, что придется ждать еще почти полгода, пока я увижу тебя. Чуть ли не ежедневно я обходила все наши места, даже искала твои следы, вздрагивала от шагов под окнами и кидалась смотреть — вдруг это ты? Как ты мне был нужен тогда, Саша! Сколько раз по пути домой мне казалось, что где-то впереди идешь ты или уже ждешь меня дома, и я бросалась чуть ли не бегом и заглядывала в лица тех, чья фигура хоть немного напоминала твою. Иногда мне все это казалось страшной несправедливостью — за что такое наказание? Почему после всего, что было у нас — вдруг такая пустота и одиночество? Почему нельзя сделать так, чтобы нам было хорошо? Не знаю даже, с чем это можно сравнить… А тут начались неприятности — аборт, осложнения, да и мама доводила меня своими упреками до того, что я в истерике запиралась в своей комнате и целыми днями не выходила оттуда. В общем, я так и не смогла оправиться до твоего приезда…
— А ты не могла написать мне об этом?
— Я пробовала, но у меня ничего не получалось… Ну вот и Надя идет…
Лиля мягким движением высвободилась из его рук — и когда она повернулась, он увидел, что лицо ее спокойно, словно говорила она что-то обыкновенное, будничное, — а ему пришлось отвернуться и нарочито долго вытаскивать сигарету, разминать ее и закуривать.
Лиля пошла встречать Наденьку — та влетела с обычным смехом, что-то быстро и весело заговорила, но уже через минуту притихла, словно понимая, что в ее отсутствие в доме произошло что-то важное, несовместимое с ее веселостью и смехом, и что об этом не нужно расспрашивать, надо оставить взрослых вдвоем — решать их непонятные дела — и скорее идти на улицу. И как только она поела — сразу ушла, даже не заглянув в комнату. И Лиля тут же вернулась к Александру.
— Давай сядем.
Они сели рядом, касаясь плечами друг друга, Лиля осторожно взяла из его пальцев сигарету и зажала руку между своими ладонями — и только тогда он заметил, что рука его подрагивает.
— Дать тебе коньяку? — спросила Лиля.
— Нет… Говори, что было дальше.
— Что было дальше… Ты приехал зимой, но наша встреча, как сам, наверно, помнишь, получилась еще хуже, чем в августе. И дело было не только в моем нездоровье. Я уже начала понимать многое из того, о чем ты, вероятно, даже не задумывался. Я еще не знала, что начал действовать… как бы поточнее сказать… автоматизм, что ли, закона разобщенности судеб… Господи, как это неловко… Но ты понимаешь, что я хочу сказать?
— Да.
— Но твои письма уже приготовили меня к тому, что ты приедешь другим. И ты действительно приехал другим. Ты все еще любил меня, но далеко не так, как прежде, только часть тебя была со мной. Ты много говорил об университете, о друзьях, об учебе, — и я видела, как захватила тебя эта новая жизнь, как она буквально на глазах меняет тебя и как сильно уже успела изменить. И меня эти полгода изменили, конечно, но совсем по-другому… Я ведь даже не могла рассказать тебе о том, что произошло со мной, — уже не было той близости, которая позволила бы мне сделать это. А все остальное было так незначительно по сравнению с тем, что мне пришлось пережить. Вот почему я все больше молчала тогда. Да если бы и решилась тогда обо всем рассказать тебе — многого ты просто не смог бы понять. Ты уж прости, что я так говорю…
— Ну что ты… Это же правда.
— И когда ты опять уехал… Все пошло так, как и должно было… У тебя была своя жизнь, у меня — своя. Свободного времени у меня было немало, и передумала я за тот год столько, сколько, пожалуй, и за всю жизнь до этого не думала. Искала ответы на все эти вопросы — почему так получилось у нас и что же дальше будет? Думала о том, что было у нас в то лето. Разное приходило мне тогда в голову… И как-то постепенно начала понимать — было такое, что встречается, вероятно, нечасто, и, может быть, вся беда наша только в том, что слишком рано пришла к нам эта любовь и обоим оказалась не по силам… Думал ты об этом когда-нибудь?
— Нет.
— Может быть, я и не права, не знаю… Но ведь только вспомни, что у нас было тогда, Саша!
И он увидел, как волнение исказило ее лицо, — оно стало некрасивым, почти безобразным, — как сразу, в одно какое-то мгновение, исчезло все ее спокойствие — Лиля закрыла лицо руками и судорожно всхлипнула. Александр обнял ее за плечи, и Лиля сама прижалась головой к его груди. Он молчал, чувствуя, как тяжело напряглось ее тело под его руками и она изо всех сил сдерживает себя, чтобы не разрыдаться. И она сдержалась, осторожно высвободилась из его объятий, улыбнулась сквозь слезы:
— Ну вот, раскисла… Давай все-таки выпьем немного?
Он кивнул, и Лиля принесла рюмки и бутылку с коньяком. Когда он наливал, она засмеялась:
— Мы с тобой такие пьяницы, что этого богатства нам хватило бы на неделю.
«Почему хватило бы?» — едва не спросил он, но промолчал и опустил голову, чтобы она не заметила его страха, вызванного этим «хватило бы».
— Ты помнишь все эти школьные романы наших ребят? Помнишь, как нам смешно было наблюдать за их детскими ссорами из-за пустяков — кто-то там не так посмотрел, прошелся с другим, что-то не так сделал? — спрашивала Лиля. — Уже тогда, — понимаешь, тогда, задолго до нашего лета, — все у нас было не похоже на так называемую первую любовь — с ее бессознательным эгоизмом, наивным тщеславием, с ее мелкой ревностью и дешевым кокетством. А то лето — вспомни, Сашенька! Разве тогда в нашей любви было хоть что-то детское, незрелое? И дело вовсе не в том, что мы нарушили неписаные законы целомудрия. Без этого, вероятно, мы просто не могли обойтись, и это было так естественно… Важно другое. Вспомни, какое наслаждение доставляло нам уступать друг другу, с какой бесконечной доверчивостью мы открывали свои души, как мгновенно замечали малейшие изменения настроения, как дерзко отстаивали перед всеми право на нашу любовь… Вот тогда действительно ничто не могло помешать нашей любви… А тот случай с трамваем — помнишь?
— Да…
— Я стала переходить улицу, и вдруг ты грубо схватил меня за плечи и с такой силой оттащил в сторону, что потом у меня долго не сходили синяки от твоих пальцев. А когда я взглянула на тебя, то страшно перепугалась — у тебя было совершенно белое лицо, и мне показалось, что ты вот-вот упадешь в обморок… А ведь ничего страшного не было. И трамвай был далеко, да и до рельсов оставалось еще несколько метров. Но разве ты думал об этом? Ты просто мгновенно среагировал на опасность, — даже только на намек на опасность, которая могла угрожать мне. Какой инстинкт сработал в тебе? Разве за себя ты мог так испугаться? А какое беспокойство временами охватывало меня, если я не видела тебя несколько часов… А ведь никаких причин для беспокойства не было. Просто вдруг ни с того ни с сего приходила мысль: а вдруг с тобой что-нибудь случилось? И напрасно было взывать к разуму и убеждать себя — да что с тобой может случиться? Но ведь с кем-то случаются несчастья, кто-то попадает под машину, кто-то тонет, — да мало ли что, вдруг и с тобой? И я бежала к тебе — только посмотреть на тебя, только убедиться, что ты жив и здоров…
Лиля замолчала, сцепив руки на коленях. Молчал и Александр, по-прежнему не поднимая головы и глядя на ее руки.
— А потом и другое пришло мне в голову, — снова заговорила Лиля. — Натолкнул меня на эту мысль Бунин. Много у него прекрасных и горьких рассказов о любви, — да ты, конечно, читал их. И вот как-то прочтя подряд «Митину любовь», «Дело корнета Елагина», «Темные аллеи», — вспомнила вдруг слова Ромена Роллана: «Господи, избави нас от любви…»
Она улыбнулась.
— Помню даже, как торжественно звучит это по-латыни, — так в тексте и было: «Domine, libera nos ab amore». И я подумала: почему все — или почти все — считают любовь чем-то обязательно прекрасным, каким-то абсолютным добром, высшим счастьем, доступным человеку? Конечно, чаще всего так и бывает, но разве не может быть и так, что любовь становится какой-то мучительной болезнью, каким-то проклятием? Что она может сломить человека, опустошить его душу, убить всякое желание жить? И что можно в какие-то считанные дни, — а может быть, и часы, — израсходовать все, что другие по капле отдают всю жизнь? Не случилось ли так и у нас? Ведь мы действительно отдали тогда друг другу все, что у нас было, — вспомни, как часто у нас обоих бывало такое чувство, что я и ты — это одно и то же и в моем «я» нет ничего такого, что не было бы твоим? А может быть, это не нужно, нельзя, неестественно? Наверно, есть какая-то вершина, после которой начинается неизбежный и мучительный спад, — но ведь об этой вершине всегда помнишь, всегда хочешь вернуться к ней, а это невозможно… И такой вершиной было у нас то лето? А, Саша?
— Может быть…
— Но об этом я уже позже подумала, а тогда… Тогда меня уже не удивило твое довольно спокойное письмо, в котором ты сообщал, что не сможешь приехать ко мне на лето. Я только с горечью подумала, что мой прежний Саша всеми правдами и неправдами добился бы освобождения от целины и приехал бы, хотя бы ненадолго… Но ты был уже не прежним и не моим. И надежд на благополучный исход у меня почти уже не было. Но это «почти» все-таки заставило меня еще раз поехать в Москву и попытаться поступить на биофак, хотя я и понимала, что у меня нет никаких шансов. Дело было даже не в том, что занималась я мало и плохо. Но… как бы это сказать… жила я как-то вяло, не было у меня никаких особенных желаний, — в общем, плыла по течению, и даже не очень расстроилась, что опять провалилась. А когда вернулась, так и не повидав тебя, — я уже понимала, что надо как-то устраивать свою жизнь без тебя. Переписка наша продолжалась, но я уже скорее по привычке приписывала в конце своих писем: «Обнимаю и целую тебя». И когда повстречалась с Володей…
Лиля замолчала, и он, робко взглянув на нее, сказал:
— Если тебе трудно — не говори.
— Да нет, почему же… Я очень тяжело переносила свое одиночество — ведь у меня не было ни твоего таланта, ни твоей уверенности в себе, ни любимого дела. А он нравился мне, с ним мне сразу стало легче, спокойнее… Вот ты спрашивал — любила ли я его, когда выходила замуж. Не так все просто, Саша, чтобы можно было объяснить одними «да» или «нет». Когда я поняла, что он любит меня, — сначала растерялась, даже подумала о том, что надо прекратить встречи с ним. Подумать-то подумала, а потом и спросила себя: а дальше что? Тебя нет, и такого, что было у нас, — никогда уже не будет, в этом я была уверена. Что ж, так и жить одними воспоминаниями? Решила подождать, посмотреть, что получится. А получилось все очень обыкновенно — он сделал мне предложение, и как я заранее ни готовилась к этому — растерялась, попросила подождать. Он согласился, конечно, — он действительно очень любил меня и до сих пор как будто любит, все ждет, когда я соглашусь вернуться к нему… Ну вот, и стала я думать. Решила рассказать ему о тебе — немного, только самое необходимое, чтобы он понял, что большего, чем такой вот… полулюбви, что ли, я дать ему не смогу. Он как будто понял меня, но от своего решения не отступился, надеялся, что со временем я изменюсь. Он все-таки старше, опытнее меня, и моя история ничуть не удивила его, он решил, что это вполне обычная вещь — и мое настроение тоже. Так и говорил мне тогда: «Это тебе только кажется, что ничего больше не будет. Все мы проходим через это». Ну, и еще что-то в этом же духе… Ну вот… и вышла я за него… — Лиля беспомощно посмотрела на него и глубоко вздохнула. — Только не подумай, что это был жест отчаяния, — я тоже стала надеяться, что мне удастся как-то справиться с собой и потом действительно станет лучше. Попыталась взять на вооружение «безотказный» житейский практицизм, вроде того, что жизнь прожить — не поле перейти, и прочее в том же духе… Да только ничего из этого не получилось. Очень скоро я поняла, что не только полулюбви у меня к нему нет — вообще ничего нет. Вернее, почти ничего… Разве что одна сотая от того, что было у меня к тебе, — вымученно улыбнулась Лиля. — Но уходить от него долго не решалась — ведь и эта одна сотая требует, чтобы ее кому-то отдали. Надеялась на то, что Наденька спасет положение. И это не помогло. Жили мы как будто неплохо — то есть внешне спокойно, благополучно. Даже говорили о нас — какая великолепная пара. А Володя все понимал, да я и не очень-то таилась от него. Ну, и решила наконец, — хватит насиловать себя, надо расходиться. Он долго уговаривал меня, упрашивал подождать. Я подождала, конечно, — месяцем раньше, месяцем позже — какая разница? Разошлись… Ушла в работу, в книги, в Наденьку — и неожиданно для себя самой стала ждать тебя. Почему-то решила, что и ты ничего не сможешь забыть и ты можешь отдать другой… тоже какие-то сотые…
— Когда я узнал, что ты ушла от него — только сын удержал меня.
— Вот видишь… Но это хорошо, что ты тогда не приехал.
— Почему?
— Да так, — Лиля вздохнула. — Тебе тяжелее было бы. Да и мне, наверно, тоже.
Лиля встала, подошла к окну. Поднялся и Александр, нерешительно постоял, глядя ей в спину. И чуть качнулся вперед, услышав:
— А теперь тебе надо уехать.
— Уехать? — тупо переспросил он, почему-то не удивившись ее словам. — Куда уехать?
— К себе домой… К жене, к сыну.
Александр подошел к ней и, заглядывая сбоку в ее лицо, повторил:
— Уехать… — И с отчаянием заговорил, повысив голос: — Как же это так — уехать? А как же мне дальше жить? Да разве теперь я смогу вернуться к ним? Ведь я тебя люблю, Лиля, пойми, тебя! И всегда любил только тебя, всегда, понимаешь?
Кого он убеждал — ее или себя? Сейчас он понимал только одно — что нельзя ему без нее, и неважно, как называть то чувство, что есть у него к ней. Он положил ей руки на плечи и повернул лицом к себе:
— Пожалуйста, смотри мне в глаза… Почему я должен уехать? Разве для нас обоих это не единственный выход — снова начать жить вместе? Вернуть хоть часть того, что было у нас? Мы потеряли много лет, и только я виноват в этом — но почему и дальше мы должны обрекать себя на годы прозябания? Почему мы не можем быть счастливы?
Лиля молчала, глядя прямо на него, и Александр, еще не веря себе, медленно сказал:
— Да ведь и ты хочешь того же… Я ведь вижу, Лиля! Скажи, что это правда!
— Да, это правда… И если ты будешь настаивать, я снова стану твоей… Но я прошу тебя не делать этого… Я все равно не смогу выйти за тебя замуж, и мы только испортим все, что у нас было. И тогда ты вряд ли сможешь вернуться к своей жене. А я не хочу никому причинять горя — ни ей, ни твоему сыну, ни тебе… Ты уедешь, и сегодня же…
— Да почему, почему?
— Потому, что не может у нас быть никакого счастья, никакого будущего. Возможно, многое из того, что я сказала тебе сегодня, оказалось неожиданным для тебя, но тебе предстоит понять еще одно…
— Что?! — со страхом воскликнул он.
— Что ты любишь не меня, а наше прошлое, нашу любовь…
— Нет!
— А какая я нынешняя — знаешь ты это? Разве то, что я рассказывала о себе — это я? Это же слова, оболочка. А какой ты — разве я знаю? Разве можно сбрасывать со счета годы нашей разлуки? Ты говоришь — надо попытаться вернуть хоть часть того, что было у нас… Да разве это возможно, Саша? И какая была бы эта часть? Разве мы примирились бы с этой частью?
— Но почему же все-таки не попытаться?
— Попытаться? А тебе не кажется, что это был бы слишком жестокий эксперимент? И не только по отношению к твоей жене и твоему сыну — но и по отношению к нам, к нашему прошлому? Если мы сами… изгадим то, что было у нас, — что же еще останется нам? Чем мы жить-то будем? Сашенька, родной мой, подумай ты об этом как следует. Я понимаю, что сейчас тебе это действительно кажется единственным выходом из положения, но только кажется, пройдет немного времени, и ты сам поймешь, что я права…
— А зачем же ты тогда ждала меня? — с горечью спросил Александр. — Зачем сама хотела ехать ко мне?
Он увидел, как задрожали ее губы и на глаза навернулись слезы.
— Да как же мне было не ждать тебя, не хотеть видеть. Разве в тебе не осталось хоть частички моей души, хоть немного из того, что я отдала тогда тебе? Разве не это заставило тебя сейчас приехать ко мне?
Он опустил голову, помолчал.
— Хорошо, — наконец сказал он. — Я перееду в гостиницу.
Лиля покачала головой.
— Нет. Поезжай домой.
— Не бойся, — угрюмо сказал Александр. — Я не буду больше ни на чем настаивать. Но видеть тебя я должен — хоть полчаса в день, хоть несколько минут.
Он и сам не верил в эти «несколько минут» — но продолжал говорить с прежней угрюмой покорностью:
— Уж это-то ты мне можешь позволить. Даю тебе слово — как только ты захочешь, я тут же уйду.
Она с нежностью провела ладонями по его щекам.
— Сашенька, глупыш ты мой… Да разве я захочу, чтобы ты уходил? Неужели ты не видишь, как мне хочется быть с тобой? Но я уже измучилась. Я устала повторять себе, что так больше нельзя и тебе надо уезжать. Я уже не могу притворяться спящей и знать, что ты часами простаиваешь на кухне и смотришь в окно. Я не могу больше сдерживать себя, притворяться спокойной и следить за каждым своим словом, каждым движением… Тебя все время удивляет мое спокойствие, но если бы ты знал, как часто мне хочется подойти к тебе, обнять, поцеловать, просто дотронуться до тебя, увидеть твою улыбку… Ведь я женщина, самая обыкновенная, и мне так же, как и всем, хочется счастья, хочется любви… Ты думаешь, мне нравится мое одиночество или я не думаю о том, что мои годы уходят, что я старею? И ничего другого я не хотела бы, как быть с тобой… Но что же делать, если это невозможно? Прошу тебя — уезжай сегодня же, сейчас же…
Лиля заплакала, и Александр тронул ее за плечо, хотел привлечь к себе, но она отшатнулась и умоляющим тоном сказала:
— Пожалуйста, не трогай меня… И еще раз прошу тебя — уезжай.
Александра больно поразили и этот жалобный тон, и ее беспомощность, некрасивое заплаканное лицо, и он растерянно пробормотал:
— Прости меня… Я сейчас уйду.
И пошел собирать свой чемодан, и все ждал — может быть, Лиля позовет его, что-то скажет, — но она молчала, стояла у окна, вцепившись левой рукой в штору, словно хотела оборвать ее. А его движения становились все медленнее, и когда совсем уже ничего не оставалось делать, он щелкнул замками чемодана, решительно вышел на середину комнаты и сказал:
— Но я действительно не могу сейчас ехать домой… Просто не могу, понимаешь… — И, увидев, как сжались ее плечи, Александр торопливо добавил: — Нет-нет, я уеду, если ты настаиваешь, но не домой…
Он назвал небольшой город в трех часах езды отсюда и помолчал, давая ей время вспомнить. В этот город они собирались поехать в одно из жарких воскресений, незадолго до их отъезда в Москву. Они встретились как обычно, утром, и собрались идти в лес, а потом купаться, — но вдруг им стало скучно здесь и не хотелось идти на реку, где они наверняка встретили бы множество знакомых… И тогда он предложил:
— Давай поедем в …
И сказал название города.
— Поехали, — сразу согласилась Лиля, не спрашивая, зачем им нужно куда-то ехать и почему именно в этот город. — А денег у нас хватит?
— Найдем.
И оба сразу повеселели, заторопились на вокзал, но когда узнали расписание поездов и стали прикидывать, когда они смогут вернуться домой, получалось, что им удастся сделать это только под утро. Лиля помрачнела, — так не хотелось ей оставаться здесь, — потом тряхнула головой и решила:
— А, была не была… Поехали.
Но он знал, что вчера она поссорилась с матерью — и после этой поездки не миновать ей жестокого скандала. Он отговорил ее — и потом они долго ехали в раскаленном трамвае через весь город, сошли на конечной остановке и пошли куда глаза глядят — лишь бы подальше от людей… А сейчас — помнит ли она об этом?
Лиля молчала, и он сказал:
— Отпуска у меня еще три недели, и если ты захочешь, чтобы я приехал — напишешь или дашь телеграмму, адрес я тебе сразу сообщу.
— Хорошо, — покорно согласилась она, не оборачиваясь, и он быстро подошел к ней.
— Да посмотри же ты на меня!
Лиля повернулась — глаза у нее были сухие, печальные, она виновато улыбнулась ему:
— Ты уже собрался?
— Да, — сказал он, все еще надеясь, на что-то. Но она вздохнула и предложила:
— Присядем на дорогу.
Сели, как и прежде, на диване, но поодаль, молчали. Лиля не смотрела на него — а он не сводил с нее глаз, молил про себя: «Да посмотри же ты на меня, не молчи, скажи, что мне не надо уезжать!» Но она молчала. А когда он встал и шагнул к двери, тихо сказала, не поднимая глаз:
— Извини, я не буду тебя провожать…
Когда он вышел из подъезда и зажмурился от боли в глазах, — таким ярким было солнце, обрушившееся на него, — его оглушил детский гомон, заполнявший двор. Он постоял, высматривая Наденьку, — а она уже сама бежала к нему, словно ждала его все это время, пока он разговаривал с Лилей. Увидев его чемодан, она сразу остановилась, не доходя до него, и медленно прошла оставшиеся десять шагов.
— Вы уезжаете, дядя Саша? — серьезно и, как показалось ему, печально спросила Наденька, глядя на него большими круглыми глазами.
— Да.
— Почему так скоро?
Нет, ему не показалось, — Наденька действительно была опечалена его отъездом, и Александр почему-то растерялся, сказал, оглядывая двор:
— Нужно, Наденька… — И вдруг попросил: — Ты проводи меня немного, хорошо?
Наденька молча кивнула, не сводя с него глаз, и пошла рядом. Зайдя за угол дома, он остановился, поставил чемодан на землю. Наденька с беспокойством спросила:
— А вы приедете еще?
— А ты хочешь, чтобы я приехал?
Наденька потупилась.
— Хочу…
Александр присел на корточки, взял ее маленькие горячие руки и сказал, заглядывая ей в глаза:
— Я приеду, обязательно приеду. И привезу тебе еще одну куклу — еще больше и красивее, чем эта.
— Не надо мне куклу, — сказала Наденька.
— Почему?
— Вы просто так приезжайте.
Он порывисто прижал ее к себе и сказал:
— Я обязательно приеду… А теперь беги, играй.
Но она не уходила — когда Александр оглянулся, Наденька стояла на том же месте и смотрела ему вслед. Он помахал ей — Наденька слабо махнула в ответ, повернулась и медленно пошла вдоль светлой кирпичной стены, и прежде чем повернуть за угол, остановилась и взглянула на него. Александр еще раз махнул ей рукой и зашагал по улице.
Потом были долгие часы ожидания на вокзале, серое, медленно темнеющее небо за высокими окнами — откуда-то неожиданно накатились тучи, низко повисли над городом, и стало по-осеннему неуютно и холодно. Наконец к платформе медленно подошел поезд из шести старых скрипучих вагонов, прицепленных к маленькому, часто дышащему черному паровозу. Устроившись в темном пустом вагоне, пахнущем углём и старым кислым железом, Александр невесело усмехнулся, подумав о том, что, наверно, этот же самый паровоз таскал эти же самые вагоны и двенадцать лет назад, когда они собирались ехать в этот город…
Когда поезд тронулся, Александр прислонился виском к влажному холодному дереву рамы и стал смотреть в окно, через косую решетку следов, оставляемых дождем на грязном стекле. Там, за окном, еще долго видны были большие и маленькие огни города, а когда город кончился, осталась только густая черная пустота апрельской ночи.
5
Он приехал в этот город ночью. Был сильный дождь, когда он вышел на перрон и направился к грязному, плохо освещенному зданию вокзала. И внутри вокзал был очень грязным и казался совсем маленьким. Всюду на скамьях спали люди, и лица у них были очень усталые и тоже казались грязными. Александр с недоумением подумал: что понадобилось этим людям здесь, в маленьком захудалом городишке, почему их так много на вокзале?
Он сдал чемодан в камеру хранения и спросил у дежурной, далеко ли до гостиницы.
— Нет, — сказала она, — совсем близко.
Дежурная объяснила, как дойти до гостиницы, и добавила:
— Только сейчас вы не попадете туда. Ночью там никого не пускают.
— Ну конечно, — с усмешкой сказал Александр. — Было бы довольно странно, если бы столь почтенный город еще и заботился о своих гостях… Не правда ли?
Дежурная с боязливым недоумением взглянула на него и отвернулась, явно не зная, что ответить. «Она думает, что я выпил, — догадался Александр. — Наверно, здесь довольно часто скандалят».
— Извините, — сказал он.
— Ничего, ничего, — торопливо сказала дежурная, и Александр понял: она хочет, чтобы он поскорее отошел от нее.
Он вышел на истертые каменные ступени крыльца и прижался к стене, чтобы на него не попадал дождь, и долго стоял так, курил и смотрел, как идет дождь.
На привокзальной площади было пусто и темно и все время шел дождь, то стихая, то вновь усиливаясь, однообразно шумел, ударяясь о камни мостовой и крыши невидимых домов.
Так и дождался он рассвета, не сходя с места, потом взял чемодан и пошел по пустым улицам. Город был не то что очень старый, но весь какой-то дряхлый, застроенный деревянными, темными от дождя домами, казавшимися слепыми от закрытых ставней. Ветер уныло шумел в садах, раскачивая голые деревья. «Представляю, какая здесь может быть гостиница, — думал он, все более раздражаясь. — Какой-нибудь дряхлый клоповник со скрипучими полами, комнаты на десять человек и могучий храп по ночам… Ладно, потом попытаюсь найти что-нибудь получше, в таком захолустье комната наверняка не проблема. А пока надо хоть немного поспать».
А спать ему очень хотелось — от двух бессонных ночей голова была пустая и тяжелая, в ней лениво ворочались мелкие, ненужные мысли.
Но гостиница, против ожидания, оказалась новой, видимо недавно построенной, и когда Александр вошел в вестибюль, он увидел мягкие кресла и уютный зеленый полумрак.
Дежурная сидела за столом и читала книгу. Ее седые, безукоризненно уложенные волосы в мягком свете настольной лампы казались серыми. Она подняла голову и негромким приятным голосом сказала:
— Слушаю вас.
— Мне нужен номер.
— Пожалуйста, заполните.
Она протянула ему бланк, и то, что дежурная не стала спрашивать документы, приятно удивило Александра. Кажется, это была первая гостиница, где не начинали с допроса — куда, зачем и надолго ли приехал. Он заполнил бланк, а в графе «куда прибыл» сделал прочерк. Дежурная бегло просмотрела бланк и стала выписывать квитанцию мелкими, очень аккуратными буквами. Она закрыла книгу, вложив в нее закладку, и Александр увидел заглавие — «Сентиментальное путешествие» Стерна.
— Пожалуйста, если можно, дайте мне отдельный номер, — попросил Александр.
— Отдельных нет, только двухместные.
— А если я заплачу за оба места?
— Так не делается, — бесстрастно сказала дежурная, не глядя на него.
— Даже в виде исключения?
— Даже в виде исключения, — подтвердила дежурная, не выказывая ни малейшего интереса к его просьбе.
— А если я очень попрошу вас?
— Не нужно меня просить, — она подняла на него вежливые глаза. — Я все равно не сделаю, да, кстати, и нет свободных номеров… За сколько будете платить?
— За два дня.
— Пожалуйста, рубль сорок.
И, подавая квитанцию, сказала:
— Второй этаж, налево, комната двадцать шесть. Если дверь заперта, постучите. Будете уходить — ключ сдавайте сюда.
Безупречная равнодушная вежливость, бесстрастное лицо, — красивое, шестидесятилетнее, — строгая прическа, неяркий маникюр. Кто она? Почему сидит здесь и читает Стерна? Поймав себя на этой мысли, Александр усмехнулся: а зачем ему знать об этом?
— Вам что-нибудь нужно? — спросила дежурная.
Никаких признаков нетерпения, элементарная вежливость хорошо воспитанного человека: клиент стоит у стойки и почему-то не уходит.
— Нет-нет, благодарю вас…
Александр небрежно смял в кулаке квитанцию, взял чемодан и стал подниматься по лестнице.
Стучать не пришлось — дверь легко подалась. Александр поставил чемодан и бегло осмотрел комнату. Стандартный уют, ничего лишнего — две кровати, две абсолютно одинаковых тумбочки, стол, два стула. На кровати слева лежало громоздкое тело, до подбородка укрытое одеялом. Обрюзгшее лицо, мешки под глазами, дряблый сизый нос с крупными прожилками, серая лысина. Рядом с кроватью — хромовые сапоги доверху забрызганные грязью. На спинке стула — старомодный бостоновый пиджак со сморщенными рукавами. «Какое-нибудь хозяйственное светило районного масштаба, — решил Александр. — Что-нибудь вроде заготскотуполномоченного. Хоть бы он поменьше болтал…»
Он разделся и прошел к окну, увидел пустой двор и уныло поникшие ветви берез. Надо было ложиться спать, но ему неприятно было думать, что этот человек скоро встанет и начнет бесцеремонно разглядывать его лицо. И он продолжал стоять у окна и зачем-то долго смотрел на циферблат своих часов, и ему казалось, что тонкая желтая стрелка слишком медленно движется по своему бесконечному кругу…
Устав стоять, он прошел к постели и сел. Кровать взвизгнула, человек напротив зашевелился, открыл глаза — мутные, похмельные. Потом медленно поднялся, сел на постели, чуть качнулся вперед и дружелюбно прохрипел:
— А, новый жилец…
И, вытянув пухлую ладонь, представился:
— Палагин, Павел Ильич.
Александр неохотно пожал руку и назвал себя.
Палагин жадно выпил два стакана воды и стал втискивать в брюки свое безобразное расплывшееся тело, объясняя Александру:
— Головизна трещит, знаете ли… Малость перебрали вчера по случаю субботы и окончания трудов недельных. Хотели чуть-чуть, для поднятия настроения выпить, да ведь сами понимаете, как это бывает. Русский человек меры не знает, на полпути не привык останавливаться… Русскому человеку во всем надо до конца дойти, так сказать, сущность вещей постигнуть. Вот мы и того… постигали, хе-хе. А вы, позвольте спросить, откуда прибыли?
— Из Москвы.
— Из Москвы-ы? — изумленно протянул Палагин. — Да вы, батенька, шутите…
— Нисколько.
— Надо же… — качнул Палагин безобразной головой. — Да неужели в Москве известно о существовании этой богопротивной дыры?
— Как видите, известно.
— Наш брат, командированный?
— Нет.
— Да ну? — снова удивился Палагин. — Каким же ветром вас занесло сюда?
— Да так, дела, — сквозь зубы процедил Александр, давая понять, насколько неприятны ему эти расспросы.
— А, понимаю, — значительно протянул Палагин.
— Что понимаете? — сухо спросил Александр. Палагин коротко хохотнул и подмигнул:
— Ну как же, как же… Дело молодое, знакомое… Зазнобушка здесь объявилась? Молчу, молчу, — даже руками замахал Палагин, заметив протестующее движение Александра. — Сам, знаете ли, грешен.
И действительно, замолчал, но только на минуту, да и то потому, что принялся натягивать сапоги, отвратительно заскрипевшие под его пальцами. Покончив с сапогами и для убедительности топнув ими о пол, заговорил снова:
— Так вы, говорите, из Москвы? Бывал и я там, как же. Даже в «Национале» сиживал. Какую там закусочку подают, боже ж ты мой! — едва не застонал от наслаждения Палагин, прикрыв глаза и покачивая головой, и Александру вдруг захотелось взять стул и с размаха опустить его на серую дряблую лысину. — А водочка какая! Как только увидишь, что несут ее, — прямо со льда, белую, запотевшую, — это ж умереть можно! А какие там девочки! Да, что и говорить, столица, — мечтательно вздохнул Палагин. — А здесь что — дыра глубочайшая. Верите ли, свиньи прямо среди бела дня в грязи на улицах валяются. И ведь такой вид у этой скотины, что и согнать ее не посмеешь, она же полной хозяйкой этой грязи себя чувствует! Хотя, надо признаться, насчет прекрасного пола и тут не так уж плохо, дамочки кое-какие имеются. Далеко не то, что в Москве, конечно, но, знаете ли, провинциалочки тоже по-своему пикантны. Знакомства у меня кой-какие имеются, так что если возникнет желание, могу посодействовать… А вы, кстати, женаты?
— Слушайте вы, Палагин, или как вас там, — грубо сказал Александр, с ненавистью глядя на него. — Я не желаю слушать вашу гнусную похабщину. Идите к своим дамочкам и развлекайтесь сколько угодно, но не докладывайте мне о ваших похождениях… Я вообще не хочу с вами разговаривать, слышите?
Палагин изумленно вытаращил глаза и даже рот раскрыл. Александр несколько секунд молча смотрел на него, потом встал и отошел к окну. И увидел, что опять идет мелкий дождь, покрывая рябью оконные стекла, а сзади тихо звучал обиженный голос Павла Ильича Палагина:
— Ай-яй-яй, как нехорошо, молодой человек… Я же в отцы вам гожусь, а вы… Ну, не понравилось вам, что я говорю, — так деликатно намекните, мы ведь люди интеллигентные, поняли бы друг друга… Я ведь из лучший соображений, так сказать, жизнь вам в этом городишке облегчить хотел. А вы, извините, как с цепи сорвались, накричали на пожилого человека… Нельзя так с людьми обращаться…
Александр повернулся, молча оделся, упираясь взглядом в пол, и вышел.
Долго ходил он по городу, под мелким дождем, тихо падавшим на пустые улицы, и искал комнату. Но комнату никто не хотел сдавать. На его стуки за воротами бешено гремели цепями собаки, в окнах не скоро показывались недоверчивые лица, спрашивали из-за стекол — что нужно? И, иной раз даже не удосужившись ответить, махали руками — проходи мимо. И, совсем уже отчаявшись, он остановился в конце улицы, — дальше был лес, — раздумывая, не вернуться ли в гостиницу. Единственный дом, оставшийся еще не опрошенным, был невелик, вряд ли и здесь ему смогут помочь. Но все же он решился и постучал. Привычно мелькнула за окном чья-то тень, рука женщины приподняла занавеску, показалось ее спокойное старое лицо. Александр хотел было задать надоевший вопрос — «не сдадите ли комнату», — но только пошевелил губами, и женщина, вглядевшись в него, вдруг сделала приветливый жест, приглашая подождать, и скрылась. Через минуту она вышла, прикрывшись черным старомодным зонтом, и он торопливо задал свой вопрос. Женщина покачала головой:
— Свободной комнаты у меня нет.
Надо было извиниться, повернуться и уйти, но Александр почему-то стоял, сунув руки в карманы плаща и втянув в плечи непокрытую голову.
— Зайдите, пожалуйста, — сказала женщина, но он улыбнулся — и сам почувствовал, какой жалкой и виноватой получилась улыбка, — и отказался:
— Нет, спасибо, я пойду.
— Зайдите, — настойчиво повторила женщина. — Вы весь мокрый.
И он покорно пошел за ней по красной дорожке из битого кирпича, молча разделся, пригладил волосы. Женщина принесла ему шлепанцы и сказала:
— Ботинки тоже снимите, они, наверно, промокли. Сейчас напою вас чаем, потом уж пойдете.
И так неожиданна была эта приветливость после грубого равнодушия жителей города, что Александр растерялся и забыл поблагодарить ее. А женщина, внимательно, но неназойливо разглядывая его, сказала:
— Комната у меня есть, но она, к сожалению, не отапливается, а сейчас еще холодно, вы там замерзнете.
— Можно посмотреть? — с робкой надеждой спросил он.
— Пожалуйста.
Она открыла дверь в соседнюю комнату, и Александр перешагнул через порог, еще не веря, что все так хорошо обошлось. Комната была маленькая, сухая и чистая, в ней приятно пахло яблоками и еще чем-то душистым и пряным. Александр, не раздумывая, сказал:
— Если не возражаете, я поселюсь здесь. Ненадолго, всего недели на три. А холода я не боюсь. Если у вас найдется одеяло…
— Найдется, — как-то робко сказала женщина, и Александру показалось, что она и сама хочет, чтобы он поселился у нее. — Если вам нужен стол для работы, можно будет поставить.
— Нет, стол мне не нужен.
За чаем разговорились. Оказалось, что женщину зовут Анна Григорьевна, она тридцать лет учительствовала в этом городке, четыре года назад вышла на пенсию, и что в Свердловске у нее дочь, инженер-химик. О себе он сказал немного — математик, приехал из Москвы, женат, сыну шесть лет. А она ни о чем не расспрашивала его — ни в этот день, ни в следующие, и Александр сам постепенно рассказал ей многое из того, что привело его сюда.
Когда он пришел с чемоданом, его ждала чистая постель, в комнате стало теплее от включенной электроплитки, и он сказал Анне Григорьевне несвязные слова благодарности. Она взглянула на него поверх очков и предложила:
— Ложитесь-ка вы спать, Саша.
— Да, пожалуй, — он с признательностью посмотрел на нее. — Так уж получилось, что я две ночи не спал.
И Александр сразу заснул, а когда проснулся — стояла за окном черная ночь, чуть слышно шелестел по крыше все тот же мелкий невесенний дождь. Рядом с кроватью, на табурете, покрытом жесткой накрахмаленной салфеткой, стояли тарелки с аккуратно нарезанными ломтиками холодного мяса и мочеными яблоками, и он растроганно подумал: «Какая она добрая…» Но есть ему не хотелось, он закурил и, заложив руки за голову, стал думать.
6
«Вчера утром отправил тебе телеграмму, и с тех пор прошло уже больше суток. Ты, конечно, получила ее — и теперь мне остается только ждать ответа. Какого? Не хочу, не могу думать о том, что мы не увидимся — и не вообще, а именно сейчас. У меня такое ощущение, словно мы оба не поняли чего-то очень простого, но необычайно важного для нас обоих. Я очень хорошо понимаю все твои доводы и, поверь, со всей серьезностью отношусь к ним, — но просто не вижу, почему они могут помешать нам снова быть вместе. Ты действительно знаешь, почему я приехал к тебе? Но если знаешь — как ты можешь говорить мне, чтобы я возвращался домой, к жене? Это же просто невозможно, Лиля! Ты подумай — после всего, что я говорил тебе, вдруг вернуться к ней, — и что же дальше? Неужели ты думаешь, что я смогу сказать ей хоть одно из тех ласковых слов, которые говорил раньше, — пусть слов этих было немного, я, как ты знаешь, не слишком-то щедр на такие слова… Вот написал сейчас — и сам себе поразился. Не слишком-то щедр… Это действительно так, и в обыденной жизни, я, наверно, кажусь человеком сухим, может быть, и черствым. (А «сухой» и «черствый» — не одно ли и то же? Я, кажется, вообще выражаюсь довольно косноязычно. Но по-другому не умею.) Так вот — я даже сына ласками не балую. Но с тобой-то — разве так было? Слов, наверно, я и тогда говорил немного, — да ведь они и не нужны были! Зачем слова, если взглядами, движениями, прикосновениями можно выразить неизмеримо больше! А сейчас у меня к ней ничего нет — и говорить просто нечего и незачем…
Прочел то, что написал, — и получается, что я говорю только о себе. Не слишком-то приятное открытие… Что это — эгоизм? Наверно, все-таки нет. Сейчас я еще больше уверен в том, что наилучший для нас обоих выход, — снова быть вместе. И не сомневаюсь в том, что и для тебя это будет лучше. И не только лучше — но это и единственное, что для тебя возможно. И объясняется такая уверенность вовсе не моей самонадеянностью. Почему я так думаю? Да, ты права — десять лет разлуки со счета не сбросишь, из памяти не вырвешь, они еще предъявят нам свои права. Да, мы изменились, наверняка в нас обоих появилось что-то такое, что будет друг для друга открытием, — и, возможно, открытием не слишком приятным. Но скажи — как объяснить то, что мы оба за десять лет не только не нашли своего счастья, но и тени этого счастья не повстречали? Что мы — оба какие-то духовные уроды, нам недоступно то, что к другим приходит, как правило, без труда, естественно и просто? Не значит ли это — то, что было у нас, так прочно связало наши судьбы, что ни время, ни встречи с другими не в состоянии разрушить эту связь? Какое еще объяснение возможно? Только это — другого нет и не может быть. А если так, у нас только один выход — снова быть вместе…»
Долгое это было ожидание… И не потому только долгое, что проходили дни, а ни письма, ни телеграммы от Лили не было, — но, казалось, ничего, кроме этого ожидания, у Александра вообще больше не было, и что бы ни делал он, о чем бы ни думал, это ожидание постоянно было во всем, оно придавало длинным, медленно идущим часам какой-то особый, неведомый ему до сих пор привкус. И как ни тяжелы были порой эти часы, но иногда он почти радовался тому, что никакого ответа нет — потому что ответ мог означать конец всему, а ожидание — это все-таки надежда…
Вставал он поздно — в десять, одиннадцать, и сразу шел смотреть, не приходила ли почта. Дверцы почтового ящика закрывались неплотно, и с крыльца хорошо было видно, есть ли в нем что-нибудь. Но даже если ящик был пустой, Александр все равно шел к нему, раскрывал его тяжелые мокрые дверцы, заглядывал внутрь и, тщательно закрыв ящик, медленно возвращался обратно. Потом выходил во второй раз и в третий, и когда видел, что в щели белеют газеты, быстрыми шагами шел к ящику и торопливо разворачивал влажные газетные листы, проверяя, нет ли писем. Но никакого письма не было. Он относил газеты Анне Григорьевне, она угощала его чаем, и потом, если не было дождя, он шел копать огород, колол дрова, неумело поправлял изгородь. Обедали вдвоем с Анной Григорьевной, и он снова уходил к себе в комнату, надевал теплый свитер и ложился в постель, курил и читал. У Анны Григорьевны оказалось превосходная библиотека, и он читал необычно много для себя, и это чтение ничем не напоминало то торопливое и небрежное проглатывание книг и журналов в очередях и электричках, ставшее для него привычным в последние годы. Александр давно уже примирился с тем, что читает мало и плохо, что как будто оправдывалось его бесконечной занятостью, — но здесь он понял, как много потерял… Началось это на следующий же день после приезда, когда он пришел в свою комнату с тяжелым томом Шекспира и равнодушно раскрыл его — ему не очень-то хотелось читать, просто надо было чем-то занять себя, хоть ненадолго избавиться от тяжелых мыслей, утомлявших его. Шекспир был для него одним из десятков классиков, Александр охотно верил, что это великий драматург, и считал, что с него вполне достаточно «Гамлета» и «Ромео и Джульетты», прочитанных в школьные годы. До Шекспира ли тут, если у него не хватает времени, чтобы просмотреть журнальные новинки. А сейчас, едва начав читать того же «Гамлета», он то и дело изумленно потирал лоб и с недоумением спрашивал себя: да где же я был раньше? Затем, тут же подряд прочтя «Макбет» и «Антония и Клеопатру», где-то среди ночи очнулся от этого наваждения, обессиленный, словно после тяжкой работы, подавленный красотой и мощью необыкновенных образов и могучих страстей, — и со стыдом спрашивал себя: почему я не знал этого раньше? Почему надо было ждать столько лет, чтобы открыть для себя этот мир? И — сколько же еще таких открытий ему предстоит?
«Так и не отправил тебе это письмо. Может быть — и не отправлю… Я очень много думаю о тебе, хорошо вижу тебя, как будто ты где-то рядом и только на минуту вышла, разговариваю с тобой… Хотел написать — «живу тобой», но показалось, что это будет чересчур уж красиво… А ведь это так и есть. Все, что не связано с тобой, кажется мне сейчас незначительным и — нередко — просто ненужным. Было бы это или нет — почти все равно. Знаешь, о чем я сейчас вспоминал? Как однажды переносил тебя через ручей, поскользнулся, и мы оба упали, и я очень испугался, увидев, как быстро выступила кровь на твоей ноге. Ты скривилась от боли и с трудом удержалась, чтобы не заплакать, и мне стало отчаянно стыдно — так стыдно, что я почувствовал, как у меня горит все лицо и как дорого я дал бы за то, чтобы не было этой царапины. И своей боли я почти не чувствовал, хотя тоже довольно сильно ударился. Ты посмотрела на меня и улыбнулась — с трудом, только губами, в глазах у тебя все еще стояла боль, и сказала мне, что все это ерунда, до свадьбы заживет, и больно-то совсем немножко… Ты так старалась успокоить меня, что мне стало совсем плохо, я не знал, куда девать глаза, и хотел перевязать ранку своим носовым платком, но увидел, что он не очень чистый и быстро сунул его обратно в карман, а ты сделала вид, что ничего не заметила, сняла пояс со своего платья и протянула мне: «Перевяжи…» Почему я так подробно вспоминаю об этом? Почему сейчас, пятнадцать лет спустя, так хорошо помню каждое твое движение, выражение глаз, даже то, какие пуговицы были на твоем платье — выпуклые, коричневые и очень гладкие? А ведь я с трудом могу припомнить многие другие события, случившиеся гораздо позже и — куда более значительные, с обычной житейской точки зрения… А вот вспомнить, как мы потом шли домой, так легко, словно это было только вчера. Ты была так ласкова со мной, так внимательна, что весь мой стыд прошел, и мы вместе посмеялись над этим приключением, особенно я, всячески напирая на свою неловкость, и ты защищала меня от себя самого. Помню не только слова, но и жесты, интонации… Почему так?
Каждый эпизод кажется мне сейчас событием, каждый день, прожитый тогда с тобой, — удивительно емким, и так много было тогда радости, что я уже не помню никаких других радостей, кроме тех, что давала мне ты… Что это — сентиментальная попытка от настоящего уйти в призрачное прошлое? Может быть. Не стыжусь признаться — бывают сейчас минуты, когда мое будущее до дрожи в руках пугает меня. Ничего подобного раньше не бывало со мной. А сейчас… Если в этом будущем не будет тебя — я просто не вижу, как мне жить, для кого, для чего… Для работы? До сих пор, то есть до поездки к тебе, такая мысль не только не пугала меня, но представлялась настолько естественной, что мне казалось — не стоит вообще думать об этом, двух мнений тут быть не может. Ведь так уж повелось, что работа, какое-то дело — самое главное и часто едва не единственное, что определяет ценность человеческой личности… Если так, то моя личность, бесспорно, должна цениться довольно высоко. Я сделал уже немало и сделаю, вероятно, еще больше… А вот сейчас это никак не утешает меня…»
Он писал, сидя в постели, и, задумавшись, поднял голову, посмотрел на черный блестящий прямоугольник окна. Желание увидеть Лилю стало почти нестерпимым, и он вдруг подумал, что она сама может приехать к нему. Почему бы нет? Наденьку можно оставить у сестры, и на работе наверняка можно отпроситься на день-два… Почему же нет? И, взглянув на часы, Александр заторопился на вокзал. Как ни фантастично было его предположение, он сразу уверовал в него, отмахиваясь от доводов разума. И потом каждую ночь ходил встречать Лилю, полчаса брел по темным грязным улицам, среди тишины и редкого взлаивания собак. Поезд, — тот самый, с которым он приехал сюда, — прибывал в четыре часа, но Александр приходил намного раньше, медленно расхаживал по залу ожидания, вглядываясь в лица спящих людей, — от тусклого желтого света они казались ему одинаковыми, старообразными, — даже лица детей, — а потом он догадался, что дело не только в свете — похожими делали эти лица печать усталости и скука терпеливого ожидания, не покидавшая людей даже во сне.
Незадолго до прихода поезда он выходил на перрон и становился так, чтобы видеть оба входа в вокзал. И когда поезд с медленным грохотом останавливался и от слабо освещенных вагонов отделялись темные фигуры людей, Александр весь напрягался, до боли в глазах вглядываясь в неясные силуэты. И хотя народу с этим поездом всегда приезжало немного — всего десять — пятнадцать человек — и он знал, что наверняка узнает Лилю, потом он все-таки обходил зал ожидания, заглядывая во все углы, и не торопился уходить.
Бывали минуты, когда он очень хорошо понимал, что ждать бесполезно — зачем ей ехать сюда, зачем писать? Разве не все было решено между ними? Но и в эти минуты он не терял надежды увидеть ее — ведь не может она не знать, как он ждет ее, как она необходима ему… И он по-прежнему каждую ночь ходил встречать ее.
На несколько дней установилась хорошая погода — и унылый городок ожил, повеселел, заблестел чистыми стеклами окон. Кое-где начали цвести сады.
Александр несколько раз отправлялся в лес, но скоро беспокойство гнало его обратно, он думал о том, что телеграмму могут принести в любое время, и торопливо возвращался домой, привычным движением обшаривал влажную пустоту почтового ящика. Да и лес не нравился ему — был он грязен, уныл, и свежий запах распускающихся почек почти не чувствовался из-за дурманящего гниения мертвых прошлогодних листьев.
И не было никакой телеграммы, не было письма. Ничего не было.
Потом погода снова испортилась, опять пошли мелкие холодные дожди, и Александр все больше времени проводил в постели, думал, читал, и когда отрывался от книги, видел, как за окном неутомимо покачиваются немые деревья, протягивая к низкому темному небу свои холодные голые руки.
В один из таких дней он взялся за неоконченное письмо, прочел его — и отложил в сторону, подумал: а что же, кроме работы, было за все эти годы? Почему все было так размеренно, спокойно, чересчур разумно? Кто это сказал, что спокойствие — душевная подлость? Не помню… А разве «спокойствие» — это не самое верное слово, которым можно определить мою жизнь? Спокойствие во всех видах — на работе, в семье, в себе самом… И как часто меня хвалили именно за это спокойствие, за выдержку… А от чего мне было волноваться? Работа — сплошное благополучие, не надо ни с кем бороться, что-то отстаивать, защищать, — потому что мои уравнения не нуждаются ни в какой защите, они так же ясны и бесспорны, как закон всемирного тяготения… Не нужно бороться за свою любовь — потому что ее нет и никогда не было… Не было? А Лиля? Но тогда я не сделал никакой попытки сохранить ее любовь. Почему? Многого не знал, не понимал? А разве пытался по-настоящему узнать, пытался понять? Ушел в работу, в спокойствие… А вот Лиля поняла… А Лена?
Александр вспомнил жену, ее бесконечную доброту, которую он давно уже перестал замечать как что-то естественное, само собой разумеющееся, ее постоянное внимание к нему, стремление оградить его от всех неудобств, которые могли хоть немного помешать его работе, — опять работа, работа! — и со страхом подумал: да как же это возможно? Она любит его — но за что, почему, что скрывается за внешними проявлениями ее любви, что она в действительности думает о нем, каким он представляется ей? Хочется ли ей чего-то большего, чем этой безнадежно-спокойной любви? А что он сам знает о ней? Восемь лет прожили вместе — но что он знает о ней, как понимает ее? И почему же только сейчас он задает себе эти вопросы?
С этого дня Александр перестал ходить на вокзал, но по-прежнему не спал по ночам, под их тихие шорохи прислушивался к себе, к своим воспоминаниям, год за годом перебирал свою жизнь — и явственно ощущал, как происходит в нем работа мысли и нелегкая переоценка своего прошлого, самого себя, и все более сложным и неясным представлялось ему его будущее… И по-прежнему много читал. Даже книги он брал теперь в руки не так, как прежде, — осторожно, любовно, и страницы переворачивал медленно, они казались ему весомыми, как будто слова, заполнившие их, обладали какой-то ощутимой тяжестью. И продолжалось беспрерывное открытие нового для него мира людей, живших задолго до него, этот мир иногда представлялся ему более реальным, чем его собственный, такой спокойный и благополучный до сих пор, — и он думал о том, что теперь вряд ли когда вернется к нему прежнее спокойствие, и не хотел этого… Из таких открытий самым впечатляющим было стихотворение Марины Цветаевой, — имя, знакомое ему только понаслышке, — случайно обнаруженное им в литературном альманахе.
Как живется вам с другою — Проще ведь? — Удар весла! — Линией береговою Скоро ль память отошла Обо мне, плавучем острове (По небу — не по водам)! — Души, души! Быть вам сестрами, Не любовницами вам!Забыв обо всем, вчитывался Александр в резкие, чеканные строки, каждое слово которых было для него словно тяжкий удар колокола. Не о нем и не о Лиле были эти стихи, но могучее дыхание давно исчезнувшей страсти захватило его до сердцебиения и ломоты в висках.
Как живется вам с простою Женщиною? Без божеств? Государыню с престола Свергши (с оного сошед), Как живется вам — хлопочется — Ежится? Встается — как? С пошлиной бессмертной пошлости Как справляетесь, бедняк?Александр поднял голову, повторил вслух: «С пошлиной бессмертной пошлости как справляетесь, бедняк?» И стал читать дальше, еще не понимая, как могли быть написаны эти строчки, — так велико и необычно было их действие на него, — и вздрогнул от тяжело ударившего в душу повтора:
Как живется вам — здоровится — Можется? Поется — как? С язвою бессмертной совести Как справляетесь, бедняк? Рыночною новизною Сыты ли? К волшбам остыв, Как живется вам с земною Женщиною, без шестых Чувств? Ну, за голову: счастливы? Нет? В провале без глубин — Как живется, милый? Тяжче ли — Так же ли — как мне с другим?Александр нетерпеливо перелистывал страницы альманаха, пытаясь найти еще стихи Цветаевой или что-нибудь узнать о ней, но только одно это стихотворение и было в книге. А когда он попробовал читать другие стихи, их плавные рифмованные строчки показались ему до удивления бесцветными и беспомощными.
Захлопнув книгу, он пошел к Анне Григорьевне и попросил:
— Расскажите о Цветаевой.
— О Цветаевой? — переспросила Анна Григорьевна. — Да ведь я о ней мало знаю. Стихи ее почти никому не известны, кажется, несколько лет назад издали ее сборник, но я его не читала.
— Кто она такая? Я слышал только, что она была в эмиграции, — и все.
— Перед войной она вернулась из заграницы, в сорок первом покончила с собой в Елабуге — вот и все, что я могу добавить.
— Покончила с собой… — повторил Александр. — Да, я что-то слышал об этом. А вы фотографию ее не видели? Какая она была?
— Не видела.
Он молча расхаживал по комнате. Анна Григорьевна, не поднимая головы от шитья, сказала:
— Ехали бы вы к ней, голубчик… Не томите себя.
— К ней? — Александр остановился, покачал головой. — Нет, к ней нельзя сейчас ехать.
— Нехорошо, что вы не спите по ночам.
— Это ничего, ночью лучше думается… А мне о многом еще надо подумать. Все-таки удивительное дело: оказывается, можно годами жить, ни о чем, в сущности, не задумываясь, — но ведь это так неестественно…
Анна Григорьевна с беспокойством взглянула на него.
— Зря вы себя так мучаете.
— Да нет, это не так. Я не мучаюсь, я… как бы это сказать… А впрочем, не нужно сейчас об этом.
Он прошелся по комнате, остановился — и вдруг спросил:
— Анна Григорьевна, вы пьете?
Она удивленно взглянула на него, и Александр заторопился, объясняя:
— Ну, в каком смысле пьете… То есть по праздникам, при встрече… Я хочу сказать — можно вам немного выпить, так, за компанию?
— Можно.
— Тогда позвольте, я схожу в магазин, возьму бутылку вина, и мы посидим, поговорим, а? Понимаете, у меня такое состояние… Очень хочется поговорить с вами, рассказать о Лиле, о себе, а я весь какой-то скованный… Можно, Анна Григорьевна?
— Ну конечно.
— Вот спасибо! — обрадовался Александр. — А какое вино вы любите?
— Да мне все равно.
— Тогда я быстро.
Уловив ее обеспокоенный взгляд, Александр сказал:
— Только не подумайте, что я собираюсь напиться и по пьянке вывернуть вам свою душу. Я ведь почти совсем не пью, а сегодня… случай уж такой.
— Я понимаю, Саша, — мягко остановила его Анна Григорьевна. — Идите, а я пока на стол соберу.
И он неловко усмехнулся:
— И в самом деле, что это я объясняю…
Через полчаса они сидели друг против друга, Александр наливал в бокалы темно-красное вино, Анна Григорьевна накладывала ему в тарелочку грибы, — и наконец они подняли бокалы, и Анна Григорьевна сказала:
— Пусть у вас все будет хорошо, Саша.
— Хорошо? — переспросил Александр и отставил бокал, но тут же спохватился и торопливо выпил, не понимая вкуса вина. — Да, конечно, пусть все будет хорошо…
Он тут же налил себе еще, — так хотелось ему, чтобы поскорее пришло ощущение легкости и свободы, — выпил, ткнул вилкой в заботливо пододвинутую Анной Григорьевной тарелку.
— Вот вы сказали — пусть все будет хорошо, — заговорил он. — И меня вдруг удивило это… такое самое обыкновенное пожелание. И знаете почему? Я вдруг подумал, что даже не знаю, что для меня сейчас хорошо, а что плохо… Ведь если говорить отвлеченно, то, наверно, хорошо, когда у человека покой на душе, если он доволен своим делом, результатами своей работы, если он уверен в себе, в своем будущем, — ведь так, Анна Григорьевна?
— Вероятно.
— Вот видите — и вы так думаете, и все, наверно, так думают… А ведь у меня так и было в последние десять лет. А теперь вижу — все-таки нехорошо было. А сейчас… Вот вы говорите, что я мучаюсь, только я в самом деле не мучаюсь, это правда… Я сбивчиво говорю, да?
— Почему же… Только волнуетесь очень.
— Это ничего, — усмехнулся Александр. — В самом деле, волнуюсь почему-то, но мне кажется, что сейчас мне всякие волнения полезны… Так вот, что я хотел сказать. Хоть и было у меня до сих пор все благополучно, а сейчас — все неясно, все неспокойно, все в ожидании, и сам я не знаю, что будет со мной в самое ближайшее время, — а чувство такое, что именно сейчас мне хорошо, а до сих пор — плохо было. Странно, да? Да вы не отвечайте, не обращайте внимания на мои вопросы — это я больше себя самого спрашиваю… А впрочем, на один вопрос все-таки ответьте: каким человеком я вам представляюсь?
Анна Григорьевна опустила глаза, и Александр торопливо продолжал, не давая ей ответить:
— А впрочем, не надо, не надо, я напрасно об этом спрашиваю, вы ведь почти не знаете меня. Вы другое скажите: почему в тот день, когда я постучался к вам, вы сразу поняли, что мне плохо, что мне нужна чья-то помощь? Неужели я так скверно выглядел?
— Ну что вы…
— А, понимаю… Все ведь просто — вы такой человек, что доброта и участие к людям — для вас дело самое естественное… Я ведь потому спросил, что, будь я на вашем месте, мне, пожалуй, и в голову не пришло бы задуматься, что я должен что-то сделать для этого человека, стоящего за окном, чем-то помочь ему. И не потому, что я такой уж черствый по натуре, а просто по обычной моей невнимательности к людям. Но вот ведь штука-то в чем — какая разница, почему мне и в голову не пришло бы помочь кому-то? Ведь результат был бы один — человек, нуждавшийся в помощи, ушел бы от меня ни с чем… И знаете, прежде чем прийти к вам, я, наверно, в двадцать домов стучался, и везде отказывали, даже не выслушивали толком, а меня, представьте, это ничуть не удивляло, казалось, что так и быть должно, — ну кто я такой для них, почему они должны беспокоиться из-за меня? А вот сейчас думаю — почему не удивляло? Не потому ли, что я, в сущности, такой же, как они, — равнодушный и черствый?
Анна Григорьевна укоризненно посмотрела на него.
— Ну что уж вы так, Саша…
— Да ведь как объяснить-то иначе, Анна Григорьевна? — возбужденно взмахнул рукой Александр. — Ну ладно, это эпизод, мелочь… Да вот вдруг подумал сегодня — а ведь я и жену свою, с которой восемь лет живу, не знаю и не понимаю… То есть не в буквальном смысле не понимаю, конечно, не по каким-то там конкретным поводам, а… сути ее человеческой, души ее не понимаю… Хочу, например, самому себе сказать, какая она, — а лезут на язык какие-то стертые, пошлые слова, от которых меня самого воротит… А ведь кажется, такой близкий мне человек — должны же какие-то свои слова найтись? Не находятся почему-то… И ведь это вовсе не потому, что мне вообще трудно такие слова находить, а все та же моя невнимательность, мое равнодушие сказываются. Ну, может быть, и не равнодушие, а какая-то душевная вялость, эмоциональная бедность, что ли… Совсем в словах запутался. Давайте еще немного выпьем.
Выпили — Александр почти полный бокал, Анна Григорьевна только чуть пригубила. И он снова тут же заговорил, торопясь высказать то, что не давало ему покоя во все эти бессонные ночи:
— И знаете, хоть я и говорю, что не понимаю жену, — а почему-то меня почти не беспокоит, не удивляет это. Может быть, потому, что я уже решил, что жить с ней не смогу, не буду… А ведь две недели назад мне и в голову не могло прийти, что такое возможно. Две недели всего! — с удивлением повторил Александр, только сейчас осознав ничтожность этого срока и значительность перемен, происшедших с ним за эти две недели. — А ведь, наверно, странно это, даже дико как-то… Ведь мы восемь лет вместе прожили, это же… такая большая часть жизни, — и ее, и моей. И там ведь сын мой, и с ним мне придется расстаться. Может быть, она уедет куда-то и сына увезет, — а меня и это мало беспокоит… То есть не мало, это я уже слишком, конечно, но, понимаете, где-то в глубине души я уже смирился с этим… Да что там — я ведь о Наденьке в последнее время думаю больше, чем о нем… Ну, не дико ли это? — растерянно сказал он. — Ведь он сын мой, моя плоть, моя кровь, а девочку эту я всего три дня знаю… Почему так? Неужели все дело в том, что это ее дочь? Анна Григорьевна, скажите откровенно, что вы думаете об этом? Не кажется вам все это странным?
— Не знаю, что и сказать вам, Саша, — не сразу ответила Анна Григорьевна. — Может, и верно говорят, что чужая душа потемки… Только мне кажется, что наговариваете вы на себя. И сына вы любите, и к жене не так плохо относитесь…
— Как вы сказали? — переспросил Александр.
— Что? — не поняла Анна Григорьевна.
— Ну, о жене… Не так плохо отношусь, да?
— А что, не так что-нибудь? — забеспокоилась Анна Григорьевна.
— Нет-нет, все так, продолжайте, пожалуйста.
Анна Григорьевна внимательно посмотрела на него и тихо сказала:
— Сейчас вы только о Лиле думаете, ждете ее ответа, — потому так все и кажется вам. А как получите письмо — все по-другому будет.
— Это вы верно сказали, что я только о Лиле думаю… А вы думаете, напишет она мне?
— Напишет, — уверенно проговорила Анна Григорьевна.
— А ведь не напишет, — медленно сказал Александр, только сейчас поняв, что Лиля действительно не напишет. — Может быть, и хорошо, что не напишет, — совсем уж странные слова сказал он. — Мне даже кажется, что она знает, о чем я все эти дни думаю, и знает, что всего-то я еще не додумал, не понял, — потому и не напишет. Мне кажется, она все обо мне знает…
Анна Григорьевна с тревогой посмотрела на него, — видно, такое уж лицо было у него, — и Александр улыбнулся ей, закурил:
— Да вы не волнуйтесь за меня, Анна Григорьевна… Давно я так откровенно не говорил ни с кем. Да, пожалуй, и с самим собой таким откровенным не был. Ведь очень легко уйти от откровенности, и не перед другими, об этом я уж не говорю, с другими-то я почти никогда откровенным не был, вот только с Лилей… А то до сих пор всегда так бывало, что как только начнешь думать о чем-то важном, и если есть в этом важном что-нибудь тяжелое или просто неприятное — тут же другие мысли, легонькие, на выручку приходят… А чаще всего сядешь за работу — она-то от всего спасает и всегда под рукой… А что не додумал — так бог с ним, само как-нибудь решится. И решается, конечно, — потому что все на свете как-нибудь да решается. Знаете, в математике есть такие задачи, которые вообще не решаются, но если это удается доказать — это тоже считается решением, и иногда такое-то решение и бывает самым важным. У меня самого такая задача была. Года три ее пытались решить, и так и этак пробовали — ничего не получалось, а я взял да и доказал, что ничего получиться и не должно было. Не потому, конечно, что я такой уж умный, а просто первый догадался, что решения может и не быть.
Александр невесело усмехнулся.
— И представьте, вскоре после той удачи мне пришлось уйти оттуда — очень уж трудно стало работать. И вовсе не из-за какой-то зависти такое отношение ко мне было, я ведь знаю… Да, но я отвлекся. Я ведь о том говорил, как легко быть неоткровенным с собой. Или это только у меня так?
Он помолчал, склонив голову к левому плечу, словно прислушивался в себе к чему-то. Молчала и Анна Григорьевна.
— Вы не устали? — спросил Александр.
— Нет… Вы поешьте, Саша.
— Спасибо, я не хочу… Тогда еще немного посидим, хорошо?
— Конечно. Я только вязанье возьму, — Анна Григорьевна виновато посмотрела на него. — Не привыкла сидеть без дела, руки начинают мешать.
— Конечно, конечно…
Анна Григорьевна взяла вязанье, надела очки с переломленными, слабо связанными нитками дужками и неторопливо задвигала спицами, ярко мелькавшими в ее маленьких сухих руках. Александр, глядя на спицы, сказал:
— Я вам очки из Москвы пришлю. Скажите, какой у вас номер.
Анна Григорьевна улыбнулась.
— Не нужно, у меня есть новые. Привыкла к этим, они у меня уже лет десять… Вы пейте, Саша, если хотите.
Александр допил вино, помолчал и снова заговорил:
— Когда я вспоминаю о том, что было у меня с Лилей, то, честное слово, просто не понимаю многих своих поступков. Почему, скажем, я так долго не ехал к ней после первого зимнего свидания? Ну, надо было отправляться на целину, ну, болел, — но, господи, какая это мелочь! Знать бы сейчас, что она ждет меня, как тогда ждала, что я нужен ей, должен что-то сделать для нее, — да я бы любую работу бросил, все на свете, пешком бы пошел — лишь бы быть с ней… А почему тогда не поехал? Почему не остался с ней хотя бы на год, не помог ей подготовиться в университет? То есть тогда все объяснялось просто и логично — я знал, что она не допустит, чтобы я бросил университет, ставил себя на ее место и знал, что поступил бы точно так же… Но ведь я в конце концов мужчина, мне и решать, я в первую очередь должен был позаботиться о нашем будущем. А я пошел на поводу у этой элементарной логики, повздыхал — что ж поделаешь, придется подождать, я же не виноват… Но ведь такая логика разве что в математике хороша, а в любви другая должна быть! А я понадеялся на «великую» силу нашей любви… А на деле получилось, что сила-то требовалась только от нее, а не от меня… Почему я не мог додуматься до такой простой вещи — что я нужен ей? — с силой сказал Александр. — Нужен так, как никто другой ей не мог быть нужен, что только я мог дать ей то самое главное, что один человек может дать другому? И что по сравнению с этим какая-то целина, какие-то лекции, какой-то год? А вот не догадался… А ведь любил же я ее, очень любил… И не сомневался в том, что другой любви у меня не будет, да и не надо… Или все дело в моей слабохарактерности, что ли, в моем эгоизме? Странная ведь вещь получается… Никто никогда не считал меня слабым человеком. Наоборот — сколько раз подчеркивали мое упорство, силу воли, предсказывали мне большое будущее… И ведь в моей работе все это было — и воля, и упорство, этого-то не отнимешь, удавалось мне решать проблемы сложнейшие, которые другим оказывались не по плечу… Да и с детства я был очень удачлив. Учился легко, способности у меня были явно выше средних. И дальше все было гладко — в университете, в аспирантуре, на работе. В двадцать пять уже кандидатом стал, лет через пять, наверно, в доктора выйду, — кажется, чего еще желать? А вот встретился с Лилей, говорил с ней — и иногда таким… мальчишкой чувствовал себя, таким заурядным, непонимающим, никчемным человечком… И сейчас порой такая пустота в душе, что хочется поехать к Лиле и сказать: что хочешь делай, а от себя не гони — пропаду… Как будто выдернули из меня какой-то стержень, на котором вся моя жизнь, все человеческое во мне держалось, и теперь кто угодно и что угодно может согнуть и смять меня. И так неожиданно все это…
Он невесело посмотрел на Анну Григорьевну, закурил и медленно продолжал:
— А впрочем, не так уж и неожиданно… Сейчас-то вижу, что и раньше выпадали времена… не слишком благополучные. Не внешне, — тут у меня действительно все на редкость удачно шло, — а, как бы это сказать… иногда чувствовал я, что все-таки что-то не так, не то… как-то по-другому надо бы жить. Но почему «не то» и как же это по-другому жить надо — даже отдаленно не догадывался. Сейчас-то вижу — любви во мне не было, и не только любви к жене, к женщине, а вообще… человеческой любви. Вот вспомнил сейчас — три года назад жена болела, две недели в больнице лежала. Ничего серьезного не было — да ведь все-таки болезнь, и не кто-нибудь болеет, а жена… А знаете, что тогда часто раздражало меня? Что мне с сыном приходилось много возиться, и работать как прежде я не мог. Черт знает что, омерзительно даже вспоминать об этом… Подумайте только — не о живых, самых близких мне людях главная забота была, а об этих формулах, уравнениях, каких-то закорючках… И ведь логика-то какая! Болезнь, мол, самая заурядная, ты отлично знаешь, что ничего с женой случиться не может, — чего же тогда волноваться? А вот как подумал, что и к Лиле тогда, в то лето, мог бы так отнестись, — и дико стало, потому что знаю — никак не мог! А вот с женой мог! Отводил сына в сад и преспокойненько усаживался за работу, и так не хотелось иногда отрываться, чтобы идти в магазин или в больницу. И ведь в голову не приходило, что это… скверно, гадко, бесчеловечно!
У него давно уже болела голова, и тут заломило в висках так, что он невольно поморщился. Анна Григорьевна заметила это, участливо сказала:
— Устали вы, Саша. Может быть, ляжете?
— Да нет, посижу еще… Это не усталость, просто — нехорошо мне. На душе… очень уж тяжело. Много скверного в своем прошлом вижу. И что-то никак до конца понять не могу, почему я такой. А ведь сам во всем виноват… Знаете, я никогда не верил в то, что человек — игрушка в руках судьбы и что все зависит от каких-то обстоятельств, в которые он попадает… Ссылка на обстоятельства — удобный предлог для оправдания всяческих больших и маленьких мерзостей. Пьянствует человек — обстоятельства такие, жену и детей бьет — тоже обстоятельства виноваты, подлость какую-то сделал — и тут оправдания находятся… Чепуха все это. Каждый в конце концов сам творит свою судьбу. Вот и я тоже — сам себе пустыню сотворил… Да только когда это началось? Вот сейчас вспоминаю — я очень рано усвоил, что добиться чего-то можно, только работая изо всех сил, отдавая всего себя какому-то делу. Любимым моим героем в детстве был Мартин Иден — именно за его фантастическую работоспособность, за его упорство. И печальный его конец совсем не смущал меня — уж со мной-то такого не случится! И работать я действительно научился… Я даже очень хорошо умею работать! — со злостью сказал Александр. — Так хорошо, что, пожалуй, немногие еще так умеют… И все с детских лет еще говорили мне, как это хорошо — уметь работать. И учили, как надо работать… И почему-то никто не догадался хотя бы намекнуть, что учиться нужно и тому, как надо любить, как быть добрым, человечным, как понимать людей, думать о них, заботиться…
Он покачнулся на стуле и тяжело оперся руками о стол.
— А впрочем, что это я говорю… Как раз о любви-то пишут и говорят куда больше, чем о том, как надо работать. Ну да книги — это только книги… Вот пытаюсь сообразить — уж не потому ли я так вел тогда себя с Лилей, что это стремление к работе, к успеху подспудно вело меня во всем, направляло всем? Если так, то… страшновато.
Александр помолчал — и с усилием продолжал:
— Вот думаю сейчас: кончится мой отпуск, уеду я от вас — а что дальше будет? К Лиле-то, кажется, действительно нельзя ехать. Чувствую, что нельзя, и права она во всем. Может, и в самом деле я не ее люблю, а нашу прошлую любовь, может, даже только тоску по любви… Как скверно я говорю… И знаете, хоть и сказал я вам, что уже решил не возвращаться к жене и сыну, а… чувствую, что не возвращаться как будто и нельзя. То есть сейчас нельзя, потом, может, и уйду я от них, а сейчас непременно надо ехать… Хотя просто не представляю, как я жене в глаза смотреть буду, что скажу ей… Вот вы сказали — я совсем не так плохо отношусь к ней, как из моих слов получается. И знаете, как-то поразило меня само слово «относиться», помните, я даже переспросил вас… Потому и поразило, что очень точно прозвучало. Только дело ведь в том, что к жене я не «относиться» должен, а любить ее, понимаете? Как-то относиться я, например, к вам могу, к товарищам по работе, к случайным попутчикам, а к жене это слово никак не должно подходить. А я все эти восемь лет именно относился к ней. — Александр вымученно улыбнулся. — Может быть, даже и неплохо относился, а любви не было… А может быть, я и вообще никого любить не могу? — высказал он уже и раньше промелькнувшую догадку. — Ведь и такое, вероятно, возможно… Как вы думаете, Анна Григорьевна, бывает так?
— Наверно, бывает, — не сразу сказала Анна Григорьевна. — Только зря вы так настраиваете себя.
— Да нет, Анна Григорьевна, я не настраиваю… Я в себе пытаюсь разобраться. Надо же… хоть раз в жизни до конца понять себя. Я чувствую, что сейчас от этой попытки многое зависит. Может быть, вся моя дальнейшая жизнь. — Он поднялся из-за стола. — Пожалуй, и в самом деле пойду лягу… Спасибо, что выслушали меня.
Когда он засыпал — вспомнилось: «С язвою бессмертной совести как справляетесь, бедняк?»
«Как хорошо сказано, — успел подумать он. — Наверно, совесть и в самом деле бессмертна… Хорошо, что так…»
И заснул.
7
Подходила к концу третья неделя его пребывания здесь, и Александр, уже понимая, что не будет никакого письма, назначил себе день отъезда. Но пришел этот день, а он остался, сказав себе: завтра. Но не уехал ни завтра, ни послезавтра.
Уезжал почти через неделю, утром пасмурного дня, — тихого, теплого. И дождь шел теплый, весенний.
Встал он рано, неторопливо собрался, долго смотрел в окно, на сад, мокнущий под тихим теплым дождем. Потом стал перечитывать свое так и не отправленное письмо, в котором прибавилось много новых листков. Читал и видел, что так и не сумел объяснить Лиле то, что хотел, а когда прочел о ласковых словах, которые он не сможет сказать теперь Лене, ему даже стыдно стало — так поверхностно и беспомощно выглядели они. И он подумал, что хорошо сделал, не отправив письмо, положил его в чемодан и пошел к Анне Григорьевне пить чай.
Присели на дорогу. Погрустневшая Анна Григорьевна сказала ему:
— Хорошо мне было с вами, Саша. Будете снова в этих местах — заезжайте проведать.
— Обязательно заеду, — сказал он, зная, что никогда уже не приедет в этот город и не увидит Анну Григорьевну. И она поняла его, помолчала и первая поднялась:
— Ну, поезжайте и будьте счастливы.
И вышла на крыльцо проводить его.
Он пошел по красной кирпичной дорожке навстречу почтовому ящику и, видя, что в нем ничего нет, все-таки по привычке открыл его и заглянул внутрь. Там ничего не было. Ящик был пустой и мокрый.
В Москву он прилетел на следующий день, и после тихой жизни у Анны Григорьевны шумная сутолока плотной, непрерывно движущейся массы людей раздражала его, он болезненно щурился от яркого солнечного света, инстинктивно избегал соприкосновения с толпой. Дел в Москве у него не было, и он собирался сразу ехать домой, но долго ходил по городу, покупал подарки жене и сыну и, наконец решившись отправиться на вокзал — вдруг зашел в пивной бар. Недолго сидел один, нехотя потягивал пиво, оглядывал низкий прокуренный зал, освещенный холодным белым светом. А потом сели за его стол четверо молодых рослых парней, разговаривающих уверенными громкими голосами. Было им лет по девятнадцать-двадцать, и Александр с неожиданным любопытством стал присматриваться к ним. Почему-то появилось острое желание узнать — чем живут эти люди, как думают и — как любят?
Четверо не обращали на него никакого внимания, словно никого, кроме них, и не было за столом. Тон в разговоре задавали двое — у одного на правой руке поблескивало золотое обручальное кольцо, у другого на лацкане пиджака внушительно вырисовывался прямоугольный значок «Мастера спорта».
Говорили они о предстоящих экзаменах, о каких-то компаниях, вечерах и выпивках, — и о девушках. И обо всем говорилось одинаково — ровными, небрежными голосами, щедро пересыпали свою речь жаргонными словечками, безаппеляционно кидали «мура», «чудишь, старик», «заметано», бездумно матерились, почти не понижая голоса. Александр видел, что это маска, стереотип бездумного поведения, — обязательная небрежность, чуть-чуть цинизма, снисходительная самоуверенность, — но что скрывалось за этой оболочкой? И зачем понадобилась им эта маска?
Маска казалась безукоризненной, плотно приросшей к этой четверке, — за полчаса разговора ни один из них не сбился с заученного тона. И они, вероятно, сами не замечали, как безлико выглядят со стороны, какой наивной кажется их самоуверенность, и Александр с недоумением подумал: зачем им это нужно? Ведь — не глупы же они…
Он подозвал официанта, рассчитался, и тот, кто носил обручальное кольцо, равнодушно подвинулся вместе со стулом, пропуская его, и Александр сзади услышал его голос:
— Нет, братва, мы сделаем вот что: возьмем тачку и поедем к моей старухе.
Александр не сразу сообразил, что «тачка» должна означать такси, а «старуха» — жена. И попытался представить, как говорит этот парень с женой в интимные минуты, какое у него при этом лицо, — и не мог.
Жена встретила его привычным радостным поцелуем, выбежал сын, и Александр, поднимая его маленькое тяжелое тело, не чувствовал знакомого умиротворения от того, что наконец-то он дома и снова начинается привычная удобная жизнь и любимая работа в кабинетной тиши.
— Что же ничего не писал? — мягко упрекнула жена.
Он виновато пожал плечами.
— Да ведь сама знаешь, какой я любитель писать письма.
И это была правда — письма он писать не любил.
— Устал? — спросила жена и, не дожидаясь его ответа, ласково приказала: — Иди мойся, сейчас будем ужинать.
Сын, сразу забыв о нем, занялся игрушками, и на лице его было написано сосредоточенное удовлетворение. Разглядывая большой трактор, он требовательно сказал:
— Папа, покажи, как он ездит.
Он давно уже привык к тому, что игрушки покупались ему самые лучшие, и не допускал мысли, что отец мог подарить трактор, который не двигается сам. Александр стал показывать, как надо управлять трактором, и когда он с тихим жужжанием пополз по полу и стал послушно поворачиваться, останавливаться и давать задний ход, сын шмыгнул носом и удовлетворенно сказал:
— Ага, понял.
— А ты без «ага» не можешь? — сухо спросил Александр.
Сын промолчал и, взяв у него пульт с кнопками, стал сам командовать трактором. И это бесцеремонное молчание вдруг возмутило Александра — он резко сказал:
— Когда отец делает тебе замечание — надо отвечать, а не отмалчиваться.
Сын обиженно посмотрел на него и нехотя сказал, отворачиваясь:
— Хорошо, папа.
Александр молча пошел в ванную. Неожиданная неприязнь к сыну удивила его, и он, вспомнив, как радостно приняла его подарок Наденька, как приятно ему было наблюдать за ней, с тревожным недоумением подумал: почему так? А может быть, — догадывался он, вспомнив, что говорил Анне Григорьевне, — ребенок любимой женщины и должен быть более желанным, чем свой собственный? Но думать об этом было слишком уж неприятно, да и мысль представлялась нелепой и невозможной.
Он медленно разделся и долго мылся, всячески оттягивая время, — ему просто страшно было идти на кухню, встретиться взглядом с женой, — о чем он будет говорить ей?
А Лена уже давно ждала его — он увидел красиво накрытый стол, и сама она была очень красива в светлом нарядном платье, надетом специально для него.
— Извини, что я так долго, — пробормотал он, усаживаясь за стол. — А Витя?
Александр надеялся, что сын будет ужинать вместе с ними, но жена сказала:
— Он уже поел.
Разговор начался с обыденных расспросов о здоровье, работе, — но потом пришлось заговорить ему о своей поездке, и он тяжело и неуклюже лгал жене, рассказывая о том, каким большим стал город его детства, с кем из друзей он встретился, что изменилось за эти десять лет… Жена со спокойным вниманием слушала его, и все, казалось, было так, как после всех его прежних поездок, но Александр жил сейчас тяжелым ожиданием той минуты, когда кончится этот разговор и ему придется остаться наедине с женой и — лечь с ней в постель? Что он тогда скажет ей? И он не торопился вставать из-за стола, долго пил чай, курил. Лена наконец сказала:
— Иди ложись, я сейчас немного уберу и тоже приду.
Александр, помолчав, с трудом выдавил из себя:
— Ты иди, а я немного поработаю.
Жена с удивлением взглянула на него, опустила обиженные глаза и потерянно сказала:
— Как знаешь…
Александр сбивчиво стал объяснять:
— Понимаешь, еще в самолете пришла одна идея, надо бы проверить, пока не вылетело из головы.
Жена промолчала, и он пошел к себе в кабинет.
Здесь, в чистой уютной тишине, все было так, как оставил он в день своего отъезда, и листок с недописанными выкладками лежал, кажется, на том же самом месте. Александр и в самом деле собирался поработать — надо было как-то провести полтора-два часа, дожидаясь, пока Лена заснет. И он стал читать недописанный листок, пытаясь вспомнить ход своих мыслей в тот день, когда он еще ничего не знал и никуда не собирался ехать, — но мозг равнодушно считывал уравнения, и, дойдя до конца, Александр так и не понял, в чем смысл этих уравнений и как он собирался продолжать выкладки. Он отложил листок, закурил и стал смотреть в окно, на серую, едва видимую в темноте дорогу и на лес, начинавшийся за ней. В доме еще недолго слышались осторожные шаги жены, а потом стихло все. Выждав еще с час, Александр пошел в большую комнату, где спали они с женой, немного постоял на пороге, не решаясь войти. «Что же я скажу ей? — мучился он, сжимая ручку двери. — Ну, сегодня обойдется, а завтра?» Прислушался к тишине, пытаясь понять, спит ли Лена. Но тихо было — так тихо, что он ничего не слышал, кроме ударов собственного сердца. И Александр так и не решился войти, на цыпочках прошел в комнату сына, отодвинул штору, жестко царапнувшую тишину звуком железа по железу. Сын крепко спал, повернувшись на живот и подложив правую руку под голову. Александр вгляделся в него и вспомнил, как он стоял на кухне ночами у Лили, думал о том, как жить дальше, — и поразился тому, с какой легкостью он примирился с необходимостью расстаться с сыном. «Как же так… Ведь он — самое дорогое для меня существо на свете… Он так похож на меня — лицом, фигурой, походкой… Даже спит он так же, как я… А что он значит для меня? Если его постоянно не будет со мной — будет ли это для меня большой потерей?»
Александр не знал, что ответить себе на это. Сын всегда был рядом с ним — хотя бывали дни, когда они едва перекидывались несколькими словами. «Ну вот, допустим, что мы расстанемся… Буду я видеть его раз или два в неделю и только издали наблюдать, как он растет, умнеет… А если Лена решит куда-нибудь уехать, увезет его с собой? Не буду ли я потом говорить себе: «что имеем — не храним, потерявши — плачем?» А что же делать? Ведь и так жить больше нельзя — во лжи, в равнодушии, в этом страшном спокойствии, которое, кажется, и в самом деле похоже на подлость…»
Сын шевельнулся, сказал во сне что-то неразборчивое. Александр поправил на нем одеяло, постоял немного и тихо вышел из комнаты.
Ложился он так осторожно, словно боялся случайным прикосновением причинить жене боль. Но она не спала — и когда он улегся, повернулась на бок, придвинулась к нему и привычным движением положила ему руку на грудь, и он весь сжался и застыл, никак не ответив на ее ласку.
— Ты очень устал? — наконец спросила жена.
— Да… Пришлось всю ночь просидеть в аэропорту.
И она убрала руку и легла на спину, отодвинувшись от него.
И долго они лежали так, чужие и далекие друг другу, и жена, еще не понимая, что случилось с ним, инстинктивно чувствовала, что это случившееся — предвестник близких и тревожных перемен в ее судьбе…
Примечания
1
Средний рыболовный траулер.
(обратно)2
Пикули — мешки с песком, которыми ставные невода крепятся ко дну моря.
(обратно)3
«Жук» — небольшое буксирное судно.
(обратно)

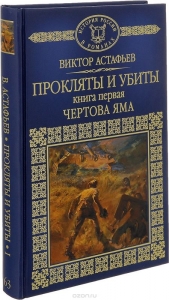


Комментарии к книге «Залив Терпения (Повести)», Борис Егорович Бондаренко
Всего 0 комментариев