Сергей Снегов Учительница Повесть
ГЛАВА ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА В КРАСНОЯРСКЕ
1
Перед нею лежала клубящаяся туманом неспокойная река. Оля спустилась с высокого берегового обрыва и поставила свой чемодан на песок возле большого тюка. Кто-то грозно заворчал: «Куда лезешь, разиня?» Она не ответила и не ушла — везде прогоняли от своих вещей, везде называли разиней. Выпрямив ноющую спину, Оля глядела на дышавший холодом водный простор. И хоть она очень устала, и была голодна, и всего час назад в отчаянии от неудач дошла до самых черных мыслей, она на минуту забыла о всех своих горестях, очарованная хмурым величием катившейся у ее ног широкой воды.
Оля отошла от чемодана, наклонилась к набежавшей волне и ухватила ее ладонями. Волна с тихим плеском покрыла кисти рук и скользнула меж пальцев, замочив рукава пальто. Вода была холодна, но Оле показалась мягкой и ласковой, и, если бы Оле не было стыдно перед людьми, густо заполнившими береговой пляж, она протянула бы вперед руки и закричала звонко и торжественно, как кричали в древности казаки, осаживавшие своих коней на краю обрыва: «Здравствуй, батюшка Енисей!» Но Оля не протянула рук и ничего не крикнула.
— Дура! — снова послышался голос человека, назвавшего ее разиней. — Ну и дура! Оставила вещи ворам на разживу!
Из-за тюка вылез невысокий, заросший до глаз черной бородой мужчина. Он показал рукой на чемодан и прохрипел:
— Что, лишку добра завела? Тут мигом облегчат, голову отвороти — и готово: нет твоего чемодана.
— Мне теперь все равно! — ответила Оля и присела на чемодан.
Грубый окрик снова поднял в ней ощущение случившегося несчастья. Она всхлипнула и утерла рукой набежавшие слезы.
— Не реви! — сурово сказал мужчина. — Этим не проймешь! Понятно?
— А я никого не хочу пронимать! — возразила Оля.
Мужчина стоял и ждал объяснений. И Оле тотчас же захотелось рассказать ему все. Она в последний раз всхлипнула и пожаловалась:
— У меня в поезде украли рейсовые карточки и документы, утром хватилась — ничего нет. Как теперь быть, не знаю.
— Гони ее, Павел! — закричал злой женский голос. — Чего со всякими проходимками лясы точишь? Много их тут шляется, которые без карточек!
Около мужчины выросла здоровенная женщина, закутанная сразу в три пальто — только нижнее, летнее, было застегнуто на пуговицы, остальные покрывали ее, как капустные листья, от этого она казалась пространнее в ширину, чем в высоту. Она сердито накинулась на Олю:
— Шагай, шагай отсюда! Берег большой, пристраивайся в другом месте.
Оля схватила чемодан и отошла в сторону. Берег, вправду, был большой, но свободного места отыскать не удалось. Все было заставлено тюками, мешками, чемоданами. Пробродив полчаса, она возвратилась назад — здесь все же было немного свободнее. Оля села подальше от чужих вещей, у самого края воды, — каждое ее движение было теперь видно хозяевам тюка. Они скосили на нее глаза, опять заворчали, но Оля твердо решила больше не уступать. Мужчина и женщина на этот раз оставили ее в покое. Женщина громко вздыхала и говорила:
— Господи, господи, ну сколько же еще — восьмой день маемся у воды!
А мужчина, мрачно матерясь, дополнял:
— Они, дьяволы, еще месяц продержат. Чего им, по распредам прикреплены, не на своем!
Оля сначала вслушивалась в их бормотание, думая, что речь пойдет о ней, потом перестала. Кругом на берегу люди жаловались, ругались, необычного в этом ничего не было.
На реке показался буксирный пароходишко, тащивший две маленькие баржи. И тотчас же толпу, заполнившую берег, обежал слух, что баржи идут к причалу принимать пассажиров. Весь берег, хватая вещи, ругаясь и крича, ринулся к причалам. Людской поток подхватил Олю и потащил за собой. Она обеими руками вцепилась в ручку своего объемистого чемодана, а чемодан несся вперед, как живой, и тянул ее. Оля успела увидеть бешеные глаза соседа, навалившегося на тюк и толкавшего его к реке, и очутилась на деревянных мостках — под ними рокотала темная быстрая вода. Оля в страхе крикнула и закрыла глаза. В голове у ней пронеслась мысль: «Не выплыву! Пустить чемодан — погибну!» Но она не выпустила чемодана, хоть голова и плечи ее уже наклонились над рекой. Из толпы, захватившей мостки, понеслись крики:
— Осади назад! Куда прете!
Между тем пароходик, таща свои баржи, проплыл мимо причала и, не развернувшись, ушел в туманную даль. Некоторое время все следили за ним тоскующими глазами, тщетно надеясь, что он еще вернется, потом толпа стала разваливаться.
— Обратно ничего! — мрачно сказал чей-то громкий голос.
Оля возвратилась на старое место. Сосед все возился с тюком. Оля уселась прямо на песок. Ее тряс нервный озноб, грызло отчаяние.
Она вспомнила неприятный разговор с крайоно. Узнав, что у Оли украдены направление и паспорт, заведующая отделом кадров потребовала доказательств, что она та самая Ольга Ивановна Журавская, за которую пытается себя выдать. Без них ее на работу не примут: хорошее место нынче вещь завидная, командировочные деньги тоже на улице не валяются.
Этого Оля не снесла.
— А у вас имеются места хуже Авамского района, куда меня направили? — спросила она с горечью. — Думаете, я не знаю? Это полярная ночь, вечная пурга, вечная нехватка самого необходимого, начиная с солнца и кончая едой. Как у вас хватает совести называть место моего назначения завидным!
Она была так возмущена, что даже хлопнула дверью, выходя из крайоно. Заведующая крикнула ей вдогонку, что посоветуется с начальником, может, что-нибудь придумают. Но Оля решила больше сюда не ходить. Не нужно ей никаких направлений и бесед с начальниками. Она доберется сама до Авамского района. С голову она не умрет, а на пароход проберется зайцем. Сейчас многие так едут — зайцами, об этом все говорят. План этот сгоряча показался убедительным, но, приплетясь со своим чемоданчиком на пристань, Оля узнала, что нет самого важного — пароходов. И по мрачным прогнозам людей, неделями живших на берегу, надежды на скорое их появление не было — вся свободная речная посуда отдавалась под грузы крупного северного строительства. Правда, на стене сарая, называвшегося речным вокзалом, висело расписание пассажирского движения, но к нему никто даже не подходил.
И сейчас, сидя на песке, Оля перебирала в памяти неудачи и горести этого скверного дня. Ей казалось, что выхода нет. Она еще раз посмотрела на реку и содрогнулась. Серый полдень переходил в мглистый вечер, река становилась шире и холодней. Оля устало закрыла глаза. Все тело ее ныло, в голове шумело, мысли путались. Она недолго боролась с внезапно охватившим ее сном, потом привалилась головой к чемодану и раскинула на нем руки. Но спать так было трудно, тело само искало более удобного ложа. Оля не слышала голосов, не видела, как над нею наклонилась женщина, охранявшая свой тюк.
— Господи, молоденькая какая! — бормотала женщина, жалостливо всматриваясь в Олино лицо и посиневшие подергивающиеся губы. — Дите, впрямь дите, как таких пускают одних в дорогу!
Она пыталась поднять Олину голову, потом стащила с себя верхнее меховое пальто. Скоро все тело Оли наполнила теплота. Оля распрямилась, перестала дрожать, на лице ее появился румянец.
— Мотя, чего ты с девкой возжаешься? — крикнул мужчина. — Иди посторожи, я в город сбегаю — может, чего достану.
Он подошел к Оле и тоже наклонился над ней. Оля улыбнулась ему сонной блаженной улыбкой. Мужчина сердито засопел и отвернулся.
— Не жрамши заснула, — сказал он, с ненавистью всматриваясь в реку. — Вот до чего людей доводят!
2
Оля спала недолго. На лицо упали холодные капли дождя, и она вскочила. Чемодана не было, люди разбрелись, она одна лежала на влажном песке у самой воды. Со сна она даже не заметила накрывавшего ее пальто. Потрясенная, она шарила рукой вокруг себя, словно чемодан мог затеряться в песке. Это новое несчастье было тяжелей, чем прежние, — в чемодане лежали книги, платье, белье, фотографии подруг, письма умершей матери — все, что казалось ей сейчас единственно дорогим в жизни.
— Иди сюда, девонька! — окликнула Олю женщина. — И дощку мою прихвати, а чемоданчик твой у нас.
Только сейчас Оля увидела, что она была накрыта овчинной шубой, мех еще сохранил теплоту ее тела — видимо, от этого ей так удобно спалось. Пристыженная, она подняла пальто и хорошенько встряхнула его. Ей было стыдно, что еще недавно она плохо думала об этой женщине. Она пробормотала благодарность.
— Вот он, твой чемоданчик, у Павла, — сказала женщина. Мужчина лежал на песке, положив голову на чемодан, как на подушку, тюк защищал его спину от ветра. — Тебя как звать-то? Оля? Поешь, Оленька, картошки, мужик мой с базара притащил.
Она протянула Оле чугунок с остатками картошки. От чугунка пахло так вкусно, что у Оли вдруг что-то заболело внутри. Она любила жареный лук — картошка была обильно сдобрена им. Оля с трудом отвела взгляд от еды. Нет, нет, она совсем не голодна. Кроме того, у нее нет денег. Женщина нахмурилась.
— Ешь, говорю, какие там деньги!
Павел тоже сказал:
— Ешь, не кочевряжься!
Оля ела, поглядывая на обоих. Женщина рассказывала. Они едут в Игарку, на лесопильный завод, там у них свояк, пишет — ничего, жить можно. Павел, муж ее, вернулся с фронта, семь месяцев валялся в госпитале, думали, уж не жилец на свете, нет, вывернулся. А сейчас нужно искать работу полегче, чтоб нутро не перетруждать, вот они и надумали податься на север, собрали барахлишко и поехали. А в Красноярске застряли. Главное — неизвестно, когда будут пароходы. У них еще горе — вещей много, тяжесть страшная, а Павел не хочет понимать, что прежней силы нету, — никого на подмогу не просит. Если пароход появится, другие сядут, а им пропадать на берегу.
— Хватит, Мотя! — недовольно сказал Павел. — За подмогу сотенных три выложить, а они на улице не валяются.
Оля несмело поддержала Мотю. Да, без помощи такой тюк не погрузить. Она подсобит им, если они разрешат. Это ничего, что она худенькая, сил у нее много. Оля говорила горячо. Ей хотелось чем-нибудь отблагодарить этих людей. Павел хмуро взглянул на ее раскрасневшееся лицо и усмехнулся.
— Сиди уж, — сказал он невесело. — Не такой я слабый: в грузчики не пойду, а добро свое потащу, когда припрет. — И, продолжая бесконечный спор с женой, он сказал: — Баба ты, Мотя, сути не понимаешь. Разве я скуплюсь? Да ведь кого наймешь? Дать кому деньжата, а в нужный момент — где он? Вот чего боюсь.
Они продолжали обсуждать возможности отъезда. И хоть сам разговор был нерадостен, Оле с каждой минутой делалось легче. От вкусной и сытной еды ей стало теплее. Час назад она чувствовала себя одинокой, а сейчас все словно менялось к лучшему. Оля твердо знала, что нового было только одно — ее приласкали чужие люди, остальное осталось таким же скверным. Но в ней уже не было прежнего отчаяния и неудачи не казались невыносимыми, в конце концов время военное, все теперь страдают.
— Ага, усталая девочка проснулась! — сказал кто-то весело. — Крепко же вы спали, сударыня!
К ним подошел высокий мужчина лет тридцати. Он был одет непохоже на других: в американских военных ботинках, в овчинной дохе внакидку, открывавшей летние желтые брючишки, в хорошей цигейковой шапке. Он бесцеремонно присел около Оли и взглянул ей в лицо. Глаза его, быстрые и ласковые, обежали ее всю, словно руки слепого, — Оля ощущала прикосновение этих глаз. Смущенная, она отодвинулась. Он громко рассмеялся.
— Испугались, девочка? Не бойтесь, я уже не кусаюсь, зубы выпали, — он показал на верхнюю челюсть: там не хватало, двух передних зубов, и продолжал еще веселее: — Вы, конечно, удивляетесь — зачем пристаю? Просто поражен! Вы единственная, кому удалось заснуть на сыром месте, да еще под ветром, да еще в час, когда мимо пристани проходил лихтер с баржами. Я хотел разбудить вас, чтоб не простудились, да очень уж хорошо вы спали. А потом чья-то добрая душа пожертвовала вам шубу. Вы хоть выяснили, кто это?
— Вот кто меня пожалел, — ответила Оля, показав на Мотю.
Мужчина дружески кивнул головой Моте.
— Очень хорошо. Разрешите около вас отдохнуть, весь день мотаюсь по городу. — Он уселся еще удобнее, вытянув на песке ноги. — Ходил в крайком партии и в газету — выяснял, будет ли какая-нибудь посуда. Мне ведь тоже на север, как, вероятно, и вам.
— А чего в газете выяснять? — недоверчиво поинтересовался Павел. — Пароходы по реке ходят, тут нужно выглядывать — у начальника пристани.
— Ну, не совсем так! Пароходы ходят, когда им прикажут. А начальник пристани шишка небольшая. Приказывают другие. Я начальников делю на ответственных, безответственных и безответных. По этой номенклатуре он в третьей графе, максимум его возможностей — посадить по блату десяток лишних пассажиров. Кстати, могу вас порадовать и огорчить. Завтра отправляется в Дудинку пароход «Спартак» — это радость. Попасть на него удастся немногим, а после него ничего две недели не будет — это огорчение. Сам я на «Спартаке» не поеду — договорился на грузовые баржи, они топают вниз больше месяца, но меня это устраивает.
— Что же это? — заволновался Павел. — Или впрямь нам зимовать в Красноярске? А может, вы, простите, не знаю имени-отчества, чего-нибудь не так?
— Вполне так. Точные сведения. Зовут меня Анатолий Сергеевич Сероцкий, по профессии — журналист. Был военным корреспондентом, получил ранения, сейчас специализируюсь по тылу. Выбрал север, все-таки романтика, с детства мечтал о белых медведях. Объеду все поселки на Енисее, соберу материал для книги «Сибирские реки — фронту».
На песке Сероцкому было холодно. Оля видела теперь, что мех его пышной дохи основательно потерт. Он, улыбаясь, выругался. Черт его знает что, чуть маленькая сырость — кости ноют. Прямо как в песенке «Болят мои раны глубоки». После того как Сероцкий два раза менял место, Оля предложила ему сесть на чемодан. Сероцкий не заставил себя вторично просить. Он изрядно потеснил Олю к самому краю чемодана. Она потихоньку пересела к Моте на тряпье — Сероцкий даже не заметил этого. Он набил махоркой огромную уродливую трубку, шумно выдыхал дым и рассказывал о том, что делается в местах, куда Оле предстояло ехать. Он, оказывается, хорошо знал и любил север. Нет, если правду сказать, это потрясающе. Война — величайшее бедствие для страны, но для этих отсталых краев, для всей Сибири в целом, она явится небывалым толчком вперед. В Сибирь эвакуируются заводы, культурные силы, наука, старая таежная земля возрождается к новой жизни. Возьмите Норильск, город в тундре, ведь это места, куда Макар телят не гоняет и где, уж конечно, раки не зимуют. А там строятся заводы, шахты, рудники, электростанции, театры, многоэтажные дома. Весь Енисей работает на Норильск, туда идут баржи и пароходы с грузами и рабочими, именно поэтому неорганизованному люду приходится плохо: для них не хватает судов. Он, Сероцкий, считает своим долгом детально ознакомиться с этим замечательным городом, чудом на севере. И в районе, куда едет Оля, он, Сероцкий, обязательно побывает. Дальше авамской тундры он не поедет, сами снега его мало интересуют, но Авам посетит. Нет ничего интересней этих поразительных мест, там несметные стада северных оленей, гуси, песцы, пронзительные ветры и потрясающее полярное сияние! Ради одного полярного сияния стоит поехать, нигде в мире нет ничего похожего. Нет, честное слово, даже лучше, что земля эта дикая — тем она удивительнее! Вам понравится, девушка, вот сами увидите!
Сероцкий с жаром размахивал трубкой, пуская прямо в лицо Оли облачка дыма, наклонялся к ней, то толкал ее коленом, то хватал за руку. Она еще не встречала человека, так увлеченно рассказывающего. Сероцкий был некрасив — крупный нос нависал над губами, на щеке темнела родинка. Но это некрасивое лицо так воодушевлялось при разговоре, что казалось необыкновенно привлекательным. Оля была захвачена яркой речью Сероцкого, она уже боялась глядеть на него, чтоб он не истолковал как-нибудь плохо ее состояние.
Моте и Павлу тоже понравился рассказ Сероцкого. Они ехали на север с опасением — покидать насиженное место было нелегко. Если в Игарке еще так-сяк, то за ней бог его знает что. Но, оказывается, и дальше Игарки люди живут и там идет строительство, возводятся новые города, бояться нечего. Павел, вдруг рассердился: чтоб черт побрал всех начальников на свете, хочется работать, а не валяться на мокром песке! Мотя тут же подхватила его жалобу. Она с надеждой смотрела в живое лицо Сероцкого — может, что-нибудь им можно присоветовать? И вот девушка тоже — без денег, без бумаг, как ей на пароход попасть. В ответ на спрашивающий взгляд Сероцкого Оля рассказала, покраснев, о своих злоключениях. Сероцкому, видимо, понравилось, что к нему обращаются за советом. Он сразу загорелся, даже привскочил на чемодане.
— Чепуха! Все это поправимо, — сказал он энергично. — Я поговорю с капитаном нашего каравана, он вас возьмет без платы — будете работать в дороге. А вы, Оля, сейчас же идите в крайоно, выжимайте из них новые бумажки взамен потерянных. — Он потянул Олю за рукав: — Давайте, времени терять не надо, я пойду с вами. А чемодан оставьте здесь, он не пропадет. Ну, идемте же, чего вы колеблетесь?
Он схватил Олю под руку, помогая ей подняться по скользкому обрыву. Мотя долго глядела им вслед, потом повернулась к реке. Волны, обрушиваясь на пляж, шипели в песке и гальке. Павел снова улегся на земле, положив голову на чемодан.
— Господи, красота какая! — с тоской сказала Мотя. — А страшно — сколько пустой воды!
— Вода как вода — мокрая! — проворчал Павел, поворачиваясь к реке спиной.
3
Теперь Оля твердо знала, что самая низкая точка ее неудач пройдена, мир менялся к лучшему. Даже природа не хотела оставаться хмурой, тучи разорвались, на западе неистовствовал закат, отбрасывая наступавшую с востока ночь. Сероцкий шел быстро, Оля еле поспевала за ним. Он без умолку говорил, и все было интересно. Он много видел и пережил, был на разных фронтах в самые трудные месяцы войны, а до этого разъезжал по всей стране. Оля, слушая его, поражалась, как может память человека вместить так много фактов и картин.
Она высказала ему свое удивление, он пожал плечами: «Что вы, Оля, типичная профессиональная память, у всех журналистов такая». Она вслушивалась не только в его рассказы, но и в голос — глуховатый, то юношески восторженный, то насмешливый.
Заведующая отделом кадров крайоно встретила Олю, как старую знакомую.
— Я докладывала ваше дело начальству, — сообщила она. — Все в порядке, направление вам выпишем, дадим рейсовые карточки и аванс на дорогу. Я уже боялась, что вы не придете, — так сердито убежали. Нетерпеливая вы, товарищ Журавская, с таким характером вам нелегко придется. Ну, желаю успеха!
Она даже улыбнулась, провожая Олю. А через десять минут Оля сжимала в руке драгоценные хлебные карточки и несколько сотенных бумажек. Все это настолько превосходило самые смелые ее мечты, что ей не верилось, она все щупала в кармане карточки — тут ли они. Сероцкий, дружески улыбаясь, заметил на улице:
— Вот видите, а вы не хотели идти. Поверьте, люди лучше, чем они кажутся на первый взгляд. Куда сейчас пойдем? Как вы отнесетесь к кино?
У единственного попавшегося им кинотеатра была пропасть народу — одни девушки. На кассе висела надпись: «Билеты на все сеансы проданы». Сероцкий бодро сказал:
— Ерунда! Надпись не для нас. Подождите меня тут. Не может быть, чтобы администратор не учел факта моего существования на земле и не оставил пару мест в резерве.
Сероцкий вправду скоро вынес два билета — восьмой ряд, центральные стулья. Оля с удовольствием смотрела старенькую, но веселую комедию «Праздник святого Иоргена». Сероцкий и во время сеанса разговаривал, его остроты были так забавны, что соседи смеялись и никто не шикал. Он к тому же был почти единственным здоровым молодым мужчиной в зале. Оля видела, как девушки смотрели на нее завистливыми глазами. Она чувствовала, что выделяется среди других, это было новое ощущение. Сероцкий, похоже, не замечал, что является объектом пристального внимания. После окончания сеанса он сразу потащил Олю к выходу. На улице он остановился и громко обозвал себя дураком. Ну да, конечно, как он забыл, что Оле нужно немедленно отоварить рейсовые карточки, завтра утром придется уезжать, а хлеб в продажу поступает когда как, чаще вечером, чем утром. Они направились в хлебный магазин. Оля пришла в ужас: очередь тянулась на три дома. В очереди стояли усталые женщины. Было ясно, что раньше полуночи хлеба не получить, если и удастся вообще достать его сегодня. Сероцкий мигнул Оле.
— Давайте ваши карточки, — шепнул он.
Вскоре Сероцкий появился и с торжеством показал Оле три буханки хлеба.
— Ваш недельный паек — до Дудинки хватит. Не беспокойтесь, понесу я. — Он вытащил из кармана обширную, как мешок, нитяную сетку. — Старая привычка — без авоськи не делаю шага. — Пряча в авоську хлеб, он с чувством сказал: — А хороший все же народ — женщины. Еще не было случая, чтоб не вошли в трудное мужское положение. С женщинами не пропадешь.
Оле казалось, что Сероцкий нигде не пропадет. Она чувствовала себя с Сероцким так свободно и легко, словно они были старыми товарищами. Ее прежнее подавленное настроение исчезло бесследно. Она забыла о том, что ее ожидает. Ей было хорошо, впервые за много дней хорошо — все остальное было неважно. Они оживленно болтали, перебивая один другого, часто останавливались на темной улице и, не обращая внимания на молчаливых прохожих, хохотали, как дети. Приятно было и то, что Сероцкий не ухаживал за ней, не прижимал в темноте ее руку. Этого вначале она немного опасалась. Но он не навязывался, ему, похоже, как и ей, было хорошо от их совместного блуждания, он вполне удовлетворялся этим.
У ворот одноэтажного дома, в самом конце главного проспекта, Сероцкий остановился.
— Вот ваш хлеб, Оля. Ждите меня минут пять. И условие: никуда не исчезайте, здесь девушке одной ночью ходить опасно.
Когда он пропал в воротах, ей сразу стало страшно. Кругом была непроглядная тьма, на улице и во дворах шумели тополя, а Оле представилось, что к ней кто-то подбирается. Она снова ощутила себя одинокой и несчастной. Она прижалась к дереву, старалась тише дышать, чтоб не выдать себя звуком. Сероцкий появился не скоро, громко позвал ее. Оля подбежала к нему, мгновенно забыв о всех своих страхах, и сама поразилась облегчению, какое испытала, когда он взял ее за руку.
— Все в порядке! — объявил он. — Ваша судьба устроена. Будете ехать без билета в каюте машинистов. Они чередуются сменами, одна койка всегда свободна. Не смущайтесь, не вы одна так путешествуете. И Павла с Мотей тоже определили — на мою баржу. Придется им, конечно, сотни две отвалить речникам.
— Я вам так признательна, — сказала Оля с глубокой благодарностью. — Это просто счастье, что вы встретились, без вас я бы пропала.
Сероцкий отмахнулся.
— Вздор! Человек вообще нигде не пропадет, это все сказки.
— Нет, пропала бы! — настаивала Оля. — Я лучше себя знаю, я такая глупая. Скажите, а кому мне нужно платить и сколько?
— Уже уплачено — пустяк, сто рублей. Нет, нет, я не возьму. — Отталкивая протянутую ему бумажку, Сероцкий сказал серьезно: — Не обижайте меня, Оля. У меня веские причины не брать — сегодня утром я получил в газете «Красноярский рабочий» пятьсот рублей за внеплановую корреспонденцию. Деньги эти шальные, они все равно не удержатся, так пусть лучше на хорошее дело пойдут. Вот я приеду в вашу авамскую тундру, вы меня накормите, одежду почините, сам я на такие штуки не очень — будем квиты! — И, решительно обрывая ее протесты, он сказал озабоченно: — Одно меня тревожит — где вы ночь проведете? В гостинице, где я живу, мест свободных нет, здесь тоже устроить вас не удалось.
— Это пустяки! — воскликнула Оля. — Отлично переночую на берегу — спят же там люди. Вот только как мне туда пройти?
— Я вас провожу. Енисей такой дядя, что с любого конца города к нему нетрудно добраться.
Уже через полчаса Сероцкий со смехом признался в своей ошибке — до Енисея добраться было очень нелегко. Они долго плутали в каких-то переулочках, натыкались на заборы, полуразвалившиеся домишки, дощатые уборные, пока выбрались на береговой обрыв. Енисей широко поблескивал внизу, от него несло холодом. Оля запахнула пальто, а Сероцкий выругался — нога его провалилась в грязь.
— Вы не находите, что река сверкает, как крышка рояля? — заметил он, с любопытством осматриваясь. — Воображаю, что это за штука при лунном сиянии. Жители Красноярска должны поголовно влюбляться друг в друга — подобная обстановка стимулирует нежные признания и вообще наталкивает на детальное выяснение отношений.
— Вам, вероятно, не раз приходилось выяснять отношения под шум волн? — поинтересовалась Оля — она осмелела от хорошего настроения и дружеской прогулки в темноте.
— Вы не поверите — ни разу! — со смехом отозвался Сероцкий. — Любовь — чувство оседлых людей, она требует постоянной прописки в домоуправлении. А корреспондент — принципиальный кочевник. Ни в одном населенном пункте я не прожил больше двух недель. Какая тут может быть настоящая любовь — так, смешки одни.
От того места, где они выбрались на берег, до пристани было несколько километров. Сероцкий и Оля снова брели мимо старых домишек, перелезали через заборы, тащились по огородам. В конце их длинного пути неожиданно возникло большое каменное здание с крылатыми львами и злыми духами, замахнувшимися когтями и гофрированными бородами на раскинувшиеся кругом картофельные грядки. Невдалеке стоял покосившийся сарай — речная пристань.
— Красноярск удивительный город, — сказал Сероцкий. — Я видел сотни городов, которые всячески прихорашиваются перед жалкими речушками, раскидывают на их берегах парки и парадные фасады. А Красноярск к такой реке, как Енисей, поворачивается спиной.
У пристани по-прежнему лежали на песке люди Павел так обрадовался принесенной Сероцким вести, что предложил немедленно распить припасенную бутылку водки. Мужчины по очереди выпили из кружки и поднесли женщинам. Оля долго отказывалась, но ее заставили.
— Пей, голубонька, сырость не так берет! — сказала Мотя.
Водка была отвратительна на вкус — Оля впервые пила ее, но от нее по всему телу пошла приятная теплота. Сероцкий, выпив, стал прощаться.
— Рано утром приду, — пообещал он. — Вы моя подопечная, без меня вам на пароход не пробраться.
После его ухода Мотя устроила постель — они с Олей легли на шубе, накрывшись вынутым из тюка ватным одеялом. Оля прижалась к Мотиной спине, так было теплее, сквозь сон она слышала разговор Моти с Павлом — он не спал, оберегая вещи.
— Вот попадаются же люди! — с чувством говорила Мотя. — И не ищешь их, сами находятся. Нет, хороший он человек, очень хороший.
4
Оля проснулась на рассвете от холода — Мотя уже поднялась. Оля побежала к реке и умылась холодной водой. Она чувствовала себя свежей и бодрой. Павел принес из береговой сторожки разогретую картошку, Мотя нарезала горбушками Олин хлеб, достала соль. Ели молча, круто соля хлеб и картошку, старательно прожевывая. Оля вспоминала вчерашний вечер, кинокартину, блуждание по темным переулкам.
— Этот вчерашний придет, как думаешь? — нарушил молчание Павел. — Что-то больно много он наобещал, а водку пока что всю выпили.
— Обязательно придет! — с жаром воскликнула Оля. — Он не обманет.
Сероцкий явился к концу завтрака и тотчас уселся за чугунок. Он знал уже все новости. «Спартак» пришвартовался к дебаркадеру ночью, нужно немедленно готовиться к посадке. Дело это нелегкое, придется основательно поработать плечами и ногами. После того как устроят Олю, он займется вещами Павла — им не к спеху, караван отходит через два дня. Он озабоченно посмотрел на Олю:
— Очень уж, девушка, вы худенькая, такую легко сбросить с трапа. Ну, ничего, держитесь крепче за меня, как-нибудь вылезем.
На дебаркадере теснились пассажиры с вещами. Речная милиция и матросы очищали в толпе узкий переулочек для проноса грузов. Оля скоро поняла, что без посторонней помощи она ни за что не сумела бы попасть на палубу. Сероцкий держал Олю за руку, сзади напирал Павел с Олиным чемоданом. Когда объявили посадку, их сразу отшвырнула в сторону ринувшаяся на трап толпа. Человеческая река мощно лилась на судно, сметая все на своем пути. Сероцкий, прижимая к груди лишившуюся голоса Олю, отчаянно продирался плечами и коленями, его толкали со всех сторон. Оля не помнила, как она очутилась на пароходе. Сероцкий, оставив Олю, кинулся к трапу — выручать Павла с чемоданом. Оля увидела, что Павла теснят назад. Руки его были подняты — он держал над головой чемодан. Пароходная сирена проревела два раза.
— Кидай! — кричал Сероцкий изо всех сил. — Кидай, чудак!
Павел, изловчившись, бросил чемодан. Сероцкий, перегнувшись над перилами, поймал его, но не сумел выпрямиться — половина туловища висела над водой, он судорожно цеплялся ногами за прутья перил. Оля, вскрикнув, ухватила его за пояс. Она ожесточенно боролась с непосильной тяжестью, с ужасом чувствуя, что через минуту Сероцкий свалится в воду.
— Бросайте чемодан! — молила она в отчаянии. — Ну, бросайте же, бросайте!
Но Сероцкий не бросил чемодана. К ним на помощь поспешили милиционер и матрос. Даже не поблагодарив их, Сероцкий и Оля помчались вниз, вслед за растекавшейся в трюме толпой. В каком-то узком и темном проходе было свободнее, Сероцкий рванул дверь, и они вскочили в каюту. На нижней койке сидел в одной майке высокий парень. Он безучастно посмотрел на ворвавшихся к нему людей и отодвинулся к краю, чтоб не мешать. Сероцкий поспешно засунул чемодан под койку. Сирена дала три гудка.
— Слушайте, Оля, — сказал Сероцкий быстро. — Это ваша каюта, номер восемь, не забудьте. Теперь я бегу, через минуту пароход отчалит. Помните — я к вам приеду!
Он сжал ее пальцы и побежал назад. Оля посмотрела на равнодушного парня, зевавшего на своей койке, и выскочила за Сероцким. Она выбралась на палубу как раз к тому моменту, когда пароход отчалил. Сероцкий, вскочив на перила, широким прыжком перелетел на дебаркадер — прямо в толпу ругающихся людей. Оля вскрикнула и закрыла глаза — ей казалось, что он промахнулся и рухнул в воду, до нее донесся даже плеск волн. Сероцкий услышал ее отчаянный крик и обернулся.
— Все в порядке! — крикнул он. — Идите на корму, там поговорим.
Пароход поворачивал нос к реке и становился кормой к берегу.
Сероцкий выбрался из толпы и вскочил на груду наваленного леса. Рядом с ним стояли Павел и Мотя. Они кричали и махали руками, но Оля не слышала слов. Она замахала и закричала в ответ. Лицо Сероцкого сияло, он радостно кивал головой, вытягивал вперед руки, прижимал их к груди. Оля поняла его — он кричал: «Обнимаю, желаю удачи, ждите меня, обязательно ждите — буду!» И Оля прижала ладони к губам, протянула руки вверх, обнимая всех троих, крича в ответ: «Спасибо, всем спасибо, а вам больше всех! Буду ждать, буду!»
ГЛАВА ВТОРАЯ ПРИЕЗД В СТОЙБИЩЕ
1
— Каждый чум варит пищу, теперь нганасан суп кушает, — сказал Селифон с гордостью. — Ты любишь суп, Ольга Иванна?
Оля промолчала. Она куталась в свое пальто и думала о том, что Селифон хвастается супом как достижением. Чистым бельем он не хвалился. Да и есть ли у него белье вообще? В разрезе капюшона видна голая черная шея — грязная или загорелая, но только откуда здесь загорелая?
Она с тоской огляделась. Долгая дорога и разговоры с Селифоном измучили ее. Они едут и едут, с раннего утра до вечера, и кругом мертвый мир: ни деревца, ни избы, ни следа жизни. Озера и болота, серая цепкая трава, ручьи, струящиеся по камням, низко навалившееся на камни небо. Пустыня внизу, пустыня вверху — ничего, кроме пустыни. А впереди однообразный холмистый горизонт, запутавшийся в ветвистых рогах оленьей упряжки. И снег, медленно опускающийся на землю, — снег в августе. Нет, даже при всех своих опасениях она не допускала, что ей придется так плохо. Там, в Красноярске, она с горечью сказала в отделе кадров: «А у вас имеются места хуже Авамского района?» В Дудинке заведующий окроно разъяснил ей:
— В Авамский район все стремятся, штаты здесь укомплектованы. Вы поедете на Хатангу, товарищ Журавская. — Он утешил ее: — Конечно, далековато, самые северные в мире поселения, но климат там даже лучше, чем в нашей тундре. Между прочим, сейчас в Дудинке находится председатель вашего колхоза Селифон Чимере, вот и прекрасно — поедете с ним.
Оля не нашла ничего прекрасного в новом назначении. Один взгляд на карту, висевшую на стене у заведующего, ужаснул ее — голубоватые змейки рек Хеты и Хатанги струились на сплошном белом пятне, это были или вечные льды, или неизведанный край, скорее всего льды — Полярный круг терялся где-то далеко на юге. Она стала спорить, пыталась проявить твердость. В конце концов они ведь сами требовали учителя в Авам.
Заведующий ласково, но непреклонно прервал ее.
— Споры бесполезны, товарищ Журавская, нам требуется учительница именно в отдаленное стойбище, в этом году мы открываем там начальную школу. Даже для малышей приходится создавать в окружном центре интернаты, возить семилетних малышей за тысячу километров. Этого терпеть больше нельзя. В каждом стойбище должны быть школа, красный чум с книгами и газетами, баня, радиоточка, ветеринарное и медицинское обслуживание. Пока этого еще нет, в глубинках царит настоящая полудикость. Но такова наша цель, даже война со всеми ее трудностями не отменяет этой цели. Так что не возмущайтесь, девушка, а идите на склад, отберите, что отпущено вам на этот год из учебных принадлежностей.
Оля с болью вспомнила обещание Сероцкого побывать в авамской тундре, его слова: «Дальше Авама не поеду, а сюда обязательно явлюсь». Но дальнейшие споры были бесполезны. Ей ничего не оставалось, как встать и пойти разыскивать Селифона Чимере. И вот она едет — третий день едет.
— Тебе будет хорошо, — говорил Селифон, радостно усмехаясь и глядя на нее блестящими темными глазами. — Что хочешь — бери, что надо — говори! Школа живи, наша школа хорошая, настоящая дерева, такая школа только в городе есть, лес сами возили. Хочешь — чум поставим, сам я тебе очаг сделаю, будешь суп варить. Первая оленя, первая куропатка, первая рыба — все тебе дам!
Оля устало опустила голову. Это становилось непереносимым. Он хвастался от самой Дудинки. Вначале Селифон ей даже понравился. Они вместе отбирали письменные принадлежности, книги, пособия, ходили в; контору Союзпушнины, в окружной комитет партии — везде у него были дела. Он делал все сам, всюду поспевал, работа, просьбы, разговоры с людьми доставляли ему наслаждение. И он тащил Олю с собой, ни на минуту не оставляя одну. Хлопоты увлекли Олю. Она неожиданно открыла, что в отдаленности стойбища, куда ей предстояло ехать, были и существенные выгоды: на складе, ей доставалось больше, чем другим. Снабженцы из русских школ с завистью смотрели, как она опустошала полки — им не отпускали и половины того, что полагалось ей, а они с Селифоном прихватывали и сверх нормы. Когда завхоз начинал протестовать, она шла к заведующему, тот хмурился и недовольно говорил завхозу: «Ладно, отпусти, ужмемся на старых школах, нужно им помочь». Если же и заведующий отказывал, были другие пути — комитет партии, председатель исполкома — Селифон эти кабинеты хорошо знал, звонки оттуда быстро помогали. К концу своего недолгого пребывания в Дудинке Оля чувствовала себя важной особой — ее вызывали различные люди, давали поручения и советы.
— Вы у нас пока что одна в глубинке, товарищ Журавская, — сказал ей председатель окрисполкома. — Имеются недалеко фактории, только ведь это голая экономика, нашим культурным представителем будете вы. Так что не подкачайте, Ольга Ивановна.
А сидевший рядом с ним секретарь окружного комитета комсомола поспешно дополнил:
— О комсомольской организации не забывай, Оля, нужно ее создать в вашем колхозе.
Веселея от своей значительности, она заверяла, что не подкачает — и школа пойдет и комсомольская организация будет создана.
Три грузовые нарты были завалены добытыми товарами, на двух других уселись они с Селифоном. С Дудинкой простилась она почти весело, даже помахала рукой черным домам, без страха повернула лицо на восток — там лежало новое ее жилье. Селифон ехал впереди. Он сидел боком, слева на легкой нарте, у него была вожжа, прикрепленная к недоуздку крайнего оленя, и тонкий длинный шест — хорей. Четверка низкорослых некрасивых животных веером тянула нарты по мху и снегу. Оле казалось странным, что передовой олень с краю, а не в центре — на всех других животных ездят иначе. Она сама взяла вожжу и хорей и пыталась править, но ничего не вышло. Она скоро бросила это занятие, в нем не было нужды. Упряжки бежали одна за другой, достаточно было править первой. Нарты у Оли оказались иные, чем у Селифона, больше размером, со спинкой и передком, на них можно было откинуться назад, разместить ноги на поперечинах. Дорога сгоряча показалась Оле легкой и занимательной. Оля с интересом осматривала тундру, старые географические описания теперь оживали. Она обдумывала, как начать занятия, вспоминала институтские лекции по дидактике и методике, встречи в Дудинке, Красноярск. Вероятно, до самого стойбища хватило бы о чем думать и вспоминать, но Селифон все испортил. Он оторвал ее от дум и воспоминаний, возродил в ней полузабытые страхи и опасения. Он бросал передовую упряжку и, шагая рядом с Олей, не переставая, говорил. Наконец и в его стойбище появится настоящая учительница, больше не придется отвозить детей в школу. Он размечтался:
— На следующий год уехавших возвратим из интерната, будешь всех ребят, весь колхоз учить, Ольга Иванна, не только малышей.
Стараясь завоевать расположение учительницы, Селифон подробно описывал удобства и роскошь ее будущей жизни. Его еще молодое, энергичное лицо озарялось, когда он обещал ей приносить лучший топленый жир — пусть она пьет чашками, как пьют они, колхоз ничего для нее не пожалеет. И ее ужасало каждое его слово. Новый, чужой мир раскрывался перед ней, жить в нем представлялось немыслимым. К этому скоро добавились муки от езды — путешествие по тундре было нелегким. Ничего занимательного и веселого Оля уже не находила вокруг — во все стороны простиралась одна и та же унылая, пустынная страна. На стоянках Селифон не давал Оле размять затекшие ноги, он говорил еще горячее, хватал Олю за рукав, чтоб она смотрела на него.
— Поедем, Селифон, — попросила Оля на одной из остановок: больше она не в силах была выносить эту беседу. — И давай поторопимся, мне говорили, олени несутся быстрей, чем лошади, а мы еле плетемся.
— Это можно, — согласился он.
Олени с трудом тащили поклажу по едва покрытой снегом земле, нарты наклонялись, проваливались в ямы. Сжав зубы, чтоб не кричать, Оля цеплялась руками за передок. Все тело ее болело, каждую мышцу сводила усталость. Может быть, именно эта готовность ежесекундно отразить толчок и удержаться при ударе утомляли больше, чем самые толчки и удары.
На какой-то низинке нарты пошли быстрее, толчков почти не стало — здесь было больше снега и землю покрывал густой мох. Но так продолжалось недолго — Селифон закричал, понукая оленей, его хорей взвился в воздухе, и к боязни толчков прибавился страх перед быстрой ездой. Теперь Оле пришлось убедиться, что такое езда на оленях, — взметая широкие копыта, они стремительно неслись, все кругом сливалось и путалось в беге. Все летело: камни, трава, холмы. Только сеть красиво запрокинутых рогов висела впереди. Полуослепшая от комков снега, Оля сжимала нарты так, что рукам становилось больно. Когда олени, выбравшись на подъем, вновь пошли тихо, она поняла, что ей не хватает воздуха — от страха она перестала дышать.
— Здесь отдохнем, — сказал Селифон, останавливая упряжку. — Ночевать будем.
Оля взошла на вершину холмика и осмотрелась. Всюду была одна и та же пустыня: белый снег, черные камни, черная вода, серые глыбы туч, недвижно повисшие над землею. Начинало темнеть, и две пустыни — на небе и на земле — неразличимо переходили одна в другую. Ни леса, ни дома, ни дымка, ни птицы — ни одного следа жизни. Камни и небо. Небо и камни. Слезы кипели в груди Оли. Здесь, на этих камнях, под этим плотным, как старое одеяло, небом пройдут лучшие годы ее жизни — без солнца, без друзей, без книг.
— Ольга Иванна! — крикнул Селифон. — Иди рыба кушай.
Она села у костра. Это был маленький дымный огонек, на нем нельзя было сварить пищу, он не согревал. Оля положила ноги в сапогах на груду тающего снега. Селифон быстрыми четкими движениями резал сырую мороженую рыбу на тонкие лепестки.
— Кушай строганину, хорошо! — сказал он, протягивая ей рыбу.
Оля отказалась и, вынув из мешка колбасу и хлеб, предложила Селифону.
— Тоже хорошо! — удовлетворенно сказал он, набивая рот едой.
Съежившись от холода, она пожаловалась:
— Почему так мало огня?
Селифон удивленно посмотрел на нее.
— Зачем много огонь? Сейчас спать будем. Будет тепло. Я тебе хороший мешок дам.
— Сделай костер побольше, мне очень холодно, — попросила Оля.
Он послушно встал и принялся собирать растущий меж камней мох. Он рвал его проворно и быстро, переходил с места на место, но прошло минут пятнадцать, прежде чем составилась небольшая охапка. Селифон свалил мох в костер, виновато проговорил:
— Еще надо, Ольга Иванна?
Над костром поднялся медленный едкий дым, в нем истлевал, не давая пламени, сырой мох. Оле припомнились веселые, бурные костры пионерских лет. Если Селифон будет целый час собирать мох, хорошего огня не получится. В этой стране костер, как и горячий суп, не быт, а достижение. Она должна смириться. Холодная вода струится ледяными ручьями по этим камням, в этих мхах, в черноте этих плотных туч. Здесь нет места пламени. Оля качнула головой, сама себе приказала: хватит! Она чувствовала, что нужно взять себя в руки — бог знает до чего можно дойти с такими думами. Все это от глупой болтовни Селифона, разве она не знала, куда едет? Она подняла красные от усталости глаза, тихо сказала:
— Спасибо, Селифон, больше не надо. Будем спать.
Он принес ей спальный мешок, положил под него остатки мха, чтобы было не так сыро от земли. Оля смотрела на мешок, ей все больше хотелось плакать. Мешок грязный, она сама полезет в эту грязь. И так будет уже на всю жизнь — в стойбище Селифона нет бани.
— Ложись, Ольга Иванна, — сказал Селифон, с недоумением глядя на нее.
— Ложись сам, я посижу, — ответила Оля.
Селифон полез в свой мешок. Оля сидела на камне, опустив ноги до половины в дымящийся мох. На тундру наползала тьма. Оле казалось, что черная пустынная земля расширяется, поднимается вверх и наполняет своей каменной чернотой пустынное небо. Струей промчался пронзительно холодный поземок. Она зябко передернула плечами. «Хватит, глупая, хватит, ничего не изменишь».
Все закономерно и естественно. Этот ветер не имеет направления. Он исходит сразу от всего — от камней, воды, оленей, от неба и облаков. От всего окружающего мира исходит это дыхание льда и вечной зимы. Здесь все наполнено одним и тем же кромешным сквозняком.
Оля устало поднялась и направилась к спальному мешку.
2
— Смотри, смотри, Ольга Иванна, вот школа! — кричал Селифон счастливым голосом, указывая хореем на единственное деревянное здание, стоявшее среди чумов.
Оля соскочила с нарт и шла пешком, не обращая внимания на толпу сбежавшихся нганасан, разглядывавших ее с молчаливым любопытством. Стойбище было невелико — несколько рваных старых чумов, над ними поднимались тонкие чахоточные дымки. Перед каждым чумом в определенном порядке стояли нарты с поклажей. Между чумами бродили олени, принюхиваясь к снегу. Несколько голых ребятишек — видимо, они только что выскочили из чума — боролись в снегу друг с другом.
Оля была слишком измучена дорогой, слишком торопилась в школу, чтобы осматривать все кругом, но хмурая красота местности поразила ее. Стойбище занимало плоскую вершину обширного холма, подножие холмя омывала неширокая, но полноводная, гремевшая у скал река. А кругом громоздились пики и стены, зубцы и гребни. Горы поднимались над стойбищем метров на пятьсот, и с их вершин рушились вниз водопады — шум их складывался в сумрачную и величественную мелодию. Уже входя в школу, Оля подумала, что здесь ни северные, ни восточные, ни западные ветры не могут свирепствовать, и это, вероятно, было главной причиной заселения этих мест.
Подавленная и растерянная, Оля переходила из комнаты в комнату. Школа состояла из одного большого класса и нескольких маленьких комнат. Даже сараи для дров на юге строились лучше, чем эта школа. Это были неумело сколоченные стены, поставленные прямо на землю. Расползавшиеся от старости оленьи шкуры заменяли полы. А в Селифоне бушевал восторг, он не понимал того, что открывалось ей.
— Стекло! — с ликованием кричал он и гладил рукой раму, даже прижался к ней щекой. — Настоящее стекло, Ольга Иванна, совсем город, смотри!
Сквозь грязное кривое стекло, искажавшее наружные предметы («Как могут выпускать такой брак?» — мелькнула у нее негодующая мысль), мутно лился неясный холодный свет. Оля со страхом осматривалась. Черные, неструганые, сырые доски, щели в палец толщиной, плесень на стенах, вода, капающая с потолка. Знает ли Селифон, что такое штукатурка, известь и мел? Видел ли он в своей жизни обои и масляную краску?
— Сам делал, — похвастался Селифон, положив руку на уродливый четырехугольный стол, заменяющий в этой школе парты.
— Где я буду жить? — спросила она.
— Идем, идем, все тебе покажу! — горячо воскликнул он, таща Олю за руку.
В коридоре они столкнулись со старой нганасанкой. Оля в испуге отпрянула назад. В зубах у старухи пылала огнем трубка. Старуха не курила, а дышала дымом, как воздухом, дым окутывал ее голову, выходил сразу из ноздрей и рта.
— Марья Гиндипте! — сказал Селифон, с воодушевлением похлопав старуху по плечу. — Твоя помощник теперь, класс убирай, печь топи, все тебе делай.
Оля вошла в маленькую угловую комнату — низенький ящик метров восемь-десять, с полом из неструганых черных досок. Значит, Селифон все-таки знал, что такое пол и как он кладется. Сквозь две кривые дыры, затянутые оленьим пузырем, — это были окна — тянуло холодом и проникал сумрачный свет. В углу стоял топчан — единственная мебель в комнате-.
— Хорошая комната, лучше чума! — с гордостью сказал Селифон, глядя на учительницу блестящими восторженными глазами. — Здесь я тебе все, все сделаю, сам сделаю — я умею. Что хочешь — бери! Стол тебе поставлю, лампа у меня есть, как в городе будешь жить. Печь сделаю, суп вари, меня зови в гости, — он лукаво и счастливо засмеялся.
— Кто все это делал? — спросила она, отводя глаза в сторону, чтоб их выражение не смутило Селифона.
— Все сам делал! — воскликнул он с воодушевлением. — Тоги Тэниседо и Най Окуо помогали, они Дудинка работали. Вся колхоз помогала. Мне школа строить хотели нескоро. Школа строить Якову Бетту, он Дудинке ближе, больше план дает. Я колхозники говорил: «Сами строить будем». Вся пушнина, вся гуся, вся рыба отдали, дикого стреляли — отдали, лес купили, привезли, сами делали. Мне секретаря партии говорил: «Подожди, Селифон, скоро тебя доберемся, кончится война — настоящая школа сделаю». Я говорила: «Не хочу ждать, сама сделаю». Я два дня просила: «Дай Ольгу Иванну», пока дал! «Смотри, — говорит, — не обижай». Не буду обижать, как в городе живи, Ольга Иванна! Что надо — говори. У меня еще лес есть, Ная дам, сам работать буду, все сделаем.
Она села на топчан и вздохнула. Селифон сидел рядом, ухмыляясь, всем видом требуя ответа на свои слова. Оля понимала, что его нужно поддержать, похвалить за инициативу, восхититься энергией, с какой он шел на завоевание культуры, но у нее не было сил притворяться.
— Поди, Селифон, принеси мой чемодан и наши мешки, я пока отдохну, — попросила она.
— Ольга Иванна, дети пришли школа, учиться хотят, — сообщил Селифон; возвращаясь.
Он старался говорить спокойно, но возбуждение, оживлявшее его глаза, дрожащие руки и срывающийся голос показывали, как волнует его встреча учительницы с учениками. Она встала, не взглянув на чемодан и мешки, хотя в дороге думала, что обязательно переоденется, выйдет к ребятам в лучшем своем платье, том, цветастом, последнем подарке матери. Ее тоже волновала предстоящая встреча, она не могла ее откладывать. Она сказала выходя:
— Ты передай старухе, пусть она здесь уберет.
— Уберет? Что — уберет? — переспросил он удивленно.
— Ну, понимаешь?.Помоет пол и… Хорошо, я сама потом сделаю.
В классе сидели на грубо сколоченных скамьях десять человек мальчиков и девочек в меховых одеждах с наброшенными на головы капюшонами — ребята от восьми до двенадцати лет. Похоже, они пришли не заниматься, а только поглядеть на учительницу — ни у кого не было ни тетрадей, ни карандашей. Два десятка темных блестящих глаз, неразличимо одинаковых и очень похожих на глаза Селифона, глядели на нее восторженно и диковато. Никто не встал при ее появлении, не ответил на ее приветствие. Селифон вошел вместе с Олей и присел на скамью рядом с детьми.
— Здравствуйте, дети! — повторила Оля неуверенно.
Снова все молчали и смотрели на нее, словно ожидали еще чего-то, что она должна была сделать.
— Кто-нибудь понимает по-русски? — спросила она Селифона.
— Никто, никто не понимай, — радостно усмехнулся Селифон. — Говори, Ольга Иванна, говори, все будут понимай. Учи, Ольга Иванна.
Она еще раз посмотрела на своих учеников и прошлась по классу. Все глаза следовали за ней. Она подошла к одному из мальчиков, положила руку на капюшон его малицы. Мальчик со страхом отодвинулся.
— Как тебя зовут? — спросила она, стараясь казаться спокойной.
Мальчик молчал, в его лице были все тот же страх и беспокойство. Селифон что-то строго сказал ему — видимо, перевел вопрос учительницы. Мальчик неясно и застенчиво произнес какое-то слово.
— Как? Повтори, — переспросила она.
Он снова проговорил что-то неясное и краткое, похожее сразу и на «горох», и на «Григорий», и на «гроб». Она пыталась повторить этот звук, кто-то громко засмеялся. Она беспомощно взглянула на Селифона.
— Нгоробие, — выговорил Селифон отчетливо.
Оля еще раз прошлась по классу, думая, что сказать этим ребятам, уставившимся на нее и ничего не понимающим по-русски. В голове нескладно и хаотично проносились грамматические правила, конспекты по дидактике и методике, все то, что она так старательно вспомнила по дороге, — к чему все это? Она три года слушала курсы разных наук, но ни один из профессоров не обучал ее, как воспитывать учеников, ни слова не понимающих в твоем языке. Все это лежало по ту сторону школьной науки, ей, Оле, нужно не вспоминать бесполезные лекции, а скорее забыть их, так, пожалуй, лучше.
— Нам придется вначале очень трудно, ребята, — сказала она, зная уже, что никто, кроме Селифона, ее не поймет. — Я буду изучать ваш язык, а вы — русский. Потом мы сможем разговаривать, а пока будем учиться отдельным словам. Начнем сейчас же. Вот я беру этот предмет, — она высоко подняла в воздухе карандаш. — Он называется карандаш. Повторите за мной: карандаш.
Она три раза отчетливо произнесла это слово, но никто не отозвался ей. Селифон что-то сердито крикнул, дети со страхом поглядели на него и продолжали молчать.
— Я прошу вас сказать — карандаш, — проговорила Оля упавшим голосом.
Теперь и она молчала, уставясь на них и бесцельно держа поднятый вверх карандаш. И внезапно ее усталость, терзавшие ее сомнения и бессилие вырвались наружу бурными слезами. Она закрыла лицо руками и, громко плача, побежала в свою комнату. Селифон нагнал ее и схватил за руку.
— Не надо, Ольга Иванна, — твердил он в смятении. — Не надо плакать, надо учить.
— Я не буду, — говорила она, стыдясь своих слез и отворачиваясь, чтоб он их не видел.
— Зачем ушла? Иди учи.
— Нет, я отдохну. Я не готова, а у них нет карандашей, тетрадей. Пусть они пока уходят домой, пообедают.
— Перерыв на обед? — старательно выговорил он знакомое слово, видимо выученное в магазинах и канцеляриях — Дудинки.
— Да, перерыв на обед, — ответила она, невольно улыбнувшись усердию и самодовольству, звучавшим в словах Селифона.
Она слышала его голос, потом детские нетерпеливые голоса подняли радостный крик, раздался топот ног. Когда все стихло, слезы ее хлынули, как водопад. Она плакала, лежа на топчане, обо всем, что ей не удалось в жизни, — о навсегда потерянных солнце и лете, о том, что дети ее не понимают, сидят как каменные, а убегают с радостными криками, а еще больше о том, что она встретила хорошего человека, он обещал приехать в гости — и лучше бы его не было. Никто к ней теперь не приедет — это край света. Только когда до нее донеслись новые звуки и запах табака, она перестала рыдать. У двери стоял Селифон, судорожно курил трубку, жалко морщил лицо — по щекам его текли крупные слезы, он плакал от сочувствия к ней.
— Зачем ты плачешь? — вскрикнула она гневно. — Уходи отсюда!
Но Селифон сел рядом с ней на топчан, медленно вытирая слезы и выпуская целые клубы дыма. Она отвернулась и вынула из кармана платок.
— Тяжело тебе, Ольга Иванна? — спросил он жалобно, словно только теперь понял состояние учительницы.
— Тяжело, — ответила она, всхлипывая и стараясь не смотреть на него.
— Я тебе печь поставлю, — сказал он печально. — Все, все сделаю. Суп будешь варить.
— Не надо мне супа! — воскликнула она сердито, снова разражаясь слезами. — Зачем мне твой суп, если люди по-русски ничего не понимают? Как я буду учить детей, если не знаю ни одного вашего слова? Как мне жить тут? Это сарай, а не дом, даже полов нет, стены не законопачены. Кругом грязь, никто не моется. Здесь нет солнца, нет тепла. Что будет со мной?
Он слушал ее так напряженно, что губа его отвисла и трубка вывалилась на колени. Его голос дрожал от горячего убеждения — он возражал ей, он опровергал каждый ее пункт. Это ничего, что они не знают по-русски, а она по-нганасански, он сам будет сидеть на скамье и переводить ее слова, пока они не научатся. Он видел в Дудинке баню, он сделает такую же, все нганасаны будут мыться — разве ему с ней не удалось достать в распределителе двадцать килограммов мыла? Это мыло — вот оно в ящике, они привезли с собой. И он знает сам, что школа не готова. У них не хватило гвоздей, а сейчас гвозди будут, он достал их в Дудинке еще до ее приезда — Най Окуо сегодня же сделает все, что она прикажет, будет очень хорошо, лучше, чем в городе. И пусть она не плачет, что нет солнца, солнце будет. Летом оно все время на небе, ночи нет, ей даже надоест так много солнца.
Она слушала его невнятный голос, и, хотя не все понимала в его быстрой речи, а то, что понимала, казалось ей хвастовством, ей становилось легче и от голоса, и от слов, и оттого, что она уже выплакалась. Что же, пусть все это одни лишь обещания, но обещает он хорошее. Радостей у нее не будет, но долг свой она выполнит. Эти люди отстали от прочего человечества. Она обещала помочь им достичь культуры — она это сделает.
Дверь приоткрылась, показалась старуха Марья Гиндипте. Она что-то сипло и бесстрастно проговорила.
— Дети пришли, учиться надо, — сказал Селифон неуверенно и просительно.
Удивленная скорым возвращением детей, Оля распахнула дверь.
В коридоре, молчаливо и яростно продираясь ближе к комнате учительницы, стояли все ее ученики, все десять человек, мальчики и девочки в меховых одеждах с надетыми на голову капюшонами. Темные блестящие глаза смотрели на нее, полные надежды и страха. В руках у детей были новенькие тетради и еще не очищенные карандаши.
Длинную напряженную минуту она переводила взгляд с одного лица на другое, вглядываясь в эти ожидающие и просящие глаза.
— Что это такое? — спросила она худенького широкоскулого мальчика, указывая на карандаш.
— Кирадас, — ответил мальчик несмело, и в молчаливой толпе детей прошел и замер шепот, — кирадас, кирадас!
Тогда Оля засмеялась и заплакала одновременно и, уже не скрывая слез, повернулась к Селифону.
— Занятий пока не будет, Селифон, — сказала она неожиданно весело. — И ты мне не нужен — я сама буду с ними разговаривать. Пришли ко мне сейчас же Ная с досками и достань сухой мох, шкуры, тряпье. Будем конопатить школу, стелить полы, развешивать плакаты. И пока все не заблестит, учеба не начнется. Ребята будут работать с нами.
— Делай, делай! — радостно крикнул Селифон. — Все будет как надо, Ольга Иванна.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ ПЕРВАЯ НОЧЬ
1
Эти первые дни прошли даже легче, чем она ожидала, — приходилось много работать. Сарай превращали в школу, это было непросто. Оля была сейчас всем: учителем, прорабом, бригадиром, квалифицированным рабочим, ученым, полководцем. Последнее, пожалуй, было даже вернее всего. В помощниках ее бушевал неугасимый огонь, они ловили ее взгляды, требовали распоряжений, с такой яростью набрасывались на щели в стенах, на грязь в углах и на полу, словно все это были враги и с ними следовало расправиться. Достаточно было Оле протянуть руку в угол или к двери, как поднимались визг и толкотня — дети бросали старое занятие и кидались в угол, к двери. Взрослые не отставали от них, пожилой Най радостно ухмылялся, когда удостаивался специального задания. Но, закончив основные работы, Оля снова чуть не расплакалась. Щелей уже не было, грязи тоже, школа была хорошо утеплена, но она по-прежнему казалась грязной — известки в стойбище не оказалось. Селифон даже не знал, что это такое, ему казалось, что достаточно оштукатурить стены смесью глины с песком, и они примут тот самый вид, какой имели в лучших клубных залах Дудинки.
— Ай, да ничего ты не понимаешь! — с досадой отвечала Оля. — Стены белые не от глины твоей, а от мела и извести. И света у нас мало — свечей не хватит, лампу ты достал, а керосина нет. Смотри, как темно, совсем плохо заниматься. — Она с тоской обводила взглядом теперь уже гладкие, но еще более угрюмые стены. — Знала бы, хоть газет прихватила — завесить, все бы было белее.
Он говорил просительно и виновато:
— Оленя возьми, Ольга Иванна, лучшая шкура дам, завесь!
Она сердилась:
— Известка нужна, а не оленьи шкуры. И так какая-то звериная берлога.
Шкуры он все-таки притащил. Оля постлала их на пол вместо ковров. Она первая с удовольствием пробежала по дорожке, даже сняла валенки, погружая босые ноги в теплый мех. Селифон после разговора уехал из стойбища на двух нартах. Оля пыталась узнать куда, но ничего не понимала из объяснений своих учеников. В это кратковременное отсутствие Селифона она поняла, что долго еще не сможет сама общаться с жителями стойбища, хотя сгоряча и похвалилась. Через несколько дней Селифон привез нужные материалы: известку, олифу, керосин, спички.
— Это тебе! — сказал он, протягивая Оле два кулька с горохом и гречневой крупой и кулек с сахаром. — Теперь все имеешь, Ольга Иванна, настоящая школа получай.
— Неужели в Дудинке был? За три дня обернулся? — спросила она, пораженная, — ей казалось, что ближе Дудинки нет поселений.
Но Селифон разъяснил, что неподалеку от них, километров двести по Хете, расположен станок Песцовый — так здесь называют маленькие селения. На станке — фактория, магазин, все есть («Пороху мало! — сказал Селифон с сокрушением. — И свинца жалеют, война идет»). Он сдал заведующему факторией шкурки песца и волков. Заведующий, Прокопий Григорьевич Жальских, нагрузил ему полную нарту известки и олифы, добавил еще гороха и гречки. «На, — сказал, — Селифон, пусть учительница суп варит, чай пьет».
— Спасибо! — сказала Оля, полная благодарности к незнакомому заведующему.
Ее утешило, что не так уж далеко имеется хороший человек, с ним можно будет встретиться, поболтать на родном языке. Она так засветилась от радости, что Селифон громко захохотал и в восторге ударил себя ладонями по груди. И сейчас же все дети захохотали еще громче, чем он, заскакали и завизжали. Оля прикрикнула на них, сердито нахмурила брови. Насупленный взгляд действовал на них сильнее, чем слова, — они сразу притихли.
— Сгружайте известь! — командовала Оля. — Снимайте плакаты и портреты — будем белить.
Побелка заняла еще несколько дней. А затем состоялось торжественное открытие школы. Все немногочисленное население стойбища собралось в большом классе, комната сразу стала тесной. Оля встречала гостей, заставляла снимать верхнюю одежду. Все, не исключая Селифона, входили в класс с робостью. Стены сверкали белизной, портреты великих ученых и вождей глядели на собравшихся, в углу гудела настоящая железная печка. Три лампы, подвешенные к потолку, заливали сиянием столы и скамьи, взрослые сгрудились в углах, за столами сидели ученики. Оля вошла последней, румяная и оживленная, громко сказала: «Здравствуйте, дети!», десять звонких голосов нестройно и ликующе закричали: «Здравствуй, Ольга Ванна!», один из мальчиков в восторге ударил кулаком по столу. Оля постучала карандашом по столику, прошлась по классу, сердце ее билось.
2
Одни трудности преодолевались, другие вырастали: жизнь шла. Сами занятия не были так уж тяжелы, все, что ученики понимали, захватывало их. Они требовали объяснения каждого рисунка в букваре, это было несложно — описывать картинки. А потом пришло и настоящее понимание. Оля уже знала много слов — пищу, жилище, предметы обстановки. Ученики ее усердно заучивали русские слова. Со взрослыми было проще, все они понимали по-русски, но взрослых было немного. Оля поразилась, как мало их в стойбище. В Дудинке ей говорили о большом поселении, а здесь два десятка человек — детей больше, чем взрослых. Селифон разъяснил, что колхозники кочуют, еще не вернулись на зимовье, детишек он нарочно оставил — для школы.
— Скоро много, много будет! — уверял он. — Олени, мясо — все будет, сама увидишь.
Первым из летнего кочевья вернулся аргиш Тоги Тэниседо. Это была добрая сотня нарт с вьюками, мешками, жердями для жилищ и лодками, за нартами темной массой двигалось стадо оленей. Собаки, оставив животных, восторженно понеслись к чумам, детишки кинулись им навстречу… Тоги, не обращая внимания на Селифона и Олю, распоряжался, где ставить нарты, куда направить стадо. Потом он крепко встряхнул Олину руку, что-то пробормотал. У него было насупленное властное лицо с умными глазами, он сразу понравился Оле и важной хмуростью и четкостью движений.
— Лучший человек — Тоги! — с гордостью сказал Селифон. — Все знает — оленя вести, дикого гуся бить, волка прогонять, все, все!
Стойбище сразу увеличилось вдвое. Аргиш Тоги появился утром, а к вечеру это был уже совсем иной поселок. Оля с интересом наблюдала за возведением чума, меховой дом устанавливался в считанные минуты. Сперва укреплялись две главные жерди, образовывавшие арку, затем по кругу укладывали шесты, деревянные ребра будущего дома. Когда конусообразный остов чума был готов, на него набрасывались шоки — полотнища, сшитые из оленьих шкур в два слоя, шерстью внутрь и наружу, — обкладывали шкуры внизу снегом, чтоб не продувал ветер, и разжигали очаг: дом был готов. Оля бывала уже в чумах, но детально с ними не знакомилась. Теперь она вместе с Селифоном пошла в гости к Тоги. Это было самое большое жилище в стойбище, раза в два больше чума Селифона. Оля, пораженная, осматривалась — от входа до противоположной стены было не меньше восьми метров, — целый зал, в котором могло разместиться много людей. Здесь и в самом деле жило две семьи: ка правой стороне Тоги с детьми и женой, слева семья Нгойбо Окуо. Посредине на железном листе пылал очаг, на крючьях, подвешенных к перекладинам, висели котлы и чайник. По обе стороны очага были уложены доски, покрытые шкурами, на шкурах в одних замшевых трусиках сидели хозяева — Тоги и Нгойбо, — оба смуглые, худые и крепкие. Они согласно кивнули головами вошедшим, прикрикнули на ползавших кругом ребятишек и показали на места около себя. Женщины, прервав свои хозяйственные занятия, с любопытством уставились на Олю. Тоги строго прикрикнул и на них. Труднее всего было усмирить двух лаек, привязанных к дверной перекладине.
Тоги предложил гостям угощение, сам нарезал тоненькими ломтиками мороженую нельму, вытащил из котла мясо, разлил по кружкам чай. Время, когда Олю ужасал вид сырой рыбы и полупроваренного мяса, уже давно прошло, она попробовала и строганины и варева, выпила кружку крепкого чайного настоя — от него сразу сильно забилось сердце, — только закусывать мороженым жиром наотрез отказалась. В чуме было жарко, но не дымно, дым поднимался вверх и облаком стоял у выходного отверстия. Оля понемногу отодвигалась от раскаленного железного листа к стенке, к постелям, покрытым шкурами. Тут дети возились со щенками. Они схватили Олю за руки, щенки кусали ей пальцы, маленькая девочка уцепилась за ее косу. Оля рассмеялась. Тоги обратил к ним грозное лицо, все сразу затихли: и дети и собачата. Оля тоже смутилась.
— Ты слушай, Ольга Иванна, слушай! — посоветовал Селифон. — Очень интересно Тоги говорит, очень важно.
Но Оля плохо понимала их разговор, хотя из уважения к ней Тоги говорил по-русски, а когда забывался, переходил на родной язык. Селифон переводил его слова. Она разобрала только, что Тоги отчитывался в летней кочевке и хвалился успехами: называл места, где охотились на диких оленей, — их именовали просто «дикие», перечислял гусей и уток, песцов и волков, упоминал крупных рыб — он привстал и поднял руку, показывая величину рыбы. Это показалось Оле преувеличением, трудно было поверить в существование такой исполинской рыбы.
— Всю зиму хватит, — заключил Тоги. — Так будем есть! — Он показал выше подбородка.
Воспользовавшись заминкой в беседе Селифона и Тоги, Оля заметила:
— Одно меня удивляет — такой большой чум! В нем вполне можно целый класс устроить. Я думала, чумы маленькие и дымные, а здесь просторно, вон еще свободное место имеется.
Ее похвала понравилась всем. Тоги и Нгойбо заулыбались, Селифон с воодушевлением воскликнул:
— Хороший чум! Все такие будут. Еще больше чум поставим — красный чум! В Дудинке давно сказали: делай красный чум, Селифон! Не делал, школа делал. Теперь красный чум сделаю. Стол поставим, музыка — танцуй, Ольга Иванна, все пластинки танцуй!
Она досадливо махнула рукой. Селифон гордился будущим, словно оно было уже осуществлено.
3
После занятий Оля оставалась одна в своей маленькой комнате. Приходила самая трудная пора дня — время мыслей и воспоминаний. Очень плохим собеседником была она для себя, недобрым и несправедливым. Оля не любила этих пустых часов, работа и общение с людьми были единственной защитой, крохотная стопочка книг давно была зачитана. И Оля расхаживала по стойбищу, забиралась в чумы, где жили ее ученики. Потом она сообразила, что лучше собирать в вечерние часы ребятишек в школу, тут горела лампа, было светлее, нежели в чуме, освещенном одним костром или жировой плошкой.
Девочки приносили шитьё, разрисовь!вали красками кожи, вырезали узоры — Оля поражалась точности и изяществу их работы. Это были орнаменты, аппликации и бисер, всюду бисер, цветной, ярчайших красок. Лучше всех работала одиннадцатилетняя Анна Окуо, это была уже мастерица, на ее работу заглядывались другие девочки. И сама она была хороша — серьезная, с продолговатым лицом, с глазами, полными черного сияния. Оля любовалась ее длинными ресницами, тонкими бровями. Как-то она шутя назвала ее красавицей. Девочка вся зарделась, другие тоже обрадовались за нее — это слово все понимали. Аня и в классе занималась лучше всех: она с таким старанием вычерчивала буквы, словно вырезала ножом орнамент. Другие ученики вскакивали с мест и заглядывали в ее тетрадь — у них дело шло плохо, они шумно одобряли ее умение.
Олю поражало строгое разделение труда у мальчиков и девочек — они никогда не делали одного дела, даже сторонились друг друга. Мальчики возились с нартами, обрабатывали дерево, вили арканы. Самый умелый из них был Ядне Нонне, рослый живой подросток. Года два назад, в начале войны, он учился в интернатской школе, но все перезабыл и теперь начал сначала. Никто не умел так вырезывать по кости, как он. Его бык, опустивший вниз голову, был удивительно выразителен, напряженная шея сразу показывала, что снег глубокий и ягель достать нелегко. Эту статуэтку из моржовой кости Оля поставила в свою комнату, у зеркала, и часто ею любовалась.
Шел октябрь, была уже настоящая зима. Снегу выпало немного, но его схватили морозы, он сухо скрипел под валенками. День свертывался и серел, он был похож скорее на сумерки, чем на день. В первое время пребывания Оли в стойбище солнце еще показывалось над землей, теперь оно ушло — полярная ночь повисла над горами и тундрой. Вначале Оля не обнаружила в ночи ничего страшного. Она даже была разочарована — в окна комнаты в полдень лился тусклый свет, можно было читать. А по небу бегали какие-то неопределенные блики, оно слабо просвечивало неясным свечением, то желтело, то тускнело — ничем это мерцание не напоминало прославленное полярное сияние.
— У нас на юге ночи значительно темнее, — сказала Оля Селифону. — Особенно летом. Ты не представляешь, какая чернота кругом — руку протянешь, пальцев не видишь! Внизу темь, как бархат, а вверху — яркие звезды.
Селифон с воодушевлением кивал головой, его радовало, что наступающая ночь не пугала учительницу. Он по-прежнему все сводил на любимую тему: у нас хорошо, тебе понравится. Однако он осторожно предостерег Олю:
— Нгуту китеда — осени месяц. Ночи нет, долго нет. Потом тоймарунгда, темный месяц, ничего не видно. Очень холодный месяц, мороз! — И, спохватившись, что она может испугаться, он поспешно добавил: — Ничего, Ольга Иванна, дров много, будет тепло. — Он, видимо, считал самым страшным в зиме мороз, а не темноту, и старался уверить учительницу, что мерзнуть ей не придется.
Дров вправду было много. Все мужчины в стойбище занимались заготовкой топлива — ежедневно в лес уезжали нарты по дрова: хворост, береза и лиственница высились кучами у каждого чума. Оля уже не вспоминала с горечью пионерские костры — она при желании могла развести любой огонь, исполинское пламя. Но у нее не было такого желания. Марья Гиндипте не отходила от печки. Страдая от жары, Оля не раз останавливала Марью. Та только смотрела недоумевающе, что-то бормотала и продолжала топить с прежней яростью — у нее не укладывалось в голове, что люди могут отказываться от тепла, тепло зимой было высшим благом, чем его больше, тем лучше. Оля старалась не спорить с ней и не подходила к печке близко.
Однако настал день, когда Оля в испуге обхватила печку, всем телом вбирала угасающее тепло. Это была первая пурга, обрушившаяся с запада. Она началась вечером, после занятий, стены школы затряслись под нажимом ветра, в воздухе грохотало, дико выло и шипело. И сразу же сквозь незаделанные мельчайшие щели в комнату стал набиваться снег — он ложился нетающей массой на пол, оседал на книгах и мебели. Все тепло мгновенно выдуло. Оле казалось, что в помещении так же холодно, как и снаружи. Единственным источником жизни была печка, и Оля и Марья жались к ней. Пурга выпала долгая. Оля засыпала и просыпалась, а ветер все бушевал. Потом кончились дрова, выйти было невозможно — двери завалило снегом. Так они провели неопределенное время. Оля больше всего жалела о том, что у нее нет часов и она не может установить, сколько же они сидят взаперти. Оля думала о своих учениках: если ей худо в деревянной избе, каково же им приходится в легких чумах? Она уставала от этих мыслей, от грохота, от холода. Оле уже казалось, что они так и замерзнут, покинутые всеми. Она не заметила, как стал спадать рев бури, но сразу услышала посторонние звуки — их откапывали. Первым в класс проник Тоги, потом Ядне, Селифон появился за ними с охапкой дров.
— Худо было, Ольга Иванна? — спрашивал он с сочувствием. — Страшно было?
Она ответила, жадно глядя на дрова, она желала только огня:
— Думала, совсем замерзнем. Ради бога, скорее затопите. — Протянув руки над печкой — гудение пламени заглушило еще неутихший грохот ветра, — она устало спросила: — Долго длилась пурга, Селифон?
— Два дня, Ольга Иванна. — Он стал оправдываться: — Очень злая пурга, Ольга Иванна, нельзя было выйти, ты не сердись. — Он пожаловался: — Олени разбежались, надо искать — волки нападут.
После пурги настали хорошие дни, тучи разогнало, неяркие звезды висели над тундрой. В полдень слабый рассвет ложился на холмы и, не перейдя в полный день, снова тускнел и стирался. Рассвет с каждым днем становился короче и серее, ночь — темнее и продолжительней. Уже не тусклые блики, а целые потоки сумрачного света метались в небе — полярное сияние разгоралось, делалось ярче и великолепней. В небе совершалось призрачное празднество, оно начиналось вскоре после наступления темноты — с запада на восток мчались красные, синие, желтые и оранжевые потоки, небо вспыхивало и трепетало. Оля выбегала наружу, запрокидывала голову, глаза ее нетерпеливо вбирали буйное цветение красок, их мгновенные изменения — земля, мертвая, маленькая и темная, терялась под этим лихорадочно живым небом, свет, низвергавшийся сверху, только усиливал темноту внизу. Это было удивительно: все кругом сияло, озарялось, а тьма сгущалась. Оля пыталась прочесть под полярным сиянием несколько строк и не смогла. Она поделилась своими наблюдениями с Селифоном, он не согласился с ней.
— Очень хорошо — сияние! — сказал он рассудительно. — Едешь — оленя видишь, камни видишь. Когда тучи — быстро ехать нельзя.
Сияние светило не всегда, после полуночи оно обычно стихало. Много часов в сутках, весь предрассветный период, были темны глухой темнотой, чуть лишь смягченной мерцающей белизной снега.
Ученики приходили в школу примерно в одно время. Иногда их шумное вторжение будило Олю, запутавшуюся в часах дня и ночи. Перерыв на обед Оля устраивала, когда рассвет превращался в тьму, тут она ни разу не спуталась. Дети с криками разбегались, а она поднималась на пригорочек около школы, самое высокое место в стойбище. Отсюда хорошо был виден открытый юг, горы на остальных частях света. Оля глядела все в одну точку — на юг, на безмерную снежную равнину. Здесь небо было иным. Везде оно казалось темным и угрюмым, а тут светилось — солнце пробивалось к горизонту и, не пробившись, снова опускалось вниз. Это были его невидимые лучи, отблеск его сияния, совсем не похожего на то, что неистовствовало и торжествовало в ночи: оно не пульсировало и не билось, но тихо и ясно пронизывало небо — это был свет, а не фейерверк, радостный, настоящий, но все более стирающийся день. Оля глядела на юг, прощалась с днем и не могла проститься. А юг все менялся, вначале там было золото, золото тускнело, потом оставались только красные пламена, зарево невидимого пожара. Наступил момент, когда и зарево не появилось. Оля терпеливо ждала — где-то раскидывался по земле широкий день, не может быть, чтоб до нее не донеслись его отблески, хотя бы слабые лучи, протянутые к ней в ее нынешнюю темноту и одиночество, как рука друга. Но небо на юге только побелело, ни одна яркая вспышка не окрасила его угрюмой серости.
Оля медленно поплелась к дому. Она зябко куталась в новенькую великолепную малицу, сшитую Марьей Гиндипте, ей было холодно, словно она шла нагая. Итак, день кончился, полностью кончился. Тоймарунгда — месяц тьмы: ночь, вечная ночь, полная мороза и ветра, лежит кругом!
4
Это было, вероятно, самое тяжкое из ее испытаний — испытание тьмой. Даже пурга не терзала ее так жестоко — пурга налетала и кончалась, ночь не проходила. Ничего Оля так на жаждала, как кусочка дня, — она была словно голодна отсутствием света. Кончая занятия, Оля тушила лампы, настойчиво вглядывалась в стекла окон, потом снова зажигала их — окна были не светлее стен. Скоро она перестала гасить лампу в своей комнате, она так и спала — при полном свете. Оля понимала, что с ней творится что-то неладное, это были нервы, следовало взять себя в руки. «Дура! — гневно кричала она на себя. — Нечего распускать нюни!»
В это темное время в стойбище возвращались одна за другой кочевые бригады: Надера Тагу, Якова Чунанчара, Бульчу Нинонда. Стойбище превратилось в большое селение, число учеников увеличилось вдвое. Среди других подростков появился и сын Селифона Недяку, живой смышленый подросток, уже обогнавший в росте отца. Он знал грамоту и скучал с малышами. Оля с тревогой видела, что одного класса уже не хватает. Взятые в Дудинке тетради кончились, не было простой бумаги и чернил. Оля сказала об этом Селифону-, тот только вздохнул — пора была не для дальних поездок.
— Поедем на факторию, Селифон, — предложила Оля.
Она помнила, что там работает Прокопий Григорьевич Жальских. Этот человек выразил ей однажды сочувствие, прислал подарки, ей хотелось повидать его.
Селифон решил после короткого раздумья:
— Тоги поедет с тобой, Ольга Иванна. Собирайся, Ольга Иванна, Тоги скоро будет.
Оля побежала одеваться. Тоги пригнал самую большую из нарт — с передком и задником, с ножным мешком и пышным меховым пологом, прикрывшим Олю лучше шубы. Оля взяла в руки хорей и вожжу, она уже научилась править упряжкой, хотя еще побаивалась оленей. Селифон запряг самых смирных важенок. Тоги ехал впереди, за ним шли нарты с мехами, Оля замыкала аргиш. Она скоро убедилась, что ее искусства не хватает даже на то, чтоб не отстать от передовых упряжек. Она ничего не видела в темноте, всякая ее попытка командовать оленями только путала их. В отчаянии она крикнула Тоги, чтоб он не торопился. Он сурово возразил:
— Пурга поднимается — пропали. Пусти оленя.
Она опустила хорей на колени, так в самом деле было лучше — без ее команды олени шли быстрее. Потом вспыхнуло сияние, и Оля убедилась, что Селифон был прав: она хорошо видела теперь и оленей и близкие предметы. На следующем перегоне она рискнула снова править в сумрачном свете, низвергавшемся цветным водопадом на землю, это было уже не так трудно. Оля неслась вслед за Тоги, морозный ветер бил ей в лицо, она отворачивалась, подставляя ветру меховой капюшон. Оле начала нравиться бешеная езда в темноте, это было все ново и хорошо. «Лучше, чем на лошадях», — подумала она и радостно засмеялась, вспомнив, какой мучительной показалась ей сначала поездка на оленях.
В факторию они добрались на вторые сутки. Оля мужественно держалась на ногах. Фактория представляла несколько изб на высоком берегу замерзшей реки. Жальских, заслышав голоса и скрип полозьев на снегу, вышел им навстречу. Это был плотный мужчина с толстыми губами, с темным лицом. Он с силой тряхнул Олину руку, заглянул ей в лицо.
— Учительница! — сказал он одобрительно. — Слышал, слышал — Селифон нахвалиться не может. Вот ты, значит, какая — совсем пацанка. Ну и как — не страшно?
— А чего страшиться — человек везде проживет! — возразила она весело. Она прибавила с благодарностью: — Кстати, спасибо за ваши подарки, было очень приятно.
— Пустяки — подарки! — отмахнулся он. — Понравилось, ну и ладно. Между прочим, бумажки к тебе есть, ждал только оказии передать.
— Какие бумажки? — заволновалась Оля.
Ей представилось, что это письма, одного обещанного письма она, во всяком случае, ждала. Но он протянул ей кучу служебных отношений, на каждом конверте стоял официальный штамп. Все бумаги были интересны, многие просто растрогали Олю. Оказывается, она была не одна, о ней думали, старались ей помочь — тут были важные указания, советы, списки товаров и принадлежностей, добытых для ее школы, — пришлют с весенним санным путем. Заведующий окроно писал ей дружески: «Не теряйте бодрости в вашей глубинке, товарищ Журавская». Он интересовался красным чумом — не подняла ли Оля это нужное дело? В одном письме ей строго пеняли, что она не посылает запрошенных данных о поголовье оленей, итогах летних кочевий и ходе пушного промысла. В конце автор письма предупреждал: «Если немедленно не пришлете данные, принуждены будем вынести выговор». И подписался: «И. Кравченко». Оля раскраснелась от чтения, даже этот грозивший ей выговор показался ей чем-то приятным, если она будет плохо работать, у них у всех появятся затруднения — так она поняла угрозу. Зато, читая последнее письмо, Оля поеживалась. Оно было от секретаря окружкома комсомола. Он удивлялся, почему Оля не пишет о своей работе, спрашивал, как с комсомольской организацией: «Высылаю анкеты», — сообщал секретарь.
— Получай барахло — тоже твое! — проговорил Жальских, вываливая на стол кипу газет и книг. — С каждой почтой прибывает, а от вас никого нет.
Оля с восторгом ухватилась за посылки. Но возиться с книгами не пришлось — Тоги позвал ее забирать товар. Она отобрала тетради, спрятала в сумку пакетик с чернильным порошком и карандаши. Тоги увязывал в тюки полученные муку, чай и охотничьи припасы. Он попросил немного спирта за привезенные меха, Жальских в спирте отказал. «За это нас — знаешь?» — сказал он значительно. Оля удивленно осматривала полки — они были забиты разнообразными товарами, она давно уже не видала такого богатства.
— Вашей лавке позавидует лучший магазин в любом городе, — сказала она.
Жальских с гордостью подмигнул ей:
— Север! Для нганасан твоих не жалеют, поднимают народец к культуре. — Он ткнул ногой мешок. — Вот она, беленькая мучица, кто ее по нынешнему времени ест на материке, а тут — пожалуйста! — Он посмотрел на сосредоточенно работавшего Тоги и предложил: — Айда в контору — чай пить! Освободится твой паренек, компанию составит.
Оля пила чай с настоящим вареньем, ела мягкий хлеб с маслом — она уже успела отвыкнуть и от хлеба и от запаха масла. Жальских широко раскрывал рот, громко чавкал. Он подкладывал Оле лучшие куски, сам намазывал маслом, наливал чай.
— Девка ты вроде неплохая, из себя ничего, а пропадешь среди оленей! — вздохнул он. — Сама приехала или привезли?
— То есть как это — привезли?
Он спокойно пояснил:
— Обыкновенно — под дудергой. Ты впереди, а сзади конвой. И я так прикатил — с собственной охраной, как граф. На воле работал заведующим в магазине, при ревизии обнаружили недостачу тысяч на двадцать — дело не шуточное, сама понимаешь. На суде пять лет схватил, отсидел в лагере от звонка до звонка. В прошлом году вышел, по старой специальности определился — к товарам поближе.
В конторку вошел Тоги и присел к столу. Оля с нетерпением ждала дальнейшего рассказа, она боялась, что при Тоги Жальских больше не захочет рассказывать. Она робко поинтересовалась: неужели он пять лет провел в лагере, по лицу его она не сказала бы, у него цветущий вид. Он довольно усмехнулся.
— Ас чего лицу меняться? Ты думаешь, лагерь — живодерня? Место как место — работают, спят, кушают, в кино ходят, даже подработать возможно. И насчет бани не сомневайся — каждую декаду. Многие — из блатных — рассуждают так: кому лагерь, а кому дом родной. Ну, это, конечно, только они — нашему брату без воли тошно.
Жальских говорил с равнодушием, отличающим обыденную, всем надоевшую правду, — он словно даже гордился, что сидел в лагере. Но ей это казалось удивительным.
— Почему вы не поехали на материк? — спросила Оля. — Здесь же ужасный климат.
Жальских громко захохотал, словно она сказала что-то очень смешное.
— Климат, говоришь? Холод, точно. А на материке сейчас жарковато. Да и голодно. Тут у меня все есть — никогда еще так не жил. — Он хвастливо показал на склад. — Думаешь, просто было? Семь потов пролил, пока броню выдали. Идут на жертвы ради твоих олешек — умный человек этим пользуется.
Тоги допил чай и накинул на голову капюшон. Он сказал, по обыкновению, немногословно:
— Поехали, Ольга Иванна.
Жальских вышел их провожать. Он помог Оле влезть под полог, заботливо ее укутал.
— Приезжай, соседка! — сказал он на прощание. — Гостем будешь, всем, что имеется лучшего, угощу — не пожалею. И учти, с каждой почтой тебе что-нибудь присылают — забирать надо.
— Вы тоже к нам приезжайте, — пригласила Оля. — Угостить и мы сумеем. Школу нашу посмотрите.
— Обязательно прикачу! — пообещал он.
5
Теперь не хватало времени на еду и сон — кроме обычных занятий, приходилось разбирать литературу и журналы, отвечать на письма. Оля накинулась на газеты, как голодный на хлеб. Она сама удивилась — раньше она была к ним равнодушна, просматривала только последние страницы, сейчас все казалось захватывающе интересным. Оля разложила газеты по номерам, читала в строгом порядке. Жизнь всего мира, жизнь большой, напряженно работающей, страдающей и творящей страны пахнула на нее горячим дыханием. На нашем фронте было затишье, на западе первые успехи союзников сменились поражением — немцы снова гнали англичан и американцев назад, занимали Арденны. Но по всему было видно, что это последняя судорога смертельнораненого зверя, война шла к концу. В окружной газете — эту газету Оля читала после центральных — она неожиданно нашла заметку о себе. «В самом дальнем стойбище Таймырского национального округа открылась школа» — таков был заголовок. А дальше сообщалось, что занятия в новой школе проходят успешно, молодая учительница Журавская пользуется авторитетом, назывались и лучшие ее ученики — Анна Окуо, Нгоробие Чунанчар, Недяку Чимере, Ядне Нонне. Энергичный председатель колхоза нганасан Селифон Чимере оказывает школе большую помощь. Писали и о нуждах — школе требуются стройматериалы, учебники, тетради, очень трудно без часов — этого тоже не забыли, все было правильно.
Оля кинулась к Селифону с газетой.
— Смотри, Селифон! — кричала она, ворвавшись в чум. — Смотри, о нас пишут, о нас с тобой, Селифон!
Он обрадовался еще больше, чем она.
— Откуда они знают? — удивлялась Оля. — Все точно, просто поразительно!
Селифон припомнил, что в одну из поездок на факторию он встретился с молодым человеком, тот так и назвался — работник газеты. Он расспрашивал Селифона о жизни в стойбище, что-то записывал. Оле вдруг показалось, что это был Сероцкий — какой еще сотрудник газеты мог забраться в такую глушь? Селифон описывал корреспондента — низенький, худой, в очках, на Сероцкого это не было похоже. От разочарования Оля перестала радоваться газете. А Селифон, воодушевившись, заговорил о клубе и электрическом свете.
Оля сердито оборвала его:
— Лучше скажи, где я устрою читку газет? Сколько говорили о красном чуме!
Селифон сразу остыл. Ему не хотелось сейчас заниматься красным чумом, неотложные дела мешали этому. Он сказал просительно:
— В школе устроим, Ольга Иванна.
Это были первые читки в стойбище, первые читки в ее жизни — Оля волновалась перед ними больше, чем на экзаменах. На этот раз в классе сидели одни взрослые, народу было много — не хватало мест. Оля читала одну страницу за другой, давала подробные объяснения, отвечала на вопросы. Она вдруг со стыдом почувствовала, что ей самой многое неизвестно, часто она не знала, как доходчивей объяснить прочитанное. В газете, среди взятых трофеев, упоминались самолеты, автомашины и орудия. С орудиями расправиться было легко, она сказала: «Это очень большое ружье!» — и вскрикнула: «Паф!», изображая выстрел. Но с автомашинами было труднее, Селифон и Тоги видели их в Дудинке, остальным они были незнакомы. Оля долго путалась, описывая кузов, мотор и колеса, потом вдруг нашла подходящее объяснение:
— Автомашина вроде самолета, только поменьше и без крыльев — летать не может.
Все довольно закивали головами, шумно заговорили — самолеты часто летали в этом районе.
Одного вечера не хватило. После газеты наступила очередь журналов и книг. Оля читала каждый день, она уже рассматривала это как свою важную обязанность.
Перед сном Оля доставала полученные из окроно методические указания, размышляла над ними. Ничего похожего на то, что в них строго предписывалось, не было в ее уроках. От нее требовали системы, она должна была командовать педагогическим процессом — вместо этого она плыла по воле волн. Оля решила, что дальше так продолжаться не может. Первая же инспекция прогонит ее как никуда не годного учителя.
Она пошла на очередное занятие с твердым намерением придерживаться заданного плана. В классе было шумно и весело. Ядне, стоя коленями на скамье, рисовал в тетради медведя, над столом склонялось несколько любопытных голов, следя за его карандашом. Нгоробие в стороне складывал семь и тринадцать, ошибался и снова упрямо начинал счет. Аня переписывала из книжки буквы и картинки — все подряд. Картинки давались ей легче, она набрасывала их быстро и небрежно, а переходя к буквам, от усердия высовывала язык. При появлении Оли все закричали:
— Читать, Ольга Иванна! Про самолеты читай! Про войну!
Оля постучала по столу.
— Сегодня никаких читок не будет. Стыдно — никто еще не умеет писать! Вас интересуют только картинки и занимательные рассказы. С этим мы покончим. Прошу раскрыть тетради, будете списывать все, что я напишу на доске.
Ей пришлось повторить приказание — шум в классе не утихал. Недяку, приподнявшись, прикрикнул на непослушных. Сразу стало тихо — Недяку был самым рослым в классе, его все побаивались и слушались. Оля писала на доске простые слова и следила, чтоб ученики заносили их в тетрадь. На некоторое время все увлеклись этим занятием. Но тишины не было, то один, то другой возбужденно вскакивал и лез смотреть, как получается у соседа. Прождав немного, Оля потребовала тетради. Она смотрела написанное, ставила оценку. Нгоробие и Аня получили «пять», они были сильнее других в чистописании. Класс шумно приветствовал их успех. Недяку хохоча с размаху шлепнул Аню по плечу ладонью, она сердито посмотрела на него. В тетради Ядне Оля увидела криво написанные слова, составленные из неузнаваемых букв, и тут же великолепно исполненный рисунок чума с нартами и собаками — Ядне весь урок занимался рисунком, а слова списывал только, чтоб учительница не придиралась. Оля молча написала на странице большую двойку. Лицо Ядне жалко перекосилось.
— Ольга Ванна! — сказал он умоляюще.
— Иди на место! — приказала Оля. — Ты плохо занимаешься, Ядне. Мне очень жаль, Ядне.
Опустив голову, Ядне понуро поплелся за свой стол. На него глядели с сочувствием. Ядне сидел мрачный и подавленный, Оля занялась другой тетрадью. Ядне вдруг вскочил, закричал, схватил тетрадь и бешено стал рвать ее в клочья. На пол посыпались выдранные листья, Ядне яростно топтал их, плевал на них. Вслед им полетели карандаш и перо. Ядне потянулся к чернильнице, тогда Оля схватила его за руку. Ядне с силой вырвался.
— Недяку! — беспомощно крикнула Оля.:— Помоги, пожалуйста!
Недяку перебежал по столам и схватил товарища. Бешенство уже утихло в Ядне, он опустил голову на стол и громко зарыдал. От сочувствия к нему горько заплакала Аня. Нгоробие всхлипывал, другие тоже вытирали слезы. Оля прикрикнула на них, но ее не послушали.
— Ольга Ванна! — лепетал Ядне. — Не надо двойки!
Растерянная Оля сдалась.
— Ладно, я тебе ставлю тройку, только перестань плакать. Срам, взрослый мальчик, а слезы льешь, как ребенок.
Мгновенно успокоившийся Ядне поднял голову.
— Я перепишу, — сказал он горячо. — Ты мне четверку поставишь, хорошо?
Занятия по плану были сорваны. Оля не могла вспомнить, что она еще намечала. Со всех сторон опять стали кричать: «Читай, Ольга Иванна!» Оля взяла книжку. Она читала отрывки о штурме Марса отважными советскими людьми, о горестной и верной любви несчастной Аэлиты. Страница переворачивалась за страницей, бежали минуты, шел час, за ним другой. В классе было тихо, в Олю впивались нетерпеливые глаза, никто не шевелился, хотя они далеко не все понимали. Оля сказала, захлопнув книгу:
— На сегодня хватит. Завтра продолжим.
Вечером она оправдывалась в длинном письме, всю вину брала на себя. С систематическими занятиями у нее пока ничего не выходит. Она плохой педагог, неопытный и непоследовательный. Оля обещала исправиться, чуть сама не всплакнула над этим обещанием.
Среди других тревоживших ее забот было задание создать комсомольскую организацию — письмо секретаря, лежавшее на столе, напоминало ей об этом каждый день. Оля заговорила с Селифоном, тот удивился:
— Зачем спешишь, Ольга Иванна? Только мой Недяку комсомолец, других нет. Придут из интерната, там много комсомольцев.
— Год ждать, пока они придут, — сказала Оля с досадой. — Незачем нам год терять.
После занятий она позвала к себе Недяку.
— Где ты вступил в комсомол? — спросила она.
— В Волочанке, в школе, — ответил он. — А что, Ольга Иванна?
Она объяснила:
— Нужно нам свою организацию создавать, а нас пока только двое комсомольцев — ты да я.
— Возьмем Ядне, — с воодушевлением закричал Недяку. — Ядне все умеет, Ольга Иванна, — дикого стрелять, рыбу ловить, маут кидать — все-все, Ольга Иванна!
Оля колебалась.
— Молодой он, наверно, не больше тринадцати. Такому в пионерах ходить. И плачет по пустякам.
Недяку с жаром доказывал, что Ядне совсем не молод, вон он какой рослый, выше многих мужчин. На следующий день Оля оставила после занятий Недяку и Ядне и сама заполнила анкету, так как Ядне не умел писать. В графе о возрасте вступающего в комсомол она твердо написала: 15. Это было первое заседание вновь созданной организации. Олю единогласно выбрали секретарем. Она представила на обсуждение разработанный ею план работы. План утвердили без долгих прений. В этот вечер Оля, наконец, села за ответное письмо секретарю окружкома. Она сообщала ему, что организация у них пока немногочисленная, но боевая, такой организации по плечу серьезные задачи.
Грозному автору хозяйственного письма она отвечала вместе с Селифоном, Тоги и Надером, они диктовали, она записывала. Она, впрочем, не всему верила. Селифон, увлекаясь, называл высокие цифры, бригадиры его одергивали.
— Пиши: три тысячи гусей! — кричал Селифон. — Пусть в Дудинке знают, как прошла летовка.
— Пиши: тысяча, Ольга Иванна! — советовали Тоги и Надер. — Тысяча — хорошо!
Оля писала две тысячи, такая цифра казалась ей ближе к истине. Иногда она сердилась — ну, на что это похоже, это не статистика, а гадание на кофейной гуще. Тоги и Надер не знали, что такое кофейная гуща, они недовольно сопели, Селифон упрямо требовал:
— Пиши, Ольга Иванна! — и добавлял с неизменным торжеством: — Самая настоящая статистика!
Оля понимала, что он во всем преследует одну цель — сделать так, чтоб их поселение считалось самым зажиточным и крупным на Крайнем Севере, чтоб все его уважали — и соседи и начальники в далекой Дудинке. Когда дело подошло к оленям, Оля категорически потребовала точных цифр. Она попыталась сама сосчитать стада, но тут же отказалась от этого: подобное занятие требовало по крайней мере недели — олени разбрелись мелкими партиями по ягельникам, в темноте их не было видно, а пастухи, зная каждого оленя в отдельности, не представляли, сколько их в целом. Она прибегала к удивительной памяти нганасан, она давно убедилась, что любой из них легко запоминает в десятки раз больше предметов, чем она. Надер и Тоги называли оленей, она записывала.
— Картада, олень с ветвистыми рогами, — говорили они. — Старый — один, молодой — три, с пятном на лбу — два, бык, который подрался с диким, — один, еще два, которые убегали, — девять, пиши, Ольга Иванна. Кума с простыми рогами — пять. Бангка однорогих — четыре, Ольга Иванна.
Они вспоминали долго, перечисляли оленей с близко сдвинутыми рогами, с широкими и узкими, с обломанными, с рогами вперед, упряжных и верховых, одногодок, двухлеток, трехлеток — для каждого типа животных были свои особые названия. Оля пыталась запомнить их и поразилась — тридцать разных слов описывали оленей, в некоторых стадах животных было меньше, чем имелось названий. Два вечера длилось это перечисление. Когда оно закончилось, Оля знала, что записанная ею цифра — полторы тысячи голов — на этот раз не очень отличается от истины.
Она протянула Селифону целую пачку писем — ответы всем, кто ей писал.
— Очень важно, Селифон, чтоб все это было срочно передано на факторию, у них имеется регулярная связь с Дудинкой.
Он довольно кивнул головой.
— Сам отвезу, не сомневайся, Ольга Иванна!
6
Среди множества новых дел Оля как-то незаметно перестала следить за все более темневшим горизонтом. Память сохраняла ей безрадостную картину — полдень и ничего не видно, север, восток и запад черны, юг тронут болезненным рассветом, сумерками ушедшего под землю дня. Оля теперь старалась не выходить наружу, там было холодно и темно, непробиваемая ночь разлеглась кругом — ну и пусть, живут же люди в ночи, она тоже проживет. Это было горькое утешение, но оно действовало. Оля понемногу примирилась с тем, что надо двигаться, работать, есть при полной темноте.
И когда в свободное воскресенье, вскоре после Нового года, Оля вышла днем на воздух, ее поразила перемена, совершившаяся в природе. Над сумрачной белой землей и горами светлело тонкое небо, звезды исчезли, несколько желто-красных тучек недвижно стояли в вышине. А на юге зелень смешивалась с синевой, багровое пламя пронизывалось золотом. Это был узкий кусочек горизонта, точка, куда неудержимо пробивалось солнце, — краски жили, менялись, сперва становились ярче, а затем потускнели. Тьма быстро наступала на этот клочок света, небо погасло, зарево скатывалось, как ковер. Глухая чернота с запада и востока сжимала светлое пятно на юге. Только прямо над головой, на черном пологе неба, еще пылали тучки, несколько светящихся золотом и багрянцем пятен — казалось, они распространяют свой собственный свет. Оля долго глядела вверх, у нее застыли ноги в валенках — кругом снова лежала тьма, даже юг был черен, а вверху по-прежнему торжествовали первые краски приближающегося дня.
— Как красиво, боже мой, как красиво! — бормотала Оля самой себе — ее душил восторг, это нужно было как-то высказать.
Оля кинулась в чум Тоги, вытащила Тоги наружу.
— Смотри! — крикнула она, ликуя. — Скоро будет солнце!
Он с удивлением поглядел на нее, потом снисходительно улыбнулся.
— Биерапсие китеда — восхода солнца месяц, — пояснил он. Ему был непонятен пыл, бушевавший в Оле. Тоги с недоумением рассматривал ее восторженное лицо. Он сказал хмуро: — Солнце много — хлопот много. Дел очень будет.
— Ах, ничего ты не понимаешь, Тоги! — возмутилась Оля. — Пусть больше дел, лишь бы солнце.
Дел, однако, хватало и в темные дни. Мужчины настораживали капканы для песцов, объезжали промысловые точки. Песца развелось в последние годы много, охота шла удачно. Селифон хвастался, что в эту зиму он вдвое перевыполнит спущенное ему задание. Он отвез меха на факторию, обменял их на муку и чай. В дороге он и Тоги чуть не погибли — ударила самая злая в эту зиму пурга. Оля не представляла себе, что ветер может нестись с такой бешеной скоростью. Он вырывал кусты с корнями, ворочал крупные камни. Временами, когда рассветало, был виден летящий снег, казавшийся проволочками, протянутыми параллельно земле, — мелкий и жесткий, он и ранил, как проволока, до крови расцарапывал кожу. Оля с содроганием думала о том, что сейчас делается в тундре. Здесь, в котловине, горы грудью принимали удар. Оля сидела у ярко пылавшей печки, составляла квартальный отчет, отдыхала. И снова она потеряла счет времени, однообразный грохот сотрясал стены, часы шли за часами — сколько их было? На этот раз школу не завалило снегом, но Оля даже не пыталась выбраться наружу — ветер с силой отрывал человека, уцепившегося обеими руками за дверь. На третий или четвертый день пурги в школу пробрались Надер Тагу, Ядне и Недяку. Оля с радостью встретила их — смелое лицо Ядне пылало радостью, Недяку тоже гордился, что пришел выручать свою учительницу и секретаря.
— Селифон поморозился, — сообщил Надер. — Тоги поморозился. Пурга нарты опрокинула, еле добрались.
Недяку успокоил встревоженную Олю — Селифон лежит у себя в чуме, он поправляется. На следующий день детишек пришло больше. Ветер еще мел землю, а занятия возобновились, приходили не только мальчики, но и девочки. Это был месяц бурь — за две недели раз десять налетала пурга, но только одна из них, первая, была такой свирепой и долгой — остальные налетали на два-три часа, стремительно нарастали и круто обрывались. Температура во время пурги повышалась. У Оли был термометр — один из трофеев ее вылазки на факторию. В безветренные дни спирт падал до минус шестидесяти, в бурю он поднимался до минус двадцати. Жесткий мороз казался Оле менее страшным, от него хорошо защищала меховая одежда — защиты от пурги, кроме стен, не было.
В один из спокойных дней, наступивших после периода пурги, в стойбище примчался Жальских. Недяку просунул в дверь учительницы голову в капюшоне, взволнованно крикнул:
— Ольга Иванна, скорее к Тоги, отец приказал — очень скорее!
В чуме Тоги по случаю приезда важного гостя собралось много народу. На почетном месте, у очага, сидел Жальских, по обе стороны располагались Селифон и Тоги. В чуме шло веселье — на полу стояли бутылки со спиртом, лица у всех были красные и возбужденные. Жальских поздоровался с Олей.
— Обещание сполняю, учительница, — приехал в гости. Вот с олешками твоими песцов обмываем.
Она с возмущением посмотрела на него. Только сейчас она поняла, что он называет олешками нганасан. Жальских протянул Оле кружку с разведенным спиртом.
— Пей за наше здоровье, а мы за твое выпьем.
Она отказалась, в чуме поднялся шум, ей отовсюду кричали умоляюще и жалобно: «Пей, Ольга Иванна, пей с нами!» Селифон сказал нетвердым голосом с глубокой печалью:
— Ольга Иванна, зачем брезгуешь? Праздник у нас!
Она еще колебалась, теперь и женщины упрашивали её, у каждой в руке была кружка со спиртом. Ей стало совестно, могли в самом деле подумать, что она гнушается компанией. Спирт обжег горло, Оля со стоном схватилась за строганину. В голове все быстро замутилось, она продолжала усердно есть, стойко сопротивляясь опьянению. На остальных спирт подействовал еще сильнее, чем на нее, все сразу захмелели, кто обессилел и свалился на меха, кто зашумел и загорланил песни. Селифон с горящим лицом спорил с Тоги. Глаза Тоги злобно сверкали. Жальских с насмешкой обводил взглядом чум.
— Детишки вроде! — сказал он с презрением. — Выпьет на копейку, развезет на рубль. Да, передача тебе имеется — принимай письма.
Он вытащил из кармана перевязанный бумажный пакет. Оля схватила его и, колеблясь, посмотрела на веселящихся — ей хотелось немедленно погрузиться в чтение, но было неудобно уходить. Жальских дружелюбно кивнул ей головой.
— Да иди ты, не волнуйся — олешкам твоим не до тебя.
Оля вбежала в свою комнату, даже не затворила двери и стала разрывать пакет. Она знала, что в нем должно быть письмо от Сероцкого, на этот раз он вспомнит ее, пришлет весточку. Но из пакета посыпались официальные отношения, ответы на ее недавние послания. Она уронила их, бумаги падали на пол, на стол, на колени — Оля не поднимала их. Она долго сидела у стола, осунувшаяся, усталая, глядела сухими глазами на огонек лампы.
— Ну и не надо! — сказала она горько. — И думать о тебе не хочу!
Оля вскочила со стула, собрала бумаги. Голова ее кружилась все больше. Она вспомнила, что пьяна и все кругом пьяны — идет веселье в колхозе, первое веселье в эту зиму. Из стойбища доносились крики, визг, топот ног — кто-то танцевал в темноте на морозе, кто-то бил в бубен. Оля лихорадочно схватила свой чемодан, торопливо открыла его, рылась в белье. Там, на дне, в чистой наволочке лежит главное ее богатство — новое платье, только раз она его надевала — на выпускной вечер, да и то все тогда были в пальто, зал не отапливался. Она сбросила с себя малицу и кофту, быстро продела руки в рукава, стала перед зеркальцем — да, все в порядке, платье как раз по фигуре, даже лучше, чем было прежде. Сейчас она возвратится в чум, будет петь и танцевать со всеми, пусть смотрят, какая у них учительница, пусть радуются ей. И она порадуется со всеми, нужно радоваться — праздник!
Оля вдруг опустилась на пол в своем нарядном платье, уткнула голову в мех постели. Она громко рыдала, руками закрыла лицо. Зачем ей праздник? Зачем ей новое платье? Кому она хочет понравиться, все ей противно, она никому не нужна! Как она мечтала все эти дни, всю эту бесконечную ночь, в часы пурги и мороза! Нет, она не просила, он сам обещал, сам, никто не тянул его за язык! Она знает — нелегко добраться к ней, очень нелегко, но записку можно же послать, два-три слова, всего два-три слова. В каждом слове она видела бы его лицо, слышала его голос. Так немного ей нужно, и кончится ее одиночество — с ней будет он. Плачь, глупая, плачь, никого не будет!
7
Оля подняла голову — грудь еще ныла, но слез больше не было. Шум в стойбище становился громче. Она присела на кровати, вытерла мокрое лицо, попудрилась перед зеркалом. В классе загремели тяжелые шаги, кто-то рванул незапертую дверь. Испуганная Оля попятилась — в комнату вошел Жальских. Он ошеломленно уставился на ее платье, обводил глазами стены — лицо его выразило восхищение.
— Ну и каморка! — сказал он, присаживаясь без приглашения. — Что значит женщина: у самого полюса устроит себе райский уголок. И нарядилась — прямо на бал! В таком платье и в Москве не потеряешься!
Он все не мог отвести от нее изумленных глаз. Она начала краснеть. Он вдруг спохватился и встал, теперь в голосе его слышалось уважение, он перешел на «вы»:
— Простите, Ольга Ивановна, что без приглашения, мужик мужиком. Если случайно стесняю, можно и отправиться восвояси, вы не сомневайтесь!
— Нет, что вы! — сказала она. — Присаживайтесь, пожалуйста!
Жальских снова присел у стола. Он все не мог отделаться от потрясения, вызванного убранством комнаты и нарядным видом Оли. Он говорил о своих делах, а глазами скользил по стенам, выразительно поглядывал на Олино платье, непрестанно возвращался все к тому же.
— Устроилась! — сказал он одобрительно. — Ну, не знал, что так живешь, — давно бы прикатил в гости! Сами мы, знаешь, как: шкуру под голову, шкуру на себя — порядок. А взамен занавесочки снежок, за зеркальце — ледок идет, все честь по комедии. Одно понимаем: живот набивать, тут не скупимся. — Он покачал головой, жалея самого себя: — Сказано: человек что птичка, нажрется, как свинья, и доволен! — Он вдруг резко оборвал себя: — Болтаю я, а ты что-то скучная? Или письма нехорошие? Начальники выговор влепили? Ты не огорчайся: начальник для того и вознесен, чтоб выговора сеять, иначе откуда же высота его людям увидится? Так письма, что ли?
— Письма плохие, — подтвердила Оля, с трудом сдерживая новые слезы. — Выговоры — за то, что дура. Теперь умнее буду.
— Умной быть — не вредно, — заметил он, внимательно наблюдая ее лицо. — И начальникам внимания поменьше. Они свое, ты свое — так лучше.
— Так лучше, — повторила она мстительно. — Не думать ни о каких начальниках, делать свое дело!
— Во-во! — сказал он одобрительно. — Ия свое дело знаю — кто-кто, а я устрою… — Ему неудержимо захотелось похвастаться. — Спирт, что твои олешки пьют, чей? Личный, ни грамма государственного. Ну, и песцы, что за спирт пошли, — личные. И все довольны. Государству убытка нет, план пушнины перевыполнен, олешки веселятся, а мне тоже не горевать.
Он громко захохотал. Оля вспыхнула. Она сказала с гневом:
— Как это надо понимать — олешки? Почему вы оскорбляете людей ничуть не хуже вас самого? — Она закончила с негодованием: — Ненавижу, когда обижают других!
Он сразу осекся. Он уже жалел о своей невоздержанности. Жизненный опыт приучил его бояться всякой неприятности — черт его знает как пустячок обернется, и котенок может нагадить. Спьяну он сболтнул лишку, нехорошо, если она пойдет жаловаться. Он стал оправдываться:
— Да это я не со зла, глупая! Все так говорят — олешки… Слово такое — без обиды.
Она резко оборвала его:
— Никто не говорит, вы один. А если хотите знать, они лучше всех других людей, особенно тех, что ставят себя выше.
Он примирительно пробормотал:
— Ладно, не буду. Чего разошлась из пустяков?
Оля сердито отвернулась. Жальских видел, что гнев ее утихает — стычка была пустяковая, на самое главное девка, похоже, внимания не обратила. Он не удержался от своеобразного оправдания:
— Пойми, диковаты они нашему глазу. Бакари их возьми — разве на человеческую ногу похожи? Ни дать ни взять — конское копыто.
Она невольно рассмеялась — сравнение было метко, нога в меховых сапогах — бакарях — действительно напоминала копыто. Жальских повеселел. Он вытащил из кармана бутылку и со стуком опустил на стол.
— Вот так-то лучше. Давай выпьем за примирение. Учти: не спирт, а настоящее вино, как до войны, — портвейн.
Она колебалась, он сказал ласково:
— Чего сомневаешься? Думаешь — плохое что? От души к тебе я — соседи ведь, одни мы с тобой на краю света. Ребята наши на воздухе веселятся, им мороз привычнее, ну, а мы в твоих хоромах. А потом к ним выйдем, потанцуем под небесным сиянием.
Оля устыдилась своих сомнений. В самом деле, почему не выпить, все сегодня пьют, а у нее особая причина — хоронит глупые свои мечты, все, чем жила это время одиночества. Ей и вправду казалось, что она была бесконечно одинока и жила только этим — мечтами. Оля всхлипнула, накрывая на стол. Жальских налил два полных стакана.
— Скоро день. За день! — сказала она, поднимая свой стакан.
— Ладно, за день! — повторил он. — К чертям все ночи! До дна пей, а то солнце не встанет!
Он снова наполнил стаканы, предложил тост — за дружбу. На этот раз она выпила не все, но стакан ее не иссякал — Жальских подливал из бутылки и себе и ей. Ничего она так не желала, как опьянения, но опьянение не приходило, казалось, в вине не было градусов, его можно было пить, как крепкий чай, еще проще — не так стучало сердце. Оля заметила, что на столе появилась новая бутылка, и, сама себе удивляясь, — требовательно протянула к ней стакан. Жальских опьянел, лицо его размякло, стало грустным. Он жаловался на свою жизнь, печалился об Олиной жизни — еще никто так нежно с ней не разговаривал, не понимал с такой глубиной ее тоски, как этот грубый, малознакомый человек. Она не вслушивалась в значение его слов, но это было неважно — значение. Слова походили на дружескую руку, тихо гладившую ее по волосам.
— Бедные мы с тобой — одинокие, заброшенные, куда ворон не залетит! — говорил он. — А ты, Оля, всех беднее — нет тебе равной. Девка молоденькая, хорошенькая, тебе бы веселиться, парням головы кружить, а ты пропадаешь в черноте и на морозе. Вот поверь, плакать просто хочется, так тебя жалко.
Оля не выдержала, опустила голову на стол и заплакала. Она с отчаянием сознавала — это единственное, чем она спасается от всего, — слезы. Они легко лились у нее, еще с детства глаза у нее на мокром, месте — ну и пусть льются, она их не стыдится! Жальских пересел к ней поближе, гладил ее волосы. Его хмурый голос становился мягче и ласковей, он заговаривал ее горе. Оля чувствовала, что рука Жальских обнимает ее плечи, губы его легко прикасались к ее шее и щекам. Она толкнула его, крикнула: «Оставьте меня!», но у нее не хватило сил вырваться. Только теперь пришло настоящее опьянение, это было сладостное чувство бессилия, полудремота. Ей не хотелось поддаваться, она не могла противиться — голос жарко шептал ей в ухо, руки крепко обнимали. От всего она могла защититься: от мороза, от ветра, от полярной ночи, от одиночества, от этого же — от ласковых слов — защиты не было. Только когда он схватил ее на руки и понес к кровати, она на минуту сбросила овладевший ею дурман и стала отбиваться. Но Жальских все крепче обнимал ее, шептал все жарче и льстивей. Тело ее продолжало слабо вырываться, но мысли все более путались, новая мысль забивала все остальные: когда-нибудь должно же это случиться, пусть это будет сейчас, никому она не нужна, для кого себя беречь? Только еще одно слово нужно было ему сказать — простое, как воздух, необходимое, как воздух, слово. Она ждала этого слова, отчаянным взглядом всматривалась в склонившееся над ней искаженное страстью лицо. Но он так и не понял, как близок был к цели. Он знал, что нужно шепнуть что-то еще — важное и решающее, что-то такое, чтоб сразу она сдалась. И он стал говорить то, что ему самому представлялось самым важным, что составляло цель его собственной жизни. На минуту он даже ослабил усилия, покоренный своим великодушием.
— Все тебе дам, глупая! — шептал он горячо и быстро. — Мехами завалю, на факторию переведу, будешь целыми днями валяться на постели — слова не скажу. Пойми, дурочка, я же серьезно, ну, зачем так!
Эти слова не сразу дошли до ее сознания, они падали на нее, как кусочки льда на разгоряченное тело, — нужно было время льду растаять, чтоб раскрылся весь его холод. Она не смела верить, до того это было чудовищно далеко от того, что она ожидала. А он в своем ослеплении снова шептал то же самое. И тогда к ней вдруг возвратилась вся ее сила: отброшенный неожиданным толчком, Жальских отлетел от кровати, упал на пол. Оля вскочила, руки ее были прижаты к груди, лицо бледно — она вся была полна стыда и омерзения. И снова Жальских ничего не понял — ни ее вернувшейся силы, ни своего поражения. Ругаясь, он кинулся на нее, пытался поймать ее руки. Оля метнулась к столу, размахнулась — Жальских со стоном отшатнулся. Сжимая пустую бутылку, Оля с ужасом смотрела, как он медленно оседал на пол, цепляясь рукой за скатерть — стаканы и тарелки со звоном летели вниз. На мгновение ей представилось, что она его убила. Она хотела уже громко позвать на помощь. Но он с усилием поднимался, яростно матерился. Тогда она швырнула в него бутылку и выбежала наружу.
Оля бежала раздетая по стойбищу, не чувствуя пятидесятиградусного мороза, наталкиваясь в темноте на орущих, танцующих людей. Она влетела в чум Тоги и замерла — на полу стояли две бутылки со спиртом, в углу Тоги дрался с Селифоном, их с воплями и визгом разнимали. Оля пронзительно вскрикнула — все сразу шарахнулись в стороны. Тоги отскочил от Селифона. В молчании она надвигалась на Селифона, не понимая, что на нее саму смотрят с ужасом. Селифон заорал, рванулся к ней навстречу:
— Кто тебя обидел, Ольга Иванна, говори, кто?
Сейчас же к Оле подскочил Тоги, он с силой схватил ее за руку, дернул к себе — глаза его сверкали, лицо исказила ярость, он крикнул еще громче, чем Селифон:
— Кто, Ольга Иванна?
Оля уже готова была бросить в толпу ненавистную фамилию, но увидела в руке Тоги сверкнувший охотничий нож. Ее охватил страх — если она хоть что-нибудь скажет, Жальских уже не спасти от смерти. Оля схватила бутылку спирта — гнев еще бушевал в ней, нужно было освободиться от него — и с силой бросила на дрова. Звон разбиваемого стекла смешался с воплем, вырвавшимся из всех грудей. Когда она замахнулась второй бутылкой, десятки рук схватили ее. Тоги, в испуге выронив нож, с силой выдрал из ее сжатых пальцев спирт.
— Отдай, слышишь, отдай! — исступленно требовала Оля, наступая на него.
— Не дам! — отвечал он, опасливо отодвигаясь от нее. — Успокойся, Ольга Иванна.
Тогда она обернулась к Селифону, не помня себя, крикнула ему и всей толпе:
— Выбирайте: я или спирт. Больше этого безобразия не допущу — пастухи бросили стада, пьяные замерзают под открытым небом, вы деретесь. Если не дадите спирт, я завтра же уеду от вас! Слышите, уеду!
Она три раза прокричала это «уеду!». Селифон боролся с собой, он никак не мог решиться. С унынием и мольбой он протянул к ней руку. Оля круто повернулась и пошла к выходу. Она услышала громкий торопливый приказ Селифона:
— Отдай, Тоги, говорю, отдай!
Оля вырвала бутылку из протянутой руки Тоги, швырнула ее туда же на дрова, вызывающе поглядела на угрюмую толпу.
— Так будет со всяким спиртом, что появится в стойбище, — пить не умеете, не пейте! — крикнула она.
Селифон с сокрушением пробормотал:
— Две нарты пушнины дали — пойми, Ольга Иванна.
Она властно прервала его:
— Ничего не дали — заберите все назад! Пушнина ваша, она останется вашей. Жальских еще не уехал — снимите поклажу с его нарт.
В чум вошел Жальских, он слышал ее последние слова. Злая усмешка поползла по его лицу.
— Вот как — мое добро отбирать вздумала? — спросил он негромко. — А меня спросила? Вроде не мешает и поинтересоваться, может, я против.
Оля подошла к нему вплотную, за нею, охраняя ее, двигались молчаливой стеной все находившиеся в чуме. Жальских уже понимал, что его дело проиграно, теперь он искал приемлемых путей к отступлению. Сама этого не зная, она указала ему единственно возможный выход.
— Вот что, гражданин Жальских, — отчеканила она звенящим голосом, — выбирайте сами. Вы, конечно, можете увезти вашу добычу — вслед ей пойдет мое письмо с описанием всего, что здесь произошло. Спекуляция спиртом, незаконная скупка пушнины — думаю, пятью годами на этот раз не отделаетесь. Лучше будет, если сами возвратите, что получили.
Он все же минуту колебался — она не знала, какой кус вырывает из его рук, сколько усилий было потрачено, пока он овладел им.
— Ладно, ребята! — решился он наконец. — Я и сам подумывал об этом. Ну, что это за отоваривание — спиртом? Всякий придерется. Считайте, что я поднес вам из личного запаса. Кто совесть не потерял, сам поблагодарит потом да угощение. А пушнину забирайте, сдадите в счет плана будущего месяца.
Теперь Жальских стремился поскорее разделаться с этим неприятным делом. Он сам повел колхозников к своим нартам, сам взваливал тюки им на плечи. И так как больше всего на свете он ценил в себе превосходство над другими, то вскоре умилился своему поступку — такое добро без спору выбрасывает, кто еще решится на подобную штуку? Горечь от потери продолжала жечь его сердце, но к ней примешивалась гордость, он почувствовал некоторое удовлетворение от собственного размаха. В чуме он пренебрежительно толкнул ногой тюк с мехами и повернулся к Селифону:
— Смотри, что дарю, — ценить надо, какой человек Жальских.
А Оле он сказал без злобы, с хмурым одобрением:
— Ну и девка ты — огонь, впервые такую встречаю! — Он поглядел на ее разгоряченное, ставшее очень красивым лицо и добавил с сожалением: — Не везет мне, знаю, что дурак, нужно было по-другому — вцепиться и утащить на всю жизнь, рук от тебя не отпускать, глаз не отрывать.
— Глазами смотреть можешь, а рукам воли не давай! — отрезала Оля.
8
Это был первый день, когда она пропустила занятия. Ученики пришли и ушли, терпеливо прождав некоторое время, — учительница спала мертвым сном, добудиться ее не могли. Оля проснулась с тяжелой головой, со стоном потянулась к терпкому брусничному соку, любимому напитку, — брусники была заготовлена целая бочка, — потом позвала Марью.
— Неужели все ушли? — ужаснулась она, когда Марья рассказала, как долго ждали ее ученики.
Оля торопливо вскочила, стала одеваться — идти по чумам собирать детей. Но ее отвлекли вчерашние письма — аккуратно собранные Марьей, они стопочкой лежали на столике. Оля читала их, все более волнуясь, она сердилась на себя, что могла так бессердечно выбросить их, не проглянув. Чувство, испытанное раньше, возродилось. Это были дружеские руки, протянутые ей издалека, разные люди — многих она даже не знала — всячески старались ей помочь. Ее благодарили за интересную информацию, высоко оценивали ее деятельность, давали ей советы — очень важные советы, это она сразу должна была признать. Одно письмо приглашало ее на зимнее совещание учителей в Дудинке, открывающееся в середине января. Другое ставило ей на вид, что она на совещание не явилась, ее предупреждали, что подобное своевольство недопустимо. «Нужно вам сдружиться с учительским коллективом нашего округа, товарищ Журавская, вынести свои трудности на общий совет», — так кончалось это письмо. Кравченко тоже не забыл ее — требовал новых данных.
Оля, выйдя из школы, встретила Селифона и Тоги. Они шли хмурые и молчаливые к запряженным нартам — видимо, собирались куда-то уезжать. Не похоже было, что только вчера они бросались друг на друга с кулаками. Оля остановила их.
— Как себя чувствуете, товарищи руководители? — спросила она с упреком. — Не стыдно за вчерашнее?
Тоги угрюмо молчал, опустив вниз лицо. Селифон признался, сконфуженно улыбнувшись:
— Плохо, Ольга Иванна, голова болит.
Она безжалостно продолжала:
— Зато праздник у вас — оленей растеряли, подрались, ядом себя отравили. И за все это удовольствие чуть не отдали плоды всей зимней охоты. — Оля закончила: — Вы у меня в долгу — стройте красный чум, чтоб было, как у людей.
Селифон вопросительно посмотрел на Тоги, тот сразу оживился.
— Построим, Ольга Иванна, — сказал Тоги с необычной для него горячностью — он, похоже, испытывал облегчение, что можно этим отделаться за вчерашнее буйство. Он заверил Олю: — Всю бригаду соберу, сегодня начнем, Ольга Иванна!
— И вся ваша пушнина, которую чуть вчера не потеряли, пойдет на оборудование красного чума, так и знайте! — крикнула Оля им вслед.
Она была очень довольна, что, наконец, добилась своего. Оля посмотрела на небо — было совершенно светло, никакого намека на ночь: мощное сияние лилось на землю.
Оля направилась на свой любимый пригорочек. Теперь не только юг, но и север были пронизаны светом — уже не отблеск далекого дня наполнял пространство, это был ликующий, широкий, как мир, день. А на юге бушевал пожар, из-под края земли вырывались пламена и дым, их пронзало расплавленное, нестерпимо сиявшее золото — огромный венец, поднимавшийся в небо.
— Солнце, на днях будет солнце! — шептала Оля.
Ее сердце билось, ничего она так не ждала, как этой минуты — явления солнца земле.
Она раза два повторила эти слова и вдруг вскочила, пораженная новой мыслью: солнце будет не на днях, а уже сегодня, может быть, через несколько минут. В смятении она осматривалась — на горах лежал свет, но земля была еще темной, солнца не было. Оля повернулась к ущелью, полускрытому горой, — если солнце появится, то прежде всего там, в расщелине между горами. И когда в ущелье брызнули солнечные лучи и на снегу обозначилась желтая полоска, Оля закричала, в восторге затопала ногами. Полоска быстро побежала вниз по склону горы, медленно поползла по льду замерзшей реки.
Теперь Олю всю охватило желание глазами увидеть солнце, ухватить его руками. Она понимала, что сияющая полоска не доберется до ее пригорка, всего несколько минут отведено первому явлению солнца. Оля прыгнула вниз, скатилась с крутого склона, встала, снова упала. Она мчалась навстречу поднимающемуся солнцу, больше всего страшилась не добежать. И, свалившись на освещенное место, Оля в изнеможении опустила голову на снег. Золотой ободок озарил ее лицо, золотая полоса легла на руки — Оля, не закрывая глаз, глядела на солнце, упивалась им. Но полоса ушла вперед, ободок пропадал за краем горы. Оля вскочила со снега и понеслась обратно — сейчас она бежала за уходящим солнцем, стремилась снова ухватить его, пока оно не ушло под землю. И она нагнала солнце, опять обернула к нему лицо. Это был уже узенький краешек, он быстро вдвигался в гору. И когда он исчез совсем и только взметнувшийся красный пожар отмечал точку его ухода, Оля заплакала от счастья.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ СОЛНЦЕ НЕ ЗАХОДИТ
1
Теперь солнце показывалось каждый день, захватывало все большие пространства. Что бы Оля ни делала, она все бросала и убегала свидеться с солнцем. Эти минуты были священны. Но пока это были только минуты, даже полный диск не поднимался над землей — солнце выглядывало краешком и исчезало. Оле пришло в голову подняться на вершину ближайшей горы, оттуда можно было увидеть больше. Она отправилась в первое же воскресенье. Ее сопровождали два друга — Недяку и Ядне. Они вышли ночью и к рассвету добрались до вершины. В полдень выкатилось солнце и, быстро уменьшаясь, поползло вверх — целое, блистающее, глядеть на него уже было невозможно. Оля, зажмурив глаза, махала рукавицей, звонко кричала: «Здравствуй, солнце!» Недяку и Ядне прыгали около Оли и тоже кричали в восторге: «Здравствуй, здравствуй!» Возвратились они в стойбище в темноте. Оля, перед тем как повалиться на кровать, внесла запись о прогулке в журнал мероприятий комсомольской организации, а мальчишки побежали к приятелям — хвастаться.
Потом пришло успокоение. Солнце стало обычным, не обязательно было бежать сломя голову в ущелье, чтоб увидеть его. Оно принесло с собой новые заботы. Женщины шили одежду и обувь, готовили инвентарь, мужчины охотились на диких оленей и песцов, ходили с сетями на куропаток. Надер Тагу принес новость с охоты: стадо диких двигалось из леса в тундру — началась перекочевка дикого оленя на север. Селифон объяснил Оле, что скоро и им сниматься, приближается «тениптиди» — месяц черных деревьев, когда ветви освобождаются от снега: день идет на север, нужно спешить за ним, пока не настала жара. Оля удивилась: трещал пятидесятиградусный мороз, а если поднимался маленький ветер, погода становилась непереносимой, — вот уж не время говорить о жаре.
Олю пригласили в правление колхоза на важное совещание. Это было первое хозяйственное собрание, на котором она присутствовала. Оля приоделась ради такого случая. Собрание проходило у Тоги. Обширный чум был битком набит, пришли все колхозники. Оля принесла с собой карту из учебника географии, на ней было видно озеро Таймыр, реки Пясина, Дудыпта, Хета и Хатанга с притоками, желтое пятно на белом фоне означало возвышенность Бырранга — при небольшом воображении можно было представить примерный маршрут кочевий. Оля аккуратно поставила на карте кружок с точкой, кружок был такой же, как тот, что означал Москву, только побольше Москвы, — их стойбище. Она вздохнула, вглядываясь в этот кружок: далеко ее занесла нелегкая, чуть ли не на семьдесят третью параллель. Севернее не было никаких селений, да и юг не радовал, ближе тысячи километров кружков не виднелось. Правда, кружки присвоены городам, разные селения все же имеются.
Селифон открыл совещание по всей форме, в президиум избрали вместе с другими и Олю. Ей, впрочем, не пришлось никуда уходить, она и так сидела на руководящем месте — у очага. Селифон объявил, что на повестке один вопрос: обсуждение предстоящей летовки.
— Будем намечать, куда послать бригады на летнее кочевье, — пояснил он Оле отдельно.
Совещание протекало шумно, все кричали, перебивали один другого, даже хмурый Тоги вскакивал и спорил. Места, о которых толковали, были Оле незнакомы, на карте их не было. Она разобрала только, что Надер уходит со стадом на Быррангу, а Тоги на восточные берега озера Таймыра, выше Хатанги — к самому океану. Третья бригада двигалась куда-то между ними, в пустое место, как показалось Оле, когда она смотрела на карту. Селифон сообщил Оле, что это обычные ежегодные районы кочевок. Их отцы тоже двигались в те же края, по старым охотничьим дорогам родов Окуо, Чунанчар, Тэниседо, Чимере, потомки которых составили ныне их колхоз.
— Зачем же так много спорить, если все это ежегодно повторяется в течение десятилетий? — спросила Оля, пожимая плечами.
Еще одно удивило Олю. В кочевье уходили стада в пятьсот и более стельных важенок, казалось, об этом и нужно было говорить: об отеле, о сохранности телят. Бумаги, получаемые из Дудинки от сердитого Кравченко, утверждали, что хорошее проведение отела — главная задача кочевья. Между тем на совещании говорили только об охоте и рыбалке. Оля попросила слова и прочитала одно из писем Кравченко. Ее выступление произвело неожиданное действие — шум сразу затих, Селифон смутился, Тоги покраснел от злости.
— Важенки никуда не денутся, — торопливо сказал Селифон. — Не беспокойся, Ольга Иванна, сохраним телят.
А Тоги сурово ответил:
— Охотиться надо, Ольга Иванна, дикого бить. Самое главное — дикий! Мясо на всю зиму, понимаешь?
Оля слишком мало знала, чтоб спорить. Она молча спрятала предписание Кравченко в папку, куда складывала все официальные бумаги. В конце совещания Оле пришлось еще раз выступать. Ее спросили, не может ли она отпустить старших мальчиков за два месяца до конца занятий — не хватает пастухов для домашних стад.
— И не думайте об этом, — заявила она решительно. — Ни одного не отдам, так и знайте! Что это такое — во всем Союзе детишки нормально учатся, а здесь вы свои порядки вводите?
Она взволновалась и рассердилась, при всех упрекнула Селифона — он обещал идти навстречу школе, чего теперь стоят его уверения? Тоги, не глядя на Олю, пробормотал, что подростки должны работать, колхоз не обязан кормить их без толку, когда не хватает рук. Селифон строго прервал его. Пусть Ольга Ивановна не сомневается — детишки будут учиться.
— Как в Союзе, Тоги, — сказал он с удовольствием.
2
Извещение о весенней учительской сессии на этот раз пришло своевременно: в Дудинке поняли, наконец, что она живет не в ста километрах. Оля кинулась к Селифону с просьбой отвезти ее. Но он не мог — его тоже вызывали на окружное совещание, на две недели позже, столько времени отсутствовать было нельзя. Остальные колхозники были заняты подготовкой к кочевью. Он предложил ей:
— Возьми Ядне, возьми моего Недяку — справятся, уже ездили в Дудинку. — Он тут же поправился: — Сами они не ездили, только со взрослыми, но это ничего.
Сначала Оля испугалась ехать в такую даль с подростками, потом ей это даже понравилось — сама будет начальником. В ней кипела энергия. Она опасливо подумала: «А вдруг заблудимся или ударит пурга?» — и тут же решила: «Тундра не лес, здесь и при желании не заблудиться, а случится пурга — отсидимся в чуме, по крайней мере будет что вспомнить». Она сама на очередном занятии сообщила мальчикам об ожидавшей их радости:
— Ядне и Недяку, поедете с мной в Дудинку.
Это был целый маленький аргиш. На Олиных нартах лежал мешок с продуктами, Ядне и Недяку везли топливо и небольшой разобранный чум. Выехали они в полдень, в самое солнце. Все стойбище вышло их провожать. Оля первая лихо скатилась с холма в долину — она уже хорошо правила упряжкой, только на другом берегу реки она обернулась и помахала рукавицей провожающим. Она помчалась на юго-запад на факторию: дорога эта была ей уже известна. Оля ликовала при мысли, что скоро увидит кино, магазины, сможет накупить нужных товаров, зарплата ее почти не тронута. Она с упоением вытягивала лицо навстречу солнцу, с восхищением оглядывала сверкающую тундру. Скоро она перестала эго делать — от сверкания быстро заболели глаза, ледяной ветер не церемонился со щеками: солнце шло на весну, зима упрямо поворачивала на мороз, минутами казалось, что сейчас даже холоднее, чем было в полярную ночь. В действительности было не ниже сорока, по здешним условиям совсем тепло, но каждый из этих сорока градусов на ветру резал злее ножа. Мальчики мчались за ней, закутанные так, что не было сантиметра голой кожи, на глазах у них были костяные пластинки с узкими прорезами — солнечные очки.
На фактории Жальских протянул Оле руку и широко оскалился, ничем не показывая, что между ними что-то произошло.
— В Дудинку, значит? — сказал он. — Дело, дело. Ну, заходи, чайком побалуешься — с холоду неплохо. Могу и погорячее стопочку выдать — чистый, как слеза.
— Личный спирт? — насмешливо поинтересовалась Оля.
Жальских нахмурился.
— А ты все думаешь — государственный? Больше на это дело не замахиваюсь — себе дороже обходится. — Он вдруг сказал с презрением: — Неужто только твои олешки умеют охотиться? Меня, если хочешь знать, Селифон с руками оторвал бы в колхоз — целую бригаду охотников заменю. Свои меха пропиваю — никому отчет давать не буду. Так что пойдем по-приятельски посидим? Или будешь нос воротить?
Оля знала, что Жальских прекрасный охотник, и Селифон и Тоги с восторгом отзывались о точности его стрельбы, не раз завидовали его удаче. Ей стало совестно, что она попрекает его прошлыми грехами. Она дружески взяла Жальских под руку и предупредила на всякий случай:
— Немного выпью с удовольствием. Но условие — без приставаний.
— Ладно, — пробормотал он. — Битый — на рожон не полезу.
Оля выпила меньше четверти стакана разведенного спирта, от второй порции наотрез отказалась. Жальских сказал со вздохом:
— Жаль все-таки, непокорная ты. Учительница, а человеческой души не понимаешь. Все думаешь, нехорошими руками к тебе тянутся. А я, если хочешь, к тебе белее снега был. Переехала бы ко мне, хозяйкой стала — на таких, как я, землю пашут. Не подхожу — с образованием надо. — Он сердито посмотрел на нее и недоброжелательно закончил: — Ищи образованных среди своих нганасан, может, кто найдется — поддашься.
— Дело не в образовании, в душе, — возразила Оля. — Души у нас разные. Смотрим на мир одними глазами, Прокопий Григорьевич, видим каждый по-своему. Что же за жизнь такая — я скажу: «светло», вы — «темно».
Она почувствовала удовольствие от своей разумности, вдруг ощутила, что стала совсем взрослой и серьезной. Что бы сейчас сказали ее подружки: «Ай да наша Оля, как рассуждает — неотразимо!» Но Жальских был не из тех, кого легко свалить словом. Он сердито отмахнулся, словно от мухи, от всех ее объяснений, показал рукой на окно.
— Гляди — солнце встало. Кто же из нас скажет на него — темь? И оленя в медведя не превратить. А когда полюблю я, сам черт признается, некуда ему будет деться: «Любит, сукин сын, ничего не скажу — любит». И тридцатью глазами смотри на это дело: свет — светом, тьма — тьмою. — Он улыбнулся ей угрюмой недовольной улыбкой. — Вот как оно поворачивается, Ольга Ивановна, дорогая. Выдумки все это — насчет разных глаз, люди от излишней образованности несущественное вокруг себя разводят, а чего в руки не взять, глазом не поглядеть, на то, конечно, разная точка понимания.
Оля не захотела больше спорить, пора было уезжать.
— Мы с вами потолкуем, — пообещала она, выходя. — Соседи ведь — будем дружить без глупостей.
— С глупостями было бы лучше, — хмуро возразил Жальских.
3
В Дудинке Оля прежде всего побежала в окружком комсомола.
— Явились всей организацией, — весело сказала она, вводя в кабинет секретаря заробевших Недяку и Ядне.
— Ты же писала, ему пятнадцать лет, — удивился секретарь, поглядев на Ядне.
— Да ведь метрики у него нет, — отшутилась Оля. — Мы в кочевье пока без загса обходимся. А парень он рослый.
— Да, рослый, — согласился секретарь. — Ну, ладно, самое главное сделано — есть организация. С осени вернутся подростки из интерната, вас будет побольше. Ты как — свободна сегодня?
— Я приехала на учительскую конференцию.
— Тогда торопись, ее вчера открыли. Я пока побеседую с твоими ребятами, потом тоже приду.
Оля поспешила в клуб, где проходила сессия. Зал был заполнен. Она пробралась на свободное место, стараясь никому не мешать. Но Олю заметили. Заведующий окроно, председательствовавший на конференции, дружески кивнул ей головой из президиума. Прошло некоторое время, пока она смогла сосредоточиться. Затем ее увлекло совещание. Оля даже не думала, что это может быть так интересно — официальные доклады, речи приехавших учителей. Не одну ее захватывали выступления, на ораторов глядели не отрываясь, слушали с вниманием — учителя делились своими успехами и неудачами.
И Оля с большим облегчением видела, что не одной ей приходилось нелегко, многим досталось и побольше — не было такой помощи от колхоза, как у нее. Ей даже стало казаться, что гордиться нечем, скорее ее нужно ругать — вон как другие работали: без тетрадей, не хватало продуктов, в холодных классах — топить удавалось не каждый день, это в Заполярье-то! И когда заведующий окроно назвал ее фамилию и пригласил к трибуне, она растерялась и не поднялась с места — о чем же говорить: другие лучше сказали.
— Вас, вас, Ольга Ивановна! — крикнул ей заведующий. — Да вы не стесняйтесь, тут все свои, можете подробно доложить об особенностях вашей работы — ведь вы у нас чемпион по отдаленности.
Оля путалась, с трибуны говорить было страшно. Она хотела отделаться несколькими словами: приехала, начала с азбуки, по складам ребята уже читают — вот и все, интересного больше нет ничего. Но из зала посыпались вопросы, председательствующий напомнил:
— В одном из писем, Ольга Ивановна, вы очень красочно изобразили, как проходят у вас читки со взрослыми, — что же, продолжаете вы это нужное дело?
Вместо двух минут пришлось простоять на трибуне полчаса. Провожали Олю аплодисментами. Соседка, коротенькая полная девушка с круглым, как блин, веселым лицом, радостно шепнула ей:
— Так это вы и есть Журавская? Очень приятно — ругать буду.
Олю так смутил ласковый прием на конференции, что она чуть ли не обрадовалась угрозе. Ругать ее, конечно, нужно, у нее много промахов, ужасно много. Когда объявили перерыв, веселая девушка взяла Олю под руку, они вместе пошли в столовую.
— Плохо у вас с животноводством, — объявила девушка, с аппетитом принимаясь за уху из свежей рыбы. — Колхоз ваш — последний в округе по росту поголовья. Давно нужно от охоты переключаться на оленеразведение, а вы готовы домашнего оленя потерять, лишь бы пристрелить дикого. Ваши кочевые маршруты — варварство, еще при Чингис-хане кочевали на те же озера. Я проезжала по этим местам — большому стаду кормиться нечем, а вы там неделями диких поджидаете! Стыд просто!
— Позвольте, кто вы? — удивилась Оля.
— Ирина Кравченко, — представилась девушка, — по специальности — животновод, работаю в окрисполкома. Чему вы смеетесь? — спросила она с возмущением.
Оля, не сдержавшись, прыснула. Вот он, оказывается, каков, этот суровый И. Кравченко, грозивший ей в каждом письме выговорами. А она представляла себе этого страшного человека мужчиной с бородой, двухметрового роста, с громовым голосом! Кравченко, похоже, больше минуты не могла сердиться, она сама расхохоталась — звонко и неудержимо.
— Простите меня, — сказала Оля, успокоившись. — Совсем вас иной воображала и ужасно боялась.
— Стоило бояться, — снова нахмурилась Кравченко. — Я знаю, что вы скажете: «Я учительница, меня это не касается». Нет, извините, касается! Вы — наш актив в колхозе. Я так и доложила этот вопрос председателю исполкома, он сам выговор вам объявит.
Но Олю не испугала перспектива выговора.
— Я очень рада, что познакомилась с вами, — сказала она дружелюбно. — Пойдемте вместе в кино, Ирина.
Целую неделю шла сессия, семь чудесных дней, каждый был заполнен до отказа. В перерывах между заседаниями Оля торопилась в магазин, на склады — получать отпущенные школе товары. Недяку и Ядне по три раза в день ходили в кино, каждый день посещали баню. Им страшно понравилось парное отделение, они не могли о нем наговориться. Сессия закончилась торжественно — на последнем заседании присутствовало все окружное начальство, лучших учителей награждали ценными подарками. Среди награжденных назвали фамилию Оли. Она получила патефон и набор пластинок — танцы, хор Пятницкого, даже серьезную музыку — «Ночь на Лысой горе» Мусоргского.
А на следующее утро Олю вызвали к председателю исполкома. У председателя сидел заведующий окроно, оба они встали при появлении Оли, улыбнулись ей, пожали руку.
— Вы хорошо выглядите, Ольга Ивановна, — сказал председатель. — А помните, как вы боялись ехать, чуть слезы не текли? Теперь не так мрачно смотрите на будущее, не правда ли?
Он расспрашивал обо всем, школа интересовала его, пожалуй, меньше, чем другие дела колхоза, особенно сами колхозники.
Оля подробно отвечала на все вопросы и удивлялась: когда же грянет обещанный выговор?
— Мы вызвали вас, чтобы сообща посоветоваться, — задумчиво сказал председатель. — Страшная даль у вас — руку не дотянуть. Ведь если на карту посмотреть — нет в мире севернее вашего стойбища, может, только какие-нибудь арктические зимовки. Чукотка, Аляска, Мурманск. Лабрадор, в общем все поселения в Европе, Азии и Америке — все они южнее вас. Это уважать надо. И помогать вам надо, обязательно надо. Но не было возможности — война. Скоро такая возможность появится. Слыхали радио? Наши наступают на Берлин! Подождите, Ольга Ивановна, придет к вам помощь — фельдшера, животноводы, культурники. Я уже дал распоряжение базе кинопроката включить ваше стойбище в план обслуживания на следующую зиму. И люди у вас хорошие. Таких, как Селифон или Тоги, можно в партию готовить. И сами вы об этом подумайте — о вступлении в партию. На мою рекомендацию можете рассчитывать.
— На мою тоже, — вставил слово заведующий окроно.
— Спасибо, — сказала Оля, обрадовавшись и смутившись.
Председатель продолжал:
— Еще одно дело — тоже немаловажное. Стойбище ваше — непостоянное, сегодня здесь, на другой год — в ста километрах. Перенести чум — пустячное дело, школу перенести — потруднее. Будем строить вам в этом году настоящую школу, на несколько классов, лес выделим, мебель. Вот наша перспектива на ближайшие годы — стойбище превратим в селение, переведем в него заготпункт, больницу небольшую оборудуем, красный чум с библиотекой и экраном.
— Учителя бы еще одного — в помощь Ольге Ивановне, — сказал заведующий, — она бы в старших классах, он — с малышами.
— Из своих надо готовить, — ответил председатель. — Людей-то ведь пока нет. Как этого мальчика, что хорошо занимается?
Она ответила:
— Нгоробие Чунанчар.
— Вот и прекрасно — Нгоробие. Занимайтесь с ним отдельно, потом к нам на курсы пришлете, еще из подростков кого-нибудь подберите — вырастим свои национальные кадры учителей.
Он закончил беседу вопросом:
— Ну как, удалось вам достать что-нибудь полезное для школы?
Оля, решившись, высказала заветное свое желание:
— Часы нам нужны — совсем невозможно без часов. Хотя бы такие, — она показала на ходики, тикавшие над столом председателя.
Ходики были старые, уставшие от работы, — к свинцовому грузу была привязана бутылка для тяжести.
Председатель встал на стул и осторожно снял ходики с гвоздя. Обдув пыль, он протянул часы Оле.
— Берите, Ольга Ивановна, думаю, снабженцы в беде меня не оставят.
4
Небо на дворе исходило сиянием, пульсировало и вспыхивало, а в красном чуме на настоящем столе гремел патефон — ведьмы мчались на ежегодное свое сборище, плясали колдуны, черти скакали, как жеребята. Почему-то эта пластинка нравилась, больше других, ее все заказывали. Когда начинался концерт, в красный чум сбегались все колхозники, приплетались даже старухи. Олю заставляли каждый раз объяснять, какую музыку она играет. Культурная работа в красном чуме пока исчерпывалась музыкой и читками. Деятельным помощником Оли стал Недяку. Он не отходил от патефона, протирал каждую пластинку песцовой лапкой, командовал, куда садиться посетителям. Уставая, Оля поручала ему и читки. Читал он неважно, но громко и старательно, а слушали его еще внимательней, чем её.
В школе занятия шли теперь по звонку — ровно в половине девятого колокольчик предупреждал детей, что пора собираться. Начало уроков, перемены и конец тоже отмечались колокольчиком. Звонила Марья Гиндипте, командовала ею Оля — Марья в часах не разбиралась. На некоторое время ходики превратились в какой-то кошмар. Оля боялась, что они от ветхости остановятся, у них была такая особенность — немного постоят, потом сами пойдут. Она даже по ночам вскакивала посмотреть, не случилось ли с ними чего.
Селифон уехал на другой день по возвращении Оли — даже музыка его не задержала. Известия, привезенные Олей, о планируемом строительстве в их стойбище больницы, ветпункта и заготконторы потрясли его, он хотел слышать все это сам. Селифон захватил с собой Надера и умчался на пяти нартах. В колхозе командовал Тоги. Шел апрель, первая бригада собиралась в кочевье. Она ушла за неделю до возвращения Селифона, стойбище стало меньше на четверть чумов. Селифон возвратился окрыленный, олени еле вытягивали тяжелый груз — лес, другие строительные материалы. Он рассказал о совещании при окрисполкоме — колхоз их отметили за перевыполнение плана по пушнине, ругали за плохой рост-поголовья, обещали прислать плотников — строиться.
— Нельзя всех охотников посылать в кочевье, — сказал он озабоченно. — Кто будет плотникам помогать? Из каждой бригады двух оставим.
Тоги уехал в конце апреля, увел с собою пятьсот голов скота и забрал половину чумов. Потом у шел Надер с оставшимися оленями, кроме двух десятков ездовых. Оля со стесненным сердцем ходила по становью — его больше не было, оно вдруг распалось. На холме стояла школа, напротив нее — красный чум, еще три чума лепились к школе — это было все. В один из майских дней разразилась пурга, она смела все, что оставалось от снятых жилищ. Пурга сменилась снегопадом. Ничто не напоминало теперь о том, что здесь располагалось селение, целая улица конусообразных домов. Оля знала, что такова природа кочевья, но ей было грустно от этого разорения, казалось, что-то вырвали живое и нужное из ее души. Дети остались, занятия шли, а ей чего-то не хватало. Она пожаловалась Селифону. Он широко открыл глаза.
— Что ты, Ольга Иванна, много осталось, очень много, — сказал он убежденно. — Раньше все уходили, понимаешь?
Она понимала, но легче ей от этого не стало. Она удивлялась себе, ей временами думалось — провались это селение, только бы обрадовалась. А оказалось, она привязалась к нему — ей уже трудно было обходиться без толкотни в красном чуме, не хватало лая собак. Теперь и музыка гремела впустую — приходили слушать два-три человека. Занятия шли хуже, ребята словно отупели — еле-еле готовили уроки. Ядне виновато сказал, когда Оля разругала его за невнимательность:
— В тундру хочется, Ольга Ивановна, за диким.
Один Нгоробие не замечал перемен. Он усердно читал, писал, упражнялся в счете. Он далеко обогнал других, учение захватило его. При объяснениях нового Оля чаще обращалась к нему, чем к другим, — он хорошо слушал, его умные глаза горели, он испытывал наслаждение оттого, что узнает что-то, чего не знал.
Селифон часто уезжал из стойбища — на факторию, в соседние якутские селения. Якуты жили богаче нганасан, у них можно было многому поучиться. В одну из поездок он взял с собой Олю. Оля увидела настоящее село, добротные рубленые дома. И природа здесь была иная: к селению подступала тайга — крупная лиственница и береза, на холмах, где ветром обдуло снег, лежал ягель, плотный и пушистый, как ковер, нога утопала в нем. Трудно было поверить, что такие чудесные места находились рядом с ними, в каких-нибудь двухстах километрах.
— При этих ягельниках и кочевать не нужно, кормов в окрестностях хватит, не правда ли, Селифон? — заметила Оля. — И, знаешь, здесь можно развести огороды. Смотри, какой лес растет, значит, солнца хватает.
Селифон, по обыкновению, прихвастнул:
— У нас солнца больше, Ольга Иванна. И огороды заведем! Не пожалеешь, что с нами живешь.
Поездка к якутам была удачной. Соседи пообещали Селифону помощь мастерами и лесом в обмен на оленей и пушнину. На обратном пути Селифон спросил Олю:
— Долго еще занимаешься, Ольга Иванна?
Она ответила:
— Нет, скоро кончаем, в конце мая.
Он предложил:
— В кочевье не хочешь? Вместе поедем.
Оля уже раньше подумывала об этом.
— Очень хочу, Селифон!
В эту поездку Оля впервые увидела солнечную полночь. Солнце высоко прошло западную точку горизонта, начало склоняться к северу, больше половины его диска скрылось под землею. Но оно не зашло совсем, золотой круг снова выкатился и стал подниматься к востоку. Пока еще холодный, но яркий свет заливал холмы и озера, отражался густым сверканием на плотном, как камень, полированном ветром снегу. Начался трехмесячный полярный день. Незаходящее солнце пустилось в стодневную дорогу по небу, оно будет подниматься все выше, светить все жарче. Может, и в самом деле ей надоест так много солнца?
5
Бригада Тоги весновала на одном из притоков сурового озера Таймыр. Стоянка была раскинута в закрытых лайдах, под защитой крутых береговых холмов. Движение на север пришлось временно прекратить, начался отел важенок. Месяц «торулие китеда» — холода и дрожи оленей — сменился «анья туой китеда» — месяцем первых телят. Время шло к июню, а погода не радовала: то падал мокрый снег, то ударяли запоздалые морозы, с океана непрерывно дули сырые пронзительные ветры — от них не спасали даже холмы. Отел шел дружно, каждый день прибывало по десятку телят, стадо быстро увеличивалось. Оля скоро увидела, что много телят замерзало в первые же дни. Только деревянные щитки, поставленные около отелившихся важенок, немного помогали от ветра, но щитков было мало, их стали употреблять недавно и еще не привыкли к ним. В конце мая пронесся бешеный циклон, стадо занесло снегом. Важенки, хоркая, выбирались наружу, но телят своих не откапывали. В эту страшную ночь погибло почти сто телят, не менее трети приплода. Оля вместе с другими пастухами доставала из-под снега полузамерзших телят, уносила их в тепло. Ее поразило спокойствие пастухов, обрушившееся несчастье казалось им обычным, некоторые даже шутили. Оля вспомнила наставления Ирины и накинулась на Тоги.
— Все у вас глупо, — сердилась она. — Зачем вы так стремились на север? Здесь почти нет ягеля, олени голодают. Южнее сейчас весна, корму вдоволь. Еще одна такая пурга — все стадо погибнет, не только телята.
Тоги, смущенный, оправдывался:
— Нужно идти на север, там дикого много, скоро гусь пойдет. И зелень будет, завтра будет, через неделю, не сомневайся, Ольга Иванна.
Оля пригрозила:
— Напишу в Дудинку, — как вы обращаетесь со стадом. И на колхозном собрании подниму этот вопрос, так не оставлю!
Охота шла неплохо. Достаточно было подняться на высокий холм, где-нибудь обязательно виднелось на снегу темное пятно — стадо из нескольких голов. Но это было не простое занятие — охота на диких. Олени видели охотника на равнине издалека, чуяли его на ветру за много километров. Приходилось часами ползти, лежать, уткнувшись в снег. Оля пошла с Тоги и Ядне на охоту. Дикие были рядом, но к себе не подпустили — она обморозила щеки, пока лежала в снегу. В другой раз она увидела удивительное зрелище — после удачного залпа два оленя свалились, один, раненый, пытался бежать, за ним погнались Тоги и Ядне. Это был бешеный бег, он длился не менее двадцати минут. Тоги нагнал оленя и повалил его на землю. Он потом объяснил Оле, почему не стал стрелять, а пустился в погоню:
— Припасу мало дают, все на войну идет.
— Ты бы сумел стать чемпионом по бегу, — сказала она.
Это, впрочем, можно было утверждать и о других охотниках, даже о Ядне, — все они бегали с поразительной быстротой в своих бакарях, делавших их носи похожими на конское копыто.
В один из дней Оля присутствовала на поколке, старинном способе охоты (в Дудинке ей говорили, что поколки запрещены, как варварский способ, и тут же добавляли: «Запрет действует не всегда»). В лощинке между холмами была натянута ременная сеть, от нее отходили шесты с пучками крыльев куропатки — махавки, на некоторые шесты набросили одежду — чучела очень походили на людей. Два ряда махавок составили расширяющуюся аллею, километра полтора длиной; на ее широком конце сторожили махальщики — подростки и взрослые с пучками черных перьев. Оленей гнали издалека, было далеко за полночь, когда вдали показалось стадо диких — голов пятнадцать. Две нарты мчались за ними, не давая свернуть в сторону, передней правил Селифон. Олени, испуганные криками и погоней, понеслись прямо к махавкам, но почуяли неладное и остановились в нерешительности. Тогда с боков вскочили махальщики и дико завыли, затопали ногами, замахали пучками перьев; сзади, запирая выход, летели две нарты с бешено кричавшими ездоками. Передовой бык взмахнул рогами и понесся вперед — на сеть. Он не добежал до нее — Тоги сразил его выстрелом из засады. Другие невредимо добежали до конца и запутались рогами в сети — этих кончали ножами. Телятам, с плачем носившимся около матерей, разбивали головы камнями, глушили палками, чтоб не портить шкуру. Оля в ужасе оглядывалась, она не узнавала своих добрых друзей, все преобразились — и взрослые и подростки. Вокруг нее были искаженные лица, люди в возбуждении били себя кулаками по голове, в ожесточении топали ногами, потом, размахивая ножами, бросались в свалку. К Оле подлетел Селифон, он еще издали закричал:
— Как, Ольга Иванна, говори — как?
— Страшно, — ответила она, содрогнувшись. — Ничего ужаснее не видела.
Селифон не понял ее, он соображал только одно: охота была на редкость удачна.
— Правда? — воскликнул он с гордостью. — Я знал — тебе понравится. Столько мяса, добычи — ужас!
Наступили переломные дни, первая половина июня — весна неудержимо напирала на эти высокие широты, зима, как олень, которого ударили по коленям, вдруг рухнула наземь. Оля даже не подозревала, что может быть такое стремительное утверждение весны. Еще вчера снеговые тучи закутывали небо, мороз опускался ниже двадцати, по твердому насту шуршала злая поземка — одни куропатки да дикие олени встречались в окрестностях. А сегодня с безоблачного неба лилось горячее, как на юге, солнце, с гор сползал снег, всюду звенели ручьи и ручейки, шумели водопады, глухо зарычала горная речка. Все совершилось вдруг, словно по приказу, — на склонах и во впадинах еще лежал ноздреватый снег, а на освобожденных клочках земли нетерпеливо продирались вверх цепкая зелень, мхи, лишайники, карликовый кустарник. В воздухе стало темно от тысяч крыльев — летели гуси и утки, стая за стаей, стая над стаей. Они кружились, высматривали нужные озерки, кричали, тяжело махали крыльями. По снегу метались их тени, похожие на диковинных животных, — со всей Азии, из далекой Индии, из аравийских степей прибывали сюда на летовку птицы. Еще через несколько дней распустились цветы, долины усыпали ярчайшие жарки, склоны покрыли голубые альпийские незабудки — оранжевый, почти золотой ковер долин переходил в голубое покрывало, наброшенное на горы, издали трудно было провести грань между горами и небом. На южных склонах, в защищенных от ветра местах, выбросил свои бутоны карликовый, стелющийся по земле шиповник — тонким запахом роз тянуло от этих склонов, они поражали своей яркой одеждой.
Оля с восторгом сказала Селифону:
— Вот не думала, что в этих местах может быть так прекрасно. У всех у нас представление: Крайний Север — могила, ничего нет, кроме пурги. А здесь все полно жизни, столько цветов, крику, движения. Что за изумительное время — полярная весна!
— Правильно, Ольга Иванна, очень трудное время, — сказал Селифон со вздохом. — Столько работать много — изумительно. На всю зиму запастись, вот какое время, Ольга Иванна.
6
Это была подлинная страда. Чуть льды отошли от берегов, в воде забилась рыба. Ошалелые от голода хариусы бросались на приманку, красные их плавнички взмахивали, как крылья, огромные кунжи поднимались из глубин, заиграли муксун и чир. Все навалилось сразу — гусеванье, охота, рыбалка. Нельзя было понять, что важнее, за что надо браться. Появлялись дикие — окружали диких, находили озерко, усыпанное гусями, — становились гусевать, потом перегораживали реки и озера сетями — добывали рыбу. Дети на каждой остановке уходили разорять гнезда — приносили по сотне и более яиц. Тундра была щедра, но требовала труда — мужчины спали на ходу, в передышки на охоте, перед тем, как вытягивать сеть. Женщинам приходилось хуже, на сон времени не полагалось. Они потрошили птицу, разделывали оленьи туши, вытапливали жир, вялили рыбу и мясо, очищали кожи от жира и мездры, чинили мужскую одежду и бакари. Оля старалась помогать им, но не делала и четверти того, что умудрялись делать они. Она пыталась, как другие, спать два часа в сутки, но уже через несколько дней валилась с ног и засыпала на езде. Это было, вероятно, самое удивительное из свойств нганасан — измученные, они падали на меха, мгновенно засыпали и вскоре так же мгновенно пробуждались, бодрые и веселые; ее добудиться не могли, она только углублялась в сон. Ее, впрочем, и не тормошили, если не случалась перекочевка, ее жалели, все видели, как она похудела. Кочевали днем и ночью — в тундре стоял звон от комара, воздух посерел от мириадов насекомых. Начал вылетать овод, это было тяжелое испытание — олени дрожали всем телом, бешено срывались с места, сами бросались на лед, на продуваемые вершины. Многие из них, кого не успевали задержать, тонули в реках, проваливались сквозь некрепкий лед.
А потом грянули дожди, пронзительно холодные, обложные дожди — от них не спасала ни одежда, ни дырявые походные чумы, ни нависшие склоны холмов. Селифон стал собираться в отъезд — посетить бригаду Надера и домой в стойбище. Оля отказалась ехать с ним — она хотела полностью пройти испытание: надо же ей знать, что такое кочевье. Он одобрил ее решение.
— Скоро у гусей от дождя сгниют крылья, — пояснил он. — Самое интересное увидишь — как травят линного гуся.
Она не нашла, что это интересно. Охота на линных гусей показалась ей еще более отвратительной, чем оленья поколка. Вскоре после вывода птенцов гуси меняли крылья. — в это время их, беспомощных, окружали на озерках, загоняли выстрелами, криком и собаками в сети и там сворачивали головы. Птицы иногда не шли в западню, выплывали на озеро, ныряли, их настигали на лодках, вылавливали из воды. Это была не охота — зверское истребление, не разбирали, где взрослая птица, где птенец. Зато на одном из озерков добыли почти тысячу гусей — больше ста пудов мяса. Тоги с удовлетворением сказал Оле:
— Ну ладно, хорошая с тобой охота, Ольга Иванна. До весны хватит еды.
Она отозвалась с омерзением:
— Ужасная охота! Не понимаю, как вам ее не запретят.
Потрава линных гусей произвела на Олю такое тяжелое впечатление, что ей не захотелось больше оставаться в бригаде Тоги. Старик Черие с Ядне уходили еще дальше на север — за дикими, бежавшими от овода, — она попросилась с ними. Это путешествие продлилось больше недели — прекрасные дни, озаренные незаходящим солнцем. Дожди прекратились, ночью и днем было одинаково светло, разница была лишь в том, что в полдень солнце светило жарко, в полночь — холодно. Снег в тундре совсем сошел — лето в этом году было знойное, — двигались медленно по травам и мху. И снова Оля удивлялась, как много здесь жизни. Растительность изменилась — теперь она была совсем скудной, одни мхи и лишайники, иногда целыми часами кругом простиралась каменистая, в пятнах земля. Зато птиц было по-прежнему много, часто встречались дикие олени — они сейчас бродили поодиночке, а больше всего было насекомых, комаров и овода, появился и мокрец — мелкая мошка, забиравшаяся во все щели. Охота складывалась удачно, каждый день убивали одного-двух диких, туши складывали в кучи, накрывали шкурами и отмечали шестами — взять на обратном пути. Так двигались до самого океана.
Океан возник внезапно. Сперва это была зеленоватая полоска на горизонте, исчирканная белыми гребнями — волн — типичная моховая тундра с полосами нерастаявшего снега. Потом он вырос, раскинулся, обрел голос — далеко разносился грохот прибоя, океан гремел у берегов. Не обращая внимания на предостерегающие крики Черие, Оля направила свою упряжку к берегу. Ядне с веселым криком мчался за нею. Оставив оленей, Оля побежала на обрыв, с молчаливым ликованием вглядывалась, вслушивалась, внюхивалась в угрюмую, безбрежно простершуюся воду. Давно она не была в таком восторге — это было первое море в ее жизни, настоящий океан, не жалкий заливчик — простор до самого полюса, дальше полюса. И Оля сразу забыла о своих действительных и выдуманных горестях, о страхе перед этими грозными местами. Ни к чему не была она так податлива, как к красоте, — ее голову вечно кружили мечтания и странные чувства, красота открывалась ей в словах и звуках, линиях и красках, вещах и поступках. Здесь была подлинная красота, самая высокая из форм красоты — величие.
Черие много раз бывал у океана, он равнодушно поглядел на волны и отвернулся. Ядне еще не приходилось забираться так далеко, он стал рядом с Олей. На скалы обрушивались высокие валы, удар их был подобен взрыву, клочья пены разлетались, как осколки. Воздух был напоен брызгами и грохотом, скалы гудели.
— Хорошо! — воскликнула Оля. — Смотри, Ядне, пишут, что Ледовитый океан белый от вечных льдов. А он темно-зеленый, до самого горизонта темно-зеленый.
Ядне не знал, что пишут о Ледовитом океане, но тоже видел, что вода зеленая. Олей овладело желание выкупаться в океане. Она понимала, что желание неразумно, на берегах громоздился нерастаявший лед, студеная вода обожжет не хуже кипятка. Но Оля ничего не могла поделать с собой — ее тянуло в воду. Она подумала с гордостью — как хорошо будет похвастаться: купалась в океане за семьдесят пятой параллелью.
Она тут же сообщила о своем намерении. Ядне ужаснулся, он со страхом смотрел на льды и пену, а Черие бесстрастно ткнул рукой в простор.
— Не сойдешь, — сказал он сипло. — Дороги нет. А найдешь, замерзнешь раздетая — льды на воде.
— Не замерзну, — возразила она. — У нас такое правило: лучше полезть в холодную воду на жарком солнце, чем в теплую на холодном воздухе.
Правило это было хорошее, но дороги вниз все же не было, берег обрывался слишком круто, — Оле пришлось на время отказаться от своего намерения. Она про себя решила присмотреть хороший спуск, может быть, откроется где-нибудь песчаный пляж — там она выкупается.
Они двигались вдоль океана, задерживаясь у речек и озерков. На одной из речек, впадавшей в океан, едва не случилось несчастье. Черие закинул сети — попалась кунжа. Они вытягивали ее все втроем — рыба отчаянно билась. Сеть была старая, она сразу лопнула в двух местах — в руках у Оли и Черие. Рыба рванулась в глубину, увлекая с собой Ядне, — у него запутались руки в ячеях. Ядне закричал, погружаясь в реку, было видно, как он бьется над ней, пытаясь оторваться от рыбы и выплыть наверх. Черие и Оля, как были — в малицах, кинулись ему на помощь. На этот раз удалось вытащить кунжу на берег. Взбешенный Ядне раньше ударил рыбу ножом, потом побежал наверх — отхаркивать проглоченную воду. Черие сурово выговорил ему: из кожи кунжи приготовляют мешки для хранения жира, незачем портить такую великолепную добычу. Когда кунжу вытащили из сетей, Оля испугалась: рыба была больше ее ростом, весила килограммов восемьдесят — такое страшилище могло утащить в воду даже взрослого человека.
Здесь задержались на несколько дней — река и ее притоки были богаты рыбой. Метровые кунжи проползали по камням. Черие и Ядне доставали их железными крючьями, Оля помогала тащить. Здесь же Оля выполнила свое желание — выкупалась в океане. Она выбрала удачное время — полдень, солнце светило, сухой мох на камнях разогрелся. Оля отошла в сторону от речки, к заливчику со спокойной водой, и бросилась в волны. У нее сразу захватило дыхание, уже через минуту начало сводить ноги. Все же немного Оле удалось покачаться на волнах, она даже нырнула, раскрыв в зеленой воде глаза. Выскочив на берег, она пустилась в пляс — от восторга перед своей смелостью и от холода. Потом она легла на мох, солнце пригревало изрядно, снизу тоже шло тепло. «Я загорю!» — подумала она, впадая в дрему. Она слышала, как ее звали Черие и Ядне, ей было лень отвечать. Когда их тревожные крики раздались совсем близко, она пробудилась и схватилась за одежду.
Черие сказал с суровым осуждением:
— Купалась — нехорошо! Думали — потонула ты в океане.
— А вот и хорошо! — возразила она. — И не утонула, как видишь.
Ядне тоже захотелось купаться. Не слушая сердитых окриков Черие, он стремительно помчался к берегу, поспешно сбросил с себя одежду и кинулся в воду. Окунувшись раза два, он торопливо вылез на берег. Когда испуганный Черие добрался до него по камням, Ядне уже одевался. Он сказал Оле, дрожа и ликуя:
— Я тоже плавал в океане, Ольга Ванна! Как ты, Ольга Ванна!
Оля обняла рукой счастливого Ядне и, ощущая в своем теле удивительную свежесть и тепло, весело предложила:
— Не пора ли нам обратно, друзья? Охота прошла удачно, все, что можно посмотреть, посмотрели. А нас, наверное, ждут.
7
Черие остался в бригаде Тоги, а Оля возвратилась в стойбище вдвоем с Ядне. Тоги со своими стадами и чумами двигался медленно, он еще собирался устроить большую поколку на одной из речек — в течение многих лет через речку проходили стада диких, поколка здесь была обычной. Из стойбища навстречу Оле вынеслись нарты, упряжкой правил Селифон. Он неистово погонял передовика, бил хореем по спинам остальных — нарты его бешено неслись по мху.
— Ольга Иванна, большое дело! — в страшном волнении кричал он издалека. — Очень большое дело, Ольга Иванна, — война кончилась!
Селифон так торопился все рассказать, что забывал русские слова. Но самое главное Оля поняла: Берлин взят, и случилось это давно, еще до их поездки в кочевые аргиши. На радостях Оля крепко расцеловалась с Селифоном. Она вспомнила свою беседу с председателем окрисполкома и предупредила Селифона:
— Теперь начнется у нас работа — люди новые приедут.
Он закивал головой, выдыхая целое облако дыма:
— Пусть приезжают, все будет, как надо — не беспокойся!
Оля не узнала стойбища. После разъезда бригад в кочевье оставалось несколько чумов, их и сейчас не прибавилось, зато школа увеличилась вдвое, к прежнему помещению примыкала добротная рубленая изба, старая часть тоже казалась обновленной. Недалеко от школы возводили вторую избу, еще больше, без окон. «Заготпункт», — объяснил Селифон. К ней примыкала пристроечка, бревенчатый балок в одно окно. А еще подальше, над самым обрывом, стоял домик с высокой трубой, рядом с домиком возвышалась горка дров.
— Колхозная баня! — сказал Селифон, ликуя. — Столько нам помогли из Дудинки, соседи. Не ожидала, Ольга Иванна?
Оля побежала к школе — настоящее крыльцо в три ступеньки с навесом вело в классы. Она переходила из комнаты в комнату, теперь их было пять: ее клетушка, три класса, комната для хозяйственных занятий — настоящая школа, ничего не скажешь. И мебель прислали — столы, парты, кафедру, не поскупились и на остальное: на стенах висели новые плакаты и портреты. На столе лежала папка с бумагами, она раскрыла их: предписания, программа, методические указания, наставления — все как полагается, с первого взгляда видно, что теперь рассматривают ее школу как государственное учреждение — не учительница в безыменном стойбище, а школа в селении, при ней учителя — она первая.
— А тетради и книги? — заволновалась Оля. — Неужели тетради забыли прислать?
Селифон успокоил ее:
— Все есть: тетради, перья, чернила, книги — куча вот такая, — он показал рукою метр от пола. — В магазине лежат, распишись, бери.
В класс вошел Жальских. Он поздравил Олю с приездом, деловито проговорил:
— Обрастаем, учительница? Барахло твое школьное у меня, можешь забирать. И еще кое-что по карточке выдаем, не откажешься — молоко сгущенное, яичный порошок, масло. Ну и на одежу, конечно.
— Завтра же поеду! — воскликнула Оля. — Обязательно поеду.
Он ухмыльнулся.
— А хоть сейчас — ехать три шага, — он показал на новую избу заготпункта. — Резиденция моя тут, перевелся поближе к вашей милости. — Он кивнул на Селифона: — Ну и к приятелям, конечно, живем пока душа в душу.
Селифон подтвердил:
— Свой магазин теперь у нас, Ольга Иванна, пушнину возить далеко не надо.
Они пошли осматривать новые постройки. Хоть чумов в стойбище не прибавилось, людей стало больше. Оле встретились незнакомые подростки — парни и девушки; они предупредительно кланялись, словно знали ее. Селифон разъяснил, что возвратились ребята из интерната, они уже заходили в школу, она им нравится, говорят: лучше той, где учились, совсем как в Дудинке. Оля нахмурилась — Селифон не мог обойтись без хвастовства. Он закончил с чувством:
— Учи всех ребят, Ольга Иванна.
Она сердито ответила:
— О всех заботишься, только о себе забываешь. А мне, между прочим, прямо приказано — взять тебя в работу. Ведь ты читаешь хуже, чем твой сын, стыдно, Селифон!
Жальских захохотал, Селифон покраснел. Он в первый год войны закончил краткосрочные курсы председателей колхозов, с той поры читать приходилось мало. Он пробормотал, стараясь успокоить норовистую учительницу:
— Ладно, Ольга Иванна, сделаю.
Жальских пригласил Селифона и Олю к себе в гости.
На керосинке кипел чай, Жальских принес со склада консервированных сосисок, выставил деликатес — два красных помидора. Он пояснил с гордостью:
— Три тысячи километров везли, по записке большого дудинского начальника получил, иначе — никак!
Оля поинтересовалась, имеется ли название у их становья, теперь они уже не бродячее стойбище, нужно именоваться, и не как-нибудь — хорошее название подобрать.
— Все сделано, — ответил Селифон, радостно ухмыляясь. — «Новый путь» — название. Колхоз «Новый путь», становье «Новый путь». Нравится, Ольга Иванна?
В этот день Оля долго не могла заснуть. Она просматривала газеты, перелистывала книги, размышляла. На душе у нее было радостно, столькими событиями был отмечен этот замечательный день. Она горевала, что оторвана от культурной жизни, а культура сама идет к ней, на ее край света. Оля вспомнила о Жальских и поморщилась. В том, что он перевелся в их стойбище, было не только хорошее, — как бы он снова не принялся за обман. «Да нет, — утешила она себя, — Жальских взялся за ум, никто на него не жалуется».
Дня через два, когда с несколькими колхозниками и грузом возвратился Недяку, Оля устроила с ним и Ядне небольшое совещание.
— Нас теперь восемь человек комсомольцев, — сказала она. — Еще многих можно принять в организацию. Нужно выбрать нового секретаря, я перегружена школьной работой. Думаю тебя рекомендовать.
Недяку запротестовал. Он беседовал с возвратившимися ребятами, все радуются, что Ольга Ивановна будет ими руководить, пусть она остается. Ядне горячо поддержал его.
— Только ты, Ольга Иванна! — крикнул он, ударяя кулаком по столу, и радостно засмеялся.
В один из вечеров Оля созвала в школе всех комсомольцев и подростков, еще не вступивших в организацию. В комнату набилось человек двадцать, пришли Селифон и Тоги. Оля заняла место председателя.
— Считаю очередное собрание комсомольцев и беспартийной молодежи колхоза «Новый путь» открытым! — сказала она звонко и торжественно.
ГЛАВА ПЯТАЯ СЕРОЦКИЙ
1
Сероцкий приехал в становье в конце октября — первые метели уже прошли, установились морозы. В этот день из кочевья возвратилась бригада Надера с богатыми трофеями, в красном чуме шло заседание правления — обсуждали результаты летовки. Сероцкий поздоровался с колхозниками, пожал руку Жальских — они встречались раза два в Дудинке, — предъявил свои бумаги Селифону — корреспондент газеты. Официальные бумаги производили на Селифона неотразимое впечатление, эта особенно понравилась — их жизнь и работу собирались изучать. Он усадил Сероцкого на свое место, пригласил участвовать в заседании. Прения Сероцкому скоро наскучили, одни и те же цифры повторялись по десятку раз. Он наклонился к Жальских и шепнул ему:
— Учительница у вас — Журавская, кажется? Где она?
— Журавская, — подтвердил Жальских. — Часа через два будет — поехала с ребятами проверять песцовые капканы. Жуткой охотницей стала учительница, скоро нас всех за пояс заткнет.
— Ну, вас не заткнет, бросьте! — возразил Сероцкий — он уже слышал об охотничьем мастерстве Жальских.
Через некоторое время он осторожно выбрался наружу — по малой нужде. Здесь с ним случилось несчастье. Из сумерек дико вырвался олень и бросился прямо на него. Сероцкий в страхе закричал и отскочил в сторону. Со всех сторон, возбужденно сопя ноздрями, мчались олени, кидались, склонив рога, к его ногам, били его лбами. Он пошатнулся, новый свирепый удар ветвистого лба свалил его в снег. Закрывая лицо руками, весь сжавшись, он ожидал самого страшного — удара копыт. Но крики выскочивших из чума людей перекрыли топот и хорканье, на спины оленей тяжело обрушились хореи, в общий гам ворвался яростный лай собак. Сероцкого, измятого и полурастерзанного, поставили на ноги. Его сочувственно спрашивали, что случилось, помогли войти в чум. Когда Сероцкий овладел голосом и начал рассказывать все по порядку, его прервал общий хохот — недавние спасители хватались за животы, чуть не падали на пол. Жальских, шире других разевавший рот, хлопнул его по плечу.
— Эх ты, путешественник! — сказал он, вытирая кулаком прослезившиеся глаза. — Самого первого не знаешь — зимой олень дуреет на мочу, она ведь соленая. С осторожностью надо такие дела — стадо не привязано.
Сероцкий был человек веселый, он захохотал вместе со всеми. Незлобивость Сероцкого всем понравилась, его наперебой приглашали в гости. Сероцкий отказывался — прежде всего ему нужно увидеть учительницу, его очень интересует их новая школа.
— Приехала Ольга Иванна, — сказал Селифон, выглянув в дверь. — Потом приходи, товарищ Сероцкий, в моем чуме ночевать будешь.
Сероцкий пошел в школу. Он вдруг поймал себя на том, что волнуется. В стойбище он появился без особой необходимости — услышал в Волочанке, районном центре, о Журавской, молодой учительнице, вспомнил, что с одной Журавской он встретился года полтора назад в Красноярске — не та ли? Та была молоденькой, наивной девушкой, всего боялась и ехала как раз на Крайний Север, кажется, в Авам. Ему подтвердили — да, та самая, только вряд ли она чего боится — весьма решительная особа.
Сероцкий смутно представлял лицо своей красноярской знакомой. Но голос ее помнил хорошо — мягкий, застенчивый, с неожиданными звонкими нотами. В сенях Сероцкий остановился смущенный — из-за двери слышался спокойный женский голос, совсем он не походил на тот, что сохранился в памяти. Сероцкий осторожно открыл дверь, громко спросил: «Можно?» Детские голоса нестройно закричали: «Можно!» Сероцкий увидел учительницу в песцовой жакетке, она повернула к нему лицо. И если голоса Журавской Сероцкий не узнал, то лицо вспомнил мгновенно — это была та же самая девушка, только она пополнела, стала красивей и уверенней в себе. Сероцкий шагнул вперед, весело проговорил обычные слова: «Здравствуйте, Ольга Ивановна, вот и свиделись, не ждали — правда?» А Оля, отшатнувшись, помертвела, она даже закрыла глаза, до того все это походило на ее видения: сотни раз вот так же входил он к ней в класс, усмехался, дружески протягивал руку — этого не могло быть, в это нельзя было поверить! Но он стоял перед ней живой, он ласково взял ее похолодевшие пальцы, его глаза быстро — словно ощупывая — обежали ее всю. И тогда Оля разом выдала себя, свои бессонные ночи, свои думы о нем — она протянула к нему руки, воскликнула: «Анатолий! Боже мой, Анатолий!», с громким плачем кинулась ему на грудь. Дети, замолчав, с ревностью и жадным любопытством следили за ними, они не понимали, почему она плачет — разве он обидел ее, этот незнакомый хромоногий человек? Сероцкий в смятении обнимал Олю за плечи, тихонько отстранял от себя — он растерялся от неожиданного приема. А Оля все крепче прижималась к нему, лила слезы на его шубу. Он бормотал, гладя ее волосы, похлопывая ее по плечу:
— Успокойтесь, хорошая, ну, успокойтесь, дорогая! Не нужно — на нас смотрят!
Это были первые слова, дошедшие до нее. Оля вытерла рукавом лицо, строго взглянула заплаканными глазами на учеников:
— Вот что, ребята, марш по домам, занятий больше не будет. Помогите родным по хозяйству.
Когда дети, толкаясь в дверях, вышли, Оля умоляюще сказала Сероцкому:
— Простите меня, Анатолий Сергеевич, так все вышло неожиданно. А я, дуреха, чуть разволнуюсь — в слезы. Ничего не могу с собой поделать.
Он ласково отозвался:
— Что вы — за что прощать? Я сам здорово разволновался — просто не думал, что так хочется свидеться с вами. Я считал, вы в Аваме, вас ведь туда назначили. А вы вон куда забрались, к самым белым медведям. Когда мне сообщили, что вы здесь, я сейчас же вскочил на нарты. — И, любуясь ее порозовевшим лицом, он закончил: — Помните, я обещал к вам приехать? До сих пор ничего не выходило, но думал об этом часто. А сейчас вырвался на несколько дней. Хотите не хотите, придется потерпеть — принимайте гостя.
Горячая обида подступила ей к горлу, она испугалась, что снова заплачет. Как он может так говорить — не хотите, придется потерпеть, принимайте гостя.
— Если б вы знали, сколько я думала о вас! Нет, вы не поймете!
Он дружески возразил — в увлечении он сам верил своим словам.
— Почему, Оля? Хотите, я расскажу нашу встречу в. Красноярске, слово за словом, шаг за шагом — каждая мелочь живет у меня в памяти. Тогда, может быть, и вы поймете, как я счастлив, что вы меня не забыли. Проверьте меня, Оля!
Оля поспешно прервала его, вся вспыхнув. Зачем ей проверять — она верит. Она, стараясь говорить спокойно, спросила:
— Вы помните, Анатолий, наших соседей — Павла и Мотю? Не знаете, что с ними? Такие хорошие люди, так мне помогли…
Он с гордостью ответил:
— Вы имеете дело с журналистом, Оля. Все знать — моя специальность. Мы великолепно ехали на барже. Павел с Мотей сошли в Игарке, некоторое время он там работал на лесозаводе. А сейчас, знаете, где они? Соседи ваши — в Дудинке!
— В Дудинке? — воскликнула Оля. — Боже мой, а я там была и даже не подумала, что они рядом!
— В Дудинке! — подтвердил Сероцкий. — Павел трудится на базе оборудования, живут на берегу Енисея. Я был у них, о вас разговаривали, Мотя даже всплакнула — так вы ей понравились. Ну, а вы как устроились, здоровы ли, пугает ли вас еще Заполярье? Что же вы молчите?
— Не знаю, — проговорила она растерянно. Она вспомнила эти месяцы — все разом: вот так и шла жизнь — учила ребят, ходила в кочевье, очень тосковала зимой по солнцу — что об этом говорить? Она попросила: — Нет, прежде вы, я потом.
Сероцкий с охотой описывал свои блуждания. Он интересно прожил эти полтора года, нигде долго не засиживался, накрутил не меньше пятнадцати тысяч километров — посетил Норильск, провел месяц на Диксоне, чуть не расшибся при посадке на аэродром, День Победы отпраздновал в Москве, снова вернулся в Красноярск и махнул на Нижнюю Тунгуску, потом полетел в Дудинку и северной санной трассой — к ней, к Оле, поглядеть на нее. Он взял ее руку, гладил пальцы.
— Просто сам удивляюсь, Оля, как я рад — словно лучшего друга встретил.
Оля пыталась защититься, он не догадывался, как действует на нее каждое его слово:
— Вы очень измучились в дороге, Анатолий, только всего. Так много изъездить!
В класс вошли Селифон и Жальских. Жальских хмуро подмигнул Оле, он сразу все увидел — и оживление Сероцкого, и румянец на щеках Оли, и сияние ее глаз. Селифон думал лишь о том, что сейчас нужно будет принимать большого начальника — корреспондента. Он важно проговорил:
— Товарищ Сероцкий, прошу в мой чум, бригадиры будут, охотники — поужинаем. И ты, Ольга Иванна, — очень прошу!
В дверях — они шли сзади — Сероцкий прошептал Оле:
— Интересно, чем он угостит нас?
Она ответила — тоже шепотом:
— Вкусной ухой из нельмы. Супы — специальность Селифона, он их обожает. Думаю, и печеный хлеб будет, это наше очередное достижение.
Он недоверчиво пробормотал:
— Может быть, может быть… Но спать у него в чуме я не решусь. Знаю я эти пологи — ночь проведешь, за два месяца не отмоешься. Лучше я где-нибудь у вас в классе — на столе…
2
Оля не позволила ему лечь на столе. Из двух скамей, покрытых мехами и застланных простынями, получилась неплохая постель, подушка тоже нашлась — ее праздничная малица из пыжиков, отороченная песцами. Сероцкий сообщил, что никогда еще так удобно не устраивался. Он лежал у стены, от Олиной кровати его отделяли два шага. Он деликатно отвернулся, чтоб не смущать ее. Она потушила лампу, присела на кровати, не решаясь раздеться. Он окликнул ее: «Вы уже, Оля?» Она торопливо ответила: «Не поворачивайтесь еще минутку», — и стала сбрасывать одежду, потом шепнула: «Теперь можно!»
Он повернулся, попросил разрешения закурить перед сном — его массивная трубка из корня можжевельника вспыхивала глубоким жаром, красное пятно падало на потолок. Оля смотрела в его сторону, видела его лицо — длинный нос, большие губы, волосатую родинку на щеке. Разве не таким представлялся он ей все эти месяцы, столько раз был с ней в этой комнате? И вот он тут — протяни руку, коснешься его плеча. Оля вдруг громко сказала: «Ах!», схватила лицо руками — желание ее осуществилось, когда она уже потеряла все надежды. Сероцкий удивленно поднял голову.
— Что с вами, Оля? — спросил он, выколачивая трубку.
— Ничего, — ответила она. — Что-то сердце сжало.
Он укоризненно заметил:
— Рано, рано, сердечные недомогания — атрибуты старости.
Она ответила — темнота придавала ей смелости:
— Как сказать. Ведь и молодые говорят, когда любят: «Сердце ноет!»
Он засмеялся. Да, конечно, на сердце все валят — оно и ноет, и горит, и кипит, сердце бывает злое, жестокое, неумолимое, искреннее, лживое, ласковое, отзывчивое, мягкое, доброе, надменное, прекрасное, мстительное, величавое, низменное, каменное, железное, золотое и прочее — людей столько нет, сколько разновидностей сердец. В этом она может ему поверить, его специальность — разбираться в людях, в среднем они более или менее одинаковые, он не встречал ни крайних злодеев, ни идеальных существ. А сердце, если говорить правду, только здоровое или больное, все остальное — туман.
— Ах, нет! — сказала она. — Это такой туман, в котором видно, — туман света. Верное сердце — разве это плохо?
Он в возбуждении приподнялся на кровати.
— Бросьте, бросьте! Световой туман — мистика, с этим пора кончить. В крайности можно говорить о характерах, человеческих типах, на это он еще согласен, а не о сердце или крови. Верный характер лучше, чем верное сердце. Разве не так?
Она ответила тихо:
— Можно и так.
Он опустился на свою постель. Ему показалось, что Оля не хочет поддерживать разговора. Она лежала лицом вверх, под головой были сложены руки — он заметил это при затяжке. Он спросил:
— Вы хотите спать, Оля?
Она ответила грустно:
— Нет, совсем не хочу.
— А о чем вы думаете?
— О вас… И о себе…
Он опять приподнялся, посмотрел в ее сторону — в темноте ничего не было видно.
— Обо мне? А что обо мне?
Оля ничего не ответила. Он повторил свой вопрос. Ему почудился неясный звук — не то смех, не то всхлип. Он сказал: «Что же вы молчите?» — и подождал, потом слез и неуверенно подошел к ее постели. Он положил руку на ее волосы, погладил их, провел по щеке — она была суха и горяча, он ощутил пылающий румянец в своей ладони. Он шепнул:
— Олечка, что с вами?
Она вдруг схватила его руку, поцеловала ее, не отвечая. У него самого пропал голос, пересохло в горле. Он услышал со стороны, как шумно забилось его сердце, она тоже услышала и испуганно отодвинулась. Он быстро отдернул одеяло, лег рядом. Он еще не верил, ожидал сопротивления. Так действуют все женщины, так поступит и она — немного возмущения, немного упорства и потом — в конце — страсть. Одинокая женщина, много же ей пришлось испытать, каждому человеку хочется ласки, завтра они расстанутся, но с благодарностью вспомнят об этой ночи.
Но Оля не знала, как действуют другие женщины, как следует действовать ей. Она ответила на поцелуй поцелуем, вся потянулась к нему, потом, затрепетав, стала его отталкивать. И он, уже не владея собой, все же понял, как жестоко в ней ошибся. Она снова прильнула к нему, бурно его целовала, а он прошептал, потрясенный, страдая за нее:
— Олечка, я даже не догадывался. Как же ты так — сразу?
Она ответила, ей казалось, что она этим объясняет все:
— Я думала о тебе — каждый день, каждый час…
И это он понял. У Сероцкого было цепкое воображение — он увидел ее жизнь, длинные месяцы, мысли о нем.
Она тянулась к нему, ждала его — его, почти забывшего ее. Это была подлинная любовь, не всякий удостаивается такой, и он ее не заслужил, нет! А он увидел во всем этом только мелкое приключение. Что он противопоставит этой любви, как поднимется до нее? Он почувствовал острое негодование на себя, ему захотелось бить себя кулаками по щекам. Он невольно застонал от стыда за прежние свои мысли.
Оля тревожно обняла его, горячо зашептала в ухо:
— Что с тобой, дорогой, скажи мне…
Он ответил с глубокой скорбью:
— Олечка, прости меня, я тебе не сказал — я женат. Она еще крепче прижалась к нему, он ощутил, как вдруг окаменело ее тело. Он заговорил снова, пытался оправдаться, утешить ее, она прервала его:
— Не надо, Толя… Я ведь не спрашивала, ты не виноват. Я хочу, чтобы ты знал — я люблю тебя, очень люблю… Но только молчи, слышишь, молчи!
Он молчал. Он ласкал ее, целовал ее волосы и руки, гладил ее плечи. А она словно изнемогла — только прижималась к нему, вбирала в себя тепло его тела. Так шла их любовь, терпкая, как горе. В соседней комнате ходики гулко отсчитывали секунды, секунды складывались в минуты — бежали часы. Под конец он забылся, он слышал сквозь сон, как она поцеловала его в губы, потом проступили звонкие детские голоса, они звенели поодиночке, складывались в общий крик, и снова наступила тишина. Он вскочил, растерянный, — в окно светил полдень. Оли в комнате не было. Сероцкий поспешно оделся и вышел во двор. Он тотчас увидел ее — она стояла на вершине холма у выстроенной недавно бани. Он подошел к ней и тронул за плечо, она обернулась. Лицо ее было бледно, глаза распухли от слез.
— Оля, это из-за меня? — спросил он покаянно.
Она покачала головой, протянула руку в долину, на юг. Тонкий золотой ободок крался вдоль горизонта, уходил в землю. Оля сказала:
— Сегодня последнее солнце — четыре месяца его не будет.
Она добавила с болью:
— Если бы ты только знал — так трудно без солнца!
3
Оля не упрекала Сероцкого, была нежна и ласкова — всю вину за случившееся брала на себя. Но он не мог не понимать, что ей тяжело. Он старался как-то утешить ее. Сероцкий чувствовал, что обычные слова не подходят. Оля поражала его, он не ожидал в ней таких изменений. Из робкой наивной девочки — такой он встретил ее в Красноярске — она превратилась в умную серьезную женщину, ему не соврали там, в Волочанке. Он рассказал ей о своей семье. Сошлись они с женой, в сущности, случайно, жизни настоящей у них нет. На все они смотрят разными глазами. Но она любит его, а он ее жалеет. «Понимаешь, не могу я бросить Катю — боюсь за нее!» — сказал Сероцкий сумрачно. Оля ровно кивнула головой, улыбнулась: «Да, конечно, Толя!» Она только спросила, был ли он уже женат, когда они встретились в Красноярске. Он признался: «Был, Оля!» Она вспомнила, как он расписывал свое кочевое одиночество, но промолчала — упреки не могли ничего изменить.
Он должен был пробыть три дня в становье, жил десять. Это были печальные и радостные дни, каждый оставался в памяти. И когда Сероцкий уезжал, он долго целовал Олю, уверял, что они еще встретятся. Она провожала его километров десять. В тундре они обнялись, она прижалась к нему, ей нелегко было оторвать от себя полтора года жизни, первую свою любовь.
— Обязательно увидимся! — повторил он. — Я буду писать тебе, еще приеду. До свидания, Оля, до свидания!
— Прощай! — сказала она грустно. — Прощай — люблю тебя!
Она не заплакала. Она сама удивилась — давно ли от каждого пустяка слезы бежали у нее ручьями. Она не торопилась возвращаться, у самого становья задержала оленей. Над ней бушевало полярное сияние, очередной праздник совершался в высоте. Снег вспыхивал отражением небесных огней, по земле бежали полосы света, похожие на тени. Она не взглянула вверх, не видела сияния снега, ни о чем не думала, просто отдыхала — без мыслей, без желаний. Потом она погнала упряжку, устало и спокойно сказала вслух:
— Вот и все — и хватит! Теперь только работать.
Это было ее спасение, она понимала. Работа захватывала Олю, с каждым днем становилось все интересней. У нее было уже три класса. В конце ноября приехал новый учитель — Никифор Бетту, пожилой ненец — он учительствовал раньше за Дудинкой, имел опыт, его уважали ученики. Оля осталась в старой комнате. Бетту с семьей отвели недавно поставленную избу, он взял себе младший класс. Теперь Оля получила новое звание — заведующая начальной школой. Это были добавочные деньги, которые все равно не на что было тратить, и добавочные заботы. Когда она заговорила о предстоящей поездке на зимнюю сессию, в красном чуме созвали совещание — что она должна везти с собой, какие поручения колхоза ей нужно выполнить и кто поедет с ней в такую ответственную поездку.
— Пусть едет Селифон с Ольгой Иванной, — предложил Тоги. — Пусть вместе едут. Столько дел в Дудинке, ты поможешь Селифону, Ольга Иванна.
Сероцкого Оля вспоминала редко.
Это была глухая боль, память отгораживалась от нее. А когда он все же приходил на ум, Оля говорила себе: «Это не вернется — нечего копаться в прошлом!» Но Сероцкий напомнил о себе, хотя не присылал писем, — Оля поняла перед Новым годом, что забеременела.
Она опять лежала без сна, глядела сухими глазами в темноту, думала о нем — все о нем. Но думать о нем было напрасно, он не вернется. Нужно было думать о ребенке — быть ему или не быть? А этого Оля не могла. Любовь была живым существом в ней, более живым, чем ребенок, сам он являлся только частью этой охватившей ее всю, как пожар, любви. И Оля кусала себе руки от отчаяния — как смел появиться ребенок, когда ушла в пустоту любовь? Какую жизнь готовит ребенку она, неразумная мать?
4
Дорога была тяжелой — мороз упал ниже пятидесяти градусов, в кромешной темноте шипел по снегу ветер, временами он обрушивался разъяренной пургой. Только сейчас Оля узнала до конца, что такое полярная зима: олени бесились, поворачивали назад, навстречу ветру — так было теплее, холод не забирался под шерсть. И сама она, в трех своих меховых одеждах, замерзала. От ледяного дыхания января не спасали ни костры, ни полог — только движение, а двигаться все время не было сил. Около Волочанки они сутки отсиживались в снегу — чум поставить не удалось. В эту пургу они потеряли двух оленей. На Пясине их несло по гладкому льду, ни люди, ни олени не могли остановиться, ветер ревел так мощно, что Оля не слышала своего голоса. Она отчаянно цеплялась за нарты, не выпускала из рук вожжи — все спасение было в оленях, потерять их было то же, что расстаться с жизнью. Ее вместе с упряжкой вметнуло в какую-то закрытую лощинку. Тут было тише, она смогла отдышаться. Селифон нашел ее только через сутки, его пронесло дальше. Оля услышала его далекие крики, сама кричала изо всех сил, но пока не столкнулись упряжки, они не увидели один другого. За Селифоном шел. Черие, тот еле передвигал ноги от усталости.
За Пясиной нашлись попутчики, в Дудинку приехали целым аргишем. Оля пришла на квартиру к Ирине Кравченко, та приглашала ее в каждом письме. Ирина жила вдвоем с невысокой девушкой, Верой Турдагиной, — удлиненное лицо, большие блестящие глаза, густые волосы выдавали ее происхождение, она была эвенка, недавно приехала из таежного селения, где окончила с отличием среднюю школу, сейчас училась на фельдшерских курсах. Ирина радостно встретила Олю, а Вера влюбилась в нее с первого взгляда — краснела, когда Оля к ней обращалась, бежала исполнять каждое ее желание, в первую же ночь, ничего не сказав, выстирала и выгладила ее белье. Оле стало совестно от такого усердия, она попросила Ирину намекнуть Вере, что делать этого не надо. Ирина энергично отмахнулась.
— И не подумаю! — отрубила она. — Не смейте отказываться — ясно? Вот еще что вздумали — обижаться!
— Я не обижаюсь! — запротестовала Оля. — Но поймите, Ирина, мне неудобно.
Ирина стояла на своем:
— Глупости — неудобно! Все очень удобно. Я расписывала вас как героя — самая северная в мире девушка. Я ваши письма Вере читала, обещала, что скоро приедете. Нет, нет, Оля, все в полном порядке — Вера хорошая девочка, она правильно ведет себя.
На другой день после приезда Оля отправилась искать Мотю и Павла. Она знала, что Павел работает на базе Норильского комбината и живут они где-то на берегу Енисея. Но весь берег реки за причалами был густо застроен «балками» — хибарками, собранными из случайного строительного материала — бревен, горбыля, ящиков и даже фанеры. Оля растерянно оглядывалась. Балков были сотни, они стояли кучками, растягивались в улицы, подступали к многоэтажным домам городского типа — это был целый своевольный поселок, стихийно возникший возле официального города. Чтоб обойти все домишки, нужно было потратить дня два, такого времени у Оли не было.
Оля в свободный час отправилась на базу промышленного оборудования. В конторе базы ей разъяснили, что у них работает несколько сот человек, но может ли девушка назвать хотя бы фамилию рабочего, которого она разыскивает? Но фамилии Павла Оля не знала, она забыла ее спросить при расставании. Когда Оля, расстроенная, выходила из конторы, ее остановил сторож.
— Знаю я твоего Павла, — сказал он. — Знаю, девушка. Из Игарки приехал, невысокий такой, из фронтовиков? И жена Мотя? Он, конечно. И живет за радиостанцией, хороший такой балок, хозяйственный. А номер балку не то сто три, не то сто тринадцать — сама посмотришь. Здесь Павла своего не ищи, рабочие сейчас в затоне, баржи перегружают.
Оля побежала к радиостанции. Скоро она убедилась, что найти указанный дом совсем не просто. В этом поселке, повисшем на крутом обрыве над рекой, не было ни улиц, ни порядка в номерах. Очевидно, номера присваивались домам в зависимости от времени их возникновения, а не по месту — рядом со сто четвертым находился пятьдесят первый, после девяносто третьего шел семнадцатый. Оля стала высматривать лучшие балки, самые новые и добротные. В стороне от других домишек стояла крепко сбитая избушка с радиоантенной и палисадничком, в котором, однако, ничего не росло. Оля приблизилась к избушке, сердце ее забилось — на дверях масляной краской был выведен номер — 113.
Оля уже подняла руку — постучать, но не постучала. Она вдруг поспешно отошла, чуть не побежала. Ее охватил страх перед свиданием с этими людьми, встречи с которыми она так желала. Она почувствовала, что не смеет видеть ни Мотю, ни Павла.
Оля остановилась на обрыве высокого берега, прислонилась к стенке какого-то домика, глотала молчаливо слезы. Внизу в сером полусвете зимнего полудня простиралась необозримая, окованная льдом река. Где-то у горизонта выступал черноватыми кустарниками остров Кабацкий, дальше, за горизонт, снова тянулись ледяные просторы реки. Все это обширное пространство было полно жизни. Посредине реки возились рыбаки на зимнем подледном лову, ближе к берегу мчались автомашины с грузами, тащились вездеходы, тяжело дышали мощные гусеничные тракторы. Прожекторы с берега оттесняли быстро опускавшуюся полярную тьму, выхватывали из тьмы широкую полосу реки — уже не было видно ни острова, ни рыбаков, только машины и склады.
Тоска грызла Олю, она знала, что больше у нее не найдется решимости возвратиться к домику Павла. Встреча с этими людьми была невозможна. Они начнут расспрашивать ее о Сероцком — что она им скажет? Нет, и они и он — кусок навсегда ушедшего прошлого, оно не возвращается. И хорошо, что не возвращается, — пора его забыть.
Оля отвернулась от реки, торопливо пошла домой. Нужно было отдохнуть перед вечерней сессией. Она устала словно после трудной и долгой работы.
Дудинка, хоть она на девять десятых состояла из деревянных рубленых домов и дощатых балков, была центром обширного округа, — здесь можно было весело пожить. Ирина считала своим долгом скрасить Олино существование, она доставала билеты в кино, на спектакли, на танцы — вечера были еще больше заняты, чем в первый приезд. Дудинка была почти все зимние месяцы отрезана от остальной страны снегами и тайгой, не ходили даже самолеты из-за длительных непогод, но в ней можно было достать свежие продукты, кое-какие фрукты и овощи. Ирина проявила расторопность и в этом, а Оля жадно накинулась на деликатесы. Ирина была не только энергичной, но и проницательной подругой, она очень скоро сообразила, почему из предлагаемых редкостей Оля более всего предпочитает соленые огурцы, хотя виноград на севере встречается ничуть не чаще. Оля не скрытничала, ей все равно должна была понадобиться дружеская помощь. Ирина, узнав подробности, пришла в ужас.
— Негодяй! — возмущенно отозвалась она о Сероцком. — Просто мерзость, а не человек!
Оля сказала с горечью, словно все это хорошо знала:
— Ах, Ирина, все мужчины такие, Анатолий еще лучше других. Он хоть примчался в полярную зиму за тысячи километров, чтоб увидеть меня.
— Негодяй! — упрямо повторяла Ирина. — Не спорьте, Оля, я лучше знаю. Ваш Анатолий два раза появлялся в Дудинке, все его помнят — вечный хохот, остроты, нет вечера, чтоб не пил с приятелями в столовой — откуда они только спирт достают? Вот как он изучает северную жизнь — в пивнушках и кино!
Эти слова больно укололи Олю. Ей легче было примириться с мыслью, что Сероцкий не любит ее, чем с тем, что он вызывает неуважение окружающих. Ирина категорически заявила:
— И думать не смейте о том, чтоб рожать. Это ужасно — в полутысяче километрах от ближайшей больницы, без родных и друзей, одинокая двадцатичетырехлетняя мать. Как вы убережете ребенка? Что вы ему после скажете? Признаетесь — ошибка, мол, молодости? Честное признание не заменит отца — даже плохого.
— Друзья у меня есть, — нерешительно возражала Оля. — Вы не представляете, Ирина, как хорошо ко мне относятся в колхозе.
— Беру это дело на себя, — постановила Ирина, не слушая возражений. — За хорошие деньги в Дудинке все можно сделать. Завтра пойду к знакомому врачу — у него огромный опыт.
Этот разговор происходил вечером, после возвращения Оли с сессии, — Вера уже спала. Скоро заснула и Ирина, но Оля до утра ворочалась в постели — то решалась, то отменяла свое решение. Собственно, что нового нашла она в предложении Ирины? Одной из причин, почему Оля так торопилась в Дудинку, была эта. Аргументы Ирины повторяли мысли самой Оли. Как жить ребенку без отца? Может, будут у нее и муж, и любовь, и дети. Да, конечно, будут — но этого, который уже есть, не будет. А ему все равно — молодая она или старая. И разве она уже не любит его, своего ребенка? Как же она может решиться на такой злой поступок? Кто ей дал право поднимать руку на уже живущее существо? Нет у нее такого права, никто его не давал. И Оля металась, прятала в подушку рыдания, готова была разбудить Ирину, крикнуть ей: «Ни за что! Слышите — ни за что!» Ах, так это нелегко — не дать быть человеку!
5
Ирина внимательно читала письма Оли, скоро в этом убедились и Оля и Селифон. Их вызвали к председателю окрисполкома. Заседание было недолгим, но бурным. Ирина докладывала положение дел с животноводством в национальных колхозах округа и половину своего сообщения отвела колхозу «Новый путь». Селифон со смущением увидел, что ей все известно — и о падеже молодняка, и о нехватке кормов во время слишком ранней перекочевки на север, и о запрещенных формах охоты на диких оленей и гусей. Все окружные работники осуждали его, ни один не похвалил за большую добычу. Присутствующий на совещании Яков Бетту, низенький и язвительный, председатель самого богатого из национальных колхозов, добавил еще от себя. Этого Селифон не мог снести — Яков был главным его соперником, перегнать или хотя бы догнать Якова было неизменной мечтой Селифона.
Ирина довольно шепнула Оле:
— Ну, досталось вашему Селифону, сидит как на иголках. Думаю, наконец, вправили ему мозги.
Председатель подводил итоги прениям.
— Перестраиваться надо, товарищ Чимере, — сказал он. — Пора кончать с варварством. Потраву линных гусей и поколки категорически запрещаю. В остальном рекомендую перенять у товарища Бетту практику их колхоза — охотничьи бригады комплектуются отдельно от животноводческих. Плодовое стадо медленно движется по ягельникам, а охотники преследуют диких. Тогда дело у вас пойдет.
Селифон, стараясь не глядеть на торжествующего Якова, буркнул:
— Перестроимся, товарищ председатель. Переймем. Обещаю.
Ирина сказала Оле после заседания:
— Завтра идем к врачу, я обо всем договорилась.
Еще через день Олю свезли в местную больницу — большая потеря крови. Оля лежала молчаливая, измученная, плохо ела. Врач, высокая быстрая женщина, осмотрев ее, сказала с гневом: «Под общественный суд таких, как вы, чего вам не хватало — квартира есть, зарплата хорошая. Я понимаю, эти дуры — в общежитии по две на одну койку, в самом деле нелегко!» Оля всю ночь проплакала, вспоминая слова врача. Слезы, однако, горю не помогли, да и неловко было плакать перед другими — сама пожелала. Больница стала ей нестерпима, она выписалась и отлеживалась у Ирины. К Оле приходили гости, Селифон и Черие прибегали каждый день, появился даже заведующий окроно. Селифон, уже примирившийся с нагоняем, полученным в окрисполкоме, то хвастался своими приобретениями, то ужасался, что придется возвращаться одному. Он утешал Олю:
— Черие подождет тебя, Ольга Иванна. С Черие поедешь.
За Олей ухаживала Вера, у нее было больше времени, чем у Ирины. Казалось, ей доставляло наслаждение часами сидеть около молчаливой Оли, всматриваясь в нее блестящими, чуть раскосыми глазами. Она поправляла Оле подушки, приносила чай, кормила ее. Однажды она сказала с глубокой убежденностью:
— Я очень хочу поехать к вам, Ольга Ивановна, я попрошу после курсов — пусть меня пошлют в ваше стойбище.
Оля стала ее отговаривать. Зачем ехать так далеко, может быть, ее оставят в Дудинке или пошлют в ближайшие колхозы. В Дудинке есть совхоз, много сел по Енисею — разве там не лучше, чем в их становье? У них только название хорошее — «Новый путь», а кроме названия, ничего нет, это надо признать, молодой девушке там покажется страшно.
— Вы же там работаете, — сказала Вера. — Где люди хорошие, там хорошо. — Она посмотрела преданными глазами на Олю и докончила: — С вами хочу быть, Ольга Ивановна, очень хочу.
Выздоровление Оли шло трудно, даже Ирина удивилась — нормально через три, ну пять дней можно идти на танцульку, а Оля внешне казалась очень здоровой — кто бы мог ожидать таких последствий? Как-то вечером Ирина пришла растроенная, хмуро поздоровалась и села за книгу, не спросив об Олином здоровье.
— А-а, да ничего со мной, — ответила она с досадой на удивленный вопрос Оли. — Устала, заседание за заседанием.
Но Оля видела, что Ирина что-то скрывает, она не отставала — нет, в самом деле, что случилось? Ирина вначале крепилась, потом сдалась — вытащила из сумочки письмо и бросила его на кровать.
— Вот от вашего приятеля, увидела на почте, взяла. — Она сердито сказала: — Дура я, нужно было разорвать или сжечь, нечего вам с таким типом переписываться. Думала, пока припрячу, потом видно будет, но не смогла.
Руки у Оли сразу ослабли, ей трудно было удержать на весу легкий листок. Это была небольшая записочка, одна страничка. Сероцкий сообщал, что прискакал в Красноярск, здесь придется временно осесть. Он не забывает Олю, надеется, что они еще увидятся. Он часто вспоминает и встречу в Красноярске и свидание в стойбище — нет, было хорошо, кусочек радости в трудной в общем жизни. «Напиши, Оля, жду сообщений. Твой Анатолий!» Вот и все — милое письмо, искреннее и непосредственное, как он сам, — пустое письмо! Так нетрудно писать подобные письма, ничего за ними не стоит. Меньше всего он думал о ней, он отписывался, как, вероятно, делал уже не раз в подобных случаях.
Оля протянула письмо Ирине, сказала горько:
— Бросьте это в печку.
Ирина широко открыла глаза. Она подошла к Оле, присела на ее постель. Нет, серьезно — в печку? Значит, Оля поняла, что нужно рвать с такими людьми? Конечно, Сероцкий — ошибка в ее жизни, не ошибаются только святые, она не собирается упрекать Олю, тем более — она сама убеждала забыть его. Ее очень радует, что Оля берется за ум — пора! Но зачем в печку, пусть остается — все-таки память!
— Не нужно памяти, — ответила Оля. — Ничего не нужно, Ирина. Прошу вас — сожгите!
В этот вечер забежал на несколько минут Селифон — проститься с Олей, он уезжал в становье. Вместе с ним пришел Жальских, приехавший в Дудинку за новой партией товаров. Он, похоже, догадывался, что с Олей, — долго всматривался в нее хмурым взглядом, не удержался от упрека:
— Вот довела себя. А могло бы быть все по-другому.
Оля поняла, на что он намекает. В становье Жальских держался прилично, не напрашивался в гости. Но в словах он не всегда сдерживался, глаза его тоже были красноречивы. Он всем, чем мог, показывал, что только от Оли зависит, как сложатся их отношения, а сам он готов на все — будет хорошим мужем. И сейчас, когда Селифон ушел, он, понизив голос, чтобы не слыхала Ирина, повторил то же самое:
— Обидно мне, конечно… Это ты понять можешь. А если хочешь, так я и рад — наука тебе, сама теперь сумеешь разобраться, кто играет в любовь — недельку поживет и в другую командировку, а кто всей душой — навсегда… Вас, молодых, только горе учит, ты теперь ученая.
— Оставим это, Прокопий Григорьевич, — попросила Оля. Она улыбнулась жалкой улыбкой — и слова ее и улыбка говорили, что он угадал — и друг только поиграл в любовь, и болезнь ее такова — горе, которое учит. Обсуждать это не нужно, слишком все это тяжело.
Но Жальских показалось, что теперь у него появилась надежда. Он заговорил возбужденным шепотом:
— Может, ты в другом сомневаешься? Так не думай. Я теперь эти штуки полняком бросил. В тот раз ведь что вышло? Только из лагеря выскочил, хотелось быстро нажиться. А сейчас — зачем? Зарплата у меня с полярными — двойная, охотой еще столько же добавляю, бывает — и больше. Честным быть выгоднее, каждый рубль, что принесу тебе, своими руками заработан. Пойми, Оля, лежишь ты у меня на сердце!
Оля покачала головой, слезы текли по ее щекам, она их не вытирала.
— Не надо, Прокопий Григорьевич. Ни в чем я не сомневаюсь, но женой вашей не буду. И ничьей не буду женой, не судьба мне. Давайте никогда об этом не говорить, будем друзьями.
Он молчал, подавленный. Она спросила, чтоб нарушить тягостное молчание:
— Ну, как, много нового? Война кончилась — стало лучше?
— Да как сказать, смотря в чем, — ответил он угрюмо.
Оля продолжала спрашивать, он нехотя отвечал. С охотничьими припасами, конечно, лучше — пороху, пуль дают сколько угодно, ружья появились, лесу больше — можно строиться. Но насчет пищи пока не густо, да и одежонкой не радуют. Твердят со всех сторон — последствия войны, сразу всего не наладить. Конечно, национальные колхозы не поджимают, помогают, сколько могут. Но человек ведь никогда доволен не будет — хотелось бы всего, чего требует душа.
В комнату вошла Вера, Оля познакомила ее с Жальских.
— Хочет девочка к нам! — заметила она. — Только одно твердит — поеду в ваше становье.
— А чего, пусть едет! — сказал Жальских, думая о своем и не глядя на Веру. — И нам веселей, и ей неплохо — жить у нас можно. А что мужиков больше, чем женщин, так обратно ничего — мужики нынче битые, клыки пообрезанные, а девки — наоборот, зубастые. — Он поглядел на Олю, невесело засмеялся и закончил: — И получается при таком странном состоянии полное равноправие.
Когда Жальских около полуночи ушел, Вера сказала с чувством:
— Мне он понравился, так интересно говорит, особенно про охоту. Правда, он человек добрый?
— Добрый, — ответила Оля. — Он во всяком случае старается понапрасну никого не обидеть.
Оля рассказала, кто такой Жальских, упомянула, что он лучший у них охотник, — только не сообщила ничего о том, как он пытался нажиться на нганасанах и как сложились ее с ним отношения.
6
Это случилось в воскресенье, Ирина и Вера были дома. Оля привскочила на кровати, услышав знакомые голоса.
— Можно? — громко сказал Павел, открывая дверь и отряхивая снег с валенок. — Принимай гостей, Оля!
А Мотя, опережая Павла, прямо кинулась к кровати.
Она заплакала, еще не успев обнять Олю, растроганный Павел тоже сопел, хлопая Олю по плечу.
— Ну, бабы, — сказал он, стараясь скрыть свое волнение. — Нет того, чтобы сырость каждый раз не разводить. Ну, чего вы ревете? Смеяться надо, а не плакать. Вставай лучше, Оля, отпразднуем встречу.
Он деловито поставил на стол принесенные с собой припасы — вино, консервы, картошку. Ирина поспешно ответила за Олю:
— Нет, нет, ей вставать нельзя, она нездорова.
Мотя испугалась, встревоженный Павел тоже подошел к кровати.
— Я уже выздоравливаю, — успокоила их Оля. — Просто так, немного прихворнула. Но вставать мне в самом деле пока не нужно. Вы посидите около меня, ладно? И скажите, как вы меня нашли?
— Он нашел, — показала Мотя на Павла, а тот объяснил с гордостью:
— Дело простое, во вчерашней газете твоя фамилия поминается. Я, конечно, сообразил, что это ты, другой Журавской откуда тут взяться? Ну, зашел в ваше учреждение, мне растолковали, где ты квартируешь. Вчера еще собирались, пурга началась к ночи, решили — сегодня.
Он показал Оле газету со статьей заведующего окроно, посвященной итогам зимней учительской сессии. Мотя и Ирина хлопотали у стола, Оля запоздало сказала:
— Познакомьтесь с моими подругами.
Стол подтащили к кровати, Вера принесла еще подушек, и Оля удобно устроилась сидя. Больше всего ей хотелось узнать, как Павел и Мотя живут, почему они уехали из Игарки. Павел объяснил, что Игарка город хороший, только скучноватый, жизни там меньше, чем в Дудинке, хотя Дудинка и севернее.
— Летом здесь на реке, как на проспекте, — сказал он. — Толчея. Моряки с Ледовитого океана, баржи с юга, днем и ночью кипит работа, ну, красота!
Он рассказал, как, приехав, они сняли угол в балке у знакомого. И тут же начали ставить свой балок, не дожидаясь, пока их поселят в городском доме. Сейчас они стоят на очереди, скоро сдается четырехэтажный каменный дом со всеми удобствами, комнату им там обещают. Ну, а переедут ли, еще не решено, в балке у них тоже не плохо, две комнаты, радио, электричество, водопровод совсем рядом, а летом лучше и не надо — вроде дачи на берегу реки.
— Приезжать будешь, у нас останавливайся, Оленька, — пригласила Мотя. — Комнату тебе целую отдам, сможешь и отдохнуть и позаниматься — не помешаем.
— Сероцкого помнишь, Оля? — спросил Павел. — Он ведь отыскал нас. И куда-то в ваши края потом отправился. К тебе, случаем, не заезжал?
— Заезжал, — ответила Оля. — Он около двух недель прожил в нашем становье.
Она говорила спокойно, ей казалось, что она ничем не выдала своего состояния. Но когда Павел пустился в новые расспросы о Сероцком, Мотя вдруг прервала его и заговорила о своей работе. Так они беседовали, перескакивая с одного на другое. Вечером Ирина с Верой ушли в клуб, а Павел начал зевать.
— Пошли, Мотя, — предложил он. — Завтра рано на работу. И Оле отдохнуть надо.
— Ты иди, а мы поболтаем без мужского уха, — ответила Мотя. — Нужно нам о своем еще потолковать.
А после ухода Павла Мотя, обняв Олю и ласково заглядывая ей в глаза, сказала:
— Так что с тобой, Оленька? Мне-то все можешь сказать, как матери. Чем ты нездорова? Павел о Сероцком помянул, как ты закраснелась. Было у вас что?
И Оля ей все рассказала, даже то, чем не поделилась с Ириной, что сама себе запрещала вспоминать. Мотя гладила ее волосы, целовала голову, утешала. Еще ни перед кем Оля так не раскрывалась — может, только с давно умершей матерью. И еще никто так не горевал ее горем, не радовался ее удачам, не верил в ее будущее больше, чем Мотя в него верила. Ни одного плохого слова не сказала она о Сероцком, ничем не упрекнула Олю — она все понимала.
— Ладно, дочка, не одно счастье, трудная и неровная эта дорожка — жизнь, — шептала Мотя. — А будет оно, счастье, Оленька, все будет, увидишь!
— Будет, — бормотала Оля, прижимаясь щекой к Мотиным шершавым, крепким и добрым рукам. — Все будет!
Она так и заснула, не отпуская Мотиных рук.
День катился за днем, месяц шел за месяцем — год переворачивался, как страница книги. Много важного случилось в этот год — Селифона весною вызвали на курсы председателей колхозов, он пробыл все лето и осень и вернулся другим — в коротком ватном пальто, новеньких валенках, привез кучу книг — теперь он и читал по-иному, хорошо выговаривал слова, знал назубок международные события. Он с гордостью показывал кандидатскую карточку — приняли в партию, сам председатель исполкома давал рекомендацию. В отсутствие Селифона колхозом руководил Тоги — нелегкая ему выпала летовка. Он пытался вести кочевье по-старому — все подчинить охоте. В становье приехали уполномоченные из округа. Тоги пришлось уступить — организовали специальную оленную бригаду и отправили ее отдельно от охотников. С бригадой этой ушел Надер, Тоги возглавил охотников. Оля тоже ушла с Надером. Из Дудинки ее запросили, не хочет ли она провести лето на юге их края, имеется путевка в Шира — санаторий под Красноярском. Но Оля отказалась, ей были неприятны воспоминания о Красноярске. И хотя лето выпало нехорошее, лили непрерывные дожди — олени сбросили рога только в конце июня — она не раскаивалась.
Осенью в становье приехала Вера, она даже всплакнула от радости, увидев Олю. Вера сообщила новость — в их становье организуется фельдшерский пункт, ее помощник, ветеринар — это была тоже девушка, Манефа Якушина, — прикрепляется к кочевой оленной бригаде. Вера привезла Оле литературу и письма. Оля просмотрела книги, письма оставила на потом. Она пошла с обеими девушками по становью, показывая новые помещения. Медицинский пункт, пристроечка к правлению очень понравились им. Вера сообщила, что в Дудинку прибыла партия приемников, в исполкоме составляют списки, кому выдать. Ирина передает, что расшибется в щепу, но добьется одного приемника в их становье. У заготпункта Оля предложила:
— Зайдемте в магазин — вы помните Прокопия Григорьевича, он тогда приезжал? Он будет очень рад.
Жальских вправду обрадовался. На столе сейчас же появилась закуска, свежий хлеб и спирт — без выпивки Жальских не признавал радостей.
— Знал, что приедешь, — сказал он уверенно Вере. — У нас не пропадешь, это я тебе точно. Красота, кто понимает.
Вера глядела на него большими, чуть раскосыми глазами, она была довольна, что он не забыл ее.
— А вы сами не уезжаете? — спрашивала она. — И Ольга Ивановна не уедет? Ваши родные места на юге, правда?
Он широким жестом обвел вокруг.
— У меня вся страна — родина. Я тебе скажу так — хорошее здесь место. Зимой, конечно, темь, холод и пурга — не без того. Зато нигде нет такой охоты — гусь, песец, рыба, куропатка, заяц. И воздух — с февраля солнце, снег крепкий, как доска, — роскошь! А воля! На полтысячи километров скачи — все наш колхоз!
Оля улыбнулась.
— Тебе стихи писать о нашем крае, Прокопий Григорьевич, многие бы с интересом прочли. О себе скажу по-честному — была бы возможность уехать из этого ужасного места, сейчас бы уехала.
Она теперь дружила с Жальских — как-то незаметно стала ему говорить «ты». Он подмигнул на нее девушкам.
— Знаем таких — зарекались, зарекались, как увидели, снова бросились. Ты севером отравленная, как и я, Оля. Вон даже в отпуск не поехала в Красноярск. Ты же без оленей дня не проживешь, а где на твоем юге разлететься на нартах?
Оля смеялась вместе с ним. Каждый день вместе с учениками, а то одна она выезжала на нартах в тундру и мчалась по руслу реки, впадавшей в Хатангу. Это становилось привычкой — прогулки отменялись только в черную пургу. В самом деле, ей было бы трудно без нарт и оленей.
Она оставила девушек у Жальских. Он решительно сказал, встав у двери: «Пока не выболтаюсь, не пущу гостей!»
Оля в своей комнатке разбирала письма. Одно было от Моти и Павла, хорошее ласковое письмо. Два — от Сероцкого, совсем недавние. В первом Сероцкий сообщал, что очень обиделся, не получив ответа, решил даже не думать об Оле. Он так и писал: «В конце концов, Оля, нас свело только наше одиночество, что ты знаешь обо мне, что я — о тебе? Разумнее, конечно, было бы забыть о нашей связи, тем более что ее нет — самой связи». Но, оказывается, это не выходило — забыть. Он забывал — она вспоминалась. Он забывал крепче — она вспоминалась чаще. Он запоздало понял и признавался: «Я люблю тебя, Оля, просто черт знает что — так люблю! Сам иногда не верю — ты стоишь передо мной живая, я все вспоминаю, как ты сказала: «О вас… и о себе». И как шли эти дни — в темноте, морозные, такие горячие! Олечка, милая, возлюбленная, — отзовись!» А второе было совсем путаное, он предлагал руку и сердце, он так и писал: «Сердце мое с тобой, только сейчас я это понимаю по-настоящему, а насчет остального не беспокойся, сможем официально оформить наши отношения — я начинаю дело о разводе. Но только напиши, молю, напиши!»
Оля легла на кровать, думала, вспоминала. Итак, он пришел, ее час, — полтора года она терзалась в одиночестве, теперь его черед — он заболел любовью. Боже, сколько она ждала такого письма, таких слов, одно из них — любое — сделало бы ее навсегда счастливой. Не глупи, Оля, это ведь твоя любовь, другой не было, не отвергай ее только потому, что на первом шагу споткнулась. Сама же говоришь, со многими это бывает, не надо быть нетерпимой.
— Нет, Оля, — сказала она себе вслух. — Где же нетерпимость? И не в ребенке одном дело. Но только не нужны тебе эти его чувства — даже сейчас он не думает, что было с тобой, что могло быть с тобой.
Она вслушивалась в свои слова, удивлялась — она была иной, чем думала о себе. Нет, в самом деле, куда подевалась та глупая, боязливая, то беззаботно веселая, то плачущая девчонка? Это не она, та, что сейчас лежит на постели, — строгая, спокойная, рассудительная — такой ее не узнают, она сама себя не узнает. И самое главное: она так любила, так жила своей любовью — где любовь?
ГЛАВА ШЕСТАЯ УГАРОВ
1
В школу ворвался Ядне Нонне и закричал: «Самолет!» Старшие классы закончили занятия, малыши, начинавшие позднее, еще сидели. Оля поспешила наружу. Самолет сел прямо в тундре, у самого становья. Из него вышли три человека и пошли в правление. Оля направилась туда же, а ребята помчались к самолету. В правлении собрались все находившиеся в стойбище бригадиры и охотники, сам Селифон принимал гостей. Он радостно закивал Оле, представил ей приехавших. Первый, высокий, худой, со строгим лицом в пенсне, вежливо проговорил: «Николай Александрович Угаров», — и мягко пожал руку. Второй, плотный, с заросшим волосами лицом, с силой дернул Олину руку, ухмыльнулся, сказал весело: «Ергунов, по имени — Мишка, назван за сходство». Все рассмеялись, он вправду походил на медведя. Третий был летчик, Свиридов, этому Оля дружески кивнула — они познакомились в Дудинке, там Свиридова знал каждый мальчишка.
— По твоей части, Ольга Иванна, — наука, — сказал Селифон важно: — Помощи просят, товарищи геологи. Нужно помочь — так думаю.
Угаров рассказал суть своей просьбы. Довольно давно, до войны, в Норильск доставили слюду, кусок породы — вот этот. Угаров вынул из сумки тускло поблескивающий камень, положил его на стол, чтоб все видели. Камень, был увесист, от него отламывались тонкие, удивительно прозрачные лепестки, казалось, взяли много таких чешуек и спрессовали их в один кусок. Угаров продолжал. По описанию породы найден где-то за Хатангой, на южных отрогах плато Бырранга, — примерно район их становья. Более точно установить трудно, описание сделано со слов кочевого якута, от него и камень получен. Нужно было, конечно, поехать с тем якутом на место находки — этого почему-то не сделали. И вообще было не до слюды, началась война — разведчиков не хватало для руды и угля. Сейчас вспомнили об этом куске слюды, он, Угаров, возглавил поисковую партию. По плану им отведено на разведку одно это лето, один бесснежный период, придется торопиться, снегу нет на этих широтах только три месяца. Что ему нужно от колхоза? Оленей ездовых — первое. Палатку — меховой балок — они поставят в самом становье. С питанием еще ничего, имеются консервы, мука, сахар, он просит помочь топливом и мехами для постелей. Вот, пожалуй, и все. Еще человека, который хорошо знает окрестности, — пособить советом.
— Каждый охотник знает окрестности, — заметил Жальских, он тоже пришел на совещание с геологами. — Я, например, на сотню километров пасти и капканы ставлю. А лучше всего, конечно, наша учительница знает, она со своими ребятами каждую долинку тут исходила.
Угаров обернулся к Оле, снова вежливо ей поклонился. Жальских продолжал, с сомнением рассматривая камень:
— Что-то таких у нас не встречалось, думаю, не выйдет у вас поиск. Соврал ваш якут — из другого места привез.
Угаров с холодной учтивостью возразил:
— Вот это и надо проверить — насколько перспективен ваш район.
Селифон прервал их спор, он испугался, что геологи могут послушаться Жальских и уехать. Олени — пустяки, он выделит две хорошие упряжки. С людьми хуже, много колхозников ушло с плодовым стадом, две охотничьи бригады отправились на Таймыр и океан — промышлять дикого и гуся. Кое-кого, конечно, надо будет выделить — на время, пока не уйдет последний аргиш. И пусть товарищи геологи не стесняются, колхоз снабдит их свежим мясом, дров тоже много заготовлено — можно брать.
— Вот и прекрасно, — сказал Угаров, вставая. — Теперь мы пойдем ставить наш балок.
Они вышли на улицу все вместе. Селифон отправился с геологами к самолету, они оживленно беседовали. Оля возвратилась к себе — продолжать занятия. Но детей не было, она разыскала Аню и послала ее за малышами — Аня тоже пропала. Оля вышла на крыльцо, хотела сама отправиться к самолету, на поиски учеников. К ней подошла Вера.
— Можно мне поговорить с вами, Ольга Ивановна? — спросила она несмело.
— Конечно, можно, Верочка, — ответила Оля. Посмотрев в сторону самолета, Оля махнула рукой — ребят сейчас за уши от него не оттащишь. Она ввела Веру в свою комнату и усадила на стул. — Слушаю, Верочка.
Но Вера не могла начать давно задуманный разговор, она смущалась и путалась. Оля терпеливо ждала, пока Вера справится с волнением. Она глядела на нее и удивлялась — она была старше Веры всего на семь лет, а ей казалось, будто она на целое поколение старше ее, разумнее на опыт целой жизни. И Вере так кажется, и всем им — один за другим, одна за другой они ходят к ней за советами.
Оля погладила Веру по голове — та сейчас же опустила ее, чтобы не показывать пылающего лица, — и мягко сказала:
— Понимаю, Верочка, ты насчет Прокопия Григорьевича. Он?
— Он, — прошептала Вера. Она призналась еще тише: — Вчера просил выйти за него, раньше тоже намекал. Я сказала: с вами поговорю. Ольга Ивановна, хороший он человек?
Оля молчала, гладя девушку по голове. Она вспомнила первый год своего пребывания в становье. Он тогда был влюблен в нее, этот человек, она оттолкнула его — может, и глупо сделала. Что же, он хорошо вел себя потом, сочувствовал ей, могло и большее быть — она сама не пожелала. Сейчас он добивается другой, по-другому добивается, лучше — обломался все-таки. Ей вдруг стало жалко себя — люди сходятся, живут гнездом, ей положили на долю одиночество. Она ласково проговорила:
— Как тебе сказать, Верочка? Важно, как ты сама к нему относишься, а вообще человек не товар, одним словом его не охарактеризуешь — хороший, плохой, отсталый, передовой. Люди меняются, на глазах иногда меняются. Я помню, каков Прокопий Григорьевич был вначале, он ведь на год раньше моего здесь появился. Много в нем было плохого, пожалуй, больше, чем хорошего. А сейчас — ничего человек, гораздо лучше стал.
— Значит, вы советуете? — горячо шепнула девушка. — Вы одобряете?
Оля ответила:
— Да, советую, одобряю, Верочка.
Вера спрятала голову у нее на коленях. Оля улыбнулась ее счастью, сама была счастлива за нее: и отраженный свет — свет.
2
Геологи вначале мало общались со школой — их работа проходила в стороне, они целыми сутками не появлялись в становье. Один раз пришел Угаров, учтиво поклонился и попросил разрешения складывать в школе мешки с образцами пород — у них не хватает места, а образцы интересные. Оля выделила угол в классе и поинтересовалась, не нашли ли они слюду.
— Нет, не нашли! — сухо ответил Угаров и сейчас же удалился.
Образцы приносил обычно Ергунов. Он нравился Оле больше Угарова. Ергунов был весельчак, он, вероятно, улыбался даже во сне. Уже одно его появление вызывало смех. Ученики, поднимая крик, дружно бросались ему навстречу. Он сыпал шуточки, как горох. Оля спросила как-то, откуда у него столько веселья и живости.
— В детстве крепко по пяткам огрели, теперь на каждом камешке подпрыгиваю, — ответил он бодро. — И вообще я парень особой конструкции — ко всякой дыре гвоздь. У нас в Вятке все такие: вятский — народ хватский, семеро одного не боятся.
Оля заметила:
— Начальник ваш, кажется, другого склада — вот уж ледяной человек, глаза холодные, голос сухой. Мне кажется, такие люди ко всему равнодушны.
— Глаза у нашего брата геолога всегда пургой поморожены, оттого и холодные, — отшутился Ергунов. — Ничего человек Николай Александрович, жить с ним можно. А что в глазах инфракрасный блеск — привыкли, обходимся.
Оля скоро заинтересовалась работой геологов. Ергунов, раскладывая на столе образцы пород, отмечал места, откуда взяли пробы. По его надписям она видела, что весь район около стойбища обследован.
— Вы отовсюду набрали образцов, — заметила она. — Ну, и как — удачно?
— Лучше не требуется, — ответил он. — С миру по нитке, голому — веревка. Сейчас дело ясное — ничего не видно.
— А вы все точно осмотрели? — усомнилась она.
Он ответил в том же духе:
— Точность геологическая — до медведя плюс минус два лаптя. Чтоб правдоподобно соврать, вполне хватает.
В один из вечеров в школу зашел Угаров. Он осматривал образцы, что-то прикидывал. Ергунов шутил с Олей. Когда геологи вышли из школы, Угаров сердито заметил Ергунову:
— Как тебе не надоест, Михаил, всюду ты треплешься. Какого черта этой учительнице выбалтывать все наши дела?
— Кто о чем, а вшивый о бане — только о делах и могу говорить, — отозвался Ергунов. — А насчет учительницы ты напрасно — во-первых, нам ее рекомендовали в помощницы, а потом — погляди, какая у нее фигура красноречивая. И вообще, когда у человека глазищи как фары, а на щеках хорошо оформленные ямочки, хочется без памяти болтать обо всем в мире и еще кое о чем. Просто удивительно — среди белых медведей и вдруг такая красотка!
Угаров презрительно махнул рукой. Но разговор на него подействовал — в следующий приход он внимательно посмотрел на Олю. Оле взгляд его показался бесцеремонным, Угаров словно прикидывал этим оценивающим взглядом, как с ней обращаться. Она возмущенно повернулась и вышла. Ергунов протяжно свистнул.
— Баба с гвоздем, хлопнула дверью, словно пулю всадила, — заметил он.
Угаров раздраженно пожал плечами.
— Не понимаю, чего она взбесилась. Вроде я ничего плохого ей не сказал.
Ергунов наставительно проговорил:
— Я давно тебе советовал, Николай, — заведи на плечах голову, а не только приспособление для головного убора. Ничего не сказать иногда хуже, чем сказать плохо. А к учительнице подъехать нужно, послушал бы, как она все эти долинки вспоминает — каждый камешек знает.
Угаров недовольно пробормотал, сразу сдавшись:
— Ладно, поговорю.
Он зашел к Оле вечером, когда она сидела одна, извинился за вторжение. У него небольшое дело — полчаса разговора. Она холодно ответила — пожалуйста, присаживайтесь, она не очень занята. Он сел на стул, положил руки на колени, сквозь пенсне были видны его глаза — красные и усталые. Он думал, не начиная разговор, словно забыв о том, что она сидит тут же, хмурил брови, сжимал губы. Оля сказала удивленно:
— Я слушаю вас, Николай Александрович.
Он встрепенулся и заговорил:
— Дело вот в чем, товарищ Журавская. Председатель вашего колхоза товарищ Селифон рекомендовал обратиться к вам за помощью, товарищ Жальских тоже считает, что вы все здесь знаете. Мы ведем поиски скоро месяц — и пока никакого результата. И, если сказать правду, у меня нет надежды, что результаты будут. Все дело в том, что это какая-то лотерея — успех может выпасть сегодня, может совсем не выпасть.
— Я не понимаю, почему — лотерея? — проговорила Оля, Угаров спокойно пояснил:
— Нет идеи у наших поисков — вот в чем беда. Или, если хотите, идея общая есть — требуется найти месторождение слюды, а методы, реализующие идею, не выдерживают никакой критики. Во всяком случае, они не годятся для короткого полярного лета.
Этого она тоже не поняла. Угаров пояснил свою мысль примерами. Методы поиска слюды варварски отстали от поисковой техники, применяемой для других минералов. Что они делают? Лазают по скалам, осматривают каменные россыпи, щупают руками складки пород. Главный их инструмент — собственные глаза. Точно так же пещерные люди, когда им требовалось каменное орудие, ходили и искали камни, вот какая у них техника. А как, например, ищут нефть? Раньше в кабинетах вычисляют местоположение нефти по линиям горных хребтов, очертаниям берегов высохших в прежние геологические эры морей, наличию соляных куполов и, только произведя необходимые подсчеты, приходят и начинают поиски. И ищут не глазами, не нюхают воздух, не пахнет ли где мазутом, а качают маятник, устанавливают буровые станки, применяют сложные приборы и находят нефть на глубине в две тысячи метров. Возьмите другой пример — железо. Его ищут по плану, имеющему точную идею. Раньше пускают самолет с приборами, записывают мельчайшие магнитные возмущения, составляют карты аномалий, потом приходят в то место, где аномалии сгущаются, и в самом их фокусе бурят землю. Так можно получить результаты. Невооруженные приборами глаза в геологии малоэффективны. Он упомянет еще о таком удивительном случае. Есть у него приятель, Штегман, очень знающий разведчик, доктор геологических наук, исходил половину Сибири, написал книгу, десятки отчетов. И что же? Два года он сидел на Ангаре, в пятнадцати километрах выпирало наружу железо, целый бассейн. А Штегман ничего не нашел. Почему? Не было такой цели — искать железо, не было соответствующей аппаратуры, а всю землю не исходишь. Он укажет еще на одну область — радиоактивные минералы. Тут записывают приборами Гейгера — Мюллера ионизацию воздуха — тоже ищут по науке. А что может сказать ему, Угарову, наука о слюде? Слюда немагнитна, — нерадиоактивна, прибора к ней не подберешь. Слюда встречается с пегматитами, гнейсами, слюдяными сланцами, ей сопутствует полевой шпат, гранит, кварц, турмалин, бериллий. А где нет чего-нибудь из этих пород? Они с Ергуновым ходят и смотрят, собирают камешки — все лето могут так проходить и прособирать. А может быть, слюда лежит в десяти метрах от их пути и смеется над их усилиями.
Оля сочувственно проговорила — теперь ей были понятны трудности разведчиков:
— Чем же мы вам можем помочь?
Угаров вздохнул.
— Нам нужно более точно знать место, где тот якут нашел образец. Вот что нас страшит — мы, может быть, ищем совсем в другом районе. А пока мы подберемся к нужной точке, снег снова все завалит. Сколько нам осталось времени? В конце августа — первые снегопады. Поройтесь в памяти, Ольга Ивановна, может быть, что-нибудь припомните, вот вроде этого.
Он снова показал ей кусок слюды. Оля с сожалением, медленно покачала головой. Угаров с горечью пробормотал:
— Будь нас хоть десяток человек — разбились бы по участкам. А то — двое… Много не находишь.
Оля колебалась — у нее появилась мысль, она не решалась ее высказать. Угаров с надеждой посмотрел на нее.
— Знаете что? — сказала Оля. — Ведь это можно — увеличить число разведчиков. И даже очень просто — вместо двух отрядить на поиски человек пятнадцать-двадцать.
Он разочарованно мотнул головой.
— Абсолютно неосуществимо. В нашем управлении разведчиков мало. Я просил трех, на большее и не замахивался — дали одного Ергунова.
— Нет, можно, — настаивала она. — Возьмите мою школу. У нас одних комсомольцев в становье пятнадцать человек. Посадим их на нарты, разошлем по всем долинкам и холмам — вот вам партия готовых разведчиков.
Он в изумлении пожал плечами.
— Что вы, Ольга Ивановна, какие же ваши ученики — разведчики? Маленькие нганасаны, только что азбукой овладели. Ни один из них не отличит графит от каменного угля.
Она возразила:
— Конечно, они не профессионалы-геологи. Да это и не требуется. Они будут собирать на каждом участке образцы минералов, отбивать куски пород — этому мы их научим. А вы здесь, в школе расклассифицируете пробы, если найдется что-нибудь ценное — немедленно сами выедете на место. Мозгом вы будете, они — вашими руками и глазами.
Теперь он слушал с интересом. Она вскочила, потянула его за руку.
— Вы меня обидели, Николай Александрович, — не верите, что мои ученики отличат слюду от каменного угля. А они не хуже вас это сделают. Посмотрите, что они умеют, и скажите по-честному — могли бы вы сами?
Она прошла с ним в соседнюю комнату, раскрыла стоявший у стены шкаф. Здесь на полках были собраны изделия учеников, их рукоделие, памятка вечерних занятий в школе. Оля торопливо вынимала все, ставила на большой учительский стол — нарты из моржовой кости с пологом из меха горностая; оленя из дуба с костяными рогами, опустившего вниз голову; лисицу, бегущую по следу — удивительно был расписан ее черно-серый мех; лодку с парусом; модель самолета с пропеллером из мамонтовой кости; домик из разноцветных кусков дерева и кости. Были здесь и работы девушек — игрушечная малица из пыжика с тончайшей инкрустацией из перламутра и кости, с цветным орнаментом, вышитым бисером; крошечные бакари, отделанные аппликациями и прошивками; женский нижний костюм из замши с колокольчиками, бубенчиками, хвостиками, цепочками. Угаров брал одну игрушку за другой, любовался ими, громко восхищался. Особенно ему понравился черный медведь — туловище из каменного угля, когти и клыки из моржовой кости, глаза — перламутр красноватого оттенка, шерсть — прямо в уголь были искусно вклеены волосинки и крапинки слюды, создававшие поразительные оттенки цвета. Оля горящими глазами следила за Угаровым.
— Сдаетесь? — спросила она победно.
— Просто изумительно, — признался он. — Вот уж не ожидал — мастерское исполнение! Пожалуй, вы правы — люди, изготовившие подобные предметы, легко — по одному цвету, по внешнему виду — отличат нужный минерал от всех других.
Оля сказала деловито:
— Сегодня я поговорю с Недяку, секретарем нашего колхозного комсомола. До прошлого года секретарем была я, теперь он. Пусть комсомольцы возьмут геологическую разведку на себя, внесут ее в план летней работы. Особый разговор предстоит с Селифоном. Все-таки это дело большое — может, на все лето. Неизвестно, как отнесется к этому правление колхоза.
— А мы Селифону совсем по-другому все представим! — воскликнул улыбающийся Угаров — он преобразился при мысли, что теперь у него появится целый отряд энергичных и дельных помощников. — Если я правильно понимаю, школа — предмет его особой гордости. Знаете, что я ему скажу? Что школе не хватает небольшого минералогического музея. Я предложу колхозу свои услуги в части отбора и описания образцов — ведь все равно придется оставлять здесь то, что натаскают ваши ребята, нам-то нужна одна слюда.
3
Селифон загорелся при мысли, что у них в становье появится минералогическая коллекция. «Нужно знать не только тундровые снега и травы, но и землю, горы наши», — веско сказала учительница на совещании п правлении, с этим согласились все. Недяку с воодушевлением заявил, что его комсомольцы готовы хоть сейчас выйти на поиски. Селифон, в свою очередь, отметил, что у соседей их пока еще нет необходимого для каждой хорошей школы собрания минералов — они первые начинают такое важное дело.
И через два дня шестнадцать неутомимых молодых разведчиков разъехались на отведенные им участки. На столе в школе лежала нарисованная от руки карта местности, на нее наносились все маршруты. Угаров прочитал своим новым помощникам лекцию о значении руд в народном хозяйстве страны, о методах поисков, показал каждому найденный якутом кусок породы. Ребята с энтузиазмом принялись за дело, недостающие геологические молотки были заменены топорами, большими ножами, просто увесистыми кусками железа. Никифор Матвеевич и Нгоробие обрабатывали пробы — готовили этикетки, надписывали и наклеивали их. Текст надписей диктовал Угаров. Специально отведенные для коллекции полки — их подвесили на стене на ремнях — стали заполняться образцами, на «белых пятнах» карты появились первые крестики. Угаров теперь только наблюдал за работой своих разведчиков, на большее не хватало времени.
Первые дни Угаров был полон надежд. Через неделю он грустно признался Оле:
— Что-то и этот метод не помогает. Удивительно пустой район. Ума не приложу, где тот якут мог найти слюду.
Они сидели на пригорочке над рекой. Внизу гремела вода. Был один из тех дней, что часто выпадают в этот период: незаходящее солнце припекало, снег быстро исчезал, больше испаряясь, чем тая, на небе не было ни тучки. Угаров сбросил альпаговую куртку, расстегнул рубаху. Оля с сочувствием глядела на его унылое лицо. В последнее время они встречались по нескольку раз в день, много разговаривали. Она удивлялась, как он не походил на свою внешность — сухостью, спокойным взглядом близоруких глаз, даже немногословием он прикрывал неустойчивость, внезапные переходы от подавленности к восторгу. Ергунов бесцеремонно говорил ему при Оле: «Искусственник ты, Николай, — семь пятниц на одну пятидневку, вот твои решения!» Оля, впрочем, видела, что Ергунов искренне привязан к своему начальнику, — Угаров тоже знал это и старался не обижаться, хотя был обидчив.
— Не везет, — сказал Угаров с досадой. Он помолчал и прибавил мрачно: — Всегда почему-то до глупости не везет. Черт знает, какая судьба — вся жизнь несется по кочкам и колдобинам. Если бы вы только знали, как не хотел я отправляться в эту экспедицию. Думал ехать на шхеры Минина, Смородин же сам навязывался сюда — нет, послали меня.
Она видела, что ему хочется поговорить. На Угарова временами нападало такое настроение — он вдруг пускался рассказывать о своей работе, о товарищах, о том, как ему надоел этот проклятый север — он уже десять лет в этих местах и неизвестно, когда вырвется. Оля со смехом заметила:
— Вы, конечно, Николай Александрович, преувеличиваете. В чем-нибудь да везло же.
Угаров сердито ответил:
— Знаю, трудно поверить, что такие люди имеются. А я именно такой. На то, что другому достается шутя, мне нужно положить гору трудов — хорошо еще, если не напрасно. И думаете — только по работе? Нет, во всем так. Именно — не везет. Достаточно притронуться к чему-нибудь рукой — все разваливается. — Он улыбнулся и шутливо закончил: — Мною командует самый страшный из законов природы — закон подлости: захотел чего-нибудь, будет наоборот.
Выковыривая из земли травинку, Угаров продолжал улыбаться, словно его самого смешило, что он попал под власть такого дурацкого закона. От улыбки его лицо сразу менялось, из строгого и унылого становилось добрым и наивным. Оля вдруг спросила:
— Николай Александрович, Ергунов как-то сказал, что вы женаты. Где ваша жена?
Угаров даже не удивился, словно вопрос соответствовал ходу их разговора. Снова становясь серьезным, он сказал с глубоким убеждением:
— Тоже поразительный пример фокуса, которые со мной проделывает жизнь. Ну что проще, жениться хорошо — таланта особого не требуется, каждому человеку доступно. Я понимаю, попадется скверная, злая баба, некультурная или пустая, — семьи не выйдет. А у меня и с хорошим человеком не выходит — вот что удивительно. Судьба, Ольга Ивановна, понимаете?
Оля ответила с досадой:
— Нет, не понимаю. Вы очень темно рассказываете. До сих пор я думала, что на судьбу валят ленивые люди, которые не могут сами организовать свою жизнь.
Он пренебрежительно махнул рукой.
— Вы учительница. Все учителя рационалисты. Вы так старательно обучаете своих детишек простоте мира, что сама начинаете верить в эту мнимую простоту. Да, не смейтесь — это правда. На любом примере докажу. Вы спрашиваете, где жена? Здесь, в Норильске, врач — Нина Николаевна. Думаете — плохая, раз не живу с ней? Ничего подобного — мягкая, отзывчивая, умная, все ее уважают, я — первый. Так в чем дело? Не знаю. Один черт разберет, в чем суть. То есть сейчас уже не трудно понять, я говорю о самом начале, когда все пошло разваливаться. Мне пришлось поехать на север, тут я застрял, она прикатила ко мне — не испугалась ни палатки, ни морозов и пурги, ни прочих лишений.
— Что же, пока все очень благородно, — проговорила Оля.
— Несомненно. Дальше не менее благородно — вот что меня возмущает. Пожили мы с ней год, я уехал в тайгу — на сложную разведку. У нее в клинике появился больной мой приятель, кстати, — Танев Андрей Осипович, человек обаятельный, поэт, умница, никому зла не делал. Она его спасла от верной смерти, три месяца боролась за него и в результате — влюбилась. А он в нее, конечно. В мое отсутствие они и сошлись. И думаете — все хорошо у нее? Нина меня жалеет, а уйти от него не может. Глупая жизнь, прямо заявляю. Скажите, где тут ваша хваленая простота? Все дьявольски запутано!
— Вы разведены с Ниной? — тихо спросила Оля.
Он насупился, лицо его стало черствым и злым.
— С какой стати? Все-таки восемь лет вместе прожили, ни разу не ссорились. Я ей прямо сказал — добровольно от тебя не откажусь. Вы и тут несогласны, что я прав?
— Не знаю, — сказала Оля, качая головой. — Одно понимаю — из-под палки мил не будешь. А что ваш отказ? — палка!
Он хмуро посмотрел на нее, но смолчал.
4
Скоро и Оля стала волноваться не меньше Угарова — на карте почти не оставалось мест без крестиков, а слюда не находилась. Даже веселый Ергунов приуныл — вываливая очередной мешок с образцами, он огорченно пробормотал:
— Все дороги ведут к нулю.
Угаров, показывая последнее «белое пятно» на карте — выход в долину, участок около водопада, мрачно предрек:
— По закону подлости и здесь должно провалиться. И тогда — точка. И знаете, что самое обидное? Ведь мне в геологическом управлении не поверят, что обследование произведено самым тщательным образом, там ваших маленьких нганасан считают еще полудикарями. Мой начальник Тураев, хоть и умнейший человек, первый скажет, что неграмотный мальчишка не является геологическим аргументом. И пошлет кого-нибудь другого повторить все поиски. Он верит в кусок породы, привезенный тем якутом, как дикарь в священный амулет. Он мне сам говорил, что геологическая логика этой части сибирской платформы подсказывает наличие слюды и некоторых других минералов. А я против его логики выдвину два десятка подростков-нганасан. С его точки зрения это чудовищно.
— Подождем еще несколько дней, — посоветовала Оля. — Может, ваш страшный закон даст, наконец, осечку. При таком большом количестве проб что-нибудь должно получиться.
На следующий день все партии прибыли почти одновременно — обследование происходило в последнем неизученном районе. Ергунов опорожнял мешки, Угаров хватал образцы. На последнюю груду камней Ергунов плюнул.
— Ничего, — устало сказал Угаров, выпрямляясь. — Даже меньше, чем ничего. Наш баланс — потерянное время, потерянные труды…
— У нас еще камни, — прервал его красный от возбуждения Недяку, протискиваясь вперед, — они с Ядне приехали позже других. Недяку рылся под малицей, Ядне помогал ему. — Эти камни не полезли в мешок, мы нашли их в стороне… Вот смотри — самые лучшие!
Он вытащил большой камень, более мелкие со стуком посыпались на пол. Блеснули тонкие чешуйки наружной поверхности, мягкий, золотисто-перламутровый излом. Угаров почти вырвал камень из рук Недяку.
— Смотрите, Ольга Ивановна, вот слюда, удивительной чистоты образец — такой и в университетском музее не потеряется. Ну, рассказывайте, ребята, где вы его нашли.
Недяку начал рассказ, его немедленно перебил Ядне.
— У самого водопада, — сказал Недяку. — На скале под водопадом! — поправил Ядне. — Мы сразу видим — тот самый камень! — похвалился Недяку. — Все бросили, побежали его ломать, столько ломали! — рассказывал Ядне. — Нож сломали! — подтвердил Недяку. — Руки побили! — воскликнул Ядне. И Недяку закончил с ликованием: — Отдельно положили, сказали — потом покажем! Не надо — сразу!
В классе стоял крик и визг, товарищи и подруги поздравляли — по-своему — обоих друзей. Недяку и Ядне деловито поворачивались во все стороны, чтоб каждый мог их стукнуть кулаком по спине или толкнуть ладонью в бок. Общий гам покрыл веселый голос Ергунова:
— Айда, ребята, — одна нога здесь, другая там! Ведите к водопаду.
Ребята с шумом побежали к нартам. Бешеный аргиш с таким грохотом и воплями промчался через становье, что люди в испуге выбегали из чумов и изб. Селифон выскочил из нового дома правления и прыгнул в свои нарты — он сообразил, что поиски, наконец, дали желанный результат. Подобраться к выходу породы было нелегко — неистовая горная речка образовывала здесь водопад, целая пелена из пены и тончайших брызг прикрывала узкую полосу слюды, косо уходившую в землю, — только кусочек торчал наружу. Ергунов стал подбираться поближе — отбить молотком еще образцы. Угаров, наоборот, отошел подальше — так легче было оценить контуры месторождения.
— Неплохое местечко, — говорил он, любуясь выходами слюды. — Поглядите, каков угол наклона пластов — весьма крутое падение, тут целая кладовая первоклассного минерала. Очень перспективное месторождение, поверьте опытному глазу старого разведчика. Ну, спасибо вам, Ольга Ивановна, — в отчете обязательно укажу, как вы нам помогли. Черт его еще знает, добрались бы мы сами до этого скрытого уголка.
Селифон, выдохнув столб дыма, заметил:
— И вы нам помогли, товарищи геологи, музей сделали — вам спасибо.
Угарову захотелось пошутить. Он засмеялся:
— А знаешь, Селифон, мы ведь тебя обманули. Музей школе полезен, но дело было вовсе не в нем. Просто мы зашились — два человека не могли обследовать сколько-нибудь детально такой обширный район: вот мы и решили взять твоих ребят в помощники, а для тебя предлог выдумали — музей. Пока что ребята проделали работу, которой хватило бы на две поисковых партии.
Угарову тут же пришлось убедиться, что Селифон вовсе не так прост, как ему представлялось. Селифон выколотил трубку, снова зарядил ее, глаза его хитро блестели — он улыбался. Он сказал спокойно:
— Ты меня обманул? Я тебя обманул — вот. Думаешь, колхозу нужно ребят в кочевье? Справились — бригадиры не жалуются. А музей есть, ни у кого такого нет — раз. Мой Недяку все камни расскажет, геологом будет, как, ты, другие все тоже знают — два. И ты слюда нашел — три. Теперь приедут работать, дома построят каменные, электричество заведут, кино — это что? Четыре, товарищ Угаров, — видишь, кто больше обманул.
— Обманщики! — сказала Оля с досадой. — Нашли чем хвастаться. Послушаешь — в самом деле подумаешь, что у вас не было иной мысли, только надувать один другого. — Она весело сказала Угарову: — Все же я была права, ваш ужасный закон на этот раз оскандалился.
— Ничуть — еще больше торжествует, чем когда-либо, — шутил, радостно смеясь, Угаров. — Слюда-то существует, от этого никуда не денешься — рано или поздно мы должны были ее найти. Так разве это не возмутительно, что она скрывалась на последнем участке? Не на первом, ну, на худой конец — на среднем, а в самом конце, когда мы уже начали впадать в отчаяние — типичный пример действия закона подлости!
5
Они гуляли по тундре. Была яркая солнечная полночь, теплая и тихая. На озерке покачивался прилетевший самолет, образцы слюды были погружены, летчики и Ергунов ушли спать перед отъездом. Угаров продолжал разговор, начатый уже давно, — он удивлялся, как могла она провести годы в этом глухом краю. Оля рассказала, как трудно ей пришлось первое время.
— Но с годами становилось легче, — продолжала она. — Жизнь здесь быстро меняется, да, вероятно, и я сама привыкаю к северу.
Он осуждающе пожал плечами.
— К северу нельзя привыкнуть. Нельзя привыкнуть к пурге, как нельзя жить в горячей печи. Вы не привыкли, Ольга Ивановна, а смирились. Я вам удивляюсь — такая деятельная, а жизнь свою устроить не сумели. Скажите, неужели вы ни разу даже в отпуск не ездили на юг?
Она призналась краснея:
— Ни разу. Знаете, здесь хорошая весна. И лето мне нравится. Я уже три раза добиралась летом до океана. Конечно, от зимы хотелось бы подальше, но кто же даст учителю отпуск зимой? — Она нашла возражение против его доводов. — А сами вы уже десять лет на севере и пока не знаете, сколько еще придется пробыть. Ведь вы ни разу не подавали заявления о переводе на юг?
Он немедленно ответил:
— Ни разу, конечно. Но не потому, что люблю север, — ненавижу эту зимнюю тьму и ледяные ветры. Если бы от меня зависело, я поселился бы в Крыму или на Кавказе. Но я разведчик руд, это не только профессия — призвание мое. С детства я не мыслил другой специальности — бредил рудными жилами в земной глубине. Что же поделать, если чертова природа разбросала руды по закоулкам и забыла населить ими райские уголки. Если на полюсе найдут что-нибудь обещающее — обследовать буду я.
— Вот видите. — сказала она.
— Ничего не вижу, — вскинулся он. — Повторяю — я там, где руды, такова моя горькая судьба, и я не променяю ее ни на какую другую. А вы там, где ваши школы, — согласен. Но школы имеются везде, не обязательно ехать к черту на кулички.
Она покачала головой. Конечно, школы имеются везде, в обжитых местах их больше, и они лучше. Дело не в этом. Ей, может быть, не повезло — заслали в такую даль. Но она привыкла. Она привязалась к своим малышам, к стойбищу, ее все любят и уважают — это дорого. Он фыркнул — везде любили бы и уважали. Она ласково дотронулась до его руки. Может быть, но здесь уже уважают. И она совершает важное дело, в этом она уверена.
— Вы не представляете, какие изменения произошли на моих глазах! Возьмите и такое явление, — сказала Оля с увлечением. — Вы не замечали, что молодежь наша рослее, чем их отцы?
— Да, пожалуй, — согласился Угаров. — Ваш комсомольский вождь Недяку на голову выше своего родителя.
Оля воскликнула:
— И все они таковы! Они нормального роста, у них открытые лица, умные глаза, чудесный характер — такова нганасанская молодежь. Это словно иные люди по сравнению с их родителями. Я читала в одной книжке о старых нганасанах: «Тавгийская самоядь — низкорослая слабосильная раса». Разве вы сможете сказать, что Ядне, Недяку, Аня, даже тот же сравнительно маленький Нгоробие, низкорослы и слабосильны? Во всяком случае, вам нелегко будет положить на обе лопатки Ядне.
— Скорее, наоборот — он меня положит, — засмеялся Угаров. — А чем вы объясните такое удивительное различие между стариками и молодежью?
— А просто тем, что они вырастали в иных, более культурных условиях. Тавгийские нганасаны были расой не низкорослых и слабосильных людей, а расой голодных, обиженных социальными условиями и суровой природой. Голод, холод и нищета сопровождали их от первого до последнего дня жизни, ни один из них не вырастал до своего естественного роста. Все их помыслы были направлены на еду. Даже в песнях у них удачливые охотники и богатыри наедаются до того, что ходить не могут. И еда их — при удачливой охоте — одно мясо и рыба, высшее лакомство — жир. А молодежь питается, как и все мы, она и понятия не имеет, что такое голод, ставший бытом. Все они нормально развиваются, хорошо учатся.
Она продолжала, помолчав:
— Вы видите только недостатки, их, конечно, не мало, но не знаете, как далеко мы шагнули вперед. В нашем стойбище не было ни одного по-настоящему грамотного человека, на газету смотрели чуть ли не со страхом. А сейчас в красном чуме — журналы и газеты, музыка, приемник, в становье — врач, школа, комсомольская организация, нас в колхозе три члена партии, Тоги выбран народным заседателем в районном суде, Селифон — член окружного Совета. Когда я думаю об этих успехах, я радуюсь, больше мне ничего не нужно.
Угаров недоверчиво покачал головой.
— Прежде всего нужно быть справедливой к самой себе, Ольга Ивановна. Вы губите свою молодость и — напрасно. Вы не нганасанка, родившаяся в Заполярье. Государство считает для нас, приезжих, год работы в этих местах за два года — поверьте, это не случайно.
Она знала, что Угаров желает ей добра, — от сочувствия к ней шла вся эта беседа. Но ее понимание добра было иное. Да, конечно, уезжать когда-нибудь придется, тут он прав — всю жизнь в Заполярье не прожить тому, кто родился под горячим солнцем. Еще год, ну два — она распростится с северным Таймыром. Но только пусть он не говорит о справедливости, она поступит так из необходимости. Необходимость бросила ее сюда. Только необходимость вернет ее в полузабытые родные места.
Оля мягко сказала, дружески улыбаясь, чтоб смягчить суровость своих слов:
— Я где-то читала — кто не уважает других, тот не способен уважать себя. Быть справедливым к себе — это раньше всего справедливо относиться к другим. В справедливом отношении к окружающим тебя раскрываются лучшие твои черты. Это и есть быть справедливым к себе — развивать то хорошее, что в тебе заложено. Я знаю, вы снова скажете: учителя рационалисты. Николай Александрович, как вы можете говорить о справедливости, когда сами так нехорошо поступаете с другими? Бывшая ваша жена — она к вам не вернется, вы сами это говорите. Зачем вам нужно так усложнять ее жизнь? Из мести, из обиды? А разве справедливость — это обида и месть? Мне неприятно, что такие мелкие чувства командуют вашими поступками.
Он покраснел и отвернулся. Минуту ей казалось, что он грубо оборвет ее, крикнет: «Кто дал вам право лезть в мою душу?» Но он только недовольно спросил:
— Ну, и что же — вы не уважаете меня за это?
Она ответила прямо:
— Не уважаю, Николай Александрович.
Она добавила с глубокой искренностью:
— Как это не похоже на вас, если б вы знали, — ваше отношение к жене.
Он колебался, не знал — рассердиться и встать или продолжить этот разговор. Он с усилием сдержал раздражение, поглядел на нее. Он увидел сожаление в лице Оли, добрую грусть. Он засопел, криво усмехнулся, поддаваясь выражению Олиного лица больше, чем ее словам.
— Вы учительница по призванию, Ольга Ивановна. Ведь это что? Вы стараетесь и во мне поднять лучшие мои черты. Так сказать, заронить на прощание доброе семя в мою душу.
— Да, — сказала она просто. — Разве это плохо, Николай Александрович?
Он молчал, сердито всматриваясь в сияющую тундру. Оля опустила голову. Она успела привязаться к этому странному и неустойчивому человеку. Оля тихо вздохнула — вот и это пройдет, как многое уже прошло. Но она будет вспоминать эти недели — совместные поиски, долгие беседы под ночным солнцем. Нет, она не влюблена, глупости, — кусочек ее сердца он все же увезет, искреннее чувство дружбы.
— Я напишу вам, — сказал Угаров. Он вдруг улыбнулся ласковой улыбкой, снова что-то ребяческое и наивное проступило в его лице. — Только и вы пишите мне — взялись перевоспитывать взрослого дурака, доводите дело до конца.
Из палатки вышли выспавшиеся Ергунов и летчик. Летчик махнул рукой, показывая на самолет.
— Я все же думаю, что вы рассоритесь с Заполярьем, — проговорил Угаров, возвращаясь к старой теме. — Все эти ваши справедливости по отношению к другим действуют, пока вы одна, — с собой можно не посчитаться. Но наступит час решения, будет не до слов. Появится у вас муж, детей потянет на свежую травку — тогда сами увидите, в чем справедливость.
Она улыбнулась, пожимая его руку.
— Зачем такие крайности, Николай Александрович? Из Заполярья я, конечно, уеду, а ссориться с ним не буду.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ ЧАС РЕШЕНИЯ
1
Оля уже привыкла к разочарованиям, старалась не поддаваться дури: будет письмо — хорошо, не будет — не надо. Письмо пришло только через месяц, путь был окружной — через Дудинку. Угаров сообщал, что его находки произвели большое впечатление в Норильске, с окончанием темного периода к ним приедет инженерная партия, уже без него — оценивать мощность месторождения. Сам он занялся камеральными работами, зиму проведет в Норильске: «Вы даже не знаете сами, Ольга Ивановна, до чего вы были правы. Я часто вспоминаю вас, а вы?» Она ответила шутливо и дружественно. Второе письмо от него примчалось через две недели — на Хатангу открыли почтовую авиатрассу, можно было налаживать переписку. Еще недавно — нет, страшно давно, в молодости — она замирала, принимая письма, гадала, не от Сероцкого ли они. Сейчас она не замирала, но улыбалась, знала — хорошее письмо от хорошего человека. Человек этот, однако, с каждой строчкой становился ближе. Если пурга задерживала самолеты, она скучала и тревожилась — не за него, за письма, она знала, что они где-то лежат в ожидании летной погоды. И еще одно она знала, Угаров тосковал без нее, ему не хватало ее дружеского голоса. «Теперь я со всем старым грузом разделался, — делился он новостями. — Вы были правы — в тысячу раз легче быть справедливым. Умершие связи удел мертвецов, пусть мертвецы сами себя хоронят, — а мы — живые. Вчера я встретил Нину и Андрея, я проводил их, мы смеялись — честное слово! Ах, как мне хочется вас увидеть, моя дорогая Ольга Ивановна!» Она положила это письмо на колени, грудь ее дышала легко и радостно. Она понимала Угарова, ей тоже хотелось его увидеть.
В Дудинку на зимнюю сессию она прилетела на рейсовом самолете. Селифон и Тоги были вызваны на окружную партконференцию — они летели все вместе. Среди прочих сообщений она рассказала в своем выступлении, как школа и местный комсомол помогали геологам в разведке, это заинтересовало всех. Вечером ее с Селифоном вызвали в исполком, попросили рассказать подробнее.
— Ну, поздравляем, поздравляем, — сказал председатель, довольный. — Конечно, и мы кое-что сделали, времени не теряли, из случайного стойбища подняли вас до села, скоро в районный центр превратим, полагается вам по территории. Но, конечно, хозяйственники — народ более мощный. Ко мне недавно приезжал из Норильска ихний директор, как проситель. А по существу — я и он? У меня бюджет на весь округ — несколько десятков миллионов, у него на клочке земли — миллиарды. Такой дядя вашим месторождением заинтересуется, сразу вверх полезете — размах!
— Нельзя ли, чтоб этот дядя пораньше нами заинтересовался — до рудника, — попросила Оля. — Нам нужно коровник заводить и некоторые машины — моторные лодки, вездеходы, аэросани. Совсем по-другому кочевье пойдет с машинами. А от вас только приемника дождались, да ручных часов в магазин — вся техника.
— Еще капроновые сети и швейные машины, — спокойно добавил председатель. Он подумал и предложил: — А почему не попросить их взять над вами шефство? Такому здоровому предприятию это пустяк, над авамскими колхозами они давно уже шефствуют, пускай и вас прихватят. А рудник, конечно, пойдет только через несколько лет, тут вы правы. — Он решил: — Свяжусь с ними, дам вам знать.
Оля возвратилась в становье и написала Угарову, что скоро нагрянет к нему в гости — подписывать договор о шефстве. В увлечении она даже поставила срок — март. Март прошел, за ним апрель, потянулся май — только тогда прибыла обещанная бумажка от председателя исполкома. Мощный промышленный комбинат соглашался принять под свою руку затерянное на Крайнем Севере селение, он приглашал представителей колхоза приехать.
На заседании правления была выбрана делегация — Тоги и Оля от колхоза, Недяку, Ядне и Аня от комсомола. Недяку предложил кружной путь — самолетом на Дудинку, оттуда железной дорогой в Норильск, сам он еще не летал и не ездил в поезде. Его горячо поддержал Ядне. Тоги стоял за аргиш, к нему присоединилась Оля.
— Летать вы еще успеете, не все сразу, — сказала она разочарованному Недяку и Ядне. — И по железной дороге покатаетесь. Лучше приехать на оленях, в национальных костюмах — покажем кусочек нашего быта. И надо торопиться, пока реки не вскрылись — опередить весну.
Опередить весну не удалось, дорога шла на юго-запад — весна летела навстречу. Идти было нелегко, всем пришлось потрудиться. Особенно тяжким оказался путь сквозь хребты Путорана — узкие долинки взметались вверх, вершина лезла на вершину, приходилось искать кривушек — санный путь раскис. А потом они увидели город — он лежал на дне созданной горами чаши, это было цветное пятно зданий, красные четырехугольники заводов, окутанные дымовым туманом. Ничем он не напоминал черную деревянную Дудинку, центр округа. Светлый, обширный, многоэтажный, улицы прорезали его на многие километры, как каналы, они вливались в правильно очерченные площади — таков был этот город. До них, за многие десятки километров, донесся его голос — гудела мощным басом ТЭЦ. Они скатились вниз, плутали в лесах, выдирались на озера — из озер вытекала река, подходившая почти к самому Норильску, по льду было легче идти. Но скоро пришлось убираться со льда на берег — показались первые разводья, река готовилась вскрываться. Теперь город давал знать о себе не только голосом ТЭЦ и дымами заводов, высоко поднимавшимися в небо, — его, как всякую столицу, окружали младшие города и поселки, он начинался с далеко выброшенных предместий. По тундре, через лесок, шагали мачты высокого напряжения, на берегах реки Норилки возникали селения — крестовины радиостанций, базы, затоны. Потом открылся большой поселок, Валек — аэровокзал, пристань, трехэтажные каменные дома, приземистые бараки, неизбежные дощатые балки. Аргиш вел Тоги, он лихо выкатил на шоссейную дорогу, еще покрытую снегом, помчался по ней — сзади бежали мальчишки. Тоги тут же пришлось спасаться на обочину — по шоссе с диким рычанием мчались семитонные «МАЗы», олени начинали пугаться, сам Тоги чувствовал себя не очень хорошо — в Дудинке подобные страшилища встречались редко, а других городов он не знал. Еще через некоторое время аргиш остановился — после того как они проехали совхоз, снег на шоссе исчез, под полозьями нарт скрипел асфальт.
— Нельзя ехать, Ольга Иванна, — сказал огорченный Тоги, — олени не вытянут.
— Пойдем пешком, — решила Оля. — Конечно, асфальт не трава, тем более не снег, но нарты без нас они потащат.
Так они шли рядом со своими нартами — олени с трудом тянули их по шершавому асфальту. И снова за ними бежала толпа детишек, останавливались и взрослые — в этом заполярном городе олени были более редки, чем автомашины, поезда и самолеты.
— Олешки, смотри, олешки! — кричали дети в восторге, выбегали на мостовую, старались похлопать животных по спине — таких озорников Тоги сурово отгонял хореем.
Недяку с Ядне, забывая о своих нартах, разевали рот на пятиэтажные здания с колоннами, на автобусы и автомобили, на рекламы кинотеатров и клубов. Аня казалась совсем растерянной, лицо ее, выглядывавшее из-под пыжиковой шапки, пылало от смущения — от этого она становилась еще красивее.
— Что с тобой, Анечка? — спросила Оля.
— Ой, стыдно, Ольга Ивановна, — шепнула Аня с мучением. — Все на нас смотрят, мы так плохо одеты, ни одного нет, как мы.
Она с отчаянием показала на свою роскошную праздничную малицу — творение искусства, мозаику из меха горностая, пыжика, лисы, цветной кожи и бисера. Действительно, такой одежды ни у кого не было, девушки в городе ходили в простых плащах, легоньких пальто, распахнутых по случаю теплого дня — виднелись их ситцевые, шерстяные и шелковые платья. На Аню засматривались мужчины и женщины, это приводило ее в содрогание, она готова была куда-нибудь убежать.
— Глупенькая, — ответила Оля. — Конечно, в городе по-другому одеваются, но что из этого? Не обращай внимания, пожалуйста.
Она сама начинала чувствовать смущение. Она знала, что город этот больше и красивее Дудинки — подлинная столица центрального Заполярья. Она помнила, как Сероцкий, еще не видя Норильска, восхвалял его. Да и Ирина не раз говорила: «Мы к Норильску относимся, как Вашингтон к Нью-Йорку — командуем им и завидуем ему». Она готовилась встретить то, что увидела, — и нарядные дома, и вывески, и сияющие витрины магазинов, и бурное движение машин. Но ее ошеломила толкотня на улицах — было воскресенье, даже широких тротуаров не хватало для потока прогуливающихся людей. Оле показалось, что она попала на Невский или Крещатик, высокие яркие здания с колоннами усиливали эту иллюзию. Пожалуй, только одно указывало, что город этот раскинулся не в южных краях, а в далеком Заполярье. Посреди мостовых, разделяя их на две стороны, были устроены цветочные клумбы, целая цветочная дорога — вместо цветов на дороге этой покачивался на ветру овес, единственная зелень в городе.
— Куда едем? — спросил Тоги — он шел по барьеру мостовой, с опаской поглядывая то на автобусы, то на толпу, напиравшую на его оленей.
— В горком партии, — ответила Оля. — Там укажут, куда обратиться дальше.
Она спросила, как проехать к горкому, ей ответил десяток голосов, целая куча детишек побежала вперед показывать.
2
Дел было много — их возили по заводам, водили по городу, достали билеты в кино и театр. Больше всего Оле понравились школы — со спортивными залами, зимними садами, освещенными лампами дневного света. «В Заполярье зелени мало, — сказал ей знакомый, заведующий гороно, — она встречала его в Дудинке. — Приходится весь верхний этаж отдавать под сады — выкручиваемся понемногу». Тоги поразили коровники совхоза — он не мог оторвать глаз от рослых холмогорских быков. Научный сотрудник совхоза, одноглазый и коренастый, проводил их по теплицам, подарил Оле букет цветов, угостил помидорами и клубникой — кусты плодоносили у него круглый год под люминесцентными лампами.
— Отстраиваемся от страшного нашего климата, — сказал он. — Вводим свой по графику: когда пожелаем — лето. Советую и вам кое-что перенять — без теплиц вам не обойтись, это ясно.
Тоги равнодушно посмотрел на цветы и помидоры, но Недяку наотрез отказался выходить из теплиц — он упивался пряным запахом листьев и прогретой паром земли. Он объяснил, что у него в плане работ на этот год значится организация первого комсомольского огорода. Оля знала об этом плане, она сама его подсказала.
А потом все они присутствовали на спортивном параде в спортзале — это было крытое помещение, на хорах свободно помещалась тысяча человек. Сотни три юношей и девушек проделывали гимнастические упражнения под музыку. Толстый Федюха, прикрепленный горкомом партии для обслуживания делегации из отдаленного становья, обвел рукой стены и сказал кратко: «Второй в Союзе — только в Ленинграде побольше недавно построили». Олю эти слова не удивили — она уже привыкла к тому, что норильчане пренебрежительно относятся не только к Дудинке, но и к Красноярску и знают одну меру — первый или второй в Союзе. Она еще не встречала людей, так гордившихся местом, где они живут, как гордились эти — норильчане. Вначале слова их казались хвастовством, норильчане превозносили любую мелочь, способны были показать на магазин, где имелись только консервы и люминесцентные лампы, и воскликнуть: «Ближе Урала другого такого магазина не найти!» Вечером они обедали в ресторане. Им объяснили, показывая на ковры и роскошные люстры: «Ресторан принимает зараз триста человек, ни в Новосибирске, ни в Красноярске, ни в Иркутске ничего похожего нет», — о других сибирских городах, конечно, и упоминать не стоило. Здесь не гордились ни хорошим обращением, ни изобилием товаров, ни добрыми нравами — только масштабами. А масштабы покоряли, это Оля скоро поняла — и заводские трубы были вторыми в Союзе по высоте, и обогатительная фабрика потребляла больше воды, чем иной город, и люминесцентных ламп в домах было больше, чем в любом городе Союза — «нельзя, пора кончать с полярной ночью», — и рудники, угольные шахты, медный и другие заводы составляли в целом собрание цехов, единственную в мире комбинацию разнообразной цветной металлургии и горного дела.
И самое удивительное — все было создано, пущено полным ходом за какие-нибудь десять-двенадцать лет не в обжитой местности, а в глухом Заполярье, в краю, только на триста километров южнее того края света, где жила Оля. Потрясенная всем виденным, она выразила восхищение Федюхе — сколько же трудов и мысли нужно было положить на этот удивительный город, на его великолепные заводы и рудники, и ведь те, кто создавал его, не имели тогда в своем распоряжении ни ванн в каждой квартире, ни горячей и холодной воды, ни центрального отопления, ни семиэтажных домов, мощно сопротивляющихся пурге, ни кино и театров, — не легко им приходилось, нет!
— Конечно, не сладко, — ответил Федюха. — Трудная судьба выпала на долю первых строителей Норильска. Впрочем, что о нас говорить — разве вам легко, вы еще севернее.
Оля только махнула рукой. Она была взволнована, стыдилась самой себя. Ну да, ей временами было нелегко — что из того? Иные люди страдают и в Москве и на Кавказе — трудная жизнь определяется не географическими широтами. Суть в том, что она не может ничем похвастаться вроде того, чем гордятся они, — просто жила, ходила на работу, ничего больше.
— Бросьте, бросьте! — прервал ее Федюха. — Кое-что и вы сделали, а сейчас дело пойдет быстрее — мы вам подсобим. Библиотеки выделяют книги для вас, комбинат поможет строительными материалами, скотом, машинами — это уже решено.
В первый же день приезда в Норильск Оля вырвала часок — побежать в геологическое управление. Ей хотелось увидеть Угарова. Но вместо Угарова ее встретил Ергунов. Он протянул ей обе руки, шумно приветствовал, забросал вопросами. Она поинтересовалась — где Николай Александрович? Он ответил с сожалением:
— Исчез наш Николай Александрович — вызвали в Красноярск. Планируем совместную работу с краевыми геологами — они с Синягиным будут там по крайней мере месяц. А жаль — Николай знал, что вы приедете, очень жалел, что не увидит. Записку он вам оставил — на всякий случай.
В записке Угаров сообщал то же самое, что она услышала от Ергунова. Угаров сокрушался — похоже, в этом году им не встретиться, зиму он проведет в тайге, километров двести южнее ее становья. А так хотелось бы увидеть ее, пусть бы она попилила его — он скучает по ее строгой критике. Единственная возможность — может быть, в их партию выделят вертолет, тогда, конечно, он сбегает к ней в гости, на чай. Только пока это еще вилами по воде писано, на вертолет претендует партия Смородина и сам Синягин.
Она вышла из геологического управления расстроенная. Ее уже не занимали ни великолепный город, ни заводы, ни списки товаров, выделяемые им шефами. Она вспомнила философствования Угарова о законе подлости и невольно улыбнулась: он-то, конечно, подвел бы все под действие этого закона — заставили уехать ровно за два дня до ее приезда. Оля продолжала улыбаться — закон будет посрамлен раз и навсегда, она мобилизует новейшие достижения техники для опровержения этого старинного зловредного закона. Оля направилась в кассу аэропорта и вышла с билетом в сумочке. Вечером она сказала Тоги:
— Послезавтра я улетаю в Красноярск.
Он изумленно посмотрел на нее, Оля пояснила:
— Ничего нельзя поделать, Тоги, важное дело. Я столько лет не была на материке, больше не могу. Приеду прямо к занятиям в августе. Думаю, вы без меня управитесь.
Он кивнул головой.
— Езжай, Ольга Ивановна, — управимся. И все довезем — не сомневайся.
Она и не сомневалась — Тоги не походил на Селифона, готового отдать последнюю оленью шкуру, лишь бы похвастаться, этот цепко держал в руках добро. И он, пожалуй, лучше Селифона понимал нужды колхоза — шефы только изумленно переглядывались, когда он шарил по складам. Зато Аня расплакалась, узнав об отъезде Оли, Ядне и Недяку тоже загрустили.
— Вам и без меня будет весело, — убеждала она их. — Признайтесь, вы ведь во всех кинотеатрах побывали? И на танцы ходили? Это все можно делать и без меня.
Аню еще страшил город. Правда, после того как она сбросила малицу и нарядилась в магазинное платье и плащ с капюшоном, ей стало лучше, на нее уже не так заглядывались. И в горкоме комсомола им троим сказали с удивлением: «Молодцы, ребята, вы, оказывается, в курсе всех важных событий!» — это тоже утешало. Но в остальном было трудно — приходилось привыкать и к ваннам, и к цветному кино, и к ярко освещенным улицам, и к толкотне в магазинах, и к грохоту автомашин, и особенно к телефону в номере гостиницы — их часто вызывали из горкома.
Недяку мужественно сказал:
— Поезжай, Ольга Иванна, как-нибудь обойдемся.
Еще одно нужно было совершить перед отъездом, дело это было давно задумано, но оно казалось очень непростым. Оля пришла в поликлинику, ее проводили в кабинет врача — высокая худая женщина подняла на нее усталые глаза, молча показала на стул, взяла по привычке стетоскоп.
— Нет, я не больная, — заторопилась Оля, — я просто так — хотела с вами познакомиться. Я немного знаю Николая Александровича, он о вас говорил. А сейчас его нет — решила сама зайти. Может быть, вам неприятно, Нина Николаевна?
Нина Николаевна улыбнулась — невесело, с принуждением, сказала негромко:
— Вы Ольга Ивановна? Николай рассказывал о вас. Это хорошо, что вы пришли. Я рада.
Но Оля не видела радости, скорей наоборот — от Нины Николаевны исходил холодок, она говорила одно, а глаза ее — другое, они придирчиво изучали Олю. Похоже, она сама почувствовала неудобство от такого обращения и заговорила более приветливо:
— Я представляла вас другой, Оля. Мне казалось, вы должны быть даже по виду железной. Николай утверждал, что вы любого обгоните в оленьей скачке и что характер ваш — камень. А вы вон какая — хрупкая, молодая, хорошенькая.
Оля пошутила:
— Что же, это плохо — что я молодая и хрупкая?
— И хорошенькая, — повторила Нина Николаевна безжалостно — она видела, что Оле совестно произнести это слово. Теперь и глаза ее улыбались, не одни губы, Нина Николаевна с удовольствием глядела, как Олино лицо покрывается румянцем. — И знаете, обо всем говорил Николай — о вашей жизни, о ваших привычках и взглядах, о том, как вы вступились в мою защиту, а вот об этом — о вашей молодости и красоте — забыл упомянуть. Может быть, он и не заметил этого, как вы думаете?
Оля уже жалела, что пришла сюда, дружеский разговор не выходил — Нина Николаевна, кажется, собиралась посмеяться над ней. Оля сказала, смущенная:
— Простите, что мне пришлось высказать мнение о ваших отношениях — Николай Александрович сам коснулся этого. Я понимаю, как вам неприятно, поверьте. Я пойду — у вас прием, а я задерживаю.
Оля торопливо встала, но Нина Николаевна задержала ее. Она скинула халат.
— Глупенькая, ничего вы не понимаете, — сказала она ласково. — Боже мой, какая вы еще молодая! Садитесь, садитесь, мой прием давно кончился. Мы поговорим с вами здесь, нужно бы позвать вас домой, угостить чаем, но у нас ремонт в комнате, все красится. Расскажите о себе, Оля, как вы попали на север, как живете, все рассказывайте.
И Оля рассказывала, удивляясь, что так сразу подчиняется воле этой серьезной немолодой женщины. Понемногу беседа наладилась, Нина Николаевна, оказывается, еще больше провела на севере, чем Оля, была в глухих местах, недалеко от их становья.
— Уже сотню километров на лыжах не пройду, а было время — ходила, — сказала она задумчиво. — Узнала, что у соседей на станке появилась «Анна Каренина», не побоялась ни пурги, ни мороза. Сама порою удивляюсь — последние пять лет даже не выходила прогуляться в тундру.
— Я становлюсь такой же, — поделилась своими опасениями Оля. — С каждым годом меня все меньше тянет к блужданиям. В этом году не пошла в кочевье с оленными бригадами.
— Не клевещите на себя, — возразила Нина Николаевна. — В вас долго еще будет бушевать энергия. Теперь я понимаю, почему Николай так влюбился в вас — у вас имеется все, чего ему не хватает.
Оля знала, что багровеет, с этим ничего нельзя было поделать. Но с голосом своим Оля пыталась бороться. Она сказала со смешком:
— Вот как — влюбился? Лично я об этом ничего не знаю, Николай Александрович не поставил меня в известность. Самое большое, на что он поднимался в письмах, — это пожалуется, что некому его ругать, а я, мол, смогла бы.
Нина Николеавна тоже засмеялась. Она заметила:
— Это ужасно похоже на Николая. Если бы вы знали, как он о вас говорил, вы — и самая умная, и самая дорогая, и самая твердая, на это он особенно упирает, он ценит это качество. Андрею он признался, что мечтает жениться на вас, думает специально взять отпуск на две недели и достать нарты — ехать к вам делать предложение. Но вот вам почему-то не сообщил.
Она стала одеваться, взяла Олю под руку, заглянула ей в лицо.
— Проводите меня домой, по дороге еще поговорим.
А у своего дома, после длинного разговора, она с волнением сказала, обнимая Олю, — ничем она не напоминала ту хмурую сосредоточенную женщину, что ее встретила:
— Поезжайте, Оля, обязательно поезжайте. Я знаю, вас это удивит, но вы должны поверить: мы любим Николая — и я, и Андрей, и все наши знакомые. Он хороший человек, только ребенок — капризный, искренний. И он вас любит, я-то знаю, когда он любит, — очень, очень, Оля! Не бросайте его, ему нужна такая, как вы. А мы будем с вами друзьями — настоящими друзьями, Оля!
3
Оля не узнавала Красноярска. Память сохранила низенькие угрюмые домишки, плохо замощенные тротуары, пыль и темноту вечерних улиц. Оля вспоминала собачий лай — псы надрывались за каждыми воротами, было страшно ходить. А сейчас на главном проспекте поднимались многоэтажные дома, не было ни деревянных ворот, ни псов. Он не был так красив, так сконцентрирован, этот старый город, как тот, молодой, что вознесся на севере, — старина, оттесненная в углы, прикрытая громадами нового, еще боролась, еще путалась под ногами. Но она была обречена, все помолодело и похорошело здесь. Оля оставила вещи в гостинице, наскоро перекусила и отправилась бродить. Был ранний час, город только просыпался, тополя важно шумели. Выйдя на берег Енисея, Оля узнала по-настоящему старый Красноярск — нет, город еще не повернулся лицом к своей великой реке, он по-прежнему отгораживался от нее заборами, барьерами уборных и дровяных складов. Она шла вдоль обрыва, всматривалась в реку. Река грохотала и звенела, как цех завода, по ней мчались катера, проплывали теплоходы, проносились глиссеры, тащились баржи. Она оглушала гудками, свистками, склянками, тяжелым дыханием заводов, раскинувшихся на правом берегу, — Енисей стал другим, это был клокочущий котел, не прежняя величественная пустыня. Оля пошла дальше, узнала трехэтажную коробку — археологический музей, снова изумилась — тенистый бульвар раскинулся на месте прежних огородов и свалок. Не было и деревянного сарая — пристани, над Енисеем возносилось высокое здание со шпилем. Но если архитектура на берегу и изменилась, то старые порядки, похоже, еще господствовали в этом уголке — на песчаном пляже, рядом с колоннадой речного вокзала, под тополями и статуями бульвара, валялись чемоданы и тюки, на них сидели люди, всматриваясь с надеждой в каждое судно. Оля грустно глядела на них — так и она некогда сидела и волновалась, засыпала у холодной воды. Она вспомнила Мотю, Павла, Сероцкого, ее сердце сжалось, ей захотелось еще раз встретиться с молодостью своей хоть на часок. Что бы она им сказала, как бы они поглядели на нее, Мотя заплакала бы, Павел выругался — он скрывал под бранью свои хорошие чувства, он их стеснялся. А Сероцкий — он протянул бы ей руку, проговорил: «Олечка, сколько лет, сколько зим!», ласково улыбнулся, глаза его, живые и теплые, как руки, дотронулись бы до нее…
Она оторвалась от своих мечтаний, направилась к стоянке автобуса. К вокзалу подъехало такси, Оля в испуге отпрянула — из машины вылезал Сероцкий. На секунду отчаянное желание бежать овладело ею, но у нее не хватило сил и было поздно — он повернулся к ней. Изумление и радость звучали в его голосе. Он торопливо схватил руки Оли:
— Ольга Ивановна, вот так встреча — всего мог ожидать, но не вас. Что с вами — вы так бледны?
Она призналась со смехом:
— Вы меня испугали. Я только что думала о вас, и вдруг — вы! Так странно снова встретить вас в Красноярске.
Он удивился:
— Почему странно? Я ведь постоянный житель Красноярска. Перешел на оседлость — не всю же жизнь кочевать. А вы сюда в отпуск, конечно? Разрешите, я вас провожу? Вы в гостинице?
— В гостинице, — ответила она.
Он взял ее под руку, они поднимались к главному проспекту. Сероцкий потребовал:
— Рассказывайте о себе — век вас не видел.
Она возразила весело:
— Раньше вы рассказывайте — я ровно столько же вас не видела.
Он согласился, он был таким же покладистым. И улыбался он так же, и та же родинка сидела на его щеке, только зубов у него прибавилось — вставные — да еще морщин и седины. И одет он был по-другому — скромно и просто. Да, Ольга Ивановна, вот так и проходит жизнь, встретишься разок в десять лет — событие. Собственно, что говорить, жизнь его, сказать по правде, не вышла — с женой он живет теперь довольно мирно, двое детей имеются, неплохой заработок, а не то. Самого главного нет — плодов собственного труда. Метался по стране, ко всему прикасался, обо всем имеет понятие, но ни во что глубоко рук своих не погружал. Нету настоящей жизни, и рассказывать нечего.
Оля запротестовала:
— Неправда, я помню — вы очень интересно рассказывали.
Сероцкий невесело улыбнулся. Это было новое в нем — унылость.
— О других, Ольга Ивановна. Вот вся моя жизнь — повествование о чужом труде, чужих терзаниях, чужих успехах.
Оля заметила сочувственно — ее тронула искренность его печального рассказа:
— Вы и раньше жаловались, что вас не хватает на любовь — это чувство оседлых людей, а вы — принципиальный кочевник. Так вы говорили, правда?
Он серьезно поглядел на нее.
— Один раз я любил, Ольга Ивановна. И вы знаете кого.
Оля молчала, догадываясь, какой будет ответ, она страшилась его. Сероцкий закончил — торжественно и печально:
— Вас, Ольга Ивановна. Одну вас я любил в своей жизни, только слишком поздно понял это — в этом было мое несчастье. — Он промолчал, ожидая ответа, потом продолжал: — Русский мужик задним умом крепок, я особенно. Вы не поверите, сколько я думал о вас. Но вы не отвечали на мои письма, это могло быть только в одном случае — если вы вышли замуж. Я решил — незачем мне разбивать ваше счастье, за плохого человека вы не могли бы выйти, в этом я был уверен.
Оля вслушивалась в его слова, видела дни той зимы, свои одинокие слезы, свое отчаяние. Нет, и сейчас он ничего не понимал, он видит только одну причину — замужество. Он любил, не зная ее, не разбираясь ни в поступках, ни в чувствах ее — что же это за любовь?
— Неужели я ошибся? — спросил он — его взволновало ее молчание, он угадывал в нем что-то важное.
— Оставим все это, Анатолий, — сказала она. — К чему ворошить старое — хорошего не вернуть, а плохое — пора забыть.
Он настаивал:
— Скажите мне только одно — вы замужем? Правду я угадал — вы счастливы?
Она ответила, не покраснев и не дрогнув голосом:
— Да, я замужем и счастлива.
Они дошли до угла — она видела высокий дом, ей нужно было туда. Оля протянула Сероцкому руку, сказала приветливо и равнодушно:
— До свидания, Анатолий, я очень рада, что встретила вас.
Она вздохнула с облегчением, когда он отошел. Это даже лучше, что они увиделись, она проверила себя — воспоминания о нем волновали ее, не он сам. Прав Николай — оставим мертвецов мертвым, а она — живая.
Оля медленно поднималась по лестнице, настоящее волнение поразило ее, совсем не такое, как при встрече с Сероцким. Год они не виделись с Угаровым, как он встретит ее? Они расстались дружески, он пожал ей руку, писал хорошие письма, они не походили на то, что наговорила ей Нина Николаевна. Встреча будет такой же теплой, как расставание, — он встанет, улыбнется, скажет, пожимая руку: «Ольга Ивановна, какими судьбами!» Это будет хорошая встреча, зачем требовать невозможного — ей хватит.
Оля постучала в дверь. Она увидела Угарова, он разговаривал с высоким худым человеком. Угаров прервал разговор на полуслове, побледнел, кинулся к ней, вскрикнул громко и растерянно. Так и она когда-то встретила Сероцкого, она могла это понять. Он повторил ликующе: — Оленька, родная моя, ты!
Она обняла его, закрыла глаза, прижалась к нему.
4
Самолет сперва покружился, потом сел в стороне от становья. Моторы его еще оглушающе ревели, а на крылья и фюзеляж уже карабкались бесстрашные ребята. Первым вылез Ергунов, за ним показался Федюха. Ергунов, смеясь, размахивал руками — приветствовал знакомых. Заметив Олю, он заторопился. Подойдя, он радостно сказал:
— Получайте послание — в собственные руки. Расписки не требуется — у нас без бюрократии. Ну, как жилось в наше отсутствие, медведи не набегали?
Оля видела, как он — будто бы случайно — обвел любопытным взглядом ее фигуру и, поняв, что она заметила его взгляд, смутился и отвел глаза в сторону.
— Спасибо, ничего жили, — ответила она, стоя перед ним, — тоже смущенная и неловкая. — Где уж медведи у нас? С тех пор как появилась радиоточка, они удрали к полюсу — громкоговоритель действует им на нервы.
Он продолжал еще веселее, по-прежнему не глядя на нее:
— Значит, так — вылетаем в полночь. У вас, конечно, все увязано — постели, книги и всякое прочее? А то, пожалуйста, все десять пальцев к вашим услугам.
Оля сказала тихо — она знала, что он ждет этих слов и немедленно обрушится на нее:
— А если я останусь здесь?
Он в самом деле закричал:
— Вздор, вздор, — не переношу, кто больше меня брешет! Абсолютно исключено. Николай меня двумя словами убьет, как палкой, вы не представляете, какой он стал вредный — на всех кидается. В Норильске уже все подготовлено — сиделки и акушерки, и пенициллин с вазелином. Даже хорошая погода заказана — Лукирский обещает первосортный антициклон с незаходящим солнцем во все окна. Пока не родите, ни одной тучки — где еще такая благодать возможна?
Она засмеялась. Это был заранее обдуманный план — и то, что сам Николай не приехал, отговорившись занятостью, и что вместо него прибыл напористый Ергунов. Вероятно, и Нина Николаевна принимала участие в этом сговоре — в последнем письме она ссылалась на свой авторитет врача, категорически требуя ее выезда. Оля все же сказала:
— Ну, пенициллин и сиделки и здесь бы нашлись.
Ергунов недоумевающе оглянулся на тундру, словно отыскивая больницу. В пустом воздухе медленно рассеивалась снежная пыль, поднявшаяся при посадке самолета, — прозрачная пелена синих, золотых и красных вспышек оседала на лица и одежду, превращалась на земле в однообразное белое сверкание. Ергунов широко ухмыльнулся.
— Вы учительница, Ольга Ивановна, — кто вас переговорит, тому двух дней не прожить. Но и мы, между прочим, не лыком подпоясываемся. Так что споры бесполезны — буду исполнять приказы высшего начальства.
— Добрый день, Ольга Ивановна, — поздоровался подошедший Федюха. — Как ваш хозяин?
— А он сам вам расскажет, не беспокойтесь. Удивительный вы народ — шефы. Не можете без обмана. Третий день ждем вас напрасно.
Федюха подмигнул Ергунову.
— Строгая вы у нас, Ольга Ивановна, — так и предполагали, что от вас достанется.
Они шли по нестерпимо сиявшей тундре, солнце было за спиной, но глазам становилось больно. Из становья выезжали грузовые нарты, олени мчались к самолету, запрокидывая рога. Правившие упряжками нганасаны приветствовали шефов криками.
Селифон ждал гостей на крыльце — он был чисто выбрит и одет в военного покроя китель, белый воротничок отчеркивал его смуглую шею, он все время поглядывал на свои ручные часы. Около Селифона толпилось все население становья — кочевые бригады в этом году снаряжались поздно, еще ни один аргиш не ушел к океану. Все были одеты по-праздничному: на молодых сапоги, легкие брюки, пиджаки, короткие пальто — одежда, по старым нормам, не по сезону. Жальских стоял рядом с Тоги, тот тоже держался по-парадному.
— Прошу в правление, товарищи шефы! — голос Селифона был ровен и торжествен, но Оля слышала в нем напряжение, Селифон старался говорить четко и правильно по-русски.
Оля вошла вместе со всеми в просторную комнату правления и села у окна. Она выслушала официальные приветственные речи, потом деловое сообщение Ергунова — он перечислял привезенные подарки. Когда Ергунов добрался до книг, она упрекнула его — книги опять случайные, а ведь они просили закупить в Когизе по списку.
— В следующий раз и в Когиз заглянем, — пообещал Федюха.
Тоги, в свою очередь, познакомил шефов с выполнением плана и новыми задачами колхоза в связи с преобразованием их становья в районное село. Он долго перечислял стада, количество добытых мехов, тонны рыбы. Оля почувствовала усталость. Она глядела в окно, ей казалось, что она думает о чем-то нужном и важном, о чем-то таком, что нужно всесторонне взвесить и окончательно решить. И только когда Селифон спросил ее, может ли она показать шефам школу, Оля встрепенулась, поняла, что просто забылась — без мыслей и ощущений. Она сказала, тяжело вставая:
— Конечно, можно, пойдемте.
— Прошу, товарищи шефы, посмотреть, как мы живем! — отчетливо, почти без акцента проговорил Селифон.
Оля вышла первой — Селифон, стоя у двери, ожидал, пока она пройдет, это ее тронуло — он на прощание оказывал ей публичный почет, хотя рвался скорее показать шефам свои достижения. В коридоре один из шефов, монтер Чигин, беседовал с Аней, она, смеясь и краснея, отворачивалась, пряча лицо в песцовый воротник, — Чигин, похоже, не скупился на хорошие слова. Федюха деловито осведомился:
— Треплешься, Семен?
— Ни в коем случае, Кондрат Иваныч, — бодро ответил монтер. — Мы с Аней Наевной старые знакомые — еще с Норильска, там от комсомола к ним прикрепляли для помощи. И поскольку сейчас Аня Наевна счетовод колхоза, рассуждали, как лучше разместить осветительные точки.
По тому, как весело рассмеялась Аня, услышав объяснения Чигина, Оля поняла, что разговор их был совсем иного свойства. Она обняла девушку и вышла с ней наружу. Аня нежно и доверчиво прижалась к ней.
— Ухаживал, Анечка? — спросила Оля.
— Ухаживал, — призналась девушка, застыдившись и краснея.
— А что говорил? Хвалил тебя?
— Хвалил.
— Как хвалил? Говорил, что у тебя красивые глаза?
— Говорил.
— И что ты сама очень красивая? И очень умная?
— Очень умная — не говорил. Говорил — в Норильске таких девушек нет. И еще — хочу ли я, чтоб он переехал сюда на работу?
— А ты что ответила?
— Сказала — не знаю. Он смеется, в Норильске много красивых девушек, я видела. Ольга Ивановна, это он говорил неправду.
— Нет, почему же, насчет глаз и лица — правда. А что касается переезда, может быть, и шутил — не так легко поменять Норильск на тундру.
Аня нахмурилась. Тонкие брови резко сдвинулись к переносице, губы сжались — на лице ее обозначились все испытываемые ею чувства. Так, в детстве, решая задачу, она вся менялась, лицо ее деревенело, движения тормозились — она могла делать только одно дело одновременно и, делая его, отдавалась ему целиком.
Оля сказала, отпуская девушку:
— Поди, Анечка, тебя ждут.
Федюха подошел к учительнице и взял ее под руку. Он поинтересовался:
— У Селифона, кажется, большой парад. Куда он ведет нас, Ольга Ивановна?
— Вероятно, к коровнику. Так как это последнее по счету достижение, то он и гордится им больше всего другого. И Тоги ему не уступает — он перегонял корову из Дудинки, ту самую, что вы дали.
В коровнике стояла рослая темная корова. Селифон похлопал ее по шее и сообщил, что в эту навигацию они получат еще двух коров — уже не подарок шефов, а закупка на колхозные деньги.
— Арктическое молочко! — сказал Федюха с уважением, пощупав ляжку коровы.
После коровника шефы осмотрели парничок на две рамы. Недяку, командовавший теплицей, поднес гостям по крохотной редиске — это был пока единственный овощ, культивируемый в колхозном огороде.
На улице становья шла подготовка кочевых аргишей. Селифон объяснил, что кочевье сейчас иное, чем было прежде. Женщины и дети остаются дома, кочевать отправляются только молодые пастухи и охотники. В самом становье, как видели товарищи гости, еще имеются чумы, но и они не похожи на старые, они просторней, в них вставлены окна из стекол, висят портреты Ленина.
Пока шефы вели осмотр, нарты, отправленные к самолету, возвратились с грузом, и молодежь начала игры. Гости с любопытством наблюдали за медленно кружившимся хороводом. Это была важная и деловитая церемония. В центре поля был вбит в снег хорей, вокруг хорея широким кругом неторопливо ходили юноши и девушки, прихлопывая в ладони и восклицая: «Хейра! Хейра!» Это продолжалось почти час без всяких изменений, потом в круг ворвался Ергунов и пошел лихо рубить ногами «яблочко». Все смешалось — юноши и девушки прыгали, топали ногами, кричали, хохотали, напрасно стараясь угнаться за неистовым танцем Ергунова.
В школе молодой учитель Нгоробие Чунанчар, помощник Никифора Матвеевича, водил шефов по классам и знакомил со школьным оборудованием. Оля присела на стул, ей становилось хуже, было трудно стоять и ходить. Когда Нгоробие ушел с гостями в другую комнату, она подозвала Никифора Матвеевича и устало проговорила:
— Ты походи с Григорием, я часок отдохну.
— Отдохни, отдохни, Ольга Ивановна, — сказал он, с сочувствием глядя на ее измученное лицо.
Она вошла в свою комнату и присела на диван. Ей стало совсем плохо — в глазах прыгали огоньки, в ушах тяжко шумело. Некоторое время она сидела без движений и мыслей, закрыв глаза, а потом усталость отступила перед чем-то более настоятельным и важным. Она встала и подошла к окну. В конце улицы, где устанавливали динамку, привезенную шефами, стояла толпа. Оля подумала о том, что ей следует быть на празднике зажжения первой лампочки в становье, и улыбнулась — хоть бы тучка на небе: ночное солнце полярной весны, кажется, испортит все торжество. Она перечитала записку мужа. Он требовал ее немедленного выезда, рожать она будет в Норильске, потом они с ребенком полетят на юг. Он возьмет отпуск за три года, целых шесть свободных месяцев, а там видно будет, он ничего не предрешает заранее. Оля снова улыбнулась — все было предрешено. Конечно, потом он скажет — ребенку пока нельзя на север, пусть она год поживет у его матери, в Новгороде, втайне от нее добьется ее перевода отсюда, а может, и прямо станет ее уламывать. Вот и настала для нее эта трудная пора — сколько о ней было говорено — час решения. Ребенка потянет на свежую травку, нужно ехать на юг — только это он понимает. И ей придется оставить места, где прошли самые трудные, самые горькие, самые радостные и плодотворные годы ее жизни. Эти места становятся обжитыми, в этом содержится немалая доля и ее труда, мыслей, страданий. Нет, она не проносилась над жизнью. Жизнь — трудное дело, по самые локти погружала она в нее свои руки, месила ее, как тесто, — творила жизнь. И вот результаты ее труда, плоды ее усилий, она может оглянуться на них, протянуть к ним руки. О нет, дело было не только в ней, это был их общий труд, усилия тысяч присланных сюда, как и она, их собственные усилия — Селифона, Тоги, всех их. Не было бы ее, появилась бы другая. Но она была, как этого не хотят понять, она была! Нет, розы не устилали ее путь, и отчаяние грызло ее, и слезы сами лились. Какое это было страшное испытание одиночеством, мраком и холодом! Мороз леденил ее руки, грязь неумолимо вползала в комнату. Она с гордостью оглядывается на пройденный путь, она выстояла — такова ее жизнь, она не отдаст ее ни за какую другую. А теперь все придется менять. Конечно, ее друзья не пропадут без нее. Они крепко стоят на ногах. И она не пропадет без них, возможно, найдет новую интересную работу, даже, наверное, это будет. Но никогда уже работа так не захватит ее всю, как захватывает эта, никогда она не будет такой плодотворной и никогда уже — это надо прямо сказать — ее саму не будут так любить, считать такой своей и такой нужной, как здесь. Ее увозят не из затерянного в снегах становья, от нее отрывают лучшую ее часть, — как же может человек жить без плодов ума и рук? Разве это не то же самое, что разлучать ребенка с матерью?
Оля не помнила, сколько времени провела в этих думах, пока уснула. В дверь постучал Ергунов, солнце стояло на северной точке неба — полночь полярного дня.
— Самолет уходит в четыре, — сообщил он. — Где тут ваши вещицы?
Собирая чемоданы и тюки, он сообщал, что все население становья смотрит привезенную шефами кинокартину, крутят вторично сначала. Один Селифон отказался второй раз смотреть, сидит у себя в правлении.
— Я зайду к нему, попрощаюсь, — сказала Оля.
Она шла по уснувшему становью, с новым острым чувством расставания всматриваясь в каждое окно, в каждый дымок. В правлении было тихо. Селифон сидел за своим столом. Окна были затянуты шторами, над столом сверкала в полсилы — не хватало напряжения — стоваттная лампочка. Селифон читал книгу и делал пометки в общей тетради.
— Едешь, Ольга Иванна? — сказал он печально.
— Еду, — ответила она торопливо и замолчала, не осмеливаясь признаться в своем решении. Она заговорила о другом: — Ты зачем окна завесил? Солнце прямо в комнату.
— Не надо солнца, Ольга Иванна, — он сконфуженно улыбнулся, показал рукой на лампочку — солнце мешало ему привыкать к электрическому свету, она вспомнила, что в течение многих лет электричество было главной его мечтой. Он снова заговорил: — Кончится картина, пойдем тебя провожать. Там ребята тебе подарки приготовили — целая комната. Колхоз тоже не отстанет — будешь нас вспоминать. Письма пиши, Ольга Иванна.
Она сказала досадливо:
— Незачем писать.
На лице его было непонимание и огорчение.
— Почему незачем? Столько лет работали, все тебя любят. Ты нам родной человек, Ольга Иванна.
— Ах, не в этом дело! И подарки совсем ни к чему, я их не возьму. Вот что, Селифон, моя комната мала — понимаешь? Я прошу у колхоза — мне нужна квартира, две комнаты, чтобы было где с ребенком и мужем разместиться.
Селифон минуту смотрел на нее ошеломленный, потом на лице его взорвалась бурная радость, он вскочил, крича, смеясь, схватил ее за руки, кружил по комнате, не слушал протестов.
— Приедешь? Значит, приедешь? — кричал он восторженно. — В самом деле приедешь назад, Ольга Иванна?
— Приеду, приеду! — отвечала она, смеясь, поворачиваясь вслед его движениям. — Лето отдохну с мужем, а кончится отпуск — вернусь сюда на работу.
— А муж? Что скажет муж, Ольга Иванна?
— Что муж? У него здесь тоже много дела. Скоро начнется строительство в горах, ему тут жить.
Селифон долго не мог успокоиться, он бегал по комнате, возбужденно вскрикивал, хохотал от радости, как мальчик. Еще никогда она не видела его таким счастливым, это порождало в ней самой чувство счастья. Они глядели один на другого влажными глазами, трясли руки, снова долго и радостно смеялись. Потом Селифон немного утихомирился и стал рассматривать дело с другой стороны.
— Провожать, Ольга Иванна, все равно пойдем. И подарки бери, ребята сами готовили, зачем их обижать? И наши подарки тоже надо взять, их весь колхоз дает, они уже в книгу расходов занесены — как вычеркну? Еще поручение, Ольга Иванна, — он торопливо рылся в ящике стола. — Вот список вещей, очень нужные для колхоза — купи на материке.
— Давай список, — сказала Оля, протягивая руку. — Пришлю по почте.

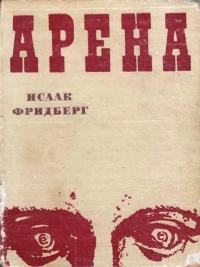


Комментарии к книге «Учительница», Сергей Александрович Снегов
Всего 0 комментариев