Юрий Бондарев Батальоны просят огня
Глава первая
Бомбежка длилась минут сорок. В черном до зенита небе, неуклюже выстраиваясь, с тугим гулом уходили немецкие самолеты. Они шли низко над лесами на запад, в сторону мутно-красного шара солнца, которое пульсировало в клубящейся мгле.
Все горело, рвалось, трещало на путях, и там, где еще недавно стояла за пакгаузом старая закопченная водокачка, теперь среди рельсов дымилась гора обугленных кирпичей; клочья горячего пепла опадали в нагретом воздухе.
Полковник Гуляев, морщась от звона в ушах, осторожно потер обожженную шею, потом вылез на край канавы и сипло крикнул:
– Жорка! А ну где ты там? Быстро ко мне!
Жорка Витьковский, шофер и адъютант Гуляева, гибкой независимой походкой вышел из пристанционного садика, грызя яблоко. Его мальчишеское наглое лицо было спокойно, немецкий автомат небрежно перекинут через плечо, из широких голенищ в разные стороны торчали запасные пенальные магазины.
Он опустился возле Гуляева на корточки, с аппетитным треском разгрызая яблоко, весело улыбнулся пухлыми губами.
– Вот бродяги! – сказал он, взглянув в мутное небо, и добавил невинно: – Съешьте антоновку, товарищ полковник, не обедали ведь…
Это легкомысленное спокойствие мальчишки, вид пылающих вагонов, боль в обожженной шее и это яблоко в руке Жорки внезапно вызвали в Гуляеве злое раздражение.
– Воспользовался уже? Трофеев набрал? – Полковник оттолкнул руку адъютанта и хмуро встал, отряхивая пепел с погон. – А ну разыщи коменданта станции! Где он, черт бы его!..
Жорка вздохнул и, придерживая автомат, не спеша двинулся вдоль станционного забора.
– Бегом! – крикнул полковник.
То, что горело сейчас на этой приднепровской станции, лопалось, взрывалось и малиновыми молниями вылетало из вагонов, и то, что было покрыто на платформах тлеющими чехлами, – все это значилось словно бы собственностью Гуляева, все это прибыло в армию и должно было поступить в дивизию, в его полк, и поддерживать в готовящемся прорыве. Все гибло, пропадало в огне, обугливалось, стреляло без цели после более чем получасовой бомбежки.
«Бестолочь, глупцы! – гневно думал Гуляев о коменданте станции и начальнике тыла дивизии, грузно шагая по битому стеклу к вокзалу. – Под суд сукиных сынов мало! Обоих!» На станции уже стали появляться люди: навстречу бежали солдаты с потными лицами, танкисты в запорошенных пылью шлемах, в грязных комбинезонах. Все подавленно озирали дымный горизонт, и щуплый низенький танкист-лейтенант, ненужно хватаясь за кобуру, метался меж ними по платформе, орал срывающимся голосом:
– Тащи бревна! К танкам! К танкам!..
И, наткнувшись растерянным взглядом на Гуляева, только покривился тонким ртом.
Впереди, метрах в пятидесяти от перрона, под прикрытием каменных стен чудом уцелевшего вокзала, стояла группа офицеров, доносились приглушенные голоса. В середине этой толпы на голову выделялся высоким ростом командир дивизии Иверзев, молодой, румяный полковник, в распахнутом стального цвета плаще, с новыми полевыми погонами. Одна щека его была краснее другой, синие глаза источали холодное презрение и злость.
– Вы погубили все! Па-адлец! Вы понимаете, что вы наделали? В-вы!.. Пон-нимаете?..
Он коротко, неловко поднял руку, и стоявший возле человек, как бы в ожидании удара, невольно вскинул кверху голову – полковник Гуляев увидел белое, дрожавшее дряблыми складками лицо пожилого майора, начальника тыла дивизии, его опухшие от бессонной ночи веки, седые взлохмаченные волосы. Бросились в глаза неопрятный, мешковатый китель, висевший на округлых плечах, нечистый подворотничок, грязь, прилипшая к помятому майорскому погону; запасник, по-видимому работавший до войны хозяйственником, «папаша и дачник»…
Втянув голову в плечи, начальник тыла дивизии тупо смотрел Иверзеву в грудь.
– Почему не разгрузили эшелон? Вы понимаете, что вы наделали? Чем дивизия будет стрелять по немцам? Почему не разгрузили?..
– Товарищ полковник… Я не успел…
– Ма-алчите! Немцы успели!
Иверзев шагнул к майору, и тот снова вскинул мягкий подбородок, уголки губ его мелко задергались, в бессилии он плакал; офицеры, стоявшие рядом, отводили глаза.
В ближних вагонах рвались снаряды; один, видимо бронебойный, жестко фырча, врезался в каменную боковую стену вокзала. Посыпалась штукатурка, кусками полетела к ногам офицеров. Но никто не двинулся с места, лишь глядели на Иверзева: плотный румянец залил его другую щеку.
– Под суд! – низким голосом выговорил Иверзев. – Я отдам вас под суд! Полковник Гуляев, подойдите ко мне!
Гуляев, оправляя китель, подошел с готовностью; но этот несдержанный гнев командира дивизии, это усталое, измученное лицо начальника тыла сейчас уже неприятно было видеть ему. Он недовольно нахмурился, косясь на пылающие вагоны, проговорил глухим голосом:
– Пока мы не потеряли все, товарищ полковник, необходимо расцепить и рассредоточить вагоны. Где же вы были, любезный? – невольно поддаваясь презрительному тону Иверзева, обратился Гуляев к начальнику тыла дивизии, оглядывая его с тем болезненно-сострадательным выражением, с каким глядят на мучимое животное.
Майор, безучастно опустив голову, молчал; седые слипшиеся волосы его топорщились на висках неопрятными косичками.
– Действуйте! Дей-ствуй-те! В-вы, растяпа тыла! – крикнул Иверзев с бешенством. – Марш! Товарищи офицеры, всем за работу! Полковник Гуляев, разгрузка боеприпасов под вашу ответственность!
– Слушаюсь, – ответил Гуляев.
Иверзев понимал, что это глуховатое «слушаюсь» еще ничего не решает, и, едва сдерживая себя, перевел внимание на коменданта станции – сухощавого, узкоплечего подполковника, замкнуто курившего у ограды вокзала, – и добавил тише:
– А вы, товарищ подполковник, ответите перед командующим армией за все сразу!..
Подполковник не ответил, и, не ожидая ответа, Иверзев повернулся – офицеры расступились перед ним – и крупными шагами пошел к «виллису» в сопровождении молоденького, тоже как бы рассерженного адъютанта, щеголевато затянутого в новые ремни.
«Уедет в дивизию», – подумал Гуляев без осуждения, но с некоторой неприязнью, потому что по опыту своей долгой службы в армии хорошо знал, что в любых обстоятельствах высшее начальство вольно возлагать ответственность на подчиненных офицеров. Он знал это и по самому себе и поэтому не осуждал Иверзева. Неприязнь же объяснялась главным образом тем, что Иверзев назначил ответственным именно его, безотказного работягу фронта, как он иногда называл себя, а не кого другого.
– Товарищи офицеры, прошу ко мне!
Гуляев лишь сейчас близко увидел коменданта станции; меловая бледность его лица, вздрагивающие худые пальцы, державшие сигарету, позволяли догадаться, что этот человек сейчас пережил. «Отдадут под суд. И за дело», – подумал Гуляев и сухо кивнул подполковнику, встретив его ищущий взгляд.
– Ну, будем действовать, комендант!
Когда несколько минут спустя комендант станции и Гуляев отдали распоряжение офицерам и к горящим составам, зашипев паром, подкатил маневровый паровозик с перепуганно высунувшимся машинистом, а тяжелые танки стали, глухо ревя, сползать с тлеющих платформ, к полковнику, кашляя, задыхаясь, моргая слезящимися глазами, подбежал начальник тыла дивизии, затряс седой головой.
– Боеприпасы одним паровозом мы не спасем! Погубим паровоз, людей, товарищ полковник!..
– Эх, братец вы мой, – досадливо сказал Гуляев. – Разве вам в армии служить? Где ж вы фуражку-то потеряли?
Майор скорбно улыбнулся.
– Я постараюсь… Я все, что смогу… – заговорил майор умоляюще. – Комендант сообщил: прибыл эшелон. Из Зайцева. Стоит за семафором. Я сейчас за паровозом. Разрешите?
– Мигом! – скомандовал Гуляев. – Одна нога здесь… И, ради Бога, не козыряйте. Как корягу, руку подносите, черт бы вас драл! И без фуражки!..
Майор сконфуженно попятился, рысцой побежал к перрону, неуклюже колыхая плечами, подпрыгивая, наталкиваясь на танкистов; они раздраженно матерились. Его мешковатый китель, взлохмаченная голова мелькнули в последний раз в конце перрона, в сизо-оранжевом дыму близ крайних вагонов, где с треском, с визгом осколков лопались снаряды.
– Жорка! А ну за майором! Помоги! А то носит его… видишь? За смертью гоняется! – сказал Гуляев.
Жорка усмехнулся, ответил небрежно:
– Есть, – и последовал за майором своей цепкой, скользящей походкой.
Полковник Гуляев ходил около вокзала, глядел на пылающие вагоны со вздыбленными крышами, сознавая, что все здесь охваченное огнем могло спасти только чудо. Он думал о том, что этот пожар, уничтожающий боеприпасы и снаряжение не только для истощенной в боях дивизии, но и для армии, оголял его полк, батальоны которого подтянулись к Днепру в течение прошлой ночи. И как бы умны ни были сейчас распоряжения Гуляева, как бы ни кричал он, ни взвинчивал людей, все это теперь не спасало положения, не решало дела.
Он видел, как бегал в дым и вновь выныривал в просветах пожара маневровый паровозик, свистя, носился по путям с прилипшим к буферу сцепщиком, разъединял искореженные осколками вагоны, оглушая лязгом железа, толкал их в тупик. Танки обрушивались через края платформы на бревна, скатывались на землю; недовольно ревя, будто обожженные звери, уползали к лесу за станционным зданием.
Мимо вокзала пробежал высокий танкист-подполковник, лицо его было озлоблено, все в темных пятнах гари, он не заметил Гуляева.
– Подполковник! – зычно окликнул Гуляев, чуть подбирая полнеющий живот, как делал это всегда, готовясь отдать приказание.
– Чего вам? – Танкист остановился. – Я вам не подчинен!..
– Сколько танков вышло из строя?
– Не подсчитано!
– Тогда вот что! Освободятся люди – пошлите их на расцепку вагонов! Сейчас придет еще паровоз…
– Я людьми швыряться не намерен, товарищ полковник! Как воевать без людей буду?
– А как же будет воевать дивизия? А? Вся дивизия? – спросил Гуляев, чувствуя, что снова сбивается на тон Иверзева, и раздражаясь на себя за это. Воспаленные веки танкиста упрямо сузились.
– Не могу! Я отвечаю за своих людей, полковник!
В ближайшем вагоне с грохотом взорвалось несколько снарядов, взметнулась крыша, дохнуло обжигающим жаром. Лицам стало горячо. На мгновение оба отвернулись, их заволокло дымом; танкист закашлялся.
– Товарищ полковник, разрешите обратиться? – послышался в эту минуту за спиной Гуляева насмешливый голос.
– По-до-жди-те! – холодно, не оборачиваясь, проговорил Гуляев и добавил жестко: – Я потребую… потребую выполнения, танкист!
– Товарищ полковник, разрешите обратиться?
– Кто еще тут? – Гуляев, морщась, круто повернулся и удивленно воскликнул: – Капитан Ермаков? Борис? Откуда тебя черти принесли?
– Здравия желаю, товарищ полковник.
Среднего роста капитан в летней выгоревшей гимнастерке с темными следами от портупеи стоял возле; тень от козырька падала на половину смуглого лица, карие, дерзкие глаза, белые зубы блестели в обрадованной улыбке.
– Ну, не узнаете, товарищ полковник! – оживленно повторял он. – Что, не верите? Доложить, что ли?
– Да откуда тебя черти принесли? – вновь проговорил Гуляев, сначала нахмурился, потом засмеялся, грубовато стиснул капитана в объятиях и сейчас же отстранил его, косясь через плечо.
– Идите, – буркнул он танкисту. – Идите.
– Дайте жрать, полковник! Толком четыре дня не ел! – сказал капитан, улыбаясь. – Я сутки без дымового довольствия!..
– Да откуда ты?.. Докладывай!
– Из госпиталя. Ждали в пути, когда кончится у вас тут. Потом появляется Жорка с майором, ну и… прикатили на паровозе.
– Легкомыслие? Шутишь все? – пробормотал Гуляев, всматриваясь в заштопанный рукав капитанской гимнастерки, и густо побагровел. – Не писал из госпиталя, хинная ты душа! А? Молчал, ухарь-купец!
– Я хочу не есть, а жрать! – ответил капитан, смеясь. – Дайте хоть сухарь! Водки не прошу.
– Жорка! – крикнул полковник. – Проведи капитана Ермакова к машине!
Жорка, до этого скромно стоявший в стороне, просветлел лицом, заговорщицки подмигнул капитану голубым невинным глазом:
– Тут в лесу. Недалеко.
Все, что можно было сделать в создавшихся обстоятельствах, было сделано. Устало догорали загнанные в тупики вагоны; с последним, как бы неохотным треском запоздало рвались снаряды. Пожар утих. И только теперь стало видно, что стоял теплый, погожий день припозднившегося бабьего лета. Чистое сияющее небо со стеклянно высокой синевой развернулось над лесной станцией. И лишь на западе неуловимо светились в бездонной его глубине беззвучные зенитные разрывы.
Порыжевшие, тронутые осенью приднепровские леса, окружавшие черное пепелище путей, обозначились четко, как в бинокле.
Полковник Гуляев, потный, разомлевший, не без наслаждения скинув горячие сапоги с усталых ног, подставив ноги солнцу и расстегнув китель на волосатой пухлой груди, лежал в станционном садике под облетевшей яблоней. Здесь все по-осеннему поблекло, поредело, везде неяркий блеск солнца, везде хрупкая прозрачная тишина, вокруг легкий шорох палых листьев, чуть-чуть тянуло свежим воздухом с севера.
Капитан Ермаков лежал рядом, тоже без сапог, без ремня и фуражки. Полковник, хмурясь, сбоку рассматривал его исхудалое, побледневшее лицо, прямые брови; черные волосы упали на висок, шевелились от ветра.
– Та-ак, – проговорил Гуляев. – Никак, раньше времени прибежал? Что, не терпелось, терпежу не было?
Ермаков вертел опавший яблоневый лист, задумчиво щурился на него.
– Променять госпитальную койку вот на это… стоило, честное слово, – ответил он, сдунул лист с ладони, проговорил полусерьезно: – Вы что-то, полковник, растолстели. В обороне стоите?
– Ты мне не вкручивай, – недовольно перебил Гуляев. – Я спрашиваю, почему прибежал?
Ермаков потянулся к яблоне, сорвал голую веточку, внимательно осмотрел ее, сказал:
– Вот, оторвал эту ветку – и она погибла. Верно? Ладно, оставим лирику. Как там моя батарея, жива? – И, слегка усмехнувшись, повторил: – Жива?
– Твоя батарея ночью форсировала Днепр. Ясно? – Гуляев повозился, поерзал животом по желтой траве, по сухим листьям, спросил: – Какие еще вопросы?
– Кто командует батареей?
– Кондратьев.
– Это хорошо.
– Что хорошо?
– Кондратьев.
– Вот что, – грубовато и решительно проговорил Гуляев, – хочу предупредить тебя, и без шуток, дорогой мой. Будешь грудью по-дурацки, по-ослиному пули ловить, храбрость показывать – к чертовой бабушке спишу в запасной полк! И баста! Спишу – и баста! Убьют ведь дурака! Что?
– Ясно, – сказал капитан. – Все ясно.
Обветренное, крупное, заметное покатым морщинистым лбом лицо полковника медленно отпускало выражение недовольства, нечто похожее на улыбку слабо тронуло его губы, и он проговорил с грустным весельем:
– Оторванная ветка! Ска-жи-те! Философ, пороть тебя некому!
Лежа на спине, Ермаков по-прежнему задумчиво глядел в холодноватую синеву неба, и Гуляев подумал, что этому молодому здоровому офицеру мало дела до его слов, до откровенного беспокойства, не предусмотренного никаким уставом, – они знали друг друга со Сталинграда. Был полковник одинок, вдов, бездетен, и он точно бы видел в Ермакове свою молодость и многое прощал ему, как это иногда бывает у немало поживших на свете и не совсем счастливых одиноких людей.
Долго лежали молча. Пустой, перепутанный паутиной садик был насквозь пронизан золотистым солнцем. В теплом воздухе планировали листья, бесшумно стукаясь о ветви, цепляясь за паутину на яблонях. В тишину долетало отдаленное гудение танков из леса, тонкое шипение маневрового паровозика на путях, отзвуки жизни.
Сухой лист упал полковнику на плечо. Он медлительно смял его в кулаке, скосил глаза на Ермакова.
– Прорывать оборону будем. Крепкий орешек на правом берегу. Что замолчал?
– Так, думаю. И сам не знаю о чем, – сказал Ермаков.
Со стороны вокзала, приближаясь, послышались голоса, показавшиеся странными здесь, – женские голоса, звучные и будто стеклянные в тихом воздухе полуоблетевшего сада. Полковник Гуляев, неловко повернув обожженную шею, крякнул от боли, недоуменно оглядываясь, спросил:
– Это что же такое?
По тропе, левее вокзала, через сад двигались две женщины, несли огромный сундук, переплетенный веревками. Одна, молодая, босоногая, в выцветшей блузке, небрежно заправленной в юбку, шла изогнувшись, напрягая крепкие икры, другая, постарше, была в мужской телогрейке, в сапогах, смуглое лицо измождено, волосы растрепались, и солнце, бившее сзади, просвечивало их.
– Далеко ли, красавицы? – крикнул Гуляев и, кряхтя, сел, потер колени.
Женщины опустили сундук; молодая выпрямилась, нестеснительно оглядела грузноватую фигуру Гуляева, игриво-дерзким взглядом скользнула по лицу Ермакова и вдруг фыркнула, засмеялась.
– Помогли бы, товарищ полковник, вещи у нас больно тяжелые! Серьезно…
Ермаков спросил с явным интересом:
– А вы что же, недалеко живете? Здешние?
Молодая заулыбалась, выставила грудь, ловкими пальцами поправила косынку над тонкими бровями, а та, что постарше, в телогрейке, потупилась, смугло покраснела. Молодая бойко сказала:
– Мы рядом тут. В лесу село… Одни мы! Просто одни. Помогли бы?..
– Пойдем? – полувопросительно сказал Ермаков. – А, товарищ полковник?
– Да ты что? – свирепым шепотом остановил его Гуляев и протестующе замахал крупной рукой. – Не в форме мы, красавицы, босиком, видите? Наше дело военное, бабоньки, некогда нам! Идите, идите себе!
Немного спустя, когда женщины скрылись в конце сада, полковник, наморщив озабоченно лоб, заторопился, стал натягивать шерстяные носки, говоря:
– Кончено. Поехали. Хватит.
Ермаков шутливо сказал ему:
– А может быть, пойдем? Надо бы помочь.
– Да ты что? – Гуляев, багровея, ожесточенно вбил ногу в узкий сапог, резко одернул на животе китель. – Нечего нам тут. Залежались. Дел по горло!
Косматое нежаркое солнце садилось в леса.
Глава вторая
Ночь застала их в дороге, холодная, звездная октябрьская ночь. Шумом, движением, людскими голосами была наполнена лесная темнота. Жорка изредка включал фары, и в белом коридоре то мелькала оскаленная, скошенная на свет морда лошади, то заляпанный грязью борт грузовика, то кухня, разбрызгивающая по дороге раскаленные угли, то щит орудия и нахохленные спины ездовых, то непроспанные лица солдат. Все это двигалось, шло, ехало, копошилось, скакало во тьме туда, где за лесами тек Днепр.
– Гаси! Гаси фары, дьявол! – метнулся от подпрыгивающей впереди повозки крик, мимо скользнуло белое лицо ездового, и по борту «виллиса» жестяно хлестнул кнут.
– Надо бы через спину тебя протянуть, – ворчливо пробормотал полковник. – А ну, гаси. И перестань жевать, ну?
Хмуро вобрав голову в плечи, Гуляев смотрел сквозь ветровое стекло на дорогу; Жорка лениво грыз сухарь, одной рукой держал руль, изредка поглядывая вверх, где текло мерцающее холодное небо.
– Вот бродяга! – сказал он и спрятал сухарь в карман. – Гляньте-ка, товарищ полковник, опять фонари развесили.
В небе распускался сумрачный желтый свет: четыре осветительные бомбы, роняя искры, высоко висели над лесом среди звезд. Они медленно летели, косо и тихо опускаясь. Вверху выступили из темноты, четко прорезались оголенные вершины деревьев. Лес сразу ожил, черные тени кустов поползли, задвигались на дороге, мешаясь с тенями людей, машин, повозок; впереди ожесточенно взревели танки, кто-то зычно подал команду из глубины колонны:
– Сто-ой!
Жорка вопросительно поднял одну бровь; полковник проговорил в воротник:
– Объезжай.
«Виллис» обогнул колонну машин, тесно сгрудившиеся повозки, орудия, понесся впритирку к лесу, ветви захлестали, забили по бортам, упруго подбрасывало на корневищах. Деревья расступились, стало по-дневному светло. Над головой, разгораясь, плыли «фонари». Впереди с громом рванулось двойное пламя, и в лесу ахнуло, загремело, как в пустых коридорах.
– Куда? Куда под бомбы прешь? Не видишь? – закричал кто-то отчаянным голосом, и человеческая фигура метнулась перед радиатором. – Ку-уда?..
– Стоп! – скомандовал Гуляев, вынося вон из машины ногу.
«Виллис» с ходу затормозил, и Ермаков ударился бы о спинку переднего сиденья, если бы не спружинил руками. Полковник вылез, пошел вперед к сумеречно освещенной «фонарями» колонне танков; моторы работали, стреляя резкими выхлопами, танки продвигались толчками к матово отблескивающей воде. Там, в проходе, образованном съехавшими к обочине повозками и кухнями, они с гулом вползали на качающийся понтонный мост.
– Днепр? – спросил Ермаков, наклоняясь к уху Жорки.
– Не-е, рукав… Днепр дальше, – ответил Жорка. – Почуяли, бродяги, все время тут долбят… Во кинул, бродяга! Слышите – поросята завизжали?
Заглушая гул танковых моторов, крики у переправы, ржанье лошадей, новые пронзительные, рвущие воздух звуки возникли в небе. Небо обрушилось; ослепляя, брызнули шипящие кометы, полыхнули огнем в глаза; «виллис» с силой толкнуло назад. Ермаков, испытывая холодно-щекочущее чувство опасности, притупившееся в госпитале, смотрел на разрывы, затем увидел в хаосе рвущихся вспышек на миг повернутое к нему лицо Жорки, сквозь грохот прорвался его голос:
– Ложи-ись, товарищ капитан! Пикирует!
И Ермаков, возбужденный, со сжавшимся сердцем, – отвык, отвык! – делая размеренные движения, вылез из машины и, чувствуя глупость того, что делает, заставил себя не лечь, а стоять, наблюдая за дорогой.
В ту же минуту металлический нарастающий рев мотора начал давить на уши. С белесого неба стремительно падала на переправу тяжелая тень, оскаливаясь пулеметными вспышками. И он поспешно лег возле машины. Красные короткие молнии, подымая ветер, отвесно неслись вдоль колонны. Упала, забилась в оглоблях, заржала лошадь, «О-ох, о-ох», – послышалось из леса; что-то зашлепало по мокрому песку вокруг головы Ермакова, и он непроизвольно нащупал и отбросил горячую крупнокалиберную гильзу.
В глубине леса учащенно и запоздало застучали скорострельные зенитные орудия. Трассы вслепую рассыпались в небе, все мимо, мимо тяжелого низкого силуэта самолета. Гул его удалялся. Зенитки смолкли. Угасающие «фонари» опустились к самой воде. И было слышно, как на другой стороне рукава слитно рокотали танки: они переправились во время бомбежки. Ермаков поднялся с земли, разозленный, подавленный тем, что чувство страха оказалось сильнее его, отряхнул сырой налипший на колени песок, подумал: «Разнежился. Конец. Прежняя жизнь начинается».
– Из санроты! Где санрота? Санитары! – донесся крик из колонны, и она зашевелилась, задвигались фигуры меж повозок и машин.
– Жорка! – раздался голос Гуляева. – Все целы?
– Целы, целы. Поехали, – ответил Ермаков преувеличенно спокойно.
«Виллис» снова понесся по дороге к Днепру.
Ермаков смотрел на мелькающие стволы берез, на темную нескончаемую колонну; сырой ветер обливал холодом потную от возбуждения шею, еще не проходило раздражение на самого себя после только что пережитого страха; он не любил себя такого.
Так же, как большинство на войне, Ермаков боялся случайной смерти: смерть в нескольких километрах до фронта всегда казалась ему такой же унизительно глупой, как гибель человека на передовой, вылезшего с расстегнутым ремнем из окопа по своей нужде.
– Началось наше, – сказал Жорка и осторожно захрустел сухарем, включил на мгновение фары. Вспыхнув, они скользнули по борту «студебеккера», осветили маслено заблестевшую пехотную кухню в кустах, толпу солдат с котелками; потом на перекрестке дорог выхватили на стволе сосны деревянную табличку-указатель «Хозяйство Гуляева». Эта стрела показывала влево, другая прямо – «Днепр». Машины, повозки и люди текли туда через лес, где неясный зеленый свет мигал и гас над вершинами деревьев.
Полковник Гуляев сказал:
– Давай в хозяйство.
– Жорка, остановись! – громко приказал Ермаков.
– Что такое?
«Виллис» остановился; встречный ветер упал, был слышен буксующий вой «студебеккера», слитный скрип колес, фырканье лошадей, голоса. Ермаков молча спрыгнул на дорогу, потянул из машины планшетку.
– В батарею? – устало спросил Гуляев. – Стало быть, в батарею? Так вот что. Там тебе делать нечего. Н-да! Кондратьев там. Артиллерии в дивизии много. Найдем место. Не торопись. Была бы шея, а хомут…
– Может, в адъютанты возьмете, полковник? – усмехнулся Ермаков. – Или в комендантский взвод?
– А! Некогда мне с тобой антимонии разводить! Некогда! – Гуляев вдруг засопел, со злым раздражением толкнул Жорку локтем. – Поехали! Спишь? Гони, гони! Что смотришь?
Ермакова обдало теплым запахом бензина, махнуло по лицу воздухом, темный силуэт «виллиса» запрыгал в глубине лесной дороги, исчез.
Глава третья
Серии ракет всплывали на правой стороне Днепра; черная вода каскадом загоралась под обрывом дальнего берега. Свет ракет опадал клочьями мертвого огня, и тогда отчетливо стучали крупнокалиберные пулеметы. Трассирующие пули веером летели через все пространство реки, вонзались в мокрый песок острова, тюкали в стволы сосен, вспыхивая синими огоньками. Это были разрывные пули. Срезанные ветви сыпались на головы солдат, на повозки, на котлы кухонь.
По нескольку раз подряд на правой стороне скрипуче «играли» шестиствольные минометы, низкое небо расцвечивалось огненными хвостами мин. Они рвались с тяжким звоном, засыпая мелкие, зыбкие песчаные окопчики. Немцы били по всему острову – на звук голосов, на случайную вспышку зажигалки, на шум грузовиков, – остров кишел людьми.
Ночью стало холодно, ветрено, сыро. Сосны по-осеннему тягуче гудели, от воды вместе с ветром приносило тошнотворный запах разлагающихся трупов – их прибивало течением.
Но там, возле воды, были и живые люди – постукивал топор, доносились голоса, кто-то ругался грубо, сиплый тенор, не сдерживая душу, костерил кого-то:
– Ты чего цигарки жуешь, а? Ты сколько раз собрался умирать, растяпа! А ну бросай!..
И было видно, как при взлете ракет темные силуэты саперов падали в воду, на песок; прекращался стук топора. Изредка тот же сиплый тенор, поминая бога и мать, звал санитара, и кого-то уносили на плащ-палатке, спотыкаясь в воронках.
А метрах в ста пятидесяти от берега, в воронке от бомбы, прикрытый брезентом, тлел костерок из снарядных ящиков. Было здесь дымно, пахло паром сырых шинелей.
Протянув разомлевшие ноги к жидкому огоньку, вокруг сидело и лежало несколько солдат-артиллеристов. Они молчали, дремотно поглядывали на наводчика Елютина, который, спокойно вытянувшись на снарядных ящиках, тихонько копался перочинным ножом в разобранных ручных часах.
Сержант Кравчук, крепколицый парень лет двадцати пяти, помял над огнем высохшую портянку и со строгим видом, держа ногу на весу, начал обматывать ее. Потом замер, глянул назад.
– Кто это там на голову сел?.. – сурово поинтересовался он. – Глаза где?
– Лузанчиков вроде, – сказал телефонист Грачев, разлепляя глаза, и сонно подул в трубку – Чего там у вас? Танки гудят?..
Кравчук шевельнул плечами, медленно повернулся. Подносчик снарядов Лузанчиков, сжавшись худенькой фигуркой, привалясь к его спине, спал, охватив колени, тонкие до жалости руки подрагивали в ознобе; по детскому, заострившемуся лицу неспокойно бродили тени – отблески мутного сна. Кравчук угрюмо сказал:
– Беда с мальцами. Просто детские ясли.
– А? – спросил во сне Лузанчиков еле слышным голосом.
Кравчук, подумав, неуверенно приподнялся, потянул из-под себя плащ-палатку и с недовольным видом накинул ее на плечи Лузанчикова. Тот, не открывая глаз, дрожа веками, закутался в нее, беспомощно подобрал ноги калачиком.
– Н-да-а, чуток не захлебнулся, – сказал Кравчук, наматывая портянку.
– Плавать не умеет. Намучаешься с ним.
Замковый Деревянко, весь черный, как жук, ехидно крякнул, сделал вспоминающее лицо, и тотчас солдаты повернули к нему головы.
– На Волге до войны катер ходил осводовский. И в рупор без конца орали: «Граждане купающиеся, по причине общего утонутия просьба не заплывать на середину реки!» Туточки тебе, Кравчук, в рупор не заорут. Можно быть вумным, как вутка, а плавать, как вутюг! Ты сам за бревно двумя руками держался!
– Хватит молотить! – оборвал его Кравчук. – Смехи все!
Деревянко вздохнул, сожалеюще заглянул в котелок.
– Какой смех! Второй раз на голодный желудок будем переправляться, не до смеху! Где старшина? Я б его пустым котелком разочков пять по загривку съездил. Аж звон пошел бы. Как на передовую – его нет!
– Ладно, разберемся, – ответил Кравчук, вставая.
В это время Елютин поднял глаза, прислушался и сказал:
– Летят.
Где-то вверху, над брезентом, возник давящий шорох – шу-шу-шшу-у, – перерастая в тяжелый рев, и близкие разрывы сотрясли землю, подкинуло костер, ящики, брезент взметнулся над краем воронки – и сюда, к костру, горячо дохнула, ворвалась ночь. Кравчук опытно пригнулся. Елютин быстро ладонью накрыл часы, словно птицу поймал с молниеносной ловкостью. Деревянко заинтересованно крутил в руках пустой котелок. Откинув плащ-палатку, Лузанчиков испуганно вскочил, поводя круглыми, непонимающими глазами.
– Бомбят? – растерянно спросил он. – Да?
– Дальнобойная дура щупает, – ответил Кравчук, рванув брезент на воронку. – По квадратам бьет.
В наступившей тишине с тонким свистом над брезентом запоздало пролетел обессиленный осколок, тяжко и мокро шлепнулся в песок.
Тут, шурша ботинками по песку, в воронку скатился огромный солдат, в короткой не по росту шинели, его широкое лицо и незажженная самокрутка в зубах озарились отблесками костра. Он потер озябшие руки, весело, бедово глянул на Елютина, на нахмуренного Кравчука, присел на корточки к огню.
– Греемся, братцы славяне? Дай-ка за пазуху трошки угольков. Тебя, Кравчук, к комбату. И от Шурочки привет!
На щеках Кравчука зацвел смуглый румянец.
– Ты чего развеселился? – с ленивой суровостью спросил он. – Почему с поста ушел, Бобков, что, в деревне на печке?
– Если б на печке с бабешкой, кто бы отказался?
Бобков выхватил уголек из огня, перекатывая его на ладони, прикурил, сосредоточенно почмокал губами.
– Старший лейтенант говорит: иди, мол, погрейся, я все равно, мол, дежурю. На снарядах с Шурочкой сидят. Мечтают вроде.
Кравчук сердито откинул брезент и выкарабкался по скату воронки наружу, в холодную тьму.
Ветер шумел, топтался в кронах сосен. Дуло студено с Днепра. Там по-прежнему, распарывая потемки, взмывали ракеты, освещая черную воду и черное небо.
Поеживаясь от холода (у костра разморило), Кравчук поглядел на красные стаи пуль, которые, обгоняя друг друга, неслись к острову, осуждающе послушал гудение машин, скрип повозок по песку, голоса в темноте и зашагал, натыкаясь на корневища.
– Старший лейтенант! – вполголоса позвал он, ничего не видя в плотных потемках осенней ночи.
Впереди кто-то простуженно покашлял, и отозвался мягко картавящий голос:
– Вы, Кравчук?
– Я.
– Подойдите, пожалуйста, сюда. Я послал Скляра искать старшину. Исчез куда-то старшинка. Кухни до сих пор нет.
– Тут ведь стреляют, – насмешливо произнес женский голос.
Кравчук огляделся: на снарядных ящиках, подняв воротник шинели, сутулился старший лейтенант Кондратьев, сбоку, почти сливаясь с ним, сидела батарейный санинструктор Шурочка. Когда же подошел Кравчук, она не отодвинулась от комбата; он сам немного отстранился, простуженно спросил сквозь кашель:
– Как дела, сержант?
– Что же вы к костерку-то не идете, товарищ старший лейтенант? – Кравчук неодобрительно глянул на освещенное ракетой лицо Шурочки, добавил:
– Кашляете… А шинель мокрая небось…
– Все обсушились? – отозвался Кондратьев. – Как Лузанчиков?
– Озяб. Опомниться не может.
– Что от Сухоплюева?
– Танки, говорят, там ходят.
– Это мы и отсюда слышим, – по-прежнему насмешливо сказала Шурочка, точно мстя сержанту за его осуждающий взгляд.
– Да, это я отсюда слышу, – повторил Кондратьев задумчиво. – Гудят.
И в это время с правого берега ударили танки. Спаренные разрывы на кромке острова осветили склоненные фигуры саперов. И снова: выстрел – разрыв.
– Вот они… Прямой наводкой, – сказал Кравчук. – В обороне врыты. И зацепился он как зверь. Что ж, опять купаться будем, товарищ старший лейтенант?
Он спросил это без тени улыбки – Кравчук не умел шутить – и долго глядел на правый берег, ожидая, что скажет Кондратьев. Тот молчал, молчала и Шурочка, и, понимая это молчание по-своему, Кравчук подумал, что до его прихода был между ними иной разговор. Он осуждал командира батареи, но с особенной неприязнью судил он вызывающую эту Шурочку, которая открыто льнула к Кондратьеву. Он осуждал ее ревниво и хмуро, потому что хорошо знал о прежних отношениях ее и капитана Ермакова. Сержант недолюбливал Кондратьева за его странную манеру отдавать приказания: «прошу вас», «не забудьте», «спасибо» – и порой с чувством неудовольствия и удивления вспоминал те времена, когда капитан Ермаков перед всей батареей называл старшего лейтенанта умницей.
После того как капитан Ермаков отбыл в госпиталь и место его занял командир первого взвода Кондратьев, санинструктор Шурочка стала властно, на виду всей батареи, брать его в руки, командовать им, и Кравчука оскорбляло это бабье вмешательство. До этого он пытался ее защищать: тонкая, с высокой грудью, в ладной, всегда чистой гимнастерке, в хромовых сапожках, она вызывала в нем трудную тоску по женской ласке, но когда теперь Деревянко едко говорил, что она из тех, кто вечером ляжет на одном конце блиндажа, а утром проснется на другом, Кравчук не останавливал его, как прежде.
– Так как же, товарищ старший лейтенант? – переспросил Кравчук, в темноте чувствуя на себе взгляд Шурочки. – Снова купаться будем?
Помолчав, Кондратьев ответил тихо:
– Вряд ли все переправимся нынче ночью. Только что я разговаривал с саперным капитаном. Ругается на чем свет стоит – восемь человек у него за два часа выкосило. Пойдемте. Посмотрим, как там…
Он встал, и Кравчук увидел в мерцании ракет его сутуловатую фигуру в мешковатой шинели с нелепо торчащим воротником.
«Экий слабак, искупался в Днепре – простуду схватил», – неодобрительно подумал никогда в жизни не болевший Кравчук. Шурочка тоже поднялась, гибко, бесшумно, только сапожки скрипнули. Сказала властно:
– Старший лейтенант Кондратьев!
– Что, Шурочка?
– С вашим бронхитом не советую лазить в воду. Вам у костра погреться надо. Портянки просушить. Шинель. Выпить водки с аспирином.
– Что же делать, Шурочка? – виновато ответил Кондратьев. – Старшины нет. Водки нет.
«Что ты, умная такая, раньше обо всем этом молчала?» – сообразил Кравчук и со злостью сказал:
– На войне нет бронхита.
Кондратьев смущенно проговорил:
– Да, да, конечно. Идемте, Кравчук.
– Что же, пойдем! – твердо сказала Шурочка, будто Кондратьев обращался к ней. И пока шли впотьмах меж сосен, пока шагали по острову к берегу, Кравчук неотступно слышал позади тонкий, решительный скрип песка под Шурочкиными сапогами, думал: «Экая сатана-бабенка, ничего не боится, закрутит Кондратьеву голову. И кто это выдумал женщин на войне держать! Одна беда, неразбериха, тоска от них».
Они задержались на берегу, в сырой тьме, пронизываемые ветром. С явным недоверием прислушались к короткому затишью на той стороне – странно молчали пулеметы в непроницаемо сгустившейся ночи, оттуда, из темноты, веяло сладковатой гнильцой трупов.
– Вот, – прошептал Кравчук. – Притихли…
– Ужин, – ответил Кондратьев, сдерживая кашель. – Немцы пунктуальны…
Потом донесся спешащий, стук топора, голоса вблизи воды, отрывистые команды: «Шевелись! По-быстрому!» Там, внизу, ползали саперы вокруг сколачиваемого парома, и Кондратьев окликнул:
– Капитан, капитан!
– Кто там? Эй! Кто там? – отозвался из потемок прокуренный начальственный баритон. – Давай сюда!
Кондратьев не успел ответить. Над Днепром с шипеньем повисли гроздья ракет, заработали пулеметы, смешались зеленые и белые светы в небе, смешались трассы, конусом несясь к парому, и весь берег, фигурки саперов озарились, проступили из ночи, как на желтом листе бумаги. Гулко сдваивая, ударили танки. Слева возник широкий дымящийся синий столб, скользнул по берегу и уперся в какую-то лодчонку, подле которой мигом рассыпались люди.
– Ложись!
Они упали на мокрый песок, в свежую щепу у самого парома, над головой взвизгивали трассирующие пули.
– Разрывные, – пояснил Кравчук и увидел: к лежавшему впереди Кондратьеву подползает от парома человек в офицерской фуражке.
– Кто такие? – спросил, преодолевая одышку, начальственный баритон.
– Как дела с паромом? – ответил Кондратьев.
– А вы не видите? Ей-Богу! Ходите, демаскируете. Людей у меня косит. Дайте солдат. Человек пять-шесть. Пришлите людей… И дуйте отсюда.
– Сколько нужно людей?
– Десять человек.
– Много просите, – мягко возразил Кондратьев, и Кравчук, услышав, подумал облегченно: «Вроде правильно…».
– Давай, давай отсюда, артиллеристы… Видишь, прожектора появились… Давай! Не демаскируй!
Они ползком выбрались из района саперов и молча двинулись в глубь острова. Кондратьев покашливал. Шурочка шла рядом с ним. Кравчук спросил:
– Кого пошлем?
– Подумаем, – невнятно ответил Кондратьев. Впереди послышалось фырканье лошади, легкий металлический звук; под деревьями, низко над землей, затлели угольки, дохнуло теплым запахом подгоревшей пшенной каши.
– Кто идет? – раздался неподалеку полувеселый окрик.
– Это вы, Скляр? – спросил Кондратьев. – Что, нашли старшину?
– Товарищ старший лейтенант, вы только, пожалуйста, не удивляйтесь. Вы не поверите своим ушам! – торопясь, оживленно заговорил невидимый в темноте Скляр. – Вы не поверите своим ушам, кого я привез от старшины! Он был у старшины…
– Что, что? – не понял Кондратьев. – О чем вы?
– Я вам не скажу, вы сами посмотрите! – восторженно воскликнул Скляр. – Это почти военная тайна…
Кравчуку не понравился такой вольный оборот речи.
– Что такое? – грозно повысил голос Кравчук. – Почему так со старшим лейтенантом?
– Я извиняюсь! Товарищ старший лейтенант… товарищ сержант, вы не поверите своим ушам! Вы сами посмотрите, – произнес Скляр секретным шепотом. – Там, в воронке!..
Они подошли к бомбовой воронке: снизу доносился говор. Кондратьев откинул брезент, и все трое соскользнули вниз, к костру, в дым, в тепло, в запах парных шинелей.
Возле огня в окружении солдат и потного растерянного старшины Цыгичко сидел на ящике капитан Ермаков, свежевыбритый, веселый, в расстегнутой на груди шинели, ел из котелка горячую кашу, дул на ложку, глядя на вошедших темными улыбающимися глазами. И обрадованный Кравчук мгновенно успел заметить, как Шурочка прикусила белыми зубами губу, как золотая пуговка на высокой ее груди всколыхнулась, как у Кондратьева стало беззащитным лицо.
– Сережка!.. – воскликнул Ермаков, швырнул со звоном ложку в котелок и, оттолкнув умиленно заморгавшего старшину, встал навстречу. – Здравствуй, Сережка! Здравствуй, Шура! Здорово, брат Кравчук!
Он сильно обнял Кондратьева, потом Кравчука, шутливо обнял и Шуру, звонко поцеловал ее в щеку и засмеялся.
– А ну-ка садись все! Старшина, котелки да горячую кашу! Да пожирней у меня! Мигом!
– Слушаюсь, товарищ капитан!
Старшина Цыгичко, пожилой человек с острым хрящеватым носом и пухлым откормленным лицом не вылез – выпорхнул из-под брезента, струйка песка зашуршала, скатываясь к сапогам Шурочки, а Кондратьев опустился на угол ящика, проговорил взволнованно:
– Неожиданно ты. Из госпиталя? А я вот за тебя командую…
– Очень рад, – сказал Ермаков. – Слушай, по дороге узнал, что у тебя четыре орудия на той стороне, а здесь ребята рассказали, что только два… Значит, половины батареи нет? Объясни, пожалуйста.
Кондратьев вздохнул, положил руки на колени и сконфуженно стал говорить, что только два орудия удалось переправить на правый берег: одно прямым попаданием разбило на пароме, на середине Днепра, плоты затонули; четвертое орудие еще не вернулось из армейских мастерских, оно там второй день; вчера убило лейтенанта Григорьева, ранило сержанта Соляника, наводчика Дерябина, остальные добрались сюда вплавь, с ранеными. Это было прошлой ночью…
Ермаков ковырнул ложкой дымящуюся кашу, бросил ложку в котелок.
– Значит, фактически батареи нет?
– Да, я сейчас от саперов. Просят людей. Бесконечные потери у них.
– Сколько же они просят людей?
Кондратьев закашлялся, отвел лицо, смущенно стряхивая слезы, выдавленные бухающим, простудным кашлем.
– Шесть человек.
По острову пронеслись скачущие разрывы – вдоль берега, ближе, ближе, – брезент упруго вогнулся. Все сидевшие в воронке напряженно начали есть, никто не глядел на Ермакова, на Кондратьева, все ожидали: шесть человек, – значит, идти сейчас от этого костра туда, под огонь, в холодную воду, чтобы выполнять чужую работу саперов.
– На чужой шее хотят в рай съездить, – сказал Деревянко безразлично.
Лузанчиков, закутавшись в кравчуковскую плащ-палатку, блестя глазами, придвинулся к костру, Елютин с недоверчивым видом поскреб пустой котелок, перевернул его, на дно невозмутимо положил часы. И придержал их рукой, потому что часы, позванивая, заплясали от взрывов. Бобков преспокойно вытирал соломой ложку, посматривал на хмурого Кравчука, из-за спины его вопросительно выглядывал телефонист.
Разрывы скакали по острову. Один из них тяжко встряхнул воздух над брезентом.
Тогда в воронку, расплескивая на добротную офицерскую шинель кашу из котелков, шумно вкатился на ягодицах старшина Цыгичко, фальшиво посмеиваясь, сообщил:
– Як саданет коло кухни, чтобы его дьявол! Коней начисто побьет! А прожектором по берегу… да пулеметы… Чешет, як сатана!
Он возбужденно раздувал хрящеватый нос, ставя котелки, и почему-то искательно улыбнулся Шурочке. А она, напряженно следя за колебанием костра, проговорила с насмешливой дерзостью:
– Все снаряды рвутся около кухни. Давно известно! Стреляют у нас, а снаряды рвутся у вас.
Но в это мгновение никто не поддержал ее. Старшина осторожно вздохнул через ноздри, отошел в тень, аккуратно соскребывая щепочкой кашу на шинели.
– Шесть человек? – переспросил Ермаков и посмотрел на Кондратьева почти нежно. – Ни одного человека. Куда, к черту, вы годны сейчас? Наворачивай кашу.
– Я обещал саперам, – возразил Кондратьев, от волнения картавя сильнее обычного, и наклонился к огню, стиснув на коленях худые руки. – Видел, что происходит на острове? Саперы просто не успевают…
Ермаков носком сапога толкнул дощечку в костер, отчего зазвенела начищенная шпора, громко позвал:
– Старшина! – И когда Цыгичко со сладким ожиданием оборотил к нему сытое лицо свое, спокойно спросил: – Сколько раз за мое отсутствие опаздывали в батарею с кухней?
– Товарищ капитан!.. Як же можно?
– Полагаю, не меньше шести раз. Таким образом: отберите пять человек ездовых, вы – шестой. И в распоряжение саперов. Повара Караяна оставьте за себя. Все.
В быстрых, ищущих опору пальцах старшины сломалась щепочка, которой он чистил шинель, выбритые щеки задрожали.
– Товарищ капитан…
Ермаков внимательно оглядел его с ног до головы, спросил тоном некоторого беспокойства:
– Много ли у вас еще годных шинелей в обозе, Цыгичко?
– Нету, товарищ капитан… Як же можно?..
– На самогон меняете? Или на сало? У вас было двенадцать шинелей в запасе. – Ермаков бесцеремонно повернул мгновенно вспотевшего старшину на свет, опять осмотрел его. – Что ж, прекрасная офицерская шинель. Отлично сшита. Снимите, она вам мала. Вы растолстели, Цыгичко. У вас не фронтовой вид. – И обернулся к Кондратьеву: – Снимите-ка свою шинель. И поменяйтесь. Как вы раньше не догадались, Цыгичко? Люди ходят в мокрых шинелях, а вы и ухом не шевельнете.
Цыгичко задвигался, не сразу находя пуговицы, начал торопливо расстегивать шинель, а Кондратьев, с красными пятнами на щеках, невнятно проговорил:
– Не стоит… Не надо это… Зачем?
Пальцы Цыгичко замедлили скольжение по пуговицам. Заметив это, Ермаков чуточку поднял голос:
– Снять шинель!
Старшина, суетливо ежась, как голый в бане, снял шинель, отстегнул погоны, и Кондратьев неловко накинул ее на влажную гимнастерку.
– Марш! – сказал Ермаков старшине. – И через десять минут с людьми к саперам. Думаю, ясно. – Он улыбнулся молчавшей Шурочке. – Пошли!
«Хозяин приехал», – удовлетворенно подумал строго наблюдавший все это сержант Кравчук.
И понимающе посмотрел в спину Шурочке, которая вслед за Ермаковым покорно выбиралась из воронки.
– Ты ждала меня, Шура?
– Я? Да, наверно, ждала.
– Почему говоришь так холодно?
– А ты? Неужели тебе женщин не хватало там, в госпитале? Красивый, ордена… Там любят фронтовиков… Ну, что же ты молчишь? Так сразу и замолчал…
– Шура! Я очень скучал…
– Скуча-ал? Ну кто я тебе? Полевая походная жена… Любовница. На срок войны…
– Ты обо всем этом подумала, когда меня не было здесь?
– А ты там целовал других женщин и не думал, конечно, об этом. Ах, ты соскучился? Ты так соскучился, что даже письмеца ни одного не прислал?
– Госпиталь перебрасывали с места на место. Адрес менялся. Ты сама знаешь.
– Я знаю, что тебе нужно от меня…
– Замолчи, Шура!
– Вот видишь, «замолчи»! Что ж, я ведь тоже солдат. Слушаюсь.
– Прости.
Он сказал это и услышал, как Шура ненужно засмеялась. Они остановились шагах в тридцати от воронки. Ветер, колыхая во тьме голоса все прибывавших на остров солдат, порой приносил струю тошнотворного запаха разлагающихся убитых лошадей, с сухим шорохом ворошил листьями. Они сыпались, отрываясь от мотающихся на ветру ветвей, цеплялись за шинель, – по острову вольно гулял октябрь. Впотьмах смутно белело Шурино лицо, угадывались тонкие полоски бровей, но ему был неприятен этот ее ненужный смех, ее вызывающий, горечью зазвеневший голос. Ермаков сказал:
– Что случилось, Шура?
Он притянул ее за несгибавшуюся спину, нашел холодные губы, с жадной нежностью, до боли, почувствовав свежую скользкость ее зубов. Она отвечала ему слабым равнодушным движением губ, тогда он легонько, раздраженно оттолкнул ее от себя.
– Ты забыла меня? – И, помолчав, повторил: – Забыла?
Она оставалась недвижной.
– Нет…
– Что «нет»?
– Нет, – сказала она упрямо, и странный звук, похожий на сдавленный глоток, вырвался из ее горла.
– Шура! В чем дело? – Он взял ее за плечи, несильно тряхнул.
Она все молчала. Справа, метрах в пятнадцати, ломясь через кусты и переговариваясь, прошла группа солдат к Днепру, один сказал: «К утру успеть бы…».
Нетерпеливо переждав, он опять обнял ее, приблизил ее лицо к своему, увидел, как темные полоски бровей горько, бессильно вздрогнули, и, откинув голову, кусая губы, она беззвучно, прерывисто, стараясь сдерживаться, заплакала. Она словно рыдала в себя, без слез.
– Ну что, что? – с жалостью спросил он, прижимая ее, вздрагивающую, к себе.
– Тебя убьют, – выдавила она. – Убьют. Такого…
– Что? – Он засмеялся. – Прекрати слезы! Глупо, черт возьми! Что за панихида?
Он нашел ее рот, а она резко отклонила голову, вырвалась и, отступая от него, прислонилась спиной к сосне; оттуда сказала злым голосом:
– Не надо. Не хочу. Ничего не надо. Мы с тобой четыре месяца. Фронтовая любовница с ребенком?.. Не хочу! И меня могут убить с ребенком…
– Какой ребенок?
– Он может быть.
– Он, может быть, есть? – тихо спросил Ермаков, подходя к ней. – Что уж там «может быть»! Есть?
– Нет, – ответила она и медленно покачала головой. – Нет. И не будет. От тебя не будет.
– А я бы хотел. – Он улыбнулся. – Интересно, какая ты мать. И жена… Ну, хватит слез. В госпитале я тебе не изменял. Умирать не собираюсь. Еще тебя недоцеловал. Поцелуй меня.
Шура стояла, прислонясь затылком к сосне.
– Ну, поцелуй же, – настойчиво попросил он. – Я очень соскучился. Вот так обними (он положил ее безжизненные руки к себе на плечи), прижмись и поцелуй!
– Приказываешь? Да? – безразличным голосом спросила она, пытаясь освободить руки, однако он, не отпуская, уверенно обвил их вокруг своей шеи.
– Глупости, Шура! Ведь я еще не командир батареи. Пока Кондратьев.
– А уже всем приказывал! Как ты любишь командовать!
– Все же это моя батарея. Честное слово, укокошит ни с того ни с сего, как ты напророчила, и не придется целовать тебя…
Шура со всхлипом вздохнула, вдруг тихо подалась к нему, слабо придавилась грудью к его груди, подняла лицо.
Он крепко обнял ее, ставшую привычно податливой.
«Опять, все опять началось», – подумала Шура с тоской, когда они шли к батарее.
Ермаков говорил ей устало:
– Я рвался сюда. К тебе. Неужели не веришь?
«Нет, я не верю, – думала Шура, – но я виновата, виновата сама… Ему нужно оправдывать ненужную эту любовь, в которую он тоже не верит… Все временно, все ненадежно… Он рвался сюда? Нет, не я тянула его. Он относится ко мне как вообще к любой женщине, ни разу не сказал серьезно, что любит. Только однажды сказал, что самое лучшее, что создала природа, – это женщина… мать… жена… Жена!.. Полевая, походная… А если ребенок? Здесь ребенок?» Злые, внезапные слезы подступили к ее горлу, сдавили дыхание.
А он в это время, сильно прижимая ее плечо к своему, спросил обеспокоенно:
– Ну, почему молчишь?
Тогда она ответила, сглотнув слезы:
– В батарею пришли.
В отдаленном огне ракет возникли темневшие между деревьями снарядные ящики. Силуэт часового не пошевелился, когда под ногами Бориса и Шуры зашуршали листья.
– Там, у ящиков! Часовой! – окликнул Ермаков. – Заснули? Унесут в мешке к чертовой матери за Днепр!
Круглая фигура часового затопталась, задвигалась, и тут же ответил обнадеживающий голос Скляра:
– Я не сплю, нет. Я слушаю, как ветер свистит в кончике моего штыка. Все в порядке.
– Так уж все в порядке? – сказал Ермаков, поглядев на скользящий по кромке берега голубой луч прожектора. – Немцы жизни не дают, а ты – «в порядке»…
– Так точно. Вчера искупали. Нас и пехоту. А пехота вся на этот берег – назад. Как мухи на воду. Все обратно, на остров… А если опять искупают?
– Позови Кондратьева, – приказал Ермаков.
– А он старшину с ездовыми к саперам повел.
– Узнаю интеллигента. Не мог послать Кравчука, – насмешливо сказал Ермаков. – Пошли, Шура, к ним.
– Куда? – Шура стояла, опустив подбородок в воротник шинели.
– К саперам.
– Не надо этого. Не надо! – неожиданно страстно попросила она. – Зачем тебе?
Он посмотрел на нее удивленно. Никогда раньше она не вмешивалась в его дела; просто он не допустил бы, чтобы она как-то влияла на его поступки. Но почему-то сейчас, после близости с ней, после ее приглушенных слез, к которым он не привык, которые были неприятны ему, он не мог рассердиться на нее. И он ответил полушутливо, не заботясь, что подумает об этом Скляр:
– Война тем война, что везде стреляют. Значит, ты не разлюбила меня, Шура? – нагнулся, отцепил шпоры, небрежно кинул их на снарядный ящик. – Спрячь, Скляр.
– Это уж верно, демаскируют, – согласился Скляр. – Ни к чему. А мне как, товарищ капитан? К вам опять в ординарцы? Или как?
С дороги, гудевшей сквозь ветер отдаленным движением, голосами, внезапно вспыхнули, приближаясь, покачиваясь на стволах сосен, полосы света.
Скляр сорвался с места, суматошно крича:
– Стой! Гаси свет! Куда прешь? Не видишь – батарея? Гаси фары, говорят!
Фары погасли.
– А мне батарею и не нужно, не голоси, ради Бога! Вконец испугал, колени трясутся. Мне капитана Ермакова.
Низкий «виллис», врезаясь в кусты, затормозил, и по невозмутимому голосу, затем по легким шагам Ермаков узнал Витьковского.
– Ты? Что привез?
– Я, – ответил Жорка, весь приятно пропахший бензином, и что-то сунул в руку капитана. – Скушайте галетку. Великолепная, немецкая. Вас срочно в штаб дивизии. Иверзев вызывает…
– Иверзев?
– Ага. – Жорка потянул Ермакова за рукав, дыша мятной галеткой, зашептал: – Тут вроде форсировать не будут. Что-то затевается. Вроде Володи. Вас – срочно. Скушайте галетку-то…
– Галетку? – задумчиво спросил Ермаков. – А много у тебя этих галеток?
Жорка обрадованно ответил:
– Да полмешка, должно. В машине с запчастями вожу. Чтоб полковник не заметил. Он что увидит – р-раз! – и за борт. И чертей на голову. В Сумах на немецких складах взял.
– Давай сюда, аристократ. Выкладывай мешок на ящики. Скляр, отнеси ребятам конфискованное…
Он подошел к Шуре, пристально взглянул в белеющее лицо и не увидел, а угадал затаенную не то тревогу, не то радость по выгнутым ее бровям.
– Что? – спросила она шепотом.
– Еду. Передай Кондратьеву. И пусть не щеголяет интеллигентностью. – И чересчур поспешно, холодно поцеловал, едва прикоснулся к губам ее. Она чувствовала тающий холодок его поцелуя и ревниво и мстительно говорила самой себе: «Уже не нужна ему. Нет, не нужна».
А он, садясь в «виллис», спросил:
– Может, со мной поедешь?
– Нет, Борис. Нет…
– Ограбили! – сказал Жорка и засмеялся.
«Виллис» тронулся, затрещали кусты. Шура, опершись рукой на снарядный ящик, смотрела в потемки, где трассирующей пулей стремительно уносился рубиновый огонек машины, и с тоскливой горечью думала: «Ограбили. Это он обо мне сказал».
Глава четвертая
В этом маленьком селе тылы дивизии смешались с полковыми тылами, – все было забито штабными машинами, санитарными и хозяйственными повозками, дымящими кухнями, распространявшими в осеннем воздухе запах теплого варева, заседланными лошадьми полковой разведки, дивизионных связных и ординарцев. Все это в три часа ночи не спало и жило особой, лихорадочно возбужденной жизнью, какая бывает обычно во время внезапно прекратившегося наступления.
Круто объезжая тяжелые тягачи, прицепленные к ним орудия, темные, замаскированные еловыми ветвями танки, Жорка вывел наконец машину на середину улицы, повернул в заросший наглухо переулок. «Виллис» вкатил под деревья, как в шалаш; сквозь ветви уютно светились красные щели ставен. Жорка, соскакивая на дорогу, сказал:
– Полковник сперва к себе велел завезти. Свои, свои в доску! – отозвался он весело на окрик часового у крыльца. – Чего голосишь – людей пугаешь?
Ермаков взбежал по ступеням и, разминая ноги, вошел в первую половину хаты, прищурился после тьмы. Пахнуло каленым запахом семечек, хлебом. На столе в полный огонь горела трехлинейная керосиновая лампа с вычищенным стеклом, освещая аккуратно выбеленную комнату, просторную печь, вышитые рушники под тускло теплившимися образами в углу. Сияя изумленной радостью, от стола услужливо привскочил, оправляя гимнастерку, полковой писарь, и начищенная до серебристого мерцания медаль «За боевые заслуги» мотнулась на его груди.
– Товарищ капитан! Здравия желаю! – взволнованной хрипотцой пропел он, вытянулся, а правую, измазанную чернилами ладошку суетливо вытер о бок. – Из госпиталя? К нам?
– Привет, Вася! Жив? – ответил Ермаков и не без интереса заметил возле печи незнакомого солдата, который позевывал и с задумчивым видом поигрывал новеньким парабеллумом. Крепко сбитый в плечах, был он в офицерских яловых сапогах, в суконной гимнастерке, на ремне лакированно блестела расстегнутая немецкая кобура.
– Разведчик? – спросил Ермаков, слыша приглушенные голоса из другой половины. – «Языков» привели?
– Точно. – Солдат подбросил парабеллум, втолкнул его в кобуру на левом бедре: так носили пистолеты немцы.
– Полковник с ними разговаривает, – таинственно шепнул Вася. – Долго они чего-то…
Ермаков вошел в тот момент, когда полковник Гуляев, очевидно, заканчивал допрос пленных. Он сидел за столом, утомленный, грузный, со вспухшей шеей, заклеенной латками пластыря, повернувшись всем телом к узколицему лейтенанту-переводчику с косыми щеголеватыми бачками. Увидев на пороге Ермакова, оборвал речь на полуслове, в усталых глазах толкнулось беспокойство, сказал:
– Садись, капитан.
При виде незнакомого офицера высокий, в коротенькой куртке немец вскочил, разогнувшись пружиной, по-уставному вскинул юношеский, раздвоенный ямочкой подбородок. Другой немец не пошевелился на табурете; уже лысеющий со лба, сухонький, желтый, будто личинка, он, чудилось, ссутулясь, дремал; его ноги были толсто забинтованы, напоминая тряпичные куклы.
На столе с гудением ярко горели две артиллерийские гильзы, заправленные бензином.
Ермаков присел на подоконник, и высокий молодой немец тотчас же сел, задвигался на табурете, нервно пригладил рукой волосы, вопросительно озираясь на Ермакова.
– Сегодня взяли, – сказал полковник вполголоса. – Пулеметчики. Вот этот щупленький, раненый, когда брали, хотел себя прикончить. Ефрейтор… между прочим, рабочий типографии. Киндер, киндер, трое киндер у него. А этот молодой – слабак.
– Ja, ja[1], – с улыбкой, предупреждающе постучал себя в грудь молодой и показал палец, давая понять, что у него тоже есть ребенок, а лысеющий сутулый слепо посмотрел на его палец и равнодушно пожевал губами.
– Время идет, – недовольно сказал полковник переводчику – Спросите этого еще раз… где у них резервы? Расспросите подробнее. На что рассчитывают?.. Молодого не спрашивай, этот что угодно наплетет… щупленького…
Переводчик торопливо и отчетливо заговорил, обращаясь к щупленькому; немец неподвижно, как слепой, посмотрел ему в губы, приподнял одну ногу-куколку, переставил ее и начал отвечать замедленно, ровным, въедающимся голосом. Переводчик забегал карандашом по бумаге, упредительно наклонился к Гуляеву:
– Оборона вглубь на несколько километров. В несколько эшелонов. На флангах танки. Артиллерия. Это Восточный вал. Он закрывает путь к Днепрову. Все офицеры и солдаты это знают. Приказ по армиям – ни шагу назад. За отступление – расстрел. Здесь люфтваффе. Они закончат здесь победоносную войну. Разобьют русские армии и перейдут в наступление. Днепр – это перелом войны. До Днепра немецкая армия отступала. Это был тактический ход. Сохранить силы… Причем здесь находятся и эсэсовские части. Они стреляют до последнего патрона. Потому что мы их не пощадим. Как, впрочем, не пощадим и немцев пленных. Мы им устроим телефон…
– Скажи на милость, – произнес Гуляев, рассеянно барабаня пальцами по столу – Ни шагу назад. А спроси-ка его, что такое телефон?
Опять ровный въедающийся голос, и опять карандаш переводчика забегал по бумаге.
– Им двоим, ему и вот этому молодому дураку, распорют животы, размотают кишки и свяжут их узлом. За то, что они зверствовали на Украине. Но это пропаганда. Война не идет без жестокости. Это знает русский полковник.
Когда переводчик договорил, щупленький снова переставил свою ногу-куколку, а лицо молодого окаменело, розовые губы растерянно-жалко растянулись, лоб и круглый подбородок покрылись испариной. Ермаков усмехнулся; полковник Гуляев сильнее забарабанил по столу, пристально из-под припухлых век разглядывая щупленького.
– Скажи ему, – строго произнес полковник, – что этот телефон устраивали эсэсовцы русским пленным под Гомелем. Кавардак у него в башке! И потом скажи ему… Как же так… он, рабочий, пролетарий… со спокойной душой воюет против русских рабочих… Знает он, что такое международный пролетариат? А? Спроси его… Как оправдывает он себя, что как самый закоренелый эсэсовец воюет?.. Ведь он все же рабочий?
Переводчик глубокомысленно собрал кожу на лбу и, так же как полковник, отчетливым, строгим голосом заговорил с щупленьким. Глаза немца, глаза больной птицы, подернутые пленкой равнодушия, неизбывной усталости, на миг вроде очистились, пропустили в себя смысл заданного вопроса, он ответил необычно быстро, почти брезгливо. И переводчик не совсем уверенно перевел:
– Когда после Версальского мира Германия голодала, международный пролетариат не помог ей. Германии нужен был хлеб, а не слова.
– Хватит! Достаточно!
Гуляев поднялся, и, как бы все уяснив, вскочил молодой немец, выставил круглый подбородок, вытянулся, замирая; тогда щупленький, как по команде, вздернув свою маленькую лысеющую голову, коротко и зло сказал что-то сквозь зубы этому молодому.
– Что он? – нахмурился Гуляев.
– Он сказал: спокойно, кошачье дерьмо, ты солдат! – неохотно ответил переводчик.
– Легостаев! Увезти. В штаб дивизии! – крикнул Гуляев.
Вошел разведчик мягкой походкой, поправил на левом боку кобуру парабеллума.
В ту же минуту молодой немец покорно стал на колени перед щупленьким, нагнул крепкую шею, бережно, словно ощупывая, где не больно, взял ефрейтора за талию и легко посадил его к себе на плечи, ноги-куколки повисли на его груди. Раненый немец передернулся от боли, сжал рот, но ни одного звука не издал.
– Давай, – сказал Легостаев, раскрыв дверь.
Пригибаясь, чтобы ефрейтор не задел за притолоку, молодой немец вынес его из комнаты, и Легостаев закрыл за ними дверь. Стало тихо. В раздумье Гуляев медленно складывал лежащую на столе карту.
– Что скажешь, капитан? Матерые сидят против нас? Шапками не закидаешь! На «ура» не возьмешь! А?
– Интереснейший тип этот ефрейтор, – проговорил Ермаков.
– Вы скажете, товарищ капитан, – робко возразил переводчик, опустив глаза. – Это убежденный гитлеровец. Что же в нем интересного? Странно…
Ермаков презрительно смерил переводчика взглядом.
– А я и не надеялся увидеть в этом ефрейторе сторонника русских.
– Прекратите бесполезные разговоры! – прервал Гуляев, рывком надевая шинель. – Вы свободны, лейтенант. Капитан Ермаков, останьтесь. Тебя вызвал не я, – сказал он, когда переводчик вышел. – Тебя вызывают в штаб дивизии.
– Зачем?
Гуляев отвел глаза, озабоченно ответил:
– Некогда. Пошли… Иверзев не простит опоздания.
В одной из нескольких хат, где размещался штаб дивизии, светло, чисто, подметено и среди сидевших вдоль стен офицеров та подчеркнутая и почтительная тишина, которая в военной среде всегда означает, что рядом присутствует высшее начальство: здесь педантично выбритые адъютанты и офицеры штаба двигались бесшумно, тут привыкли говорить негромкими голосами, команды не повторялись два раза – здесь мозг дивизии. До последнего ранения Ермакову приходилось бывать в штабе дивизии при прежнем генерале Остроухове, и каждый раз, уезжая в батарею из этой полутишины, напоминавшей мудрое спокойствие забытых московских читален, он увозил с собой тягостное чувство неудовлетворенности, словно кто-то напоминал ему, что война – это не его профессия, что звание капитана, ордена, так легко доставшиеся ему, все чужое, и, может быть, он отдал бы это все за одну лекцию по высшей математике. Испытывал он это чувство потому, что давно и легко свыкся с офицерской формой, казалось порой, что воевал целую жизнь, а молва о нем как о смелом до дерзости офицере оставляла ему возможность относительной свободы: не тянуться в тылах, подчеркивая уважение к звездочкам, перед штабными офицерами, что очень не нравилось щепетильно-осмотрительному в вопросах субординации полковнику Гуляеву, говорить открыто, смеяться тогда, когда хотелось смеяться, то есть вести себя так, как может вести офицер, знающий себе цену и привыкший к откровенности отношений на передовых позициях.
Когда Ермаков вместе с полковником Гуляевым вошел в наполненную офицерами комнату, все, видимо, были в сборе, многие приветливо закивали Борису, и он увидел знакомых командиров стрелковых батальонов, усталых, плохо выбритых, в несвежих гимнастерках, и ответно подмигнул, улыбнулся им, но тотчас сделал притворно официальное лицо, заслышав густой, уважительно пониженный голос Гуляева, докладывающего полковнику Иверзеву о прибытии. Гуляев сделал шаг в сторону, двумя руками одернул китель на выступавшем животе, насупился, кашлянул в ладонь, сел к столу, где в зыбком папиросном дыму белели лица. Соблюдая субординацию, Ермаков должен был докладывать за полковником, однако не успел. Командир дивизии Иверзев, румяный, светловолосый, с синими холодными глазами, одетый в безупречно сшитый стального цвета китель, твердо сказал сочным голосом:
– Опаздываете, капитан Ермаков! Причины?
– Я только что с Днепра, товарищ полковник, – ответил Ермаков, уловив предупреждающий взгляд Гуляева.
– Надо успевать, капитан! Успевать! Садитесь!
С Иверзевым он встречался впервые; был тот прислан в его отсутствие, кажется, из запасного офицерского полка на замену старого, неторопливого генерала Остроухова, чрезвычайно осторожного в принимаемых решениях. За столом Ермаков увидел заместителя командира дивизии по политчасти полковника Алексеева. Тот сидел, трогая высокий лоб, гладко зачесанные назад редкие волосы; худое интеллигентное лицо было свежо, словно недавно умыто, умные глаза мягко и знакомо щурились. Ермаков кивнул замполиту, и сейчас же подполковник Савельев, начальник штаба дивизии, человек тихий, больной сердцем, вынул из зубов незажженную трубку и тоже закивал седеющей головой, явно обрадованный его прибытием.
По всем этим знакам внимания Ермаков мгновенно понял, что в штабе был разговор о нем, и тут же прочно убедился в этом, услышав сбоку шепот:
– Приветствую, капитан! Как говорят, с корабля на бал?
Это был Максимов, командир стрелкового батальона, офицер средних лет; добродушный, ласковый взгляд из-под золотистых ресниц светился девичьей озорной улыбкой; она весело брызгала и с его щек, всегда вызывая ответную улыбку.
– Похоже, – ответил Ермаков. – А что?
Максимов положил ему руку на колено, показывая бровями на Иверзева, сказал шепотом:
– Потом, потом…
– Прошу внимания!
Полковник Иверзев, высокий, плотный, ясно глядел перед собой; толстый карандаш был зажат в его маленьком крепком кулаке, кулак без стука опустился на карту, невольно привлекая к себе внимание офицеров. И Ермаков, вспомнив мягкую руку старика Остроухова, почему-то подумал, что кулачок этот беспощаден, властолюбив, неподатлив… Иверзев заговорил:
– Товарищи офицеры! Позавчера два передовых батальона полковника Гуляева подошли к Днепру, пытались форсировать его. Все это, как вам известно, решающих результативных последствий не имело. – Синие глаза Иверзева бегло коснулись нахмуренного лица Гуляева. – Огнем танков, артиллерии, пулеметным огнем батальоны были рассеяны по воде, вынуждены были занять прежнюю позицию на острове. – Острие карандаша ткнулось в карту. – За исключением двух, только двух неполных стрелковых взводов и одного орудия полковой батареи, сумевших переправиться на правый берег.
«Почему одно орудие? Откуда эти сведения?» Ермаков пожал плечами, и тотчас Иверзев перевел на него взгляд – мимолетно синий, холодный свет почувствовал Ермаков на своем лице. Полковник продолжал:
– Все попытки двух батальонов форсировать Днепр вчера ночью закончились неуспехом. Наши батальоны столкнулись с глубоко и тщательно подготовленной эшелонированной немецкой обороной, весьма широкой по фронту, как известно теперь. – Иверзев снова опустил сжатый кулак на карту, губы его стали жесткими. – Наша дивизия южнее города Днепрова… Но мы сдерживаем правого и левого соседа, двое суток топчемся на месте.
Иверзев отбросил карандаш, провел пальцами по белейшей полоске подворотничка, видимо, давившего горло, четко повторил:
– Двое суток! Вчера дивизия получила пополнение боеприпасами, кроме того, нам приданы танки…
«Так вот оно что! – подумал Ермаков, вспомнив горящую станцию, и поймал тревожно ускользающий взгляд полковника Гуляева. – Что он?»
– Задача дивизии следующая! – звучал голос Иверзева. – Два пополненных батальона восемьдесят пятого стрелкового полка сегодня к рассвету, а именно к пяти часам утра, сосредоточиваются: в районе деревни Золотушино – первый батальон майора Бульбанюка; второй батальон капитана Максимова – в районе лесничества. Первому батальону придаются два орудия под командованием капитана Ермакова, второму – батарея сорокапятимиллиметровых пушек лейтенанта Жарова… Кроме того, батарея восьмидесятидвухмиллиметровых минометов повзводно придается батальонам.
«Так! Значит, я поддерживаю Бульбанюка. Но какими двумя орудиями?» – подумал Ермаков, поискал глазами и нашел в углу комнаты крупно скроенного майора Бульбанюка, немолодого, с заметными оспинками на непроницаемом лице. Не подымая головы, он неторопливо делал пометки на карте, разложив ее на коленях; из-под планшетки видны были давно не чищенные, в ошметках грязи, стоптанные сапоги. «Но какими двумя орудиями? Где они?»
– Цель батальонов: форсировать Днепр на правом фланге обороны, где разведка нащупала разрывы, вклиниться в оборону, выйти в тыл, занять и удерживать плацдарм в районе Ново-Михайловки – первому батальону, второму – в районе Белохатки и тем самым отвлечь на себя внимание немцев. К этому времени вся дивизия будет сосредоточена в районе острова, готовая как бы к прыжку. – Иверзев ударил ребром ладони по карте. – Как только батальоны, захватив плацдармы, заставят немцев оттянуть часть войск с фронтальных позиций, дивизия нанесет удар по фронту с задачей занять широкий плацдарм на правобережье, южнее города Днепрова. Завязав бой в районе Ново-Михайловки и Белохатки, батальоны дают знать по рации: «Дайте огня», в случае хорошей видимости – четыре красные ракеты. По этому сигналу дивизия всеми орудийными стволами поддерживает батальоны, затем открывает огонь по немецкой обороне и переходит в наступление, соединяется с батальонами. Такова задача дивизии. Вопросы?
Уперев кулак в стол, Иверзев, ожидая вопросов, долго в молчании смотрел на притихших офицеров. Но никто вопросов не задавал, делали вид, что внимательно изучают карты на планшетках, – каждый из этих давно воевавших пехотных и артиллерийских офицеров хорошо понимал: то, что легко и, казалось, просто начертается в штабах, нестерпимо трудно оборачивается в деле.
Сдержанный полковник Алексеев, одной рукой прикрыв подбородок, другой вертел массивный серебряный портсигар, и блики света, отскакивая от полированной крышки, скользили по залысинам над его высоким лбом. Подполковник Савельев, поглаживая кончик пустой трубки, сосредоточенно посасывал ее; оттененные синевой щеки его ввалились. Капитан Максимов, неопределенно улыбаясь, чистил спичкой ногти, взглядывал на ничего не выражающую спину Бульбанюка. Было тихо.
Полковник Гуляев, наклонив крупную голову, так что заметна была багровая шея с заплатками пластыря, комкал носовой платок, уставясь в пол, и эта обожженная шея его, проседь в висках, скомканный носовой платок показались Ермакову жалкими сейчас. «Почему он не спрашивает ни о чем? Почему он не говорит, что на левом берегу не осталось ни одного целого орудия? Не знает?» Ермаков вырвал листок из записной книжки, быстро написал: «На плацдарме не одно орудие, а два. Два остальных разбиты при переправе. На острове нет ни одного орудия моей батареи».
– Разрешите, товарищ полковник? – громко сказал Ермаков, обращаясь к Иверзеву.
– Вопрос?
– Нет, не вопрос.
И, провожаемый взглядами насторожившихся офицеров, Ермаков передал записку полковнику Гуляеву, а тот медленно, преодолевая боль в шее, обернулся к нему, утомленно обвел его улыбнувшееся лицо что-то особо знающими глазами, развернул записку, прочитал и ничего не ответил. «Почему он молчит? Что он?» – вновь раздраженно подумал Ермаков.
– Вопросы? – повторил отчетливо Иверзев. – Полковник Гуляев, вам все ясно? Кстати, кажется, вам передали записку? Может быть, она представляет интерес для всех?
Гуляев грузно встал, будто отяжелевший в ногах, и молчал так длительно, что лица офицеров напряженно оборотились в его сторону.
– Что вы молчите, Василий Матвеевич? – с какой-то надеждой спросил подполковник Савельев, и тогда Алексеев сказал:
– Дайте Василию Матвеевичу подумать…
– Товарищ полковник, – размеренным голосом проговорил Гуляев, ссутулив широкую спину, – приказ ясен… Но вот что… Из четырех орудий полковой батареи два на плацдарме. Два разбиты при переправе… Кого мне прикажете посылать? Я прошу дополнительных огневых средств.
– Два? Как два? – изумленно переспросил Иверзев. – Почему так поздно докладываете?
– Виноват, товарищ полковник, – выговорил Гуляев. – Я не мог знать. Я выполнял ваше приказание на станции Узловая.
– С орудиями мы решим, – утвердительно сказал полковник Алексеев. – Да, да. Придется, видимо, взять взвод в артполку. Да, придется.
– Товарищи офицеры! – сухо произнес Иверзев. – Всем немедленно приступать… Никого не задерживаю. Все свободны…
Из тепла, из света комнаты командиры батальонов стали выходить в плотную тьму улочки, в шум деревьев, на холодный ветер, сквозь который понеслись колыхающиеся голоса:
– Липтяев, лошадь!
– Сиволап, давай сюда! Где пропал?
Продрогшие ординарцы подводили лошадей ближе к крыльцу, застоявшиеся лошади, привыкшие к фронтовой темноте, косили глазами на свет из дверей, фыркая, шевелили влажными ноздрями. Осенний воздух был зябок; и черное небо, вымытое в выси октябрьскими ветрами, мерцало студено, звездно, и ясен и чист был, как снежная дорога, Млечный Путь в холодных черных пространствах над этой деревушкой, над Днепром, над немецкой обороной по правому его берегу.
Командир первого батальона майор Бульбанюк, тяжко крякнув, перекинул сильное тело в седло, буднично спросил Ермакова, который, сходя по ступеням крыльца, закуривал, чиркал зажигалкой:
– Капитан, что там за ерунда на станции приключилась?
– Начальника тыла под суд отдают, кажется.
– Виноватого найти легко, – сказал Бульбанюк. – Липтяев, поехали!
И пустил коня рысью, опережая ординарца. Полковник Гуляев вышел на крыльцо вместе с Алексеевым. В желтом квадрате распахнувшихся дверей Ермаков увидел их фигуры: невысокую, налитую полковника Гуляева, длинную, узкоплечую – Алексеева. И мгновенно в свежем воздухе запахло цветочным одеколоном – чистоплотный запах чего-то мирного, давным-давно забытого.
– Капитан Ермаков, – сказал Алексеев вполголоса, спускаясь по ступеням, – вы получите в артполку два орудия с расчетами. Добавите своих людей. По вашему усмотрению. Ну, дорогой мой, ни пуха вам ни пера! И людей… людей берегите, дорогой мой!
Это странное «дорогой мой», фраза «ни пуха вам ни пера» – обращение и непростое и необыденное – вдруг сказало все: то, что было несколько минут назад в штабе, очень серьезно, и если после боя он останется жив, то не услышит больше необычное «дорогой мой», не почувствует больше невоенного пожатия руки Алексеева – это переступало установленные взаимоотношения. К штабу полка шли молча, на ощупь обходя рытвины, наталкиваясь на влажные от росы повозки, и Ермакову казалось, что в сыром воздухе еще таял ненужный, беспокоящий запах цветочного одеколона, напоминая о том, что простая, недавно тихая жизнь круто изменила русло, и это возбуждало его.
– Одного не понимаю, – сказал Ермаков и швырнул папиросу под ноги. – Зачем унижаться перед Иверзевым? Почему вы мало попросили огневых средств для батальонов? Посмотрели бы на комбатов – все ждали…
– Молчать! Мальчишка! – гневно перебил Гуляев. – Приказ есть приказ. Тысячу раз спрашивай о средствах – их не дадут, а приказ не отменишь! Фланги! – Гуляев зло рванул его за рукав шинели. – Ничего не понимаешь?
– На войне везде риск. Это нетрудно понять.
– Молокосос! Зяблик! Все с риском живешь, а не с умом!
Ермаков сказал:
– Я не хотел бы ссориться, товарищ полковник.
– Молчи! – прервал Гуляев. – Пойдем ко мне. Поужинаем. – И внезапно, как никогда этого, не делал, притянул Ермакова к себе, стиснул до боли в плечах. – Успеешь. Дам лучших лошадей. Успеешь… туда, успеешь…
Глава пятая
По дороге в штаб батальона он не думал о Шурочке; лишь вскользь вспомнил насупленное лицо Гуляева за торопливым ужином: тот залпом выпил кружку водки, некстати сказал, что домой матери о своем возвращении из госпиталя хоть строчку бы черкнул, и, не закусывая, точно скорее хотел проститься, наконец остаться один, крикнул: «Жорка, двух лошадей. Поедешь с капитаном!» – и, даже не обняв на прощание, закончил сумрачно: «Все!» Каждый раз, когда капитану Ермакову приходилось выкатывать батарею на прямую наводку или, стоя впереди пехоты, стрелять по танкам, было это «все». «Все» – это конец прежнего, грань нового, черта жизни и смерти: сумасшедший огонь, раскаленные стволы орудий, тошнотворная вонь стреляных гильз, страшные в копоти глаза наводчиков. Это называлось подвиг, почетный поступок, вызывающий потом зависть у тыловых офицеров, отмеченный, как правило, боевым орденом или очередной звездочкой на погонах, но тяжелый, грубый, азартный, с солью пота на гимнастерках в тот момент, когда человеческие чувства предельно оголены, когда ничего в мире нет, кроме ползущих на орудия танков. Ермаков любил эти минуты и, не задумываясь, не жалел ни себя, ни людей: он честно рисковал, честно был там, где были все. Он верил в справедливую жестокость судьбы. В жестокость к тем, кто был уверен, что каждая взвизгнувшая пуля летит в него. На войне много раз было это «все», и сейчас это новое «все» не угнетало, не беспокоило его опасностью, – наоборот, он чувствовал подъем духа, возбуждение.
– Жорка, не отставать! – крикнул Ермаков, хлестнув коня, и разом стало холодно глазам от хлынувшего из тьмы ветра.
– И не думал даже, – ответил Жорка, на рыси притирая вплотную коня к стремени капитана, – как часики, успеем.
Ему нравился этот Жорка, ясный, спокойный, как летний день, и он спросил весело:
– Жуешь все? Есть галеты?
– Все вашим артиллеристам оставил. Карманы чисты, как душа.
– Черт бы тебя взял, – неопределенно сказал Ермаков.
В землянке штаба батальона никого из офицеров не застали. Единственный телефонист, устало дремавший на соломе возле аппарата, сонным голосом сообщил, что роты полчаса назад снялись, а он по приказу уходит отсюда минут через двадцать. Ермаков спросил:
– Связь с артиллеристами, что на острове, есть?
– А на кой нам с ними-то, товарищ капитан? Только со штабом полка. И то снимаемся.
Ермаков раздраженно выругался, взглянул на фосфоресцирующий циферблат ручных часов (подарок наводчика Елютина), подозвал Жорку, державшего в поводу лошадей:
– Мигом скачи в батарею к Кондратьеву. Скажешь: в мое распоряжение Кравчука, Бобкова, Скляра и… Шуре – ни слова. Всех посадить на лошадей.
– Есть!
– Подожди. Встретимся в Золотушине. Это по дороге вдоль Днепра. На юг. Через час быть там. Ни минуты опоздания. Я в артполк. Ну, как ветер!..
В четвертом часу ночи прямо на огневых позициях артполка, стоявшего в лесу, Ермаков снял два орудия с полными расчетами.
Здесь уже знали приказ Иверзева. Орудия были приведены в походное положение, заспанные, ничего толком не понимающие солдаты жались кучками на станинах, зябко кутались в шинели. Командир батареи капитан Ананян, с осиной талией и тонкими усиками, и молоденький командир взвода лейтенант Прошин были тут же, на огневой. А когда Ермаков подал команду «на передки», и расчеты забегали, выкатывая орудия из двориков, и, звеня вальками, упряжки подкатили передки к огневым, капитан Ананян сказал:
– Помни, как сдаю тебе орудия и людей, так и получаю. Понял меня?
Ермаков ответил:
– Лейтенанта Прошина я мог бы не брать. Пусть остается в батарее.
– Но это же мой взвод, товарищ капитан, – умоляющим голосом заговорил лейтенант. – Я прошу вас, очень… Мне надо быть с людьми.
– Совершенно верно, – подтвердил серьезно Ананян.
Ермаков вскочил в сухо скрипнувшее седло; не ответив Ананяну, направил лошадь к орудиям, скомандовал:
– Держать самую короткую дистанцию. За мной! Ма-арш!
Через полчаса он вывел орудия на знакомую лесную дорогу, по которой вчера мчался на «виллисе» к Днепру. Теперь эта дорога вела в тыл, и пулеметные очереди за спиной, мигание ракет над вершинами леса, кишевшего войсками, – все сейчас отдалялось, затихало. И мнилось уже Ермакову, что в госпитале он вовсе не лежал, что вчерашнее было несколько месяцев назад. Просто вернулось знакомое: понтонный мост, где, громыхая, еще двигались повозки, темные буфы убитых лошадей, разбитый «студебеккер» на обочине дороги, воронки бомб; всплыло вдруг в памяти полное румяное лицо Иверзева, потом холодные, неподвижные губы Шурочки, донесся запах цветочного одеколона, – чувствуя, что первое возбуждение прошло, он рванул повод, тряхнул головой.
– Рысью марш!..
От небольшой деревеньки, битком набитой тылами, по ее улочкам, насквозь пропахшим кухонным дымом, Ермаков повернул взвод на южную дорогу, в сторону Золотушина; теперь она петляла в лесу вдоль фронта, в нескольких километрах от Днепра. И отсюда не было видно фиолетового света ракет, не было слышно пулеметов, лишь иногда с обвальным ухающим грохотом рвался одинокий тяжелый немецкий снаряд в сырой чаще, и эхо долго, замирая, бродило по своим воздушным тропам.
– Рысью ма-арш!..
Он повторял эту команду, чтобы не ослабить нервное напряжение. Глаза его давно свыклись с темнотой, но Ермаков скорее угадывал дорогу, инстинктивно нагибаясь, когда черные лапы елей влажно ударяли по фуражке; слышал, как сзади легонько звенели вальки передков, как колеса орудий тупо стучали по корневищам; и, оглядываясь, не видел во тьме, а представлял расчеты, цепко облепившие станины и передки: там их было пятнадцать человек.
– Стой, стой! – раздался крик сзади и оборвался в вязкой тишине.
Ермаков круто повернул лошадь, ударил ее плеткой, подскакал к орудиям.
– Что у вас еще?
Было тихо. Первое орудие стояло. Ездовой, ползая на коленях, со злобой ругаясь шепотом, возился около лошадей выноса, словно кнут потерял, шипел сквозь зубы:
– Ногу, ногу же, упарилась, дура… Да ногу же…
– Быстрей! – поторопил Ермаков. – Что возитесь?
Он нетерпеливо соскочил на дорогу.
– Быстрей, быстрей, – послышался неуверенный голос лейтенанта Прошина, и узкая фигура с поднятым до ушей воротником приблизилась к Ермакову, потом рядом он услышал шепот: – Что-то очень тихо, товарищ капитан… Замечаете? Возможно, тут еще немцы? Подозрительно как-то…
– Возможно, Прошин, – насмешливо ответил Ермаков. – Если уж напоремся на немцев, развернем орудия на дороге. А на всякий случай всегда сохраняйте один патрон в пистолете. Ну? Готово там? – И оглянулся в темноту на орудия.
– Готово, – ответил недовольный голос.
– Садись! Держаться самой короткой дистанции! Марш!
Рассвет он почувствовал по туману, сначала смутно, островами забелевшему в глубине чащи, затем справа и слева у дороги. Воздух вокруг посинел, заметно прояснилось впереди, и там заколыхалось что-то невесомое, живое, трепетное, как будто белый дым пополз от костра через кусты на дорогу. Мокрыми монетами заблестели в старой колее облитые росой опавшие листья. Сразу похолодало; по разгоряченной спине проползла сырая зябкость, рукава шинели покрылись влагой. Ермаков, поеживаясь, глянул назад: проступившие силуэты орудий двигались в серой мути рассвета.
– Подтяни-ись!
Внезапно впереди распались леса, и внизу открылась долина, до краев залитая туманом. В этом тумане угадывалась близкая вода, запахло рыбой, сыростью, намокшей осокой; купы кустов расплывчато темнели, над ними тянулась молочная мгла. Лесная дорога обрывисто уходила туда, вниз, в туман.
– С рыси на шаг! Одерживай! – скомандовал Ермаков и попридержал лошадь у обочины: он хотел посмотреть при свете утра на орудия, на расчеты.
Первая упряжка на рыси вынырнула из лесного сумрака, следом – другая; увидев спуск, выносные ездовые осадили потных, дымящихся лошадей; лейтенант Прошин, уже отогнув воротник шинели, легко мелькая хромовыми сапожками, первый спрыгнул на дорогу, побежал, споткнулся, скомандовал притворно бодро: «Всем орудиям одерживать!» – и живо посмотрел вокруг неестественно зеркальными после бессонной ночи глазами. И Ермаков понял его взгляд: видите, все хорошо, ночь прошла без осложнений, а теперь утро – как ни говорите, страшного ничего не случилось! – и понял он мимолетные недобрые взгляды невыспавшихся солдат, вразброд, неуклюже соскочивших со станин; угрюмые лица, торчащие, влажные от росы воротники, сгорбленные спины. Почти на каждом крепкие ботинки, новые, неумело и туго накрученные обмотки: наверняка пополнение из освобожденных районов. «Кто ты такой? – мрачно спрашивали эти взгляды. – Куда нас ведешь? Зачем?» И Ермаков вдруг разозлился на капитана Ананяна (кого послал?) и на этих людей (лежали, милые мои, на горячей печке у баб под боком, когда другие мерзли в окопах!) и, поморщившись, так сильно махнул плеткой, что лошадь под ним шарахнулась в сторону.
– Всем опустить воротники! Не толкаться возле орудий, а лошадям помогать! Да дружней!
Командиры орудий, два ладных, подтянутых сержанта одинакового роста, торопливым эхом повторили команды, солдаты, кто суетливо, кто нехотя, опустив воротники, забегали у колес орудий, выказывая нарочитую старательность.
– Лейтенант Прошин, ведите первое орудие. Командиры орудий, ко мне!
Первая упряжка тронулась. Ездовые что есть силы натягивали поводья, коренные лошади, хрипя, мотая головами, приседали на задние ноги; передок, тяжестью орудия наваливаясь на коренных, вальками ударял по ногам. Упряжка спускалась в туман. Когда же второе орудие нырнуло в белесую мглу, Ермаков строго взглянул на командиров орудий и, несколько удивленный, помолчал. Перед ним стройно вытягивались два одинаково молодых сержанта, одинаково большеглазых, одинаково широкоплечих.
– Кажется, я не пьян, – немного отходя от прежнего чувства злости, сказал Ермаков, – но у меня вроде двоится в глазах. Вы что, близнецы?
– Так точно, товарищ капитан, – ответил один из сержантов.
– Что же, все время вместе воюете? Давно на войне?
– Так точно, товарищ капитан, второй год.
– Вы откуда сами?
– Из Москвы, товарищ капитан.
– Здорово! Земляки, значит! Где жили?
– На Таганке, товарищ капитан, а вы?
Один из братьев улыбнулся детской, чистой улыбкой, и другой улыбнулся тоже, словно в зеркале отразилось.
– Я? В Сокольниках! Ну, как же мне различать вас, братцы? Ваша фамилия?
– Березкины, товарищ капитан. А в батарее нас различают по именам: сержант Николай Березкин и сержант Андрей Березкин. Это только сейчас так. Вы к нам привыкнете. Будете различать.
Ермаков засмеялся.
– Черт его знает, первый раз на войне встречаюсь с близнецами! – И, перегнувшись с седла, спросил: – Вы мне вот что скажите, Березкины: состав расчетов из пополнения?
– Так точно, товарищ капитан. Из Сумской области.
– В боях были? Или прямо к Днепру от печек?
– Никак нет, были в одном бою. Ничего. Конечно, не совсем.
– Ладно, проверю! По местам, Березкины!
Спуская коня по покатой дороге в долину, к орудиям, он услышал свежий голос лейтенанта Прошина. Лейтенант шел возбужденный, невесомо ставя ноги в хромовых сапожках, сияя навстречу улыбкой Борису, как давнему знакомому.
– Что, отдых, товарищ капитан?
– Какой отдых? – ответил Ермаков, с внезапной неприязнью увидев на молодом, веселом лице Прошина тонкие светлые усики. («Подражает Ананяну, что ли?») – Отдых будет на том свете, поняли? А усы зачем, усы?..
И, чувствуя, что сказал грубо, оскорбляюще, он нисколько не осудил себя за это, хлестнул лошадь, проскакал мимо обиженно покрасневшего Прошина, мимо солдат и орудий, мимо потных, поводивших боками упряжек. Он многое видел на войне и чувствовал за собой право так говорить с людьми, потому что презирал «сантименты» и больше других знал цену опасности.
– Рысью ма-арш!
В лесную деревушку Золотушино, расположенную в километре от Днепра, прибыли на ранней заре: над лесами чисто и розово пылало небо, и, подожженные холодным пламенем, горели стволы сосен, светились влажные палые листья на земле, над крышами домов краснели редкие дымки. В деревне было по-раннему тихо; кое-где во дворах темнели повозки; дымила на окраине одинокая кухня, и сонный повар, гремя черпаком, возился возле котла. Еще издали Ермаков увидел на околице Витьковского. Он был без пилотки, белокурый, грыз семечки, сплевывал шелуху небрежно на шинель, посмеиваясь, переговаривался с поваром. Когда орудийные упряжки вырвались из розового лесного тумана, Жорка стряхнул прилипшую к шинели шелуху и, подкинув запотевший от росы немецкий автомат на плече, вышел на дорогу.
– В порядке? – быстро спросил Ермаков, не слезая и сдерживая разгоряченную лошадь. – Батальон Бульбанюка здесь? Людей из батареи привел? Вижу, привел!
А Жорка светло, невинно смотрел голубыми глазами в лицо капитана.
– Привел одного Скляра. Остальные – тю-тю! С Кондратьевым на ту сторону поплыли. Скляр говорит: немцы на всю катушку огонь вели, а они в это время…
– Совсем досадно! – проговорил Ермаков. – Где Бульбанюк? Показывай, в какой хате штаб.
– А пятый дом направо.
Через несколько минут, отдав приказание лейтенанту Прошину разместить людей, он вошел в штаб батальона.
Из комнаты повеяло теплом огня: тут топилась печь. Оранжевые блики играли на грязной ситцевой занавеске. Перед занавеской, в первой половине, прямо на полу, в соломе, храпел в воротник шинели обросший солдат, у изголовья на гвозде висели три автомата. Ермаков перешагнул через спящего, отдернул занавеску. На высокой кровати лежал начальник штаба батальона старший лейтенант Орлов, в галифе, но без гимнастерки и босой. Злое, цыганского вида лицо его с тонкими черными бровями было повязано пуховым платком. Он втягивал сквозь сжатые зубы воздух, пальцы на ногах беспокойно шевелились. На табуретке, на развернутой карте стояла недопитая бутылка мутного самогона, жестяная кружка, рядом – нетронутый кусок черного хлеба; планшетка валялась на полу подле грязных сапог.
– Ах сволочь! Ах стерва! – стонал Орлов, непонимающе глядя в потолок, прикладывая кулак к платку. – Чтоб тебя разорвало, собачья душа! Что ты возишься? Что возишься, как жук навозный? – закричал он, упираясь глазами в худую, робко пригнутую спину радиста, который сидел с наушниками около рации. – Что ты мне ромашками голову морочишь? Давай связь! Связь!
– «Ромашка», «Ромашка», плохо тебя слышу, плохо слышу… совсем не слышу… – речитативом выборматывал радист.
Ермаков усмехнулся.
– Зубы, Орлов?
– Зубы, стервы! Как назло! – простонал Орлов, потянулся к бутылке, налил в кружку остаток самогона, пополоскал зубы, скривился пополневшей щекой, занюхал корочкой хлеба. – И это не помогает! Ни хрена! – Он со злобой затолкал бутылку под кровать, спросил крикливо: – Орудия привел? Два? Что не докладываешь?
– Привел. Два. Где Бульбанюк?
– На плотах. В лесу плоты к ночи сооружают. Выделяй своих людей на плоты. Давай, капитан! Ну? Ну? Чего? – закричал он радисту, заметив, что тот полувопросительно обернулся от рации.
– Чего молчишь, как умный? Говори!
– «Ромашка» сообщила: пришли на место.
– Ах, пришли! Пришли, дьяволы! – закричал Орлов, крепко выругался, и пальцы на ногах зашевелились быстрее. – Ну, Максимов на место пришел! – И другим тоном обратился к Ермакову: – Один солдат рассказывал: в Сибири у них у таежника зуб заболел. Дупло. Врачи за тысячу километров. А терпежу нет. Что он сделал? Достал огромный гвоздь, вбил в дупло и, благословясь, рванул. Начисто выдернул. И никаких йодов. Может, так сделать? Один выход. М-м, душу выматывает! – Он слегка ударил себя кулаком по скуле, зло прокричал радисту: – Связь, связь держать! Связь!
– Шумишь, Орлов! На улице слышно. Значит, связь есть?
Вошел майор Бульбанюк, на шинели, на погонах – капли, к козырьку фуражки прилип влажный осиновый лист, рыжие стоптанные сапоги сплошь в росе – осень в лесу. Молча разделся, догадливо-опытными глазами окинул Ермакова, поднял с пола планшетку, положил к ногам Орлова, пальцы его мигом перестали шевелиться. Орлов сказал:
– Максимов на месте. Артиллеристы, как видишь, прибыли.
– Так. Твои орудия я видел, – заговорил густым голосом Бульбанюк, почесал широкий нос на крепком бронзовом лице, тронутом оспинками. – Так, Днепр форсируем ночью. Днем ни одной душе на берегу не показываться. И в деревне – тоже. За невыполнение приказа – под суд. – Он сказал это спокойным, размеренным голосом, подумал и прибавил: – Вот так.
– Как на том берегу, майор? Тихо? – спросил Ермаков, хорошо зная осторожность Бульбанюка.
– Тишине верить – знаешь, капитан? – все равно что интересным местом на муравейник садиться, – сказал Бульбанюк. – Они тоже не дурачки. Не попки. Соображают кое-что.
Взял кружку с табуретки, понюхал, неодобрительно уставился на Орлова, тот, в свою очередь, виновато скосил нестерпимо зеленые глаза на занавеску, за которой храпел его ординарец.
– Серегин виноват? – недоверчиво спросил Бульбанюк. – Врешь. Сегодня водки в рот не брать. Людей пропьем. Увижу – под суд отдам. Люблю тебя, а меня знаешь. Ясно?
– Подлюги зубы, майор, – проговорил Орлов, теперь уже косясь на радиста. – Замучили.
– У всех зубы. Не зубы заливаешь, а вот это. – Бульбанюк показал на сердце. – А ты это брось! Ясно? Вот так. После дела будем пьянствовать. Фланги, фланги – вот где загвоздка. Дай-ка что-нибудь пожевать. Только без Серегина, ясно? Пусть спит…
Орлов опять томительно посмотрел на занавеску, опустил ноги с кровати, нехотя сказал:
– Что-нибудь соорудим…
– Насчет плотов поможем тебе, Ермаков, – проговорил раздумчиво Бульбанюк. – Дам людей.
Выйдя из штаба, Ермаков испытывал желание не углублять того, что неясно было ни ему, ни Бульбанюку, ни Орлову. Он знал их обоих. Орлов, вспыльчивый, несдержанный, был известен в полку тем, что ежеминутно, пополам с матерщиной, разносил правых и неправых, открыто презирал разноранговых штабистов и, будучи сам начальником штаба, не раз, злой и азартный, с пистолетом в руке появлялся среди залегших рот, водил в атаку батальон, чего вовсе не делал Бульбанюк. Бульбанюк без артиллерийского огня в атаку не шел, кочку не считал укрытием, закапывал роты на полный профиль в землю; перед боем ходил по траншеям, деловито, как вспаханную землю, щупал брустверы; приседая, подозрительно поворачивая голову и так и сяк, подолгу уточнял ориентиры: было в этом что-то сугубо крестьянское, добротное, будто в поле к севу готовился, а не к бою. Артиллеристов он любил особо постоянной, нежной любовью, как это часто бывает у многоопытных, давно воевавших пехотных офицеров. Однако Ермакову больше нравился своей горячей бесшабашностью старший лейтенант Орлов, чем излишне осмотрительный, расчетливый Бульбанюк, хотя в глубине души он готов был понять вечную и неоспоримую на войне правоту майора.
Заря разгоралась над лесами, пожаром пылала в гуще деревьев, красные полосы этажами сквозили между слоями тумана, и деревья, крыши, вся деревушка, казалось, дымились в огне, сдавленном лесом.
Орудия стояли во дворе под облетевшими осинами; солдаты с помятыми, осовелыми лицами, точно в дремоте, маскировали щиты, станины; сержанты Березкины, сняв чехлы, протирали панорамы.
Лейтенант Прошин с веселой удалью отсекал топором ветви от срубленной, лежавшей на земле ели. А Жорка, невозмутимый, по-прежнему лениво лузгал тыквенные семечки и, простодушно посмеиваясь, советовал:
– Легче, легче. По усам попадете, товарищ лейтенант. Ей-Богу, так и отчикаете.
Ермаков крикнул ему:
– Витьковский, остроты и семечки прекратить! – И потом более строго обратился к Прошину: – Почему разрешаете черт знает что? Вы – офицер!
Прошин, раскрасневшийся, со сбитым ремнем, неловко держал топор; в изгибе бровей – обида.
– Я уже четыре месяца офицер, товарищ капитан.
– Тем хуже для вас!
Почему не лежала у него душа к этому очень молодому лейтенанту со светлыми усиками? Силы и уверенности не чувствовалось, что ли, в нем? Или потому, что не любил людей, которые подражали другим?
Солдаты и сержанты Березкины смотрели на них от орудий, выжидающе молчали.
– К бою! – внезапно скомандовал Ермаков. – Танки справа!
Лейтенант Прошин отбросил топор, поспешно сделал шаг вперед, огляделся по сторонам и бросился к орудиям, заплетаясь ногами в длинной шинели.
– К бою! – крикнул он, и голос его странно сорвался.
– К бою-у! – эхом запели сержанты Березкины.
Тотчас все изменилось возле орудий: солдаты засуетились, полетела маскировка, раздвинулись станины, дрогнули и опустились стволы; кто-то упал, зацепившись ногой за лафет, донесся доклад командиров орудий:
– Готово!
– Отбой! Прошин, ко мне!
Быстро подошел, почти подбежал Прошин, губы его обиженно дрожали, серые глаза блестели влагой, он прошептал:
– Не доверяете? Да? Вы… зачем… так… издеваетесь?
– Бросьте сантименты, Прошин, – спокойно оборвал его Ермаков. – Оставьте обиды для любовной аллейки городского парка. Ну? Успокоились? Трех человек от расчета на постройку плотов. Остальным спать. Отдайте распоряжение – и ко мне в хату. Жорка, веди в дом!
Глава шестая
Он уснул, будто упал в мутную, теплую воду, и она поглотила его. Не было сновидений, не было даже обрывочных мыслей, отблесков чего-то недоделанного, нерешенного, как бывает всегда после бессонной ночи. Один раз неясная сила беспокойно вытолкнула его из сна. Он приоткрыл глаза: яркое солнце заливало неправдоподобно чистенькую хату, потолок сиял невинно белый, на стене уютно поскрипывали старые ходики: тик-так, тик-так. Чистота, покой, тепло – спать, только спать… А где-то рядом, в высоте, посреди этой светоносной счастливой белизны – тихое урчание мотора, и до шепота пониженный голос Жорки проговорил за спиной:
– «Рама». Над деревней вертится. Вон, смотрите, на крыло повернулась, высматривает. Теперь жди – через полчаса приведет косяк…
И голос Прошина – еле слышно:
– Вернее всего не заметит. Ни одного человека на улице. А вообще – дать бы по ней из ПТР. Залпами.
– Ерунда. Она бронированная.
– Спать всем, – негромко сказал Ермаков и, не поворачиваясь от стены, нагретой, неестественно белой, закрыл глаза.
И снова сон теплой волной подхватил его, а в сознании еще навязчиво и успокоенно, бесформенной легкой тенью мелькала мысль: «Чистота, чистота. Значит, опять я в госпитале? Почему я в госпитале?» Но скоро, уже каким-то необъяснимым чувством, он уловил настороженное движение в хате, топот шагов, шелестящий шепот, чей-то знакомый голос позвал его, и он очнулся от сна – эта привычка мгновенно просыпаться не покидала его даже в госпитале.
Он сел на кровати, неотдохнувшая голова немного болела. В дымно-лиловых полосах предзакатного солнца увидел одетых в шинели Жорку и лейтенанта Прошина, рядом с ними топтался связной Скляр; автомат на груди, тяжелые диски в чехлах оттягивали ремень, и все на нем сбито, мешковато – долго бежал, видимо.
– В чем дело? – спросил Ермаков.
Скляр шаром подкатился к кровати, по старой привычке ординарца подавая фуражку, затем, придвинув к постели сапоги, возбужденно заговорил:
– Срочно, срочно вас… экстренно к командиру батальона. Только есть «но». Я проведу вас огородами. «Рама» летает.
Жорка снисходительно-насмешливо, но и ревниво смотрел на Скляра, потом, сказав «извиняюсь», легонько, небрежно оттолкнул его, сам подал Ермакову шинель. Одеваясь, тот увидел усмешку на лице Прошина («Два ординарца вокруг одного офицера возятся!») и сказал резким голосом:
– Пойдемте со мной!
– Слушаюсь, товарищ капитан.
– Что?
– Я говорю, слушаюсь.
– Собирайтесь. Поменьше ненужных интонаций, Прошин!
Лейтенант пунцово покраснел, и Ермаков, чувствуя непонятное для себя раздражение, заметил, что ресницы у него, как у девушки, длинные, темные, загнутые вверх.
– Пошли, – повторил он.
Вышли на крыльцо. В закатном небе над золотистыми соснами, над безлюдной деревней тихо урчала «рама». В осенней выси, там, где мирно алыми перьями таяли предвечерние облака, она ныряла, сверкая стеклами кабины, словно купаясь в воздухе, – далекая, опасная, чужая.
– Целый день торчит над головой, бродяга, – проговорил Жорка.
Ермаков мельком посмотрел на небо, не без едкости сказал Прошину:
– Вы, кажется, хотели стрелять по ней из противотанкового ружья? А вы ахните из пистолета. Упадет, как перепел. – И скомандовал Скляру: – Веди в штаб, быстро!
Ни майора Бульбанюка, ни старшего лейтенанта Орлова в штабе не застали – здесь был один радист; оторвавшись от рации, он деловито сообщил:
– На Днепре все.
Обоих нашли в лесу, вплотную подступавшем к воде, в свежем, недавно вырытом песчаном окопе. Бульбанюк наблюдал в бинокль правый берег. Орлов, с опухшей щекой, повязанной бинтом, шепотом ругался, курил, задерживая дым во рту, и сплевывал. Тут же ожидали приказаний ротные связисты, и среди них были заметны знакомый полковой разведчик с расстегнутой лакированной кобурой парабеллума на левом боку, в яловых офицерских сапогах, и командир минометного взвода – небритый молчаливый лейтенант в очках. Разведчик, показывая на другой берег, простуженно басил Бульбанюку:
– Левее, левее… Вон где боевое охранение у фрицев…
– Вызывал, Бульбанюк?
Они спрыгнули в окоп.
– Вызывал, Ермаков. Немедленно вызывал. – Бульбанюк опустил бинокль, глубокие морщины прорезались на лбу; он озабоченно глянул вверх: – Слышал?
– Слышал.
Бульбанюк раздумчиво почесал биноклем подбородок.
– Не нравится мне. Очень не нравится. Второй раз кружит. Вот что. Я людей из деревни в лес вывел. Всех. И минометчики здесь. Как улетит эта штучка, ты орудия свои сюда давай. Немедленно. Ясно? Теперь смотри сюда. Нет, подожди. Сперва отдай приказание. Это кто? Твой командир взвода?
Прошин по-уставному поднес руку к виску, задел локтем за широкую спину разведчика и сконфуженно заулыбался ему. Разведчик, чуть сторонясь, басовито хохотнул:
– Эй, эй, убьешь, лейтенант! Ровно танк двинул!
– Приведите орудия сюда, – недовольным голосом приказал Ермаков. – Быстро, Прошин!
Тот мгновенно выскочил из окопа, и Бульбанюк, проводив его узкими догадливыми глазами, помолчал некоторое время.
– Экий у тебя усач гусар, сизые перья! Дров не наломает? Ничего? Не из пеленок? Ладно. Гляди в свой шикарный бинокль. Осмотри весь берег. А потом поразмышляем. Одна голова хороша, две – хуже.
Вся печальная и тихая на закате водяная даль Днепра отсвечивала темно-розовым в увеличенном приближении бинокля: вот она, в пяти шагах, эта вода. И тоскою, странной, глухой, повеяло от лесов, потемневших на том берегу перед вечером. Был высок тот берег Днепра, а в межлесье прорезала полосу зари огромная высота, чистая, без кустов и деревьев. Там, на этой высоте, спиной к западу, отчетливым силуэтом, раздвинув ноги, стоял высокий немец, рядом сидели двое, прозрачные дымки сигарет таяли над их головами.
– Смазать бы их из винтовки, стервецов! – услышал Ермаков горячий шепот Орлова. – Уж больно ясно видны!
«Рама», неровно гудевшая над лесами, показалась в высоте над Днепром и, вдруг снизившись, с ревом пронеслась над самыми вершинами сосен, над нашим берегом, ушла, врезаясь в закат, и немец на голой высоте прощально пилоткой ей помахал. Теперь стало очень тихо, по-вечернему тихо и пустынно. Было слышно, как листья в безветренном лесном покое отрывались, скользили между ветвей, падали на песчаный бруствер окопа.
– Вот так, – наконец сказал Бульбанюк. – Орудия поставишь здесь. И высотку эту на заметку возьми. Там что-то есть. В крайнем случае огнем накроешь. А орудия будешь переправлять последними. После рот. Вот так. Где ж этот твой усач гусар? Чего мешкает? Прилетят, это уж ясно.
– Должен успеть, – ответил Ермаков.
Говорили, что у Бульбанюка есть чутье, и, наверное, это было так. В восьмом часу вечера, ровно через двадцать минут после того, как Прошин привел орудия на берег, в темном, сплошь вызвездившемся небе послышался булькающий гул, и на той стороне с ясно слышными хлопками взлетели близкие ракеты, выгнулись тревожными дугами до середины Днепра. Ракеты взмывали и над той высотой, где стоял давеча немец, и над самой кромкой берега, и из глубины леса справа и слева.
– Запомнить все. Стрелять будем, – сказал Ермаков.
Он сидел вместе с Прошиным и братьями Березкиными на бруствере опустевшего батальонного окопа; Бульбанюк, офицеры и связисты были сейчас под бугром, в кустах около воды, куда солдаты, разговаривая сдержанными голосами, перетаскивали плоты из чащи – батальон готовился.
Гул невидимых самолетов накаленно дрожал над головами, и бледно в померкшем небе распустились, разбрызгивая свет, и поплыли над лесами первые «фонари». Под Прошиным зашуршал, посыпался песок, и коленка его задела ногу Ермакова.
– Сейчас будут, – прошептал лейтенант, сползая по брустверу, но, опомнясь, снова сел на краю окопа, стесненно улыбнулся. – Не люблю я бомбежку…
Братья Березкины часто задышали; Жорка с интересом смотрел в небо, вроде бы настроенный к занимательной и опасной игре.
– Всем в окоп, – приказал Ермаков.
И тотчас из звездных высот неосвещенного неба понесся к земле остро пронизывающий звук. Бомбы ударились в землю, толкнули ее, песчаный окопчик, осыпаясь, дернулся, затрясся под ногами, как живое тело.
– Деревню накрывают, – сказал Жорка хрипло.
Потом наступила тишина, последний «фонарь» устало догорел в лесах, багровое зарево в чаще – там, где бомбили Золотушино, – буйно боролось с темнотой, а тот берег, черный, затаенный, мертво молчал. Слабо, облегченно засмеялись в окопе, – кажется, Прошин, и, невольно вспомнив радиста, оставшегося в штабе батальона, Ермаков первым вылез из окопа; сквозь звон в ушах услышал он шорох осыпавшегося песка под чьими-то ногами – от берега бежал к орудиям человек, затем голос Скляра раздался из потемок:
– Товарищ капитан! Бульбанюк пошел! Сразу после бомбежки. Первая и вторая рота… Вам поддерживать!..
«Бульбанюк начал переправу? Он хочет выиграть время? Да, все должно свершиться сейчас».
– К орудиям, – скомандовал Ермаков вполголоса.
– А мне как же?.. – растерянно и просительно вскрикивал Скляр. – Куда мне, товарищ капитан?
– К Бульбанюку, голубчик, связным! Ни шагу от него. К нему!
И он не видел, как исчез под обрывом берега Скляр, не до него теперь было.
Ермаков стоял между первым и вторым орудиями (а там ни звука, словно дыхание у всех замерло), и в черноте ночи, слившей без границ воду и небо, он улавливал тихие всплески отплывающих от надежной земли плотов, и вся тьма казалась живой, дышащей. Прошин шепотом сказал рядом:
«Это наши… плывут», – и Жорка Витьковский едва слышно отозвался из темноты: «Вот бродяги!» – и кто-то сдавленно кашлянул, поперхнулся возле орудий. Все, что жило и шепотом разговаривало на левом берегу, напрягалось в нервном усилии увидеть, что сейчас было на воде, все это уже как бы не существовало, а было одно горячее, азартное, что захлестывало Ермакова всего: зацепиться в тишине за берег, подтянуть роты к лесу, атаковать высоту, взять ее…
И вдруг тишина оглушительно взорвалась и осветилась. Торопливо взлетая, ракеты смешались, змеисто извиваясь в небе и в воде. Все замерцало: свет – потемки, свет – потемки… Лихорадочно красными мотыльками забились вспышки на том берегу. Вперекрест запульсировали струи трасс, отвесно хлестнули по воде сверху. Свет – потемки, свет – потемки… В огнях ракет появилась река, рассыпанные плоты по быстрине, смутные фигурки людей. Свет – потемки, свет – потемки.
Тот берег ожил, загремел, зашевелился, тени деревьев то стремительно падали в Днепр, то разгонялись светом; пулеметные очереди мелькали вокруг плотов, вонзаясь в воду, на плотах разом беспорядочно задрожали всплески автоматов, и встречные трассы малиновым веером махнули по тому берегу; и гулко и сухо забили винтовки. Плотно покрывая эти звуки, с тяжким звоном распустились на середине реки мины. И следом за ними, туго сбрасывая высоту, сочно лопнул над Днепром бризантный, тяжело зашлепали осколки по воде, по песку, по стволам деревьев. Наполз едкий запах тола.
– Огонь без команды по точкам! – крикнул Ермаков. – Ну-ка, Вороной, я начну! Нащупали высотку?
Шагнув за станину, он стиснул каменное от напряжения плечо наводчика Вороного, с трудом отстранил его, пальцы охватили подъемный и поворотный механизмы, прицел, крупно приближая вспышки, выделил из тьмы ту точку, где на высоте рождались трассы, и Ермаков вспомнил немца, что на закате курил там, прочно расставив ноги.
Короткое рваное пламя вырвалось в темноту, оглушив и обдав горячим воздухом до боли в ушах, – орудие резко откатилось, заскрипел песок под брусьями.
Борис заметил, как снаряд плеснул разрывом ниже и вбок от этой точки, где пульсировали трассы, на привычную ощупь увеличил прицел, и почти одновременно с его выстрелами справа выбросил в небо огонь минометный взвод, а ближе слепяще мигнуло пламенем орудие Прошина, оттуда жарко и колюче ударило в щеку жухлыми листьями, сухой хвоей.
Толчок панорамы. Доворот. Пальцы сжались на рукоятках механизмов. Снаряды развернулись кострами на высоте, погасли, и вместе с ними погасли на высоте вспышки. Он ждал несколько секунд, а в панораму лез свет ракет, трассы спутанно огненными пунктирами летели в разные стороны. И снова в панораме упорно и живуче заплескалось пламя на высоте. «Крепок этот немец», – подумал Ермаков.
– Четыре снаряда, беглый огонь!
Опять костры возникли на высоте. Чтобы лучше разглядеть их, он встал за щитом орудия и только тогда увидел, что все отчетливо и ярко иллюминировано ракетами. Явственно различимые плоты сносило течением, вокруг них бегло рвались мины, первый из плотов ткнулся в правый берег; другой, отстав, беспомощно кружил посередине Днепра – плот, очевидно, потерял управление, и частые всплески мин накрывали его.
– Четыре снаряда, беглый огонь!..
На высоте замолчал пулемет, и Ермаков видел спешащие разрывы прошинского орудия на другом берегу, искал глазами новые опорные точки, но там смешалось все – трассы, трескотня автоматов, вспышки ракет. Эти вспышки, свет ракет, удары артиллерийской стрельбы теперь возникли справа, – севернее начал переправу батальон Максимова, но Ермаков не смотрел туда.
Два первых плота пристали к берегу, сгорбленные фигурки запрыгали косыми тенями, заячьими скачками побежали по обрыву, к вставшему стеной лесу.
Сносимые течением плоты наискосок подгребали к правобережью, и с них непрерывно кричали что-то, вероятно, в сторону того плота, что кружил безвольно на быстрине. Столбы воды вплотную вырастали один за другим, донесся слабый, неразборчивый вопль, потом на этом плоту дыбом поднялись бревна – и люди, повозки, метнувшиеся лошади отвесно скатились в воду с одного бока. Визгливое предсмертное ржание лошадей прорезалось сквозь свист мин.
– Накрыло! Чего ж они, а? – досадливо сказал Жорка. Ермаков понимал, что его орудия бессильны достать минометную батарею на том берегу, и все же скомандовал выпустить беглым огнем восемь снарядов в направлении мерцающих над лесом зарниц, после крикнул возбужденно:
– Передки на батарею! Жорка, лошадей!
Было ясно: Бульбанюк зацепился за берег, завязал бой. Но странно было то, что ракеты уже не поднимались, не дрожали зарницы над лесом – на правый берег круто упала темнота. И в этой тьме постепенно смолкало разрозненное шитье автоматов.
Переправа была спокойной, без единого выстрела, только раз шальной, заблудившийся снаряд запоздало ухнул на середине Днепра.
Правый берег встретил густой теменью, нерассеянными запахами недавнего боя: горьковатой вонью еще теплых гильз, порохом, смешанным с сырой гнилью осеннего леса.
Черный, глухой, – враждебно затаенный, – он возвышался угрюмой стеной до самых звезд; в чаще его где-то отдаленно простучала очередь и затихла.
Сгружали орудия безмолвно, одни ездовые осипшими от волнения голосами понукали лошадей, в поводу сводили их на берег.
Ермаков сел на песчаный навал какого-то окопа, прикрыв полой шинели зажигалку, устало прикурил. Из окопа тянуло удушливым запахом подпаленной шерсти, он пошарил рукой, нащупал на песке кучу холодеющих гильз, сбоку колючую металлическую ленту и дернул ее – твердое, круглое ударило по колену. Это был немецкий ручной пулемет МГ, он узнал его по дырчатому кожуху.
С хмурым и чуть брезгливым любопытством к чужой жизни, которая представляется всегда иной, он посветил зажигалкой, и первое, что увидал в глубине окопчика, – сливочно-белую склоненную шею, заросшую белесыми, зябко оттопыренными волосами. Узкая пилотка-пирожок была надвинута на залитый кровью лоб убитого: должно быть, в последний миг сознания немец зажал рану пилоткой, будто с отчаянной предсмертной мольбой уткнув голову в острые колени. «До последнего сидел», – подумал Ермаков, внезапно испытывая брезгливую жалость к этим оттопыренным белесым волосам, к этим острым коленям убитого немецкого пулеметчика. Встал, бросил окурок, крикнул в темноту, где, тихо переговариваясь, возились близ орудийных упряжек люди:
– Скоро там?
– Вы кого здесь смотрели-то, товарищ капитан? – подходя, спросил Жорка. – Бродяга, что ли, убитый?
– Возьми МГ и ленты. Здесь, в окопе. Пригодятся. Погрузишь на передок.
– Сделаем, – сказал Жорка охотно.
Справа в лесу послышались голоса: вдоль опушки к берегу шли несколько человек. Кто-то, возбужденный боем, говорил с непонятным, отчаянным весельем:
– Как он ахнет, как ахнет промеж плота! Лошади, повозки – в воду! Сержант кричит: «Вплавь, вплавь давай!» Глянул, а у него лицо в крови, живот почему-то руками держит. Отошел так по бревнышкам и спиной в воду упал! Молодой был. Эх, молодой!..
А другой голос ответил слабым криком:
– Артиллеристы? Кто тут? Артиллеристы?
– Они самые, – отозвались из тьмы.
– Капитана Ермакова…
– Скляр? – окликнул Ермаков. – Ты откуда?
Темным колобком подкатилась к нему круглая фигура связного.
– От Бульбанюка. За вами прислал. Все вперед пошли… Что туточки было, товарищ капитан! – заговорил Скляр поспешно и тоже отчего-то весело. – Восемь человек ранило. Орлов впереди с первой ротой. Зубы у него. А как на берег спрыгнули – повязку как рванет: «Ни разу в бой не ходил с повязанной мордой!» Пистолет выхватил: «Вперед, ребята! Всем медали будут, никого не забуду!» – Скляр захлебнулся смешком. – Вам приказано: скорей! Там, на бугре, дорога, немцы драпанули!
– А это кто с тобой?
– Санитары. Раненых переправлять.
– Прошин! Скоро там? По местам!
Как только орудия вывели по бугру на сжатую лесом дорогу, Ермаков подал команду:
– Быстрым шагом, расчетам не садиться! – и вскочил на передок первого орудия Прошина, который отчужденно, молча отодвинулся, но, вроде бы не заметив неприязни, Ермаков полез за табаком, спросил спокойно: – Курите, нет?
– Я не понимаю вас, товарищ капитан, – заговорил Прошин с нотками возмущения в голосе. – Вам, наверно, не жалко людей. Мы не ваша батарея. Поэтому… почему солдат не посадить на станины? Люди по-глупому бегут за орудием… Я слезу.
Он вынес ногу на ступеньку, однако Ермаков властно взял его за локоть, посадил на место.
– Прошин, вы стихи никогда не писали?
– Нет.
– Так вот. Всю войну мне пришлось воевать рядом с пехотой. Вам ничего это не говорит?
– Нет.
– Это наверняка ваше любимое слово, – Ермаков усмехнулся, – два раза подряд «нет». Хуже не бывает сонного пехотинца. А мы с вами сейчас почти пехотинцы. У вас никто не дремал на станинах, не падал ночью под колеса орудия?
– Нет.
Ермаков рассмеялся:
– Вы мне временами нравитесь своим упрямством, Прошин.
– А вы мне, а вы… нет, товарищ капитан.
– Вот спасибо. Благодарю за откровенность. Это уже мужской разговор.
Подрысил Жорка, притер лошадь вплотную к передку, поинтересовался вкрадчиво:
– Товарищ капитан, часы как у вас – точно ходят?
– А что?
– Часики ручные в окопе нашел. Лежат и идут себе. Вот посмотрите, фрицевские.
Жорка перегнулся в седле, протянул нагретые в ладони часы на металлической браслетке, круглые, сверкнувшие фосфорическим циферблатом. И Ермаков, вспомнив сливочно-белую склоненную шею, острые, прижатые к груди колени убитого в окопе немца, спросил почти равнодушно:
– Часы у вас есть, Прошин?
– Нет и не надо.
– Не бойтесь. Думаете, возьмете вещь убитого – убьет самого? Так?
– Возможно.
– Мертвецы не самое страшное на войне. Страшно другое… – сказал Ермаков.
Впереди, в глубине леса, прошил тишину тонкий стрекот автоматной очереди, оборвался, и где-то справа ответил ему отдаленный бой пулеметов; Прошин, как бы не обращая внимания на выстрелы, спросил:
– Что самое страшное?
– Договорим когда-нибудь. За стаканом водки. К сожалению, нам мешают, – ответил Ермаков. – Жорка, возьми часы. Подари наводчику Вороному. Ручищи у него крепкие! И гамлетизм ему не свойствен. Давай коня!
Ермаков поскакал вперед по безлюдной, чудилось, дороге среди леса, пришпоривая лошадь, теперь все время слыша справа за лесом отдаленный бой пулеметов.
Вдруг из темноты закричали приглушенно:
– Стой! Кто такие? Куда леший несет?
И кто-то даже схватил за повод, выругавшись.
– Артиллеристы. Какая рота? Где комбат?
– Впереди…
Ермаков направил лошадь к обочине, впритирку к кустам, стал обгонять скрипевшие повозки хозвзвода, повозки минометчиков, рассеянную, далеко растянувшуюся колонну, – его то и дело негромко окликали, – и наконец выбрался на свободную дорогу и скоро нагнал нескольких всадников, в середине которых ехали Бульбанюк и Орлов.
– Какая обстановка, майор?
– Вот мозгуем над обстановкой, – ответил Бульбанюк густым голосом. – Ты кстати. Давай присоединяйся. Одна голова хорошо… Вот так. Справа, слышишь, пулеметики? Слышишь? Это Максимов. Слева тоже автоматики легонько разговаривают. Но так себе, слабо. Ну так вот. Похоже, глубоко в тыл к немцам едем. Оборона тут слабенькая, с разрывом была. Вот так проясняется. Ну, нам бой давать надо в районе Ново-Михайловки. А какой пес знает, тихо ли до нее дойдем? Ну? Как же? Может, рванем вправо через лес да и ударим по флангу? Вот так. Ну, давай размышляй. Тут короче будет.
Майор замолчал, обратил белеющее лицо к Ермакову, и тогда Орлов, с нетерпением ерзавший в седле, сплюнул, поцыкал больным зубом, заговорил не без раздражения:
– Оборону прорвали? Прорвали! Людей положили? Положили! Немцы не понимают сейчас, сколько нас, куда двигаемся и зачем. Пока они в себя не пришли, надо в тылу у них бой завязывать – в Ново-Михайловке или еще глубже.Только так создадим впечатление серьезного прорыва. Так я понял приказ, Бульбанюк? А назад по лесам мы всегда выйдем к Днепру. А если наши с фронта двинут, то и выходить не придется… Соединимся.
– Н-да! Золотая твоя ухарская голова, – неопределенно, но, казалось, слегка осуждающе проговорил Бульбанюк. – А ты как думаешь-размышляешь, капитан?
– Думаю, Орлов прав. Чем дальше в лес, тем больше дров, – ответил Ермаков полусерьезно. – Если же идти к флангу напрямик, вряд ли пройдем без дороги с орудиями.
– Н-да! – произнес Бульбанюк и долго не отвечал, покачиваясь в седле, точно заснул; потом выговорил тихо: – Ну, вроде поразмышляли. Вперед идем… Вот так. Вперед. – И, выпрямляясь, осторожно подал команду: – Под-тя-ни-ись, братцы!
– Подтянись! – прошелестело по колонне.
Глава седьмая
Приняв решение, Бульбанюк время от времени задерживал колонну, поджидал разведчиков. Связной от разведки коротко докладывал, что впереди пока спокойно; офицеры сдержанными голосами отдавали команды, подтягивали роты, и батальон опять двигался по узкой дороге, сжатой непроницаемой тьмой леса. Старший лейтенант Орлов, то объезжая роты, то вновь присоединяясь к голове батальона, забыв про зубы, развеселился, курил в рукав, вместе с запахом дыма тянуло от него сладковатым душком самогона.
– Знаешь, капитан, – говорил он шепотом, – Бульбанюк-то у нас странный тип. В санитарах – ни одной женщины. Были две – услал в полк, твердо убежден, что женщины мешают воевать! Говорят, у тебя, капитан, хорошенькая пепеже в батарее? Слухи верны?
– Если верить слухам, то ты пьяница, бабник и вообще пропащий человек, – сказал Ермаков. – Верить?
– Врут, стервецы! – проговорил зло Орлов и сплюнул. – Вот языки! Пропащий человек! Верно, войну я начал капитаном! Потом на Северо-Западном – плен, два побега и всякая штука. В Сталинграде воевал солдатом. Котельников брал лейтенантом. А Сумы – старшим лейтенантом. Ну а Берлин – подполковником, пожалуй? – Он рассмеялся. – Земля крутанулась для меня в обратную сторону. Неясно, наверно?
– Почти ясно. Но не совсем.
– Полюбилась мне на Северо-Западном фронте одна девчушка. Была в моем батальоне… Девочка совсем. Санинструктор, Верочка. Из Ленинграда. Ну и вышла, понимаешь, неприятная история с одним адъютантом. Терпеть его не мог. Карьерист из молодых, с тепленькими глазами. Приезжает он как-то с приказом взять Верочку в дивизию… Та в слезы. А я сгоряча выскочил из землянки с ТТ. Выпустил бы в него обойму, если бы не командиры рот. Повисли на руках… Я говорю: «Ладно», – отдал кому-то ТТ и раза два смазал адъютанта по морде. Ну а тот раздул историю… Не столько из-за Верочки избил эту тыловую амебу, сколько из-за того, что на подхалимских докладах делал карьеру на войне, стервец! Есть на войне, Ермаков, одна вещь, которую не прощаю: на чужой крови, на святом, брат, местечко делать! Ну а Верочку забыть не могу.. Ох, стервецы, опять зуб! Я сейчас.
Орлов хлестнул коня, исчез где-то в глубине колонны, и Ермаков некоторое время ехал один, приотстав от Бульбанюка, качающегося впереди. Из сырой непроглядности леса, обступившего эту чужую, незнакомую дорогу, неясно, горько повеяло шершавой тревогой, и с тоской вспомнились ему холодные, вздрагивающие губы Шуры: «Тебя убьют». Он знал о том, что она любила его, пожалуй, больше, чем надо, и хотя понимал, что близость между ними была не очень серьезна, не чувствовал вины перед ней, не признавая на войне ложных образцов добродетели.
Когда снова подъехал Орлов, дыша самогоном, Борис спросил:
– Ну а как она?
– Она? – Орлов сразу не понял. – Кто она?
– Ну, Верочка, – грубовато напомнил Ермаков.
– Она? Меня разжаловали… а она… под крылышко к адъютанту..
– Сто-ой! – раздалась приглушенная команда спереди. Оба одновременно припустили рысью лошадей и сейчас же остановили их перед группой всадников, загородивших дорогу. Луна встала над лесом, пронизывала чащу ледяным синим светом. Несколько пеших людей, придерживая автоматы на груди, негромко и поочередно докладывали Бульбанюку, который, досадливо кряхтя, слез с лошади, потер замлевшие колени, с недовольством спросил, выпрямившись:
– Вы что тут меня успокаиваете? Сам слышу, что тихо! Вы мне всю деревню прощупайте, по домику! Ясно! А потом докладывайте! Давай, давай вперед!
Бульбанюк сердито посмотрел на луну, повернулся квадратной спиной к разведчикам, при лунном свете его лицо было зеленым, жестким. Разведчики прошли несколько метров бесшумными щупающими шагами, канули в чащу, угрюмую, сизо-дымчатую в своем жутковатом осеннем молчании.
– Разреши-ка мне с разведчиками? Все наизнанку выверну! – сказал Орлов обещающе. – Ну?
– Ты что? – спросил Бульбанюк и приблизил лицо к лицу Орлова. – З-зубы?
– Зубы стервецы, – виновато ответил Орлов.
– Я т-те покажу зубы, – внезапно рассвирепел Бульбанюк. – Марш к ротам! Развернуть роты в цепь. И вперед. Марш! Артиллерист! – Он обернулся к Ермакову. – Подтяни-ка орудия сюда. Быть наготове. Слезай. И за мной. Коней оставить тут.
– Передать: орудия сюда! – приказал Ермаков по колонне и спрыгнул на землю, торопливо пошел следом за Бульбанюком.
Краем выплыв из-за деревьев, луна светила на дорогу, и в чаще угрюмо и тускло заблестели влажные стволы голых осин. Мертвенным металлическим светом был облит весь лес. Печалью, ощутимой утратой несло от шелеста листьев, от холодной накаленной луны, от черных теней заброшенной этой дороги. Куда вело все? Где был конец этой осенней ночи?
Не сказав друг другу ни слова, миновали кусты, увлажненные, нагие, и разом остановились.
Лес кончился… И впереди везде был этот беспокоящий лунный свет: в пустынных полях, в извивах латунно неподвижной реки, за темными стогами, на деревянном мостике и в мертвых стеклах тихой деревни, разбросанной за рекой. Не слышно было ни лая собак, ни скрипа колодца, не пахло дымом в студеном осеннем воздухе. Все цепенело, молчало под луной, и только стаей голодных мышей полз ветер в стерне.
– Вот она, Ново-Михайловка, – вполголоса произнес Бульбанюк. – Вот она. Нет, ничего не слышу… И ничего башкой не соображаю. – Сел на пенек, крепко потер двумя руками лицо, скривил губы. – Никого? А с кем воевать? Ну, братец ты мой, дела-а!..
Задумчиво играя кнутом, Ермаков вглядывался в безмолвные, холодные от лунного света поля, в эту безжизненную деревню, пусто отблескивающую стеклами, и, смутно ощущая тревогу странной этой тишины, спросил:
– Разведку подождем?
Через сорок минут разведка вернулась и сообщила, что Ново-Михайловка совершенно пуста, лишь в одной хате нашли полуслепую, лет под восемьдесят старуху, которая ничего толком не понимала, ничего не могла объяснить, плакала, ползала по хате и все искала какую-то Тасю, и осторожный Бульбанюк после мучительного раздумья отдал приказ: занять деревню.
Батальон вошел в Ново-Михайловку.
Луна вольно и светло заливала пустынные улицы, сквозные, заброшенные сады, беленькую церковку, огромный парк на окраине деревни; в глубине его виднелось здание синеющей меж ветвей крышей.
Ермаков вел орудия в растянутой колонне первой роты. Посреди Ново-Михайловки, на перекрестке дорог, рота задержалась, послышались невнятные голоса, и колонна стала обтекать что-то широкое, угольно-черное, Ермаков подъехал ближе. На перекрестке тяжело и прочно стоял немецкий танк, верхний люк был открыт, из него слабой полосой струился электрический свет. На броне борта опасно лежали четыре железные лепешки – мины. Двое солдат, взобравшись на танк, с интересом заглядывали в башенный люк, переговаривались:
– Как это он его оставил? Целехонький…
Один смело отодвинул ногой мину, выбил каблуками дробь, крикнул сверху:
– А ну, ребя, кто есть шофер? Садись! Там бутылок вагон и маленькая тележка! Легко воюют!
Было нечто лихое, бездумное в этом веселье, и засмеялась пехота, но тотчас кто-то, вздохнув, сказал: «Дуришь, Матвеев», – и тогда пожилой лейтенант-пехотинец решительно скомандовал:
– Все от танка!
Ермаков вернулся к орудиям с обострившимся ощущением неопределенности: очевидно, чувство это испытывали теперь многие. С усилием он пытался заставить себя думать, что все идет хорошо, все идет как надо, но беспокойство не проходило.
Бульбанюк расположил штаб батальона в просторном, окруженном пристройками белом доме липового парка. Здесь до войны, по-видимому, была школа. Роты окапывались на окраинах. Ермаков приказал установить орудия в конце аллеи, зарыться в землю, затем долго ходил по скату холма, глядел на смутную громаду леса, где должен быть правый фланг немецкой обороны и которого словно бы не было.
Штаб батальона занял самую большую комнату в доме. Тут было накурено и людно. На столе бесшумно горели синими огнями немецкие плошки, четко повторялись во множестве зеркал, блестевших на стенах. Ермаков удивился, увидя себя наперекрест отраженным в этих льдистых провалах зеркал, которые были, вероятно, собраны сюда со всей деревни. Перчатки, черные и узкие, по виду женские, затоптанные валялись в углу. Там, около двух ящиков, среди хаотично разбросанных ярко-красочных обложек журналов и тоненьких книг, выстроились на полу ряды пустых бутылок.
Сквозь махорочный дым слабо пахло духами и чем-то еще – чужим, сладковатым, конфетным.
«Публичный дом, что ли, тут был?» – определил Ермаков и, встретив понимающий веселый взгляд Орлова, сел на ящик, который был распечатан: под разорванным целлофаном загадочно мерцало, тускло переливалось. Хмурясь, Борис достал оттуда новенький Железный крест, подбросил на ладони, подумал: «Был штаб или что-нибудь в этом роде», – поднял глаза и увидел в зеркалах брезгливое лицо Бульбанюка, читающего какие-то бумаги.
– Вот дармоеды! На русском языке пишут! – густо проговорил Бульбанюк и, вдвое сложив, крепкими пальцами порвал бумагу. – Все собрались?
– Все, все, – оживленно сказал Орлов, подвигая к себе красочный журнал на столе.
В комнате уже стало душно. Здесь собрались командиры рот, молоденький офицер-корректировщик из артполка, молчаливый минометчик-лейтенант в очках, радист, штабные телефонисты – кто искоса, кто мрачно, но все неспокойно оглядывались на зеркала. Было такое чувство, что все обнажено вокруг, что ничего не скроешь в этой раздевающей людей комнате, и пожилой, грязно обросший щетиной пехотный лейтенант с наигранной решительностью сказал:
– И выбрали же вы штаб, Орлов! Как баня!
– Как без штанов стоишь! Верно? – излишне громко отозвался Ермаков, чувствуя пошлость этой остроты, понимая, что надо как-нибудь разрядить обстановку для всех, в том числе и для самого себя.
Бульбанюк сурово посмотрел на Орлова, никак не обратившего на слова лейтенанта внимания, ничего не сказал ему, в раздумье кивнул командирам рот:
– Коротко. Думаю так. Пока разведка окрест леса прощупает, малость передохнем. Нащупают немца или не нащупают, через часок двинем на север, во фланг немецкой обороне. Завяжем бой. Всё. Вопросы есть?
Вопросов не было.
– Можно идти. По ротам. Приказания через связных.
По-прежнему оглядываясь на зеркала, командиры рот молча начали выходить. Вышли и связные в другую комнату. Стало тихо и пусто. И тогда Ермаков ясно понял, почему угнетала всех и его самого эта неопределенность положения. Батальон искал боя, а боя не было. И это было самое страшное, что могло быть на войне.
Бульбанюк сидел неподвижно, сжав кулаки на столе, тяжелым взглядом глядел перед собой. Он не замечал ни зеркал, ни телефонистов, ни курившего рядом Ермакова, думал о чем-то своем. А Орлов снял фуражку, щуря нестерпимо зеленые глаза, довольный, провел рукой по цыганским, колечками, волосам и, листая журнал, фыркнул, одна опухшая щека смешно скосилась.
– Стервецы, – сказал он, – одни голые бабы! Тьфу, чтоб тебя черти съели!
Но журнал долистал до конца, заложил руку за шею, с хрустом потянулся, выдохнул воздух: п-х-х-ха, так, что замигали огни плошек. Затем, вроде от нечего делать, лениво взял какой-то листок на столе, поднял красивые брови, поманил Ермакова пальцем:
– Посмотри-ка…
Тот взглянул. На ватмане карандашом была нарисована хорошенькая женская головка – большие внимательные зрачки, нежный, невинный подбородок, полные, как бы обиженно и недоуменно полуоткрытые губы. Внизу наискось – тонким почерком: «Генька!! Помни 21 августа!!!» Ермаков долго рассматривал косую подпись, стараясь понять смысл всего этого, и вяло спросил Бульбанюка:
– Видели?
Словно очнувшись, Бульбанюк неприязненно покосился на рисунок, перевел узкие глаза на Орлова, замедленно сказал:
– Вот так, начальник штаба, передай командирам рот: удвоить посты. Никому не спать. Ни одному человеку не спать.
И кулаком несильно стукнул по столу, зеркала вокруг согласно повторили это движение.
– Передам, – лениво сказал Орлов и подмигнул Ермакову.
Он подошел к окну, начал перебирать бутылки, аккуратно читая этикетки, с разочарованным выражением понюхал горлышко пустой фляги.
– Хороший коньяк пьют, сапоги!
Ермаков, сунув руки в карманы, ходил по комнате, от зеркала к зеркалу, из головы не выходило: «Генька!! Помни 21 августа!!!» И то ли оттого, что в зеркалах он все время встречал бесшабашно прищуренный взгляд Орлова, этот Генька, которого он хотел представить себе, вдруг показался ему внешне похожим на Орлова – злой, гибкий, с такими же нестерпимо зелеными, отчаянными, готовыми ко всему глазами.
– Пойду к орудиям, – сказал Ермаков и надвинул плотнее фуражку.
– Давай, – не шевелясь, ответил Бульбанюк. – Часовых удвой.
Ночь была на переломе – луна еще сияла за деревьями, над тихой деревней, а в побледневшем небе звезды сгрудились в высоте и казались светлыми туманными колодцами. Парк сухо скребся оголенными ветвями, шумел предутренним ветром – свежо, влажно потянуло с низин.
В конце парка Бориса настороженно окликнули:
– Стой! Кто идет?
– Свои.
– Кто свои? – испуганно и грозно взвился голос.
– Капитан Ермаков.
– А-а, – облегченно произнес часовой.
Ермаков подошел к первому орудию – запахло сырой землей. Орудие стояло на чернеющей среди холма вырытой огневой позиции, станины раздвинуты, орудийный расчет маскировал брустверы; справа и слева чуть слышно скрежетали лопаты – копали ровики. Работали в молчании. Часовой проводил Ермакова до огневой, зашептал в темень кустов: «Лейтенант, лейтенант», – и тут же отошел, исчез за спиной.
Лейтенант Прошин встретил его возбужденный, отвел в сторону, отрывисто заговорил:
– Ничего не понятно, товарищ капитан. Какие-то люди шляются. По дороге внизу.. и здесь…
– Какие люди?
– Минут десять назад какие-то двое прошли. Часовой остановил: «Кто идет?» Отвечают: «Свои». Подошли. С фонариками. Посмотрели. «Окапываетесь? Где офицер?» Я говорю: «В чем дело?» Один спрашивает: «Где ваш сектор обстрела?» Я спрашиваю: «Кто вы такие?» Другой отвечает: «Я командир третьего батальона, не узнаете?» И наседает: «Где сектор обстрела, лейтенант? Мне пехоту закапывать нужно». Я ответил, что сектор обстрела еще неизвестен. А он засмеялся: «Эх вы, пушкачи – прощай, родина!» – и пошли вниз. Командир третьего батальона…
– Мальчишка! – с таким внезапным гневом сквозь зубы проговорил Ермаков, что Прошин отшатнулся даже. – Никакого третьего батальона здесь нет! Вы поняли? Здесь есть один командир батальона Бульбанюк. Вам ясно? Рас-те-ря-лись! Эх вы!.. Черт бы вас взял совсем!
– Я думал… – пролепетал Прошин заикающимся голосом. – Потом думал, что…
– Ничего вы не думали! – со злостью оборвал Ермаков. – Дали бы им в спину автоматную очередь, если не хватило смелости задержать живыми, вот тогда бы вы думали! Почему не сообщили сразу? Витьковского послали бы за мной! Где он, Витьковский?
– У второго орудия.
– Где вы видели людей на дороге?
– Вон там.
– Никого не вижу!
– Сейчас там никого… нет… Что это? Слышите?
Вдруг красный неопределенный свет возник в небе где-то над парком, и Ермаков отчетливо увидел бледное лицо Прошина и замерших с пучками веток солдат на огневой позиции. Все молчали. Ракета, как бы сигналя кому-то, описала дугу и упала, затухая, в дальнем конце парка. Сразу нависла тишина… Откуда ракета? Чья? И тотчас вторая ракета стремительно взвилась уже впереди, над лесом, откуда пришел батальон, и пышно рассыпалась в полях. Искры угасли в сомкнувшейся темноте, и снова навалилась тугая тишина.
– Немцы? – шепотом выдавил Прошин и быстро повернул голову туда, где слева всплыла уже третья ракета.
– Да, это немцы, – сказал Ермаков. – Колечко видите? Они…
Он не договорил. Кто-то, задыхаясь, бежал по скату холма, цеплялся за кусты, издали звал нетерпеливо и хрипло:
– Лейтенант! Лейтенант!..
– Ты, Жорка? – крикнул Ермаков.
– Товарищ капитан… фрицы!..
– Быстро в штаб к Бульбанюку!
– Товарищ капитан…
– В штаб! Молнией!
Впереди, с околицы, ударили крупнокалиберные пулеметы, белые трассы хлестнули над головой.
Глава восьмая
Эта маленькая полоска земли на правом берегу Днепра, напротив острова, называлась в сводках дивизии плацдармом, в разговорах штабных операторов – трамплином, необходимым для развертывания дальнейшего наступления. Кроме того, в донесениях из штаба дивизии Иверзева неоднократно сообщалось, что плацдарм этот прочно и героически держится, перечислялось количество немецких контратак, количество подбитых танков и орудий, число убитых гитлеровских солдат и офицеров и доводилось до сведения высшего командования, что наши войска концентрируются и группируются в районе острова, на узкой, расширяемой полосе правобережья, и готовятся нанести удар. С конца прошлой ночи наступило неожиданное затишье, а известно, что в состоянии вынужденных передышек высшие штабы требуют донесений более подробных, чем в период наступления, и в сообщениях из дивизии все выглядело на плацдарме чересчур планомерно…
Здесь же, в батарее старшего лейтенанта Кондратьева и в роте капитана Верзилина, точнее, в расчетах двух уцелевших орудий и в двух оставшихся после переправы стрелковых взводах, ждали и закапывались в землю. Узенькая – на две сотни метров – ленточка плацдарма тянулась по высокому берегу Днепра, днем просматривалась немцами и простреливалась с трех сторон, ночью ракеты падали и догорали в нескольких шагах от огневой позиции батареи.
Две землянки, похожие на большие норы, были выкопаны артиллеристами в отвесном обрыве, вырубленные в земле ступени вели наверх, к орудиям. Днем там лежал один часовой, ночью – два. Здесь, на бугре, орудия были глубоко врыты, стояли без щитов, накрытые камуфляжными плащ-палатками, ниши по бровку набиты снарядными ящиками, что удалось за ночь переправить сюда.
В ясный голубой день, засиявший над Днепром после ночной переправы, артиллеристы грелись на песке возле землянки, усталые, наслаждались осенним солнцем.
Старший лейтенант Кондратьев поеживался в несвежей нижней рубахе, неумело и конфузясь пришивал подворотничок к пропотевшей гимнастерке. Изредка он поглядывал на левый берег. Густо-синяя широта Днепра, облитая солнцем, песчаный остров, желтые леса, белые дороги на далеких холмах за лесами – все это, как в бинокль, на много километров было видно отсюда. Там, на белых дорогах, нечасто появлялись повозки, ползли в пыли, и тотчас со стороны немцев глухо ударяла батарея. Черные кусты разрывов вырастали на холмах, застилали на миг дорогу. Стараясь выбраться из этих кустов, повозки мчались, неслись вскачь, круто забирая в гору, и тогда у всех возникало острое чувство любопытства: накроет или не накроет?
Один раз повозку все-таки накрыло: на том месте, где была лошадь, образовался бугор. Маленький человек соскочил на дорогу и, петляя, побежал в сторону и вверх. И, как в укрытие, вбежал в черный куст разрыва. Больше по нему не стреляли.
Сержант Кравчук, держа на весу ногу и плотно, сильно наматывая на нее чистую портянку, сказал с осуждением:
– Эх и дураки бывают братья славяне. Все пристреляно, а он лезет. Чего лезет? Стороной объехать нельзя? Немец не полез бы…
– Глупая привычка – авось, – сказал Кондратьев и провел пальцами по влажному лбу. – Да, да…
Он покашливал, то зяб, то бросало в пот: простыл все же, когда немцы искупали в Днепре в ту первую ночь неудачной переправы.
Разыгравшееся осеннее солнце было тепло, ласково, он чувствовал это, но оно не согревало его всего: голове было горячо, спине холодно. Глубоко тыкая иголку в подворотничок – пальцы не слушались, – Кондратьев удивлялся и сердился даже: всю войну не болел, а тут вот на тебе, чепуха какая!..
– А ты не торопись. Сказал, будут у тебя часы, – послышался спокойный уверительный голос.
Шагах в трех от Кондратьева – головами друг к другу – лежали на плащ-палатке наводчик Елютин и подносчик снарядов Лузанчиков, худенький, с золотистым пухом на щеках. Как всегда, Елютин возился, чинил очередные часы: прищурив внимательно глаз, крутил острием перочинного ножа в разобранном механизме. А Лузанчиков глядел на сияющие колесики, на косматое солнце, на песчаный остров за Днепром, потом засмеялся и подул на светлые волосы Елютина. Тот, не поднимая головы, спросил:
– Это что же такое?
– Паутина, – сказал Лузанчиков. – Вон смотрите, на волосах. С деревьев тянется.
Елютин поднял голову. На берегу, среди синего неба, стояли, светясь каждым листом, рыжие осины, и оттуда, посверкивая тончайшими нитями, тянулась в чистом воздухе паутина.
– Действительно, – сказал Елютин удивленно. – Ну ладно, ты вот что. Давай помогай, без всяких глупостей. Или проваливай. И все. Тебя ничего не интересует. Ты как дрозд, Лузанчиков. Все видишь, а на одном не можешь внимания держать.
– А вот интересно: солнце, деревья, а птиц нет. Даже синиц. Почему?
– Перепугали синиц, – мягко сказал Кондратьев.
– Проваливай! – проговорил Елютин сердито. – От тебя толку не будет.
– Нет, я буду вам помогать! – взмолился Лузанчиков. – Честное слово…
– Пусть, – вмешался Кондратьев и улыбнулся виновато. – Что вы на него сердитесь? Паутина – тоже отличная штука.
Елютин был ленинградец, часовых дел мастер, золотые руки, золотая голова. Если сам Кондратьев, филолог по образованию, стал многое забывать, что когда-то очень любил, и теперь уже, казалось, жил одной войной, то Елютин, парень с шестиклассным образованием, как будто едва вдавался в логику военных событий, – ежедневно руки его были в знакомой работе.
В обороне почти весь полк сносил к нему немецкие, швейцарские и наши старенькие, случайно и не совсем случайно найденные механизмы, и каждый с радостным удовольствием уходил, чувствуя ожившие часики на руке. Не ремонтировал Елютин и отказывался чинить только тогда, когда приносили к нему часы карманные. Был случай: он наладил и выверил прекрасный трофейный «Мозер» для Кондратьева, тот подарил его лейтенанту из полковой разведки, а через неделю лейтенант погиб – разорвалась мина, раздробила карманные часы, и осколки механизма загнало в живот. Узнав об этом, Елютин несколько дней ни с кем не разговаривал, лежал в землянке, отвернувшись к стене, и наотрез отказывался работать. Поэтому, не забывая роковой случай, Кондратьев порой чувствовал себя неловко перед ним.
Кондратьева знобило. Вздрагивающими пальцами он разгладил неровно пришитый черными нитками подворотничок, озябнув, натянул гимнастерку, застегнул воротник на исхудавшей шее.
– Смотри-ка, смотри-ка, товарищ старший лейтенант! Опять какой-то славянин лезет! – закричал Кравчук с досадой. – Соображает?..
Тотчас раздался сдвоенный взрыв. Будто что-то гулко лопнуло около ушей.
Кондратьев увидел холодную синь Днепра, на ней далекую песчаную желтизну острова. Там, отрываясь от желтизны, засновала на воде лодка, замелькали весла. Возле ушей Кондратьева снова оглушительно лопнуло, и рядом с лодкой вырос столб воды. Стрелял немецкий танк. Он стрелял где-то слева, на высоте, и так близко, что было ощущение, словно в двух шагах рвались ручные гранаты. Лодка кормой пошла к берегу, ткнулась в песок, из нее выскочили двое, побежали к кустам. Сейчас же в той стороне, где прямой наводкой стрелял танк, заскрипел, заиграл шестиствольный миномет. Разрывы легли в середине острова, над вершинами деревьев пополз дым. А остров кишел людьми.
– Похоже, наш старшина хотел переправиться, – сказал без улыбки Кравчук. – Ночью, видишь, темно, а днем все удобства: солнышко печет, танки стреляют. Благодать!
– Вечная история, – сказал Деревянко, – дрожит, аж листья падают. Ну, что ты скажешь, Бобков?
Бобков, сидя на солнцепеке, в шинели, накинутой на голое тело – видна была просторная грудь, – старательно проверял швы нательной рубахи, говоря:
– Капитана нет, этот бы начесал старшине. На одной ноге вертелся бы. А то отъел морду – об лоб поросенка убить можно… Нашего-то он не особенно боится. На шею сел. Оседлал.
Сказал это веско, но вроде бы между прочим, занятый важной солдатской работой, и Кондратьев, услышав, сконфуженно нахмурил лоб.
Снизу по берегу Днепра поднималась Шура с полотенцем, по-мирному перекинутым через плечо. Влажные волосы у маленького розового уха золотисто светились на солнце. Чистоплотно белел свежий подворотничок на тонкой шее; на погонах гимнастерки, плотно сжатой в талии офицерским ремнем и обтянутой на бедрах, блестели капли.
Взглянула из-под мокрых ресниц на Кондратьева, серые глаза ясно прозрачны после ледяной воды, сказала:
– Батюшки, какая неловкость! Разве так пришивают подворотничок? И черными нитками насквозь. Снимайте-ка.
Она не засмеялась, не пошутила, с серьезной бесцеремонностью начала расстегивать пуговицы на груди Кондратьева; от глаз ее и от волос, мнилось, веяло непорочной свежестью. Он беспомощно оглянулся на солдат, дрожа в ознобе, легонько отстранил ее показавшиеся очень холодными пальцы.
– Не надо. Прекрасно пришит. – И, покашляв, забормотал: – Вы купались? В такой холод?
Шура, сдвинув брови, кинула вызывающий взгляд на Кравчука; он смотрел на нее пренебрежительно и ревниво.
– Подворотничок, конечно, чепуха, – сказала Шура. – И так сойдет. А вот полежать бы вам надо, товарищ старший лейтенант. А впрочем, может, и это сойдет.
– Нет, пожалуй, я пойду. Полежу, правда, – торопливо проговорил Кондратьев, зябко ссутулясь, и направился к землянке.
Он боялся и стеснялся Шуры, особенно при солдатах, стеснялся ее внимания к себе, своей грязной нижней рубахи и, чувствуя эту физическую собственную нечистоту, боялся ее женских упругих бедер, белой шеи, ее высокой маленькой груди, облитой гимнастеркой, ее внешней девственной чистоты и легкой вызывающей доступности.
– А мне подворотничок не подошьешь? – спросил Кравчук Шуру значительно-осторожно. – Я с охотой!..
– Давай уж! – сердито сказала Шура.
– Вот-вот, без охоты, вижу, – проговорил Кравчук. – Сам пришью. – И неожиданно спросил, криво усмехаясь: – К Кондратьеву липнешь? Быстро капитана забыла. Эх ты!
– Что ты понимаешь, свекровь несчастная? – живо сказала Шура и, покачивая бедрами, стала подыматься к землянкам вслед за Кондратьевым.
– Зачем ты пристал к ней? – заметил Елютин миролюбиво.
– Верно, – произнес Бобков с тяжеловесной защитой. – Ей тут среди нас тоже не мед. И не наше дело ей советовать.
– Капитана жалко, – ответил Кравчук, тоскливо глядя Шуре в спину.
Кондратьев между тем подошел к своей землянке, вырытой на берегу, – соблюдая субординацию, Кравчук приказал отрыть ее отдельно, – и тут же увидел в дверях соседней землянки телефониста Грачева.
– Товарищ старший лейтенант, к телефону!..
– Кто?
– Полковник Гуляев! Немедленно!
В землянке расчета, на ворохах листьев, укрывшись шинелями с головой, упоенно храпело несколько солдат: отсыпались после беспокойной ночи. Связист Грачев, присев на корточки у телефонного аппарата, вежливо подул в трубку.
– Товарищ четвертый, шестой здесь. Передаю.
Кондратьев взял нагретую трубку, покашлял от волнения.
– Кто это там кашляет? – строго произнес отдаленный голос полковника Гуляева. – Ты говори, а не кашляй. Как дела? Почему редко докладываешь?
– Все в порядке пока, товарищ четвертый.
– Не верю. Харчей нет? Жрать нечего? Докладывай!
Кондратьев только кашлянул тихо.
– Опять кашляешь? Говори, нет харчей? Что ты, ей-Богу, как барышня кисейная? Спишь никак?
– Нет, – сказал Кондратьев.
– Потерпите! Ночью буду сам. И не один. Старшину вашего… этого… как его… Цыгичко… вплавь погоню. К чертовой матери!
– Плавать он не умеет, товарищ четвертый, – слабо улыбнулся Кондратьев.
– Не переплывет – туда ему и дорога! Теперь вот что. Здесь все готово. Слышишь, шестой! Сам поймешь. Ночью папиросники и самоварники у тебя будут. С линией. Сейчас, главное, точки замечай. Заноси. Используй день. Понял, голубчик?
– Понял, товарищ четвертый.
– Ну, то-то. Действуй!
Все понял Кондратьев из этого разговора: и то, что ночью готовились переправа и прорыв; и то, что ночью прибудут артиллеристы и минометчики со связью от левобережных батарей и что занести надо в схему огня цели, которые можно заметить отсюда.
Кондратьев поднялся по вырубленным земляным ступеням на самую высоту берега, скользнул, пригнувшись, в траншею. В десяти шагах справа, в конце кустарника, стояли орудия, приведенные к бою. Солнечно было здесь, на высоте, и тихо. Часовой, разнежась в тепле, лежал на бровке и, свесив голову, прислушивался к чужому разговору в ровике. Ровик этот соединялся с ходами сообщения пехоты, был глубоко вырыт в виде тупого угла для удобного обзора. Командир взвода управления, младший лейтенант Сухоплюев, необычайно большого роста, в куцей телогрейке, горбился подле стереотрубы – отросшие каштановые волосы спадали на воротник, – прогудел юношеским баском:
– Кто там?
И как бы нехотя обернулся, длинное молодое лицо ничего не отразило; был он сдержан, чуть высокомерен, никогда не улыбался никому.
– Наблюдаете? – спросил Кондратьев, закашлявшись. – Тихо?
– Не особенно. – Сухоплюев вынул кисет, сосредоточенно по сгибу оторвал полоску бумаги от свернутой книжечкой немецкой листовки, что разбрасывали самолеты ночью.
Впереди, метров на двести, шло голое, без кустарника, поле, покатое к немцам, и там, где подымалось оно, темнела еловая посадка. На краю ее четко видны были навалы первых немецких траншей, и в одном месте, как вспышки, летели прямо из земли комья: копали что-то. Немец в зеленом френче, застегивая брюки, шел вдоль посадки, не пригибаясь, во весь рост: с нашей стороны по нему не стреляли. Дошагал до того места, где копали, поглядел в нашу сторону и спрыгнул в траншею. Левее посадки начиналась дорога – желтела, извиваясь до леса, скрывавшего Ново-Михайловку и Белохатку.
По дороге этой, вздымая пыль, на рыси неслись четыре немецкие орудийные упряжки. Они приблизились, четче стали видны тяжелые короткохвостые першероны, немцы, муравьями облепившие станины. Упряжки скрылись за елями, а мгла пыли долго висела над дорогой. Потом в кустах посадки появилось одно приземистое, с обтекаемым щитом орудие, уже без упряжки. Немцы на руках выкатывали его позади траншей; трое отошли к деревьям, начали рубить штыками ветки, закидывать ими орудие. Никто не стрелял по ним.
Кондратьев сел на дно окопа, попросил:
– Дайте, пожалуйста, схему огня.
На каллиграфически вычерченной Сухоплюевым схеме Кондратьев увидел аккуратно обозначенные линии немецких траншей, пулеметные точки, танки в еловой посадке, минометные батареи в овраге за дорогой, он вынул карандаш и отметил на схеме немецкое орудие. Рука Кондратьева дрожала, карандаш порвал бумагу.
– Вы мне схему испортили! – вдруг вытаращил на Кондратьева молодые независимые глаза Сухоплюев. – Сказали бы, сам сделал! Хоть все снова перечерчивай! – И, отобрав схему, принялся стирать резинкой.
Кондратьев забормотал смущенно:
– Пожалуйста, не сердитесь. Только что звонил полковник Гуляев…
И, не сдерживая стук зубов, сутулясь и засовывая руки в рукава шинели, он передал суть недавнего разговора со штабом полка.
– Что это вы? Холодно вам? Или нервы? – насторожился Сухоплюев.
– Шут его разберет, немножко есть. Вы до Ново-Михайловки и Белохатки по карте точно прицел вычислите. Ночью там начнется. Мы поддерживаем. Все решится ночью…
– Что-то с вами не в порядке, – подозрительно сказал Сухоплюев.
– В самом деле ерунда собачья, – ответил Кондратьев и встал. – Ну, я пойду... Ночью все решится...
Кондратьев лежал в землянке, не сняв шинели, на ворохах листьев, укрывшись с головой брезентом. Голова горела, его знобило, была жаркая сухость во рту, и особенно нестерпимо хотелось пить, но он не мог сделать над собой усилие, открыть глаза, встать. «Сейчас, я сейчас, – думал он, – вот сейчас я встану, найду флягу и напьюсь… Вот только полежу немного…». И непонятно было то, что за землянкой с последней ярой силой светило октябрьское солнце и солдаты грелись, скинув шинели, разувшись, сидели на солнцепеке.
Голоса какие-то. Смех. Тишина. И опять голоса. О чем там можно говорить? Молчать, молчать… Надо ждать ночи. Ночью все решится… Где капитан Ермаков? Где Шура? Кравчук где? Подготовить цели. Ночью? Какая чепуха! Как приятно бездумно лететь в густую и, как пух, невесомую темноту… Напиться бы, только воды напиться, и все будет хорошо… Холодной, ледяной воды, ломящей зубы…
Освещенный огнями вестибюль метро. Из подъезда валит желтый пар, морозный, клубящийся, пронизанный огнями. Люди спешат, бегут в мохнато заснеженных пальто с поднятыми воротниками, вокруг чудесно скрипит снег. И везде ощущение праздника, ожидание радости. И смех другой – счастливый, влюбленный. Новый год, наверное? Он ждет Зину в вестибюле Арбатского метро, милую худенькую Зину с бирюзовым колечком на среднем пальце и детской привычкой растягивать слова. Лицо у нее юное, серьги ласково сверкают в нежных мочках ушей, глаза, темно-серые, спокойные, улыбаются ему, а носок опушенного мехом ботинка на сильной ноге нервно старается продавить льдинку на тротуаре. И он тоже каблуком давит, этот ледок…
«Встать, встать… напиться бы… Несколько бы глотков… В жизни бывает так: можно любить, в сущности, чужую тебе женщину, много лет любить… Но за что я любил ее?»
– Милый, милый! Какая же я Зина? Да разве так согреешься!
Кто-то расстегивал на его груди шинель, провел мягко ищущими пальцами по лицу, и Кондратьев, в жару, чувствуя горячую влагу слез в горле, смутно и радостно отдаваясь этим рукам, подумал: «Кто же ее привел сюда? Зачем она здесь?»
– Выпей это. Жар пройдет. Ну вот, молодец. Бе-ед-ный мой!..
Чьи-то руки обвили его шею, и тотчас упругое тело прижалось к нему, и губы, прохладные, легкие, коснулись его подбородка, и голос, знакомый, близкий, растягивал слова:
– Бе-едный мой, Сере-ежа, скоро все пройдет… Ты обними меня.
Он вдруг очнулся от этого голоса.
Темно было и влажно, пахло осенними листьями, и лиловая узенькая стрела света пробивалась сквозь плащ-палатку, завесившую выход, остро рассекала потемки.
– Это ты? – ослабленным голосом спросил он. – Неужели это ты?
– Это я… Лежи, лежи, прижмись ко мне, Сережа, – прошелестел над ним быстрый, успокаивающий шепот. – Я с тобой буду. С тобой…
А он все не мог согреться, боясь обнять Шуру, робко целуя ее пальцы.
– Милая, чудесная, – шептал Кондратьев, стуча от озноба зубами. – Зачем это? Добрая… Чудесная… А как же Борис?..
Она крепче прижалась к нему грудью, гладя его щеки, его шею.
– Он не любит меня, Сережа. Разве он меня любит? Всю душу без слез по нему выплакала… а с тобой спокойно… Как с ребенком… Бедный ты мой. Ты кого-нибудь любил?
– Не знаю…
– Ну, совсем как ребенок…
Бред это был или явь? Она растягивала слова, как Зина, было тесно, жарко, он не видел лица Шуры, выражения ее глаз, а она с торопливой нежностью ласкала его, и от близости с этой женщиной хотелось ему плакать и говорить что-то разрывающее душу, чего невозможно было сказать.
– Ты чудесная, чудесная… Чистая… – шептал он, благодарно целуя ее ладонь. – Ты удивительная, прекрасная…
– Тебе сколько лет? – спросила она.
– Двадцать три.
– Неужели ты никого не любил?..
Он уснул. А она, посидев немного возле него, вышла из землянки. Ни одного солдата не было вокруг. Стояла вечерняя тишина. Весь Днепр был оранжевым, накаленный закат на половину неба горел, подымался над берегом, и вычерчивалась там черная паутина застывших в этом свете ветвей.
Вдруг, со свистом вынырнув из заката, низко над водой пронеслись два «мессершмитта», вонзаясь в лиловый воздух над лесами. Там застучали зенитные пулеметы и рассыпались в небе трассы. А Шуре было горько и нежно.
Глубокой ночью Кондратьева разбудили. В теплую землянку ворвался холод, стук пулеметов, отсвет ракет, плащ-палатка со входа была сдернута. Кондратьев лежал в обильном поту, все тело болезненно расслаблено.
Голос Бобкова кричал в землянку:
– Вас срочно к полковнику Гуляеву! На НП. Товарищ старший лейтенант!..
– Прибыл? – еще ничего не понимая, хрипло спросил Кондратьев и вылез из землянки.
Правый берег и Днепр внизу освещались ракетами, над головой проносились трассы.
– Только что! Заваруха была! Неужто не слышали? Так спали? – прокричал сквозь дробь пулеметов Бобков.
Кондратьев, смущенный, спросил негромко:
– Где Шура? Не знаете?
Бобков ответил:
– А офицера одного при переправе ранило. Так она с ним, – и показал куда-то вниз.
Вместе с Бобковым поднимаясь к орудиям, покачиваясь от слабости, Кондратьев с замиранием сердца думал о недавнем бредовом счастье (было ли оно?), и не хотелось верить ни в щелканье пуль о стволы сосен, ни в частые взлеты ракет на берегу, ни в близкий треск пулеметов.
Но в первой же траншее пришлось пригнуться так, что железный крючок шинели впился в горло, головы поднять было нельзя. Проходя мимо орудий, он увидел при свете ракет, что расчеты лежат на земле и снарядные ящики раскрыты. В ровике осторожно звенели ложки о котелки: по-видимому, старшина прибыл.
Глубокий окоп НП младшего лейтенанта Сухоплюева был тесно набит знакомыми и незнакомыми артиллерийскими офицерами. Все они, возбужденные недавней переправой и чувством опасности, почти в голос переговаривались между собой, жадно курили в рукав. Двое радистов монотонно отсчитывали – настраивали рации.
Полковник Гуляев, грузно расставив ноги, стоял посреди окопа, лица не было видно, надвинутый на лоб мокрый козырек фуражки зажигался розовыми шариками – отблесками ракет.
– Спал? – с угрозой спросил он Кондратьева. – Царство небесное проспишь! Санинструктор сказала: ты болен. Болен? Что?
– Был немного. Сейчас лучше.
– Смотри сюда! – Полковник вытолкнул откуда-то из глубины окопа оробелого Цыгичко, проговорил: – Этого вояку на твое усмотрение. Хочешь – казни, хочешь – милуй… Он тебя накормит, сукин сын!
– Вы что же, Цыгичко? – тихо спросил Кондратьев. – Как вам не совестно?
И старшина, весь съеживаясь, вобрав голову в плечи, нелепый в кургузой кондратьевской шинели, испуганно забормотал:
– Не мог, товарищ старший лейтенант… Я ж тоже под огнем был. С саперами был. Вчерась ночью. Вы же знаете, товарищ старший лейтенант…
– Не мог? А люди могли быть сутки голодными? А, братец ты мой? – выговорил Гуляев резко. – В пехоту! В роту Верзилина. Как раз у него мало людей. Верзилин! – крикнул он через плечо. – Зачислить старшину Цыгичко рядовым в роту! И дать ему винтовку, сукину сыну!
Цыгичко тяжело, словно его сзади ударили по ногам, качнулся к Кондратьеву, схватился двумя руками за полу его шинели.
– Не виноват я, не виноват… Щоб я детей своих не бачил…
– Э-э, голубчик, у всех дети! – грубовато сказал Гуляев.
– Что вы, что вы? Как не стыдно! – растерянно заговорил Кондратьев, неловко пытаясь отнять руки старшины, но пальцы Цыгичко вцепились в его полу и точно закаменели. – Товарищ полковник… Я прошу. На мою ответственность…
Полковник Гуляев, брезгливо поморщась, повысил голос:
– Марш в роту, Цыгичко! Кто вы, мужчина, советский солдат? Или старая баба? Капитан Верзилин, проведи-ка воина в роту!
Не обращая более внимания на Цыгичко, полковник Гуляев уже смотрел на ярко озаряемую ракетами полосу еловой посадки; артиллерийские офицеры, присев под плащом и светя фонариком, стали разглядывать схему огня. А Кондратьев не мог успокоиться, сворачивал самокрутку, пальцы не слушались, и хотелось сказать какую-то резкость, заявить о никому не нужном на войне самодурстве, однако вместе с тем он понимал, что не скажет этого. И все же Кондратьев сказал, преодолевая хрипотцу в голосе:
– Вы напрасно, товарищ полковник. Он ведь не хотел…
– Слушай, комбат! – жестко перебил Гуляев. – Дело идет о судьбе наступления, а ты мне голову морочишь сантиментами! Постреляет из винтовки, в атаку походит, сухарики погрызет, поймет, что такое война, на своей шкуре. Так вот что. Максимов уже завязал бой. Полчаса назад. Выбрось чепуху из головы и слушай!
Только сейчас сквозь бесконечное шитье близких пулеметов, сквозь хлопки и щелканье немецких ракет слева и впереди Кондратьев услышал, как из-за тридевяти земель, отдаленные, глухие, неровно пульсирующие раскаты. Началось?.. Там – началось?..
– Радист, связь! Связь с батальонами! – крикнул Гуляев. – Что у вас, рация или ночной горшок?
– «Ромашка», «Ромашка», «Ромашка»… Плохо слышу.. Плохо слышу.. – речитативом доносился голос радиста. – Плохо слышу… Плохо слышу…
Все замолчали в окопе. С визгом проносились пулеметные очереди над головой.
Радист, медленно разделяя слова, доложил:
– Товарищ полковник, Максимов у окраины Белохатки. Встретили сильное сопротивление. Потери двенадцать человек и одно орудие. Танки. Есть опасность окружения. Готовятся к атаке. Ждите сигнала.
– Ясно! Связь с Бульбанюком! Быстро!
Опять молчание. Теперь все офицеры тесно сгрудились вокруг Гуляева. Телефонисты, проверяя линию, еле внятно переговаривались с тыловыми батареями. И лишь радист в глубине окопа торопливо и отчетливо выговаривал позывные:
– «Волга», «Волга», «Волга»… «Волга», «Волга», «Волга»… Товарищ полковник, с «Волгой» связи нет!
– Еще вызывайте! Вызывайте!
– «Волга», «Волга», «Волга»… «Волга», «Волга», «Волга»… «Волга», «Волга», «Волга»… – звучало в ушах Кондратьева, и после паузы: – Товарищ полковник, с «Волгой» связи нет!
– Как нет? Что голову морочите! Когда я слышу слева бой! Была связь! Вызывайте! Вызывайте!
– «Волга», «Волга», «Волга»… «Волга», «Волга»… Товарищ полковник, «Волга» молчит.
– Та-ак! Держать связь с Максимовым! Телефонист, штаб дивизии. Быстро!
Офицеры расступились перед полковником. Он опустился на дно окопа, выхватил трубку из рук телефониста, произнес коротко:
– Иверзева!
Молчание.
– Товарищ первый, докладывает второй. Максимов у Белохатки. Есть опасность окружения. С Бульбанюком связи нет! Полагаю, для связи надо послать людей. Поздно? Почему поздно, товарищ первый? Да, да! Идут бои. Слышно. Что вы говорите? Отзываете? Кого? Всех? Меня? Не слышу, товарищ первый!
– Товарищ полковник! – закричал радист. – «Ромашка» пошла. Максимов пошел! Огня! Огня! Огня просит. По Белохатке огня!
– Ракеты! – сказал кто-то из офицеров.
В ту же минуту Кондратьев заметил далеко слева над лесами круглые неясные пятна – они выплывали в небо и мгновенно гасли там. Четыре ракеты. Короткое затухающее мерцание – и вновь четыре мутных пятна возникли в небе. Это был сигнал Бульбанюка… А может, немецкие это были ракеты?
– Огня! Максимов просит огня! – повторял радист. – Передаю! Огня! Огня! Просит огня!
Гуляев громко заговорил в трубку:
– Товарищ первый, Максимов пошел. Сигнал Бульбанюка. Просит огня. Что-о? Не слышу! Не слышу! Что-о? Не открывать огонь? Почему? Вы не поняли! Батальоны пошли, просят огня! Вижу сигнал! Я открываю огонь! – И, прикрыв ладонью трубку, подал команду: – Артиллеристы! Из артполка! Давай!
– Цель номер четыре! – запели голоса офицеров.
– Отставить! Что-о? – закричал Гуляев, порывисто наклоняясь к аппарату. – Не могу понять! Не открывать огонь? Не открывать огонь? Это ваш приказ? Что? Мне?.. В дивизию?..
И скомандовал вдруг охрипшим голосом:
– Огонь не открывать! Не открывать!
А за лесами одна за другой, как бы требуя и настаивая, рождались туманные вспышки ракет, и радист безостановочно повторял:
– Огня! Огня! Максимов просит огня!
Ничего не понимая, Кондратьев чувствовал, как у него холодеют кончики пальцев, стало трудно и тесно дышать. Почему, почему не открывать огонь?
Глава девятая
Где-то слева в тумане сверкнула искра, как будто там ударили по кресалу, и посреди парка с опадающим грохотом разорвался снаряд.
Из низины нащупывающими очередями забили пулеметы.
– Идите ко второму орудию, – приказал Ермаков Прошину. – Вдвоем нам делать здесь нечего. И запомните: без приказа не стрелять!
– Окружают, да? – подавленно спросил Прошин. – Неужели кольцо?
Он подчеркнуто старательно зашагал через кусты, странно пружиня ноги, не пригибаясь, точно смелостью этой хотел искупить недавнюю свою растерянность.
Ермаков раздраженно крикнул:
– Бегом!
Его раздражала наивная неопытность лейтенанта, его неуклюжая молодость, неумение понимать все с первого слова.
Немецкие пулеметы, не переставая, работали в низине, трассы вылетали оттуда, врезались в землю возле площадки орудия. Стрельба в низине усиливалась; в нее влились тонкие строчки автоматов; тяжелые мины начали рваться на улочках деревни – дважды со скрежетом сыграл шестиствольный миномет.
Вся низина и река были затянуты серым туманом, и за рекой, впереди, невидимо приближаясь, тихо рокотали моторы то ли автомашин, то ли бронетранспортеров. Тот же звук, и выстрелы, и угадываемое на слух движение ощупью возникали слева и справа и, кажется, за спиной, и Ермаков понял, что это действительно суживалось колечко, сквозь которое пролезать надо было головой. Как ни был осторожен Бульбанюк, каким ни считался он расчетливым, свершалось то, чего нельзя было предусмотреть.
– Это не танки, товарищ капитан, – сказал один из сержантов Березкиных (Николай или Андрей, так он и не научился их различать), – танки по-другому...
И в глазах его засветились горячечные огоньки.
Никто не ответил; все смотрели в туман, туда, где был мостик. Эти почти незнакомые Ермакову люди в запачканных глиной шинелях, с воспаленными лицами вдруг ощутимо ближе стали ему сейчас; двое солдат ненужно протирали чистые снаряды, большие руки, натруженные за ночь, тряслись.
Торопливо сдваивая, заработала скорострельная пушка. Прерывистые трассы блеснули из тумана там, где был мостик, широкий силуэт выдвинулся к реке, и следом второй силуэт появился в белой мгле рядом.
– Бронетранспортеры, – сказал Березкин. – Это они…
Смутные живые фигурки забегали по берегу, близко рассыпались автоматные очереди, несколько человек, разбрасывая на бегу вспышки, тенями замелькали через мостик. И тотчас навстречу им зачастил, захлебываясь, «максим» на околице.
«Ду-ду-ду.. а-а-а!» – послышалось оттуда смешанное и протяжное.
– По левому бронебойным! Наводить точнее! Огонь!.. – скомандовал Ермаков, ощущая жгучий азарт: «Смазать, смазать его с первого снаряда!» Он не смазал бронетранспортер ни после первого и ни после второго снаряда – бронебойные, прочерчивая линии высоко над силуэтами, терялись в тумане. Туман изменял расстояние. Ермаков трижды снижал прицел и, когда после шестого снаряда заметил, что вблизи мостика туман порозовел, крикнул со злым весельем:
– По… правому!..
Но расчет медлил, и, сдвинув фуражку со вспотевшего лба – звенело в ушах, – он оглянулся на орудие: сержант Березкин, только что стоявший в двух шагах от орудия, сидел на станине, позеленев лицом, одними белыми губами странно улыбался, зажимая согнутой окровавленной рукой плечо, как если бы ею испуганно прихлопнул и не отпускал что-то.
– Ну что? – крикнул Ермаков. – Задело? Дуй в штаб батальона! Там – перевязку!
Он уже не видел раненого Березкина, который, не снимая руки с плеча, побежал по парку: справа надвигающийся силуэт бронетранспортера выбрасывал пучки огня, и белые пунктиры, перекрещиваясь, проносились над щитом орудия.
– По правому!.. Два снаряда, огонь!..
У мостика розовое дважды смешалось с ярко-красным, и ему показалось, что туман впереди закипел багровым пламенем – не то мостик горел, не то бронетранспортер. Гулкое дудуканье крупнокалиберных пулеметов не заглушалось беспорядочной автоматной трескотней, и это «ду-ду-ду» накалялось теперь слева в низине, но замолкло около мостика.
Тут что-то весомо задело по козырьку Ермакова, и он, удивленный, увидел под ногами срезанную мокрую веточку.
– Товарищ капитан!.. Пригнитесь!..
Сзади с силой дернули его за рукав, он быстро повернулся и в упор встретился со встревоженным широкоскулым лицом Жорки.
– Ты что?
– Пригнитесь, товарищ капитан! Сейчас Бульбанюка возле штаба обстреляли. Снайперы где-то в деревне сидят. По парку бьют! – И Жорка возбужденно засмеялся. – К вам бежал – лупанули, бродяги, по мне. Со всех сторон бьют!..
– Как у Бульбанюка?
– Колечко, товарищ капитан! Сейчас огня из дивизии собирается просить, а Орлов говорит: рано!
– Верно, пожалуй, рано! Пусть увязнут! Иначе не стоило заваривать всю кашу, – ответил Ермаков, вытирая пот на лице.
– Смотрите-ка! Никак наша пехота драпанула? – проговорил полувопросительно Жорка и лег грудью на бруствер, длинно сплюнул: – Ей-Богу, огонь бы по ним открыл!
Было хорошо видно отсюда: на берегу реки одна за другой вскакивали, бежали к деревне размытые в тумане фигурки, разбрызгивая светящиеся пунктиры в разные стороны, а с того берега доносилось лихорадочно и глухо: «Ду-ду-ду-ду…»
– Какой… «наша»! – выругался Ермаков. – Вороной! Видишь? Четыре снаряда… беглый… огонь!
Разрывы взметнулись перед этими фигурками, туман смешался с дымом, ничего не стало видно, и тогда ближе разрывов, шагах в ста двадцати от орудия, выросли, как из земли, несколько человек, они бежали, нелепо опустив винтовки, нагнув головы, бежали прямо на огневую позицию к окраине парка.
– Говорил, наши драпают, – повторил Жорка и вскочил, дернул к себе автомат. – Куда ж они, славяне!..
В это же мгновение, опаленный внезапной злостью к этим убегающим куда-то людям, Ермаков прыжком перемахнул через бруствер, перекосив рот, бросился навстречу им со стиснутым пистолетом в потной руке, закричал бешено и неумолимо:
– Сто-ой! Наза-ад! Рас-стреляю первого! Наза-ад!
Жорка, бледный, с острым, отрешенным выражением лица, бежал в двух шагах за капитаном, щелкнув затвором немецкого автомата. Люди не останавливались. Ермаков видел дикие пустые глаза, жадно, широко открытый дыханием рот переднего солдата, вскинул руку.
– Сто-ой! – закричал он и выпустил две пули над головой переднего. – Куда драпаете, защитники Родины! Наза-ад! В траншею! Наза-ад!
Солдаты остановились; передний судорожно глотал слюну, затравленно озираясь, – его опустошенные глаза с поволокой дикого страха блуждали, – он сипло выдавил:
– Сбоку обошли… со спины обошли… Погибель нам всем… Завели… – и, сморщившись, зарыдал лающим, хриплым рыданием обезумевшего человека.
– Наза-ад! – злобно повторил Ермаков, и в следующий миг горячий воздух толкнул его в спину, забил звоном уши; это стреляло его орудие, и он крикнул, не слыша своего голоса: – Ну! Один ты, что ли, тут! В траншею! Жорка! Проводи-ка их! Бегом наза-ад!
– А ну! – Жорка с решимостью поднял над животом автомат, мотнул в направлении реки белокурой головой. – Потопали, бродяги! Давай!..
Солдаты столпились и вдруг, низко пригнувшись, горбя спины, неуверенно повернули в лощину, к реке, растаяли, исчезли в тумане.
Ермаков, разгоряченный, потный, на ходу вталкивая пистолет в кобуру, добежал до огневой. В этот момент орудие ударило беглым огнем, и, когда из дымящегося казенника вылетела последняя стреляная гильза, он поймал боковой, тревожно ищущий взгляд наводчика Вороного, устремленный на деревню. Снаряды вздернули землю на берегу реки, где хаотично двигались фигурки, и неясный крик «а-а-а!» донесся оттуда; этот крик колыхался и рос, сливаясь с тяжелым, нарастающим стуком скорострельных пушек и пулеметов на окраинах.
Ермаков успел заметить, что в низине, на восточной окраине, веселыми, жаркими кострами пылали две соломенные крыши и высоко над горящими крышами в утреннем небе стремительно и вертикально встала ракета.
И прежде чем он спросил у наводчика Вороного, сколько было ракет, Жорка перескочил через бруствер на огневую, закричал, обрадованный:
– Ракеты, товарищ капитан! Бульбанюк огонь вызывает! Сейчас наши сюда дадут! Сейчас фрицы как тараканы завертятся!
Трудно дыша, он опустился на снарядный ящик, взял горсть сырой земли, приложил к потному лбу и, сияя голубыми глазами, сообщил как о чем-то очень веселом:
– А по пехоте всамделе с трех сторон чешут! Эх, сейчас и баня начнется, а, товарищ капитан?
– Сто-ой! – скомандовал Ермаков. – Зарядить и ждать!
И, улавливая короткое затишье, он сквозь звон в ушах, сквозь выстрелы прислушался, пытаясь различить характерный шорох наших снарядов, далекий перестук начавшейся за лесом артподготовки, но ничего не услышал.
«Сигнал, что ли, не виден оттуда? Надо вызывать дивизию по рации. По рации! Пора! Самое время!» В ту же минуту четыре ракеты вновь торопливо взметнулись в небе в стороне пожара и частой стрельбы и бессильно угасли, оставляя дымные нити…
– Не видят они разве! – закричал Жорка с досадой. – Лопухи слепые!
Пулеметные очереди остро резанули по брустверу, по стволам деревьев, за спиной трескуче защелкали разрывные, и что-то покатилось, зазвенело у ног Ермакова, он посмотрел: пустая гильза была пробита в двух местах.
Вороной сказал:
– Снайпера из деревни бьют.
– А может, этот бродяга на церковке сидит? – Жорка проворно встал, сузил глаза. – Может, проверить? Ведь житья не даст, гад. А, товарищ капитан?
Ермаков вскользь бросил взгляд на Жорку, молча отшвырнул ногой гильзу, Жорка, понимающе кивнув, повесил автомат на грудь, подмигнул в пространство: «Проверить, а?» – и, перешагнул бруствер, боком раздвинул кусты.
Ермакову мучительно непонятно было, почему дивизия молчала, почему не открывала огня. Неужели не видят ракет? Есть ли связь с артполком? Что с батальоном Максимова? Было явно другое: немцы стягивали и стягивали кольцо вокруг Ново-Михайловки, стрельба усиливалась.
Туман рассеивался, сдавленное тучами солнце как бы нехотя скользнуло над желтыми полями за рекой, и все, что скрывала недавно белесая муть, теперь проступило отчетливо.
Вдоль опушки леса, за полями, неподвижным полукругом стояли, работая моторами, танки, и немцы в шинелях спокойно ходили там. Пересекая желтеющую меж овсяных копен дорогу, по которой ночью вышел из приднепровских лесов батальон, толчками ползли четыре тупоносых бронетранспортера. Две машины горели около моста. Треск очередей рвал воздух близ самой околицы. На крайних домиках поочередно занимались соломенные крыши, пылали дымно и жарко.
Весь расчет, пригнувшись, глядел то на танки, то на бронетранспортеры – одни, умоляя судьбу глазами, незащищенно оглядывались, иные рукавами вытирали струйки пота на мигом осунувшихся лицах.
Ермаков понимал, что танки ждут, прикрывая бронетранспортеры, понимал и то, что несколькими снарядами он может расстрелять эти ползущие машины, после чего откроет орудие, и исход был ясен ему.
Но когда он подумал так, передний бронетранспортер с ходу тупо врезался радиатором в черные вихри орудийных разрывов, выросших на дороге, – колеса сползли в кювет. Это стрелял расчет Прошина.
– Быстро к орудию Прошина, вот ты! – приказал Ермаков первому попавшемуся на глаза солдату. – Передай: заранее не открывать орудие танкам – не стрелять. Ждать команду!
Тот безмолвно попятился за орудие, а когда побежал по опушке парка, неуклюже покачнулся, наступив на распустившуюся обмотку, упал, и тогда, почти натолкнувшись на него, из-за кустов выкатился маленький круглый солдат, упал рядом – по ним запоздало хлестнула пулеметная очередь откуда-то из деревни.
Вскочили сразу. Маленький круглый солдат вкатился на огневую позицию, с лицом, мокрым от пота, в пилотке поперек головы. Сел на землю – отдышаться не мог, хрипел только.
– Скляр? – крикнул Ермаков – Что там в штабе?
– Товарищ… товарищ капитан… Товарищ капитан… – кашляя, задыхаясь, едва выговорил Скляр. – Бульбанюк ранен… Ранен тяжело. Орлов срочно… немедленно приказал орудия туда… Немцы ворвались… Танки там…
– Почему огня нет? Что в дивизии? С ума спятили?
– Батальонная рация разбита… А ротные не принимают… минами немцы засыпали. Наши ракеты… ракеты все время дают. Наверно, двадцать ракет…
Пулеметная очередь из деревни ударила по брустверу, они разом присели на снарядный ящик.
– Товарищ капитан… товарищ капитан, – повторял одно и то же Скляр.
– Немедленно орудие туда… Танки…
– Кой черт туда орудия! – выругался Ермаков. – Когда здесь тоже танки. Я вижу, никто толком не понимает, что происходит. Вот что: дуй к расчету Прошина. Передай мой приказ – орудие к Орлову. Поведешь орудие.
И чуть усмехнулся, поправил пилотку на круглой стриженой голове своего ординарца, легонько толкнул в плечо:
– Давай!
– Здесь такое, товарищ капитан, – сказал Скляр, и в добрых глазах его задрожала тоска. – Если вас или меня… – и наклонился внезапно к Ермакову, прижался щекой к шершавому рукаву его шинели. – Любил я ведь вас, товарищ капитан…
– Это что? Как не совестно! Беги! – Ермаков со злобой отдернул руку. – Беги… к орудию!
И он долго смотрел вслед Скляру, на опушку парка, болезненно прищуриваясь, когда пулеметные очереди синими огоньками рвали веточки на кустах.
За деревьями не видно было орудия Прошина.
Глава десятая
Лейтенант Прошин получил одновременно два приказа: первый – не открывать огня без сигнала, второй – немедленно выезжать на западную окраину деревни.
И он вызвал передки на батарею.
По-мальчишески возбужденный боем, стрельбой, кучей горячих гильз, запахом раскаленной орудийной краски, взволнованно-обрадованный видом горящих бронетранспортеров, он совсем не ощутил большой тревоги, когда увидел на опушке леса танки.
Он был цел и невредим, его расчет был цел и невредим, и он испытывал то чувство опьянения боем, ту приподнятую, отчаянную самоуверенность, какая бывает только в двадцать лет у людей жизнерадостных, – опасность скользит мимо, а ты очень молод, здоров, тебя где-то любят и ждут, и впереди целая непрожитая жизнь с солнечными утрами и запахом летних акаций, с синеватым декабрьским снегом в сумерках возле подъезда и теплым, парным апрельским дождиком, в котором отсырело позванивают трамваи за намокшим бульваром, – целая непрожитая жизнь, которая всегда представлялась праздничной, счастливой.
Прошин не раздумал, что на войне его не убьют, но если уж суждено умереть, то он не погибнет случайно, сраженный шальной пулей. Нет, он доползет под огнем до разбитого орудия, обнимет ствол, поцелует его еще живыми губами, прижмется к нему щекой и умрет, как должен умереть офицер-артиллерист. Его понесут от орудия к могиле на плащ-палатке, и он почувствует, что солдаты скорбно смотрят на его молодое и после смерти прекрасное своей мужественностью лицо, и будут плакать, и жалеть, и восхищаться героической его смертью.
Потом прозвучит залп на могиле, и клятвы мстить, и последние слезы по любимому всеми лейтенанту, которого никто никогда не забудет, а капитан Ермаков, этот грубый солдафон, горько пожалеет, что был несправедлив и не полюбил его.
Но странное несоответствие было в этой смерти, погибнув, он обязательно должен был чувствовать все, что произойдет после его смерти. И то, что его просто не будет, что он ничего не сможет чувствовать и ощущать, не воспринималось им глубоко, он даже не думал об этом всерьез, как не думают об этом в двадцать лет.
– Товарищ лейтенант, передки прибыли! – доложил сержант Березкин.
– Отлично!
Прошин улыбнулся, затем нахмурился, будто недовольный нежданным приказанием капитана Ермакова, но не выдержал и, снова посмотрев на немецкие танки за рекой, на бронетранспортеры, курсирующие по полю, сказал оживленно:
– Жаль! Честное слово, жаль бросать эту позицию. Расщелкали бы мы эти танки, ужасно хорошая позиция. Правда, Березкин?
Сержант Березкин, кивнув как-то уж очень согласно, опустил голову, а Скляр, грязный, потный, с отчаянием вытаращил на лейтенанта глаза:
– Товарищ лейтенант… и там танки! Что вы говорите? Надо быстрей… быстрей! Там ждут! Быстрей… – И, поворачивая круглое мокрое лицо то к одному, то к другому из расчета, хрипло выкрикивал: – Быстрей же, быстрей!..
– Быстро, быстро! – звонким своим голосом скомандовал Прошин и, помогая выкатывать из огневого дворика орудие, уперся новеньким погоном в обросшее влажной глиной колесо.
И ездовые уже кричали из-за деревьев:
– Чего вы там? Нам под пулями сидеть!
Но едва выехали из парка, вернее, когда еще плутали, выворачиваясь между стволов толстых лип, и ездовые, согнувшись, начали хлестать лошадей, направляя их на дорогу, – свист пулеметных очередей пронесся по сухим листьям на земле, и левая лошадь выноса вместе с ездовым тяжело упала на передние ноги. Ездовой вылетел из седла, выносная рыхло повалилась, путая постромки, забилась головой и ногами о дорогу. Упряжка разом спуталась, потащила по-дурному в кусты, ездовые, оглядываясь испуганными, непонимающими глазами, бестолково задергали повода лошадей. Орудие застряло, задев колесом за ствол липы; пули снова резанули над головой с коротким взвизгом. Ездовых смахнуло из седел, они разом присели подле ног коренников.
– Орудие назад! Отцепляй! – скомандовал лейтенант Прошин, возбужденно покраснев всем лицом. – Ездовые, по местам!
– Да что у вас за ездовые? – плачущим голосом кричал Скляр. – Извозчики с-под Гомеля! Толстые зады! Убило лошадь, так выпрягай! Стреляют, так что же!..
Кусая губы, он пытался вытащить постромки бившейся, хрипевшей лошади, а ездовые неотрывно глядели в пространство, откуда могла прилететь пулеметная очередь, грузно, по-бабьи, приседали возле передка.
– Дураки! Ослы! Извозчики! – едва не плача, кричал Скляр и в бессилии тянул постромки из-под хрипевшей выносной. – Чего стоите, дураки, ослы? Ехать надо! Ехать!..
– А ты чего сволочишь? Сами-то умеем, – угрюмо отозвался коренной ездовой, боком придвигаясь к лошади. – Куда поедешь? Коня ухлопало… – Подошел и, нагнувшись так, что красные уши уперлись в воротник шинели, резанул перочинным ножиком постромки.
– Никак, летят? – осипло сказал выносной ездовой, под которым убило лошадь.
Давящий, тяжелый, прерывистый гул возник в небе, глухо расстелился над землей, и, когда Скляр, ездовые, лейтенант Прошин, весь расчет, со всей силой выталкивающий орудие меж деревьев, взглянули вверх, сомнений не было: слева, из-за лесов, заслоняя низкое солнце, шли, сверкая плоскостями, выравнивались над деревней «юнкерсы». Гул моторов нарастал с неба и, казалось, туго заполнил канавы, окопы, рытвины на дороге, где застряла упряжка.
– Идут!.. – сказал кто-то. – Развернулись! Всё!..
– По местам!
Лейтенант вскочил на передок и стоя высоким, зазвеневшим голосом подал команду: «Рысью марш!», и Скляр, готовый кинуться на ездовых с кулаками, увидел, как вползли ездовые на лошадей, как расчет плотно облепил станины, и он еле сумел зацепиться ногой за подножку передка ринувшегося вперед орудия.
Орудие неслось по дороге, подскакивая на ухабах, билось, гремело о передок привязанное ведро, и в бешеной этой скачке на трех лошадях в упряжке, в понукающих криках ездовых, в их подпрыгивающих, словно бы ощущающих небо придавленных спинах было нечто постыдное и унизительное для лейтенанта Прошина. А этот смешной, этот круглый связной кричал, захлебываясь ветром: «Быстрей вы… к околице, а потом направо… в переулок, где хаты горят!..» Прошин слышал и не слышал его, отчетливо вспоминая ту первую пулеметную очередь, которая убила выносную лошадь. Она могла убить и его – и эта мысль тоже была унизительной.
– Рысью! Рысью!..
И непонятно было: самолеты шли слева – орудие уходило от них, и вдруг, растянутые в линию, засверкав, появились они впереди, над дорогой, и первый «юнкерс», подставляя плоскости солнцу, споткнулся в воздухе и начал падать на деревню, все увеличиваясь, все вырастая в своих размерах. И с тем же унизительным чувством (оно билось в сознании) сердце Прошина, тоскливо замерев, стало падать, и вместе с сердцем падал он сам куда-то…
– Влево! Во двор! – крикнул Прошин, и показалось: не он кричал, а кто-то другой.
А когда упряжка, круто свернув, ломая плетень, влетела в первый двор, лейтенант Прошин помнил, что он отдавал команды, но сам уже не слышал их. Его оглушило покрывающим все грохотом, его несколько раз подкинуло на земле, и горло, грудь удушающе забило гарью, толом, и тут же вытошнило скользкой горькой желчью. Сплевывая, кашляя, испытывая прежнее отвратительное чувство своего бессилия, со слезами, застилающими глаза, Прошин едва поднял налитую звоном голову, и как будто в лицо ему ударило низким, давящим ревом, захлебывающимся клекотом пулеметных очередей. Увидел, как стремительно и наклонно несся прямо на двор серебряный паук, шевеля огненными пульсирующими лапами, вытянутыми к нему справа и слева от стеклянной головы. Горячим ветром дохнуло по волосам, и, ожидая, что черное яйцо оторвется сейчас из-под белого брюха падающего паука, он успел заметить, как кто-то вскочил с земли и бросился за хату.
– Ложись! Ложись! Не бегать!
«Это кричу не я, – мелькнуло у Прошина. – Но почему я лежу? Что я делаю? Нельзя показывать, что я боюсь. Я ничего не боюсь. Надо встать, посмотреть, где люди… орудие… Они заметили нас с воздуха….»
Его снова подбросило на земле, ногами сильно ударило обо что-то твердое. Он теперь лежал лицом вниз. И снова возникший над головой, приближающийся рев заполнил поры его тела, уши, глаза. Ему тяжко было дышать. Он кашлял. Его позывало на тошноту и не выташнивало. Он пополз, не зная, зачем и куда. Было такое ощущение: ничего уже нет – ни тела, ни дыхания, вместо всего этого звук, падающий тьмой сверху. «Боже мой, орудие не замаскировано…». И сейчас все прекратится, рев, достигнув своей предельной точки, оборвется, пропеллер врежется ему в голову и вопьется в землю вместе с ним. «Что это? Неужели смерть? Так быстро? Не может быть! Нет, нет! Я не хочу! Нет, нет! Неужели я убит? Да, я убит… Нет, нет!.. Это стучат пули вокруг меня?.. Я еще думаю, – значит, не убит… Ох, как я не хочу умирать… Должна быть какая-то справедливость в мире… Я так не хочу..».
– По места-а-ам!
«Кто это кричит? Чей это знакомый голос? Ах да, это капитан Ермаков! Нет, просто показалось. Нет, опять команда:
«По места-ам!» Он вскочил. Ему надо бежать к орудию. Он откинул голову и неправдоподобно близко увидел над собой выходящий из пике ослепительно-серебряный хвост самолета. Его ноги не слушались – он упал и, падая, почувствовал, как странно легко и свободно стало ему.
А было ли это? А может быть, ничего и не было? Артполк, Днепр, ночь, бой, стрельба по бронетранспортерам, убитая выносная лошадь, потом самолеты, – не кажется ли это ему? Может быть, он вовсе и не на фронте, а спит на своей койке в училище? И через минуту горнист заиграет подъем? А утром так не хочется вставать…
Но в казарме разборчивее слышится та особая пред-подъемная беготня дневальных, быстрые, в полный голос приказания дежурного по батарее, и, наконец, вот она – знакомая, подымающая на ноги команда: «Подъ-е-ом!» А за обмерзшими окнами – фиолетовый холод, студеный пар вваливается в двери казармы, и фигурки дневальных видны на пороге, как в дыму. Вчера он смертельно устал. Он вчера целый день откидывал снег от орудий после январской метели. А снег был крупчатый, пронзительно-солнечный, вонзался в глаза синими режущими иглами.
«Послушай, пожалуйста, – с закрытыми глазами говорит он дежурному. – Ты учти, будь добр. Я вчера работал, я на зарядку не пойду по приказанию командира батареи».
А кто командир батареи? Ах да, он вспомнил: капитан Гречик…
«По приказанию капитана… – говорит он дежурному умоляющим голосом. – Будь добр!» «Подъем! – командует дежурный, как глухой. – Подымайсь! Орудие маскировать! Быстро! Струсил?» «По приказанию капитана Гречика!..» «Ничего не знаю! Подъем! А кто такой Гречик?» Действительно, кто такой Гречик? Да и зачем это знать? Какое ему дело! Зачем ему знать? Он знает, что говорил дежурный… И хотелось ему тогда плакать от обиды, от стыда, от бессилия.
«Что это? Я думаю, – значит, я не убит. Но ничего вокруг нет… Нет, я не убит. Только бы вдохнуть воздух, глаза открыть…».
Он разомкнул глаза, и в эту секунду черная грохочущая стена накрыла его, и он не смог понять, что случилось с ним.
…Когда через двадцать минут после бомбежки Ермаков вместе со Скляром и сержантом Березкиным вбежал во двор, развороченный бомбами, усыпанный самолетными гильзами, на том месте, где лежал лейтенант Прошин, ничего не было.
То, что оставалось от него на этой земле, был почему-то уцелевший в своей первозданной чистоте новенький лейтенантский погон и найденная на огороде полевая сумка, которую принес и опознал сержант Березкин.
Глава одиннадцатая
Почти не пригибаясь, вытянувшись цепочкой и обходя воронки, шли по деревне двенадцать человек. Многие из них двигались в плотной немоте, не слыша ничего, кроме стрекочущего звона в ушах. Их осталось двенадцать артиллеристов, без орудий, без лошадей, лишь две панорамы – одну разбитую, другую целую – нес в вещмешке совершенно оглохший наводчик Вороной.
Деревня горела, черный дым полз над плетнями, искры и горячий пепел сыпались на шинели, жгуче-острым огнем пылающей печи дышало в лицо. Но никто из них особенно не чувствовал этого, не защищал волос, не прикрывал глаза от жара, – после неестественного напряжения боя какой-то темный козырек висел над бровями, мешал видеть и небо и землю. И хотя пылали вокруг окраины и оранжевые метели огня, дыма и искр бушевали за плетнями, никто не глядел по сторонам. Смешанный треск очередей, визг пуль в переулках, звенящая россыпь мин впереди – все это после получасовой бомбежки представлялось игрушечным, неопасным.
Ермаков шел, нервно засунув в карманы руки, не оглядывался, не подтягивал отстающих людей, – команды им были не нужны. Свой голос и голоса людей раздражали его. Было ясно: батальон сжат, как в игольном ушке, и главное, что могло произойти два часа назад, ночью, на рассвете, не произошло, хотя в сознании еще билась загнанная надежда: «А может быть… а может быть…».
На окраине деревни, густо затянутой дымом, озлобленно закричали левее дороги:
– Куда? Куда к немцу прешь? Не видишь?
И в дыму этом запорхали вспышки, залился в лихорадочной дрожи станковый пулемет, – двое солдат лежали в придорожной канаве за «максимом».
– Мне командира батальона, – сказал Ермаков, удивляясь странному спокойствию своего голоса.
– На высотке! Влево по траншее!
Вся эта высотка, сплошь опоясанная недавно аккуратными немецкими траншеями, сейчас была разворочена воронками, разрыта зияющими ямами, ходы завалены землей вперемешку с торчащими ребрами досок; валялись на брустверах окровавленные клочки шинелей, стреляные гильзы, немецкие коробки с противогазами, расщепленные ложи винтовок, – в места эти были прямые попадания. И было все-таки непонятно, почему на высотке казалось пусто и почему встретили здесь всего три пулемета и человек десять автоматчиков около самого входа в блиндаж. Когда Ермаков вошел, старший лейтенант Орлов, в расстегнутом кителе, с землисто-серым лицом, – оно сухо подрезалось, и куда девалась припухлость на щеке, – кричал на остроносого, изможденного пехотного лейтенанта, державшего автомат в опущенной руке:
– Я тебе людей не рожу! Понял? Пришел, хреновину порешь с умным видом, а я будто не знаю! Каждого офицера, кто пискнет об отходе, расстреляю к ядреной фене! Куда отход? Куда? Дай тебе волю, до Сибири бы драпал! Не терпит кишка – уйди в дальний окоп, чтоб солдаты не видели, и застрелись. Но молча. Молча! Вот тебе совет! Двигай во взвод!
Невесомо, робко ступая, лейтенант вышел, а Орлов, сумрачный, злой, шагнул к двери, и в красноватых от бессонницы глазах его бешено плеснулась радость.
– Ермаков? Дьявол! Где орудия? Привел?
– Где связь с дивизией? – ответил Ермаков, устало оглядывая просторный немецкий блиндаж, в дальних углах которого жались к аппаратам двое телефонистов, а худенький ротный радист и офицер-корректировщик, взволнованно красный, подчищали наждаком, соединяли проводники разобранной рации.
– Орудия где? – повторил грозно Орлов, глядя неверящими глазами, и, вдруг поняв, спросил дважды: – Накрылись? Накрылись?
Ермаков бросил фуражку на потертое одеяло железной кровати, усмехнулся:
– В донесении можешь передать: орудия разбиты. Одно при бомбежке, другое – танками. Запишешь на счет батальона – шесть бронетранспортеров, два танка. У меня от двадцати пяти человек осталось двенадцать. Со мной. Прошин убит. Это все. Прибыл в твое распоряжение. Могу командовать ротой, взводом, отделением. Посоветуешь стреляться – не застрелюсь. Кстати, злостью своей последнюю надежду из людей вытряхиваешь!
Он сказал это чрезмерно жестко, и под его взглядом Орлов медленно отвел глаза, но сейчас же потолок затрясся от частых разрывов, посыпалась земля, и он крикнул властно в дверь блиндажа:
– Что, атака?
– Танки бьют, – ответил кто-то из траншеи. И голос этот заглушило разрывом.
– Кажется, сейчас будет завершение. – Орлов застегнул китель, резко затянув ремень, вынул пистолет, щелкнул предохранителем и, засовывая его в карман галифе, спросил с горячностью: – Надежду вышибаю, говоришь? Я вышибаю? Правильно, Ермаков. Я вытряхнул из батальона надежду сорока ракетами. Я их выпустил в белый свет как в копейку. Где огонь? Где поддержка огнем? В ротах осталось по пятьдесят – сорок человек. Мы стянули на себя кучу немцев, мотопехоту, танки, авиацию. Надо быть остолопом, чтобы не понимать: время, время для наступления дивизии… Мы торчим в колечке шестнадцать часов. Где дивизия? С пшенкой ее съели?
– Не знаю, – ответил Ермаков и, опираясь о спинку кровати, искоса поглядел на молчавших связистов. – Выход один: ждать. И связь, связь… Мы не знаем, что там с дивизией. Поэтому – ждать. Мы делаем то, что и надо делать, – оттягиваем на себя силы. Иначе зачем мы здесь?
Орлов рассмеялся:
– Я шестнадцать часов говорю об этом солдатам. Говорю и… уже не верю себе. Еще час – и от батальона не останется ни человека! Полсуток в дивизии думают: начинать наступление или не начинать? Утром я поймал по рации полк. На три секунды поймал! Ни дьявола не принимала эта фукалка – леса мешают, и вдруг поймал. Два слова поймал: «Держаться, держаться!» Но сколько прошло времени? Там знают, сколько может продержаться один-единственный батальон?
– Что предлагаешь? – спросил Борис. – Что именно?
– Сохранить оставшихся людей. – Орлов подошел к двери блиндажа, плотнее прихлопнул ее. – Ясно?
– Конкретно. Как?
– Немедленно снять людей. Сконцентрировать на восточной окраине. И прорываться сквозь окружение к Днепру.
И хотя Ермаков снова почувствовал за этими словами правоту Орлова, все же непотухающая искорка надежды заставила его сказать:
– Положили здесь людей только для того, чтобы уйти назад? Так просто, Орлов? Бессмысленно! Надо ждать. И держаться.
Возле блиндажа раздался шум голосов, топот ног, и чей-то басок крикнул возбужденно: «Не тронь его, ребята! Стой, стой, говорю!» Дверь блиндажа рывком распахнулась, и несколько рук изо всей силы впихнули высокого, в кровь избитого человека в тугом шерстяном шлеме, в немецкой порванной шинели, без погон. Следом ввалился Жорка Витьковский, белокурые волосы растрепаны, нос страшно, неузнаваемо распух, на верхней губе засохшая струйка крови; вместе с ним вошел знакомый полковой разведчик, широкий, мрачно замкнутый, весь взмокший, расстегнутая кобура парабеллума отвисала на левом боку. Жорка ступил вперед, шмыгнул носом, проведя под ним пальцами, и, подтолкнув человека в спину, доложил:
– Вот этот с пулеметом на церковке сидел. Наш оказался.
– Как наш? – не понял Ермаков. – Чей наш?
– Ну… русский, что ли, шкура… Или как он там… Проститутка, в общем, – подбирая слова, объяснил Жорка, улыбаясь хмуро, и все трогал пальцами под носом. – Цельный час выкуривали его. Гранаты в нас кидал эти немецкие, а матерился, бродяга, по-русски, когда брали его… в шесть этажей…
– Власовец? – быстро спросил Ермаков, подходя к человеку в шлеме, впиваясь потемневшим взглядом в его лицо.
Человек стоял расставив ноги в немецких сапогах, засунув руки в карманы, кругляшок черных волос прилип к сгустку крови на лбу, продолговатая ссадина на щеке тянулась к виску, один обезображенный окровавленный глаз заплыл; в глубине другого, антрацитно-черного, остановилось, замерло выражение ожидаемого удара.
– Ну? Власовец? – переспросил Ермаков. – Что молчишь?
Пленный пожал плечами, невнятно выдавил:
– Ich verstehe nicht…[2]
– Врет, – насмешливо проговорил Жорка. – Дрейфит, проститутка, что власовца в плен не возьмут. Он еще по дороге начал: «Нихт, нихт!» А до этого в бога костерил! На чисто русском… Он наших в деревне не одного человека ухлопал. Церковка – все как на ладони. Т-ты! – крикнул он пленному и даже подмигнул, как знакомому. – Закати-ка в три этажа. Для ясности дела. Да не стесняйся, ты!
Пленный молчал, открытый глаз его застыл в немигающей неподвижности, зрачок слился с влажной чернотой, и вдруг глаз мелко задергался от тика.
– Стрелял, значит? – Ермаков взял человека за подбородок, откинул его голову, взглядом нащупывая ускользающую черноту зрачка. – Может, фамилию свою назовешь?
Почему русский этот, оставленный здесь, в деревне, стрелял в русских с упорством, на какое способен был только немец, уже не интересовало Ермакова. На такой вопрос никто из власовцев откровенных ответов не давал – и Борис проговорил медленно и раздельно:
– Ясно. Думаю, допрос не нужен. Как ты, Орлов?
Телефонисты, напряженно выпрямившись, застыли в углу; Орлов, сжав губы, смотрел в пол, и по его бледному лицу, на котором четко прорисовывались изломанные у висков брови, Ермаков прочел приговор.
– Допрос? – зло произнес Орлов, не подымая головы. – Ни одного вопроса! Родину, стервец, продал! А ну, выводи его. Фамилия? Не нужна фамилия. Он сам забыл ее!..
– Товарищи… Товарищи… – удушливо-хрипло и жутко выдавил горлом пленный и переломленно рухнул на пол, диким глазом умоляя, прося и защищаясь. – Товарищи… – Он стал на колени, вздымая и опуская руки. – Пощадите меня… Еще не жил я… Не своей волей… Пощадите меня… У меня жена с ребенком… в Арзамасе… Товарищи, не убивайте!
Мутные слезы потекли по его лицу, и, не вытирая слез, он дрожащими пальцами слепо разорвал подкладку шинели, лихорадочно вытащил оттуда что-то завернутое в целлофан, торопясь, сдернул красную резинку.
Орлов гибко подскочил к нему, рванул за грудь так, что затрещала шинель, сильным толчком поднял его с земли. Бумаги посыпались под ноги власовца.
– «Товарищи… Не своей волей… Жена в Арзамасе»? Ах ты!.. А на церковке сидел до последнего? Умри хоть, сволочь, как следует!
– Товарищи… Товарищи… – Власовец со стоном вновь ослабленно повалился на пол и судорожно совал руки во все стороны, неизвестно для чего пытаясь еще подобрать рассыпанные бумаги. – Я не хотел… не хотел…
– Выводите! – испытывая омерзительное чувство, приказал Ермаков и отвернулся, чтобы не видеть этих унизительных, бегущих по щекам мутных слез, этого полного звериным страхом черного глаза без зрачка.
Власовца вывели. В траншее послышалась возня, и, накаленный животным безумием, взвизгнул умоляющий голос:
– Товарищи… Товарищи!..
Воздух полоснула автоматная очередь.
В блиндаже было тихо. Ермаков прошелся из угла в угол, увидел на полу бумаги уже не существующего человека и брезгливо собрал их, просмотрел потертый на углах аттестат, выданный на имя командира взвода разведки лейтенанта Сорокина Андрея Матвеевича, тысяча девятьсот двадцатого года рождения; потом, хмурясь, долго глядел на фотокарточку беловолосой девушки, доверчиво и смущенно улыбающейся в объектив; на обороте косым неокрепшим почерком: «Дорогому и любимому Андрюше от навечно твоей Кати. 11 апреля 1940 года, гор. Арзамас».
Он протянул бумаги Орлову, стараясь подавить чувство жалости к этой неизвестной ему Кате, которая никогда не узнает всю беспощадную правду о том, кто умер сейчас.
Орлов, сумрачный, мельком покосился на аттестат, на фотокарточку и, не проявляя никакого любопытства к документам, сказал озабоченно:
– Давай подумаем, Ермаков! Твоих людей посылаем в первую роту. Там самые большие потери. А! – с горькой болью произнес он и засунул документы власовца в полевую сумку. – Торчит перед глазами! Придется в штаб полка отдать. Ну, пошли, Ермаков!
Он задумался неожиданно, и на его лице появилось незнакомое просительное выражение:
– Боря… Из офицеров пока мы с тобой вдвоем… Я сам людей твоих распределю… А ты останься. За меня. По высоте снайперы со всех сторон лупят. И вообще мне, как говорят, необходимо, а тебе… Двоих укокошат – чепуха получится.
Из тепло зазеленевших глаз его проглянуло, заблестело нечто похожее на заботливую нежность, и необычное это выражение огрубевшего в матерщине, в вечной окопной грязи старшего лейтенанта чрезвычайно удивило Ермакова.
– Понятно, Орлов, – сказал он.
И, надвинув фуражку, первым вышел из блиндажа.
Все звуки, приглушенные накатом и тяжелой дверью, теперь выделились в угрюмом осеннем дне с отчетливой полновесностью. В двух шагах от блиндажа скрежетал, захлебывался ручной пулемет, стреляли во всей траншее; изредка, перезаряжая диски, люди оглядывались назад, глядели куда-то вбок, а позади высоты жарко пылала окраина, огонь сплелся над улицами и плетнями, дым упирался в низкие, грузные облака, полные октябрьской влаги. Немецкие танки били по высотке, вдоль брустверов всплескивали фонтаны земли, вибрирующий звон осколков бритвенно прорезывал воздух.
Орлов вскользь глянул поверх брустверов, крикнул в блиндаж:
– Телефоны сюда!
На дне траншеи, устало положив на колени карабины, сидели артиллеристы: курили, глядели тупо в землю, как люди, потерявшие что-то, виноватые и не понимающие, зачем они здесь. Только Жорка Витьковский, с распухшим носом, улыбающийся, как всегда, непробиваемо беспечный, показывал Скляру новый финский нож, его точеную костяную рукоятку, рассказывал увлеченно:
– Он меня – дербалызь, у меня сто чертей из глаз вылетело. Я – брык, а он крепкий, бродяга, навалился, хрипит и душит, злой, как гад ползучий. Ну, думаю, все, конец мне. В башке пух какой-то… Да… А сзади разведчик ка-ак ляпнет ему по шее…
Скляр слушал и мелко-мелко кивал, округляя добрые глаза, восхищаясь и любуясь чужой смелостью, поражаясь ее бездумной решительности. Скляр ненавидел немцев, но за всю войну по роду своей службы он еще не убил ни одного и был убежден, что это не так легко сделать. Жорка пять минут назад, не задумываясь, убил человека, вытолкнув его на бруствер, полоснув очередью из автомата. И хотя Скляр понимал, что Жорка не мог сделать иначе, и хотя знал, что самого его, Скляра, могла убить пуля этого власовца, все-таки жутью веяло от того, что произошло на глазах: стоило нажать спуск – и человека нет, будто он и на свет не рождался.
Рядом со Скляром, бережно прислонив к ногам вещмешок, в котором были прицелы, сидел наводчик Вороной, оглохший, весь ушедший в себя, и машинально грыз сухарь, трудно глотая. Он не слышал ни выстрелов, ни рассказа Жорки, он был контужен и в своей глухоте плотно окружен тягучим звоном в ушах; изредка на остановившиеся глаза его набегала теплая, сверкающая влага. Он промокал глаза рукавом шинели и смотрел на расплывающийся сухарь в испачканных оружейной смазкой пальцах.
– Что у вас с глазами? – воскликнул Скляр с жалостью.
Наводчик не расслышал его слов, не угадал их смысла и, не ответив на вопрос, прошептал дрожащими губами:
– Лейтенант-то… лейтенант… мальчик ведь… Школьник… Свой паек, табак солдатам отдавал. До-об-рый был…
Скляр вспомнил юное, застенчивое, краснеющее лицо Прошина, и щегольские хромовые сапожки, и длинную шинель, и веселый, звенящий голос команд, вспомнил, что его уже нет, что остались лишь знаки его жизни на земле – погон да полевая сумка, и, ища виновников этой смерти, внезапно гневно оглянулся на двух толстозадых ездовых, что давеча трусливо приседали около коренников, а сейчас шептались, прижимаясь к стене окопа. И с неудержимым бешенством он протянул к их крепким, крестьянским лицам маленький кулачок и закричал в неистовстве:
– Дураки! Трусы! Погубили лейтенанта! Вам морды… морды набить!.. Если бы не вы, дураки окаянные, мы бы успели. Извозчики!
– Ты зачем? Ты для чего? – испуганно забормотали ездовые, отстраняясь и потупя глаза. – Мы разве виноваты…
– Скляр! – строго окликнул Ермаков, подходя к солдатам. – Что такое? Прекратить! Почему до сих пор Вороной здесь? Отвести в землянку для раненых. Остальные за мной!
Беглым огнем по высотке и деревне били танки.
– Давай, давай, ребята, сюда! – махнул рукой Орлов, шагая по траншее, высокий, гибкий, в туго перепоясанном крест-накрест ремнями кителе, в сдвинутой набок фуражке. – Будем воевать в пехоте! Не привыкли? Ничего! Ко всему нужно привыкать. – И, выругавшись, пошутил: – Ну и ездовые у тебя, Ермаков! Как тараканы беременные! Еще с кнутами пришли!
Когда же они вдвоем распределили людей по оголенным траншеям первой роты, когда, осыпанные землей разрывов, пробивались назад, переступая через тела убитых, когда из мелких ходов сообщения им открывалась картина боя, Ермаков впервые ясно почувствовал, что батальон долго продержаться не сможет.
Впереди опушки леса немецкие танки стояли на овсяном поле, метрах в восьмистах от высоты, и не двигались, только медленно поворачивали башни, почти одновременно выбрасывая огонь выстрелов.
И может быть, именно то, что перед танками не было препятствия – реки, а лежало открытое поле, усеянное копнами, меж которых перебегали, падали и ползли, стреляя из автоматов, люди, – именно это говорило о том, что положение батальона тяжело и очень серьезно, если не гибельно. Теперь Ермаков искал надежду не только в себе, но и в тугой фигуре Орлова, решительно шагавшего по стреляным гильзам, – Орлов то и дело покрикивал с азартной шутливостью:
– Ну как, ребята? Патроны беречь! Иванов, чего тылом ныряешь? А? Ха-ха! Стоять! Гранаты беречь, как жену от соседа. Беречь!
Нет, оно еще жило, тело полуразбитого батальона, оно боролось, оно не хотело умирать и не верило в свою гибель, как не верит в преждевременную смерть всякое живое дыхание.
Люди не отвечали, не улыбались этим неказавшимся сейчас грубыми шуткам Орлова, один Жорка весело ухмылялся, нежно щупая распухший нос. Усталые, небритые, с грязными лицами, солдаты жадно встречали взгляды офицеров, и было в этих взглядах невысказанное: «Вот держимся! А как дальше?» И хотя все знали, что отступать некуда, батальон окружен и нет даже маленького пространства, которое могло бы спасти, куда можно было бы отойти в невыносимом положении разгрома, – как ни странно, это пространство почти всегда занимает местечко в душе солдата, – ожидающие взгляды людей, скользнув по лицам офицеров, украдкой устремлялись назад, на горящую деревню, где учащались разрывы снарядов, треск автоматов, и в глазах мелькало выражение тоски.
– Что ж, товарищ старший лейтенант? Нет дивизии. Очумели там? Или не знают? – с подавленной злостью спросил пожилой плечистый пулеметчик, рывком расправляя ленту, и тут же заученно пригнул голову.
Бруствер рвануло грохотом и звоном: как метлой смахнуло землю в траншею, ядовитой гарью забило легкие. Орлов крикнул:
– Меняй позицию! Все пулеметы пристреляли, сволочи! Чаще меняй позицию!
– Так что же? – по-прежнему насмешливо спросил пулеметчик, отряхивая землю с пилотки. – Как же дивизия-то?.. Или впустую все?
– Когда убиваешь немца, который стреляет в тебя, – значит, не впустую. Родину не защищают впустую! – вдруг спокойно, очень спокойно сказал Ермаков и непроизвольно улыбнулся чуть-чуть. – Скоро будет легче. Легче! Осталось немного терпеть! Дивизия будет здесь, в Ново-Михайловке! Немного осталось!
– Вон как! Сообщение разве какое есть? – недоверчиво хохотнул пулеметчик и опять злым рывком продернул ленту. – Что-то вроде артподготовки не слыхать…
– Час назад дивизия перешла в наступление. Отсюда не услышишь. Витьковский! Еще раз сообщить всем в роте, что дивизия перешла в наступление час назад! – неожиданно для самого себя приказал Ермаков, ужасаясь тому, что он приказывает, и повторил, прямо глядя в расширенные, невинно голубые, немигающие Жоркины глаза: – Бегом сообщить всем! Всем!..
И, не сказав ни слова, Витьковский побежал по траншее, а Орлов рванулся следом, бледнея, крикнул: «Назад!» – однако Ермаков крепко сжал его каменно напрягшуюся руку, укоряюще остановил: «Подожди!» Это была ложь, но это была и надежда. Надо было жить и верить, верить в то, что могло наконец быть, что еще не свершилось, но в чем непереносимо страшно было сомневаться. Создав эту ложь, он сам удивился тому, что не испытывал душевных мучений и угрызений совести: эта ложь должна была стать правдой через час, через два, через десять часов, той правдой, которая помогала из последних сил еще держать здесь истерзанный батальон.
– Ты что, с ума съехал, дьявол? – яростно крикнул Орлов. – Ты понимаешь, что это такое?
– Все понимаю. Если батальон погибнет, то с верой. Без веры в дело умирать страшно, Орлов. И тебе… и мне… Ради жизни этого же пулеметчика сказал. Передай в роты, что дивизия перешла в наступление. Сам передай. Или… – он посмотрел в глаза Орлова, – я передам. Сколько у тебя коммунистов? В этой роте на высоте?
– С парторгом было девять человек. Сколько осталось – не знаю. Парторг убит утром…
Он не договорил: навстречу, задевая плечами края траншей, запыхавшись, обливаясь потом, бежал связной Скляр.
– Ну что? – вскинулся Орлов. – Что еще?
– Вас… вас обоих Бульбанюк просит, – зачастил Скляр, поправляя сбившийся ремень. – Все обстановку спрашивает. А там уж места для раненых нет.
– Иди, Коля, на капэ[3], звони в роты, – проговорил Ермаков и добавил грустно: – Я схожу к Бульбанюку. Нельзя жить без надежды, друг, нельзя…
Немецкий обшитый тесом огромный блиндаж был битком набит ранеными, везде лежали и сидели, душно пахло шинелями, кровью и йодом; в глазах мельтешило от белых бинтов, этого цвета слабости и боли.
Когда он вошел, внешне бодрый, в аккуратно застегнутой шинели, пропахшей порохом, в его карих глазах, похоже, теплилась улыбка ясного душевного спокойствия и губы тоже чуть-чуть улыбались, готовые для слов, с которыми он шел сюда. Он вроде бы внес с собой свежую частицу боя, горевшего за дверями блиндажа, и тогда раненые зашевелились, зашуршали соломой, беспокойно всматриваясь в этого стройного, незнакомого многим молодого артиллерийского капитана. Дюжий, изможденный лицом санитар-старшина – окровавленные рукава его гимнастерки были засучены до локтей – на минуту перестал перебинтовывать стонущего на полу паренька, повернулся к вошедшему с равнодушным видом человека, знающего недорогую цену жизни на войне, оглянул Ермакова тускло и снова заработал неторопливо волосатыми руками. В блиндаже наступила тишина, лишь подымались головы из гущи тел. И кто-то – две ноги были замотаны бинтами – спросил осторожно:
– Как… там?
Ермаков сказал то, с чем шел сюда, в чем нужно было, по его мнению, убедить этих людей, для которых исход боя казался более важным, чем для тех, кто еще двигался, стрелял в траншеях; сказал и после неопределенного молчания услышал в ответ покашливания, стоны, сдержанные голоса:
– Скорей бы… Мочи нет тут валяться…
– А патроны есть?
– Сколько еще держаться нам?
– Часа два, – твердо ответил Ермаков, опять поражаясь своей уверенности. – Немного терпеть осталось.
– Иди сюда, капитан, – послышался сбоку знакомый голос, и Ермаков увидел на нарах майора Бульбанюка.
Он лежал заметный и здесь, неузнаваемо осунувшийся за несколько часов; грудь, плотно перебинтованная и вся чисто-белая, тяжело вздымалась.
Ермаков придвинулся к нарам. Бульбанюк, слегка приподнявшись, встретил его настороженным, через силу долгим взглядом и, не выпуская преувеличенно спокойного лица Бориса из поля зрения, спросил тихо:
– Это… все, капитан? Больше… ничего?
– Все. Это все, – шепотом ответил Ермаков.
Майор опустил на солому голову, большая рука его слабо зашарила около себя и, ничего не найдя, бессильно затихла.
– Санитар, – позвал он странно окрепшим голосом.
Подошел санитар-старшина, вытирая ватой пальцы.
– Санитар, – сказал Бульбанюк. – Вынесите-ка меня в траншею… Душно тут. Воздухом подышать хочу…
– Нельзя, – коротко ответил старшина. – Не имею права.
– Я приказываю. Слышали? Нет? Выполняйте… Пока я жив, я командир батальона. Вот так… На воздух…
Его вынесли в траншею, и майор потребовал, чтобы его посадили на плащ-палатку, прислонили спиной к стене окопа. Он сидел без кровинки на тронутом оспой лице, жадно заглатывал воздух и смотрел в небо. Еще недавно он овевал всех добротным железным здоровьем человека, прожившего целую жизнь на полевом воздухе, и сейчас Ермаков, поняв все, негромко сказал:
– Товарищ майор, не хочу скрывать…
– Молчи… Знаю. Мне, может, и умереть судьба. А вот людей… людей… не уберег… Первый раз за целую войну не уберег. Ничего не мог сделать. Слышу… – Он передохнул, криво улыбнулся. – Слышу… Дивизия перешла… Ишь из танков чешут… Эх, капитан, капитан… – Майор закрыл глаза и замолчал, будто прислушиваясь к самому себе.
Ермаков взглянул на курившего у двери блиндажа санитара, сделал ему знак отойти в сторону и, выждав немного, сам подошел к нему.
– Немедленно начинать эвакуацию раненых в деревню. Разыскать хоть одного из жителей – и по два, по три человека в хату. За жизнь раненых отвечаете головой. Мы вернемся.
– Прорываться? Когда? – спросил удивленно санитар-старшина, бросая цигарку под ноги.
– Пока нет. Но потом – возможно. Ходящих пока не эвакуируйте. Пришлю вам двух человек на помощь. Бульбанюка как зеницу ока берегите.
– И трех часов не вытянет, товарищ капитан. Грудь и живот. Осколки.
– Капитан! – вдруг чрезмерно внятным голосом позвал майор Бульбанюк и открыл глаза; в туманной мерцающей глубине их, борясь с болью, проступило что-то новое, решенное, незнакомое. – Ермаков… ты вот что… подари мне свой пистолет. Мой немцы покорежили. Ты себе… найдешь. И вынь из галифе мой билет. Сохрани…
Ермаков, не ответив, достал из его кармана теплый, влажный партбилет, пахнущий потом и кровью, затем, стиснув зубы, вынул свой пистолет из кобуры и протянул старшине.
– Положите в сумку майора, – сказал он, представив себя на секунду в положении Бульбанюка и не мучаясь тем, что делал.
Танки пошли в тот момент, когда Орлов, охрипнув от злости и ругани, кричал в телефонную трубку, чтобы на просочившихся автоматчиков не обращали внимания. Звонил командир третьей роты лейтенант Леденец, сообщая, что на левом фланге в деревню просочились автоматчики, бьют с тыла и вдоль траншей, в роте создалось положение «хуже губернаторского», головы не высунешь.
– Че-пу-ха! – кричал Орлов, поставив носок сапога в нишу для гранат. – Держи хвост пистолетом и не унывай, понял? Два-три автоматчика – хрен с ними, пусть ползают!
– Да не два-три, товарищ старший лейтенант.
– Хрен с ними, говорю! Фронт держи! Зубами! А о тыле мы побеспокоимся! Понял?
– Танки! – крикнул кто-то в траншее.
Орлов отшвырнул трубку, в полный голос витиевато выругался и посмотрел вокруг на возникшее в окопах движение, ударил резко по фуражке, надвигая ее на лоб, и выглянул из траншеи. Он выглянул только на миг, потому что весь бруствер пылился и осыпался, срезаемый пулеметными очередями, металлический свист бушевал над траншеей. Однако того, что увидел Орлов, было достаточно, чтобы понять: это последняя немецкая атака, это завершение…
Немецкие танки с прерывистым гудением зашевелились в овсяном поле, тяжелые, квадратные, выбрасывая короткие молнии, ползли к высоте, подминая копны и широкими вращающимися гусеницами как бы хищно пожирая, пережевывая пространство между собой и траншеями, в которых замерла первая рота. Тотчас же позади танков, на всей скорости выезжая из леса, начали останавливаться крытые брезентом грузовики, с них прыгали немцы, бежали по полю, мелькая между копнами.
И Орлов скомандовал, напрягая сорванный голос:
– Бронебойщики, готовьсь! Пулеметчики, по машинам!.. Кор-роткими!..
Жорка Витьковский, деловито вправляя железную ленту в трофейный пулемет МГ, взятый в окопе убитого немца еще на переправе, полувесело, полусердито чертыхался, косясь на второго номера. Это был рыженький, остроносый артиллерист, который словно окаменел с выражением испуга в пестреньких, как речная галька, глазах; он шептал:
– Як же так мы без орудий, а? Що ж цэ буде? – И заговорил доверчиво совершенно о другом: – Я, понимаешь, конюхом в колхозе был. И все ко-они снятся, ко-они… Як же так?
– Як же, так же, вак же, – снисходительно передразнил Жорка, подмигивая. – Дрейфишь, бродяга? Наложил полным-полна коробочка. Вот мы сейчас им дадим жизни!
Остро прищурив светлые глаза, он выпустил длинную очередь трассирующих по прыгающим с тупорылого грузовика немцам, закричал что-то азартное, отчаянное, перемешивая в этом крике бродяг, проституток и шибздиков, а паренек с чувством непрочности двумя руками сжимал железную коробку, ослепленно моргая желтыми ресницами. Будто опаляющий ветер поднялся от ревущих танков, от пулеметов, от разрывов на брустверах, от учащенных ударов противотанковых ружей, от неразборчивого Жоркиного крика, поднялся и обрушился гибельно на голову паренька.
Траншеи не было видно в дыму, в облаках взметавшейся земли и пыли, и только беспрерывно высекались красные длинные искры. Но все же Жорка, меняя ленты, упорно пытался взглядом найти в серой мгле знакомую фигуру капитана Ермакова: за жизнь его он отвечал даже сейчас.
Сам Жорка жил нехитро и бездумно, как птица, и меньше всего думал о себе. Он не привык серьезно думать о себе: не закончил девять классов – надоело сидеть за партой, корпеть над алгеброй, глазеть на доску, бросил, не задумываясь, школу, поступил на курсы шоферов и потом два беспечных года до войны носился по улицам Харькова на такси, насвистывая модные танго и нагло подмигивая возле светофоров знакомым милиционерам. После субботних вечеринок у многочисленных приятелей он просыпался по утрам с болевшей головой и, чувствуя свою вину, целый день не глядел в укоряющие глаза молчаливой и робкой матери. Отца у него не было, не было ни братьев, ни сестер, и он любил мать той особой любовью, которую называл уважением. По ее совету он очень рано женился на милой, курносенькой, без памяти влюбленной в него продавщице Марусе, но по-прежнему дружки-шоферы затаскивали его на вечеринки, он тоже не мог обойтись без них, и дома повторялись горькие упреки, слезы, которых он терпеть не мог, и, наконец, прощение, – жена всегда прощала его, как, впрочем, и мать.
Мать умерла в эвакуации от истощения, и, узнав это, он, растерянный, непримиримо разозленный на жену за то, что не сумела сберечь мать, решительно написал ей, что любви между ними нет и не будет, и писем на фронт просил не писать. Но письма-треугольнички приходили все чаще, и на них дрожащим почерком было выведено: «т. Витьковскому Жоре», а он рвал их, не читая.
На войне пули и осколки летели мимо белокурой его головы, он не задумывался, убьют его или ранят, воевать было интересно и легко, а смерть, простая, как глоток воды, не хитрила с ним, не играла, просто он обладал спокойным воображением.
– Шибздики! Да-вай! – кричал Жорка сквозь торопливую дробь очередей, возбуждаясь от грохота боя, от жаркой гари раскаленного пулемета.
Телефонисты невнятно и глухо шумели за спиной на дне окопа, он слышал между очередями, как они в два голоса кричали, что старшего лейтенанта Орлова рядом нет, а его требовали, вызывали к аппаратам из рот, минометчики докладывали, что один «самовар» накрыло, и Жорка краешком сознания догадывался, что началось главное. Однако не было теперь времени рассмотреть происходившее сейчас на окраинах горевшей деревни. Он слышал только: там везде рвали воздух снаряды, высоко завывая, гудели моторы, стрельба особенно накалилась сзади – и появилось смутное ощущение взгляда в спину.
Жорка видел перед собой это овсяное поле, ползущие танки, фигурки прыжками бежали меж желтых копен, и он испытывал жгучие толчки в сердце, когда пулеметные трассы врезались в эти фигурки и они падали, оставались лежать на стерне.
Он радовался, что убивал этих людей, которые хотели погубить его и всех, кто стрелял из траншеи. Он страшно радовался тому, что убивал немцев из их же оружия – послушного ему МГ, он никогда не ощущал такого мстительного, поглощающего все его существо чувства – в ушах грохотом отдавалась горячая дрожь раскаленного пулемета.
А паренек с пестрыми, как речная галька, глазами уже не моргал ресницами, не держал коробку; опустив лицо, он сползал в окоп, незащищенно прикрывая ладонью-ковшиком голову, непрочно щупая землю ослабевшими ногами, а другой рукой вяло цеплялся за Жоркину шинель.
– Держи ленту! Наложил! – крикнул Жорка насмешливо и пьяно, толкнул паренька ногой и поразился тому, что увидел.
Паренек сидел, прислонясь спиной к траншее, по-птичьи свесив набок голову на слабой шее, в профиль лицо было задумчивым, усталым и спящим… Лишь темное пузырящееся пятнышко возле виска открыло Жорке тайну этого спокойствия.
«А я конюхом был», – вспомнил Жорка доверчивый, искательный голос паренька, и стало смутно и жутко: голос еще звучал, но его уже не было. «А мне, знаешь, все ко-они, ко-они снятся».
Жорка несколько секунд не мог поднять головы, глядя то на вялую шею затихшего в окопе паренька, то на телефонистов, что-то орущих в трубки одичавшими голосами. Он слышал: близкие пулеметные очереди взбивали бруствер над головой, взвизгивали остро, пронзительно, и, хотя было ясно, что пулемет заметили и пристреляли, Жорка все же вынырнул из траншеи, уверенный, что пули ложатся не слишком кучно и прицельно, как это кажется снизу, из окопа.
Танки подползали к подножию высоты, и он видел теперь их черные, широкие, наклоненные лбы с траурными крестами, тупые башни, плещущие пулеметы и длинные стволы орудий, бегло выталкивающие огонь. Вся высота огненно кипела в круговороте разрывов, и вибрирующий рев моторов мгновенно вытеснил из Жоркиного сознания остатки воспоминаний об убитом пареньке с пестрыми глазами.
Он послал неприцельную очередь в лоб этой ползущей брони, поискал глазами то живое, ненавистное, что бежало и стреляло позади танков, и, найдя, даже всхлипнул, засмеялся от облегчения и радости, припал к МГ потной щекой.
Ему страстно хотелось думать, что это он и несколько ручных пулеметов на флангах роты задерживают атаку немцев, отсекают пехоту за танками и тем самым замедляют их движение. Однако это было не так. Немецкая атака замедлилась на флангах, ее удар был направлен на центр роты, на самую высоту, где немцы, не ошибаясь, предполагали местонахождение командного пункта. Жорка увидел, как три танка вырвались углом вперед, вползли на высоту, завывая моторами; короткие трассы вонзались в бугры траншеи, взрывая землю.
Там часто хлопали противотанковые ружья, но звук их казался игрушечным, фиолетовые огоньки лопались на броне, а танки двигались и двигались по скату, точно на дыбы вставали. И Жорка, размазывая пальцами по лицу пот, всхлипывая в бессилии, угадывая, что именно там сейчас капитан Ермаков, кричал:
– Дав-вай! Дав-вай!.. Ого-онь!..
А на командном пункте происходило вот что. Капитан Ермаков, понимая соотношение сил, не удивился, что немцы направили удар на центр высоты. Также он понимал, что в течение многих часов боя, носившего как бы разведывательный характер, немцы основательно прощупали огневые узлы батальонов и огонь, обрушившийся на центр высоты, где стояли три станковых пулемета и четыре расчета противотанковых ружей, явно был рассчитан на быструю парализацию обороны. Тогда он посоветовал Орлову – совет этот больше походил на приказ – оставить на КП одно противотанковое ружье и один пулемет, а все сохранившиеся средства бросить на фланги.
В фуражке, присыпанной землей, неистовый от бешенства, Орлов лежал в это время, оттолкнув наводчика, у противотанкового ружья, посылал патрон за патроном в казенник. Его бесило, что он торопился, не мог прочно поймать в прорезь грань танка и промахивался. Его злило, что порвалась связь с третьей ротой. (Он сумел, матерясь, крикнуть в трубку: «Держись до последнего!») И особенно взвинчивала его жуткая, непонятная тишина на левом фланге, где тоже несколько минут назад замолчали пулеметы и после них – минометный взвод. Все эти тревоги, опасения, неопределенность, ощущение обреченности батальона, – все разом обрушилось на Орлова. В четвертый раз почувствовав удар ружья в плечо, он успел заметить фиолетово сверкнувший пузырек на корпусе танка. В ту же секунду он встретил круглый зрачок орудийного дула, в упор наведенный ему в глаза. Лопнувший звон наполнил болью голову. Его жарко толкнуло в грудь, осыпало раскаленной пылью, ударило спиной о противоположную стену траншеи. «Ну, кажется, я полковником не буду», – мелькнуло в его сознании, и почему-то захотелось засмеяться над этой мыслью.
Ермаков был в четырех шагах, услышал в ядовито-желтом дыму, застелившем траншею, зовущий хриплый голос: «Орлова… Орлова…». Подбежал и увидел: тот гибко подымался с земли, отталкивая наклонившегося наводчика, грубовато говорил:
– Ладно, ладно, чего ты меня, как девицу, лапаешь? Глаза вот землей засыпало… Прицельно бьют, макушку не высунешь. – И закричал азартно на наводчика: – К ружью! К ружью, несусветный папаша!..
– Рассредоточь пулеметы и петеэр[4] на флангах! – повторил Ермаков. – Слышишь? Хватит на капэ одного пулемета и одного ружья! С ними я останусь! Не медли!..
– Золотая голова, сволочь ты этакая! – неестественно и самолюбиво засмеялся Орлов. – Кто здесь командует: ты или я? Кто отвечает за батальон?
Он почти кричал: он был оглушен.
– Вместе ответим.
И Орлов снял людей, увел их с криком и руганью, на которую, привыкнув, давно никто не обижался, увел их, надежный, злой, горячий, налитый жизнью до краев. Ермаков, оставшись на КП с одним станковым пулеметом и одним противотанковым ружьем, на мгновение вдруг ощутил странную пустоту, будто оголилась земля и, нагая, отказалась защищать. Просто стал ему близок за эти часы Орлов.
– Все расковыряло, а ружье цельное, – не без удивления прокричал молодой наводчик, вскинув продолговатое лицо, и слабо заулыбался тонкими губами, Ермаков не знал даже его фамилии.
– Смотри, что делают! – вторично крикнул наводчик, которому недоставало, видимо, людских голосов в опустевшем здесь окопе.
Внизу, под высотой, неохотно обволакиваясь угольными змейками, задымил танк, обтекая его, два других вырвались левее, взбирались на высоту, мелко задрожавшую от железного рева, стремительно запылили гребни брустверов, сшибаемые очередями, свистящими в уши.
Где-то в мире существовали теория вероятностей, всякие умные вычисления и расчеты средней длительности человеческой жизни на войне, были и расчеты количества металла, которое нужно, чтобы убить солдата. Очевидно, по этой теории роты, рассыпанной на высоте, уже не должно было существовать. Но она существовала…
После того как Ермаков решился сказать, что дивизия перешла в наступление, в нем остро жило ощущение, что батальон, упорно обороняясь, медленно умирает. А слух о наступлении молниеносно облетел весь батальон, и эта ложь, и последствия этой лжи, казалось ему, тяжкой давящей глыбой ложились на его плечи, но где был иной выход?
«В первый или во второй?» – глядя на танки, подумал Ермаков и, чувствуя, что сейчас многое решится, с недоверием, как и Орлов, оттолкнул наводчика, лег за ружье, уперся в землю локтем.
Он сделал подряд три выстрела, длительность между которыми не выдержал наводчик, – глаза его наполнились выражением ужаса. Эти выстрелы стоили ему нечеловеческих усилий над собой. Его воля вынесла два выстрела. Третий сделал указательный палец, сам по себе надавив на спусковой крючок. Сработала уже не воля – инстинкт.
Две длинные искры высеклись на широком корпусе танка – это он хорошо заметил. Он заметил также и то, что второй танк, ревя, круто развернулся, извиваясь, и, набирая скорость, наискосок понесся по высоте. Он подставил бок под ружье Ермакова. Этот бок ускользал и несся. Палец снова быстро нажал спусковой крючок. Но бронебойная пуля, сине чиркнув по борту танка, ударила рикошетом, ушла дугой в низкие облака. И вторая врезалась в облака красной стрелой.
Тогда он резко довернул ружье – и на этот раз пуля срикошетировала. Ружье было бессильно. «Орудие… Если бы орудие!» Танк прорвался к траншеям слева, наполз на окопы, он появился метрах в тридцати, со скрежетом подминая, разутюживая бруствер. Башня повернулась, как голова, хищно выискивая, и ствол орудия, кругло выделяясь дульным тормозом, повис вдоль траншеи и замер.
Жаркий огонь смерчем промчался над Ермаковым сквозь фуражку, чудилось, поджег волосы, придавил его к земле черной горящей стеной. В левом ухе стало очень тепло. В тот миг сознание убеждало Бориса, что он сейчас умрет, но это же сознание передавало свои животворные толчки, и его руки шарили по земле, судорожно искали то, что подсказывала память. Гранат не было… Гранат не было…
Потом он увидел в дыму, как солдат поблизости от него силился вылезти из траншеи, не мог подтянуть тело, ноги соскальзывали по кромке бруствера, – и память тотчас подсказала, что он отвечает за живых и мертвых в этой траншее.
– Назад! Куда под пули? В траншею!
Солдат с серым птичьим личиком блуждающе оглянулся в беспамятстве, прохрипел:
– Танки… прорвались… наши отступают…
С оглушительным гулом танк надвигался по траншее, обваливая, утюжа, давя блиндажи; дым разрывов перемешивался с горячими выхлопными газами.
– Где отступают, черт бы тебя взял? – закричал Ермаков и вскочил, пошатываясь.
И то, что он увидел в этот момент, объяснило ему неотвратимо случившееся. Танки ползли справа и слева, обтекая высоту, входили в деревню. Какие-то танки двигались с тыла, ломая деревья, стреляли на улицах среди домов. Перед ними в сторону траншей бежали и падали люди. Люди бежали и по скатам высоты. А овсяное поле, дальняя опушка леса, окраины деревни – все гремело, вздымаясь разрывами, и небо дрожало от грубых басовитых струн. И воздух везде шуршал и колыхался, лопаясь громом, и капал мелкий, как пыль, дождь. И был, оказывается, закат за высотой, багрово-кровавая щель светилась, сплюснутая тучами снизу и сверху. И на фоне этого заката он тоже отчетливо увидел на высоте черные силуэты танков. А небо непрерывно раскалывалось, вибрировало, налитое гулом, и в этом смешанном гуле неба и земли серыми тенями внезапно, совсем беззвучно и стремительно вынеслась над лесом партия штурмовиков, вытянулась и пошла в пике на высоту, выбрасывая к земле острые вспышки пулеметов. И в ту минуту, готовый плакать и проклинать это помогающее небо, он подумал одно: «Наши ИЛы!» – и страшным криком бессилия и тоски закричал в небо:
– Поздно!.. Поздно!..
Снижаясь, на бреющем полете, как бы прижатые дождем к плацдарму, штурмовики сделали пять разворотов над горящей деревней, скрипя эрэсами[5], стирая с земли звуки боя, железный рев танков. Наводчик противотанкового ружья сидел у стены, непонимающими глазами глядел то на Ермакова, то на пикирующие самолеты; из его ноздрей струйками текла кровь, и рукав шинели был в крови. Он был тяжело контужен. На коленях его лежало покореженное противотанковое ружье.
– А ты кто? Пулеметчик? Где пулемет? – закричал Ермаков на солдата с птичьим личиком.
И тот, моргая под каплями дождя, воровато озираясь, шевельнул губами:
– Убитый он… второй номер я… отступают наши, отступают… все убитые… Товарищ капи…
– К пулемету!..
Он с трудом отцепил мертво сжатые на рукоятках пальцы пулеметчика первого номера, его тело сползло в траншею, стукнуло возле ног, – и тогда понял, что все кончено. Потряхивая широкими плоскостями, ИЛы развернулись над деревней, где слабо дымили подожженные грузовые машины, ушли на восток, почти касаясь верхушек леса.
Снаряды не вздымали овсяного поля, меркло блестевшего под моросящим дождем, прибитый дым шести горящих танков тянулся по скату высоты меж копен, и там, спокойно перешагивая через тела убитых, шли по полю в пятнистых плащ-палатках человек восемь немцев, шли прямо на высоту. И именно то, что немцы приближались спокойно, а со стороны высоты не раздавалось ни одного выстрела (выстрелы хлестали справа, и слева, и позади), сказало с предельной ясностью, что оборона сломана, ее уже нет.
С чувством, похожим на злорадство, он надавил на спусковые рычаги и увидел, что немцы упали, быстро поползли в разные стороны, прячась за бугорки убитых. И сквозь дробь очередей Ермаков крикнул солдату:
– Беги по траншее, собирай всех сюда! Всех, кто еще есть!..
Никто не отозвался, – может быть, он не расслышал, потому что оглох на левое ухо. Он отпрянул от пулемета: солдата с птичьим лицом нигде не было. И Ермаков бросился к другой стене траншеи.
В деревне, ломая плетни, с гудением разворачивались черные танки. Сморщась и потерев грудь, Ермаков поднял чей-то автомат и пошел по траншее. Все, что он делал сейчас, делал как будто не он, а другой человек, и то, что он думал, мелькало в сознании отрывочно, но обжигающе отчетлива была единственная мысль: батальон погиб.
Глава двенадцатая
– Товарищ капитан! Это вы? Товарищ капитан!
Кто-то знакомый, вроде бы улыбаясь окровавленным лицом, в мокрой, обмазанной глиной шинели, выскочил навстречу из хода сообщения, и несколько человек солдат с угрюмо напряженными лицами столпились за его спиной, тяжело дыша.
– Жорка! – крикнул Ермаков, он едва узнал его: дождь смывал кровь со слипшихся волос, скулы и нежный мальчишеский подбородок – в красных разводах, а белые зубы влажно блестели, открытые обрадованной улыбкой. – Жорка, ранен? – отрывисто спросил Ермаков. – Это кто с тобой? С каких рот?
– Царапнуло меня. – Жорка небрежно махнул автоматом. – А это со всех рот. Человек тридцать. А я вас… на капэ искал… Вы сами ранены, гляньте-ка, кровь из уха! И кобура расстегнута! Выронили ТТ[6]? Возьмите, у меня запасной!
– Что? – Ермаков не все расслышал и, взяв пистолет, никак не мог вложить его в скользко-липкую кобуру.
– Кровь у вас, товарищ капитан. – Жорка торопливо вынул и протянул Борису грязнейший носовой платок. – Вытрите. Контузило вас!..
– Где Орлов?
– Не знаю.
– Кто-нибудь видел его?
Солдаты молчали.
– Где Скляр? Раненых эвакуировали?
– Там одни убитые, товарищ капитан. – Жорка показал взглядом назад.
– Прорываться! – сказал Ермаков. – Будем прорываться. Есть здесь коммунисты и офицеры?
Жорка вытянул шею в ожидании; солдаты заворочались, задвигали головами, но никто не вышел из гущи людей – коммунистов и офицеров не было ни одного.
– Всех побило, – объяснил кто-то. – До последнего стояли. Танками давил. Разве поймешь что? Мы вроде одни и остались.
– Куда же прорываться нам? В мышеловку завели! – вдруг глухо выкрикнул солдат с обезумело сверлящими глазами. – Везде они! Хана нам, видать! – И, злобно оскалясь, потряс автоматом. – До последнего отстреливались!..
– Прекратить разговоры, – очень тихо проговорил Ермаков, бледнея, но тотчас, усилием сдерживая себя, ткнул автоматным стволом в грудь солдата. – Вы… в мышеловке? Оставайтесь, к чертовой матери! – Он повысил голос: – Кто не верит – в сторону!
Не оглядываясь, он быстро зашагал вперед по траншее, уверенный, что люди пойдут за ним, другого выхода не было у них. Лил дождь и, не охлаждая голову, сек по лицу, ослеплял, как удары иголок. Смыло багровый блеск заката, все свинцово затянуло хмарью, ускоряя сумерки, и Ермаков надеялся даже на это маленькое прикрытие, которое послало ему небо. Печально пахло горьким дымом, дождь пригасил пожары, но тугое урчание танков, торопящиеся, взахлеб, вспышки стрельбы доносились из деревни. Там добивали рассеянные остатки батальона, и автоматный этот треск сухо и остро давил Ермакову горло.
Вскоре Жорка догнал его, голова уже перебинтована, повязка побурела, набухла под дождем. Жорка прикладывал к повязке рукав шинели.
– Двадцать два человека, товарищ капитан, с вами, – доложил он.
– Кто остался?
– Все идут. Смотрите, у вас погон кровью залило! Дайте перевяжу, а?
– Ухо не перевяжешь, – усмехнулся Ермаков. – Совсем не буду слышать. Оставь!
Потом шли и бежали молча, иногда останавливались, прислушиваясь к гудению танков, к неясным крикам в деревне, один раз пулеметной строчкой прострекотал где-то мотоцикл, и почудилось: губная гармошка на околице проиграла.
Проходили огневую позицию минометчиков; четверо солдат, в неудобных позах застигнутые снарядами, лежали вокруг пустых лотков; и, прислонясь плечом к стволу единственного уцелевшего миномета, недвижно склонив голову, сидел малознакомый молчаливый лейтенант, командир взвода. Разбитые очки были втоптаны в землю. Он стрелял, очевидно, до последней мины и, без очков, не увидел свою смерть. Он был близорук, и автоматчик, по всей вероятности, подполз к самой траншее.
– Жорка, подорви миномет, – вполголоса приказал Ермаков. – Брось гранату в ствол. И возьми документы у лейтенанта.
Через минуту трескучий взрыв колыхнул воздух за спиной, и Жорка, на бегу вталкивая за пазуху перетянутый резинкой бумажник лейтенанта, догнал Ермакова.
Начались траншеи левого фланга роты, раздавленные танками, исполосованные широкими следами гусениц на обвалившихся брустверах. Обходили полузасыпанные темные тела, искореженные пулеметы, противотанковые ружья, торчащие из земли клочки шинелей; в одном месте была вмята в грязь офицерская фуражка, наполненная водой, как чаша. И будто током ударило Ермакова, когда он поднял эту фуражку: она могла быть Орлова. Да, это левый фланг, который держал Орлов. Ермаков глядел на желтые, обмытые дождем лица лежавших здесь убитых, но ни в одном из них не признал Орлова. И не было возможности искать. За ним шли живые, не терявшие последнюю надежду люди – двадцать один человек. Он вел их туда, к краю обороны, к реке, где должен был быть выход.
Впереди послышались голоса.
– Жорка, вперед! – приказал Ермаков. – Осторожно! Зря не стрелять!
– Понятно! – ответил Жорка и, раскидывая в стороны пудовые ошметки налипшей на сапоги глины, побежал, оскальзываясь, по траншее.
– За мной! – Ермаков ускорил шаги и тоже побежал.
За поворотом траншеи он едва не натолкнулся на Жорку. Тот стоял, переводя дыхание, и Ермаков крикнул:
– Что остановился?
– Братья Березкины, – тихо сказал Жорка. – Эх, черт! Смотрите… Оба…
Так до последнего момента Ермаков и не научился различать двух этих мальчишек-близнецов, стройных, ладных, никогда не разлучавшихся ясноглазых москвичей, он не знал даже, кого из них – Николая или Андрея – ранило в плечо утром.
Теперь они, преданно прижавшись щеками к земле, лежали на бруствере среди стреляных гильз перед противотанковым ружьем, лежали, будто спали, крепко и навсегда обнявшись. И один – кто из них это был, Николай или Андрей? – плечом загораживал другого, а из-под обнявшей навечно руки белел бинт и смятый сержантский погон на разорванной гимнастерке. А в пяти шагах от братьев отпечатались четкие вмятины гусениц поперек траншеи.
– Возьми документы и ордена, – сказал Ермаков Жорке и, стараясь больше не глядеть на братьев Березкиных, подал команду перехваченным спазмой голосом: – За мной! – И, выругавшись, повторил злее: – За мной!
Спотыкаясь и падая, они бежали по вязким багровым лужам, по скользкой грязи, густо заполнившей траншеи, бежали остатки батальона, те, кто еще жил и хотел жить.
Ермаков первый увидел: траншея кончилась… Он с разбегу достиг ее края и, задыхаясь, остановился – траншея упиралась в тупик. Высота отвесным обрывом висела над рекой, глубоко внизу мутно блестела вода, за ней недалекие леса проступали в дождевом тумане. Стараясь отдышаться, он грудью лег на размытый бруствер, сердце сумасшедше билось, стучало через шинель в мокрую землю.
А он пытался увидеть то пустое пространство, ту брешь, то игольное ушко, сквозь которое надеялся вывести людей. Ему все-таки казалось, что здесь во время боя в последние часы сохранялась относительная тишина, но теперь стало ясно: игольного ушка не было. Он увидел танки. Они чернели квадратами между обмокшими овсяными копнами на сером пространстве поля, что отделяло реку от леса.
Уже за его спиной подбегали люди, уже слышно было их хриплое дыхание, хлюпанье набрякших грязью сапог, сдавленные злобой и отчаянием голоса: «Танки, танки!» – и в эту минуту он не знал, что надо делать.
Тогда он повернулся так быстро, что эти обросшие, потерявшие надежду растерянные люди, столпившиеся в траншее, в тупике, уловив отвердевший, безжалостный его взгляд, затихли, пряча глаза. Наверное, они поняли в это мгновение его готовность на все.
– Садитесь! – резко приказал Ермаков. – Все садитесь! Никому не маячить! Слышите? Вы! Там! Садитесь! Одному наблюдать! Жорка, наблюдать!
– Что он сказал? – послышались голоса задних. – Что он нам сказал?
– Капитан сказал: «Садитесь!» – глухо пронеслось по траншее.
И люди покорно подчинились, двадцать один человек, которые хотели жить, – кто опустился на дно траншеи, кто присел на корточки, неожиданно обнажив из-под шинели напряженно трясущиеся колени, иные обессиленно прислонились спиной к стене окопа, пригнув головы.
«Что я им скажу? – соображал Ермаков. – Я не знаю, что им сказать!..» Движения, которые он сейчас делал, уже не принадлежали ему: за ним следила двадцать одна пара глаз, и эти ждущие спасения глаза вбирали его в себя целиком.
– Так вот, – отрывисто сказал Ермаков и, сдержав дыхание, повторил: – Так вот… Всем слушать! Будем прорываться здесь. Вот здесь. За высотой. Там река. А за ней – танки. Всем ясно? – подымая голос, почти крикнул он. – За ней – танки. Броском через реку. Мгновенным броском. И мы в лесу. Кто устал, снять, к чертовой матери, шинели. Не жалеть шинели! Бросить! Кто не хочет прорываться – выходи!..
Он кидал эти острые, тяжелые, как камни, слова на головы людей, не жалея их, не прося пощады у совести. Он был уверен: так надо, так надо – возбудить, озлобить для беспощадного последнего броска, только это еще обещало жизнь измученным зыбкой, ускользающей надеждой людям.
Расставив ноги и положив правую руку на кобуру, весь заляпанный грязью, вытирая смятым бурым платком струйку крови, колко щекочущую оглохшее ухо, он ждал одно слово возражения, возглас недовольства – и он совершил бы то, что должен был сделать в этих обстоятельствах.
«Что я делаю? Разве кто-нибудь из них заслужил это? Неужели я в каждом вижу труса? Что я делаю?» – с холодным отчаянием подумал Ермаков, чувствуя, что вот сейчас до предела стиснутая пружина распустится в его душе и он, готовый плакать и скрипеть зубами от бессилия, потеряет волю над собой и людьми. И он высоким голосом повторил, сжимая пальцами скользкую кобуру:
– Так кто? Выходи!..
Никто не ответил. Все, к кому относились эти слова, скованно сидели, осыпаемые косо секущим дождем, прислушиваясь к мокрому кашлю пулеметов в деревне. Жорка, лежа на бруствере, вдруг свесил голову в окоп, сверху загадочно поглядел на солдат.
– Идут, – сказал он шепотом. – Траншеи вроде проверяют. Сюда идут… – И на животе сполз в окоп, ударил ладонью по магазину немецкого шмайсера.
Все в траншее вскочили с глухим шумом. Ермаков, сдвигая на грудь автомат, предостерегающе скомандовал:
– Ни одного движения! Тихо!
Вдоль траншеи, негромко переговариваясь, шли люди в тускло блестевших плащ-палатках, приседали, заглядывали в разрушенные блиндажи, там мигали фонарики. Потом кто-то позвал совсем рядом:
– Felix, Felix! Komm zu mir! Sie schlafen![7]
Трое возникли на бруствере, и один из них, приседая, показал вниз, в траншею, – кажется, это было то место, где лежали убитые братья Березкины. Затем вздернул автомат, засмеялся и выпустил длинную струю пуль.
В следующее мгновение эти трое упали. В руках Ермакова и Жорки одновременно затряслись от очередей автоматы.
– За мной! Вниз!..
Девятнадцать человек выскочили из тупика и покатились, падая, прыгая, скользя по обрыву высоты вниз, к реке. А вверху остался лишь Жорка Витьковский с двумя солдатами, фамилий которых Ермаков не знал. Он успел им крикнуть: «Прикрывай до реки!» Все было липко, размыто, скользко от дождя, он падал на обрыве несколько раз. И только в моменты падения его неоглохшее ухо улавливало стрельбу наверху.
– Вперед!.. Вперед!..
Этот крик бился в его горле, заглушал все. Ермаков увидел черную воду, черные кусты, глянцевитую полоску размытой глины на берегу. Огненные мухи метались в кустах, резали ветви, влипали в вязкую глину. Он ничего не понял: была сплошная стена красных мух, они приближались наискосок, навстречу, сверху и слева, со стороны деревни.
Красный чудовищный рой, свистя и взвизгивая, несся над рекой, над берегом, и он вбежал в это свистящее сверкание, видя только глянцевитую полоску глины, которая мчалась ему навстречу, и слыша только свой голос – незнакомый и страшный:
– Вперед!
Перед самым стволом автомата появилась широкая и согнутая спина. Его обогнал солдат. Ермаков почему-то отчетливо заметил оторванный мотавшийся хлястик на металлической пуговице, заляпанные глиной распустившиеся обмотки, которые, змеями извиваясь, хлестко били солдата по ногам. Внезапно странно споткнулись, подкинулись обросшие ошметками ботинки. Солдат исчез. И тотчас земля, качаясь, бросилась в лицо Ермакова, он с размаху упал, налетев на большое, жесткое тело. Цепкая рука схватила его за полу шинели, дернула к себе, помутненные зрачки, изумленно расширяясь, старались найти его глаза, и ему послышался прерывистый хрип:
– Не спеши, капитан. Все на том свете будем… – И, выпустив полу его шинели, солдат схватился за грудь, выдавил с кровавой пеной горестно усмехнувшихся губ: – Только в разное время…
Сплошная багрово-красная метель сверкала, звенела, неслась над Ермаковым, застилая небо. Впереди никто не бежал к берегу, он оглянулся, увидел позади лишь несколько человек. Они ползли. Они почти бежали ползком. И еще он увидел: оттуда, сверху, из траншеи, где оставалось прикрытие, захлебываясь, хлестали по берегу, по ползущим людям немецкие автоматы.
– Вперед!.. Вперед!..
Он вскочил и, сделав несколько шагов, снова оглянулся. Люди ползли. Сердце поднялось, билось где-то возле горла.
– Впере-о-од!.. – закричал он диким голосом и вскинул автомат. – Впере-од!.. Встать!
Люди вставали и падали. Их тянула земля.
Он скачками подбежал к реке.
Он не почувствовал холода воды. Она глухо и плотно ударила его выше коленей, облепила ноги путами. Преодолевая ее силу, задыхаясь, он бежал сквозь перекрещенные, спутанные, визжащие трассы, он стрелял из автомата, выкрикивая ругательства, а сердце, застрявшее в горле, независимо от его воли отчаянно ожидало острого удара в голову и падения в воду. «Вот это, я боюсь умереть…», – мелькнуло у него.
Все: вода, небо, тот дождливый, серый берег – гремело, бурлило, колыхалось перед глазами и мчалось вкось, как в бредовом жару. Кто-то упал рядом, нелепо вскинув подбородок, протянув вперед руки, выронившие автомат. Солдат без оружия, возникнув худенькой мальчишеской спиной, на которой подпрыгивал тощий вещмешок, обогнал Ермакова, зажимая простреленную кисть окровавленной пилоткой. И вдруг, раскрыв удивленно рот, выкатив испуганные глаза, мягко осел в воду, и она сомкнулась над ним.
Ермаков уже не бежал к приближающемуся берегу, а шел, пошатываясь, его валило с ног течение. Он хрипел:
– Вперед!
Он зацепился за глинистый берег, лег на него грудью, закинул ногу и медленно на слабеющих, дрожащих руках вытянул тело из воды. Он не мог встать. Не было сил. Он не мог передохнуть. Он чувствовал, что лежит на берегу перед немецкими танками и нет воли сдвинуться с места.
– Товарищ капитан! Ранены? – закричал кто-то над самым ухом, и тут он смутно увидел искаженное тревогой бледное лицо Жорки и вблизи его лица – мокрый немецкий автомат, придавленный к земле синими пальцами.
– Вперед, Жорка… в лес, – выдохнул Ермаков. – Где остальные? Где остальные?..
– Здесь Скляр! – закричал Жорка, мотая головой и отплевываясь. – Вон остальные! Гляньте! Ноль целых!..
Ермаков, стиснув зубы, стал на одно колено. Несколько человек карабкались на берег, впиваясь обессилевшими локтями в глину, упираясь в нее подбородками. Пули красным роем вились над ними, полосовали по воде.
– В лес! За мной! В лес!
Какие-то люди выбегали им навстречу, появляясь и пропадая меж копен. С ревом и грохотом выросло громадное тело танка, из открытого люка лучами выбивался свет, – взвизгнул над головой вихрь пулеметных очередей, окатило, как горячим паром, гарью бензина. Из-за танка, путаясь в треугольной плащ-палатке, боком выскочил человек, присел, вздернул автомат. Ермаков первый нажал спусковой крючок, и в тот же миг мимо уха промчалась шумящая радуга. Вновь надвинулось впереди огромное туловище танка. Два человека лежали на броне, и один прицельно стрелял сверху, другой прокричал что-то, взмахнув рукой. Потом они исчезли. Ермаков задел ногой за мягкий бугор, заметил пулемет, окоп, белое лицо в нем и выпустил в это лицо всю очередь.
– За мной! Не отставать!
И сразу стало темно, влажно, непроницаемо глухо, будто забило уши ватой. Как в сыром колодце, Борис бежал, захватывая ртом воздух, тяжело спотыкаясь, – сучья, колючие ветки острой проволокой цеплялись за ноги. Сзади вразброд каркали автоматы, но этот звук, угасая, скользил мимо сознания, кровь толчками стучала в висках, и единственное, что он твердо осознавал сейчас, было – прорвались в лес.
«Я вывел, кажется, я вывел людей», – подумал он, и вдруг пустынное безмолвие затопило все вокруг, сдавило его, как песчинку во тьме. Он не услышал топота ног, движения за собой: никто не бежал за ним. Позади никого не было. Он был один. Тогда, обдирая о кусты руки, он повернул обратно к опушке, где замолкли отдельные очереди, и, расслышав хруст кустов в темнеющем сумраке, вскинул автомат, прохрипел:
– Кто идет?
– Товарищ капитан? Я это… Вы куда? Там фрицы!
– Жорка?! Где остальные? Где?
– Полегли под танками. Бежали за вами, а потом… Они стояли, прерывисто дыша друг другу в лицо.
– Я искал Скляра. Я видел Скляра, – говорил Жорка. – Я бежал за вами. Он отдал сумку Бульбанюка. Вот смотрите. Я видел, как он… Он успел в лес.
– Где остальные? Не может быть! Прорвался же кто-нибудь?
– Я видел Скляра, я видел, – повторил Жорка и, настороженно прислушиваясь, тихонько добавил: – Товарищ капитан, нам идти надо…
– Не может быть! Прорвался же кто-нибудь! – с тоской повторял Ермаков. – Прорвался же кто-нибудь!..
– Я видел Скляра. Поискать бы его…
Было темно, их душила застоявшаяся горькая прель гнилых папоротников. Ермаков сказал чужим голосом:
– Да, идем…
– Подождите…
– Что?
– Говорят. Впереди говорят.
– Где говорят? Бредишь, Жорка? Идем!
– Подождите. Говорят. – Жорка весь напрягся, подался вперед и неожиданно негромко и внятно окликнул: – Скляр! – И позвал громче и решительнее: – Скляр! Сюда!
– Что ты слышишь, Жорка?
– Тихо, слушайте!
Оба замолчали, вслушиваясь в густую тишину черного леса, в слабый лепет капель среди мокрых листьев, – недалекие людские голоса донеслись до них и угасли.
– Скляр! – снова позвал Жорка. – Скляр, сюда! Скля-ар!
Молчание застыло между ними и теми голосами, что всплыли и оборвались в сырой чаще осеннего леса.
– Скляр! – уже в полный голос крикнул Жорка. – Сюда! Давай сюда, чудак! Это мы!
Им почудилось: испуганное эхо задело ветви, и рядом посыпались капли с утихающим, струящимся шумом. Кто-то, казалось, опасливо шел к ним через кусты, едва уловимо похрустывали под ногами опавшие листья.
– Скляр!
И внезапно отчетливый и напряженный голос ответил из кустов:
– Я-а!..
Жорка тихо, обрадованно засмеялся и, суматошно ломая ветви, бросился на этот близкий, неуверенный голос; в ту же секунду оглушительный треск распорол тишину, и Ермаков увидел, как Жорка с разбегу натолкнулся на что-то огненное и острое, вылетевшее ему навстречу в грудь.
– Жорка! Наза-ад! – бешено закричал Ермаков, падая на землю, и услышал в ответ прежнюю затаенную тишину.
Лишь осыпались, невнятно перешептываясь, капли в чаще.
– Жорка!
И тот же голос, отчетливый и напряженный, ответил протяжно из кустов, где струились капли:
– Я-а!
Косточка указательного пальца сама собой впилась до онемения в спусковой крючок, автомат яростно заколотил в ключицу, как живой, и тотчас смолк – весь диск вылетел единой длинной очередью, а палец еще торопил, дергал крючок…
Ермаков очнулся в таком тягостном, в таком душном, цепенеющем безмолвии – не мог перевести дыхание; оглушали глухие удары сердца.
Ничего не видя, он встал, ощупью прошел к кустам, где натолкнулся на свою смерть Жорка, и так же ощупью нашел его. Он лежал лицом вниз, приникнув грудью к земле, в странном объятии раскинув руки. Ермаков охватил его за обмякшие плечи, осторожно положил на спину, назвал по имени с открытой и ненужной сейчас нежностью. Жорка, постанывая, еще дышал жарко и часто, но Ермаков, прикоснувшись на его груди к чему-то горячему, вязкому и влажному, понял, что все кончено с белокурым, отчаянным, веселым ординарцем командира полка…
Один он шел по непроницаемому лесу в дремотном шорохе капель. Он остался один-единственный из всего батальона, прорвавшийся сюда сквозь заслон танков на берегу. С ним были только сумка лейтенанта Прошина, сумка майора Бульбанюка, документы и ордена братьев Березкиных, документы и ордена Жорки Витьковского.
Иногда ему мерещилось, что его окружают в темноте голоса, наплывают вокруг красные, широкие, бесформенные лица, вибрирующими перебоями гудят танки. Он вздрагивал и, приходя в себя, чувствовал непроходящую тоску, впившуюся в сердце. Прежде был он убежден, что любое чувство можно подавить, но теперь он не мог этого сделать и не пытался. Память, не угасая даже в мгновения забытья, была его мукой и наказанием, а он знал, что шел назад, к Днепру, не ища дороги, сцепив зубы, будто что-то тупое и знобящее воткнулось ему в грудь.
«Почему люди так боятся смерти? – думал он. – Ведь смерть – это пустота и одиночество. Вечное одиночество. Я последний из батальона… Я остался один. Так разве это не смерть? И зачем я еще живу, когда все погибли?..» Его ладонь нащупала эту тоскливую, непрекращающуюся боль в груди, и он не испытал жалости ни к этой боли, ни к себе: указательный палец другой руки стал ощупью пробовать стальную упругость спуска. «Зачем? Стоило ли прорываться такой ценой? Зачем? – подумал он, закрывая глаза, обливаясь горячим потом. – Кто здесь судья? Я сам над собой. Убить себя – значит оправдаться перед памятью и людьми?» И он почувствовал зависть к Бульбанюку, у которого не было другого выхода.
Вдруг смутные голоса возникли в лесу, он приостановился, озираясь впотьмах: «Что это? Здесь рядом дорога?.. А! Спасибо вам, вы сами на меня идете. Я точно все рассчитаю. До патрона!..» Он усмехнулся одеревенелыми губами и, расталкивая кусты, напрямик пошел на голоса, до судороги стискивая ледяную рукоятку пистолета.
Но дороги нигде не было. Голоса затихли. «Что это?» – опять подумал Ермаков и никак не мог вспомнить, в какой стороне были голоса.
Тут, за спиной, близко пробили автоматные очереди, и он, толчком повернувшись, увидел, как во тьме леса засветились огненные нити пуль. И он пошел туда, на эти выстрелы, дрожа от злости и ненависти, с бешеной верой в самого себя…
Глава тринадцатая
Полковник Гуляев, срочно вызванный с плацдарма, на исходе ночи переправился на левый берег Днепра и к утру прибыл в штаб дивизии.
Адъютант Иверзева, перетянутый крест-накрест ремнями, выказывая радостную приятность в лице, участливо спросил:
– Вы откуда? Вас обрызгало, товарищ полковник! Весь плащ… Лупцует? На лодке форсировали?
– Не ваше дело! Немедленно доложите! – поморщился Гуляев. – Слышите, вы! Быстро!
Адъютант, невозмутимо округлив ореховые глаза, проскользнул за дверь и скоро вышел, смиренно наклонил гладко причесанную голову.
– Вас очень ждут, – проговорил он, опуская слова «товарищ полковник» и как бы воспитанно мстя Гуляеву за грубость.
Полковник Иверзев после бессонной ночи ужинал, или, вернее, завтракал, на краю стола, застеленном белой салфеткой. Он, задумчиво глядя перед собой, отрезал кусочек мяса на тарелке, однако, заслышав шаги Гуляева, перестал есть, энергично промокнул губы салфеткой, прямо посмотрел на вошедшего синими невыспавшимися глазами и некоторое время ждал. На угрюмом опухшем лице Гуляева с набрякшими мешками под нижними веками было выражение раздраженности и непонимания. Он сказал:
– Я, возможно, ошибся, товарищ полковник, но…
– Связались с батальонами? – перебил Иверзев тем подчеркнуто официальным тоном, который все ставит на свои места.
Полковник Гуляев глухо ответил:
– С батальоном Бульбанюка связи нет. Батальон Максимова вступил в бой, требовал огня. Вы приказали огня не открывать. Не понимаю, в чем дело, товарищ полковник. Как командир полка, я прошу разъяснений.
Иверзев нервными, гибкими пальцами поймал на столе толстый граненый карандаш, переспросил нетерпеливо:
– Значит, приказ вам неясен? Совершенно неясен?
– Пока еще нет, товарищ полковник, – сухо ответил Гуляев.
Отрезвляюще жестко поскрипывая сапогами, Иверзев приблизился, заложил руки за спину, – молодой, плотный, на голову выше Гуляева, и тот видел его чисто выбритый крутой подбородок, его свежий подворотничок. Иверзев сказал, отливая в тугие формы слова:
– Приказ о прорыве на нашем участке южнее города Днепрова отменен. Вся дивизия снимается и перебрасывается севернее Днепрова. Будем брать город с севера. Батальонам Бульбанюка и Максимова не отходить, держаться там, где они ведут бой. Вот суть приказа.
Было очень душно в этой комнате с занавешенными плотной бумагой окнами, – по-видимому, к ночи истопили печь, пахло жженой соломой и вроде бы одеколоном. Полковник Гуляев почувствовал щекочущие струйки пота под мышками, нестерпимо захотелось со лба, с шеи вытереть жаркую испарину. Он смотрел на Иверзева в упор тяжелым, немигающим взглядом. Потом ему показалось: кто-то бесшумно остановился за его спиной, задышал носом, и, обернувшись, он увидел начальника штаба Савельева. Сухое, умное лицо подполковника было болезненно серым, на ввалившихся щеках пролегли тени. Он поздоровался одними глазами и спокойным, ровным голосом человека, привыкшего к штабной тишине, заговорил:
– Восемьдесят четвертый полк снялся, находится на марше. Пятнадцатый идет за артполком. Артиллеристы снялись час назад. Семенов запрашивает, убрать ли связь?
– Это, я думаю, вы могли бы решить и без меня, – пожал плечами Иверзев и быстро произнес в сторону Гуляева: – Вот видите, полковник не понимает сути приказа. Может быть, приказ недостаточно ясен? Может быть, мы недостаточно точно будем выполнять приказ командующего армией?
– Семенов запрашивает относительно связи, – несколько настойчивее повторил Савельев. – Это связь с плацдармом, товарищ полковник. С ротой Верзилина и батареей Кондратьева.
Гуляев не пытался уже вникнуть в смысл этих слов. Он боковым зрением ловил сочувственное внимание Савельева и думал, что судьба его полка, его батальонов теперь роковым образом зависела не от него, командира полка, а от какой-то всеподчиняющей высшей силы, которая управляла равно Иверзевым, им, полковником Гуляевым, его людьми.
– Нет, я понял суть приказа, – выговорил наконец Гуляев, мучительно сознавая всю сложность своего положения и всего того, о чем он думал сейчас. – Но батальоны вступили в бой, товарищ полковник… просят огня… А как я понял – артполк снялся? Кто будет поддерживать Бульбанюка и Максимова?
Иверзев нетерпеливо вздернул брови, поглядел с жалостью, и Гуляев понял никчемность своего вопроса.
– О чем вы, полковник? Ей-Богу, вы не первый день в армии! – холодно проговорил Иверзев, в синих глазах его затвердел льдистый блеск, который объяснил Гуляеву, что для командира дивизии все бесповоротно решено и взвешено. – Мне не нужно вам уточнять, что дивизию перебрасывают по приказу командующего армией. Я повторяю: действия двух батальонов по-прежнему носят серьезный отвлекающий характер. Батальоны должны создать у немцев впечатление, что мы по-прежнему активизируем силы южнее города, именно на участке Ново-Михайловки и Белохатки. Цель операции: отвлечь часть немецких сил, подвижные резервы, дезориентировать противника. Главный же удар будет нанесен севернее города. Думаю, что все понятно? Тем более что времени у нас в обрез. Любыми средствами передайте батальонам: держаться, до последнего держаться!
Гуляев молчал, наблюдая Иверзева ничего не выражающим, пустым взглядом.
Подполковник Савельев между тем, набив трубку, чиркнул спичкой, сделал затяжку, желтые его щеки ввалились глубоко.
– Василий Матвеевич, – сказал он ровным голосом. – Я только что связался по рации с Максимовым и передал ему приказ. Но я не мог связаться с Бульбанюком.
– Я вам сообщал, товарищ полковник, – говорил с упорством Гуляев, обращаясь к Иверзеву. – Сообщал, как сложилась обстановка в батальонах. Может быть, есть возможность связаться с артиллерией соседних частей? Или с авиацией?
– Вся работающая на нас авиация занята Днепровом, вся основная артиллерия концентрируется севернее города. Тем более что именно сейчас, когда мы с вами теряем время на ненужные объяснения, немцы контратакуют севернее Днепрова танками. Батальоны поддержит батарея Кондратьева, всеми снарядами, что есть на его плацдарме. Что касается авиации – я уже связался. Помогут штурмовики, – сказал Иверзев и, недовольно оглядывая грузную фигуру Гуляева, закончил строго:
– У меня создается впечатление, что вы в чем-то не уверены, полковник. В чем?..
– Не уверен?
Безмолвно сосал трубку Савельев, уставясь себе под ноги, обтянутые аккуратными сапогами, не скрывавшими худобы икр.
– Как командир полка, я в первую голову отвечаю за свои батальоны! – упрямо ответил Гуляев. Его злил холодный, сожалеющий взгляд Иверзева, его синие льдистые глаза, в которые ничто не проникало, злило участливо-беспомощное молчание Савельева. – Вы знаете, что в батарее Кондратьева действуют только два орудия?
Савельев слабой рукой тронул влажно заблестевший лоб, посмотрел вопросительно на Гуляева, затем – быстро – на Иверзева. Командир дивизии, подойдя к столу, с застывшим лицом забарабанил пальцами по карте.
– Идите и выполняйте приказания! – чересчур отчетливо произнес он. – Для связи с батальоном Бульбанюка находите любые средства!
– Мне все ясно. – Гуляев, побагровев пятнами, медленно оправил на животе плащ, еще не просохший от днепровской воды. – Больше, чем ясно, – добавил он.
И, сдерживая одышку, надел фуражку. Тишина провожала его во вторую комнату. Адъютант Иверзева, тот самый излишне воспитанный лейтенант, небрежно поставив на лавку ногу в начищенном сапоге, ленивым голосом разговаривал с писарями. Слегка изменив позу, он лишь из-за плеча скользнул зрачками по старому, потертому плащу Гуляева и проговорил с томной вежливостью:
– Всего наилучшего! Вас проводить?
«Прыщ эдакий! Развели в штабе кур! Не-ет, при Остроухове такого не было!» – спускаясь по ступеням крыльца к «виллису», подумал Гуляев, не любивший ни благопристойных писарей, ни наглых адъютантов, приобретавших самоуверенность под сенью близости к власти.
Было темно, шуршали тополя, моросило.
Три часа назад Иверзев получил приказ командующего армией: немедленно перебросить дивизию на плацдарм севернее Днепрова, соединиться с истрепанной контратаками немцев 13-й гвардейской дивизией с дальнейшей задачей – участвовать в штурме и захвате города. Получая приказ, Иверзев понял, что форсирование Днепра на старом участке в районе острова после неудачных попыток теперь не играло первостепенной роли в общем наступлении. Прежняя цель – любой ценой переправить дивизию на правобережье, расширить плацдарм, занимаемый ротой капитана Верзилина, и начать наступление южнее Днепрова – меняла свой характер.
В тот момент, когда Иверзев получал приказ, он знал по донесениям, что батальону Максимова грозит окружение, что батальоны начали бой и просят огня, и на какую-то долю секунды он почувствовал с тревогой холод под ложечкой и мление в ногах. Он сказал, что два батальона в тылу немецкой обороны завязали бои, что батальон Максимова, по-видимому, в окружении, что дивизия готова к броску, и, говоря об этом, он все время думал о батальоне Бульбанюка, с которым не было связи по рации, и о неполном комплекте боеприпасов. После его доклада командующему об уничтоженном немецкими самолетами эшелоне боеприпасов, которые не успела принять и разгрузить дивизия, генерал нахмурился, и Иверзев сейчас же добавил, что более половины боеприпасов спасено. Он сказал также, что сам был на этой станции и видел, как сильно пострадала материальная часть других соединений, и поэтому не просит боеприпасов из резерва. Этого требовала справедливость по отношению к другим дивизиям. Генерал сказал:
– Ваши батальоны удачно нащупали разрывы в немецкой обороне и начали действия южнее Днепрова под Ново-Михайловкой и Белохаткой. Эти действия носят вспомогательный характер. Цель батальонов сковать силы противника на этом участке, затруднить их переброску в район севернее Днепрова, где будет нанесен главный удар нашей армией. Ваша дивизия входит в состав ударной группы на севере. Вы поняли меня, конечно?
Иверзев ответил:
– Так точно, товарищ генерал.
– Отлично. Теперь эти батальоны многое решают. Они заставят обратить внимание немцев на себя. Они оттянут сюда часть сил от Днепрова. Там немцы усиленно контратакуют тринадцатую гвардейскую дивизию. Как говорят пленные, хотят искупать русских в Днепре и отстранить угрозу от Днепрова. Передайте батальонам – вести бой на правобережье. Держаться в любых обстоятельствах.
И здесь Иверзев опять ощутил желание сказать командующему о том, что батальон Максимова, очевидно, в окружении, что неизвестно положение в батальоне Бульбанюка, но и это уже, как он понимал, не имело решающего значения. Выслушав приказ, он сказал тихим голосом: «Слушаюсь», – и вышел решительно, твердыми шагами.
Однако по дороге в дивизию он почти расслабленно полулежал на заднем сиденье, и шофер не оглядывался на него – знал: когда полковник садился не рядом, а позади, тогда оглядываться и спрашивать не стоило. Командир дивизии не любил в эти минуты излишнего любопытства.
Думая о разговоре с командующим, Иверзев сознавал, что именно теперь, после нового приказа, он не сможет поддержать батальоны всей силой огня, как было задумано прежде. Выбор один: или огонь, поддерживающий под Днепровом дивизию, или огонь, облегчающий в какой-то мере участь батальонов. Другого выхода нет. И хотя он мучился тем, что не попросил снарядов из резерва, не попросил дополнительных огневых средств, он понимал, что и это не спасало положения. Он должен был перебросить артполк на северный плацдарм. Так или иначе, смысл операции полностью ясен. Батальонам держаться насмерть своими огневыми средствами.
Он внезапно приказал остановить машину и сел возле шофера с холодным, непроницаемым лицом, с тем самым выражением надменной непреклонности, какое видели подчиненные и которое вызывало у них неприятное к нему чувство.
Утро постепенно входило в силу, тусклое, пасмурное, осеннее. Туман серой водой затопил до крыш деревушку, подступил вплотную, прилип к окнам. В штабе полка не гасили ламп: никто не спал ночь, никто не вздремнул в сонливый час рассвета.
Полковник Гуляев, накинув на плечи шинель, опершись локтями о стол, сидел, прикрыв тяжелые веки, дрожащими пальцами потирал лоб. Рядом ерзал на лавке, аккуратно поправляя прижатую бечевочной петелькой к уху телефонную трубку, связист Гвоздев, наивный, губастый парень с наголо остриженной головой. Он изредка старательно дул в мембрану, и тогда полковник спрашивал обрывисто:
– Ну? Что? Что вы там шепчетесь, Гвоздев?
– Никак нет, – шепотом отвечал Гвоздев. – Молчат…
Визгливо скрипнула дверь, на пороге выросла высокая фигура начальника штаба майора Денисова. Молодой, всегда улыбающийся смелыми живыми глазами, которые, казалось, постоянно готовы были озорно подмигнуть, он любил риск, острую речь, носил щегольские шпоры и порой чем-то напоминал полковнику капитана Ермакова.
– Не отвечают, товарищ полковник, – сказал Денисов. – Будь моя воля, снял бы я штаны с Бульбанюка да всыпал бы ему по тому месту, где спина теряет благородное название, и приговаривал бы: «Не хитри, не хитри, крестьянская твоя душа!» Ведет давно бой – и ни одного слова по рации. Час назад я успел передать одно слово: «Держаться!» И не получил данных. Что с ними? Что у них? Потемки… Не верю, чтобы Бульбанюка накрыло. Чрезвычайно осторожен. Но что у них?
Он достал портсигар, раздумчиво кинул папиросу в рот, высек огонь зажигалкой и затем, поверх огонька, пристально сощурясь, взглянул на серые окна – так иногда смотрел капитан Ермаков.
Полковник Гуляев спросил обеспокоенно:
– Ты почему… так смотришь?
– Нет, ничего. – Денисов, мигом опомнясь, погасил зажигалку и, не прикурив, пошел, звеня шпорами, к двери. На пороге стал вполоборота, некоторое время глядел на Гуляева с тем же пристальным выражением, наконец сказал: – Вот вы послали четырех разведчиков, товарищ полковник. Но нет большой надежды, что они установят связь с батальоном. Пройдут ли они через немецкую оборону?
– Ах ты!.. О чем балабонишь? – Гуляев хлопнул кулаками по столу, мигнула лампа, связист Гвоздев вздрогнул и робко нагнулся к аппарату. – Вызывать батальон по рации, без конца вызывать! Что у тебя за связь? А? Для чего вас в штабах держат? Для медсестричек из санроты? Ишь храбрецы!..
– Вы говорите обо мне во множественном числе, – без выражения обиды ответил Денисов и вышел более невозмутимый, чем обычно.
Гуляев слышал, как тонко протренькали шпоры майора в соседней комнате, затихли, и за стеной прозвучал его шутливый голос:
– Так вот, детка, кака картинка – вызывайте, вызывайте, вызывайте. Душа из вас вон!
Шумно дыша – мучило сердцебиение, – Гуляев движением плеч поправил сползавшую шинель, крупно зашагал от стола к окну, остановился, исподлобья посмотрел на запотевшее окно, будто еще отражался там такой знакомый, такой самоуверенный взгляд то ли Денисова, то ли Ермакова.
«Экая простокваша! – подумал Гуляев, следя за шевелением тумана по стеклу, уже жалея, что накричал на майора, и поэтому еще более раздражаясь. – Для чего это я! Та-ак. Оч-чень мило!» – Оч-чень мило! – произнес он вслух и передернул плечами, с отвращением увидев свое грубое отраженное в стекле лицо, и не увидел, а почувствовал свой полный, оттопыривающий китель живот, всю свою грузную фигуру – в нем давно не было дерзостного порыва молодости. Да, да, она, молодость, не оглядывается назад, за спиной нет ни бремени опыта, ни расчетливого холодного терпения старости.
– Оч-чень мило! – повторил он, раздраженно насупив брови. – Оч-чень!..
Гвоздев нерешительно вздыхал, разглаживал, мял на коленях кисет.
– Ну? Курить? – брезгливо спросил Гуляев. – Давно бы закурил. Ну-ка, давай сюда кисет. Что у тебя? Махра? Самосад! Завернем, да? Щоб дома не журились?
– Газетки бы, товарищ полковник, – обрадованно заулыбался Гвоздев, протягивая кисет.
– Найдем. Майор Денисов! – крикнул Гуляев.
Никто не отозвался. Однотонный голос радиста бормотал позывные за стеной, каплями падавшие в тишине:
– «Ромашка», «Ромашка», я «Роза»… я «Роза»… я «Роза»… Даю настройку.. Один, два, три…
– Майор Денисов!
Денисов появился на пороге, распахнув завизжавшую дверь, сказал четко и весело:
– Связь с Максимовым!
Бросив кисет, Гуляев, спеша, прошел к рации, где неспокойным накалом горели лампы приемника. Обросший синеватой щетиной радист, придерживая наушники, поднял на полковника словно заострившиеся в воспаленных веках глаза, заговорил однотонно:
– По приказу остаюсь. Мы в окружении. Веду бои… Потерял больше половины единицы… Больше половины… Почему нет огня? Нет огня… У нас кончились огурцы! Кончились огурцы! Дайте огня… по шоссе… Дайте огня по шоссе. По шоссе из Белохатки… Восточная окраина… Дайте огня… Я «Ромашка». «Ромашка». Я кончаю. Я кончаю. Немцы атакуют… Я кончаю… Мы ждем огня… – потухающим голосом закончил радист.
Прошла минута, все стихло, радист молчал, и полковник Гуляев, уперев взгляд в его унылую спину, ждал и думал. Майор Денисов тыльной стороной ладони угрюмо гладил выбритую щеку и тоже ждал.
– Что там? А ну-ка, вызывайте Бульбанюка, без конца вызывайте! Что заснули? – Гуляев прошел к себе, скомандовал связисту: – Плацдарм! Кондратьева! Немедленно!
– Быстренько шестого, – зашелестел в трубку Гвоздев. – Шестого, шестого, поняли?
Полковник резко шагал по комнате, отлично сознавая, что за приказ он отдаст сейчас. Однако он понимал, что там, на плацдарме, только два орудия, замаскированные в двухстах метрах от немецкой передовой, от еловой посадки, где стояли танки, и мог догадываться, что после первых же выстрелов орудия Кондратьева откроют себя и если не будут расстреляны прямой наводкой, то будут раздавлены танками. Но так или иначе, узнав в трубке мягкий картавящий голос старшего лейтенанта, Гуляев отдал приказ немедленно открыть огонь по шоссе, чтобы как-нибудь продлить существование батальона Максимова. И Кондратьев ответил с плацдарма: «Слушаюсь».
Полковник чувствовал себя еще сильным, когда отдавал приказание, но потом расслабленно огруз, опустился на лавку, шинель сползла с плеч, упала на пол, а он, сопя, морщась, дергал, теребил, развязывал тесемку гвоздевского кисета. Просыпая на стол табак, он едва скрутил папироску из газетной бумаги, торопясь, вдохнул горький дым, – обожгло горло, он удушливо закашлялся, сразу постарел лицом.
– Еще вызывать? – робко спросил Гвоздев, отворачиваясь, чтобы не видеть на глазах полковника выдавленных кашлем слез.
Глава четырнадцатая
Шура везла на плащ-палатке каменно отяжелевшее тело Кравчука и, изредка оглядываясь, смотрела вверх на затянутые туманом кусты, где беглым огнем стреляли орудия.
Лежа на спине, Кравчук стонал, его суровое красивое лицо было обезображено болью, сильные руки беспомощно чертили по земле. Он был ранен первым, и она снесла его от орудия под обрыв, положила на плащ-палатку.
Ни Днепра, ни твердого берега не существовало – над всем нависла сырая, белая мгла осеннего утра. Плотный туман душил, лип к глазам, к потному лицу, как клей, и Шуре хотелось содрать его с ресниц, со лба, точно паутину. Она шептала самой себе:
– Ничего, любимый мой, ничего, потерпи. Еще немножечко осталось. Вот сейчас, вот и берег…
Она увидела в просвете холодный блеск Днепра, который с сумрачным шуршанием наползал на мокрый песок, зыбко качал в заводи черные плоты, на которых как будто год назад переправились сюда артиллеристы и пехотинцы капитана Верзилина. А туман был наполнен перекатами звуков, слепыми ударами наверху, где скакали мутно-красные вспышки разрывов, путаясь с частыми вспышками орудий.
Туман раскалывался, гремел обвальным перемешанным эхом над головой Шуры, и, фырча, перелетали болванки, тупо шлепались в воду.
– Вот видишь, все будет хорошо, – ласково сказала Шура, наклоняясь над Кравчуком. – Вот наложу бинт, и все… Ты потерпи. Подождем немного и переправимся… Туда, в госпиталь…
Бинт, второпях наложенный ниже живота, буро намок, даже на вид отяжелел. Она разорвала индивидуальный пакет, приподняла неподатливое тело Кравчука. Он замычал, скрипнул зубами.
– Я все сделаю, – шепотом заговорила Шура, продевая бинт под его широкую спину. – Все сделаю, родненький!
Он открыл глаза, влажные от боли, стыдливо оттолкнул ее руку со своего живота, странно кривя губы, уже осмысленно и ясно спросил:
– Ты это?
– Я…
Он опять как-то весь ослаб, застонал, приник щекой к плащ-палатке, и Шура, перебинтовывая, чувствовала, что и сейчас он презирал, осуждал ее, а она говорила, успокаивая его:
– Ты силу береги. Не говори ничего. Молчи, родненький… Так будет лучше…
Кравчук лежал тихо, заметно билась жилка на его сильной обнаженной шее.
– Не пришлось… Почему так, а? – еле внятно проговорил он.
– Что не пришлось?
– Пожить… Не вышло…
Кравчук с мучительной нежностью потерся небритой щекой о плащ-палатку, будто хотел и не мог приласкаться к этой ставшей неуютной земле.
– Искал. Выбирал. Строгую… Ее и детей на руках бы носил… Детей люблю. Увидел тебя, подумал: «Вот она…». А ты… не та… Не постоянная. Не мать…
– Кравчук, милый, что ты говоришь? Все будет хорошо, – зашептала Шура те обычные ласковые слова, которые привыкла говорить раненым, и, хотя по движению его бровей увидела, что он понимал ее неискренность, понимал, что уже осталось недолго жить, улыбнулась ему. – Переправим тебя в госпиталь, сделают операцию… Погоди, еще на свадьбе твоей погуляем. Ты откуда? Из Чернигова? Напишешь письмо…
А он попросил печально и просто:
– Ну, заплачь хоть, а? По мне заплачь…
Она глядела на него с ужасом – этого никто не говорил ей никогда. Но она не могла заплакать. Она наклонилась и поцеловала его в горячую щеку слабым прикосновением губ.
– Нет, ты хороший, Кравчук…
Тогда он насильно отвернулся, не открывая глаз, прошептал с тоской:
– Ох, как я тебя жалел бы!.. Жалел… Я ведь тебя любил…
– Эй, сестренка! Ты с раненым, тут, что ли? Артиллеристы? – раздался над ней задыхающийся голос. – Где плоты?
Она откинула голову. По берегу шли трое солдат-пехотинцев в плащ-палатках, возбужденно дыша. И еще человек десять солдат сбегали по бугру к воде; трое, придерживая, скатывали станковый пулемет.
– Вы куда? – не поняла Шура.
– Приказ отходить, сестренка. Раненого мы возьмем. На плот.
– Отходить? Как отходить? А артиллеристы?
– Не знаем. Те держатся. А нам приказ.
– Ах вон как, – она встала, – вон что…
Она сама погрузила Кравчука на плот, и простились они как близкие, понимая, что расстаются навсегда; он сказал по-прежнему просто:
– Прощай…
– Прощай, Кравчук, – ответила она грустно. – Прощай, милый.
Так первым ушел с плацдарма сержант Кравчук. А она раньше думала, что у него красивая, хозяйственная жена, дети, двое детей, но нет, ничего этого не было и, наверное, никогда не будет…
Потом она поднималась по земляным ступеням к орудиям, шла все быстрее и быстрее, пытаясь не думать о Кравчуке, и не могла. В ее памяти он был тесно связан с Борисом Ермаковым, и ей неожиданно вспомнилось, как они стояли на холодном ветру под гудящими соснами, на острове, в ночь переправы, и Борис, обнимая ее, говорил полусерьезно: «Не надо слез. Я тебя еще недоцеловал».
Грузные космы тумана, переваливаясь через гребень, сползали ей навстречу по скатам, пахло близкими ноябрьскими холодами. И Шура подумала, что Кравчук, возможно, никогда уже не увидит легкого мелькания первого снега, пахнущего свежим арбузом, белых полей, багрового морозного солнца над сугробами, даже такого вот неприятного сырого тумана. И от этой страшной простоты, неповторимости обычного стало ей трудно и больно глотать. Она остановилась, задохнувшись. «Кравчук ничего не знал. Ничего. Я люблю Бориса, только его…».
– Шурочка!
Она почти испуганно вскинула глаза, и первое, что реально ощутила, была тишина, хлынувшая ей в уши. Сверху спускался человек, без шапки, в распахнутой шинели, человек этот жестом невыносимой усталости откинул волосы – и она увидела знакомый лоб, знакомые брови и незнакомо чужие глаза.
– Сережа?..
Она подбежала к Кондратьеву, взяла за голову, напряженно глядя в его неизбывно утомленное, в пороховых подтеках лицо.
– Есть связь с Бульбанюком? Да?
Он смотрел сквозь нее, не видя.
– Нет, – сказал он, и взгляд его приблизился к ее зрачкам. – Шура, мы выпустили половину снарядов по Белохатке. Кажется, Максимов держится, – договорил он.
– Приказ отходить?
– Нет, мы остаемся. Пехота уходит.
Все вокруг орудийного дворика было чудовищно распахано, разворочено снарядами, воронки смели бруствер, сровняли его с землей, чернеющей обнаженным нутром, всюду тускло поблескивали вонзенные в нее рваные края осколков. Тошнотворный запах немецкого тола, не рассеиваясь, висел в воздухе. Шура знала этот удушающий запах и хорошо представила, что было здесь несколько минут назад… Наводчик Елютин осторожно протирал казенник, рассеянно взглядывая на остывающий ствол орудия, на котором зелеными колечками завилась раскаленная краска. Кроме Елютина, никого не было на огневой позиции, заваленной закопченными гильзами.
– Меняем огневую. Все копают, – объяснил Кондратьев, обессиленно садясь на снарядный ящик. – Нас заметили. Танки лупили прямой наводкой…
Он покашлял стесненно.
– Встань, – приказала она.
Он встал.
– Эх ты, ученый, – сказала Шура и начала застегивать его шинель. – Что, жарко? В госпиталь захотел? А где фуражка? Почему в кармане?
Она пригладила его влажные волосы, надела фуражку. Он глядел в туман отсутствующим взглядом.
– Шура, – сказал Кондратьев, застенчиво покосившись на Елютина.
– Что?
Он коснулся ее локтя, отвел в траншею.
– Я прошу тебя не обращаться со мной как… с мальчиком, – заговорил он, торопясь и волнуясь. – Я не мальчик. Ты прости меня, что я тогда вел себя как осел. Пойми, Борис там, а мы тут. Солдаты все видят – какая глупость! Я прошу тебя, будь со мной официальной… Ты ведь все понимаешь, правда?
– Сере-ожа, – протяжно проговорила Шура со снисходительной нежностью. – Я все время забываю, что ты старший лейтенант…
Отступив на шаг, Кондратьев округлил глаза – она впервые увидела сопротивление на его лице.
– Зачем ты так говоришь? – сказал он.
Его окликнули из пехотных траншей:
– Артиллерист, давай сюда!
В траншее шевелились, двигались люди, долетали приглушенные команды, звон очищаемых лопат. Кондратьев извинился и пошел, невысокий, мешковатый в своей широкой, не по росту, шинели.
Она стояла, прислонясь к стене окопа, прикусив губу до боли. Он казался ей незащищенным мальчиком, как-то неожиданно и случайно попавшим из тишины, от умных книг в эту грубую обстановку обнаженных человеческих чувств, в холод, грязь, во все то, что она испытала на себе. Он не умел носить ни формы, ни оружия, не умел отдавать распоряжения, звание «старший лейтенант» не шло к нему – к его косо затянутому солдатскому ремню, к стоптанным кирзовым сапогам, к этому поднятому не по уставу воротнику шинели… Невоенный весь. Но вид его говорил, что война не на целую жизнь, а было и придет время, когда с поднятым воротником можно будет пробежаться по сентябрьскому дождю или сквозь январский снегопад и потом войти в мягкое, уютное тепло, в яркий свет городской квартиры, в полузабытое далекое счастье.
На Кондратьева она обратила внимание месяца три назад, в летнюю жаркую ночь. Перекинув через плечо ремень автомата, совсем один ходил он по огневой позиции, задумчиво глядел на недалекие немецкие ракеты, задевающие бледными дугами красную, низкую, душную луну.
«Что вы не спите? – спросила тогда она. – Вы что же, часовой?» – «Нет… то есть да. Пусть они. Все спят», – говорил он надтреснутым ото сна голосом, смешно чесал нос, и ей почему-то было жаль его, нездешнего, городского старшего лейтенанта, одинокого среди лунной ночной пыльной степи, по всему черному горизонту разрезанной ракетами.
С этого началось…
– Старший лейтенант Кондратьев? – неестественно спокойно окликнула Шура.
Он задержался у пехотных окопов, подождал ее.
– Что ты сказал о Борисе? – спросила она и даже привстала на цыпочках, чтобы ближе увидеть его глаза.
Около орудий лопнул танковый снаряд, перекатилось эхо, пронзительно заныли протянувшиеся в тумане осколки. И стало тихо. Лишь шуршали плащ-палатки, шаги в пехотных траншеях, придушенно звучали короткие команды: пехота отходила к Днепру.
Кондратьев ответил серьезно:
– С Бульбанюком ничего не известно. Дело в том, что дивизия уходит под Днепров, а батальоны и мы остаемся здесь до особого приказа. Мы поддерживаем батальоны.
– Поддерживаем? – изумленно воскликнула Шура. – Мы поддерживаем один батальон Максимова. А Бульбанюк?..
Кондратьев покашлял в замазанную землей ладонь.
– Ну? – спросила она. – Ну?
– Неизвестна точно позиция Бульбанюка, – проговорил он наконец. – Гуляев ждет связи. Неизвестно, куда стрелять.
– Эх, вы-ы! – сказала она с внезапной неприязнью и презрением в душе. – Чего вы ждете? Чего ждете?
– Шура, я тебе должен сказать прямо: все наши плоты и твой санитарный я отдал пехоте по приказу Гуляева. Им не хватает плотов.
– К чему же санитарный? – сказала Шура насмешливо и упрекающе, точно он вновь нуждался в ее защите. – Ну, зачем?
Несколько минут спустя она появилась в глубоком окопе взвода управления. Никто из разведчиков и связистов не обратил на нее внимания. Младший лейтенант Сухоплюев, длинный, тонкий, как орудийный банник, лежал, вытянувшись, на шинели перед рацией, задумчиво сосал потухший окурок, прилипший к губе.
– Мне… связаться со штабом полка. – В голосе Шуры появилась требовательная интонация. – Срочно.
Сухоплюев, продолжая глядеть на рацию, бормотнул осипшим от долгого молчания баритоном:
– В чем дело?
– У тебя связь, милый? – не ответив ему, но уже с небрежным дружелюбием спросила Шура телефониста. – Дай штаб полка. Я насчет переправы раненых.
– А сколько раненых?
И Сухоплюев бесстрастно перевел взгляд на ее грудь.
– Еще не знаю, сколько будет.
Младший лейтенант подумал, напуская на лицо официальную серьезность.
– Соединяйте! – внушительно приказал он связисту своим низко гудящим баритоном, всегда вызывавшим удивление Шуры.
Он выглядел внешне суховатым, надменным, этот замкнутый младший лейтенант, но в батарее не было более исполнительно-аккуратных людей, чем он. Шура не знала, почему так заторопился Сухоплюев соединить ее, санинструктора, с высшим командным лицом в полку, не знала, о чем думал младший лейтенант. Сухоплюев же в это время думал о том, что очень скоро может совершиться многое, чего тайно желал, чем тайно жил последние часы на плацдарме. Из офицеров батареи в строю оставались лишь двое: он и старший лейтенант Кондратьев. Если Кондратьева ранит и его немедленно отправят в тыл, то место комбата займет он, Сухоплюев, а это – долгожданная самостоятельность, свобода действий, первая ступенька к ожидаемому счастливому случаю, к честной известности: в этом не было ему до сих пор особого везения. А при полной свободе действий он, младший лейтенант, мог взять на себя все, чего не мог сделать слишком мягкий старший лейтенант Кондратьев, и в этом он был твердо убежден.
– Штаб полка, штаб полка… – скороговоркой вызывал связист, косясь в направлении пехотных траншей, где по-прежнему не утихало движение.
– Вы, кажется, под трибунал захотели? – бесстрастным голосом остановил его Сухоплюев. – Забылись? Где установленные позывные?
– Четвертого, четвертого, – поправился связист и сейчас же передал Шуре трубку – Полковник…
– Товарищ четвертый, – спокойно сказала Шура и замолчала.
Глухой голос недовольно заговорил в трубке:
– Кто? Говорите точнее! Кто на связи?
– Я санинструктор от шестого, – повторила Шура окрепшим, решительным тоном. – Вы приказали весь транспорт отдать… соседям. Мне нужен один транспорт для раненых. Прикажите оставить один транспорт, товарищ четвертый…
– Для чего вы делаете это? – прозвучали раздельные слова за спиной Шуры, и от этих слов холодным сквозняком повеяло на нее.
Она повернулась как бы от физически неприятного прикосновения и в двух шагах увидела старшего лейтенанта Кондратьева, рядом с ним вытянулась, застыв, фигура старшины Цыгичко.
– Что вы делаете? – шепотом сказал Кондратьев, шагнул к ней, и следом, как заведенный, шагнул старшина. – Для чего?..
– Прошу вас, не мешайте мне, – попросила она и медленно сдунула волос со щеки, встретив глазами грустный взгляд Кондратьева.
– Это бестолковый разговор, голубушка. Как вас понять прикажете? Это я вам мешаю? – раздраженно загудел голос полковника. – Ну, уважаемая, время не для кокетливых шуток!
– Я не намерена шутить, товарищ четвертый! – выговорила она, будто падая с высоты. – Я имею право требовать, что положено для раненых. Прикажите оставить один транспорт, товарищ четвертый…
– К телефону шестого, – суховато потребовал Гуляев.
– Вас, товарищ старший лейтенант.
Он встал к Шуре боком и начал торопливо и четко говорить, преодолевая смущение, – одни глаза оставались грустными, – и она, наблюдая его, уже не узнавала в нем того беспомощного человека, которого выдумала себе.
Он говорил:
– Есть. Слушаюсь… Слушаюсь. Никак нет. Немного. Кравчук. Отправлен с соседями. Так точно. Осталось двадцать пять огурцов. Туман большой. Никаких сигналов. Слушаюсь. Будем ждать. Мне ясно…
– Значит, ждать? – проговорил Сухоплюев.
Кондратьев, подтверждая без слов, кивнул, отдал трубку связисту. Шура, выпрямившись, с вызовом спросила:
– Значит?.. Значит, раненые будут переправляться вплавь?
– Пойдемте! – И не голосом, а выражением глаз он пригласил ее пройти по траншее вперед, и она подчинилась.
Цыгичко двинулся следом.
– А я, товарищ старший лейтенант? – забормотал он, забегая в ходе сообщения и напруженно вытягиваясь перед Кондратьевым. – Мне куда ж?
– К орудию.
– А они… Как же? Не знают, что меня вернули, – выговорил старшина, охваченный робостью.
– Я скажу. – Кондратьев полуласково подтолкнул Цыгичко в плечо. – Идите.
Теперь они были одни.
Из-за поворота траншеи доносился сдавленный голос Сухоплюева, с расстановками вызывающего «Волгу», затихали приглушенные туманом шаги Цыгичко. Было одиноко, сыро и жутко стоять вблизи опустевших траншей пехоты, чудилось – вся земля вымерла, задушенная туманом.
– Шура, – заговорил Кондратьев, трогая запотевшую золотую пуговицу на ее шинели. – Неужели вы не поняли? Мы остаемся здесь. Понимаете? Мы уйдем отсюда, когда Бульбанюк и Максимов будут на левом берегу, когда это будет – не знаю… А просить плот, – он усмехнулся, – просить плот, когда мы остаемся, просто неловко.
– Мы остаемся здесь навечно?
– Я не хотел бы, чтобы это случилось, – ответил он. – Все цепляется одно за другое.
Он отпустил ее пуговицу, и в тишине долетел до них из белесой мглы безнадежно бьющий в одну точку голос: «Волга»… «Волга», «Волга»… – и Шура, с ужасом подумав, что свершилось что-то непоправимое с «Волгой», Борисом, с ней самой, с Кондратьевым, прислонилась к стене траншеи, страстно выговорила:
– Не верю, не могу. Ни во что плохое не верю! Все будет хорошо! Все будет хо-о… – И, прижав подбородок к груди, заплакала в бессилии и отчаянии, как если бы виновата была в чьей-то гибели.
– Шурочка, милая… Зачем вы? – растерянно зашептал Кондратьев. – Прошу вас, Шурочка, милая…
– Нервы, – ответила она, подымая лицо с сухо блестевшими глазами. – Я не знала, что у меня нервы.
Все случилось в сумерки. Целый день холодный, сырой воздух очищался от тумана: то, расправляя синие дымы в низинах, выглядывало солнце, и тогда веселели мокрые кусты на берегу; то небо до самого горизонта затягивало пепельной гарью низко клубящихся туч, приносивших влажный запах ноябрьского дождя – и мрачно и плоско отражалось небо в неуютном осеннем Днепре.
Целый день над плацдармом не было немецких самолетов, даже в те часы, когда прояснялись небесные дали. Раз они внезапно появились в стороне – их насчитали двадцать четыре; «юнкерсы» прошли мимо плацдарма, развернулись далеко над лесами и полчаса крутились и ныряли там – вздрагивала земля.
Люди глядели туда, сидя около орудий, – никто не думал о батальоне Бульбанюка, который еще жив, ибо мертвых не бомбят.
Тогда же Кондратьев позвонил полковнику Гуляеву, сообщил ему об этой первой весточке о батальоне.
– Надо открывать огонь по старым данным, товарищ четвертый! – сказал Кондратьев с волнением и радостью.
– А вы точно знаете новую позицию батальона? По своим лупанете? Связь мне с батальоном! Вот что – связь! Ясно? – И, засопев в трубку, полковник прервал разговор.
А мимо летели, наслаиваясь, облака над притихшей немецкой передовой, над еловой посадкой, где затаились чужие танки. Тяжелый, едкий туман утра съел нежную желтизну осени, и везде посерело, намокло, утратило краски. Ветер мотал под обрывом голый кустарник, вызывающий тоску, вздымал в воздух последние черные листья, нес их стаями и бросал на пустынную, студено-фиолетовую воду Днепра. Там, вблизи посеревшего острова, не видно было ни одной лодчонки. И неприятно молчала немецкая артиллерия. В полдень далеко справа, откуда глухо доносилась канонада, еле видимыми комариками прошла группа штурмовиков, за ней волной прошла другая, третья, хмарное небо замельтешило, долетел слабый гул, и солдаты разом поглядели на Кондратьева.
Деревянко зло сказал:
– Не туда, черти, дьяволы!
– Это на Днепров, – проговорил Кондратьев.
Только наводчик Елютин, спокойно лежа на снарядных ящиках, по обыкновению копался в механизме ручных часов, разложенных на носовом платке.
– Наладился! – сурово выговаривал Бобков и сводил широкие брови. – Нужны твои часы, как собаке калоши. Брось, говорят, не то как махну по твоей механизме. Искры полетят!
– Ну а какой толк? – миролюбиво отвечал Елютин. – Может, тебе часы не надо, а я обещал Лузанчикову.
Бобков беспричинно раздражился:
– А на кой они мне? Я и так вподрез время узнаю, понял? По воздуху, понял? По нюху ноздрей!
– Ну, сколько сейчас времени? – Елютин улыбался, и, как отсвет этой улыбки, мелькало сочувствие в широко раскрытых глазах Лузанчикова.
– Дурак! – снисходительно отрезал Бобков. – И сроду, видно, так! Поверь! Поработал бы четыре года в поле на тракторе – часы б через забор забросил, как воспоминание! – И, огромный, широкий, шуршащий на ветру плащ-палаткой, враждебно глянул в сторону скрытых лесами Ново-Михайловки и Белохатки, где отбомбили самолеты и непрерывно и дробно постукивала молотилка боя.
Разговоры были не нужны, бессмысленны, но тяжелее всего молчание на плацдарме, тесно сжатом ненастным небом, бесприютно пасмурным Днепром и перекатами канонады слева и справа.
Стал накрапывать дождь, посыпался мелкой, нудной пылью, затянул сизым туманцем немецкие окопы, посадку, дорогу за ней, темные леса, остров на Днепре. Орудия и открытые в ящиках снаряды влажно заблестели; и потемнели капюшоны солдат, сидевших на станинах нахохленными воронами.
«Надо открывать огонь, – подумал Кондратьев, слушая несмолкаемый лепет дождя по капюшону. – Чего я жду? Позывных батальона? А будут ли они? Полковник, и солдаты, и я понимаем, что ждать глупо! Что же, я открою без команды огонь и отвечу… А если все изменилось там, я ударю по своим? Меня расстреляют за это. Но они просили на рассвете огня. Где же приказ, наконец?..» Он огляделся. Солдаты цепко уловили его движение, и тотчас послышался над ухом вежливо воркующий голос Цыгичко:
– Пока… Поскольку без делов солдаты, товарищ старший лейтенант, разрешили бы им в землянках погреться. Тепло – ведь оно бодрость духа и моральное состояние придает. Основываясь, значит, на опыте прошлых боев с немецкими оккупантами.
– Да? – спросил Кондратьев. – Вон даже как? Очень хорошо!
– Следовательно, забота о живых людях, – едко сказал Деревянко. – Моральное состояние приподымает! Большой мастер политику делать!
– Старшина, ты, никак, свою палатку потерял? – в упор спросил Бобков.
– Да разве ж я о себе, хлопцы? – забормотал Цыгичко. – Я же не о себе…
«Что я стою? Почему я не подаю команду? – думал Кондратьев. – Есть ли оправдание тому, что люди гибнут сейчас, а я стою вот здесь как последний подлец и думаю о чистоте своей совести?»
– Старший лейтенант, к телефону!
Кондратьев отбросил капюшон, – шуршал в кустах дождь, из окопа тревожно высовывалась голова связиста, – и вдруг с горячо поднявшейся в душе злостью к самому себе скомандовал срывающимся голосом:
– К бою! Зарядить и ждать!
Все вскочили, а он, добежав до сухоплюевского окопа, покрытого сверху плащ-палаткой, крикнул связисту:
– Кто? Гуляев?
Кондратьев схватил трубку, облизнул шершавые, обветренные губы.
– Товарищ четвертый…
– Что?
– Я не могу ждать. На что мы надеемся?
Полковник Гуляев шумно дышал в трубку.
– На чудо. И терпение.
– Чуда не будет. Я открываю огонь!
Было молчание – долгое, мучительное, неясное.
– Открывай, – неожиданно тихо сказал полковник. – Открывай, сынок… Открывай. По Ново-Михайловке. Да людей своих береги. Вы ведь у меня… последние артиллеристы.
А Шура, прислонясь к стене окопа, не замеченная Кондратьевым, куталась в плащ-палатку, как будто знобило ее.
Глава пятнадцатая
Глубокой ночью, ясно вызвездившей над Днепром, небольшой плот отчалил от правого берега, мягко захлюпал по черной воде, качаясь и наплывая на синие зигзаги горевших в воде созвездий.
В эту ночь не зажигали реку немецкие прожекторы, не стреляли вдоль берега крупнокалиберные пулеметы, танки не били прямой наводкой по острову на шум машин, на случайный огонек.
Ночь, темная, с холодным воздухом, кристальной тишиной поздней осени, легла на успокоенные высоты, на уснувшую, измученную землю. Изредка слева, как бы сонно и нехотя, вспыхивали немецкие ракеты, без звука сыпались красные светляки пуль.
Бежала и нежно лепетала вокруг бревен вода, скрипели уключины, дремотно поскрипывали, терлись бревна.
«Кажется, весь день был ветер, а теперь какая странная тишина, – лежа спиной на соломе, думал Кондратьев, испытывая смешанное чувство легкости и беспокойства. – И куда мы плывем под этим звездным небом? В тишину… Но, кажется, кто-то убит. Что случилось с Сухоплюевым? Он лежал между станин лицом вниз… без фуражки. Рядом с Елютиным. А орудия где?» Он напряг память, хотел вспомнить, что произошло несколько часов назад, но ничего не мог вспомнить. Мешала тяжесть в висках, ломило в надбровье, и путала мысли втягивающая студеная высота мерцающего неба. Скрипуче пели уключины, душно пахла солома, влажная плащ-палатка неприятно корябала подбородок. Он сделал движение, перебинтованная голова была точно привязана к бревнам.
– Шура, – слабо позвал он. – Где Шура?..
Звезды исчезли, их заслонил кто-то, повеяло свежестью в лицо.
– Шура?..
– Я, Сережа, – прошелестел осторожный шепот из темноты. – Что, болит? А ты не поворачивайся, не надо…
– Шура, меня ранило? Ничего не помню… Где Сухоплюев?
– Нет его.
– А Елютин?
– Нет.
– Где они?
Она помолчала.
– Сними плащ-палатку, – попросил он и после добавил уже неуверенно: – Говори, Шура…
Она сняла плащ-палатку. Он, сдерживая дыхание, почувствовал запах ветра и пороха от колюче-холодного ворса ее шинели.
– Говори все.
Тогда она ответила полуласково:
– Хочешь, сказку расскажу? Я много сказок знаю. Ты в детстве любил сказки?
Он нащупал ее не отвечающие на его пожатие пальцы.
– Мы стреляли, а потом… потом?..
– А потом по орудиям стреляли танки, – договорила она, снижая голос. – А потом у нас кончились снаряды.
– Снаряды?.. – повторил Кондратьев, глядя в огромное, переливающееся холодными звездами небо, на туманно искрящийся Млечный Путь.
Было ему кого-то непростительно, горько жаль, мнилось, что кого-то он тяжело, грубо оскорбил и тот вскоре погиб в двух шагах от него. Шура, вероятно, знала, видела это и потому не говорила всего до конца. И память не сразу стала выхватывать несвязанные, отрывочные картины того, что случилось несколько часов назад.
Он помнил раскаленный догоряча ствол орудия, лихорадочно снующую между станин широкую спину Бобкова, его руки, бросающие снаряды в дымящееся отверстие казенника, его бешено-радостные глаза, его крик: «А, сволочи! Не жалко!» И рядом – сосредоточенное, неспокойное лицо Елютина, повернутое от прицела: «Угломер! Угломер! Угломер!» Неужели два орудия заменяли всю артиллерию дивизии? Восемь ящиков опустело, и тогда ехидный Деревянко сообщил: «Восемь сдуло!» И через минуту этот милый Лузанчиков восторженно-возбужденно повторил: «Десять сдуло, товарищ старший лейтенант!» А где был Цыгичко? Кажется, вместе с Шурой он носил ящики из ниши, раз упал, задев ногой за станину, и засмеялся глупо и жалко. Сыпал дождь, огневая позиция размякла, как каша… Что было еще?
Из еловой посадки ударили по орудиям танки. Оглушили звенящие разрывы в кустах и на бруствере. Срезанные ветки хлестнули по лицу горячим кнутом. И был открыт ответный огонь по танкам. Мелькали перед ним прижмуренные, ослепленные глаза Елютина и судорожно вцепившиеся в снаряд огромные пальцы Бобкова, остальных Кондратьев больше не видел. Началась дуэль между орудиями и танками. Вскоре его сознание прорезал крик, нет, не крик – радостный рев Бобкова: «Горят, горят!» Затем разрыв, звон в голове, желтый опадающий дым, и из этого дыма поднялся без шапки, с окровавленной скулой Елютин, пошатываясь, нащупал левый рукав, пытаясь отогнуть его, словно на часы хотел посмотреть, сделал шаг за щит орудия и упал животом на бруствер.
Все исчезло после… Все поглотила черная, мягко качающаяся пустота, и он плыл в ней, как сейчас под этими звездами. Он очнулся от свинцовых капель дождя, от голоса, хрипло кричавшего непонятное и страшное: «Мы погибли здесь, выполняя приказ. Пришлите плот. За Кондратьева остался я, младший лейтенант Сухоплюев. У нас нет снарядов. Мы все погибли здесь, выполняя приказ!..» «Он убит, но почему он докладывает еще? – соображал Кондратьев. – Разве он убит?» Сухоплюев лежал в бурой жиже, обнимая намертво телефонный аппарат, виском вмяв в грязь разбитую эбонитовую трубку. Как оказался телефонный аппарат близ станин орудия, при каких обстоятельствах погиб Сухоплюев, он не вспомнил, голова, скованная болью, была налита огнем. Скоро Цыгичко, Бобков и Шура понесли его куда-то вниз, и там, внизу, снова бездонная мгла закачала его на мягких волнах забытья.
– Тебе не больно, Сережа?
– Нет. – Он долго глядел на высокие звезды, мимо которых плыл темный силуэт Шуриной пилотки, а в ушах все возникал хрипло-незнакомый голос Сухоплюева: «Мы погибли здесь, выполняя приказ…».
– Сухоплюева там похоронили?
– Да.
– И Елютина?
– Да.
– А орудия как?
– Орудия были разбиты. Мы столкнули их с берега в Днепр. Ты приказал.
– Я?
– Да. А прицелы здесь. С нами. Ты приказал взять.
– А люди… остальные?
– Здесь они.
А вокруг бревен струилась, ворковала, плескалась вода, с упорной однообразностью повизгивали уключины, и не было слышно ни одного голоса на плоту.
– Я не слышу их, – сказал Кондратьев и окликнул: – Лузанчиков!
Ответа не последовало. Слева помигала ракета и сникла, растворилась в ночи.
– Он спит. Легкое ранение в ногу, – ответила Шура. – Мальчик… До свадьбы заживет.
– Деревянко.
Возле ног Кондратьева послышался стонущий вздох, кто-то завозился, сухо зашуршал соломой, и оттуда дошел шепот:
– Здесь я, товарищ старший лейтенант.
– Цел, милый мой, а?
– Самую малость, товарищ старший лейтенант. Едва задницу вдребезги не разнесло. Если б рукой не придержал, брызги б только полетели. А тогда ищи ветра в поле!
И до Кондратьева донесся смех: один – перхающий, заливистый, другой – густой, сдержанный. Но было ему удивительно и противоестественно думать, что это обыкновенный человеческий смех, признак будничной жизни, живого дыхания. Среди звездной бездны ночи едва заметные фигуры проступали у весел, и по смеху Кондратьев узнал их – это были Бобков и старшина Цыгичко. И он невольно спросил свое, навязчивое, спросил расслабленным, дрогнувшим голосом:
– Живы?
Цыгичко деликатно промолчал, а Бобков, вроде и не случилось ничего, ответил за двоих весело:
– Как полагается, товарищ старший лейтенант. Руки-ноги целы. И все места в здравии!
И захохотал приглушенно, за ним Цыгичко прыснул тоненько, по-бабьи.
– Не до смеху! – удивился Деревянко. – Какой смех!
«Так вот она, война, вот она, жизнь, – думал Кондратьев с облегчением и любовью к этим людям, родственно и крепко связанным с ним судьбою и кровью. – Вот оно, простое и великое, что есть на войне. Вот она, жизнь! Остались прекрасное звездное небо, осенний студеный воздух, дыхание Шуры, соленые остроты Деревянко, смех Бобкова и Цыгичко. И это движение под Млечным туманно шевелящимся Путем… И я… я сам не знаю, буду ли жить, буду ли, но люблю все, что осталось, люблю… Ведь человек рождается для любви, а не для ненависти!»
Звезды дрожали у него на ресницах, холодком касались их, переливались синими длинными лучами, убаюкивал мирный скрип бревен, и, как сквозь воду, слышал Кондратьев отдаляющийся зыбкий шепот Шуры, шорох соломы, легкие стоны, и уснул он, разом провалился в горячую тьму, но даже во сне не покидала, тревожила его расплывчатая мысль о чем-то несделанном, недодуманном: «Разве они не заслужили любви?»
Он проснулся от влажного холода, потянувшего по ногам, от возбужденных голосов, топота сапог по бревнам и долетевшей команды:
– Кондратьева на берег!
Плот стоял; над головой, в мутной мгле рассвета, шелестели на ветру, заслоняли похолодевшее небо верхушки деревьев.
– Вы, товарищ старший лейтенант, за шею здоровой рукой меня обнимайте, – взволнованно наклоняя озабоченное, землистого цвета лицо, говорил старшина Цыгичко и, пахнущий порохом и ветром, елозил на коленях подле Кондратьева.
– Донесешь? Уронишь, не котелок с кашей нести! – недоверчиво прогудел Бобков, взглядывая через плечо старшины самолюбивыми глазами. – Дай-ка я… Бревна скользкие. Разъедутся ноги – и ляпнешься жабой! Уйди-ка!
– Вы только… помогите мне, – виновато улыбнулся Кондратьев. – Я дойду… ноги у меня здоровые…
– Нельзя ж! – прошипел Цыгичко. – Поскольку, значит, мы с вами… Як же можно? Я легонько вас. Как пушинку доставлю.
– Поторопитесь! – раздался окрик Шуры.
Кондратьев оперся о жилистое плечо Цыгичко и, крепко поддерживаемый Бобковым, непрочно встал на ноги, покачнулся от тошнотворно прилившей к вискам крови.
В тумане на бугре выстроились санитарные крытые повозки, и одна темнела внизу, заляпанная грязью; мокрая, обданная росой, дымилась спина лошади, дремлющей в сумраке шумящих деревьев.
И толпились вокруг незнакомые пехотинцы, по-тыловому выбритые, в новеньких плащ-палатках, в чистых обмотках, в касках, как если бы ни разу еще не были в бою.
Кто-то спросил свежим голосом:
– Откуда?
– С того света, – ответил Деревянко, – знаешь такой район чи нет? – И, усмехаясь, скользящим жестом локтей все поддергивал галифе, не державшееся на бинтах, оглядывался на строго озабоченную Шуру, которая торопила его садиться в повозку, объяснял: – Да на что же я сяду, солдат милосердия? Выходит, садись, на чем стоишь.
А из крайнего санитарного фургона белело за несколько часов неузнаваемо похудевшее, выделяясь огромными глазами, лицо Лузанчикова, до сих пор не верившего в гибель Елютина. Он, всхлипывая иногда, как сквозь пелену, смотрел на немецкие часики, зажатые в потной ладони, перед самым боем починенные и подаренные ему Елютиным, они все жили и бились, всё отсчитывали и отсчитывали секунды, будто сообщена была им вечная жизнь.
Глухой от стука крови в голове, Кондратьев ступил на твердый берег, и оттого что не в силах был двигаться сам, стало неловко ему, и неловко стало оттого, что голова и левая рука перебинтованы, оттого, что незнакомые пехотинцы глядели на него с выражением молчаливого сочувственного понимания.
Бобков по-хозяйски подошел к санитарным повозкам, командно рявкнул на ездовых:
– Ближе, ближе! Что отъехали? Стреляют, что ль?
– Крепко старшего лейтенанта садануло! – проговорил кто-то. – Довезут ли до госпиталя?
Кондратьев никогда не отличался военной выправкой, не признавал неистово начищенных сапог, браво развернутых плеч, по-строевому наглухо застегнутых пуговиц – это сковывало его, сугубо гражданского человека, привыкшего к широким пиджакам и до войны никогда не любившего галстуков.
Но вдруг пальцы его ощупью заскользили по борту шинели, отыскивая холодные пуговицы, в то же время Цыгичко начал проворно оправлять на нем шинель и, раздувая ноздри, успокоительно заговорил:
– Ничего, шинелька эта теплая, на вате, согреетесь, товарищ старший лейтенант. А вернетесь из госпиталя – мы ее по вас сделаем. Укоротим. И – как влитую… Як же иначе?
И тут Кондратьев припомнил, что шинель эта не его, а провинившегося старшины, и со стыдом подумал: как это он забыл отдать ее раньше?
– Цыгичко, – сказал он. – Пожалуйста, снимите с меня шинель. И… поменяемся…
– Не понял, товарищ старший лейтенант! – удивился и испугался Цыгичко. – Никак нет! Не могу. Капитан Ермаков приказал. Привык я. Очень хорошая вещь шинель.
– Я приказываю, – повторил Кондратьев.
Тогда старшина Цыгичко осторожно и покорно, стараясь не задеть раненую руку Кондратьева, снял с него шинель; однако, не решаясь надеть, положил ее на песок. И, жилистый, слегка кривоногий, неуверенно затоптался в одной гимнастерке на свежем ветру рассвета.
– Возьмите свою шинель, – еле слышно приказал Кондратьев, чувствуя, что может упасть от боли в голове.
Две санитарные повозки спускались по бугру. В это время позади них, бесшумно вылетев из серо-мглистой чащи леса, резко затормозил на опушке знакомый маленький открытый «виллис». Тотчас же пехотинцы зашептались, вытянулись, разом замолчали, а старшина Цыгичко замер, сдвинув свои кавалерийские ноги.
Прямо к Кондратьеву грузно, спеша шел невысокий полковник в старом, потертом плаще, с крупным, грубоватым лицом, воспаленным бессонницей.
– Кондратьева мне! Где Кондратьев? – хрипло крикнул он, и Кондратьев только по губам полковника догадался, что спрашивали его.
– Я…
– Жив?.. – осекшимся голосом проговорил полковник и, точно не узнавая этого хрупкого, бледного, с перебинтованной головой и кистью офицера, долго и молча глядел в лицо ему пристально, ищущими, без слез плачущими глазами. – Жив, сынок?..
И Кондратьев внезапно почувствовал мучительно-сладкую судорогу в горле оттого, что на этом свете его жизнь так нужна была кому-то.
– В медсанбат. Всех. Немедленно… – отрывисто сказал полковник.
– Товарищ полковник, – шепотом произнес Кондратьев. – Прицелы с нами.
– Что мне прицелы, сынок! – перебил полковник с горечью. – Что мне прицелы, дорогой ты мой парень… Орудия будут, а вот люди…
С мягким хрустом колес подъехали санитарные повозки, следом за ними подкатил грязный и юркий, как маленькое лесное животное, «виллис»; подошли озабоченная Шура, недовольный чем-то Бобков, и медсанбатские неторопливые санитары при виде суроволицего пехотного полковника мгновенно забегали и закричали на лошадей.
– Какая дурья башка придумала прислать за тяжелоранеными колымаги? – спросил он таким недобрым голосом, что у старшего санитара подобрался испуганно рот. – Вы старший из медсанбата? Головотяпы! Грузить в «виллис». Мигом!
Через несколько минут погрузка была закончена; один Деревянко, который мог только лежать, устроен был в санитарной повозке. Полковник Гуляев сел впереди с шофером, нахмуренно взглянул на водянистую полосу зари, проступавшую над лесом; настала минута прощаться.
– Выздоравливай, Сережа, – сказала Шура и поцеловала холодными губами Кондратьева в подбородок.
– Прощай, Шурочка, – сказал Кондратьев. – Я тебя никогда не забуду.
– Счастливо, товарищ старший лейтенант, – угрюмо выговорил Бобков, отворачивая задергавшееся лицо.
Когда же повозки и «виллис» тронулись, старшина Цыгичко, до этого скромно стоявший в стороне, порывисто схватил шинель, сумасшедше бросился за машиной, загребая по песку кривыми ногами.
– Товарищ старший лейтенант! Товарищ старший лейтенант! Шинелька!..
Но «виллис» набирал скорость, стремительно взбирался в гору, и никто в машине не услышал его, а ездовые на повозках оглянулись с недоумением.
Глава шестнадцатая
Часовой наконец узнал его и, не отрываясь, наблюдал, как он, в изодранной шинели, весь в грязи, обвешанный двумя полевыми сумками, шел по двору к хате.
Он так рванул дверь – в сенях задребезжало пустое ведро.
В первой половине, полутемной и жаркой, сидел за рацией молоденький сержант. Ветер шевельнул хохолок на его голове, он увидел вошедшего и, растерянный, отодвинулся от рации вместе с табуреткой, рывком сдернул наушники. Это был полковой радист.
– Товарищ капитан?.. Неужели? Вы… здесь?
Не слушая его, Ермаков распахнул дверь в другую комнату – осенние закатные блики косо лежали на глиняном полу, на пустых лавках под окнами. Не было тут ни связистов, ни связных штаба.
Полковник Гуляев в плаще, придавив кулаки к лицу, дремал за столом. Седина светилась в волосах. Рядом, на табуретке, виден был солдатский котелок с остатками застывшего борща, подернутого жирными блестками, лежал нетронутый ломоть хлеба.
Ермаков, зло морщась, ударом сшиб котелок на пол, он загремел, покатился в угол. Полковник во сне втянул носом воздух, потерся лбом о кулаки, спросил:
– Кто здесь? Кто вошел?
– Я здесь.
Полковник отнял кулаки ото лба, брови его, веки и морщины у переносья вдруг мелко затряслись, и в отяжелевших, непроспанных глазах вспыхнуло выражение беспомощного неверия.
– Борис?! – хрипло выдавил полковник. – Батальон… Где… батальон?..
Он медленно, с одышкой, приподнимался, глядел на потемневший от крови погон, на расстегнутую кобуру пистолета, на знакомый поцарапанный планшет, на эти чужие полевые сумки.
– Батальон – там, – ответил Ермаков почти беззвучно. – Посмотрите в окно. Там все.
Полковник Гуляев подошел к окну, маленькому, мутному, согнулся нерешительно и жалко, точно заглядывая в колыбель больного ребенка, и не сразу выпрямился.
– Это… все?..
Четверо солдат в измазанных землей, захлюстанных шинелях, грубо, буйно заросшие щетиной, с автоматами на коленях, расположились под плетнем на дворе, жадно затягивались; напротив, держа кисет, присел на корточки часовой.
– Бульбанюк… и офицеры… – начал полковник, но голос осекся, и он замолчал, перхая горлом.
Ермаков заговорил устало и жестко:
– Я прошу, вопросы мне не задавайте. Я не отвечу на них. Пока вы не ответите. Где наступление дивизии? Где поддержка огнем?
– Что я могу тебе ответить? – вполголоса сказал полковник. – Приказ был отменен…
С неприязнью к этому тихому голосу Ермаков смотрел на полковника в упор неверящими глазами, болезненно горевшими на его темном, исхудалом лице.
– Отменен? Как отменен?..
Черная тоска была в этой низенькой комнате, забитой лиловым сумраком; и прежняя, острая, ноющая боль подступила, вонзилась в грудь, сжала его горло, как тогда в лесу, когда он готов был на все. Голос полковника звучал как через ватную стену, и он неясно слышал его: вся дивизия переброшена севернее Днепрова; два орудия Кондратьева лишь поддерживали батальон; не было связи, посланные к Бульбанюку разведчики, вероятно, напоролись на немцев; ни один не вернулся, они шли с приказом держаться до последнего, чего бы это ни стоило; от батальона Максимова осталось тридцать человек, два офицера. Максимов погиб… Ермаков выслушал, не прерывая, враждебный, непримиримо чужой, губы стиснуты, воспаленные глаза прищурены, а правая рука механически гладила под шинелью левую сторону груди, где была боль, и боль эта, что появилась в лесу, не утихала, обливала его ледяной тоской. Он спросил через силу:
– Значит, Иверзев… знал положение в батальоне?..
Полковник, насупясь, ответил:
– Так сложилась обстановка…
Ермаков проговорил:
– Я был в батальоне в момент его гибели, и я хотел бы видеть полковника Иверзева. Где сейчас… дивизия?
– Дивизия на плацдарме под Днепровом, штаб в Новополье. Но без меня ты не сделаешь ни шагу. Теперь и мне нечего делать в этой хате. Нечего… – И спросил некстати: – Водки хочешь?
– Нет. Вот возьми сумку и документы Бульбанюка. И ордена Жорки. Документы Прошина я сам передам в артполк…
Были поздние сумерки, когда они въехали в Новополье – прибрежное село, расположенное в сосновом бору. Несло запахом дождя из-под дымных туч, клубившихся над бором, от шумящих в этих тучах верхушек сосен, от песчаной дороги среди темных хат с фиолетовым блеском в стеклах, отражавших ненастное осеннее небо. Безлюдно было на улицах, и только озябшие часовые несколько раз требовательно останавливали «виллис» на перекрестках. Полковник Гуляев молчал, молчал и Ермаков, усилием воли пытаясь обрести душевное равновесие, которое так необходимо было ему в предстоящем разговоре с полковником Иверзевым. Но этого равновесия не было: после вчерашней ночи все сместилось в его душе, и он ничего не мог забыть.
– Здесь останови, – раздался голос полковника Гуляева, и потом: – Часовой! Штаб дивизии? В этой хате разместился комдив?
Ермаков увидел синеющую под луной пустынную улицу; «виллис» нырнул в придорожной канаве, вплотную притерся к палисаднику, за которым протяжно пели на ветру сосны, под ними черно отблескивали стекла хаты с крыльцом, и фигура часового приближалась по песчаной дорожке к «виллису». Полковник Гуляев покряхтел, вылез из машины, в раздумье оглядел погашенные окна, спросил неопределенно:
– Спят в такую рань?
– Недавно с передовой вернулись. Цельный день там были. Должно, отдыхают, товарищ полковник, – ломким баском ответил часовой. – Вроде жена к командиру дивизии приехала. Да вон адъютант, на сеновале спал, кажись. Товарищ лейтенант, к вам! – крикнул часовой, отходя за машину.
Из глубины двора, из клуни, шел, покачиваясь спросонок, адъютант Иверзева, – шинель внакидку, красивое лицо помято, – видимо, не поняв в чем дело, он пробормотал, передергиваясь в судороге зевоты:
– Пакет, да? Давайте.
Гуляев с неудовольствием пожевал губами.
– Лейтенант Катков, доложите полковнику: командир полка Гуляев и капитан Ермаков.
– А! Это вы! Полковника? – И адъютант, уже осмысленно вглядываясь в Ермакова, заговорил торопливо:– Полковник только с передовой. К нему приехала жена. Приказал тревожить только в случае пакета. Но я сейчас, минуточку…
Адъютант взбежал на крыльцо.
Ермаков, чувствуя знобящую боль в груди, по-прежнему молчал. Полковник Гуляев упреждающе проговорил:
– Что ж, ты доложить обязан. Но без горячки. Спокойно. Только спокойно.
– Я вас не подведу, товарищ полковник, – ответил Ермаков, усмехнувшись. – Не волнуйтесь.
Тягуче гудели сосны в палисаднике, со скрипом, с деревянным стуком задевая ветвями крышу, а над нею и двориком то набухало темнотой, то лунно светлело, разорванным дымом неслось ноябрьское небо.
Затем в доме произошло оживление, вспыхнул свет в двух окнах, за стеклом скользнула тень адъютанта, и вскоре послышался приближающийся к двери полнозвучный, сильный голос Иверзева: «Почему не узнали?» Дверь открылась, и на крыльцо шагнул полковник Иверзев, высокий, возбужденный, в длинном стального цвета плаще; волосы его занесло ветром набок.
– Капитан?.. Ермаков? – воскликнул он изумленно. – Откуда вы? И полковник здесь? Слушаю, слушаю вас!..
Возбуждением, непоколебимым здоровьем веяло от молодого, полного лица, от сочного голоса, от прочной, большой фигуры уверенного в себе человека; и глаза его, которые, очевидно, так нравились своей холодной синевой женщинам, блестели сейчас настороженно-вопросительно. «Да, это тот Иверзев, – подумал Ермаков. – Тот, который отдавал приказ!»
– Я вывел батальон из окружения, товарищ полковник, – сказал Ермаков, взойдя по ступеням на крыльцо. – Я вывел батальон… в составе пяти человек, в числе которых один офицер. Но меня не удивляет эта цифра, товарищ полковник! И вас, наверно, тоже. Батальон дрался до последнего патрона, хотя вы, товарищ полковник, мало чем помогли нам…
– Что за тон, капитан Ермаков? – перебил Иверзев, сдвинув брови. – Полковник Гуляев! Объясните, в чем дело!
Полковник Гуляев поспешил к крыльцу, заколыхал полами потертого плаща и, подбирая живот, привычно вытянулся, поднял умный, как бы убеждающий взгляд на Иверзева.
– Капитан Ермаков командовал батальоном после гибели Бульбанюка и Орлова, – сказал он преувеличенно спокойно.
Наступило короткое молчание. Иверзев мгновенно потух, потускнело возбуждение на лице, но, помедлив немного, он бросил на перила крыльца свою маленькую властную руку, переспросил с некоторой заминкой:
– Вы говорите, пять… человек и один офицер? – И вдруг, пристально и твердо глядя мимо Ермакова, заговорил ровным металлическим голосом: – Завтра, товарищи офицеры, будет взят Днепров. Полковнику Гуляеву, вероятно, известно, что в Городинск прибыло пополнение? Майор Денисов уже без вас заканчивает формировку новых батальонов. Вам немедленно отправиться туда. С капитаном Ермаковым. Сегодня ночью. Денисов знает приказ. Вы же, капитан Ермаков, напишите подробную докладную об обстоятельствах гибели батальона… Я вас больше не задерживаю! – Иверзев решительно оттолкнулся от перил крыльца, и, ни слова не ответив, хмуро поднес руку к козырьку полковник Гуляев.
«Что он сказал – пополнение? Да, да, конечно, разбитый полк будет сформирован. Да, да, дадут технику, дадут людей. Что ему до того, что застрелился раненый Бульбанюк, погибли Прошин, Жорка, братья Березкины… Докладную о них?..»
– Простите, товарищ полковник, – сказал Ермаков, не в силах сдержать себя. – Вы надеетесь, что моя докладная воскресит батальон?..
Ермаков выговорил это и будто оглох от собственного голоса, доносившегося до него как из душного тумана, и, в ту секунду отчетливо понимая и чувствуя, что правда, которую он скажет сейчас, будет стоить ему очень дорого, он с неприязненной резкостью договорил, разделяя слова:
– А мы там… под Ново-Михайловкой думали не о пополнении и докладных… О дивизии, о вашей поддержке думали, товарищ полковник. А вы сухарь, и я не могу считать вас человеком и офицером!
– Что-о?.. – Иверзев сделал шаг к Ермакову, в его раскосившихся глазах, горячо блеснувших на белом лице, выразился несдержанный гнев, а пальцы правой руки нервно сжались в кулак, ударили по перилам. – Замолчать! Под суд отдам! Щенок!.. Под суд!.. – И, внезапно, вмиг остановленный самим собою, хрипло выговорил надломленным голосом: – Попросите извинения, капитан Ермаков. Сейчас же, немедленно!
Растворилась дверь, в проеме света метнулась неясная тень адъютанта; на крик бежал часовой по дорожке, придерживая на груди автомат, и полковник Гуляев, кинувшись на крыльцо, схватил Ермакова за рукав шинели, затряс его, весь налитый тревогой, задыхаясь тяжелой одышкой: «Что ты делаешь?» Но в тот момент Ермаков соображал удивительно спокойно и сначала несколько поразился тому, что и адъютант, и полковник Гуляев вроде бы чувствовали вину именно его, Ермакова, а не Иверзева, и, тут же трезво поняв причины этого, поняв, что случившееся между ними виделось со стороны предельно страшным, усмехнулся, сказал:
– Я не чувствую за собой вины, товарищ полковник…
И, сбежав по ступенькам крыльца, прошел мимо часового, машинально отступившего с тропинки, мимо испуганно притихшего шофера к «виллису».
– Что ты наделал, капитан Ермаков? Понимаешь, что ты натворил? – повторял, задыхаясь, полковник Гуляев. – Соображаешь? Нет?..
– Если он прав – отвечу перед трибуналом, – неприязненно проговорил Ермаков и влез в машину. – Я готов, товарищ полковник…
Полковник Иверзев, взволнованный, сразу обрюзгший, ходил из угла в угол по комнате, сцепив за спиной пальцы. Безмолвие затаилось в штабе, шелестел дождь по стеклам, скатывался струями, изредка что-то шуршало в соседней комнате – не то вкрадчивые шаги адъютанта, не то капли постукивали в стены дома.
Лидия Андреевна сидела на кровати, в полусумраке проступало нежное, молодое лицо, светились изумленные глаза. Она молча клонила круглую шею, обтянутую воротом суконной гимнастерки, не моргая, следила за Иверзевым и выглядела подавленной. И эта затаенность в штабе, смешанное чувство собственной вины и собственной правоты, воспоминание о своем диком крике на крыльце (она слышала, конечно, этот крик) гнетуще действовали на Иверзева, и успокоение не наступало.
– Что случилось? – недоуменным голосом спросила Лидия Андреевна. – Ты можешь мне объяснить?
Он насильственно улыбнулся:
– Ничего особенного.
– Что случилось?
– Какой смысл вникать тебе в то, что происходит здесь?
– Да… Но что произошло?..
Он не дал ей договорить:
– Лида, я вызову сейчас машину, и тебя отвезут. Не обижайся, дела. Да, очень срочные дела… – Он обнял ее за плечи, поцеловал в губы, раздумчиво спросил: – Ты понимаешь меня, конечно?
Она сказала:
– Я так давно тебя не видела.
– Лида, извини, пожалуйста. Лейтенант Катков, машину Лидии Андреевне! – крикнул он через стену адъютанту.
– Ты очень торопишься, – сказала она обиженно. – Я же только приехала.
– Извини, пожалуйста. Я виноват… извини меня. Сейчас я не могу тебе все объяснить…
Потом он опять ходил по комнате и теперь жалел, что напрасно отправил жену, которую он не часто видел и которая полтора месяца назад перевелась в медсанбат дивизии с Белорусского фронта. Но все, что произошло, мучительно давило, угнетало его тем, что именно в этот вечер она была здесь и, вероятно, слышала все.
Шел дождь, было сыро в комнате, за окном сумеречно; уныло отсвечивали поникшие кусты в палисаднике, и на крышу, шумя по-осеннему, наваливались ветви сосен.
Пытаясь неопровержимой логикой рассуждений успокоить себя, он думал, что этому артиллерийскому офицеру, видевшему гибель батальона, еще трудно было понять, какое значение в общей операции армии под Днепровом приобретали бои в Ново-Михайловке и Белохатке. Что ж, за этим офицером стояла своя правда ответственности за гибель батальона; за ним же, Иверзевым, стояла еще большая правда ответственности за всю дивизию. И эта стойкость батальонов Бульбанюка и Максимова была для него, и не только для него, лишь шагом к Днепрову, маневром, который должен был в определенной степени обеспечить успех операции. Он знал, что завтра решится все…
Но эта, казалось, последовательная логика доводов не сумела успокоить Иверзева. Ему было хорошо известно, что офицеры не любили его, однако, даже сейчас, это его не задевало. Он считал, что не обязан внушать любовь к себе, а был обязан заставлять подчиненных выполнять свою волю. И поэтому он не мог простить капитана Ермакова; Иверзев знал также, что в случае неудачи, в которую не верил, будут искать виновных, а они должны быть, как бы он ни не хотел этого.
Шагая в раздумье по комнате, Иверзев позвал повелительно:
– Лейтенант Катков!
Всем видом выказывая почтительное участие, вошел адъютант, смиренно наклонил гладко причесанную голову Иверзев сказал:
– Лейтенант Катков, вызовите ко мне майора Семынина и двух автоматчиков.
– Так точно, товарищ полковник, прекрасно понял. Смотрите, как он, а? Наглец…
– Не вам судить, лейтенант Катков! – властно оборвал Иверзев. – Вы свободны. Еще раз предупредить Алексеева и Савельева: на наблюдательный пункт выезжаем в два часа ночи.
– Слушаюсь.
Адъютант закрыл за собой дверь.
Глава семнадцатая
Всю дорогу до Городинска они не проронили ни слова; по разъезженному проселку, по вспыхивающим в свете фар лужам, в колеях, не переставая, сек дождь, летел навстречу косыми трассами.
На окраине села полковник Гуляев приказал остановить машину и тут на околице нашел свободную, без солдат, хату, затем скомандовал коротко:
– Идем!
Ермаков, ничего не ответив, пошел за ним. Полковник потоптался на пороге чистенькой, подметенной комнаты с бумажными занавесками на окнах, мрачно насупил широкие брови, заговорил:
– За такие штуки полагается тебя под суд, понял? Заварил кашу, ведром не расхлебаешь! Ну а дальше что?
– Уж если заварил, так буду расхлебывать до конца, – сказал Ермаков, бросая фуражку на стол. – Пока вот здесь, в горле, не встанет.
– Ты головой думаешь?
– Думаю, что есть такие, которые надеются: Россия большая, людей много. Что там, важно ли, погибла сотня или тысяча людей!
Полковник Гуляев промолчал – с козырька капало – и, заметив, как снимал Ермаков свою покорябанную планшетку и чью-то тяжелую полевую сумку, отвернулся.
– Мы с тобой как родные, от Сталинграда шли, – проговорил он. – Ты как сын мне… Но позволь сказать, хотя я тебя и люблю: ты глупец! Держать всегда надо себя, в руках держать. – И, опустив глаза, сдавленно договорил: – Ты офицер и должен правильно меня понять. Иначе, голубушка, дышать нельзя!
– Давайте помолчим, полковник.
– Так вот, мальчишка! – грубовато сказал Гуляев. – Сейчас я в полк к Денисову. Узнаю, что с формировкой. К ночи заеду. А ты, зяблик стоеросовый, считай себя под домашним арестом! Все понял?
Дождь порывистым набегом шумел по кровле, звенел по мутному, в потеках оконцу, за которым косо рябило под ветром лужи, где, плавая, мокли тополиные листья. Ермаков на секунду увидел сквозь мелькавшую водянистую сеть, как неуклюже втиснулся полковник в «виллис», как машина тронулась, выдавливая колеи на мокрой траве за окном, и горькая нежность к Гуляеву шевельнулась в душе его.
– Хозяйка, можно ли горячей воды? А впрочем, и холодная сойдет.
Хозяйка, темноволосая женщина, статная для своих уже немолодых лет, аккуратная, крепконогая, мягко излучая из глубины прозрачных глаз ласковый свет, пропела звучно:
– Холодной? Обдеретесь весь. Вон яка щетина у вас. Мой чоловик холодной не брився… Разве жалко воды?
– А муж где же? Воюет?
– Где же ему быть? С сорок первого року. Може, и неживой уже. – Хозяйка всхлипнула, ноздри дрогнули; из-под ситцевой косынки трогательно белела по-девичьи ровная ниточка пробора.
– Ну, не стоит, не надо это, слезы никогда не облегчают, – заговорил Ермаков, и ему захотелось успокоить ее, погладить по волосам возле этого жалко-аккуратного пробора. – Ну что же плакать? Война кончится, все станет ясным. – И тронул ее горячее круглое плечо. – Ведь всему бывает конец…
Она не отстранилась, только прерывистым вздохом высоко подняла грудь, сказала:
– Когда ж она кончится? Закрутила она весь свет, як цыган солнце!
– Да, закрутила, – задумчиво согласился Ермаков. – Всех…
Она как-то влажно смотрела сквозь смокшиеся ресницы, и он спросил почти родственно:
– Трудно одной?
– Ой, как лихо, – прошептала она и, закрыв глаза, покачала головой.
Бреясь, он глядел в потускневшее зеркало на свое исхудавшее лицо, от которого за эти дни отвык, и не узнавал, иногда видел, как входила и выходила хозяйка, ловил внимательные взгляды украдкой и с нежной жалостью к ней, к неизвестной, одинокой жизни ее думал: «Если бы месяц назад…».
Тот знакомый и незнакомый человек в зеркале, задержав помазок на намыленной щеке, смотрел грустно, непрощающе.
Он чувствовал, что остыл, что выжглось что-то в нем, опустело и не хватало той прежней энергии, той силы, что не сдерживала его прежде. Он подумал о Шуре, о ее стыдливых и исступленных губах в первую ночь в землянке и вспомнил о том, как она обнимала его и будто не хотела этой близости. «Нет, ты не любишь меня, не жалеешь совсем. Тебе нехорошо со мной. Ну скажи честно!» И тот незнакомый ему, усталый человек в зеркале болезненно прижмурился, точно вспомнил, что был когда-то непоправимо виноват.
«О чем это я? Размотались нервы. Такое чувство, словно заплакать готов!.. Совсем никуда! – подумал он, испытывая знобкую боль в сердце. – Огрубел, огрубел за три года… Все казалось простым, как выбриться вот».
– С кем это вы говорите? – распевно спросил голос хозяйки за его спиной. – Сумно вам, чи шо? Кого ж вы в зеркале бачите?
Неслышно подошла сзади, наклонилась, чуть задев полной грудью его плечо, и, заглядывая в зеркало с медленной улыбкой, нежно касаясь мягким, как вода, взглядом его лица, шепотом повторила, тепло обдав дыханьем его волосы:
– Что же вы бачите? Веселый были и нахмурились… Сумно?
И он, внезапно тронутый этим, погладил ее руку, шершавую, несмелую, сказал откровенно, будто давней знакомой:
– Устал я. Вот отдохну, все пройдет. Устал очень…
Она поняла его и тотчас кинулась к постели, начала взбивать чистые высокие подушки, а он тогда проговорил просто:
– Не надо. Мне на лавке. Спасибо. Мне только подушку.
Двигаясь легко, молодо, она накинула телогрейку, тихонько, не загремев, взяла ведро, взглянула своими прозрачными лучистыми глазами и вышла из хаты.
Ермаков облегченно бросил шинель на лавку. Дремотно стучал по крыше дождь, и жарко светила керосиновая лампа.
Он давно потерял ощущение времени, и этот дождливый вечер казался ему вчерашним осенним вечером, даже те ощущения, что были вчера, не покидали его и сегодня. Но был он смертельно утомлен всем, что случилось в эти ночи и дни; с желанием хотя бы короткого сна лег на расстеленную на лавке шинель, голова непривычно утонула в блаженном пуху подушки. Он долго не засыпал под тихое бормотание дождя. Затем сон мгновенно окунул его в теплую летнюю реку, прикоснулся к пяткам, накаленным песком желтого пляжа, залитого жарким солнцем, а по песку, в трусиках, с веслом на плече, шел кто-то знакомый, улыбающийся, но кто – он никак не мог узнать. «Кто это? – тенью толкалась во сне мысль. – Не может быть! Ведь Прошин убит…».
Он вскочил на лавке, увидел струи дождя, сбегающие по стеклу, и подумал: «Нервы вконец расходились… Контузия, черт бы ее взял!» Он зажмурил глаза, и лицо его дернулось, выражая страдание.
«Прошин? Тот двадцатилетний лейтенант. Вот его сумка, после выпуска полученная вместе с пистолетом, с ремнем, с обмундированием».
Он расстегнул сумку. В ней были выданные в училище золотые погоны, суконная пилотка, завернутые в бумажку новые звездочки, бритвенный прибор, пара чистого белья, карандаш и школьная в линейку тетрадь; последние листы были вырваны, – очевидно, для писем. Он нашел одно, недописанное, неотправленное. Стояла дата – 15 июня 1943 года.
«Прощай, Таня!
Ты меня простишь, конечно, что я не подошел к тебе на вокзале, когда ты разговаривала с лейтенантом Михаилом Дариновским. Я не хотел вернуть тебе твою фотокарточку, которая тебе не нравилась. Пусть она будет со мной, как воспоминание. Я ведь тебя любил!
Я вернусь к тебе другим, ты не узнаешь меня. Я уеду на фронт, чтобы совершить… (зачеркнуто). Родина! Я люблю солнце, лес, воду, траву, маму, тебя… да, я очень люблю тебя…
Я тоскую по паркам, садам, Где следов не найдешь уж моих, И по серым любимым глазам… Как мне грустно без них!Это напевает Мишка Дариновский.
Едем в эшелоне. Я лежу на нарах, вспоминаю тебя и все вижу… Вижу, как будто все было сейчас. Уверен, меня не убьют. Мишка Дариновский сидит внизу, насвистывает, чистит ТТ. Значит, он тоже любил тебя? Но почему не сказал прямо? Честность офицерская – без нее нельзя жить».
«Эх, Прошин… милый Прошин», – думал Ермаков, до ясной отчетливости вспоминая его веселое, возбужденное лицо, его просящий мальчишеский голос: «Товарищ капитан, я не могу бросить взвод!» – и ту первую бомбежку в окруженной деревне, где он погиб.
Ему хотелось увидеть фотокарточку Тани, о которой так сдержанно, так непонятно писал лейтенант Прошин, но он не нашел ее в сумке. Она, по-видимому, осталась у него в нагрудном кармане, погибла вместе с ним.
Ермаков опять лег, отвернулся к стене и так лежал неподвижно, не раздеваясь, не снимая сапог, наконец медленно забылся.
…Глубокой ночью его разбудили громкий стук в дверь, певучий голос хозяйки вперемежку с мужскими голосами.
И он, еще ничего не видя в густой темноте, инстинктивно потянулся за оружием, окликнул:
– Кто там, хозяйка?
– К вам чи що? – растерянно ответила она из потемок. – Где ж зажичка? Туточки была.
Какие-то люди, топая сапогами, входили в хату. Сейчас же чиркнула зажигалка, осветила полные белые плеч и хозяйки, ее заспанное лицо; она зажгла керосиновую лампу, в комнате запахло свежестью дождя, подуло влажным ветром из растворенных дверей, и Ермаков громче спросил:
– Кто пришел?
В комнате стояли трое. Майор, сухощавый, с белесыми деревенскими бровями, и рядом – двое солдат в намокших плащ-палатках, под которыми оттопыривались автоматы.
Майор вопрошающим взором обвел Ермакова, некоторое время выждал; лицо майора было знакомо – оно не раз встречалось в штабе дивизии.
– Капитан Ермаков? – тусклым голосом произнес майор. – Ваша эта фамилия – точно?
Ермаков нахмурился, затягивая на гимнастерке ремень, оттолкнул на бедро кобуру: с вечера он не успел раздеться и сапог не снимал.
– Не совсем понимаю. В чем дело?
– Вы арестованы, капитан Ермаков. Сдайте оружие, – проговорил майор бесцветным голосом, и по тону его голоса Ермаков безошибочно понял все.
– Вам? Сдать? Оружие? – спросил Ермаков, бледнея, и, усмехнувшись, расправил ремень, привычно оттянутый тяжестью пистолета. – Вам? Сдать? Неужели?
– Ваше оружие!
Майор подошел вплотную, неторопливым жестом протянул руку ладонью вверх. Ермаков посмотрел на эту ладонь, резко вскинул глаза на майора – встречный холодный свет зрачков почти физически проник в его зрачки.
– Вероятно, мой арест связан с полковником Иверзевым? Так, значит, вам оружие?
Он стал с неспешной сосредоточенностью расстегивать кобуру.
– Не делайте глупости, капитан Ермаков! – предупредил майор настороженным тоном.
Ермаков вынул пистолет, окинул его быстрым, что-то решающим взглядом и несколько секунд помедлил неопределенно.
– Ладно, – сказал он с насмешливым спокойствием. – Вот мое оружие. Пойдемте. Я готов.
– Оденьтесь. Дождь, – посоветовал майор подчеркнуто равнодушно.
– Шинелька туточки, сухонькая, – неожиданно раздался замирающий голос хозяйки. – Ось она!
На пороге он задержался, ласково кивнул встревоженной, непонимающей хозяйке, которая выглядывала из другой половины, набросил шинель на плечи, сказал:
– Спасибо.
Глава восемнадцатая
Когда артиллерийский огонь перенесли в глубину немецкой обороны и грохот разрывов отдалился от наблюдательного пункта полка, вырытого за трамвайной насыпью, когда пригороды Днепрова еще сплошь застилались дымом, из второго батальона сообщили: роты пошли.
Перескакивая через воронки, люди бежали к отдаленно проступающим из дыма крайним домикам под соснами. Полковник Гуляев не слышал крика атакующих рот; мнилось, люди бежали к немецким окопам молча, и после длительной артподготовки безмолвное движение батальона казалось ему малообнадеживающим и малодейственным. Это чувство непрочности всегда возникало у него в минуты начатой атаки.
Гуляев насупленно полуобернулся к Иверзеву, стоявшему в двух шагах с биноклем, перевел взгляд на полковника Алексеева и увидел нетерпеливое выражение на лице командира дивизии и странные прислушивающиеся глаза замполита. В это мгновение телефонист осипшим голосом доложил, что второй батальон капитана Верзилина ворвался в гитлеровские траншеи, и тотчас Гуляев, чувствуя колющие мурашки на спине, крикнул телефонисту:
– Первый и второй – вперед!
Были это новые, наспех сформированные батальоны, и зычная команда полковника задержала беготню связных на НП, голоса телефонистов мигом срезало, и только дождь хлестал по наступившей здесь тишине.
Первый батальон, занимавший позицию по фронту, поднялся из траншеи. Стала слышнее автоматная и винтовочная пальба, поле закипело людьми, они бежали в сторону поселка – к немецким окопам.
Частые разрывы мин квадратами легли перед поселком, загородили фигурки солдат, и Гуляеву было видно, как падали люди, зигзагами отползали в стороны от разрывов по всему полю.
– Первый и второй – вперед! – повторил Гуляев. – Не медлить!
Мины вздергивали землю впереди и сзади наступающего батальона, но фигурки уже подымались, бежали и ползли сквозь ядовито-желтый дым, мимо оспин воронок, и опять поле словно стремительно покатилось к домикам.
– Молодцы! – возбужденно сказал Иверзев, опуская бинокль. – Это ваши, полковник Гуляев!
Полное лицо Иверзева, покрытое молочной белизной возбуждения, было мокро от дождя, губы улыбались, потемневший от влаги плащ вольно расстегнут, и странно было видеть налипшую на рукава его окопную грязь.
«Ишь ты, – неприязненно подумал Гуляев, – вслед за Алексеевым сюда пришел!» Полковник Алексеев, не торопясь, щелкнул портсигаром, нескладно наклонился к телефонисту – прикурить. Был он внешне покоен, заботливо выбрит, в сыром воздухе слабо тянуло запахом цветочного одеколона. Гуляев и многие офицеры в полку знали, что с тех пор, как Иверзев заступил командиром дивизии, замполит все чаще пропадал в полках; говорили, что комдив недолюбливал Алексеева так же, как Алексеев недолюбливал его.
– Молодцы! – воскликнул Иверзев, глядя в бинокль. – Кто командир батальона?
– Майор Лугов, – вяло сказал Алексеев. – Я не ошибся, Василий Матвеевич?
– Да, он, – подтвердил Гуляев.
– Представить майора и отличившихся солдат! – распорядился Иверзев. – Сразу же после боя! Позаботьтесь о наградных, Евгений Самойлович, – уже иным тоном обратился он к Алексееву.
Гуляев не расслышал, что ответил замполит. Рядом, ударив в землю и точно пытаясь расшатать ее, разорвались, оглушили бомбовым хрустом два дальнобойных снаряда, лавина земли обрушилась на окоп, комья зашлепали по плечам, по телефонным аппаратам, Иверзева откинуло к другой стене окопа, сбило фуражку. Возбужденно смеясь, он поднял ее, с удивлением разглядывая поцарапанный козырек.
– Все живы?
Полковник Алексеев, весь осыпанный песком, с любопытством вертел в пальцах мундштук папиросы, посмеивался:
– Вот и покурил, называется, табак выбило.
Желтый дым понесло в поле, и не стало видно бегущих там людей, круглых вспышек мин – все исчезло; вблизи наблюдательного пункта беглым огнем били прямой наводкой наши батареи, снаряды шипя проносились над трамвайной насыпью.
Низко под дождливыми тучами с рокотом прошла партия штурмовиков; на конце поля одна за другой описали полукруг красные ракеты – то давали сигналы самолетам стрелковые батальоны, и штурмовики снизились, протяжно заскрипели эрэсы.
– Что там в первом? – крикнул Гуляев связисту. – Передайте: не медлить, не медлить! Броском вперед!
По ракетам, по звукам стрельбы он знал теперь, что два батальона ворвались в район пригорода, и необъяснимая медлительность первого батальона взвинчивала его. Гуляев понимал, что значит потерять темп атаки, и, багровея крупным своим лицом, он выдернул трубку из рук связиста, поторопил:
– Капитан Стрельцов! Ты что медлишь? Что чешешься? А ну, подымай людей!
– У немцев два дзота, товарищ полковник. Лупят из пулеметов!
– Какие дзоты? Где? Артиллерия все с землей смешала! А ты медлишь!
– Никак нет, товарищ полковник. Уцелели как-то. Посмотрите около трамвая. Артиллеристам бы огоньку..
Гуляев раздраженно бросил трубку телефонисту и посмотрел. Метрах в двухстах тянулись траншеи первого батальона, и впереди позиции он хорошо видел распластанные на земле тела солдат, многие отползали назад в окопы, прыгали в них.
На окраине городка, возле дачных домиков, где делала круг трамвайная линия, лежал на боку красный вагон, и слева и справа от него виднелись два бугорка земли, откуда рывками плескал огонь.
Бесперебойно работали немецкие пулеметы. С чувством злости против артиллеристов Гуляев обвел биноклем ближние дивизионы артполка, бегло стрелявшие по дачному поселку, и нашел свою полковую батарею. Сформированная из пополнения, она стояла впереди дивизионов на прямой наводке в редких кустиках. Вокруг пушек сновали люди. Там командовал прибывший из училища новоиспеченный лейтенант, и Гуляев, взбешенный близорукостью батарей, бессилием и медлительностью батальона Стрельцова, вдруг сказал, ненавидяще косясь на заострившееся лицо Иверзева:
– Капитана Ермакова бы сюда! Вот кого бы сюда, товарищ полковник! А Ермаков в кутузке сидит! Самое время!
Кровь прилила к его голове, он чувствовал, что теряет самообладание, но в следующую секунду мысль о том, что слова эти бессмысленны сейчас, заставила его трезво оценить положение.
– Связь с батареей есть? – сдерживая одышку, спросил он телефониста.
– Связной здесь.
– Связной из батареи! – закричал Гуляев. – Ко мне бегом!
Иверзев шагнул к брустверу, ноздри его раздувались, две волевые складки углубились в краях рта.
– Разглагольствуете тут, а батальон лежит! Весь батальон лежит! Двух дзотов испугались? Вперед! Мы первые должны ворваться в город! Иначе – грош нам цена!..
– Я подыму этот необстрелянный батальон, товарищ полковник, – очень тихо ответил Гуляев.
– Подождите. У нас, кажется, достаточно артиллерии. Я пойду к батарее со связным. Я вижу эти дзоты, – сказал озабоченно Алексеев. – Я отсюда хорошо их вижу.
Он легонько потискал локоть Гуляева и отошел, развязывая тесемки плащ-палатки. Она мешала ему. Алексеев кинул ее на солому траншеи, сказал молоденькому конопатому связному:
– Ну? Самым ближним путем! Есть?
Никто не остановил его.
Все видели, как он со связным вышел из хода сообщения, взобрался на трамвайную насыпь и сбежал в поле, хорошо заметный по росту в своей узкой длинной шинели не серого, а темного цвета. Он носил постоянно эту шинель, и в батальонах его узнавали по ней.
«Ложись! Ползком! – хотелось крикнуть Гуляеву, в душе любившему Алексеева за сдержанность и интеллигентность, то есть за те качества, которых не хватало ему самому, и, глядя на полковника, он невольно пригибал голову.
– Замполит пошел, – свистящим шепотом сказал приподнявшийся у аппарата телефонист. – Честное слово, срежут его!
Алексеев и связной упали два раза, когда рядом рассыпались мины и обоих накрыло дымом. Все ждали, что они встанут, меряя взглядом то пространство, которое отделяло их от батареи. Но встал один Алексеев; он склонился над неподвижно лежащим меж воронок связным, затем нетвердо пошел к огневой позиции.
– Убило парнишку, что ли? – сказал Гуляев, кривясь. – А ну, Стрельцова! – скомандовал он телефонисту.
В это время Иверзев вызвал по связи полковника Савельева и передал ему приказ: открыть огонь по дзотам, срочно отозвать взвод танков из приданного дивизии подразделения. Ему ответили, что танки пошли по шоссе, прорвались к западной окраине поселка, ведут бои с немецкими танками; соседние дивизии, встретив сильное сопротивление, обходят Днепров в северо-западном направлении.
Иверзев кончил говорить и, разметывая полы распахнутого плаща, стремительно приблизился к Гуляеву, синие глаза его вспыхнули гневным горячим блеском.
– Лежат! Батальонов поднять не можете!.. Вы понимаете, что медлительность испортит все! Понимаете, что мы сдерживаем соседей, именно мы!.. Нельзя, нельзя ждать! Ни минуты, ни секунды!.. А ну! Автомат мне!..
Он произнес эти слова, и, сорвав с груди бинокль, сразу схватил чей-то прислоненный к стене окопа автомат, и в то самое мгновение, почувствовав в руках ледяное, обмытое дождем железо, ощутил в себе силу, злость и уверенность в том, что сам сейчас подымет залегший батальон, хотя сознанием понимал, что делать это командиру дивизии совсем неподобает. («Это безумие! Зачем это я?») Но будто разжатая гневом стальная пружина толкнула его к действию, и он уже не искал оправдания тому, что делает, когда быстро пошел по ходу сообщения, возбужденный, неся свое большое тело с той нетерпеливой готовностью и яростной верой, которые возникают только в моменты непреклонной слепой решимости.
Все смотрели на него.
Он показался на трамвайной насыпи и ускорил крупные шаги, потом побежал к буграм окопов, где под огнем лежали люди.
Иверзев бежал как через багровую пелену, с обостренным ощущением, что земля катится, ныряет, падает под его ногами, мелькает и мчится вместе со свистом пуль, летевших ему в грудь. Лицо и шею его осыпало дождем, и он мгновенно взмок, но не от дождя, а от жаркого пота, облившего его.
«Только успех!.. – огненными толчками плескалось в его сознании. – Неуспех – и не простят ничего!..» И хотя Иверзев понимал, что рядом свистит смерть – впервые так близко слышал ее тонкий железный голос, – он горячо убеждал себя, что его не сразит пуля, и в голове ударами билась мысль о том, что не должен, не имеет права умереть в этом бою.
Когда же он подбежал к траншеям первого батальона и пулеметные очереди непрерывными трассами застегали по земле, под ногами его, лицо Иверзева, потное и гневное, было страшно, он, чудилось, увидел себя со стороны.
– Батальо-он!.. Впере-од!..
Он переступил тела убитых, ткнувшихся ничком в землю, бросились в глаза новые обмотки на их ногах, новые зеленые вещмешки на спинах, промелькнуло меловое лицо незнакомого капитана, выскочившего из траншеи с группой солдат, и тотчас появилась сбоку от капитана узкоплечая фигура в темной шинели, и зовущий крик прорезал треск пулеметов:
– Коммунисты, за мной!..
Тогда Иверзев понял, что это Алексеев, и, высоко вскидывая автомат над головой, наклонился вперед, подавая команду и не узнавая накаленный свой голос:
– Впере-од!
И оттого, что в трех шагах справа во весь рост двигался Алексеев, оттого, что люди бежали за ними, бежали, не пригибаясь к земле, раскрыв перекошенные криком рты, выставив строчащие автоматы в ту сторону, где вокруг перевернутого трамвая взлетали столбы артиллерийских разрывов, вдруг порывистые слезы радостного отчаяния заклокотали у Иверзева в горле.
– Батальо-он, впере-од!.. За мно-о-ой!..
«Вот оно как, вот оно как… – скользнуло в разгоряченном мозгу Иверзева, туманно видевшего, что зачем-то бежит он прямо на пулемет, в упор плещущий ему в лице. – Вот оно как, вот оно…».
На НП видели: метрах в пятидесяти от дзотов он упал; Гуляев, до этого со злобой наблюдавший за неприцельной стрельбой полковой батареи, перестал следить за точностью огня. Вся артиллерия, что стояла на участке наступления полка, теперь била прямой наводкой по двум дзотам, задерживавшим продвижение батальона. Дым заволок половину поля, в прорехах мельтешили силуэты солдат, краснело пламя – горел перевернутый трамвайный вагон.
Полковник Гуляев слышал, как заговорили, задвигались связисты и офицеры за спиной, произнося фамилию командира дивизии, однако и без того было ясно, что Иверзев убит или ранен.
«Да, я его не любил, – подумал он сейчас. – Иверзев был слишком не прост, и я хорошо понимаю, почему он сам повел в атаку батальон…».
Скоро дым развеяло, но Гуляев не рассмотрел на поле ничего, кроме воронок, неярко горящего трамвайного вагона за насыпью, тел убитых и санитарной повозки, мчавшейся по полю.
Батальоны заняли пригородный поселок. В глубине его отдаленно урчали танки. Слева тяжелые «студебеккеры» тянули по дороге орудия. К траншеям подкатили открытые, без брезента, «катюши» и с оглушающим скрипом, окутываясь желтыми тучами дыма, выметнули молнии в дождливое небо.
– Сниматься! – приказал Гуляев сердито. – Немедленно!..
Он выслушал донесения недоверчиво, после чего присел к телефонисту, вызывавшему капитана Стрельцова, поторопил полуласково:
– Что же ты, голубчик чертов, связист называется! Запроси потери, потери в первом батальоне… И пусть сообщат об Алексееве и Иверзеве.
Ему доложили потери батальона и сообщили, что Иверзев ранен пулеметной очередью в руку.
– «Виллис» сюда! – скомандовал Гуляев.
Здесь, на опушке соснового леса, вне зоны огня, Иверзев приказал построить первый батальон. Люди с осунувшимися лицами, мокрыми от потеков горячего пота, с расстегнутыми воротниками грязных, захлюстанных шинелей устало строились под соснами, пинками отшвыривая немецкие противогазы, железные коробочки сухого спирта, разбросанные на желтой хвое. Занимали привычные места неуверенно, оглядываясь по сторонам: не находили недавних соседей. И солдаты теснились, перекликались между собой нетвердыми голосами. Потом все утихло. Алексеев стоял поодаль – шинель внакидку, в голове жарко и туманно. После только что пережитой атаки было одно желание – лечь на землю и лежать без движения в состоянии полной опустошенности. Но батальон был построен, и Алексеев, бессознательно-возбужденно улыбаясь, крутил в кармане пустой серебряный портсигар, искренне завидуя верткому низкорослому солдату, украдкой докуривавшему на левом фланге цигарку.
А Иверзев, без фуражки, в распахнутом плаще, измазанном глиной, стремительно шел вдоль строя, прижимая к груди раненую руку в бинтах, побуревших от крови.
Порой он останавливался, вглядываясь в потные, черные солдатские лица: очевидно, память его выбирала то лицо, которое запомнилось во время атаки.
Так прошел он вдоль всего строя батальона, а когда направился к Алексееву, глаза его были опущены.
– Составить списки солдат, – сказал он охрипшим голосом. – Весь батальон наградить. Всех! До одного солдата! Распорядитесь, Евгений Самойлович!
Алексеев передал распоряжение командиру батальона и парторгам рот и вернулся к Иверзеву, с усталым наслаждением дымя цигаркой непомерной величины, сказал:
– Вам нужно в медсанбат, Георгий Николаевич.
А Иверзев сидел на пеньке, исподлобья глядел на растянувшийся поредевший батальон, который скорым маршем двигался по дороге полуразбитого нашей артиллерией поселка, и, казалось, до его сознания не дошли слова замполита. «О чем он думает? – спросил себя Алексеев. – После вот этой атаки?» Вся опушка леса, немецкие траншеи и поле перед ними были разворочены снарядами; зияли пустыми провалами разрушенные дзоты, и тут же, среди вспаханных огневых позиций, торчали колченогими станинами разбитые немецкие гаубицы, тучный артиллерист лежал, придавив животом снарядный ящик, прямые пепельные волосы свесились на его мертвое лицо. Везде белели стволы ощипанных осколками сосен, трава едко чадила – змейки дыма завивались над ней. И Алексеев повторил:
– Придут машины, и вам нужно ехать в медсанбат, Георгий Николаевич. Вам следовало бы позаботиться, кому сдавать дивизию.
– К черту! Сдавать дивизию? Госпитальная война – не-ет!
Он подозрительно взглянул на Алексеева, поправляя на перевязи руку в набухающей кровью повязке, и по тому, как углубились синие глаза его, Алексеев догадался, что он преодолевает боль, которую раньше сгоряча по-настоящему не испытывал.
– Ну что ж, говорите!.. – с раздражением сказал Иверзев. – Договаривайте до конца!..
Над вершинами сосен, чуть не задевая их поджатыми шасси, проносились партии штурмовиков; грозный и тяжелый рокот танков доходил сюда с западной окраины поселка.
– Простят ли нас матери убитых – не знаю, – сказал Алексеев как можно спокойней. – Я ненавижу кровь, товарищ полковник, хотя это и война.
– Мы взяли Днепров, – охрипло выговорил Иверзев. – Взяли!..
Минут через пять почти одновременно подъехали на «виллисах» полковник Гуляев и подполковник Савельев в сопровождении адъютанта Иверзева; адъютант с термосом и вещмешком, набитым продуктами, выскочил из машины, бросился к командиру дивизии, встревоженный.
– Что с вами, товарищ полковник?
– Там, на поле, возле дзотов, найдешь мою фуражку, – сминая слова, проговорил Иверзев и скомандовал Гуляеву, который молчаливо подходил к нему: – По машинам! Вперед!
Уже полулежа в «виллисе» справа от шофера, Иверзев попросил у Савельева карту. Начальник штаба, заметный болезненно ввалившимися щеками, не выпуская изо рта незажженную трубку, безмолвно подал на планшетке карту. Иверзев разложил ее на коленях, долго смотрел на извилистые нити дорог, ведущих к Днепрову, потом сказал излишне громко:
– Составьте наградные списки офицеров первого батальона. Сейчас! Потрудитесь, Евгений Самойлович, – добавил он мягче. – Кажется, отныне наша дивизия будет называться Днепровской.
Составляя список на листке блокнота, Алексеев слышал сосредоточенное сипение пустой трубки Савельева, изредка начальник штаба ровным голосом подсказывал имена офицеров. «А он-то как? Что он думает?» – угадывал Алексеев, видя, как начальник штаба кончиками подрагивающих пальцев ощупывал трубку, задумчиво уставясь на светлые волосы сидящего впереди Иверзева. И Алексеев подумал, что Савельеву, обремененному штабными заботами и больным сердцем, хотелось сейчас, видимо, только короткого отдыха, который был невозможен.
– Сердце? – с тихой строгостью спросил Алексеев. – Да, Семен Игнатьевич?
– Нет, нет, пустяки, – почему-то шепотом ответил Савельев. – Так, думаю. Мне кажется, вы забыли несколько фамилий.
– Кого?
– Бульбанюка, Орлова и Максимова, – также шепотом ответил Савельев.
– Я хотел составить на них отдельный список. Посмертный, – проговорил Алексеев и притронулся к худому колену начальника штаба. – Да, вы правы.
«Виллис» подкинуло на ухабах, Иверзев замычал сквозь зубы, поддерживая за локоть раненую руку, повернул к Алексееву осыпанное потом лицо.
– Готово, Евгений Самойлович?
Он прочитал список; сбоку видно было, что хмурый взгляд его задержался на трех фамилиях, написанных подряд, спустя долгую минуту попросил Алексеева:
– Дайте карандаш.
Затем придавил список к карте и против трех фамилий стремительным бегущим почерком дописал: «Посмертно. За взятие Днепрова. Ордена Красного Знамени».
Он поставил жирную точку, и грифель карандаша сломался, – опять качнуло «виллис», опять раненая рука задела локоть шофера, – и, отдавая список, Иверзев сказал сдавленным болью голосом:
– Капитана Ермакова… освободить…
Первых пленных встретили на окраине Днепрова возле колонны танков, загородивших дорогу. Приглушенно работая моторами, танки стояли посреди мощеной улицы, подымавшейся в гору к домам с выбитыми стеклами. «Виллис» затормозил.
– Вот он, Днепров, – сказал Иверзев и вылез из машины.
В танках один за другим открывались башенные люки. Торопливо стягивая шлемы, подставляя головы дождю, прокопченные порохом танкисты выкарабкивались из горячих недр боевых машин, от которых жарко несло запахом нагретого железа, раскаленных стрельбой пушек.
Оживленно переговариваясь, танкисты ощупывали поцарапанную броню, крутили чудовищной толщины самокрутки; иные, спрыгнув на мостовую, разглядывали сгрудившуюся под желтыми каштанами толпу пленных. Их конвоировал глыбообразный, мрачного вида старшина, не в меру обвешанный гранатами, с автоматом за просторной спиной. Напрягая мощную шею, он командовал им что-то, указывая красной ручищей, а немцы молчаливо, бестолково жались в кучу, отодвигаясь подальше от танков, вбирали головы в плечи, – наверное, не понимали конвоира. Танкисты хохотали, крича с высоты башен:
– Ты им пошпрехай, черт иху курицу, пошпрехай!
Когда Иверзев и Алексеев подошли к пленным, танкисты перестали хохотать, мрачного вида старшина, щелкнув каблуками сапог, расправил крутую грудь, прогудел басом:
– Пленные в количестве девятнадцати человек, товарищ полковник. Сопровождаю в тыл. Не понимают русского языка, никак построить невозможно. Так полагаю, что фрицы думают, танками их давить будут. Разрешите вести?
– Подождите, – остановил Иверзев и, вглядываясь в изможденные лица немцев, спросил: – Офицеры есть? Среди пленных есть офицеры?
– Да кто их разберет, товарищ полковник, – пророкотал старшина, сурово озираясь на пленных, как бы очень недовольный тем, что среди них нет ни одного генерала. – Вроде один. По виду – важная птица. Прямо из машины взяли. Вот в середке стоит, видите? Губы поджал. Ком, ком, вот ты… Ком, ком, шпрехен, гут, гут!
Старшина со старательной деликатностью поманил пальцем невысокого пожилого немца в черном глянцевитом плаще, без фуражки, с рыхлыми холеными щеками. И немец этот, чуть-чуть дрогнув узким ртом, властно отстранив передних пленных, вышел из толпы, с почтительной холодностью возвел на Иверзева выцветшие глаза, произнес краткую фразу, сделав прусский поклон одним подбородком.
– Что он сказал, Евгений Самойлович? – спросил Иверзев. – Вы, кажется, знаете немецкий?
Алексеев ответил:
– Я могу ошибиться, но что-то вроде того, что он уважает храбрость русских офицеров, которые получают раны в бою.
– Поза! Стоит им попасть в плен, как сразу встают в благородную позу! – презрительно выговорил Иверзев. – Расспросите его подробно. Кто он? И чем командовал? Что он думает об операции русских под Днепровом, в Ново-Михайловке и Белохатке? Очень хотелось бы знать.
Алексеев начал задавать вопросы, а Иверзев видел, как после каждой ответной фразы у немца менялся цвет выцветших глаз, и по интонации голоса пленного, казалось, понял все, что отвечал тот.
Но полковник Иверзев слушал этот чужой, выговаривающий чужие слова голос и чувствовал, что и немец, и его шевелящиеся рыхлые щеки, и толпа пленных, и наши танки на мокрой мостовой сереют, расплываются, мягко покачиваясь в далеком колокольном звоне, и этот звон неровными ударами бьет в виски. Тогда он повернулся и, силясь идти еще твердо, направился к «виллису». Около машины он покачнулся и, только через несколько минут придя в себя, уже в машине, с досадой понял, что у него был обморок от потери крови.
Объезжая воронки на мостовой, горящие немецкие танки, «виллис» мчался мимо влажных сквозистых каштанов днепровских улиц, затянутых мелким дождем; мелькали намокшие плащ-палатки солдат на тротуарах. Сквозняки пронизывали машину, пахло гарью жженых кирпичей, брызги летели на горячее лицо Иверзева. Грудь и ноги его прикрывала темная шинель Алексеева, и сам Алексеев говорил позади вполголоса:
– Они были совершенно уверены, что удар по Днепрову будет нанесен южнее города. В том числе со стороны Ново-Михайловки и Белохатки. И даже после гибели батальонов держали там танки и мотопехоту. Но если бы мы… О Господи! – Алексеев протяжно вздохнул, приказал шоферу: – Костя, в санроту.
– Значит, так, – глухо проговорил Иверзев, сделав усилие над собой, и с трудом приподнялся на локте. – Значит, так, – повторил он ослабевшим голосом и, откинувшись на сиденье, закрыл глаза, но Алексеев вдруг заметил его задрожавшую щеку и услышал еле различимый, срывающийся шепот: – Если бы я мог… Если бы я мог…
Ни Алексеев, ни Савельев не смотрели на него, стесняясь этого жутко прозвучавшего голоса, каким не мог говорить Иверзев, и лишь шофер недоуменно скосился на командира дивизии, увидел незнакомо-страдающее лицо, то лицо, которое привык видеть беспощадно властным, с холодным, не пропускающим вовнутрь взглядом. И было страшно то, что он кривился, закрыв глаза, но слез не было.
Глава девятнадцатая
Ермаков остановил первую попутную машину и устроился в кузове меж бензиновых канистр, которые дребезжали, гремели и весело подскакивали, напоминая о свободе, о скорости, о разбитой танками и орудиями дороге, этой обычной дороге наступлений.
Леса кончились, и развернулась, кружась, обдавая вольным сырым ветром, ровная даль с лиловым туманцем в низинах, с далекими темными извивами Днепра, ставшего будто на ребро, а над ним еще не четко проступали, уходя к чуть порозовевшему небу, громоздкие очертания города. Это был Днепров. А за этим городом теперь двигались по шоссе на запад новые батальоны полковника Гуляева. Так сказали Ермакову час назад, и он спешил, и спешила грузовая машина, на которой ехал он к Днепру, обгоняя покрытые брезентами «катюши», вскачь мчавшиеся повозки, а по обочине споро шагали солдаты, подоткнув за ремень полы шинелей, – все торопились, тянулись к переправе, к возвышавшемуся на горе впереди городу.
Свободный ветер летел ему в глаза, гудел в ушах, забирался в рукава, и он с наслаждением глотал этот ветер, чувствуя его щедрую освежающую силу.
Майор, армейский интендант, ехавший к передовой, поминутно высовывал из шоферской кабины голову, надвигал на лоб фуражку и, смеясь и захлебываясь ветром, кричал дурашливо, по-молодому озорно:
– Эх, Аню-ута-а! Давай жми, колымага! Газ на всю железку! Лихач! А, лихач ведь он, капитан? Он у меня лихач! Как с ним ездить, ха-ха! Невозможно! Не надеюсь на него, не-ет! Есть у меня, знаешь, лейтенант Таткин. Так тот в кузове с грузом ездит. А? Этот лихач ничего не видит, кроме баранки. А Таткин самолеты заметит и давай из пистолета палить: останови, значит! Жми, жми, Аню-ута! А «катюши»-то, «катюши»! Глянь-ка, капитан! Гордецы, красавицы!
Ермакову нравился этот средних лет интендантский майор своим избытком энергии и разговорчивостью, вероятно, возбужденный скоростью езды, розовым, ноябрьским утром, близостью освобожденного города. Он сам испытывал некоторую приподнятость, и ледяной комок, затвердевший в его груди с тех пор, когда он выводил людей из окружения, уже не давил на душу так жестоко и гнетуще. Все эти дни он жил, готовый на крайнее, вплоть до самого тяжкого наказания. Он знал, что Иверзев мог твердо и разрушительно сжать пружину его судьбы, но после того, что он пережил в последнем бою, ничто, казалось, не могло заставить дрогнуть его сердце или почувствовать раскаяние.
– Ах, Аню-ута-а! – кричал майор-индендант, крутя головой и озорно подмигивая из кабины. – А? Грандиозный город!.. Знавал его до войны! До Днепрова, значит? Что?
– Дальше, майор.
– Лихач, лихач! Сбавь газ! Не видишь? В колонну врежемся, тарантас воронежский! Сто-оп, сатаняга, сто-оп!..
Голова майора нырнула в кабину, шофер затормозил, Ермаков едва удержался на ногах, прижавшись грудью к кабине; пустые канистры, зазвенев, покатились в кузове.
Впереди, вытянувшись метров на триста, приостановилась колонна. Хорошо видимый Днепр, открывшиеся дали, его песчаные пляжи, заросшие кустарником, и за простором воды силуэты окраинных садов, крыш, купола церкви на горе – весь город лежал в тихом розовом свете, затопившем край неба. И только ровный звон моторов плыл над утренней тишиной. Но этот звон вовсе не показался Ермакову опасным, даже когда услышал в колонне крики: «Мессера»! – и увидел, как несколько машин, повозок и «катюш» лениво стали расползаться от дороги. Два тонких, как металлические муравьи, истребителя шли на большой высоте, сверкали там, нежно-золотистые в лучах зари, и это мирное сверкание в небе его почти не тревожило.
Гулко ударили зенитки у переправы, малиновые звездочки разрывов засверкали в лиловой высоте. Тотчас трескуче зачастили винтовочные залпы в колонне, ездовые, не слезая с повозок, вскидывали карабины, деловито-весело двигали затворами, целясь в снижающиеся самолеты. А они пошли в пике над переправой.
В это время майор-интендант вывалился из кабины на дорогу, пригнувшись, ловко скакнул к кустарнику и, упав там на колени, дважды выстрелил из пистолета по выходящим из пике истребителям. С громом выросла на переправе водяная стена, и «мессершмитты» понеслись вдоль колонны, не набирая высоту, выказывая металлическое брюхо.
Звездочки зениток, снижаясь, заплясали над дорогой, ездовые нехотя отбежали от повозок, задирая голову, перезаряжая карабины; некоторые легли у колес; в вытянутой руке майора-интенданта все вздрагивал пистолет, бегло паливший в небо, но самолеты, звеня, промелькнули сбоку колонны.
Ермаков спрыгнул на дорогу. Майор жадно провожал глазами уходящие за Днепр истребители.
– Жаль, Анюта, – сказал он, сбивая фуражку на затылок. – Был у нас случай: один лейтенант уничтожил-таки из пистолета… чем черт не шутит! – сказал он с уверенностью, рассмешившей Ермакова, и тут же восторженно закричал, показывая на шофера: – Что я говорил! Лихач, ну не лихач ли, а? Заснул мирно под шумок и храпит, как трактор! Двигаем, двигаем! Садись, капитан.
«Катюши» и повозки, разъехавшиеся по сторонам во время бомбежки, вползали на дорогу. Колонна тронулась и тут же приостановилась. Послышались голоса:
– Что там?
– Переправу разбомбили.
– А саперы чего думают?
Мимо сгрудившихся повозок, санитарных и грузовых машин, мимо ездовых, куривших в ожидании, Ермаков пошел к переправе, увидев издали алеющий песок и около берега покореженные понтоны; там сновали фигурки людей. Саперы попарно, с бревнами на плечах, бежали к тому месту, где был разрыв, и прямо в шинелях прыгали в воду, погружаясь по грудь, поспешно взмахивали взблескивающими топорами.
– Отчаянно работают, товарищ капитан, а? – сказал Ермакову незнакомый шофер, лежа животом на крыле машины Красного Креста и с любопытством наблюдая за саперами. – Глядите, как они… Это что же? Опять летят? Что за хреновина?..
Шофер вскочил в кабину, крикнул что-то Ермакову, тот не разобрал в грохоте резко застучавших зениток. Люди побежали назад по понтонам, две-три искорки топоров еще упорно вспыхивали над водой, и Ермаков, оглушенный командами, ревом разворачивающихся на дороге грузовиков, посмотрел в небо.
Возвращаясь, истребители со звоном неслись среди облачков зенитных разрывов. Ермаков сел на край песчаного окопчика, но визг бомб заставил его втиснуться в землю.
Когда после грохота разрывов он распрямился, ему кинулись в глаза этот поврежденный безлюдный понтон и поблизости непонятная искорка, поблескивающая над водой. Истребители сделали стремительный круг в высоте, снова стали падать на переправу, а Ермаков из окопа все глядел на эту упрямую единственную искорку, изумленный бесстрашием неизвестного солдата. Первый истребитель пустил косую очередь по понтону, второй нацеленно сбросил бомбу, разрыв накрыл волной конец моста, и уже искорки нигде не было – лишь над водой показалась и исчезла, как нырнувший поплавок, голова солдата. Кто-то выкрикнул из соседнего ровика:
– Ранило! За сваю держится! К берегу бы ему!..
В тот же миг необоримая сила, то ли восхищения, то ли мгновенной злобы на беспомощный крик: «К берегу бы ему!» – упруго вытолкнула Ермакова из окопа, и он понял, что бежит по качающемуся на волнах мокрому понтону к поблескивающему впереди просвету воды. А когда заложил уши пронзительный падающий звук с неба, когда красные стрелы пролетали вдоль понтона и со звенящим клекотом вверху пронеслись тени, – в ту минуту он заметил в конце разорванного моста торчащую свежую сваю и рядом в воде – голову солдата.
С разбегу Ермаков лег на скользкие, окаченные волной доски, крикнул:
– Плавать умеешь? Ранен? Два шага сможешь сделать? Давай руку!..
И тогда солдат сделал движение к мосту, оторвался от сваи; голубые серьезные глаза глядели в небо, где отдалялся свист моторов.
– Горит, – сказал он внятно. – Эх, топор потерял…
Он зацепился красными руками за доски; Ермаков изо всей силы подхватил его под мышки и вытянул на понтон; с солдата лились потоки воды, но, точно ничего не чувствуя, он по-прежнему молча смотрел в небо, и Ермаков удивился его спокойствию.
– Ты что же голову дуриком под смерть подставляешь? – спросил он наконец. – А, сапер?
– Все-таки упал, – со слабой улыбкой ответил солдат. – В лес упал.
И Ермаков невольно посмотрел назад: длинная струя дыма протянулась в небе и, круто снижаясь, обрывалась на востоке, над кромкой дальних лесов, другой истребитель, одиноко ныряя меж всплесков зенитных разрывов, уходил на запад.
– Санитаров сюда! Есть санитары?..
– Из медсанбата кого-нибудь!
Ермаков отряхнул шинель и зашагал назад. Майор-интендант, разгоряченный, наскочил на него, фуражка лихо сбита на затылок, волосы слиплись на висках, заорал азартно:
– Аню-ута-а! Капитан! Что тут отчубучилось? Кого ранило?
– Все в порядке. Идемте к машине.
– Не-ет, подожди. Что случилось? Ты чего улыбаешься?
– Все в порядке, говорю, – засмеялся Ермаков, и вдруг лицо его перекосилось, он оттолкнул майора, шагнул вперед, проговорил растерянно и изумленно: – Шура?! Шура?!
– Какая Шура? – захохотал майор. – Ты чего, Анюта? Спятил?
Нет, он очень ясно, очень четко увидел в толпе солдат на понтоне знакомое, родное, мелькнувшее милым овалом лицо, ее такую знакомую, тонкую фигуру, ее шинель, ее санитарную сумку, хромовые сапожки.
Но она не заметила его, не подняла головы в тот момент, прошла в толпе, и тогда негромкий, сдавленный волнением оклик настиг ее снова:
– Шура!..
Ее узкие плечи вздрогнули, она вся замерла, незащищенно обернулась, и он увидел ее неподвижные глаза, полные страдания и страха. И он повторил охрипшим голосом:
– Шура…
– Борис? – чуть шевеля губами, прошептала она. – Это ты?.. Ты?..
– Шура…
Он так сильно и горько обнял ее, что она пошатнулась, как бы не веря, зажмурясь, а он, не обращая внимания на людей, бестолково снующих по понтону, толкающих их, стал с болью целовать ее холодные, сомкнутые, не отвечающие ему в это мгновение губы, ее лоб, глаза, вздрагивающие брови, готовый отдать за эту встречу все, что мог еще отдать.
– Шура, пойдем, – повторял он. – Тебе нечего здесь делать. Там никого не ранило. Пойдем. Не надо этого…
Он прижимал ее голову к своему плечу, видел, как сквозь смеженные ресницы просачиваются светлые капельки слез.
– Борис… милый… Если бы ты знал… – прошептала она, с тоской блестя ему в глаза своими влажными глазами. – Если бы ты знал, что я передумала в эти дни… Я виновата…
– Ты не можешь быть виноватой. Видишь, все хорошо, мы встретились. Не надо слез…
– Не надо, да… не надо слез. – Она попыталась улыбнуться. – Лучше пойдем… Вон туда, на берег… Как ты похудел! Просто не узнать! Пойдем. Нет, ты не думай, я тебе все, все скажу. А то мы опять расстанемся и ты опять забудешь меня!..
– Шура, мы теперь не расстанемся! Ты будешь со мной. Ты слышишь? Я тебя никуда не отпущу. Ни на шаг от себя!
– Нет, расстанемся. Снова бои, бои…
– Это не сможет нас разлучить.
Они шли по берегу Днепра все дальше и дальше от переправы, постепенно затихали голоса позади, и воздух наливался нежным огнем зари, влажно шуршал песок одичавших пляжей, где оставались следы их сапог – первые, очевидно, за войну следы мужчины и женщины, шедших здесь вместе.
Он остановился, ласково притянул, повернул ее к себе, а она осторожно потрогала рукав его шинели, снизу вверх заглянула ему в лицо, медленно краснея, спросила:
– Неужели это ты? И ты вернулся?
– Я вернулся.
– Я хочу, чтобы… ты меня любил, – прошептала она неуверенно. – Я хочу… только этого.
…Когда двое ушли отсюда, следы, оставшиеся на песке, сначала затянуло водой, потом их совсем рассосало, и они исчезли.
1957
Примечания
1
Да, да
(обратно)2
Я не понимаю…
(обратно)3
КП – командный пункт.
(обратно)4
ПТР – противотанковое ружье.
(обратно)5
РС – реактивные снаряды.
(обратно)6
ТТ – марка пистолета.
(обратно)7
Феликс, Феликс! Иди ко мне! Они спят!
(обратно)
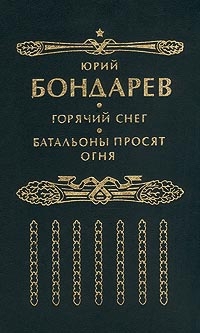

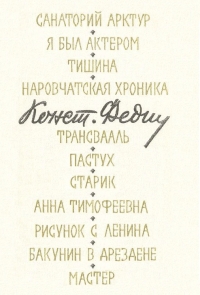

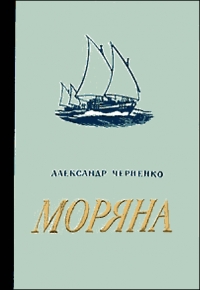


Комментарии к книге «Батальоны просят огня (редакция №1)», Юрий Васильевич Бондарев
Всего 0 комментариев