Вячеслав Шишков ХРЕНОВИНКА (Шутейные рассказы и повести)
© Новосибирское книжное издательство, 1996. Составление.
© Заплавный А. А., 1996. Оформление.
НЕЧИСТАЯ СИЛА (Рассказы)
ПИСЬМО В ЖУРНАЛ «БЕГЕМОТ»
Товарищ Бегемот Иваныч, здравствуйте!
Вы просите краткой биографии моей? Благодарю за комплимент. Но вряд ли я смогу это сделать. Во-первых, в данное время я принимаю Мацестинские ванны и возле меня решительно все: люди, лошади, земля, произрастания, даже прекрасные солнечные зори — вое, все по химическому свойству целебных источников пропахло сероводородом, отсюда и мысли серо-водянистые, без надлежащего подхода к событиям, прямо-таки нулевые мысли. Во-вторых, проезжая ежедневно на означенную Старую Мацесту, я сего числа увидел в морских волнах дальнего родственника Вашего, товарищ Бегемот, Буйвола Антоныча: он лежал вблизи берега, по-видимому на брюхе, из воды торчала лишь носулька и пара прелестных древнемудрых таких покорных глаз… Он принимал морскую ванну и еще издали, узнав во мне Вашего сотрудника, поприветствовал меня и просил спешно передать Вам свой поклон, что с удовольствием и исполняю. В-третьих, — «все врут календари» — в том числе и мой. И, ради бога (с маленькой, конечно, буквы), не верьте, товарищ Бегемот, моим прежним биографиям, в особенности той, которая помещена в первом томе собрания моих сочинений в издательстве ЗИФ. Это там по злобе, честное слово, по злобе, по мотивам личной мести, о коих, за отсутствием времени и места, не стоит распространяться.
Дело в том, что перед выпуском в свет автобиографии черт дернул меня поссориться с корректором (Адам Адамыч Некорректный). А поссорились-то по самому пустому поводу, из-за довольно миловидной гражданочки одной. Эта гражданка, имея приличную анкету, была вполне сознательна и очень нравилась нам обоим. Я в интимных разговорах с нею старался, по совершенно понятным причинам, уменьшить свои лета, корректор же, наоборот, сгорал желанием подло опровергнуть меня, громко крича и потрясая вихрастой шевелюрой: «Я докажу ему натуральный год рождения! Он у меня сразу вчетверо состарится, исходя вследствие сего!» Я хотел устроить значительный конфликт, но удержался. А вскоре, глядь, вышла из печати моя биография, и в ней злодейски мстящая на почве ревности рука прибавила к году моего рождения лишних 10–15 лет! В самом крайнем случае, на что я без особого ущерба для здоровья мог бы согласиться, это — сорок лет.
Многие по невнимательности к русской литературе склонны смешивать меня с другим Вяч. Шишковым, автором «Тайги», «Ватаги», «Пейпус-озера» и еще какой-то ерунды, тот действительно староват чуть-чуть. Тот с приличной бородой, я же почти бритый. Тот человек скромный, ни в каких уголовных скандалах не участвует, тихий, очень симпатичный, я же… Извините… Впрочем, то есть да… Тот Вячеслав Яковлевич Шишков лет двадцать жил в стране под названием Сибирь-земля, слонялся и по тайгам, и по Алтаям, и по рекам разным, даже в Якутске был, всюду имел связь с мелкобуржуазными элементами: служителями религиозного культа (шаманы, камы, ведьмы), бродягами, поселенцами, царскими преступниками довоенного образца, а также с малыми народностями: якутами, тунгусами, теленгитами и прочими. Что касается меня, то я… Впрочем, обо мне, писателе шутейном, разговор краток, да я и не люблю себя хвалить. Тот начал свою литературную жизнь в 1913 году, впервые выступив в эсеровском журнале «Заветы», затем в максимогорьковской «Летописи», и в еженедельном массовом «Журнале для всех», я же начал литературную карьеру в 1920 году, написав веселую комедийку «Мужичок». Тот Вяч. Шишков, по отсутствию ясно выраженной классовой идеологии, говорят, в бога верует и вследствие сего, бесспорно, произошел от какой-то твари, вроде обезьяны (Pithekantropos erectus), я же верю лишь в игру ума и произошел по теории Дарвина от «Мухомора», «Дрезины», «Бегемота» и прочих шутейно-насмешливых журналов. Наконец, тот Шишков в Детском Селе целиком и полностью, а этот в общем и целом в городишке Сочи проживает.
В остальном же между Вяч. Шишковым, шутейным, настоящим, и другим Вяч. Шишковым, который так себе, — большое сходство. Так что биографии моей не ждите.
Засим, многоуважаемый товарищ Бегемот Иваныч, до свиданьица.
Вяч. Шишков (настоящий).
Сочи, 1927, октябрь.
Р. S. Товарищ Бегемот! Последите, пожалуйста, за уважаемым товарищем корректором, как бы он, чертов дьяв… То есть, это как его… Как бы он в отношении моего возраста не тово опять… Адью! Мерси!
Вяч. Шишков (который так себе).
«ОПИСЬ МОЕГО ПРОИСШЕСТВИЯ»
Мой собеседник — юный, лет двадцати, рабочий, с простодушным, милым лицом и веселыми глазами. Мы сидели с ним в кронштадтском трактире «Орел» и после митинга на Якорной площади баловались чайком. Беседа сначала шла на политические темы, а потом перебросилась в гущу мужицкой жизни. Он говорил оживленно, удачно копировал женские и мужские голоса, жестикулировал. Образная речь его отличалась витиеватостью, сбивалась на книжный лад и пестрела необычными словами, схваченными простоватым ухом на митингах. Наши ближайшие соседи по столику бросили свои разговоры и со вниманием вслушивались, выражая свое одобрение громким смехом.
* * *
Рассказчик положил в стакан кислейшего варенья и, польщенный вниманием, начал:
— Раз вы заявляете полное требование на мужиков, извольте… В таком разе я сделаю опись моего происшествия… то есть как я орудовал в деревне, на родине своей, под Бежецком.
Прибыл я, значит, туда из нашего Кронштату. Страшную давку пришлось выдержать, на крыше вагона едва уцепился, и все такое, ну, прямо как в песне, знаете:
Скорым поездом по шпалам Тихо ехал — ноги стер.Ну, сами вполне понимаете, что наша сторона, конечно, глухая, в лесу живем, пню молимся, левой ногой сморкаемся.
Ввиду соображения, что от станции до нашей деревни Грибковой вез меня мужик глухонемой, я остался безо всяких освещениев событий. А когда вошел в родительскую избу, тут все подтвердилось, что и как. Я вошел в избу и сказал:
— Здравствуйте, батюшка-матушка, свободные граждане великой Российской республики.
Ну, мать, по слабости женского, конечно, положения, в слезы да на меня:
— И чего вы там, окаянные, наделали? И куда такое нашего царя-батюшку распродевали!.. — да ну в голос выть.
Я, знаешь, улыбнулся этак да к отцу.
— А где Матрена? — это сестра моя, солдатка. Отец на печке лежал, голова тряпкой обмотана, видно, хворь накатилась.
— А все, говорит, с царем возятся, никак расстаться не хотят. И сестра твоя там.
— То есть в каких смыслах? Царь Николай Второй и последний в заключении значится, в Царском Селе под стражу заключен.
— А это, говорит, они в волостном правлении патрет евоный ублажают. Сегодня, говорит, страшный разбой вышел. Всех мужиков, говорит, бабы раскатали. Меня и то, говорит, чуть за ноги с печи не сдернули. Даже, говорит, попу, отцу Андрону, все стекла выщелкнули камёньем. Во как у нас.
Я выпучил глаза от подобного получения известий. Оказывается, бабы с самого изначала сделали полный отпор нашей всероссийской революции. Не хотим, да и не хотим. Дале-боле, дале-боле, и дошли до сегодняшнего дня. А день был праздничный, воскресный, и поп, по всем признакам, служил обедню. Да-a… Вот так сидим, как с вами, пьем с родителем чай, и родитель все чередом мне обсказывает.
— Баб, — говорит родитель, — собралось в божью церковь очень даже много, с других дальних сел которые прибыли, а праздник пустяковый, по такому плевому празднику вовсе и не надо бы народу в храме быть.
Когда отец Андрон вышел с чашей после херувимской, бабы подняли страшенный крик: «Мы тебе, кричат, всю бороду раскуделим, ежели батюшку-царя по-старому вспоминать не станешь!» Священник сробел, кой-как благословил богомолок чашей и вышел проповедь произносить к порядку дня. Ну тут вся бабья часть повернулась, говорит, к нему задним положением да на улицу.
И, откуда ни возьмись, средь них патрет царя. Они сделали гвалт и пошли вдоль села комитет разбивать и тому подобное. По пути шествия красные флаги срывать зачали, стекла бить, одним словом, как в настоящем городе, по всем статьям. Ну, тут на них старики и насели: «Вы что, сучки, надумали?» Бабы им отпор. Старики на них. Бабы их подмяли под себя. Тут еще, говорит, набежали старики на подмогу, и начался рукопашный мордобой. Как ужи, говорит, клубком по снегу катались и патрет бросили, такой рев подняли, аж собаки во всех закоулках взвыли. В окончание всего стариков бабы покорили и всех, говорит, сволокли в чижовку.
Я сейчас же спросил своего родителя:
— В каком месте находится этот елемент?
Он сказал:
— Где-нибудь с патретом.
Я кончил чай, выкушал прием спирту и пошел наводить следствие.
Слышу, из одного дома вылетает пение женских голосов. Я тихим манером к окну и различаю явственные слова песни: «Умрем за батюшку-царя». Меня это взорвало, я влетел в дом и крикнул:
— Товарищи! Что вы делаете, долговолосые дуры?..
А они нуль внимания, сидят крутом патрета, плачут…
Патрет в цветочках убран, в ленточках, стоит под образами. Какая-то кривоглазая как завизжит истошно, а как все подхватят, аж стекла зазвенели:
Эх, не к морозу наливалась Кровью алая заря… Умрем за матушку-Рассею, Умрем за батюшку-царя!Я, не долго думая, выхватил револьверт да как цопну патрету в нос… Батюшки мои светы, что тут произошло! Многие с перепугу на карачки пали, страшный вопль пошел, стоны, ругань, кто в дверь, кто из окошек скачет… А какая-то, извините, стерва как хватит чем-то тяжелым мне в башку… Потом обнаруживаю — кринка. Так поверите ли, в мелкие черепки…
— Башка али кринка? — спросил сосед с ближнего стола.
— Без сомнения, кринка! — строго оборвал его рассказчик. — А голова с тех самых пор гудет и гудет… Особливо к дождю. Вот как ахнула… Ну, я посмотрел на ее личность: рожа незнакомая, а красивая, черт, чернявая, нос с горбинкой… Ну, что ж, думаю… Сделать в нее выстрел? Не стоит: хоть и баба, а не курица, убьешь — все-таки неловко… Плюнул и отправился в сборню… Иду, а сам нет-нет, да в воздух — бах! — ради опасности: а то, думаю, их много, я — один… Пришел на сборню, сейчас каморщика за бока, который каталагу окарауливает.
— А где сельский революционный комитет?
— Весь, говорит, комитет с перепугу в лес выбежал, по случаю гвалта… А которые, говорит, члены — по овинам схоронились.
— Так, прекрасное дело… А где у тебя старики?
— В чижовку приделили всех…
— Сколько?
— Пятнадцать, говорит, хозяев…
— Отпирай…
— А как же бабы-то? Бабы, говорит, из меня лучины нащепают, я, говорит, человек старый. Грыжа меня мучает…
Старик мой охать-охать, однако ключ из-за иконы достал. отпер.
— Товарищи! — закричал я всем заключенным землякам. — Именем всероссийского пролетариата вы свободны! Пожалуйте на митинг… Призовем туда всех баб, и я буду держать речь, чтобы как след разобраться в происходящих событиях, потому вокруг вас густая политическая тьма… Бабы не в сознании своих средств… Они верят в старый режим и чтут провергнутого тирана… Я таких контрреволюций допустить не могу. Долой насилие личности!
Тут подходит ко мне крестный, старик Никита:
— Мишка, говорит, крестничек! Да ить они заклюют нас, бабы-то… Эвона они каки кобылы, одна другой глаже, — а мы что? Все старье да хворые…
— Я, говорю, словами пришибу их, крестный… Что же, говорю, они такое делают? Это измена всех понятий. Везде пущен новый строй, а вы, говорю, с бабьем не можете совладать…
При этих оборотах речи мой крестный вздохнул и прослезился соленой слезой. Я тогда обнаружил у него красные синяки под одним и другим глазом. Жаль мне стало его, ей-богу, право.
— Эх, говорю, папаша крестный!.. Фонари — это тебе награда. Кто за свободу пострадавши, на манер георгиевских крестов.
— Благодарим покорно, говорит, за эти кресты… От таких, говорит, крестов свету я не взвидел. Вот сколь хороша эта самая награда… Тьфу!
— Эх, крестный, говорю, темный ты человек, — и кратко разъяснил происшествие фактов, что к чему.
Вот ладно. Я направился домой выпить пива, — ужасно хорошее пиво у нас варят. День был очень даже замечательно прекрасный: со всех сторон льются солнечные лучи.
Гляжу, кто это идет, вроде как Асман-паша? Штаны широченные, цыганские, на манер двух бабьих юбок, ситцевые, в огромаднейших огурцах, отродясь не видывал такого материалу, а ноги босиком… При всем том солдатская куртка. Ага! нижний чин, солдат… Как только повстречались, сейчас же произвели краткий разговор и пошли пить пиво.
— Тебя, говорю, товарищ, я издали за турку признал.
— Какой, говорит, я турка. Самый русский. Я сознательный питерский солдат…
— Вот говорю, прекрасное дело… А я кронштадтский пролетарий, сапожный цех. Тоже очень сознательный. Ты, товарищ, против наступления, конечно?
— Против всяких, говорит, наступлений. Потому, говорит, это один обман, это, говорит, буржуям надо, ну и пускай сами наступают, а мне и здесь хорошо…
Я тогда сейчас же сообразил, что он есть забеглый дезертир, но никакого примечания ему не сделал. Вот хорошо. За кружкой пива мы решили произвести благовест в церковный колокол, чтоб созвать сход и открыть митинг. Когда сделан был удар, вдруг к колокольне подходит священник, машет шляпой и кричит нам в грубой форме:
— Это что за новые архиереи объявились? Марш с колокольни!..
Я спустился да к нему:
— Это, говорю, производится в интересах пролетариата. А ежели вы, отец Андрон, не в согласии, то мы с товарищем солдатом не только вас, а всю кислую кутью можем арестовать под видом контрреволюционеров…
Мой поп туда-сюда. А я ну его настращивать:
— Ежели вы хотите знать — мой товарищ солдат, который на колокольне, в полном боевом походном порядке, с оружием в руках… В случае ваших поступков может открыть стрельбу пачками по продольности всего села.
При этих устрашительных словах духовная особа подобрала полы подрясника и скрылась с моих глаз в калитку. Я во все горло захохотал, потому что не допустил бы репрессий, а просто маленько постращал в видах пива.
Дальнейшая опись моего происшествия с товарищем солдатом, в коротких словах, такая.
На митинг пришла в большинстве случаев одна женская часть, а старичье понюхало колокольню да по домам: испугались. А молодежь — кто на войне, кто ушедши.
Когда мы вошли в помещение училища, я сел на председательское место и открыл митинг, колокольчик же отвязали от дуги для восстановления порядка. Я очень весело стал себя чувствовать, высморкался в красный платок, шелкового образца, и начал таким способом:
— Товарищи гражданки! Мы стоим на рубеже двух событий в мире… Старый режим свергнут прочь, всюду объявлен восставшим пролетариатом социализм с переходом к демократическому строю республики… — ну, одним словом, в этом роде… Забыл теперь…
В это самое время товарищ солдат ткнул меня в бок и зашептал:
— Ты напрасно, говорит, в оборот отпущаешь умственные слова: баба, говорит, здешняя — полная тетеря…
Я принял поправку к сведению и сейчас же перевел речь на общедоступный человеческий язык в женском духе:
— Тиран Николай Романов свергнут всем православным людом. Отречение подписали, не говоря о солдатах с рабочими, а даже все порядочные митрополиты. А вы, пустопорожние ваши головы, этого акта не хотите признать… Значит, насупротив кого вы прете? Насупротив всего Святейшего Правительствующего Синода. В полном составе.
— Врешь ты все! Врешь! Ботало коровье, — раздался на мои слова женский крик. Кричали не особенно сердито, другие даже улыбались, и все смотрели на мою внешнюю наружность, потому как я был очень чисто одет. А громче всех кричала чернявая, интересная такая солдаточка, которая сделала рикошет кринкой в темя моей головы.
Я схватился за колокольчик и водворил порядок. А дай-ка, думаю я, ущипну их за самое живое место.
— Таперича, говорю, как исправники, так урядники и стражники — все полетели ко всем чертям. А новое правительство очень милостивое до простого люда. Во-первых, будет сильно увеличен паек солдаткам… Во-вторых, будет дано сколько хочешь земли… В-третьих— очень дешево будут ситцы, сукна и прочие припасы…
— Ой ли! А сахар? Мы конфеток хочем…
— Ежели не будете перебивать оратора, получите сахар даже в большой мере…
— А самогонку можно выгонять?
Я означенный вопрос замял и сам спросил их:
— Вы сколько раньше получали поденную плату?
— Девяносто пять копеек… Рупь…
— Три целковых! — крикнул я. — Постановлено не меньше трех. А со временем до пяти рублей.
— Да ты не выпивши ли? — весело завизжали бабы. — Ха-ха!.. Так тебе и дали три целковых… держи карман…
Я встал с места своего сиденья и объявил:
— А вот для этого самого я вечером всех вас организую.
Тут молодые солдатки захихикали, заверезжали:
— Ишь ты ловкий!.. Не всякая-то еще поддастся… Много вас…
Я им в ответ:
— Вы не так понимаете девиз… Как старым, так и молодым женщинам будет допущено одно политическое удовольствие, а не что иное-этакое… Понятно?
А они, знай, хохочут. Я тоже не мог обойтись без улыбки.
— Врешь ты все!.. Шутки шутишь! — кричат.
— Ни в каком разе… Я имею от товарищей мандат…
Тут все солдатки опять прыснули, схватились друг за дружку и пуще заржали, а чернявая сказала нараспев:
— Вот ты веселый… а зачем же ты стрелял патрету в нос?
Я вторично замял подобное обращение и начал наводить звонком полный порядок… Когда навел, то вынес резолюцию:
— Таким образом, говорю, вы очень наглядно убедились, что без царя в десять разов лучше во всех смыслах. И вот вам очевидные причины, — при этом возгласе я вытащил бумажник, хлопнул им об ладонь и достал две сотенных. — Вот, говорю, при царе у меня не только денег, а и кошелька-то не было, сам голодранцем ходил, рожа черная, чуть не зачах… А теперича полная свобода, живу как господин, обещаю еще лучше жить…
У бабешек глазенки разгорелись, слюнки потекли.
— Давай в карты играть! — кричат. — Угости конфетками!..
— В карты, говорю, не играю, а угощенье выставить нам все одно, что раз плюнуть… Отрекаетесь ли от царя?..
— Да уже отречемся!.. Только послаще угости…
— Эй, солдат! — крикнул я товарищу солдату. — Орудуй! Живой рукой… А завтра мы всерьез разовьем всю программу, — и выдал ему субсидию средств.
ВЕСЕЛЫЙ БРОДЯГА
Фомка — дюжий, косоватый мужик. Когда он попадал на работу, где молодые бабы, он бороду подстригал в виде лопатки или брился, оставляя лишь рыжие усы. В таежном же безлюдном месте отпускал красно-рыжую бородищу и был тогда похож на сбившегося с панталыку кержацкого попа. И голос его менялся. Бритый, с девками говорил сладким масляным тенорком, глазом косил мало, стараясь поочередно умеючи прищуриться; с бабами — борода лопаткой — разговаривал покрепче, глазом косил больше, молол напрямки, без обиняков — бабы хохотали… А в тайге, весь бородатый, словно лесовик, говорил толсто, по-медвежьи, и глаза его смотрели друг на друга.
Фомка не дурак выпить, во хмелю любил поколобродить и, когда живал по городам, всегда попадал в часть. Впрочем, худого он не делал, ценил вольную жизнь, шатался из села в село, из города в город, истоптал кривыми ногами всю Сибирь. В артели его побаивались, но любили за веселый нрав, за прибаутки.
* * *
Сидели вокруг костра, поглядывали на Фомку ожидательно: да когда же он, черт, заговорит? А черт все еще ухмылялся, и подмигивал, и разжигал.
Поворошил костер жердиной, посмотрел за реку, где чернела мрачная тайга, покрутил обеими руками усы…
— Ну, уж ладно: расскажу, как я министеров опровергал. Раз я нажрался пьяный, иду по городу да ору во всю мочь, вроде как скубент: «Не надо мне министеров!» А почему такое? А очень просто. Сейчас. Только дайте, братцы, курнуть.
Курносый парень из артели согнул козью ножку, смачно облизал ее и уважительно поднес бродяге.
— Рассчитался я осенью на корчеподъемке и получил всего шесть рублев, чик-в-чик. Пришел с этим капиталом в Томской, стал работу искать. Искал-искал — нету. Ах, ерш те в бок! Оно, конечно, без работы лестно — лежи на боку, поплевывай, вроде как игумен, ну, это в Томском трудно, потому соблазны: придешь в обжорный ряд, тут тебе печенка, тут селезенка, там рубцы, здесь огурцы, а то глядишь — пельмени тетя продает, четвертак сотня. Сама на корчаге с горячим угольем сидит, зад греет, а под подолом вот этакая оказия с водкой приготовлена. Хлопнешь на размер души, грибком закусишь да сотню пельменей-то и оплетешь, вот и барин…
Артель смеялась.
Фомка мрачно на всех посматривал.
— Ну, так вот… — продолжал он. — Живу это я, значит, в Иркутском…
— Стой, в каком Иркутском? В Томском! — закричали все.
— Тоись как в Томском, ежели в Иркутском? В Томском особь статья, а то в Иркутском. Вот уж верно, я там объелся на пасхе у купца. А все из-за стряпки. Красивая бабочка была, малина, а с хитринкой. Вот она и зачала меня потчевать. Сначала студень подала. А я в кучерах жил, за пост-то отощал, у купца строго. Ну, поели. После того — щи. Приналег я и на щи, грешным делом. А она кашу пшенную тащит с маслом. Поел я каши, стал из-за стола вылазить А она мне: «Постой, пироги подам». Ах ты, батюшки, а мне уж и есть не во что. «Чего ж ты, — кричу, — не упредила?» Ну, съел я две доли пирога — уж очень сдобен был, с осетриной. Поел да за кресты. «Стой, куда ты? А нешто курицы не хочешь?» Я на нее: «Ах ты, песова баба, опять не упредила?!» — «А почем я, говорит, знаю. Ты бы всего, говорит, помаленьку трескал». Я опять за стол, как же это так: курицы не поесть. Ну, вижу — свет из глаз. А все чавкаю, все-таки редко такой обед. Опояску снял, гашник распустил, терплю. Да уж кое-как из-за стола выполз. Только крест занес, а она: «Стой, куда ты?| Разве киселя не хочешь?» — «Какой кисель-то, будь ты проклята совсем?!» — «Из облепихи, сладкий с молочком». — «Дыть не вынесу! Лешая ты этакая, полудурок. А ежели округовею да посуду бить начну?» — «Не хошь — не жри». Подумал я, подумал. «Давай, ведьмина дочь!» Как покрыл я все это киселем, гляжу — уж вздохнуть не могу. Батюшки мои светы, как быть? Господи, не приведи без покаяния. Пал я прямо на карачки и пополз обнаковенно вон. А она, яга, хохочет.
— Ну, как же ты, — не утерпел курносый, — отдышался все-таки?
— Отдышался, брат. Ох, отдышался. А главное, жернов помог.
— Как так жернов?
— О-о, жернов в этих делах первое средствие. В сенцах у нас жернов большущий стоял. У хозяина-то мельница была, крупчатку драли. Вот я навалился, значит, брюхом-то на жернов, да и ну взад-вперед возить. В пот меня вдарило. Ничего, вожу. До петухов, почитай, вожгался. Дак — верите ли, — хозяин гостей привел для усмотренья. Хохочут, выпимши. Знамо, народ богатый, им што, им ничего, привычны. Они сызмальства въелись. Ни один не обожравшись, только пьяные. Один даже красненькую подарил. И что ж, ребята, ведь размолол я на жернове нутро-то. Ну, ударило меня тогды в сон. И снились мне все кобели. Подойдет быдто к моему рылу, ногу подымет, да и прочь.
Все дружно захохотали. Артель пильщиков была большая, веселая, человек пятнадцать, наполовину молодежь. Лежали на боку возле костра, покуривали; курносый придвинулся вплотную к Фомке и, прерывая хохотом чуть не каждое слово, глядел ему в рот. Сутулый старик кипятил в котле кирпичный чай. Надвигалась ночь, небо вызвездило, из-за тайги всплывал рогатый месяц. От горы нарезанных дров несло пахучим хвойным духом.
Курносый спросил:
— Ну, а как же, Фома Петрович, министеры-то?.
— Какие министеры? — уставился на него удивленно Фома.
— Как какие? Как ты их снивергал-то?
— A-а… ну-ну… на чем я остановился-то?
— На бабе, Фома Петрович, — услужливым тенорком, еле сдерживая смех, подсказал курносый. — Как она, со временем, на горячих угольях сидит.
— Ах, да, — почесал за ухом Фомка. — Вот, значит, она сидит и сидит. День сидит, другой сидит, встанет, постоит да опять сядет. А ведь я, робяты, забыл, про что сказывал-то, — Фомка сгреб в горсть рыжую свою бородищу и уставился косым глазом на старика. — Дайка, дедка, винца чуток.
— На, выпей, — подал старик чашку.
Фомка хлопнул, тряхнул головой, понюхал корку хлеба.
— Ну, дык вот, вспомнил. Получил я, значит, расчет на корчеподъемке и прибыл, значит, в Челябу.
— Как, в Челябу? — смеясь, закричал курносый. — В Томско, ведь!
— Хоть в Челябу, хоть в Томско, мне все едино. Приехал да все деньги-то и профинтил. Поплелся кой-как не знамо куда. И понеси меня нелегкая на гору, по откосу лезть. А гора высоченная, а на самом гребешке — беседка для прогулок. Вскарабкался на самый верх да тут и растянулся у обрыва. Гляжу, рогастый черт ко мне по откосу ползет, цап мою шапку да бежать. Я за ним. Он под гору — я за ним. Да с откоса-то разов пятнадцать, братцы мои, перекувылился, в башке сразу страшное головокружение сделалось, не знай, где и сижу-то.
Курносый парень гыгыкал, скаля белые зубы; артель глядела в огонь.
— Ну, очухался это я, вылез из крапивы и пошел прямо вдоль. Ах, думаю, ведь без шапки-то холодно. Подхожу к казенному дому, залез на выступ, окошко раскрыто, да и лег, обнаковенно, брюхом на подоконник. Гляжу, швейцар стоит. Я ему и говорю: «Дай шапку, пожалуйста». — «Нету». — «А звона, — говорю, — три шапки с кокардой висят, дай». Тут из-за лестницы какой-то посмелей выходит, подошел: «Проходи-ка со Христом, а то в комнаты упадешь». Да как кулачищем по лбу стрелит, я моментально упал с окна на улицу. Схватил кирпич да кирпичом в окно. А ко мне городовой— шасть. «Ты чего орешь?» — «Я ничего, я смирный, у меня черт шапку скрал». — «Шапку? В часть!» И забрали меня, значит, под шары. Да там по морде, всего расхвостали. Плакал я тогда. А почему же? Шапки жаль, новая.
— Все, что ли? — спросил старик и подал еще водки. — На-ка вот. Да соври потолще что-нибудь.
Фомка выпил, посмотрел на сутулую спину старика, разливавшего чай, и обиженно сказал:
— Пошто соври! Это быль.
Бродяга хмелел, волосы лезли на глаза.
— А что же дале-то? — нетерпеливо крикнул курносый парень.
— Дале не было, было ближе, — поднял на него Фомка осоловелые глаза. — Сижу это я в чайной в Томском — есть такой трактир «Нарым», хороший трактир, — там вся шпана. А возле меня человек, вроде как на легавых. Он и говорит: «Ты, я знаю, можешь звонко кенарем кричать. Вот в воскресенье народ с красным флагом пойдет. Можешь ежели?» — «Завсегда могу, только укажи, что кричать». — «Долой самодержавие». Я как гаркну на весь «Нарым», глотку попробовать. «Что ты, черт, заберут ведь!» — «Никого, — говору, — не боюсь я», — да опять.
Артель насторожилась, смех кончился. Только курносый по-прежнему скалил зубы.
— Ну-ну! Ишь ты.
— Ну, в воскресенье, значит, ходили с флагом. Только я заорал, обнаковенно, изо всех кишок, вдруг на нас городаши на конях: «Расходись, расходись!» Да как начали всех лупцевать. А тут выстрел. Я бежать. А городаш подскакал, хвать мне вострой саблей по башке.
— Ссек?! — изумленно ударил курносый ладонями по бедрам.
— Ссек. Тут я и закаялся самодержавие кричать, — сказал Фомка, хлюпая из деревянной чашки чай. — Ну его к корове на рога, это самое самодержавие, язви его… И говорит тут мне добрый человек: «Иди-ка, грит, ты в русский народ, шайка такая есть, черная, грит, сотня»…
— Ну, я пошел к купцу Перцову, записался. А было дело в девятьсот пятом годе. Выдал мне деньгами десятку, пимы, полушубок, кушак и говорит: «Мы, говорит, должны батюшку-царя защищать». Я говорю: «Вполне согласен». Ну, ладно. Пропил я все до нитки, жду. А тут октябрь пришел, начались жидовские погромы. Ну и лафа была, можно сказать, рай: чего хочешь, того просишь. А маленько погодя всеобщий бунт установили. Стали студентов избивать и всех смутьянов. Говорит, это ничего, говорит, сам архирей благословил: «Бей в мою голову, и никаких». Говорит, так по святым книгам выходит. Ежели выходит — ладно. Вот мы в двадцатом октябре, значит, запалили театер да еще управление дорог в Томском-городе. А там смутьяны, забастовщики заперлись. Как который высунет башку, солдаты раз из ружей — так и кувырнется. А я, значит, в черной сотне. А народу целая площадь. «Ты иди, — говорит, — к углу, жди». Я подошел с дубинкой. А уж верхний этаж запылал, управление. Гляжу, лезет один дьявол по трубе из дома, как белка, по самому углу, спасается, потому — огонь. Я дубинку приподнял, жду, аж слюна прошибла, вот как жду. Только он на землю, я его кэ-эк хлобысну — и башка пополам, обнаковенно.
У Фомки глаза кровью налились, чашка в руках дрожала. Старик посмотрел на него в упор, качнул головою, сказал:
— А ведь ты, Фомка, сволочь.
Бродяга исподлобья стрельнул на него глазами и не ответил ничего.
Тихо стало. Артель насторожилась.
— А как же ты со временем, Фома Петрович, министеров-то снивергал? — не отставая, лез курносый и, осклабясь, подполз на корточках к бродяге. — Скажи, сделай милость, как? Ну, скажи скорее, как? Скажи…
Фомка вдруг хрипло засмеялся, точно глотку ему сдавило:
— Как? Да очень просто.
Он плюнул в горсть и со всей силы ударил надоедливого парня по зубам:
— Вот вроде этого.
«КОММУНИЯ»
Село Конево стоит в заповедном лесу. Место глухое, от города дальнее, народ в селе лохматый, темный, лесной народ.
Помещика Конева, бравого генерала, владельца этого места, еще до сих пор помнят зажившиеся на свете старики: крут был генерал, царство ему небесное, драл всех как сидоровых коз. Пришла свобода, пала барщина, а мужик долго еще чувствовал над своим хребтом барскую треххвостку и все рабское, что всосалось в кровь, передал по наследству своим сынам и внукам. Даже до последних дней, когда поднялась над Русью настоящая свобода, жители села Конева все чего-то побаивались, все норовили по старинке жить, новому не доверяли — опять, мол, обернется на старое, — пугались всякого окрика, чуть что — марш в свою нору, и шабаш!
Правда, и среди них были люди кряжистые, хозяева самосильные. Взять хотя бы семейство Туляевых, их пять братанов, один к одному, рыжебородые, кудластые, косая сажень в плечах. А главное — очень широки у всех братанов глотки, и голос — что труба, гаркнут на сходе, так тому и быть, — кривда, правда, обида ли кому — все равно: мир молчит, терпит.
Да и как не терпеть, надо до конца терпеть, про это самое и батюшка, отец Павел, каждое воскресенье говорит: «Кто терпит, тот рай господень унаследует».
Ну, и терпели мужики.
А эти горлопаны, братейники Туляевы, ежели и забрали себе самые лучшие участки, ежели и поделили не по правде сенокос — пускай! — им же, обормотам, худо будет: сдохнут — пожалуйте-ка в кромешный ад, на вольную ваканцию живыми руками горячее уголье таскать.
* * *
Пришла несусветимая война, немчура с французинкой супротив России руку подняли, и всех пятерых братанов Туляевых, один по одному, угнали воевать. Больше полсела тогда угнали, лишь старичье да самый зеленый молодняк остались при земле, Ну, что ж: воевать так воевать. Вот весточки полетели с фронта: тот убит, тот ранен, у этого глаза лопнули от чертовых душистых каких-то, сказывают, газов. Вой по деревне, плач. Хорошо еще, что отец Павел неусыпно вразумляет: «Убиенных — в рай», но все ж таки тяжко было — в, каждой избе несчастье, бабы из черных платков с белыми каймами не выходят. Только у Туляевых старики и молодухи не печалуются, не вздыхают: видно, краснорожих братанов ни штык, ни пуля не берет.
А на поверку оказалось вот что: братаны и пороху-то не понюхали, а сразу, как на спозицию пришли, единым духом записались в дезертиры, да и лататы: ищи-свищи ветра в поле, до свиданья вам!
Это уже потом все обнаружилось, когда революция пришла. Вернулись после войны односельчане — кто на деревяшке, кто без руки, с пустым рукавом, — да и объявили про братанов:
— Дезертиры. Мазурики… Ужо-ко мы их!..
* * *
А время своим чередом шло. В селе Коневе все честь честью: новые права установили, солдаты разъясняют все по правде, лес поделили, барский дом сожгли. Ах, сад? Яблоньки?.. Руби, ребята, топором! Ну, словом, все по-настоящему, везде комитеты, митинги, очень хорошо.
И, говорят, в Питере новое правительство сидит: генерал Керенский, князь Львов, еще какие-то правильные господа, все из бар да из князей, очень даже замечательные, и простому народу заступники. Ха-ха!.. А сам государь-император будто бы в Литовский замок угодил. Ха-ха-ха!.. Вот так раз! Отец Павел ни гугу, никакого разъяснения, только и всего, что красный флаг прибил на крышу, а тихомолком все же таки старикам нашептывал:
— Годи, крещеные… все обернется по старинке… А смутьянов так взъерепенят, что…
Шептал он тихо, тайно, но все село вскоре расслышало и забоялось поповских слов: а вдруг да ежели?.. Ое-ей!.. Даже молодяжник присмирел — опять барская треххвостка вспомнилась: а вдруг да ежели…
Но вот святки подходили, и к самому празднику объявились все пятеро братанов Туляевых. Чаев, сахаров наволокли, всяких штук: щикатулки, кувшинчики, ложки — все из серебра, из золота, — часы, перстни с каменьем самоцветным. А сами, как быки, один другого глаже.
— Ну, каково повоевали, братцы? — спросили их на сходе мужики.
А молодняжник сразу закричал:
— Дезертиры, мазурики!.. Вон из нашего села!..
И прочие пристали, зашумел сход, — того гляди, зубы братанам выбьют.
— Не желаем!.. Вон!..
Тогда братаны, как медведи, на дыбы:
— Ах, вон?.. Благодарим покорно… Да мы вас!.. Единым духом! Контрреволюцию пускать? А?!
— Как так? Что вы, ошалели?.. У нас комитеты, митинги…
— Комитеты?.. Тьфу, ваши комитеты! В три шеи комитеты!
— Как так? — закипятился молодяжник. — Вы, значит, за царя?
— Кто — мы?! — вскочили Туляевы и рты ощерили. — Да знаете ли, кто мы такие?
— Знаем… Малодеры…
Тут старший братан как тряхнет бородой да топнет:
— Замолчь!! — Так в ушах у всех и зазвенело, смолкли все.
А потом тихим голосом:
— Товарищи, — говорит. — Вот что, товарищи… Мы все пятеро, то есть все единоутробные братья — окончательные большевики… И будем мы в своем родном селе, скажем к примеру, в Коневе, настоящие порядки наводить, чтобы как в столице, так вопче и у нас… Будет теперича у нас не Конево, а Коммуния. Кто супротив Коммунии, прошу поднять руку! Вот мы посмотрим, кто против Коммунии идет… Мы па-а-смотрим!..
А сам кивнул головой да пальцем возле носу грозно так, ни дать ни взять исправник.
— Значит, все под Коммунию подписываетесь? Согласны?
— Согласны… Чего тут толковать, — сказал за всех старый старичонка Тихон. — Так, что ли, братцы?
— Так, так… Согласны, — забубнил сход. — Только сделайте разъяснение, кака така Коммуния? Впервой слышим.
Тогда братаны разъяснили по всем статьям. Перво-наперво, чтоб не было никаких бедных, а все богатые; вторым делом — все общее, и разные прочие, тому подобные мысли.
Ну, богатеям это шибко не по нраву, стали возражать.
— Тоись, как все общее? — спросил дядя Прохор, мельник-богатей.
— А очень просто, — сказал старший братан. — У тебя сколько лошадей?
— Три.
— Две для бедняков, для неимущих… Таким же манером и коров, и овец… Иначе к стенке…
— Тоись, как к стенке?
— А очень просто, — сказал старшой Туляев да на прицел винтовку прямо Прохору в лоб.
— Краул!.. Братцы!.. Чего он, мазурик, а?!
Однако все обошлось честь честью, только постращал.
* * *
И стало через три дня: не село Конево, а Коммуния.
Братаны Туляевы дело круто повернули.
Раньше впятером под одной крышей жили, а теперича не то:
— Мы, — говорят, — сицилисты-коммунисты.
И, чтоб укрепить полные повсеместные права, стали себе по новой собственной избе рубить.
Возле самой церкви, на площади, очень хорошие места облюбовали, два своих дома ставить начали да два в церковной ограде, а пятый дом к самому поповскому дому впритык приткнули.
Отец Павел сейчас протест:
— Это почему ж такое утеснение? Вам мало земли-то, что ли? Зачем же сюда, на чужую-то?
— Ни чужого, ни своего теперича нет, все общее, — наотмашь возразили ему братаны.
— Ежели собственность уничтожена, зачем же вы себе такие огромадные избы рубите?
— Ах ты, кутья кислая! В рассуждение вступать?.. А вот погоди, увидишь, что к чему!
И живой рукой созвали сход.
— Товарищи! Потому что мы коммунисты и вы все коммунисты-террористы, предлагаю: истребовать сюда попа и обложить его контрибуцией.
Пришел отец Павел, ни жив ни мертв.
— Три тыщи контрибуции, а ежели перечить — немедля к стенке — рраз! — пригрозил старшой Туляев и опять артикул винтовкой выкинул.
Поп задрожал-затрясся, побелел. Жаль денег, вот как жаль, по алтыну собирал, по гривне, — однако жизни жальче. Сказал им:
— Ну, что ж, миряне… Конечно, вы можете расстрелять меня без суда, без следствия… Берите, грабьте…
И вынес сполна три тыщи.
— Добро, — сказали братаны. — Это все в Коммунию пойдет.
Поехали с поповскими деньгами в город, накупили себе того, сего. А избы ихние как в сказке растут: старшой братан железом крышу кроет.
Дивятся крещеные, шепчутся.
Таким же манером всех богатеев обложили: кого на пятьсот рублей, кого на. тысячу. А тут и до середних добрались.
— Это все в Коммунию, — говорят братаны.
И у каждого по две пары лошадей образовалось, сани расписные, пролетки, бубенцы.
Крещеным завидно стало, ропот по селу пошел.
— Это чего ж они все себе да все себе… А нам-то?.. Вот так Коммуния!
— Дак что же делать-то?
— Надо бедный комитет избрать.
— Да ведь избрали… все комитетчики — братаны.
— Надо новый.
Пошли скопищем к братанам.
— Так и так, братаны. Желаем новый бедный комитет избрать… А вас, стало быть, долой.
Покрутили братаны усы, почесали бороды, а старшой как гаркнет по-военному:
— Ага! Против бедного комитета восставать, против революции? Кто зачинщик? Вавило? Вавило, ты? К стенке!
Вскинули винтовки — рраз! Упал Вавило.
Остальные разбежались, кто в подполье, кто в овин, потому у братанов ружья, а у прочих кулаки одни.
Наутро сход. Братаны объявили:
— Борьба с контрреволюцией будет беспощадна. В случае доноса — доносчика отправим за Вавилой. Твердая власть — она очень даже строгая. А теперича, товарищи, на общественные работы — марш!
И погнали все село свои новые усадьбы доделывать: тыном обносить, узорчатые ворота ставить.
Крещеные пыхтят на братановых работах, кто тын городит, кто крышу кроет, готовы братанам горло перегрызть, а не смеют: пуля в лоб.
А братаны сполитично:
— Вот, товарищи, кончим дело — спасибо вам большое скажем.
— Очень хорошо… Согласны… — сказали мужики и сглотнули слезы. У Андрона от кровной злости топор упал.
— Все Коммунии да Коммунии, а когда же нам-то? — спросил Андрон. — Мы ведь самая беднота и есть…
Вечером у Андрона братаны в Коммунию последнюю удойную корову отобрали — ведерницу.
Взвыл Андрон.
Да и все село взвыло, даже собаки хвосты поджали, вот какой трепет на всю Коммунию братаны навели. Все на учет забрали: хлеб, крупу, телят, до самых до жмыхов добрались. Мужики с голодухи пухнуть стали, а Туляевы жиреть: двух младших братьев оженили, свадьба с пивом, спиртом, пирогами, широкой гульбой была.
И если бы не Мишка Сбитень — пропадом пропала б вся Коммуния.
* * *
Был когда-то парень разудалый в селе Коневе, Мишка. Насолил он всем вот до этих мест, озорник был, хуже последнего бродяги. Вздрючили его крестьяне и по приговору выгнали из селения вон.
Десять лет пропадал Мишка Сбитень. А тут как раз ко времю и утрафил. К самому Новому году взял да в Коммунию и прикатил.
Чернявый такой, будто цыган, в ухе серьга, через всю грудь цепочка, часы со звоном, папаха, полушубок. А глаза — страшенные, на выкате, а усищи — во! А сам — чисто медведь, идет — землю давит, от кулаков смертью пахнет: грохнет — крышка!
— Вы что как мертвые ходите, словно дохлые мухи? А? Радоваться должны, ликовать: из рабов гражданами стали.
— Эх, Мишка, Мишка… — вздохнули мужики. — У кого радость, а у нас Коммуния.
— Ха-ха-ха! — захохотал Мишка Сбитень. — Отлично сказано… Чего же вздыхать-то?
— Да вот у нас в бедном комитете братаны Туляевы сидят. У них винтовки, а у нас — ничем-чего.
— Ха-ха-ха! — опять захохотал Мишка.
А крестьяне ему все и обсказали до тонкости.
Долго Мишка хохотал, даже за живот хватался, а потом зубами скрипнул, да с сердцем так:
— Ведите-ка меня на сход.
Вот собралось собранье. Братаны стали речь держать, а сами на Мишку все косятся.
— Ты, товарищ, кто таков? Ты коммунист?
А Мишка в ответ:
— Ха-ха-ха!.. Не признаете? А я вас знаю. Я — волгарь. На Волге-матке десять лет работал, кули таскал, до самого Каспия доходил; вольным духом набирался, на Стенькином кургане чай пил. Мне черт не брат!.. Вот кто я таков… Ну, валяйте дальше…
Братаны так его и не узнали. Старшой шепнул середнему:
— Не иначе — большевик… Может, комиссар какой, с проверкой… Надобно по всей программе.
Да и начал жарить:
— Контрреволюция, контрибуция, буржуи… Да здравствует вся власть Советов!..
— Стой, товарищ! — оборвал его Мишка Сбитень. — Я слышал, вы больше двадцати тысяч контрибуции собрали. Где деньги?
— Деньги? А у тебя, товарищ, мандат есть?
— Есть, — как в бочку, гукнул Мишка. Бросил цигарку, встал, размахнулся да как даст старшому по зубам. — Вот мой мандат!
Все мужики в страхе повскакали, наутек бросились, к дверям.
— Стойте, дурни! Куда вы?! — гаркнул Мишка да к братанам: — Мазурики вы, а не коммунисты. Буржуи вы, хамы! Ежели с кого контрибуцию брать, так это с вас… Ах, винтовки? Я те такую винтовку завинчу… Я те покажу стенку. Ребята, вяжи их, подлецов!!
Мужики валом навалились на братанов:
— Попили нашей кровушки, аспиды!.. Рраз!
— Стой, не смей, — крикнул Мишка. — Ну их к чертям!.. Погодь маленько, дай слово сказать.
— Говори, говори… Желаем…
— Товарищи! — крикнул Мишка и тряхнул серьгой. — Коммуна — святое дело. Коммуна — что твой улей, коммунист — пчела. Всяк честно трудится, зато всяк сладкий кусок ест. От этого самого не жизнь, а мед. А кто ваши Туляевы? Пауки, вот кто. А вы — мухи. В паутину — хлоп, тут вам и карачун. Вы здесь хозяева, а не они. К черту их! Кто не за народ, тот против народа, против правды. К чертям Туляевых!
— Так, так… К лешему под хвост!
— Избы ихние отобрать! Имущество? Имущество конфисковать!.. Начнем, товарищи, по-новому, по правде-истине… Чтоб всем была свобода, чтоб можно было дышать по всем статьям… А то ежели я тебе глотку зажму да ноздри законопачу, чем дышать будешь?..
— Именно, что… Тогда не вздышишь!..
— Эй, пятеро беднейших, выходи! — скомандовал Мишка. — Берите себе Туляевы избы. А вы, голубчики, к чертям отсюда, марш, катись колбаской! Таких коммунистов нам не надо.
«НА ТРАВКУ»
Яков Мохов, наголодавшись в Питере, выхлопотал в фабричном комитете двухнедельный отпуск и укатил в Краснозвонск «на травку».
— Это ты правильно, — сказал ему товарищ. — Краснозвонский уезд завсегда был сытый. Народ справно там живет. Вот и мне картошки пришлешь.
Ехать было очень голодно: на станциях — хоть шаром покати, пустыня.
Но лишь сошел в Краснозвонске с поезда, какой-то шершавый дядя с кнутом вырвал у него восьмушку махорки, сунул в руку полкаравая хлеба фунта в два, а тетка за маленькую катушку ниток дала десяток вареных яиц.
Яков Мохов весь расцвел.
— Господи… Вот так чудеса! — сел на лавочку да все без запинки и скушал.
— Полный резонт… — сказал он самому себе и в веселом настроении пошел на рынок: день воскресный, как раз базар.
Зычно бухали колокола к поздней обедне — церквей в городе много; зеленели сады, ласточки с веселым гамом резали воздух; к базару тянулись подводы; лошади откормленные, гладкие, народ приветливый и сытый.
А вот за мостом, у собора, и базар. Тороватый прасол продает целое стадо домашних уток, вот две большущих бочки масла, творогу, возы яиц. Хотя цены высокие, но у возов хвосты — всяк пить-есть хочет.
Местные жители на чем свет ругают приезжих питерцев, которые ходят гурьбой по базару, у каждого за плечами мешок, в руках сумка со всякой всячиной: чулки, брюки, чашки, часы, сукно, ситец.
— И чего их пускают сюда? Гляди, как набивают цены-то. Приступу нет.
— Захочешь есть, так… Поди-ка побывай в Питере-то, нюхни-ка!.. Нужда гонит.
— У вас заработки. А у нас что?
— Заработки… Велики наши заработки.
Яков Мохов наблюдал все это издали, прислушивался, присматривался, наконец и сам принял участие.
Он подошел к рыжебородому, маленькому, похожему на колдуна, старичонке:
— А почем картошка?
— Картошка? — переспросил тот, хитроумно взглянув на покупателя, и поскреб под бородой. — Картошка у меня серебрянка называется, не скороспелка. Прямо с гряды. Вот какая картошка-то… Сахар! Триста целковых мера.
— Дорого.
— Дорого? — опять переспросил старик сердито. — Зато в городе. Не хочешь, не бери.
— Как это не бери? Я есть хочу!.. Чего тебе картошка-то стоит… Грош она стоит. Мародер этакий.
— Стой, стой! Ты не лайся… Ну, ладно, взял я, скажем, триста рублей с тебя, — а что я на них могу купить? Ну-ка, скажи! Три фунта соли. Понял?
— Верно, верно!
Кругом загалдели, собиралась толпа.
— Вот рубаху сейчас купил! — крикнул парень. — Пятьсот рублей. А она греет, что ль? Ситец!
— Лошадь — тридцать тысяч! Колесо — две тыщи. Коса, уж на что коса и та шестьсот. Ха!
Яков Мохов улыбался, глаза его сверкали.
— Вот у тебя, я вижу, сапоги новые обуты, — задорно сказал старик колдун и подбоченился. — Во сколько их ценишь? В три тыши? А я кладу за них четыре рубля с полтиной, как до революции, а свою картошку — пятиалтынный мера. Это сколько же выходит? Тридцать мер? Так и есть… Вот получай тридцать мер да разувайся, ежели на то пошло! Желаешь?
— Ха-ха-ха! Разувайся, товарищ, разувайся! — подзуживали ротозеи.
— Заплачешь ведь! — возвышая голос, чтоб заглушить поднявшийся шум и хохот, говорил Яков Мохов. — Спятишься, старый хрен… Ведь тридцать мер, ежели по три сотни — девять тысяч выходит, а я три прошу. Взвоешь ведь!
— Кто, я? Ничего не взвою. Разувайся, и никаких!
— Не валяй ваньку-то! До старости лет дожил, а дурак.
— Может статься, и дурак, да не дурашней сына твово батьки.
— Ха-ха-ха!..
— А где у тебя картошка-то? У тебя и картошки-то полторы меры.
— Поедем. Живо накопаю. У меня две девки!
— Где ему? — подзуживали зеваки. — Он только бахвалится. Поди и сапоги-то не его, а для прогулу взял.
— Известно, не его! — подмигнул старик зевакам. — Ему и во сне-то не снилось таких собственных сапогов носить.
— Ишь, ишь закраснел как!
— Едем, черт тя дери, едем!! — крикнул взбешенный Яков Мохов и залез в телегу к старику.
Вышло чудно как-то и нелепо. Ну, для чего он продал сапоги? И куда ему тридцать мер картошки? Ему масла надо, крупы, яиц, хлеба.
Тьфу!.. Он с досадой посматривал на сутулую спину колдуна, на его хитрые, с прищуром, глаза, на клокастую рыжую, с сильной проседью бороду.
Но лишь только выехали за город, досады как не бывало. Кругом лежали желто-золотистые нивы и зеленые поля, виднелись рощи, перелески, то здесь, то там белели церкви. Воздух насыщен пряным густым теплом, солнце склоняется к западу, по пажитям чинно расхаживали грачи, а в выси все еще звенели песни жаворонков.
— Ух, ты! Давно я не был в деревне. Я ведь тоже из мужиков.
— Так-так-так… Само хорошо, — живо откликнулся старик.
— А служу на фабрике в Петербурге.
— Так-так-так… Благодарим покорно… Оно и видать: краски-то никакой в лице нету… А кость широкая. Поди харч плохой?
— Ну да… А после пасхи в больнице месяц вылежал.
— Так-так-так… И чего вы, ребята, например, все мутите? За дело бы надо. Нешто это жизнь?
— А тебе плохо? Наверно, помещичью землю поделили? А?
— Насчет землицы — это правда, — землица отошла к нам от барина добрая. Благодарим покорно… И лесок есть, и сад, а яблоки — во! — в два кулака другой не уложишь, да еще пасека… Все под мужиком теперича!
Старик свесил с телеги ноги, покрутил головой и скрипуче засмеялся, его маленький круглый носик совсем потонул между толстых лоснящихся волосатых щек.
— Вспомнил штуку… Хошь — расскажу? Тут в пятом годе такая канитель вышла с помещиком-то нашим, что страсть. Погромишко, вишь ты, мужики-то устроили, то есть все покострячили — дым коромыслом! А я по-опасался ехать, как бы чего не вышло, думаю. Одначе баба забранилась: «Дурак, грит, ты… Эвот, люди возами добро возят. Грыжа, грит, ты собачья!» Оделся я, поехал. А там уж и взять нечего: что муку, что небиль, али платье — все расхватали, чисто под метелку. Нет, думаю, надо, что ни то и мне, а то — старуха глотку переест. Гляжу — чан большущий, дубовый, ведер на сорок, на боку лежит. Я его в сани, грузный черт, аж становую жилу надорвал. Вот поворотил я с ним домой, да и подумал: «А на кой леший мне чан?» А сам глазом шарю, нет ли еще чего билизовать: значит, в антирес входить начал. Гляжу, кобель барский, тощий такой, согнулся в дугу, будто стрючок, шуба-то на нем короткая, а мороз. И стал я за ним гоняться, ну вступило в мысли поймать да и поймать. Чисто ошалел тогда. Тоись до того упрел, гонявшись, аж душа вон. Одначе изловчился, пал на него, а он меня цоп за нос! — едва не отгрыз. Скрутил я его кушаком, да в чан-то и посадил, и сам туда залез, а кушак-то вокруг себя, чтобы, значит, не убег кобель-то. И поехали мы с ним, благословясь, домой, как сенаторы. Вот ладно. Вдруг откуда ни возьмись черкесцы — у соседнего барина, слышь, служили они, — за мной. Я как начал нахлестывать кобылу-то, они за мной. Ке-эк в это времечко дорога крутанула, сани вверх копыльями, все на свете перекувылилось, тут нас с кобельком чан-то и накрыл, двух дураков. Живым манером это черкесцы опять чан перевернули и почали меня плетками драть. Дерут, а мне смешно: кобелишко-то со страху кушак мог оборвать, да как сиганет, отбежал в отдаленье, да ну гавкать дурноматом. Тут и черкесцы засмеялись, ей-богу право, бросили меня драть-то. Я встал на ноги, один как порснет мне в морду кулаком, я опять слетел. Только было подымусь, как порснет по уху, я опять в снег башкой. Я караул заорал, взмолился. Бросили. Распрощался я тут с ними честь по чести и пошел ни с чем домой, потому кобыленки и след простыл. Иду да кровью отплевываюсь, зуб мне вышибли, самый клык.
Старичонка долго хохотал, подстегивая лошадь; грустно улыбался и Яков Мохов.
— Вот видишь, — сказал он старику. — Разве это порядок? А теперь кто тебя пальцем может пошевелить? Никто.
— Как есть никто! — Старик помолчал и сказал раздумчиво: — Оно верно, что с этим уставом с теперешним можно было бы жить, кабы удовольствие… А то, вишь, никакого удовольствия: ни тебе сахару, ни чаю, ни гвоздя. Тьфу! Эвот селедка, уж на что дерьмо и та в сотню въехала. А бывало на сотню-то две коровы да коня купишь. — Он ударил себя кнутом по голенищу, защурился и закрутил головой. — И деньжищ энтих теперя у всех крещеных — гибель! А впрочем, — что в деньгах? Бумага и бумага… А удовольствия никакого тебе нету. Да-а… Так-так… Ну вот, например, вы, фабричные — коего черта, прости бог, не вырабатываете ситцы да сукно? Оглашенные вы эдакие, будьте вы неладны! — вдруг переменив тон, крикнул старик.
Лицо его стало строго, но глаза смеялись.
Яков Мохов ответил не сразу. Долго глядел на него в упор, потом сказал:
— Темный вы народ, жадный. Вам бы только в брюхо все. Есть селедка в аршин величиной, есть ситный, вот мужику и хорошо. А что ежели его в зубы урядник лупцевал, да землишки было — кот наплакал, — это мужик забыл. Вот ты плачешь, что фабрики стоят. А где взять хлопка, угля, нефти, железа? Ведь все это тю-тю от нас! Поди-ка повоюй, говорят.
— Ране было же.
— Так зато раньше и помещик был. Раньше и исправник был, и земли у тебя не было. Ну что, ежели тебе дадут, к примеру, сто аршин ситцу, двадцать аршин сукна, пуд мыла да пуд сахару и окажут: получай, только помни, все обернется по-старому, снова будешь не хозяином, а холуем последним. Согласишься?
Старик вздыхал, крутил головой, покрякивал, потом сказал:
— Нет! — и нахлобучил шапку.
— Ну а ежели водки еще в придачу? И бочонок самолучших сельдей? А? — улыбнулся Яков.
Старик захохотал и мрачно сплюнул:
— Благодарим покорно… Ха-ха-ха!.. Вот так заганул загадку. Водка! А?! Да у меня своя брага сварена, ей-богу право. Вот приедем, угощу. Эвот и село наше.
Через полчаса сидели за самоваром. Две девицы — Дарья с Марьей, одна другой краше — наперебой потчевали гостя:
— С преснушечками-то, с соченьками-то. Уж не взыщите, мы по-деревенски.
И хозяин весело покрикивал:
— Намазывай толще маслом-то, не жалей, не купленное. Эй, Марья, а ну-ка в погреб, бражки бы похолодней!
С крепкой браги Якова бросило в краску, и в глазах замелькало.
«Этакая благодать, — подумал он, — вот бы пожить-то где», — и поддел на ложку густого пахучего меду.
— Живем, благодарю покорно, ничего… — громко, чавкая и запивая брагой, сказал старик. — Только вот в чем суть: бог урожай послал очень даже примечательный, а убираться не с кем: я стар, а девкам одним не управиться… Вот беда-то…
Яков Мохов поставил на стол блюдце и несмело сказал:
— А что, ежели я бы? Насчет работы-то. Я могу.
— Да ну? — вскричал захмелевший старик. — Ах ты, ясён колпак… Яков Иваныч, друг!.. Неужели остался? А уж насчет жратвы мы тебя побережем, тоись так будем ублажать, ну прямо лопнешь по всем пунхтам. А девки-то, девки-то у меня — малина!.. — Он подмигнул на зардевшихся девиц и вдруг: — А ты женатый?
— И не думал.
— Ну?! Право слово? Девки, слышали?
Девки зарделись пуще и заходили козырем, грудь вперед, как на подносе.
Хозяин захихикал скрипучим смехом, подскочил к сундуку:
— Раз! — выбросил он новые сапоги. — Первый сорт, со скрипом… Два! — выбросил другую пару. — Три, четыре, пять — это девкины! Нна! Уж насчет обувки — извини — вполне имеем. Ха-ха-ха! Уж извини. Тоись надул я тебя, Яков Иваныч, вот как… Тоись на рынке-то. Не сапоги твои, ты мне нужен, ты! Приглянулся ты мне: большой да широкий. Дай, думаю, уманю. Ха-ха-ха! Благодарим покорно. Оно как по писаному и обернулось. Чисто камедь… Ах ты, ясён колпак. Дарья, браги!! Марья, ходи веселей! Не зевай, девки, холостой ведь он…
Яков Иваныч улыбался.
ЭКЗАМЕН
— Ну, так как? Это ваше последнее слово, Надюша? — выразительно спросил Утконогов.
— Да, самое последнее… Вы сами посудите, Петр Федотыч… Я, конечно, за кондуктора пошла бы, но страсти боюсь, что вы на экзамене обрежетесь.
— Пожалуйста, в смысле экзамена не сомневайтесь. Например, я все выдолбил как нельзя лучше. Вот разбудите меня в самое ночное время и задайте вопрос…
— Ах, что вы говорите!.. Разве я могу, будучи, без сомнения, девицей, будить в ночное время спящих мужчин во сне… А вдруг вы скочите и замест экзамена начнете мужские глупости… А вот я вам, Петр Федотыч, прямо отвечаю: ежели вы, без сомнения, провалитесь, то за меня сватается один солидарный женишок.
— Кто такой? — оторопело спросил Утконогов.
— Да уж есть, — кокетливо протянула Надюша; круглые, нажеванные щеки ее налились улыбкой, как яблоко. — Сватается за меня Кузьма Ефимыч Жеребяткин… Они не советуют за вас выходить, а я, без сомнения, напротив…
Утконогов шел домой в большом волнении. Да, черт тя ешь, этот самый Жеребяткин конкурент по всем статьям. Этот самый Жеребяткин не кто иной, как нарядчик кондукторских бригад. Вот кто Жеребяткин. И Надюша, видать, не промах: у Жеребяткина хозяйство ай-люли, одних свиней штук пять. Ах, дьявол!
— Ну да ничего… — сказал он вслух. — Ведь экзаменатором-то мой знакомый техник назначен, Лебеда.
Через два дня Петр Федотыч отправился на экзамен и зашел к невесте.
— Ах, до чего вы интересные собой, — сказала девушка. — Только смотрите, как бы не сбили вас. Такой вопрос поставят на ответ, что… Например, меня на экзамене в комячейке спросил инструктор: а где живет Карл Маркс? Я сказала: они померши. А мне сейчас же опровержение: Карл Маркс живет в сердцах пролетариата. Представьте! Я, без сомнения, не могла знать, и чрез эту неприятность чуть не слегла в обморок.
Петр Федотыч весело расхохотался и сказал:
— Этих паник я не признаю. А раз вы жили в городе у генеральши, позвольте облобызать вашу ручку, мадмазель.
И пошел через село на станцию в полном душевном равновесии.
Но, отворив в контору дверь, он вдруг оцепенел: за письменным столом сидел старший слесарь усач Григорьев и вместо знакомого техника нарядчик кондукторских бригад Жеребяткин. На мгновение в мыслях пораженного Петра Федотыча промелькнула с язвительным хохотом Надюша, он в страхе зашевелил губами, его усы сначала поднялись кверху, потом загнулись назад, как у моржа.
— Заставляете себя ждать, — сухо встретил Жеребяткин и оправил свой новый красный галстук.
— Извиняюсь, у меня часы отстают, — убитым голосом промямлил Утконогов и подумал: «Боже, боже… Он экзаменатор. Прощай, Надюша!»
— Прошу занять место… Напоминаю, что экзамен поведу по всей строгости, согласно экономических потребностей и вообще новых веяний во всех подобных начинаниях, а также будучи идеологическая подоплека. Итак, приступим.
Нарядчик Жеребяткин говорил хотя высокопарно, но вяло и скрипуче, точно стонал. У него флюс, адски болели зубы.
У Петра Федотыча екнуло сердце, но он овладел собой и ответы давал с треском, правильно, четко и толково. Нарядчик Жеребяткин недовольно крякал.
Прошло больше часа. Все трое взмокли от напряжения и жаркого солнечного дня.
Почти вся инструкция блестяще исчерпана. Петр Федотыч даже сверх программы изобразил карандашом схематический чертеж сцепления вагонов обыкновенной и уленгутовской стяжкой.
— Я полагаю, довольно бы… По-моему, товарищ Утконогов выдержал и заслуживает кондукторского звания, — сказал Григорьев, облизнув пересохшие губы.
Утконогов засиял, ему ужасно захотелось расцеловать Григорьева.
— Что? Как это довольно! — оживился Жеребяткин. — А вот мы испытаем, на сколько градусов у него котелок варит. — При этом нарядчик Жеребяткин так сильно засопел, продувая ноздри, что подвязанная к флюсу вата полетела клочьями.
— Отлично. Хорошо, — сказал он, хватаясь за больную щеку. — А вот, например, в товарном вагоне везут покойника. Что это: живность или груз?
«Ну, на этом-то не собьешь меня», — подумал Утконогов и бойко ответил:
— Никакой покойник не может почитаться живностью, раз он умер. Живность шевелится и чуть что — должна поднять крик. Например, корова издает вроде мычанья, петух поет. Под товар тоже подвести нельзя, все-таки это бывший человек, и в смысле товарооборота не может быть и речи. А просто — покойник. Довольно странный, сбивчивый вопрос.
У экзаменатора глаза стали круглыми и завертелись.
— Ну так, — сказал он. — А вот что значит: находясь на службе, кондуктор должен являться в трезвом состоянии? Что обозначает трезвое состояние? Например, я могу выпить ужасно много, и как только начинаю ругаться на татарском языке, значит — стоп. А другого с трех рюмок развезет. Как тут сопоставить?
Григорьев хихикнул в рукав, а Петр Федотыч, чуть подумав, ответил:
— Трезвое состояние значит, когда человек не шатается, не ругается и все понимает.
— Так это и Григорьев, ежели окончательно будучи напьется — не шатается, не ругается, а сразу ляжет на обе лопатки, как бревно, и все понимает.
Григорьев опять хихикнул и сказал:
— Это к инструкции не касаемо, к чему же сбивать?
Но Петр Федотыч нашелся:
— Трезвый — значит ничего не надо пить.
— Извиняюсь, — сердито запротестовал экзаменатор. — Такого правила в инструкции не сказано, чтоб из общества трезвости. Ну, ладно. Этот вопрос спорный и вытекает из крепости естества. А вот… — И он задумался. — Вот скажите мне, что надо делать, ежели в поезде есть вагоны с негашеной известью?
— Я должен убедиться, — начал Петр Федотыч слово в слово по инструкции, — что в этих вагонах нет щелей и дыр и люки закрыты настолько плотно, что устранена всякая возможность проникновения в вагоны дождя, снега и тепе.
— Что, что? Это что за «тепе» такое? — изумился экзаменатор и стал перелистывать инструкцию.
— Я и сам призадумался, — грустно ответил Петр Федотыч. — Чистосердечно сказать, не понял. Но безусловно — сырость, раз известь негашеная. Я так полагаю, что озорники, которые ездят на крышах, например, во время революции… И прямо, извиняюсь, с крыш это самое… А в крышах, конечно, щели. Ну, и потеке.
— Тьфу ты! Ничего ты, сударь мой, не понимаешь. Тут пропечатано: дождя, снега и т. п., то есть — и тому подобное, а отнюдь не и тепе.
— Я не знал. Тут неясно… — упавшим голосом проговорил Утконогов.
— Ага, неясно! — обрадовался Жеребяткин — Это не ответ. Для кондуктора все должно быть ясно.
Григорьев твердо сказал:
— Протестую. По моим соображениям, какая же может быть сырость, кроме снега с дождем? Ответьте мне сами-то, товарищ Жеребяткин.
— Сырость? — заносчиво проговорил Жеребяткин. — Сырость может быть всякая. Мало ли какая сырость бывает…
— Например?
— Ну, сырость… Мало ли там. Сырость— это… Ой, ой… Батюшки, стрельнуло как! — Он схватился за щеку и, весь перегнувшись, побежал по комнате, широкоплечий, приземистый, с брюшком.
А слесарь Григорьев резонно говорил:
— Как я осистен, то подписываюсь руками и ногами под ответом товарища Утконогова. Ответ правильный. Кроме как от безобразий, никакой сырости в естественной природе и не обнаружено вредной для извести. Вопрос исчерпан.
— А вот, — раздалось от окна, и Жеребяткин прикултыхал на место. — А вот ответь. Сидишь ты в порожнем отделении и побился, скажем, об заклад с другим кондуктором. Ты говоришь: «На таком-то перегоне поезд обязательно сойдет с рельс». А тот отвечает: «Нет, не сойдет». И действительно, поезд прошел благополучно, и ты проиграл. Хвать, а денег-то и нет, заплатить-то и нечем. Ты бежишь в ночное время, когда все спят, и начинаешь вежливо трясти свою мать и говоришь ей в сонном виде: «Матка, дай-ка скорей деньжат!»
— Никак нет, — возразил Петр Федотыч. — В силу параграфа тридцатого кондуктор не должен без надобности беспокоить пассажиров, особливо ночью.
— Но, во-первых, не без надобности, а во-вторых — это же твоя родная мать?..
— Это меня не касается. Ежели, скажем, мой отец, покойник, придет с того света да начнет в вагоне стекла бить, я и отца на ближайшей остановке вышвырну в вежливой, но твердой форме. Во-вторых, согласно параграфа пятнадцатого, я не имею права занимать порожние отделения.
— Так, так. Ну что же, все? Хорошенько обдумай мой вопрос.
Утконогов подумал и сказал:
— Да, все.
Нарядчик Жеребяткин вильнул бритой, в ермолке, головой и пристукнул в стол ладонью.
— Ага, все? По-твоему, все? А вот и врешь. Как же ты смеешь, черт тебя бери, биться об заклад, раз у тебя на перегоне не благополучно?.. Извольте радоваться, вместо того, чтобы подать на паровоз тревожный сигнал, он, каналья, бьется преспокойно об заклад и идет как ни в чем не бывало будить родную мать, а тут поезд через три минуты должен кувырнуться!
— Ага, конечно… Я сейчас же…
— Ах, сейчас же?! Нет, брат, поздно! Поздно, черт тебя дери!! Что у тебя там было на путях? Шпалы выворочены, рельс развинчен или бык лежал? Отвечай!!
— Откуда же я могу знать?..
— Ах, вот как! Он, каналья, бьется с каким-то паршивым ослом об заклад и не знает, почему бьется?.. Харррашо-о-о о…
— Я протестую! — крикнул слесарь Григорьев и весь взъерошился. Его глаза на прокоптелом лице сердито белели. — Ерунда какая-то! Он же инструкцию отлично знает, а вы нарочно запутываете. Прошу задавать вопросы по существу понятий, а это уже вроде как тенденция. И, кроме того, остается недоказанным, что он каналья. Я протестую. Прошу называть товарищем. И на «вы».
Такое заступничество растрогало Петра Федотыча. Губы затряслись, на глазах показались слезы.
— По-моему, довольно, — авторитетно сказал Григорьев. — Вполне достоин своего звания. Заявляю, как осистен.
— Последний вопрос, самый понятный, незапутанный, — проговорил экзаменатор и весь хищно сжался, как на мышонка кот.
— В вашем вагоне, товарищ Утконогов, едет беременная женщина Понятно? И вот она случайно родила двойни, что вполне допустимо инструкцией. Понятно? — мотнул он головой Григорьеву. — Ну, вот. Что же вы, товарищ, должны сделать? Скорей, скорей…
Петр Федотыч потер лоб, быстро припоминая всю инструкцию.
— Я должен разыскать кондуктор-фельдшера; если такового не имеется, я должен… Больше в инструкции ничего не сказано…
— Надо шевелить мозгами! — почти крикнул Жеребяткин.
— Я, конечно, буду искать бабушку промежду пассажиров, которая повитуха. В случае неимения налицо таковой, буду умолять всякую попавшую женщину…
— Ну, ну! — торопил Жеребяткин.
— Ежели таковой не повстречалось бы во всем поезде, что невозможно допустить… Я кой-как… конечно, я не спец по части новорожденных младенцев, но…
— Чушь! — оборвал Жеребяткин. — Совсем не то.
— Я на первой же остановке честно, благородно, соблюдая вежливую форму, должен отнести роженицу в приемный покой, а также двух появивших младенцев.
— Чушь, чушь! — торжествующе сказал Жеребяткин. — Далеко не в этом суть вопроса.
Петр Федотыч в замешательстве переминался с ноги на ногу. Слесарь Григорьев поспешно вышел в другую комнату и поманил пальцем Жеребяткина.
— В чем суть? Я тоже ничего не понимаю… — тихо и конфузливо спросил он.
— Да очень просто, — весело подмигнул Жеребяткин — Ведь младенцев-то два… Понимаете? Ежели б один, ну, тогда он прав… А то два…
Когда Жеребяткин до конца объяснил в чем дело, Григорьев сквозь сдержанный смех воскликнул:
— Ах, ерш те в гайку! Совершенно верно!.. Хы-хы-хы…
— Надо скорей кончать, — сказал Жеребяткин, ковыряя спичкой зубы. — У меня рукобитье сегодня… Надюшу-то Дроздову знаете?
— Поздравляю, поздравляю…
И оба вышли фертом к взволнованному Петру Федотычу.
— Ну что ж, знаете?
— Никак нет.
Слесарь Григорьев, совершенно неожиданно для Петра Федотыча, крепко и внушительно сказал:
— Стыдно этого не знать, товарищ! Это даже дураку ясно. Какой же ты после этого, к чертовой матери, кондуктор?
— В чем же суть? — весь уничтоженный, продрожал голосом Петр Федотыч.
— Ты должен, — поднимаясь и рубя ладонью воздух, стал чеканить Жеребяткин, — после установленного факта в рождении, ты сейчас же должен стребовать с этой самой мадам дополнительный билет. Один младенец бесплатно. А ежели два образовались в поезде, это уж целый билет дорога заработала. Итак, резюмируя способности мозгов, ты чрез полгодика можешь явиться для вторичного экзамена об это место.
Петр Федотыч качнулся, мотнул головой и, сдерживая гнев, угрожающе сказал:
— Ну, в таком разе мы с вами, гражданин Жеребяткин, посчитаемся… Я найду правду. Теперь не прежние времена… Так влетит, что…
И экзаменаторам действительно влетело.
СМЕРТЬ ТАРЕЛКИНА
— К черту, — сказал сам себе Петр Иваныч Тарелкин, прикултыхав домой с трудповинности, и бросил в угол лопату. — Так больше жить нельзя. Это не жизнь, а каторга… Хуже! Это хождение преподобной Феодоры по мукам. Хуже…
Он снял с правой ноги стоптанный сапожишко и осмотрел ступню: так и есть, большой палец посинел и вспух. Руки тоже поцарапаны, и рассечена бровь. Он размотал веревку, служившую ему поясом, швырнул ее под кровать, сорвал с плеч дырявую бабью кацавейку и долго шагал взад-вперед в одном сапоге, припадая на больную ногу.
— Ха, транспорт… Вози им песок из карьера, балласт… — бубнил он, тараща озлобленные мутные глаза. — А зимой дрова заготовляй на железку, для общественных портомоен проруби долби, окопы рой… Тьфу! Черт бы их драл.
Петр Иваныч остановился и так свирепо потряс кулаками, что рыжие длинные космы его заплясали по острым плечам. В эту минуту, взлохмаченный, дикий, грязный, он напоминал допившегося до чертиков дьякона.
В изнеможении он повалился на кровать и сердито запыхтел.
— И завтра, и послезавтра все то же, то же. Может быть, еще десять лет такую волынку тянуть придется… Это с больным-то сердцем.
Но настроение его вдруг резко изменилось: по испитому длинному лицу проползла улыбка, большой кадык на хрящеватом горле судорожно запрыгал, фиолетовый нос весь наморщился, засвистел и затрясся в смехе.
— Гениально! Гениально! — радостно воскликнул Петр Иваныч и ударил себя ладонью в лоб.
Отворилась дверь. Петр Иваныч поспешно придал лицу вид безвинно пострадавшей жертвы и закрыл глаза.
— Петруша! Да что ж ты, голубчик, развалился-то, — чуть гнусавя, сказала Фелицата Николаевна и стала разматывать с головы шаль, — хотя бы рассаду полил, ведь завтра некогда, завтра ты назначен на заготовку шпал. Милицейский с бумажкой приходил.
— Не пойду, — равнодушно сказал Петр Иваныч и густо, но без всякого выражения сплюнул. — Я — бывший соборный регент, а не батрак. К черту!.. Я им больше не слуга… Арестант я, что ли?
Треугольное личико миниатюрной Фелицаты Николаевны побелело.
— Да, никак, ты рехнулся, Петруша! Да ведь по нынешним временам за это могут расстрелять!
— Как это меня могут расстрелять, раз я умру, — загробным голосом проговорил Петр Иваныч.
Жена испуганно задвигала бровями.
— Как, Петрушенька, умрешь?
— А очень просто: вот вытяну ноги и умру… Вон какие перебои в сердце.
Фелицата Николаевна уронила на пол шаль и криво опустилась на стул.
— Нет, довольно! — вскричал Петр Иваныч басом и так свирепо шевельнулся, что кровать заскрипела под ним, как коростель.
— Вместо того чтоб этак мучиться, Фелицата Николаевна, лучше раз навсегда покончить все расчеты с жизнью.
Обомлевшая женщина метнулась взглядом по широкому ножу, по веревке, по здоровенному крючку, где висела лампа-«молния», и враз замелькали перед ней хрипящие призраки.
— Ты не имеешь права умирать!.. Ты не смеешь руку на себя накладывать! — И лицо ее перекосилось от ужаса.
«Очень любопытно, черт возьми», — едва сдерживая смех, подумал Петр Иваныч.
Но ему стало жаль жену, и он сказал:
— Дурочка… Фелицата Николаевна… Я ж пошутил. Я умру не по-настоящему. «Смерть Тарелкина»-то смотрели, — пьесу-то, помнишь? Недаром и фамилия у меня такая же — Тарелкин.
Фелицата Николаевна сидела с разинутым ртом и ничего не понимала.
На другой день она заявилась в отдел учета рабочей силы. От волнения лицо ее горело, руки тряслись, по груди и животу ходили волны робости.
Безусый заведующий поправил кепку и ткнул в яичную скорлупу окурок.
— Вам, гражданка, что?
Пишущие машинки трещали с ожесточением, очаровательная блондинка пудрила пуховкой нос и щеки.
— Извиняюсь, товарищ, — начала Фелицата Николаевна, потряхивая головой, задыхаясь. — Я пришла доложить, что мой муж, товарищ Тарелкин, и вчера не был на трудовой повинности, и сегодня не пойдет, да, может, совсем не будет ходить.
Юноша засопел, лицо его стало как уксус.
— Ха!.. Значит, с вашей стороны донос? Очень приятно… Садитесь, гражданка… Ваш адрес? Я сейчас пошлю арестовать его.
Машинки вдруг замолкли. Пуховка в очаровательной руке остановилась.
Фелицата Николаевна впилась руками в край стола.
— Что вы, товарищ!.. У него понос, холера у него. Он вот-вот умрет.
— Холера? — Брови молодого человека взлетели вверх. — Тогда его немедленно надо в заразные бараки. Грибами, что ли, объелся? Сейчас я позвоню. — И рука его потянулась к телефону.
— Ради бога! Не холера у него, извиняюсь. Я перепутала, просто я от неприятности вся трясусь. — Фелицата Николаевна окончательно потеряла нить мыслей. — Он нес дрова, упал и разбил себе голову… Теперь в беспамятстве, сорок два градуса жару.
Лицо юноши стало как горчица, потом — как игривый квас.
— Не упали ль вы сами, гражданка, на голову? — Губы его кривились в улыбке. — И что вам наконец от меня угодно?
Фелицата Николаевна беспомощно вытаращила глаза, как бы припоминая цель своего прихода.
— Товарищ! — вышла она из оцепенения. — Извиняюсь, товарищ, извиняюсь. Я пришла заявить, что мой муж, гражданин Тарелкин, извиняюсь, при смерти.
Она выходила на цыпочках и косолапо, барышни провожали ее улыбками, а когда скрылась, начальствующий юноша сказал кокетливым баском:
— Ненормальная дура.
Их городишко небольшой. Жили они во флигеле на одиноком пустынном огороде. Петр Иваныч было разделал пять гряд под картошку и всякую всячину, а тут, пожалуйте, шпалы. Ха! А не желаете ли вы фигу?!
Петр Иваныч на третий день благополучно умер.
Фелицата Николаевна, в черном платочке, двое суток без передыху бегала по всем надлежащим местам. Наконец все документы выправлены, и покойный гражданин Тарелкин был навсегда вычеркнут из списка живых.
Петр Иваныч целую неделю со всем усердием копался на огороде. Погода солнечная, все зазеленело. Скворец в скворешнике гоготал, словно молодой жеребчик, и заливался свистом, как ямщик на облучке.
Эх, как это прелестно, что Петр Иваныч умер! Для кого умер? Для них, а не для себя. Теперь знай работай. Кто из знакомых на такой пустырь придет? Полная гарантия. Отлично, гениально!
Как-то попала Петру Иванычу в руки старая газета. Прочел, и глаза его засверкали.
— Да ведь мы — чурбаны, колпаки! Мы прозевали изрядную выдачу… Не угодно ли: на саван столько-то аршин. На траур столько-то… Гроб из заготовительного склада; в случае отсутствия такового — выдается денежная себестоимость. Срок получения десятидневный. Боже мой, сегодня последний день!..
А Фелицата Николаевна как на грех уехала в деревню за мукой. Усопший Петр Иваныч немедленно составил подложную доверенность от лица жены на имя несуществующего двоюродного дяди, Антона Огурцова, нахлобучил шляпу грибом на самый кончик носа, отхватил ножницами половину бороды, нафабрил ее черным жениным фиксатуаром, отчего рыжая борода стала темно-зеленой, и под видом гражданина Огурцова, предвкушая большой барыш — недаром всю ночь вошь снилась, — корыстолюбиво зашагал по пыльной улице.
«Господи, как бы не влопаться», — с ноющим чувством подумал он.
Но когда поднялся в присутствие и внимательным взглядом окинул лица всех служащих, от сердца отлегло: ни одного знакомого человека.
Заявление его все инстанции прошло благополучно: двенадцать виз с росчерками и печатями так исполосовали все свободные места бумаги, что негде клюнуть курице, и вот, в конце занятий, когда служащие похватались за картузы, ему вручили ордер на получение, сказав:
— Бегите скорей вон к тому оконцу. Без двух минут четыре… Может, успеете.
Петр Иваныч совсем по-молодому, — даже приподнял темные, нарочно надетые очки, — подъехал, как на лыжах, к загородке и сунул в оконце ордер:
— Ради бога… Вот!..
Но его протянутую руку вдруг схватила за решеткой для дружеского пожатия неизвестная рука, и знакомый голос произнес:
— А, Петр Иваныч!.. Здравствуйте, милый человек.
И обе головы, одна перепуганно, другая любопытно, так порывисто нырнули друг другу навстречу, что в самом оконце сильно стукнулись лбами и едва не поцеловались.
Петр Иваныч в страхе отпрянул, как от вставшей перед ним змеи, выдернул руку, волосы на его голове зашевелились и, словно в тяжком сне, он прирос к месту.
Из оконца высунулась широколобая лысая голова с черными височками и не то подозрительно, не то приветливо осклабилась в самые очки усопшего.
— Однако что же это такое? Вы, должно быть, хворали, вас нельзя узнать, Петр Иваныч! А?
— Вы ошибаетесь… Я совсем не Петр Иваныч… Петр Иваныч Тарелкин помер… Вы ошибаетесь. Я — Антон Огурцов — дядя.
Но голова, очевидно, не слыхала. Она на мгновение поджала бритые сухие губы и вновь растеклась в улыбке, на этот раз определенно ядовитой.
Петр Иваныч словно окунулся в ледяную воду.
— Позвольте мне обратно ордер, — забормотал он. — Тут ошибка… Ради бога, ордер…
— Ордер? Он регистрируется… Сейчас, сейчас… Кто ж у вас умер, Петр Иваныч? Уж не супруга ли?
Голова унырнула за решетку и близоруко стала водить по ордеру острым носом. Вдруг рот головы вытянулся ижицей, брови заскакали по лбу вниз и вверх, уши и черные зачесы на височках задвигались.
— Гм!.. — зловеще сказала голова, щелкнула кистью руки по ордеру и, как торпеда, выбросилась в оконце. — Гражданин Тарелкин!..
Но на том месте, где стоял Петр Иваныч, была совершеннейшая пустота.
Вечер. Покойник с собственной вдовой, только что вернувшейся из деревни, пили морковный чай. На покойнике лица нет, руки его тряслись. Не переставая, он курил махру.
— Чует мое сердце, что облава нагрянет, арестуют, — говорил он. — И откуда этот бритый дьявол взялся? Ведь он же в уезде был. Бывший кабатчик, в коммунисты записался, перевертень, черт. Такие самые злобные. Боюсь я… И надо ж было так влопаться… Тьфу!
— Придется, Петенька, завтра же в деревню тебе бежать… Ох, хоть бы ноченьку-то переночевать благополучно!
— Я так полагаю, надо обриться мне…
Вдруг раздался стук в дверь.
Оба вздрогнули и открыли рты. Занавески на окнах спущены, горела лампа.
— Скорей в подполье!.. Пропал я, пропал… — зашипел покойник. Сердце его стучало, и громко стучали в дверь.
Мигом спустились в подполье; Петр Иваныч залез в мешок и сел в угол.
— Заслони меня чем-нибудь… Вот ящиком… Вот еще мешком с углями…
Вдова вылезла, закрыла люк и, придав лицу скорбное выражение, вся оледеневшая, открыла дверь.
— А-а, — протянула она и сразу обозлилась. — Ульяна Сидоровна!.. И откуда это вы приперлись?
— А уж я думала, тебя зарезал кто, — пробасила, вваливаясь, рыхлая женщина. Дряблое лицо ее жирно и красно, белый чепец на голове взмок, под мышкой огромный веник, в руке чемодан. Она закрестилась на иконы. — Фу-у-у!.. А я из бани к тебе… Дай, думаю, навещу вдовуху, божью сироту. Почитай, с полден пошла, да ишь как… Очередь с версту… Тьфу ты! Что и за жизнь — и когда эти большевичишки сквозь землю-то провалятся…
Женщина грузно шлепнулась на кресло и вытерла рукавом салопа потное свое лицо.
— А с кем же ты чай-то пила? Две чашки-то зачем?.. А табачищем-то как разит. Дым как на пожаре. Неужто куришь?
— Курю, — сказала вдова, и уши ее покраснели. — После покойника осьмушечка осталась… С горя.
— Фу-фу… Да. Посетил господь. С чего это он? Вот те и Петр Иваныч!.. Царство ему небесное… Э-эх!.. Ну-ка, налей чайку.
— Извиняюсь, — растерянно и не без раздражения начала вдова. Зубы ее выбивали дробь. — Извиняюсь, Ульяна Сидоровна… Я вас никак не могу угостить чаем… Пожалуйте в другой раз, Ульяна Сидоровна.
— Почему это не можешь? — гостья сдернула мокрый чепец, бросила его на стол, и заплывшие жиром красненькие, безбровые глазки ее засверкали.
— Я сейчас спать лягу, Ульяна Сидоровна… Я должна завтра чем свет встать, чтоб к заутрени на кладбище попасть, Ульяна Сидоровна, на панихидку…
— Чудесно, — перебила гостья, — я у тебя ночую. И я с тобой на панихидку пойду.
Хозяйка вся затряслась от злобы. Подбородок ее подался вперед.
— Нет, нет, это невозможно, Ульяна Сидоровна!
— Я пятьдесят пять лет Ульяна Сидоровна! Ошалела, что ли, ты… Как это невозможно? — и стала цедить из чайника в чашку. — Я вот на кушетке и прикорну… Не бойся, не объем, у меня кой-что захвачено… Ой, и пить захотелось, прямо душа горит.
Гостья, кряхтя, нагнулась под стол, вытащила из чемоданчика мочалку с мылом, потом грязное белье, бутылку самогонки, два яйца, завернутую в тряпицу селедку и краюху хлеба.
— Эх, хорошо бы еще луковку.
А в это время покойник прогрыз в мешке дыру и жадно прильнул к ней волосатым, как овчинная рукавица, ухом.
— Погиб… погиб…
Но заскрипел люк, опрокинулся вниз сноп света и перед покойником кто-то задышал.
— Петруша…
Из дыры на мгновенье блеснул колючий глаз, на смену ему подъехал рот.
— Кто? Облава? — прошипел рот и тотчас же уступил место уху.
Раздался чей-то голос и скрип ступеней.
Ухо, глаз, рот упали вниз, покойник весь съежился, вминаясь в угол, и перестал дышать.
— И куда вы лезете?! Куда лезете!.. — раздраженно бросала хозяйка. Но покойник не мог разобрать слов. — Не сидится вверху-то вам!..
Все смолкло.
Ухо, потом глаз подъехали к дыре: тишина и темень.
Петр Иваныч облегченно передохнул, перекрестился: «Кажись, ушли», — и его забила такая сильная дрожь, что мешок подскакивал и мотался во все стороны.
Прошел битый час. Что за оказия, почему не приходит жена, уже не арестовали ль ее? Петр Иваныч вылез из мешка и, расшарашив во тьме руки, тыкался в покрытые плесенью углы.
Он взобрался на лесенку и приник глазом к светлой щели люка. В поле зрения заблестел самовар, чашки, чьи-то толстые красные руки. Ба! Да ведь это бабка Ульяна. И самогонка. Разве войти да покаяться? А вдруг облава, и ежели при бабке сесть в мешок, обязательно выдаст. Нет, надо ждать.
— Пей, — говорит старуха, придвинув чашку хозяйке.
— Не много ли будет, — отвечает та хмельным голосом, — с непривычки-то. Уж очень крепок самогон-то…
— За упокой души… Хоть и не стоит он того… Ну, превечный ему покой, — говорит старуха и пьет.
Петр Иваныч сплюнул и прошипел:
— Чтоб те самой сдохнуть без покаяния!
— А ты не хнычь, — говорит старуха. — Слава богу, что и помер-то. Пьяница, царство ему небесное, был…
— Нет, извиняюсь, он хороший, — возражает вдова и пьет.
— Хороший? Первый поножовщик был покойничек… Первый пьяница. Все певчие пьяницы. Я сызмальства знаю его. Подзаборник, кабацкая затычка, не тем будь помянут…
Петр Иваныч стиснул зубы и сжал кулак.
«Ну и чертова старушка!» — подумал он. Глаза его горели ненавистью, душа горела жаждой выпить. Взор его был зорок и хищен, как у ястреба.
— Он мне, каторжная душа, семь с полтиной золотом остался должен. Ха, тоже муженек!.. Уж раз подох, превечный спокой его головушке, то скажу тебе, сирота. Как-то говорит мне пьяненький: «Ох, говорит, Ульяна Сидоровна! Жена, говорит, мне наскучила, подыщи ты мне вальяжную даму из купеческого или епархиального сословия».
Петр Иваныч ударился теменем в крышку люка и проскорготал:
«Ну, только бы революция окончилась, я тебя, дьявольскую старушку, изувечу».
Хозяйка прижала к глазам платок и горько заплакала. Старуха потянулась к бутылке.
«Ах, выжрет все», — с жадностью подумал усопший. Но старуха, налив две чашки, отставила порожнюю бутылку и вытащила из чемодана другую.
— Давайте скорей ложиться спать, — сквозь слезы сказала хозяйка.
Петр Иваныч замерз, запрокинутая голова его кружилась, затекла спина. И ужасно хотелось выпить самогону. Ну, положеньице! Черт его сунул умереть! Сидя на ступеньке под самым потолком, он засунул руки в рукава, клюнул раз-другой носом, задремал.
А когда открыл глаза, было тихо. Покойник приподнял крышку люка. Тишина, горит лампадка. Он просунул в комнату свою рыжую встрепанную голову и осторожно закорючил ногу, чтоб выбраться наверх.
Но вдруг душераздирающий визг хлестнул его колом. С хриплым лаем, визгом, криком мимо него толстобоко протряслась старуха.
И все сорвалось с мест и понеслось: стол, самовар, окошки…
Старуха мчалась среди лунной ночи вскачь, за ней — мертвец. Старуха ухнула, упала. С маху на нее упал мертвец.
— Ульяна Сидоровна! Душечка!.. Это я — Тарелкин… Самогону, дайте самогону!..
Старуха рявкнула и заорала, и с нею заорал весь свет. Покойник ткнул кулаком в пьяную старушью пасть.
— Ульяна Сидоровна!.. Ангел… — и сгреб старуху за глотку.
Старуха вскинула к небу толстые ноги, вытянулась вся и захрипела.
«Бежать… Скорей…».
Мертвец метнулся и — по воздуху, как птица. И вслед свистки, ругань, крики:
— Держи, держи!..
Все опрокинулось и завертелось: капуста, гряды, глазастый месяц, орущая толпа людей — и красный конь пронесся с хохотом.
Петр Иваныч в сенцах. Схватил тяжелый топор-колун и притаился: пропадать так пропадать.
И первому — раз по голове, другому — раз… Свалили, вяжут.
— Ребята, к стене его!
— Как, без суда?
— Без суда… Он мертвый…
Морды, морды, морды, тыща ружей в грудь.
— Пли!! — залп.
С треском обломилась гнилая ступенька, на которой кошмарно спал Петр Иваныч, он кувырнулся в пустой, из-под капусты, чан, враз проснулся и от страшного испуга по-настоящему мгновенно умер.
ХРЕНОВИНКА
Дядя Филимон вышел с Николаевского вокзала и сразу разинул рот: это кто же такой на коне-то взгромоздился?
— Эй, паренек хороший, — спросил он папиросника. — Кто же это будет? Генерал какой али товарищ?
— Александр Третий. Пугало.
— A-а, так-так… Действительно… — оказал мужик, снял с головы гречневик, поблестел лысиной, перекрестился и опять надел. — А у нас Карло Марков в городу в уездном. И борода такая же. Только пеший, так что по грудь. Тоже, говорят, правильной жизни был. А городок наш маленький, можно сказать бедный, дрянь. А не знаешь ли, паренек хороший, как мне Груньку отыскать, дочку? Фамиль моя Филимон Комар, из деревни Болотище. Край наш дикий, лесной, неудобный край.
— Надо улицу знать, дядя.
— Она не на улице, она на линии. Иди ты, пишет, тятенька, на линию и все считай. Восемь линий пройдешь, тут я не живу, а на девятой-то в аккурат и тово… В этом доме, пишет, булочная, крендель золотой висит. Тут, говорит, и ищи меня.
Филимон долго путался по городу, наконец разыскал квартиру и с черного хода вошел в кухню. Пусто. Рыжий кот, засунув голову в стеклянную банку, лакал молоко.
— Брысь! — крикнул Филимон, и, постояв немного, пошел по коридору, покашливая.
Отворил одну, другую, третью дверь — никого. В четвертую комнату дверь была открыта. Филимон заглянул туда и замер. В кресле сидела приятненькая барышня, она размахивала рукой, громко кричала в стену и смеялась. Больше в комнате никого не было. Вдруг барышня наморщила брови, дробно затопала ногами в пол и закричала еще громче:
— Кто? Я сумасшедшая? Ха-ха! Может быть. Ах, так? Ну, погодите… Я вам такое сделаю, что… А очень просто. Я сумасшедшая и есть… Что?.. — Она вдруг взвизгнула, захохотала и подпрыгнула в кресле.
У Филимона от страха ослабли поджилки.
— Бешеная! — сразу догадался он и, подхватив котомку, кривобоко по коридору марш.
А сзади стучали каблучки, и звонкий голос кричал:
— Кто это? Кто тут ходит?!
Филимон обернулся, ахнул, бросил котомку и кинулся по лестнице. Его схватили двое: в очках и без очков.
— Стой! Куда?.. Ты, дьявол, что бежишь?!
А сверху скакала сумасшедшая:
— Держите его, держите!.. Вор!..
— Ой батюшки мои! — взмолился Филимон. Он пучил глаза и весь трясся. — Бешеная!.. У нас на деревне колдуны… Вот так же… Портят… Ой… Пусти! Не держи! Заест! — Он двинул по очкам одного, по уху другого, ноги у него подсеклись, и он покатился на сиденье по ступенькам вниз.
А навстречу — девушка с корзиной.
— Тятенька, что ты? Тятя!
— Груняша, убегай!.. Бешеная! — хрипел обезумевший Филимон.
Чай пили втроем в кухне. Филимон все еще с опаской, покашивался на барышню и повествовал:
— У нас, в нашем селе, колдун на колдуне. А то и бабы которые. Вот у соседа на полосе залом одна ведьма сделала, колосики этак вниз пучочком завязала… Ну, знамо, хозяйку спортили. По-овечьи блеет, сама с собой разговор имеет, навроде тебя…
— Филимон Иваныч, — засмеялась барышня, — значит, я, по-вашему, тоже порченая? Ведь я же объясняла вам, что это — телефон.
— Понимаю, — подозрительно сказал мужик.
— Это верно телефон, тятенька, — подтвердила Груня. — Проводится он по всему городу, и можно говорить. Проволока такая.
Филимон благодушно засмеялся и погрозил дочке пальцем.
— Пойдемте, Груняша, поговорим при нем.
Филимона вволокли в комнату силой, как к антихристу.
— Да не бойся, тятя, что ты на сам деле дикий какой… Вот смотри. Видишь, висит штучка, на штучке рогулька, а на рогульке трубка. Вот сейчас вызову… кого бы это?.. Да! Хочешь, Прокофия Киселева, крестника твоего, он в Пассаже служит… Вызвать?
— Куда ж ты его вызовешь? Чего от дела малого отрывать. Поди сколько сюда прошагает… Лучше мы к нему ужо…
— Зачем, — улыбнулась барышня, а Груня стала звонить. — Он будет разговаривать со своего места. За версту или за две. Даже с Москвой можно говорить.
— Грунька, брось! — закричал Филимон. — Брось чертовщину! Грех! Как это можно, чтоб за версту… скрозь стены. Глотку перекричишь.
— Кто у телефона? — нежно начала Груня, оправила кудерышки и с улыбкой поклонилась в стену. — Здравствуйте, Прокофий Павлыч. (Филимон прыснул в горсть). Ну, как поживаете? Ах, какой вы комплиментщик. Кто? Я? Ха-ха-ха! Ну и просмешники вы, ей-богу. (Борода Филимона тряслась от смеха, он подмигивал барышне и кивал на тараторившую Груню.) А знаете, кто с вами сейчас будет говорить? Мой тятенька, а ваш крестный. Да-да-да! Сегодня. Только что. Я передаю трубку. Тятенька, бери.
Но Филимон крутил бородой и похохатывал:
— Ну и озорница! Так я тебе, девка, и поверил. А и ловко ты камедь ломаешь… А?
— На, на, садись, тятенька, — усадила она его в кресло. — Говори в трубку-то. Говори: «Здравствуй, крестник».
— И чего ты, коза, озоруешь надо мной, стариком. Ну, да ладно, потешу тебя Ну… Здравствуй, крестничек!
Вдруг лицо его вытянулось, левая пятка чиркнула по полу, и плечи передернулись.
— Ково? — закричал он дрожащим голосом, вращая глазами. — Прошка, ты? Откедова? Что ты врешь, едят тя мухи! Как ты можешь в трубку залезть, едят тя мухи?! — Он оторвал трубку и, прищурившись, заглянул в нее. Руки его тряслись.
— Не отрывай, тятя. Говори, говори… — сквозь смех приказывала Груня.
— Нет, ты не настоящий! — снова закричал Филимон в трубку. — Это напущено! А ну, скажи: Христос воскрес… Ах, едят тя мухи! Хы… Ну, а как крестну твою зовут?.. Верно, тетка Агафья…
Лицо Филимона сразу прояснилось, на лысине выступила испарина, и клокочущий восторженный хохот уже не давал ему говорить. Он только выкрикивал:
— Толкуй, толкуй! Ах, едят тя мухи!.. Хы-хы-хы… Верно… О-о! Неужто? Ну, и едят тя мухи… А? Чего?.. Хы-хы… Тьфу, ты, едят тя мухи!.. А ну, скажи, чего у меня на левой ноге есть? Верно, желвак. Прощай, прощай, едят тя мухи, Прокофий Павлыч… Ха-ха-ха, едят тя мухи с мошкарой.
Груня, вся красная от смеха, повесила трубку. Барышня, улыбаясь, затягивалась папироской. Филимон несколько мгновений сидел молча, потрясенный.
— Да, — наконец проговорил он. — Да… Вот так, слеха-воха, музыка!
Лицо его было подавленно и удивленно. Посидев еще с минуту, он глубоко вздохнул, встал, размашисто перекрестился и сказал:
— Благодарим. Приятно. Ну, барышня, едят тя мухи… Уступи ты мне эту хреновнику, в ножки поклонюсь. То есть вот как нужно, до зарезу. Сидел бы я в избе да покрикивал в трубчонку: и в поле бабам на работе, и в лес, и по волости по всей. А захотел — с Груняхой али с тобой перекинулся словцом: здорово, мол, барышня, едят тя мухи… Ах, ах… Сидим мы, как кроты, в дыре и ничевошеньки не знаем.
ПОРТРЕТ
Было дело в голодный год. А сам я — мастер по церковному цеху, святых рисовал, то есть живописец. Как ударил голод, тут уже некогда угодников мазать, да и негде: даже попы нуждаться стали.
И вот пришла мне в голову идея:
— А поезжай-ка ты, Семушкин, по деревням, — внушаю сам себе, — будешь с богатых мужиков морды малевать.
В четырех селах ни хрена не вышло, в пятом — клюнуло. Кулачок замечательный там жил, бывший торгаш, страсть богатый, черт.
— Ладно, — говорит, — рисуй, по очереди всех: меня, Матрену, Акульку, Мишку. Потому — по-благородному желаю жить: чтобы все на стенках висели, форменно, да.
Стали торговаться Я по пуду муки за портрет прошу и по три десятка яиц. Он говорит: пиши за харч, жрать будешь и — довольно.
— Это грабеж, — говорю ему, — вы, гражданин, искусство не цените. Вы, гражданин, не знаете, что знаменитый художник Репин по три тысячи золотом за портрет берет.
— Начхать мне на твоего Репина! Он — Репин, а я— Огурцов. А не хошь, как хошь. Забирай струмент и — дальше.
И стал я его, сукина сына, писать. Жарища стояла адова, то есть такая жара — шесть собак на деревне очумело. Я посадил его, подлеца, у ворот, на самый солнцепек и велел волчью шубу с шапкой надеть.
— Пошто! Рисуй в красной рубахе, при часах.
— Нет, — говорю, — в шубе солиднее, богаче. Все вельможи в шубах пишутся. Даже Никола-зимний на иконе и тот в рукавицах.
Он сидит, пот градом с него, а я, конечно, в холодок устроился. Разглядываю его, а он пыхтит: тучный, дьявол, жирный.
— Что же ты, живописец, не малюешь?
— Я физиономию вашу изучаю, очень величественная у вас физиономия, как у воеводы.
Он бороду огладил, приосанился. Я ему:
— Нет, Митрий Титыч, шевелиться нельзя.
— Ну?! Неужто нельзя?.. А меня клоп кусает.
— И разговаривать нельзя. И мигать нельзя: кривой будете, вроде урода. Замрите, начинаю, — и стал подмалевывать.
А в это время муха ему на нос и уселась. Он глаза перекосил, носом дергает, а в душе, вижу, ругает муху, ну прямо живьем сожрал бы ее, а нельзя.
Я говорю:
— Пожалуйста, не обращайте на нее внимания: поползает, поползает да улетит. А то портрет испортите, снова придется.
Гляжу — он губы скривил чуть-чуть и подувает на муху с левого угла. А муха оказалась нежной, не любит ветерок, взяла да поползла на правый глаз. Мужик моргнул, да лапищей как хлопнет. Муха и душу богу отдала.
— Ну вот, — сказал я, — портрет испорчен. Снова.
— Господин живописец, — взмолился он, — нельзя ли в холодок? Шибко жарко, сомлел я весь, и глазам очень трудно на солнышко глядеть.
— Нет, нет, — сказал я, — замрите окончательно.
Часика через три я объявил перерыв. Мужик бегом к пруду, шапку на дороге бросил, шубу на дороге бросил.
— Мишка, подбирай! — и, не стыдясь баб, оголился да ну, как тюлень, нырять, ныряет да гогочет.
Как пришел он в чувство, за обед сели. Я ем да думаю: «Я те, анафеме, покажу, как сквалыжничать, ты у меня взвоешь».
— А много ли возьмешь, живописец, ежели без шапки? — спросил Огурцов.
— Два пуда, меньше не возьму. Снова писать придется.
— Да ведь ты пуд просил?
— Меньше двух пудов не могу. В шапке ежели — пуд. Не желаете, тогда до свидания. Я художник самый знаменитый. Меня даже в Москве каждая собака знает.
— Патрет мне шибко нравится, — сказал Огурцов. — А я тебя не выпущу. Ежели сбежать надумаешь, на коне догоню, раз ты знаменитый. Так и быть, рисуй простоволосым, без шапки.
После обеда хозяин выпил одиннадцать стаканов чаю, надел шубу, перекрестился и пошел.
— Идем, что ли, черт тебя задави совсем. Только ты не серчай на меня, голубок…
Жара была еще сильней. Хозяин шел к стулу, как к виселице. Я разрешил ему говорить за десяток яиц… Говорил он, говорил, болтал, болтал, а пот так и течет с него: шуба волчья, теплая, сам же он, повторяю, тучный.
— Вот до чего упарился… Аж в сапогах жмыхает.
— Ничего, — говорю, — терпите.
— Да долго ли терпеть-то?.. Аж пар из-за голенища валит… Аж дышать тяжко… фу-у-у…
Через час у него кровь из носу пошла. Через два часа он вдруг побелел, простонал:
— Кваску ба… — и упал.
Я только написал одну голову. Сходство поразительное, даже сам я удивился. На другой день хозяин отлежался, говорит:
— Дюже правильно личность обозначил. Приятно. А сколько возьмешь, ежели без шубы? А то жарко очень…
— Дорого, — говорю, — пять пудов.
Он ощетинился весь, хотел ударить меня по уху, однако пошел, пошептался с хозяйкой, вышел, сказал:
— Рисуй, сволочь!
Я потребовал плату вперед, посадил брюхана в холодок — в красной рубахе он, при часах, с медалью — и стал со всем старанием писать.
Словом, окончилось все хорошо. Прожил я у кулака два месяца. Мучицы заработал и деньжат.
На прощанье кулак сказал:
— А ты все-таки — жулик… Ловко нагрел меня.
Я ответил:
— Другой раз не жадничайте… Вы — человек богатый.
Дома же обнаружил я, что он, проклятая сквалыга, в муку порядочно-таки песку подсыпал.
«СУЖЕТ»
Солнце только что село, и грудастые редкие облака были обложены потухавшими углями. Помигивали, покачиваясь на воде, бледные огоньки бакенов. С носу доносилось:
— Шесть с половино-о-й… Семь… Одна вода!
Отбойный маленький свисток с капитанского мостика, и голос смолк. Внизу, на корме, стоял, перегнувшись через барьер, длинный, тощий человек в купеческом картузе и смотрел в убегающую из-под колес воду. Щеки его бледны и впалы; желтенькая козья бороденка и бойкие, с прищуром, глаза. Он любит поговорить, голос его тенористый, женский, но возле никого нет, и он ведет разговор с водой.
— Все-таки пароходишко наш прытко бежит. Завтра и Нижний. Налаживают по тихости. А ведь гляди — наладят. Истинный бог, наладят. В прошлом году совсем мертво было. Даже чаек и тех не встретишь. А теперича гляди, как вьются, ишь, ишь… Отчего же это даже чаек не было? Да как вам сказать? Полагаю — от режиму. Ведь не всякая тварь любит режим. Так же касаемо и птиц. Эвота от режиму в нашем городишке ни одного голубя не осталось. Сначала говорили, как это возможно кушать: дух свят. А как настоящий-то режим пришел, так не то что голубей, галок-то всех сожрали, не взирая, дух там али не дух.
Он помолчал, вздохнул, снял картуз и перекрестился. Потом оглянулся, поднял голову, и глаза его остеклели.
— Ба-ба-ба! Господи помилуй!! — истерично крикнул он и в страхе сел на сложенный у лебедки аркан. Сверху пристально глядел на него огромный человек с короткой и толстой, как у вола, шеей.
— Евсей Кузьмич, ты? — весь дрожа, спросил тощий.
— Я самый. А это, Михрюков, ты, кажись? — густо рявкнул великан.
— Так и есть… я, я, я… — торопливо выдохнул из себя тощий и приподнялся. — Господи, а я тебя в поминанье вписал — раба божия, новопреставленного борца Евсея из убиенных. Истинный бог. Панихиду служил два раза. Ведь тебя же расстреляли…
— Когда?
— Как — когда? Неужто не помнишь? — вскричал тоненько тощий и, все еще дрожа, перекрестился. — Да в третьем годе.
— Ну? — улыбнулся великан.
— Истинный бог. Твой родной племянник сказывал.
— Врет.
— Ну? — удивился тощий. — Неужто врет? Вот стервец какой, скажи, пожалуйста. Значит, жив? Ну, слава богу, слава богу. Постой, я залезу к тебе, — засовался он и побежал. — Ах, Евсей Кузьмич, ах, ах… Ну, и Евсей Кузьмич… Жив!..
Великан был в чесучовой рубахе, бритый, гладко остриженный, скуластый, и ручищи возле плеч — как самовары.
— Ну, здравствуй, Михрюков, — пошел он к запыхавшемуся тощему навстречу.
— Стой, — крикнул тот. — Нет, ей-богу, ты?
Великан с хохотом схватил его за длинные сухие ноги, перекинул через плечо, как пустой мешок, и потащил.
* * *
Михрюков уже был под хмельком. Батарея бутылок — портвейн с дурманной начинкой. Великан пьет вино, как кит, закусывает пивом. Кресло потрескивает под ним и гнется.
Кают-компания пуста. Только в уголке трудятся две кожаных куртки. Над ними смеются, что с самой Астрахани все щелкают на счетах, а один диктует.
— Стою это я на корме, — в третий раз говорит Михрюков, — возьми да вспомни тебя к чему-то… Царство, мол, небесное, сколько разов выручал, — глядь — а ты, как живой, и уставился на меня. Я так и присел, вроде дурачка сделался… фууу…
— Ну, а ты, Михрюков, как? Куда?
— Да что, Евсей Кузьмич, я на ярмарку кожу везу.
Вот и ярмарка открылась. Все свой народишко, российский.
— Заграничных-то не любишь, что ли?
— Эко ты! Нешто можно русского буржуя с заграничным уравнять?.. Ишь ты! Мы, говорит, завладеем вашей республикой, мы, говорит, желаем вашу кровь сосать… На-ка, выкуси. Словом, заграничный буржуй, благодаря, самая паскуда насчет коммерции. А к своему мы уже приобыкли…
— Приобыкли?
— Да как же, Евсей Кузьмич! Именно — приобыкли. Понесешь, бывало, своему-то буржую курицу или гуся продавать, запхаешь в него камушек хороший, погрузней, — ничего, сойдет. Или опять же свинью. Ей не пожалеешь, конечно, соли фунта три да еще селедку икряную астраханку стравишь, а то и две, она солощая, все сожрет с приятностью. Ну уж и навалится опосля того на воду, это свинья-то. Как бочку разопрет. Тогда надо, конечно, моментально продавать… Приведешь ее к барыне. Той лестно: «Ах-ох, какая прелесть! До чего гладкая». А я: «Что вы, ваша честь, как же! Специально для вашего удобства ярославским толокном откармливал». Так, благословясь, и обманешь. А попробуй теперича английского или, скажем, французского буржуя обмануть. Черта с два! Самая сволочная нация промеждународная… Нет, на карачках надо господа благодарить, что свой буржуй опять завелся в нашем режиме. Хоть худенький, да свой.
Щеки Михрюкова заалели. Он еще раз отфукнулся, перекрестился и выпил.
— Да как же тебя-то, Евсей Кузьмич, бог спас? Как ты из-под расстрела-то убежал?
— Ха, чудак! — гукнул силач и, ударив ладонью в стол, крикнул: — Я, брат, сам чуть не подмял под себя власть на местах!..
— Тише… Тише… Народ.
Вошли трое военных, две хохотуньи-барышни и стриженый попик. Забренчал рояль, посыпались градом веселые разговоры, попик смеялся с барышней и, намотав на палец цепочку, крутил крестом, как красавица лорнетом. Кожаные куртки чертыхнулись, сгребли дело со счетами и сердито — вон.
— А ты что ж, Евсей Кузьмич, ведь ты борцом был?.. А теперича как живешь? — спросил тощий и, прикрыв ладонью рот, зашептал: — Расскажи, как власть-то под себя подмял?.. Люблю, благодаря… Занятно!
— Происшествие со мною такое было, — великан пободался и почему-то заглянул под стол. — Ну, выпьем. Здорово, стервец, спирту набухал. Молодца! Вот я и толкую… Как только революция сделалась, тут уж не до борьбы. Поголодать пришлось. То есть я съедал — на шестерых хватило бы, а мне мало, я ж барана могу в один присест схамкать. Приехал я на Кавказ. Ну, не стану распространяться, а начну с конца. Дополню тебе, что я был ужасный монархист. Но коль скоро опубликовали этот самый нэп, я открыл кавказский погребок и сразу же одобрил все завоевания революции, потому вижу: заграница признала нас, и возрождение началось, будто в лихорадке. Назвал я погребок — «Свидание друзей». И, как на смех, вслед за таким названием стал страшный мордобой происходить между моих визитеров. Ну, ладно, это мимо. А главный сужет вот в чем. Вдруг пропечатали в местной прессе и на всех заборах, что пожалуйте, дескать, на Нижегородскую ярмарку. Я тогда принялся соображать и обмозговал дельцо одно, да такое, что надо за разрешением к большому лицу идти. А он человек внове да, говорят, злой-презлой, ежели насчет взятки заикнешься — прямо в зубы бокс! Ах, черт тебя съешь! А у меня такое дело, понимаешь, что без взятки просто немыслимо разрешить: два вагона требовалось мне экстренно под товар. Написал заявление, пошел. В кабинете у него человек двадцать народу хвостом стоит, и я стал. Ну, гляжу на него, и он на меня глядит, а окошечки маленькие, серо кругом. Потом закричал мне:
— «Эй, гражданин, вы кто такой?»
— «Граев, — говорю».
— «Ага! А меня узнаете?»
Я присмотрелся и обомлел весь. «Ну, все пропало, — думаю, — и кабачок мой закроют: ведь это ж кровный враг мой, Гузинаки, борец известный, грек». Лицо у него медное, и глазищи на лоб лезут. Я говорю:
— «Действительно, узнал теперь. У меня, товарищ Гузинаки, спешное дельце к вам».
Тогда он встает медведем и объявляет, что, мол, граждане, прием закончен. Заругались, загалдели, однако вышли. Он запер дверь на ключ и ко мне.
— «Стерва ты, сукин сын… Ты меня в Харькове публично на обе лопатки положил и реванш не хотел дать… Реванш! Согласен?!»
— «Согласен», — говорю.
Он сбросил в два счета пиджак, жилетку, рубаху, подтянул штаны, разулся, — и я разулся, согнул голову да на меня быком. Сгреблись. А во всю комнату ковер, удобно действовать. Чувствую: его силенка балла на три послабже моей, а я этого не предвидел и нажрался, дурак, пива, страсть как опучило живот. Ну, ничего, даже лучше, про вагоны помню, надо, думаю, поддаться ему. А он:
— «Чур, в поддавки не играть!»
Черт с тобой. Стал я тогда в роль входить помаленьку, кровь борца во мне заиграла, про все забыл. «Эх, несмотря на пиво, грохну-ка я его, греческого дьявола!» Сюда рывок, туда рывок, обманул, поймал да хлоп! В момент на обе лопатки, как бревно, и сам лбом об пол, аж искры из глаз, и сразу вспомнил: «Два вагона… Миллиарды пропадут!» Чуть приослаб нарочно, глядь: славу богу, уж он на мне верхом сидит. Потом вскочил:
— «Руку, товарищ! Ну, какое дело-то? Говори!..»
Я ему бумагу. Он прочел в голом негляже, и кровь в три ручья текет из носу, а между прочим, положил весьма приличную резолюцию: «Немедленно предоставить, приняв во внимание развитие торговли». Я с радости и сапоги забыл. Вот, брат Михрюков, какой сужет греческий вышел.
А Михрюкова развезло совсем. Он плакал, вытирал слезы салфеткой и слюняво бормотал:
— Господи, боже мой… Какие хорошие люди. А? Евсей Кузьмич!.. Ангел ты нечеловеческий… А? Кровь текет, а он пишет… Дай бог новому режиму. Пишет и пишет! А? Евсей Кузьмич…
— Да, брат… Пишет. А ты не плачь, пей! Чего скулишь?..
— Как же мне, Евсей Кузьмич, не плакать, ежели у меня тоже был сужет! Подарил я для уважения господину исправнику рыбку, ну, правда, чуть с душком, потому — жара, зной! Через часок призвали меня, заорали, затопали:
— «Это, — говорят, — разве щука? Она прокисла вся».
— «Никак нет, — говорю, — ваше высокоблагородие, даже совсем живая была…»
— А они схватили щучину-то в обе руки, вроде как сужет, да хрясь мне в физиономию личности… А?.. При новых правах из обеих ноздрей кровь рекой валит, и то пишет… А тут щукой паршивой… по человеческой морде, в рыло… А?.. Обида! Обида!!
Михрюков горько завыл и повалился головой на стол.
— Постой, постой… Чего ты хрюкаешь, как баран на цыпочках, — захмелевшим голосом сказал борец; его глаза плаксиво замигали, и медное лицо одрябло вдруг. — Нет, ты погоди новые-то права хвалить. Бывало, до революции, взятку дал, и свято. А тут… а тут пришел я к греку благодарность принести… Хвать — а его уж коленкой под филе… Коммунист на его месте… Вагонов мне не дали, конечно… И вот, Михрюков, голубчик мой, замест выгодной коммерции в цирк еду… Это при моей-то одышке… А? Не горько?!
Борец всхлипнул, уткнулся в широкие, как лопата, ладони и тоже заплакал.
СПЕКТАКЛЬ В СЕЛЕ ОГРЫЗОВЕ
Военная страда окончена, и красноармеец Павел Мохов опять в родном своем селе Огрызове.
Была весенняя пора, все цвело и зеленело, целыми днями тюрликали в выси жаворонки, а по ночам пели соловьи. Навозница кончилась, до сенокоса еще далече, крестьяне отдыхали, справлялись солнечные праздники: Николай вешний, троица, духов день — с молебнами, трезвоном колоколов, крестными ходами, бесшабашной гульбой и мордобоем.
— Вот черти! Живут, как самая отсталая национальность, — возмущался Павел Мохов. — Ежели с птичьего полета по-глядеть, то революции-то здесь и не ночевало никакой. Позор!
И, недолго думая, образовал театральный кружок-ячейку.
Народ ничего не понимал, в члены записывались очень мало. А когда дьячок пустил для озорства слух, что записавшимся будут селедки выдавать, в ячейку привалило все село, даже древние старцы и старухи.
Председатель Павел Мохов рассмеялся и колченогой старушонке Секлетинье задал такой вопрос:
— Хорошо, я тебя, бабушка, зарегистрирую. Вот тебе роль, играй первую любовницу. Можешь?
— Играй сам, толсторожий дурак, — зашамкала бабка, приседая на кривую ногу. — Подай мои селедки, что по закону причитается… Три штуки.
Вообще было много хлопот с кружком. Потом наладилось. Через неделю разыграли в школе веселый фарс, крестьяне хохотали, просили еще сыграть, сулили платить яйцами, молоком, сметаной.
Сам же Павел Мохов к сцене совершенно непригоден: терял себя, трясся, бормотал глупости, а театр ужасно любил. Поэтому на солдатских спектаклях в городе ему обычно поручалось стрелять за кулисами из револьвера. И уж всегда бывало грохнет момент в момент.
Здесь он точно так же ограничил себя этой, на взгляд — малой, но все же ответственной ролью.
Только вот беда: не было пьес. Написали в уездный город. Выслали «Юлия Цезаря». Когда подсчитали действующих лиц — сорок человек — без малого все село должно играть, а кто же смотреть-то будет?
Тогда Павел Мохов и другой красноармеец, Степочкин, решили состряпать пьесу самолично. Долго ли? Раз плюнуть. На подмогу был приглашен новоиспеченный учитель, Митрий Митрич, из бывших духовных портных.
Все трое, чтобы никто не мешал, после обеда заперлись в прокопченной бане, захватив с собой четверть самогону. К утру пьеса была окончена. В сущности, сочинял-то Мохов, а те двое — так себе. Осунувшись, словно после изнурительной болезни, вся троица вылезла на воздух и, пошатываясь, поплелась домой в великой радости. Лица у всех были в саже.
— Любящая мамаша, — обратился Павел к своей матери совсем по-благородному, — угостите автора чайком. Я теперь автор, сочинил сильно действующую трагедию под заглавием: «Удар пролетарской революции, или Несчастная невеста Аннушка». Пьеса со стрельбой… Поплачете и посмеетесь.
Красотка Таня ни за что не хотела участвовать в спектакле. Очень надо! Павел Мохов ей даже совсем не нравится. Пусть Павел Мохов много-то, пожалуйста, и не вображает о себе. Но Павел Мохов всячески охаживал Таню со всех сторон. Нет, не поддается.
Ну, ладно! Вот что-то она скажет, когда его пьесу поглядит.
* * *
Репетиция шла за репетицей. Пьеса подверглась коренной переработке и получила новое название: «Безвинная смерть Аннушки, или Буржуй в бутылке».
Всю последнюю неделю село жило под знаком «безвинной смерти Аннушки»: девицы воровали у родителей холсты для декораций, парни — конопляное масло для малярных работ, кузнец Филат украл в совхозе белил и красок. Даже поповна умудрилась стянуть в церкви маслица лампадного.
Неутомимый Павел изготовлял огромную, склеенную из двадцати листов, плакат-афишу: он раскинул ее на полу в своей избе и целый день, пыхтя, ползал на брюхе, печатал всеми красками, подчеркивал.
Особенно кудряво было выведено: «Сочинил коллективный автор Павел Терентьевич Мохов, красный пулеметчик». Потом следовало предостережение: «Потому что в трагедии произойдет стрельба холостыми зарядами, то прошу в передних рядах, так и в самых задних рядах никаких паник не подымать в упреждение Ходынки». И в конце: «Начало в шесть часов по старому стилю, а по новому стилю на три часа вперед. С почтением автор Мохов». И еще три отдельных плаката: «Прошу на пол не харкать». «Во время действия посторонних разговоров прошу не позволять». «В антрактах матерно прошу не выражаться».
В конце каждого плаката было: «С почтением автор Мохов».
После генеральной репетиции Мохов сказал:
— Успех обеспечен, товарищи. Будет сногсшибательно.
Мимо Таниной избы прошел подбоченившись и лихо заломив с красной звездой картуз.
А на другой день уехал в город, чтобы пригласить члена уездного политпросвета на показательный спектакль.
В день спектакля публика густо стала подходить из ближних деревень в село Огрызово. С любопытством рассматривали плакат-афишу, укрепленную на воротах школы.
В школе едва-едва могло уместиться двести человек, народу же набралось с полтысячи. Спозаранку, часов с трех, зал набит битком. Публика плевала на пол, выражалась, плакат же «Прошу не курить, с почтением автор Мохов» был сорван и пошел на козьи ножки. В комнате от табачного дыма сизо. День был знойный, душный. С беременной теткой Матреной случился родимчик: заайкала, — и ее унесли.
В пять часов Павел Мохов стал наводить порядки. Весь мокрый, он стоял вместе с милицейским на крыльце и осаживал напиравший народ:
— Нельзя, товарищи, нельзя! Выше комплекта, — взволнованно кричал он. — Ведь ежели б стены были резиновые, можно раздаться, но они, к великому сожалению, деревянные.
— Допусти, Паша… Мы где ни то с краюшку… На яичек… на маслица.
Передние ряды заняты мальчишками. Павел, с ядреной перебранкой, согнал их и усадил людей почтенных, а принесенное от священника кресло для городского гостя перевернул вверх ножками.
— В антрахту залезем, братцы, не горюй, — утешались мужики, — всех за шиворот повыдергаем! Не век же им смотреть!
* * *
Около шести часов прибыл со станции представитель уездного политпросвета, светловолосый красивый юноша, товарищ Васютин. Павел Мохов был крайне удивлен: ведь обещался приехать бородатый, а тут — здравствуйте, пожалуйста! Однако Павел дисциплину понимает тонко: рассыпался в любезностях, провел его в свою избу, сдал на попеченье матери, а сам — скорей в школу и подал первый звонок. Публика отхаркнулась, высморкалась, смолкла и приготовилась смотреть.
Товарищ Васютин отмывал дорожную пыль, прихорашивался перед зеркалом, прыскал себя духами. Мать Павла усердно помогала ему переодеваться. Она очень удивилась, что гость без креста и натягивает белые штаны.
Франтом, с тросточкой, попыхивая сигареткой, краснощекий товарищ Васютин проследовал на спектакль. В кармане его щегольского пиджака лежали две ватрушки, засунутые матерью Павла:
— Промнешься, соколик, дак пожуешь.
Второй звонок подавать медлили.
В артистической комнате содом. Павел Мохов рвал и метал. Доставалось молодому кузнецу Филату. Филат должен, между прочим, изображать за сценою крики птиц, животных и плач ребенка — все это Павел ввел «для натуральности». На репетиции выходило бесподобно, а вот вчера кузнец приналег после бани на ледяной квас и охрип, — получается черт знает что: петух мычит коровой, а ребенок плачет так, что испугается медведь.
— Тьфу! Фефела… — выразительно плюнул Павел и, стрельнув живыми глазами, крикнул: — А где же суфлер? Живо за суфлером! Ну!
Меж тем стрелка подходила к семи часам. От духоты и нетерпенья зрители взмокли. То здесь, то там приподымались девушки, с любопытством оглядывая городского франта:
— Ну, и пригожий… Ах, патретик городской…
Таня два раза мимо проплыла, наконец насмелилась:
— Здравствуйте, товарищ! — и протянула ему влажную от пота руку. Очень высокая и полная, она в белом платье, в белых туфлях и чулках.
— Пойдемте, барышня, освежимся! — и Васютин взял ее под руку. Рука у Тани горячая, мясистая.
Девушки завздыхали, завозились, парни стали крякать и подкашливать, кто-то даже свистнул.
Милицейский и шустрый паренек Офимьюшкин Ванятка тем временем разыскивали по всему селу суфлера Федотыча.
— Ужасти, в нашем месте скука какая. Одна необразованность, — вздыхала Таня, помахивая веером на себя и на кавалера.
— А вы что же, в городе жили?
— Так точно. В Ярославле. У одной барыни паршивой служила по глупости, у буржуазии. Теперь я буржуев презираю. Подруг хороших здесь тоже нет. Например, все девушки наши боятся гражданских браков. А вы женились когда-нибудь гражданским браком? — и полные малиновые губы Тани чуть раздвинулись в улыбку.
— Как вам сказать. И да, и нет… Случалось, — весело засмеялся Васютин, и рука его не стерпела: — Этакая вы пышка, Танечка…
— Ах, право… мне стыдно. Какой вы, право, комплиментщик! Ах, как вы пахнете хорошо… Ой, вы мне сомнете кофточку.
Гость и Таня торопливо шли по огороду, вдоль цветущих гряд.
Вечер был удивительно тих. Солнце садилось. Кругом ни души, только кошка играла с котятами под березкой. Сквозь маленькое оконце овина, рассекая теплый полумрак, тянулся сноп света. Он золотил пучки сложенной в углу соломы.
В овине пахло хлебной пылью, мышами и гнездами ласточек.
— Товарищи! — появился перед занавесом Павел Мохов. — Внимание, внимание! По не зависимым от публики обстоятельствам, товарищи, наш суфлер неизвестно где… Так что его невозможно, сволочь такую, отыскать… То спектакль, товарищи, начнется по новому стилю.
А ему вдогонку:
— По новому, так по новому… Начинай скорее, Пашка!.. Другие с утра сидят… Животы подвело.
И еще кричали:
— Это мошенство! Подавай мой творог! Подавай мои яйца назад!
Но Павел не слышал. Обложив милицейского и Офимьюшкина Ванятку, он самолично помчался отыскивать суфлера.
Суфлер — старый солдат Федотыч, двоюродный дядя Павла Мохова. Он хороший чтец по покойникам и большой любитель в пьяном виде подраться: все передние зубы у него выбиты. Но, несмотря на это, он суфлер отменный и находчивый: чуть оплошай актер, он сам начинает выкрикивать нужные слова, ловко подделывая голос.
Павел подбежал к его избе. Так и есть — замок. Он к соседям, он в сарай, он в баню.
И весь яростно затрясся: Федотыч лежал на спине и, высоко задрав ноги, хвостал их веником, голова его густо намылена, он был похож на жирную, в белом чепчике, старуху.
— Зарезал ты меня! Зарезал!.. — затопал, завизжал Павел Мохов.
Веник жарко жихал и шелестел, как шелк.
— Павлуха, ты? Скидавай скорей портки да рубаху! Жару много, брат…
— Спектакль! Старый идиот!!.. Спектакль ведь.
— Какой стектакль? Ты чего мелешь-то? У нас какой день-то седни? — и вдруг вскочил. — Ах-ах-ах-ах…
— Запарился?
Федотыч нырнул головой в рубаху.
— Башку-то ополосни! В мыле.
— Ах-ах-ах… А я, собачья лапа, в лес по ягоды ходил… Ах-ах-ах-ах…
* * *
Задорно прогремел звонок. Сцена открылась, и вместе с нею открылись все до единого рты зрителей. На сцену вышла высоченная, жирная попадья.
Ни одна девушка не пожелала играть старуху. Взялся кузнец Филат. Лицо у него длинное, как у коня. На голову он взгромоздил шляпищу — впереди сидит, растопырив крылья, ворона, кругом — непролазные кусты цветов; на носу же самодельные очки, как колеса от телеги. Он очень высок и тощ, но там, где нужно, он столько натолкал сдобы, что капот супруги местного торговца, женщины тучной и очень низенькой, трещал по швам и едва хватал Филату до колен; из-под оборок торчали сухие, в обмотках, ноги, которыми очень грациозно, впереплет и с вывертом переступал Филат.
— Африканская свиньища на ходулях, — шепнул товарищ Васютин Тане, жарко дышавшей ему в лицо.
Таня фыркнула, а попадья, виляя задом, мелко засеменила к шкапу, достала четверть и, одну за другой, выпила три рюмки.
— Вот так хлещет! — завистливо кто-то крикнул в задних рядах.
— Угости-ка нас!
— Мамаша! Мамаша! — выскочила в белом переднике ее дочь Аннушка. — Как вам не стыдно жрать водку?!
Та откашлялась и сказала сиплым басом:
— Дитя мое, тебе нет никакого дела, что касаемо поведения своей собственной матери.
В публике послышались смешки: вот так благородная госпожа, вот так голосочек… А Павел Мохов за кулисами заткнул уши и весь от злости позеленел.
— Ах, так? — звонко возразила Аннушка. — Нынче, мамаша, равноправие. Я из вашего кутейницкого класса уйду в пролетариат… Я — коммунистка. Знайте!
— Что, что?.. Коммунистка?! А жених? Такой благородный человек… Я тебе дам коммунистку! — загремела басом попадья и забегала по сцене: ворона и кусты тряслись.
Павел Мохов тоже с места на место перебегал за кулисами и желчно, через щели, шипел Филату:
— Что ты, харя, таким быком ревешь? Тоньше, тоньше!..
Этот злобный окрик сразу сбил Филата: слова выскочили из памяти, — и что подавал суфлер, летело мимо ушей, в пространство.
Растерялась и Аннушка.
— Уйду, уйду, — повизгивала она, и глаза ее, как магнит в железо, впились в беззубый рот суфлера Федотыча.
Попадья крякнула для прочистки глотки, и, едва поймав реплику суфлера, еще пуще ухнула раскатистой октавой:
— Стыдись, о дочь моя! Ничтожество твое имя!
— Позор, позор! Паршивый черт!.. — змеиное шипенье Павла Мохова секло сцену вдоль и поперек. — Я тебе в морду дам!
— Позор, позор! — всплеснула руками Аннушка и вся в слезах шмыгнула за кулисы.
— Позор! Паршивый черт! Я тебе в морду дам! — загремела и попадья — Филат.
Федотыч в будке грохнул кулаком, презрительно плюнул: — Ахтеры… — и вдруг, к удивлению публики, невидимкой зазвучал со сцены пискливый женский голос:
— О дочь моя!.. Я тебе великодушно прощаю, — фистулой выговаривал Федотыч. — Иди ко мне, я прижму тебя к своей собственной груди. Вот так, господь тебя благослови, — и яростно зашипел: — Где Аннушка? Аннушку сюда, черти!..
Аннушку выбросили из-за кулис на кулаках. Семеня ножками и горестно восклицая: — Я ж говорю вам, что не знаю роли… Я сбилась, сбилась… — она подбежала к попадье, которая безмолвно стояла ступой, обхватив живот.
— Благословляй, дьявол! — треснул в пол кулаком суфлер.
— Господь тебя благослови! — как протодьякон, пробасила попадья.
Павел Мохов метался за кулисами:
— Занавес!.. К черту Филата!.. Ах, дьяволы… снова!
Но положение спас буржуй-жених. Он роль знал назубок, на сцену вышел игриво; попадья и Аннушка вновь овладели собой; Федотыч суфлировал на весь зал, как сто гусей, и на радостях суетливо глотал самогонку; из суфлерской будки несло сивухой.
Потом вошел маленький бородатый священник в рясе и скуфье набекрень, отец Аннушки.
— Поп, поп! — весело зашумели в зале. — Глянь-ка, братцы! Кутью продергивают.
Несчастную Аннушку стали пропивать: жених с попом устраивают кутеж, гармошка, пляс, попадья вприсядку чешет трепака, подушки с груди переползают на живот. Аннушка плачет. Зрителям любо, ай-люли; хлопают в ладоши — биц-биц-биц — браво! — Аннушка плачет горше. Но вот врывается в кожаной куртке рабочий-коммунист:
— Я спасу тебя!
— Милый, милый! — бросается ему на шею Аннушка.
Жених лезет драться, но коммунист выхватывает револьвер:
— Она моя. Смерть буржуям!..
Поп с женихом в страхе ползут под кровать. Занавес. Хлопки. Восторженные крики: биц-биц-биц!
* * *
Перерыв длился целый час. Стемнело. Зажгли две керосиновые коптилки. Мрак наполовину поседел.
У актеров как в сумасшедшем доме: кто плачет, кто смеется, кто зубрит роль.
— Глотай сырьем, — лечит Федотыч голос кузнеца. — Видишь, у тебя кадык завалило.
Кузнец яйцо за яйцом вынимает из лукошка — целый десяток проглотил, а толку нет.
— К черту! — волнуется Павел Мохов. — Где это ты видел, чтобы так попадья говорила? Банщик какой-то, а не попадья!
— Знай глотай… Обмякнет, — хрипит Федотыч. Бритое, жирное лицо его красно и мокро, словно обваренное кипятком. Самогонка в бутылке быстро убывает.
Из зала густо выходила на свежий воздух публика.
Навстречу протискивались новые. Косяки дверей трещали. С треском отрывались пуговицы от рубах, от пиджаков. Иные тащили выше голов приподнятые стулья, чтобы не потерять место. «Налегай, ребята, налегай, жми сок из баб!»
Костомятка была и в коридорчике. Удалей всех продирался толстобокий попович в очках. Он яростно тыкал локтями и кулаками в животы, в бока, в спины, деликатно приговаривая: «будьте добры» да «будьте добры». Старому Емеле, до ужаса боявшемуся мышей, подсунули в карман дохлого мыша, а как вышли, попросили на понюшку табаку.
Прозвенел звонок. Народ повалил обратно.
Дядя Антип из соседней деревни постоял в раздумье и, когда улица обезлюдела, махнул рукой: — А ну их к ляду и с комедью-то… — закинул на загорбок казенный стул и, озираючись на густые сумерки, пошагал, благословись, домой: — Ужо в воскресенье еще приду.
— Внимание, товарищи, внимание! — надсадно швырял в шумливый зал Павел Мохов. — По не зависимым от публики обстоятельствам, товарищи, попадья была высокая, теперь станет маленькой. Поп же, то есть ее муж, как раз наоборот — сделается очень высокий. Но это не смущайтесь. Это перетрубация в ролях — больше ничего. Даже лучше! Итак, я подаю, товарищи, третий и самый последний звонок!
* * *
Занавес отдернули, и зал вытаращил полусонные глаза.
Вот выплыла попадья, по одежде точь-в-точь та же, только на коротеньких ножках и пищит, а вслед за нею— высоченный поп, тот же самый — грива, борода; только ряса по колено и ходули-ноги, длинные, в обмотках.
В публике смех, возгласы:
— Пошто попадье ноги обрубили?
— А ну-ка, бабушка, спляши!
— Эй, полтора попа!!
Изрядно наспиртовавшийся Федотыч едва залез в будку, но суфлировал на удивление ясно и отчетливо: вся публика, даже та, что в коридоре, имела удовольствие слушать зараз две пьесы — одну из будки, другую от действующих лиц.
Жировушка Федотыча — в черепке бараний жир с паклей — чадила ему в самый нос.
Действие на сцене как по маслу. Буржуя-жениха прогнали, в доме водворился коммунист. Аннушка родила ребенка, который лежит в люльке и плачет. Люльку качает поп (кузнец Филат).
Он говорит:
— Это ребенок коммунистический, — поет басом колыбельную:
Баю-баюшки-баю, Коммунистов признаю… Ты лежи, лежи, лежи И ногами не дрожи…— Достукалась, притащила ребеночка, — злобствует попадья. — А коммунистишку-то твоего опять на войну гонят…
— О, горе мне, горе!.. — восклицает Аннушка и подсаживается к люльке, чтобы произнести над ребенком монолог. Она влипла глазами в будку, там чернохвостый огонек дымит, а Федотыч — что за диво — наморщил нос и весь оскалился.
— О, горе мне, горе!… Сиротинушка моя!..
Вдруг в будке захрипело, зафыркало и на весь зал раздалось: Чччих! — А огонек погас.
Федотыч опять захрипел, опять чихнул и крикнул:
— Эй, Пашка! Дайте-ка скорей огонька… У меня жирову… А-п-чих!.. жировушка погасла.
За сценой беготня, шепот, перебранка: все спички вышли, зажигалка не работает.
— О, горе, мне, горе!.. — безнадежно стонет Аннушка.
— Погоди ты… Го-о-ре!.. — кряхтит, вылезая из будки, Федотыч. — У тебя горе, а у меня вдвое. Видишь, жировушка погасла.
Он пополз к краю сцены и забодался:
— А-п-чхи!.. Товарищи… А-п-чхи!.. Тьфу, пятнай тя черти!.. Нет ли серянок у кого?
Публика с веселостью и смехом:
— На, детка. На-на-на!..
И снова как по маслу.
Аннушка так натурально убивалась над младенцем и так трогательно говорила, что произвела на зрителей впечатление сильнейшее: бабы засморкались, мужики сопели, как верблюды.
Офимьюшкин Ванятка подрядился, вместо Филата, за три яйца плакать по-ребячьи. Он плакал за кулисами, звонко, с чувством, жалобно. Какой-то дядя даже сердобольно крикнул Аннушке:
— Дай ему титьку!
И баба:
— Поди упакался ребенчишко-т…
Словом, действие закончилось замечательно. Все были довольны, кроме Павла Мохова. Он, скрипя зубами, тряс за грудки пьяного Федотыча:
— Дядя ты мне или последний сукин сын?! Неужто не мог после-то нажраться! Такую, дьявол старый, устроил полемику с своей жировушкой…
* * *
По селу пели третьи петухи.
За Таней и Васютиным, опять шагавшими вдоль цветущих грядок, шли в отдалении парни с гармошкой и орали какую-то частушку, очень для Тани оскорбительную.
— Эй, ахтеры! — кричали в зале. — Работайте поскорейча… Которые уж спят давно.
Действительно, на окнах и вдоль стен под окнами сидели и лежали спящие тела.
Когда открыли сцену, наступившую густую тишину толок и встряхивал нечеловечий храп. Это дед Андрон, согнувшись в три погибели, упер лысину в широкую поясницу сидевшей впереди ядреной бабы, пускал слюни и храпел. Другие спящие с усердием подхватывали.
Настроение актеров было приподнято: это действие очень веселое — пляски, песни, хоровод, а кончается убийством Аннушки. Мерзавец буржуй-жених, которого зарезали в прошлом действии, должен внезапно появиться и смертоносной пулей сразить несчастную Аннушку. Это гвоздь пьесы. Это должно потрясти зрителей. Недаром Павел Мохов с такой загадочно-торжествующей улыбкой сыплет в медвежачье ружье здоровенный заряд пороху: грохнет, как из пушки.
Но если б Павел Мохов видел, каким пожаром горят глаза коварной Тани и с какой страстью стучит в ее груди сердце, его улыбка вмиг уступила бы место бешеной ревности.
Парочка тесно сидела плечо в плечо, от товарища Васютина пахло духами и табаком, от красотки Тани — хлебной пылью, мышами и гнездами ласточек.
* * *
Елки и сосны. Берег реки. Аннушка с ребенком сидит на камне.
— Какой хороший вечер, — говорит она. — Спи, мой маленький, спи… Чу, коровушка мычит. Чу, собачка взлаяла. А как птички-то чудесно распевают. Чу, соловей…
Яйца, видимо, подействовали: Филат на все лады заливался за сценой.
Появляются девушки, парни. Начинают хоровод. Свистит соловей, крякают утки, квакают лягушки, мычит корова.
— Дайте и мне, подруженьки, посмотреть на вашу веселость… — сквозь слезы говорит Аннушка. — Папаша и мамаша выгнали меня из дому с несчастным дитем. А супруг мой, коммунист, убит белыми злодеями. Которые сутки я голодная иду.
Аннушка горько всхлипывает. Ее утешают, ласкают ребенка. За кулисами ржет конь, мяукает кошка, клохчут курицы, хрюкает свинья.
— Ах, ах! Возвратите мне мои счастливые денечки!
Зрители вздыхают. Храпенье во всех концах крепнет.
Давно уснувший в будке Федотыч тоже присоединил свой гнусавый храп. Лысина деда Андрона съехала с теткиной поясницы в пышный зад.
Вдруг из-за кустов выскочил буржуй-жених, в руках деревянный пистолет.
Наступила трагическая минута.
Павел Мохов взвел за кулисами курок.
— Ах, вот где моя изменщица! — и жених кинулся к Аннушке. — Вон! Всех перестреляю!
Визготня, топот, гвалт — и сцена вмиг пуста.
Лицо буржуя красное, осатанелое. Он схватил ребенка, ударил его головой об пол и швырнул в реку.
Аннушка оцепенела, и весь зал оцепенел.
— Ну-с! — крикнул жених и дернул ее за руку.
Павел Мохов выставил в щель дуло своей фузеи.
— Ведь мы же с папочкой и мамочкой полагали, что вы зарезаны, — вся трепеща, сказала Аннушка.
— Ничего подобного… Ну, паскуда, коммунистка, молись богу. Умри, несчастная! — И жених направил пистолет в грудь Аннушки.
— Ах, прощай, белый свет!.. — закачалась Аннушка и оглянулась назад, куда упасть.
Павел Мохов сладострастно спустил курок, но самопал дал осечку.
Зал разинул рот и перестал дышать.
— Умри, несчастная!! — свирепо крикнул жених.
— Ах, прощай, белый свет!.. — отчаянно простонала Аннушка и закачалась.
Павел Мохов трясущейся рукой всунул новый пистон, но самопал опять дал осечку. Ругаясь и шипя, Павел выбрал из проржавленных пистонов самый свежий.
Жених умоляюще взглянул на кулисы и, покрутив над головой пистолет, вновь направил его в грудь донельзя смутившейся Аннушки:
— Умри, несчастная!!
Кто-то крикнул в зале:
— Чего ж она не умирает-то!
— Ах, прощай белый свет!.. — в третий раз простонала Аннушка, и самопал за кулисами третий раз дал осечку.
Дыбом у Павла поднялись волосы, он заскорготал зубами. Жених бросил свой деревянный пистолет, крикнул: — Тьфу! — и, ругаясь, удалился.
Аннушка же совершенно не знала, что ей предпринять, — наконец, закачалась и упала.
— Занавес! Занавес давай! — суетились за сценой.
Но в это время, как гром, тарарахнул выстрел.
Весь зал подпрыгнул, ахнул.
Храпевший суфлер Федотыч тоже подпрыгнул, подняв на голове будку. С окон посыпались на пол спящие, а те, что храпели на полу, вскочили, опять упали — и поползли, ничего не соображая.
Аннушка убежала, и занавес плавно стал задергиваться.
— Товарищи! — быстро поднялся на стул Васютин. — Я член репертуарной коллегии драматической секции первого сектора уездного культагитпросвета…
Мужики злорадно засмеялись. Раздались выкрики:
— Жалаим!
— Толкуй по-хрещеному!.. По-русски…
— Товарищи! Главный дом соседнего с вами совхоза обращается в народный дом для разумных развлечений. Я имею бумагу. Вот она. Советская власть охотно идет навстречу вашим духовным запросам. А теперь кричите за мной: автора, автора, автора!
И зал, ничего не понимая, загремел за товарищем Васютиным.
Автор же, за кулисами, упав головой на стол, плакал.
Васютин нырнул за сцену и в недоумении остановился.
— Товарищ Мохов! Как вам не стыдно? Вас вызывает публика. Слышите? Ну, пойдемте скорей.
Павел Мохов вытер кулаками глаза и уже ничего не мог понять, что с ним происходило. Куда-то шел, где-то остановился. Из полумрака впились в него сотни горящих глаз.
А Федотыч, меж тем, пошатываясь, совался носом по сцене, душа горела завести скандал.
— Товарищи! Вот перед вами автор, сочинитель пьесы, которой вы только что любовались… Почтим его. Да здравствует талантливый Павел Мохов! Браво! Браво! — захлопал Васютин в ладоши, за ним сцена, за ней — весь зал.
— Бра-в-во! Биц-биц-биц! Браво! Молодец, Пашка! Ничего… Жалаим… Павел, говори! Чего молчишь?..
— Почтим от всех присутствующих! Ура!! — надрывался Васютин.
Федотыч плюнул в кулак и, крякнув, стиснул зубы.
Павел взглянул орлом на Таню, взглянул на окно, за которым розовело утро, и в каком-то телячьем восторге, захлебываясь, начал речь:
— Товарищи! Да, я действительно есть коллективный сочинитель… — но вдруг от крепкого удара по затылку слетел с ног.
— Я те дам, как дядю за грудки брать! — крутя кулаком, дико хрипел над ним Федотыч — Я те почту oт всех присутствующих.
* * *
На следующий день товарищ Васютин уехал в город. Вместе с ним исчезла и красотка Таня. В школе же, после «Безвинной смерти Аннушки», не досчитались семи казенных стульев.
* * *
Павел Мохов от превратного удара судьбы долго потягивал горькую совместно со своим двоюродным дядей Федотычем. Пили они в овине, в том самом, за цветущими грядками, за школой.
— Ты, племяш, не серчай, что я те по шее приурезал, — шамкал пьяненький Федотыч. — А вот ежели такие теятеры будем часто представлять, у нас не останется ни небели, ни девок.
ШЕРЛОК ХОЛМС — ИВАН ПУЗИКОВ
1. Сенцо
День был душный, жаркий. К вечеру соберется гроза. Недаром деревья так задумчивы, так настороженны.
В ограду бывшего имения господ Павлухиных — ныне совхоз «Красная звезда» — въехал на сивой лошаденке кривобородый, с подвязанной скулой, рыжий мужичок в лаптях. Соскочил с телеги, походил с кнутом от дома к дому, — пусто, на работе все.
— Тебе кого? — выглянула из окна курчавая, цыганского типа голова.
— Да мне бы Анисима Федотыча, управляющего, — ответил мужичок, снимая с головы войлочную шляпу-гречневик.
— Я самый и есть, — сказала голова.
— Приятно видеть вашу милость. Желательно нам сенца возик… Потому как понаслышались мы…
— Здесь не продается. Это учреждение казенное.
— Да ты чего!.. Да ведь Серьгухе нашему вчерась продал, сельповскому. Хы, казенное… Вот то и хорошо! Чудак человек!
— Зайди. Шагай сюда.
А в ночь, действительно, собралась гроза. Тьма окутала всю землю, освежающий дождь сразу очистил воздух, небо ежеминутно разевало огненную пасть, чтоб вмиг пожрать всю тьму, но каждый раз давилось, кашляло и рычало злобными раскатами. Все живое залезло в избы, в норы, в гнезда. А вот вору такая ночь — лафа.
Наутро — хвать, батюшки мои! — забегали в совхозе: какой-то негодяй похитил в ночь все металлические части самолучшей молотилки.
Управляющий Анисим Федотыч рвет и мечет: ведь на днях комиссия из городу приедет инвентарь ревизовать, да и молотьба недели через три. Что делать?
Сбились с ног, искавши. В ближней деревне Рукохватовой у подозрительных людей пошарили, — конечно, не нашли.
Анисим Федотыч, природный охотник и собачник, даже привлек к розыскам свою сучку Альфу. Но сучка, обнюхав молотилку, привела всю компанию из понятых и милицейских к избе красивой солдатки Олимпиады, к которой тайно похаживал управляющий. Кончилось веселым смехом всей компании и конфузом Анисима Федотыча. Он сучку тут же выдрал.
Совхозный писарь Ванчуков сказал:
— Я бы присоветовал вам обратиться к сыщику Ивану Пузикову. Он, по слухам, человек дошлый, знаменитый.
— А ну их к черту, этих нынешних… — возразил управляющий. — Каторжник бывший какой-нибудь.
— Напрасно. — Писарь стал рассказывать совхозу о подвигах сыщика.
В конце концов Анисим Федотыч согласился.
— Поезжай.
Писарь оседлал каурку — да на железнодорожную станцию, что за двадцать верст была.
— Ладно, разыщу, денька через три ждите, — только и сказал Иван Пузиков, агент «угрозы», то есть уголовного розыска.
И действительно, в конце третьих суток — уж время ужинать — взял да и явился в совхоз «Красная звезда» сам-друг с товарищем Алехиным.
Посмотреть — юнцы. Особенно Алехин. Правда, Пузиков важность напускает: между строгих бровей глубокая складка; правда, и глаза у него стальные, взгляд холодный, твердый, и рот прямой, с заглотом, а подбородок крепко выпячен. Вообще Пузиков — парень ого-го. То ли двадцать лег ему, то ли пятьдесят.
Осмотрел, обнюхал их Анисим Федотыч со всех сторон, — да-a, народ занятный.
— Ну что ж, товарищи, пойдемте-ка. Темнеет.
— Успеем, куда торопиться, — сказал Пузиков. — А вот чайку хорошо бы хлебнуть.
— Ежели ваше усмотренье такое, то чаю можно… — недовольно проговорил совхоз. — А на мой взгляд, надо по горячим следам.
— Ерунда, папаша! — ответил Иван Пузиков. — И не таких дураков лавливали.
Чайку угроза любила попить. А тут варенье да пирог с мясом, с яйцами.
За чаем Пузиков завел рассказ. Управляющему и неймется, и послушать хочется — очень интересно угроза говорит.
— А почему я по этой части? Через книжку, через Шерлока Холмса. Тятька меня к сапожнику определил в Питер. Я ведь из соседней волости родом-то, мужик. Пошлет, бывало, хозяин за винишком по пьяному делу — ну, двугривенный и зажмешь. Глядишь, на две книжки есть. Эх, занятно, дьявол те возьми. Все мечтал, как бы сыщиком стать: мечтал-мечтал, да до революции и домечтался. Теперь я сам русский Шерлок Холмс, Иван Пузиков.
— Слышал, слышал, — заулыбался во все цыганское лицо совхоз, и щеки его заблестели. — Я, конечно, вас, товарищи, и винцом бы угостил, да боюсь — время упустим. Уж после вот. По стакашку.
— Ерунда, папаша, злодей не уйдет. А выпить не грех.
— Слышал, слышал, — пуще заулыбался совхоз, налил всем вина, выпили. — Слышал, как самогонщиков ловите.
— Всяких, папаша, всяких, — вдруг нахмурился Иван Пузиков и почему-то дернул себя за льняной чуб. — Да толку мало, вот беда.
— Почему?
— Город выпускает. Мы ловим, а город выпускает, сто чертей. Ведь этак и самого могут ухлопать. У меня и теперь несколько ордеров на арест. Вот они. — Иван Пузиков вытащил из кармана пачку желтеньких бумажек и крутнул ими под самым носом управляющего.
— Ха! Вот какие дела! — воскликнул тот. — А по-моему, мазуриков щадить нечего. Иначе пропадем.
— Кто их щадит! У меня все на учете, папаша. Я все знаю. Например, в одном совхозе, и не так чтоб далеко от вас, управляющий самогон приготовляет на продажу. Два завода у него.
— Кто такой?
— Секрет, папаша. А в другом совхозе хлеб продает, овец, телят. А в третьем — сено.
— Се-е-но! — Управляющий уставился в ледяные глаза угрозы, и по его спине пошел мороз.
— Да, папаша, сено.
— В тюрьму их, подлецов!
— Все там будут, папаша, все. Только не сразу, помаленьку, чтоб дичь не распугать.
— Пейте, товарищи, винцо… Позвольте вам налить.
— Например, ваш рабочий, Рябинин Степан, револьвер имеет. Сам отдаст, вот увидите. А знаете, откуда он взял? Вот и не скажу. А знаете, кто нынче на пасхе мельника ограбил, латыша? А я знаю: два брата Чесноковых из вашей деревни.
— Не может быть! Чесноковы исправно живут. Откуда это вы знаете, товарищ? — вытаращил глаза управляющий и подумал: «Ну и ловко врет».
— А как же Ивану Пузикову не знать, папаша?
— Надо в тюрьму. Ведь ордер-то есть?
— Ах, папаша! — Пузиков таинственно сдвинул брови и переложил трубку в левый угол кривозубого рта. — Ну вот, скажем, к примеру, арестую я завтра по ордеру вас (совхоз заерзал на стуле и пытался улыбнуться), увезу в город, а через неделю вы дадите взятку, и вас выпустят. Что ж, вы похвалите меня? (Совхоз выдавил на лице улыбку.) А вдруг вам вползет в башку подослать, скажем, того же Рябинина Степана, он и ахнет пулей из-за куста.
— Да-да-да, — растерянно заподдакивал совхоз, и обвисшие усы его задергались. «Однако с этим чертом Пузиковым ухо востро держать надо».
— Ну, товарищи, еще по стакашку, коли так… Для храбрости. Дай пойдем. Полночь. Самая пора.
— Зачем мы, папаша, будем ночью тревожить порядочных людей. А вот нет ли балалаечки у вас? Сыграть хочется, а ты, Алехин, попляши.
Управляющий сердито буркнул:
— Нету, — и опять подумал: «Ни черта им, молокососам, не сыскать».
Утром Анисим Федотыч встал рано, отдал приказания и вошел в комнату, где ночевала угроза.
Пузиков и Алехин сладко храпели.
— Дрыхнут.
Управляющий сходил на мельницу, распушил плотников, что чинили плотину, и когда вернулся, — угроза умывалась.
— Чай пить некогда, — сказал Пузиков, — а вот на скорую руку молочка.
Выпили с Алехиным целую кринку, и оба заторопились.
— Кого из рабочих подозреваете, папаша?
— Никого.
— Правильно. А из Рукохватовой?
— Андрея Курочкина. А еще, пожалуй что, Емельян Сергеев. Тоже вроде вора, говорят.
— Ерунда, — нахмурился Пузиков. — Не они. Я всю деревню вашу насквозь знаю. Деревня — тьфу! Все три волости… Как на ладошке.
— Скажите, какие способности неограниченные, — восторженно оказал совхоз, а под нос пробурчал: — Хвастун изрядный.
Алехин туго набил махоркой кисет и подал Пузикову портфель.
— Ну, теперь, папаша, за мной в деревню, — сказал Пузиков. — Учись, как жуликов ловит Иван Пузиков, деревенский Шерлок Холмс.
Он быстро пересекал двор. Широкоплечий, кривоногий, низенький, куртка нараспашку, из-под козырька сдвинутый на затылок кепки лезет огромный лоб.
— Не сюда, товарищ, не сюда, — кричит едва поспевавший совхоз, — в обратную сторону!
— За мной, папаша!
Он, словно сто лет здесь жил, перелез через изгородь, обогнул беседку и боковой тропинкой подошел к скотному двору, где четверо рабочих накладывали на телеги навоз…
— Здорово, Степан Рябинин! — крикнул он весело и твердо. — Бросай вилы, айда за мной! Понятым будешь. Я — Иван Пузиков, агент угрозы. Понял?
Степан Рябинин — черный и сухой скуластый парень, в ухе серьга — удивленно посмотрел на незнакомца, ткнул в навоз вилы и сказал:
— Ладно.
Повернули назад. Угроза передом. Свернули влево.
— Не сюда, товарищ Пузиков, вправо надо, — опять сказал Анисим Федотыч.
— Не сбивай, папаша. Слушай-ка, Степан! Ты ведь в этой казарме живешь, в номере седьмом, кажется?
— Так точно, — ответил Степан. Голос у него скрипучий — не говорит, а царапает словами уши.
— Зайди и возьми, пожалуйста, наган. А то, сто чертей, опасно… Может быть, дело будет. Ну, живо!
— Это какой такой наган? — тряхнул серьгой Рябинин. — Чего-то не понимаю я ваших слов.
— Фу, ты! — возмутился Пузиков. — Да револьвер. Револьвер системы «наган». Понял?
— Нет у меня никакого револьвера.
— Нету? А куда ж ты его дел?
— Не было никогда. С чего вы взяли?
— Не было? Это верно говоришь? Не врешь? А из чего ж ты грозил застрелить председателя волисполкома, помнишь? Пьяный, на гулянке, в спасов день. Помнишь? Почему ты его вовремя не сдал?
Степан Рябинин чувствовал, как весь дрожит, и напрягал силы, чтобы овладеть собой.
— Нет у меня револьвера! Сказано — нету!
— Да ты не волнуйся. — От тенористого резкого голоса Пузиков вдруг перешел на спокойный ласковый басок. — Чего зубами-то щелкаешь? Ну, нету и нету. Верю вполне, и пойдемте все вперед.
Анисим Федотыч ядовито ухмыльнулся.
Степан Рябинин то шагал как мертвый, то весь вспыхивал и в мыслях радостно молился:
«Слава богу, пронесло».
До деревни с версту. Анисим Федотыч был с брюшком, фукал, отдувался: очень емко шли; прорезиненный дождевик его со свистом шоркал о голенища.
В деревню вошли с дальнего конца. Пузиков бегом к избе, вскочил на завалинку — и головой в открытое окно:
— Эй, тетя! А Фома Чесноков дома?
— Нету, батюшка. В поле навоз возит.
— А брат его Петр?
«Вот леший! Неужто всех поименно знает?» — подумал совхоз.
— Петруха в кузне. А ты кто сам-то, кормилец, будешь?
— Сахарином торгую. Ну, до свиданья. Увидимся.
Кузнец Петр Чесноков ковал какую-то железину.
— Бросай-ка, Петр Константиныч. Идем скорей с нами. Понятым будешь.
— Каким это понятым? — И Петр грохнул молотом в красное железо. — А кто ты такой, позволь спросить?
Лысая голова его была потна, и все лицо в саже, только белки блестят, как в темных оврагах — весенний снег.
Вдоль деревни шли гурьбой: еще пристали председатель сельсовета и двое милицейских.
Иван Пузиков подвигался медленно: остановится, посмотрит на избу, дальше.
— А в этой, кажись, Миша Кутькин живет? — спросил Пузиков. — Мой знакомый… Надо навестить.
Кутькин, мужичок не старый, возле сарайчика косу на бабке бил. Бороденка у него белая, под усами хитрая улыбка ходит. Взглянешь на усы, на губы — жулик; взглянешь в глаза — нет, хороший человек: взор ясный и открытый.
— Здравствуй, Миша, — ласково сказал Пузиков. — Нешто не признал? А помнишь, вместе на свадьбе-то у Митрохиных гуляли? Я — Ванька Пузиков, из Дедовки.
— А-а-а, так-так-так… Чего-то не припомню, — сказал Кутькин, подымаясь, и стал растерянно грызть свою бороденку.
— Ну, как живешь, Миша? А это у тебя что? — И угроза заглянул в сарайчик. — Мельницу, никак, ладишь! Очень хорошо! А железо-то не купил еще? Ну, ладно. Вот что, Миша! А можно мне в избу к тебе, бумажонку написать?
Сухопарая тетка Афимья низко поклонилась навстречу вошедшим и суетливо стала прибирать посуду: чашки, ложки разговаривали в трясущихся ее руках. Пузиков вильнул на ее руки глазом.
Все сели, кроме хозяина избы, кузнеца и Степана.
— Ну-ка, милицейский, пиши акт, а я буду говорить тебе. — Пузиков задымил-запыхал трубкой и достал из портфеля письменные принадлежности. — Пиши.
Милицейский, курносый парень, сбросил пиджак и приготовился писать. Лицо Пузикова было спокойно, простодушно: двадцать лет. Он диктовал вяло, уставшим голосом, словно желая отделаться от этой ненужной проволочки и поскорей уйти. Потом голос его внезапно зазвенел:
— Написал? Пиши. «Постановили: Михаила Кутькина, укравшего в совхозе „Красная звезда“ принадлежности молотилки, немедленно арестовать». — Глаза его зорко бегали от лица к лицу, — ему сразу стало пятьдесят.
Мишку Кутькина, хозяина избы, точно кто бревном по голове..
— Да ты, товарищ, обалдел!.. Какой я вор?! Что ты?!
— Миша, да ты не ерепенься, — мягко сказал Иван Пузиков и пыхнул густым дымом. — Раз я делаю, значит — делаю правильно Ведь я знаю, где у тебя вещи… В подполье, под домом. Верно?
Кузнец Чесноков крякнул, моргнул тетке Афимье, та схватила ведро и быстро вон. Мишка Кутькин сгреб себя за опояску, но руки его тряслись, — видно было, как плещутся рукава розовой рубахи.
— Шутишь, товарищ, — слезливо сказал он. — Обижаешь ты меня.
— Ничего, Миша, не обижаю. Писарь, пиши! «Во время составления акта кузнец Петр Чесноков подмигнул Афимье Кутькиной, а та поспешно вышла, чтоб перепрятать краденое».
— Вот те на! — уронил кузнец, как в воду клещи.
Мишка Кутькин ерзал взглядом от бельмастых кузнецовых глаз да к двери, и слышно было, как зубы его стучат. Анисим Федотыч удивленно вздыхал.
— Алехин! Где Алехин? — И голова Пузикова завертелась во все стороны. — Тьфу, сто чертей! Опять с девками канителится… Степа, будь друг, покличь моего помощника.
Степан Рябинин повернулся и на цыпочках вышел вон.
— Да! Вот что, товарищ Петр Чесноков. Скажи ты мне откровенно, как священнику, — кому ты делал собачку к револьверу?
Кузнец поднял брови, отчего лоб собрался в густые складки, и глупо замигал.
— Никому не делал… Совсем даже не упомню.
— Ах, Чесноков, Чесноков, ах, Петр Константиныч, — застыдил, замотал головой с боку на бок Пузиков, заприщелкивая укорно языком. — А я-то на тебя надеялся, что все покажешь: борода у тебя большая, человек ты лысый, прямо основательный человек, а вдруг— запор. Ая-яй… А я еще за тебя перед городскими властями заступался. Те, ослы, на тебя воротили, что ты с братом ограбил мельника. Ая-яй!
Кузнец попятился, взмахнул локтями.
— Спаси бог, что ты, что ты!..
— Да ты не запирайся.
— Никакого я мельника не воровал.
— Да я не про мельника. Разве в мельнике вопрос факта? Я про револьвер. Степан Рябинин откровенно сознался мне, что револьвер ему ты чинил, ты!
Кузнец засопел, потом прыгающим голосом ответил:
— Извините, запамятовал. Действительно, Степка правильно показал — его был револьвер… Точь-в-точь… Ну, как он просил не говорить…
— Пиши! — резко крикнул Пузиков. — «По показанию Петра Чеснокова, он чинил револьвер, принадлежащий Степану Рябинину, который системы „наган“…».
Тут скрипнула дверь, и с воем ввалилась баба, за ней Степан и Алехин с мешком.
Баба упала в ноги Пузикову и захлюпала:
— Ой, отец родной… Ой, не загуби…
— Стой, тетка Афимья, не мешай, — ласково сказал Пузиков и еще ласковей, к Степану: — Степан, голубчик, не в службу, а в дружбу, будь добр, притащи нам револьвер скорей. Вот ты отпирался давеча, а кузнец, спасибо ему, показал, что твой… И, ради бога, не бойся, Степа. Ничего не будет, до самой смерти… Ну, пожалуйста.
Степан заметался весь, блеснула в ухе серьга, ожег кузнеца взглядом и, пошатываясь, вышел вон.
— Вставай, Афимьюшка, вставай, родная…
— Ой, батюшка ты мой… Сударик милый цейский…
— Эка беда какая, что хотела перепрятать, — участливо говорил Пузиков. — До кого хошь довелись. Всякий дурак бы так сделал… Даже я. Под овин, что ли?
— Под овин, сударик ты мой, под овин…
Он, не переставая, пыхал трубкой, тугой кисет пустел, и комната тонула в дыму, как в синем тумане. Не торопясь, вытряхнул все на стол из принесенного Алехиным мешка.
— Э-эх, добра-то что. Все ли, нет ли? Папаша, а?
— Чего-с? — у Анисима Федотыча рябило в глазах, и кончики ушей горели, в голове чехарда, он ничего не мог понять, только шептал: «Вот так дьявол!»
— Да, — раздумчиво говорил между тем Пузиков. — Тут не хватает двух веществ: перекидной ручки — это той самой, ты над ней пыхтел, Чесноков, в кузнице, когда мы пришли… А кроме того, двух медных болтов и шайб с гайками. Они тоже у тебя, товарищ Чесноков… Ну, пойдемте.
— Ей-богу, нет! Рази меня гром! Отсохни борода! Да чтобы утробу мою червь сосал!.. Знать не знаю!
Пузиков очень внимательно перебирал вещи в двух сундуках кузнеца. Кузнец трясся так, что дрожала вся изба.
— Эка у тебя добра-то сколько, — покойно говорил Пузиков. — А? Вот буржуй… Ну, это, между прочим, ничего. Похвально. Нищий завсегда нищим будет. Грош ему и цена. А ты, видать, человек хозяйственный.
Жирная баба стояла у скамейки, как огромное изваяние; она обхватила ручищами жирную грудь и охала басом.
— Чего ты охаешь? Грыжа, что ли, у тебя? — сказал Пузиков.
— Да как же мне не охать-то… Ох!..
— «Ох, ох…» Экая ты трупёрда, деревенщина… А еще такая полная мадам. Стыдись! «Ох, ох…» Вот тебе и «ох»… Вот видишь, какая рукавица-то? Знатная рукавичка. При царе три целковых стоила. Кожа-то — прямо бархат… а ты — «ох…».
— Никаких болтов у меня, товарищ, господин сыщик, нету. Сами изволили усмотреть… — словно по камням, впереверт, вперекувыр сказал своим голосом кузнец.
— Что? — фукнул Пузиков из трубки в самый нос ему. — И болтов нету, и рукавички другой нету. Болты — черт с ними, не в болтах факт, болтов у тебя и быть не может никаких. А вот рукавичку мне подай.
— Потерявши рукавичка. Выпивши, из города вез… По… потерявши.
— Ты потерял, а я нашел… Сколько даешь?
— Шу… шутить изволите.
— А это что? Она? — И Пузиков вынул из портфеля другую рукавицу. — А нашел я ее у мельника в избе.
Баба охнула и шлепнулась задом на скамейку.
— И знаешь, товарищ Чесноков, когда? На другой день, как вы его ограбили. А ежели не веришь, дак в обеих рукавицах в середке Мельникова мета есть. Тебе и невдомек. Ну-ка, понятые, рассмотрите.
Кузнец упал на колени.
— Наш грех, наш грех… Не губи, ради Христа.
Бодро вошел Степан, взглянул — и руки у него сразу опустились.
— Что, револьверчик притащил? Молодчина, Степа. Давай сюда. Вот и все, кажись. — Иван Пузиков обвел компанию торжествующим, улыбчивым, но все же крепким взглядом. — Ну, вот, ребята, мы тихо, смирно, не торопясь, разыграли, как в кинематографе, не хуже, чем в «Собаке Баскервилей». Товарищи милицейские, этих трех гусей арестовать! А придет Фомка Чесноков, и его, злодея, в ту же дыру.
Все стояли бледные и тряслись. Больше всех — и неизвестно почему — волновался Анисим Федотыч.
Пузиков, заложив руки в карманы, произносил поучительную речь:
— Есть такой заграничный сыщик, Шерлок Холмс. Он хотя и спец считается, но, будучи по службе у буржуазной власти, хватает без разбору всех мазуриков. Я же, Иван Пузиков, сыщик российский и, кроме того, — сын своего народа. Поэтому передайте мужикам, что ваша деревня наполовину воры. Этого ни в каком специальном случае я не потерплю! Далее, по порядку, участь Чесноковых — тюрьма! Хотя они, допустим, и обокрали мельника, который богатей, однако за них, товарищи, безвинно арестован мужик из бедноты. Второй пункт предложенья: Степан Рябинин, как возвративший револьвер по своему инициативу, освобождается из-под ареста. Можешь идти, Степан! Что же коснувшись Михаила Кутькина, то я ничего, товарищи, сделать не могу. Ты, Миша, сам посуди: украл ты государственный механизм от молотилки, то есть достояние республики. Это называется — позор! Укради ты не только механизм, а, скажем, всю молотилку у какого-нибудь кулака-контрреволюционера — совсем десятая статья. И я, может статься, во время обыска все рыло бы себе своротил об эту самую молотилку, а сделал бы вид, что не нашел. Потому что уравнение имущества социализм не возбраняет. Азбука коммунизма гласит прямо. Ты же, как сказано, украл достояние республики, да еще перед самой страдной порой, а ведь эта самая молотилка предназначалась обслужить целых три деревни. И нет тебе даже оправдания, что ты несознательный элемент, что-что, а это ты, как хозяин и мужик самосильный, должен был сообразить. До свиданья, Миша!
Угроза надувалась у Анисима Федотыча заслуженным чаем и ела пироги.
Анисим Федотыч волновался. От пылающих ушей загорелись щеки, и воловья шея налилась кровью, а глаза — как у попавшей в капкан лисы.
«Все, дьявол, знает. Пожалуй, знает и про сено».
— Товарищ Пузиков, — начал он, ероша курчавые черные, с синью, волосы — За такое ваше самоотверженное старание я своею властью обязан вас вознаградить, не щадя средств. Что бы вы с товарищем пожелали?
— Что бы пожелали? — Пузиков откромсал долю пирога. — Я бы пожелал вас, папаша, арестовать.
— Ха-ха-ха, — обомлев, захохотал, словно залаял, Анисим Федотыч. — За что?
— За сенцо, папаша, за сенцо.
Совхоз вдруг перестал смеяться, глаза его округлились, и густые брови сразу насели на нос. Он резко стукнул в стол.
— Мальчишки! (Алехин вздрогнул). Сопляки! Я вам не Мишка Кутькин! Я вам…
И, закусив удила, понесся, не в силах удержаться.
Пузиков набивал трубку, сторожко посматривая, как бы управляющий не смазал его в ухо.
— Постойте, папаша… Да вы не петушитесь… Ведь свидетели есть, — спокойно сказал он.
— Свидетели?.. Я те покажу свидетели!
— Алехин, покличь-ка мужичонку-то… Как его… Тимоху…
— Какого Тимоху? — с сердцем спросил юнец, искренне сердясь и на товарища и на совхоза.
— Фу ты, боже мой!.. Какого, какого! Ну, я сам схожу. — Пузиков схватил портфель и вышел.
Совхоз все время взад-вперед ходил по комнате, поправлял ворот — шее было тесно. Шагнул к шкафу, выпил большой стакан вина.
— Сыщики… Тоже считаются сыщики. Оскорблять порядочных людей… Ответственных работников… Слетите, голубчики!.. Оба слетите, сопляки паршивые…. Я вас!
Но вот в дверях показался дядя, — ну конечно, тот самый, лапти, синяя рубаха, скула подвязана, и рыжая бороденка кривулем. У совхоза лицо стало длинным и открылся рот. Мужик снял с головы гречневик, перекрестился и прямо в пояс:
— Здорово, Анисим Федотыч… Здорово, милячок. А я опять за сенцом к тебе… До-обрецкое сенцо.
— Что ты мелешь! Кто ты такой? — злобно прохрипел совхоз, а в голове как молния: «Вот скандал! Турну, пока Пузикова нет». Пошел вон! Здесь казна… Ступай, ступай. — И кулаки совхоза крепко сжались.
— Это само хорошо, что казна… Ты не гайкай, — чуть попятился мужик. — Бесстыжие твои глаза. Жулик ты казенный!.. Вор!
— Убирайся вон, рыжий черт! — И совхоз остервенело сгреб его за шиворот: — Вон!
Мужик захрипел, треснула рубаха.
— Караул, караул!.. Эй, Пузиков!..
— Вон! В тюрьму, подлец!!
Вдруг словно бомба ахнула:
— Ах, ты так, папаша? А ну! — Мужик рванул, и совхоз, взлягнув ногами, грохнулся спиною в пол.
Мужик, тяжко сопя, стал снимать с себя бороденку и парик.
— Пузиков? — простонал управляющий. — Это ты?
— Я самый, — сказал тот и протянул управляющему руку. — Ну, папаша, подымайся.
Алехин во все горло хохотал.
На этот раз все обошлось благополучно… Пузиков так и сказал, прощаясь:
— На этот раз, папаша, ничего… Больно пироги хороши. Только помни!
Вечером, собрав всех рабочих, Анисим Федотыч угостил их самогоном и держал речь:
— Вот, товарищи, жулик сразу и влопался. Мишка Кутькин… А вы как были честные труженики, так и оставайтесь. Да здравствует Советская власть!
Анисим Федотыч сена больше ни-ни-ни. А вот когда обмолотили рожь, — урожай в «Красной звезде» нынче отменный, — хлебцем стал помаленьку поторговывать. И то с великой опаской, по мешочку, самым знакомым мужикам.
Первым приехал поздним вечером Антон Седов.
— Ради Христа, ржицы продай… Весь хлеб градом порешило.
Антону Седову как не уступить — закадычный, можно сказать, друг.
Но совхоз был так напуган тем проклятым из угрозы, что долго и подозрительно всматривался в мужика, как индюк в чужого гуся. Потом подвел его вплотную к лампе.
— А что это у тебя, дядя Антон, в бороде как будто что-то ползет, — и сильно рванул его за густые клочья бороды. Борода оказалась природной, собственной.
2. Пуговка
— Ваня, — сказал Алехин своему другу, белокурому молодому человеку с прямым широким ртом, — к тебе пришли.
Тот сделал стариковское лицо и, прихрамывая, вышел в кухню.
— Извиняюсь, товарищ. Вы Иван Пузиков, наверно? Я со станции Павелец, весовщик Мерзляков, из комитета служащих. У нас, изволите ли видеть, систематические хищения из вагонов вот уже полгода. Только протоколы составляем, а поймать не можем…
— Знаю, — сказал белокурый и задымил трубкой. — Там у вас целая шайка работает. Они у меня все наперечет, как пальцы. И скажите, что Иван Пузиков, деревенский Шерлок Холмс, уже давненько на вашей станции сидит… Да он же с вами знаком.
— То есть как? Позвольте… — опешил Мерзляков. — Значит, вы не Пузиков?
— Так я вам и сказал. Ха! Может, Пузиков, а может, не Пузиков. Возможно, что Пузиков-то вот который, — показал он на Алехина, — может, и я… Это скрыто мраком тайны. Скажите вашим, что шайка на днях будет обнаружена самым удивительным способом… Прощайте. Мне больше некогда с вами толковать.
Он завалился на койку и пролежал колодой до самого вечера, от нечего делать поплевывая в потолок.
После обедни, в праздник, пришел к своему будущему тестю, торговцу Решетникову, станционный конторщик Бабкин, большой говорун и гитарист. Пили кофе, ели пирог, ну для праздничка, конечно, клюкнули.
Невеста Варя хотя и рябовата и чуть косила на правый глаз, однако ничего себе. Бабкину годится: приданого порядочно папаша обещал.
— Да, — сказал Бабкин, покручивая большие черные усы. — Эти доморощенные сыщики, вроде Пузикова, ни черта не стоят. А вот настоящего Шерлока Холмса бы сюда: в два счета — раз, раз — и пожалуйте бриться.
— Очень надо, — сказал торговец недружелюбно. — А я бы не желал. Черт с ними, крадут — и молодцы. Хоть народу в руки перепадает. А то ка-а-азна. Какая, к свиньям, казна! Это не прежние времена!
— Ах, папаша! — воскликнул Бабкин. — Странно даже слушать мне…
— А потому, что молод ты. Например, прикатили мне на прошлой неделе бочонок олеонафту по тайности и за грош отдали. Так что же, неужто отказываться?
— Ах, папаша! Опасно это. Лучше бы вы не говорили мне.
Вечером того же дня, не дожидаясь прихода сыщика Ивана Пузикова, весовщик Мерзляков, чтоб выдвинуться по службе, организовал свою собственную охрану. Пять человек доброхотов, тайно от казенной охраны, темной ночью залегли под вагон груженого поезда.
Мерзляков чиркнул спичку, чтоб закурить, и при вспыхнувшем свете вдруг обнаружил, что в их пятерке лежит пластом шестой, посторонний.
— Кто это? — оторопело спросил Мерзляков.
— Чшшш… — прошипел шестой и зашептал: — Нельзя курить… вспугнете. Чшш… Идут!
«Ага, это Иван Пузиков, сыщик», — мелькнуло у догадливого Мерзлякова.
Все шестеро впились вытаращенными глазами в лениво прошагавшие вдоль вагона четыре пары ног. Неизвестный шестой выполз на брюхе и повернул голову вслед уходящим.
— Четверо, — прошептал он. — Кажись, с ними ваш конторщик Бабкин. Лезут в третий от нас вагон.
Он вдруг вскочил, крикнул:
— За мной! — И, выстрелив в воздух, помчался вдоль поезда.
Среди мрака раздались путаные крики:
— Руки вверх! Караул! Караул!.. Стой, ни с места!..
Куча тел, тузя друг друга, каталась по земле.
Конторщик Бабкин, Варечкин жених, отбежав в сторону, кричал:
— Стойте, дьяволы!.. Ведь это мы, свои!.. Мы пломбы проверяем на вагонах. А вы нас… Тьфу!
Запыхавшись, примчалась с винтовками и казенная охрана.
Шли к вокзалу сконфуженные. Глупее всех чувствовал себя Мерзляков.
— Что ж ты, Мерзляков, неужто ослеп, своих бьешь, — весь дрожа, стал пенять ему жирный дорожный мастер Ватрушкин и сморкнулся кровью.
— Извиняюсь, Нил Данилыч, — сочувственно проговорил Мерзляков. — Как это ни прискорбно, но мы приняли вас за жуликов… Очень извиняюсь…
— От твоего извиненья у меня во всей башке звон идет. Этак садануть…
Мерзляков внезапно остановился:
— А где же этот, незнакомый-то?..
Меж тем незнакомый поспешно шагал в ближайшую деревеньку, в которой вчера снял пустую избу старого бобыля.
Вскоре пришел к нему Иван Пузиков, деревенский Шерлок Холмс. За последнее время Пузиков появлялся у своего помощника Алехина на какой-нибудь час, всегда торопился и, сказав нужное, уходил с мешком под мышкой.
— Ну, как? — спросил он Алехина.
— Плохо, — виноватым голосом ответил тот и рассказал все подробно про недавний бой возле вагонов.
— Дурак, — мрачно и насмешливо произнес Пузиков. Нахмурился, покрутил льняного цвета волосы свои, потом расхохотался. — Здорово наклали?
— Не надо лучше, — улыбнулся Алехин. — Я какого-то раскоряку за машинку сгреб, так он на манер как заяц заверезжал.
Пузиков сдвинул брови.
— А какой из себя Бабкин? — спросил он.
— Черноусый такой, в кожаной куртке. Он сватается за дочь лавочника.
— А, знаю, — сказал Пузиков. — Надо будет за ним последить.
Алехин изумленно уставился в лицо товарища.
— Как, за конторщиком Бабкиным?
— Эх, щенячья лапа! — воскликнул Пузиков. — Неужто не понимаешь ничего?
— Нет, — откровенно сказал Алехин. — А в чем вопрос?
— Ну, ладно. По окончании поймешь.
Утром Мерзлякова подняли в конторе на смех. Особенно ядовито издевался начальник станции Алексей Кузьмич Бревнов, рыжий вислоухий франт.
— Хотел выслужиться, любезнейший. Каждое дело ума требует. Ха-ха! Так накласть своим…
Мерзляков даже рассердился.
Но под конец занятий Алексей Кузьмич потрепал начальственно весовщика Мерзлякова по плечу:
— Не огорчайтесь, дружище… Уж такой язычок у меня дьявольский. Вот что: приходите-ка послезавтра ко мне на вечерок. Выпьем, понимаете… День рождения у меня…
Бабкин вечером пошел к невесте.
«Надо ж, черт возьми, купить девчонке хоть карамелек», — подумал он и зашел в еврейскую лавку. Когда входил, заметил прошагавшего человека в белом фартуке и еще тетку. Тетка остановилась и посмотрела ему вслед.
— А, товарищ Бабкин! — приветливо встретил его длинношеий, с остренькой бородкой и красными губами еврей. — Ну, когда же ваша свадьба? Купили бы для Варвары Тихоновны часики… Хорошие у меня есть серебряные, фирмы «Мозер»…
— Ей отец подарил золотые часы, — сказал Бабкин.
— Что вы говорите!.. Те часы темные. Я отлично знаю происхождение тех часов. Те часы, прямо скажу, краденые… Ой!
— Каким образом?
— И очень просто. По секрету вам скажу: тут, у вас на станции, работает целая шайка. И представьте, носильщик Носков украдывает ящик с электрическими лампочками, то есть достался в порцию после дележа. И очень хорошо… И он идет и обменивает этот ящик на золотые часы у агента постройки. Так говорят. Я, конечно, не могу поручаться за то, что говорят. Не всякой вере давай слух, как говорится по-русски… Этот самый Носков золотые часы продал вашему будущему папаше, даже забрал у него вином и самогонкой.
Бабкин растерянно хлопал глазами и весь покраснел от раздражения. Черт знает, хоть от невесты отказывайся! Он ничего у еврея не купил и в самом мрачном настроении направился к тестю.
Был летний мглисто-серый вечер. В лужах квакали лягушки, поздние стрижи острокрыло чертили последний быстрый путь. Посреди улицы, рассуждая сам с собой, деловито шагал человек в белом фартуке. Тетка с замотанной шалью головой шла мужиковской походкой по пятам Бабкина.
— Тебе что надо, тетушка? — спросил он, остановившись у ворот тестя.
— Ох, кормилец, — загнусила тетка. — Зубами маюсь, хотела какого-нибудь снадобья у торгового купить…
— Нет у него, — всматриваясь в теткино лицо, сказал Бабкин. — Иди в приемный покой на станцию. Там фельдшер даст.
Варя встретила его радостно, но вскоре же сказала:
— Какие вы, право, неласковые, Володечка. Что это с вами приключилося?
— Так, — ответил Бабкин. — Очень уж много подлости на свете, Варя. Ну да бросим об этом говорить. К Алексею Кузьмичу-то на танцульку собираетесь?
Пузиков не застал своего помощника Алехина в избе. Разжег на шестке теплину и вскипятил чай. После третьего стакана вошла в избу тетка, та самая…
— Садись чай пить, — сказал Пузиков. — Где был?
— Бабкина следил, — проговорил Алехин, снимая сарафан.
— Тьфу! — плюнул Пузиков. — Экая башка у тебя свинячья. Что ж мы — двое за одним человеком ходим?
— Как так?
— А вот и так… Мужика-то в белом фартуке заприметил? Ну, дак это я…
Алехин недовольно почесал за ухом, сказал:
— Бабкин у тестя, должно, и ночевать остался… Я ждал-ждал, жрать ужасти как захотелось…
— Ничего подобного. Он задним ходом вышел.
Ложась спать, Пузиков сказал:
— Слушай, Алехин. Я вынюхал, что послезавтра будет вечеринка у помощника начальника станции… Как его фамилия-то?
— Я знаю: Бревнов, звать Алексей Кузьмич, — с гордостью отрапортовал Алехин.
— На этот раз молодчага. Дак вот. Нам с тобой надо на эту вечеринку попасть. Может, там самую главную птицу схватим. Понял? Ты прямо войдешь и скажешь на ухо хозяину, что ты агент угрозы, что хочешь, мол, остаться на вечере под видом, ну, хоть… черт его знает… ну, хоть десятника по земляным работам. Понял? А я потом приду. А завтра подговори носильщика Носкова, передай ему вот эту бутылку коньяку, — он здорово вино жрет… — пусть выпьет и по сигналу явится на вечер и скажет вот какие слова… запиши. И адрес его запиши. Записал? Чтоб в точности. Он тоже замешан.
Чуть свет Пузиков исчез.
Алексей Кузьмич Бревнов жил широко, и вечер устроен на славу. Стол ломился закусками, пирогами, выпивкой. Среди гостей лица почетные: инженер-механик Свистунский, начальник станции Петров с супругой, священник. Конечно, был Бабкин с невестой Варечкой и будущим тестем.
Бабкин сегодня весел, прикладывался к рюмочке, играл на гитаре и рассыпался Варе в любезностях.
Хозяин, Алексей Кузьмич, сиял пуговицами на новенькой тужурке и тоже приухлестывал за Варей. Бабкин возбуждал в нем изрядное чувство ревности. Хозяин старался ему дерзить, но Бабкин огрызался.
— Это из рук вон, — говорил раскатистым басом инженер Свистунский, — сегодня опять обнаружена кража из вагона с грузом мяса.
— Слышали, слышали, — подхватил кто-то.
— И что стража смотрит, ведь под самым носом вагон стоял. Отсюда из окна видать… Позор!
— Увы! Испортился народ наособицу, — воскликнул священник и откромсал добрый кусок пирога.
— Черт знает, Иван Пузиков не едет. А пообещал, — уныло промямлил Мерзляков, потянувшись к выпивке.
— Плюньте вы на этого Пузикова! — крикнул охмелевший Бабкин. — Черта ли понимает ваш Пузиков! Сами разберем… Мы ужо опять ночью под вагон залезем. Товарищ Мерзляков, возьмите меня в свою компанию!
Все захохотали. А дорожный мастер Ватрушкин потер подбитый Мерзляковым нос.
В это время вошел молодой парень. Он что-то пошептал хозяину, тот деланно улыбнулся и сказал гостям:
— Это вновь командированный десятник земляных работ. Присаживайтесь с нами, товарищ.
Алехин смирно сел в угол, закурил папиросу и стал наблюдать, нахмурив лоб. Ему подали стакан чаю и кусок пирога.
Бабкин задирчиво кричал:
— Видали мы Пузиковых!!! К черту их!
— Потише, — осадил его хозяин, взглянув на Алехина. — В противном случае попрошу вас удалиться.
— И что ты ко мне вяжешься, — охмелевшим языком сказал Бабкин. — Может, к Варечке ревнуешь? А?
— Прошу меня не тыкать. Невежа! Без году неделя служит, а тоже позволяет себе…
— Ах, вот как… Что?!
Но в это время Алехин, взглянув на часы, распахнул окно. Из окна темнела ночь. По лестнице загрохотали грузные шаги, и в комнату ввалился пьяный носильщик Носков. Покачиваясь, он взглянул на подмигнувшего ему Алехина, помахал картузом и, глупо ухмыляясь, сказал:
— Честь имею поздравить с днем рождения!.. Честь имею объявить, что Иван Пузиков сейчас будут здесь. Хи-хи-хи… До свиданьица, — он было повернул к выходу, но Алехин загородил ему дорогу:
— Товарищ Носков, сядьте и — ни с места.
Гости разинули рты. Хозяин ерошил волосы, пьяный Бабкин лез к нему:
— Плевать я хотел на этих дураков, на сыщиков!.. Нет, ты мне ответь… Ревнуешь? Может, Варечку поддедюлить хочешь? Бери! Бери!
— Убирайся к черту!
— Бери! Я отказываюсь. Сам отказываюсь… Чьи на ней часы? Краденые… Вот этот самый Носков носильщик, восемнадцатого марта ящик с лампочками упер из вагона да агенту постройки на часы выменял, а часы будущему папаше всучил… Пожалуйста, сиди, Носков, не корчи рожи!.. И вы, папаша, не огорчайтесь.
— Безобразие! — кто-то кричал. — Ишь нализался… Выведите его вон!
— Кого? За что? — взывал Бабкин. — Меня-то?
Бабкина-то? Что он правду-то говорит? А чьи сапоги-то на мне? Краденые, вот и клеймо казенное… Из вагона… Мне подарил их мой будущий папаша. Уж извини, папаша. Раз начистоту, так начистоту… Вот Пузиков придет, все ему открою… Я много кой-чего знаю. Где Пузиков?
Алехин заглядывал в окно, в ночь. Пузиков не появлялся. Гости были как в параличе. Варечка истерически повизгивала. Ее отец весь побагровел и, сжимая кулаки, надвигался на Бабкина. С Носкова сразу соскочил хмель Бабкин колотил себя в грудь и, кривя рот, кричал сквозь слезы:
— Я за правду умру, сукины дети!.. Да! Умру!!
И вдруг трезвым, спокойным голосом:
— Ваше благородие, а где же пуговка-то у вас?
Алексей Кузьмич Бревнов, хозяин, быстро провел рукой по пуговицам, быстро скосил вниз глаза; блестящей пуговицы на тужурке недоставало.
— Вот она, — сказал Бабкин, протягивая пуговицу. — Я ее вчера в вагоне нашел, в том самом, откуда вы вот эту телятину украли.
Хозяин залился краской, побледнел, выхватил из рук Бабкина пуговицу и швырнул на пол.
— Стервец! — крикнул он и весь затрясся от злобы.
Бабкин поднял пуговицу, посмотрел на нее.
— Да, ошибся… Извиняюсь… — промямлил он. — Действительно не та: топор и якорь на ней есть, а сукно серое, видите, кусочек болтается. У вас же сукно черное… Извиняюсь.
— Милицию сюда! Протокол! — колотил хозяин в стол кулаком.
— Стой! — крикнул Бабкин. — Милицию я и сам приглашу. Стой! Забыл совсем. Идемте в вагон… Эй, где Пузиков? Идемте в вагон. Иначе все под суд за укрывательство. Отвечаю головой. Мы и без Пузикова обнаружим.
Обрадованные скандальчиком гости повалили за Бабкиным.
При свете фонаря в вагоне на туше мяса лежала блестяшая пуговица с клочком сукна, а вместо черноусого пьяного Бабкина, но в его одежде, пред ошалевшей и перепуганной компанией стоял бритый, совершенно трезвый, широколобый человек со строгими глазами и ртом.
— Конторщик Бабкин, которого вы три недели тому назад взяли на испытание, это я самый и есть, Иван Пузиков, деревенский Шерлок Холмс. Алехин, подай-ка пуговку сюда!
Он твердо подошел к Бревнову, примерил пуговку и твердо сказал:
— Ты, Бревнов, арестован. За компанию с тобой — Носков и торговец Решетников. А там распутаем весь клубок. Ну, Алехин, понял ли хоть теперь-то всю мою музыку? Эх ты, ежова голова. Покличь милицию!
Алехин, казалось, был ошарашен больше всех. Он высунулся из вагона и засвистал в свисток с горошинкой, как Соловей-разбойник.
ВЕРНАЯ ПРИМЕТА
Этакая гнусная, убийственная погода. Веселые дни куда-то ушли на юг, над городом — сумерки. Но зелень еще шумит, и пожелтевших листьев не так много. Вторую неделю моросит упорный дождь. Озябшие, насквозь пронизанные изморозью человечки понуро шагают, как тени; и тени их на мертвом свету электрических огней зловеще скользят по мокрым поверхностям асфальта, камня и грязных луж.
Слякоть, холод, скука.
— Не забудь, попадья, приготовить мне к утру фланелевые кальсоны, — говорит отец Ипат матушке. — Покойник… Завтра хоронить.
— Кого это? — спрашивает матушка.
Отец Ипат смотрит на нее октябрем и невольно бросает:
— Кого надо. Этакое ненастье бог послал…
— А покойник-то богатый? Вот крыша текет.
— На этого покойника стекла вставим и печь переложим. Сахару надо запасти… Сахар дорожает. Крыша подождет.
* * *
А старик-покойник недвижимо лежал в гробу. Ему тоже противна эта погода: зажмурился навеки.
В купеческом доме тишина. Только монахиня бредит в переднем углу по книге, в ее руках восковая свеча, и лицо ее желто, как воск. Да еще там, через три комнаты, пьет чай осиротевшая семья. Щупленький, нервный дьякон Смиренский кладет в стакан варенье, лимон, сахар и, помешивая ложечкой, тоненьким тенорочком говорит:
— Да, да. Я верю в приметы, верю. И как не верить, когда мы окружены тайной бытия, а знания наши зело мизерны.
Во время разговора он часто облизывается, оскаливает зубы, оправляет лохматые волосы. Ему в рот подобострастно глядит вся семья, ожидая великих откровений. Общий любимец, кот Васька, сидя на плече хозяйки, тоже смотрит дьякону в лицо и что-то припоминает.
— Например, когда воет собака… Ежели голову вниз — всегда перед покойником. Собака чует.
При слове «собака» Васька сразу вспомнил, что дьякон похож на Полкана, того самого, что недавно задал Ваське трепку.
«Страшно, — подумал Васька и поджал уши. — Ежели залает — убегу».
— Или вещие сны… Это изумительно, — продолжал дьякон.
Он очень долго повествовал. И наконец ушел, ссылаясь на головную боль и нездоровье.
* * *
Кладбище. Утро. Такое же пасмурное, холодное, промозглое. Мокрые кресты и могилы стоят, как древние старухи с заплаканными лицами, не зная, куда пойти. Ветер шумит вершинами, срывает желтые листья. Мертвыми, неприкаянными мотыльками они опускаются в разрытую могилу, которую торопливо доканчивают два могильщика.
У самой могилы, на приступках богатой часовни-памятника, стоит обмотанный шарфом дьякон Смиренский, рядом с ним толстый псаломщик, успевший хлебнуть пивца, и кучка нищих. Нищие ругаются из-за мест.
— Я чувствую себя прескверно, — говорит дьякон, глядя на дно могилы. — Не мог идти к выносу, через весь город… Ослаб.
— Покойнику безразлично, — басит псаломщик. — Хотя, конечно, могут меньше заплатить.
— Сквалыги! — окрысился из могилы сторож, карабкаясь наверх. — Три часа торговались. А ежели с богатых не сорвать, так с кого же и взять-то? Ну, я им и загнул.
— Знамо, — сказала нищенка. — Сверх земли не ляжешь.
— А вот знаете ли, — начал надтреснуто дьякон, — видел я сегодняшней ночью вещий сон… И ужасно боюсь… И сердце мое в сугубой тревоге…
— Чу, идут! — гукнул псаломщик и, вытаращив красные глаза, стал спешно раздувать кадило.
— Давай сюда, идут… — оказал дьякон.
Вдали послышалось пение. Все сняли шапки. Процессия приближалась, хлюпая по вязкой грязи. Доносился плач и стон.
И вдруг каким-то чудом солнце прогрызло тучу, ослепительно брызнул радостный сноп лучей. Все сразу преобразилось, ожило. Пронеслась стая дроздов и села на красную, как кровь, рябину. Плач оборвался, на устах мертвеца скользнула примиренная улыбка.
И одновременно с лучами солнца откуда-то примчалась свора игривых псов. Не замечая ни солнца, ни покойника, ни грозных окриков толпы, они возле самой могилы, под ногами дьякона, затеяли веселую карусель и грызню.
— Пшли прочь! Прочь!! — истерически взвизгнул дьякон.
— Бей их! — гаркнул псаломщик, поддев ногой закувыркавшегося пуделя.
Нищие с криком бросились на псов. Дьякон, подхваченный азартом битвы, все забыл:
— Благолепие нарушать! Нна!! — Он наотмашь дважды огрел рыжего, как теленок, пса дымящимся кадилом, поскользнулся и съехал на самое дно могилы.
Собаки опрометью мчались во все стороны. Быстрее всех, перепрыгивая сразу через две могилы, тесал рыжий пёс. В его беге был заполошный звериный ужас. Тлевшая шерсть на его лохматой спине клубилась дымом.
Во время обряда погребения позеленевший дьякон весь дрожал, стучал зубами и путал возгласы.
«Конец… Верная примета»… — холодея, думал он, и сердце его замирало. А когда провозглашал вечную память, заплакал и лишился чувств.
Тучи опять заслонили солнце, и кладбище вновь покрылось мутной мглой.
Дьякон слег. Он отказывался принимать лекарства, безвольно мотал головой, говоря с убеждением доктору и плачущей жене:
— Напрасно. Не помогут ваши снадобья. Воля божья. Заживо в могилу сверзился и попа, отца Ипата, голого во сне видал.
Он так крепко верил в свои приметы, что через неделю умер.
ЗЕЛЕНЫЙ ОСТРОВОК
Товарищ Антон Словечкин, городской человек, ни разу не бывший в глухой деревне, прибыл на станцию в самый Егорьев день. Ни одной подводы. Пришлось в село Красные Звоны, куда он был командирован партией, пешком брести. Погода теплая, дороги развезло в кисель. Скакал, скакал в штиблетах по закрайкам, невтерпеж, разулся. А дорога пошла книзу, грязь сильней, засучил брюки выше колен. Весело колокола гудели, обедня кончилась.
В избе предсельсовета три бородатых мужика — красный, белый, черный, — обхватив друг друга за шею, сидели под березками и орали песни.
— Эй ты, хлюст! — хрипло крикнул красный вошедшему Словечкину. — Перекрести рожу-то! Ты кто таков?
— Политрук Словечкин.
— А-а-а, здрасте, здрасте, — спохватившись, сладко и нежно проговорил красный. — Извините, прошибся, не признал. Премного довольны вам. Бумажка об вас получена, да. Садитесь, товарищ. Пивца? Кум, двинься! Примерз?! Ишь ты развалился, как в санях. А я — Трифон Козырев, сельсовет, главнеющее лицо. Садись! Баба, плесни-ка еще щец порядочно…
— Ведь вы коммунист? — опустился на скамью Словечкин.
— Да, выходит — навроде коммуниста. Приняты.
— А почему же у вас иконы?
— А так, ни к чему. Так что бабе удовольствие, — сказал сельсовет и покосился на жену.
— А что же иконы, — вступились черный с белым, — иконы стоят и стоят, пить-есть не просят и налогу с нас не требуют.
— Зато поп, наверное, требует, — вскинул голову Словечкин.
— Дак мы попа не садим на божничку-то, — сказали белый с черным.
— А это вот у меня висит портрет Карломарса, — обернулся к стене хозяин и махнул рукой на пустое место. — Баба! — крикнул он. — Ты куда, дурья твоя башка, Карломарсов портрет задевала?
— Сейчас, — робко откликнулась женщина и полезла на верхнюю полку, где стояли кринки с молоком.
— Да что у тебя нет другой-то покрышки, черт? То есть невозможно с таким народом по всей программе жить. Башку проломаю за портрет! Дай-ка пива сюда порядочно. Хлебай, товарищ… Щи жирные.
Ели из общей деревянной чашки. Товарищ Словечкин брезгливо морщился.
— Что это? — с ужасом крикнул он и бросил ложку.
— Это? — переспросил хозяин. — Это по-нашему называется таракан. Баба. Что ж ты, халява, тараканов не выудила. Гостю вредно сделалось.
— Вреда в таракане нет, — успокаивали гостя черный с белым.
— Я, товарищ, голосую повторить пивца стакашек. Пиво крепкое, с игрой, — угощал сельсовет. — А то лучше самогоночки…
— Нет, — отказался Словечкин. — А вот пособите мне митинг вечером устроить…
— Митинг? — удивился сельсовет. — Да у нас сегодня вся деревня гуляет.
— Сегодня Егорий-батюшка… Старый стиль, — подхватили черный с белым. — Праздник огромадный живет.
— Оно, положим, — перебил хозяин, — теперича этот праздник дрянь стал: коровий праздник.
— Сам ты дрянь, пьяница! — крикнула от печки баба.
— Молчи! Не суйся! Вот раньше, бывало, при старом режиме в Питере праздник устраивали георгиевским кавалерам. Двадцать оркестров военных, а мы в переднем ряду. Как двинут-двинут, аж вихорь загудит, знай, за кресло держись крепче, а то живо с переду на галерку улетишь. Опосля того я месяца два глухой был. Вот это праздник!..
— Что же, ты скучаешь о довоенном режиме-то? — спросил Словечкин.
— Кто, мы?! — вскричал хозяин. — Да обгадь его черт горячим дегтем, твой старый режим! Да как ты можешь, товарищ, этакие слова голосовать?! Тьфу! Пей пиво-то.
— Ну, ладно, — улыбнулся Словечкин.
— А вот скажи, дядя Трифон, откровенно: ты был сегодня в церкви-то?
— Кто? Я?! — подскочил захмелевший сельсовет, и красная борода его вытянулась горизонтально. — Да чтоб я пошел на коровий ихний праздник?! Да чтоб…
— Был, был! — язвительно крикнула жена.
— Бы-ыл?! Я был? — подбоченился и стиснул зубы Трифон. — А ты, стерва-баба, видела? Косы вырву!
— Кабы не видала, так и не говорила бы. Чего ты врешь-то зря!
— Тьфу! Необразованная дура, неуч! Неприятности какие разводить начала для праздничка господня. Гостя-то постороннего хотя бы постыдилась. Дорого не возьму на твой коровий праздник ходить…
— Был, кум, был! Хвастически… Одновременно… Не запирайся, был, — захохотали черный с белым.
— Тьфу! — опять плюнул Трифон и ударил по столешнице. — Ну был. Ну, допустим, был… Дак где был-то? Так, с краюшку. Это не то, что вы, дьяволы, выпятите пузо на самом переду да подпеваете… А меня это не касаемо. К черту! Наша партия, ежели подойти со всех боков, этого не дозволяет, чтобы, скажем, подпевать попу… Верно, товарищ? То-то…
У Словечкина гудело в голове и на душе было гадко. Ах, как скверно в деревне, какая тьма! И в этой трущобе ему придется прожить целый год. Он углубился в свои думы и плохо слышал, что говорили мужики. Голос сельсовета жужжал, как шмель под потолком.
— Вот молодежь у нас, это верно, есть которые… Трое коммунистов есть, да. Обязательно трое… Ну, те говоруны. И все парни ради праздничка сегодня пьяные и обязательно драка, в колья, а то и поножовщина, да. Другой раз — на смерть… Обязательно.
— Хвактически одновременно, — прошипел кто-то.
— Да… И ты, товарищ, не выходи. А то ненароком камнем вдарят. Другой, конечно, и партийный, да обожравшись винищем, и ничего в программе не может усмотреть.
Товарищ Словечкин с горя завалился на повети спать.
Баба принесла ему шубу и подушку. Сальная подушка лоснилась от грязи, а в шубе водились сотни блох. Не спалось. Кричали куры, собираясь на насест. Подошел петух и клюнул зазевавшегося Словечкина в темя. Словечкин пустил в петуха штиблетом. Закрылся с головой шубой и, наконец, заснул.
Снилось, что он, Словечкин, перевозит через грязь здоровецкого, как конь, мужика. Мужик визжит, ругается, дрыгает ногами: «Ой, боюсь, боюсь, уронишь!» Но Словечкин, напрягая силы, все-таки перетащил мужика через грязь и поставил на твердый зеленый островок.
САД
— Вот что, друзья, — сказал на сходе товарищ Перепелкин, — я как заведующий всем хозяйством нашего села предлагаю завтра же, после обеда, начать сбор яблоков. Согласны?
— Нет! — как молотом, ударил холодный кузнец Игнаха. Он широкоплеч, высок и силен. По пьяному делу бил жену и всех, кто попадется под руку. Однажды схватил за шиворот даже товарища Перепелкина и, по своей великой ревности, свирепо встряхнул его, за что отсидел сутки в каталажке.
— Нет, братцы, — сказал кузнец. — А давайте лучше на той неделе. Мне завтра некогда. Завтра я в город.
Однако все собрание закричало:
— Завтра! Завтра!.. И то мальчишки воруют кажину ночь.
— Значит, решено? — переспросил Перепелкин. — Завтра?
— Завтра, завтра!.. После обеда.
* * *
Их, во саду ли, в огороде Девица гуля-а-ла-а. Их, она ростом невеличка, Лицом — белоли-и-чка!— Ну и гармонь, вот так гармонь.
Их, во саду ли, в огороде… Выросла петру-у-шка-а-а!..— Черта с два. Как не петрушка… Нет, сад настоящий… Можно сказать, культурный сад.
Товарищ Перепелкин сложил возле себя гармонь ростом с собачью будку, закурил папироснику и осмотрелся. Сад действительно был замечательный. На пологом, обращенном к солнцу угоре зеленело двести кудрявых яблонь. Они, как прислужницы царя ассирийского, упруго утвердившись на одной ноге, протягивали своему владыке тысячу пудов спелых яблок.
Но их владыка не ассирийский царь, даже не товарищ Перепелкин, а крестьяне села Акулинина, это их революционное наследство от помещика.
— Да, сад, — мечтательно сказал товарищ Перепелкин. Он вообще был склонен помечтать. — Вот и солнышко скоро, пожалуй, станет садиться. Ах, какие ароматы кругом висят.
Он опять взял гармонь, игранул и сразу смолк.
И сквозь изжелта-розовый пахучий воздух, по вилючей тропинке, быстро-быстро, вниз, к реке. А река в дреме была, и солнцевы иглы от берега к берегу расшивали золотой узор. Черный челн дремал, и где-то перекрикивались через реку два коростеля.
— Вечерочек, видать, будет знатный, — улыбнулся в собственные рыжие усы Перепелкин. — Ах, Танюха, Танюха, — и со всех сил заработал лопашным веслом.
Прощай, солнцев золотой узор: ррраз и — вдребезги. И по вольной глади плавно-плавно черный скользит челн.
Ну и до чего сладок, до чего притягателен тот берег. Эх, жизнь, жизнь! Как хороша ты, когда молодо сердце и когда в сердце одно стремленье — к ней.
* * *
А в это время, по вчерашнему сговору, распорядком товарища Перепелкина, стали подходить к ограде сада мужики.
Один, другой, а вот и еще пяток, вот и куча. Х-ха. Даже удивительно, аккуратно до чего. Вот что значит приятная работа — своя — своя, — вот что значит — тысяча пудов яблок, и все антоны да титы, — ха-ха, мое почтенье.
Постучались в ограду сада. Караульный, похожий на древнего козла, вылез из землянки и впустил народ.
— Товарищ Перепелкин здесь?
Козел встряхнул белой с прозеленью бородой, облизнул вывернутые губы, прошамкал:
— Ушедши… Вот только что. Сейчас придет. Покушали яблочков и ушли. Гармонь при них… Лицом веселые были.
Мужики переглянулись:
— Что ж, ребята, обождем… Ежели сейчас придет…
— Ветрогон паршивый, — пробасил кузнец и ляпнулся в траву, точно дерево упало. За ним развалились на травке и крестьяне.
* * *
Товарищ Перепелкин открыл в Кузнецову избу дверь, обнял Таню и прямо в губы.
— Ах! — крикнула Таня. — Ей-богу, напужал до чего… И что это за привычка такая: как приходишь, сейчас же целовать. Жена я тебе, что ли?
— А Игнаха где, супруг?
— В город с утра укатил. Наверно, до полночи проканителится. А нет, так в городе и заночует, пьяница противный.
— В таком случае, Таня, пойдем ко мне, в сад. Вечер предвидится замечательный. Попьем чайку с медком, яблочков поедим. А можно и ухи… Караульный образцовых карасей наловил, такие элементы — страсть!
Таня улыбнулась, голубые глаза ее заблестели, но вдруг вздохнула и сказала:
— Нет, боюсь. Дознается хозяин, опять будет бить. Вот погляди-ка, — она сбросила кофточку и протянула вперед белые, как мрамор, в темных пятнах руки. — Синяк на синяке.
— Ах, мерзавец, — простонал товарищ Перепелкин и с нежным чувством перецеловал все синяки. — Разводись, дьявол его дери, разводись! Я на тебе женюсь.
— Нет уж, где уж… — сказала Таня и заплакала.
…И вот черный челн быстро режет воду. Солнце село, уснули камыши. Легким сумраком принакрылся сад, меж яблонями костерок дымит — это старый караульный готовит ужин.
Пленница сладких бабьих дум, перемешанных со страхом, как с солью игривый квас, — кузнечиха Таня сидела в лодке, и хмурясь и смеясь. Ей хотелось плакать. Ее красивое лицо горит огнем, льняная прядь волос выбилась из-под голубой повязки и щекочет щеку.
Не широка река и путь челна короток, но человеческая жизнь еще короче, и Таня думает: «А что мучиться с не милым кузнецом? Эх, если б Перепелкин не такой вертун был. Красив молодчик, да ветер в голове. Нет уж, где уж»…
Таня вздохнула, подняла голову. Взмах весла, еще, еще — и черный челн режет носом берег.
Идут вдвоем меж яблонь по тропе, он ласково обнял ее за тугое горячее плечо — под мышкой гармонь — и говорит:
— Ах ты, элемент лектрический. Мы здесь, как в раю, Адам и Ева, малосознательная такая басня есть. Вот антоны и титы, как бы те яблочки фруктовые в раю, которыми змей улещал Еву. А вот и вроде бога — старец.
Караульщик, как на дыбах козел, бежал навстречу, он взмахивал лохмами рукавов, тряс бородой, шипел, кряхтел, пыхтел:
— Чшш… Чтоб те… Язви тя… И где ты пропадал? Да еще с молодкой своей… Тьфу!
— А что? — улыбнулся Перепелкин и переложил гармонь.
— Чшш… Да ведь ты ж сам народ сбил яблоки сегодня снимать. Мужики со всего села пришли.
Картуз Перепелкина сначала полез сам собою на затылок, потом нахлобучился на самый нос.
— Боже милосердный, — воскликнул он и присвистнул чуть. — Вот скандал на всю губернию… Ах, дырявая моя башка.
— Да еще кралю свою приволок пошто-то, — боднул рогами козел.
Таня яблоней вросла в землю.
— Где ж народ? — прошептал Перепелкин.
— Спят… — прошамкал козел, — ругались-ругались, уснули. И кузнец здесь, Игнаха-то. В город было поехал, да колесо сломалось. Самогону нажрался… Почивает.
Горластая гармонь упала, и от ужасу взрявкала так сильно, что мужики под яблонями вскочили, почесались, продрали липкие глаза и — к Перепелкину.
— Лезь в солому! — скомандовал козел. И Татьяна вкрутилась веретеном под кучу соломы. Караульщик пал на карачки, похлопал, гигикая, как лесовик, бабью голую, выше чулка, ногу, нога проворно скрылась, дед закряхтел и еле встал: сразу пересекло в поясах.
— Товарищи! Друзья! — начал Перепелкин и, чтоб отвести крестьян от соломы прочь, стал забирать подальше вправо, в сторону. Толпа с руганью за ним. Перепелкин не знал, что говорить, и начал всякую околесицу плести:
— Оказывается, товарищи, сегодня яблоки собирать никак нельзя. Вредно… я в книжке вычитал. Червь набрасывается на всякую фрукту. Даже в отрывном календаре… Можно во все дни, кроме пятницы, например. Агиткультура… Факт.
Из всей толпы пьян только один кузнец. Огромный и неуклюжий, он с хриплым ревом сорвал с себя прожженный пиджачишко и, крутя им в воздухе, совался пьяными ногами туда-сюда:
— Ррасшибу!..
Товарищ Перепелкин обомлел. Игнаху понесла хмельная волна к соломе, — Игнаха швырнул на солому пиджачишко и ковырнулся сам:
Эх, яблочко, д’куды котишьсе? Ко мне в пасть попадешь, д’не воротишьсе!..— К че… к че… к черту яблоки!.. А я усну. Эге! Да тут живность подо мной.
Толпа костила Перепелкина:
— Ведь мы весь день потеряли из-за тебя!..
— Где ж раньше-то факт твой был?
— Дьява-а-л!..
Перепелкин ударил себя кулаком в грудь и слезливо закричал:
— Товарищи!.. Дело в том, товарищи…
В этот миг мелькнувшее меж яблонь Татьянино голубое платье стегануло ему в глаза и сердце. За Татьяной, с диким ревом, выписывал крендели кузнец:
— Ах, соломка? Вольные воздуха в садах!
Толпа в хохот, в улюлюканье.
— Товарищи!.. — И Перепелкин покачнулся. Он, конечно, упал бы в обморок, но прыгающий взор его влип в бегущего прямо на него Игнаху. В Кузнецовых руках была порядочная жердь.
Сердце Перепелкина екнуло и забилось до отказа. Товарищ Перепелкин кинулся к старой высокой яблоне и, как молодой орангутанг, вскарабкался мгновенно на вершину.
Мужики изумленно разинули рты, как в зной галки, окружили яблоню, и всеобщая бородища вскуделилась кверху лохматым колесом.
— Убью!.. — хрипел кузнец. — Жилы вытяну!
— Товарищи!.. — взревел невидимый Перепелкин, крепко держась за сук. — Раз дело коснулось гражданки Татьяны Кузнецовой, то будем действовать начистоту. Я, как агитатор, не привык провозглашать с антоновской яблони или с деревьев прочих произрастаний, но этот палач, который машет перед вами жердью…
В этот миг жердь со свистом взлетела вверх.
— Ах, ты так!.. — взвизгнул товарищ Перепелкин, размахнулся: антоновское яблоко крепко ударило в лысину кузнецу — и вдрызг.
Кузнец упал, как пораженный громом, и закатил глаза. Толпа надрывалась смехом, и шерстистое колесо бород повисло, потное от хохота.
— Товарищи! Я буду краток! — звенел из густой листвы, как из шапки-невидимки, голос Перепелкина. — Я в двух словах!
— Сыпь! Жалаим… Можешь — в трех.
— Товарищи! Этот тиран, контрреволюционер и пьяница истязует свою жену Татьяну Павловну. Подобные мордобои, товарищи, недопустимы, потому что они незаконны и не предусмотрены законом. Это позор, товарищи! Его жена, несчастная жертва предрассудка, вся в синяках: руки, ноги, плечи и тому подобные места, даже исщипана, товарищи, вся женская грудь…
— А ты видал? — кто-то крикнул по-озорному снизу и сглотнул слюну.
— Кого это? — растерянно уронил сквозь листья Перепелкин. — Тетка Дарья говорила, в бане они мылись… И вот, товарищи, резюмируя вышесказанное…
— Уж чего выше этого, — опять крикнул насмешливый голос. — Аж башка затекла на тебя взирать. Слезай на землю!
— Я требую привлечь кузнеца к ответственности!.. — взывал Перелелкин. — Протокол, суд, развод… И я объявляю при свидетелях, что женюсь на Татьяне во избежание печальных недоразумений… А-ай! Держи его, держи!!
Кузнец, облапив яблоню, тряс ее так, что яблоки бомбами летели прочь, и обомлевший Перепелкин, словно пугало, раскачивался на вершине.
— Стой! Ты жену бить? — схватили кузнеца двое молодых. — Ребята! Вяжи его!.. Тащи в исполком…
— Вяжи его!.. Вяжи… Он у меня самовар взялся лудить, да пропил.
— Мне лошадь заковал, с пьяных глаз… Хромает.
Связанный по рукам и по ногам кузнец лежал на траве, ругался черной бранью.
— Теперича надо уж заодно и Татьяну допросить, — сказал товарищ Перепелкин, спрыгнув с дерева и оправляясь. — Тьфу! Даже от неприятности подтяжки лопнули. Полтора рубля убыток. Я сейчас.
И опрометью к берегу:
— Татьяна Павловна! Таня!.. Та-а-ня-а-а!!
Но река тиха, не вздышит. Челн чернел в уснувших камышах. На приплеске, возле черного челна, лежит голубая Танина повязка. Перепелкин вытаращил глаза и глянул в омут: в воде что-то белело и покачивалось.
— Братцы! — безумным ревом крикнул он. — Сюда! Сюда! Человек утоп!
С лошадиным топотом примчались мужики. Опорки, лапти в стороны, штаны с рубахами долой.
— Братцы, родненькие! — не попадая зуб на зуб, трясся Перепелкин. — Я вас самогоном угощу. Ведро, два ведра, — и сразу прыгнул в воду. За ним, один по одному, — мужики. Вода была теплая, мужики гоготали от приятности.
— Это песок, песок белеет, а не женщина! — обрадовался кто-то.
Товарищ Перепелкин нырял и фыркал, фыркал и нырял.
И еще голоса:
— Сети надо тащить, ребята, сети… Разве так ущупаешь?
— А может, она у своего берега утопилась.
— Как это у своего? Нешто не видишь, платок ейный здесь.
— Где?
— Да вон на берегу.
Все бороды взвильнули к берегу. И вдруг над гладью речки, ударяясь в яблочный сад и в небо, раскатился многогрудный зычный хохот.
На берегу, в обнимку с улыбающейся Таней, стоял кузнец.
— Вот вы, дьяволы, связали меня, а жена, дай бог, выручила. Эх ты, милая моя сударушка! — скосоротился кузнец. — Только ты и пожалела. Теперича отруби мне руку, ежели хоть пальцем прикоснусь…
Мужики злобно стали одеваться. Они ругали кузнеца, ругали Таню, но больше всех доставалось Перепелкину. Он не знал, что делать, и по грудь стоял в воде, вздыхая.
Татьяна с мужем садились в лодку, чтоб направиться домой.
— А вот я его, бродягу, утоплю сейчас! — крикнул страшным голосом кузнец.
Товарищ Перепелкин, пуская пузыри, спешно заработал по саженке вниз. Следом за ним бежал вдоль берега караульный, он тащил одежду Перепелкина, хрипел:
— Уехали они, супруги-то… Вылазь!
Мужики, поплевывая, расходились по домам.
С дерева упало яблоко, крепко стукнувшись о землю. Гнездившийся в нем червь пришел в мгновенный ужас, но мгновенно же об этом позабыл. Все снова было на своих местах, в порядке.
МИСТЕР ВЕРЕТЕНКИН
Жизнь — море, горькое и соленое.
Стоишь на берегу и смотришь: морские волны бегут-бегут, падая и вновь приподымаясь на цыпочки, чтобы заглянуть, куда их гонит буря.
Но вот повернул ветер, и покатились седые волны к обратным берегам.
Жизнь — море, человек — волна. Вот так же и мистер Веретенкин, о котором будет наш рассказ.
* * *
Жил в городе не мистер, а просто Гаврила Веретенкин, столяр. И без того курносый, а ужасно любил нос кверху задирать. На русские порядки фыркал: мол, столько времени прошло, а толку нет. При всем том он имел на левом глазу небольшое бельмо, а на лбу шрам от неизвестной причины. Усы книзу, рыжие, зубы большие. Выпить уважал, но в меру.
Однажды он встретился в пивной с портным, — из Америки за женой приехал. Уж очень нахваливал Америку, — наверно, врал. Слушал Гаврила Веретенкин, слушал — и потянуло его за океан, вынь да положь.
И случилось так, что этот самый Гаврила Митрич Веретенкин, столяр, действительно попал в Америку.
Нам, писателям, не очень-то много отводится в печати места. Поэтому, не вдаваясь в излишние подробности, попробуем предположить, что Гаврила перепорхнул через океан, как в сказке, не на аэроплане, а на самом обыкновенном ковре-самолете. Такое предположение, надо думать, никому в убыток не будет.
На самом же деле, между нами говоря, Гаврила Веретенкин, — ах, какой башковитый человек! — представьте, ехал на заграничном корабле в качестве четвертого помощника повара. В его обязанности входило резать цыплят, ошпаривать их кипятком и выдергивать перья, а также — чистить потроха.
Чистит — а сам думает:
«Враки какие, что лучше СССР для русского человека нет. А на мой вкус, Америка в двадцать пять раз лучше. Ужо-ко, сколько денег накоплю. Мне бы только в Нью-Йорке кума встретить».
А вот и Америка. Гавань, остров Либерти. На высоком столбе прекрасный статуй стоит женского образца — Свобода.
Очень хорошо.
Но тут такая неудача постигла его, что ужас. Представьте, оказывается, Гаврила совершенно не умел по-английски говорить. Ну там съестного купить — это кой-как мог. Взойдет в лавчонку, тыкнет в ситный, тыкнет в колбасу и деньги на прилавок.
Питается, по улицам взад-вперед, кума разыскивает. А кума нет, потому что очень огромный город, этот самый Нью-Йорк.
Проелся Гаврила Веретенкин окончательно, даже последнее пальто проел, и стал нищ, как на живодерне кляча. Правда, насчет еды плохо, зато хоть каждый день головной убор меняй: на отвале, где в кучах мусора разыскивал Гаврила что-либо съедобное, валялись разных фасонов кепочки и шляпы. Иные очень новые.
— Вишь, черти, богатый народ какой. Этакие шляпы в навоз швырять… Нет, погоди с Америкой шутить. Мне бы только за местишко уцепиться — все верну. И куда же это кум запропастился?..
Но день ото дня становилось хуже. Горе безъязыкому! На заводах не принимают, везде полно. Три дня не ел, водой питался. Украл как-то булку, у барыни из корзинки на базаре выудил, сожрал с остервенением, опять три дня не ел.
И уж такое отчаяние овладело им, швырнул розового цвета кепку с пуговкой и пошел топиться. Стонет, сморкается, судьбу клянет, думает: «А не сподручней ли в петлю головой?»
Бывают чудеса, да не такие. Только он подумал, как приятней на себя руку наложить, глядь — кум в охапку его сгреб.
— Гаврила!..
— Кум!.. — и оба заплакали.
Но плакали недолго, каких-нибудь минуты две. Потом стали смеяться, потом хохотать.
Кум оказался очень крепкий, веселый, одет, как барин, вероятно, при больших деньгах. Вот она, Америка!
— Пойдем выпьем на радостях, — сказал кум.
— Я три дня не кушал, — сказал Гаврила. — Даже из-за голода репутации лишился, у какой-то буржуазной барыни булку допустил украсть.
Оглядел кум Гаврилу со всех сторон очень чувствительно — да, парень отощал — и прямо в ресторацию.
Потребовал кум два завтрака. Подали два завтрака и к каждому вина, так уж в карточке положено, называется — «меню». Но вина немного, для русского человека едва душу окатить. Съели, выпили. Кум сейчас пальцем человека, а ну-ка, дескать, еще. Человек помотал головой: нельзя.
— Да что ты с ним канитель-то разводишь, — крикнул Гаврила, — ты требуй!
Кум человеку по-английски, дескать, так и так, вот землячок приехал, нельзя ли тайно. Нет, нельзя. Но ведь они могут заплатить вдвойне, втройне. Тогда человек припугнул полицией. Приятели встали и ушли.
— У нас, в Штатах, такой закон опубликован, что виноградное вино подается в малых дозах только при обеде или при завтраке. А больше ни-ни, — вразумлял Гаврилу кум. — И в продаже нет. Но из создавшегося положения имеется верный выход.
Зашли в другую ресторацию, опять потребовали два завтрака, съели, выпили.
— Пойдем по порядку дальше. Идея верная.
В следующей ресторации кум только вилочкой потыркал в пищу, а винишко выкушал. Гаврила съел и выпил. Стало веселей, чуть в голову, чуть в ноги бросилось.
— Насчет удовлетворения аппетита, я наелся, — сказал кум, слегка рыгнув, — размер же выпивки надо сильно увеличить.
Гаврила с гордостью прислушался, как складно рассуждает кум, вытер усы, сказал:
— Я тоже голосую за.
В четвертой ресторации кум только выпил. Гаврила же кой-как вилочкой потыркал в пищу и — тоже выпил.
— Теперь к тому подходит, что я могу песню разыграть, — подмигнул бельмом Гаврила. Но кум погрозил ему указательным перстом, Гавриле же показалось, что кум грозит двумя перстами и люстра под потолком качаться начала.
В пятой ресторации только выпили, а пищу — котлеты с макаронами — Гаврила Веретенкин запхал в карман.
— Ах, как весело в Америке, — сказал он и хотел заплакать.
— Пойдем, — сказал кум. — Тут больше не дадут, а желательно давление паров усилить. Механику учил?
Еще зашли в шестую и седьмую ресторацию. Седьмая — была последней, потому что Гаврила закричал на человека:
— По какому праву качка допускается? Я требую ошвартоваться… Эй, сыпь к бережку!.. левый борт!.. Крути, Гаврила!.. Стоп!..
Кум зажал ему рот и успокоил:
— Ты на корабле, что ли? Здесь исключительно твердое место, как гранит.
Но все качалось.
* * *
Вышли на холодок, на улицу. Шли очень прямо, бодро, В обнимку, разумеется. Гаврила легонечко икал и похохатывал, склонив голову на кумово плечо. Шли прилично, твердо, но народ от них отскакивал, как от ледокола лед, а тротуар юлил туда-сюда.
Не прошли и десяти шагов, сгреб их за шиворот толстый полисмен, накинул на руки светлые цепочки и подвел к какому-то столбу. Гаврила все еще продолжал икать, полисмен же что-то пролаял в самый столб, в трубку, и не успел по-настоящему закрутить усов, как подъехал очень чистенький автомобиль.
— Уж не за нами ли? — радостно оскалил Гаврила большие зубы. — Ах, приятно до чего проехаться. Вот это культура!..
— Прошу, — сказал полисмен и что-то спросил у кума.
— Чего он бормочет-то? — осведомился Гаврила.
— Спрашивает, с подножкой желаем в автомобиль влезать или без подножки.
— С подножкой! — закричал Гаврила. — Вели с подножкой! В кои-то веки покутить пришлось, да чтоб без подножки… Глупый какой вопрос. Пожалста!!
Подножка опустилась, сначала залез Гаврила, за ним и кум. Всю дорогу Гаврила смеялся, целовал кума, пел:
Ппа привычке кони знают, Где сударушка живет…— Гуляй на-а-ша-а!! Гаврила, крути!
И вместо участка — это удивительно! — прикатили прямо во дворец. Да не дворец, рай господень, потому что встретили их самые благородные женщины в белых, как у ангелов, халатах и еще доктор, бритый и в очках. Лицо тоже интеллигентное. Осмотрели у гуляк все статьи, пульс пощупали.
— Пожалста, — сказал Гаврила, — очень рад.
Он сразу сметил, что попал в самое приличное общество, и решил вести себя как можно вежливей.
— Пожалста! Мерси! — сказал он, стараясь придать голосу нежную звучность и ласковость. — У меня нервы ужасно тронутые и круженье головы после пищи. Но это наплевать, не обращайте вашего внимания. Мерси вторично.
Пол, очень твердый, паркетный, не качался, и все было на своих местах.
И по бархатной дорожке ввели Гаврилу Веретенкина в комнату. Там ванна. Попросили Гаврилу раздеться. Ему стало стыдно женщины, и он притворился, что не понимает. Тогда женщина, в белом, как у ангела, халате, быстро его разула, Гаврила подумал:
«А черт с ней, мне жениться на ней не приходится. Наплевать, разденусь»… — и сказав:
— Пожалста! Мерси! — вмиг разделся.
Она взяла его грязнейшее белье, подала свежее и скрылась.
Перекрестился Гаврила, уселся поудобнее в теплую водичку и загоготал.
Ему показалось, что его зубы стали еще длиннее, а губы сделались короткие: рот не смыкался от улыбки. Ах, ах, приятно до чего… Интеллигентно…
Сидит Гаврила, водичку этак руками разгребает, подтрунивает над своим блаженным положением.
— Скажите откровенно, — рассуждает он сам с собой, — вот я, какой-то столяришко пучеглазый, залез в ванну и сижу. Захочу, пузыри начну пускать, захочу — не стану. Ну, страна! Вот те и всемирный капитал эксплуататоров…
Нет, что ни говори, а американская культура — первый сорт. И очень неприлично, что в русских газетах прохватывают американцев почем зря: дескать, буржуазная нация, дескать, подлые миллиардеры. А вот подобных писак да агитаторов приволочь бы за лохматые волосья, да носом и наторкать в ту самую посудину, где Гаврила Веретенкин наслаждается.
С преогромным удовольствием натирал себя Гаврила мыльной губкой, говорил:
— Все хорошо, все культурно, одного не хватает: веничка. А жару много… похвостаться бы.
Вышел свеж и чист, как груздок в росе, оделся в чистейшее первосортное белье и нажал кнопку, как приказано.
— Пожалста… Мерси, — сказал Гаврила вошедшей белой женщине. Его лицо сияло восхищенной улыбкой, нос еще больше закурносился, закрученные кончики усов полезли в ноздри.
— Извиняюсь, — начал он, — английский разговор нуль, тьфу, нету, — старался он изъясниться как можно понятней, тряс головой, щелкал пальцем по языку, жестикулировал. Интернационал, культура, трест, смычка, — припоминал он разные иностранные высокие слова, а сам все кланялся и говорил — мерси.
Женщина тоже что-то лопотала: сказала: «Интернациональ — тьфу!»
«Американская белогвардейка», — сразу догадался столяр Гаврила, а женщина взяла его за рукав и отвела в отдельную комнату об одном окне.
Кровать, стол, стул, зеркало, а на столе — ужин, и в финтифлюшечке цветы.
— Пожалста, — сказал Гаврила, поужинал, выпил две кружки кофейку, перекрестился и на боковую.
— Гаврила! Ты ли это? — говорил Гаврила самому себе и посматривал на зеркало. А в зеркале — Гаврила.
— Хы! — не утерпел он и хихикнул. — Вот бы наши деревенские дурни поглядели, как за границей даже пьяных чествуют. Вот это обращение. Эх, дурак я, дурак… Не мог раньше пьяным прикидываться: замест голодовки кажинные сутки, как граф Шереметьев, спал бы. В чистых подштанниках, на двух простыньках. Ну, Америка, дай ей бог здоровья… Да чтобы я!.. Да чтобы в Россию! — он наморщил лоб и с презрением плюнул.
Лежал-лежал Гаврила — не спится, хоть убей. И опять заколыхался плавно пол, и поползли Гавриле в голову искусительные мысли. Пыхтит Гаврила, улыбается.
«А нешто позвонить в электрическую кнопку да заграбастать американскую женщину поперек талии? А любопытно, заорет или не заорет?»
Гаврила прыснул смехом, дрыгнул под одеялом ногой, сказал:
— Без переводчика, кроме скандала, ни черта не выйдет, — перевалился на бок, промямлил: — Покойной ночи вам, любезный кум… где-то ты… г-г-д… — и захрапел.
Снился Гавриле знатный сон. Будто он толстобрюхий фабрикант при цепочках, при часах, с тросточкой и угнетает рабочий класс.
* * *
А разбудили его бесконечные звонки и грохот в дверь. Открыл Гаврила — двое толстых, гладких и свирепых: морды— как у довоенного времени всероссийских «фараонов». Что же это такое приключилось неизвестное? Даже умыться, даже лба перекрестить не разрешили, сгребли и прямо вниз.
А внизу большая комната, а в комнате не так огромен стол, на столе зеленая скатерть, за столом важный человек с широкой цепью на груди — судья.
На стульчиках люди, кум.
Подошел Гаврила к куму на цыпочках, как кошка, спросил шепотком:
— В чем дело?
— Сейчас будут судить. Здесь строго. Крепко спал?
Гаврила крякнул, махнул рукой, сел, как на гвозди, и заерзал. Лицо было помятое, угнетенное, подбородок дрожал.
Не успел Гаврила по-настоящему в себя прийти, как судья огласил постановление, а кум перевел:
«За появление в нетрезвом виде в людных местах города на основании таких-то статей таким-то лицам объявляется выговор с возложением на них расходов и судебных издержек».
— В чем дело? Сколько? — окрысился Гаврила, и вихры на его голове задвигались. — В чем дело?
— А вот, — сказал кум, — тут счетик подан. Вот твой, — и стал читать.
— Слушай:
1) Вызов автомобиля…..50 центов
2) Подача автомобиля…..3 доллара
3) Опускание подножки….. 50 центов
— Какой это подножки? — прохрипел Гаврила, сверкнув бельмом.
— Забыл?
— Чтоб их черт побрал!
— Слушай:
4) Медицинская помощь…..3 доллара
5) Ванна……1
6) Белье…..9
7) Ужин…..2
8) Номер и постельное белье…..3
9) Судебные издержки…..3
Итого — 25 долларов.
Гаврила выслушал, запыхтел, сжал кулаки:
— Чтоб они все подохли и со свободным со статуем со своим! Скажи им, окаянным дьяволам, что я неимущий класс, рвань, нечем мне платить.
Тогда через переводчика спросили Гаврилу: а не знает ли мистер Веретенкин каких-нибудь ремесел? Ну, ясное дело, Гаврила знает, он же опытный столяр-краснодеревец, он… Довольно, отлично. В таком случае пусть мистер Веретенкин проследует на улицу.
Мистер Веретенкин наскоро поцеловался с кумом, проследовал на улицу, сел в автомобиль (подножку не опускали) и покатил по бесконечным, бешено гудящим улицам. У мистера Веретенкина все время замирало сердце: вот-вот на их автомобиль налетит другой и — всмятку, вот-вот они сами передавят всех.
— Эй!.. гляди, гляди!! — выкатывая глаза, кричал он диким голосом, но машины искусно виляли так и сяк, мягко скользя друг возле друга, как в аквариуме рыбы.
И когда выехали на свободу, за город — тут уж нечего опасаться под автомобиль попасть, — мистер Веретенкин дал полную волю злобе. Вот так счетец загнули ему — 25 долларов! — нечего сказать. А он-то восхвалял Америку, а он-то думал, что здесь даже и пьяному почет. Да ежели б он знал, он бы в этой самой ихней ванне такое безобразие допустил, что…
Он так был возбужден и так выразительно ругался, что даже сидевшие с ним в автомобиле американцы засмеялись.
— Нет, вы понимаете, товарищи, какой абсурд! — обрадовался Гаврила и начал с азартом тыкать пальцем в грудь то одного, то другого соседа. — Двадцать пять долларов, а?! А много ли мы выпили-то, а? Это при программе-минимум, товарищи! А что же будет при сурьезном поведении, ежели придет фантазия на максимум напиться? Понимаете по-русски, нет?
Американцы взмыкивали, кивали головами, неизвестно в каком смысле подмигивали Гавриле Веретенкину. А с Гаврилы ручьями русский пот.
* * *
И сразу Гаврилу на работу. Увели в столярный цех, дали буковые бруски стругать. У Гаврилы чертеж, циркуль, карандаш, все инструменты. Провел мистер Веретенкин по брусу рейсмусом черту, и рубанок завизжал, кидая на пол кудри стружек. Эх, закурить! И только за кисет, надсмотрщик цыкнул и грозно пальцем закачал. Мистер Веретенкин изумленно поднял брови, а кисет — в карман. Повертел головой туда-сюда, никто не курит, а народу в мастерской сотни полторы. Ну, порядки… порядочки у них…
Глядит мистер Веретенкин: то один, то другой руку поднимает. Как поднимет — сейчас надсмотрщик острый рубанок подает, а затупившийся давай сюда, точить. «Эге, — сообразил Гаврила, — да у них, у дьяволов заморских, даже невозможно отлучиться, чтоб стамеску или рубанок самому наточить… Ах, эксплуататоры!.. Ну, ладно… Лишь бы долг отработать, только меня в Америке и видели»…
Но долг отработать оказалось не так-то уж легко.
Через две недели, в праздник, приехал кум навестить Гаврилу. Самому же Гавриле в город за черту — ни-ни: сажени три забор, ворота, часовой с ружьем.
Желчно жаловался мистер Веретенкин куму — зеленел, желтел, заливался краской: — Не-е-т, к черту!
Кум справился в конторе, вернулся, говорит приятелю:
— Ты, Гаврила Митрич, не серчай. Баланс твой: дебет — кредит. Проработал ты две недели и без малого свой долг покрыл. Пять долларов за тобой. Но зато наел за это время на десять долларов, плюс квартира, электричество, кипяток, услуги — четыре доллара. Итого— десять, да четыре — четырнадцать, да пять долларов неотработанных — девятнадцать. Эту сумму ты и должен покрыть трудом.
— Что, еще девятнадцать долларов?! — вскипел мистер Веретенкин и хотел ударить кума по уху. Но хорошо, что вовремя сообразил: при чем тут кум?
Двинул Гаврила ногою табуретку, запыхтел.
— Ну, спасибо за угощенье, кум — сказал он. — Век буду помнить насчет завтраков твоих.
— Ничего, — ответил кум, вздохнув, — глядишь, через месяца три-четыре весь долг покроешь. И я бы тебе посоветовал воздержаться насчет еды. Здесь, в Штатах, строго. Ну, а как, я все забываю тебя спросить, жив ли в нашем селе кабатчик-то бывший, Семен-то Петров?
— А подь ты к черту! — прошипел Гаврила и в отчаянии уронил на стол горькую голову свою.
Сжалился над Гаврилой кум и в следующую субботу выкупил его. Вот мистер Веретенкин и на воле. Завтракать они больше не ходили, а кум повел его к себе.
Кум снимал небольшую каморку где-то на самых городских задах, у гвоздильного завода. Американская женщина при нем, эстонка. Как же так? Ведь у кума на родине, в деревне, баба, натуральная жена, и ребенок есть. Хотел Гаврила замечанье сделать, духу не хватило, как-никак, все-таки кум главным благодетелем ему. Нет, нехорошо, нехорошо. А эстонка все наскакивает на кума, как на гусака индюшка, и все по-своему, по-своему, по-американски, так вот и язвит его. Хотя Гаврила ничего по-ихнему не понимал, а учуял сердцем — шпыняет баба мужика: за кой, мол, черт еще этого обормота притащил к себе, то есть его, Гаврилу Веретенкина. Со стыда сгорел Гаврила, да лучше б он под забором ночевал. Нет, не нравится Гавриле американская жизнь! Ну, ладно, что-то будет дальше.
А дальше было…
* * *
Повел его кум осматривать столицу. Мистер Веретенкин первый раз как следует по городу пошел. Вот так это город, сто верст в длину, двести в ширину, домов, домов! — а улиц нету, все разные авеню идут. Есть такая авеню, что и не выговоришь, длина — страсть, ежели в трезвом виде пешком идти — двое суток прошагаешь.
— А это Бруклинский мост называется, — сказал кум. — На нем вся волость наша упоместиться может с коровами и с лошадьми.
— Мост знатный, — сказал мистер Веретенкин и добавил: — Нет, мне не нравится: длинный очень. И висит.
Тут кум заулыбался по-серьезному.
— Эх, ты! Ничего-то не нравится тебе, — сказал он. — А давай поедем в увеселительный садочек. Уж вот там чудеса! Посмотрю я, останешься ли ты после саду недовольный.
Сначала под землей, затем поверх крыш помчались в увеселительный садок. На ходу колбаски пожевали, сырку, того, сего. Кум было заикнулся: «А не худо бы, мол, в ресторацию зайти, идея верная». — Что? Как?! Куда?!
И кум сразу прикусил язык.
Темный осенний вечер был, но в саду светло, как на пожаре: лампочек, огоньков, фонтанов, там ракеты, здесь ракеты, и огненные колесья, и бенгальские огни!
Били они турку по голове, и на качелях качались, и четыре раза мороженое кушали, и в цель стреляли, — называется тир, — кум балерине в самый пупок попал, после чего кукла минуту плясала. Потом залезли на двух деревянных кобыл.
— Держись! — крикнул кум.
Тут Гаврилина кобыла так начала скакать, дергать и подпрыгивать, что у мистера Веретенкина сразу же слетела шляпа, его растрясло всего, и заболел живот.
— Чтоб тебе без покаянья околеть! — спрыгнул мистер Веретенкин с кобылы. — Ну, лошадка!
Кум захохотал, и вся толпа захохотала — шляпы, кепи, цилиндры, котелки. И рожи у них у всех черные, ненатуральные какие-то.
— Пойдем теперь на башню, — сказал кум, — увидим самый лучший номер, боевик. Взглянем и — домой.
Они стояли на берегу залива. Впереди — чернильный мрак, из мрака, из воды лезла кверху башня.
И вот — они на самом верху, в круглой комнате. Над ними невысокий купол. А внизу, под ногами, неизвестно что: просто дырища, провал, зияет черное.
— Гигантское колесо называется, — объявил кум. — Садись на пол, рядышком со мной, и делай, что я буду делать. Не пугайся. Диаметр колеса двадцать пять сажен. Внизу вода.
Мистер Веретенкин сразу испугался: ну, наверное, опять подвох какой-нибудь.
На них надели резиновую спецодежду, а ворот на шее накрепко заделали, чтоб дух не выходил.
— Садись, не опасайся, — подбодрил кум, сел на пол, а ноги свесил в провалище, в тьму, в бездну.
Мистер Веретенкин тоже сел на пол, бок о бок с кумом, тоже спустил ноги в провалище, в бездну, в мрак. Приятелей привязали к ввинченным в пол кольцам. Мистера Веретенкина забила дрожь.
— Снимите шляпы! Дайте их сюда.
Они сняли шляпы.
— Когда будете готовы, нажмите кнопку, — сказал по-английски распорядитель.
Кум взглянул на друга. Друг дрожал.
— Можно нажимать кнопку? — спросил кум.
— Нажимай, анафема, дьявол тя дери… Нажимай! — проплакал мистер Веретенкин. Он ждал, что вот его, связанного, сейчас ошарашат по черепу, или фукнут нюхательным табаком в глаза, или еще какое-нибудь американское зверство допустят.
Кум нажал кнопку, трогательно сказал:
— Прощай, дорогой товарищ! Погибель нам пришла.
И вдруг они помчались вниз, в бездну, как с горы. Мистер Веретенкин ахнул, хотел крикнуть «караул», но захлебнулся: вода, взбулькиванье, замерла душа. «Боже, боже, — отчаянно блеснуло в голове погрузившегося в море мистера Веретенкина, — вот и утопили…»
Но гигантское колесо, очертив в море быструю дугу двумя друзьями, как куском графита, выбросило их на воздух и подняло вверх. Они вновь рядышком сидят в той же комнатке, целы, невредимы. Мистер Веретенкин все еще пускал пузыри и, выкатив глаза, отдувался.
— Ну, спасибо, — сказал он, снимая спецодежду. — Игра хорошая — живых людей топить. Да что я, котенок слепой, что ли?
— Американцы очень любят этот трюк, — сказал кум.
— Гори она огнем, твоя Америка!
* * *
Однако внизу, в парке, помирились.
С понедельника стал мистер Веретенкин на работу: в консервный завод деревянные ящики выделывать. И день, и другой работает, и третий. И неохота бы работать — сердце не лежит, сердце но родине затосковало, по России, — а работать необходимо: как без денег обратно морем плыть, не наниматься же ему опять цыплячьи головы рубить на пароходе.
Но тут случился случай, прямо скверный случай, неожиданный. От этого проклятого случая у Гаврилы сразу двух зубов не стало. Но зато… Впрочем, давайте по порядку…
Дело вышло ровным счетом на пятый день, как поступил мистер Веретенкин на завод, и ровным-ровнехонько в одиннадцать утра. Гаврила, как всегда, работал очень быстро, усердно: встанет к верстаку и до перерыва, как прилип.
Только в пятый день, с самого утра, что за чудо — разговоры, разговоры по всей огромной мастерской между рабочими пошли, кто-то прокричал в углу, какой-то вскочил на верстак и вроде митинга. Гаврила нуль внимания, знай себе работает, у них свое, у него свое, на всякий митинг не наздравствуешься. Еще усердней Гиврила на работу приналег, а они все по-своему — ла-ла-ла да ла-ла-ла. Слушает-послушает Гаврила, ничего понять не может. Только видит — громче закричали, все до одного работу бросили и тычут по направлению к Гавриле кулаками, пальцами, киянками. Гаврила — нуль внимания, мол, вали-вали….
Тут подошел к нему в фартуке человек — на голове у человека ремнем волосы подвязаны, глаза как пули, рот как чемодан. Человек вырвал из рук Гаврилы долото, со всего маху бросил на пол и заговорил толстым голосом, а сам смотрит Гавриле выше глаз, вот замолчал, хлопнул Гаврилу по плечу и ждет ответа. Как ни напрягал Гаврила слух, как ни ворочал колесами в мозгу, ничего не понял. Но чтоб не показаться русским дураком — наверно, какое-нибудь постановление голосуют — он мотнул головой и кротко сказал:
— Приемлемо…
Тогда большеротый погрозил Гавриле кулачищем и зашагал к своим, что стояли выжидающей толпой у выходных дверей. А Гаврила поднял долото и за работу. Большеротый обернулся, как двумя пулями прошил Гаврилу взглядом и — к нему. Гаврила не заметил. Гаврила усерднейше обделывал проушину, с носу пот струился. Часы пробили одиннадцать, рабочие распахнули дверь, затопали ножищами и с песней — вон. Гаврила— нуль внимания, Гаврила знал, что перерыв бывает не в одиннадцать, а в час. Но большеротый размахнулся, гаркнул и ударил Гаврилу в зубы. Гаврила перекувырнулся через голову и двинул пятками в чужой верстак. Встал Гаврила на карачки, огляделся — пусто.
По всему заводу гудели призывные гудки, а в раскрытые двери рванулось разровненное пение и рев тысячной толпы, как морской прибой.
— Ага… да это забастовка!.. — Гаврила сплюнул кровь и, как пожарный конь в набат, помчался к своим, крича:
— Урра! Урра! Да здравствует Советская власть!!
Он сразу врезался в толпу, растворился в ней и сам для себя перестал существовать. Капли слились в ручьи, капли к капле, ручей к ручью, и людские волны хлынули. Куда? Не все ль равно, куда: вниз, под уклон, а может, в гору, вверх, вперед. И где-то там солнце, звучит труба, и красные флаги плещут.
Пусть много языков на свете, но язык восстания один:
— Вперед. Долой… Товарищи… Победа!
…Прибой, вал, отлив, прибой… Поток в последний раз хлестнул, но дрогнул и отхлынул прочь. Поток рассекся на ручьи, ручьи на капли, а капли — что значит капли? — Слякоть, нуль, ничто.
И Гаврила — опять Гаврила. Сам не зная куда, он несется по уклону вниз, как с родимой скалы камень. И раз за разом, больней, больней — по спине, по шее, по макушке головы — трижды вязко ударила его тугая резиновая палка. Черный жандарм пришпорил коня и дальше, а мистер Веретенкин без памяти упал.
* * *
Его разыскал рабочий, тот самый, у которого глаза как пули, рот как чемодан. У рабочего забинтована голова, завязан кровавой тряпкой палец. Он возвращался из больницы, поднял Гаврилу и, прихрамывая, привел к себе.
Нет, рабочий очень хороший парень, и глаза у него человеческие, в них борется тупое отчаяние и стыд. Рабочий всячески ухаживает за Гаврилой, подбегает к окну, грозит во тьму кулаками, опять возвращается к Гавриле, берет его руку и гладит ее мягко, нежно, побратски. Они толкуют на разных языках, но, кажется, речь понятна обоим. «Ленин, Ленин, о-о-о!» — бормотал американец, прищелкивая языком, подсвистывал. Мистер же Веретенкин говорил мало: он лежал на спине, щупая языком десну, где дружеской рукой выбиты зубы, и вздыхал. На душе у него соленая тоска.
— Нет, граждане, — уныло говорит он в низкий потолок. — Вы и бунтовать-то по-настоящему не можете… Уеду… ну вас!..
Вскоре, действительно, мистер Веретенкин, как морская волна, помчался к обратным берегам, в Россию.
«НЕЧИСТАЯ СИЛА»
Конечно, всякому ученому человеку ведомо, что на водяных мельницах кроме русалок водятся и черти. Даже так: русалки-то не всегда водятся, а черти постоянно. Русалка все-таки существо женское, капризное: ей чтобы и приличный омут был, и камыши, и песочек желтенький, на случай ежели фантазия придет лунной ночью на приплеске поваляться.
Вот видите, какие привередницы эти самые русалки. А все оттого, что топились в довоенное время, при государе императоре. Они сами верили во всякую нежить и, по всей вероятности, были дочери кулацкого элемента, кончали же свою жизнь посредством утопления из-за каких-то любвей. Глупость какая! Теперь порядочная девушка никогда на подобное самоубийство не пойдет. Да разве мало парней у нас в России или женатиков, которые плохо с женами живут и на сторону озираются? Нет, в корне изменились времена.
Что же касается чертей, то рядовые черти — народ простой, а подчас — и совершенно бестолковый. Неизвестно, как теперь, а раньше, бывало, любого черта каждый солдат околпачить мог: в карты ли объегорить, или в сумку посадить, да крестом его, подлеца, меж рог. Рядовой черт вообще существо забитое, его, кроме старух, никто и не боится. Миллионы уст ежедневно кричат у нас в России:
— Черт тебя задави! — или: — Черт тебя заешь!
А между тем, совершенно не слыхать, чтоб кого-нибудь давил или пожирал черт. Если б были такие случаи, селькоры и рабкоры моментально опубликовали бы по телеграфу. Впрочем, есть одно окаянное село Кукудырово, прямо позорное село. О нем будет опубликовано подробно дальше.
По сведениям из самых достоверных источников — в аду давным-давно — может быть, при блаженной памяти Иване Грозном — происходила чистка, и многие малосознательные черти были вышвырнуты за борт. Будучи безработными, они, ясное дело, кой-как организовались и в первую голову, черт бы их драл, закрепили за собой водяные мельницы. На ветряных же мельницах, изволите ли видеть, им жить вредно. Ха-ха! Там сквозняки и водички нет прохладной, значит — пыль, а у многих из них — туберкулез. Да, что ни говори, а вырождается и черт.
Хотя, слыхать, есть такая наука, нарицаемая евгеника: она всякие породы улучшает. Но ей впору управляться с четвероногой зоологией и с людьми. А на наш трезвый взгляд, ежели черт вырождается — и пусть, и слава богу. От них вред один и срамота для нашей страны. Почему в Европе нет чертей? Потому, что Европа с понятием.
Впрочем, мы будем говорить не о русалках и чертях, — все написанное выше можно и не читать, — мы будем говорить о самом заурядном колдуне, Архипыче. Фамилия — Перепукин. Правда, что он бывший мельник. В революции мельницу у него оттягало начальство, что же касается чертей, они по старому знакомству ушли за Архипычем в мир, то есть в село Кукудырово, вроде эмиграции. На мельнице чертям жилось вполне вольготно, в селе же Кукудырове, у Архипыча в избе, пришлось уплотниться под шестком, где ухваты. Тут уж споры о жилой площади, чтобы по закону, в сторону, а того гляди— бабка ухватом в глаз. Но все-таки Архипычу пользу приносили они большую, во вред другим.
* * *
Позвольте во весь рост, как говорится, обрисовать Архипыча, а также и в окружности: как тугой живот, сивая бородища до пояса и тому подобные приметы. Легче бы всего снять фотографию, но очень дороги пластинки, и, кроме того, под рукой нет аппарата. Оно, конечно, можно и купить в Москве. Ну, хорошо, купишь, а как снимать-то? Патрет — не лапоть, снял да бросил, а надо с толком: «Спокойно, мол, снимаю». А то ни черта не получится. Нет, тяжело стало жить.
У Архипыча рожа большая ростом, а глазки маленькие, черные, из-под бровей. Брови у колдунов всегда бывают лохматые, седые. За поясом у Архипыча большой ключ торчит. Весит Архипыч с сапогами шесть пудов и в праздник надевает красную рубаху. Молодым его никто не помнит, всегда был старый, но очень крепкий: мешок муки для него как мыла фунт, просто играет с ним.
Самая же главная из наружных примет: Архипыч по большим праздникам ходит в божий храм. Колдун, а ходит. Не вдруг этому можно и поверить, а между тем доскональный факт. Описываю не торопясь, обстоятельно, ибо, будучи уволен с должности псаломщика по навету красного попа, я имею много времени.
Покончив с описанием наружности Архипыча, приступим прямо к делу. А дело вот в чем. Когда в феврале семнадцатого года громили помещиков, колдуну досталась львиная доля, как говорится. А именно: четыре коровы дойных, жеребец, два боровка со свинкой, сани барские, шуба енотовая с шапкой и много кой-чего по мелочи. Прочим же православным мужикам пришлись самые пустяки: кому овса мешок, кому дуга, кому старая жилетка, одному же, дедке Пахому, выпали по жребию дамочкины панталоны: правда, фасон занятный, мужики долго хохотали — и кружевца и бантики какие-то. Пахом шутки ради прикинул, не годятся: в бедрах огромный простор, сытому коню впору, а длиной очень окургужены.
Случилось же такое неравномерное распределение земных благ потому, что колдуна страшно боялись все. Ежели ему поперечить, то и конь падет, и корова сдохнет, а нет — и самому рожу сведет на сторону, свадьбу испортит, молоко у коровы отымет. Колдун — так колдун и есть, ему недолго. Вот как верил темный люд. Просто срам.
Стал Архипыч после этого богатеть. Конечно, и черти помогали ему: стоит колдуну бровью повести, всего натащут.
При большевиках страшными налогами обложили его, то есть такими налогами — ложись да умирай. А ему хоть бы хны. Он откровенно заявил на сходе:
— Этот налог, ребята, меня не касается. Я знать не знаю.
— А кто же будет платить?
— Не могу вам этого объяснить, только не я.
Мужики пошептались-пошептались, — заплатили. И на другой год, и на третий — так же.
Впрочем, один, Павлуха, рыжий, председатель сельсовета, насмешливо сказал:
— Да что мы, братцы, батраки, что ли?
— Сма-атри! — прошептал в сивые усы колдун, а его глазки так и кольнули шильцем в сердце мужика. — Попомни.
Мужик пришел домой — хвать! — баба сбежала. А баба у него, Лукерья, в расцвете лет, прельстил же ее один спекулянт, из города Смоленска, за скоромным маслом приезжал. Даже, подлец, записку на столе оставил: «Будьте здоровы».
С тех самых пор колдуна стали бояться пуще — везде ему почет и уважение — и по сей день он ни фунта хлеба, ни рубля налогов не платил. Все налоги за него вносили мужики.
* * *
Теперь позвольте, в порядке живой очереди, представить вдову Арину — вдовы, по преимуществу, называются Аринами, даже в книжке у поэта Некрасова, если не изменяет нам память.
Наша же Арина, то есть, строго говоря, не наша, а крестьянка села Кукудырова, — эта самая Арина решительно ничем не отличалась, вдова и вдова. При ней ребенок одного года и двух месяцев.
Впрочем, Арина отличалась своей бедностью, хотя имела корову. Правда, корову она ничем не кормила. Корова давала два стакана молока, потом стакан, а потом и совершенно околела.
Для несчастной вдовы Арины это роковое событие — удар ножа в спину. Ох, и слез было, и крику на все село. Ай, ай, батюшки! Чем ребенчишка кормить? А младенца, между прочим, звали неизвестно как. То есть он святое крещение восприял, и имя ему, без всякого сомнения, наречено было, но священник, отец Кузьма, это имя прогнусил нарочно непонятно, в бороду, родительнице же сказал: «Когда все деньги уплатишь мне за таинство, три целковых, тогда скажу имярек. А теперь иди смиренно со Христом домой». Вот какие отпетые попы у нас.
С тем Арина и ушла. А корова сдохла.
Обратилась Арина к сходу:
— Православные, мол… так и так…
Православные послали ее к свиньям, сказали:
— Обратись к милицейскому… он разжует тебе, как и что.
Обратилась Арина к милицейскому. Тот сказал ей:
— Стукнись к председателю сельсовета.
Стукнулась Арина к председателю, Павлухе рыжему.
А тот — пьяный. Пощекотал маленько вдову под мышками — Арина ничего еще была, молодая, крепкая, — и сказал:
— Хотя я человек вроде вдовый, но коровы тебе не дам и жениться на тебе не намерен. Ежели вольную профессию желаешь допустить со мной, изволь.
Вдова ужасно боялась щекотки, завизжала и пошла в волисполком.
— А где ее взять, корову-то? — сказал волисполком. — Эвот какая ты ядреная, сама выкормить можешь, не говоря о младенце, и телку целую. Запасных коров нет у нас, иди.
Вздохнула Арина полной своей грудью да прямо в женотдел. В женотделе беспорядок, никого нету. Председатель женотдела ребенка скинула — муж ее по пьяной лавочке поучил, — в больницу увезли, секретарь по грибы ушла, казначей — никаких денег не имела — неизвестно где. А прочих членов не было.
Арина в комсомол. А что за беда, ежели комсомольцы и пощекочут чуть, да убудет ее, что ли? А все-таки там пареньки дотошные, грамотеи хоть куда. В бога не верят, может, в горькую вдовью долю ее поверят.
Вошла, перекрестилась на ихний красный уголок, — а ячейка за столом сидела. Выслушала ее ячейка, посоветовалась промежду собой. И кудрявый парень, Колька Зуев, председатель, стал писать бумагу. Пишет да пыхтит, пыхтит да пишет.
— Вот тебе, — говорит, — бумага. Езжай в уездный город. Там назначат корову выдать тебе. А у кого из наших крестьян отобрать, тут сказано.
Взяла Арина бумагу, поклонилась и пошла. Даже стыдно ей стало, что в честь благодарности и не пощекотал ее никто. Пришла домой, погляделась в кой-какое зеркальце: ничего себе, улыбнется — ямки на щеках, и губы сочные. Ну, что ж…
На другой день, чуть зорька поутру, Арина с ребенком пешедралом в город. Как шла мимо избы колдуна, Архипыча, трижды сплюнула через левое плечо, перекрестилась: на колдуновой трубе, на крыше, чертенок небольшой сидел, мяукал, котом прикинулся, желтыми глазами Арине душу лижет — свят-свят-свят.
И всю дорогу думала про колдуна. Это он, окаянная сила, ее корову задавил, он, он! Чуть ночь, бывало, вот и стучит, и стучит в окно. Выглянет Арина — никогошеньки на улице, только темень, жуть. А наутро: «И что же ты, вдовица, меня не пустила погостить?». А сам страшный, а сам большой… Ох, лучше в омут. Да пропади он пропадом, этот самый гадина, колдун.
* * *
В городе прочли бумагу, заглянули в списки, верно, правильно. Сказали вдовице:
— Идите, гражданка, в полном спокойствии домой. Просьба ваша уважена. Мы сейчас сделаем распоряжение в ваш волисполком. Корова будет выдана вам.
У Арины почему-то слезы заклубились в сердце, и глаза стали мокрые от радости. Низко поклонилась Арина и ушла. Красноармеец-земляк чайком с крендельками попотчевал ее, в лесочек предлагал пройтись, мол, усердие такое есть в знак памяти. Арина же: «Что ты, соколик, что ты!» И домой. Радость так и несет ее на крыльях.
* * *
Три дня поджидала Арина обещанной коровы. Вот тебе и город — как мог надуть. Ночью видела сон, будто бы колдун Архипыч подослал в волисполком трех хвостатых чертенят и те выкрали из казенного сундука приказ, а в сундук положили дохлого зайца с ястребиной головой. И будто бы сам председатель волисполкома, товарищ Карнаухов, как открыл сундук, ахнул… и захохотал дурноматным хохотом. Хохочет да кричит: «Милицейский! Милицейский!»
Арина от крика вздрогнула, проснулась, глядь…
Но о том, что тут произошло, будет оказано впоследствии. А произошло действительно ужасное, такое ужасное, что…
* * *
В порядке же протекающих событий дело было так. Приказ пришел в волисполком из города за Ариной следом, то есть на другой же день. Приказ попал сначала в руки регистратора — на входящем-исходящем журнале он сидел — в руки Васютки Огурцова, его в прошлом году из комсомола выгнали. И раз, и два пробежал Васютка Огурцов приказ, сказал: «Вот так это здорово!» — и сунул приказ в самый нос подслеповатому секретарю.
Секретарь — человек из города, в очках и лысый, бороденка плевая — прочел приказ, снял очки, смахнул платочком пот с лысины, протер очки, надел, опять прочел. Когда подходил к концу, руки тряслись, и трясся весь приказ, как на осине иудин лист.
Секретарь трясется, стакан с чаем на столе в бряк пошел, а Васютка Огурцов озорных своих глаз с секретаря не спускает, знай улыбается, — Васютке Огурцову хоть бы что, Васютке Огурцову даже интересно.
— Ну, как, Фадей Митрич, ловко? — спросил он.
Секретарь в ответ молчит, из-под очков смотрит этаким туманным взглядом, будто ему по темю лопатой со всех сил ударили, потом мычать стал, потом заикаться:
— Про… про… па… пали… мы… — и петушком с приказом к председателю.
А председатель строгий был, нос большой, лицо бритое, только усы торчат неопределенной масти.
— Фу, дьявол, жарко до чего. Искупаться бы сходить, — сказал председатель.
Секретарь же забормотал, как индюк, тряся приказом:
— Вововот, это… это… это охладит;
— Почему ты, Фадей Митрич, начал заикаться? А ну-ка, что из деревни пишут нам?
И стал вслух читать. Приказ же, примерно говоря, гласил:
«Дескать, по получении сего, немедленно отобрать лучшую корову от крестьянина села Кукудырова Нила Архипыча Перепукина и, дескать, вручить оную корову, под расписку, крестьянке того же села Арине Афанасьевне Короткозадовой. Означенную, дескать, передачу произвести в спешном порядке и об исполнении донести».
Тут была поставлена точка. Дойдя до точки, председатель, товарищ Карнаухов, расстегнул ворот рубахи и залпом проглотил остывший чай. Глаза его выкатились, точно он сатану увидел. Секретарь же дрыгал-дрыгал поджилками, присел.
— Легко сказать, — едва передохнул председатель. — Попробовали бы они сами отобрать, приказывать-то можно за сорок-то верст…
Председателю, действительно, сразу стало холодно, даже шея и открытая грудь зашершавились густыми пупырышками.
Секретарь разинул рот и дал волю каблукам, каблуки в пол — тра-та-та. Муха влетела в рот, и не заметил: полетала во рту и — вон.
— Что касаемо отобрания коровы, — запрыгал председатель голосом, как колченогая старуха через лужи, — то тут я ума не приложу. Оно, конечно, я ничему этакому не верю, чтобы стал бояться колдуна, но вот баба моя, точно, суеверию верит свято-нерушимо. Какая же в ней образованность? Убийственная баба у меня. Смотрю-смотрю, да и разведусь.
— Пропропропагандой надо сбивать, — сказал секретарь и так зачакал зубами, едва язык не прикусил.
— Как же все-таки с коровой быть? — подшибил председатель щеку кулаком и призадумался.
— А вон Архипыч чай под окошком пьет, — взошел в дверь Васютка Огурцов. — Вы, товарищ Карнаухов, высуньтесь да словесно ему и крикните: «Веди, мол, немедленно свою корову ко вдове».
— Как же это так можно, словесно, — взволновался председатель.
Васька же Огурцов сказал:
— В таком случае, ежели лично вам страшно, дайте предписание председателю сельсовета.
— Резонт! — вскрикнул товарищ Карнаухов, и его потное лицо вдребезги раскололось радостной улыбкой.
…И когда проходили со службы…
…Архипыч, действительно, под раскрытым окошком чай пил, на окошке герань цветет, а на полу, у шестка, черти сахар косарем на мелкие кусочки кромсают.
…Первый прошел регистратор Васька Огурцов, снял кепку, поприветствовал Архипыча.
Вторым — секретарь. Низким поклоном тоже поприветствовал Архипыча и шляпой вправо-влево помахал.
Третьим — председатель волисполкома проходил.
— Здорово, Архипыч! — крикнул он. — Чай с сахаром!
— С медком, — поправил колдун и захехекал.
— Ну как, меду много нынче?
— Есть… У меня всего много… Иди-ка, погляди, сколько у меня слуг-то под шестком сидит…
— Хе-хе, — захехекал и председатель. — На мой взгляд — это предрассудок. Глупости…
— Чего-о-о? — тут колдун встал во весь свой великий рост и сутуло перегнулся в окно, на улицу.
Но председателя и след простыл, у председателя неожиданно заболел живот, председатель без оглядки домой спешил.
* * *
Вдруг схватило живот и у председателя сельсовета, рыжего коротконогого Павлухи. А Павлуха, надо заметить, в двух верстах, на хуторе существовал.
— Вот дьяволы, — сказал Павлуха и сразу животом на горячую печь прилег. — Колдун напротив их живет, а они мне предписание прислали за две версты.
И не мог всю ночь уснуть.
Всю ночь не сомкнули глаз и чертенята колдуна: они такую возню подняли на чердаке у рыжего Павлухи, такой гам развели по всему двору, что даже собачонка Пестря — ходу, ходу — да прямо в лес, и щенят своих под амбаром бросила.
Рыжий Павлуха обнял возвратившуюся беглянку бабу под самую грудь, накрылся с головой среди лета полушубком да так до утра и простучал зубами.
Утром Павлухина баба снесла колдуну свеженьких преснушек.
— Кушай, Архипыч, на здоровье, — сказала баба, поглядывая пугливо под печку, под шесток: там ухваты сами собой шевелились помаленьку. — Павлуха кланяться тебе велел.
А Павлуха думал-думал, потел-потел — и послал предписание милицейскому: немедленно отобрать самолучшую корову от Архипыча и отвести ее Арине, — так, мол, волисполком требует, а с волисполкомом — город — строгий, мол, наказ, живо, спешно!
Милицейский тоже не спал всю ночь, но его черти не тревожили, да не больно-то он и верил в них, не спал он по совершенно иной причине. Милицейский об этой неделе накрыл самогонщиков, а ихнюю механику вдребезги колом, и четвертые сутки сам-друг поздравлялся в амбаре самогоном.
Когда же принесли за печатью предписание, милицейский быстро протрезвел, задрожал со страху и вот тут-то увидел маленьких, этак вершков пяти-шести, двух дьяволят. Один сидел на зеркале и, скрючившись, обкусывал на задней лапке когти, другой на самоваре устроился — удобно, как в санях, — зубы скалит и от нечего делать самый кончик хвоста крутит.
— Ах вы, неумытики!.. — крикнул дико милицейский. Дьяволята — жжих! — и нету.
Он снял веревку, чтоб от колдуна вдове корову отвести, и решительно направился к избе Архипыча.
Идет браво, но не так, чтобы уж твердо очень — дорога все-таки покачивалась чуть, — идет, бубнит:
— Говорено тебе, дураку, на митингах: предрассудок есть достояние темных масс… А ты, дурак, колдуна бояться, чертей на самоваре видеть? Тьфу!
Только сплюнул да хотел немножко посморкаться — ой, ой! — два дьяволенка перед ним по дороге, как белки, скачут. Милицейский из револьвера в одного — раз, в другого — раз! Дьяволята — жжих! — и нету.
— Черта с два, чтоб я стал вас трусить, — самодовольно сказал он.
Вот и волисполком, а через дорогу изба колдуна, Архипыча. Милицейский остановился против колдуновских ворот, кровь то приливала к голове, то отливала, одна нога готова бы пойти, пожалуй, другая — стоп.
— Ах ты, пес, — выругался милицейский, а самого так и повело всего, аж плечами передернул. — Какой же я после этого кандидат в партию, дурак паршивый… Да что я, колдунов, что ли, не видывал? Что он, килу, что ли, мне сделает, хомут насадит, грыжу припустит или моей гражданской жене личность на затылок повернет? Иди, иди, паршивый дурак, не бойся!.. А вот я те потрясусь…
В этот миг колдуновские ворота сами собой распахнулись, и рыжая корова прямо к милицейскому. Милицейский так растерялся, что хотел из уважения шапку перед коровой снять, а корова облизнулась да человечьим голосом ему: «Ах, ты со двора пришел меня сводить?»
Милицейский взмахнул рукавами, ахнул — шапка слетела с головы, — и побежал.
— Стой, куда это ты? — остановил его мужик.
— Туда, — прохрипел милицейский, — сбесилась… Корова колдуна сбесилась…
— Чего врешь, тихо-смирно коровушка идет, — сказал мужик. — А чего это у тебя глаза красные какие? Луком, что ли, натер? И физиномордия опухши?
— Так, — сказал милицейский, задыхаясь. — С самогоном тут… Затрудненье такое вышло… То да се… Фу, батюшки мои, взопрел как!
Он присел на луговинку, закурил. Руки тряслись, едва крючок свернул. А мужик ушел. Сидит милицейский, дым пускает, а напротив — церковь божья.
— Все это затемнение народных умов, — сказал он в пространство. — Вот в партию попаду, буду пропаганду мужикам пущать, чтобы из церкви кинематограф сделали… Гораздо больше удовольствия.
Встал, отряхнулся и пошел к Арине. Колдун под окошком чай пил, издали борода белела. Милицейский на всякий случай какую-то молитву в уме творил. Ну, и ничего, ни коровы, ни чертей. Ах ты, дьявол, как же совместить?
* * *
Вот тут-то она и проснулась, вдова Арина, глядь… милицейский перед ней.
— Ишь ты, как сладко почиваешь, — сказал он Арине и покосился на зеркало, на самовар: ничего, благодаря бога, спокойно, окаянных нет.
Арина встала, потянулась, взяла на руки ребенка.
— А я с великой радостью к тебе, вдова.
— Ну? С какой? Уж не коровушку ли привел?
— Вот именно… По коровьей части.
Он полез в карман, хотел предписание вынуть, вдруг выхватил из кармана руку и с омерзением что-то швырнул на пол.
— Чего-то ты?
— Так… Животная одна, — упавшим голосом сказал он, плюнул на руку и вытер об шинель.
Арина ребенка жвачкой кормит, прекрасно улыбается. Милицейский ухмыльно головой крутнул, сказал:
— Вот видишь, крестьянско-рабочее правительство как заботится о тебе: наилучшая корова тебе вышла.
— А где же она?
— Ступай, веди. Вот и веревка, — проговорил милицейский, но в его руках вовсе не веревка, а черт знает что: в его руках был бабий повойник.
— Чья же корова-то?
— Корова-то? — переспросил милицейский и сунул красный повойник в карман. — Корова знатная. То есть такая корова, благодарна будешь.
— Да чья же? Уж не Кукушкиных ли?
— Корова-то? Нет, не Кукушкиных. А вот какая корова… С такой коровой любой парень на тебе, защурившись, женится. Не корова, клад! — Милицейский нагнулся и заглянул на улицу. — Да вот она идет. Вот у меня и предписанье, иди, бери. — А сам тихонько от окошка прочь: корова повернула к нему рога и что-то хотела спросить по-человечьи.
Арина крикнула:
— Как? Это?! Колдунова?! — бросила ребенка в люльку, брякнулась на кровать, завыла.
Баба плачет, ребенок плачет, милицейский в угол к печке сел, в его глазах темный свет дрожит, вот-вот сейчас черти примерещатся.
— Мне бы только в партию попасть, — провилял он шепотом, — там так обработают меня, что… — А вслух сказал:
— Что ж, корова настоящая, корова дойная, ты взглянь, вымя-то какое… А во избежание предрассудков каких темных, ты ее можешь святой водой окропить, даже батюшку, отца Кузьму, позвать с иконой, с богородицей.
Но баба отмахивалась руками, совсем округовела баба, уткнулась в подушку, выла.
— Эх ты, дура, дура, — сказал милицейский наставительно. — Самый паршивый ты бабий элемент… Нашла кого бояться, колдуна… Тьфу!
А баба закричала в двадцать ртов:
— Да вы сдурели с волисполкомом-то своим поганым! Чтобы я, да чтобы у колдуна… Корову? Да я ему лучше последнего петуха отдам. На!!
Тут милицейский вытаращил безумные, красно-огненные глаза, разинул рот: на печке сидел порядочных размеров черт, он прищурил желтый глаз и норовил набросить петлю из веревки на шею милицейского.
Милицейский хлопнул дверью и по всей лестнице съехал на собственном седалище, крича:
— Ей-богу, это моя у него веревка! Ей-богу!!
Вот и весь немудреный мой рассказ. Другие скажут: а почему, мол, не обратились к комсомолу? Комсомол, наверное, не боялся колдуна.
Точно так. Комсомол, действительно, ни капельки не боялся колдуна. Председатель комсомола, Колька Зуев, даже сказал на митинге:
— К черту суеверие! Корову мы отберем торжественно, а в случае чего мы можем связать колдуна и обрить ему для протеста морду.
Все тогда на этом антирелигиозном митинге ужаснулись. Комсомольцы же всем народом, с красным знаменем своим, повалили к колдуну. Корову без всяких рассуждений отобрали, и сам председатель Колька Зуев во главе процессии повел ее к несчастной вдове Арине. Шли в ногу, с барабаном, с песнями. Сзади плелись матери да бабки комсомольцев, плакали: им боязно, что колдун в знак мести перепортит всех ребят.
Комсомольцы же били в барабан и пели очень громко:
Как родная меня мать Провожа-а-ла! Тут и вся моя родня Набежа-а-ла!..И будто бы колдуновская корова сказала возле церкви: «Куда это вы меня ведете-то?» Но комсомольцы нуль внимания: еще громче грянули.
Когда же подвели корову к Арининой избе, Арина у ворот стояла. Как увидела торжественную церемонию, затряслась вся, посинела и грохнулась на землю: сильный родимчик приключился, наверно, черт в нее вошел.
Видя в этом козни нечистой силы, вся толпа в страхе прочь. Но комсомольцы всеобщей панике не поддались, комсомольцы стали бегать за народом и стыдить их, обзывая темными дурнями. Корова же, постояв немножко, пошла домой.
А колдун в это время пил чай с медом. На окне — герань духи пускала.
Но этим дело не закончилось. Председатель комсомольцев, кудряш Колька Зуев, схватил корову под самым носом колдуна, накрутил ей хвост, чтоб прытче шла, не упиралась, и повел к вдове. Колдун же вслед заругался на Кольку, угрожая волшебством. Колька за камень, хотел в бороду пустить, да передумал, лишь неустрашимо крикнул в самые очи колдуну:
— Несознательный дурак! Жулик!
Корова же, как бы из протеста к колдуну, злорадно стала печь блины, ни слова не сказав по-человечьи, и с удовольствием пошагала к новой своей хозяйке, Арине Короткозадовой. А был уже вечер. И что произошло дальше — неизвестно.
Однако впоследствии гражданка Короткозадова болтала кумушкам, что в честь благодарности Колька Зуев тогда усиленно ее отщекотал, после чего Арина будто бы долго охала и крестилась на божий храм, зато крепко-накрепко уснула и сутки проспала без всяких бесовских наваждений. С тех самых пор Арина совершенно перестала бояться колдуна.
Вот теперь все, окончательно.
Разумеется, факт очень прискорбный, гадкий факт. Еще слава богу, что у нас в СССР таких глупых местностей раз-два, да и обчелся. И по нашему глубокому убеждению, уж ежели искоренять предрассудки, так искоренять: дружно, энергично, с полным сознанием ответственности. И, конечно, не в колдуне тут дело, не в Архипыче. Что такое колдун? Человек и человек, как и все мы, грешные, А надо вот что… Надо усиленно чертей ловить.
БАБКА
Солнце хватало горячими клещами без разбору всех и все: красных и белых, валявшуюся вверх копытами мертвую кобылу с развороченным боком, старух и мальчишат, пушки, патронные гильзы по дорогам, траву, букашек. Коровы с телятами стояли по горло в воде, лениво взмыкивая.
Нагретый воздух трепетал и колыхался, словно боясь ожечься о грудь земли, и вместе с ним колыхалось на зеленом пригорке село Ивашкино.
Разведка знала, что село до оврага занято красными, за оврагом же, там, где церковь, — белыми из армии Юденича. Политрук отряда, рабочий-путиловец Телегин и два его товарища входили в село без страха: белые и красные в открытый бой пока не вступали, та и другая сторона ожидала подкреплений.
— Эх, пожрать бы чего-нибудь… Молочка бы с погреба, — изнемогая от жары, пересохшим голосом сказал Телегин. Пот грязными ручейками стекал по красному лицу в густую бороду, кожаная куртка его раскалилась, как железная печь, и ноги в сапогах — как в кипятке.
— Айда в избушку, — махнул рукой Петров, приземистый рыжеусый молодец. — Только, черти, пожалуй, не дадут: белые их поди распропагандировали.
— Даду-у-ут, — устало улыбнулся всем лицом и бородою товарищ Телегин.
— У них, у дьявола, снегу зимой не выпросишь, — сухо сплюнув, проговорил Степка Галочкин, курносый парень.
— Да-а-дут, — опять улыбнулся Телегин. — Ежели умеючи, у мужика все выпросить можно. Вы, ребята, на меня посматривайте: что я буду делать, то и вы.
В кожаных новых картузах и куртках, в новых сапогах, одетые так же чисто, как и белые, трое коммунистов вошли в избу. Пахло хлебами, жужжали мухи. У печки, с ухватом, старуха в сарафане и повойнике.
Телегин снял картуз, подмигнул товарищам, истово, по-мужиковски перегибаясь назад, усердно закрестился на иконы. А за ним и те двое.
— Здорово, хозяюшка! — весело крикнул Телегин. — А нет ли у тебя чего покушать?
— Ох, кормильцы наши, ох, батюшки! — засуетилась у печки бабка. — Садитесь, ягодки мои, спаси вас бог, садитесь… Ужо я хлебца свеженького выну, ужо молочка…
Бабка принесла две крынки студеного молока, вытащила из печи хлеб, похлопала его — кажись, готов — и накромсала гору:
— Кушайте, родненькие мои, голубчики… Уж не взыщите. Кушайте во славу, не прогневайтесь…
Голос у нее ласковый, глаза ласковые, с подслеповатым старческим прищуром, морщинистые губы в рубчиках — ввалились. Она держала ухват, как посох, и умильно посматривала от печи на гостей. Кривой котенок сидел среди избы и умывал лапой гноящийся свой глаз.
Кожаные куртки с наслаждением глотали молоко, прикрякивая.
— А где же те-то, окаянные-то? — спросила бабка скрипуче, со слезой. — Вы смотрите, детушки, с опаской… Они, раздуй их горой, в нашем краю вчерась рыскали…
— Кто, хозяюшка?
— Да красные-то эти самые, чтоб им!.. — крикнула бабка, беззубо зажевав.
Кожаные куртки молча переглянулись, а Степка Галочкин прыснул молоком, как из лейки. Телегин улыбнулся в бороду, спросил:
— А ты, хозяюшка, неужто красным ничего бы не дала?
— Красным? — подпрыгнула старуха. — Гори они огнем! — и стукнула в пол ухватом. — И хлеб-то весь в подпол побросала бы да карасином облила, и крынки-то с молоком об башки бы им расколотила… Тьфу!
Петров подавился хлебом и закашлялся, а голоусик Галочкин надул щеки и опять прыснул смехом в горсть.
— Ужо я вам, ангели мои, сметанки… ужо, ужо…
— За что же ты, бабушка, ненавидишь красных героев? — тенористо спросил Петров.
— Тьфу! — плюнула старуха и сухим кулачком утерла дряблый рот. — Да как же их любить-то, ангели мои господни… Эвот вчерась нашего Гараську они, ироды, вытащили из колодца да уволокли с собой… Гараська у нас, парень… Ну, залез в колодец, вроде как схоронился там… Ох, и ревел Гараська, аж слезами весь изошел…
Бабка покарабкалась на полку за сметаной и, подпираясь ухватом, сутуло поплелась к столу.
— Ты, хозяюшка, видимо, принимаешь рас за белых, может, за офицеров? — рыгнув, спросил Телегин. — А ведь мы не белые…
— А кто же вы? — влипла в пол старуха, и ухват в ее руке закачался. — Не красные же вы, раз богу помолились…
— Нет, не красные…
— А кто же? — глаза старухи прищурились, и ухват вопросительно застыл.
— Мы черные…
— Чево-о-о? — попятилась старуха.
— Черные…
— Это какие же такие еще черные? — И голова старухи сердито затряслась. — Кого же вы, ребята, бьете-то?
— Кого придется, — сдерживая улыбку, сказал Телегин. — Белые попадут — белых, красные — красных.
Бабка взмотнула локтями, и глаза ее запрыгали; она повернула от стола назад и через плечо бросала:
— Черти вы!.. Вот черти… Что надумали, а? Черные, какие-то, а?! Направо-налево кровь льют, а?! Нате вам сметанки, на-те, — издевательски улыбаясь, рывком совала она к столу крынку со сметаной и отдергивала назад. — Ha-те, окаянные… На-те… — Глаза ее горели яростью. — Ишь ты, черные, ни дна б вам, ни покрышки, подлецам… Замест сметаны-то в три шеи вас, дураков паршивых… Мы че-о-рные… Тьфу!.. — И старуха, ударив в пол ухватом, зашоркала к печке. — Нет, ребята, это не по-божецки… Уж вы, ребята, одной стороны держитесь: либо белой, либо красной… — Голос ее стал мягче, и глаза глядели на пришельцев жалостливо. — Эх, ребята, ребята!.. Дуть вас надо, дураков…
— Хозяюшка, — сказал Телегин, — мы хотим дальше идти, а ты разреши нам оставить у тебя кой-какие вещишки…
Но в этот миг открылась дверь, быстрым шагом вошел красноармеец и спросил:
— Палатки-то вносить, товарищ Телегин?
Слово «товарищ» ошарашило старуху как бревном: она вдруг стала маленькой, как девчонка, ухват дрябло заляскал в пол, и сарафан сзади гулко встряхнулся.
— Ой, ребята, — безголосо прошипела она и шлепнулась на лавку. — Ой, ребятушки, товаришши… Дак кто же вы?
Степка Галочкин — ноздри вверх и захохотал в потолок горошком, а Телегин серьезно:
— Красные, хозяюшка, красные…
Старуха разинула рот, несколько мгновений лупоглазо смотрела в лица красноармейцев и вдруг сорвалась с места.
— Ребятушки, голубчики, товарищи наши! — заорала она осипшим басом, как сумасшедшая. — Бейте их, окаянных, белых этих самых! — грохнула она ухватом в пол. — Бейте их хорошень!.. Бейте!.. — Бабка злобно поддела котенка ногой и едва устояла. — Они, подлецы, родного старика моего в баню заперли, хозяина… Вавилой звать… Пошел он вчерась к дочке, — дочка у нас в том конец замуж выдана. А его там и замели — ты, мол, красный, — да в баню на старости лет… Вот они, собаки, ваши белые-то, что делают… Давите их, подлецов, пожалуйста!!
Бабка — как ведьма: космы растрепались, повойник на затылок сполз, из беззубого рта летели слюни.
Красноармейцы хохотали. Галочкин уткнулся лбом в столешницу, крутил головой и заливисто визжал; подброшенный котенок лез с перепугу в валеный сапог, темным облаком под потолком шумели мухи.
РАЗВОД
Существовали на сей земле супруг с супругой, Иван да Марья Природовы, ткач и ткачиха. Десяток лет жили дружно; правда, случались малые скандальчики, но это уж обычно, это исстари идет, по всем законам: все в природе зуб за зуб, клык на клык, даже волки лютые грызутся, почему же людям в мире жить, раз они от обезьяны?
Только однажды, совсем недавно, случился грех, и в совершенно трезвом виде. Грех, к огорчению, кончился разводом.
Грех не сразу выпер в их жизни, он, как клубок, накручивался исподволь: сегодня нитка, завтра бечевка, послезавтра — аркан. И стиснул аркан их души.
Разрыв случился из-за двух вер. Одна вера в бога, другая в красном платочке, просто Вера, ткачиха тож. Марья по природной женской слабости была религиозна, Иван же вольнодумец. Марья на сходке, когда церковь постановили обратить в театр, полезла в драку; Иван, в отместку ей и согласно идеологии, снял дома все иконы, проворчав:
— Да ты Вере-то в подметки не годишься, ежели критически… И как я с тобой, с чертом, жил…
— Тьфу! — плюнула жена.
Остальное все понятно.
После развода они вошли в комнату как чужие. Муж принес колбаски фунт. Она — баранок и селедку. Пожевали молча, всяк в своем углу. Иван поискал нож, не нашел, а спросить — самолюбие не позволяет. Отгрыз колбасу, подумал: «Вот и свободный я. Куда захочу, туда и пойду», — и с остервенением опять отгрыз. Марья озабоченно уписывала селедку, запивала чаем.
«Хорошо бы и мне чайку, — подумал Иван. — Не даст, пожалуй. Обозлившись».
Он почему-то на цыпочках подошел к водопроводу, напился и, как бы устыдившись малодушия, беспечно замурлыкал:
Выхо-ожу один я на доро-о-огу-у…Марья зевнула, взглянула на стенные часы — десять — и стала оправлять кровать.
— Отвернись! — крикнула она Ивану, как нищему, который назойливо выпрашивает денег. — Теперича ты мне — тьфу. Я раздеваться стану. Можешь глаза пялить на Верку на свою.
Иван отвернулся. Марья разделась, перекрестила подушку и легла.
— Можно, что ли, оборачиваться? — спросил Иван. Но ответа не получил.
Где же лечь? Дивана нет. На стульях разве?
«Э, черт… Лягу на полу».
Марья спала крепко, Иван тревожно. Утром опять пришлось Ивану отвернуться.
На работе Иван да Марья спрашивали у товарищей, нет ли, мол, на примете у кого хоть какой-нибудь комнатушки? Куда тут… Нет.
— Это раньше бывало: комнат — сколько хошь… А поди-ка разведись… наплачешься…
Подходила вторая ночь.
— Теперича моя очередь на кровати… Кровать не твоя, а общая, — сказал Иван.
— Отвернись, — сказала Марья, разделась и легла на пол. Иван спал крепко, Марья тревожно: все вертелась на полу — жестко.
Пришла третья ночь. Иван читал газету. Марья достала новую рубашку в кружевах, нарочно перед самым носом Ивана разложила ее на столе и стала продевать в проемы розовые ленточки. Иван покосился на рубашку, крякнул и никак не мог перелезть на другую строчку: голова вдруг отказалась понимать прочитанное, в голове замелькала женская рубашка, тело — бывшей жены или ткачихи Веры — все равно.
— Отвернись, передену рубашку, — сказала Марья.
Ивану показалось, что голос Марьи прозвучал не так, как раньше. Иван отвернулся к зеркалу и протер глаза. В небольшом квадрате зеркала отражалась часть кровати. Марья отпахнула одеяло, и рубашка скользнула с ее плеч. Сердце Ивана стукнуло, остановилось и — раз-раз-раз — пошло работать без узды. Чтоб не смотреть на отражение крепкого женского тела, Иван, согласно идеологии, зажмурился, но тотчас же открыл глаза.
Ложась на пол, он думал:
«Придется постельник сделать. Черт его знает, этот развод. Ничего не предусмотрено».
На пятую ночь, когда Ивану опять пришла очередь спать на полу, Иван сказал:
— Слушай. Без постельника немыслимо на полу валяться. Если, так сказать, вдуматься категорично, мы можем, как тот, так и другой, спать вместе на кровати, ведя себя соответственно.
Марья подумала и сказала сердито:
— Ложись! Только чтоб спина к спине.
— Обязательно! — воскликнул Иван. — Соответственно… И тому подобное.
Ах, как приятно! В комнате восемь градусов, а до чего тепло спине. А все-таки надо идеологии держаться.
— Пожалуйста, не шевелись, — сказала Марья, засыпая.
— Я не шевелюсь… Я так, от нечего делать… Приятно очень.
Днем, в воскресенье, у них был такой разговор.
— Когда же ты уберешься от меня, постылый? — сказала Марья.
— А куда же мне, ежели кругом такое уплотнение?
— К Верке к своей, вот куда!
Иван взглянул в глаза Марье: бешеные бесенята, огоньки.
— Она сама при муже, — угрюмо сказал он. — Мы с ней, ты думаешь, как? Мы с ней просто по-хорошему.
— По-хорошему? — закричала Марья. — А пошто мял-то ее на танцульке. В коридоре-то?
— Мял-мял… Эка беда какая… Да ведь как вас, баб, не мять… Ежели вы такие… Ну, это самое… Всякий комбинат. Поневоле будешь мять…
— Поневоле? — еще звонче крикнула она. И сразу тихо, сквозь сдержанные вздохи: — А впрочем, сказать… Чего это я, дура… Теперича мне тьфу на тебя. Чужой ты мне, вот все равно как это полено. Мни, кого хошь, тешься.
— А ты?
Марья замигала и быстро в сенцы.
Легли опять спать спина к спине. Ивана подмывало повернуться. Марья, будто угадав, сказала сквозь зубы:
— Ты не вздумай облапить меня. Я тебе не девка гулящая.
— Ну, вот еще… Что я, маленький, что ли?
— Да ведь вы… О, чтоб вам сдохнуть!..
Иван огорченно улыбнулся тьме. И чтоб укротить себя, пытался направить мысли иным путем:
«Двенадцатый разряд… По какому праву? Да он, этот самый Лукин, без году неделю и служит-то… Неужто за то, что языком трепать умеет? А мне едва одиннадцатый дали… Обида или нет? Да, да… О-о-о-обида, — засыпая, думал Иван. — Чего? — А хорошо бы поэтому… как его… ну вот этому в морду дать. А-а-а, Лукин, вот он-он… Держи его… двенадцатый разряд… А? Разряд? Хватай, бей!»
Иван занес руку, чтоб сгрести обидчика в охапку, и почувствовал, что его рука прикоснулась к чему-то мягкому, как крутое тесто. И вслед за этим обидчик крепко дернул его за бороду, крикнув:
— Пожалуйста, без объятиев своих! Отъезжай на пол… Ежели руки распространяешь.
Иван очнулся и сказал:
— Извиняюсь… Затмение… Комбинат.
И вновь спины вместе, дружба врозь. Лежит Иван, хлопает во тьме глазами, не может разобрать — хнычет Марья или хихикает над ним. Лежали долго.
— Иван! — позвала Марья.
Иван притворился спящим и легонько захрапел.
— Ох, какая канитель мне с ним, — вздохнула Марья и, повернувшись к мужу грудью, опять тихонько позвала: — Иван!
Иван храпел. Тогда Марья слегка прикоснулась губами к Ивановой спине и чмокнула, сказав: — Ах, душка мой… Василь Василич…
— Извиняюсь!.. В чем дело? — быстро повернулся к ней Иван. — Какой это Василь Василич у тебя имеется?
— А тебе какое дело? — сказала Марья и повернулась к нему спиной.
— Мое дело, конечно, маленькое, — сказал Иван. — Эх, Маша, Маша!..
— Ты с Верками да бознат с кем путался, а мне зевать? Плевала бы я…
— Вовсе я даже ни с кем не путался… Как честный человек говорю… Ха! Променял бы я тебя на Верку. Даже смешно.
— А что? Скажешь, меня любил?
— Неужели нет? Эх, Маша… — Он горестно взмотнул головой, и кончик его носа зарылся в густую косу Марьи.
Марья быстро повернулась к нему грудью, крикнула:
— Ах ты, дурак паршивый, притворщик. Ишь ты, прикинулся, храпел, как конь… Сроду не знавала никого опричь тебя. А ты и уши распустил. Я просто испытать… Ха! Василь Василии какой-то, провались он.
— Маша! Изюминка!
— Ваня!
А перед утром Иван сказал:
— Просто непонятное бывает на свете. Ведь вот жили мы с тобой, скажем, десяток лет, и ничего такого… все как-то… Даже наскучили друг дружке. А тут, черт его знает то есть, как развелись, с того самого моменту я прямо втюрился в тебя, как самый безнадежный влюбленный буржуй. То есть черт его… И с каждым моментом гораздо пропорциональнее… Ну, хоть на стену полезай или топись… Вот что значит психология… Развод придется онулировать… Ах, необдуманный комбинат какой… Идеологически паршиво вышло.
Марья вздохнула и сказала:
— А хорошо бы нам ребеночка.
— Не плохо бы, — сказал Иван. — А что касаемо религиозной почвы, то ее как-нибудь урегулируем. И вдобавок, Маша, надо пружинный матрас купить.
«НАСТЮХА»
Приказано было в нашей деревне Крайней женотдел образовать. Ну ясно, оборудовали. Председательша — Фекла Пахомова — чернущая, как цыганка с табора. И страсть какая злобная — перцем не корми. То есть так взъершила баб против мужиков, не надо лучше: поедом стали бабы мужнишек есть: «Ах вы, пьяницы! Ах вы, окаянные! Да мы вас, да вы нас…» Даже ежели, скажем, желательно допустить над собственной женой что-нибудь особенное, ну, вот это самое, дак и то она — пошел, говорит, к черту, думаешь, говорит, легко в тягостях-то нашей сестре ходить… А чуть вразумлять начнешь, она норовит ухватом по морде смазать, да с ревом в женотдел: «Караул, караул, убил!» А какое, к свиньям, убил, ежели сам стоишь у рукомойника, нос замываешь, а из носу невинная, конечно, кровь…
Других мужиков председательша Фекла Пахомова, чтоб ей в неглыбком месте утонуть, в суд потянула, — дескать — увечат жен. И что ж? Разве наши суды — суды? Жены пришли на суд краснорожие, у мужьев под глазами фонари понатырканы, даже один хромает. И, невзирая на подобные приметы, мужиков присудили к штрафу да к отсидке.
— Разобьют рыло, а скажут: так и было, — ругали женщин мужики.
Один прибег домой — лица нет, аж зубами скрипит, а бабу колошматить воспрещено. Дак он что… Он от горькой злобы собственную собаку удавил, сгреб за шиворот и сразу в петлю:
— На, — говорит, — тебе, сучья тварь, на! Повиси заместь моей стерьвы — Машки… У-ух! — и заплакал. Сидит в хлеве, на навозе, сморкается на все стороны, плачет. Мужики очень смирные у нас, а бабы — бой.
Этот ужасный террор проистекал до осени. Феклу Пахомову вытребовали в город служить, то есть к повышению. Она бобылка грамотная, собралась, уехала. Бабья часть провожала ее с воем.
Мужики сказали на сходе:
— Ну, длиннохвостые, кончилась вам масленица. Кого хотите в председательши? Становь кандидатуру, черт вас ешь!
Та не хочет, эта не желает, третья — боится. Так никого и не избрали. А из волости приказ — избрать. Судили мы, рядили, дай, думаем, изберем в председательши мужчину.
Сельсовет, мельник наш, сказал:
— Что же, братцы, деревня наша Крайняя, на самом краю, дальше болото на сто верст, к нам никто дорого не возьмет и заглянуть-то из порядочных. Давайте, братцы, изберем Настасея. Имя у него вроде бабье, и фамиль — сам поп не разберет — Сковорода. Баба тоже может сковородой быть за всяко просто.
Тогда начал говорить сам Настасей:
— Я ничего, братцы, согласен, как говорится. И имя… тово… действительно, чтобы… Даже маленького меня и звали-то «Настюхой». Только, братцы, как бы какого худа не было… Кроме всего прочего, конечно, да.
— Хы! Худа. Эка штука гумагу раз в месяц подмахнуть. Пиши фамиль само неразборчиво, чтоб гаже нет.
— Да мне разборчиво-то и не… А только… этого, как его… чтобы… Сумленье у меня, да. Вдруг нагрянут. А человек я робкий. Я такой человек, урони возле меня, скажем, ложку, я так и подскочу до потолка. Человек я припадочный…
— А ты не скачи… Ты что, блоха, что ли?.. Соглашайся знай. А мы тебе… Ребята, соберем Настасею пудишек пяток муки в честь уважения. И четвертуху самогону первый сорт. Идет?
Стал с тех пор Настасей Сковорода председательшей женотдела.
И стало мужикам вольготно, бабам худо.
А тут… Ну, так даже и не выдумать. Вдруг — фють! — здравствуйте — прикатил мимоездом какой-то заведующий член из города, и прямо к председателю сельсовета, мельнику Вавиле Четвергову. То да се, спросы да расспросы, ну как, дескать, дела, почему нет избы-читальни, почему нет комсомола, работает ли женотдел?
— Сделайте милость, ваша честь, чайку испить, — краской залился Вавила. — Женотдел у нас справный. Председательшей женщину мы избрали, Настасья Сковорода фамиль. Бабочка толковая. Ведет линию парцинально, согласуемо…
— Нельзя ли с ней переговорить?
— Даже невозможно! Они, кажись, больные, — похолодел Вавила. — Они, кажись, ребенка родили. Быдто мертвенький… царство ему небесное.
— Тогда я навещу. Где она?
У Вавилы сразу осел живот, и тугой поясок ослаб.
— Что вы, товарищ, господин, как вас… с непривыку… Она в отдаленности живет, на хуторе, в лесочке… Быдто, сказывают, волки бешеные там рыщут, волчица да волк, пара. Согласуемо… Спаси господь…
Приезжий прищурился по-хитрому из-под очков в лицо Вавилы.
— А все-таки мне надо с ней переговорить.
— Тогда вот какое дело, товарищ хороший, как вас… с непривыку… имя-отчество. Вы после чайку прилягте отдохнуть. Столько верст проехамши, болотина да буераки. А вечерком я доставлю ее вам, на сон грядущий. Ведь вы заночуете? А куда же ваш путь принадлежит? Ах, в Павловское? Очень даже приятно нам, Павловское селенье подходящее. Народ — чистяк. Ах, какое село веселое… — повеселел наш пузан Вавила.
— Будь по-вашему, — сказал гость. — Только ко мне не пускайте пока никого: заниматься надо.
— Будьте вполне благонадежны, — вскричал Вавила. — То есть ни одна тварь не побеспокоит вашу честь.
— Карауль начальника, — сказал Вавила своей жене, а сам по деревне марш. Обежал все избы — хоть бы одна баба согласилась на полчасика председательшей побыть. Ах, ерш те в бок. Вот так штука…
Вавила к Настасею Сковороде и сразу заорал:
— Чтоб те сдохнуть, дурак паршивый! Пропадаем мы все. Член приехал! Требует! Ах, ах… Приделился, дьявол бородатый, в бабью должность, вот теперича иди!
— Ой, убегу я… В лес уеду, — взмолил, замотался Настасей.
— Убегу… Дура! Он книги требует. Он баб скличет. Хуже будет!
Настасей хлюпнулся на лавку и по-сумасшедшему выпучил глаза.
— Стриги рыжую бороду свою проворней, черт тя, собаку, ешь! — крикнул мельник. — Бритва имеется? Ужо я писаря позову, он обкатает.
Через час Настасея перевернули на Настасью.
— Повойник мой на башку-то надень! — злобилась его баба. — А поверх-то. Ужо-ко я шаль повяжу. — И не знала баба, хохотать иль плакать, — баба хохотала.
— Форменно. Сойдет, — окончательно развеселился мельник. — Член, кажись, подслеповат. А голосишка у тебя, слава богу, бабий… Сойдет. Эх, жаль, член самогон не впотребляет. Слышь-ка, тетка Дарья!.. Напхай ему кудели вот в этом месте… Так… Убавь! Прибавь! Так, в плепорцию. Вот мужика и в красотку перевернули, хе-хе… Даже замуж можешь в этом сарафане выходить за какого ни то расстригу. Идем проворней. Не подгадь. Личность веселей держи, с игрой!
Председательша Настасья по записной книге давала объяснения проезжему гостю. Заикалась, голосишко дрожал, вилял, руки тряслись. И смех и грех, вот те Христос.
— Да вы, гражданка, не волнуйтесь. Говорите спокойно. У вас, кажется, все в порядке, — сказал член и глазами заморгал.
— В порядке, ваша милость, как вас… — сиял мельник именинником. — Бабочка она хорошая, толковая. Линию ведет парционально, согласуемо.
— Говорят, у вас несчастные роды были?
— Никак нет, — тонким голосом ответила Настасья и шаль натянула на глаза. — У нас… как его… все рожают, конечно, правильно, счастливо, да.
— Нет, нет. У вас лично, — поправил гость.
— Это, извините, я спутал, — выставил наш мельник бороду. — Та даже совсем другая женщина. Та действительно, черт ее знает, взяла да и… тово…
А гость — ну прямо как на грех — открыл на улицу окно, крикнул:
— Эй, тетушки! Шагайте обе в избу на пару слов.
Настасье показалось тут, будто юбка сама собой полезла вниз, будто из-под шали снова выставилась бородища. В избу вошли тем временем две тетки под хмельком — после баньки хлопнули.
— Ну как, тетушки, — спросил гость и очками поблестел. — Председательшей женотдела довольны?
Настасья охнула от ужаса, сгреблась за край стола. Мельник боком-боком к теткам:
— Выручай, молодайки, — шепнул им и даже толстую маленечко по заду приласкал.
— Председательша наша дюже хорошая, — перемигнулись тетки, — усатая, бородатая, женатая… Хи-хи-хи… А, чтоб вас… Камедь!..
Побелела Настасья, рученьками всплеснула, зашаталась.
Мельник крикнул:
— Пошли вон!.. Пьяные ваши рожи!.. Они — полудурки, товарищ дорогой, тово… с максимцем… Вон!!
У теток враз раздулись ноздри, а спина дугой, как у кошек перед собакой.
— Ах ты брюхан! — заорали обе вдруг. — Нам — тьфу, что ты сельсовет! А пошто же ты лишних по две копейки за помол берешь? Это порядки? Тьфу! Слушай, товарищ городской, мы тебе всю правду истинную… Он, нечистик, с чертом знается… Вот он какой сельсовет… Тьфу! Он, паскуда, нам в женотдел мужика рыжебородого всучил. Дуняха! Веди-ка сюда Настасея Сковороду…
— Как? — ополоумел гость. — Вот ваша председательша.
— Тьфу! — плюнули обе тетки. — Наш Настасей бородатый… Это он, брюхан, полюбовницу свою привел… У него их…
Настасья вскрикнула, хлопнулась врастяжку, захрипела.
— Обморок… Воды! — засуетился гость. — Кофту расстегните. Смочите грудь.
Тетки — к неизвестной бабе. Живо кофточку долой, вот так фунт — замест того-сего — ха-ха — ку-деля!
— Боже милосердный! — в страхе перекрестился мельник и попятился. — Кто же это? А?!
Тетки в хохот, в визг, понять не могут. Лежавшая вверх носом председательша шевельнула правой ручкой и чихнула.
А мельник плаксиво на колени перед гостем пал.
— Ваше скородие, как вас, с непривыку… Голубчик! Не губи… Действительно — мужик это… Только очень бритый… Враг попутал… То есть ах, боже… с перепугу все, согласуемо. Просто неисповедимо как… Ах, ах, ущерб какой… Вставай, рыжий черт!! — сдернул мельник шаль с плешивой головы Настасея. — Ишь развалился, быдто дохлый гусь… Кланяйся!.. Проси прощенья!..
Гость — брови вверх протирал вспотевшие очки и взмыкивал, потом стал неудержимо хохотать. Настасей помаленьку приходил, слава богу, в чувство.
Через десять дней, приказом города, были перевыборы в сельсовет и женотдел.
ПЛОВЦЫ
Море играло, как через край шампанское. Волны били в скалы и тщательно вылизывали пляж. Солнце обдавало, как из печки. И если взглянуть с обрыва, от беседки, можно видеть: пляж обрамлен длинным кружевом обнаженных тел. Дырявый заборчик отделяет женскую и мужскую половину. Вот несколько четвероногих подползли к щели и всосались взглядом в запретные обители женского эдема.
— Товарищи!.. Нехорошо… Неловко, — окликнули их.
С моря донесся резкий крик:
— Тону! Спасите…
Кружево тел сразу вздыбило вверх, кружево хлынуло к волнам. И путаные фразы:
«Тонет… Тонет… Вынырнул… Кто умеет плавать? Товарищи, на помощь… Эй!..»
На берегу — общее смятение. Никто плавать не умел. Бестолково суетились: «Лодку, лодку!» — «Я бы мог, да судороги у меня».
Вдруг из женской половины бросилась в волны длиннокосая нимфа. Искусно и быстро рассекая воду, она легкими взмахами плыла к утопавшему. Все замерли. Тысячи глаз влипли в нимфу, ждали подвига. Вот утопающий вынырнул, поболтал руками и — камнем вниз. Нимфа, круто повернув к нему, нырнула. И чрез мгновенье, при общем восторженном крике, на морской поверхности забелели два тела. Пловец был спасен.
Довольно интересный случай, прошумевший на весь Крым. Завершился он тоже интересно, по пословице: «Из огня да в полымя», — парочка поженилась.
С тех пор счастливые новобрачные всегда уединялись для совместного купанья куда-нибудь под скалу, в прохладу.
Миша Пташкин слепо верил в случай.
— Вот, черт его бей, какое счастье человеку привалило… Вместо того чтоб захлебнуться, такую красотку в жены взял… Где тут справедливость? Где закономерность? Темный случай, судьба — и больше ничего… Тьфу, черт! — ерепенился Мишка Пташкин и его угреватое, красное лицо с усиками щеточкой нервно дергалось. — Тоже приемчик, черт его бей, — продолжал он. — Наверно, нарочно прикинулся, гадина… Мазурик, больше ничего… Такую провокацию пустить. Да я бы…
— А ты попробуй сам… Ты тоже ведь жениться собираешься, — сказал ему приятель, телеграфист Очков.
— И попробую, — волновался Миша. — Думаешь — не попробую? Очень просто, возьму да и попробую. — Он тонкими, в бородавках, пальцами отщипывал ягодки винограда и ловко швырял их в рот. — Например, Зоя Петровна… Это не товар, по-твоему? А мускулы… Ты видал, какие у нее мускулы? На состязании в плавании второй приз взяла. Уж я ли за ней не ухаживаю? И сладостями разными пичкаю, например мороженым. И в горы верхом прогулки устраиваю. А она на меня — нуль внимания. Я по крайней мере на трех скамейках и на четырех деревьях в парке ее имя вырезал. Я с риском для жизни залез ради нее, как орангутанг, на новую беседку и на самом видном месте изобразил красной краской ее и свои инициалы с сердцем, проткнутым амурной стрелой любви! Вот до чего дошло… Меня чуть не арестовали за это, едва убежал. А она взглянула и — ни звука. Далее сказала: «Государственное имущество способны портить только дураки и хулиганы». Третьего дня хотел немножко обнять, вроде как случайно, а она: «Нет, уж вы, пожалуйста, того…» Через это я прямо-таки сгораю, во всем теле страшный вольтаж. Нервы — дрянь. Бессонница. А если уснешь — голые женщины в двусмысленных позах снятся. Я, конечно, не предлагал ей брак, я понимаю, что моя физиономия ей не нравится. А вот ежели я стану тонуть, а она, спасая утопающего, на мою мускулатуру вблизи взглянет, тогда посмотрим, кто кого…
Широкоплечий кривой телеграфист Очков на все лады подхихикивал над ним, наконец разразился звонким смехом:
— А ты в самделе, попробуй, Миша, раз на свой вольтаж надеешься. Может, и тебе фартанет…
— Обязательно попробую! Только в тихую погоду. И когда море посильней прогреется.
Через неделю у Миши был такой разговор с Зоей Петровной Голоноговой.
— Ах, Зоя Петровна, — сказал он, вытягивая длинную шею с кадыком, — я еще три фунта потерял. Вы не догадываетесь почему?
— Нет, не догадываюсь, — сказала девушка.
— Вы — мучительница, Зоя Петровна. Видит бог, мучительница, — вздохнул Миша Пташкин. — Ах, зачем я увидел вас… Через вашу наружность и отверженную любовь я вернусь из отпуска дефективным субъектом. Почему вы такая недоступная? В данный политический момент, когда кругом электрификация, на каждом углу громкоговоритель, ваша щепетильность звучит как абсурд. Уверяю вас. Вы корчите из себя бог знает какую целомудренность. Это не тактично, уверяю вас. Если б я был манекен, на который натягивают в магазинах брюки и пальто, то, конечно… Но я очень нервный, живой человек, с внутренней секрецией, что видно из популярных лекций. Правда, я, будучи в оптовом магазине, получаю по семнадцатому разряду и мог бы вам предложить… Как это выразиться культурнее…
— Нет, я замуж не собираюсь, — улыбнулась девушка, выписывая зонтиком вензель на песке. — Глядите, как хорошо садится солнце…
— Да, неплохо, — сказал он уныло. — А вот я не могу ни сесть, ни лечь. Как зажмурю глаза — вы во всей натуральности, без ничего, как апельсин без корочек. Зоя Петровна! — И оглянувшись, он бросился перед ней на колени. — Я люблю вас!.. Мучительница вы моя! Будьте моей по гроб жизни. Мне, как спецу, делают в нашем магазине значительную скидку со всей мануфактуры… Скоро будет получен великолепный тюль и тарлатан…
— Оставьте глупости, Михаил Степаныч! — И девушка отвернулась. — Встаньте!
— В таком случае, — вскочил Миша Пташкин и с бешенством стал выколачивать ладонью из штанов песок. — В таком случае, исходя из вашей жестокости, мне один выход — это утопиться. Да, да! И обязательно на ваших глазах… Уверяю вас… Да, да. Поверьте, вас замучает совесть… Вот нарочно оставлю на берегу в бутылке записку, а сам поплыву и утону. Нарочно!..
— А я вас спасу.
— Пожалуйста! — фатальным голосом воскликнул Миша Пташкин.
Море было тихое, день жаркий. Миша Пташкин, взволнованный и решившийся на последний шаг, зашел в часовню, поставил толстую свечу Николаю-чудотворцу, шефу утопающих, и направился к морю. Разделся, присосался глазами к щели в женский рай, сам себе сказал: «Здесь… Вот она… Ну, случай, выручай».
Он перекрестился и с трагическим лицом бросился в воду. Когда ноги потеряли дно, он отплыл сажен десять вперед, закричал: «Тону…» — и скрылся под водой. Тут был обрыв: тело до дна шло лениво, долго. Он умел кой-как плавать, но внутреннее чувство предостерегающе сказало ему: «А вдруг утонешь?» Он пробкой вверх.
«Утону, — подумал он, — ой-ой, судорога». И не на шутку закричал:
— Спаси-и-те-е! Эй!!
Он повернулся назад, в левой икре заныло, задергалось; он быстрым движением рук стал растирать ногу, захлебнулся, пошел вниз, открыл глаза — зеленое стекло воды, и пальцы на обеих ногах болезненно скрючились. «Конец…» Он с силой ударил руками: голова, взор обмакнулись в солнце, в воздух, — берег близко, люди мечутся белыми птицами. И она, спасительница, плывет к нему. В крике, в брызгах, он забился по воде, теряя силы. Вот закачался берег, закачалось над ним, под ним, кругом что-то неповоротливое и тягучее, все надломилось, посерело, растеклось, и последняя мысль была: «А как же… я за квартиру не заплатил…»
Пловец лишился чувств.
Он открыл глаза в тайное, в тот свет, в рай иль ад — не знает, и осмотрелся. Ни чертей, ни ангелов. Белые, самые обыкновенные стены. Койка, сестра милосердия.
— Ну, как? — участливо спросил сидевший возле него кривой телеграфист.
— А где Зоя Петровна, — слабо проговорил утопавший. — Где моя избавительница?
— Тебя спас я! — гордо сказал телеграфист, и улыбавшийся глаз его излучал самоотверженную любовь. — Я спас тебя, на лодке…
Миша Пташкин ударил в него, как пулей, свирепым взглядом, ахнул, прошипел: «Подлец ты!» — и вновь лишился чувств.
УСЕКНОВЕНИЕ
В село Нетоскуй прибыл знаменитый, с двадцатью тремя медалями, фокусник. А село большое, на четыре улицы, и в каждой улице по настоящему кулаку сидело, богатею.
В самой же маленькой избенке, на краю села, Мишка Корень жил, парень головастый, хотя и рябой весь, но очень грамотный: чуть что, вроде кулацкого засилья, например, так в газете и прохватит, потому — селькор, а подпись — «Шило».
Кулакам Мишка Корень — как чирий на сиденье, кулаки искали случая стереть его с лица земли.
Вот тут-то фокусник и пригодился.
Объявил фокусник, что желающему из публики он будет топором голову срубать, потом опять приставит, человек снова оживет.
Неужто верно? Да, да, да, милости просим убедиться.
Посоветовались кулаки между собою, и лавочник Влас Львов пригласил фокусника к себе на угощенье.
Вдвоем пили, взаперти.
— Да, гражданин фокусник, туго нашему брату и с богатством теперича, — печально помотал бородой Влас Львов. — И вот в чем суть… Ежели, допустим, коснувшись вашего рукомесла, вы оттяпали человеку голову, что же, неужели он умирает тут?
— Без сомненья, умирает, — ответил фокусник, бритенький и юркий, во рту золотой зуб и важнецкая сигарочка торчит.
— Так, так… Кушайте во славу. Пожалуйте уточку… Ах, какая утка примечательная… Просим коньячку… По личности сразу видать, что вы очень умный, просто полюбил я вас совсем. Ну, так. А потом, ежели голову приставить, опять срастется? Ока-а-азия…. До чего наука достигает… Страсть… Милай! Друг! А позволь тебя, андель, спросить… Например, ежели оттяпаешь, а тут в тебе головокружение, захвораешь нечаянно и на пол, вроде обморока? Тогда как? Ведь не станет же человек без башки полчаса дышать, умрет. Правильно иль нет?
— Без сомнения, правильно, — фокусник потянул из стакана коньячок. — Тогда, без сомнения, умрет так ловко, что, хоть пять голов приставь, не воскреснет. Но я в обморок никогда не падаю.
— Жаль, — мрачно вздохнул хозяин. — Шибко жаль. Только со всяким несчастья бывают. И по суду, ежели коснется, тебя завсегда оправдать должны… Ну что ж. Голову отрубил, скажем, парню, да и сам в обморок ляпнулся. Несчастный случай — да и все. А мы тебе… хе-хе-хе… сотняшку рубликов пожертвовали бы. Чуешь? Ну это — промежду прочим к слову. С глазу на глаз мы. Великая тайна, значит.
Фокусник допил коньяк, ухмыльнулся и по-дьявольски хитро подмигнул хозяину:
— Понимаю… Идет. Какого цвета волосы?
— Хых ты, андель, херувим! — схватил хозяин гостя в охапку, целовал его в уши, в лоб, в глаза. — Ах, до чего догадлив ты! Лохмы светлые у паршивца, как лен. Такая гадюка, страсть… То есть ах… Одно слово, ухорез, пагуба для всего правильного хрестьянства. Вот тебе в задаток два червончика. Ну только чтобы верно. Понял? Вот, вот. Достальные — после окончания. Прибавка будет. Озолотим.
А вечером кулацкий элемент предупреждал крестьян на сходе:
— Смотрите, братцы, своих парнишек не пущать башки оттяпывать. Боже упаси. Заезжему прощелыге с пьяных глаз — фокус, а человеку может приключиться смерть с непривычки.
Народный дом густо набит зеваками.
Фокусы были замечательные. Вырастали цветы в плошках на глазах у всех, исчезал из-под шляпы стакан с водой, фокусник изрыгал фонтаны пламени и дыма, в гроб клали девушку — помощницу, закрывали, открывали при свидетелях и — вместо девушки лежал скелет.
Зрители пыхтели, впадая в обалдение, старики и бабы отплевывались, крестились, призывая всех святых. Ребята широко открывали рты и не дышали.
После перерыва фокусник еще проделал много разных штук и в конце заявил ошалевшей толпе, что он хворает и поэтому отрубание головы отменяется. Народ вдруг взбунтовался, зашумел.
Громче всех, подзуживая зрителей, буянил кулацкий элемент:
— Ага, ишь ты! Руби, руби! — шумел народ. Толпа была возбуждена, раздувались ноздри.
— Идя навстречу желанию публики, — начал фокусник, — и благодаря угрозам, я, конечно, как будучи беззащитен против сотен зрителей, соглашаюсь. Но предупреждаю: операция может закончиться печально, потому что я утомлен и близок к обмороку.
Кулацкий элемент многозначительно переглянулся: «Клюнуло. Все как по маслу… Так».
— Согласны на таких условиях? Я всю ответственность переношу на вас.
— Жалаим!.. Просим! Сыпь!!
Кулацкий элемент радостно заерзал на скамейках.
— Желающие, пожалуйте на плаху! — озлобленно крикнул фокусник и покачал широким топором.
Никто не шел. Все оглядывались по сторонам, шептались, подбивая один другого. В углу уговаривали древнего старца — ведь это ж не взаправду, а ежели выйдет грех, деду все равно недолго жить. Старец тряс головой, плевался, а когда его подхватили под руки, загайкал на весь зал:
— Караул! Грабят!
И вот раздался голос, очень похожий на голос торгаша Власа Львова:
— Пускай Мишка Корень выступает! Он — комсомол, не боится ничего.
Минуту было тихо. Потом, рассекая полумрак, взвились насмешливые крики, как бичи:
— Ага, Миша! Боишься?! Вот тебе и нету бога! Тут тебе, видно, не митинги твои… Ха-ха!.. Попался?!
Селькор Мишка Корень, сидевший на первой скамье, вдруг встал, весело швырнул слова, как горсть звонких бубенцов:
— Сделайте ваше одолжение, сейчас! — и быстро заскочил на эстраду.
— Не боитесь? — спросил фокусник громко, чтоб все слышали, и, скосив глаза, строго осмотрел жизнерадостного, в белых вихрах, юношу.
— А чего бояться? — так же громко ответил тот. — Без головы не уйду.
— Ну, смотрите… Чур, после не пенять. Давайте завяжу вам глаза, а то страшно будет.
В задних рядах девчонка, сестра Мишки, с ревом сорвалась с места и кинулась домой, предупредить отца:
— Мишку резать повели!
Фокусник завязал лицо юноши белым платком по самый рот и усадил его возле стола с плахой.
Юноша не знал, что заговорщики, затаив дыхание, ждут его конца, ему и в ум не приходило, что фокусник — продажная тварь, предатель, он не чувствовал сердцем, что его сейчас убьют, поэтому так доверчиво, с улыбкой он положил на плаху свою голову.
На сцене — полумрак. Фокусник засучил рукава и ухватился за топор. Весь зал с шумом поднялся на ноги, вытянул шеи, замер. Зал верил и не верил.
Сверкнул топор, зал ахнул, голова с хрястом отделилась от туловища, тело Миши сползло со стула на пол.
Фокусник взял в руки белокурую, с завязанным лицом, голову и показал народу. Из горла свисали жилы, струилась кровь.
С визгливым криком несколько женщин лишились чувств. Зал оцепенел. Мертвящей волной пронесся мгновенный холод. Зал копил взрыв гнева и тяжко, в сто грудей, передохнул.
Фокусника охватила жуть, он увидел звериные глаза толпы, побелел и зашатался.
«Сейчас упадет», — мелькнуло в сознании торгаша Власа Львова.
Толпа враз пришла в себя и с гвалтом, опрокидывая, скамьи, топча упавших, зверем бросилась вперед:
— Убивец!! Подай Мишку!
Толпу охватило яростное пламя мести, крови:
— Ребята, бей!! Души!!
Но вдруг толпа с налету — стоп! — как в стену: из-под стола с хохотом поднялся казненный Мишка Корень и в гущу взъерошенных бород, перехваченных ревом глоток звонко закричал:
— Товарищи! Я жив и невредим!! Да здравствует советская власть! Урра!
Весь зал взорвался радостными криками: «Ура, браво, биц-биц-биц!»
— Товарищи! — надрывался фокусник. — Это же в моих руках голова куклы. Это же ловкость рук! Прошу занять места… Сейчас будут объяснены все фокусы!
Тут вздыбил на скамьи весь кулацкий элемент. Очнувшийся Влас Львов громогласно заорал:
— Жулик ты! Обманщик!… Тьфу твои паршивые фокусы!! — И озверевшим медведем стал продираться к выходу. — Хорошенькие времена пришли! Ни в ком правды нет… Ни в ком!!
Фокусник, юркий, бритенький, улыбнулся ему вслед. Во рту фокусника золотой зуб и важнецкая сигарочка торчит…
КОЛЬЦО
Афоньке шесть лет, его двоюродному брату Степану — шестнадцатый. В третьем году Степан уехал с отцом в Москву, уехал Степкой, вернулся Степаном Обабкиным, «комсомольцем молодежи». В голодное время его отец работал в деревне на своей земле, потом вновь поступил на фабрику.
— Батька мой — большевик, — с гордостью говорил Степан. — И как где собрание, обязательно речь сказывает… Называется — предшествующий оратор. Я всякий раз на собрания ходил. Речей двадцать завсегда. Слушаешь, слушаешь — уснешь: уж очень люблю я речи слушать. Батька мой, конечно, в общем и целом — слесарь, а я — комсомолец молодежи теперь. Хочешь в комсомол? Я здесь организую. У вас тут засилье, ни одного комсомольца нет.
И много, много рассказывал Степан Обабкин белобрысому, большелобому Афоньке. Тот хлопал глазами, во все уши слушал, от напряжения потел.
О разных московских чудесах повествовал Степан: об электрическом свете, о трамваях, кинематографах, аэропланах, и какие представления в театрах, и о том, как в майский праздник вся Москва на площадях: все красным-красно, и двадцать миллионов рабочих масс.
Заманчивей, упоительней всего для Афонькиной души рассказы о полетах ввысь и кинематографе.
— Ну и картинки… Вот картинки! — поддавал жару Степан Обабкин. — Например, охота на диких зверей в Африке, — неограниченная республика такая существует: тигры, слоны, львы. Ужасти, до чего занятно. Эх, вот бы тебе, Афоня, в общем и целом поглазеть!..
— А звери-то настоящие? — раздувал ноздри Афонька.
— Неужто нет! Все настоящее… Опять — дворцы, и как в них тираны-короли живут-прохлаждаются, или, например, города разные, моря, корабли. Все настоящее… Гонщиков еще показывали на автомобилях. Знаешь? Называется — знак тринадцать. Все натуральное, всамделишное, обмана нет.
— Вот бы… — прошептал Афонька, и вдумчивое, выразительное лицо его умилилось.
А тут… В этакую глушь, в трущобу нежданно-негаданно прибыл какой-то человек, называется — киноспец, фамилия непонятная. Росту он небольшого, коренастенький, на носу — глазастые очки; из каких он народов— неизвестно. Даже Степан Обабкин не мог определить.
— Лоб китайский, нос чухонский, глаза цыганские, а голова с плешью, — говорил он. — Надо полагать — интернационал. Только не музыака, а личность.
И вот началась история.
Киноспец снял у крестьянина большой пустовавший сарай, быстро приспособил его для кинематографа и вывесил афишу, что, мол, будет показано самое настоящее кольцо Нибелунгов, замечательная картина, мировой боевик, от которого ахнешь, а кто не верит, может убедиться за 15 копеек серебром или 5 штук свежих яиц, не болтунов. После же сеанса, мол, будут со сцены кушать семидюймовые гвозди с демократическим подходом к событиям, а не как довоенные жулики-шпагоглотатели с буржуазной точки, и прочее, и прочее, да здравствует Советская власть!
В этой глухой, но зажиточной деревне сроду никто не видывал кинематографа, и, несмотря на приманчивые зазывы киноспеца, билеты вовсе не раскупались. Тогда в подмогу киноспецу сам себя мобилизовал Степан Обабкин: согласно идеологии, он с жаром взял под свою защиту это культурное начинание. Вместе с Афонькой, тоже пожелавшим принять горячее участие в деле столь высокой важности, они бегали из избы в избу с агитацией. Степан Обабкин в новых брюках клеш и картузике со светлым козырьком уверял мужиков и баб, что невиданной живой картиной все останутся довольны; там все движется: лошади бегут, собаки лают, люди дерутся или целуются, как живые, и все живое, настоящее, без всякого обмана, даже можно испугаться, когда вдруг пожар или в пропасть вниз башкой, а за ним погоня…
Однако красноречие не помогало. Тогда Степан Обабкин, забыв заветы комсомольства, начинал клясться и божиться, как цыган, размашисто крестясь в передний угол.
— На, черти, на! Вот те Христос… Да что ты, дядя Игнат, не веришь-то?
С ним заодно усердно крестился и торжествующий Афонька. Парнишка сразу вообразил себя большим, даже пробовал щупать верхнюю губу — не выросли ль усишки. Под влиянием Степана Обабкина он чувствовал и сознавал всю важность лежащей на них двоих задачи.
Степан же Обабкин, если прижимистые мужики не шли и на божбу, употреблял угрозу как последнее средство агитации:
— А кто не придет, — становился он в позу и смахивал на затылок картузик свой, — кто не явится, тот будет в подозрении, потому что тот человек не верит в Советскую власть плюс литрификация! А верит в попов для одурманивания бога и темных масс!
— Темных масс, — вторил и Афонька, делая лицо строгим, значительным.
— Неужто вы не можете понять, — гремел комсомолец, — раз город повернулся лицом к деревне?
— Лицом к самой деревне… — толстым голосом прохрипел и Афонька, но пуговка на его вздутом животе вдруг лопнула, и штаны упали на пол.
Все захохотали. Афонька же быстро натянул штаны и весь вспыхнул. Внезапный провал Афонькиной деловой солидности сжал его гражданское маленькое сердце, и он, поддерживая проклятые штаны, с горьким плачем выбежал на улицу.
Положение дела с сеансом спас милицейский. Он приехал для порядка из соседнего села, где в прошлое воскресенье киноспец показывал фильму.
— Успех обеспечен, товарищи, — говорил он собравшимся на лугу крестьянам. — Прямо удивительно. Да вот увидите… Волосы дыбором встанут. Ленту покажут первый сорт.
— На кой нам его лента-то? Девки мы, что ли? — отнекивались, галдели мужики. — То кольцо, то лента… Нам правильное кажи… Чтоб польза… Клевер там либо удобрение какое… Небось драть — дерут, а тут так…
Однако народу на сеанс привалило много: огромный сарай едва вместил. Добрая половина зрителей пролезла, конечно, даром: под шумок, когда начался сеанс, парни с ребятами разобрали угол крыши и скакали в мрак, как в омут жабы.
Дед Вавила, что глазами недоволен, на первую скамейку с внуком Афонькой сел.
— Сеанс начинается! — крикнул киноспец.
Что-то замигало, замигало, вспыхнуло, гладкая, выкрашенная известкой стена вдруг провалилась, и вместо нее — живая жизнь. Раздался общий удивленный вздох, затем глаза и рты широко раскрылись, таинственный полусумрак онемел.
Афоньке стало жутко и приятно. Афонька слышал много сказок, и вот теперь перед ним, перед самым его носом — имай, бери! — настоящая сказочная явь.
Дрожащим шепотом Афонька объясняет:
— Вот гляди, дедушка, все настоящее это… Гляди, гляди!.. Лес-то какой, домище-то какой… И господа… Кажись, короли да королевы…
— Франциль Винциял, — прошамкал дед. — Либо Бова-королевич представлен это.
— Нет, дедка!.. Настоящие. Спроси-ка Степку. И лес настоящий… Гляди, ветрюм-то как его треплет… Аж шумит.
Вдруг лесной тропинкой какой-то длинноволосый дурень на белом коне мчится. И прямо на деда. Дед как вскочит, Афонька — за ним.
— Не озоруй!.. — крикнул дед в стену, где шумел, качался лес. — Пошто озоруешь? Пошто коня на народ пускаешь? Неужто он, дьявол, ослеп — скачет прямиком на нас с Афонькой?
— В чем дело? — спросил сзади киноспец, он бросил накручивать, и картина остановилась.
— Лопнула, лопнула, — зашуршало по толпе.
— Ничего подобного, у нас нет лопнутых картин, — обиделся киноспец. — Сейчас увидите небывалую от сотворения мира битву великого витязя Зигфрида с невиданным драконом, длина которого — семьдесят две сажени, а в метрах значительно больше.
Все ахнули и покачнулись. Драконище, поводя огромной, величиною с хороший дом, страшной мордой, пил воду из гремучего ключа. Многие заплевались, кто-то крикнул: «Вот так, братцы, крокодил!» Дед Вавила крестился, неумолчно творя вслух молитву:
— Заступница усердная… Мати господа высшего. Всех нас заспаси-спаси, помилуй, — кряхтел он, обливаясь страхом.
Надо бы без оглядки прочь бежать, но уж очень интересно, как Франциль Винциял будет с окаянным биться. Однако, когда зверь повернул свою трехэтажную устрашительную морду к деду и чихнул, возле деда запахло редькой, Афонька же прошептал:
— Настоящий… Ой, сожрет он рыцаря. Вот, дедка, каких зверев господь создал…
— Чтоб ему лопнуть, нечистой силе!.. Свят-свят-свят!
Вот показался рыцарь. Он сбросил с себя одежду и нагой бежит по тропе к чудовищу.
— Голый, голый! — захихикали бабенки… — Эй, молодчик, беги к нам!
Рыцарь сверкающим мечом удар за ударом наносил дракону. Зверь бил хвостом, шевелил лапами, крутил мордой, и глаза его, каждый по стогу сена, свирепели.
— Кончины живота нашего… безболезненны, непостыдны, мирны, — крестился, шамкал дед. — Ох, язви те… Гляди, гляди!.. Обранил… Так его, собаку… Дуй!.. — закричал он и замахнулся на зверя батогом.
А Афонька:
— Настоящий! Глянь: кровь текет из ноздрев. Глянь: блюет, блюет!..
Зверь изрыгал из пасти потоки крови, кровь лилась из ран и ноздрей. Его глаза смежались смертью. Дед дрожал, хватался то за скамейку, то за внука: ему казалось, что подыхающее чудовище перевернется через башку и всех, сколько есть в сарае народу, раздавит всмятку.
— Живот чего-то схватило, — прокряхтел дед. — Побудь тут… А я сейчас… До ветру… — и закултыхал враскорячку вон.
Свет погас. Киноспец сказал:
— Сейчас будет девятая, последняя часть…
— А где же седьмая-то с осьмой? — удивились голоса.
— А это благодаря опечатке, — отрапортовал киноспец, и его очки перескочили с горбины на лоб. — Но это, товарищи, ничего, поймете. Остальное я дополню игрой воображения.
— Черт с ним… Игра так игра, — брюзжал народ. — Крути скорей. Эй, ты, облакат!..
Картина менялась долго. Дед пришел и сослепу чуть не сел на какого-то младенца.
— Я, дедка, здесь!.. — позвал Афонька.
— Ах, ядрена каша, — удовлетворенно сказал дед, когда победоносный рыцарь появился во дворце прекрасной принцессы.
Дед вытер с лысины пот и не отрывался от картины. Но вот киноспец объявил, что сеанс окончен.
— А где же кольцо? — прошил примолкший полумрак чей-то голос, колючий, как веретено.
И заскакали выкрики, перебрасываясь от стены к стене:
— Мошенство это!.. Обещались небелужье кольцо какое-то да ленту…
— Да и то не показали… Где оно? Омман!
— Крути еще! Хозяин, а хозяин!
— Братцы, требуй! Ах, занятно до чего…
— Вот чудеса-то, братцы!..
— Ну, ребята… У меня от удивленья аж рубаха взмокла вся…
— Крути!.. Чего молчите, требуй!..
— Сеанс окончен! Надо ленту перематывать.
— А ты не перематывай, крути!.. Занятно, слышь…
— Я сказал: сеанс окончен!
— Братцы! По афише — гвоздье глотать… В таком разе — требуй!
— А неужто отступаться… Эй, товарищ из городу!..
— Гляди, не сбежал ли?! От них, от легавых, как раз…
— Иди гвоздье, сукин сын, глотать, раз обещал!.. А нет, мы те…
На опрокинутую вверх дном бочку поднялся киноспец:
— Тшш… Спокойно!
— Товарищи! Граждане! — Он был бледен, бритое лицо его покрыто потом, голос глух. — Гвоздей требуемого размера в продаже нет благодаря огромного спроса.
— Ах, не-е-т!.. Так мы те шурупов принесем. Винтов да гаек. Жри!
— Помимо сего, товарищи, мой помощник, спец по едению гвоздей, украл у меня три с полтиной и, как человек, подверженный алкоголю, скрылся. Он, наверно, где-нибудь сидит и наслаждается пьянством, поставив меня в невыгодном свете среди вас. Я как директор прошу снисхождения.
— Деньги назад! — загремел сарай. — Сколько пятиалтынных в карман оклал? Ишь ты… Яичками сбирать… Пять штук за вход.
— Товарищи! — вздыбил на бочке милицейский и помахал картузом. — Это недопустимо, товарищи, чтоб назад деньги. Он как-никак трудился, ехал, крутил машину… Расход и все такое…
— Не желаем! Глотай гвоздье, раз взялся… А нет, мы те сами в рот вбякаем… Обманщик, жулик!..
— Товарищи! — потрясся голосом киноспец. В его острых глазах вдруг заиграли зайчиками лукавые смешинки, но губы опасливо вздрагивали. — Я предвижу выход из положения, товарищи… Вместо всем приевшихся гвоздей я покажу фокус египетских магов: живой овце публично отрежу голову, а потом приставлю к тому же пункту, голова срастется, и овца начнет как ни в чем не бывало кричать по-бараньему. Желаете?
— Ребята, как?
— Жалаем! Кажи!.. Просим!
— Тогда тащите сюда хорошую, вполне живую овцу, — и киноспец обвел собрание веселым взглядом, скрытый смех кривил его бритые, взнузданные кверху губы.
Минуту стояла тишина, огрузшая тяжким сопением, точно волокли всем миром в гору стопудовый воз.
— Митрий, — несмело раздалось из темного угла. — Тащи, шутки ради, овечку. У тебя много их.
— Нашел дурака, — окрысился Митрий и сердито повертел во все стороны длинной шеей. — Где ж ему, к лешевой матери, овечью башку пришить, на то же место, к тулову, раз он срежет. Да что он — бог, что ли, или угодник?..
— Напрасно, товарищ, сомневаетесь… Все исполню, как сказал.
— Дед, приведем овечку, — ткнул Афонька сладко дремавшего деда. — А, дедушка!
— Какую овечку? — вытер дед слюни. — Я те приведу…
Амбар жужжал, как улей. Крестьяне уговаривали друг друга притащить овцу. Никто не соглашался. Посыпались укоры, ругань:
— Жадный, черт…
— Сам, дьявол некованый, жаднюга…
— Ты в председателях ходил, набил карман-то!..
В углу бранились бабы. Антип тряс Митрия за грудь и кричал ему в рот, как безнадежно глухому. Бранливые голоса скрипели, трещали, ломались, будто усердные старатели швыряли лопатами щебень и камнищи. Вот у стены взмахнул кулак и, как грач в гнездо, пал с налету в чью-то бороду.
— Ах, ты драться, тварь? Выходи, коли так, на улку!
— Я те и здесь влеплю леща!
И еще десятки ртов смачно переплевывались гнусными словами из конца в конец. Попахивало мордобоем, свалкой.
— Стой! Братцы! Что это за безобразие! — надрывался милицейский — Всех перепишу и к допросу… Дьяволы какие, а?!
Шум постепенно стал смолкать.
— Товарищи! — вопил с бочки комсомолец молодежи и что есть силы топал ногами в дно; клеш мотался и шлепал, как собачьи уши. — Товарищи! — перхая и кашляя, кричал он. — Такой неорганизованный скандал из-за шелудивой овцы — позор культуре!..
Шум потух, как во тьме костер, но сердитое пыхтенье клубилось серым пеплом и, словно угли, тлели обозленные глаза.
— Неужели вы, будучи сознательны, — говорил комсомолец молодежи, — не можете предоставить один комплект овцы, которая будет возвращена хозяину в общем и целом, да я еще гривенник от себя прибавлю тому сознательному товарищу, раз он постарается для процветания науки. Ведь это фокус, товарищи! Я и не такие еще фокусы видывал, будучи в красном Ленинграде. Да не шумите вы! Желаете, нет?!
— Просим, сыпь!
— Например, фокусник берет у гражданина новую, дорогую шляпу, разбивает туда десяток яиц, кладет масла скоромного, соли и жарит в шляпе, как на сковородке, яичницу-глазунью. Все удивляются и сидят, разинувши рты от удовольствия, а гражданин, будучи голова босиком, хочет звать милицию, что испортили евоную шляпу. Все оцепенели, как при ужасном преступлении, а из шляпы с яичницей валит пар. Ну, в это время ударяют, конечно, в барабан, а фокусник — пиф-паф! — кидает вверх гражданскую шляпу с яичницей и — гоп-ля! — шляпа в новом виде, будто сроду не надевана, делает мертвую петлю и летит к гражданину, который рад. А яйца, не разбитые, а в общем и целом падают в фартук фокусника…
— Правильно, верно… — подтвердил милицейский. — Я видал.
— А вы овцу жалеете… Эх, вы! Народы! — комсомолец подбоченился, гордо взглянул в сторону Афоньки, взглянул разом на весь сарай и ударил криком в низкий потолок:
— Даешь овцу?! Кто сознательный?!
— Я! — поднялся крестьянин из бедноты, Акинфиев. — Я самый сознательный и есть! — Сонное лицо его помято. Он зевнул, сказал: — Сейчас пымаю, — и, неуклюже, натыкаясь на людей, направился к выходу. Из дверей заспанным, потным голосом спросил: — А замест овцы поросенка ежели, сосунка? — и, не дождавшись ответа, скрылся.
Томительные минуты ожидания прервал Степан Обабкин. Он вскарабкался на бочку, заложил руки в карманы и, повертываясь на каблуках во все стороны, начал:
— Вот, товарищи, благодаря хождению за овцой можно митинговать о картине, которую рассматривали в упор. Я, будучи комсомольцем молодежи, во всяком разе должен вести агитку, согласно идеологии, как отец учил. Воротимся к зверю. Вот видите, граждане, обратите ваше внимание, какие в царских лесах водятся первоклассные драконы. Вот оно, засилье буржуев! Эти самые буржуи, потрясая кровавыми челюстями и пуская из рабочих кровь, окопались с королями и завладели всем огромадным примечательным зверьем. Называемые рангу-танги, или, по-русски, драконы, ни в какой копчег не влезут! И этими чудовищами владеет преступная кучка буржуазии. Им с таким зверьем, товарищи, жить тепло и не дует. Не надо никаких тракторов, товарищи, ни волкостроев, ежели такого черта обучить пахать. Да этот зверина тыщу вагонов попрет и не крякнет, ежели зацепить за задние лапы. Вот они, паразиты-буржуи, какое окружение делают нашей стране. Долой соглашателей!
Степан Обабкин, маленький и вихрастый, взмахнул рукой и победоносно осмотрелся.
— Теперь вникните, товарищи, какое же наследие оставила буржуазия пролетариям и нам, крестьянам? Что за звери достались на нашу угнетающую долю? А достались нам, товарищи, замест замечательных допотопных драконов какие-то паршивые объедки с барского стола, какие-то крысы с кротами да хомяками. Вот что с нами делают заграничные банкиры!.. Самый же крупный зверь у нас — это ведмедь, и тот косолапый, не говоря уже про мировой масштаб. А мясо евоное в рот не возьмешь, даже и в голод. Вот, товарищи, вы теперь очень даже наглядно видите, как нашего брата облапошивает иностранный капитал, какую выдумывает блокаду. Вот где окружение-то, вот где постольку-поскольку зарыто небелужье-то кольцо!.. — Комсомолец молодежи азартно сплюнул и закричал, потрясая кулаками и клешем — Но настанет час, товарищи, когда мы с Красным знаменем в одной руке, с ручной бомбой в другой…
— Товарищ! — прервал его киноспец. — За поздним временем — сядь. Граждане, он ничего не понимает в сценариях. А дело в том, что здесь все искусственно: как первобытный лес, так все дворцы и действующие лица, это все искусственно, то есть не натурально, а сделано в Америке или Германии, в особых павильонах, вам не понять — в каких, но мы не будем вдаваться в философию. А дракон и подавно не настоящий, таких чудовищ на свете нет, это оптический обман.
— Ага, обман? — задирчиво, как дратвой, кто-то протянул. — Видали, братцы?!
Афонька же широко открыл глаза и позабыл дышать. Нет, врет этот самый гражданин, будто все ненастоящее, врет, врет, людей морочит!..
А киноспец свое:
— Этот колоссальный дракон сделан из дерева, проволоки и брезента, а сверху выкрашен, — клевал он носом и поправлял очки. — В середке же, в брюхе у чудовища и в морде сидят люди, в каждой лапе тоже по человеку для механического восприятия. Эти люди производят там манипуляцию вправо, влево, отчего чучело оживает. Понятно теперь? Я слышал во время сеанса детский голос, что чудовище блюет. Ничего подобного! Он употребляет в пищу только нефть, как физический механизм. А из ран и прочих природных отверстий у него течет красная вода, которую выкачивают спрятавшиеся туда рабочие, когда им крикнут, что, мол, шкура протыкнута, качай, ребята, со всех сил. Значит, тут все основано на иллюзии, на оптическом обмане, и пугаться нечего, как сделал сидящий передо мной старец возле милого мальчишки. Надо только восхищаться полным усовершенствованием и до чего дошла наука в СССР.
— Врешь, дурак, врешь, — шептал сквозь слезы Афонька, — зверь самый настоящий… Врешь!
— Товарищ киноспец! — закричал Степан Обабкин, сменяя говорившего. — Вы мне за поздним временем подали сигнал — садись, мол, но это абсурд. Я не маленький и спать постольку-поскольку не хочу. Я тоже платил пятиалтынный, заработанный самым кровавым трудом.
— Вальни, вальни его, Степка, пошибчей! — сердцем, кровью, безголосно прокричал Афонька. — Сволочь какая, враль!
— Я приветствую вас, товарищ киноспец, от имени всего комсомола, как предшествующего оратора, и раз зверь не настоящий, то я извиняюсь, повертываю идеологию и иду дальше. Очень хорошо, что таких зверей на свете нет, а это — американское чучело, — сказал Степан Обабкин и взглянул на Афоньку. Тот вдруг опустил голову, замигал и стал колупать скамейку. — И очень хорошо по двум пунхтам: первый пунхт программы, если такие звери, спаси бог, водились бы в трудящей стране, они сожрали бы весь урожай предыдущих годов. Ведь одному такому дьяволу к ужину тридцать возов сена нужно, окромя пойла и прочих нарпитов. Что касаемо второго пунхта, вникните, товарищи, в положение американских рабочих. Одни рабочие попали чудовищу в ужасные лапы и там сидят, как со строгой изоляцией… А другие рабочие в брюхе корячутся вправо, влево, не имевши кубатуру воздуха. Я вас, товарищи, спрашиваю: нормально это или позор? Ага, вы молчите из полного сочувствия, факт! Вы, товарищи, обратите внимание, ежели читаете газеты, где сидит наш рабочий и крестьянин и где заграничный! Наш сидит летом в Крыму, во дворцах, а заграничный настолько забит буржуями, что лезет в общем и целом во что попало: дракон встретится — в дракона, черт, искусственный валяется на дороге, он и в черта постольку-поскольку рад залезть благодаря малосознательному затемнению масс. Позор буржуям и всемирным лордам! Бей их, анафемов, как бил голый человек на картинке, хотя одетый рыцарем, а наверняка из трудовой глубокоуважаемой интеллигенции! Как этот оратор… нет, не оратюр, а как его… проткнул пузо анафеме. И примем, товарищи, единогласную резолюцию, чтобы после этого удара у дракона, который есть всемирный буржуй-капиталист, потекла не вода из насоса, а настоящинская кровь, согласуемо идеологии! Я кончил, товарищи…
Степан Обабкин форсисто вынул из кармана аккуратно сложенный платок, ловко встряхнул его и, помахивая в раскрасневшееся, счастливое лицо, соскочил с бочки.
Керосин в лампе выгорал. Конопатый дядя подбавил свету. Слышались утомленные позевки. В двух-трех местах безмятежно похрапывали. Бабы, как белки, лущили семечки, сплевывая шелуху на колени, на головы соседей. В заднем углу парни прищучили девок к стене и жали из них масло, девки повизгивали и пыхтели, сопротивляясь ядреными задами и спинами натиску парней.
Афоньке же хотелось плакать, хотелось броситься на киноспеца, разбить его глазастые очки и бежать без оглядки в лес.
— А ведь правильно, паршивец, разъяснил, — грубо упал в шершавое затишье готовый к скандалу голос. — Комсомолишка-то…
— Степка — молодец, с понятием…
Степан Обабкин, публично названный паршивцем, встопорщился, как на червяка галчонок, и уже занес ногу, чтоб с горячей отповедью вскочить на бочку, но его нога миролюбиво опустилась: ведь оскорбивший его обидчик все-таки оказал, что он разъяснил правильно, и это комсомольцу льстило. Он только крикнул, грозно рассекая воздух кулаком:
— Тут паршивцев в общем и целом нет! — и сел.
— Жулик! — резко отчеканил, как кулик в болоте, тот же голос. — Наобещал, наобещал, а показал фигу! Тоже, картинки двигательные…
— Да мы на такие картинки и чхать-то не стали бы. Тьфу! Какой в них прок? Одно непонятное…
— Чего мелешь! Пес с ней, что непонятная… Зато живая…
— Лес — фальшивый, этот окаянный крокодил — тоже фальшивый, дворцы фальшивые, и господа с царями фальшивые… Тьфу!
У Афоньки пуще заныло сердце, кончик носа стал холодный, словно лед, уши горели.
— Все фальшивое! — опять прохрипел скандальный голос. — А небось денежки с нас требовали не фальшивые… Ишь ты!.. Губа-то не дура… Жулики!
— Врешь! Очень интересный сеянец. Просим еще посетить…
— Ах, еще? Кому это желательно еще? Ну-ка, высунь морду на свет. Эй, шапка!
— Картина — первый сорт! — раздались молодые голоса. — Только вот кольца нету. Где кольцо? Хозяин, а хозяин!
— Кольцо Нибелунгов, товарищи, — проблестел очками киноспец, — оно находится в последней части, оно будет показано в следующий специальный приезд. А то нашему брату, частному предпринимателю, обрезаны права и ленты дают с изъянцем, — он бросил окурок и притоптал американским сапогом.
— Правильно! — поднялся милицейский. — Товарищи, я как представитель власти должен вас обнадежить так: в газетах получено известие…
— С живого-мертвого налоги драть?
— Ничуть не бывало! — строго боднул головой милицейский. — Правительство, повернувшись лицом к деревне, хотит образовать правильную постановку через показывание натуральных картин казенным способом, будут агитки показываться, боевики, а также и хорошие картины насчет обработки земли как в России, так и за границей. Это факт!
Степан Обабкин сказал:
— Выразить благодарность от лица крестьянской бедноты!
— Просим, просим!
Кто-то засмеялся:
— Беднота за овцой ушла… Где он, дьявол?!
На светильне нагорела черная шапка. Пахло копотью, онучами, пареной брюквой и деревенской духмяной дремой.
— А теперь, товарищи, пойдемте спать, — предложил милицейский. — Два часа уже…
— А овцу-то резать? — всполошились голоса.
— Эй, сходите кто-нибудь за Акинфиевым!.. Что он, тетерев мохноногий, шутки-то шутит!.. Да карасину бы…
— Поздно, ну его к чертям с овцой-то… Айда домой!
Зрители проснулись и, позевывая, стали выползать на свежий воздух.
Было темно.
Вдова Агаша Красна ягода напоролась на плетень, разорвала форсистую кофточку в разводах и звонко заругалась в печенку, в селезенку, во всяко место. Парни подсвистывали, гоготали:
— Эй, Агаша! Иди, заштопаем! — И, нарушая собачий сон, орали песни.
Кучка человек в пять ради озорства постучала к Акинфиеву. Тот вздул огонь, открыл окно.
— А овца?! Ты чего же это, лешегон? Какой же ты, к черновой матери, сознательный? Сколь часов порядочных людей заставляешь ждать не жравши. А?
— Да, бра-а-тцы… Баба не дает, — виновато прохрипел лохматый Акинфиев, почесывая бороду. — Говорит, зарежут до смерти, а там судись.
— Какого ж ты черта!.. Пришел бы, упредил.
— Да, бра-а-тцы… Нешо не знаете? У меня нет овцы-то…
— Тьфу! Чтоб те сдохнуть, — и кучка со злобным смехом удалилась.
Летучая мышь задела крылом белоголового, в белой рубахе Афоньку и беззвучно упорхнула.
Афонька еле двигался, он вел деда за рукав и был подавлен виденным и слышанным. Его душонка была пуста, как вывернутый карман. Эх, Степка, Степка!
— Ты что в молчанку-то? — спросил дед, шаркая ногами по невидимой земле.
Афонька вздохнул и продолжал путь молча.
— Замаялся, что ли? — опять спросил дед.
— Так, ничего, — булькнул-всхлипнул Афонька.
Он много слышал сказок от бабушки, от деда, от товарищей. И душа его, как жаворонок в свете солнца, трепыхала в ребячьих сказочных мечтах. Афонька верил в сказку, как в явь, как в быль. В сказке все живое, настоящее: и Кащей бессмертный, и Конек-Горбунок, и Баба-Яга, и Франциль Винциял, — все быль и явь. И словно волшебный сон. Афонька, сидя рядом с дедом, увидал в натуре живую сказку: и Змея-Горыныча, и Франциль Винцияла, и бородатых колдунов, и прекрасную Миликтрису Кирбитьевну.
И вею жизнь был бы Афонька по горло счастлив, не открой рта этот очкастый цыган-китаец. Прахом рассыпалась Афонькина мечта, нет на свете сказки и не будет.
И вот, спотыкаясь и сопя, лобастый, вдумчивый Афонька ведет деда в свою душную, маленькую избу, и ему представляется теперь, что и деревня их не настоящая, и лес, и пашня, и небо— все фальшивое, и люди не настоящие, поддельные, и дед, да, может, и он сам, Афонька. Настоящей же, всамделишной казалась ему лишь одна темная ночь, сквозь которую он тащил упиравшегося деда.
«И чего это сплоховал Степка, дурак? А еще я, говорит, комсомол. Оробел, видно, струсил. Дурак, дурак».
Ночью все крепко спали. Даже милицейский, кот, курицы, петух и киноспец, даже комсомолец Степан Обабкин. Афонька же не мог уснуть. Афонька плакал неслышно, в подушку, крадучись.
Плакал, плакал, а Степка и говорит ему: «Пошто ты это в общем и целом воешь?» — «Ничего нет на свете взаправдашнего, настоящего», — пустил пузыри Афонька. «Брось, — сказал Степка, — садись скорей»… Афонька сел и — полетели. Все выше, выше. Глядь — облака, словно кисель. «Эх, поесть бы», — подумал Афонька, но ложки не было. «А где же солнышко?» — спросил он друга. «Ночь еще», — ответил комсомолец молодежи.
Глядь — месяц, и совсем будто недалечко, версты два-три: ох, и большой, и светлый! И какие-то жители кирпичом толченым его трут, поплюют-поплюют, да ну тереть тряпицей. «Эго субботник называется, — пояснил Степка, — трудповинность».
А кругом звезды так и подмигивают, так и смотрят во все шары на летунов. «Удивительно как», — улыбнулся Афонька голосом, а самому страшно, сердце мрет. Летят, летят. Города, деревни, пашни, лес. «А это Москва, — гордо сказал комсомолец молодежи, Степан Петрович Обабкин. — Кремль видишь? Солнце встает». — «Солнышко, солнышко!… — громко закричал Афонька и с тревогой вдруг спросил, как бы спохватившись: — А он настоящий?» — «Кто?» — «Этот самый… Вот летим-то… Ироплан?» — «Знамо дело — настоящий, раз вверх летим… И мы с тобой настоящие». Афонька любовно гладит струны: «Настоящий! Милый мой…» — и чует: трудно дышать от радости, вздыху нет, фу ты… «Держись, садимся!» — и на землю хлоп. Афонька вздрогнул, открыл глаза и сел.
Белое утро, настоящее. Туман глядит в настоящее окно. У печки мать овсяные блины печет, самые настоящие, со скоромным маслом, и настоящий кот лапой личность промывает. А дед богомолебствует в углу: перекрестит лоб, зад поскребет да в окошко лысиной уставится: проехал кто-то, прошагал.
Афонька улыбнулся, крикнул:
— Дед, а дедушка!
— Заспаси-спаси, помилуй… Ну?
— Я, дедка, — самый настоящий. И Степка настоящий!.. Степан Петрович.
— Чего эта-а-а?
— А ты — нет… Ты, впрочем и целом, — так, обман… — сказал Афонька и стал надевать настоящие портки.
ЛАЙКА
Как-то, где-то, — за чашкой чаю иль за папиросой, кто-то сказал…
Впрочем, будем откровенны. В Москве. Большой, власть имущий человек. И не сказал, а просто обронил:
— А хорошо бы приличную собачонку достать. Этакую лаечку сибирскую.
Эта фраза, в сущности, не адресовалась никому: эта фраза была обронена в пространство. Но в пространстве, как известно, ветерок, и вот понес легкий ветер фразу куда надо.
Летала-летала фраза и впорхнула в длинные уши председателя Губохоты одного из сибирских городов. Впрочем, то был не председатель, а заместитель председателя, но это все равно: иной заместитель вдвое лучше председателя. В данном же случае заместитель как раз с осанкой, толстый, пучеглазый, к тому же, имел хороший охотничий костюм — и считал себя охотником.
— Боже мой! — воскликнул заместитель (он иначе и не мог воскликнуть: он верующий беспартийный гражданин). — Боже мой!.. Такому великому человеку… услужить… — про себя же, между нами говоря, подумал: «Вот счастливый случай выдвинуться… Только малосознательный субъект такой случай может проворонить».
И из Москвы в тот же вечер вон.
А дальше?
Сибирский экспресс крутит колесами, прет за Урал, как Змей-Горыныч, снег вихрем в стороны, саженные заносы с разбегу — вдрызг.
Вот заместитель и дома, у себя. Жене ни гугу… У самого же лицо праздничное: улыбается, как медведь на солнцепеке.
Утром облачился в лучший охотничий костюм — френч, гетры, альпийская шляпа с пером — и к председателю.
— А! Приехали!.. Что вы такую рань ко мне? И в таком параде?
Заместитель обстоятельно изложил результаты Московского съезда, то да се, разные дела и — между прочим:
— Да еще вот надо приличную собачку отыскать, лаечку. Очень в Москву просили.
— Кто?
— Да так… Одно важное лицо.
— А именно?
— Да не все ли вам равно? Один замечательный человек.
Так, между прочим сказал заместитель, но большие мутные глаза его преступно завиляли, и на зализанных висках выступила легкая испарина.
— Ну, что ж, — недовольно протянул председатель, подозрительно взглянув на огромного, как грузчик, заместителя. — Можно. Только это дело надо поручить настоящему охотнику, Мялину. А вы какой же охотник…
— То есть как? — И заместитель вызывающе вскинул рыжие щетинистые брови.
— Да очень просто, — сказал председатель и задумчиво поковырял пальцем собственную бородавку на носу. — Вы кроме как за бекасами и не охотились. Вам даже пьяного козла не застрелить. А Мялин — медвежатник…
— Да он же страшный нахал, картежник, врун, каких свет не родил. Любого сивого мерина в два счета обоврет!
— На то он и охотник, — невозмутимо сказал председатель. — Он даже в охотничьей энциклопедии упоминается как знаменитый спец. А впрочем, действуйте по собственному усмотрению. Мое дело сторона.
У заместителя отлегло от сердца, он бережно погладил перо на альпийской шляпе и — домой. Он шел рынком, вместо краснощеких теток торговали пельменями лайки, вместо галок порхали и полаивали лайки, весь белый свет наполнился лайками — и заместитель сказал своей кухарке:
— Дай-ка мне, Агафьюшка, закусить чего-нибудь.
В ночное же время, обнимая свою жену, ласково проговорил:
— Ах ты, моя лаечка!
— Как, как? — полусонно переспросила та и помаленьку-помаленьку все и выпытала, все до ниточки.
Заместитель утром в одну сторону одного гонца, в другую — другого, а сам в третью, за сотни верст. Нет, дудки, чтоб он этого паршивого враля, какого-то Мялина, к своей идее подпустил!
А жена… Ох, уж эти жены!.. Ну и как не шепнуть на ушко Марье Петровне Перетеркиной, разумеется, под большим секретом, тайно. А та под еще большим секретом шепнула Зое Марковне, и пошло-поехало из ушей в уши, из уст в уста: «Лайка, лайка, лайка. А знаете кому? Ого-ого!»
Залаял весь город, — до председателя Губохоты эта тайна докатилась, — залаяли все уезды из конца в конец — предписанья, телеграммы, нарочные — и спешно, спешно, спешно…
— Ну и задам же я ему!.. — пыхтел коротконогий председатель Губохоты. — Каналья, утаил, какому великому человеку предназначается лайка… Выслужиться захотел… На-ка фигу!.. Я сам поеду в Москву, с Милиным, как с первым спецом… Нет, врешь, чтоб я такой случай упустил! Самым последним идиотом надо быть. Нет, каков нахал, а?!
* * *
И вот со всей губернии натащили в город видимо-невидимо собак: лаек, гончих, борзых и просто шавок темного происхождения.
Председатель Губохоты сиял, как солнце в полдень, сиял и его приятель спец-охотник Мялин, великий стрелок, пройдоха, врун.
Председатель Губохоты объявил — срочно, срочно, срочно! — на всех столбах и заборах красовалось:
«Публичное испытание лаек, ровно в 12 дня, на Соборной площади, после поздней обедни».
А где же заместитель?
С заместителем дело было так. Прикатил заместитель к своему другу, крестьянину Аверьяну Куприянову, на таежную заимку. Аверьян же Куприянов был хороший медвежатник и имел лаек, числом — семь.
— Знаешь, дружище, — сказал заместитель, — лаечку нужно мне. В Москву везти.
— Лаечку? Можно. Самую лучшую, небось?
— Самую лучшую, первоклассную, ударную!
— Можно, — сказал медвежатник. — Только, барин, имей в виду, дешево не возьму я. Потому время голодное, и все в цене.
Заместитель замигал и сказал дрожащим, как у замерзающего барана, голосом:
— Хотя я человек не богатый, и лишних денег у меня нет, но я скоро выдвинусь в первые ряды — заметь это! — и расплачусь с тобой, дядя Аверьян, щедро. А пока вот тебе в задаток серебряные часы, фирмы Мозер, волосок — брегет, ход — дьявольски верный, верней солнца ходят, при них цепочка серебряная, вызолоченная и золотой брелок. Вот и проба.
— Можно, — сказал Аверьян Куприянов, опустив часы в карман, — а теперь пожалуйте выкушать самогоночки. Самогон у меня крепкий. Прямо шпирт. С непривыку кожа в роте чулком полезет.
Пили они недолго. Вскоре что-то ужасно зашумело кругом: то ли тайга со всех сил гудет, то ли в мозгу коловращенье.
Аверьян Куприянов поймал самую паршивую лайку, — хуже нет, связал ее, запхал в мешок и бросил в сани.
Заместителя же положил в сани честь честью, на сенцо, прикрыл кошмой и сказал ямщику:
— Поглядывай. Как бы не выпал барин-то.
Ямщик свистнул, полозья заскрипели, снег взвился.
Аверьян же Куприянов посмотрел на часы, ухмыльнулся.
— Ишь ты, ходють, — сказал он. — Хы! А который час, даже понять трудно… Эх, темнота наша окаянная!
Заместителя же мутило с самогону весь день, всю следующую ночь, он пригоршнями глотал снег, взмыкивал, хватался за виски и ровно в одиннадцать утра приехал в город.
В городе движенье. Что же это значит? Ярмарка — не ярмарка, может быть, манифестация какая, не пожаловал ли Тихон-патриарх? А когда взглянул случайно на забор, двинул ямшика в загорбок:
— Погоняй!!
* * *
Испытание собак было обставлено торжественно. Тут и милиция, и протоиерей о. Василий со диаконом — прямо после поздней, из собора, натощак — и масса граждан. Центр оцеплен цепью, — живой, конечно: школьники, комсомол, рабочий люд, даже напудренные барышни, даже попова дочка в красной повязке, комсомолка.
А в центре, на первом месте, расшитое золотом знамя: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», «Кружок любителей охоты», оленья голова с рогами и труба — эмблема. На втором же месте, в центре, сам президиум: председатель Губохоты (с женой, конечно) — в глазах у него восторг, коварство; секретарь, члены — все почему-то с красными носами — и спец-охотник Мялин, весь потертый, маленький, сухой и юркий, как маркер. На нем облезлый енот, лицо у него барсучье, глазки медвежьи, хитрые, — говорит тенорком, с ужимочкой и все хихикает в ладонь.
— Позвольте объявить… — начал председатель Губ-охоты. Но в это время явился запыхавшийся заместитель (с женой, конечно) — его большой живот туго перетянут кушаком, а на цепочке — лайка Аверьяна Куприянова.
Председатель небрежно сунул в его протянутую руку концы двух пальцев и громко продолжал:
— Позвольте объявить испытание собак открытым!
Да! Я забыл упомянуть о самом главном: о собаках. Их было видимо-невидимо. Они так свирепо лаяли, урчали, выли, что если б сам протодиакон громогласно возгласил, все равно его голос захлебнулся бы в собачьем гаме. Гам и вой стоял ужасный: многие из публики позатыкали уши, какой-то нервный душевно тронутый субъект мотнул головой, поднял вверх бородку и сам отчаянно завыл, а извозничьи клячи, крутя хвостом, мчались мимо, как после скипидару.
Испытание шло чинно и торжественно.
Президиуму казалось, что они совершают священнодействие, что на них незримо смотрит вся Москва, весь мир.
Мялин, конечно, здесь главное лицо: спец-охотник. И, разумеется, ему хотелось свою лайку в люди провести: поэтому он браковал чужих собак сплеча и пачками.
— Какая же это, к черту, лайка! У ней уши, как у мертвого осла, висят. Долой! Следующий!.. Давай, давай, давай! Давай сразу трех, ходи веселей!.. Ноздря рваная! Хвост калачом! Глаза не очень симпатичные, как у судака… Следующий, следующий, следующий!..
Народ проголодался, почти весь разошелся по домам. И осталось две собаки: Мялина и заместителя.
Мялин осмотрел лайку заместителя, хихикнул и сказал:
— Она стара, как колокольня.
Заместитель сверкнул золотым зубом, крикнул:
— Требую испытания по всем правилам искусства.
— Что же, на медвежью берлогу, в тайгу идти прикажете? — выпучил глаза сам председатель и сердито запыхтел.
— Почему ж в тайгу, — сказал заместитель и тоже запыхтел. — В цирке есть, кажется, медвежонок…
И вот все повалили в цирк. А цирк на берегу реки. Взяли медвежонка, скрутили ему морду, лапы, спустились на реку и зарыли зверя под крутоярым берегом с головой в сугроб.
На свою лайку заместитель надел парфорс с длиннейшей бечевкой и поулюлюкал:
— Фють! Улго-лю! Ищи, ищи!.
Лайка побегала, повертелась, тявкнула на ворону, на нового хозяина, пробежалась по сугробу, где кряхтел медведь, — нуль внимания на медведя — спустилась и легла на снег.
— Нет, позвольте… Снова! — отфукнулся огромный заместитель. Он весь вспотел. И в животе от неприятности бурлило. Его окружала толпа начальства и охотников. Тут были две-три дамы, сам председатель исполкома, заведующий земотделом, председатель профсовета, директор всекобанка и другие высокопоставленные лица. Но рослая фигура заместителя — на голову выше всех.
— Позвольте-с, позвольте-с… Моя собака шла по ветру, — это не по правилам, — сказал он. — По ветру нельзя, относит дух. Надо встречь ветра…
— Верно, валяй сначала! — подхватили полоса.
— Как? Опять повторять?! — звонким голосом прокричала супруга председателя Губохоты, и ее веснушчатое лицо под вуалью сразу вспыхнуло. — Нечего повторять! Испытание было правильно.
— Послушайте, мадам…
— Правильно! Правильно! — кричала она, взмахивая муфтой.
— Извиняюсь… Вы… Извиняюсь, вы не член… Вы не имеете…
— Что, что не имею?! Какое глупое замечание… Правильно! Правильно! Правильно!
Тут ввязалась в спор другая дама, жена заместителя, черная, как грач, и пылкая, как кречет…
— Нет! Неправильно! Снова! Снова! Пупсик, начинай!
— Правильно! Правильно! Правильно!
— Неправильно! Снова! Снова!.. А вам, Марья Павловна, вредно так орать. Вы же в последнем месяце беременности. Снова! Снова! Пупсик, начинай!
— Что? Что?! Это вы каждый месяц привыкли аборты делать! А туда же… Лезет. Правильно! Правильно! Ни черта не стоит ваша собачонка…
— Тьфу!
— Тьфу!!
Дамы так громко кричали, что задремавшая было лайка заместителя проснулась и повела левым ухом. Мужчины перемигивались. Заместитель свирепел.
Тогда выступил вперед сам председатель исполкома. Он высоко поднял руку, крякнул и сказал:
— Цыть!
Сразу все смолкло.
— Ваше замечание по отношению к ветру, товарищ заместитель, основательно, — веско сказал он. — Будьте добры встречь ветра. Снова!
Заместитель почтительно приподнял альпийскую шляпу, отошел с лайкой в другую сторону. Мялин, помахивая длинными рукавами енотки, с коварным замыслом пурхался по снегу туда-сюда.
— Не лазь! — крикнул ему заместитель и сжал кулак. — Ты путаешь мою собаку. Это издевательство! Я в зубы дам!!
— Прошу вести себя корректно! — оборвал его председатель Губохоты.
Заместитель сдвинул на затылок альпийскую, с пером, шляпу и вновь поулюлкжал. Лайка кружилась-кружилась, — очень надо ей заниматься чепухой! — на медведя нуль внимания, — в конце же концов она подбежала к вешке и равнодушно заднюю собачью ногу подняла.
Мялин злорадно захихикал, оба дамских носика нырнули в муфты, заместитель хрипло заругался, зашипел и надвинул альпийскую шляпу на самые глаза.
Медвежонка вырыли. Медвежонок отряхнулся по-собачьи, обвел толпу улыбчивым медвежиным взглядом, рявкнул: — ррря!! Лайка Мялина ощетинилась и заурчала, лайка же заместителя — нуль вниманья — знай блох выкусывает у себя в хвосте, точно это не зверь таежный взрявкал, а новорожденный младенчик в люльке пропищал.
Заместитель всей тушей злобно встал на четвереньки над медведем, нюхнул его и — к циркачу:
— Слушайте, товарищ… Как вас… Почему ваш медвежонок даже не пахнет медвежатиной? От него тертой редькой воняет. Даже собака учуять не могла… Это безобразие!..
У циркача молодецкие усы сразу опустились, как шлагбаум, вниз. Но тут на выручку ему подоспел председатель Губохоты.
— Товарищ Мялин! Будьте добры испытать свою лайку. Я уверен, что у нее не так плохо обоняние, как у гражданина заместителя.
— Пожалуйста! — с готовностью воскликнул Мялин. — Я очень рад.
Мялинскую лайку отвели далеко в сторону и завязали ей глаза.
А медвежонка глубоко закопали в другое место. Звереныш недовольно кряхтел и дулся на людей.
— Спускать?
— Спускайте!
Лайка крупно прямо к зверю. И снег полетел из-под собачьих лап, как из-под тысячи лопат.
— Держите ее! Заест, заест! — И все бросились к собаке.
Лайку прикрутили на веревку, лайка рычала и рвалась. Мялин принял позу победителя, как генералиссимус Суворов в Ленинграде, усы циркача круто стояли вверх, медвежонок тихо улыбался и по-хитрому подмигивал хозяину.
— Вот это лайка! — гордо сказал председатель Губохоты и похлопал Мялина по кривоплечему плечу. — А ваша, — обернулся он к заместителю, — удавите-ка вы ее тихонько.
Заместитель побелел, покраснел, вновь побелел, выхватил револьвер и шесть пуль — раз за разом — всадил в несчастную свою лайку.
Но револьвер, очевидно, оказался великодушней своего хозяина. Револьвер милостиво дал весь залп пуль мимо цели: лайка прорвала бечевку и — стремглав в тайгу. Все, сколько было народу, взорвались хохотом, жена же заместителя закусила губы, задрожала и — домой.
— Ну и охотничек! — съязвил председатель Губохоты. — Ваше дело окуней в реке пугать: весь лед изрешетили.
Заместитель с отчаянной решимостью взглянул на револьвер. Но револьвер охолощен, и застрелиться было нечем. Поэтому заместитель сиротливо пошагал вслед за женой. Он стал сразу вдвое меньше ростом. В своей альпийской шляпе он был теперь как индюк под сильным проливным дождем.
В это время было ровно пять часов. Солнце уселось на крыши строений. Со старой колокольни упал вечерний звон. Колокол звучал насмешливо. И хохотала белобокая сорока.
Накануне отъезда депутации в Москву вся Губохота, весь город был в лихорадочной работе. Составлялись ведомости убитому за год пушному зверю, готовилась подобранная записка состояния охоты в крае, типография печатала книжку охотничьих рассказов местного писателя, гравер, согнувшись в три дуги и прикусив кончик языка, гравировал надпись на серебряном ошейнике. Фотограф делал отпечатки многочисленных снимков медвежиной охоты, группы охотников, Мялина в тунгусском костюме, с тунгусским луком и колчаном стрел, типы местных собак и другие снимки. И все спешно, спешно, спешно. Телеграф со всех уездов мчал по медным струнам наказы, мандаты, просьбы — исхлопотать в Москве разные привилегии касательно охоты, покупки пороху, дроби, ружей. По городу из конца в конец носились автомобили, телефонная барышня то и дело соединялась с Губохотой, Мялин вприпрыжку бегал от знакомого к знакомому, разыскивая бензин для обновления сюртука, его лайка сидела под двумя замками, он лично кормил ее своим пайком. На Губохоте развевался красный флаг.
Накануне отъезда депутации в Москву председатель Губохоты слег. У него был жар и болела голова. Это случилось совершенно неожиданно. При подобных обстоятельствах супруга председателя наяву обнаружила сильную склонность к мистицизму: она всем знакомым звонила, что ее мужа сглазил заместитель. Конечно, конечно, он! Он такой проныра, подлипало, чернокнижник и спирит. Вот погодите, как он полезет теперь в гору. А ее бедный, бедный муж… Дальше — всхлипыванья и женские слезы в болтливую трубку телефона.
На самом же деле заместитель сроду не занимался чернокнижием. Все это сущий вздор и чепуха. Заместитель тщательно записывал в памятную книжку, что ему внушала его жена. Она говорила:
— Проси, пупсик, перевода в Москву. Обязательно, обязательно! Ах, Москва! И еще выхлопочи, чтоб нам, не в пример прочим, выдавали четыре или пять ударных пайков. Еще проси, если можно, мне каракулевый сак, муфту и шапочку. Ах, там на складах много. Хорошо бы, конечно, золотые часики… с браслетом. Себя же, пупсик, держи с достоинством, они низкопоклонства не выносят. Но все-таки как можно почтительней. А насчет какао, шоколаду, сахару, кофе записал? Ах, как я рада, что справедливость восторжествовала, наконец.
И вот экспресс — конечно же, экспресс — спешно, спешно, спешно прет, как Змей-Горыныч, депутацию в Москву. В депутации трое: заместитель, Мялин и главное из главных — мялинская лайка. Лайку раньше звали «Заливай», но теперь у ней иная кличка — «Красный партизан», хотя она совершенно белой масти. На ошейнике надпись: «Почтительнейший дар благодарных любителей охоты» и т. д.
Мялин был в величайшем возбуждении: вагон пятеро суток покатывался хохотом от его вранья. Мялин, действительно, врал так, что трижды гасло электричество. Впрочем, у него в памятной книжке тоже был целый реестр, что он должен исхлопотать для своей семьи. Для себя же он, конечно, и спросит штуцер Зулльских мастерских и еще Франкотт со стволом чок-бор.
Наконец — Москва! Людей из депутации била нервная дрожь, собаку — ничего. «Красный партизан» был еще раз начисто вычесан и вымыт зеленым мылом. После такого туалета депутацию немилосердно грызли блохи.
И вот депутация в парадных костюмах в Кремле, на месте. Лайка с ними же. Секретарь. Приемная. Заместитель, потея и почесываясь, подробно изложил цель прихода. Секретарь записал их имена и скрылся с докладом за тяжелой дубовой дверью. Депутация вытянулась, замерла. Депутацию свирепо грызли блохи. Депутация окаменела. Лайка стояла-стояла, зевнула, развалилась на полу.
А там, за тяжелой дубовой дверью…
…На тяжелом дубовом кресле, нагнувшись над столом, над ворохом бумаг, сидел он. Красный карандаш резко провел на полях, красную черту и — хрустнул.
— Товарищ, можно к вам?
— Что?
— Можно? — повторил вопрос секретарь.
— Да, да.
Он, так же согнувшись, близоруко пробегал бумагу, и синий карандаш хвостато клал за чертой черту.
— Да, да… Я слушаю… Что, лайку? Какую лайку?
И он быстро откинулся на спинку кресла.
— Ах, да-да… Помню… — Он подумал, тень улыбки на мгновенье сощурила его глаза, но он вновь согнулся над столом и, вздохнув, сказал:
— Нет, не надо.
ХОЛОДНЫЙ ДУШ
К бане шумно подкатил в автомобиле толстый. У него плохо бритые одутловатые щеки, рыжая бородка клинышком, брюшко. Весь он измученный, будто двадцать верст гнали его с этим туго набитым бумагами портфелем.
Он быстро разделся, погладил ладонями жирные желтые бока, сказал — фууу! — потребовал банщика и пошел мыться. Банщик попался высокий и тощий, как факир; нос у него кривой, на глазу бельмо.
Тощий ловко парил толстого: веник жжихал и посвистывал, все тело толстого стало как кумач.
— Спасибо, товарищ, — передохнул толстый, — даже в середке загорелось… Фууу!..
— Мы распа-а-рим… то есть страсть до чего люблю купеческого званья граждан мыть. Будьте столь любезны головку, ваше степенство.
И голова толстого оделась душистой белой пеной, как в чепчик.
— Вы что же, товарищ, за купца меня признаете?
— А как же? Нешто мы не видим. Господи!.. Пожалте ручку, оттопырьте… Ах, чикотки боитесь? Извиняюсь.
— А вы кто же, товарищ, сами-то? Ваш цех?
— Я-то? Да как вам сказать, не соврать. Я, признаться, бывший партейный… Как говорится, об выходе попросили… Извиняюсь, ножку-с.
— Это почему же?
— Об выходе-то? То есть в диологию никак утрафить не могу. Ну, прямо не могу и не могу. Например, в светлое христово воскресенье заприметили наши, как я из церкви, конешно, выходил. А как в церковь не пойдешь, раз мы сызмальства к этому приучены? Отвыкнуть трудновато-с.
— Напрасно, напрасно, милый человек. Раз партийный, бога долой.
— Ах, ваше степенство. Даже не ожидал я от вас такое обличенье получить, — вздохнул тощий и, раскорячившись, стал со всех сил тереть широкую, как комод, спину толстого.
— Напрасно, напрасно, — сказал толстый. — Я тоже партийный.
— Ха-ха! — заиграл бельмом тощий. — До чего веселый вы, ваше степенство. Окромя того, еще кой-какие партейные уклоны были. Например, в пьяном положении я в морду одному гражданину дал. Правда, удар был обоюдный: он тоже мне в ухо съездил. Одним словом, диологический подход вышел — тьфу!
— Плохо, плохо! Это дело даже совсем нехорошо, товарищ. Партию мараешь.
— Дозвольте головку вторично окатить. Что, глазки щиплет? Сейчас, сейчас. Эх, ваше степенство… Многие партию марают, ежели взглянуть в общем и целом. Вы возьмите, сколько казнокрадов. Или такую мораль. Например, допустим, мастеровой, рабочий; возьмем рабочего очень делового, умного и, для примеру, самого тощего, вроде-ка, извиняюсь, я. Хорошо-с. И вот волна революции выпятивает его в передние ряды. Значит, раз он партейный да дело разумеет, пожалуйте в ответственные члены. Дале-боле, пожалуйте в члены правления фабкома. Дале-боле, пожалуйте в директора. Тут уж начинает у него брюхо расти, обзаводится он обстановочкой, да не какой-нибудь, а чтоб с фасоном, на которой графья сидели. Это я, конешно, к примеру говорю. И баба евоная, ваше степенство, к примеру, в самое несчастное положенье попадает: ему уже стыдно с ней и в люди показаться — непропёка, деревенщина. И у него уж, извиняюсь, мамзель на стороне, а то и три. По европейским крышам[1] лазиют, по ресторациям, туда-сюда. Тут уж не до партии. То есть он, конешно, дисциплину держит: скажем, ежели в Казанский собор, его палкой не загнать, а на партзаседаниях сидит старательно, а душа-то евоная уж покачнулась, от него паршивый душок пошел, это уж не партейный человек, а прямо, между нами, сущее дерьмо, потому — в общем и целом — дрянь. Чего ему: пиво жрет, коньяки шустовские жрет, чего увидит, то и жрет, с бабенками безобразничает. И становится он, как боров, гладкий. Даже в баню норовит в казенном автомобиле, даже банщика берет. Вот какая пакость получается.
Толстый гневно пробубнил:
— Три, три крепче! Критик, тоже.
— Чего-с? — не расслышал тощий. — Правда, таких совсем даже мало, а все же есть. И это заразительно, нехорошо, не по-божецки. А, например, я. Я тоже партейный был, у меня четверо детей, супруга, конешно, больная, а зарабатывал я, дай бог, полсотни в месяц. Смотришь, смотришь на таких толстозадых партейных, да и подумаешь: нет на свете справедливости. А как подумаешь это — сейчас в кабак. Пожалуйте, ваше степенство, под душ. Как, посвежей прикажете водичку пропустить?
Толстый свирепо крутился под дождем, ему противно было глядеть на тощего и слушать его раздражающую болтовню.
— А почему, ваше степенство, так выходит? — прищурил тощий глаз с бельмом. — По тому самому, что сверху надзор плохой. Вот они и разъезжают по баням на автомобилях да банщика берут. Его вымоешь начисто, веником отхвощешь как Сидорову козу, а он в порядке партейной дисциплины — гривенник. Вот вы совсем даже дело другое, вы к нежному обхождению с детства, конешно, приобыкли, и подоплека у вас самая купецкая. Пожалте! С легким паром вас, много лет здравствовать!
И там, в раздевальной:
— Ах, какое белье у вас антиресное… Заграница-с? А куда же вы крестик свой изволили положить, господин купец, разыскать не могу?
— Уйди ты с крестиком. Я сам оденусь.
Толстый, пыхтя, встряхнул пиджак, из кармана выпал партбилет.
Тощий разинул рот, завертел бельмастым глазом и, нагнувшись, поднял обомлевшей рукой партбилет:
— Извиняюсь. Пожалте, товарищ, вот, — он с сокрушением тряхнул головой. — Ну-ну! — дернул за кривой свой нос и на цыпочках — голову вниз — быстро-быстро в парное отделение.
Толстый голову вверх — гордо, осанисто вышел вон и сел в автомобиль. Шофер сказал:
— Извиняюсь… Но почему ж, товарищ, вас не побрили?
— Нет, меня отбрили очень хорошо… Ха-ха. Что? Дуйте скорей на заседание.
КОТ ВАСЬКА
А почему это, спросить вас, не ставят памятников животным? Ставят царям, генералам и прочим выдающимся людям из штатских, а четвероногим зверям, будь они семи пядей во лбу — никогда. Священникам тоже не ставят ввиду сана. Ну, лошадям еще случается. И то ежели отольют чугунного коня, обязательно на него человека при параде взгромоздят. А вот, например, собаке или коту — сроду не поставят. Да и цензура никогда не дозволила бы. А, между прочим, коты бывают иногда идейные. И за идею страдают не хуже людей, только ничего не говорят, а помяукают где-нибудь под кроватью, да и все тут.
Вот не угодно ли такой рассказ, который произошел лично со мной. Сейчас расскажу вам, товарищи, про замечательного кота Ваську.
А сам я из цеха печатников, в типографии служу.
Особенность моего темперамента заключается в том, что сызмалетства пристрастился к сыроедению некоторых съестных продуктов. Например, с удовольствием кушаю в сыром виде печенку домашних животных, употребляемых в кулинарном искусстве. И не то, чтоб кровожадность во мне была, как у бенгальского тигра в Зоологическом, а просто так: отрежешь ножичком кусочек, посолишь и съешь. Отчего развился у меня подобный абсурд, не знаю. Возможно, что, исходя из книги Дарвина, мой прапрадед произошел не от обезьяньего вида, который мясо не жрет, а от льва или барса. Тем более и фамилия у меня Мокрицын.
И вот с подобной страстью к сыроедению я влюбился в девушку Нюру, будущую супругу мою. После продолжительного ухаживанья, во время которого я не переставал тайно лакомиться сырой печенкой, состоялся брак по всем правилам. Далее перехожу к описанию первого медового месяца.
Представьте себе воскресный день. Летнее солнышко начинает бросать свои лучи на наше супружеское ложе. Сладко спим и ничего не видим. Вдруг слышу легкое движение жены, которая желает высвободиться от моих сонных объятий.
— Ты, Вася, полежи, понежься, — сказала Нюра, — а я пойду на рынок, что-нибудь куплю и пирожок сделаю.
Я в ответ снисходительно улыбнулся и подумал: «До чего приятно женатым быть, тем более в воскресный день». Подумал так и в непосредственной истоме стал продолжать свой сон.
Потом приходит супруга Нюра, складывает покупки на стол и, всплеснув руками, восклицает:
— Ах я, дура, дура! Соды забыла купить. Без соды тесто не подымается. Пойду.
— Да ведь аптека-то далеко!
— Ничего. А ты понежься, — поцеловала меня в прямой пробор и щекотнула чуть-чуть ради медового месяца.
После ее ухода я потянул воздух обонянием и сразу сметил: ага, печенка куплена! А я этого фрукта в сыром виде не ел довольно значительный период: очень совестно супруги было.
Но вот невидимая сила подбросила меня с двуспального ложа на пол, подбегаю в одних нижних кальсонах к столу, развёртываю тюрючок — печенка! Глаза мои пронзительно впились в бурый, скользкого цвета здоровецкий кусок. Я принялся бороться сам с собой, желая утихомирить своего зверского прародителя, сидящего в моих внутренностях. Но, увы, — борьба была напрасна. Ясно видя, что я побежден, я проглотил обильную слюну и схватил нож. Съел кусочек и прислушался к совести. Совесть молчала. Я отпластал ломтик поувесистей и тоже сожрал. Совесть стала подавать свой голос. Я хотел было взвесить обстоятельства, но обильная слюна пошла в контру, и я, как паршивый алкоголик, дожрал печенку до последнего атома.
Боже, боже, что я наделал! Как закоренелый преступник, я бросился в супружеское ложе, проклиная себя и принося отчаянную клятву, что подобный пережиток повторяется последний раз.
Послышался скрип двери. Я натянул одеяло и притворно захрапел. Сердце мое усиленно билось, холодный пот покрыл весь позвоночный столб от затылка до бывшего хвоста.
— Ах ты, дьявол паршивый, ах ты, блудня окаянная! — раздался резкий крик супруги. — Сожрал! Печенку сожрал!.. Вот те пирог с начинкой. А ты, Вася, спишь и не слышишь…
— А? Что? — захлопал я глазами, стараясь ничего не понимать в событиях.
— Что, что… Кот печенку стрескал!
— Что ты. Неужели?! — воскликнул я и приподнялся, сделав озабоченное и в то же время озлобленное против кота выражение. — Черт какой… Таких котов в мешок да в воду.
А кот подошел, как ни в чем не бывало, и стал безвинно тереться о ноги хозяйки. Та сгребла его за шиворот и ну с остервенением тыкать котовой мордой в сахарную бумагу где была инкриминирующая печенка: — На, на, на!
Кот кинулся под супружескую кровать, оттуда в угол, оттуда опять под кровать и замяукал.
— Я те помяукаю! — заметая следы, крикнул я. — Стервец какой, ворина!.. К стенке тебя, скот безрогий!
Кричу свирепо, а у самого слезы в сердце: «Ах ты, бедная, бессловесная животная, — подумал я. — Ведь ты, Васька, за идею пострадал».
А жена говорит:
— И что это такое поделалось с котом?! Третий год живет у меня, отродясь не блуживал.
— Вполне понятно, — сказал я, — он животная хитрая. Ему только доверь. Паразит, черт…
А этак через месяц, когда жена к бабушке в гости уехала, напился я пьяненький.
Купил я две порции сырой печенки, и устроили мы вдвоем пир. Двое Васек: я да кот. Сидели мы с ним на полу у печки, жрали печенку, пили, плакали.
Я все рыльце расцеловал незабвенному коту с большой симпатией.
— Ах, Вася, — говорю, — Василь Василич! Прости ты меня, живоеда паршивого. Ты, ради Христа, не думай, Васька, о нас, о человеках, очень плохо-то: уж не всегда же мы бываем подлые; случается, что и мы по правде живем, случается, Васька, что и мы совесть помним. Ах, Васька, — говорю, — Василь Василич, кот, горько мне, Васька, сознавать, что я от окаянного обезьяна произошел. Скажи мне, Васька, премудрый кот, а кто ж твои-то праотцы? Не кот ты — ангел мелкобуржуазный!
И горько-горько я заплакал.
А кот — курлы-мурлы — крутит, крутит хвостом и говорит:
— Не скучай, хозяин: и тебя и меня одни и те же блохи едят.
СОЧУВСТВУЮЩИЙ
I
Жил в селе Вавилове замечательный козел. Благодаря своей резко выраженной индивидуальности, он попал в печать, в отдел «Нам пишут из деревни», а затем и в герои данного рассказа.
Весь черный, лохматый, глаза янтарно-желтые, рога огромные, с круглыми завитками, как у горного ямана. Поступь имел важную, бородку среднего размера, лошадей держал в повиновении и распространял на версту нестерпимый запах — смесь нашатыря с какой-то псиной. Имя же ему — Васька.
Характер козла вообще был несносен. К женщинам во все времена года он питал неистребимое презрение. А по весне, когда вся жизнь земная вполпьяна, он без разбора бил рогами встречного и поперечного, наводя панику не только на свое село, но и на окружающие местности. Завидя вырвавшегося из хлева Ваську, всяк спешил подобру-поздорову скрыться. Застигнутые врасплох залезали на деревья, на крыши и там отсиживались. К пьяным он тоже не благоволил: о масленице он таких лещей надавал пьянице Шелёпе, провожая его от самого кабака до дому, что Шелёпа, приняв в конце концов Ваську за натурального черта, дал клятву больше не напиваться и свой зарок сдержал. Жена Шелёпы, Варвара, вынесла в благодарность Ваське круто посоленный ломоть хлеба; Васька хлеб скушал, а Варвару для порядка все-таки ударил в зад, Варвара перекувырнулась.
У Васьки были и чисто человеческие слабости: он уважал курящих, потому что сам любил курить — парни приучили.
Сидят мужики на завалинке, из носогреек дым пускают. Вдруг псиной понесло:
— Козел идет…
А он тут как тут.
— Эй, Вася! — и суют ему трубку. Васька сосет трубку, как мужик, фыркает, чихает, просит еще. А народу любо.
Накурится, осатанеет, подпрыгнет на аршин, а сам высматривает — не мелькнет ли где красной юбки или красного платка. Нету.
А вот навстречу красно-рыжий бык идет, Мишка. Козлу подраться с Мишкой — первая забава. Брык-чох-прыг — и в три прыжка лоб в лоб с быком. Двадцатипудовый Мишка, оборонительно снизив голову, принимает поединок с внутренней ухмылочкой: «А сколько вас на фунт идет?» — глаза чуть улыбаются, и хвост спокоен. Но вот Васька, тоже взнуздав в улыбку губы, метко бьет быка рогастым завитком повыше носа, в хряпку. Ошеломленный бык быстро вскидывает к небу голову, оскаливает зубы и с шумом выдыхает воздух: больно. Ухмылочка в его глазах сменяется простоватой злобой, и грязный, в помете, хвост раздраженно ударяет по ляжкам. А Васька, всхохотав своей победе — бе-е-е! — терпеливо ожидает, пока противник придет в чувство.
Бык воинственно опускает голову, уставляется рогами на козла и, нюхая влажным носом землю, ждет нового удара. Козел, осторожно оглядываясь, отбегает на несколько шагов в сторону — глаза его блестят ядовитой желтой хитростью — поворачивается, чуть наклонив голову, пулей несется прямо на рога врагу. Бык, глупо промахнувшись, с силой вонзает рога в землю и вдруг с диким ревом грузно подскакивает сразу на всех четырех ногах: обманувший его козел успел с наскоку двинуть быка рогами в зад под самый хвост.
Козел опять хохочет, и хохотом гремят распахнутые окна изб.
Бык, отвернувшись от козла и что-то тяжело соображая, роет копытом луговину, глаза налились кровью, хвост стал как палка, и поднялась на хребте шерсть. Он весь в мстительной злобе: «Постой, постой, тварь… я те дам», но не догадывается, что над ним хохочут козел и люди, иначе бы он ринулся на избы и по бревнышку расшвырял бы их. Козел же все подмечает и, поглядывая на веселые окна, кокетливо потряхивая бороденкой, спесиво прогуливается: три шага вперед, три — назад.
Но вот грузный бык решил, наконец, раздавить ничтожного козла, как блоху. Отчаянно крутя хвостом, он неуклюже кинулся на Ваську. Однако Васька, угадывая силу бычьей злобы, стал бегать вокруг и боя не желал принять. Бык свирепел, из рычащего рта текла вожжой слюна.
— Ага, Васька, струсил! — загалдели окна.
Тогда козел круто повернулся и вновь рога в рога.
Вдруг окна грянули зычным хохотом: каким-то темным случаем бык завязил каменный свой рог в крутой загогулине Васькиного рога, поднял козла высоко на воздух и свирепо тряс его. Козел крутился в воздухе, как на крючке удавленник, дрыгал ногами, повиливал хвостиком, сдержанно блеял, из него от неприятности сыпались орехи. Победно поставив хвост штопором, бык сломя голову носился из конца в конец, оглашая село ревом. Васька, изловчившись, укрепился на его спине и ездил на быке, как на извозчике. Крендель козлиного рога был насажен на бычий рог, как колесо на ось, отчего шея Васьки изогнулась вниз и в сторону, будто он внимательно прислушивался, что скажет бык. Движением могучей шеи бык сдернул козла со своей спины, и Васька вновь отчаянно закрутился в воздухе.
Бык впал в бешенство: он не мог осмыслить происходящего, и черная вонючая сила, от которой он не в состоянии освободить себя, приводила его в животный ужас. Он с хриплым, обессиленным ревом бросался на избы, на заборы, с налету вонзая в дерево острия своих рогов. Но черная вонючая сила будто срослась с ним, сосала его душу. У него ослабли мускулы, — ни земли, ни неба, ни козла — лишь черная сила давит, нет избавленья, нет пощады, и в реве быка зазвучал смертельный страх. Глаза его стали влажны и безумны.
И вот последнее средство — темный спасительный инстинкт: бык с разбегу пал на луговину и, тяжело дыша разинутым ртом, начал кататься по земле.
Глядь — сгинула черная сила, нету. «Неужто сон?» Бык тряхнул головой, привстал на колени и расслабленно поднялся. Его шатало, и шкура на нем судорожно вздрагивала. Сознание быстро возвращалось. Огляделся кровавыми помутневшими глазами: избы, небо, зеленые поля вдали. Бык радостно взмыкнул и встряхнулся: черной силы нет, и нет козла. Он поднял морду и обнюхивал воздух: псиной не разило. Шерсть на хребте мирно улеглась. Он станцевал два тура вальса: нет козла, и все кругом как было. «Ну, значит, сон…». Тогда он попробовал свой голос, спокойно промычав. В поле отозвались коровы. Мишка трусцой туда.
За околицей, в канаве, вверх брюхом пьяный мужик лежал. Бык издали принял его за притаившегося козла и с дурным ревом бросился к нему, чтоб растерзать врага.
Мужик не ждал скорой своей кончины и безмятежно спал, легонько улыбаясь: ему снилась ядреная Акулина в бане, чужая жена. Бык враз затормозил свой тяжеловесный бег, взрыв землю, как плугом.
— Фу-фу! — изумленно дыхнул он. — С бородой, а не козел… Странно, странно, — и дружелюбно лизнул заплеванное мужичье рыло широким, как лопата, влажным языком.
Пьяница очнулся и, увидав глаза в глаза чью-то богомерзкую с рогами харю, вновь лишился чувств.
А бык — к коровам, дальше.
Мы нечаянно увлеклись душевным состоянием быка и, к сожалению, совершенно позабыли Ваську. С Васькой обстояло дело так.
От сильной встряски козел шатался и постепенно тоже приходил в себя. А цел ли рог? Васька изогнул шею и почесал спину: рог цел, на месте. Чувство оскорбленного достоинства угнетало Ваську, неостывшая ярость шумно бурлила в его сердце, и одно желанье: месть! Но враг ушел. Он зорко озирался, высматривая — не мелькнет ли где-либо бабий хвост. Только пусть кто-нибудь попробует всхихикать. Пусть! Васька покажет, какова в нем сила и кто он есть.
И вот красноперый петушишка захлопал крыльями и нахально всхохотал перед самым его носом. Их, тварь! Козел — стремглав на петуха. Петух лётом в сторону, козел за ним, петух к воротам, козел за ним, петух в спасительную щелку — мырк, ослепший в бешенстве козел за ним: хрясь рожишами в ворота — и вверх ногами отлетел на сажень прочь. От искрометного удара Ваське обносило голову — все кружилось перед глазами. Полежал, поднялся и тихонько поплелся вдоль стенки, недоумевая, что какая-то паршивая пичуга могла столь хлестко оглушить его по лбу. Ну, зверь!.. Опасный зверь. Сила быка пред ним ничто, велик бык, да дурак. Вот так петушиные копыта! Отродясь не знал, не чаял…
Навстречу курица. Козел почтительно свернул в сторонку, его хвост трусливо замотался, несколько орешков пало на траву. Ну, пти-и-ица!..
А хорошо бы покурить: как раз мужики на завалинке сидят… А ну их к черту!..
И козел, стыдясь народа, повернул в пригон. Его глаза увлажнились обидными слезами.
II
Свой неуемный норов Васька не стеснялся вносить и в общественную жизнь. Рожденный в революцию, он состоял теперь в совершеннолетнем возрасте, имея за плечами шесть лет и восемь месяцев.
Коровы, овцы, лошади, даже зверовые собаки отнеслись к революции совершенно хладнокровно. Черный же козел Васька, к удивлению общества и комячейки, проявил себя политически неблагонадежным. Тезис «бытие определяет сознание» нашел в данном случае реальнейшее подтверждение: хозяин козла — кулак.
В первой главе мы забыли упомянуть, что Васька, будучи по природе индивидуалистом, жестоко ненавидел всякие скопища, был убежденным врагом толпы.
И случись в нашем селе летучий митинг; приехали из города шефы с подарками и музыкой и на открытом воздухе митинговали. А козел, во избежание неприятностей, сидел взаперти, в хлеву.
Заиграла музыка: три трубы, кларнет, барабан и трензель, начались речи.
— Товарищи! — браво возгласил усатый рабочий с лицом деловым, не простоватым. — Товарищи крестьяне и крестьяночки! Мы, будучи ваши шефы, прибыли за двести верст в вашу несусветимую глушь, имея лозунг «лицом к деревне» и устроить с вами смычку!
Бабочки с солдатками хихикнули, краснощекая вдова Овдоха при слове «смычка» поспешно застегнула все крючочки на груди, девушки ухмыльчиво потупились.
— Ура! — закричали подшефные крестьяне и замахали картузами, приятно покашиваясь на объемистый ящик с дарами, соблазнительно лежавший под березой.
Опять загремела музыка, круторогая медная труба издавала резкий рык и звяк.
«А ведь это бык орет, — подумал Васька, — нет, не бык, нет, бык», — и, путаясь в догадках, стал носиться по хлеву.
Вот вышел из толпы хозяин Васьки, краснобай кулак Вавилин, нарочно одетый в рвань и тлен, выставил тугой животик свой и ответную начал речь:
— Братцы-товарищи, дорогие гостеньки! Ах, ах, до чего приятно… Мы, сидючи в дремучих лесах и будучи по причине неурожайной местности самой бедной беднотой…
— Вот, черт, врет, — шепнул комсомолец Ковалев своей соседке Тане. — Ну, и срежу ж я его.
— …поэтому от лица всей пашей бедноты, как вы обратили на нас свое милосердное внимание…
Его льстивые слова почему-то запахли нашатырем и псиной, все тревожно потянули ноздрями воздух.
— …поэтому, товарищи, как вы будучи приехавши с великими дарами, мы кланяемся вам низко…
Брюхан Вавилин, сложив на животике ручки, собирался отвесить поясной поклон всем шефам, как вдруг среди криков толпы кувырнулся носом в землю, заорал:
— Вась, Васька!.. Что ты!.
Не признав своего хозяина в таких невиданных отрепьях, козел еще раз с маху долбанул его в жирный, глядевший в небо зад и осмотрелся. Все смешалось. Бабы с визгом мчались кто куда. Трое опытных крестьян уже сидели на березах, кричали вниз:
— Товарищи шефы! Залазь попроворней! Изобьет.
Козел сшиб зазевавшуюся толстобокую Овдоху и припустился догонять комсомольца Ковалева с красным флагом, но круто повернул и бросился опять к березам. Проткнув рогами турецкий барабан, он перекинул его через себя и сызнова ударил в живот подошедшего хозяина. Вавилин с руганью помчался за веревкой.
Луговина была чиста. В небе стояло улыбчивое солнце, а на березах мрачно сидели десять человек: местные и шефы. Козел стал к ним задом, издевательски повиливал хвостом, жевал жвачку и ждал со всех фронтов неприятелей, — может быть, бык Мишка прокраснеет.
— Чей это козел? — сердито пыхтя, спросил с дерева усатый рабочий.
— Вавилина, кулачок такой, — ответил не видимый из гущи веток голос.
— Какая черносотенная животная! — воскликнул с крайней березы безбровый беленький кларнетист, слизывая кровь с руки. — Что твой Пуришкевич.
Козел повернулся, привстал на дыбочки и съел березовый листок. Усатый рабочий пересел двумя сучками выше и спросил:
— А что он, дьявол, по деревьям не лазит у вас?
— Нет, такого примеру не было, — ответил сосед по березе, старик Пахом. — Он, бог с ним, ужасти до чего не любит, ежели народ собирается гуртом.
— Какой же, это, к черту, митинг… — возмущенно плюнул усатый. — Надо слезать.
— Попробуй, слезь… — предостерегающе возразил старик. — Ему, бог с ним, как взглянется. Эн у него рожищи-то… Васька, Васька, хочешь покурить?
Козел проблеял и понюхал воздух. Дед Пахом, дымя трубкой, полез вниз:
— Васька, на, на…
Козел подбежал к дереву и опять привстал на дыбочки. Дед сказал: «Господи благослови» и тяжело спрыгнул прямо на козла. Васька вежливо посторонился и, сладостно чмокая губами, потянулся к трубке. Люди на березах засмеялись.
— Слезавай! — весело крикнул дед, задрав вверх густую бороду. — Слезавай… Осмирел.
Все поскакали на землю. Прибежал Вавилин с веревкой, накинул на Васькины рога петлю, потащил домой. Козел упирался. Пришлось наскоро прикрутить его к дереву. Начался прерванный митинг.
В конце митинга, пред тем как пойти угощаться и раздавать дары, комсомолец Ковалев из желания угодить гостям настойчиво требовал тут же, на месте, расстрелять козла, как ярого черносотенца, ненавидящего толпу и красный цвет.
— Он в День Парижской Коммуны демонстрацию, чертов дьявол, разогнал… Он заодно со своим хозяином, кулачком Вавилиным, который распинался, как бедный, напуская, в общем и целом, политический туман.
Шефы, снисходя к юной горячности комсомольца, разумеется, ради шутки поддакивали ему:
— Конечно, несознательность надо пресекать в корне… Мы поддерживаем козлиный расстрел…
Васька стоял смирно, слушая речи покорно и внимательно.
— Расстрелять! — раздались молодые в разных местах крики. — А хозяина его в чижовку!
Деду Пахому стало жаль Ваську.
— Конешно, пролить невинную кровь недолго, — сказал он, оглаживая пахучего козла, — только это ни к чему, товарищи. Он — животная с понятием: и лошадей наших стережет, и козлих без внимания не оставляет— алименты все-таки идут, его и нечистая сила побаивается. Да и стрелять-то нечем. Чем стрелять-то будете? Лопатой, что ли? Ни одного ружьишка на всю деревню нет.
— Нет?
— Нет.
— Тогда приговорить его к расстрелу условно. И ждать поступков! — засмеявшись, крикнул усатый рабочий. — Ну, идем…
Всем понравилось мудрое решение, все с шутками и весельем повалили угощаться. К кому? К Вавилину, у него дом пятистенок и всего много.
За обедом с выпивкой были деловые разговоры, сначала убедительные, потом перешедшие в крикливое бахвальство. Рабочие доказывали, что вся культурная видимость, все устройство жизни — сапоги, серпы, штаны, самовары, ружья, телефоны, всяческие машины — это их труд и пот; и объяви они забастовку — вся жизнь в государстве сразу остановится.
— Пускай, — отвечали крестьяне. — А без работы-то с забастовкой-то куда жрать пойдете? К нам жа-а…
— Извиняюсь… Как? И все ж таки первую роль в государстве играет рабочий класс. Так или не так?
— А мы, может, и последнюю роль играем, а главней нас нет…
— Извиняюсь, извиняюсь… Как, как, как?!
И неизвестно, чем бы кончилось это побратимство шефов и подшефных, если б не находчивый дед Пахом. Он политично перевел речь на козла, и всем стало весело. Дед перхал, смеялся, крякал, говорил комсомольцу Ковалеву:
— Вот ты, Гришка, хошь и селькор по званью своему, а олух, бог с тобой… Обвиноватил козла Ваську почем зря… Какой же он, бог с ним, черносотенец?.. Он — животная беспартейная: и пролетарь на березы усадил, и кулаку потачки не дал.
Вавилин сразу же обиделся — какой же он кулак? — хотел выгнать деда вон, но дед хитроумно подмигнул ему, и все кончилось общим смехом. Пили за беспартийного козла.
После обеда селькор Ковалев написал для губернской «Правды» ядовитую статейку под заглавием: «Кулацкое засилье с участием козла». Заглавие не понравилось. Зачеркнул и снова: «Летучий митинг на березах». Зачеркнул и снова: «Контрреволюционный козел выполняет на сто процентов задания своего хозяина-кулака». И тоже зачеркнул: не ударно как-то.
Вечером в помещении школы была танцулька с музыкой. Шефы угощали гостей конфетами. Веселые плясы продолжались до утра. Трое рабочих сняли обручальные кольца и под видом холостых пытались вступить в обольстительные нежности с местными крепкотелыми красотками, но реального успеха не имели: «Очень даже вы хитреные… а пошто колечки спрятали свои?!».
Зато барабану повезло. Приезжий барабанщик, шеф Сенька Ляхов, черен глазом, красен словом, а главное горазд на выкрутасистые плясы, всем местным шлепогубам нос утер.
Поэтому без особого усилья он сосватал сразу трех девиц: одну на плясах, другую в сенцах, третью в калиновых кустах. И все три побежали домой сказаться отцу-матери, сложить пожитки, чтоб завтра в город, в самый загс.
III
Но «завтра» им в город ехать не пришлось, — завтра престольный праздник, и все шефы остались погулять: труд да труд, дайте же по-человечески и им пожить.
Васька-козел сидел теперь под строгим арестом в хлеву, и ворота на запоре. А дед Пахом все-таки устроил озорную штучку. Дед Пахом, известный по селу безбожник, бывший пастух, друг-приятель нашего козла, забрался в пустой Вавилин двор — богомольные хозяева в церкви были, — чуть-чуть подскипидарил для веселости козлиный зад и, благословясь, выпустил Ваську на улицу да нарочно угодил под самый крестный ход.
Козел взыграл козла да прямо в пеструю, с хоругвями, поющую толпу девок, баб, ребят, старух и стариков. И точно буря пронеслась: оторопелый страх развеял весь народ, как сухие листья в роще.
Здоровенный дьякон, оборвав на полуслове ирмосы, ошарашил кадилом налетевшего козла по морде и, сотрясая воздух зычным криком, мчался вдоль села от травоядного животного, как от леопарда. Благочестивейшие старушонки, потеряв со страху жизнь в ногах, ползли на карачках кто куда, творя молитву, ругаясь черной бранью.
Атакованный козлом, старенький священник героем стоял на пригорке и осенял крестом улыбавшегося по-дьявольски козла. Козлу очень соблазнительно было смахнуть священника с земли, но знак креста и кроткие возгласы: «Вася, Вася, господь с тобой», видимо, смущали его. А все-таки лестно этого огнистого, в ризах, старичка долбануть рогами в спину, и он стал, не торопясь, обходить отца Гаврилу, делая возле него лукавый круг. Но отец Гаврила тоже не дремал: не сводя с Васьки напряженно остеклевших глаз, он точно так же медленно вращался вместе с ним. И как ни мудрил козел, виляя туда-сюда, — против его убойных рог — все же кроткие слова и крест.
Вдруг священник что-то прочел в желтоглазой чертовской улыбочке козла, устойчивость в его ногах сразу же пропала, мгновенно исчезла вера в силу животворящего креста, на смену — безверная пораженческая оторопь, и синяя скуфейка сама собой упала в пыль. Объятый ужасом, священник теперь ясно видел, что пред ним демон в образе козла, и его спина всерьез похолодела. Козел тотчас же почувствовал смятенье жертвы и ускорил коварно-мстящий свой спиральный бег! И не единожды кувырнулся бы священник под гору, но…
В гаме, в крике мчались со всех сторон одреколенные палочьем мужики. Быть убитым, быть убитым Ваське…
— Бей! Бей его по башке колом!
— Кончай его!
— Нечистая сила это… Черт, черт, черт!..
Васька взблеял и прыгнул, отец Гаврила кувырнулся:
— Карау-у-л!!
Потрясучие старушки бегом, вприпрыжку, воробьиным скоком — со страху шамкали, путали слова:
— Ей бего, его бего колом по башке!.. Несчистая сила этта… Черт, черт, черт!..
Быть убитым, быть убитым Ваське!..
Мужики остервенились, с ярым вздыхом колья вверх…
Но вдруг:
— Стой, товарищи! Что вы? — и крутой, раскатистый булыжный хохот.
Глядь: шефы. Глядь: комсомолец Ковалев. И дедка Пахом, безбожник, от ускоренного пьянства едва на ногах стоит.
— Извиняюсь, — сказал старший шеф, пучеглазый и с бородкой. — Мы берем эту животину под свою защиту… Он оказался вполне сознательным…
— Да его убить мало! — загалдели старухи и бабы с мужиками. — Он нам житья не дает.
— Я прошу слова, — продрожал голосом растрепанный, невзрачный отец Гаврила; какая-то угревая старушка подавала ему крест. — Поганое козлище сие, по наущению духа зла, восстало против установленных церковью обрядов. — Отец Гаврила поперхнулся и добавил, глядя в землю: — А также и против политических митингов… Посему я требую немедленно же зарезать его.
— Я присоединяю к сему и свое законное требование: зарезать! — пробасил подбежавший толстощекий дьякон. — Я этих самых анафемов-козлов, как огня, боюсь. Еще гусей. Меня в младенчестве гусь ущипнул в оголенный зад.
— Нож сюда! — загудели мужики. — Вавилин! Где. Вавилин? Эй, ребята! У кого поострее нож?!
Козел меж тем смирнехонько стоял, жевал жвачку, внимательно вслушиваясь в свой смертный приговор.
— Вася! Андел, — вдруг прокричал дед Пахом и, загребая пьяными ногами пыль, упал возле козла. — Не дозволю! Режьте меня вместях с козлом… Убивайте… Бога нет!.. — и горько заплакал.
— Товарищи крестьяне! — убедительным голосом начал весь взмокший комсомолец Ковалев и с пафосом ударил себя в голую грудь, где против самого сердца синели на смуглой коже серп и молот. — Товарищи крестьяне! Вы требуете зарезать козла, будучи науськаны представителями религиозного культа. Но вы должны принять во внимание заслуги этого симпатичного животного перед… перед…
— Перед революцией, — подсказал черноглазый барабан и ухмыльнулся уголками губ.
— Нет, не перед революцией, — замялся комсомолец, — перед этим самым… как его… Ведь он своим сейчасным выступлением, товарищи, провел, в общем и целом, показательную антирелигиозную пропаганду. Может статься, вам, как пожилому елементу, это ни к чему, зато молодежь вышеозначенный козлиный поступок может квалифицировать по всем статьям. И мы, молодежь, этого организованного убийства товарища козла… то есть не товарища козла, а просто товарища, то есть — тьфу! — то есть козла, извиняюсь… не допустим!
— А как же ты, Гришуха, вчерашний-то день?..
— Мало ль что было вчерашний день! — крикнул на голос деда комсомолец Ковалев, быстро лизнул ладонь и так же быстро провел ею по вихрастым волосам. — Да, действительно, мы, молодежь, вчера требовали организованного животного расстрела, исходя из паники во время вырыванья козла с привязи. Обозревая события, мы видим, как уважаемые товарищи шефы были принуждены, в общем и целом, сидеть на березах и там вести летучий митинг по текущему моменту. Да что они, — прилетевшие грачи, что ли? И теперь мы ясно сознаем, как резко изменилась вся идеология товарища козла… Извиняюсь, просто козла… Достиженья налицо: ни один товарищ шеф не тронут, а между тем, поп и дьякон были ниспровергнуты на почву. Так что этого козла не только приговорить к высшей мере наказания, а я предлагаю повязать ему красный бант и зачислить его в герои борцов за раскрепощение религиозных предрассудков. — Ковалев стоял на ровном месте, как и все, но для пущей важности закончил так: — Сходя с высокой ораторской трибуны, я голосую за. Кто против?
Таким образом, приговоренный к смерти Васька совершенно неожиданно получил право на жизнь. Это событие могло бы больше всех утешить старого Пахома, но Пахом, разинув беззубый рот и высвистывая носом, безмятежно спал возле козла сном праведника, а благонравный Васька, не торопясь, смачно жевал его просаленный картуз.
В тот же вечер шефы ехали домой.
На следующий день, по требованию крестьян, на озорные Васькины рожищи была прикреплена доска. Комсомолец Ковалев, отнесясь к козлу с полным уважением, четко написал на доске: «Беспартийный». Теперь козел был обезврежен. Он гордо расхаживал по улице и никому, даже бабам, зла не причинял. Эту доску Васька показывал и быку Мишке. Бык к надписи отнесся недоверчиво, но драться с козлом не стал.
Прошло три дня.
Комсомолец Ковалев свою корреспонденцию в корне пересмотрел, озаглавив ее: «Даже и козлы прозрели!» Подсчитав строчки, он определил и размер гонорара за статью — рубля четыре-пять. Спасибо Ваське. Чувствуя нежную благодарность к герою своей статьи, Ковалев перевел козла из беспартийных рангом выше, он заготовил новую доску, с надписью: «Сочувствующий», и, взвинченный, шел к Вавилину, чтоб торжественно водрузить эту доску на козлиные рога и дать Ваське кусок сахару.
Но, увы! геройский подвиг Васьки закончился, по настоянию священника, трагедией.
Навстречу комсомольцу попался сам Вавилин. Он с женой нес на длинном шесте черную шкуру Васьки: надо получше промыть ее в пруду и высушить на солнышке, чтоб не пахла псиной.
Побежденная голова Васьки никла вниз, и желтые помутневшие глаза слепо глядели в землю, как бы озирая последний путь земной.
А темной ночью пьяненький Пахом выбил колом в избе кулака Вавилина две рамы: летнюю и зимнюю.
ПОЛОВОЙ ВОПРОС
Половая проблема, конечно, решается двояко: в столице — так, в провинции даже совсем и против.
Ежели в провинции спросить малоинтеллигентного, скажем, трубочиста: «Что есть пол?» — он без запинки ответит: «Пол — это по которому пьяные ползают на четвереньках или ходят». Значит, по его понятиям, сверху потолок, а снизу пол. Вот какой ответ дурацкий.
Теперь извольте послушать, что в смысле пола могло произойти со мной. Прибыл я в Ленинград на две недели для легкого отдыха, проветриться от скуки. Хожу по улицам, осматриваю колыбель русской революции. Гляжу — на стене разрушенного дома «половой вопрос» висит, диспут. Отлично. Читаю афишу. Где? В фи-лар-мо-нии. Тьфу! Вот словцо придумали. Что же оно обозначает?
Только плюнул вспух, чувствую — обдает меня ароматным дыханием женская грудь. Гляжу — дамочка молодого возраста и вполне физической комплекции. Она чуть улыбнулась, и я чуть улыбнулся. Я, будучи первой руки парикмахером, одет очень прилично, во всем партикулярном, в груди живой жасмин за пятачок торчит, и кипучая молодость трепыхает во всем моем естестве. А дамочка была блондинка с черными глазами, притом же, она держала в левой ручке прогрессивного цвета красный зонт.
Поиграли мы глазами, поиграли, я смутился и пошел прочь очень быстрыми шагами. Причем, дважды оглянувшись, я резко споткнулся на безногого нищего, который полз по тротуару, с протянутым картузом. Брякнувшись с маху на асфальт, я едва не угодил под штраф, пересекая улицу не поперек, а вкось.
Вследствие падения я зашпилил английской булавкой разорванные об асфальт брюки и вечером поехал в филармонию на диспут.
Из половых докладов по интересующему меня вопросу я почти ничего не понял, уж очень далеко сидел и все больше перешептывался о соседкой, которая, к величайшему моему удивлению, оказалась той самой дамой с красным зонтиком. Покорно вас благодарю.
При выходе, подавая ей накидку, она вдруг говорит мне:
— А пойдемте-ка, Петр Петрович, ко мне чай пить. Живу я в чудесном климатическом воздухе, на Черной речке и, к тому же, мой гражданский муж уехал к знакомым на дачу.
Я чистосердечно сознался, что с великим полным удовольствием. Она ловко пудрилась пуховкой, освежала крашеные губки.
И вот мы катим извозчиком прямо в ее дом. А местность, по секрету вам сказать, самая живописная: Черная речка плавно катит свои воды, как у Гоголя. Кругом пустыри, заборы. И где-то в отдаленности неумолчно щелкал птица-соловей. Небо, конечно, самое роскошное, пылали яркие звезды, и было светло, как днем.
— Это называется белая ночь, — сказала дама, прижавшись невзначай ко мне шикарным плечом.
— Да, — сказал я, вздохнув, — ночь, конечно, самая белая, а вот у меня лопнула штанина на коленке, и мне стыдно. И как это разрешают у нас ползающим нищим сшибать с ног прохожих из провинции?
Домик, конечно, небольшой, деревянный, но двухэтажный. Ее квартира наверху. Чай, наливочка, разговоры. В знак презента я накалил щипцы и стал завивать ее первоклассные волосы в мелкую шлёнку. При этом я агитировал за а ля гарсон филь отреза, а она решила остаться а ля коса.
— В сущности, я пошла на диспут ради московских выступавших писателей, — сказала дама.
— Я тоже… А будьте столь добры: Зощенко — москвич?
— Нет, что вы, что вы… Он самый ленинградский, наш. А брюки, ежели хотите, я зашью.
— Благодарю вас, — корректно поклонился я. — Тем более, что я могу их выбросить в другую комнату: я человек скромный, стыдливый и очень чутко отношусь к проблеме пола — чужая семья для меня святая святых. Будьте спокойны.
Она в ответ буркнула какое-то малопонятное слово, вроде как «дурак», и надула губки.
Затем, чтоб не вдаваться в мелкую макулатуру, я умолчу о моем дальнейшем поведении по поводу восхитительной черноглазки. Что ж, человек слаб. И не такие дергунчики, как я, меняли в корень свои социальные убеждения в критический момент. И святая святых может вполне заколебаться.
Словом, в одном белье лежал в отсутствии гражданского мужа на кушетке под пикейным одеялом. «Божественная ночь, очаровательная ночь», — думал я, засыпая, как Гоголь.
И слышу из-за перегородки женский крик: «Петя! Петька!» — то есть виноват: «Петр Петрович! Вставайте! Гражданский муж приехал!».
Действительно, со двора крепко стучались.
Я быстро надел жилетку с часами, схватил штиблеты, брюки, пиджачишко и благополучно выпрыгнул на улицу, в крапиву. Боже мой! А вдруг дискредитированному мужу придет дикая фантазия выстрелить дробью из ружья. И припустился я бежать вдоль Черной речки. А впереди гляжу — человек. Стоит этот человек и пристально смотрит на меня. Черт возьми! А вдруг это сам Зощенко материалы собирает… Ну, пропала моя буйная головушка! Пропечатает с фамилией и с адресом, разнесет по всей России, сложит меня вдвое и в карман засунет в смысле смеха. И покрылся я сразу мокрым потом, как чахоточный.
— Стой, приятель! А ну давай дербанку, долью…
— Ой, ради бога… Не загораживайте дорогу… я караул закричать могу!
— Да ты что, черт драный, нешто не признал меня? Ты свой или не свой? Ведь ты ж по фене ходил… Много слямзил? Деньги есть? Что ж, я задаром, чтось, караулил тебя от мента, пока ты по тихой работал?
— Я ж в гостях был!.. Вследствие половой проблемы я…
— Ха! В гостях! А пошто с хапаным из второго этажа в окно? А пошто кофту бабью смыл, ежели ты гость? Не крути вола! Ты свой. Давай, давай…
Он вырвал у меня неожиданную кофту, брюки с пиджаком и съездил по загривку. Я упал и сразу догадался, что этот субъект далеко не Зощенко. Тот смехом валит, этот физкультурным кулаком.
— Извиняюсь, — говорю. — Вы напрасно меня принимаете за своего брата, за налетчика… Я…
— Ты в окно скакал?
— Скакал.
— Так кто же ты?
— Я честный.
— А в окно скакал?
— Скакал.
Он как ткнет меня в лоб, так в ушах и зазвенело. И давай срывать с меня жилетку с часами, приговаривая:
— Так бы и сказал давно, что ты честный, черт. Фраер, тилигент… Тогда я и подштанники должон со шкурой с тебя снять.
Я рванулся, заорал и помчался в близлежащий переулок. Бегу в одной рубахе, нагишом, галстук потерял, размахиваю прогрессивным зонтиком, кричу:
— Спасите! Караул! Половая проблема! Филармония!..
— В чем дело? Стой! — в вежливой форме сказал подоспевший милицейский и корректно поймал меня за подол рубахи.
Я со страху в чувство не могу прийти. Прямо внезапное помрачение ума случилось. Только, знай, кричу:
— Половая проблема!.. Филармон!.. Вследствие половой проблемы! Дама!.. Половой вопрос…
Гражданин дворник подошел с метлой.
— Надо скорую помощь вызвать, — приказал милицейский. — Больной. Надо быть, из сумасшедшего дома убежал.
— А как сказать в телефон-то? — спросил дворник.
— Как сказать? Скажи, мол, задержали в голом виде, подозрительный, по уму больной. Помешан вроде как на половой проблеме. Буйный.
Мне это слово «буйный» очень обидным показалось, потому что я смирнехонько сидел на булыжной мостовой и тихо благодарил судьбу, что не попал в зубоскальную литературу. Будь ты проклята, эта проблема, сверху донизу.
Маруся, ангел! А твой красный зонтик в моем красном уголке стоит. Адью! Мерси!
ПЬЯНАЯ БОЛЬНИЦА
Взять, к примеру, хлеб. Сколько хочешь его кушай — пьян не будешь. А наготовь с этого хлеба самогонку — с ног валит. И еще опыт был: зарыли мы как-то бутылку водки в рожь, в зерно, недельки через две вынули — гольная вода. Выходит: хлеб опять взял свою силу из вина. Хлеб из вина душу вынимает, вино — из человека.
Например, идем мы с кумом в обнимку по улице, пьяные, конешно. Кум потрезвей, поддерживает меня под пазухи, говорит мне: «Не бузи, шагай в плепорцию, каждой ногой в отдельности, левой, правой».
А я иду и плачу.
Горькими заливаюсь, говорю приятелю: «Вот иду я домой, морда в крови, ноги не работают, все пропил… А дома жена, ребята… Окромя того, живых чертей стал видеть… Эх, пропал я, загиб совсем…»
А кум и говорит:
— Вот больница… Объявись… Вылечат.
Вошли в больницу, нам отпор: пьяниц не лечат здесь.
— А вот примете! — заорал я.
— Нет, не примем.
— Примете! — и побежал на воздух, от ярости даже хмель во мне прошел. — Айда через мост! — скомандовал я куму.
И, как мостом пошли, я вырвался, бултых в канал, в водичку. Стал тонуть, пузыри пускать. Народ сбежался, вытащили. И поволокли меня в ту же самую больницу.
— Теперича можно? — спрашивает кум.
— Теперича вполне можно, — ответили нам. — Утопленников, ежели по инструкции, берем.
На другой день увезли меня в пьяную больницу. Лежу я средь пропойц, воздыхаю: вот до чего, дурак, на старости лет достукался. «Эх, Степан, Степан, — говорю себе, — с чем умирать будешь? Гляди, руки трясутся, сердце трепыхает, сам почернел весь. Жаль мне тебя, Степан…»
Вот приводят меня утром в большую комнату. А в комнате вдоль стен под самый потолок скамейки, а на скамейках сидят, студенты называются. Есть и женский пол. Девчонки, конешно, стриженые, которые в очках. Все одеты само бедно, как парни, так и девушки.
Велел мне господин профессор рубаху снять, стал выстукивать молоточком против сердца. А тут в трубку поставил ухо: желательно ему вызнать, сколь правильно сердце тукает. Слушает, а сам все головой неутешительно качает. Качает и качает.
Погляжу ему в глаза — чую: плохо мое дело. Срисовал профессор на моей груди синим карандашиком вроде рукавицы, говорит:
— Вот видите, ребята, какое у него сердце. По мерке плепорции это прямо бычье сердце. Ширше не может быть, а то лопнет. Тогда человек должен лечь без покаяния в темную могилу к отцам-праотцам.
Студенты удивились: вот так сердце! Я испугался очень, поджилки стали дрыгать.
Профессор спрашивает:
— Как звать тебя, какой профессии, сколько лет?
— Звать меня, ежели по трудкнижке, Степан Назаров, булочник, конешно. Возрасту имею 54 года, пью с малых лет.
Тогда профессор говорит студентам:
— Ну, ребята, слушайте, я стану лекцию рассказывать. Вот перед нашими взорами упомещается дядя Степан, конешно. Булочник. Много ты, Степан, водки выпил?
— Никак нет, — отвечаю, — пил я, товарищ гражданин профессор, очень даже мало. Мы — булочники. Ну, это верно, мы кажинный день пьем. Например, печку затопишь — шкалик выкушаешь. Хлебы посадишь — другой. Перед обедом — конешно, третий, перед ужином — четвертый. Нет, я вовсе даже мало, аккуратно потребляю. Вот ежели когда компанство, больше выпьешь. Вот только в нынешнем году запой стал одолевать меня. Недели на две закрутишь, без передыху винище жрешь. Потом опять бросишь. А так я сильно мало пью, умеренно, в плепорцию.
Профессор улыбнулся этак, не так чтобы уж очень, и говорит студентам:
— Вот, товарищи, по мнению Степана выходит, что он вовсе даже мало пьет. Хорошо-с. С какого же года ты, Степан, так умеренно водку потребляешь?
— А так что, пожалуй, лет сорок пью, извините за откровенность.
— Итак, Степан умеренно пьет водку сорок лет. И каждый день по четыре шкалика?
— Так точно… Кажинный божий день, окромя компанства.
— Значит, окромя компанства, Степан ежедневно выпивает…
Тут студенты стали высчитывать. Я перебил их, говорю:
— Оно, правда, что поболее шкалика выпиваешь, а так что неполный стакан зараз выпиваешь, так что бутылка с лишком, конешно, на день.
— Бутылка с лишком на день? — переспросил профессор. — Ну, будем для ровности считать, что с компанством вместе Степан выпивал в год четыреста бутылок или двадцать ведер. А за сорок лет своего умеренного питья Степан выпил, действительно, немного, всего только восемьсот ведер, то есть двадцать сорокаведерных бочек. Эту массу вина Степан перекачал через свое нутро за всю свою жизнь.
Студенты засмеялись, профессор прошелся взад-вперед, нахмурился. А я сижу ни жив ни мертв, аж волоски на голове один по одному в торчок пошли… Двадцать сорокаведерных бочек! Страсть подумать. Ой ты, ой!..
И подходит ко мне профессор и кладет мне руку на плечо.
— Ежели из этого вина, — говорит, — сделать бассейну огромную, в ней мог бы плавать рыба-кит, а ты, Степан, потонул бы в этой бассейне с ручками. И чтобы отыскать твой мертвый труп, пришлось бы пригласить специального водолаза со скафандером. Так? Теперь понимаешь, Степан, в чем дело? А ежели не бросишь пить…
— Брошу, брошу! — завопил я. — Вот подохнуть, брошу… — и бултыхнулся профессору в ноги. — Полечи ты меня, товарищ профессор, милостивец…
Усадил меня профессор, пошлепал ласково так по спине, сказал:
— Ну, ребята, постараемся с помощью науки Степана полечить. Одевайся, Степан, все будет хорошо.
Тут слеза меня прошибла, растрогал меня профессор вот так. Говорю ему:
— Милостивец-батюшка, одну штуку, конешно, утаил от тебя: чертей живых я видел…
— Больших?
— Нет, не великоньких: этак, как тебе сказать, вершков четырех-пяти, не боле… Стыдобушка сознаваться…
— Ну, а теперь беспокоят тебя черти?
— Никак нет, — отвечаю, — меня-то не беспокоят, откачнулись, слава богу. А вот вы, товарищ профессор… того… постерегитесь их. Эвот, эвот чертенок, конешно, у вас из кармана лезет… Кыш, дьявол!
И только я размахнулся — усердие было смазать окаянного по рогам — схватили меня два стража, увели в протрезвительную комнату.
Через три недели вышел я из пьяной больницы как стеклышко. Теперича глядеть на водку тошно. Разве-разве когда при компанстве…
ДИКОЛЬЧЕ (Повести)
«МЕРИКАНЕЦ»
I
Модест Игренев — заправский кузнец. Он сделан на цыганский лад: черномазый, курчавый, глаза большие, цыганские — мечтательность в глазах, и речь отрывистая, насмешливая, жилистый, высокий; в плечах узок, но лапы по силище железные, по уменью — золотые. Чего там о подковах, о жнейках толковать — пара пустяков. Он ружья медвежачьи делал, «молоканку» изобрел — сливочное масло бить — и на самодельном самокате к куму чай пить за семьдесят две версты ездит.
— Мериканец, — говорили про Модеста мужики.
— М-да, мозга в башке густая…
Так и укрепилась за ним слава. И если бы, прости господи, не окаянный леший, быть бы Мериканцу первейшим человеком во всей округе. Ан тут-то вот и сорвалось. Тихомолком снюхался Модест с нечистой силой, да такое выкинул, что все крещеные ахнули.
А случилось дело так.
Сидел Модест поздним вечером на обрыве, вблизи своей заимки, курил трубку и мечтал, поглядывая на золотые облака.
— Другие говорят, что облака — кисель, — рассуждал сам с собою Модест. — Кисель, а не валятся. Опять же взять птичье перышко: порхает в воздухах… и никаких огурцов. Али паутина… На что уж летяга — белка и та может с дерева на дерево, вроде птицы. А вот человеку не дано… Обида вышла… Ангелу дано, черту дано. Летяге дано… Пошто же человеку не дадено? Полный непорядок…
Дальше — больше, сидит мечтает. Голова от дум огрузла, и уж стало богохульство на ум взбредать. Модест крепился, говорил:
— Грех… не надо. Имеется в наличности у человека башка… Ну, стало быть, кумекай так и так, мозгуй.
Его заимка была на опушке густого сосняка. Он глядел на расстилавшуюся даль. Солнце село. Из-под земли тянулись кверху огненные мечи. Они пронзали подрумяненные груды облаков и гасли в поблекшем небе.
— Врет поди… брешет. А может, и так… Оно, конечно: Гаврило Осипыч человек пьющий, хоть и кум. Заклинаю тебя, дурака, богом святым — летают… И машины такие есть — ирапланы. Ну, мало ль что он спьяна-то… Да и какой он, к свиньям, учитель? Одна видимость. Из солдатишек… Буки аз-ба-ба… Аз пью квас, увижу пиво — не пройду мимо… Эвота о масленой…
Но Модест вновь повернул себя к мечте:
— А хорошо бы, черт… Порх-порх — и там…
От обрыва на целую версту шло мокрое, поросшее осокой болото с круглой озериной; за болотом, на берегу речки Погремушки, виднелась его собственная пасека.
— Прямо не пройти, а обходить взад-вперед сто верст. А ежели бы крылья… взобрался на обрыв — порх — и там!.. — Модест улыбнулся, засопел.
Он просидел здесь до поздних петухов, а лег спать на повети и не смыкая глаз провалялся до зари: в голове суматоха, — позванивали, поблескивали огоньки, взмахивали крылья птиц, без конца, без начала вспыхивали мысли. «А вот захочу… Модест Игренев… знаменитый человек. Захочу и полечу».
II
Целую неделю он был в тревоге, в возбуждении. Молот рассеянно бил не по тому месту, железная сварка ломалась, дрель насмешливо визжала и сверлила дыры не там, где надо.
— Ты что это как сонный, Мериканец? Аль округовел? — сердились заказчики. — Не сатана ли тебе приснился?
— Он самый.
Даже жена, круглобедрая Палаша, удивлялась:
— Иным часом рад целого барана стрескать, а тут так… Ешь!
— Постой, погоди ты, — отодвигал он миску с пельменями, отвертывался к окну и смотрел вдаль как помешанный.
А через неделю, в праздник, утром, он сказал жене:
— Становь самовар. Тащи оладьи… А я за медом слетаю, живо обернусь…
Палаша знала, что муж вернется с пасеки только к обеду — туда-назад верст шесть, — и подала ему узелок с едой:
— На, там закусишь…
— Говорят тебе, через полчаса слетаю…
Палаша долго смотрела ему вслед, у ней опустились руки, а сердце захолонуло.
В это время к заимке подъезжал верхом на своей замухрастой лошаденке Гаврила Осипыч Воблин, кум.
Он свернул в кусты, очистил от пыли блестевшие на солнце сапоги, венгерку со шнурами и стал прихорашиваться перед карманным зеркальцем: ловким зачесом прикрыл лысину отращенными над правым ухом волосами, поставил вверх свои военные, подкрашенные линючей краской усы, ласково провел по гладко выбритому подбородку с ямочкой и надел гуттаперчевый, резко сияющий воротничок номер сорок пять. Пыхтел, сопел, кряхтел: было очень жарко, и воротничок — дань моде — впивался в красную шею острыми краями.
— A-а… Пелагея Филимоновна! Сколько лет! С праздничком!.. — вскричал он, входя в гостеприимный двор.
— На уж, целуй… Чего тут… Прохиндей. Привык по-благородному-то? — весело встретила его хозяйка и протянула к толстым, враз оттопырившимся губам кисть руки, пахнувшую луком.
— Хе-хе… С праздничком, пряник мятный!.. — Чмок-чмок, — с воскресным днем, достопочтенная Пелагея Филимоновна…
— Чего уж, — засмеялась та в кончик ярко-красной головной повязки, которая так ловко оттеняла ее миловидное синеглазое лицо, — чего уж черемониться-то… Зови Палашей… А при нем ежели — Филимоновной…
— А их нет?
— Кого это их?.. Мериканца-то?.. Да с ума, видно, спятил… На пасеку улетел. Я, грит, не пойду, а полечу, как гусь.
— То ись как?
Через минуту, в одной взмокшей рубахе, Воблин, раскорячившись, умывался во дворе. Палаша рассматривала его плохо закрытую лысину, лила в широкие пригоршни ключевую воду и дразняще посмеивалась:
— Ну и кобыленка у тебя… Чисто коза. Ххи!.. И как это она под тобой, под толстомясым, дюжит?
— Подо мной-то? Ф-фу… — отфыркивался Воблин… — Подо мной даже приятно… Я б те сказал… да боюсь — ковшом по маковке ерыкнешь…
Самовар пускал пары. Сидели друг против друга. Скатерть белая; кирпичный чай с топлеными сливками душист; блины, оладьи, пирожки с начинкой вкусны.
Учитель скатывал в трубочку враз три блина и, обмакнув в растопленное масло, отгрызал. Отгрызет да опять потычет. Вкусно. То же проделывала и хозяйка. Так макали они в общую масляную чашу, смачно чавкали и облизывали губы.
Воблин жадно все пожирал, как крокодил.
— Протрясло дорогой-то. Семьдесят верст ведь.
— Ешь во славу, чего там… У тебя торба-то эвон какая, полвоза сена вбякать можно.
— Хе-хе… Чего-то в голову вдаряет. Рюмашечку бы…
— А ты расхомутайся, — повела она бровями на воротничок.
— Нельзя-с, Палашенька. При даме сердца-то? Нельзя.
— Чего нельзя. Все можно.
— Можно? Ну, в таком разе… — он вдруг вскочил. — По-военному! — и, как петух на курицу, налетел на подавившуюся сахаром Палашу… Чмок-чмок.
— Чтоб тебя… Пусти!.. Мериканец идет!.. Пусти!..
Скрипнули половицы, отворилась дверь.
— Здрасте-ка, приятно кушать.
Большой сухопарый старик, бородка клинышком, крестился на иконы.
— A-а, старшина… Начальник!.. — раздувая ноздри, вскричал Воблин и стал закручивать буравчики-усы.
— Садись-ка, дедушка… — вспыхнув маковым цветом и оправляя красную повязку, сказала Палаша. — Поди устал с дороги-то. Дальний гость.
— А где ж хозяин-то?
Выпили два самовара, а Модеста нет как нет. Пошли к обрыву.
III
Сначала шли рядом.
Старшина, по прозванию Оглобля, сутулый и высокий, шагал, как журавль. Палаша плыла утицей, а Воблин катился брюшком вперед, незаметно чиркая большим оттопыренным пальцем, как по спичечнице, по крутому бедру соседки. Та точно так же незаметно била по руке и томно замирала, потом вдруг ойкнула; Воблин отдернул блудливую руку, схватился за усы и крякнул. Журавль ткнул в Палашу носом:
— Эк тя родимчик-то!..
На самом обрыве лежал вверх бородой бродяга Рукосуй, сосал трубку и поплевывал в небо.
— Помогай бог дрыхнуть! — шутливо крикнул Оглобля.
— Я работаю, — сказал сквозь зубы Рукосуй и лениво повернул к старшине черное от копоти лицо.
— Хы… Что же ты, паря, работаешь?
— Брюхо на солнце грею… — сипло сказал бродяга. — Да еще соловья в кустах слушаю… Чу!.. — и загоготал барашком.
Из кустов раздался стон.
— Мериканец!.. — крикнула Палаша и, вздымая облака песку, кинулась по откосу вниз.
Модест, весь мокрый, дикий, неузнаваемый, сидел, как свая в земле, по пояс в болотной гуще.
— Кум! Товарищ! — всплеснул руками Гаврила Осипыч, укрепившись на твердой кочке.
— Тащите… Зашибся, кажись… Подвела, анафема… попортилась.
— Кто?!
И тут только заметили крылья, как у огромного нетопыря, хитро прикрепленные веревками к туловищу Мериканца…
— Батюшки, са-атин… Сатине-е-т мой, — заквилила Палаша. — Моде-ест, да ты сдуре-е-л…
— Тьфу, твой сатин!.. Ступа этакая… Я, кажись, ногу повредил.
Учитель Воблин деловито засуетился:
— Ну, старшина, командуй!.. Пелагея Филимоновна, пожалуйте удалиться в отдаление… Потому — болото, мужской пол окажется без всяких яких… вообще дело грязное… — закончил он витиевато, как всегда на людях, уселся на сухую кочку и, страшно пыхтя от напряжения, стал проворно раздеваться.
После усиленной работы Мериканца извлекли. Кости и суставы оказались целы, лишь было оцарапано лицо и чуть надорвана ноздря.
Крикнули хозяйке, чтоб убиралась восвояси, а сами в голом виде, похожие на арапов, пошли обходными путями к воде, чтоб смыть с тела густую грязь, начавшую уже подсыхать на солнце.
— Тебе бы надобно пуще махать… Чего ж ты оплошал-то?
— Сильно махал… Саженей десять пролетел. А тут сердце зашлось, я — хлоп!..
— Это тебе, кум, не ироплан. Хорошо, что не башкой воткнулся… Век бы в такой трясине не найти.
— Ку-уда тут…
— Хы! Вот это лета-а-тель. Так сильно махал-то, говоришь? — подмигнул Оглобля.
Гаврила Осипыч Воблин катился сзади, отколупывая с толстых холок лепешки грязи и опасливо озираясь на кусты: не подсматривает ли плутоватая Палаша. Передом шел Мериканец — черт чертом, с крыльями. Непослушными от раздражения руками, злясь и дергаясь, он старался распутать узлы веревок. А Оглобля, как конь хвостом, что есть силы крутил в воздухе полосатыми портками — уж очень донимали комары.
IV
С этого дня про Мериканца в народе такое пошло, что и не вымолвишь.
Усердней всех старался бродяга Рукосуй: он был чуть сумасшедший, и его частенько обуревала, особливо после перепоя, чертовщина и виденица. Рукосуй клялся и божился, что самолично усмотрел, как Мериканец летал на какой-то птице, словно бы на индейском петухе, да откуда-то припорхнул, дескать, коршун, не иначе — из болотины рогатый черт, клюнул индюка в бороду, — ну, знамо дело, Модест и загремел.
Однако бродяжьей божбе веры не было, да и Рукосуй на другой день плел уже иное, до того несуразное, что даже сам удивленно выкатывал глаза и норовил подобру-поздорову скрыться.
Зато потрясучие старухи, эти заправские ведьмины дочери, жившие, по выражению Воблина, «на легкой ваканции у антихристовых слуг», стали открыто говорить, что Мериканец спознался с лешатиком.
Ребятенки сильно начали его побаиваться, да, пожалуй, ни одна душа крещеная не решилась бы теперь пройти в лихое время мимо проклятущей кузницы, где еженощно до первых петухов светился адов огонь и раздавался грохот: кузница на самом обрыве высилась, а село-то под горой — оттуда хорошо видать.
Но вся эта несусветимая нелепица скатывалась с Модеста, как с гуся дождь, а неудача еще более окрыляла его.
Да и судьба к тому же: купил Модест третьеводнись добрую селедку, приказчик завернул ее в печатный лист с картинками. Дома глядь: «Ае-ро-план. Схе-ма-ти-че-ский чер-теж».
— Ха-ха!.. — закатился радостно Модест и поставил кружку с чаем. — Ну верно толкуют, что мне помогает черт.
Палаша ничего не поняла, она вышивала по канве Гавриле Осипычу рубашку и в мыслях сравнивала его, «завсегда такого великатного», со своим долговязым, рехнувшимся хозяином.
И уж мечты ее шли дальше:
«А вот сбегу, да и все… Проклажайся один с нечистиками, коли так».
Но Модест, изрядно, впрочем, ревновавший ее к куму, теперь весь был поглощен иной заботой, и мозг его пламенел. Он не поинтересовался, для кого готовится подарок, да вряд ли приметил и Палашу: мимо него толпой неслися облака, свистел в ушах ветер, урчали струны «ироплана», а внизу расстилалась мглистым ковром земля, пестрели села, города, хибарки, серебрились игрушечные речки, жутко тянули в свою синь безбрежные моря… дальше, дальше, на сухое место, на твердое, в белокаменную Москву… Стоп, машина!
— Мо-о-дест…
Тот улыбался и, глядя куда-то в угол, грозил ей пальцем.
— Модест… ко-ормилец…
Мериканец круто повернулся с делами. Недолго думая, уехал в город и вернулся с целым возом меди, стали, проволоки.
Все село обрадовалось:
— Модест на точку встал… Айда, ребята, волоки в починку всякую стремлюдь.
Однако кузнец принял их не очень-то любезно.
— А подьте вы… Не до вас тут, — и заперся.
Покрутили мужики бородами, пощелкали языками, стали кланяться:
— Ради Христа, Модест… До зарезу…
Мериканец в ответ нехорошо выругался.
— Ишь тебе имя-то Христово до чего тошно. Ах ты, окаянная твоя душа. Какую взял моду — летать!
— И полечу… Неужто с вами тут…
Но, погорячившись, успокоился.
— Оставляйте… Налажу.
День и ночь пыхтел, еще уже стал в плечах, нос вытянулся, только глаза горели, и что-то поделалось с ним нехорошее: бьет-бьет молотом, отшвырнет прочь, приложит ладонь ко лбу и стоит в оцепенении. Заказчик смотрит на него, дивится. А он — за дверь, да и почнет шагать вдоль обрыва взад-вперед, взад-вперед, сам с собою разговоры разговаривает; потом встанет, упрется, как бык, в землю.
— Модест Петров! — окрикнет его мужик нетерпеливо, — да когда ж ты лемех-то сваришь?.. Ведь мне время пахать.
— Сейчас, сейчас… — грозит ему пальцем кузнец и говорит, разводя руками: — Ежели так, то будет этак… Сюда, допустим, шуруп. Ну, а втулку? Втулку, втулку… Вот она втулка-то, вот… Черт… Наперекрест ежели струны?.. Нет, перетрет… Сейчас, сейчас, дядя Василий!
— Какой я тебе Василий? Обалдел? Иди, ради бога, — сердится старик.
— Иду, дедушка Ипат, иду… Механика, брат… — многозначительно подняв палец, говорит Модест. И вновь брызжут искры из-под молота.
Кузнец переселился на жительство в амбар, ключ от большущего замка держал за голенищем и что делал он в амбаре — никто путем не знал, но всяк догадывался: волховству предался мужик, загибла душа человечья.
А Палаша как бы овдовела вдруг: она беспечально стала бегать, по молодости лет, на игрища и домой возвращалась поздно. С досады, что ли? Непорядок в доме, недостаток. Кабы не золотые руки у Модеста, нешто пошла бы за него? За Палашу сватались люди настоящие. Нет, выбрала кузнеца Модеста девья дурная голова, ульстил, чернявый. Вот, думала, поживет вольготно. Да, впрочем, и жила: в меду купалась, сафьяновые туфельки носила. А тут ишь ты, на птичье положенье перешел: «Годи маленько, говорит, Палаша… Озолочу, говорит». Тьфу на его слова, вот что!
V
На деревьях золотились листья, трава шуршала по-особому, цветы иные, не весенние, печально глядели в облачное небо, а птицы стали деловиты, словно люди: люди жнут — птицы зерна подбирают, люди хлеб по дорогам повезли — птицы табунами носятся, галдят, высматривают путину необманную к морю-окияну.
Еще маленько — и потянулись птицы понемногу в дальний край. А за ними собрался и Мериканец в свой губернский Камень-город.
— А я что ж, без гроша буду? С голода подыхать?.. Уйду я… вот что.
— Куда же это?
— Опосля узнаешь. Неужели с тобой горе мыкать? Да чтоб тя разорвало на десять частей и с летягой-то!
Модест испугался.
— К кому уйдешь-то?
Защемило сердце. Зудили кулаки дать жене трепку, чтоб выбить дурь. Хотелось сделать ей больно еще за то, что… ну, как это?
— Хозяин старается, у хозяина голова трещит от дум… Ведь ежели я сделаю машину-то, ироплан-то… Эх, да чего с тобой, долговолосой, говорить!.. Тошно мне…
Пелагея заплакала, бабья колючая злоба полилась из сердца.
Модест смотрел на нее в упор, кивал головой укорчиво:
— Ты бы радоваться должна… Трепетать… что такой у тебя супруг. Халява!..
— Раа-доваться… В могилу… вот куда. Люди проходу не дают. Эвот авчирась: с колдуном, грит, живет… наверно, у ней, ребята, хвост. Ведьма, кричат. Вот сколь сладко жить!..
Модест крякнул, закусил губы, порылся в карманах, в кошельке — пусто. Достал со дна укладки часы-благословенье покойного родителя, — подал:
— На, заложи жиду… Скоро вернусь. Прощай.
Дорогой говорил попутчику, глуховатому старику солдату:
— Понимаешь ли, в чем резон-то?
— Ась! Как не понять… Все до тонкости…
— Вот-вот. Я все эти самые машины — как свои пять пальцев… Ну, скажем, паровую молотилку. Сто разов разбирал… Плевок…
— Долго ли до греха… Ась? Я тоже топоришко прихватил. Не ровен час.
— А в городу, сказывают, есть самокатная лодка… У ней машина на особицу… винтом воду из-под себя вырабатывает. А мне надо воздух… Сто верст в час чешет.
— Да как же можно?! — воскликнул, прихрамывая, солдат, и его тупорылое лицо с седым, давно не бритым подбородком весело заулыбалось. — Вдвоем али одному… Ну, скажем, он тебя сгреб за грудки… Ась?
— Вот-вот… Хочу рисунок срисовать.
— А я его обухом-то и лясну по маковке…
— Ну да… А потом пожалуйте пакент. Сто тыщ… Я опрошу. Просто чтобы. У меня своя механика.
Так шли они протоптанной тропой, возле покрытой черным киселем дороги и рассуждали по-хорошему: старик был глух, душа Модеста — очарована.
У солдата костыль, да пустая сумка, да еще прожорливый толстогубый рот. У Мериканца — руки. В первом же селе заработал двадцать целкачей. А на шестой день, когда в тумане забрезжил Камень-город, кисет Модеста туго был набит бумажками и серебром.
Солдат страшно попутчиком доволен, усердно качал мехи, похлопывал Модеста по острому плечу, бубнил:
— Экой ты парень золотой!
На постоялом дворе, в самом городе, после длинного пути угостились водкой.
Пьяный старичонко солдат, растопырив руки, торчавшие из широких сермяжных рукавов, то пускался в пляс, — но левая нога озоровала, не слушалась, — то бухался на грудь Модесту, весь захлебывался шамкающим смехом, бормотал:
— Лети!.. Мое солдатское слово — лети… Вот до чего ты мил. Нерушимое благословенье. И я с тобой… Хошь за хвост летягин дай подержаться… Хххых!.. А бабы — дрянь. Не хнычь, сынок… Не стоящие званья…
— Дрянь, брат, дедко… Дрянь!
— Эн, бывало, мы… под Шипкой. Привели, значит, нас под самую эту Шипку. Тут мы и остановились. Да не хнычь ты. Дакось скорей винца глотнуть. Я, брат, под Шипкой… Пей сам-то! Как хлопнем на размер души да селедочку пожуем с лучком, так и полетим.
Сначала слетел под стол старик, побарахтался там, помычал и захрапел оглушительно.
Модест был мрачен, почему-то сердце размякло, открылись, потекли слезы. И радость была в слезах, но больше было печали:
— Уж чево ближе — жена… Ну, самой дальней оказалась. Пле-е-вать!
Однако уснул Модест очень крепко. Только пред утром пришла Палаша и сказала ему: «Открой глаза. Смотри».
Модест открыл глаза и замер: внизу пропасть, черная вода шумит, в синем небе птица мчится, за ней другая, третья. «Иропланы, иропланы, — слышит крикливый голос, — иропланы, иропланы». Из пропасти поднимается, подбоченившись, Воблин, кум: сначала голова показалась, с зачесом, потом брюхо. Вот стало пухнуть брюхо, пухнуть, и уж закрыло оно все небо: нет белых птиц, ничего нет, одно брюхо непомерное и гнусавый крик смеющегося кума: «Иропланы, иропланы… Ха-ха-ха… А ты дурак…» Модест схватил горячие клещи и что есть силы стиснул ими кумов нос.
— Ой! Кто тут?!
Мериканец вздрогнул.
— Язви тя! Как ты меня сгреб, — закряхтел, закашлялся солдат. — Пошто за глотку?.. Ась?! Кха-кха…
VI
Модест в городе замешкался. Он сдружился с машинистом моторной лодки «Молния». Пришлось спустить в трактирах и пивнушках все деньжата, зато машинист кой-чему Модеста вразумил: продал самоучитель прикладной механики, вместе разобрали, обмерили и составили чертеж машины. Мериканец быстро, цепко все воспринимал и приказал крепким своим пальцам чертить что надо. Сначала грубо, неуверенно, но с каждым часом точнее, чище.
— Это называется кроки, или эскиз. Потом набело переделаем, потом на кальку… — пояснял машинист, с удивлением следя за его работой. В конце концов сообщил о нем механику Образцову.
Тот после знакомства с чертежом расспросил Модеста об его затеях и сказал:
— Вы человек с размахом. Вы — самородок. Вот только… знаний у вас ни черта нет… Понимаете? Теории…
И сразу же начал читать ему лекцию:
— У нас существуют два принципа летательных машин: первый принцип — аппарат легче воздуха… Запомните. Второй принцип: аппарат тяжелей воздуха. Сообразно с этой теорией, или, вернее, гипотезой…
— Ваше благородье, — перебил его Модест. — Я так полагаю, что без теории полечу… А теория у меня — вот. — Он постучал себя по высокому вспотевшему лбу.
— Нет, товарищ… Это ерунда. Ерунда! — безнадежно махнул механик циркулем. — Это бабьи сказки. Да вот увидите. Без теории не полететь…
Пока путался Модест с учебой, на заимке случилась оказия: в проклятущую кузню по ночам стал огненный змей летать.
Черным-черны ночи осенние — ни звезд, ни месяца! Вдруг аж полымем все опахнет: хвостатый змей из лесной трущобы мчится.
Положим, что, кроме старухи Волосатихи, чертова знаменья никто и не видал, а Волосатиха, прозванная так за большие усы и бороденку, увидавши, рассказала миру, да на другой день и померла. Толковали другие, что рыжиками объелась бабка, — солоща была до жареных в сметане рыжиков, — однако мир измыслил по-другому: змей, змей тому причина! А тут вскорости древнего старика грыжа задавила:
— Змей!
Тогда православные, после обедни в Успеньев день, приступили к духовному отцу:
— Вот что, батя. А ведь у тебя в приходе-то неладно…
— А что такое, братия мои? — спросил ласково священник.
— Вот те и что… У тебя Модест-мериканец бывает на духу?
— Бывает.
— Гм… И баба евонная бывает?
— Каждый год. А что?
Тут ему все подробно обсказали, выложили все догадки, опасения, вспылили злобой.
Священник улыбался, спорил, доказывал, увещевал, ругал ослиными башками.
Но мир был крут, упрям.
Собрали сход, постановили выгнать кузнеца и кузнечиху вон, кузню сжечь, дом с сараем сжечь и водрузить на сем поганом месте святой крест с водосвятием.
Проходившая старуха потрясучая остановилась, прислушалась, заверезжала.
— В небо взлетывать?.. Хе… Нет, брат… Человек не андел… Без нечистика не полетишь.
— Бабка! Пшла в болото! — прохрипел откуда-то вынырнувший пьяный Рукосуй и, покачавшись, сел горшком на землю. — Дураки вы все, сопляки… чертовы подхвостки.
Он сидел, обхватив колени, грузный, длинноволосый, вымазанный сажей, носастый лесовик. А глаза смешливые, от пьянства выпученные, враскос.
Мужики не знали, вздуть его или дать досыта навраться.
Но бродяга был серьезен:
— И полетит, — сказал он убежденно, ткнув пальцем вверх. — Модест-то? О-о-о… Мериканец завсегда полетит… Свиньи этакие!
— Сорока на хвосте, что ли, принесла? — И мужики сердито засмеялись.
— Эх вы, черти! — прохрипел Рукосуй и стал приподыматься. — Вы и тверезые, да вроде пьяных, я бродяга — и пьяный, да трезвей всякого. Потому — вольный казак, как птаха, а вы — грибы поганые, так тут и сгинете в своем лесу… Мухоморы, черти…
Миру было весело. Ермило мигнул Степке, Степка — Петровану: соскочили с завалинки, ну загибать салазки Рукосую. Тот ругался, орал на все село:
— Я вам такое сделаю, что… Я знахарь. Всем килы наставлю… Всех обхомутаю!..
— Крапивы ему в штаны… Давай крапивы.
— Кара-у-ул!
— Ага-а-а!.. Вот те птаха-канарейка.
VII
Модест подъезжал к заимке глухой ночью. Лошаденка попутчика шла бойко; нужные покупки побрякивали в ящике.
— Не баба у меня, а мед, — говорил Модест в широкую спину возницы. — Натосковался я страсть как…
— Дело известное, — ответила спина. — Мало ль в ней всяких средствий… Для этого и сохнут по бабам-то…
Окна в Модестовом дому были темные.
— Прибавь хоть четвертак. Вот благодарим. Ну, до свиданьица.
Колеса затарахтели по кореньям, смолкли, а Модест все еще медлил входить в дом. На веревках висело Палашино белье, белой шерсти чулки с черными полосками. Модест вздохнул. Сладко в груди заныло.
Вдруг кто-то пронзительно засвистал во тьме и, поперхнувшись, кашлянул.
«Рукосуй, — узнал по голосу Модест. — Что ему надо здесь?»
В окне колыхнулся свет, погас, вновь вспыхнул. Из дверей вышла Палаша.
— Ну, здравствуй, супружница… Каково живешь?
— Модестушка! Батюшка… Да, никак, ты? — В голосе испуг, тревога. — А у нас гость, только что прибыл, — вильнул ее голос хитроумно, на веселый лад.
— Кто же?
— Да кому же быть? Кум, Гаврила Осипыч. Пьяней вина приехал… Дрыхнет. Чисто смех.
Модест молча поднялся по приступкам. Половицы скрипели четко, дверь с силой грохнула о косяки, затрясся дом.
Вырвал из рук обомлевшей Палаши огарок, окинул взглядом раскрытую постель, стены, печь. С печи торчали босые ноги гостя и раздавался мерный храп. Модест поймал вздрогнувшую ногу и с силой дернул:
— Эй ты, притворяйся!
Голос был крепок, нешуточен.
Гаврила Осипыч, всколыхнувшись животом, спрыгнул на пол и, оправляя сбившийся зачес, встал против Модеста, заспанный.
— Кого я вижу! Кум!.. — подхалимно улыбнулся усатый рот.
Модест притопнул и ударил кума в ухо.
— Ах, ты драться?! Ты, хамово отродье, народного учителя избивать?!
Сцепились оба. Минута — Модест выволок кума на крыльцо и через хрустнувшие перила сбросил его в навозную кучу.
— Не расчесывай расчесы-то, черт… — сказал он сквозь стиснутые зубы жене и захлопнул дверь. — Застегнулась?! Все ли застегнула-то? — Голос его был сиплый, глаза страшные, готовые на все. — Ну, спасибо тебе, Пелагея.
Та, обхватив закутанную тряпьем, стоявшую у печки квашню, выла в голос:
— И ничегошеньки промежду нас не было. Кого хошь спроси… Да хоть измолоти его всего — не жаль… Ох ты, моя головушка!
Модест порылся в своей походной сумке, развернул сверток; полыхнуло ярко-красным.
— Вот тебе подарок привез. Кашемир… На платье… Вот тебе тафта.
Он с размаху грохнул сверток о пол и, покрякивая, изрубил топором на мелкие куски.
— На тебе подарок! На! На! На!
Из-за двери слышалось:
— Модест Петров! Я околел. Выбрось хоть штаны да венгерку. Мороз ведь.
— Просвежись!
Потом открючил дверь, вышвырнул одежду, крикнул:
— Уходи, Гаврилка, покуда цел! Да и часовому своему скажи. Сочтемся.
Погасил огарок и бросился, не раздеваясь, на кровать.
Утром ударило в глаза Модесту солнце. Услыхал громкий говор под окном и прерывистые выкрики Палаши.
«Должно быть, заберут. Воблин пожаловался», — быстро сообразил Модест.
В окно четко долетело:
— Чего ты с ним маешься-то? Наплюй ему в шары, да и уйди.
Модест вздрогнул. Решительный, страшный, он вышел на улицу, чуть ссутулясь.
Стояла куча крестьян. Против них, прислонившись к стене, плакала Палаша.
— Вы что, ребята? — спросил Модест. — С обидой али с хорошими вестями?
— А вот, значит, приговор, — паскудно улыбаясь желтой бородой и блестевшими под солнышком зубами, сказал десятский. — Значит, вообче, как с нечистиками и все такое, окромя того огненный змей… Ну, в таком разе мир не согласен, чтобы, значит… И убирайся на все четыре стороны, куда жалаишь.
Модест спокойно выслушал, закурил трубку, почесал за ухом, спросил:
— Вы, ребята, верите, что я колдун?
— Известно. А то как?
— Да, я колдун!.. Ежели хотите, можете пощупать хвост. Ночью у меня рога вырастают, а из ноздрей — огонь.
Модест говорил всерьез. Мужики стояли разинув рты, с опаской смотрели на него.
— Ничего, выживайте, гоните меня в три шеи… Ну, только что… — Модест сурово погрозил пальцем, повернулся и ушел в лес.
Перепуганные мужики тихомолком побрели домой.
VIII
Опять стали видеть старушонки огненного змея, да еще будто бы какая-то «оборотка», под видом огромнейшей свиньищи, шлялась ночью из села на гору, в гости к кузнецу.
И снова стали над Модестом изгаляться, все старались как можно больней лягнуть, уязвить его, обидеть.
— Ну, что, Модест, поди скоро на пасеку-то летать будешь?
— Поди теперича тебя нечистики-то вздымут.
— Ты бы свою бабу подковал: смотри, паря, как бы она наперед тебя не упорхнула. Хе-хе.
Модест яро сверкал в ответ глазами и плевался. А иной раз пускал с плеча:
— Дураки! Остолопы! Что вам от меня надо?
Тропа к его кузнице густо поросла травой: он окончательно забросил работу на односельчан. Разве страшна ему черная корка с ключевой водой, если впереди почесть и богатство?
— Я знаю, чем это пахнет.
Палаша ходила надувши губы, укоряла, плакала, ругалась. Но Модест был слеп, глух и нем как рыба. Жена, скамейка, ель в лесу, криволапая сучонка Шавка — все одно. Мечта цепко обвилась вокруг его души, как дикий хмель возле рябины, приподняла его над житейскими делами, насытила мозг огнем, сердце — горячей кровью, глаза — безумием.
— Добьюсь!
День и ночь работал он в амбаре, иногда гасил фонарь, вылезал на волю и, взъерошенный, бесцельно шагал, словно лунатик, не зная сам куда.
Только один человек верил в летягу крепко — бродяга Рукосуй. Он двадцать лет на поселенье прожил и родину лишь во сне видал, а как хотелось: глазком бы, на короткую минуту! Вдруг как-то потянуло, сразу — ну легче в гроб! А тут как раз Модест. Эге! Пусть изобретает.
Рукосуй жил в заброшенной бане, на краю села.
Однажды ночью, лениво развалясь на полу, бродяга трескал водку. Баня была «по-черному»; сажа, копоть покрывали пол, потолок и стены. Курился огонек на камельке, плавал сизый дым, дверь — настежь, звезды видно. Бродяга чернее трубочиста, пьян. Он то хохочет, как пугач в лесу, то вдруг уставится глазами в мрачный угол, куда еле проникает свет от камелька, и бубнит серьезным голосом:
— Ежели ты лопата, стой в углу. Ежели не лопата— пей!
И тянет заунывно, бессмысленно:
В небе облаки, быдто яблоки, Уж вы, яблоки, быдто облаки…У лопаты морда белая, широкая, блином. Облизнулась лопата, разинула хайло. Бродяга плеснул в хайло вином:
— Пей!
Лопата прорычала: Фррр! — и опять распахнула ртище. Рукосуй сам выпьет и лопату угостит. Говорит лопате:
— Ты хоть и ведьма, а дура… Я молодец. Улечу я. Вот те крест святой. Мериканца обману, укланяю, умаслю. Потому — дурошлеп он. И бабу от него сведу, как цыган коня. Ей-ей…
А Модест стоял невидимкой рядом, привалившись плечом к косяку открытой двери, и рассеянно смотрел на сутулую спину пьяницы. Как попал сюда — не знает, ноги принесли. Шел, шел — глядит: в стороне огонек играет, взял свернул. Вот стоит. Где стоит? Ничего не слышит, ничего не видит. Вот пойдет.
— Мне бы только взобраться на летягу-то да ножки свесить, — бубнит бродяга, — взмахнул крылышками — прощай, Сибирь… Хах ты, будь ты проклят!.. Прямо на Волгу-матку. Вот те хрест. Башку разобью об коренья, улечу… Пей, окаянная твоя сила, разевай пошире пасть-то!
Лопата облизнулась, сплюнула.
— Чего? Пей знай… Воблин еще водки припрет. Воблин молодец, будь он проклят! Милуются как-то с кузнечихой вот об этом самом месте, Воблин и говорит мне: «Ты, грит, молчок, старичок…» А мне что, мне наплевать, будь он проклят… И кузнечиха тоже… Убегу, грит… Ты чуешь? Эй, лопата!
Модест встряхнулся, вздрогнул, будто сонного ударили по голове, и впился железными пальцами в косяк.
— А я ей, это кузнечихе-то, Палашке-то… Беги! Ежели Мериканец твой колдун, — беги, мол. Ты к Воблину, я на Волгу, прямым трахтом, порх-порх!..
Модест рванулся было в дверь, хотел схватить бродягу за ноги и торнуть косматой башкой в огонь. Но какая-то сила круто повернула его прочь.
— Эй, кто тут? — вскричал бродяга.
Кузнец шел молча, ноги вихлялись и ныли, словно тысячу пудов несли, из груди с хрипом вылетало дыханье.
«Так, так, так… Понимаю…» И высоко вскинутым кулаком он грозил проглоченной мраком бане:
— Сводничать?! Вот узнаешь, какой я есть колдун!
IX
Раннее утро было ядреное. Травы крылись серебряной росой.
Прибежал в кузницу, запыхавшись, Рукосуй, слова вымолвить не может, только белками ворочает, на толстых оттопыренных губах слюна кипит.
— Модест!.. — начал бродяга хрипло и хлюпнулся горшком возле горна. — Модест, а ведь это ты летал ночью в поскотине-то! А? Вот те Христос, ты! — В глазах и во всей фигуре его было мучительное ожидание.
Модест поднял молот и медлил ударить по железу. Он смотрел на бродягу пристально, настороженно.
«Разве тяпнуть его, паскуду, по башке?..»
У бродяги сквозь сажу проступили на щеках красные пятна, а лоб и нос покрылись испариной.
— Я всю дорогу вмах бежал… Ух, батюшки! Ну, скажи, ради Христа, — ты?
— Я, — сказал кузнец и опустил молот.
— Ей-бог?! — Бродяга вскочил, подбоченился, встал против Мериканца, а глаза его от радости плясали. — Ты?!
— Пошел ты к праху! Не веришь, что ли? Какая причина врать?
— Верю!.. Сударик мой, верю!! Хы-хы-хы… Язви тя в пятку… Ну и порхал… А я-то кричу: Модест, Модест!.. Да и подумал: высоко, будь он проклят, где услыхать… Хы-хы-хы… Ну, прощавай, Модест Петрович! Гуляй ко мне, угощу. Грибишки есть, рыбешка. — Бродяга пошел вон, но в дверях задержался. — А не обманываешь? — Он скосил глаза к переносице и потряс поповской гривой, словно паралитик. — Обманешь, не спущу!
Кузнец шумно дышал и с надсадой грохал молотом, косясь на Рукосуя. Тот вдруг ухмыльнулся, поскреб под широкой бородой и подхалимно сказал:
— А ты бы полетал, слышь, на народе… Ярманка скоро вот. Пущай мир подивовался бы… А? Будешь, Мериканец?
— Буду! — сжал кузнец кулак и, стиснув зубы, шагнул к бродяге: — Вон!!
— Иду, иду… Прощавай скорей.
Бродяга весело пошел в село, шлепая опорками по пяткам.
Встречному и поперечному кричал не своим голосом, размахивая руками:
— Полетит, будь он проклят!.. При всем народе… На площади… Об ярманке.
— Кто?
— Кто! Балда паршивая… Как это — кто?.. Сам Мериканец.
Его слова гасили хохотом. Бродяга свирепел. Срывал с лохматой, беспросыпной башки сшитую из тряпок скуфейку, грохал ею оземь, брызгался слюной, лез драться:
— А ты не веришь, варначина, не веришь?! Убью, будь ты проклят!
В конце концов его изрядно отлупили и заперли в каталажку, «чтоб продрыхся».
Волгу во сне видел, золотое время, свою молодость. Высокий прибрежный взлобок, на нем — белым кораблем церковь. Кругом поля, поля, ржи шумят, травы цветистые к земле от ветра никнут, плещется Волга серебром, струги несет, а за Волгой — яблони. Эх, в хоровод скорей, с красными девками позабавиться: «Жарь на гармошке, что ли!»
Бродяга проснулся, посмотрел на решетчатое окно, дотронулся до подбитого мужиками глаза и подумал, улыбаясь:
«Ни-и-чего… Теперича недолго. Недельки три и — ярманка».
Ночь была холодная, сырая. Под горой, над болотами, туман залег, и месяц выплывал из-под земли плешивый, побледневший, мертвый.
Модест ночевал в избе. Собственноручно взбила Палаша мягкую перину и с Мериканцем была очень обходительна. Но Мериканцу не до ласк:
— Отстань, не юли. Дай мне спокой, — сказал он грубым голосом и отвернулся к стене, что-то зашептав.
В окно глянул месяц. Заголубела печь, блеснули лежавшие на скамейке клещи. Модест вяло, как в бреду, заговорил, язык его заплетался:
— То ли во сне приснилось, то ли нет. Ты была в бане с Воблиным? Бродяга плел.
— А ты веришь… Веришь?
Модест молчал. Палаша заплакала. Модест сказал:
— Притворство это.
Палаша заплакала пуще. Тоскливо в избе сделалось, жутко. Модест вздохнул. Хотелось жаловаться — наболело сердце, — хотелось верного друга на земле сыскать.
— Как собаку изводят меня. Летяга да колдун — только и званья мне. Кому какая забота? Ну, делаю и делаю… То тот, то другой… Надоело мне. А тут еще ты канитель заводишь… Эх!..
Долго лежали оба молча. Печка стала серой, погас блеск клещей. Месяц глядел теперь мертвым ликом прямо на кровать, нашептывал. Уснули, что ли? Недолго придется, люди, спать. Пятеро гуляк идут, вот подходят, ближе, ближе, подошли. Эй, спящие, вставайте!
И вдруг загрохотали в окно, послышался хохот, пьяный крик. Модест круто нагнул руль вниз, спрыгнул на зеленый луг с крылатого аэроплана и проснулся.
— Модест! Подь-ка сюда.
«Кровать, черт его знает, кровать! Печка, изба, Палаша. Где ж аэроплан?»
— Эй, Мериканец! На пару слов. По делу!
Модест крепко выругался и со злобой подошел к окну. Толпа гуляк стояла.
— Что вас леший носит?
— Открой-кось.
— Ну?
— Слухай-ка, Мериканец…Вот что… — в голосе говорившего копился смех — вот прыснет, разорвется. — А вправду ли, что ты колдун? Что быдто полетишь? Покажи, на чем? Ха-ха-ха. На черте, нет?!
— А баба-то твоя еще не упорхнула?
Модест плюнул в чью-то широкую бороду, схватил молот и кинулся вон. Пьяные гуляки с хохотом и руганью сигнули в лес.
— Вы мне душу всю вымотали! Стрелять буду, собаки. Убью!! — истошным голосом, потеряв себя, орал Модест.
В лесу притихли.
Он вошел в дом, выставил в окно ствол дробовика и прицелился на вновь прозвучавший во мраке пьяный смех.
— Рукосуишка хохочет.
Мстительно грохнул выстрел. Хруст раздался в трущобе, оторопелый топот бегущих ног.
— Кажись, влепил, — с облегчением сказал кузнец и единым духом выпил большой стакан вина.
X
Ветер катит перекати-поле: куда ветер, туда и трава летит. Так и человечье ветреное слово — покатилось по всей волости, по всему уезду весть: в осеннюю ярмарку, в селе Ватрушине, Мериканец Модест, что на речке Погремушке держит кузницу, будет при помощи нечистой силы взлетывать по зоздуху на какой-то на своей летяге («а может, и впрямь изобрел мериканскую стремлюдь»).
Докатилась эта весть и до его высокоблагородия, уездного исправника Урвидырова, человека крутого, до всяких новшеств неохочего: живи по старинке, кого надо — чти, шею держи согбенною, ходи на цыпочках и не фордыбачь.
Крутой приказ от него исшел, с крутым, очень страшным росчерком (надо быть, перо сломал), что так, мол, и так, становому приставу вменяется в непременную обязанность, и прочая, и прочая. Словом, следить за Мериканцем в оба и чуть что — свершить по закону ущемление.
Становой дал строжайший наказ местному уряднику: «Сборищ не допускать. Пресечь. Летателя представить в город совместно с механизмом».
Урядник, человек больной, робкий, суетливый, поехал к учителю Воблину, — в одном полку служили:
— Неясно мне слово «механизм». Растолкуй, Гаврило Осипыч.
— Механизм? Ха… Очень известно. Ужо-ко у меня где-то календарь был Гатцука… Механизм, механизм… Что-то такое знакомое, понимаешь. — Приняв необычайно озабоченный вид и поправляя сбившийся зачес, он рылся в шкапу с посудой. Припахивало водкой, и вся комната была насыщена винными парами.
— Напишут же… Что бы просто… Нет! А ты тут вот бейся на тридцати рублях.
— Сейчас, сейчас… Именно, жалованьишко, что ваше, что наше — тьфу! Где ж календарь-то? Агафья, не брала ли календарь? Ты все кринки, дрянь-баба, им покрываешь… Нашла? Ну, давай… Механизм, механизм… Та-ак… Механизм… Вот я идеализм знаю. Это, понимаешь, ну, такая, как бы тебе сказать… Такая вещь, с дырьями… Понимаешь? — Он вытаращил глаза, сделал губы трубкой и уставился на урядника. — А верней всего вот: пойдем к попу!
— Верней верного. Айда ни то!
Они пошли. Дорогой Воблин спрашивал:
— В чем же суть бумаги? Кузнец? Модест? А-а-а… Вон как. Резон… Мужичонко вредный…
— А Па-а-лаша? — подмигнул урядник Воблину, игриво ткнув его пальцем под ребро.
XI
Работа Модеста шла успешно: к зиме аэроплан будет налажен, сугробы мягкие — не расшибешься, пробуй. Модест повеселел, подобрел, находился в каком-то сладостном угаре. Палаша? Воблин? Ничего, после, после. Рукосуй?
— А вот погоди. Расчет будет у меня. Всех умою!
Постукивает по остову машину молотком, натягивает крылья, сам с собой улыбчивый разговор ведет. Иногда заводит песни: одну затянет — собьется на другую, плюнет.
Работает больше по ночам. Сон не берет его, и не тянет на еду. За последнее время в черных висках показалась седина, нос вытянулся, провалились щеки. Как-то взглянул ненароком в зеркальце, перетрусил. Он ли, нет ли? И очень сильно стала голова болеть, иной раз такая боль, ну словно кто схватил глаза железными щипцами и выворачивает. Тогда Модест кричит в амбаре не своим голосом, Палаша отрывает от подушки сонную голову, крестится и вся трепещет.
Однажды в поздний час, осмотрев кругом всю свою усадьбу — чтоб ни одна душа не пронюхала — и выждав время, когда Палаша загасит свет в избе, Модест вытащил из амбара заветную летягу, погладил ее белые крылья и ну любоваться ею, как желанным сыном мать.
— Ты не жена… Не продашь, не изменишь…
Вплотную придвинувшись к заимке, стеной стоял безмолвный лес. Небо усеяно четкими звездами, и там, вверху, над головой Модеста, незримо мчались к югу журавли.
— Ишь ты, курлычут как… — прошептал Модест и сладостно вздохнул. Его окрыленный дух устремлялся ввысь, туда, за журавлями.
— Птица летает, сатана летает. Как это не дадено?! Дадено и человеку. Прямо в облака, быдто небесный серафим божий.
Модеста вдруг охватила тихая, ласкающая радость. Он всхлипнул, снял шапку, поднял глаза к лучистым звездам и набожно перекрестился.
Из сумрака светились в этот миг два тайных глаза. На опушке леса, в отдалении, вытянув вперед шею и откинув руки, стоял бродяга Рукосуй. Дрожь трепала его, раздувались ноздри. Душа бродяги тоже была вся взбудоражена и видела во тьме, как днем.
— Летяга… — шептал он… — Ох ты, мать честная…
Ле-тя-а-а-га. — Больше ничего не мог сказать — внутри не дозволяло, захватывало дух.
Когда Модест запер амбар, Рукосуй, все так же дрожа и подергивая плечами, потонул в лесу.
— Приведи, господи, помоги, господи… — бормотал он, пробираясь сквозь чащу. — Прилечу на Волгу, обещание дам: прямо в монахи, к отцу Серафиму. Саровскому. Пропади я пропадом, ежели не так!
Кузнец и Рукосуй с одинаковым напряжением ждали ярмарки. Рукосую невтерпеж — свобода. А Модест… плюнет всем мужикам в лицо — не издевайся!
XII
Наконец ярмарка пришла. За день, за два, из далеких же сел и за неделю начал собираться крестьянский люд. Только и разговору было:
— Мериканец летит… Светопредставление.
Дороги развезло в кисель.
По обочинам и луговине емко шагали мужики и но пояс мокрые бабы. В руках батоги, за плечами котомки. Сивый старик, борода с расчесом, солдат-усач на деревяшке, всех степеней кавалер — грудь в крестах, карапузики, богатыри, уроды, парни, девки, ребятня.
Гомон стоял на дорогах день и ночь, сроду ничего такого не было.
— Это что, Лука, коровенку, никак, ведешь на ярмарку?
— Ее. Да, мало горя, и не надо бы… да так уж… Мериканца лажу посмотреть.
— И я, брат… Чего-то он там накумекал.
— А слыхали, братцы, кузнечиха-то?.. Тю-тю!..
— Готово дело… Учительша теперича. Ха-ха!
Вольные поля лежали, поджидая снега. Скирды пшеницы высились горами здесь и там. Веселый, сытой народ шутил и, несмотря на хляби непролазные, хотя и с превеликой отборной руганью, хлюпал не унывая. Только очень дальние, намучившиеся за длинную дорогу, обкладывали всяко и Модеста, и по уши обляпанных грязью лошаденок, и себя.
— Нелегкая-то понесла… Вот возьму да вывалю всех в грязь!.. Холеры.
Ребятишки оскорбленно мигали, куксились, бабы фыркали на мужиков.
Вот какой-то остановил лошадь и ну полоскать бабу по щекам:
— Летягу тебе смотреть? Летягу?.. Я те покажу летягу очень вкусную!
Та вырвалась и во весь рот заголосила;
— Вороти, коли так, назад! Не поедем! Вороти!
— Как это — вороти?.. Здравствуйте!.. — Остановился в недоумении мужик. — Эстолько места проехали да назад?.. Полудурок этакий… Садись, что ли! Ле-тя-а-га!..
А народу прибывает, прибывает. Поскрипывают телеги, ругаются крещеные, свистят кнуты.
— Держи правей! Эй, шляпа!..
Солнце в день ярмарки поднялось хорошее, красное. Загорелись золотом грязевые лужи, помолодела блеклая трава в полях, и недавний снежок на овражных склонах стал розовым. Угревно, тихо, от земли идет пар.
— Хы-хы-хы. А Рукосуишка-то, бродяжка-то… Округовел, слышь! Две недели быдто бы не жравши высидел. Я, гыт, брюхо-то супонью стягивал, а то, гыт, летяга-то не вздымет… Барсук барсуком теперя стал!
— А вот все высмотрим… Хы, занятно, ерш те в хрен.
Кто припоздался, расположились под селом, зажгли костры, пшенную кашу варят, а другие — и баранину.
— Не прозевать бы. Где он взлетывать-то будет?
— Сказывают, с колокольни.
— Ну?! А поп-то ничего?
— Из кынцыстории гумагу получил: допустить; и ежели удача — чтобы полный трезвон был и водосвятье.
— Ну?! Эвона как обернулось!
И вскорости с луговины, из любопытствующего табора полилось по селу новое известие:
— Анхирей пожалал прибыть…
— Чего анхирей! Прокурат приедет с губернатором… Не говоря об анхирее.
— Вишь, в чем главная-то суть: золотая медаль выходит ему, Мериканцу-то.
— Ври! Медаль, — гукнул чей-то бас, — разве чугунная, да пуда в три, вот это так.
— Кол ему осиновый в брюхо! Он всех чертей билизовал.
— И впрямь… Эвот сусекинского Митьку быдто опять лесовик водил.
— А в болотине, у кузни, леший кажинну ночь вроде как бык ревет, а нет — овцой. Чьи проделки?
Обедня на исходе, но в церкви не густо, боятся прозевать, возле топчутся большой бубнящей толпой.
Все нет и нет. Балаганы торгуют на славу; орехи, погремушки, пряники. А вот и с книжкой балаган: тоже народу куча.
Ударили вовсю.
— Ишь обедня отошла. Где ж он, черт? В трактир бы чайку…
— Братцы! К кузне, к кузне!.. Начинается! — звенит неведомо чей голос.
— К кузне!!
— Как это, к кузне? Сказывали, с колокольни быдто…
— Брешут! У кузни он… Штуку ладит…
Толпа, наступая друг другу на пятки и сшибая с ног, хлынула от церкви к заимке кузнеца.
Колокола весело трезвонили, светило ярко солнце. Кто-то взрявкал на гармошке.
— Ну и веселая же жисть, братцы… Хи!..
— Чего веселей!
— Эй, бабка, брысь! Стопчу!
XIII
Весь яр у кузницы был покрыт народом, и внизу, под обрывом, до самых кустов стоял народ.
По ослизлому откосу, не жалея ног и одежды, карабкались любопытные. Все ближние деревья снизу доверху были унизаны голосистой детворой.
С обрыва видно озеро, кусты, кусок блестевшей речки, церковь и широкий луг от села с извивавшейся дорогой. Бегут, торопятся по дороге запоздалые. «Скорей, сейчас начнется!» — нетерпеливыми глазами кричит им народ, посматривая то на кузницу, то на дорогу, по которой вот-вот примчится архиерей.
— Эвот-эвот, вылез!
— Выле-ез! Ааа… ооо!.. — загалдел, встрепенулся мир.
Из кузницы вышли Модест и Рукосуй. Кузнец волок по земле какую-то штуку, сеть не сеть, одежду не одежду.
Бродяга преобразился: усердно выскреб себя в жаркой бане, белый, неузнаваемый, как именинник, в продегтяренных чирках, в аккуратно заплатанной кацавейке. Брюха нет.
Модест угрюм и мрачен. Кудластый, горбоносый, глаза — два угля, лицо в саже, рубаха ярко-красная.
— Чисто сатана… — отплюнулся кто-то, а старушечья рука перекрестилась.
Оба они уже были на плоской, покрытой дерном крыше. Под ними зиял обрыв.
Шеи бесчисленных зевак вытянулись, носы и бороды задрались вверх, к дьявольской кузне, рты жадно раскрылись, старики пустили слюни.
Модест ощупал толпу пристальным, тревожным взглядом: Палаша здесь, наверно, здесь, в толпе — ведь сегодня разгульный ярмарочный праздник. Но его взгляд не отыскал Палаши. И печальные, умилившиеся на минуту глаза Модеста вновь распалились угрожающим огнем.
— Чего, ребята, собрались? — зычно крикнул он толпе.
— Тебя смотреть.
— Меня? — его губы перекосила злобная, мстительная улыбка, ему хотелось выворотить с корнем стоявший вблизи кедр и ахнуть по толпе. — Меня?! Ну, разглядывайте, когда не лень.
А бродяга, слезливо мигая, упрашивал:
— Дай, Модест, пожалуйста.
— Нет, не дам.
Бродяга кувыркнулся в ноги:
— Дозволь ради Христа.
Толпа вся обратилась в слух.
— Гли-кось, гли-кось! Благословленья просит.
— Валяй, — едва заметно улыбаясь, сказал Модест суровым голосом. — Так и быть, лети.
Он быстро привязал ему крылья из бересты, надел какой-то балахон с четырьмя воловьими пузырями.
Толпа слилась в одно, застыла.
Лицо бродяги просветлело, белели зубы в изумленно открытом рту, грудь ходила ходуном, руки тряслись, и с ними трепетали крылья. Он повел глазом по горизонту.
— Садись вот на эту мериканку, я привяжу тебя, — сказал Модест одеревеневшему бродяге.
Будь бродяга в твердой памяти, тотчас усомнился бы, на столь несуразную штуку он уселся — из каких-то салазок, корыта и двух лыж.
Уже к краю придвинул кузнец летягу — вот-вот и кончено.
Но в это время толпа заволновалась, голосисто загудела, загорланили деревья.
— Стой, обожди! — все повернули головы к селу.
По дороге, нахлестывая лошадь, скакал верховой.
Он раскачивался вправо-влево, словно пильщик, но держался крепко, — сильней летят брызги, ближе, ближе — машет шапкой, кричит:
— Стой, стой!!!
— Стоим и так! — захохотали веселые. — Звона это кто. Старшина! Сам господин Оглобля!
— С гулеванья, никак?! Дернувши.
Весь запыхавшийся, длинный, худой, журавль журавлем — старшина упал с коня на четвереньки, кой-как приподнялся и загрозил пьяными кулаками кузнецу:
— Стой! Не моги, слышь! Арестую!
Опять захохотал народ, захохотали деревья, улыбнулся и бродяга. Только Модест был суров и злобен.
— Расходись! Живо! Каки таки узоры? Эй, где сотские, десятские? Расходись! — пьяный крик старшины трещал и ломался, как лучина.
— Господин Оглобля, старшина… Ераст Панфилыч, — сдернул бродяга шапку, из-под шапки упал кисет. — Дозволь…
— Ты што за чертополох? — Оглобля был уже на крыше. — Рукосуишка, никак ты?.. Долой, мазурик!..
А толпа густо прихлынула к самой кузне и взвыла неумолчно:
— Ераст Панфилыч, уважь! Дай свое разрешенье.
— Ни в жизнь! — задирчиво крикнул старшина и, сильно покачнувшись, выхватил из-за пазухи бумагу: — От урядника… Эвот приказ! Начальство я вам али не начальство?
Он самодовольно запыхтел, вдвое переломился над переставшим дышать бродягой, раскорячился и закинул руки за спину.
— Какое ты имеешь полное право, кобылка востро-пятая, а? Почему же это всяк сидит, к примеру, на твердом месте, а ты вдруг летать, а? — Он долбил Рукосуя длинным носом, журавлиные ноги дрыгали и гнулись, словно его дергали за хвост. — А ежели улетишь навовся? А?!
Бродяга отчаянно захрипел:
— Я только кругом озерины раза три либо четыре облечу, да и сяду.
— Знаю я, куда ты сядешь-то… В Расею метишь, вот куда! По роже вижу!
И вновь загудел народ:
— Уважь, Панфилыч, для праздника-то. Ува-а-ажь!..
А бродяга чуть не плача:
— Ты возьми, коли так, господин старшина, ружье, коли не доверяешь. В случае чего — стреляй! Поди не утка я, как ни то уделишь!
— Десятский! — неожиданно крикнул старшина. — Завяжи ему, подлецу, в таком разе бельма! Чтобы видимости не было, чтобы в дальность расстояния, значит… Хы, занятно, пятнай тя черти…
И, махнув картузом, весело закричал на весь народ:
— Братцы! Так и быть, уважу. Ну, и вы меня, в случае ежели урядник, не выдавать чтобы!..
— Готово, что ли? — хрипит бродяга.
— Готово. Ва-ли-и-и! — ревет толпа.
Привязанный бродяга облегченно вздохнул и заерзал на своей летяге: вот-вот взлетит.
Оглобля цыкнул на него: «Стой!» — скрива накосо надел картуз, поелозил ладонями по сухопарым, забрызганным грязью бокам и обвел хмельным, помутившимся взглядом потерявшую терпение толпу. Потом не торопясь шумно высморкался и, махнув рукой, торжественно скомандовал:
— Пуш-ш-а-ай! Ну-ка-а-а!..
Бродяга размашисто перекрестился:
— Благословляйте!
Взмахнули раз-другой крылья, и бродяга турманом закувыркался под откос.
— Летит, летит! — во всю мочь закричал кузнец.
— И впрямь… Где?
Толпа заахала, заорала:
— Лети-ит!.. Летит!!
Тонкими, пронзительными, как у галок, голосами загомонили деревья, ребятенки с гвалтом поскакали вниз.
— Где? Где? Дяденька, покажь! Это гагара, это птица. Он брякнулся…
— Лети-ит! — кричал кузнец как сумасшедший и тыкал рукою вперед.
И все до одного жадными глазами воззрились в небо, куда указывал кузнец, и всем явственно казалось: «Летит Рукосуй, летит».
— Дьява-а-ал!! Наза-а-ад!! — Обезумев от ужаса и подпрыгивая, как одержимый бесился старшина. — Стреляй, ребята, стреляй! — Он выхватил у соседа берданку и грянул в белый свет. — Стреля-я-й!!
Ребятенки и шустрые мужики с бабами мчались вдоль обрыва, дико орали: «Летит, летит!» — падали, сбиваясь в кучу.
— Стреляй еще… Пропала моя башка. Стреля-я-яй!!
— В кого? В тебя, что ль? Пьяный хрен!!
В это время диким чертом внезапно вырос на крыше Рукосуй. Весь в грязи, он держался за ушибленную шею, тряс башкой.
Толпа завыла, загудела, как в непогоду лес.
— Омманывать, сволочь?!
Бродяга, изловчившись, ударил кузнеца по скуле:
— Омманывать?!
— Камедь?! — взревел свирепо старшина и тоже хватил кузнеца ногой.
Модест сгреб их за опояски, приподнял, как набитые соломой мешки, перевернул вверх пятками:
— Это за жену, это за издевку!! — и с раскатистым хохотом сбросил обоих под откос.
А на крышу карабкались меж тем, захлебываясь злобной пеной, одураченные мужики:
— Бросай его, братцы! Бей! Оплел нас всех…
— Прочь!! — цыганские глаза Модеста страшно выкатились. — Я вас звал сюда? За кой черт лезли?! Теперича квиты! У-ух, расшибу!! — он подпрыгнул и грохнул молотом по камню. Урча, брызнули в толпу осколки.
— Убил! Уби-ил!..
Мужики в страхе отпрянули и, словно большие лупоглазые лягушки, поскакали с крыши.
А внизу в тысячу глоток голосили:
— Анхирей, ребята!.. Эй, вы! Долой с кузни! Анхирей!!
И толпа шарахнулась на луг, где действительно катила пара, певуче позванивали бубенцы.
Народ окружил взмыленных коней.
Сидевший в кибитке, весь желтый, с воспаленными глазами, урядник простонал:
— По какому праву скопище?..
XIV
Модест сам не свой ввалился в избу. Ужасно хотелось есть. Обшарил все углы — пусто, ни корки хлеба. Посмотрел на кровать, на забытую Палашей коричневую с белыми цветками кофту. Грусть напала, непомерная тоска, досада. Он сел за стол.
— Поесть бы… — безответный голос его звучал жутко, вызывающе. — Выпить бы…
Достал бутылку. Она была пуста. Размахнулся и грохнул ее об печь. Бутылка превратилась в соль. Модест оскалил зубы, захрипел. Схватил полено и со всего маху ударил в полку с посудой. С тревожным звоном, с жалобой звякнули, забренчали черепки.
Модест широко открыл глаза.
— Что же это я… Что же, господи? Зачем это?..
Он долго стоял, тяжело дыша и опустив голову.
Потом расхлябанной, усталой походкой направился к амбару. Дорогой говорил себе:
— Ничего, проживу… Поддаваться не след!
Когда открючил дверь и взглянул на крылатую свою машину, сразу полегчало на душе, и мало-помалу иссякла злоба.
— Родная… Настоящая моя.
Он внимательно и любовно осматривал каждый винтик, каждую струнку. Вот у стены самокат, им изобретенный, вместо шин — тугие канаты. Взгляд его из растерянного и ожесточенного стал одухотворенным, сосредоточенным.
Осенний день еще не закатился, сквозь широкое окно в амбар вливался свет, кузница была за высоким сосняком, и что сейчас творилось там — Модеста не интересовало.
— Ну-ка, американец?
Он достал густо разведенный сурик и начал тщательно пришабривать поршень будущей машины. С жаром, с каким-то надсадным надрывом он принялся за работу: надо все смыть с сердца, надо вытравить, как ржавчину, всякую мысль о том, что было и прошло.
— Крышка!!
Под окном, на грубо сколоченном столе, навалены потрепанные, захватанные грязными руками чертежи, рисунки, вырезанные из картона шаблоны, чертежные инструменты, раскрытая книга «Механик-самоучка».
— Вот она, теория-то… И впрямь — без нее не полетишь.
Гордым взглядом посматривал Модест на всю эту премудрость, возносившую его над самим собою, а железные руки его безостановочно обделывали сталь. Кусок металла визжал и не давался, но упорство человека брало верх — капал пот с лица, и серебряным песком сыпались опилки.
Вдруг в дверь резко постучали:
— Эй, отопри-ка! Урядник требовает.
Модест через минуту, вместе с сотским, угрюмо шагал к селу. Ярмарка была там в полном разгаре: гармошка, говор, драка, шум. У балагана со сластями Палаша беззаботно пощелкивала орехи. Воблин чавкал пряники и сладко щурил на нее глаза. Толпа встретила Модеста враждебно. Гоготали, тюкали, оскорбительно посвистывали.
— Что, летяга, будешь народ мутить?
— Долетался до дела?
— Заместь неба-то — в острог?!
Модест сдвинул брови.
— Эх, народ! Кожаные вы души! — и с сердцем бросил, косясь через плечо: — Не с вами, обормотами, в небе летать!
XV
После жестокого оскорбительного допроса Модеста засадили в «чижовку» под замок.
Урядник ругательски изругал его, как последнюю собаку: «Ах, изобретать? А в бога веруешь? Знать, тебе в морду, подлецу, еще не попадало?!» Грозил судом, тюрьмой, и вот завтра угонят его по этапу в город: пускай.
Побуревшая кожа плотно обтягивала его скулы, в висках густо серебрилась седина, тело требовало покоя. Но дух Модеста был бодр, несокрушим.
— А все ж таки достукаюсь до точки, полечу!
Он лежит на усыпанных голодными клопами нарах. Его охватывает лихорадочная дрожь, щеки то вспыхивают, то холодеют, в ушах звенит, и стонет в груди сердце.
— Нет, врешь! — грозит он тьме. — Модест Игренев полетит.
Там, на обрыве, его опустевший дом, холодная печь, овдовевшая кровать.
— Ничего, ничего… Это я стерплю, — спокойно сам с собой говорит Модест, но его сердце ноет пуще.
Ничего, ничего. Амбар. Крепкий замок железный. Под замком — чудо! Чудо! Вся жизнь Модеста, нет, больше — и жизнь и смерть!
— Господи ты боже мой. — По его лицу проплыла умиленная улыбка, вспыхнули глаза, он встал, шагнул к решетчатому оконцу и посмотрел в ту сторону, где сиротливо дремлет чудо-птица.
— Крылья! Эх, крылья! — Он взмахнул руками и под напором охвативших его чувств радостно, громко засмеялся.
За окном глухая ночь темнела, и небо — в черных тучах. Но для Модеста был яркий день: светлая мечта сладко терзала его уставший мозг.
— Крылья!!
И грезится Модесту: огромная чудо-птица плавно поводит в воздухе белыми крылами, тугие струны гудят, поют. И уже не в силах Модест от радости вздохнуть, весь в огне, в порыве.
Вот он на высокой горе крутой, а внизу ждут не дождутся тысячи народа, настоящего, ученого: генералы, механики, американцы, немцы, доктора, кассиры, исправники и многое множество других людей. «Модест Петрович Игренев на собственной машине полетит, сам господин Игренев!» А сзади, там где-то возле леса, сиволапая деревенщина торчит. «Ага, дружочки, что? Узнали?» А на отшибе, у зеленого кустышка… У-у, тварь! Нет, лучше не глядеть туда… Вот генералам невтерпеж: «Модест Петрович, господин изобретатель, нельзя ли поскорей…» — «Нельзя!» Модест нарочно медлит, красуется, пробует винты, оглаживает крылья: пусть ждут, он проморит их так весь день, всю ночь, пусть генералы ждут — не велика беда — ведь он изобретатель, знаменитый человек, он — на горе! Стойте, дожидайте.
И вот, когда Модесту самолично в мысли вступит, он расправит крылья белые, вспорхнет орлом и помчится навстречу всем ветрам небесным, круче, выше. И оттуда смачно плюнет вниз, на генералов, на народ.
— Тьфу вы все! Ползайте, рвите друг другу глотки, черти проклятые. Я — Модест! Русский большеголовый мужик! В Америку, черти! За патентом. В настоящую Америку. До свидания вам!.. Я…
Модест враз оборвал свой зазвеневший металлом голос, попятился: и сквозь густую тьму ночи всколыхнулся отдаленный свет, там, на горе, у кузни. Ярче, шире, необузданней.
У Модеста сами собой подогнулись ноги, он грузно опустился на пол и застонал. Ему показалось, что сердце его пронзает острый, докрасна раскаленный нож, голова, как воск, плющится под ударами тяжкого молота, и кто-то гнусаво, заливисто хохочет ему в лицо.
— Горит… Амбар мой…
Он вдруг вскочил, высокий, страшный, и со всех сил загрохал руками и ногами в дверь, окрашенную отблеском пламени. Но мертво и глухо было, никто не отзывался, а дверь прочна: еще зимой крепко оковал ее сам Модест железом.
— Амбар… Машина моя… Что вы со мной делаете?..
И в первый раз за всю жизнь свою Модест Игренев заплакал горько, сумасшедше.
В это время, вольготно полеживая у костра на озерине, пьяный, Рукосуй варил хлебово из украденного гуся и смотрел вверх, где полыхал вовсю зажженный им кузнецов амбар.
— Я те полечу, будь ты проклят, — ржал он нехорошим слабоумным смехом. — Я те полечу-у-у.
АЛЧНОСТЬ (Страничка прошлого)
Торговый человек Афанасий Ермолаич Раскатилов гремел на весь уезд. В каждом большом селе у него по лавке, богатей был, но в рост денег не давал, не маклачил.
У купца служил с малых лет Григорий Синяков. Когда Григорий осиротел, купец взял его в лавку мальчишкой на посылках.
— Присматривайся, Гришка… Человеком будешь, — сказал купец и потрепал по щеке. — Грамоте-то знаешь?
— Мало-мало кумекаю, — расторопно ответил мальчик. — Рифметику учил, еще хрестоматию, о рыбаке и рыбке наизусть…
— Про рыболовство, что ли?
— Нет, про старуху про одну. Называется — стихи.
— Ну, это ерунда. Нашему брату ни к чему твои стихи. А сколько семью пять?
Гришка замигал.
— Вот, сопляк, и не знаешь. Выходит: твоя наука — тьфу.
Афанасий Ермолаич старился. Григорий рос. Кудри купца засеребрились, его жена легла в могилу на долгий отдых. Смерть близкого человека и полное одиночество заставили купца пристально всмотреться в прожитую жизнь свою, вспомнить все обиды, которые вольно или невольно причинял он ближним, подвести всему итог. Купец с особым тщанием припоминал и добрые дела свои, когда человеческое сердце источает к людям свет любви… Но добрых дел осталось мало в памяти купца, и душа его скорбела.
Чтоб иметь оправданье своелюбивой своей жизни и успокоить прозвучавший голос совести, купец решил вывести Григория Синякова в люди.
«Под конец дней и я должен возжечь свою свечу перед господом».
Из мальчишек Григорий стал подручным, из подручных — приказчиком, потом на отчет сел, в конце же концов заделался главным доверенным хозяина.
Время шло. Григорий женился на тихой Даше и припеваючи жил себе у тестя-мельника. Хотя новый доверенный отпустил русую бороду, обзавелся двумя детьми, но хозяин, по старой памяти и на правах благодетеля, все еще Гришкой его кличет:
— Гришка, слушай-ка! Съезди-ка, брат, в Княжево, турни там доверенного в три шеи: жулик, черт.
Григорий Иваныч ехал и вершил суд с расправой.
— Эй, Гришка! Одначе пора доходы собирать. Ай-да-ко благословись.
И ехал Григорий Иваныч по всем десяти лавкам проверять кассы, производить учет, отбирать выручку.
Однажды, глубокой зимой, в ночь перед отъездом Григорий увидел скверный сон. Будто в лесу он. И наткнулся на лешего. Сидит леший в сорокаведерной бочке из-под спирта, выгребает лопатой деньги: золотые червонцы горьмя горят, как угли, и соблазнительно позвякивают, ну такая от их звона по всему лесному царству музыка идет, всю жизнь прослушал бы. «Дай и мне», — не утерпел Григорий. «Бери, — ухмыльнулся леший, — только смотри, как бы не того… не этого…» — да и не докончил. Григорий целую шапку червонцев наложил. И с тем проснулся.
— Ох, и худой же сон, — вздохнула его жена Даша.
Старуха тут толклась, горчички пришла занять, уж очень вкусно с горчицей студень кушать. Та — то же:
— Будет тебе, родимый, испытание. Мотри, гляди в оба. С опаской поезжай, благословись.
Тесть-мельник успокоил:
— Ты не слушай баб. Снам петух верит. Ну-ка, выпьем на прощаньице…
Однако, когда расставался Григорий с Дашей, сердце напоминало ему о том, чего нет, но будет.
Кругом белели обильные снега, морозы стояли с дымом, и зыбучая, вся в выбоинах, дорога как волны в море.
На холоде Григорий Иваныч забыл свой темный сон, знай нос три чаще, а будет мороз одолевать, выскочи из кошевки да дуй во все лопатки рядом с Пегашом. А купеческий Пегаш — рысистый полукровок, ехать на таком коне не скучно, да ежели и злой человек умыслит в ночное время пакость сделать, Пегаш не выдаст. Только крикни: «Грабят!» — рванет Пегаш, полозья в визг, снежная пыль столбом, и ветер свищет.
Да, впрочем, Григорий Иваныч и не очень-то боялся нападений: денег в бумажнике немного, для отвода глаз, вот разве шубу снимут или топором по черепу. Ну что ж, судьба. А вот хозяйских денег разбойникам сроду не найти: в березовых полозьях кошевки продолблены потайные глубокие пазы, в них вся казна лежит.
Пока объезжал епархию, время стало к весне клониться. Пожалуй, можно и домой путь править, а то рухнет дорога — плохо. Солнце припекает крепко, старики пророчат дружную, раннюю весну.
«Авось с недельку еще продержится, — утешал себя горячий на работу Григорий Иваныч Синяков. — Авось морозец ударит, утренник».
И он решил в последний пункт завернуть, в торговое село Кринкино. Подъехал он в сумерки к реке Прибою, только бы перебраться на тот берег — тут и Кринкино, слышно, как собачонки брешут.
Лишь стал коня на лед спускать, вдруг:
— Стой, паря! Ты сдурел! Переночуй добром. Вишь, темно.
Оглянулся Григорий Иваныч — старик возле него, дедка Арсений, бородой трясет. Послушался умного совета, ночевал у старика.
А ночью дождь пошел, к утру ручьи взбурлили, дождь пуще, пуще.
— Переночуй еще, — сказал дед Арсений. — Ежели не выведрит да как след быть не подкует морозцем, придется тебе, паря, домой ехать в обратную. А то чего доброго мырнешь, да и не вымырнешь.
Еще ночь переждал Григорий Иваныч. Действительно, морозец пал.
— Ну, благословляй, дедушка Арсений.
— А ты вот что… Иди-ка через речку пешком… Вишь, лед-то посинел… Пегаша не сдержит.
— Сдержит… Без саней никак невозможно мне.
Народ стал подходить. Какая-то старуха пробиралась осторожно по льду: к обедне благовестили, шестая великопостная неделя шла. Показалось солнце, стекла в церкви на том берегу загорелись мертвыми огнями, воробьи на прясле гомон подняли.
Григорий Иваныч забрал в горсть вожжи, стал спускаться. Возле самой закрайки — лавина. Пегаш всхрапнул, перескочил, кошевка стукнула, брызги фонтаном вверх. А сзади крик:
— Правей! Правей держи!!
Лед синий, жухлый, весь сопрел. Чувствовалось, что река напружилась, выгибала закованную спину: вот-вот треснут льды и поплывут.
— Назад! Вороти назад!
— Стой! Стой!!
Грузный Пегаш опять всхрапнул и пугливо поводил ушами: лед оседал под ним. У Григория Иваныча захватило дух: впереди погибель, сзади смерть. И вдруг его ослепил огонь решимости. Он вытянул коня:
— Малютка, грабят!
Пегаш рванул вперед и вбок, лед вмиг расселся, конь ухнул передними ногами в полынью, лягнул задом и…
По берегу пронесся отчаянный многотрудный крик. А дальше Григорий Иваныч ничего не помнил.
Пахло квашней, пылали огнем дрова в печи, было темно, угревно. Григорий Иваныч обвел каким-то отчужденным взглядом незнакомую избу, посмотрел на старуху в пестрядинном сарафане, валявшую на столе хлебные караваи, громко вздохнул.
— Очнулся, болезный мой, — ласково сказала старуха. — Ну слава те Христу. Ужо соченек тебе свеженький спеку да яичко дам освященное: второй день пасхи ноне.
— А где же это я? — робко спросил Григорий Иваныч.
— У Демьяна… Вот где. В Кринкине, в селе. Вот, вот. Выловили тебя, болезный мой. У Демьяна ты. У него, у него. А я двоюродной бабкой им прихожусь. Бабкой, батюшка, бабкой.
Григорий Иваныч хотел спросить про Пегаша, про сани, но все это стало ненужным, мелким, все куда-то отодвинулось во тьму, и только мысль, что он жив, охватила светлым ласкающим потоком все существо его. Тяжелой, непослушной, будто чужой рукой он прикрыл глаза.
Но чей-то колкий, с ухмылкой, голос крикнул ему в ухо:
«А как же деньги?!»
И Григорий Иваныч почувствовал, как холодеет его тело. Он сразу вспомнил тот темный сон: лесная трущоба, леший, золото, — вспомнил опасенье жены и старухи: «Будет тебе испытание…» Звонким переливом звякали червонцы в ушах, охватывало смертной тоской сердце.
«А как же деньги, хозяйский капитал, Пегаш?»
Но горячечный сон в бреду, провалах, вспышках положил всему предел.
И снова… Что-то бубнило — рассказывала старуха, пожмыхивая тестом, кто-то грузно вошел и сказал:
— Здорово-те живете… Христос воскрес!.. Ну, каков болящий?
— Христос воскрес, и болящий воскрес… — ответила бабка. — Голос свой подал, оклемался. Вот она, жизнь то наша…
Но Григорию Иванычу хотелось лишь покоя. Целую неделю пролежал он в лежку. Настроение было мрачное, угнетенное: утонул Пегаш, унырнули под лед сани. В десятый раз вынимал он чудом уцелевшую книжку и едва различал растекшуюся от воды запись, подводил итог погибшим собранным деньгам.
«Девять тысяч двести».
— По какому случаю на чужой подводе? — встретил его хозяин Афанасий Ермолаич и грозно насупился? — А Пегаш где?
— Несчастье со мной стряслось. Едва не погиб. И деньги все потонули… Извините, ради Христа.
Купец откинул с глаз серые лохмы, открыл рот и попятился:
— Сколько жа?
— Да девять тысяч с лишком.
В груди купца захрипело, глаза выкатились, большое бородатое лицо закровенилось.
— Жулик! Разбойник! Грабитель!
Григорий Иваныч вздрогнул, сгорбился, прильнул плечом к стене, чтоб не упасть.
— Что вы, Афанасий Ермолаич… Помилуйте… Сколько лет верой и правдой…
— Вон!! — затрясся, затопал купец, ударил дряблым кулаком в столешницу. — Ты мне больше не слуга… Чтоб духу твоего не было! Вон, вон!!!
Шатаясь, выходил из комнаты Григорий Иваныч, в глазах темно, а вдогонку каменным градом убойные слова:
— В тюрьму, сукина сына! В острог! Я те выучу!
Купец, задыхаясь, грузно, как большой медведь, сел в кресло. С озлоблением поглядывая на уставленный иконами кивот, где теплились две серебряные лампадки, хрипло жаловался богу:
— Вот и спасай с этакими дьяволами душу: сами в ад лезут и тебя туда же тащат. Тьфу!
Григорий Иваныч, после болезни худой и бледный, растерянно вошел в свой дом.
— Тятенька приехал, тятенька!.. — закричали обрадованные ребята. — Христос воскрес, тятенька!
— Воистину воскрес, — сказал Григорий Иваныч, поцеловал жену, детей и заплакал.
Григорий Иваныч постепенно впадал с семьей в нищету. Мельник-тесть, на шее которого они сидели, стал с зятем груб, придирчив. И как-то с его языка сорвалось:
— Ежели ты украл деньги, пошто ты их не оказываешь?.. Дармоед, черт паршивый.
Григорий молча терпел.
Весна кончилась, наступило лето. В купце начала пробуждаться совесть. Хотя алчность глубоко въелась в его душу, однако мысль о приближающемся смертном часе, о том, что к концу дней необходимо стать чистым и безгрешным, надо все понять и всех простить, — эта тревожная мысль заставила купца, через упорную борьбу с самим собой, протянуть руку помощи опозоренному приказчику. И он призвал Григория Иваныча к себе.
— Вот что, Гришка, — сказал купец. — Хотя ты без малого и разорил меня, ну только что черт с тобой, прощаю. Посажу тебя на отчет. Езжай в Гриблянку, торгуй.
Расстался Григорий Иваныч с родным своим селом, забрал семейство и переселился на новые места. Из кожи лезет, большой оборот купцу сделал, все норовит загладить невольный, грех. А обида от купца давно исчезла в его сердце: русский человек памятного зла носить в себе не может.
К Михайлову дню по первопутку прикатил к нему купец-хозяин. Произвел учет, — все в должном порядке было, — и, по приглашению Даши, пошел к приказчику откушать. Купец поесть горазд: угостили его на славу. Ну, была, конечно, и подобающая выпивка.
Размяк, рассолодел купец, похлопал опального человека по плечу, сказал:
— Ну, Гришка, будь опять главным у меня. Езжай по епархии деньги собирать, как поп ругу.
У Григория Иваныча задрожали руки, поставил стакан с чаем, в глазах зарябило: прихлынуло такое к сердцу, что и не скажешь.
— Ведь кто тебя знает, Гришка… Может статься, и все девять тысяч водичку хлебают, а может… — и купец двусмысленно подморгнул приказчику осоловелыми глазами.
— Что? — растерянно замигал приказчик. — Все еще подозреваете?
— Всяко бывает, — хихикнул по-пьяному купец. — Человек, скажем, не ангел. Да…
Очень обидным показалось это Григорию Иванычу. Эх, дать бы купцу по благочестивой роже! Но пришлось стерпеть: у него не было доказательств правоты своей.
Пьяное лицо купца покрывал пьяный елей. Он набожно перекрестился, поцеловал Дашу, поцеловал Григория Иваныча и, рыдая на его плече, сказал:
— Душе своей я не враг. Ты чуть не опанкрутил меня, а я тебя прощаю. Вот сколь я угодный богу человек.
И вот…
Поют полозья легких санок-беговуш, весело работает резвыми ногами гнедой, в яблоках, жеребец; из села в село мчит Григорий Иваныч купеческую прибыль собирать.
Не в потайных полозьях теперь прячет он деньги, а за рубаху, в кожаный кисет, разбойные места проезжает засветло, всегда держит наготове о пяти зарядах револьвер.
И случилось ему пересечь низовье все той же памятной реки Прибоя, смертельной купели своей. А тут с полден буран поднялся, метелица. Надо переждать — чего доброго дорогу потеряешь, средь поля поморозишься.
Вот и деревенька Легостаева к Григорию Иванычу задом повернулась. Через огороды, гумна, огуменники стал в улицу прогоном пробираться. Глядит — у прясла, подле риги, кошевочка аккуратненькая стоит в снегу, и по размерам точь-в-точь его, тогдашняя. Однако никакого внимания Григорий Иваныч не обратил — кошевка и кошевка, они все на одну стать, как галки в поле. Так, мелькнуло в мыслях и пропало.
Попросился в избу обогреться.
— Милости просим… Залазь, добрый человек, — сказал мужик Никита, суетившийся, сухопарый, с острыми неприятными глазами. — Вы кто такие будете?
— А по лесной части я, из города, — соврал Григорий Иваныч.
— Так, так… Это ничего…
Сели чаевать, железную печку баба затопила, быстрое тепло туго набило избу, а за окнами буран крутил. Григорий Иваныч пьет чай, а сердце стукочет, надрывается, и леший в уши червонцами звенит, — ну, неудержимо хочется Григорию Иванычу осмотреть кошевку.
«Ерунда какая… Вот ерунда…» — возражает сам себе. А ноги встали и к двери понесли его.
— Куда?
— Я на минутку… Коня проведать…
Да бегом, через буран, через вьюжную воющую непогодь — к овинам.
Глядь: его кошевка. Ей-богу же его… Его! Надолба, винтики, планка потайная.
«Она!»
Вернулся в избу, дрожмя дрожит, губы прихватил зубами, не держат зубы, чакают.
— Ты что?
— Замерз очень.
— Грейся.
А в избе как в бане. Разморились все, сон стал одолевать: наскоро поужинали, почивать легли. Ветер бил с налету в стены, избяное высасывал тепло. Тетка Матрена завернулась в шубу, захрапела. Хозяин же и гость, попыхивая трубками, мигали во тьму.
— Спишь?
— Нет.
И путаной околицей Григорий Иваныч хитрую речь повел:
— Слушай-ка, дядя Никита, — начал он, приказав голосу быть твердым, сердцу тихим. — Это твоя рига-то на задах?
— Моя… А что?
— Добрая рига схлопана. Бревнища-то семивершковые, кондач.
— Рига добрая.
— Видать, хозяин ты справный. Корова, кажись, ярославка. И коняга круторебрый, бабка в ноге широкая…
— Мерин добрый… Только ленив, лешева ноздря…
Помолчали.
— Хозяин ты хороший, а вот кошевку возле риги без призора бросил. В снегу валяется.
Никита повернул к гостю голову и, ухмыльнувшись тьме, вяло ответил:
— Кошевка эта приблудная. Сказывали, быдто нонешней весной, в Кринкине-селе, сто верст отсюда, раскатиловский приказчик в воду умырнул вместе с конем. Все думаю — его. После половодья, как вода ушла, у меня на покосе оказалась эта кошевка-то.
Сердце Григория Иваныча остановилось и вдруг с такой силой заработало, что на висках напряглись жилы и где-то позади глаз стали постукивать тугие огоньки.
— Нет, — сказал он, и голос его поскользнулся, дал нырка. Нет, я раскатиловскую кошевку знаю… У той задок белой жестью обит. Давай сменяемся…
— Нет, паря, не стану. Самому нужна. А тебе пошто занадобилось меняться? Твоя лучше.
— Ну, вот и давай. Твоя легче.
— Нет, — уперся Никита.
— Я придачу дам.
— Сколько же?
— Три рубля дам. И бутылку спирту на магарыч.
Проснулась Матрена, сквозь позевки закричала:
— И не думай меняться! Что ты!.. Да нешто можно? Находкой меняться — счастье свое из дому гнать…
— Спи знай! Сча-а-стье… — передразнил Никита жену свою. — Бабьи глупости… стану я тебя слушать… Как же. А вот что, гостюшка желанный: давай пятерку и две бутылки. Идет?
— Идет, — мысленно перекрестился Григорий Иваныч.
— Бери… Пользуйся моей простотой, — алчно прищурился Никита и поскреб когтем лопату-бороду.
— Эт ты, чурбан, чурбан! Башка телячья, — заверещала с печи баба.
Гость и хозяин, как по уговору, гулко захихикали в ответ.
Ранним утром, едва отъехав за поскотину, Григорий Иваныч остановил гнедка, опрокинул кошевку вверх полозьями и прыгающими, любопытными руками принялся отвинчивать гайки.
«Неужто Никита догадался, выгреб золото?»
Кровь в лице то холодела, то вскипала. И вдруг…
Сорвал Григорий Иваныч с головы шапку, пал на колени в снег, крикнул:
— Царь небесный, батюшка! Даша, ребята, Афанасий Ермолаевич!!
Гнедко всхрапнул и покосился на него. И неизвестно, на крыльях какой волшебной птицы летел Григорий Иваныч в свое село, к купцу-хозяину:
— Тпру!
Легким пухом, с легким сердцем впорхнул он в хозяйские хоромы и облегченно, как гиря с плеч, крикнул во все легкие:
— Афанасий Ермолаич, вот! Вот выручка, а вот девять тысяч двести… Те самые… Вот!
И швырнул на стол скрученные в трубочки, чуть проржавленные с краев кредитки — потайные проемы в кошевке были пригнаны плотно. И швырнул два звонких столбика червонцев, — звякнуло золото, заиздевалось: «Сколько, сколько, сколько я испортило вам крови?..» И последний раз устрашительный леший всхохотал, последний раз побренчал обманным золотом в — в чащу. Темный сон окончился, ядреное солнечное утро было, золотые зайчики играли в серебряной бороде купца-хозяина.
Хозяин, так же как и в тот далекий несчастный день, широко разинул рот и выпучил мутные глаза. И пока пересчитывал девять тысяч двести, все головой крутил, чмокал, улыбался. Потом сказал, покаянно всплеснув руками:
— Ну, Григорий Иваныч (первый раз в жизни приказчика по отчеству назвал), прости меня, старого дьявола, Григорий Иваныч! Вот пока что тебе в награду двести золотом: А эта вот три сотенных бумажки, — они шибко проржавели, — обменяй в городе, в банке. А ежели, допустим, не обменяют по причине порчи, пожертвуй их в Богоявленский монастырь отцу Исидору на вечное поминовение родителей моих. Я бы сам поехал в город, да болен, понимаешь, спина гудит.
— Ну, а если обменяют в банке, жертвовать в монастырь все три сотни?
— Нет, что ты! — испугался купец и повернул к иконам спину… — Сотнягу сунь… Будет за глаза.
Купец в волнении тяжко дышал и расслабленно сел в кресло:
— Плохое мое здоровье стало, — сказал он. — Ноги пухнут.
Григорий Иваныч переминался у стола, поглаживая ладонью скатерть. Скатерть грязная, в яичнице, в жирных пятнах от щей, от сала, в красных пятнах от вина. В комнатах неряшливо, одиноко, скучно; пахло ладаном, чадом восковых свечей, лампадным маслом, по грязному полу черный таракан бежал, и солнышко нехотя красило выцветшие мрачные обои на стенах.
— Одышка, — оказал купец; лицо его было испуганно, печально.
Григорию Иванычу стало жаль купца.
— Вам бы полечиться, Афанасий Ермолаич, да отдохнуть…
— Отдохнуть? — захрипел купец. — А кто будет делом заправлять?
— Дело — бог с ним. Здоровье — главное.
— Не ты наживал, не тебе и учить меня… Ну, ступай, милый, с богом… Ступай, Григорий Иваныч…
Тот пошел и сказал от двери:
— Вот вы меня наградили, монахов хотите наградить. А как же мужик Никита? Надо бы и его поблагодарить…
Купец поднялся, крикнул:
— За что? За то, что счастья своего не мог удержать? К черту!
— Тогда я из своих. А то неловко. — И Григорий Иваныч вышел.
На другой день купец все-таки велел Григорию Иванычу отвезти Никите двадцать пять рублей и лошадь.
— Понимаешь, сон я видел… Будто Никита душил меня: «Подай, Кощей бессмертный, деньги». Вот сволочь какая… Отвези, черт с ним.
На той же неделе, утром, Григорий Иваныч радостно въехал в Никитин двор.
Сухопарый Никита выслушал, распрямил сутулую спину и побледнел, как полотно. Деньги и лошадь, однако, принял. В избу Григория Иваныча не пригласил, только сказал на прощанье жестким, ледяным голосом:
— Девять тысяч… Ну, ну… А что же ты, пес пархатый, говорил, что по лесной части?.. Ах ты, жулик, жулик. Жаль, что я тебе топором башку тогда не ссек.
На Никиту навалилась смертная тоска. Золото скрежетало в его душе, дразнило, отняло покой. Никита запил горькую. Он никому не обмолвился про свою обиду, пил ожесточенно, одиноко. Вся деревня диву далась — мужик был трезвый. Жена и к попу, и к колдуну — напрасно. После молебна с водосвятием Никита пуще запил. В припадке бешеного буйства он выстегнул глаза подаренному коню и разворотил ему ножом верхнюю губу, конь едва кровью не истек.
Под воскресенье крепко Никита уснул. Матрена обрадовалась:
— А ведь, гляди, помог колдун-то…
А утром нашли Никиту в риге. Над самым тем местом, где когда-то стояла купеческая проклятая кошевка, висел на вожжах его жалкий труп.
Афанасий Ермолаич Раскатилов, узнав об этом, перекрестился и, позевывая, назидательно сказал:
— Дурак, царство ему небесное… Правильно в церкви-то поется: «Виждь имений рачителю, сих ради удавление употребивши…» Эх, жизнь, жизнь: пообедай, да и спать ложись. — Он опять зевнул, закрестил рот, пошел в опочивальню.
И в ночь купца не стало. Должно быть, ожесточившийся Никита сорвался с вожжей и придушил его. Купец валялся в спальне на полу. В левой горсти крепко зажаты червонцы, в правой — костяные старенькие счеты, на столе кучки золота. Остановившиеся глаза на темном лице выражали страх и удивление.
Отец Михаил, священник, покивал головой и, горестно вздохнув, сказал:
— Виждь имений рачителю.
ДИВО ДИВНОЕ
Чертова корчма
Касьян стриг овечьими — в полтора аршина — ножницами когти на ногах, хрипел Акулине:
— Вот что, баба, лизаться мне с тобой, как с рыбиной, некогда. Пойду я, баба, в контрабанду. В Москве я был на выставке, а в контрабанде не был. Другие по святым местам шляются, мне это ни к чему, себе убыток, а патишествовать я страсть люблю. Сбирай меня.
Захлюпала, засморкалась баба, руки затряслись.
— Не хнычь, что ты! Из Москвы я ехал, в вагоне с человеком настоящим встретился. Туда, в Польшу, лен идет, а оттуда, через границу, резиновые титьки волокут, знаешь, ребят в городах выкрамливать. Обогатит тебя, говорит.
Забрал Касьян льну самолучшего, поехал зайцем к Польше. Ехать неудобно: и под лавкой лежал — какой-то обормот в нос каблуком заехал, — и на крыше, и на подножке перегона три висел, где-то едва под колесья не попал, и был факт — по скуле кулаком наотмашь, больше часу челюсть сшевеленная была. Однако на пятый день прибыл Касьян в самый аккурат, и главная суть — без копеечки, дарма, потому — такция на железной дороге… благодарю покорно.
Приехал — целые сутки возле корчмы на сеновале дрых; отлежался, пощупал скулу, пощупал переносицу — ничего, в плепорцию — и пошел в корчму чаи гонять.
Корчма низенькая, вся прокисшая, как простокваша, под потолком лампочка чадит. Ах, хорошо, чудесно, народу — страсть: все паны да евреи, есть и русские, но не такие, как Касьян… Ку-уда! Так, одно званье, что Рассея. Даже драки нет. Одно слово, ерунда.
Эх, разве дернуть и Касьяну самогонки. А что такое? Касьян свое вернет.
— Слушай, как тебя! Дамочка приятная, — поманил он жирную черноокую хозяйку. — А дай ты мне на размер души в крепкую плепорцию. Денег у меня нет, подарю я тебе — експорт называется. На!
Взяла хозяйка пучочек льна чудесного, заколыхалась естеством, пошла, и — секунд в секунд:
— Кушайте, пан, на здоровье! Угощайтесь.
Хлобыстнул Касьян стакашек, и другой, и третий.
Вдруг с души очень потянуло, и стало голову, как у барана, обносить. Что же это, а?
Подошел к нему человечишко, кобелек не кобелек — лисица.
— Тут, говорит, примесь, папаша, наворочена: для пущей крепости на табаке варят.
— Я понимаю, — сказал Касьян. — Я сто разов здесь бывывал, всех жуликов в личность знаю. Проходи, кормилец, — и со стула пересел для верности на изрядный тючок собственного льна.
А человечишка тоже возле Касьяна на корточки, и морда у него лисья, острая, нюхтит: так бы и долбанул ему в очки.
— Вы, папаша, гусь? — спросил лисенок.
— Сам ты гусь лапчатый. Я — Касьян, хрестьянин. За границу патишествую по своим делам.
— Хи-хи-хи… Я про то и говорю: за границу полетишь?
— Пошто лететь. Иропланщик, что ли, я? Я завсегда через канаву чохом действую. Прыг — и за границей.
А в голове у Касьяна гулы идут, а гвалт в корчме все веселей, все толще. Эх, вскочить да сорвать с хозяйки красненькое платьишко, уж очень, понимаешь, телеса сдобны, физкультура называется.
— Врешь! Не сомущай, лисья твоя морда. У меня своя баба есть, женский пол… Молчи!
— Что ты, папаша, я молчу, я не говорю… Это ты сам кричишь, — схихикал лисенок и очками поблестел.
Глядит Касьян — над очками рожки лезут:
«Черт с ним, наплевать, — подумал Касьян, — в случае неприятности — крестом окщусь».
А тот окаянный все ближе, ближе, того гляди, прыгнет в самый рот. Рыгнул Касьян, стиснул крепко зубы.
— Там речка, — дышит очкастый Касьяну в лоб. — Речку переплывешь, тут тебе и Польша.
— Не учи, — через зажатый рот прогнусил мужик, а сам вцепился горстями в лен, сидит, как гвоздь в стене.
— А через канаву, папаша, не советую, — мяукает лисенок и рогом норовит боднуть Касьяна в бороду. — Один самоход из Польши шел с товаром, перекрестился, да через канаву прыг. А насупротив него солдат оказался со штыком. Закричал солдат: «Врешь, погоди молиться-то!». Сгребли, потащили мужика.
Открыл глаза Касьян — нет лисенка. А только хозяйкин сладкий голос:
— Врешь! Погоди молиться-то.
Распрекрасная хозяйка на столе танцует, каблучками бьет, ведьмячьи глаза пламем полыхают.
И все, сколько было в корчме гуляк, все в один голос на Касьяна:
— Врешь, погоди молиться-то! Так и так украдем твой лен.
Испугался Касьян, осенил себя святым крестом, дрожит.
«Ах, какая проклятая контрабанда эта, — подумал он. — Действительно, упрут, дьяволы, мой лен: даже совсем без титек вернешься к бабе».
Стали все в ладоши бить, подгавкивать, и черный кот взад-вперед ходит, хвостом крутит, а сам глаз зеленых с Касьяна не спускает. И вся корчма зазеленела.
«Знаем, какие это коты», — подумал Касьян. И громко:
— Я, православные, на улку, отдышаться. Сейчас вернусь. — А сам по застенке, боком — фють! — на свежий воздух.
То ли сел, то ли лег, ничего не понимает. Сердце стукочет, башка вокруг тулова колесом идет, два петуха дерутся, кто-то красный проскакал, и вроде как Польша напирает: прет, прет, прет, этакая бабища грудастая.
— Куды на Рассею прешь? Ослепла! — закричал Касьян, а сам облапил ее, да в губки чмок.
— Ах, пан мужичок! Ах, какой хороший лен.
— Ты, дамочка, мой лен оставь, раз при тебе резиновых титек нет. Я знаю, зачем приехал. Я здесь двести разов бывывал. — А сам вторично в губки чмок. Глядь: евонная баба это, Акулина.
Сплюнул Касьян сердито:
— Что ты, стерьво косое, всурьез подвертываешься!.. — да ей в ухо хлоп и… проснулся. Встряхнул головой, вскочил: туман, утро, огород не огород, сарайчики стоят.
— Лен! — заорал Касьян. — Где лен? Угоднички святые… Караул!! — да бегом в корчму.
— Вот что, хозяйка, у меня лен пропал. Я спицыально в контрабанду прибыл, а лен украденный. Подай лен!
Хозяйка женской грудью ребенка кормит, самовар на столе кипит.
— Ах, пан! Что ж вы, пан, так неосторожно говорите: контрабанда… аяяй! Вы у нас, пан, даже не гуляли.
— Врешь, — прохрипел Касьян. — В твоей поганой корчме всякая чертовщина пущена антирелигиозная: петухи какие-то, коты с хвостом. Да ты и сама ведьма. Я этого не уважаю. Я в Москву отпишу. Меня на выставке чествовали. Мне все правители знакомые. Подай мой лен! А нет — всю тебя на куски ножом исполосую, не посмотрю, что красивше тебя на свете нет… Вот те Христос, не вру, — жарко, с присвистом задышал Касьян.
А хозяйка улыбнулась:
— Нате, пан мужик, опохмелитесь.
Перекрестился Касьян, выпил, щелкнул себя в лоб:
— Стой, приятельница! Дело вот в чем. Извиняюсь, вспомнил, — и что есть духу побежал на сеновал — ковырь, ковырь: ага, здесь, вот он ленок-кормилец: подальше схоронишь, поближе найдешь.
Сел Касьян на тюк льна, радостно заплакал:
— Угоднички святые. Ах, до чего приятно мне. Бог даст, контрабанду кончу с прибылью, всем вам по свечечке…
Сидит, сморкается, ничего понять не может: был в корчме, не был; пил зелье, не пил, пил, нет… тьфу!
Бубнит:
— Скажи на милость, какое у границы колдовство… Есть чего будет на деревне рассказать… Ну, ленок-батюшка, вот ночка потемнее упадет, я тебя, сударик, в Польшу.
Контрабанда
«Ну, — думает Касьян. — Надо и за границу чохом действовать».
И чуть солнца луч, пошел на речку обмыться — вроде как после вчерашней чертовщины в Иордани побывать. Пофыркал, понырял, и только за портки — глядь солдат к нему:
— Убирайся прочь, пока штыком брюхо не проткнул! Нешто не видишь — граница это…
— Как — граница, где? — задрожал Касьян, задом наперед штаны надел.
— Хы, где, — сказал солдат сердито. — Нешто не знаешь, что за рекой Польша? Не здешний, что ли?
— Пошто не здешний? Самый здешний. Искони на этих местах живем.
Солдат сморкнулся и ушел. Касьян посвистал тихонько и подумал:
«Эге-ге… Да я эту самую речку вполне переплыть могу. Скажи на милость, какая граница: из воды. А мы век во тьме живем и ни хрена не знаем. Вот и деревенька на пригорке — Польша».
Заприметил Касьян березу, где купался, и, благословись, к корчме. С полверсты, не больше, и корчма торчит. Купил десяток яиц, сел в кусточках, костер развел. Печет яйца, в вольных мыслях душу отводит:
«Ну, и шинкарочка приличная, стрель ей в пятку… Вот бы… Эх, ясен колпак! Ежели с контрабандой дело обойдется, с бабой своей развод, другую заведу, поядреней».
Мечтал-мечтал Касьян, наелся и уснул. Сон видел неприятный: будто тяжелющие бочки с сельдями пускали на него с горы. Вот одна бочка прокатилась с головы до ног, вот другая, третья. Касьян сделался тонкий, как овсяный блин, стал усердную молитву творить, а из бочки по-ведьмячьи: «Врешь, погоди молиться-то!»
Касьян завыл тоненько и проснулся. Ни сельдей, ни бочки, ночь, и выл совсем не он, а черненькая, неизвестной породы, собачонка. Лежит Касьян, в звезды смотрит, ничего сообразить не может. А собачонка лизнула его в самый рот, да: гав-гав-ууууу…
Сплюнул Касьян, отшвырнул собачку.
«Это опять та дьяволица припустила ко мне оборотня… нечисть какая, а…»
Выкопал из сена лен и, кряхтя под тяжелой ношей, пошагал к реке. А собачка следом. Остановился Касьян, остановилась и собачка.
«А может, настоящая, — подумал он. — С собачкой бы сподручней».
— Песик, песик, на!
И только песик подошел, окстил его Касьян трижды в самую собачью морду:
— Аминь, рассыпься!
Но песик вовсе даже не рассыпался, а поднял заднюю лапу на Касьянов лен и… закрутил хвостом.
— Настоящий, — весело сказал Касьян. — Ну, в таком разе пойдем в контрабанду, в Польшу.
Песик умильно взлаял, побежал-побежал и в аккурат к самой той березе.
Огладил Касьян собачку: — Ну, и молодца, — связал небольшой плотик из жердей, сложил на плот лен, на лен одежду, а сам — хлоп — в воду нагишом, и по саженкам.
Вода теплая, ночь черная, а быстерь — прямо с огня рвет.
Плот на веревке за Касьяном, как баржа за пароходом. Касьян фырчит, пыхтит, а плот подается туго. И собачонка рядком плывет, тявкает, пузыри пускает. Касьян и на спину, и на бок, и по-бабьи — совсем закружился мужик. Но вот подхватило быстерью и понесло…
Хы! Польша, берег! Касьян аж загоготал от удовольствия, выволок лен, опустился на колени, ну кресты класть, ну сладкогласно выводить:
Мо-ря чер-мную пу-чин-нуууу…Он поет, а песик подвывает.
— Песик, песик, на! — огладил его, а он сухохонек, как печка, будто и в воде сроду не бывал.
— Ах, анафема, — сквозь зубы пробурчал Касьян, ужал его меж коленок и трижды «Да воскреснет бог» прочел. А песик ничего, кряхтит. Осмотрел собачью башку — даже намека нет, чтобы рога торчали, осмотрел природу — кобелек.
— Нет, настоящий, дьявол, — разочарованно сказал Касьян. — А то я б те вспарил. В Ерусалим бы мог слетать по обещанью…
Глядит Касьян — огонек мигнул. Ба! Деревня, Польша! И прямо на огни. А над леском луна обозначалась, где-то баран блеял, кусточки, травка.
— Все, как и у нас, — пробубнил Касьян. — Вот она, Польша-то какая обнаковенная. А ну-ка, нет ли баньки где?
Ввалился Касьян в пустую баню, что под черемухой духмяной, пожевал всухомятку хлеба, песику корку дал и покарабкался на полок спать: лен в головы.
— С благополучным прибытием вас в Польшу, Касьян Иваныч, — сам себя поздравил он, улыбнулся, зажмурился и захрапел.
Видел Касьян во сне двадцать пять миллионов титек.
Долго ли, коротко ли проспал, только слышит: кто-то твердой поступью идет. И песик взлаял.
«Не иначе, как польский фабрикант резиновый».
И кто-то за скобку, дверь скрип-скрип:
— Эй! Кто тут есть живой?
— Мы, — поспешно, с готовностью ответил из темной темени Касьян.
— Сколько вас?
— Нас-то? Один я. Больше никого не предвидится. Касьян, хрестьянин. Из Рассей в вашу Польшу прибыл по случаю контрабанды. Резиновых титек нам желательно малых ребят выкармливать, которые младенцы. А у нас в обмен заграничный русский лен. Документы верные, в порядке.
— Как ты, паршивый дурак, попал сюда?
— Это в Польшу-то? А я поперек границы переплыл, господин пан, через речку. А нет ли у вас спичечек? Темно. Мы к ликтричеству привышные…
— Вот я те, жулик, дам леща! Ах ты, анафема! Ах ты, дьявол кожаный!..
Касьян вытаращил глаза, свесил во тьму ноги, руки и все, что полагается.
— Да ты, хлоп твою в лоб, не больно-то ругайся! — закричал он. — У нас, хлоп твою в лоб, в Ересеесе, в Рассеи, хлоп твою в лоб, и то не разрешают ругать. Мы к этому не привышны. А то я, хлоп твою в лоб, и сам умею ругаться-то, польская твоя морда, хлоп твою в лоб. Извиняюсь… Карра-у-ул!
И Касьян кувырнулся вниз головой на пол: кто-то ловко приурезал его по шее.
«Експорт»… — вспомнилось Касьяну слово. И как блеснул фонарь — Касьян сразу догадался: чертов песик сгинул, и замест песика не фабрикант, а заграничный польский солдат. И пистолет торчит.
— Эй, Ванька! — крикнул солдат. — Свети сюда. Мне надо рожу его заприметить. Дак ты контрабандист?
— Так точно, из контрабандистов мы… Вольная профессия, — поднялся Касьян и вторично слетел от хлесткого удара в бок.
Касьяна повели. Ванька передом с фонариком, Касьян с солдатом сзади. И пустился Касьян на хитрость:
— Меня в Москве все начальство знает. Я на выставку патишествовал. У меня в избе сам Троцкий три ночи ночевал. Очень примечательная у нас армия красная. Пушки — страсть, ядра с избу. Царь-колокол имеется. Вот так же в третьем годе пообидели в вашей Польше нашего хрестьянина — Ленин вступился, войной пошел, семь польских деревень спалил за мужика.
— Иди, иди! Я те спалю. Сгниешь в тюрьме, — тоже и солдат постращал Касьяна.
Глядь — корчма, та самая, и огонек блестит. Что за наваждение — корчма! Глядь — песик возле ног Касьяна вьется. Касьян как в землю врос, и тюк льна с загорбка на землю съехал.
— А позвольте вас спросить, — весь дрожа и заикаясь, проговорил Касьян. — Позвольте вашу милость удостоверить: теперича здесь Польша или Ересеесе, Рассея?
— Ты дурака-то не валяй! — освирепел солдат, да как двинет Касьяну в брюхо.
«Бьет хлестко, как в деревне», и Касьян кувырнулся в третий раз, закорючив лапти к небесам.
— Где документы? Ванька, свети!
Солдат сел на лен и стал от фонарика прикуривать. Батюшки-отцы родные! На солдатской шапке красная звезда.
— Это тебя речка обманула, — загоготал Ванька. — Опять к нашему же берегу теченьем тебя прибило, дурака.
И схватило у Касьяна от ужаса живот.
Ветерок как дунет. Фонарик миг, и — сразу тьма.
Касьян стрелой в кусты. Да как пошел, да как пошел чесать. Бах, бах, бах! — мимо, свистки, крики, брань, бах, бах! И все красное-красное: либо жизнь из Касьяновых глаз выкатывалась вон, либо шинкарка кумачами машет.
«Врешь, хлоп твою в лоб, не словишь. От ведмедя убегивал», — кувыркался Касьян из ямы в яму, через голову, как заяц. А на рассвете поплелся к железной дороге, к станции.
— Оказия, — крутил он головой. — Из Ересеесе поплыл, да в Ересеесе и опять попал. Ах, ах, что я своей бабе-то скажу. Вздуть прийдется.
Залез Касьян в товарный вагон:
— Прощай, ленок-кормилец, — и от горькой обиды засморкался.
Московская столица
Забился Касьян в уголок вагона и не успел как следует осмотреться, что за люди с ним — вдруг обход: свистки, трещотки, ясны пуговки… И стадо стрюцких, будто мыши от кота, в толкотне и гвалте мигом из вагона марш. Погоня следом. Пуст вагон, только чей-то узелок возле Касьяна.
— Руки вверх! Это чей узелок?
— Мой, надо быть, — не задумываясь, сказал Касьян и почтительно воздел, как поп, руки к потолку.
— Билет!
— Какой билет? Это для проезда? — спросил Касьян. — А его у меня взял сосед, пучеглазый такой, гнусавый… Он, окаянная душа, первый из вагона сиганул.
И как остался Касьян во всем благополучии один, цоп за узелок. Бабаба! Деньги. Вот те Христос — деньги! Касьяна аж пот прошиб.
Развязал узелок — червонцы. Перекрестил червонцы — целехоньки, как лежали, так и есть, даже ни один не сшевельнулся. Касьян пал брюхом на находку и в хохот, в крик, в радостные слезы Под брюхом у Касьяна деньги, а в уголке по-собачьи кобелек сидит, головкой со стороны на сторону поводит, умильно на Касьяна смотрит.
Сгреб его Касьян аккуратно за шиворот, давай целовать в уста:
— Ты андель, а не пес! Ей-богу, право. Какое счастье завсегда от тебя валит.
Запхал Касьян в пазуху червонцы, подбоченился и пошел гоголем на станцию:
— Кондуктор! Кондуктор! Нам в товарном не желательно, при деньгах мы. Где тут самый скорый? Где билеты выправляют?
А кондуктор сердито ему:
— В скорый в лаптях не пустят: дух от тебя. А на почтовые все билеты разобраны по записи. Другие которые неделю ждут. Жди и ты.
Касьян на пустые речи плюнул и к окошечку, где касса. А возле окошечка и по всему полу вповалочку народ лежит. В окошечке кассир, у кассира в руках список.
— Иван Карасиков! — выкрикнул кассир.
— Здесь! Я самый! — залихватски подбоченился Касьян и бороду в оконце.
— Деньги платил?
— Еще третьего дня уплочены вполне, — сказал Касьян. — Нам в Москву желательно.
— В Москву, верно, — подал кассир билет.
— Да я соврать, извиняюсь, званья не возьму, — схватил билет Касьян.
* * *
Мчится Касьян в Москву. Завидит церковь, шапку долой, за здоровье Ивана Карасикова бога молит. То есть такой стыд душу охватил, аж затошнило.
— Ужо, в Москве, Иверской свечку поставлю за тебя, за дурака: не зевай, раз выкликают. Ох, грехи, грехи!
Насупротив Касьяна китаец — узкие глаза — лежит, без передыху зловредную трубку курит, луком закусывает. А поганый дымище прямо Касьяну в нос. Нет, не табак это. Что-то замутило, замутило в голове:
— Брось трубку, китайская твоя душа!
* * *
А вот и Московская столица. Ну, Москва — дело знакомое. Прямым трактом в самый первейший магазин. Купил галифе, френч, кожаную фуражку, сапоги с длинными голяшками, а лапти повесил на церковную ограду, авось, кто-либо из неимущих и возьмет, — все-таки хоть один паршивый грешишко с Касьяновой души долой.
— Сделай, гражданин, мне физиномордию под комиссара, — сказал он цирюльнику на Сухаревке.
Тот: чик, брик, — пожалте. Всмотрелся Касьян в зеркальце, пощупал острую бородку, колупнул две щепочки под ноздрями замест усов, сказал:
— Прилично. И сморкнуться ежели, сподручней.
Проходил часика полтора туда-сюда, надоело без дела комиссаром быть.
«Нет, — думает Касьян, — лучше оборочусь я богатым мужиком, кулаки которые».
И за три червонца в придачу к френчу и галифе стал в аккурат деревенский торгаш о пасхе. И как обрядился торгашом…
— Оказия, — сказал он самому себе. — Скажи на милость, какая сразу вдарила блажь в башку.
Улыбнулся Касьян и прямо к милицейскому.
— Здрасьте! — вежливо сказал Касьян. — Мы приехатчи из провинции, по части смычки. И нам желательно от живой бабы новую супругу завести советским способом. Обернитесь, пожалуйста, лицом к деревне…
— А развод имеется?
— Так что развелся я, — подмигнул Касьян. — Мне, понимаешь, старая баба ни к чему: корявая очень и в животе урчит. А я трудящий класс, и мне женщина требуется — ой люли. Ты сам должен понимать, не маленький…
— Это можно, — сказал милицейский. — А невеста имеется?
— Невеста? — переспросил Касьян и крякнул. — Нет, надо полагать, невесты не предвидится. А нельзя ли стребовать ее по телефону? Звать меня Касьян. Через три года в четвертый именины правлю. Я человек ядреный, не битый, не стреляный, пятьдесят два года, третий. А прочие которые приметы желательно невесте, извиняюсь, самолично в мягкое ушко шепнуть. Ай, ай! Что ты, дьявол, стопчешь!!
Едва Касьян от автомобиля отскочил, до того перетрусил, аж волос торчком пошел. Автомобиль профыркал дальше, а Касьян очутился в — как это? — ну, вот деревья рядами насажены, скамеечки, и какой-то чугунный человек неизвестно для чего на тесаных камнях стоит, надо полагать, статуй, — из благородных. В руках шляпа, а сабли никакой.
Подбоченился Касьян, пошел. Женщин — страсть. Так глазенками в Касьяна и стреляют А сами лицом белые, глазом черные, ну, губки — так бы вот и укусил. Одна беда — жидковаты очень.
«Жидковаты, — думает Касьян, — нам не по карахтеру. Поди, один гольный сахар жрут, а у нас на деревне каша. Вдаришь, душу вышибешь».
— Здравствуйте, пан мужик!
Бабаба! Шинкарка! Касьян обеими руками за картуз:
— Ах, ах, дамочка приятная. Здрасте! Будемте здоровы. Вот телеса, так телеса.
Она этак ручкой манит, а сама все дальше, дальше. Касьян за ней, она бегом, Касьян тоже приналег, шинкарка бежит, Касьян бежит, и песик сзади мчится, тяф-тяф-тяф. И с разбега прямо на милицию.
— Так что же вам требуется, товарищ? — спросил милицейский.
Касьян дернул себя за нос, нет, не спит, и автомобиль проехал.
— Даже я забыл, о чем речь была, — сказал Касьян, — вот как он, дьявол, напугал меня, автомобиль этот…
— Я так полагаю, вам по сельскому хозяйству требуется что-нибудь.
— Правильно, товарищ! — вскричал Касьян. — Ах, до чего приятны ваши речи.
Выбрал Касьян самолучшую молотилку, косилку, жатку, торговался так, что едва в участок не попал, однако расплатился и велел все упаковать и чтоб экстренно в деревню Коробейники, спешной почтой.
— Желательно мне еще резиновых титек, понимаешь. А то баба у меня корявая и полудурок. Заест. Придется вздуть, пожалуй.
— А сколько же вам, папаша, этого добра?
— Видимо-невидимо, — сказал Касьян и выпятил живот. — Вот как мы действуем. Ах, что же это я, — и скорей к Иверской.
Купил в часовне толстую свечку в два рубля — самые рваные полтинники монаху отдал, — поставил пред иконой, опустился на колени и давай грехи отмаливать.
— Царица небесная, прости ты меня, христопродавца, что я Ивана Карасикова, дурака, надул. Ох, Иван, Иван! Ты, несчастненький, поди, и по сей день на станции торчишь.
А сзади:
— Ах, волчья сыть! Вот кто меня нагрел-то… Ну, погоди же, я те морду-то набью…
В страхе наклонился Касьян, будто в землю, а сам из-под руки назад глазом этак. Батюшки, здоровецкий Карасиков-то какой: убьет.
Касьян легонько встал, тихонько протискался к подсвечнику, снял свою толстую свечку (монах акафист читал, только пальцем погрозил ему), сунул свечку в карман, да по-за народу, пригибаясь, вон.
Торопится по площади — слава богу, пронесло — и видит: опять два статуя рядком поставлены, один сидячий. А тот, что стоит — перстом вперед тычет. Посмотрел Касьян, куда перст гласит и — этакие, этакие буквищи: ЛЕНИН.
У Касьяна вдруг взыграла вся душа. Взглянул к могиле, что у Кремлевских стен, бросил картуз оземь и всхлипнул:
— Ленин, батюшка! Владимир Ильич, товарищ. Ах, до чего вы о мужике-дураке заботились. Мы много вами довольны. Вы огнем неестественным попалили всю мужичью Русь. Благодарим. При вашей жизни я на выставке у вас в Москве был, после вашей жизни я в контрабант, сукин сын, пошел. Я Касьян, мужик, через три в четвертый именины правлю. Я самый бедняк, а нарядная видимость — нарочно. Спите, почивайте, царство вам небесное. Ах, как прискорбно нам, что вы в господа не верите… Иван-Великий-батюшка, Успленьё-матушка, двенадцатиапостольские соборы. И колокола наши не гудут… Ну, это ничего, приемлемо, мы в согласьи. А все ж таки я душеньку вашу святую хоть чайком, да помяну, сердитесь не сердитесь. Привечный покой твоей головушке… Эй, Ильич! Слышишь ли меня?
— Вот он, вот! Хватай его, держи!
Народу-уу — черно, как грязи. Впереди Иван Карасиков, рядом с ним — монах.
Ахнул Касьян, побежал — слава те Христу — пробился к чайной.
— Здравствуйте, пан мужичок! Пожалуйте чайку, — весело сказала шинкарка в кумачах, а у самой так все и трепыхает.
— Опять прежняя чертовщина. Тьфу! — сказал Касьян. И песик сплюнул.
«Это, надо быть, от китайского курева округовел я в вагоне, вот и мерещится. Ох, и боюсь чего-то я этого Китая. Боюсь», — подумал Касьян, а вслух сказал:
— Давай, гражданка, того-сего, всякого нарпиту.
Стал Касьян жидкие чаи гонять, пищу во благовремении кушать, а насупротив — летчик, в очках по блюдцу.
— Я отродясь не летывал, — сказал летчику Касьян. — Желательно бы нам домой по ветерку прибыть.
— Это можно, — ответил летчик.
— Только в тверезом виде страшно, — заявил Касьян. — Во мне круженье головы образуется, с души потянет.
По ветерку
Захватил Касьян двадцать две бутылки «русской горькой», огладил летучие крылья аэроплана, с гордостью сказал:
— Я тебе хозяин. Из моих думок заповедных ковер-то самолет вспорхнул. Сказки на деревне слыхивал?
И вот летят.
Чем больше Касьян «русской горькой» потребляет, тем трезвей становится, чем больше — тем трезвей.
— Скажи на милость, — сплюнул он, — даже ни на эстолько не забирает. Опучило всего, а толку нет.
— Градус мал, — сплюнул и летчик.
Летит все по предельности, земелька чуть видна, а поверху облаки небесные плывут, и солнце очи щурит.
Касьяна замутило. Вцепился руками в струны, закричал:
— Товарищ летчик! Страшно. Нельзя ли мертвую петлю сделать по части самогону. Внизу видимость села и дымок идет.
Купили они ведро на и лучшего самогону и мятных пряников. Опять полетели. Хлебнул Касьян стакана три-четыре, чихнул, скосоротился и заорал во всю мочь:
— И эх-да разнесчастная наша сто-о-ронка-а-а!..
А летчик:
— Не ори!.. Заграница может услыхать.
— То есть как? — поперхнулся Касьян.
— По безвоздушной проволоке. Беспроволочный телеграф такой устроен. Ученые додумались.
— Чего врешь, — сказал Касьян.
— Верно, — сказал летчик.
Тут вспомнил Касьян, что на выставке насчет этого объяснение давали, заругался:
— Вот дьяволы! До чего нахальны эти ученые стали. То ли дело, бывало, — проволока на столбах воет. Оно и по хозяйству подходяще: кирпич ли в печке утвердить, портки ли подвязать: залез, срезал, сколько надо, и аминь.
Глядь-поглядь: лесочек завиднелся, и родное село Коробейники на пригорке торчит.
— Ох, и до чего быстро припорхнули! — изумился Касьян.
А уж в Коробейниках колокола гудут: трезвон как в коронацию.
— Тпрруу!.. — И словно на постели в страшном сне подпрыгнул Касьян — хлоп на землю.
— Мила-а-й!.. Ах, как благополучно… — и ну целовать летчика взасос.
Крестный ход навстречу, и отец Лука в ризах золотых. Открыл Касьян над собой китайский зонтик, шелковым платочком личность обмахнул и во всей строгости, будто двадцать лет в губернаторах ходил:
— А почему же это комсомол не выступает? Приехатчи из-за границы, я, может, антирелигиозной пропаганды не терплю. Долой крестный ход!.. Себе убыток, извиняюсь…
Одначе — оробел, чмокнул батюшкину ручку, кропилом окропился и приказал сорок сороков резиновых титек отсчитать попу.
— Ну, все ли тут у вас в порядке? — спросил Касьян.
Собранье промолчало. Он сказал:
— Раз я весь обрит — по-американски, то все будет по-новому. К черту трехполье! Денег у меня — во! Жатка, молотилка, трактор, щипцы орехи колоть и тому подобное. Подхватывай меня аккуратненько под ручки, веди в избу, желаю свою бабу по всем пунктам осмотреть.
Привели его в избу, — а колокола так и гудут, того гляди — треснут посередке, а кресты так и сияют, — смерил бабу с ног до головы, крикнул:
— Чумичка необразованная, больше ничего!
И повалился на кровать:
— Разувай! Не видишь?..
А народу в избу натолкалось видимо-невидимо. И отец Лука в камилавке сидит, как бардадым. Отдышался Касьян, перевалился на кровати с боку на бок, проговорил:
— Которые желающие — могут оставаться, нежелающие — уходи; стану сказывать, как дело было.
Народ остался весь, Касьяну очень приятно стало. Как же! Все село в его избу собралось.
Заграница. Темный лес
Поковырял Касьян глазами потолок и начал, прямо скажем, врать.
— Ну, ребята. Почет мужику повсеместно неограниченный. Слушай.
Народ откашлялся, закурил трубки и примолк.
— Повезли меня, значит, за границу на скором мягком, ну, везде встречи, смычка, любо-дорого глядеть. У границы корчма стоит, в корчме шинкарка расчудесная, так вся и трепыхает: «Ах, пан мужичок!» А сама меня в губки чмок….
В это время кто-то по-щенячьи всхохотал в углу и тявкнул. Касьян вздрогнул, слез с собственной кровати, сел за стол.
— Фу, ты, бес, сделай одолжение, — пробормотал он про себя.
— Вали, Касьян, вали! Просим.
— Идет, — сказал Касьян. — И вот, значит, пошел я ко границе, а там польской солдат: «Куда?!» Я ему, не говоря худого слова, в ухо раз. Он вверх ногами. Я в другое ухо два — он вниз головой. И говорит: «Ах, извините, не узнал».
— И повел меня к Польше. Я, говорю, — твоей Польши не желаю, нищий сорт, сколь времени под Рассеей она была, а веди меня к французинке, потом и к англичанке: все нации желаю прощупать самолично.
Касьянова баба тут скосоротилась и засморкалась в фартук.
— Не хнычь! — пригрозил ей Касьян. — Не всякому слову верь: это зовется дипломатия.
— Просим, просим! — пропищал из-под стола лисенок и очками поблестел.
Заглянул Касьян под стол, побелел немного, на священника отца Луку испуганные очи перевел.
— Просим, просим! Вали, Касьян! — это весь народ.
— Идет, — сказал Касьян. — Знай слушай. На чем, бишь, я?.. Ах, да. Подхватили меня под руки разные генералы-господа, а народишко ихний так и лезут, так и напирают со всех сторон, как тараканы: лестно им на рассейское крестьянство повзирать. А господа генералы по французской матушке их: «Дорогу, мол! Нешто не видите, кого ведем?» Я иду, улыбаюсь, сам румяный, и шапчонкой во все стороны машу. Ну, те — ура-ура! Тут музыканты в трубы вдарили. Глядь-поглядь: на зеленом на ковре, в золотых креслах Франция сидит. Сама белая, тилигентная, губки тонкие, обликом курносая и глазом очень весела. Сложения субтильного, вся замурована в корсеты, и чулочки натянуты выше коленок ейных вершка на три, на четыре.
Тут опять в избе голос:
— Откуда знаешь?
Касьянова баба снова в слезы.
— Я ужасно пронзительно на нее взирал, — сказал Касьян. — Вы, темные дураки, не верите, а я не вру… Вот те Христос, не вру. Мне недолго и перекреститься…
И только руку для крестного знаменья занес, вся изба как ахнет:
— Ах! — аж стены вздрыгали, вихорь по избе пошел, а отец Лука в подпол провалился. — Верим, верим, не божись!
Касьяну сумно стало, передернул плечами, запрокинул голову. А на печи черный кот сидит, зелеными глазами Касьяну в ноздри смотрит.
— Брысь!.. — заорал Касьян. — Гоните его, братцы. Я знаю этого кота.
— Какой кот! Это Спирька… — загалдела вся изба. — Спирька, ты?
— Вали, Касьян Иваныч, сыпь.
— Идет, — передохнул Касьян и вытер пот на лбу, — На чем, бишь, я? Ага, припомнил. Только, чур, не перебивать, ребята. Сидит, значит, Франция, а кругом ейная свита: вся в крестах, в звездах — ну, прямо курице клюнуть некуда. А из пушек в мою честь бух да бух: как хватит-хватит, я ногами дрыг, бороденкой виль, аж мурашки по спине.
А она белой ручкой повела и мне. приятно улыбнулась. Тут генерал ну мне шею нагибать: «Вставай, мужичок, не знаем, как ваше имя-отчество, вставай, мол, на колени, кланяйся в ножки госпоже».
«Никак нет, — отвечаю, — то есть ничего не могу из ваших нерусских слов понять». Отступились генералы, а французинка на стульчик подле себя показала ручкой белой: «Мол, пожалуйте». Я шапкой помахал туда-сюда: «Адью, мол, ваша честь, мадамочка».
А она:
«Как поживаете? Все ли здоровы?»
А я:
«Живем, слава богу. Здоровье крепкое. Через три года в четвертый именины правим».
«А как ваша супруга?»
«Это баба-то? Ничего… Акулиной звать. Родимчик у нее… Заойкает, заойкает, и сейчас в церкви на пол бряк… Надо быть, колдун, хлоп его в лоб, извиняюсь за темное выражение, попортил».
«Вы не бьете ли ее?»
«Это бабу-то? Случается иногда: нет-нет да и ковырнешь со временем… Выпивши когда».
«А вы пьете?»
«Без этого нельзя… Ну, мы в крайнем случае самогон впотребляем. Особливо на престольных праздниках. Мы, русские, господа бога вот как чтим… Извините. А в праздники завсегда гулянка… Другой раз в колья… А то и на ножи. Иным часом смертоубийства есть»…
Как только я сказал, она сейчас ручкой повела и прокурору:
«Ваше благородье, запишите»…
«Эге-ге, — подумал я, — этак, пожалуй, пропечатают в газетине, и в Ересеесе потом не въедешь. Надо ухо, — думаю, — востро держать».
Навострил я оба уха, шапкой помахал и слушаю. А она:
«Вы, наверное, неученый совсем, темный?»
«Как это можно, — говорю. — Я в ниверситете изучался. У нас все мужики в ниверситете… У нас ниверситетов как грибов, ниверситет на верситете… Густо. А дозволь, твое сиятельство, вам встречь вопросики задать».
«Ах, сделайте такую милость»…
«Ну, скажи мне откровенно, сколь у тебя всей земли находится? Я так мекаю — всю твою землю французскую, ежели наших мужиков с волости винишком подпоить, в кошелях перетаскают. Вот то-то и оно-то… А ты нос дерешь… А нашей земле конца-краю нет. Едешь-едешь, спросишь: где? Да в своем уезде, ваша честь. Едешь-едешь, поешь, поспишь, глаза отворишь: где? В своей губернии, ваша честь. Едва-едва до Москвы доберешься. А там через сорок ден — Урал-гора, выше колокольни, через восемьдесят ден — Алтай-гора, за Алтаем — Валдай, колокольчики там льют, через сто двадцать ден от Алтая — Байкал стоит, неизвестно что, то ли гора крутая, то ли мокрая окружность в несусветимых лесах густых. Едешь-едешь, едешь-едешь, и уже после всего этого, уже на другой год в море-океан упрешься. А там шапку бросил — и в Японии. Мы япошкам в девятьсот четвертом году вот какую лупку дали. Куропаткин генерал в самую середку заманил их. Слыхала? А за океаном, сказывают, Бессмертный Кащей на золоте сидит, сам не жрет и другим не доверяет».
«Наплевать! — сморщила нос Франция. — Наплевать, что ваша сторонка велика, зато у вас мужики в лаптях, а у нас сыр кушают…»
Я ноги подкорючил, чтоб лапти схоронить, да как плюну в три плевка:
«Тьфу, твой сыр! От него дух один распространяется. А вот я как редьки напрусь — поди-ка, тронь меня. Эту фрукту видывала, нет? Ей и в бане ежели натереться, сразу хмель долой… Да, поди, у вас и бани-то настоящей не предвидится. А у нас — ух ты! Залезешь на полок, да как поддашь-поддашь, — аж волос в бороде трещит… Ах, и отхвостал бы я те веничком бока… Жалаешь?»
Тут, грешным делом, подмигнул я ей и шапчонкой помахал, ну, генерал мне сейчас же сердито локтем: «Цыть!», а мадамочка ничего, тоже встречь мне улыбнулась и золотой туфелькой этак виль-виль-виль, то есть пожалуйте в контакт. Тут генералы все вскозырились, им дурно стало, зачали меня сердитыми вопросами щипать:
«А у вас виноград есть?»
«Есть, — говорю. — Это какой? — говорю. — Зеленый-то? У нас в лавках продается. Ну, клюква покрасней. А у вас кислая капуста есть?»
«Есть, — отвечают. — А у вас французская горчица есть?».
«Добра-то. А у вас деготь есть? Шкипидар есть? Гвозди есть? Чего бы еще тебе загнуть… Дуги есть? Хомуты есть? Самогон гнать приспособности имеются? Гармошки есть, тальянки? Ни черта у вас нет… А у нас все есть».
А генералы:
«Резиновые титьки есть у вас?»
Ну, братцы, я тут-то язык и прикусил совсем.
«Вот, — говорю, — господа честные, извиняюсь, на глупом слове, этого добра у нас нет… У нас все настоящее».
Тут Франция провела ручкой по грудям — физкультура называется — и глазки опустила.
Ну, думаю, начну-ка я крыть их с верхней полки. Перекрестился, да и говорю:
«У вас под кем крестьянская земля? Под барами? А у нас, господи благослови, под мужиком. У вас под кем фабрики-заводы? Под буржуем? А у нас, благодарение царице небесной, под пролетарием всех стран. А смычка есть у вас? А у нас в одной волости смычек пять. А шефы есть? Ни черта у вас, окромя горчицы… Тирнационал есть?»
А генералы:
«У нас марсельеза».
А я:
«Добра-то. Мы ее, матушку, в девятьсот пятом годе воспевали, как помещиков жгли. Скажи пожалуйста, какие отсталые народы!»
А генералы:
«Долой мужика! Долой!»
«Врешь! — кричу им встречь. — Погоди мужика хулить. Мы всех вас за собой на веревке уведем. Русь еще лаптем думает, погоди, до башки черед дойдет, покажем!»
Тут Франция затряслась вся, побелела, ножкой топнула:
«Молчать!»
«Ага! Молчать… — горько стало мне, сглотнул я слезы, молвил: — А помнишь, Франция, как мы твой Париж-город в разнесчастную ерманскую войну спасли? Кровью русской все поле под Аршавой полили: на, живи, Париж! Забыла?»
Утер я, братцы, слезы мужицким кулаком, поднялся живой рукой со стульчика.
«Эй, Франция! Тяни за мной тирнационал… Паразиты иностранные, подхватывай!» Шапчонкой покрутил, да как гряну:
Вставай, проклятьем заклейменный, Весь мир голодных и рабов!Боже правый, что тут и вышло! Как заблажат все:
«Бей! Стреляй его! Долой! Трави газом!»
А я:
«Врешь, паразиты! Не боюсь газов: на мне душевредная маска есть».
А какой-то несознательный капиталист кэ-эк по загривку двинет мне, я носом в землю тюк…
«Казнить! Казнить!»
И повели меня на казнь, как быка на бойню. Чую — французской гильотиной пахнет, кровищей пребольшой. Ну, думаю, твори бог свою волю… Эх, Касьян, Касьян, неужто отходили твои мужичьи ноженьки, неужто тугая смерть пришла? Нет, не может быть, чтоб русский мужик дарма пропал… Плачу слезно, шапчонкой утираюсь, а сам вроде акафиста:
Никто-о-о не даст мне избавле-енья…А мне паразиты:
«Суй башку! Суй башку!»
У гильотиночкн остер булатный нож вниз-вверх ходит ходуном. Тут я и взвыл на всю планиду:
«Отцы родные! Дозвольте напоследочках православному мужику богу помолиться».
В это самое времечко, братцы, со всех краев, быдто сине море загудело: «Врешь, погоди молиться-то!..».
* * *
Касьян вдруг оборвал рассказ, вскочил, заткнул уши, защурил накрепко глаза И вся изба вскочила, и вся изба завыла, загавкала на Касьяна, как буря, как каменный грохот с гор:
— Врешь! Погоди молиться-то!
Касьян ахнул и в страхе взглянул перед собой, как сумасшедший. Ах, черт! Замест собственной избы опять корчма, прокисшая, словно простокваша. Под потолком лампочка чадит, на столе шинкарка пляшет, каблучками бьет, ведьмячьи глаза пламем полыхают… Народу, народу — страсть: паны да евреи, есть и русские. Все в ладоши бьют. И все в один голос на Касьяна:
— Врешь, погоди молиться-то!
Черный кот взад-вперед ходит, зелеными глазами Касьяну в самый рот глядит. И все кругом зазеленело.
Похолодел Касьян, не вздышит. И где-то песик взлаял.
— Представьте! Даже в своей избе спокою не дают, — пробормотал мужик. — Эй, Акулина!
А песик уткнул холодный свой носок Касьяну в ухо, шепчет человечьим голосом:
— Где у тебя иверская свечка? Зажигай. Вся чертовщина сгинет.
Приободрился Касьян, чмокнул верного песика в носок и говорит:
— Свечку я обронил, как мертвую петлю делал. А вот я чем… Боньба у меня за пазухой сидит.
Выхватил бомбу, взмахнул под небеса:
— А ну, нечистая сила! Ожгу! — да бряк в пол. Как завоют, как заойкают: визг, стон, рев. И мигом — тьма.
— Вот какое поврежденье вышло, — прошептал, трясясь, Касьян. — Все вдрызг расшиб, всю собственную избу. Не знай, и сам-то жив ли.
И сквозь тьму подыхающий песий голосок:
— Ты-то жив, а меня убил, дурак…
Закачался Касьян от жалости: «Песик, песик!» А буря так и кроет, так и взваривает: темный лес котлом кипит, буря сухостой корежит, хвои рвет, в вытаращенные Касьяновы глаза шишками швыряет.
— Благодарим, — сказал Касьян, — совсем даже в лесу.
Повернулся, пошел и — прямо носом в дерево. Повернулся, пошел и — снова носом.
— Ну, и тьма. Не знай, куда и путь держать.
Сел на пень, передохнул.
— Вот так приключенье. Ах ты, бес, сделай милость! Гляди, окончилось-то чем. Даже неожиданно. Гляди, в каком лесу.
Посмотрел Касьян во тьму, грустно стало. Ощупал руки: мозоль на мозоли, притронулся к сердцу — жарко бьется сердце, кровь ключом. Пожалел тут Касьян свою мужичью жизнь, заплакал. И, как заплакал, — стихла буря. И, как стихла, — покарабкался Касьян на вершину дерева стоячего. Кой-как влез, запрокинул к небу очи. А в небе звезды табунились, и небо — синь.
И с самой верхушки прогремел Касьян во все концы:
— Эй, братцы! Рачители!! Мужик с панталыку сшибся, в лес зашел… Выручай, мир честной. Меня чертовщина душит… Свету, братцы, огонька! Даешь огонь?!
ДИКОЛЬЧЕ
I
…И не понять: друзья они или враги.
Во всяком случае они заварили такую чертовщину, что, как Русь стоит, вряд ли подобное случалось. И было бы преступно пройти мимо этой истории со спокойным сердцем, не передав хотя бы краткого содержания ее в назидание потомства.
Необычное дело это, в меру смешное, но серьезное, не далее, как в позапрошлом годе восходило к разбирательству до Высшего земельного суда в Москве, того суда, что за Китайской стеной, меж Ильинскими и Варварскими воротами.
Тянулось это дело много времени, о том, как завершилось дело, будет сказано в конце повествования, а началось оно неутешным бабьим воплем вперемежку с зубовным скрежетом, руганью и дракой.
Впрочем, началось оно несколько иначе. Началось дело так:
1
Вы, любопытствующий зритель мой, никогда не бывали в коренном русском селе Длинные Поленья? Пойдемте.
Длинные Поленья село как село: церковь на горе, кой-какая школа, каталага, изба-читальня с красным уголком и двести пятьдесят хозяйских душ. Был колдун Игнат Рваная Ноздря, но неблагополучно помер: убили. Укокошили его не зря, не в обыкновенной драке, а на идейном основании. В сущности, в смерти своей повинен сам Игнат. Он не раз всем принародно объявлял:
— Меня ни пуля, ни топор не возьмет. Я завороженный. Черти меня караулят, слуги мои.
Вот как-то пьяненькие парни к поспорили: одни за, другие против. Побились на две четверти самогону. И для проверки убеждений здоровецкий парень Степка застегнул колдуна оглоблей прямо в лоб. Колдун замертво рухнул наземь. Умирая говорил:
— Оглоблей можно… Нет, ты попробуй топором.
Однако это мелочь, это к делу не относится.
2
Итак, вы вошли в село. Если ваше зрение чуть ниже среднего, вы будете удивлены. Удивитесь потому, что перед вашими глазами, эдак саженях в двухстах от вас всплывет небывалых размеров вывеска, на ней по белому фону черными саженными буквами:
ДИКОЛЬЧЕ
— Как! — воскликнете вы, поправляя шляпу и протирая обманувшие вас глаза: — В каких-то обыкновеннейших Длинных Поленьях и вдруг итальянец: Дикольче…
Но если вы приблизитесь к вывеске, ваше недоумение разрешится совершенно неожиданно: итальянец Дикольче исчезнет, и, как из-за ширмы трансформатора на сцене, появится подлинно русская фамилия:
Д. И. КОЛЬЧЕногов
Значит, дело чрезвычайно просто: был мужик Денис Иваныч Колченогов, о котором речь впереди, и был горький пьяница маляр Лохтин, этакая широкая русская натура, вроде лесковского Левши, и не совсем грамотный притом же. Крестьянин Колченогов хотя торговлей и не занимался, но честолюбия ради заказал маляру вывеску аховых размеров, чтоб всем прохожим и проезжим видно было издали, кто в сей избе упомещается — знай наших! Вот маляр и бахнул. Хотел маляр Лохтин чрез вывеску в славу войти, на всю округу прогреметь, да не рассчитал: не знал, должно быть, что всякой человечьей славе приуготованная грань лежит: размахнулся, брякнул по сажени буквы, а грань-то вот она! И получилась чепуха: заграничный Дикольче — в сажень, а русский Ногов так себе, едва-едва. Пить, пить стал маляр от неприятности, с вина сгорел. И вместо славы — гроб. Вечная ему память, дураку.
А напротив этой необычайной вывески стоял вросший в землю, одноэтажный, длинный дом. Он днем дремал, вольготно растянувшись по земле, и восемь окон его спали. С вечернего же часа и до третьих петухов приземистый дом сей оживал: окна мутнели тусклыми огнями, и если в метель или сквозь сеть осеннего дождя посмотреть с того берега речонки, протекавшей возле дома, можно подумать, что на берегу уселась волчья стая и поблескивает восемью зелеными глазами, и завывает в мглу. Но это не волчий вой, это пьяная компания гуляк орет под гармошку заунывную, а то и плясовую песню. Безалаберная песня та, нескладная и дикая — кто кого перекричит — ударяет пухлыми боками в стены, в потолок, в маленькие окна этого дома при реке и, разрывая метель, туман иль дождь, звериным воем скулит тоскливо средь темных улиц спящего села.
Вы видите над дверями этого дома вывеску: «Трактир Красный отдых» с двумя намалеванными чайниками по бокам. Вы слышите, как часто скрипит-скоргочет дверной блок с замохнатившейся веревкой и привязанным к ней камнищем в пуд.
Вам необходимо зайти туда — сейчас глубокий вечер, а завтра воскресенье — праздного народу много в кабаке. Вы потребуете чаю с ситным, примоститесь где-нибудь, в уголке у печки и будете наблюдать гуляк. И, конечно, ваш цепкий взор, что нужно, схватит и убережет.
Вы нажимаете плечом грязную, облеванную дверь, пудовой камень лезет вверх, блок по-старушечьи визжит на вас: «Куда ты лезешь, городской?» Но вы уже вошли. Прежде всего ваше обоняние ошарашит спертый, прокуренный махоркой, отдающий лошадиным стойлом потный воздух. Он густ, тягуч и липок, как кисель. Вы с непривычки закрутите носом, даже вас слегка может затошнить. Но вы мужайтесь: ваш организм, помимо вашей воли, тотчас же начнет вырабатывать противоядие, и через пять минут вы будете чувствовать себя великолепно.
Вы заказываете чай.
— Чай? — удивленно переспрашивает вас вихрастый, грязный услужающий парень Мишка (лицо у него курносое и глупое): — А водчонки не потребуется? На закусочку селедка есть. Пивко имеется.
Чай подадут вам не раньше, как через полчаса. У вас есть время осмотреться. На темных стенах белеют плакаты: «Пьяным водки не подают» (с карандашной припиской: «Потому что они берут сами»); «В долг никому»; «Матерно шибко не выражаться»; «Напился и уходи»; «На пол не харкать». На последнем плакате опять приписка: «А куда же, в морду тебе, что ли».
Возле двери в кухню засиженная мухами стенгазета. Между статейками, стишками и заметками — «Воззвание к трезвости», с поименным перечислением местных пьяниц. Поперек написано карандашом: «Сами, сопляки-черти-пьяницы. Чтоб вас…»
На стойке — баранья нога, селедка, колбаса, яйца, капуста, в банке плавают огурцы. За стойкой кабатчик, бывший торгаш из губернского города, маленький, щупленький и вислоухий, — у него клинышком с проседью бородка. У выручки грудастая кабатчица, ее нос с изъянцем, но щеки красные. Она, когда-то — спец по самогонке, дважды сиживала в тюрьме, а вот недавно родила плаксу-мальчонку и вдовый кабатчик записался с нею в загсе. В уголке, под потолком, возле вишневых дешевеньких наливок, образ Николы-чудотворца в серебряной ризе, пред ним — зажженная лампадочка. А на самом видном месте, в кумачовых складках и с сосновой веточкой внизу, портрет Ленина. Вас это коробит. Как будто бы здесь и не место портрету русского народного вождя.
Вот радостно и торопливо взвизгнул блок: «Здравствуй, дядя Ксенофонт!» — дверь с шумом расхлебястила хайло, вошел рослый, рыжебородый, похожий на Александра Третьего, мужик. Давя скрипучие половицы, он стал перед кабатчиком и ударил в стойку кулаком. В трактире сразу говор смолк, чавкающие, орущие рты остановились, и глаза гулящего народа улыбчиво влипли в крутую, саженную, под серой поддевкой, спину силача.
— Ну-ка, ну-ка, Окся!..
— Окся все могит… Гы-гы…
Ксенофонт Ногов — не Колченогов, а просто Ногов— навалился животом на стойку и сказал басом:
— Даешь в долг?.. Бутылку…
— Нет, — ответил хозяин, и большие, не по голове, уши его зашевелились, как у настеганной кобылы. — Не дам.
— Ей-богу не дашь?
— Ей-богу не дам.
— Так, не дашь?
— Не дам.
— Ну, тогда не извини… До приятного свиданьица.
Ксенофонт Ногов круто повернулся, засопел, так что пламенная его бородища завихрилась, и в раскачку — к выходу.
Дверь вскоре хрюкнула, заругалась, заскрипела: это захмелевший Ксенофонт вворотил в кабак камнище.
Гвалт в кабаке опять вмиг смолк и грянул поощрительный дружный хохот.
Великан перевертывал тридцатипудовый дикий камень и, кряхтя, катил его в жилую половину кабатчика. Пол трещал, подскакивали стаканы на столах.
Кабатчик с женой кинулись на Ногова:
— Что ты! Аспид! Кровопивец!..
— Удди!.. Под камень попадешь — в смятку!..
Как связанный по ногам баран, камень серой массой кувыркался через голову и прямо в кабатчикову спальню…
Наконец-то тупорылый парень Мишка подал вам два чайника — пузатый и поменьше — и ситный. Кушайте. Вы должны быть готовы к тому, что из рыльца чайника вместе с полусырой горячей водичкой вынырнет и дохлый таракан. Вы его аккуратненько подведите к краю грязного, кривобокого стакана, подденьте пальцем и — на пол. Впрочем, можете поднять скандал, как третьего дня пьяненький дед Нефед, в пиве которого оказался мышиный хвост. Это тоже случается, но редко.
Однако все благополучно: никакого таракана, а черного настоя чай пахнет прелым голенищем.
Из жилой половины громкая вывалилась троица. Впереди Ногов. Как набедокуривший проказник, он лукаво похихикивает в бороду и чуть ссутулился, съежив плечи: по загривку, вприскочку, молча накладывают ему обозленные супруги. Кулачок кабатчика тюкает, как в слона дробина, кулак же толстогрудой кабатчицы молотит внушительно и крепко: шаги Ногова становятся проворней.
Вот он сел за свободный стол, а возле выручки народ — хозяева за стойку. Ногов снял промучнелую, сбившуюся на затылок шляпу, и его лысая большая, с одутловатыми щеками голова залоснилась под желтым светом лампы-молнии. Ногов отер взмокшую лысину рукавом сермяжной поддевки — лицо его все так же добродушно улыбалось — и, сквозь разноголосое месиво говора, смеха, песен, зычно, как дьякон, крикнул:
— Эй, Мишка, готово? нет?
Вихрастый, низкорослый Мишка тащил обхваченную грязнейшей тряпкой раскаленную сквородку. На сковородке шипело, плевалось, потрескивало, и, вплетаясь в сизый кабацкий дым, от снеди валил зеленоватый чад. Мишка круто отвернул от чада рыло, наморщился и чихнул, сказав:
— Кушай, дядя Ксенофонт… Ну, и сальце! Крепости подать?
— Полдиковинки, — сказал Ксенофонт. — С устатку.
И только он запрокинул голову, чтоб вылить в усатый рот шкалик крепости, как на его плечо пала корявая ладонь:
— Стой, перекрестись! В стакане черт.
— A-а! Дядя Дикольчей! Садись.
Черный, как жук, большеусый Денис Иванович Колченогов — он же дядя Дикольчей — пододвинул ногой табуретку, сел:
— Гуляешь?
— А чем я хуже тебя?
— Это как есть.
Ногов и Колченогое — приятели. Но по наружному обличью ничего нет в них общего. Ногов большой и грузный, Колченогой маленький. Ногов краснобородый, лысый. Колченогов густо черный, безбородый, лишь длинные запорожские усы. У большого Ногова лицо добродушно-открытое, у маленького Колченогова, когда он поглощен работой или пьян, лицо разбойничье.
Словом, у них созвучны лишь фамилии, остальное же все разное, даже жены. У черного маленького Дикольчея жена Ненила широкозадая, высокая, с плоской грудью и светловолосая. У силача же Ногова жена Варвара черненькая, щупленькая, но очень быстрая, развеселая и грудь имела не по росту, выпуклую и тугую. Вот бы Нениле такую грудь! От неуклюжей Ненилы всегда пахло керосином. Черненькая же Варвара почему-то потела не только в сенокос, но и в крещенские морозы, и от нее несло ядреным бабьим духом.
И несмотря на отсутствие видимого сходства, и мужья, и жены были друзьями. Мужья в пьяном положении всегда дрались, но тут же мирились. Бабы никогда не дрались. Впрочем…
В спальне Мишка, кухонный мужик Семен, хозяин и хозяйка пыхтели вчетвером над камнищем. Камень чуть покряхтывал, но не сдавался, камню хорошо и здесь: мягкая перина, люлька, лампа с красным абажуром, на теплой печке — кот, под потолком — чижик в клетке.
— Надуйсь! — командовал Мишка; он навалился на камень грудью и упер в печку босые, покрытые паршью, ноги. — А ну!
И все четверо влипли в камень.
— Вали, вали, вали! Стронулся! — гикал налившийся кровью Мишка, вот отступился и упавшим голосом сказал: — Нет, кишка вылезет… Ну, и Ксенофо-о-нт… И вот так это даа-а…
Тем временем приятели мирно беседуют, распивают полдиковинку, поддевают по очереди вилкой куски сала, чавкают.
— Ну как — будете драться?
— Будем.
— Будете мириться?
— Будем.
Это их подзуживают из разных углов гуляки. В сущности, гуляк не видать: сизый дым столбом, но веселым смехом светятся их пьяные ожидающие глазки: будет шум и крик.
И вот с криком подходит к великану кабатчик, с оскорбленным плачем подходит толстая, в просаленной кофте кабатчица:
— Ведь у нас дите малое в люльке, а ты камнище вворотил. Возьми бутылку.
— Две.
— Побойся бога! Полторы.
— Две. А будешь спорить — три.
И под хохот гулливых парней и мужиков камень послушно заковылял обратно, и, как мертвецки пьяный, свалился мертвым прахом под забор. А в руках Ксенофонта две бутылки:
— Вот гульнем!! Дядя Дикольчей, урра!!!
— Пить умереть и не пить умереть!
— Будем пить да дело делать, — сказал Ксенофонт. И стал пить.
Дело — к полуночи, и в небе застывшим уворованным огнем белеет дохлая луна.
Вы на время покидаете кабак, чтобы взбодрить кровь кислородом. Вы чувствуете: чадный угар, освежая тело, сочится из ваших пор, и радуетесь как вышедший из тюрьмы пленник. Вам ненасытно хочется пить без конца эту лунную ночь и славить свободу. Ваш утомленный взор ласкает круглую луну, ищет звезды — слава вольным просторам, слава мудрым законам вселенной! И натыкается ваш взор на земную глупость: трехсаженные опоры вознесли вверх тщеславное творенье: «Дикольче». Вы горько улыбаетесь и по-холодному улыбается луна, разглядывая черные по белому фону буквы. Лишь создатель этой вывески лежит на погосте под земным пластом и не желает улыбаться. И снится ему там, под землей, в могиле, что дело его рук будет нерушимо стоять в веках.
Слепой мертвец! Обманны сны твои и все дела людские — под косой трава. Пройдут сроки меньше тысячи лет, пройдут сроки человечьи и — завтра же «Дикольче» сдвинется с незыблемых твоих, человек, устоев.
И, как бы в подтвержденье этих мыслей, октависто хрюкнул из Дикольчеева хлева несчастный боров. Но прежде чем войдет нож в смертельный загривок борова, произойдет нечто, что и не снилось мертвецу: не разрушаясь — разрушится, не двигаясь с места — переместится. И от чужой руки хлынет из борова алая кровища. Боров чувствует, что про него в кабаке разговор ведут, хрюкает боров по-дурному с раздражительной тоской. И собака завыла дурью, где-то там, за сонной голубой рекой, на хуторе Ксенофонта Ногова:
Варвара отворила окно и крикнула:
— Дунька, цыть!
Собака примолкла и подумала:
«Ничего ты не знаешь, ничего ты не чувствуешь… Баба, баба! Неужто не видишь: ведь вот оно, ведь завтра».
Но Варвара — человек: она в прошлом, в настоящем, а завтра — припечатано.
И Варвара беспечальную запела песню, а собака — выть.
Вы могли бы направиться осмотреть хозяйство Колченогова и просто Ногова, но… слышите гвалт и хохот? Приятели успели как следует напиться и, обхватив один другого мертвой хваткой, единоборствуют у кабака. Маленький цепкий Колченогое облапил за кушак рассолодевшего сырого Ногова. Тот возит его на себе, как медведь собаку, и свалить не может.
— Ты, Окся, под ножку норови его, под ножку! — надрывался в крике вихрастый Мишка. — Давни его!
— Врешь, — хрипел, как удавленник, черноусый Дикольчей, — меня не вдруг-то свалишь: сам с усам…
— Жалко. Понимаешь, жалко… Дурак ты эдакий. Ежели ужать, как след быть, душу из тебя выдавлю. Ты мне друг, ай не?
— Не бойся, жми! — кряхтел Дикольчей.
Так они, шаг за шагом, крутясь и хрюкая, подвигались на зады усадьбы, к гумнам. Вот Ксенофонт разъярился, уцапал Дикольчея за рукава пониже плеч и каруселью стал крутить его возле себя. Он крутил с такой силой, что отделившиеся от земли ноги Дикольчея, описывая полный круг, вытянулись в воздухе горизонтально. Дикольчей кричал:
— Врешь, дьявол, не свалишь!
Вот закружились оба и упали. Перекатываясь друг через друга, оба неожиданно ухнули в картофельную яму. В эту яму, глубиной в сажень и с отвесными стенками, зарывали на зиму картошку. На дне ямы темно и сыро, луна освещает лишь самый верх. И в ладонь величиной лягушка лупоглазо скачет прочь: людям игра, лягушке ужас.
— Вот и в яме мы, — проговорил тенорком Дикольчей и, плаксиво скривив рот, сморкнулся.
— Как есть в яме, — сморкнулся и Ксенофонт. — Руки, ноги целы? Давай почеломкаемся… Товарищ… Ми-ла-а-й!..
Несколько раз смачно, взасос поцеловались.
— Пожалуй, не вылезти нам; пожалуй, умрем тут, — пьяно сказал Ксенофонт и прослезился.
— Вылезем, — заикаясь, сказал Дикольчей, — нагнись, я на тебя вскарабкаюсь. Вот так!
Дикольчей, как рысь, залез на широкую спину Ксенофонта.
— Выпрямляйся!
Залез на плечи и — на воле.
Ксенофонт протянул вверх руку:
— Таши.
Но Дикольчей, пошатываясь, правил к кабаку.
Ксенофонт поднял дикий крик.
Гуляки едва выволокли большого мужика. Он нагнал Дикольчея и тяпнул его ладошкой по загривку. Дикольчей упал. Ксенофонт поставил его на ноги. Дикольчей подобрал с дороги кол и, заскрежетав зубами, крикнул:
— Сердце у меня зашлось… У-ух!.. Уходи, Ксенофонт! Сейчас брошу дубину, боюсь, как бы она не стегнула тебе в лоб… Уйди!..
— Вали, вали… Не струшу.
Дубинка взвилась и, пролетев по воздуху, метко хрястнула Ксенофонта по лбу. Пьяный Ксенофонт упал. Дикольчей помог ему подняться.
— В лоб, — сказал Ксенофонт. — Ничего…
— Мила-а-й… Друг…
— Квит?
— Квит на квит…
Снова взасос поцеловались и в обнимку пошли в кабак.
В кабаке песня, плясы. Кабатчик расталкивал плясунов и гнал их вон:
— Три часа!…
Луна спускалась к лесу, на покой. Был предрассветный час.
Ногов с Колченоговым уселись за свой стол. Возле них сгруживались мужики и парни.
Черненький Денис Иваныч Колченогов, он же Дикольчей, подбоченился и, задирчиво глядя в простоватое, утомленное лицо большого Ксенофонта, неожиданно сказал:
— А ты — кулак. Хоть друг мне, а — кулак.
— А может, ты кулак-то, а не я, — обиделся Ксенофонт.
— Я — не кулак. А ты — кулак. У тебя и земли больше.
— Врешь, земли столько же. И земля у тебя удобнее, — глаза Ксенофонта лениво разгорались.
— У тебя три коня имеются, один другого глаже. Ты — кулак, — сказал Дикольчей и расстегнул ворот рубахи.
— Нет ты — кулак, только с придурью, — нажал на голос Ксенофонт. — И батька твой кулак был, царство ему немецкое.
— Ты — кулак! — крикнул Дикольчей. — У тебя три коровы и все — дойные.
— У тебя — тоже две коровы да боров пудов на десять, — с дрожью в голосе, но все еще владея собой, сказал Ксенофонт. — Кроме всего этого, у вас с бабой сряды много — форсун ты, щеголь…
— А у твоей бабы, может, тоже пятнадцать платьев. Кулак ты, — и озлобленный взгляд Дикольчея влип в нос и бороду Ксенофонта.
Ксенофонт разглядел холодное пламя бороды с пеплом седых волос возле ушей и улыбнулся.
— А велика ль баба-то моя: с девчонку.
— С девчонку ли, с мальчишку ли, а ты все-таки — кулак. И я — вдвойне бедней тебя. Братцы, как?
— Известно, ты — бедней, Колченогов, — подхватил, ожил насмешливый народ. — У Ксенофонта и дом лучше, и скот справнее, и женка аккуратненькая, как кубышка.
— Ага, ага! — вскочил, оскалился на Ксенофонта Дикольчей. — И выходит: ты — кулак, я — бедный!
Поднялся и Ксенофонт.
— Ты бедней меня оттого, что бахвал и лодырь, — разгорячившись, сказал он.
— Ага! Ты эвот какие речи… — вскипел, замотался Дикольчей, ища сочувствия среди хмельных гуляк. — Тебе хорошо, черту конопатому, брюхо-то ростить, ты на хуторе живешь, у тебя и земля вся в кучке, ты как помещик, буржуйска твоя морда… А я чего?.. Я, можно сказать…
— Сопля, — басом выругался Ксенофонт и ударил ногой табуретку. Распрямил широкую грудь, заложил руки назад и, глядя с жалостной издевкой в потное лицо Дикольчея, сказал раздельно:
— Ну, ладно. Правильно: у меня и дом новый в чистоте, и кони сытые, и скот удойный. Ладно. Согласен. И ежели у меня все хорошо, а у тебя все худо, — Ксенофонт схватил Дикольчея за шиворот, поднял к потолку и крикнул: — Давай, сволочь, коли так. — всем меняться! Садись на мою хорошую землю, а я на твою худую, — он встряхнул приятеля и броском посадил его на лавку.
Сначала засмеялись в дальнем углу, у печки, потом хохот взорвался вблизи и, как темной тучей, приглушил ошалевшего Дикольчея.
— Вали, вали!.. Меняйся… — подзуживали его гуляки.
— Согласен, нет? — сказал Ксенофонт, быстро надел и опять снял шляпу.
— Тоись, как? — очнулся Дикольчей. — Как это меняться? Землей, что ли?
— Всем! — ударил Ксенофонт в стол шляпой: взнялось облако муки.
— И бабами?
— Ну, ну, — цыкнул Ксенофонт. — Бабы при мужьях. Словом, вы с бабой ко мне на хутор, мы с бабой к тебе в избу… В чем мать родила, нагишом… Ежели на то пошло…
Жадное сознание заклубилось в хитрых глазках Дикольчея, но он, вильнув голосом, сказал:
— А я еще подумаю…
— Тогда до свиданья вам, — сказал Ксенофонт — и к выходу.
— Стой, стой! — всполошился Дикольчей и погнался за Ксенофонтом, как за обокравшим его прощелыгой.
Ксенофонт с хмурым решительным лицом остановился и крепко сказал, дрожа:
— Последнее мое слово: будешь меняться? И ежели после этого хоть раз обзовешь меня кулаком, я тебя, гада, на березу закину!.. Там и сдохнешь. Ну? Будешь меняться? — и Ксенофонт грузно, враскачку подошел к Колченогову.
Дикольчей замигал, как от сильного света, и попятился. В его голове быстро трезвело. Он недоумевал, издевается над ним Ксенофонт при всем народе или же вгорячах просто зарвался с пьяных глаз.
— Ты всерьез или дурака валяешь? — по-трезвому спросил Дикольчей и расхлябанно присел к столу, опрокинув недопитую бутылку.
— Что ж тебе, икону, что ли, целовать?
Дикольчей скосоротился, закрыл лицо ладонями, отвернулся и, таясь, заплакал.
— Я в согласьи, — не своим голосом промямлил он.
И в двадцать глоток что-то закричал народ, в двадцать рук хлопали Дикольчея по вздрагивающей, ссутуленной спине, крепко целовали его в мокрые усы, в картуз, в морщинистый затылок, и вдруг Дикольчей взлетел на воздух:
— Урра! Ураа!.. — вверх и вниз, вверх и вниз летал осчастливленный мужик. Вот взлетел последний раз, стукнулся подбородком о потушенную лампу, — стекло упало, зазвенело, упал, крикнул Дикольчей:
— Братцы!.. Ксенофонт!.. Упреждаю! Было бы вам известно… Вывеску я сниму, вывеску с собой унесу!.. Факт.
Гуляки целый час сидят на зеленом углу возле исполкома, ждут восхода солнца. Было холодно, всех пробирала дрожь.
Некоторые верили, что все будет так, как Ксенофонт сказал. Но большинство крестьян смотрело на происшедшее, как на забавную игру: сегодня же вечером они сдернут за беспокойство по четвертухе самогону и с Ксенофонта Ногова и с Дениса Колченогова.
Дикольчей на свежем воздухе сразу же почувствовал себя сильным и богатым: он прикинул в уме весь достаток, который чудным чудом валился с неба в его карман, и ему вдруг стало нестерпимо страшно. Так бывает страшно богачу, которого застигла ночь в лесу и сзади слышится разбойный посвист. И Дикольчей испуганным дерзким взглядом косится на бывшего друга своего, как на заклятого врага, который все дал и может все отнять, ограбить, разорить его мечту и опозорить… Нет! Зубами, когтями, всей кровью Дикольчей вцепится в горло всякого, кто станет поперек его дороги, а этого остолопа Ксенофонта он хитростью возьмет.
Ксенофонт сидел на камне в стороне. Кабацкая горячность схлынула, и на дне — горькая, ноющая злоба: дурак, дурак… ах, какой же он дурак.
Он глубоко надвинул шляпу, чтобы не заметили гуляки омраченных его глаз, и встал, прямой и сильный. Он взглянул вправо, где по угорине вилась дорога к родному хутору, и сердце его затосковало. Довольно! К черту! Сейчас уйдет домой…
Но в это время заспорили, зашумели мужики, и, как раскаленным гвоздем в самое болючее место, ушибли его слух слова:
— Кто? Ксенофонт-то спятится? Это ты, что ли, Дикольчей, брякнул? Эх ты морда!
— У Ксенофонта слово — олово.
— Окся уж раз сказал, значит, сказал. Тверже твердого!
Ксенофонт весь вытянулся в струну, и все закувыркалось перед его глазами, все бесповоротно рухнуло.
— Пора, — проговорил он. — Солнце всходит.
Весеннее солнце рано просыпается. В мочажинах еще лежал туман, но вершины утренних берез дружно заалели.
Двадцать девять хозяев поднялись с росистой луговины и деловито пошагали к квартире председателя волисполкома. На лицах праздничная радость: дело обязательно закончится магарычом.
Радость, да не всем. Ксенофонт мрачно шел впереди, как туча. Все, чем жил, что создавал вот этими железными руками, сгибло. Он теперь кровно ненавидел Дикольчея. Дикольчей плелся в хвосте. Он чувствовал, что Ксенофонт ненавидит его, и, зная это, ненавидел Ксенофонта сам. Так два неразрывных друга стали в одночасье — враг и враг.
— Товарищ Ермилов, не извини, к тебе мы, — сказали мужики. — Дело экстренное, очень даже интересное.
Потом добыли заведующего земельным волостным отделом, добыли секретаря и — началось.
У Ксенофонта еще была тонкая, как паутиночка, надежда, что начальство не пожелает ввязаться в такую ерунду и всех прогонит по домам. Но… после долгих разговоров, советов, увещаний, смеха, крика, язвительных подзуживаний, издевок, хитрой брани — все-таки договор был заключен. К договору приложена печать, договор обклеен марками, по маркам расписались и «безграмотных» крестиков наставили двадцать семь свидетелей.
Договор заключен не в шутку, — на день, на два, — договор заключен всерьез и навсегда.
Копии договора получили на руки Ногов и Колченогой. Большой Ногов стал маленьким, маленький Колченогов стал большим.
И большой колокол ударил в это время к праздничной обедне.
— Когда перебираться? — ласковым голоском, с милой этакой дружеской ухмылочкой спросил Ксенофонта Дикольчей.
— Сегодня же. С полден, — глядя в сторону, сказал Ксенофонт чугунным черным голосом и, еще глубже надвинув шляпу на глаза, тяжко зашагал домой.
С горы, где волисполком, видно было, как он с маху выломал ворота в поле, ворота рухнули, ляпнулись плашмя в сырую пыль.
II
В полдни Ногов с Колченоговым проснулись каждый у себя. Опохмелились кислым квасом и стали свежи, счастливы и несчастны.
Вышло так, что бабы никуда не выходили и поэтому не знали о случившемся.
И вот началась печальная история. Началась она почти одновременно — в избе Дикольчея и на хуторе.
Вам, любопытствующий незримый зритель мой, нет расчета перебегать от окна к окну — полторы версты не шутка — вам придется сначала выслушать весь разговор на хуторе Ксенофонта Ногова, а потом уж…
— Варвара, как его… — ласково начал саженный Ногов и зачем-то потрогал смирно висевший кнут, может быть, для того, чтоб произвести на бабу впечатление: — надо будет тово… перебираться… — Ксенофонт, заложив руки назад, прошелся по избе, потом уперся лицом в стену и, покачиваясь, стоял так спиной к Варваре.
— То есть как это перебираться? — спросила Варвара. — Чего-то не понимаю я.
— Я тоже не совсем, чтоб в понятии. Ну, только надо. Беспременно надо.
Сердце Варвары вдруг сжалось. Необычный, тихий с дрожью голос мужа испугал ее. Она села у печки и оттуда, едва передохнув, задала вопрос:
— Куда же?
— К Дикольчею, к дьяволу, — помедлив, сказал в стену Ксенофонт, повернулся лицом к жене и тоже сел на лавку.
— Пошто?! — набирая сил, крикнула Варвара.
— Мы к нему, а он к нам… Чрез марки расписались… Печать.
Чувствуя беду, но ничего не понимая, Варвара встала и крепче крикнула: — Не продрыхся, видно?!
Ксенофонт вдруг озверел:
— Сбирайся!.. Живо!! Секунд в секунд!!
Он вскочил, сорвал кнут и два раза опоясал кнутом печку, чтоб попробовать, чтоб видела Варвара, сколь силен удар кнута, чтоб видела, как от печки белыми струйками пыхнула известка и рыжий кот, охваченный ужасом, впереверт брякнулся с полатей на пол.
Варвара завыла волчицей и повалилась на кровать.
В избе Дениса Колченогова повторился почти тот же разговор. Впрочем, там все произошло совершенно по-другому.
Когда Дикольчей доказывал широкозадой большой Нениле всю выгодность переселения на хутор, голос его захлебывался радостью. Но вдруг совесть глушила его восторженные речи самым пустым вопросом: «А кто настоящий хозяин хутора? А сладко ли будет этому хозяину бросать крепкое хозяйство и перебираться в покривившуюся избу лодыря?» Этот, в сущности, маленький вопросик вдруг сжимал горло Дикольчея, и мужику становилось не по себе. Однако Дикольчей сразу же поборол себя и закричал так громко, что удивился сам:
— А черт его, дурака, толкал!! Да что он, двух по третьему? Плевать!!
Ненила стояла среди избы, растерянная, недоумевающая. Уж не спятил ли Денис с ума? И только когда Дикольчей, всхрапывая от прилива чувств, показал ей припечатанную бумагу, она поверила и подняла слезливый толстоголосый рев.
— Не ори, — сказал Дикольчей, — дура! Ты нетто забыла, какие у него коровы-то? А дом-то? Пятистенок, новый, под железом.
Ненила заревела пуще, слезы полились, и она, грузно топнув в пол, двинулась на разинувшего рот Дикольчея:
— Да ты сдурел! Да ты пропил душу-то! Чтобы на отшибе от мира жить?.. На чужом добре?!
Дикольчей попятился от напиравшей на него супруги и пугливо крикнул:
— Выбирайся!.. Секунд в секунд чтобы!
Ненила яростно плюнула ему в лицо. Дикольчей, нагнув голову и сжав кулаки, кинулся на бабу. Ненила сгребла его в охапку, пыхтя и распространяя керосиновый дух, поволокла его к двери и выбросила с крылечка прямо на навоз, в хлев.
Спавший в яслях рыжий кобелек Тузик прыгнул к Дикольчею и, спросонок обознавшись, свирепо залаял на него, как на чужого. Дикольчей, приподнимаясь, грязно обругался.
«Ба, хозяин», — удивился Тузик, и, чтоб незазорно было, он не сразу, а с собачьим хитреньким подходцем перевел свой свирепый лай на игривое взлаивание, поджал уши, виновато закрутил хвостом и весь оскалился в улыбку: «Ах, очень даже извиняюсь».
Ненила что-то кричала с крылечка. Дикольчей приподнялся и покрутил усы, соображая, как вести себя. Тузик вильнул глазами от хозяйки к Дикольчею и сообразил: «игра».
— Пьяница паршивая! — гремела Ненила. — Я те!..
Тут Дикольчей почувствовал, что действительно он— пьян, что страшную понес от жены обиду, и он решил сыграть в притворство: застонал, повалился на солому и жалобно завыл:
— Убила, окаянная, убила… Все печенки, селезенки… Ой, смерть моя.
Ненила плюнула и скрылась в избу, с треском захлопнув дверь. Дикольчей смолк и лежал в навозе недвижимо— может быть, заснул, а может, умер. Тузик обнюхал его со всех сторон и, потеряв всякое уважение к хозяину, поднял над пьяной человечьей головой озорную свою собачью лапу.
— Цыц!! — вскочил Дикольчей. В нем вмиг вскозырилась яростная злоба на жену. Он вбежал на крылечко, дернул запертую дверь, забарабанил в доски кулаками и ногами:
— Открой!
Но дверь молчала. Он схватил оглоблю, выпорхнул на улицу и уж замахнулся, чтоб высадить все рамы, но взлетевшая оглобля вдруг сама собой тихо опустилась: ведь изба эта не его теперь, а Ксенофонта Ногова. И зеленая свирепость в его черных вытаращенных глазах сменилась туманным светом хитрой радости.
Ему до смерти захотелось покурить. Но кисет — в избе. Он взглянул на закрытые окна. Окна, как и дверь, молчали.
— Дядя Трофим! — окликнул он проходившего крестьянина. — Дай, ради бога, покурить. Слюной изошел.
— Когда выбираться-то будешь? — спросил Трофим.
— Скоро, — ответил Колченогов. — Баба по глупости упирается. Вздуть пришлось. Мало-мало поучил.
— Это невредно, — сказал Трофим и пошагал дальше. — Пошто в навозе-то ты вывалялся?
— Вчерась, пьяный, — глубоко вздохнув, ответил Дикольчей.
— А оглобля?
— Понимаешь, с пьяных глаз приснилось, быдто волки, — врал Дикольчей.
— Так, так, — сказал Трофим. — Ну и счастье привалило тебе, черту… За что, про что? Оказия!
Дикольчей сел на бревна против своей избы, попыхивал цигаркой и сердито косился на окна: слышно было, как озверевшая Ненила грузно ходила по избе и крикливо говорила сама с собой. Вот чертова баба! Как бы она не изгадила счастливую сделку с Ксенофонтом…
Крутя хвостом, голову вниз, весь обвиноватившись, плелся к хозяину рыжий Тузик.
— Ладно, ладно, не юли… Сволочь, — ласково сказал хозяин и огладил собаку. — Собирайся… На хутор сейчас, в хорошие места. Понял? — и тут же сообразил, что они поменялись с Ноговым всем, даже собаками и кошками. — Пошел! — заорал Дикольчей и двинул своего-чужого Тузика ногой.
Из проулка показался Ксенофонт с Варварой. Баба, кругленькая и шустрая, шла грудью вперед. Глаза ее красны, мокры. Они несла завязанные в чистую салфетку иконы. В руках Ксенофонта качалась беленькая лампадка с бантиком.
— Вот мы пришли, — сухо сказал Ксенофонт.
Варвара взглянула на вознесенную к небу вывеску «Дикольчей» и, скривив рот, всхлипнула.
— Мы тоже приготовились, — проговорил Колченогов, глядя в сторону. — И вот в чем суть, как же насчет собак с кошками? Ненила желает кошку взять с собой. А мне бы Тузика.
— Варвара, как? — спросил Ксенофонт жену.
Варвара засморкалась, круто отвертываясь от мужа.
— Насчет кошек — можно, а собак — нельзя, — сказал Ксенофонт. — Кроме того, Варвара сготовила вам щей, каши. В печке стоит. По-хорошему. Ну, веди в избу.
Семейства Ноговых и Колченоговых лишь к вечеру водворились на новые места.
Рыжий Тузик сидел на веревке в своем немилом теперь хлеву и жалобно выл, оплакивая покинувших его хозяев. Лохматая белая сучка Дунька тоже сидела на веревке в прежнем своем кутухе, но люди возле нее незнакомые; Дунька сиротливо завыла, а глядя на собаку, завыла и новая хозяйка ее — Ненила Колченогова.
Ненила вся избитая, руки в синяках и ссадинах, губы вспухли: бабу довелось брать с бою. Дикольчей и Ксенофонт не могли ее уговорить. На визгливый крик Ненилы сбежалось полсела. Вооруженная топором, она всех вызывала на кровавый бой. Женщины кричали ей:
— Дура! Да ты радоваться должна!
Когда явились власти — председатель сельсовета с милицейским — Ненила подчинилась.
Итак, все стало в видимом порядке. Теперь, любопытствующий зритель, больше незачем вам оставаться здесь: события пойдут вереницей унылых дней — буднично и не спеша. Дальнейший же ход дела и развязку вы сможете впоследствии прочесть: они будут изложены добросовестно и точно.
Приступая к описанию последующих эпизодов, автор тотчас же должен с негодованием рассеять гнусные бабьи сплетни, омрачившие столь знаменательное происшествие. Бабы ближайших деревень нагло уверяли, что они якобы видели воочию, как вся четверка — Дикольчей с Ненилой и Варвара с Ксенофонтом — в предрассветный час чуть зорька — вышли, каждый из своего дома, нагишом, в чём мать родила, согласно подписанной бумаге, и что нагота их была, мол, прикрыта полотенцами, как у Адама — Евы на иконе. И еще мололи злоязычницы, что при встрече на лугах, возле кустов черемухи, обе пары стали поочередно целоваться, плакать, выпивать и будто бы домой пришли в полной наготе, без всяких полотенец (а Ксенофонт даже веник потерял). Ложь! — негодующе воскликнем мы: все произошло чинно, по-хорошему, именно так, как излагалось выше.
И только на другой день возникли маленькие неприятности. Надо заметить тут, что новоселья, конечно, не справлялись, но та и другая пара, и здесь и там в день перехода сильно угостились на новых своих местах: были клятвы, радость, гнев и слезы А утром…
Ненила открыла сундук Варвары и вытащила вышитую крестиком женскую рубаху. Рубаха, очень хорошая и крепкая, едва прикрывала ее живот. Ненила с пеной у рта хлестнула Дикольчея рубахой по усам и заорала:
— Бери, черт кованый, Варькину сряду, ходи бабой, а я мужиком сделаюсь! — и она распахнула укладку Ксенофонта.
Дикольчей растерянно поднял Варварину рубаху, распялил ее, понюхал и сказал:
— Ах, какая аккуратненькая бабочка у Ксенофонта…
А Ксенофонт, там, у нового себя, встряхивал Дикольчеевы домотканые коротышки-портки и хохотал:
— Варвара! Как же быть? Может, тебе сгодятся? Али Тузика обрядить в них!
Варвара сидела у низенького, покрытого радужной древней плесенью оконца и посматривала скорбными глазами в ту сторону, где был оставленный родимый хутор.
Ксенофонт был мрачен духом. Он чувствовал вину перед самим собой и пред Варварой и поэтому старался казаться веселым и беспечным. Он надел за перегородкой Ненилин красный сарафан, запхал в грудь для пышности Дикольчеевы портки, а голову повязал синей шалью. В таком наряде, похожий на деревенского юродивого, он выплыл из-за перегородки и, поводя красной бородой, пустился в нескладный пляс.
Шла дивче-дивченка за водой… Па ули-и-це д’мостовой-о-йНо Варваре не до смеха. Она вскочила, лицо ее стало черным:
— Брось, сатана! Оставь! — и скрылась за пологом.
Ксенофонт услышал ее стон и тоскливо сел на лавку.
Он сдернул Ненилину шаль и вытер ею вспотевшее лицо.
— Что же делать-то Господи Христе?.. Варвара, ведь ты пойми… Судьба, понимаешь, судьба такая наша… Доведется пострадать. Ничего не поделаешь, закон, бумага. Эх, Варварушка!..
И одинаковое у них родилось желание: черт с ним — рабочий день! Пусть стоят голодными животы в хлеве— а им в пору завалиться на кровать, закрыть на все глаза и накрепко уснуть. Пусть все к дьяволу провалится, пусть все ухнет в тяжкий сон: может, радостное пробуждение застанет их в прежней обстановке. Эх, если б это сон… Вот бы!
И по-мертвому уснули оба. Варвара во сне всхлипывала как дитя. Ксенофонт отплевывался: в его рот норовил скакнуть чертенок с рожками, чертенок выпискивал: «Ты не бойся, Окся, я очень веселый, мне бы только душу твою чертячьим рогом ковырнуть».
Разбудил их какой-то похожий на скопца незнакомый бритый мужчина, высокий и широкозадый.
— Ишь, дрыхнут, — сказал мужчина басом. — А я за кошкой за своей. Машка, Машка, Машка!..
— Ненила, ты? — через силу засмеялся Ксенофонт.
— Я, Варварина сбруя не по росту мне, — Ненила тоже засмеялась, оглядывая бородатого лысого мужика в бабьем сарафане.
Ксенофонт вздохнул: сон кончился, все та же дьявольская явь и обклеенная марками бумага на столе. Тьфу, ты, наважденье!..
Ненила унесла Машку. Следом за ней пришагал на свой бывший хутор за котом Васькой и Ксенофонт. Сучка Дунька очень сбрадовалась Ксенофонту, до хрипоты, до одурения рвалась с веревки приласкаться.
Ксенофонт сказал Дикольчею:
— По-моему, надо одеждой разделиться. Я свою возьму, ты свою забирай.
Дикольчей сообразил, что его тулуп рваный, достался же ему тулуп Ксенофонта новый, мягкий, хорошо черненный, а ежели в длину велик, обрезать можно. В глазах Дикольчея проблеснула человеческая жадность, и он ответил:
— Нет, Ксенофонт. Меняться нельзя. В бумаге все в точности объяснено, сказано и про одежду: одежда остается на местах.
Вступилась Ненила.
— Наплевать на бумагу-то на твою! — крикнула она на мужа. — Совесть-то где у тебя? В бумаге или в сердце? Эх, ты!.. Жаднюга…
Ксенофонт, с ненавистью покосившись на Дикольчея, стал ловить кота Ваську. Кот никаких хозяев не желал знать, он сам себе хозяин, черта с два, чтоб он расстался с печкой. Поменялись? Ну, и наплевать, а ему, коту Ваське, и здесь отлично. Ксенофонт поймал-таки кота за шиворот, кот мгновенно привел себя в боевую готовность, выпустил все двадцать когтей на растопыренных, упругих лапах, свирепо оскалил пасть и, поджав уши, плюнул Ксенофонту в бороду.
Ксенофонту это понравилось, он сказал:
— А ведь Васька-то умней меня… Ей-богу, право.
Кота довелось запеленать, как малого ребенка. Ксенофонт понес его домой. Всю дорогу кот крутил хвостом, обозленными желтыми глазами смотрел в глаза Ксенофонту и шипел змеей.
В самом селе Ксенофонта нагнала Ненила. Она сидела на телеге и нахлестывала новую чужую-свою лошадь.
— Садись, — сказала она. — Все добро вам везу. Одежу. А от вас свое возьму… Эх, горе, горе. Наделали делов.
Ксенофонт залез на телегу, на которой стояли два тяжелых сундука и узел, и спросил:
— А как же Денис? В согласьи?
— Эвот Денису! — крикнула Ненила и покачала здоровенным кулаком.
Ксенофонт улыбнулся и сказал вздохнув:
— Боевая ты баба. Настоящая.
И снова все в порядке: всяк при своей одежде стал, и кошки вновь обрели своих хозяев.
Однако при первой же возможности кошки бросились домой обратно. Беглые Машка с Васькой неожиданно столкнулись ночью на дороге, сначала из приличия покричали друг на дружку, потом снюхались, шмыгнули в картофельные гряды, где и хороводились трое суток без помехи: постороннего кошачьего народу ни души. Потом разошлись по своим старым печкам. По месту нового жительства их водворяли трижды, наконец людям надоело, отступились люди. Несколько же месяцев спустя случилось так, что через любовь среди цветущих гряд картофеля черная кошка притащила Ксенофонту четверых рыжих слепых котят. Такое вероломство со стороны своего бывшего рыжего кота Ксенофонту не понравилось: он котят утопил в ведре, а кошку Машку выдрал.
Нечто подобное повторилось и с собаками. Вопреки кошачьим нравам, собаки беззаветно любили не стены, а людей. Одержимые этим чувством, они умудрились перегрызть веревки и бежали к своим друзьям, к хозяевам. Во время бегства случайная встреча у тех же самых грядок на дороге и вновь горькое водворение по месту жительства. В результате же, конечно, грех: бывшая Ксенофонтова, ныне Дикольчеева белая сучонка Дунька принесла пять рыжих, в Тузика, щенят. Дикольчей щенят тоже утопил, а сучку Дуньку выдрал.
Это ничтожное с виду обстоятельство со щенками и котятами ясно обнаружило, что между двумя людскими семьями взаимного уважения не существует. И вывод из сего такой: обладай животные «высокими» человеческими качествами, о коварно прижитых котятах и щенках не могло бы и помину быть: кот Васька вполне сознательно ненавидел бы кошку Машку и Тузик — сучку Дуньку точь-в-точь так же, как сознательно ненавидели друг дружку побежденные обоюдной злобой и наши две семьи. Но кошки и собаки — звери, и корыстная людская злоба им чужда.
И никто: ни Варвара с Ненилой, ни Денис Иваныч Колченогов не задумались над звериным поведением собак и кошек. Крепко призадумался над этим лишь Ногов Ксенофонт, и то много времени спустя. Но об этом — после.
III
Была ранняя весна. Ксенофонт со злобным рвеньем принялся работать над запущенной землею Дикольчея. С зари и до темна он очищал пашню от огромных валунов и булыг, засорявших доставшиеся ему полосы. Он не терял времени даже на обед: Варвара приносила ему хлеб, кашу и картошку в поле. Вскоре по концам полос воздвиглись порядочные горки из булыг и многопудовых камней. Они высились, как живые памятники, во славу тяжкого Ксенофонтова труда и в порицание позорной лени Дикольчея.
Очистив землю, Ксенофонту легче было поменяться полосами с двумя соседями, приятелями его. Эта выгодная мена дала Ксенофонту возможность сгрудить вместе значительную часть своей пахотной земли. Вдвоем с Варварой они обнесли землю городьбой. Засеянное еще Дикольчеем озимое поле с редкими плешивыми всходами Ксенофонт вновь перепахал и, устроив помощь, обильно удобрил пахоту навозом с ближней казенной молочной фермы. Крестьяне обычно удобряли землю лишь с своих хлевов и дивились сметливости Ксенофонта.
— Нам с тобой, Варвара, хлеба мало надо. Хлеб будем покупать, — сказал Ксенофонт жене и, разбив пашню на участки, засадил ее турнепсом, картошкой и капустой.
Песчаные же клины засеял льном, а по ржи — высокосортным клевером. За семенами ездил в агропункт, где подружился с агрономом Петром Иванычем Кондратьевым, пожилым, опытным, идейным человеком.
Агроном наметанным глазом сразу оценил Ксенофонта и пригласил его к себе. За чаем Ксенофонт открыл Петру Иванычу про свою сделку с Дикольчеем.
— Ах, так это вы! — улыбнулся Петр Иваныч. — Слышал, слышал… Ну, что же. Это очень интересно. Только — знаете что? Вам придется напрячь всю свою энергию, и тогда может восторжествовать большущая идея. Понимаете? Большущая идея…
— Мне идея ни к чему, не моего ума-разума, — ответил Ксенофонт, потея. — А вот желательно бы мне пасеку. Я б ему, дьяволу, нос-то утер. Да и утру! — крикнул Ксенофонт и, повернувшись к окошку, погрозился в пространство кулаком.
— Что ж, вы его врагом своим считаете?
— Так неужто другом?
— Тогда за кой же хрен менялись? Я думал полюбовно, ради опыта.
— Хы, скажешь тоже… Полюбовно… У меня хозяйство — самое крепкое, раскрепкое. А у него, как у журавля, на кочке. Тьфу!.. А просто по пьяной лавочке… Короче говоря, анбицию мою задел, сволочь. И уж так пакостно вышло, просто глупее глупого…
Агроном прошелся по комнате, все стены которой увешаны приколотыми на бумажках пучками трав и злаков. Возле стен стояли образцы ульев. В углу — на большом столе — весы, банки, спиртовка, пробирки, колбочки. В наполненных спиртом банках помещались препарированные лягушки, жабы, змеи, глистообразные черви. Ксенофонт глянул туда, его слегка затошнило, он отвернулся и перевел глаза на хозяина. Сапоги Петра Иваныча — старые, стоптанные и скрипят. Сам Петр Иваныч тоже в годках почтенных, но прямой и бодрый, с седеющей бородой и взлохмаченными волосами.
— Шибко тяжело, — вздохнув, сказал Ксенофонт, — уж так тяжело, что страсть. Работа самая немилая. Баба плачет. Бьешься, бьешься, да и подумаешь: а на кой прах я силу-то свою убиваю? Вдруг договор наш лопнет, да все по-старому обернется, и выйдет, что я на чужого человека спину гнул. Вот чего боюсь. Да еще Дикольчей начнет добро мое проматывать. И останусь я в круглых дураках.
Агроном сел на подоконник, и его волосы под светом солнца заблестели серебром. Широкий, шишковатый лоб, густые, сросшиеся брови, темные глаза из-под очков и все лицо агронома внушали Ксенофонту полное доверие. Ксенофонт даже подумал: «Чисто пророк какой. Видать, ума палата», и ждал от агронома правдивых, веских слов.
— Говоришь, обидно на чужого человека спину гнуть? — спросил агроном, покачиваясь и дымя трубкой.
— Это самое, — ответил Ксенофонт, и стул под ним заскрипел. — Чужой так чужой и есть. Да еще и дрянь вдобавок. Лодырь.
— А ты не работай на чужого…
— Чудак-человек! А бумага-то?! — воскликнул Ксенофонт и немного усумнился в мудрости пророка.
Агроном помолчал, улыбнулся и тихо сказал:
— А так просто сделать. И работать ты будешь с любовью, с подъемом, с верой в труд. А главное — душе найдешь покой…
— Да как, как? Разжуй ты мне, — Ксенофонт поднялся и подошел вплотную к агроному.
— Секрет простой, — сказал агроном, снял очки и в упор уставился в взволнованное лицо крестьянина. — Разгадка этого секрета вот в чем: не надо делить людей на чужих и на своих. Только и всего.
— Как так? — И потный лоб Ксенофонта избороздился морщинами напряженной мысли.
— Очень просто. Нет своих и нет чужих, все — братья. Есть от природы сильные, есть от природы слабые. И нет в том греха, ежели сильный даст подмогу слабому. Ты скажешь — это подвиг? Пусть так. Но придет время, когда помощь слабому обратится в радость.
— Мудрено. Ой, шибко мудрено говоришь ты, товарищ Петр Иваныч. Понять-то я тебя понял, что к чему.. Ну, только мысли-то твои едва ли полезут в сердце. Нет, я на него, на дьявола, как на врага смотрю.
Агроном засмеялся, встал и потрепал Ксенофонта по плечу:
— А ты сделай так, чтоб полезли.
— Дозвольте вас, за вашу ласковость, веселой водичкой угостить, — и Ксенофонт вытащил из кармана бутылку самогонки.
Выпили и закусили. Агроном сказал:
— А что касается пасеки, я тебе десять ульев могу продать с выплатой осенью.
— Много благодарны, — радостно улыбнулся Ксенофонт. — Да еще я рассчитываю у пасечника Арбузова купить с десяточек… Он приятель мой.
Расставаясь, агроном обещал приехать к Ксенофонту и на месте разъяснить ему хозяйственные вопросы. И еще сказал:
— Вот ты, дорогой-то, задай себе вопросик, а для кого, мол, работает в этакой глуши агроном? Для себя или для чужих? А я тебе, если хочешь, подскажу. Получаю я здесь гроши, почти все деньги отсылаю матери да сестре больной, ничего не имею, даже одеялишка нет, полушубком покрываюсь. А мне в городе, в центре, выгодное место предлагали. Отказался. Зачем мне? Вырос с народом и умру с народом. Цель моей жизни — помогать чужим, и в этом — радость, потому что для меня нет чужих.
— Премного благодарны, — не зная, что ответить, конфузливо оказал Ксенофонт и низко поклонился агроному. — До увиданьица. Милости просим к нам…
Подпрыгнул, сел в телегу, телега крякнула, и конь понес. Всю дорогу думал про агронома, про себя, про Дикольчея, бывшего друга своего, вспомнил про кошку Машку с Васькой, про котят, вспомнил про Дуньку с Тузиком, про щенят — православнее людей живут — и, подъезжая к своему селу, Длинным Поленьям, облегченно, заливисто запел:
Все-е лю-уди живу-ут, Ка-ак цветы в поле цветут…А дома, захлебываясь, говорил Варваре:
— Ох, и добрецкого человека повстречал, Петра Иваныча… Вот человек!.. Вот личность!.. И знаешь что? Всмятку расшибусь, а подыму на ноги Дикольчеево хозяйство…
— Пожалуй, ломи! — заблестела глазами Варвара. — Надсажайся зря-то…
— То есть, как это зря?
— Да ведь… — завертела Варвара головой и, подбоченившись, подступила к мужу. — Чтобы я да отреклась от своего добра? — задрала она голову и глядела в волосатые, шумно дышавшие ноздри Ксенофонта: — Я до Москвы дойду, а бумагу вашу паршивую в огонь!.. Ты и не думай, что здесь жить будем… Москва опять на хутор нам присудит.
— Ну, присудит… Что из того? — сел на лавку Ксенофонт. — Я для Дикольчея буду стараться. И за мое старанье бог всегда добром отплатит, — сказал он кротко.
— Да ведь он бесстыжий! Ведь он обманул тебя.
— Что из того? А я ему за обман добром, — нажал на голос Ксенофонт.
— Дурак ты! — крикнула Варвара.
— Молчи! — ударил Ксенофонт в столешницу. — Вот буду работать для чужого! Потому что нет чужих на свете! Поняла?
Варвара, злобно звякнув крышкой, стала ставить самовар. Брюзжала:
— Эх ты, дурак большой… А еще плешастый… Враки какие, что плешастые умные живут… Самые дурни, остолопы… Тьфу!
Ксенофонт смолчал, подумав: «А ведь баба-то, пожалуй, и права».
Варвара первый раз в жизни услыхала, что для чужих можно работать так же, как и для себя. Думы долго не давали ей заснуть. Выходило как будто бы и можно, но кто-то нашептывал ей в уши: «Нет, нельзя».
Остывшему Ксенофонту тоже показалось, что он поет не свою, а кем-то насвистанную песню. Нет, пусть все будут братья, но Дикольчей ему не брат. Хорошо сказывал агроном Петр Иваныч, вот только у него правда-то небесная, у Ксенофонта же своя, земная. И пусть будет так, как благословит судьба.
Время шло, как сон.
Со дня мены много утекло воды — больше года миновало, а бабы совершенно не желали подчиниться пьяной воле своих мужей. Бабы все время горевали.
Варвара стыдила Ксенофонта, что по его милости приходится жить в покривившейся низенькой хатенке, а их просторная, обклеенная новыми обоями изба досталась постылой Нениле с Дикольчеем. По какому праву? Да ведь Варвара вместе с Ксенофонтом вот этими руками ворочала, таскала бревна на постройку, сколько здоровья она ухлопала, сколько зимних недель прожила с коровами в хлеву, пока строилась усадьба! И все пошло прахом, псу под хвост.
Утешая Варвару, Ксенофонт обещал ей, — вот ужо придет зима, — перебрать избу, подрубить четыре новых венца, изба тогда будет высокая, и он обязательно обклеит стены новыми обоями, да с такими узорными цветами, с такими птицами, — что ахнешь.
Однако на обещания Варвара не сдавалась. Она доказывала мужу, как могла, всю несуразность его поступка — скот, земля, хозяйство — да разве такие они получили в обмен? — и требовала немедленно же уничтожить эту глупую бумагу.
Но как же уничтожить, когда прошло столько времени — уж вторая рожь колоситься начала.
— Терпи, Варварушка… Как ни то… Авось, кривая вывезет.
Варвару тянуло на простор, в свой хутор: там земля вся в куче, весь участок видно из окна, там перед домом палисад с сиренью и на угревном солнцепеке цветущий маком огород.
Ненилу же тянуло село, многолюдье, мир. Горе, радость, плясы, свадьбы, смерть — все вместе, плечо к плечу, на миру, на людях. И так приятно, так мило сердцу зайти вечерком к тетке Дарье, к сватье Лукерье, к бабке Катерине, перемолвиться словцом-другим или непонятное сновиденье рассказать. А живая газета у колодца — десяток баб и девок с жестяными ведрами на коромыслах — новости, сплетни, пересуды: а слышали, а слышали, а слышали, девки-бабы?.. И звонкий смех, и крик, и ругань. А хороводы весенней порой с зари до зари, а бабьи посиделки зимним вечером — куделю прясть, дедовы побасни слушать: хорошо одноногий дедка Нил на деревяшке небылицы в лицах представлял, как пустит-пустит, хохотом изба гремит, а то гуляк-парней черт принесет, начнут с пьяных глаз бабью часть заместо девок тискать: визг по избе и кутерьма.
А теперь одна, одна, одна!.. И постылый чужой хутор, как скворешник в чистом поле на шесте. Да еще перенесенная Денисом злосчастная вывеска — две бутылки водки мужикам стравил, столбы врыли, к небу вознесли: «Дикольче». Эх, жизнь! Паскудная и горькая.
— Вот ужо красный флаг повешу на вывеску, — сказал Денис Иванович. — Пускай все знают, кто я таков. Я — левый!
— Тебя бы надо за усищи за твои на вывеску повесить! — злобно крикнула Ненила. — И не стыдно твоей морде-то?
Ненила и Варвара день-деньской в работе, некогда нюни распускать, давай-давай! А в час досуга — сядут обе под окно, всяк у себя, и тихомолком плачут.
И через тоску и одинаковое горе стали бабы, без всякого уговора, опять в одно сердце жить, как раньше. И не знали бабы, по-прежнему злобствуя между собою, что они стали общим горем в одно сердце жить. Но кто-то знал. Может быть, знал об этом домовой, может быть — высь подзвездная, может — бегучий воздух, что, разделяя, смыкал в одно желанье, в одну тоску два обворованных бабьих сердца.
И вот потянулось сердце к сердцу. Встретились бабы на полдороге. Вечерний сумрак был.
— Я к тебе.
— А я к тебе.
Ненила повела Варвару на хутор. Дикольчея нету, Варвара обрадовалась. Больше года не была она на своем родном хуторе, и ноги несли ее над землей.
Пили чай. Земляника еще не прошла в лесу, пили с земляникой.
— Я шибко по хуторе тоскую… Сплю и вижу…
— Я — по селу.
Варвара взяла в руки белую чашку с аленьким цветочком — чашку эту подарил ей Ксенофонт — сердце Варвары ущемилось, чужая теперь эта чашка — и покривились дрогнувшие губы.
— Пей, чего ж ты?
— Сейчас, сейчас… Я только… Как его…
К лампе-молнии подвязан голубок из дранок. Растопырив крылья, он висел на ниточке, он по-любовному поглядывал бисерным глазочком на Варвару, признал се и самовольно повернулся клювом к ней, будто по-живому оказать хотел: «Здравствуй, матушка».
— Глянь! Голубок-то повернулся, — передохнула Варвара.
— Это ветерком его… Из окошка…
«Кошка» прозвучало в душе Варвары. Она спросила:
— А кошка-то, блудит, али ничего?
— Нет, ничего…
— Она у меня хорошая была… Ты ей давай молочка-то…
На стене приклеенный портретик: с душистого мыла улыбчивая девушка с веткой незабудки. «Здравствуй, матушка», — как будто говорил Варваре портретик со стены. Варвара отвела глаза.
— Чего-то твои куры плохо несутся, — сказала Ненила.
— Твои тоже, — ответила Варвара.
— Коровы молока сбавляют.
— Твои тоже. У лошади лопатка сохнет. Ксенофонт сказывал…
— А у нас поросеночек ваш ноженьку сломал. Зарезали, — сказала печально Ненила и добавила: — По ночам в горницах полы трещат, а в хлеву свистун объявился. Как свистнет, свистнет… Я так полагаю, ваш домовой не любит нас, из дома выживает.
— Должно так, — ответила Варвара. — А ваш домовой нас не признает, по-злому все норовит, в натыр…
— Перевести надо домовых-то по хозяевам, — сказала Ненила.
— Конешно, конешно… А то загинем… Поди, это можно. Поди, в той проклятущей бумаге не прописано, чтобы нельзя…
— А подь она, ихняя чертова бумага, к праху!
Помолчали. Варвара собиралась заплакать, но крепилась.
Ненила тоже. Вздохнув, спросила Ненила:
— Ты злобишься, Варвара, на меня?
Варвара посморкалась в фартук, заглянула в окно, улыбнулась голубку под лампой, сказала:
— Нет. Теперя нет. А попервости, как пошла в обмен, страсть как сердце кипело на тебя. А ты?
— Я нет. Мы с тобой ни при чем в этом деле. Мужнишки виноваты, вот кто… Я и Ксенофонта твоего перестала уважать, а своего Дикольчеишку и вовся… Тьфу!..
— Я тоже… Отвернулось мое сердце от Ксенофонта. Ну, не могу и не могу… А твой Денис… Эх, чего там говорить. Бесстыжий… Позарился на чужое на добро…
— Да, — подтвердила Ненила. — Конешно, тебе большая неприятность: с этакого добра да в избушку нашу перейти…
Варвара ничего не ответила. Опустив голову, она бесцельно гоняла пальцем ягодку по столу. Ненила, вздохнув, замигала, и тупой подбородок ее дрогнул. Душа Ненилы требовала какого-то последнего, светлого порыва. Ненила поднялась и, всхлипнув, большущая и грузная, повалилась в ноги маленькой, пришибленной Варваре:
— Прости ты меня, прости ради господа, Варварушка! И за мужнишку моего треклятого, прости.
И женщинам-сразу стало легче. Улыбки, уверенья, поцелуи, слезы.
Не бегучий ветер, не подзвездная высь, а пламень человеческой любви, явный и освобождающий, соединил по-прежнему, кровь в кровь, два бабьих сердца. Обе сидели, обнявшись, молча, как бы прислушиваясь, что совершалось у них в душе. В душе был мир. А за окном желтым заревом заря горела, голосистый скворец допевал свою песнь, и тоскливо мычал бычок.
— Давай выпьем, — сказала Ненила. — У меня самогон хороший есть.
— Давай… А как Денис придет?
— Дениску в шею, в свинарник, — грубо проговорила Ненила и засуетилась. От нее пахло луком. — Наверно, в кабаке торчит… Где боле-то? Завтра — праздник.
Ненила и Варвара мрачно развеселились. Самогонка круто заходила в жилах. Ненила скосоротилась и запела басом:
Ты, болезная лихорадушка, Затрепли-ка ты моего мужа.И обе враз:
Моего мужа, мужа пьяного, Мужа пьяного, распостылого…Варвара подошла к кровати, отдернула полог:
— Вот какие вам пуховики достались… А мы соломой набиваем… — и села на кровать.
«Здравствуй, матушка», — любовно-ласково проскрипела деревянная кровать. «Ляг отдохни, матушка».
— Все наше было, а теперича все ваше, — укорчиво сказала гостья.
И чтоб заглушить эти слова, хозяйка еще крикливей выводила, тараща белесые глаза на стаканчик:
Ой, лели, лели, мужа пьяного… Ой, лели, лели, да постылого…И как стала Ненила ложиться о бок с Варварой, кровать сердито скорготнула на Ненилу: «А ты куда?»
— Давай, девка, действовать, — сказала Ненила и обняла гостью. — Мне здесь не жить, тебе там не жить.. Пойдем к умным людям. Присоветуют.
— Помог бы бог.
— К кабатчику сходим. Он городской, научит. Отпорную бумагу напишет… До Москвы дойдем, а правду сыщем…
Поздний вечер был, когда подвыпившие бабы, в обнимку, с песнями, выходили из ворот. Ненила провожала гостью.
— Стой! — всхлипнув, вырвалась Варвара и, пошатываясь, вбежала во двор. Она пала на колени перед лохматой сучкой Дунькой и давай целовать ее в морду, в шею, в хвост.
— Дунька, Дунька!.. Андел поднебесный… Овдотьюшка… Собачинька!..
Ошалела от радости Дунька, погромыхивая цепью, с визгливым захлебывающимся криком исцеловала, излизала всю Варвару. И когда Ненила потащила гостью прочь, опять за ворота, Дунька в искренном плаче подняла оглушающий слезливый вой.
В голос завыла и Варвара, опять вырвалась, бросилась в хлев:
— Курочки!.. Цыпляточки!.. Мои, мои!.. — схватила с нашести спящего петуха. Курятник поднял заполошный гвалт. Петух, оставив перья в любвеобильных руках Варвары, пустился в лет: «куда-куда-куда!» Варвара упала в навоз и закричала:
— Режьте меня! Убивайте!.. Никуда не пойду отсель.
Дунька, перхая и кашляя, крутилась на цепи, верноподданно рвалась к Варваре.
Неизвестно как пьяная Варвара очутилась в горнице, на пуховиках и горестно заснула.
Ненила же, хлопнув еще стаканчик самогону, побежала в село, размахивая цветистой шалью и крича:
— К черту бумагу!.. На село хочу, к себе!.. Плясы-караводы!.. Тьфу, нечистая сила, тьфу!
Какие-то человеки попадались встречу, кто-то останавливал ее и хохотал, как сатана. Возле колодца черный козел Васька, ненавистник баб, с наскоку долбанул ее рогами в зад. Ненила, упав, кувырнулась через голову и — господи, господи — как раз очутилась возле бывшей своей избы. Встала, кой-как осенила себя святым крестом. На двери замок. Опрокинув толстыми боками два горшка с геранью, Ненила едва залезла в избу чрез окно, пьяно помоталась по избе, поплакала и, плохо соображая, где она, что с ней, тяжко повалилась на кровать, за полог.
По селу вихлялись и ползали подвыпившие мужики. Они еще с вечера стали пропивать общественного быка Лешку. Быка они запродали в соседнюю волость, а себе обхлопотали бесплатно в совхозе племенного бычишку помоложе. Кабатчику дела полон рот. Пропив барыши, пьяницы пропивали кровные: кто— в долг, под осенний хлеб, кто — под хомут, под сапоги. Дикольчей пропил пуд будущего льна — труд своей жены. Ксенофонт опять вкатил камнище в кабатчикову спальню и угощал за счет богатырской своей силы.
Но всему бывает конец. Гулянка тоже подошла к концу.
Пьяные Ксенофонт и Дикольчей не дрались, не ругались. Они гуляли каждый по себе.
Дикольчей приполз домой, хоть выжми. Раздеваясь, он расшвырял одежу по всей хате и с трудом залез на пуховики, под полог. Ксенофонт долго мотался по избе, искал спички, не мог найти, напился в темноте квасу, поддел ногой валявшуюся на полу герань, почесал бороду, бока, рыгнул и, с закрытыми уснувшими глазами, повалился на скрипучую кровать, под полог тоже.
Хмель, покровительный союзник всяких преступлений, густо замутил темное сознание мужиков. Впрочем, Дикольчей, обняв грудастую Варвару, на мгновенье усумнился, но сразу же решил, сквозь шум и звон в ушах, что это его Ненила так похорошела, а может, и наважденье нечистой силы от вина.
Ксенофонт точно так же пришел в большое затруднение; его маленькая круглая Варвара, неизвестно по какой причине, обернулась в саженного роста бабищу, и все устройство в этой бабе по-другому. Что за чудо за такое, а? Ксенофонт даже испугался:
— Варвара, ты?
— Я, — продышала по-тонкому Ненила и замолилась в мыслях: «Господи, прости… Чегой-то Дикольчей-то мой какой большущий… Ой!»
В сущности, Ненила почти что догадалась, что это совсем чужой мужик, но, будучи богобоязненной и строгой, она тотчас же решила не доводить догадку до конца. И рада бы догадаться, да нельзя: неотмолимый грех… Ох, господи…
И плыли над селом большие и маленькие сны. Кроме снов, проплывали вверху звезды, синий свод плавно поворачивался над землей, небесный механизм работал точно и без скрипа.
Но вот странно, со смятущейся пугливостью вдруг проскрипела деревянная кровать: Дикольчей вскочил и полуумно огляделся. Полог его, кровать тоже его, даже сапоги, даже усы его, а супруга не его!
Пискучая оса билась в стекло, рвалась на волю: за окошками рассвет дышал, и в голове Дикольчея быстро просветлялось. Он перекрестился и, тихонечко нагнувшись, нежно поцеловал спящую Варвару в губы. Варвара облизнулась, сплюнула и открыла глаза. Мгновение карие глаза ее были пустыми и нездешними, они в упор, не мигая, напряженно уставились в чужое, дико-незнакомое лицо. Вдруг — брови сдвинулись, глаза внезапно засверкали силой жизни, и звонкая, с размаху, оплеуха влипла в щеку мужика.
— Вставай, — прошипел Дикольчей, выкатившись мячиком на средину избы. — Ошибка тут… Ты как это?.. А Ненила где?
Варвара, не глядя на него и молча оправляя на ходу волосы и платье, побежала вон.
Выйдя, Варвара осмотрелась. Рассвет крепчал. Дорога на село в обратный путь пуста. В березах крякнул, поздоровался с утром грач, первая стайка стрижей со свистом резала дремотный воздух.
Дунька, уткнув нос в хвост, крепко пред рассветом дрыхла и не могла учуять, как бывшая ее хозяйка колыхавшимся видением кралась за ворота. В ее руках корзина. Варвара только тут заметила ее, только сейчас осмыслила, для чего подхватила с полки эту плетеную корзину, как шла с чужой кровати, через чужие сенцы. И, осмыслив, удивилась, удивившись, улыбнулась, заглянула на дно пустой корзины, перевела глаза на близкий лес, из лесу вдруг потянуло грибным духом. Варвара, вспыхнув вся, сказала сама себе:
— Спасибо, андел божий… Надоумил… По грибы пойду.
Варвара быстро направлялась к лесу. Тропинка через сенокосные луга будто в слезах, в росе. Над болотцами легкий туман стоял, оттуда слышалось, как отрывисто, хрипло заикались дергачи и стонала выпь, наводя на душу Варвары плакучую тоску. Все тело Варвары вздрагивало от озноба. Лишь правая ладонь в огне. Варвара не сразу догадалась, почему ее ладонь горит, но вот всплыла перед ее глазами усатая чья-то голова, да, конечно же, это Дикольчей, Денис, Дениска Колченогое, и Варвара робко, виновато улыбнулась: «Ловкую плюху получил»… И все в ее сердце смешалось в тайную загадку, все перепуталось — действительность и сон. В эту хмельную ночь снилось подгулявшей бабе, что красавец парень Мишка Суслов трижды запретно целовал ее. Эх, грехи, грехи… Но грешнице Варваре не так уж страшен грех, как тяжел ответ пред Ксенофонтом, мужем.
— Обману!.. Мол, по грибы до свету ушла… — на все поле отчаянно крикнула Варвара, сердце ее замерло и застучало пуще: — Обману.
А дьявол возьми да и шепни ей в ухо: «Уж обманула».
— Когда? — опять крикнула Варвара, и глаза ее стали большими: грех в глазах и спасенье. — Я от Мишки Суслова в кустышки убегла… А он…
«Ах, в кустышки? — захохотал дьявол. — А Дикольчей?».
Варвара сплюнула и, зашептав исусову молитву, надбавила шагу. Ширь небес светлела, раздвигаясь. Варвара оглянулась на восток, и освежающая радость охватила ее всю: вставало солнце. А над седыми от росы полями плыл седой туман. И сильней запахло грибами — Варвара вступила в лес.
— Здравствуй, родимый лес, кормилец! — поздоровалась Варвара.
«Здравствуй, доченька», — прошумел приветно лес.
Два гриба, три гриба, четыре, пять — быстро корзина стала наполняться. Варвара ковырнула ногой чуть вздувшийся бугорок из хвой — подорешина сидит, сорвала и видит зорко: под елью, возле двух аленьких цветков, здоровенный белый…
— Гриб!
— Гриб!
— Мой!
— Нет, мой!..
И обе женщины, нагнувшись за грибом, столкнулись лбами.
— Откуда ты взялась? — спросила Варвара.
— А эвот… из трущобы, — ответила Ненила. — Грибы сбираю. А ты?
— Я тоже.
— Этакую рань грибы-то нынче показались, да много… Не к войне ли уж?
Заглянули друг дружке в корзинки, много ли грибов. У Ненилы Варварина, у Варвары Ненилина корзинка, но обе женщины увертливо прикинулись, что этого они не замечают.
— Ты из дому? — ловко поставила вопрос Варвара, глядя влево, в сторону.
— Известно из дому. Откуда ж мне?.. — не смутившись, ответила Ненила басом, глядя вправо, в сторону.
— А Денис-то твой дома? — с внутренним смехом спросила Варвара и облизнула пересохшие губы.
— Еще не приходил, — врала Ненила. — В кабаке, поди… Он у меня такой. А ты тоже из дому? — ревниво и мельком взглянула Ненила в глаза Варвары.
Лица и уши баб горели дьявольским огнем, стучала совестная кровь в виски, впору провалиться. Под наклонными лучами солнца стволы сосен тоже розовели.
Бабы расстались явными друзьями, но каждая уносила в сердце скрытую занозу злых догадок.
Ненила, придя домой, встретила в сенцах растерянного мужа. Дикольчей с озабоченным видом шарился, как слепой, по полкам, заглянул в кладовку.
— Чего ищешь?! — устрашающе крикнула Ненила.
— Корзину не могу найтить… По грибы хотел..
Ноздри Ненилы яростно раздулись. Но она переломила себя, смолчала и бросилась в избу, за полог. Глаза ее стали остры и зорки, как у кошки. Она тщательно оглядела подушку, обшарила постель, перетрясла одеяло, выползала под кроватью.
— Чего ищешь? — дрогнувшим голосом спросил вошедший Дикольчей и притворно-грозно покрутил усы.
— Чего надо, то и ищу, — ответила Ненила мягче, она внимательно обнюхала все закоулки в избе: ну, хоть бы волосинка от Варвары.
— Ты Варвару не видал?
— Нет. А что? — И Дикольчей на всякий случай отошел от бабы к двери. Потными пальцами он потрогал схоронившуюся в кармане маленькую круглую Варварину гребенку, и его сердцу стало сладко.
V
Женщины стали действовать Рано утром, когда трактир еще молчал, они пришли к хозяину. Нефед Нефедыч собирался к обедне. Лицо у него желтое, под узенькими глазками мешки, отвислые уши торчали, как у теленка.
— Чего надо, тетки?..
— Да, вот… — замялись те. — Яичек не надо ли?
Надевая старый сюртучишко, сиделец покосился на женщин, улыбнулся и сказал:
— Ой, врете, тетки. Даже совсем не за этим вы пришли.
— Откуда знаешь? — спросила Ненила и одернула подол.
— По рожам вижу.
Женщины окинули друг дружку проверяющим взглядом: да, действительно, лица их были загадочно-грустны, и глаза виляли.
Вошел вихрастый, беспоясый Мишка. Он сегодня, для праздника, умылся с мылом: лицо белое, грязь только за ушами, на шее и на лбу. Он держал на руках ребенка, закутанного в ситцевое прожженное одеяло.
— Пошто же антен-то не заземлили вчерась? — сказал он, взглянул на окно, где укреплен рубильник.
— Заземли, — велел Нефед Нефедыч. — А где ж хозяйка-то? Да вы садитесь, тетки.
— Насчет делов своих мы к тебе, родимый. Насчет делов.
— Я так и знал. Ну, и что ж? Как у вас?
Женщины, перебивая одна другую, рассказали.
— Понимаю, — игриво проговорил Нефед Нефедыч, подстригая перед зеркалом козью свою бороденку. — Дак, вы, вот что, тетки. Вы поменяйтесь мужьями. Раз мужья согласны на чужой земле сидеть, а вы не согласны, выход прямой: поменяться мужьями. Теперь очень даже недолго это. В советских попах ходит Митька Ключарев.
— Шутишь ты. Смеешься, — сказали женщины. — Ты нам отпорную бумагу изготовь.
— Чего? Нимало не шучу.
Заплакал ребенок. Мишка стал толстым голосом баюкать его, трясти, подкидывать. Ребенок заплакал пуще. Вошла хозяйка, дала Мишке подзатыльник, взяла ребенка.
— Нет, тетки, дело ваше темное, — официальным тоном стал говорить Нефед Нефедыч, покашиваясь на жену. — Свяжешься с вами, влипнешь… Не стану отпорную бумагу вам писать.
Ударили к обедне. Женщины перекрестились.
— Пошто с первого удара креститесь? — наставительно сказал сиделец теткам. — Первым ударом чертей с колокола сгоняют.
Хозяйка и Мишка ушли. Нефед Нефедыч кашлянул, потрепал Варвару по плечу:
— А ничего, грудастенькая ты. Не хочешь ли гряды у меня полоть? А?
В дверь высунулась Мишкина встрепанная голова.
— Крестись, хозяин! — крикнул Мишка, скаля зубы. — Третий раз ударили. Чего бабу-то щупаешь?
Нефед Нефедыч отскочил к зеркалу и перекрестился: «Праздничек Христов». Грозно влетела жена. Нефед Нефедыч старательно оправлял пред зеркалом галстук.
Женщины уселись на бревнах возле церкви, обдумывая, куда идти. — Надо к избачу: старик деловой, ученый.
Варвара достала из кармана семечек, отсыпала Нениле — стали щелкать и поплевывать. К церкви ковыляли старухи. Прошел священник, отец Кузьма.
— А меня, с нашей всклокой, и от храма божьего отшибло, — отвернулась от священника Ненила.
— Меня тоже.
Помолчали, Ненила сказала:
— Вправду ли, нет ли, совет давал сиделец насчет поменяться ежели мужиками? Как думаешь?
Варвара в ответ крутнула носом, и ее остренькие глазки молча засмеялись.
— Мой Дикольчей ничего, мужичишка ладный…
— Что ж, может, Ксенофонт мой худ, по-твоему?
— Нет, я его не хулю. Мужик ничего, только огромен больно. И лысый. Мой все-таки форсистее… Все-таки военные усы, и волос густ.
— Что ж, ты думаешь — я променяюсь с тобой?
— А что ж такое… Мой все-таки помоложе твоего Ксенофонта и ты меня помоложе будешь… Вот бы…
Варвара подавилась семечками и захохотала.
— А насчет ласков ежели, знамо мой Дениска хоть ростом и не во вся, а…
И Ненила что-то шепнула Варваре в ухо и громко добавила улыбаясь: — А я как ни то уж промаялась бы с Ксенофонтом-то с твоим.
Варвара захохотала громче и сказала:
— Заткнись! Засохни!
Ненила обиженно пыхтела.
Вечером женщины пошли к избачу, Николаю Сергеичу. В избе-читальне не очень грязно, но и не совсем чисто было: ассигновки из города ничтожны, избач существовал впроголодь и смотрел на свою службу, как на подвиг. Курить в читальне воспрещалось. За большим столом сидели крестьяне всех возрастов. В кучке, соткнувшись лбами, внимательно слушали, как комсомолец читал брошюру о сельском хозяйстве в Дании. Лампа горела тускло, комсомолец напрягал глаза.
В Ленинском уголке, возле радиоприемника, откинув голову назад и широко раскрыв рот, тихо спал усатый Дикольчей. К его ушам прижаты слуховые трубки с перекинутым чрез голову металлическим обручем. Выражение лица погруженного в сон крестьянина испуганно-удивленное, брови страдальчески сдвинуты, язык чуть высунут. И со стороны казалось, что его голову смертельно сжал железный с наушниками обруч и что Дикольчей умер в нестерпимых муках. Малолетний октябренок Митька скатал шарик из бумаги и, вдавив в грудь выпиравший смех, ловко швырнул шарик в рот спящего, как полено в печь. Дикольчей медленно открыл сначала левый, потом правый глаз, сморщился, выплюнул шарик и сказал:
— Таракан.
Митька взорвался звонким смехом и крикнул издали:
— Ково слышал?
— Гитация, — недовольно сказал Дикольчей, снял с ушей трубки и ушел.
А Митьку выгнали.
Вошли Ненила с Варварой. Они впервые здесь. По привычке окинули взглядом увешанную портретами и плакатами комнату, отыскивая икону, и истово закрестились в передний угол, где помещался портрет Ленина, вправленный усердным иждивением милицейского Ивана Щукина в реквизированный им кивот из-под богородицы. Пред портретом горела церковная, красного стекла лампада, когда-то принесенная в дар храму вдовой волостного старшины, крестьянина Ухватова, опившегося вином на престольном празднике.
Избача Николая Сергеевича тут не было. Тетки отворили дверь за перегородку. Склонившись над бумагами, сидел в своей клетушке на дощатой кровати густоволосый старец.
— Здорово, Николай Сергеич! А мы — к тебе…
— Сейчас, — рассеянно сказал одетый по-крестьянски старец, скрипя гусиным пером. — Садитесь.
Но садиться некуда, тетки стояли. В уголке, в корзине, вольготно развалилась кошка. Пять сереньких котят, выдавливая пуховыми лапками молоко, сосали кошку. Николай Сергеич, бывший учитель гимназии, получив маленькую пенсию за сорокалетнюю службу, конец дней своих решил посвятить непосредственному служению простому народу, и не малый труд общения с невежественным, огрубевшим деревенским людом принял на свои плечи безвозмездно, тратя на это дело все свои несчастные гроши. Филолог по образованию, он немало грустил о порче родного языка газетным слогом и сознательно ненавидел некоторые новые и старые слова — «смехач, толкач, снохач», особенно же непереносимо для него было слово — «избач», и он всегда расписывался на бумагах: «заведующий избой-читальней Н. Сухих».
— Ну, что? — он положил перо и поднял золотые очки на лоб.
Все местное население относилось к нему с уважением, уважали его и тетки. Они повалились ему в ноги, причем неуклюжая Ненила опрокинула сапожищем корзину с котятами, и в один голос:
— Помоги, отец.
Положив запищавших котят обратно в корзину, Николай Сергеевич сказал:
— Ваше дело, гражданки, мне совершенно ясно. Вы такие же равноправные члены семьи, как и ваши мужья.
Волисполком дал маху: без вашего согласия нельзя было производить обмен имуществом. Значит, можно по-вернуть дело так, что все будем по-старому.
Записав со слов теток нужные данные, тут же составил на имя председателя волисполкома толковую бумагу, с ходатайством от лица Варвары и Ненилы о расторжении незаконной сделки их мужей.
Однако эта бумага никакого действия не возымела: сделку, мол, совершили самосильные хозяева; в полном уме и твердой памяти, акт оклеен марками и припечатан казенной печатью, все закономерно, правильно, а потому — в просьбе теткам отказать.
Николай Сергеич отказу не удивился: власти на местах он доверял мало, — плохие они юристы — и составил новую бумагу в земельную комиссию при уездном исполкоме.
Приступало время сенокоса, тетки в город не пошли, отправили бумагу почтой.
Ксенофонт и Дикольчей, узнав про тайные бабьи хлопоты, не на шутку рассердились на своих жен. Ксенофонт потому, что усмотрел в поступке Варвары нарушение своих главенствующих хозяйских прав и что не женского ума это дело. Ксенофонт очень опасался, что начальство, вняв бабьим хлопотам, не пожелает признать мену, а мужики подумают, что он струсил, подучил жену, на попятную пошел. Дикольчей же злился на свою Ненилу, что, мол, баба-дура, не умеет счастья своего сберечь.
И Варвара и Ненила как умели отгрызались. Но вот настала сенокосная пора, и все в труде забылось. Сенокос нынче запоздал больше, чем на месяц — дожди сменялись холодами, — но в две ведренных недели трава вымахала густая и высокая.
Ксенофонт с Варварой выходили в поле до свету, размякшую под росой траву косили в прохладе, он успел до ненастья наготовить сена и, складывая в сеновал, обрызгивал крепким раствором соли — сласть скоту. Дикольчей же пробуждался поздно, с прохладцем пил чаек, неумелым молотком отбивал косу и становился на работу последним, в самый солнцепек, когда Ксенофонт с Варварой, да и другие крестьяне, успев пообедать, отдыхали в коротком крепком сне. Дикольчей надеялся на авось и на хорошую погоду. Но, как на грех, вновь пошли затяжные дожди, и сено Дикольчея сопрело. Ненила, работящая и сильная, на этот раз тоже обленилась: зачем надрываться над чужой землей? Она еще, слава тебе, господи, в своем уме. Плевать! Крестьяне помаленьку стали подтрунивать над ленью Дикольчея, — дескать, не впрок дураку богатство, не в коня, мол, корм, — а потом и злобно издеваться. Дикольчей начал попивать. Однако не от насмешек пил он: грош цена насмешкам, мужичья зависть в них, Дикольчей баловался винишком от сознания собственного счастья: он, как птица небесная, не сеял и не жал, а мошна его полна. Он принялся пропивать чужое-свое имущество. Пропил новые вожжи, пропил валяные сапоги с шубой — до зимы еще далече — и стал искать покупателя на хорошие расписные сани.
Варвара, узнав об этом, плакалась мужу:
— Сани наши пропивать собрался…
— Какие наши? Были наши, да сплыли… — спокойно, со скрытой горечью в сердце, говорил Ксенофонт и, виновато улыбаясь, добавлял: — Терпи, Варвара. Помяни мое слово, счастье к нам передом повернется. Только злобу в сердце уйми. Поплевывай слегка.
Варвара хлопотала в волисполкоме, чтобы запретили Денису Колченогову проматывать доставшееся ему имущество. Ходатайство уважено не было: Денис Колченогое юридически прав, он пропивает свое добро.
VI
Глубокой осенью, спустя две недели после Покрова, когда санный путь установился, Варвара с Ненилой, наняв присматривать за хозяйством двух крепких, одиноких старух бобылок, отправились в уездный город по своему, камнем повисшему на их шее делу.
Ушли они из дому с бранью: мужья по-прежнему перечили. Двухаршинный Дикольчей, боясь Ненилиной силы кулаков, подбивал вздуть свою бабу кузнеца Гаврилу, Ксенофонт же, хотя и надеялся на свою силенку, но Варвару не трогал, только всячески уговаривал ее: Ксенофонт верил в то, что бумага их законна и город не осмелится нарушить полюбовный, обклеенный марками договор.
До уездного города бабы шли трое суток. Длинноногая Ненила шагала ёмко, как верблюд, Варвара едва поспевала за ней. В канцелярию уездной земельной комиссии бабы пришли утром, поднялись по скрипучей деревянной лестнице, открыли одну, другую, третью дверь — пусто. В четвертой комнате, на кожаном диване спал вверх брюхом парень не парень — безусый и курносый.
Тетки постояли возле него, переглянулись, Варвара кашлянула робко и позвала:
— Милый, а милый…
Но милый пробуждаться не желал и, раскрыв губастый рот, оглушительно храпел. Над ним висел прикрепленный за уголок на нитке плакат «Не мешайте работать». Плакат от храпа содрогался и медленна покачивался, как маятник.
Грамотная шустрая Варвара прочла плакат, перевела острые глазки на часы — одиннадцать, затем на захлебнувшегося храпом, будто скоропостижно умершего, парня и неожиданно расхохоталась. Мертвый парень еще несколько секунд лежал бездыханно и вдруг разразился таким облегчающим сильным храпом, что плакат «Не мешайте работать» отделился от стены и упал: бабы, прыснув, на два шага отступили, а парень открыл дикие глаза.
Первое мгновение взгляд его был потусторонний, замогильный и тупой, как у быка, которому на бойне хлобыстнули обухом по лбу. Но вот парень осмотрелся, скользнул отрезвленным взглядом по портрету Калинина, одернул рубаху на голом брюхе и грозно уставился на теток:
— Ково? — спросил он, свешивая с дивана в кровь расчесанные ноги.
— Здравствуй, милый… Товарищ дорогой… Мы по делу… Из Длинных Поленьев мы.
— Поленьев? — переспросил парень и, поскребывая голову, подошел к железной печке, где сушились его онучи.
— В чем дело? — начальственно задал он вопрос, обуваясь, и покровительственным тоном добавил: — Садитесь, гражданки… Присаживайтесь… Можете на диван, ежели клопов не боитесь. А какой же длины ваши поленья? Мы бы купили саженьки две.
— Какие поленья? — переспросила Варвара. — Мы дровами не торгуем, мы сами, милый, из Длинных Поленьев. Оттудова, оттудова, кормилец. Дальние мы.
Кормилец очнулся окончательно. Он плюнул в руки, потер их ладонь о ладонь, как бы умываясь, и вытер о портки. Затем, взяв ломоть хлеба, круто посолил и запихал в широкий рот.
Варвара, заметив плакат: «говори дело и уходи», рассказала парню все, зачем пришли они.
Растопляя печь, курносый парень значительно проговорил:
— Вопрос двоякий. Этот вопрос надо раскумекивать со смыслом. Вот дураки, черти… Мужья-то ваши… Надо товарища Чернобаева ждать, председателя. А чтобы принять на свой максимум конференции, не могу. Конечно, ежели, кроме всего прочего, я бы мог, — разогнулся парень, подбоченился и властно отставил изъеденную клопами ногу… — Мне и печать вверили, и бланки. У нас засилья итлигенции нет еще, здесь не Москва.
— А пошто же его долго нет, председателя-то?
У парня левый глаз был уже правого и длинное, в кудрях, лицо в меру глуповато.
— Председателя долго нет, потому что, потому, — подмигнул парень Варваре и спросил ее в упор: — Ты именинницей бываешь? Ага! Вот и евоная жена также. Поняла, нет? А сам он коммунист, к тому же, партейный большевик и в святцы не верит. Что же касаемо жены, именины правит и служащих зовет.
— Двенадцатый час ведь, — пробасила безмолвная Пенила и, испугавшись, подалась назад.
— А наши часы врут полным ходом. Это служащий у нас такой ленивый черт есть, бывший часовщик, только он теперича мастерскую ликвидировал на все сто процентов, к нам зачислился. Дак он, чтоб служба скорей шла, эти часы и обсовершенствювал: они прямо бегом бегут, как после скипидару конь.
Парень остановил часы, посмотрел за окно — священник с дьячком от обедни возвращался — и, сопя, быстро перекрутил стрелки с половины двенадцатого на девять.
— Вот который час, — сказал он и жадную затяжку стал доканчивать, зажигая один от другого, порядочную кучу валявшихся в углу окурков.
Начали собираться служащие. Пришел товарищ Чернобаев, председатель.
Тетки пробыли в городе три дня, ожидая по своему делу заседания, ходили к ворожейке. Ворожейка взяла с них по полтиннику, сказала:
— Навряд выгорят ваши хлопоты: собаки лают, кошки мяучат. Еще разок грибочков посбираете. Да, да, да… Чужая корзина ненасытная…
Бабы вышли от гадалки пораженные: ну, до чего все правильно гадалка обсказала: и про собак, и про кошек, и про ту самую корзинку.
— Про какую про корзинку? — и Варвара, задышав, впилась в хмурое Ненилино лицо.
— Не представляйся, девка, — улыбнулась Ненила. — Знаю.
Домой наши женщины вернулись ни с чем: уездный город отказал им. Варвара грустила и сетовала, что нигде не найдешь правды: ходишь, ходишь, везде отказ. Хоть и не по нутру Ксенофонту жалобы Варвары, однако он любил ее и старался, как мог, утешить. Но те мысли, которые на уме у Ксенофонта, мысли о том, что не для себя только человек должен трудиться, были чужды жене его. И он говорил на понятном Варваре языке:
— Терпи. Бог поможет, обрадует.
И бог, действительно, обрадовал: мятежной ночью, в стыдливый час, Варвара заявила мужу, что она беременна. Ксенофонт очень удивился ниспосланной свыше благодати. Баба удивилась меньше.
А время шло. Ксенофонт помаленьку скупал у Дикольчея свое имущество, а Дикольчей все пропивал и пропивал. У него хозяйство падало, у Ксенофонта крепло. Ксенофонт снял добрый урожай турнепса, льна и овощей. Пчелы натаскали ему больше тридцати пудов меду. Он засолил несколько чанов капусты и всю зиму ездил в город продавать то лен, то мед, то капусту. Срубил свою делянку леса и, работая за пятерых, заготовлял на железную дорогу дрова и стал строить обширный дом. Варвара этому не перечила, а деятельно помогала мужу: в случае чего дом можно всегда продать или перевезти на прежний хутор.
Большинство крестьян из села Длинные Поленья проводили зиму без толку, кой-как: никаким подсобным ремеслом они не занимались, ели хлеб с картошкой, гнали самогон и к работяге Ксенофонту почувствовали неприязнь: видно, черт помогает Оксе, правда и раньше Окся мужик был справный, ну, теперича, после мены с Дикольчеем, прямо устали мужик не знает, ворочает, как медведь в лесу. Ну, Окся!
Незадолго до Рождества Дикольчей пришел к Ксенофонту:
— А не купишь ли ты у меня корову?
Ксенофонт и не прочь бы перекупить свою корову, но деньги ему нужны на другое, да у него своя теперь породистая телка, приятель агроном в рассрочку продал, и Ксенофонт сказал:
— Нет, не надо.
Дикольчей, опухший от вина и от безделья, под глазами мешки и в речи какая-то заминка, повел корову в город. За ним увязалась и Ненила. Она решила ехать из уездного города в Москву.
Варвара с нею не поехала. Варваре много дела дома, Ксенофонт не пустил ее. Да ведь это все равно: ежели судьба да ежели хорошая бумага на руках, Ненила и одна добьется правды: недаром же ворожейка предсказала, что быть бабам в Москве, у плешастого товарища, что скоро-скоро возрадуются кошки и собаки. Бумага составлена избачом Николаем Сергеевичем лучше лучшего, и бумагу ту Варвара подписала. А московские расходы пополам. Так Ненила и отправилась одна.
А по правде-то сказать — Варваре и не хотелось в столицу ехать: она теперь привыкла к новому хозяйству, и печаль о милом хуторе стала помаленьку от сердца отсыхать. Но ежели Москва прикажет снова обменяться, она перечить этому не будет: пусть Дикольчей развеял по ветру хозяйство их — у Ксенофонта много в голове ума и золотые руки. Пусть.
В уездном городе Дикольчею пофартило: нашел какого-то простачка-растяпу, всучил ему корову ровно за сто серебром, а корова хоть и породиста, да очень старовата, мекал за нее Дикольчей взять не больше семидесяти пяти, мяснику на убой продать. И отдал тот растяпа-простачок бумажку в десять червонцев, а коровушку увел. Вот Дикольчей и вновь богатый — сто рублей — деньжищи пребольшие — теперь всего накупит: плису на штаны, сапоги со скрипами, шапку под бобер, ясное дело, и бабу не забудет, да, впрочем, баба и сама не промах — как бы она от мужа всех денег не отобрала; нет, врешь, пропивать, так вместе: вот вернется баба из Москвы, да ежели плешастый в их пользу дело порешит, тогда можно и обоюдную гульбу устроить — гуляй Ненила да Денис!
— А черт его, дурака, тянул меняться-то! — сопел Денис Иваныч Колченогов, Дикольчей, шагая в лучший магазин с зажатой в кулаке сторублевкой. — Ха! Дурак… Лешатик… А теперича, ежели Москва в нашу пользу решит, я его турну с моей земли! Получай, Окся, свою! Что?! Хозяйство его прожил? А дуй его горой! Когда проживали, оно наше было! Ненила, так или не так?!
— Так…
— А ежели я на свою землю обратно сяду, уж вот работать начну, уж вот начну. Пьянству зарок, ни-ни… Так или не так?
— Так, так… Давай-ка сюда деньги-то.
Накупили в магазине того-сего и к кассе — получите сколько причитается. Кассирша, какая-то горбоносая, сутулая, точь-в-точь ворожейка та, колупнула ноготком цифру «10» на уголке червонца и бумажку ту в окошечко обратно подала:
— Это не десять, это один червонец. А нарисованный кружок наклеен.
— Как так? — покачнулся Дикольчей, и пятки у него похолодели. — Как?!
— Я не знаю как, — сказала насмешливо кассирша. — Пожалуйста, не задерживайте публику… Следующий!
На улице Ненила заревела в голос, Дикольчей дрожал, творя молитву:
— Господи… Суси… Господи… Ах, он тварь, безрогий черт.
И со всего маху кувырнулся прямо в снег: Ненила, скрипнув зубами, ловко съездила его тугим мешком, где лежали две краюхи хлеба.
Простачка-растяпу нигде не нашли они, в милиции им сказали: «Будьте спокойны, граждане, найдем, так схватим, а не найдем — не схватим. Опишите, пожалуйста, преступные приметы жулика».
Дикольчей в горести домой, баба в злобе — к ворожейке.
Ворожейка, очень похожая на окаянную кассиршу ту, только в глазах легкой хитрости побольше и три «кудрявых в бородавке волоска, раскинула колдовские карты веером и наставительно сказала:
— Корову не ищите, корова не ко двору вам. А вот погорелое место вижу.
— Господи! — испугалась Ненила. — Какое же это погорелое место? Уж не пожар ли у нас случится?
— Нет, — сказала ворожейка, пристально поглядела ей в глаза и, как бы нехотя, сдерживая зрячий язычок свой тайный, прорекла:
— А все-таки пожара бойся, — взяла полтинник и выпустила бабу в путаный туман непонятной человечьей жизни.
Денег у Ненилы мало, всего пять рублей. Да и жаль их. Думала, думала Ненила, как в Москву попасть, и в думах черные слова вещей ворожейки той: погорелое место, погорелое место… Мать владычица… что же будет?
И по холодному лицу слезы на морозе полились. Церковь, народ выходит. Ненила перекрестилась.
— О чем, тетка, слезы льешь?..
— Погорело место… — скривила Ненила рот.
Старичок, в драповом картузике, сунул ей в руку двугривенный и пятачок:
— Митрофанию помяни. Игуменью Митрофанию, сестру мою… Много ль дворов погорело-то?
Ничего не соображая, Ненила поклонилась. И еще люди проходили, и еще, соболезнуя, давали ей.
Целую неделю Ненила собирала „на погорелое место“ и вот катит машиною в Москву.
С Дикольчеем же было так. Впрочем, пока не стоит говорить о нем: он, как водится, напился пьяный и обратной дорогой едва не загиб от рождественских морозов.
Лучше поведем сказ о Ксенофонте, заглянем в его душу: душа его просторна и открыта.
Со времени разговора Ксенофонта с агрономом Петром Иванычем крепкий от природы, но спящий ум крестьянина впервые, по-настоящему, дрогнул и проснулся. У человеческого же разума известная повадка: ежели проснется к правде, больше не пожелает засыпать.
„Нет своих и нет чужих, все братья“, — вот что сказал мирской человек, агроном Петр Иваныч. И еще поучал Петр Иваныч Ксенофонта: „Придет пора, когда помощь слабому обернется для сильного радостью“.
И припоминает Ксенофонт, лежа темной ночью на печи, что он ответил агроному. Он ответил тогда так:
— Золотые слова твои, Петр Иваныч, только вряд ли они полезут в сердце.
А вот теперь — странное дело, удивительное дело — выходит так, что изреченная агрономом простая мудрость как будто сбываться в мужиковском сердце начала. И точно кто воззвал его из тьмы и внутренним голосом утвердил в нем золотую мысль: „все — братья“.
И понял Ксенофонт, что нет правды недоступной, небесной и нет земной правды, есть просто истинная правда, которую может исполнить всяк.
И захотелось Ксенофонту оглядеться во все стороны на прошлую жизнь свою и на то, что — впереди.
Прошлая жизнь — звериная жизнь. Как ни обеляй ее, какие обманные добродетели в оправдание ее ни вспоминай, — жизнь только для себя, для своего брюха не достойна человека.
Такими или иными, может быть, путями, чрез дни, чрез месяцы, чрез целый год раздумья, подошел Ксенофонт к неотвязной мысли — полагать силу свою на пользу слабому, ибо в этом радость и покой душе.
Но от напряженного порыва до непритворных дел на пользу слабого стоит стена недоумений, колебаний и препятствий. Кто есть слабый? Уж не Дикольчей ли, что темным случаем всучил ему свой беспризорный, ленивый клок земли и нечестно отнял у него трудовое сильное хозяйство? Нет, не Дикольчей, не лежит к Дикольчею Ксенофонтова душа: форсун межеумок, лодырь. Не чрез таких людей преобразится лик земли и работа на них — от мрака, от лукавого. Дак, кто же слабый и как пробить стену недомыслия? Нешто с Варварой поделиться думой?
Но вот утром приехал агроном, и темная стена упала.
VII
Теперь, незримый любопытствующий зритель, заглянем в бывшую белокаменную, первопрестольную, царскую столицу, ныне — обновленную волею народа красную Москву, за Китайскую стену, где в зеленом, пространном и высоком доме помещается Высший земельный суд — вход с угла.
Ваш путь с зеленокудрой площади товарища Ногина, чрез бывшие Варварские ворота с золоченым богатырским шлемом над пустою нишей, где когда-то висела ныне сданная в архив икона. По левую руку ворот — сторожевая башня, на вышке ночами светится огонь — там седой монах доживает поблекшие дни свои, а внизу — часовня. Пройдя ворота, вы свертываете вправо и держите путь свой вдоль исторической стены Китайской. Ежели вы любитель русской старины и у вас есть время, задержитесь ненадолго, чтоб полюбоваться на стену ту и отдать справедливое признание просвещенной, новой хозяйственной руке: древняя стена с верхним крытым ходом восстановлена до точности по старине, стена обновлена побелкой, как будто разрушающее время нескольких веков вовсе не имело над нею власти, и вдоль стены — новорожденный свежий сквер. Но ежели вы любитель родных руин — за ваш вкус я не ответчик — и вам сладок тлен веков, тогда, вздохнув, пройдите мимо.
Вот и зеленый дом. Суд высший помещается внизу. Это кажущееся противоречие избавит ваше сердце от излишней работы восхождения по этажам. Открыв тяжелую, добротных качеств дверь, вы сразу попадаете в приемную (она же прихожая, но раздеваться негде). Комната эта для Высшего суда, надо прямо сказать, неважная: какая-то из некрашеных свежих досок переборка, какая-то калитка в ней с дешевенькой четвертаковой ручкой, и, если бы не большой топорной работы стол и сосновые скамьи по стенам, как в деревенских чайных, можно бы принять эту приемную за склад дров в купеческом богатом доме. Иконы нет, но есть табель-календарь и огромный плакат: рабочий с неестественно искаженным лицом тычет в вас пальцем и кричит: „Стой! Купил ли ты крестьянский заем?!“
За столом, положив локти на грязную, прикрывающую крышку стола бумагу, сидит бледнолицый, рыжебородый плотный мужчина. Он — в стареньком пиджаке, грязноватой косоворотке, длинных валенках. На носу — большие очки, и лицо выражает снисходительную важность. Приходящие принимают его за главного начальника, но он вовсе не начальник, он простой крестьянин-сибиряк, выдвиженец, попавший сюда из тайги за свою честную службу революции. Он деловит и грамотен, пред ним книга для записей посетителей, он, кажется, ведет исходящий и входящий. Он знает назубок все земельные декреты, но по штату он просто умный сторож.
Вот он разговаривает с лысым стариком, от которого пахнет квашеной капустой и свежим хлебом, он нашего с вами прихода не заметил: мы можем усесться в уголке и наблюдать.
— Иди, дед, спокойно к своей старухе, иди, — говорит рыжебородый выдвиженец старику.
— Чего? Уж сделайте милость, обсудите, судьи правильные, — мигает слезящимися белесыми глазами лысый дед.
— Разберем, разберем… Все разберем…
— Меня — за грудки, старуху — по уху. Вот он какой сынок. А нам пить-есть надо… А он говорит: вам околевать пора…
С улицы вошел с рыжими усами в рыжих рябинках дядя. Он поставил в уголок жестяной чайник, заслонил его кошелем со снедью, вынул из-за пазухи привязанный чрез шею холщовый мешочек, из мешочка — кожаный домодельный бумажник, из бумажника — записную книжку, из книжки — прошение. И, оттолкнув лысого старика, подал прошение рыжебородому выдвиженцу. Выдвиженец, хмуря брови, пробежал бумагу и сказал:
— Не соблюдена, товарищ, форма. И, кроме того, неправильна ссылка на декрет, — при этом он развернул сборник декретов и ткнул перстом в страницу: — Вот.
Выражение всей его фигуры было подобно орлу парящему, усатый же проситель сразу обратился в курицу. Шевеля губами, он прочел декрет, подошел на цыпочках к кошелю, достал кучу газетных вырезок и, отыскав нужную, молча сунул ее выдвиженцу под очки. Выдвиженец прочел, улыбнулся, — однако орлиный вид его поблек, — перелистал сборник и указал перстом другой декрет. Проситель быстро прочел, тоже улыбнулся, но по-злому, с подковыркой, из курицы превратился вдруг в орла и надменно сунул выдвиженцу вторую вырезку. Тот вчитался, поковырял в носу, снял очки, протер их, протянул сконфуженно:
— Да-а-а… Тут, по всей видимости, опечатка. А может, и нет опечатки… Я сейчас, — и, приняв куриный зрак, он скрылся в дверь соседней комнаты.
Усатый проситель, подмигнув самому себе, весело откашлялся, распахнув дверь в улицу, и, блюдя комнатную чистоту, густо плюнул на тротуар.
— Что ты, товарищ, обалдел! — крикнула входящая с улицы, с мешком за плечами и палкой в руках, высокая Ненила. — Едва в меня не харкнул. Тьфу!
Однако проситель, не удостоив Ненилу взглядом, непринужденно расселся на скамье, покрутил бравые военные усы, подбоченился и с победоносным видом уставился на дверь, куда скрылся посрамленный выдвиженец.
Ненила осмотрелась, поджала губы и в просительной позе встала у дверей.
— Садись, — сказал покровительственно рыжеусый. — Ты куда пришла, в старый режим или в новый? Ну, так и садись.
— Кормилец, батюшка, — стала кланяться ему Ненила, вытирая ладонью рот, — разбери ты наше дело пребольшое, крестьянское…
Усач самодовольно улыбнулся и сказал:
— Видимость обманчива. Начальство — за дверьми, а я — так себе, вроде тебя, мужик. Только новой информации.
— Благодарим, — сказала Ненила и потрогала обмороженный свой нос. — А мы из тульских… Может быть, Длинные Поленья знаете? Христовым именем побиралась.
Из дверей раздосадованная появилась фигура рыжебородого, очки на лоб и уши как в огне.
— Вы правы, — сказал он усачу. — Об вашем деле доложил. В среду заседание, в четверг можете объявиться за результатом… Гражданка, подходи! — и сел.
Усач, забрав чайник с кошелем, ушел.
А Ненила хотела опуститься на колени, но ее ноги одеревенели от мороза, и от мороза же не сгибались пальцы, которыми она старалась развязать платок с пакетом.
— Заколела я, кормилец дорогой, начальник батюшка… Христовым именем… по этакой-то стуже…
Прочтя прошение, выдвиженец прищелкнул языком:
— Дело грандиёзное… Сейчас, — и скрылся.
На лавках сидели ожидающие. Какая-то старуха дремала, а краснощекий священник в ветхой рясе вел негромкий разговор с чисто одетым крестьянином.
Вот отворилась дверь и, в сопровождении выдвиженца, вошел в приемную полулысый коренастый человек с длинными, как у запорожца, усами и улыбчивым быстроглазым лицом.
— Председатель, — шепнул священник соседу и поднялся. А Ненила обмерла.
— Ненила Колченогова! Вы? Пожалуйте сюда.
Нескладная Ненила, разинув рот, обвела всех вопросительным растерянным взглядом и, под легкими пинками выдвиженца, каменным идолом двинулась за председателем.
Если хотите, любопытствующий зритель мой, мы точно так же сможем незримо проследовать с вами в святая святых, за темную, томленого дуба, дверь. Но это удлинило бы нашу повесть, и, может быть, вы предпочтете поближе столкнуться с председателем в более интимном месте. Итак…
По истечении законнейшего срока службы, с надбавкой полутора часов для ликвидации вороха неотложных сегодняшних бумаг, председатель „Особой Коллегии Высшего Контроля по Земельным Спорам при Наркомземе“ или, для краткости, просто „председатель“, перезвякнувшись телефонами с знакомым литератором, поспешно шел к нему с тугим беременным портфелем. На возбужденном лице его интригующая с легким оттенком деловитости улыбка. Она уютно примостилась у него в душе после разговора с Ненилой Колченоговой; он пронес эту улыбку сквозь снежную метель, крутившую по людным улицам Москвы, чтоб с нею же подняться лифтом в четвертый этаж серой каменной громады с коридорами в ширину иных московских переулков и трижды условно стукнуть в квартиру № 300.
И вот нам с вами, дорогой мой зритель, представился весьма редкий случай осмотреть квартиру писателя-коммуниста и, кстати замечу, друга моего. Это хотя и нарушит архитектонику нашего повествования, но мы, рискуя впасть в немилость ворчливой критики, все-таки попробуем задержать естественный ход рассказа на каких-нибудь полсотни строк.
Площадь квартирки из двух комнат, прихожей и ванной (она же кухня) всего 7 квадратных сажен. Опрятные потолок и стены, неплохая мебель, драпировки, лампы, — но спешу оговориться — это все казенное и принадлежит дому бывшей купеческой гостиницы, у писателя же личного богатства нет, и все его с женой имущество может унести в одном узле даже тщедушный вор-домушник. На стенах картины маслом: хмурые пейзажики, — деревенский жанр, но и картины не писателя — они принадлежат плодовитому художнику-поэту, на время размещающему перепроизводство вдохновенья по знакомым[2].
За письменным столом, весь в дымовой завесе, сам хозяин[3]. Он — плотен, в меру — мягок, свеж, с приветливым лицом, небольшая русская и русая бородка, длинные волосы беспорядочно взлохмачены, как у колдуна. Он в восьмой раз проверяет свою рукопись, добиваясь напевно сжатой фразы, и, пользуясь отсутствием жены, курит как из пушки: дым валит из волосатого рта, ноздрей, ушей и рукавов. Окурки бросает прямо на пол или тычет во что попало: в чернильницу, в шапку, в недоеденный пирог, в слуховую трубку радио. Фраза, видимо, дается плохо: он причмокивает, свистит, легонько всхрапывает и порядочно сопит.
Но вот затренькал телефон: это — председатель. Хозяин, обругавшись — „черт“, бросил окурок в жестянку с сахарным песком и вышел, а мы с вами вошли. По широкой стене, на четырехэтажных полках книжное богатство хозяина: каких-каких брошюр и книг тут нет. Все перепутано и сбито, здесь невозбранно хозяйничает всякий приходящий. На втором томе „Капитала“ сидит живой черный таракан, а в середку растрепанной „Тайги“ дар друга — воткнут окурок „Наша марка“, налево от двери библиотека хозяйки, ревниво оберегаемая ею.
Телефонный звонок председателя и ожидаемый приход супруги выбивают писателя из колеи. Он, с несвойственной ему расторопностью, распахивает все фрамуги окон, — морозный воздух радостно врывается в тепло, — берет половую щетку, по-озорному, но все же с маленьким остервенением, тычет ею в черную морду живого таракана и быстро начинает подметать. У него упрощенный прием уборки: весь сор он заметает под шкафы, под кровати, под диван, и видимая чистота скоро наступает. Ну, и достанется же ему завтра от жены. Но вот в дверь условно: раз, раз, раз. Это — председатель.
— Тема, тема! Вот так тема! И чрезвычайно интересная… — патетически воскликнул председатель, сбрасывая с круглых плеч бекешу; его улыбка заострилась, и он, на ходу обкусывая обледенелые запорожские усы, начинает свой рассказ.
Председатель (бывший кооператор) обладал уменьем говорить выразительно и гладко, но ему не дано словес о главном, именно о том, что нужно нам. Однако, когда его рассказ подходил к концу, я, пораженный странным совпаденьем, не утерпел и вынырнул из-за портьеры.
— Позвольте! — неделикатно воскликнул я. — Но это же… У меня очень похоже на то, что вы рассказали… Вот рукопись.
— Как?! Не может быть!
— А вот… Не угодно ли? — и я, забыв второпях представиться председателю, четко и с толком прочел черновик своей, еще не законченной повести, под заглавием „Дикольче“.
Председатель оторопело глядел мне в рот переставшими улыбаться глазами, и, когда я кончил, он несколько мгновений был как бы в столбняке, усы его раздвинулись в стороны, и нижняя губа отвисла; потом он вскочил и, размахивая руками, пробежался раза два по комнате. И вдруг истерически взахлеб захохотал:
— Ка… ка… как же это?! Каким это манером?! Да что вы чёрт, что ли? Или святым духом, может быть? Ведь это ж почти дословно то, что рассказала мне эта самая… как ее…
— Ненила Колченогова, — сдерживая радостную гордость, подсказал я. — И ничего удивительного тут нет. Все, что написал я, это — плод моего воображенья. Просто взял да выдумал… А потом родился в жизни факт и подтвердил мою фантазию. Только и всего. Занятно? Фантазия предвосхищает факты.
Председатель открыл рот, поднял ладонь над ладонью, чтоб оглушить меня аплодисментами и прокричать в мою честь „ура“, но передумал и, заикаясь, воскликнул:
— Ну, хорошо! Однако чем же вся эта история, с Ноговым и Колченоговым, по-вашему, закончится? Вы знаете? Я, например, не знаю, потому что жизнь не поставила еще своей точки. Нуте, нуте, страшно интересно…
Нам с вами, любопытствующий зритель, тоже интересно знать долженствующий конец. Поэтому, наверстывая потерянное время, ринемся на крыльях вымысла в давно покинутые нами Длинные Поленья.
В Длинных же Поленьях было так…
…Простите! Последний взгляд назад, два слова о Нениле. Там, в кабинете председателя, где она сидела, было на полу мокро.
— Не могла снег-то с лаптей-то обить, — брюзжал сторож, подтирая влагу.
А Ненила его уверяла — это не снег с лаптей, а горькие слезы это бабьи. И чрез слезы, сморкаясь и скуля в широкий мужичий кулак, она путано изложила председателю то, зачем пришла.
— Все это очень смешно, гражданка… Просто невероятно… А посмотришь на полюбовный договор, как будто все правильно, — улыбчиво проговорил добродушный председатель. — Пождите денечка три… На заседании рассмотрим. А пока — вот вам наряд в Дом крестьянина. Там и поживете.
Ненила бросилась было целовать милостивую руку, но председатель, цыкнув, прочел ей маленькую лекцию о нынешних правах человека и гражданина, что, мол, теперь каждый обязан держать себя с достоинством. Ненила перекрестилась, скривила рот, сказала: „много благодарны, очень даже понятно все“ и бухнулась председателю в ноги.
Она трижды пыталась перебраться через Лубянскую площадь, не могла: побежит-побежит, а тут красные вагончики звонят, а тут самокаты катят, ломовики грохочут — она назад.
— Ой, сердешные мои, раздавят. Видно, у стенки, под часовенкой, и ночевать придется.
Однако милицейский перевел ее:
— Ты, гражданка, шагай смело. Большая, а трусливая. Да на тебя, ежели „такси“ налетит, сразу вверх колесами.
— И как вы живете, ребята, здесь? В этаком аду кромешном. Ай-яй!!.. Беги! Задавит!
Конечно, добралась она и до Иверской владычицы, стоя на коленях, шептала сияющему образу: „Без малого все промотал мой-то и Ксенофонтову землю запустил… Да и кому охота над чужой землей потеть, ты сама понимаешь, богородица. А наша прежняя земля теперича в большом обиходе… А Ксенофонт — мужик хороший, хозяйство наше старое на ноги поставил… И его, дурака, спаси, владычица… за простоту его… А Варька, баба-то его… Нет, уж лучше смолчу я, царица ты моя небесная. А ты, слышь, поднатужься, помоги, чтоб в обрат разменяться нам имуществом. Ежели поможешь, большой гостинец принесу тебе, ей богу, правда. Два куска холста принесу тонкого… Вот тебе Христос…“
Кто-то больно наступил ей на руку, как кланялась баба в землю; кто-то в карман залез.
Баба ойкнула и — вон.
На Красной площади крестилась баба всем церквам, невидимым и видимым, крестилась на Василия Блаженного, на Исторический музей, на Минина-Пожарского, на Ленина усыпальницу. Потом к Спасским воротам подошла.
— Куда?! Назад, — остановил ее часовой.
— А я к церквам. Помолиться, поглядеть.
— Нельзя. Это называется Кремль. Там — правительство.
— В церквах-то?
— Во дворце.
— Подле церквей-то?! Ой, зубы моешь, врешь… А как же у нас на деревне болтают, быдто…
— Откудова ты?..
— Тульская, сыночек, тульская… Длинные Поленья слышал?
VIII
Длинные Поленья. Зима. Хутор. Вывеска „Дикольче“. На вывеске сидит сорока. Она смотрит на заросшего черной щетиной, длинноусого маленького мужичка и похохатывает: мужичок битый час путается по двору с ободранным зайцем в руках и с тупым ножом. За ним, пуская слюни и повиливая хвостиком, Дунька. Ненилы все еще нет. Дикольчей проголодался и не знает, что делать с дохлым, попавшимся в капкан зайцем: варить иль жарить. Да и дров нет. Тьфу, ты, дьявол! Вот так жизнь. Хоть бы Ненила скорее возвращалась из Москвы.
И пошел в чайную.
— Знаешь что, — сказал он хозяину. — Ты, Нефед Нефедыч, как следует накорми меня: щей жирных, каши поболе и, знамо дело, водчонки. Денег у меня, конешно, нету. Ну, только ты будь без сумления: я за сто целковых корову продал на позапрошлой неделе, а баба, конешно, денежки отобрала. Вот ужо приедет.
Однако всем было известно, что Дикольчея в городе нагрели. Поэтому кабатчик отпустил ему одного пустого чая, и то из милости.
— Ну, как, дядя Дикольчей, чаек тянешь? — задержался возле него вошедший с улицы Ксенофонт. — Видать, не вернулась Ненила-то?
— Нет еще, — сказал Дикольчей и не знал, зло или ласково обращаться с Ксенофонтом. — Я за сто рублей корову продал, а бабу отправил в Москву в шибком вагоне.
— Так, так, — сказал Ксенофонт. — Понимаю. Только напрасно это. Не выйдет ничего, насчет обратной мены. Не восходит солнце с западу, аминь, забудь и думать.
— А мне что, — подбоченился, задергал усы Дикольчей, и желтое лицо его стало пепельным. — Мне плевать. Бабы хлопочут.
— Моя баба отступилась. Да посоветуй и ты своей. А нет, я сам ей прикажу.
— Ого! Эвот ты куда занесся. Да ты кто? Знаешь ты кто? Как ты был этим самым… как его…
— Дениска! — крикнул Ксенофонт и тряхнул Дикольчея за шиворот. — Только пикни, Дениска!
— Брось! Я без малого пролетарь… А ты кто, дьявол?
Ксенофонт, тяжело дыша от сдерживаемой ярости, отошел от него и направился к стойке:
— Вот что, хозяин, Нефед Нефедыч, будь добр, бутылочку вина отпусти. Занадобилось, брат. Гости.
У Ксенофонта пил чай агроном, приехавший в Длинные Поленья побеседовать с крестьянами о земельных делах и крестьянском займе. На столе самовар, пирог с рыбой, мед.
У Варвары живот заметно округлился, глаза ее горят радостью жизни, она жалеючи смотрит на шершавого, угрюмого агронома и говорит ему:
— Ты сними-ка, Петр Иваныч, одежину-то свою. Я те зашью, гляди, весь в дырах пинжачок-то. Хоть бы на вдове на какой женился ты, а может, и девка пойдет… Ты хоть и не молодой, а видный… Без обихода, видать, живешь ты. Ужо я девушке одной приятненькой шепну.
— Да я женат, — сказал агроном, улыбаясь по-светлому. — И жена ни днем, ни ночью покою не дает…
— Ну?! — засмеялась звонко Варвара. — Шутишь ты… Как имечко-то ее?
— Работа, — вздохнув, проговорил агроном. — А вот и Ксенофонт. Да еще с гостями.
С Ксенофонтом пришли два соседа его. Петр и Павел, не богатые, но трудолюбивые молодые мужики.
— Вот, Петр Иваныч, одобряешь ли ты нашу проехту? — возбужденно начал Ксенофонт. — Хотим вот с этими соседями землей соединиться и обрабатывать землю собча, без полос без всяких, вроде артели. Поди, по за-кону-то можно? Да еще трое бедняков желают к нам. В общем — шестерка нас.
— Конечно, можно. Нужен общественный приговор. А ежели крестьяне упрутся, я вам нарежу земли на выселок.
— Нет, нет, что ты! Мне здесь надо, обязательно здесь! — закричал Ксенофонт.
— Ах, да, — спохватился агроном. — Совершенно верно… Чуть не забыл. У тебя идея?.. Помню, помню.
— Идея твоя мне, знамо дело, наплевать. А только что я ему, обормоту, докажу, кто я и кто он… Ах, дьявол!. Я, говорит, шибко левый стал… Тьфу!
— Полно-ко ты, полно, — с ласковым упреком одернула Варвара мужа. — Принес вина-то? Ну, так угощай. А я за невестой, — и побежала в попов дом.
Агроном прожил здесь три дня, упросил крестьян дать возможность организоваться артели и дело с артелью оформил. Уезжал он в починенном пиджаке, в подшитых валенках, в начисто вымытом белье, радостный, причесанный и светлый Провожало его много народу: свой, по душе им был.
А засидевшаяся в девах, золотушная поповна, провожая, строила агроному глазки и тайно подсунула ему в карман полушубка четко переписанное пушкинское „Любви все возрасты покорны“ и цыганский романс „Зацелуй меня до смерти“ с летящим голубком и подписью: „на памить ни наглядному Пети от любящей Доси“.
Ближайшее после этого время проходило для всех под знаком ожидания.
Тридцатилетняя поповна Дося ожидала от агронома любовного признанья и дальнейших сердечных действий, Ксенофонт ожидал весны, чтоб приняться артелью за работу, Варвара ожидала родов. Дикольчей с нетерпением ждал, когда поступит из Москвы приказ на обратную мену с Ксенофонтом.
Но, видно, Варвара плохой оказалась свахой — поповне не судьба выйти за агронома замуж: Петр Иваныч тотчас же о ней забыл, подсунутую же в карман писульку прочел лишь месяц спустя с рассеянным недоуменьем, хотел выкурить на цигарки — жестоковато — и он завернул в нее, за недостатком бумаги, склянку с мочой больного барана Фомки: вечером произведет анализ.
Ксенофонт, ожидая весны, даром не сидел, а делал дело: купил с Петром и Павлом в рассрочку кой-какие сельскохозяйственные машины. Варвара разрешится от бремени, вероятно, к пасхе. Ожидания же Дикольчея оправдались, но не так уж скоро: Москва прислала волисполкому повторительную строгую бумагу на отзыв сельского общества.
И вот тут, чрез московскую бумагу, началась мужичья всклока.
Дикольчею, во что бы то ни стало, нужно снова обменяться с Ксенофонтом хозяйствами. А как же иначе? — у Ксенофонта теперь новый, большой, подведенный под крышу дом, старая же изба Дикольчея почти разрушена. Значит, в случае мены, дом отойдет к Дикольчею. А, кроме того, новый хлев, сарай, баня, да и земля теперь возделана как следует Не жизнь настанет, а лафа! Вот когда Дикольчей наляжет на работу: только давай! И пить теперь баста, справным Дикольчей будет мужиком, в партию запишется, не сегодня завтра его в кандидаты проведут. Эх, ловкое будет дело!
И Дикольчей стал бегать по бедным, по богатым мужикам, лебезил, сулил всяких благ сельскому начальству — у него, у Дикольчея, сильная есть в городе рука, такая рука, что ахнешь! Да что в городе, в самой Москве, там, можно сказать, с Ненилой все за ручку — „Здравствуйте, товарищ Колченогова“, — вот какова Ненила-то его. Заискивал он, конечно, и пред местным комсомолом:
— Вы, ребятки, в случае, делайте нажим. Я ваш, то есть самый левый… Вот я какой. А Ксенофонт что? Ксенофонт — человечишка очень даже вредный: как был кулаком, так кулаком и сдохнет.
И все, кого просил Дикольчей, обещали ему всякую подмогу. Даже студент географического института, сын местного крестьянина, Александр Егоров, задержавшийся, по болезни, на зимних каникулах в деревне, — и тот как будто склонен был держать сторону Дикольчея.
Хотя в московском предписании определенного решенья не было — Москва лишь интересовалась мнением сельской общины по столь исключительному делу, — но Ненила и Варвара появление бумаги из столицы объяснили по-своему: Москва-де обратно разменяться приказала.
И, к великому удивленью, снова поднялся бабий вой. Варвара убивалась потому, что ей до смерти жаль теперь расстаться с новым своим налаженным хозяйством. Нениле же сиделец втолковал, что, в случае обратной мены, Ксенофонт свой новый дом обязательно заберет на хутор, а в чем же Пенила с Дикольчеем будут жить? Нет, не желает Ненила обратной мены! Да, признаться, и обжилась Ненила здесь. И забыла баба, как она ползала пред защитницей Иверской, чтоб жить ей не на постылом хуторе, а на прежнем месте, в своем родном селе. И вот исполнилось просимое, приказ пришел… Ну, кто же виноват теперь: богородица ли благодатная или она, глупая Ненила — баба? И неответное сердце захлебнулось бабьим воплем:
— Матушка, богородица Иверская, поверни дело обратно! Шепни во сне милостивому председателю плешастому, чтоб несуразную бумагу нашу разорвал вдоль и поперек и в печку бросил! Матушка, услышь мольбу. А я те дар принесу большущий: тонкого-растонкого холста кусок…
Так преждевременно убивались по-пустому две темных деревенских женщины. И посмотреть на них со стороны — смешно и жалко.
— Дуры вы, дуры длинноволосые. Хоть бы остриглись, что ли, — журит свою Варвару Ксенофонт. — И кой же вас черт толкал по комиссиям-то шляться? А пришло дело к расчету — на попятную?! Эх вы, нелюди!
— Да, это та дылда-то… Ненилка-а-а… — пускала Варвара пузыри, утирая по-детски кулаками слезы. — Она все подбивала меня, она-а-а…
— Да что она тебе, муж, что ли, Ненила-то твоя?
— Тебя, дурака большебородого, было мне жал-ко-о-о… Трудов твоих над чужой землей жалко-о-о…
Собрание сельского общества назначено на воскресенье. А в субботу местной молодежью был организован предварительный митинг.
— Надо, товарищи, осветить вопрос со всех сторон. Дело вопиющее. Стопроцентное.
На митинг, в большое помещение школы, собралось немало народу.
Дикольчей пришел спозаранку и нарочно уселся против сцены, чтобы быть на виду у председателя митинга и молодежи. Он чувствовал себя именинником, на нем перешитые Ксенофонтовы желтая рубаха и широченные штаны, щеки его чисто выбриты, усы закручены кольцами, вид боевой, победоносный. И на картузе, где-то добытая им, медная красноармейская звезда.
Пред началом пришел Ксенофонт с Варварой и сели рядом с Дикольчеем. Тогда Дикольчей многозначительно сплюнул, быстро сорвался со скамьи и, крикнув: „Убежденья мои не позволяют!“ — пересел. Щеки и уши его вспыхнули, он не спускал черно-красных глаз с сидевшей на сцене молодёжи и даже подхалимно подмигнул председателю комсомола, шустрому Паньке Вкуснову: мол, примечай, Пантюха, каков я есть, с печенкой, селезенкой, с потрохами — весь я, братцы, ваш.
За столом, на сцене, человек с десяток комсомольцев, четверо бывших красноармейцев, студент Александр Егоров и другие.
В дверях показалась с заплаканным красным, некрасивым лицом Ненила. Она с саженной высоты усмотрела, где муж, и полезла к нему прямо через народ, опрокидывая пустые скамьи.
— Ишь, прется… Слон заморска-ай, — сердито протянул старик, которому упавшая скамья отдавила ногу.
И митинг начался.
— Товарищи крестьяне! — начал черненький, с задорным лицом председатель комсомольцев, Панька Вкуснов. — И вот, значит, товарищи, пред нашими взглядами всем известное дело, которое навязло у всех в зубах. И, несмотря, на зубы, его все-таки надо жевать, жевать, да еще раз жевать…
— А потом выплюнуть, — крикнул кто-то из темного угла.
— Благодарим за суфлерство! — ухмыльнулся во всю широкую рожицу шустрый Панька Вкуснов. — А потом, совершенно верно, в разжеванном естестве взять да выплюнуть в Москву на заключение, ибо Москва, Высшая земельная комиссия требует от вас, товарищи крестьяне, целиком и полностью, вашего мнения по сему поводу. И тода Москва решит, да или нет. Значит, предвидя это, на нас лежит стопроцентная нагрузка. Прошу, кто сознательный, скорей обдумать и, не задумываясь, высказаться в краткий срок. Прошу записаться ораторов. Серж! Принимай записки.
— А где карандаши? А где бумага? — опять насмешливо крикнул тот же голос. — А где грамотные?
Тогда поднялась Ненила и засопела так тяжко, словно залезла с поклажей на крутую гору.
— Я записываться, конешно, не умею, — сказала она дрожащим басом. — Я была, известное дело, у самого, конешно, председателя.
— Гражданка, сядьте! не ваш черед!
— Не сяду, андели мои, не сяду! — закричала, завсхлипывала Ненила. — Не сяду, покудь не посадите меня окончательно на хутор! Не желаю в обратную меняться!
— То есть как? Вы ж сами, гражданки… Вот копия вашего ходатайства.
— Рвите бумажку, андели мои! Рвите!..
Раздался дружный хохот. А Дикольчей незаметным образом, но со всей силы, как клещами, щипнул жену за холку: — Сядь, чертова баба, сядь!
И от стола звонок и окрик:
— Да сядьте же, гражданка Колченогова!
Баба села и, повернув к мужу озверевшее лицо, заскрежетала зубами. Дикольчей опасливо и быстро отъехал от супруги на аршин и тоже, стискивая зубы, зашипел:
— А, ну, попробуй, вдарь, вдарь, дьявол… — Потом вскочил и крикнул: — Товарищи организаторы! Не слушайте ее! Она с ума сошла!
— Тише, товарищ, сядьте! Слово предоставляется товарищу Стукову.
Встал сидевший за столом молодой мужик в шинели, бывший красноармеец, отхлебнул из кружки воды и начал…
Во время его речи Ксенофонт благодушно улыбался, потому что ясно слышал все слова. Озираясь вправо, влево и назад, победоносно улыбался и Дикольчей: речь говорившего не влетала в его уши, он был уверен, что оратор толкует в его пользу и обратная мена, конечно, совершится.
— Значит, резумировать доведется так, — надрывался в излишнем крике привыкший говорить пред большой толпой оратор. — Значит, так, товарищи. Сельский сход ни в коем разе не может допустить обратной мены. Это абсурд, товарищи! Кто такое Ксенофонт Ногов? Может быть, некоторые готовы подвести его под кулака? Но мы-то ясно видим, что Ксенофонт Никитич не кулак, а, можно сказать, герой труда, в прямом и ясном смысле!
Вдруг задвигались скамьи, раздались аплодисменты, шум. Дикольчей бросил улыбаться и внимательно стал вслушиваться в речь.
— Я иду дальше, товарищи. Тише! Уж ежели раз случилась такая несуразная, по пьяной лавочке, мена и раз Ксенофонт Никитич принял это всерьез, положив немало труда на участок Дениса Колченогова, то неужели же у нас подымется рука вселять его обратно на хозяйство, вдрызг разоренное и запущенное вот этим лежебоком, лодырем и пьяницей! — и бывший красноармеец Стуков возмущенно ткнул рукой в сторону вскочившего, пораженного в сердце Дикольчея.
— Врешь! К черту! — и, вырываясь от Ненилы, тащившей его назад за опояску, он лез к сцене и вопил:
— К черту оратора! Я сам орать горазд! Я знаю тебя! Я знаю, кем ты подкуплен-то! Много ль тебе Ксенофонт отсыпал?!
Но его выводили просвежиться милицейский и Ненила.
Митинг окончился поздно. Все речи были в пользу Ксенофонта.
На другой день крестьянский сход прошел точно так же с превеликим шумом. Было вынесено приблизительно следующее постановление:
1) Прошение гражданок Ненилы Колченоговой и Варвары Ноговой об обратном водворении их семейств по месту прежнего жительства считать по существу неправильным.
Основание к сему:
а) личный отказ просительниц, заявленный сего числа сельсходу, от поданного ими вышеуказанного прошения;
б) бывшее крепкое хозяйство Ксенофонта Ногова приведено нынешним владельцем оного Денисом Колченоговым в полный упадок;
в) бывшее слабое хозяйство Дениса Колченогова приведено нынешним владельцем оного Ксенофонтом Ноговым в цветущее состояние.
2) Вышеозначенное постановление сельсхода Длинных Поленьев препроводить в местный исполком для сообщения в Москву.
3) За бескорыстные неустанные труды по восстановлению чужого запущенного хозяйства и за идейную организацию на своей земле совместно с хозяевами Петром Назаровым и Павлом Кочевряжиным артельного хозяйства выразить Ксенофонту Ногову благодарность.
4) Денису Колченогову за нерадивое отношение к находящейся ныне в его пользовании земле объявить порицание.
Дикольчей и Ксенофонт выслушали это постановление молча, Ксенофонт поклонился и ушел домой в радости. Дикольчей громко плюнул, сорвал с картуза красноармейскую звезду, заломил картуз на ухо и, по-крепкому ругаясь, вышел. Вечером упился самогоном и был Ненилой нещадно бит.
IX
Оба семейства понимали, что, на чем постановил сельсход, на том будет и Москва стоять. Поверив в это, и Дикольчей и Ненила принялись за работу. Дикольчей мастерил из длинных жердин лестницу.
— Зачем тебе?
— А вот увидишь.
Кой-как сляпав лестницу, он приставил ее к высоким столбам, залез с ведром и мочалкой и с ожесточением стал мыть с мылом вывеску „Дикольче“. От гордости или от продолжительного пьянства у него закружилась голова, он упал с высоты, повредил ребро и на целую неделю слег.
А вскоре слегла и Варвара. Она родила черненькую девчонку, Акульку. Ксенофонт продержал Варвару в кровати пятеро суток, сам доил коров и вел женскую работу.
С весны у новой артели из шести семейств, с Ксенофонтом в корню, началась горячая работа.
Ксенофонт поехал к агроному за советом: в двух верстах от Длинных Поленьев есть бесхозная водяная мельница — ее бросил бежавший в революцию торгаш, — а что, ежели Ксенфонту с артелью ее к рукам прибрать?
И вот закипела работа. Артель меж делом и по праздникам с азартом начала восстанавливать полуразрушенную мельницу: Ксенофонт — мастак на все руки — делал наливное колесо, слив, лотки, Петр и Павел возили материал для будущей дамбы: камень, лес, глину, свежий хворост для фашин, — схлынет вешняя вода, можно приступить и к постройке плотины — щиты у Ксенофонта почти готовы, а придет осень — повезут мужики зерно молоть, благосостояние артели станет крепнуть.
Комсомольцы смотрели, смотрели и устроили в помощь артели субботник. В субботнике участвовали также и бывшие красноармейцы.
„Нет своих и чужих“, — думает, обтесывая бревна, Ксенофонт, и эта мысль теперь его не покидает. А поздно вечером, когда кончился субботник, Ксенофонт посоветовался с Павлом и Петром и заявил молодежи:
— Что же, братцы. Пускай эта мельница будет, коли так, общественная.
Красноармеец Стуков, помолчав и повертев головой во все стороны, сказал:
— Зачем?! Пусть она будет ваша, артельная. Инициативу и человеческий труд надо ценить. А на готовенькое-то всякий падок.
У Ксенофонта навернулись слезы, а как сел дома ужинать, едва кончил: побежал к Дикольчею — и всю дорогу кто-то нашептывал ему: „помощь слабому обратится в радость“.
— Вот что, дядя Дикольчей, — сказал он. — Ты злобу на меня запхай куда-нибудь подале. А иди ты к нам на мельницу — хочешь, хозяином будь с нами, хочешь— на жалованье определяйся.
— Нет, Окся… В хозяевы я не пойду, убеждения не дозволяют. А в батраки пойду, ну, только, чтоб восьмичасовой рабочий день.
И стал Дикольчей ходить на мельницу.
X
Наступило лето. Оно началось с теплых вечерних зорь, с переливных трелей соловьев в кустах. И небесная лазурь над полями, лесами и всей землей поднялась высоко и стала чистой. Ночи же были такие: представьте себе… Виноват… Что? Кто-то, кажется, позвал меня?
— Это я, это мой голос, товарищ писатель…
— Простите, простите. Я было совсем забыл о вас, дорогой невидимый зритель мой.
— Напрасно, я всегда возле вас и с вами. Я хотел сказать, что ваше лирическое отступление о соловьях, небесной лазури и прочем, по-моему, здесь совершенно излишне…
— Вы думаете? Благодарю вас.
Итак, к делу… В сущности, я мог бы здесь поставить точку и этим закончить свой рассказ. Но в дальнейшем и совершенно неожиданно для автора в семействе Дикольчея произошли чрезвычайные события, о которых вас, любопытствующий зритель, я должен поставить в полнейшую известность.
Меня прервали, кажется, на описании летней ночи, характерной для средней полосы России. Продолжаю.
Ночь была лунная, духмяная, певучая. Но Дикольчей, как водится, сладость этой лунной ночи проморгал. Ненила тоже проморгала. Зато верная собака Дунька ночью жалко выла, и трижды голосил петух.
Дикольчей, получив два пуда муки и двенадцать рублей деньгами за работу на мельнице, остался платой доволен, муку притащил домой, семь рублей отдал своей бабе, пятерку зажал и вечером пошел к сыну покойного Лохтина, тоже маляру, чтоб тот сызнова переделал работу своего отца: пусть вывеска будет красная, а по красному полю золотая надпись: „Денис Иванович Колченогов“ — полностью. Но маляр уехал в дальнее село подновлять церковь. Дикольчей от неудачи завернул в трактир побаловаться чайком, но вместо чаю выше меры выпил самогону, приполз домой пред утром, в избу идти не посмел, залез на сеновал, лег в сенцо и, сладко мечтая, как ему будет хорошо служить на мельнице, закурил трубку и уснул.
Пожар вспыхнул не сразу. Сначала полезли из щелей густые струйки темного дыма, потом клуб красного огня вместе с черной копотью прорвал соломенную крышу, и пламя яростно взметнулось во все стороны. Ненила выскочила из дому в одной рубахе и, как рысь, скачками взобралась по лестнице на сеновал. Дым лез в слуховое окно и в дыру на крыше, и Дикольчей, хранимый случаем, безмятежно спал. Но вот ток воздуха мгновенно изменился, огонь метнулся на людей. Дикольчей в страхе вскочил, опять упал, закричал: „Караул, грабят!“ Немила схватила его за ноги и поволокла к лестнице. На бабе вспыхнула рубаха. Страшно взвыв, она все-таки успела сбросить беспомощного мужа вниз и сама слетела по ступенькам, срывая с себя пылавшую рубаху.
Когда сбежались люди, огнем взнялся дом и все хозяйство. По дороге к хутору, на неоседланных лошадях скакал народ, в мах везли с водою бочки. Босой Ксенофонт мчал на паре коней с мокрой кошмой, топором, веревками. зычно гремел:
— Православные, спасай добро!
Все сгорело дотла. Сгорела и Дунька на цепи. У Дикольчея сильно обгорели усы и немного пострадал зад. Ненилу же увезли в больницу. Она неделю боролась со смертью.
В конце второй недели ее перевез к себе Ксенофонт. Ожоги быстро заживали, но доктор предупредил, что новая кожа нарастет и окрепнет месяца через два, через три.
Как-то вечером Ксенофонту взгрустнулось Не сказав никому, он пошел на чужое-свое пожарище. Сумерки были. Кругом головни, дрызг, обнаженная печь с рухнувшей трубой. И это все, что оставил огонь людям?
Ксенофонт снял шляпу, недоуменно, укорчиво взглянул на небо, и широкая борода его затряслась. И вдруг человеческая скорбь его сменилась злой, болезненной улыбкой: все прах и пепел, лишь цела, несокрушима вознесенная к небу надпись „Дикольче“. Ксенофонт взглянул чрез сумерки на нелепые слова, подошел поближе: обхватив столб вывески, припав головой к потемневшему от дыму дереву, сидел сгорбленный Дикольчей и тихо всхлипывал, не утирая слез.
Ксенофонт, приблизившись к нему, ласково тронул за плечо:
— Брось, дружок, брось. Было мое, было твое, теперь ничье стало.
— Да, брат Окся, да, — сказал, сморкаясь, Дикольчей.
XI
Жили все вместе дружно, в достатке и труде. Ксенофонт очень любил свою дочь, Акульку. Любил ее и Денис Иваныч Колченогов. Ненила и Варвара были между собою в мире. Но иногда, таясь друг от дружки и от мужей своих, — скрытно плакали только им одним понятными слезами.
В конце лета на престольном празднике у них был в гостях и агроном Петр Иваныч, и заведующий избой-читальней Николай Сергеич, и милицейский Щукин. Была также приглашена Варварой и тридцатилетняя поповна, Дося, она ярко накрасила губы фуксином, остриглась по-модному и завилась барашком. Но все хитренькие штучки, которые она всячески пускала в ход, не произвели на агронома ни малейшего впечатления: вместо любовных фраз и излияний, он бросал невпопад: „Что? Да, да…“ и продолжал разговор о восьмиполье, клевере, египетском овсе и племенных быках.
Почтенный годками избач Николай Сергеич, охмелев с двух стаканов пива, плакал, всех целовал, увещевая жить в мире и любви, потом стукнул кулаком по луже пролитого самогона и восторженно крикнул:
— Разумная книга — это все!
Подвыпивший Ксенофонт тоже расчувствовался. Он обнял агронома, поцеловал его в темя, в лоб, в нос и, когда дошел до губ, заплакал горько, ударил себя в грудь и заорал:
— Петр Иваныч, слушай, дружок, слушайте все, вся Русь мужичья, слушай! У меня, то есть у Ксенофонта Ногова, на душе радость. Помнишь? Радость, братцы, радость! Боле ничего не скажу.
Дикольчей обнимал смеющуюся жену приятеля Варвару и, утирая слезы, пел:
Собачка верна… верная его Запла… заплачет у ворот…Ненила посматривала на икону, икала и усерднейше крестилась.
XII
Утонул Дикольчей совершенно неожиданно. В осеннюю ночь была тьма, дождь и сильный ветер. Дикольчей на мельнице один — его дежурство.
„Эх, размоет плотину“, — с унылым раздражением подумал он, лежа под шубой в караулке и прислушиваясь, как бурлит и пыжится взыгравшая речонка.
В борьбе со сном и ленью он пролежал так час, потом бодро вскочил, надел полушубок и вышел на осклизлый помост над речкой открыть щиты.
Тело его искали три дня. Вытащили сетью, в версте от плотины, в омутах.
Могилу друга Ксенофонт обложил дерном. Шли дожди, и могила зеленела. А настало ведро, Ксенофонт срубил столбы с вывеской и привез домой. Собравшиеся крестьяне, словно в первый раз увидели, удивлялись этой огромной нелепой вывеске, материалом с которой можно бы обшить крышу большого дома.
Подслеповатый старичонка, попыхивая трубкой, зловредно говорил:
— Царство небесное маляру, Лохтину Степану. Хоть и пьяница горький был, а ловко угадал про Колченогова. Немец не немец, француз — не француз — Дикольче — хи, хи!.. Чужой он для земли, и земля для него чужая. Вот поэтому и утонул. Не приняла земля.
И автор, в свою очередь, спешит взять обратно нелестную характеристику почившего маляра Лохтина, приведенную в начале этой повести. Но автор тут же должен смягчить свою вину пред памятью Лохтина тем обстоятельством, что, приступая к написанию сей повести, автор совершенно не предвидел, к чему приведет и чем завершится творимая им жизнь.
Этот же литературный труд свой автор завершает так:
Ксенофонт из поддерживавших вывеску столбов сделал надмогильный памятник, обил его со всех сторон листовым с вывески железом и густо замалевал белилами.
А когда краска подсохла, комсомолец Панька Вкуснов, по просьбе Ксенофонта и его указанию, красиво написал: „Крестьянин Денис Иваныч Колченогое“. На обратной стороне: „От жены Ненилы и от друга его Ксенофонта Ногова, скорбящих в радости. Аминь“. На третьей стороне разохотившийся Панька Вкуснов остатком красной краски изобразил государственный герб с серпом и молотом, а пониже: „Пролетарии всех стран, соединяйтесь!“
Но приказом волисполкома всю третью сторону вскоре пришлось замалевать.
БРОДЯЧИЙ ЦИРК
Время летнее, — большая дорога к уездному городу, как и всякая дорога, помаленьку пылила. Мухрастая лошаденка с большим возом уныло переступала. Она измучена жарой, тяжелой поклажей и слепнями, но покорилась своей участи, плелась спокойно. На возу — сундуки, декорации, шесты, веревки, трапеции с металлическими кольцами, проплеванные, уснащенные грязью коврики и прочее имущество бродячего, кустарного типа цирка.
На расписном сундуке под блеклым зонтиком средних лет женщина. Сухощавая, загорелая, с ярко накрашенными губами, она похожа на цыганку. Рядом с нею девочка лет восьми, ее дочь Тамара. Непокрытая кудрявая голова ее вся в пыли, вся в бантиках. Возле воза мрачно шагает в ситцевой с расстегнутым воротом рубахе босой мужчина. Он — глава семьи, сам директор Роберти фон Деларю.
Подвластная ему труппа невелика: она бежит за телегой. Это две собачонки на свободе, — их кличка: Шахер-Махер, — да еще привязанная к задку телеги черная коза. Переполненное козье вымя роняет в пыль капли молока Ее сын, козленок, такой же черный, как и мать, от усиленной дрессировки и плохого корма третьего дня сдох: за полминуты до естественной смерти ему перерезали горло, и он попал в котел.
Кроме этих четвероногих артистов, на телеге в клетках помещались: двенадцать мышей, ушастый филин и курица с петухом. Петух умел петь по приказанию, знал таблицу умножения лучше, чем сам хозяин, курица тоже могла петь по-петушиному, но это удавалось весьма редко: она кукарекала либо до начала представления, либо когда все зрители уходили спать.
С некоторой натяжкой можно бы отнести к цирковым артистам и шкуру крокодила. Когда в шкуру залезала девочка, крокодил обычно оживал, выползал на арену, вставал на задние лапы, раскланивался с публикой и пищал, как заяц.
Главные же цирковые силы уже въезжали в уездный городок, в котором дня через четыре ярмарка. Это — чемпион мира, храбрый непобедимый борец Еруслан Костров, мужчина толстощекий, рыжий, бородатый. Он верхом на лошади, хорошо откормленной, но чрезвычайно старой. Еруслан Костров на левую ногу чуть-чуть хромает: нога повреждена в городе Бежецке самым обыкновенным банщиком, которого борец вызвал на состязание. Слегка подвыпивший банщик Пупков Андрей охотно вышел с галерки, быстро положил совершенно пьяного непобедимого борца на обе лопатки, нечаянно выдернул ему из сустава ногу, получив пять рублей, и смирнехонько, не отвечая на восторженный рев публики, ушел в ближайшую пивную.
Директор цирка, шотландец Роберти фон Деларю, хотел выгнать Еруслана Кострова вон, однако за него вступилась страхкасса Через шесть недель борец поправился и стал еще крепче, еще непобедимее.
Дрессированная лошадь, на которой торжественно, как Санчо Панса, въезжал в город Еруслан Костров, была шоколадного цвета с сильной проседью. Наверно, через год лошадь окончательно поседеет или, что вероятнее, будет сведена на живодерню. Кличка ее — Жозефина-Неподгадь. Такое сочетание слов иностранного и русского на первый взгляд довольно непонятно. Но дело в том, что оно заслужено престарелой лошадью по справедливости: во время вольного аллюра и размеренной скачки на арене Жозефина-Неподгадь сильно растрясалась, ее начинало изрядно слабить. Такой конфуз обычно вызывал смех и хулиганский гогот несдержанной толпы. Директор цирка в предотвращение подобных неприятностей, а также в видах очевидной экономии решил кормить лошадь очень мало, а накануне "гала-представлений" держать ее на одной воде, сдобренной каломелью и прочими цыганскими укрепляющими желудок средствами. Тем не менее, как уже видел читатель, благородное животное и не думало спадать в теле.
Вот и вся труппа бродячего цирка.
Впрочем, сзади в неведомых пространствах, двигался целый кортеж всяческих зверей: два леопарда, бенгальский тигр, ягуар, пантера и медведь-муравьед. Кроме того, должны вот-вот прибыть выписанные из Берлина и Токио знаменитые эквилибристы, жонглеры, фокусники, трансформаторы.
Шотландец Роберти фон Деларю счастливо улыбается в длинные, свисавшие черные усы, озирается назад, в ту таинственную даль, где по его следам влечется его слава и богатство. Но это лишь его мечта. Он знает, что сзади ничего нет, кроме прожитых в нужде злополучных дней. А впереди — лишения, труд, унизительное прозябание, смерть. И директор с длинными усами тяжко вздыхает. Но все-таки мечта берет свое, она уводит его из будней в праздник.
Шотландец Роберти фон Деларю был холмогорский мещанин, и звали его Иван Васильевич Толстобоков. Цирковое же прозвище это, неизменно красовавшееся на афишах, придумал акробат мистер Мартенс (полотер из Ростова-на-Дону Мартынов). Выдумав прозвище своему патрону, он, каналья, сбежал из цирка с директорской любовницей Матильдой, танцовщицей. Новокрещеный Роберти фон Деларю с горя запил. Но все кончилось общим благополучием: директор Иван Васильевич Толстобоков приобрел звучное титулованное имя, мистер Мартенс — образцовую любовницу, законная жена директора — Федосья Никитишна фон Деларю — прежнюю верность мужа.
1. Слон
Агент коммунального отдела отвел цирку место на торговой площади. Прежде всего был сооружен из брезента большой шалаш, в котором поместились хозяева и четвероногие артисты. Что касаемо всемирно известного борца и Жозефины-Неподгадь, они временно ночевали под открытым небом. Ни Еруслан Костров, ни хозяева за лошадь не боялись: не было возможности такую старушенцию угнать. Это установлено в городе Кромах случайным опытом. А именно: после выгодной ликвидации всех дел и директор и сподручные напились до беспамятства. Этим воспользовались темные люди, конокрады. Они в два кнута пороли лошадь, тыкали ее в холку острым шилом, с остервененьем волокли за хвост. Жозефина-Неподгадь стояла, как вкопанная, только похрапывала и мотала древней головой. Так мазурикам и не пришлось украсть коня: они взмокли, изругались, иссердились и с пожелтевшими от ярости глазами ушли домой, сняв на память с Еруслана Кострова смазные сапоги. Вот как было дело.
А теперь на новом месте, благополучно восстав ото сна, холмогорский шотландец Деларю купил в лесном складе бревен, жердья и досок. Тут пришел конец его скудным капиталам. Расходов же предстояло множество. Нужно нанять трех плотников, гармониста, барабанщика, двух ответственных рабочих, нужно прикупить ситцу, кумачу, стеклярусу для декораций… Нужно… Да мало ли чего необходимо в спешном порядке закупить… Эх, черт возьми! И это — жизнь.
Но директор Деларю не из тех, что с первой неудачи клонят голову, директор Деларю ловко выходил из всяких положений. Впрочем, ему усердно помогал и Еруслан Костров, его земляк по Холмогорам. Вот и на этот раз он быстро раздобыл чрез биржу труда трех безработных плотников: Фому, Григория и Луку. Правда, плотники они плохие, они, можно сказать, ни топора, ни пилы в руках не держали: двое — пропившиеся шорники, третий же, Лука, профессиональный нищий-попрошайка.
Плотники хозяину понравились, особенно Григорий и Лука.
— Я вас, ребята, без хлеба не оставлю, — сказал им мистер Деларю. — Будете мне ответственными артистами. Я, конечное деле, до сих пор на ваше сальто-мортале не надеюсь, в видах неуклюжести вашей физкультуры, но что касаемо всего прочего, то… Поняли, ребята?
— Ну, ясное дело… — ответил брюхатенький карапуз Лука. — Да что мы, утки, что ли, без понятиев которые? Я, например, долгое время на руках могу идти.
Хозяин показал им все премудрости, открыл все свои секреты, целый час тренировал их и, уходя, проговорил:
— В случае чего, ребята, не ударьте в грязь лицом. Ну, благословляйте. Жена, благословляй! Пошел…
Куда идти? Городишко незнакомый. Однако частной торговли на базаре препорядочно А было воскресенье. Выспросил он сторожа базарного, кто из торговцев порастяпистей да подобрей, записал в книжонку и — прямо по квартирам. Вид у директора на дальнем расстоянии залихватский, щегольской. На голове — цилиндр, служивший ему для фокуса с яичницей. Правда, цилиндр довольно мятый, штопаный: каналья мистер Мартенс во время схватки из-за балерины с такой силой ударил кулаком по хозяйской голове, что цилиндр лопнул в трех местах и нахлобучил хозяина по самый рот. Брюки горохового цвета, сильно траченные молью, из-под брюк выглядывают хотя и трепаные, но лакированные туфли, надетые, к сожалению, на босую ногу. Пиджак и жилет тоже приличные, светло-синие, с мелким красным крапом, но очень широки, не по фигуре. Они принадлежат Еруслану Кострову — дар благодарных граждан Старой Руссы. Оцилиндренный наряд директора завершала изящная трость с набалдашником из яшмы. Этой тростью он был многократно избиваем в разных городах России за нечистую игру в картишки.
Высокий, стройный, сын торговца квасом и дрожжами, насквозь русский Деларю (он же Иван Васильевич Толстобокое) имел иностранное лицо: желтое, продолговатое, скуластое, со втянутыми щеками, с огромными свисавшими на грудь черными усищами. Они придавали ему рыцарский отважный вид и никак не мирились с русским толстым ноздрястым носом. Глаза же были черные, цыганские, чуть-чуть наглые и в меру глуповатые. Многие принимали его за серба, за хорвата, он же величал себя французским шотландцем русского происхождения и в разговорах с незнакомыми всегда коверкал речь.
Он успел побывать у пяти зазнавшихся торговцев. Трое сразу послали его к черту, четвертый — к дьяволу, а пятый обозвал его по-непечатному. Что ему делать? А денег надо… Директор свирепел.
Необычным для этого глухого городка директорским костюмом заинтересовалась бредущая из собора с просвиркой в руке бодрая старушка.
— Здравствуйте, барин, — поклонилась она и, пожевав морщинистым ртом, сказала: — Видать, приезжие. И шляпочка циликдрявая, как встарь. Давно не видывала таких правильных господ. А я вот место ишу, за одну прислугу…
— В прислуге я не нуждаюсь. А дело вот в чем… — и директор, покручивая тросточкой, поведал благочестивой старице про свой финансовый крах и неудачу.
С внезапно мелькнувшим подозрением старуха схватилась за карман — целы ли деньги, потом, опомнившись, дружелюбно указала неторопливой рукой вперед:
— Ступайте-ка вы, гражданин, вон в тот домик голубенький. Там никудышный человек упомещается, торгующий. Как бунт был, ему из-за угла мешком с горохом по темю вдарили. После этого он стал рассудком недоволен. А в долг дает, по проценту ежели…
Мистер Деларю в нерешительности остановился возле голубого коммунального домика, арендованного бывшим его владельцем. Минуты две раздумывал: звонить ли с парадной или тихо, смирно с черного крыльца. Но, сообразив, что он как-никак директор, может быть, кандидат в заслуженные артисты, а купчишка, пред квартирой которого он стоит, наверное, живоглот, выжига, лишенец, ну и… дыр-дыр-дыр, — с парадной.
Отпер сам Петр Петрович Самохвалов, — слабая карикатура на Сократа, — присадистый, курносый, лысый, с подстриженной рыжей бородкой, очки на лоб, — видно, близорукий, что-нибудь читал.
— Чем могу? — недовольно сощурил он свои сморщиненные белесые глаза.
— Представляюсь, директор первоклассный цирк Роберти фон Деларю… — при этом держа цилиндр двумя кончиками пальцев, директор галантно провел им горизонтальную черту пред самым животом купца.
— Извините, нам в цирк не по пути…
— Короткий слово! — и директор вставил в цыганский глаз монокль. — Наслышамшись о вашем просвещенном добродетели…
— Что, денег? Нету у меня денег! — купец мотнул головой так сильно, что его очки переехали к виску. — Эвона какие налоги с вам дерут… Впору самим в цирк поступать ломаться…
— Под верный обеспеченье!.. Аля франсе… — вновь воскликнул директор и бочком, оттирая хозяина, пролез в крыльцо.
— Какое ж у вас может быть солидное обеспеченье? Да проходите в комнату… А вы, простите, бога ради, не новый финспектор?
— Нет, нет!.. Что вы. Мы ваших финов боимся… эго, как ее?., в два раз хуже холер…
— И вам прижимка?.. — захлебнулся удовольствием купец.
— О-о-о! — закатил глаза директор и вздохнул. Он стоял теперь в похожей на часовню комнате хозяина, поспешно перекрестился на иконы и сказал:
— Еще раз адью от всего сердца.
— Вот это приятно, — улыбнулся хозяин, — милости просим присести. Видать, не русский, а религию блюдете…
— О, да, да… Я ошень, ошень религиозна.
— Так, так… Много мирсите вас… А вот мы по-иностранному не можем, все больше по-русски выражаемся. Та-а-к… Ну-с, а какое ж обеспеченье у тебя?
— Например, дрессированные мыши. Двенадцать штук.
— Что? Мыши?! Да ты шутишь или смеешься? На какой ляд мне твои мыши? Их любая кошка съест… Вот тебе и обеспеченье.
— Напрасно такой понятий о мышах… Мышь мышу рознь…
— Тьфу! Да я их больше разбойников боюсь. А нет ли у тебя золотых часов? Нуждаюсь в часах.
— Часов, извиняюсь, нет. А вот коза с Карпатов. Очень дрессированная, дойная.
— Коза — не подходяво. Я человек холостой, в годках. Правда, что монашка приходит ко мне по субботам полы мыть, это верно. А вот нет ли у тебя колечка с бриллиантом? В этом товаре шибко нуждаюсь.
— Нет, колечка, извиняюсь, нема, а вот аля слон есть.
— Слон?
— Так точно, слон…
— Под слона могу. Это все-таки видимость… Сколько желаешь в долг? Да как тебя звать-то?
— Роберти Робертинович, а попросту — Франц Францыч. Мне желательно два ста пятьдесят, ну, в крайнем случае, три ста, не откажусь и от пять сот.
— Что?! Да ты очумел, никак. Окстись!.. Пять червонцев и — ни гроша больше. И то от силы… И то после личного усмотрения… Велик ли он?
— Слон молодая малчик… Старая аля слон в Африке стоит пять тыщ. Я давал три. А молодая слон, как я член кооператива, отдали за полтора тыща золотом.
Петр Петрович поспешно взял картуз, сказал:
— Пойдем усмотренье животной делать. Ежели зверь надежный, семьдесят пять дам. Вернешь сто. А в срок не вернешь, — слон мой. Слонов я уважаю. Я его в огороде буду держать. Выращу — продам. Условье заключим домашнее. Я к ихнему, советскому нотариусу не пойду. Даже противно мне все это ихнее. С глазу на глаз говорю тебе, как честный человек. Идем, Франц Францыч…
— Слон сейчас ерпертиц делает. Будьте столь добры через трисать пьять минута. Площадь на соборе.
— Ха-ха. На соборе. Понимаю.
Директор чуть не бегом, к сооружаемому цирку — быстро все наладил к приему простоватого купца-заимодавца.
Вскоре явился и Петр Петрович Самохвалов. С тучным упитанным брюшком, рыжебородый, раскрасневшийся, он повиливал картузиком в пухлой руке, щурился на встречных и обмахивался клетчатым платком. На его отечных ногах суконные о длинных голенищах сапоги.
— Але за мной, прошу, — сказал хозяин: он в желтом казакине, в красной турецкой феске, из-под которой живописно свисал черный чуб, в руке хлыст дрессировщика.
Подошли к палатке, обращенной входом к посеревшему вечернему востоку.
— Вот молодая объективная слон тридцать три годофф, — коверкая язык, сказал директор. — Кличка Тубо.
— Тридцати трех?! Так сколько ж они, дьяволы, живут?
— Полтыща лет живут.
— Аяяй… Аяяй! — и Петр Петрович прищелкнул языком. — Вот бы столько нам с тобой…
Меж тем слон Тубо, величиною с обыкновенную корову, переваливаясь с боку на бок, топтался на месте и старательно раскачивал хоботом вправо-влево.
В палатке довольно сумрачно, и подслеповатый Петр Петрович попросил:
— А нельзя ли его выманить на улицу? Туба, Туба, Туба!.. На сахару, на!
— Никак не можно. Будет убежаль… Лошади боятся, люди боятся… Нет… Вот пожалте в цирк, представленье, там светло.
Петру Петровичу показалось, что слон чихнул.
— Будь здоров, — слегка поклонился он слону.
Слон взмотнул хоботом, подпрыгнул передними ногами и опять чихнул. Директор сердито кашлянул.
— Ого, насморк… — пособолезновал купец.
— О, нэт, нэт!.. Это у него отрижка… В живота.
— А пошто же он ни разу не взмигнул? Пялит глаза, а не мигает.
— Это немигающий пород.
— А пошто же уши не шевелятся?
— Шевеленье ушей с пятидесяти лет, хозяйн.
Петр Петрович удивленно оттопырил губы, покачал головой, сказал:
— Ну, ничего, ничего… Слонишка добрый. Ничего. Получишь сто рублей. Отдашь полтораста. Приходи вечером на квартиру.
Он подал директору два пальца и направился к набережной.
Фыркая, постреливая и распространяя вонь, трехколесная машина промчалась мимо него под гору. В прицепке — чернобородый заместитель председателя исполкома.
Петр Петрович остановился, негромко закричал: — Усь, усь, усь! — и быстро сделал из двух указательных перстов крест: верное средство, — либо колесо долой, либо в ухабе седоки закувыркаются, как зайцы. Однако классовые враги купца благополучно взяли ухаб и ходко подымались в гору.
Петр Петрович разочарованно присвистнул и промямлил в бороду:
— Чтоб вам в неглыбком месте утонуть.
* * *
В четверг началась ярмарка На цирке заалел кумачный флаг. Вся площадь покрылась лесом поднятых оглобель. Пропахший конской мочой и дегтем раскаленный воздух ржал, свистел, дудил, потрескивал и барабанил. Потные горожане и крестьяне расхаживали среди многочисленных парусиновых балаганов и за отсутствием нужных товаров покупали пряники, горшки, халву, игрушки, уксусную эссенцию, помаду, ярославский сухой квас. У кооперативных палаток не пробьешься. Жулики вырезывали у зевак карманы. В двух местах поймали конокрадов. В третьем, у собора, ревнивый муж попробовал поучить со щеки на щеку жену, но тотчас же попал в участок. Возле каруселей захлебывались гармошки и шарманки, им подвывали нервно настроенные псы. Солнечный день обливал всех зноем. У мороженщиков— очередь. Ребята и бездельники, проглотив на пятачок мороженого, снова становились в хвост.
Цирк успел выдержать три дневных сокращенных сеанса — пятнадцать копеек вход — и готовился к вечернему "гала-представлению".
Всякий-раз народу набивалось до отказа. Стены цирка трещали. Директор Роберти боялся, как бы галерка не провалилась в тартар.
Но вот и "гала-представление".
Петр Петрович Самохвалов, плечо в плечо с миловидной полной женщиной в шелковом платочке, торжественно восседал на третьем месте, красовался: то залихватски подбоченится и выставит ногу в суконном сапоге, то помашет беленьким картузиком и крикнет чрез весь цирк бородатому приятелю:
— Наше вам! Гуляем?!
Время от времени он тянет из боржомной бутылки настоянную на калгане водку и передает ее своей очаровательной соседке:
— Освежитесь, мадам Матрешечка: жара!
Меж тем представление идет своим порядком: восьмилетняя Тамара, одетая ангелочком с крыльями, разъезжала по маленькой арене на Жозефине-Неподгадь, проскакивала в обруч, посылала воздушные поцелуи Петру Петровичу, галерке, начальству и всему цирку враз. Жозефина-Неподгадь, к удовольствию директора, вела себя прилично.
Следующим номером директор Деларю становился посреди арены, раскидывал руки в стороны, изображая собой крест, и кричал куцым собачонкам:
— А руки мисс алё!!
Собачонки Шахер-Махер с разбегу перепрыгивали через хозяина и, тяфкнув на публику, ходили по арене на дыбках. Шахер одета в красненькую юбочку, Махер — в желтые штанишки.
Затем шли: крокодил, куры с петухом, мыши, заяц, затем жена директора, затянутая в чешуйчатый блистающий корсаж, вместе с прибывшим акробатом работали на трапеции, на кольцах. И в заключенье — слон.
Это африканское чудовище неестественно семенило передними ногами, словно подвыпившая баба, тогда как задние ноги шествовали трезво, медленно и вполне спокойно. Директор в гневе подскочил к слоновьей голове и что-то крикнул. Тогда передние ноги зверя зашагали вдвое медленней, зато задние, не поняв директорского окрика, вчетверо ускорили свой шаг. Озлобленный директор бросился к хвосту и снова скомандовал в слоновый зад. Наконец, походка зверя стала ровной, трезвой, натуральной.
Петр Петрович номера со слоном едва дождался. От жары и водки его изрядно развезло: сидел теперь в одной жилетке, босиком.
При появлении слона раздались дружные хлопки, и Петр Петрович бахвально заорал:
— Это мой слон! Вот расписка… Туба! Туба! На сахару! На боржому!
Пять музыкантов заиграли в трубы. Два барабана свирепствовали с оглушающим усердием. Слон протанцевал вальс, изобразил пьяный мужичий пляс и сел на барьер, свесив в песок телячий хвост.
Из публики полетели на арену булки, яблоки, конфеты. Тамара подбирала их в корзинку.
— Отдай слону, — закричали с мест. — Нам любопытно, как он будет чавкать.
Директор стегнул по воздуху хлыстом, поклонился, объявил:
— В видах сильный катарр, слону запрещено кушать всухомятка. Он кушает жидкий кашка…
— Товарищ, ошибаетесь! — зазвенел голосом молоденький рабкор местной газетки Костя Марков и привстал. — Ежели вы грамотный субъект, прочитайте у Брема: слон съедает по пяти пудов сена и пьет по тридцать ведер воды. Вы, видимо, еще в самокритику не попадали? И прошу не затемнять массы.
Петр Петрович изменился в лице, и сердцу его стало неприятно. Пять пудов в день! С ума сойти… На кой же черт тогда ему этот обжора слон?..
— Эй, Франц Францыч!.. — крикнул он, — Ниспровергни мальчишку, врет!
— Ша! Ша! — старался директор остановить галдевших зрителей. Вот он хлопнул еще раз бичом, проговорил: — Большая слона кушает ровно четыре пуда трисать фунтов. Это ми знай не хуже ваш Брем, который врет! А это маленкой слона, мальчик. Он кушает ошень, ошень мало.
От души Петра Петровича отлегло.
В общем же "гала-представление" кончилось благополучно. Директор завершил программу интересным фокусом, пленившим жадную к зрелищам толпу. Он пригласил желающих выйти на арену и выстрелить из пистолета в директорскую руку. Стрельца не оказалось. Тогда вышел рабкор Костя Марков. Директор вручил ему старинный пистолет:
— На пять шагов назад. Але! — и вытянул правую руку ладонью вперед, к дулу, изобразив собою букву Г. — Прошу попадать в ладонь…
Рабкор Марков мужественно взвел курок. Петр Петрович вскочил с места, закричал:
— Застрелит! Застрелит!.. При свидетелях заявляю: Франц Францыч должен мне сто пятьдесят рублей!
Грохнул выстрел, Петр Петрович взлягнул босой ногой и в страхе сел. Директор схватился за ладонь. Всем видно было, как меж пальцев простреленной ладони струится кровь. Рабкор же бросил на песок дымящийся пистолет, сделал руками жест, будто отметая от себя вину в свеем поступке, пожал плечами и растерянно пошел на место. Директор все еще унимал кровь, запорожские усы его дрожали, он сделал лицо страдальческим и приказал помощнику:
— Таз. Воды…
Жалостливо покачивая головой, помощник поливал воду, фокусник тщательно мыл руки, стонал. Его страдание передалось всему цирку: любопытствующая тишина нарушалась общими вздохами. Вода текла красная, окрашенная кровью.
Петр Петрович очень боялся крови, он от волнения стучал зубами, пальцы на ногах судорожно крючились.
Фокусник с неимоверной болью на озлобленном лице ковырнул ладонь, и на дно таза упала, звякнув, пуля. Безмолвствовавший цирк передохнул и многими голосами прозвучал:
— Пуля… Пуля…
Директор поднял двумя руками за края таз, подошел почти вплотную к первому ряду, где сидел рабкор Костя Марков, и громко заявил:
— Вот ви, товаришш, меня маленечно стрелял, а теперича я на вас лью весь помой!.. — он широко взмахнул тазом и…
При таком неожиданном жесте фокусника передние ряды покачнулись, как кусты от бури, многие же разгневанно вскочили, а Петр Петрович с визгом: — Брось, окатишь! — провалился меж скамеек. Но вместо омерзительных помоев из таза хлынул целый поток разноцветных печатных листков-объявлений.
Тогда раздались радостные крики — браво, браво! — восторженный хохот и аплодисменты. Музыканты заиграли туш. Директор объявил:
— Представление окончилось… Спасибо посещень! Мирен!.. Читайте новый афиш… Пожалюйте. Мирен!
Стали тушить огни. Публика расходилась. В листках, порхнувших из таза, напечатано:
"ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ.
Завтра и каждый день вечером выступает неустрашимый, непобедимый, всемирно известный товарищ Еруслан Костров, который доводится славному богатырю товарищу Еруслану Лазаричу родным правнуком, всякий может убедиться из русской сказки.
Подробности в афишах. Читайте, читайте, наш цирк навещайте. Будет показана международная секция.
С почтением — ДИРЕКЦИЯ".
Меж тем подвыпивший Петр Петрович в сопровождении близкой ему пышной дамы направился смотреть слона. На пути он пригласил двух своих приятелей, мясников Петрова и Лаврова с женами и ребятишками.
— Франц Францыч, уважь, покажи слона.
— Слон спит-с…
— А ты разбуди… Эка штука, спит. Партейных ответственных и то другой раз будят.
— Тревожить вредно… Может взбеситься…
— Да что он, младенец, что ли, двух по третьему? Уважь. Вот компания со мной. Детишкам удовольствие… А я тебе еще червончика два подбросил бы.
— Червончика два? Прошу присесть на барьер. Один минут! — и смущенный директор ушел.
К великому огорчению, лишь только кончился номер со слоном, оба рабочие, Григорий и нищий брюхан Лука, в стельку напились и теперь бесчувственно дрыхли в лошадином стойле. Шкура же слона, сшитая из сорока грубых, прокрашенных в мышиный цвет мешков, в которых крестьяне привозят на базар картошку, печальной тенью висела на шесте.
Но многократно битый директор Деларю и на этот раз вышел из скандального положения полным победителем. Сделав лицо трагическим и в отчаянье ломая руки, объявил сидевшим на барьере, что слон бежал, что вся его труппа, в составе тридцати двух человек, носится по городу в поисках слона. Он схватил растерявшегося Петра Петровича за руку, повлек его в лошадиное стойло и, указав на храпевших Григория и Луку, гневно прошипел в самый нос купца:
— Чрез эта пара пьяных дурак я совсем пропал.
— А как же деньги?.. — задышав винной вонью, спросил купец.
— Слон нет, деньга нет. Слон будет, деньга будет, — пожимая плечами и глядя в землю, сказал директор Де-ларю.
Бывший купец плюнул и со всей компанией ушел.
Оба мясника, Лавров и Петров, дорогой говорили ему:
— Слон — вешь выгодная. Ежели сотню дал, не прогадал. В случае чего, слона и на бойню можно. Слоновье мясо живо на базаре разберут. Да покупательница и не услышит, как нагреем ее. Ей скажешь слонина, и она поймет свинина или солонина.
— Да уж я маху не дам. Меня, брат, трудновато облапошить, — хвастливо заносился простодушный Петр Петрович, подмигивая своей любезной даме.
* * *
На другой день до Петра Петровича долетели слухи: никуда слон не убегал, да и убежать не мог. Он поддельный — не пьет, не жрет, под хвостом зашито.
Петр Петрович, этому сначала не поверил, но слухи нарастали, становились все упорней, диче. Стали говорить, что в этом цирке все поддельное: и крокодил, и собаки, и куры с петухом, да, может, и сам хозяин — не хозяин, а черт его знает что.
К довершению всего к Петру Петровичу ввалился подвыпивший по ярмарочному времени сосед сапожник Осипов. Он недолюбливал бывшего купца за то, что тог застрелил в огороде его кошку.
— С поздравочкой к тебе, товарищ Петр Петров!.. Ха-ха… Умыли тебя со слоном-то? Плакали твои денежки.
— Ступай, ступай, — выталкивал его за ворота Петр Петрович.
— Да я-то пойду… — упирался сапожник Осипов. — Я пойду… Мне недалечко… А ты-то? Эх ты, рыжий барбос! Вредитель. Семь разов дурак. Только полный ади-от может под слона деньги в рост давать… Ты пошто мою кошку застрелил? А?.. Она тебя трогала? Слон ты, дьявол!!
Петр Петрович нахлобучил картуз и ходу — прямо в цирк.
— Франц Францыч, кажи слона.
— Слона, извиняюсь, купаться увели. Воспарение нутра.
Бывший купец надвинул картуз на затылок, замигал, крикнул:
— Врешь!.. У нас и реки-то настоящей нет. У нас негде купаться!
— В пруд увели…
— Врешь! У нас и пруда нет!
— Ну, значит, к колодцу.
— У нас нет колодцев!.. Врешь! Врешь! Врешь!.. — топал купец обутыми в суконные сапоги ногами.
Франц Францыч с опаской поглядел па взбесившегося Петра Петровича, спросил его:
— Откуда ж вы воду пьете?
— Нет у нас воды! Мы не пьем воду! — визжал купец, брызгая слюной… — Где слон? Подай сюда слона! Подай!!
Он с силой сгреб директора за галстук:
— Деньги назад! Сто целковых! В суд! В суд!
Директор Деларю стоял деревянным болваном безмолвно, недвижимо, лишь запорожские усы мотались, как хорьковые хвостики на старомодной шубе. Однако мозг его работал с напряжением, вовсю:
— Извиняюсь, — прохрипел директор Деларю. — Пардон. Дело вот в чем… Пожалте чрез полчаса.
Но тут выполз из конюшни пьяный Лука. Бывший нищий, он частенько получал от Петра Петровича у церкви пятаки и, чувствуя благодарность к благодетелю, решил вступиться за его поруганную честь.
— Петр Петрович!.. Ваше степенство, — его язык заплетался не менее, чем ноги: одетый в рвань, толстобрюхий, низенький, с красными гноящимися глазками, с кой-какой немудрящей бороденкой, он походил на типичного пропойцу. — Значит, прямо говорю: обжулил он тебя, слонов никаких у нас не водится… Ни слонов, ни крокодилов… Одно мошенство…
— Пошел вон! — топнул на него директор.
— Стой, стой, — напористо проговорил купец. — Сказывай.
Лука тоже промямлил:
— Стой!.. — и, закренделяв ногами, шлепнулся в навоз. — Вот он слон, вот, вот… Видишь, на шесте висит?.. — со слезой, с хрипом бормотал Лука, указывая на висевшую в конюшне сшитую из мешков слоновью шкуру. — Мы с Гришкой работали в этой одежине, он впереди, я по случаю малого роста в самом заду хвостом вертел. Господи боже, грех-то какой, сколько народу православного мы на обман взяли, не говоря о партейных… — и Лука горько заплакал.
Купец выпучил пожелтевшие глаза, дико покосился на директора, на пришитый к слоновой шкуре телячий хвост, разинул рот и замер.
"Как бы долг не потребовал, лишенец чертов", — с боязнью подумал похолодевший Деларю.
— И денег не отдашь? — затряс головой купец.
— Расписка под слона. Слон нет — деньга нет.
По лицу купца волной прошла обида. Вздохнул, взглянул на небо и, покачивая головой, трогательно проговорил:
— И кого ты надуваешь? Ты церковного старосту надуваешь.
Мистер Деларю опустил голову и для приличия всхлипнул.
— Ну и ладно, бог с тобой, — примиренно сказал купец. — Придвинься-ка.
Роберти фон Деларю в облегченной радости шагнул к купцу и подхалимно, унизительно заулыбался.
Набожно осенив себя крестом, купец сказал:
— Другие межеумки отрицают сны, а я в сны верю. Я вчерашней ночью видел — знаешь, что?
— Никак нет-с… Чего же-с? — весь распластался Деларю.
— Будто бы подходит ко мне какой-то обормот и говорит мне: я, говорит, делаю из мухи слонов, из слонов дураков. Дозвольте, говорит, вас надуть…
— Аяяй… Аяяй… — соболезновал директор.
— Да. И вынимает он, подлец, велосипедный насос с кишкой… Чтобы, значит, надуть меня.
— Аяяй… Аяяй…
— Я вскочил, развернулся да как в ухо ему рраз!! — и купец с такой неожиданностью ошарашил директора по битой голове, что тот прытко побежал взад пятками и перелетел чрез ползавшего на карачках брюханчика Луку. Купец же быстро, не оглядываясь, зашагал домой.
Вездесущие мальчишки кричали ему вслед:
— Слон! Слон! Эй, слон!
Он шел молча, ускоряя ход. Ныло под ложечкой, болел все еще сжатый кулачище, густо накатывалась слюна. В глазах рябило: проплывали зеленые слоны.
2. Бычка-трычка
Завтра вечером храбрый, неустрашимый, всемирно известный Еруслан Костров начинает свои цирковые номера с быком.
Накануне выступления он купил две бутылки водки и пошел в ближайшую деревню Черепенино в гости к мельнику, с которым он свел знакомство на базаре.
В сущности, хромоногому борцу незачем было бы ходить за три версты в гости да еще со своей выпивкой. Но у мельника имелся приличный бык, авось мельник, соблазнившись угощеньем, и даст его во временное пользование непобедимому борцу.
Еруслан Костров перешел по горбатому мосту небольшую речку и, заметив махавшую крыльями мельницу, направился прямо к ней.
Черный с проседью, красноносый мельник встретил его, как закадычного приятеля. Мельник вдов, бездетен, но у него жила молодая, высокая, богатырского сложенья девушка. К несчастью, она всегда носила по левому глазу черную узкую повязку. Что за этой повязкой, — никто не знал, даже сам мельник, но, во всяком случае, с глазом Насти было неблагополучно. Через эту черную повязку она осталась в перестарках, женихи проходили мимо. Настя бросила свою большую бедняцкую семью и поступила в батрачки к мельнику Брюханову. Мельник соблазнил ее, но жениться на ней медлил. Он как бы испытывал бескорыстную ее верность и преданность себе. Жила девушка у мельника два года. Сытая жизнь казалась ей тягостной, немилой. Он сильно ревновал ее. Попервоначалу, когда мельник надолго уходил в город или в лес, запирал девку в баню.
— Веры у меня в твое бабье положенье нет. Сиди. Кроме всего прочего, я — колдун. Я все твои мысли-гусли знаю. В случае чего — в кота обращу или в чушку… Век свой обороткой будешь по земле мотаться да похрюкивать.
Он плевал на замок, громко кричал заклинанья, чтоб слышно было Насте:
— Заплевано, заковано, замазано, приказано! Эй, слуги, черти, карауль, с вас весь ответ сниму!
Настю это злило, Настя плакала, искала случая развязаться с колдуном… Эх, эх, эх…
Обедать для гостя и хозяина Настя накрыла под рябиной, в холодке. Бражничать же пошли в избу, подальше от случайных чужих глаз. Еруслан Костров крутил молодецкие усы, расчесывал рыжую шелковую бороду, косился на статную Настасью: не девка, а борец. Вот бы!..
— Беднота нашего брата утесняет, — жаловался мельник, поглаживая туговатый свой живот. — Просто диву даешься, за что про что советская власть ублаготворяет бедноту.
— Очень даже сполитично, — по-хитрому ответил Еруслан Костров, он боялся напрямки обидеть мельника: рассердится, быка не даст.
— То есть так притесняют, то есть так притесняют. Того гляди ноздри опечатают и рот заткнут, чтоб без налогу не дышал, не говорил. Эх, тяжко, — мельник взмотнул бородой, сморщил нос и горько замигал. — Ну-ка, Настя, плесни винца!.. Ведь у меня до новых правов, при царе, сорок десятин покупной земли было, а как право перевернулось, все отобрали, черт их залягай.
— Кому ж досталась земля-то ваша, извиняюсь?
— Кому… Беднякам да лодырям!.. Одиннадцать семей теперь на моей земле живут… Ка-му-у-на…
Борец недолюбливал деревенских кулаков и на сей раз не сдержался.
— Так, так… Людям большая польза. Это хорошо.. — сказал он.
— Что хорошо? — зло разинул мельник рот.
— Да вот это самое, как его?.. Приняв во внимание… и все прочее такое… Да… — в сильном смущении мямлил Еруслан Костров, тупоумно двигая бровями.
— Да вы кушайте винцо, не беспокойтесь, — выручила Настя. — А тебе, Марк Лукич, кажись, и не пристало жаловаться-то. Брюхо у тебя толстое, хозяйство неплохое, куры, гуси есть, коровы есть, мельница работает, даже бычишка есть…
— Ах вот! — щелкнул себя по лбу Еруслан Костров и перемигнулся с Настей.
— Дозвольте, Марк Лукич, вашего бычку-трычку осмотреть… Ведь я, можно сказать, с тем и пришагал по случаю цирка…
— Идем, — сказал мельник, обдав Настю мутным, как вешняя вода, холодным взглядом.
Они направились на зады усадьбы, в хлев.
— А ты этой кобыле заводской не верь. Стерва она… Мельница, мельница… Сама-то она мельница… Да мельницу-то мою вот-вот отберут ироды-то…
В мельнике бродил хмель, он икал, выписывал ногами вавилоны, споткнулся на тыкву, едва не зарылся носом в гряды.
Еруслан Костров вдруг остоповал, ударил себя по карману:
— Ах, извините великодушно; кисет забыл, — и рысцой к избе.
Мельник икнул, сел в гряды, сорвал огурчик, стал хрупать его белыми зубами.
Еруслан Костров вошел в избу.
— Чего забыл? — задрожала голосом Настасья и заперла дверь на крюк — Ты не вздумай меня облапить без хозяина… С тебя станется…
— Ну, что ты! За кого ты меня считаешь? Я не фулиган какой. — Еруслан Костров обеими руками схватил Настю за талию и поднял к потолку. — Чувствуй! Можешь соответствовать?
У Настасьи затрещали кости, лопнула шнуровка.
— Брось, жеребец! Задушишь, — прокряхтела она и накрепко защурилась.
Когда мельник дернул дверь, Настя быстро сняла крючок и стала мести избу.
— Ага! На запор… Это что такое?! — крикнул, топнул в половицы мельник.
В переднем углу ползал на четвереньках Еруслан Костров, ошаривал темные углы, бубнил:
— И черт его знает, куда он задевался…
— Да был ли у тебя кисет-то? — тяжко задышал мельник, сжимая кулаки.
— Тьфу! Два раза пардон. Так и есть. В цирке позабыл.
Настасья фыркнула, уткнув нос в изгибень руки, мельник проверил взором постель с горой подушек, — как будто все в порядке, — шершаво пробубнил:
— Идем быка смотреть…
Бык Фитька не мал и не велик, черный, лохматый, как собака, с плоским тугим подзобком.
Рога длинные и острые, хвост куцый. Если б не рога, его можно бы принять за обыкновенного медведя, и взгляд у него медвежиный, исподлобья, с загадочной этакой ухмылочкой.
— Бычишка ничего, — одобрительно отозвался мельник. — Чуешь, Фитька? Пред тобой образовался человек, борец называется. Ты, Фитька, животная с понятием, не фордыбачь, поддавайся ему. Чуешь?
Вслушиваясь в знакомый голос, бык вдумчиво обнюхивал вкусный воздух: от хозяина попахивало брагой.
— Бычка-трычка животная в плепорцию, — ощупывая, как цыган-барышник, все скотские статьи, прищелкивал языком Еруслан Костров. — Пудов пятнадцать весит?
— С гаком, — подхватил мельник. — Бычишка хоть куда.
— Ну, это для меня плевок. На закукры посажу и вкруг цирка по арене…
Бык ухмыльнулся, фыркнул, встал к циркачу хвостом. Мельник же от изумления попятился:
— Ну, брось, это ты тово… Отойди-подвинься. Врешь!..
— Кто, я, я вру?
— Ну, покажи свою силу. Вот камень — шевельни.
Борец приподнял восьмипудовый валун, надулся и швырнул его в стоячий пруд: волны взмыли в берег, гул пошел.
— Ух, ты, отойди-подвинься! — остолбенел мельник и, захохотав, бросился целовать борца. — Милай!.. Богатырь русск-а-а-й… Ну, расскажи про свои великие подвиги… Пойдем бражкой угощу…
Направились к избе. Мельник, пошатываясь, бубнил:
— Хоть ты и силен на подъем, а на водку я тебя сборю… Меня не перепьешь, нет, брат, нет…
В мыслях Еруслана проплыл легковейный образ Насти, борец сладко передохнул, подумал: "Надо пьяным притвориться" — и сказал:
— Это верно… Насчет выпивки я слаб… Да у меня и теперь круженье в ногах сильное, — он тоже зашатался, как и мельник, ударился плечом в березу, отскочил, потом обнялись за шеи, заорали песню:
Эх, ты, ряби-и-нушка, Ты зи-ле-о-ная!..Брага крепкая, с медком. Настя суетилась. Мельник плакал и кричал:
— Пей, не жалей!.. Все равно отберут… Настюха, волоки четверть самогону. Эх, гуляй губерня!.. — потом лез к борцу целоваться, орал ему в рот: — Богатырь наш… Мила-а-й!.. Так неужто верно, что царь-колокол мог с места сдвинуть?
— Нет, царя-колокола одолеть не мог. А вот в прошлом году трактор в канаву пал, всей деревней подымала, не могли. Я выпер. После того у меня носом кровь хлынула и пуп на вершок съехал.
Мельник был совершенно пьян: рвал на себе волосы, неистово вопил:
— Вон они какие богатыри-то православные!.. Настюха, подивись!.. — и разливался морем слез.
Еруслан Костров тоже казался пьяным, Настя же ходила козырем, поводя круглыми плечами и всякий раз незаметно прижимаясь грудью к гостю. Кровь играла в ней, как в березе весенний сок, била в ноги, в голову, в тугую грудь и заливала мысли сладким пламенем греха: "Хоть бы скорей старый пес под лавку брякнулся да захрапел".
Настя тоже вполпьяна. Эх, эх… Вот бы уйти от старика да к Еруслану… Эх, эх, эх! Но разгульные, вольные помыслы ее вдруг сжались, провалились. Настя, похолодев, шмыгнула за переборку, к печке, там зеркальце висит, уставилась милым, полным жизни и страдания лицом в окаянное стекло, сорвала черную повязку, откачнулась: по пылающей щеке неудержимо слезы полились: — Эх, эх… Куда ж мне одноглазой?.. Не возьмет… Эх, эх!.. — схватила зеркало и — об пол.
А там, у стола, чарочки гуляют.
— Эй, Настя, молодайка, жана моя, иди!.. — зовет постылый. — Нет, ты послушай-ка, что гостенек-то говорит.
— И вот, значит, зуб… Можете пощупать, самый настоящий клык… — врал борец, широко оскалив белый ряд зубов и притворно пьяно во все стороны покачиваясь: большая борода его, как чесаный первосортный лен, усы вразлет и сердце стукочет молотами в грудь. — И вот, значит, этот самый клык…
— Клык?.. Ха-ха-ха, — бессмысленно заливался хозяин.
— То есть так, дьявол, заболел, что страсть… Я прямо на стену кидался…
— На стену? Ха-ха-ха… Настюха, слышишь?!
— Шесть докторов клещами тащили — не смогли. Что мне делать? Пошел на станцию, взял, прикрутил к зубу самую крепкую струну, а другим концом привязал струну к заднему вагону… Курьерский самый скорый поезд трогался, третий звонок пробрякал…
— Третий звонок? Ха-ха… Ну, ну!
— Я встал, значит, во всей могучести, пятками в землю врос, надулся. К-э-к поезд с маху дернет!..
— Ха-ха… И зуб к чертям?
— Нет!.. Два вагона вверх колесами…
Мельник несколько мгновений сидел, как полоумный, с настежь открытым ртом. Вдруг глаза его утонули в нажеванных щеках, он ударил себя по бедрам, захрипел, замотался весь и с сиплым хохотом, перхая и давясь, упал под стол. Настасья тоже рассмеялась. Еруслан Костров подвигал бровями, чихнул, сказал: "Да, да" — и лег на просторную скамейку у стены.
Настасья прикрутила лампу-молнию и, вздыхая и позевывая, улеглась на скрипучую кровать. Стало темно в избе и тихо. Из рукомойника, цокая и булькая, капала вода в лохань. Трепетали во тьме хвостатые красные соблазны, кто-то помахивал-веял легким ветерком. Сквозь стекла проступали толпы звезд, месяц плавно подплывал к окну. И вместе с ним неспешно проходило время. Скоро, пожалуй, возгаркнут в полночь петухи. Возгаркни, возгаркни, петушок, да только, чур, не громко: кого не надо, не буди.
— Настя, — чуть слышно, однако с тугим каким-то пылом позвал зачарованную тьму Еруслан Костров.
— Чего тебе? — нетерпеливо скрипнула кровать от легкой дрожи.
Вновь стало тихо и настороженно, лишь шорохи шуршали где-то под шестком, за печкой. Это колдуновы черти ошаривали темноту, ковали черные блудливые грехи.
— Настя… Зазнобушка…
— Ты не вздумай ко мне под одеяло… Я раздетая…
— За кого ты меня принимаешь. Что ты… Я не фулиган какой… — продышал адским жаром Еруслан Костров и тихонько свесил со скамейки ноги. — Настя…
— Я тебе дам Настю, — с хриплой угрозой, задыхаясь, проперхал мельник под столом. — Ты думаешь, я сплю? Нет, врешь… Отойди-подвинься.
Сердце Еруслана упало прямо в прорубь, в лед. Он опять положил ноги на скамейку и в тихой ярости смежил глаза.
И снова проходило время. Возгаркнул, всхлопал крыльями петух, за ним — другой и третий. Месяц вплотную подкатил к окну, сначала одним глазом заглянул, затем уставился в избу всем, ледяным своим загадочным лицом: а ну-ка, кто тут? Эй вы, эй…
Тихо. Только мельник захрапел, не стесняясь, по-хозяйски громко. Кровать молчит, скамья молчит, не скрипнут, спят. Лишь неугомонные капельки живут: цок да цок — насмешливо падают в лохань. Прошло полчаса иль час, как одна минута.
— Это, должно быть, он в бреду… Настя, чуешь?
— Известно в бреду… А ты разуйся да на цыпочках…
— Не учи, — сладко прошептал борец и закорючил ногу, чтоб стащить измазанный в грязи сапог. — Сейчас, сейчас…
— Я тебе дам — сейчас, — оборвал храп мельник. — Я не погляжу, что ты силач, я тебя так обхомутаю, такую килищу куда надо посажу, спины не разогнешь… Ты, я вижу, охоч до баб… Крокодил паршивый… Гад. Ты думал перепить меня да бабой завладать. Ан, фига. Меня сам черт не перепьет…
Мельник говорил невнятно, тихо, как бы рассуждая сам с собой. Может, и вправду бредил?
— Эй, хозяин! — громко окрикнул Еруслан Костров.
Но вместо ответа колдуновский крепкий храп. А ночь, погоняя звезды, месяц, шар земной, негромко катила и катила к востоку, к солнцу, в собственную смерть.
Под пуховым одеялом обрывки голых снов, жар, зной, а Настя истомилась, истряслась, как в зимнюю стужу уцелевший на осине лист. Эх, эх, что же это, что?
— Слушай, — узывно шепчет она, приподымаясь на подушке. — Как тебя? Голубчик мой…
И вот два мужественных храпа плавают в избе: погуще и пожиже, да шаловливые лешенята по углам пускают шепотки.
Вздыхает Настя.
А борец чует: лихом черным подполз к нему колдун. Глаза горят, как фонари, зубы по аршину. "Погиб я: сейчас заворожит", — думает борец. "Сейчас заворожу", — шепчет мельник. "Вали, вали, — фыркает влажной хряпкой бычка-трычка, — а я его рогом долбану". И чувствует борец: стал хомутать его колдун, сорок болезней припустил и сразу три килы. Еруслан заметался, застонал, колдун замычал, как бык, а бык всхохотал по-человечьи. И все пропало: нет. быка, нет мельника, нет трех кил. И лежит Еруслан под пуховым одеялом, зной, жар, Настя обнимает его сильными руками, шепчет:
— Эх, ты… Давно бы так… Любименький…
— Ах, вот как тут!.. — прогнусел мельник. — Устроились…
— Ударь его, лягни наотмашь, двинь ногой! — приказывает Настя.
Борец натужился, с силой лягнул в пустое место и грузно пал со скамейки на пол.
Месяц далеко перешагнул, месяц успел подплыть к третьему окну и заглядывал на пуховую кровать Настасьи. Сердито поднялся с полу, заглянул на пуховую кровать и Еруслан Костров. "Эге-ге, — присвистнул он. — Устроились прилично". Под лучами обнаглевшего месяца все заголубело, зацвело нездешним мертвым цветом: поблескивал, выпучив брюхо с краном, омертвевший самовар, блестели, как обледенелые кресты на кладбище, опустошенные бутылки, медный рукомойник улыбался, как мертвец. А на кровати, на взбитых подушках лебяжьего пера, устало почивали мельник с Настей. Месяц, посмеиваясь чисто выбритым лицом своим, щедро сыпал на них потешные, путаные сны.
Ошалевший Еруслан Костров поскреб бока, прихрякнул, тупоумно поводил сонными бровями, сказал: "Да, да" — и с озлоблением повалился на скамейку.
* * *
Петр Петрович Самохвалов, коль скоро дело коснулось его личных интересов, сразу примирился с советским строем и подал на Роберти фон Деларю в народный суд. Судейский канцелярист зарегистрировал его бумагу во входящий дословно так: "О даче 100 рублей денег под слона, который сшит из картофельных мешков с верчением хвоста пьяным нищим Лукою Дыркиным".
Директор счел нужным номер со слоном из цирковой программы пока что изъять. Но публика валила. Мадам фон Деларю сама сидела в кассе и несколько червонцев умудрилась спрятать в штопаный шелковый чулок: чтоб не прокутил гуляка-муж. Да еще Еруслану надобно какой-нибудь подарок сделать. Ах, изверг, изверг… Не ценит ее ласк, шляется где-то по ночам. Ну, ладно.
Ударным номером трех последних "гала-представлений" был, конечно же, Еруслан Костров. Ежедневно перед вечером он шагал к знакомому мельнику, с которым довольно порядочно сдружился, брал послушного быка, проделывал с ним на арене разные штуки, а после представления отводил обратно к мельнику. Жалуясь на усталость, Еруслан Костров всякий раз ночевал у мельника. Перед сном — веселая гулянка; борец на водку денег не жалел. О том, что произошло в ту пьяную первую ночевку Еруслана, мельник ни гугу. Да и было ль что, кроме хмельного бреда, кошмарных снов?
Однако после той странной ночи колдун окружил Настасью особым вниманием и негой. Темными ночами он шептал ей липкие, как патока, слова: Настя будет его женой, он так решил, он стар, ему недолго по земле ходить, и Настя еще сумеет натешиться свободой: у мельника много золотых червонцев позакопано, будет умирать — все богатство оставит Насте. Так пусть же она не зарится на этого голоштанного богатыря, у него, кроме бороды да трубки, ни хрена нет за душой.
Настя на речи мельника молчала. Настя ничего не могла сказать ему, Настя еще вчера дала верное слово всемирно известному борцу: она станет его женой, она поступит в цирк, Еруслан Костров сделает из нее борца-силачку; что ж, у Настасьи мяса много, кость крепка. И будет она с милым вольной птицей, будет порхать по городам, весь свет просторный высмотрит, пожалуй, доберется до Москвы. Эх, эх, скорей бы уж!.. Эх, зачем так медленно часики спешат. Вскукуй, вскукуй, кукушка, при часах, хлопни дверцей, не томи, утешь!..
Но ждать долго не придется: завтра последний день.
А вчерашний вечер и ночь с грозой проходили так. Колдун замешкался на мельнице: вода одолевала. И Настя с Ерусланом сидели вдвоем.
— Я, конечное дело, не женатый, — холостой, — говорит он, обнимая Настю.
— Верю. Не обманешь.
— Сверх всякого сомненья, да. Станешь моей женой, может быть, всемирной борчихой будешь, до Москвы доберемся обязательно…
— Ах, любименький…
— Да, да. Оттудова прямым трактом в Париж, в самую заграницу. Три приглашенья было. Называется — запрос. А сам я из бедных бедный, мальчонком в, пастухах служил. А вот теперь, видишь, каков я? Всемирно известный, а не кто-нибудь.
— Ах, желанный мой… Неужто любишь?
— Ого! А ты?
— Я-то? Ах ты, свет ты мой, — в трепете, в радости говорит Настасья. — А колдуна я вот как ненавидела. Будь он проклят! Ты первый у меня, любимый. Кончилось мое горюшко… Этакое счастье привалило. Ох, боюсь, боюсь.
— Не бойся, — долго, с упоением целует ее в губы Еруслан Костров.
Настя в голубой повязке по густым светлым волосам, заплетенным в косы; по плечо оголенные руки ее белы, крепки, ласковы; нежное, круглое лицо с раздвоенным подбородком пышет возбужденным жаром, и сиротливый глаз, такой выразительный и ласковый, не портит милого лица: в нем вся жизнь, весь трепет жизни и боль и радостные слезы.
— Не бойся, зазнобушка моя, — шепчет Еруслан. — Ежели мельнику не размыслится добром тебя отдать, пусть выходит на честен бой, как в сказке: стукну, тресну, на облако закину, все равно как бычку-трычку. Да!
— Боюсь, боюсь. Я лучше убегу к тебе. Сложу в сундучок добришко и айда…
— Сундучок приготовь. Завтрашнюю ночь поджидай, приду. А только что не бойся. Ничего не бойся. Это раньше помыкал нашим братом, кто хотел. А теперь — дудки. Вот она, книжечка-то, вот! — Еруслан вынул коричневую книжку, взял за уголок и с форсом пришлепнул по столу. — В ней все права и все удобства… Вот.
— И что это за книжка за такая? Уж и впрямь не сказку ли сложили про тебя?
— Да, сказку. Лучше сказки! Зовется — профсоюзный мой билет… Собственный… Понимаешь, мой. Да, да.
Постучал в дверь мельник. Он весь мокрый, с бороды течет.
— Дождь, — сказал он и заулыбался в пол-лица. Под правой его хмурой бровью угрозный гнев, под левой — бражная улыбка:
— Ну, выпьем, что ли! Поди, скоро ваш цирк-то и того? В поход?
— Да, да, — со злорадством ответил Еруслан.
И Настя, вздыхая тяжко, шепчет:
— Скоро.
Булькает винцо, звякают, дзинькают стакашки. Ночь идет с бурей, с громом, с граем пролетающих ворон. Первый удар грозы потряс всю избу. Видно, и на сей раз Еруслану у Насти ночевать.
— Да, завтра свиданьице наше в последний раз, — значительно говорит Еруслан Костров, взасос любуясь на притихшую рослую Настасью.
— Поскольку вам известно, Марк Лукич, я с вашим бычкой-трычкой еще вплотную не боролся. На себе, это верно, что таскал его, на колени ставил. Ну, так полагаю, поборю. Хотя, правда, бычишка раз от разу входит в ярь. А послезавтра наш цирк из городу уезжает в Кременчуг. Мы сильно расширяемся. Например, чтобы масштаб был. Да, да, масштаб. В общем и целом женскую часть хотим раздвинуть, а мужскую уплотнить… Поэтому самому завтра, об этот час, предполагается между мной и вами великий разговор, то есть кой-какие произвесть расчеты… — и борец внушительно постучал крепким, как кремень, перстом в столешницу.
Настя обмерла и затаилась.
— Ах, мила-а-й! — не поняв смысла напорных слов борца, прослезился мельник. — Богатырь наш русска-ай!.. Да я с тебя за бычишку недорого возьму. По трешнице за кажинный вечер выложишь и — баста.
Опять блеснула голубая молния, ударил резкий гром.
По всему городу пестрели афиши:
"СПЕШИТЕ, СПЕШИТЕ!
Последнее "гала-представление".
Первый раз в здешнем городе смертный бой известного бешеного бодливого быка с непобедимым богатырем
Ерусланом Лазаревичем товарищем КОСТРОВЫМ. Первый и последний раз!"
Сбор был полный. Цены повышенные. Касса имела 275 целковых чистых. Пришел без малого весь городишко. Однако Петр Петрович Самохвалов блистательно отсутствовал. С ним так: в суде он дело проиграл, с горя крепко, в шат напился, избил свою мадам и, хватаясь за заборы, за столбы, дополз до цирка. Он весь горел мстительным желанием оскандалить этого битого жулика шотландца Деларю. Но в цирк его не допустили. Он снова, всерьез и навсегда, охладел к советской власти, оскорбил черными словами милицейского и был не без шума отведен в участок;.
Представленье началось. Шли очередные, надоевшие всем номера. Когда выполз крокодил, с галерки закричали:
— Знаем!.. Там девчонка сидит в трусиках. Даешь следующий!..
А вот и новый номер. Бывший в германском плену инвалид из кооперативной чайной в потешной одежде клоуна грубо паясничал, рассказывал анекдоты с сальцем. Публика кричала:
— Жалаим! Браво! Папаша, загни еще!
В это время Еруслан Костров готовился в общей артистической уборной к выступлению. Перед дешевым, кривым зеркальцем он гофрирует свою длинную бороду раскаленными на лампе-молнии щипцами. Борода трещит и вьется в кольца. Со взбитыми кверху волосами, мускулистый, крепкошеий, он стал походить на Посейдона. До полной цирковой красивости ему недоставало лишь черных густых бровей и румянца на щеках.
— Федосья Никитишна, одолжите маральных карандашиков, — сказал он мадам фон Деларю, сидевшей за столиком бок о бок с ним и превращавшей гримом свое интересное лицо в лик глупой куклы.
Хозяйка к борцу давно неравнодушна, но еженощные отлучки Еруслана вызывали в ней ревность, озлобление.
— Не дам, — сказала она, обдав борца блеском черных глаз. — Ничего теперь не дам тебе. Отчаливай!
— Ну, и не давайте, — низким басом ответил Еруслан Костров. — Может быть, и без вас найдутся. Поздоровше вас…
— Дурак! — и мадам с шумом задышала через ноздри. — Я купила тебе в подарок серебряный портсигар и пару шелковых кальсон. Теперь не жди!
— А наплевать, — равнодушно ответил Еруслан.
Мадам, взбесившись, бросила в него горячими щипцами:
— Свинья! Нахал! Мужик!
Оскорбленный Еруслан Костров направился в конюшню. Для пущего эффекта быку вызолотили рога, на шею надели снизку бубенцов. Бык всему покорно подчинился. Однако при появлении борца он отпрянул в сторону и вызывающе взмахнул хвостом.
— Ну, тихо, тихо, бычка-трычка, — огладил его борец.
Бык успокоился и с хитрой таинственной ухмылочкой стал исподлобья посматривать на своего врага. Двуногий сильный враг внимательно оглядывал его со всех сторон, мысленно прикидывая, как удобно схватить зверя за позлащенные рога и одним рывком бросить на арену. Борец знал, что за победу над быком публика поднесет ему серебряные новые часы и купленную у парикмахера малодержанную венгерскую куртку со шнурами. Да хозяин сверх нормы червонец обещал. Надо подтянуться.
Второй антракт был невелик: публика орала, свистела, хлопала, стучала:
— Время!.. Начинай!.. Выводи быков с коровами! Даешь бою!
Весь увешанный гирляндами из живых цветов, позвякивая бубенцами, златорогий бык, наконец, появился на арене. Его торжественно вели на расчалках совершенно трезвые Григорий и Лука в кумачных, сшитых на живую нитку фраках. Вслед за быком предстал народу во всей славе и Еруслан Костров. Он в голубом с серыми заплатками трико. Через левое плечо, наискосок пересекая широкую, как купеческий шкаф, грудь богатыря, шла розовая лента, сплошь усыпанная крестами, звездами, медалями довольно темного происхождения.
Быка вывели на середину арены и дали полную свободу, оставив лицом к лицу с бешеной толпой.
Такого ослепительного блеска, шума, гвалта, барабанного боя и звука труб не слыхивал, не видывал ни бык, ни город. Молодчина Роберти фон Деларю на прощанье в средствах не скупился: пусть останется о его цирке славная, незапятнанная память.
Действительно, гремели два оркестра: заводский и любительский. Вкруг арены, изобразив собой яркое кольцо огней, стояло два десятка факельщиков из похоронного бюро и доброхотов. Двенадцать ламп-молний были приспущены, с четырех сторон враз вспыхивали бенгальские огни. Цирк поистине блистал. Казалось, что он весь объят пламенем, горит.
Этот сполох, набат, огонь ошарашили быка, как по лбу тяжким молотом. Бойкий бык пал духом, растерялся, стал жалок, слаб, труслив. Он стоял как зачарованный, лишенный воли.
Твердой поступью, грудь вперед, слегка прихрамывая и чуть поводя локтями, Еруслан Костров двинулся прямо на быка.
Сердце зверя сжалось. Мелкая дрожь прошла по лохматой его шкуре. Борец замедлил ровный шаг. В его голове блеснула мысль: зверь копит ярость. Борец напряг всю мощь, он ждал, что зверь вот-вот ринется ему навстречу. Но черный бык стоял загадочно, недвижно. Рев толпы, бой барабанов, сплошные полотнища огней крепли, ширились, потрясали купол. По затылку отважного борца прокатилась судорога, холод. Да, да, бык, наверное, взбесился, вот он взмахнул хвостом, повел смертоносными рогами. Но медлить некогда. Творя краткую молитву и вперив холодный взор в завилявшие глаза быка, непобедимый витязь вплотную отважно подошел к нему. Темным, скрытным чувством бык сразу угадал, зачем так смело прет на него этот человеческий наглец. И с великой звериной покорностью нагнул свою бычачью шею, чтоб наглецу удобней было схватиться за рога.
Цирк перестал дышать. Звуки стихли. Вся жизнь борца, вся воля сосредоточилась в обостренной настороженности мускулов и глаз. Борцу казалось, что бык метит рогами ему в грудь. Бык шумно продул ноздри и таинственно попятился. Дыхание борца остановилось. По публике прошел выжидательный хищный трепет. Все замерло.
Вдруг — дьявольский скачок борца, и под удар трех барабанов бык чрез мгновенье валялся на арене вверх ногами. И все взорвалось ликующим диким ревом: человек победил зверя, толпа торжествовала.
Но опозоренный бык, покорячившись, вскочил и в испуге стал метаться взад-вперед, норовя прорвать кольцо огней. Тогда сам Роберти фон Деларю с хлыстом и четверо градских пастухов-подростков с длинными, по версте, кнутами принялись лихо гнать быка на середину цирка, на новое посмешище. Сиротливо поджав хвост и уши, как побитая собака, бык трусцой-трусцой прикултыхал в средину круга. Блеск его опозоренных рогов остался на потных ладонях силача, цветочные гирлянды валялись на песке и ошейник с бубенцами чуть позванивал. Жалкий бык теперь крупно дрожал, качался, молил мучителя глазами, сердцем, всем существом своим: "Ну, брякни, брякни на землю, я не в обиде, только уведи, пожалуйста, скорей в родное стойло к девке, к Насте".
И снова вверх ногами — брык, и снова рев, гвалт, барабаны…
* * *
Новые часы системы Мозер показывали четверть двенадцатого. Бык, как послушный теленок-сосунок, уныло плелся на веревке за борцом. Вставал широколицый, бритый месяц, над полями плавал легонький ночной туман.
Еруслан Костров — в поднесенной ему венгерской куртке со шнурами. Он брав, красив, могуч. На его лице довольная улыбка, глаза горят, но грудь дышит тяжко. Слава утомительной победы взвинтила его нервы, он вздрагивал, хватался за сердце, — пожалуй, не худо бы и отдохнуть Выбрал бугорок возле дорога и с наслаждением присел. Достал из саквояжа булку, отрезал колбасы, стал есть. Бык покорно стоял возле.
— А, бычка-трычка, — расчувствованно говорил борец, — спасибо тебе, бычка-трычка… Молодец, бычка-трычка… Выручил.
"Хорошо, хорошо… Ничего, ничего… Ладно, ладно", — без слов, надвое ответил бык, вздохнув.
Борец сунул ему в нос кусок булки. Бык нюхнул, отворотил морду.
— Не хочешь? Ишь ты, тварь… Обиделся.
"Ничего, ничего… Ладно, ладно", — надвое ответил бык.
Борец задрал вверх голову и, не отрываясь, выпил полбутылки водки. Под лучами месяца стекло заголубело, и в прозелень пошла борода борца. Бык ни разу не взглянул в глаза сидевшего пред ним человека, бык смотрел куда-то вдаль, задумчиво вздыхал, крупные глаза животного омыты влагой.
— Расплачься!! — гаркнул Еруслан и грузной ладонью шлепнул быка по холке. Бык не дрогнул, не мигнул, как отлитый из чугуна. Думал.
Предался мечтам и Еруслан Костров. Водка разлилась по телу, кровь гуще, обильней орошала мозг. Ну что ж… Мало ли что — жена… Наплевать — жена… Дура — жена… Пускай живет в деревне, в Холмогорах, за тыщу верст. Еруслан Костров теперь самый знаменитый. Нет, нет, не с Маланьей ему жить, с дурой, с непропекой. Вот ровно через двадцать пять минут по Мозеру он явится к мельнику, к Настюше.
— Слышишь, бычка-трычка?! — крикнул Еруслан Костров и снова приласкал быка по холке. — Явлюсь я, понимаешь, к Насте, к хозяйке бывшей твоей, а моей жене. Ну и… все такое прочее. Понял? Дурак!.. Ничего не понял. Ты нюхал Настю? Ого! Вот так это — баба… Это настоящая женщина, передовая. Я ее обстригу под пионерку. Ух, черт… Да ежели ее нарядить в трико, да ежели на арену вывести при мингальских при огнях… Ух, ты, ух, ух, ух!..
Так мечтал борец, слепой рукой уничтожая прошлое, с радостью хватаясь за грядущую свою судьбу. Однако между будущим и прошлым лежало настоящее сроком в двадцать пять минут. Но Еруслан Костров об этом настоящем и не думал: идет все так, как хочет он. Таков удел всякого самообольщенного ума: бахвальный ум легко зачеркивает прошлое, грезит о грядущем, кузнецом которого он не был, и закрывает глаза на настоящее. Глухой слепец! Ведь в настоящем — все концы и все начала.
Еруслан Костров встал, потянулся, чиркнул спичку, чтоб закурить и, кстати, справиться, который час. Без двадцати пяти двенадцать. Вот и хорошо. Ровно в полночь он будет при пороге. Здравствуй, здравствуй, Настя. До свидания, Марк Лукич…
— Ну, бычка-трычка, айда!..
"Ладно, ладно, ничего…", — надвое ответил бык и, понурив голову, пошел в поводу за человеком.
Месяц плыл по небу не спеша. Звезды тоже не спеша отодвигались, расчищая ему путь. Кой-где над мочажинами плоским пологом туман залег. В лугах перепела перекликались. Мельница на взгорке дремала крылатой странной птицей. Вдали, у темной грани перелеска, золотым глазком костер мигал.
А вот и речка. Вода в омутах дрожала, крылась под лучами месяца мелкой сизой рябью.
На средине горбатого моста бык остановился. Борец дернул за веревку, бык не шел. Бык слышит: тихо кругом, ни труб, ни рева, ни барабанной трескотни. Бык видит: темновато, ночь, нет страшного пожара, нет бегучих огоньков, вот речка, поле, знакомые места. Бык окончательно пришел в себя, почувствовал, что он есть бык, настоящий бык, зверь своевольный и упрямый.
"Вот захочу и не пойду", — и бык два раза ударил себя хвостом по ляжкам.
— Иди, дьявол!.. — зычно раскатился Еруслан Костров и снова потащил быка.
Сердце быка вскипело.
Кровь ударила в звериную башку, бык взмыкнул дурным голосом, уперся.
"Дудки… Не пойду… Тут тебе не цирк".
Еруслан Костров стиснул зубы, намотал веревку на руку и с такой силой рванул быка, что веревка лопнула. А бык напыхом шагнул к нему. Борец оцепенел: ему почудилось, что на быке сидит колдун. "Ай", — закричал борец. Но бык, пропоров борцу живот, сильным кивком головы сбросил его в омут. Еруслан скрылся под водой, вынырнул и, отфыркиваясь, поплыл к берегу. Бык посмотрел на него с медвежачьей хитренькой ухмылкой, поставил куцый хвост трубой и — проворной рысью к тому месту, куда направился пловец. Еруслан Костров кой-как вышел и в мрачном молчании полез по откосу на быка. Бык, все так же держа на отлете хвост, отступил на несколько шагов. Выбразшись наверх, борец схватился за распоротый живот, привстал на одно колено и застонал от неимоверной боли. Бык задышал всеми боками, ринулся к ослабевшему борцу и вновь перебросил его через себя, как веник. Дикие глаза зверя налились кровью, в оскале рта клубилась вонючая, желтая, смешанная с грязью пена. Месть завершена. Бык взрывал копытами, как плугом, землю и победоносно на весь мир ревел.
В это время у мельника вскуковала в часах кукушка двенадцать раз.
— Эх, эх, эх… — вздохнула Настя. — Где же Еруслан?
Через три дня, рано поутру, бродячий цирк покинул город. После ночного холодного дождя стоял густой туман. В тумане серым силуэтом уныло шагала та же мухрастая лошаденка, впряженная в воз цирковой поклажи. Те же мыши в клетках — беленькая мышка, привстав на дыбки, умывалась в уголке, — тот же петух, те же собачонки Шахер-Махер. Мадам фон Деларю во всем черном. Она грустно смотрит на туманный призрак мельницы, на горбатый мелькнувший справа мостик и поспешно прикладывает платок к глазам.
— Не надо, мамочка, не надо, — говорит Тамара и целует ее белую в веснушках кисть руки.
Иван Васильевич Толстобоков (он же мистер Деларю) неузнаваем: пожелтел, сгорбился, вяло понукает лошадь, смотрит в землю, в грязь: Еруслана Кострова нет, и цирку, конечно же, несдобровать.
Его внутреннее око ничего не видит впереди: ни леопардов, ни львов, ни тигров, ни ловких трансформаторов и знаменитых акребатов из Берлина, Японии, Парижа. Прощай, мечта! У Роберти фон Деларю нет прошлого, нет будущего, есть только настоящее. Но оно сплошной туман и мрак. Впрочем, впереди едва маячит сквозь туманную завесу необычный всадник: это престарелая Жозефина-Неподгадь, на ней вместо погибшего борца мужественная широкоплечая Настасья. Ну, что ж… Перед ней свобода, новая жизнь, а где-то там — Москва. Она ведет за собой осиротевший цирк, она найдет дорогу и в тумане. Ну, что ж, что ж, всему надо подчиняться, все принять.
Примечания
1
«Европейская гостиница» в Ленинграде с рестораном на крыше. (Прим, автора.)
(обратно)2
П. А. Радимов. (Прим, автора,)
(обратно)3
В. М. Бахметьев. (Прим, автора.)
(обратно)
![Хреновинка [Шутейные рассказы и повести]](https://www.4italka.su/images/articles/532490/primary-large.jpg)

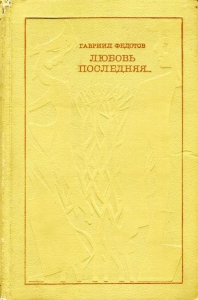

Комментарии к книге «Хреновинка [Шутейные рассказы и повести]», Вячеслав Яковлевич Шишков
Всего 0 комментариев