ВЕРА НЕЧИНСКАЯ
Это она настояла, чтобы я не приглашал на вокзал никого из моих друзей.
— Мне хочется расстаться без свидетелей, — пояснила она, нервно прикусывая губы и хмурясь.
На этот раз я уступил ей. Последние дни Вера плохо владела собой: была со мной то необычно ласкова, то язвительна, то вдруг упрекала меня в невнимании к ней, то делала вид, что я ей безразличен. Я не знал, чего ждать от нее; может быть, в последний момент она с отчаянной решимостью скажет: «Я еду с тобой» или, напротив, даже не придет проводить меня. Но ни того, ни другого не случилось: на вокзал она приехала за десять минут до отхода поезда с букетом дорогих цветов, приветливо поклонилась моей маме, коротко и небрежно пожала руку мне. Будто провожала на день-два, не больше.
И вот перрон отжурчал голосами, поезд всосал пассажиров с их чемоданами, узлами, улыбками, слезами. Мы стоим втроем в руках у меня Верины цветы. Обе женщины стараются быть спокойными. Мама советует:
— Цыпленка съешь сразу, может испортиться…
— Цыпленка? Какого?.. А, хорошо.
Вера рассказывает что-то ненужное. Я не слушаю ее.
Последние минуты… Мама обнимает, целует в щеку, отстраняет. Всматривается в мое лицо напряженным; запоминающим взглядом.
— Ну, сынок, будь счастлив.
Она — как всегда. Только вот этот взгляд… Мама произносит тактично:
— Я пойду.
Считает, что нам с Верой надо поговорить наедине. Я смотрю ей вслед. Она уходит неторопливой, сдержанной походкой человека, который привык внимательно следить за собой. Настоящая педагогическая походка.
— Значит, едешь? — спрашивает Вера.
В голосе ее звучит жалость, словно я болен тяжелой, неизлечимой болезнью.
— Неужели ты не понимаешь? Твоя жертва абсолютно никому не нужна. Проработал бы лаборантом год-другой… — Она многозначительно понижает голос. — Может быть, представилась бы какая-нибудь возможность. Важно зацепиться за институт. Профессор Смородинов…
Я беру ее руку — прохладную, узкую, бессильную.
— Оставим это.
Вера высвобождает свои пальцы из моих.
— А ты? — спрашиваю я.
— Не знаю… Ничего не знаю. Может быть, приеду. — Она умолкает, затем еще раз говорит: — Может быть.
По глазам ее, печальным и жалким, я догадываюсь, что она думает о своем муже — доценте Нечинском.
— Граждане пассажиры! — важно возвещает проводник. — Отправление через две минуты.
Мне хочется обнять Веру, утешить, сказать те ласковые, хотя и бесполезные слова, которые говорят при разлуке.
— Иди, иди, — торопит Вера.
Она боится, что я поцелую ее при людях. Минутой позже я вижу ее из окна вагона. Она стоит, освещенная солнцем, тонкая, худощавая, без шляпы. Я пытаюсь открыть окно, чтобы подозвать ее, сказать еще что-то. Но поезд тронулся. Вера вздрогнула, пошла рядом с вагоном, отыскивая и не находя меня глазами, остановилась, заплакала. Такой и запомнилась она мне — стоящей среди оживленной толпы, с руками, поднятыми к лицу, как будто она защищалась от удара.
Поезд мчится по мосту. Вагон наполняется тягучим стальным звоном и грохотом. Внизу Волга. По стальной с беляками воде идет, сильно накренившись, голубая яхта. Два буксира подтягивают к мосту длинную, ломаную ленту плотов.
Прощай, Волга, ласковая подруга моя! Никогда не забуду я запах твоей воды, ветреные просторы, твои упругие и сильные струи на моем загорелом теле. Как любил я и весенний перезвон твоих льдин, и вечернее молчание усталой воды, и мятежный гул бури! Мы умели вдвоем помечтать, погрустить, и ты помогла мне найти в душе твердость. Я еду далеко. Скоро ль свидимся?
За Уфой земля заволновалась, вздыбилась холмами. В прорехи почвы глянули иссеченные трещинами древние каменные толщи. Усть-Катав, Вязовая, Златоуст… Восточные склоны Урала пахнут хвоей и дождем. Я просыпаюсь чуть свет и почти не отхожу от раскрытого окна. Все для меня ново. Мне нравится и сказочно красивый Миасс, и весь в электрических сверканиях и голубом тумане Челябинск, и длинные озера Барабинской степи, похожие на узкие голубые глаза без ресниц.
Всюду леса новостроек. На станциях штабеля теса, мешки с цементом, стеновые блоки — серые, огромные, как слоны. Через горы и степи неудержимо шагают ажурные стальные опоры высоковольтных линий. На насыпях белеют выложенные камнем надписи: «МИР ПОБЕДИТ ВОЙНУ».
Все чем-то знакомо. Видел в кино, на картинах, но здесь оно живое, широкое, сверкает свежими красками, охватывает, как могучая музыка. Временами поезд представляется мне горным потоком, который неудержимо мчит меня навстречу… Чему? Я и сам еще не знаю. Радостно и тоскливо. Тоскливо оттого, что рядом нет Веры. Я это ощущаю все время, как ампутированный ощущает потерянную руку.
В Новосибирске пересадка в поезд местного сообщения. В старом вагоне сумрачно. За окном моросит лягушачий дождь. Тускло светит электрическая лампа. Проводница, бледная девушка с бесцветными волосами, сидит в своем купе и вышивает серую кошку по фиолетовому полю.
Вспоминаю, перелистываю то, что было. Познакомились с Верой, когда я заканчивал первый курс. Она пришла со стайкой щебечущих девушек-выпускниц знакомиться с нашим институтом. Мы встретились в коридоре первого корпуса. Помню, Вера остановила меня вопросом:
— Товарищ! Вы учитесь здесь? Объясните, зачем тут столько собак?
Она стояла передо мной, стараясь сдержать бурлящий в ней беспричинный девчачий смех. Все было привлекательно в ней: и светлое крепдешиновое платье, и коричневые туфельки на высоком каблуке, и золотистые, коротко остриженные волосы. Глаза, зеленоватые, крупные, поставленные чуть наискось, игриво и вызывающе глядели мне в лицо.
Она спрашивала о подопытных собаках. Их содержали в нижнем полуподвальном этаже, и оттуда доносился их громкий разноголосый лай. Я начал было отвечать девушке обстоятельно, но она слушала меня нетерпеливо, оглядываясь на удаляющихся подруг. И наконец, рассмеявшись, бросила торопливое «извините» и умчалась им вслед.
Показалась она мне тогда существом легким, безмятежным и даже, может быть, чуточку развязным.
Вечером я увидел ее еще раз. Она сидела в институтском парке на скамье. На коленях ее лежал учебник. По раскрытой странице ползла серая мохнатая гусеница. Лицо выглядело унылым, глаза, не мигая, смотрели перед собой.
Я прошел было мимо, но затем вернулся, присел рядом. Вера сделала вид, что не замечает меня.
— К месту привыкаете? — спросил я, чтобы начать разговор. Она вздрогнула, будто очнувшись от своих мыслей. — Вы хотите стать врачом?
Вера взглянула на меня удивленно и неприязненно. Усмехнулась:
— Если б я знала, чего хочу…
От утренней легкости, безмятежности в ней не было и следа. Брезгливо смахнула с книги гусеницу.
— Да вот, представьте себе, не знаю. Смешно? Не правда ли?
— Нет, почему?
— Должно быть, потому, что не умею желать. То есть не совсем так. Хочется очень многого, но только не навсегда… Как подумаю, что именно теперь надо стать кем-то на всю жизнь, так сразу становится скучно, скучно… — Голос ее звучал протяжно, будто она читала стихи. Неожиданно девушка громко расхохоталась и стала очень простой и милой.
— Вспомнила, как одна подруга объяснила мне, почему отказала жениху: «Мне хорошо с ним, а замуж боюсь… Если б на время, а то ведь навсегда. Страшно».
Меня привлекала в ней эта подвижность ума, стремительные переходы от серьезного к ребячеству…
Мы помолчали.
— А вам не кажется, — спросила она, сдвигая морщинки между бровей, — что мы учимся невозможно долго? Одной средней школы десять лет… Откровенно говоря, надоело. Как подумаю: «Еще шесть лет зубрить» — руки опускаются.
— В таком случае — идите работать.
— А вы почему не пошли?
— Я хочу стать врачом. Это моя мечта.
Она посмотрела с хитринкой, прищурясь.
— И только? Да это и не мечта вовсе. Просто вам нужна специальность, чтобы жить. Неужели можно мечтать о таком? Всю жизнь среди больных, слушать их стоны, жалобы, возиться с гноем? — Вера с отвращением поморщилась. — Помните чеховского Ионыча? Так вот и вы лет через двадцать отрастите брюшко, насквозь пропахнете лекарствами, будете передвигаться, опираясь на палочку, и обращаться к больным с заученным участием: «Ну, как мы себя чувствуем?»
Я горячо возразил, что время ионычей безвозвратно ушло, что мы, советские врачи…
Она остановила меня:
— Вы говорите: «Мы, врачи…» Вы на каком курсе?
Я покраснел, но все же высказал ей то, что думал. Больше она меня не перебивала. Иногда она поднимала глаза, как будто желая рассмотреть меня получше, и мне казалось, что вот-вот она рассмеется и скажет иронически: «Забавно». Когда я замолчал, она вздохнула:
— Завидую. У вас все так ясно! Ни одно желание не перелетает через частокол. Помните, откуда это?
И опять иронически двинула уголками губ.
Вот эти иронические губки, ее какая-то отдаленность, словно она была лет на десять старше, злили меня, но вместе с тем и предостерегали от особой откровенности. Был порыв сказать ей о моей мечте, о Смородинове, но я вовремя догадался, что ей это покажется смешным. Да и разве я обязан перед ней оправдываться?
Незаметно стемнело. Над нами вспыхнул фонарь. Вера спохватилась:
— Боже мой, как мы заболтались! Мне пора. Вы проводите меня?
Жила она на окраине города, за полотном железной дороги. Мы шли какими-то незнакомыми мне улицами. Иногда ее локоть или платье прикасались ко мне, и тогда очень хотелось взять ее под руку. Но я не смел. Потом мы стояли перед ее домом, под низко нависшими ветвями вяза, и в воздухе пахло цветущим табаком и резедой. Впрочем, дома не было видно, только из тьмы смотрело на нас единственное освещенное окно, задернутое голубой занавеской.
— Знаете, кем я хотела бы стать? Киноактрисой. Но даже пытаться не стоит: конкурс там безумный, — призналась Вера.
Прежде мне не случалось провожать незнакомых девушек и, расставаясь, я не догадался условиться о следующей встрече. На другой день, когда мне захотелось увидеть ее, я не мог найти ни улицы, ни дома.
Встретились мы только осенью в институте. За те летние месяцы, что мы не виделись, она повзрослела и, кажется, стала еще привлекательнее. Вера почему-то обрадовалась мне. Мы стали встречаться.
На всю жизнь запомнился чудесный октябрь того года. Листва уже пожелтела, но еще не опала, в небе стояли тонкие перистые облака. Вечерами мы приходили в сквер на берег Волги. Зажигались огни бакенов. Вера склоняла голову мне на плечо, замирала, будто к чему-то прислушиваясь. Я гладил ее мягкие волосы. Она не избегала моей ласки, но и не отвечала на нее. Однажды заметила недовольно:
— Ты поглаживаешь меня, как кошку. — Озорно рассмеявшись, порывисто привлекла меня к себе и поцеловала в губы. — Вот так надо… — Спросила шаловливо: — Не умеешь? Да?
Ошалевший от счастья, я стал целовать ее щеки, губы, глаза. Она отстранила меня ласково, но решительно.
… Вагон спит. Только в тамбуре, куда я выхожу курить, наталкиваюсь на двоих. Это влюбленные. В тамбур, в неплотно прикрытую дверь хлещет сырой ветер, но они не замечают его. Прильнули друг к другу.
А я все курю, вспоминаю. Вера все дальше и дальше…
ЧЕЛОВЕК В ПОДТЯЖКАХ
Тонкий, худой старик сидит против меня. Он в нижней рубахе, в подтяжках. Бледные пальцы его плотно обхватили стакан. Он посасывает чай, причмокивает узкими губами. Я читаю, а ему, должно быть, хочется поговорить. Он вздыхает и брюзжит:
— Света порядочного и то нет. Разве это электричество? Сущее издевательство.
Голос у него жидкий, почти женский. За окном темно. По стеклу медленно, как слизняки, ползут капли дождя. Закладываю книгу. Старик поспешно обращается ко мне:
— На родину следуете?
Я отвечаю, что кончил медицинский институт, еду в деревню на работу.
— Сами пожелали или по распределению? — участливо осведомляется он.
— Сам.
— Прижала жизнишка?
— Никто не прижал.
Он хлебнул чаю, посмотрел с притворным простодушием.
— И не страшно в даль сибирскую? — Укоризненно качает головой. — Молодость — вот и не страшно. А она-то, глушь, хоть кого укатает: сегодня мороз, назавтра буран, то выезд к больному, то по квартирам ходи.
— На то я и учился. А кто вы?
— Сие существа разговора не касается. Однако жизнь я знаю. Седьмой десяток завершаю. А что, в городе нельзя было задержаться?
— Было место — отказался.
Собеседнику моему почему-то становится весело. Он смеется, обнажая бледно-розовые, мертвые десны протеза.
— И… да, весьма романтично: служить на благо, отдать все силы… И, впрочем, не ново. — Резко обрывает смех, смотрит на меня осуждающе. — Это от начитанности, — продолжает он поучительно. — Молодой человек обязан, пока силы есть, к верхам жизни пробиваться, лбом лед ломать. В наше время сие называлось карьерой. А вы, извините за выражение, сами головой в прорубь тискаетесь. Весьма непрактично. Вы на какие оценочки институт закончили?
Он умолкает, на мгновение задохнувшись. «Должно быть, эмфизема легких», — думаю я и отвечаю:
— На пятерки.
— Ну вот, видите, батенька. С пятерками — и вдруг в Сибирь. Вам бы ученую дорогу выбирать, а в Сибирь пусть едут какие поплоше. Третий и четвертый сорт…
— Что ж плохого в Сибири?
— Боже! — воскликнул он с досадой. — Да все! Все! — Загибая пальцы, он принимается перечислять: — Зимой либо мороз, либо вьюга. Среднего не бывает. Лето придет — комар, продохнуть нельзя. Народ серей серого. Дикость и неуклюжесть повсеместные.
— Серость и дикость?! Не верю.
— Многие не верили. Однако впоследствии пыл-жар вьюга посдула. И с вас посдует. Сибирь! — Он многозначительно поднимает указательный палец, торжественно повышает голос: — Слово-то какое! Вы образованный, может, читали, как выразился некий европейский путешественник еще в восемнадцатом веке? «Сибирь, — писал он, — сие суть бескрайняя темница, и один звук имени ее подобен свисту бича». Сильнейшим образом сказано!
— Так то в восемнадцатом веке, — возражаю я.
— Однако с тех пор она южнее не переместилась.
— А люди?
— Что люди? Все те же. Рабы плоти своей тленной. К тому ж, через палец сморкаются… Э, да что толковать. Через год, другой сами, молодой человек, волком взвоете.
— Зачем вы все это говорите?
— Только лишь ради перспективности.
— Пугаете?
— Ни-ни. Зачем пугать? Сами испугаетесь, придет время. Спокойного сна.
Кряхтя, он лезет на верхнюю полку, ложится ко мне спиной. Теперь в полутьме видны только перекрещивающиеся темные полосы его подтяжек.
Поезд идет медленно, осторожно, как будто боясь оступиться. Сколько ни всматриваюсь в окно, увидеть ничего нельзя. Длинная-предлинная ночь. Смотрю на часы и с удивлением вижу: еще только полтретьего. Кто этот старик? Впрочем, думать о нем не стоит. Доживающий свое обломок старины.
Но что то царапается в душе, поскабливает, как ногтем по стеклу. Что? Почему так въедливо неприятен этот разговор? Я ложусь и тут же вскакиваю — понял! Как похоже это на Верины мысли. Даже слова те же: «глушь», «дикость», «комар». Только у нее это было без усмешечки, с жалостью ко мне. А это еще обиднее.
Старик в подтяжках спит. Даже сквозь лязг колес слышен его храп — булькающий, натужный, как будто он задыхается, тонет в болоте.
В памяти звучит его дряблый голосок: «Это от начитанности», «народ серей серого».
Незаметно задремал. Очнулся — утро. Глянул на старикову полку — на ней только смятый полосатый матрац.
А за окном ярчайший свет. Вдоль железнодорожной насыпи по лужам отстоявшейся дождевой воды прыгает утреннее солнце. Стремительно проносятся пихты и высокие ели. Вблизи они темно-зеленые, на них ясно видны светлые пальцы новых побегов. Издали они кажутся синими, подернутыми туманной голубизной.
Утро тихое, но вместе с поездом мчится упругий вихрь, и от его прикосновения высокие травы испуганно бьются, приникают к земле. Вспыхивают голубые, желтые, оранжевые цветы. Все вокруг напитано молодой, нетронутой свежестью.
Нет, не случайно я отказался от лаборантства на кафедре гистологии. Мне было лет четырнадцать, когда я стал задумываться, кем быть. Читал тогда запоем и беспорядочно все, что попадало в руки: Конан Дойла, Льва Толстого, Николая Островского, Александра Грина. Читал ночами на балконе при свете уличного фонаря, на скамье в городском парке и даже украдкой на уроках, раскрыв книгу под партой.
Каждая сильная книга настойчиво звала меня в свой мир. Мне хотелось быть то следователем, то писателем, то ученым, то летчиком. Я увлекался плаванием, изучал стенографию, занимался химией и даже писал стихи. Это непостоянство уже начинало беспокоить мою мать, как вдруг все определилось сразу и бесповоротно.
В тот день пришло письмо, написанное незнакомым почерком. Мама внимательно осмотрела штемпель на марке, пытаясь прочесть, откуда оно отправлено. Потом, как сейчас помню, присела у стола, оторвала от края конверта узкую полоску, вынула сложенный вчетверо листок, развернула его и, едва взглянув на первые строчки, коротко вскрикнула:
— Витя!
Письмо начиналось так: «Спешу исполнить последнюю волю нашего друга, покойного Петра Александровича…» Кто-то из далекого сибирского села сообщал нам о смерти отца, справлялся, как распорядиться его вещами и книгами.
Долго я не мог свыкнуться с мыслью, что отца не стало, но не плакал, а только думал, думал…
Пришли ценной посылкой вещи отца: старинные часы с римскими цифрами, полевой бинокль, овальное зеркало в никелированной оправе и серебряный портсигар. Теперь они принадлежали мне.
Мать редко рассказывала об отце, но отзывалась о нем с неизменным уважением. Должно быть, она любила его, но вместе они не жили.
От нее я узнал, что отец вырос в семье московского рабочего-переплетчика. Ему было семнадцать, когда он прочел на иссеченной пулями стене Кремля еще влажную от клейстера листовку и вступил в красногвардейский отряд. В девятнадцатом году он окончил школу военных фельдшеров и перед отправкой на колчаковский фронт вступил в партию. С Красной Армией он прошел по обледенелым тропам Урала, по степям и тайге вплоть до Иркутска. Конец гражданской войны застал его в Томске. Оттуда он вернулся в Москву со страстным желанием учиться. Поступил на медфак университета. Вечерами работал: выгружал кирпич и доски на железной дороге, расклеивал афиши. Наконец, стал врачом.
В разбитых ботинках, в потрепанной армейской шинели выехал он на работу в Сибирь. Здесь, в небольшом таежном селе, познакомился с молодой учительницей. После занятий ученики провожали учительницу домой, потому что она панически боялась собак. С тех пор провожать учительницу стал врач, а вскоре она стала его женой.
Родился я. Мама отправилась погостить к родным и не вернулась к отцу. Не знаю почему. Она никогда мне об этом не говорила, а я не спрашивал.
Работу свою отец любил до самозабвения, много и серьезно читал, выезжал на съезды врачей, печатал свои статьи в научных журналах. Уже тогда он был опытным врачом. Подчас ему удавалось спасать тяжелых, почти безнадежных больных. Позже он звал меня в своих письмах к себе. Он любил Сибирь и писал о ней с восхищением.
Видимо, близкую смерть предчувствовал отец, когда писал мне: «С неделю провалялся после сердечного приступа. Было время думать о себе, что я не особенно люблю — скучное занятие. Подвел черту, итог такой: еще бы мне одну жизнь. Не полегче, а такую же. Только чтоб не то же самое, а дальше, вперед. Объясню, что хочу сказать. Может быть, ты когда-нибудь будешь изучать латынь. Узнаешь такой девиз: „Пэр аспэра ад астра“. Что значит: „Через тернии к звездам“. То есть через трудности. Так человечество шагает к своим звездам, и дошагает. А отдельный человек к своей звездочке. Тоже через трудности. А кто легкого ищет, те вроде пыли в придорожной канаве, рядом с окурками. Самое легкое — это жить по инерции. Страшная это штука. Не поддавайся ей. Ставь себе цели на грани невозможного. Не страшись удаленности их. Пусть ты сделаешь только первый и второй шаг, другие сделают третий и четвертый. Иначе гибель — сытобрюхая, себялюбивая». Это было завещание отца. Я знал его наизусть.
И вот отца не стало. Умер не только он, умерли и все мечты мои о нем. Осталась не дающая покоя мысль о смерти. Какой-то француз сказал, что все мы, живые, осуждены на смерть, только исполнение приговора отложено на неопределенное время. Одному завтра, а другому через шестьдесят лет. Он был фаталист. Меня такие мысли возмущали. Что за примирение с неизбежным? Как можно спокойно произносить красивые афоризмы о смерти? О чем угодно можно, только не о смерти. Вместе с человеком умирает целый познанный мир, сокровища его жизненного опыта, умений. Все, что строилось в человеке, копилось долгими трудными десятилетиями — мысли, опыт, мудрость, — все становится ничем с последним ударом сердца.
Со смертью отца кончилось мое детство. В эти дни моего первого большого горя и определилась идея моей жизни или мечта, не знаю, как ее назвать. Я рассказал о ней матери. Она обняла меня, прижала к своей груди.
— Рано загадывать. Для большого дела нужны большие знания. Учись, сынок.
Она не посмеялась над моей мечтой, а назвала ее «большим делом», и по этому слову я почувствовал, что она сразу и вполне схватила мою мысль, а главное, поняла, что́ эта мысль для меня значит. В эту минуту я любил мать как никогда сильно.
Теперь я твердо знал, зачем встаю в семь часов, умываюсь холодной водой из-под крана и спешу в темноте по хрустящему снегу почти через весь город в школу. Я уже не читал все, что попадет в руки. Прежде чем взять книгу, я спрашивал себя, нужна ли она для моей мечты. Забросил я и стенографию, и стихи. Только не раздружился с Волгой. Любил я, спрятав одежду где-нибудь на берегу под бревнами, переплыть на остров и, лежа на теплом песке, слушать шум тальника и перебирать свои мысли.
Тогда я никому не решился бы их высказать, кроме матери. Непонятный мне самому стыд смутно подсказывал, что они еще совсем детские. Успех предстоящего дела рисовался мне в виде какого-то таинственного элексира, который в один прекрасный день возникнет из дыма и пламени в раскаленной реторте. Элексир вечной молодости. В ту пору я не знал, что мечта моя потерпела крах еще во время средневековья, что немало обыкновенных жуликов морочили этими химерами головы доверчивых людей.
Мой детский ум не мог помириться с неизбежной необходимостью смерти. Могущество человеческой изобретательности, представлялось мне, может победить даже законы природы, действовать вопреки им. Победить смерть — этому стоило посвятить не одну, а сто жизней одну за другой.
В старших классах наступило отрезвление. Книги открыли мне, что элексир искали и до меня. Это был путь преступлений и заблуждений. Авантюрист граф Калиостро продавал «элексир бессмертия», знаменитый ученый Парацельс бесплодно долгие годы искал «камень бессмертия». Папа римский Иннокентий VIII, пытаясь продлить свою жизнь, влил себе кровь троих мальчиков — погиб сам и умертвил детей… Все это было зачеркнуто наукой, как только она вышла из пеленок.
«Борьба со смертью» Поля де Крюи была первой книгой, которая познакомила меня с проблемой в ее научной постановке. Мечта о бессмертии сменилась мечтой о долголетии. Стало ясно — путь мой не химия, а медицина. В мединституте я ознакомился с опытами Броуна-Секара, Воронова, зачитывался статьями Мечникова, Богомольца, Гамалеи. Я был, пожалуй, самым увлеченным участником геронтологического кружка, который вел профессор Смородинов. Мы ставили опыты над белыми крысами и мышами, подобные тем, которые ставил профессор Анучин. Наши крысы жили тоже почти вдвое дольше, чем контрольные. Профессор Смородинов — ярый последователь Павлова — считал, что главным фактором старения является изнашивание нервной системы.
С двумя моими работами я выступил, и довольно успешно, на студенческих научных конференциях. Смородинов, ободряя, говорил, что у меня есть склонность к исследовательской работе. Такая похвала в его устах означала многое. Это был милый, очень честный, прямолинейно-правдивый старик. Он был доволен мной и все же несколько раз бросил мне резкое: «Узко мыслите». Я сознавал, откуда у меня эта узость. Все, что знал я, было книжным. Мучительно ощущал я недостаток практики, того жизненного и врачебного опыта, из которого только и рождаются новые мысли. Геронтология требует от исследователя огромных знаний, понимания живого человека со всеми его сложнейшими физиологическими процессами, со всеми его недугами, в его росте и старении. Вот почему тянуло меня из тесного кабинета долголетия, загроможденного стендами, диаграммами, препаратами, на вольный воздух, к практической работе.
Да и как я мог один из всего курса остаться при институте — это было бы похоже на дезертирство. Спрятаться за обложки книг в то время, когда товарищи мои смело кинутся в жизнь?
На шестом курсе Смородинов спросил меня:
— Какие у вас планы?
Я ответил ему то, что решил прежде:
— Ехать на работу.
— Куда?
— В Сибирь. Там работал мой отец.
Остального можно было не объяснять: Смородинов — умный старик. Мне хотелось работать именно там, где трудно, там, где больше всего нужны люди.
— Что ж, решение правильное, — согласился он. — Поработайте. Молочные зубы выпадут, вырастут коренные, тогда можно будет и за геронтологию взяться всерьез. Сибирь — это полезно. И для здоровья и для ума.
«К науке вернусь, — думал я упрямо. — Там же, в деревне, буду работать. Нет на свете ничего невозможного».
И ВОТ, НАКОНЕЦ…
В руках у меня направление. В Томском облздраве мне оформили все в два счета. Не успел даже разглядеть города. Общее впечатление такое: сквозь нечто деревянное, сумрачное, потемневшее от времени, пробиваются мощные, светлые ростки новых многоэтажных зданий.
Снова поезд. Снова за окнами бегут высокие зеленые ели. Короткая остановка. Прыгаю с верхней ступеньки на промасленную землю.
Пихтовое! Районное село, именуется Пихтовым. Но странно! На улицах ни единой пихты. Из редких палисадников перед окнами выглядывают лишь грязные кусты черемух да тощие, исхудалые рябины.
Вдоль главной улицы тянутся тесовые тротуарчики. Подле них зеленая низкая травка. На ней пасутся белые пекинские утки. Пятистенные бревенчатые избы с шатровыми крышами стоят уверенно, прочно. Улица избита тракторами и машинами. В колеях вода, в ней куски голубого неба, стерильная вата облаков.
Ищу районную больницу. Она спряталась в березовой роще. Березы чудесные — стройные, белоснежные, будто в белых халатах. От ворот к одноэтажному зданию идет желтая, посыпанная песком, дорожка. Спокойно, чисто, уютно… На крыльце санитарка, подоткнув юбку, моет ступеньки, скоблит их большим ножом. Старичок в картузе с лакированным козырьком, взобравшись на стремянку, красит наличники.
— Вам кого? — спрашивает санитарка, выпрямляясь.
— Мне главного врача. Он здесь?
— Не приметила, — отвечает она, давя тыльной стороной руки впившегося в щеку комара. — А вы пройдите.
Входя в коридор, я слышу, как старичок спрашивает ее о чем-то, а она громко, как отвечают глуховатым, кричит:
— А я почем знаю? Парнишка какой-то. Ивана Степановича ищет…
Парнишка! Около большого трюмо останавливаюсь. Моя внешность, как всегда, мне не нравится: я выгляжу совсем мальчишкой — русые вьющиеся волосы, розовые щеки, даже слишком розовые, как будто я только что вернулся с лыжной прогулки, глаза голубые. Вера говорила: «Как у девушки». В общем, ничего впечатляющего, ничего солидного, врачебного. И все-таки обидно, когда тебя называют парнишкой. Ведь еще Гиппократ заметил, что врач должен иметь внушительный вид.
В большом кабинете за письменным столом сидит мужчина и читает журнал. Одной рукой он подпирает голову, в другой — карандаш. Около чернильницы в синей вазе ромашки. Мужчина поднимает глаза, шевелит густыми седеющими бровями, и я поражаюсь: до чего он похож на Толстого! Такое же суровое, умное лицо, такой же проницательный взгляд.
— Вы ко мне? — спрашивает он.
Подаю направление. Он читает, затем протягивает большую, мягкую руку. Так и кажется, что он скажет сейчас: «Лев Толстой», но он говорит:
— Колесников.
— Вересов, — представляюсь я.
— Вы очень торопитесь? — интересуется он, все еще ласково и сильно пожимая мою руку. — Присаживайтесь. Кстати, давайте-ка посмотрим быстренько, что у вас там.
Он просматривает мой диплом, направление, причем, не так-то уж «быстренько».
— Диплом с отличием, для начала неплохо. Остальному научит жизнь. Семья есть?
— Нет.
— Ну, это поправимо, — лукаво щурит он глаза и переходит на деловой тон. — Озерки, куда вы поедете, — место нелегкое. Полгода уже нет врача. Сейчас там заправляет делами фельдшерица, некая Погрызова. Она же заведует аптекой. Больничка на десять коек не функционирует. Не было врача, да и без ремонта ее нельзя открывать. С медикаментами неплохо. Снабжают. Да, еще трудность — далековато, а весной и осенью бездорожье. — Он откидывается на спинку стула, испытующе ощупывает меня взглядом. — Вам после города может показаться трудно. Не стыдитесь советоваться, звоните. Да, кстати, врач Петр Вересов ваш отец?
— Да.
— Слышал о нем, читал его статьи. Знающий был врач, энтузиаст…
От этих слов мне становится отрадно и почему-то чуточку больно, словно здесь, в далеком сибирском селе, нашел я письмо от отца.
Колесников говорит без жестов, негромко, но я чувствую на себе теплоту того уважения, которое он питает к отцу. Не хочется уезжать от него. Но путь не окончен. Через полчаса уже трясусь в почтовом грузовике по проселочной разбитой дороге. В кармане похрустывает плотная бумажка — приказ о моем назначении заведующим врачебным пунктом.
Колосится рожь. Под серым пасмурным небом она стоит светло-зеленая, рослая. Бегут по ней ветерки, гладят, треплют невидимыми ладонями. В кузове нас двое — я и «сопровождающий». Мы сидим на жестяных коробках с кинолентами. Коробки танцуют, уползают из-под нас. Вместе с ними, поддавшись дурному примеру, прыгает по кузову и мой чемодан. Разговор с сопровождающим не клеится — слишком кидает нас из стороны в сторону, подбрасывает и швыряет, как будто шофер задался целью выколотить из нас пыль. У грузовика обе оси ведущие, и все же время от времени машина зарывается в ямы, фыркает и замирает. Колеса бешено и бессильно вертятся на месте, отчаянно плюют грязью.
Тогда мы швыряем под колеса все, что попадаем под руку: солому, хворост. Из кабины выскакивает шофер — пот с него стекает каплями. Командует, чертыхается, но не теряет бодрости.
— На фронте хуже бывало.
Сопровождающий не столь оптимистичен. Ему лет пятьдесят. Он загорелый, небритый, усталый.
— Собачья работа, — ворчит он и, как только мы влезаем в кузов пытается задремать. Правда, это ему не удается.
Дорога забирается все глубже в лес. Березняк сменился ельником — хмурым, строгим, густым, Осторожно проехали по деревянному настилу над маленькой таежной речушкой. Речушка в глубоком логу, смуглая, молчаливая, на ощупь пробирается между огромных болотных кочек. Черными ранами темнеет на стволах обуглившаяся кора — следы лесного пожара. И везде, на каждой веточке, на каждом сухом сучке, виснет серый лишайник, похожий на грязное рваное кружево.
— Малиновый лог, — говорит сопровождающий.
Думаю о том, что отойди от дороги двадцать шагов и заблудишься, пропадешь.
— Медведей тут полно, — кричит мне сопровождающий. — Позавчёра одного чуть не задавили.
Шутит он или говорит серьезно — понять нельзя.
Вот и Лопатино, большое село. Оно выбегает неожиданно из-за поворота. Останавливаемся. Дальше машина не пойдет. Но добираться как-то надо. Вечереет. У маленького бревенчатого здания почты, у коновязи, шуршит овсом лошадь. Босоногая девочка, сидя на скамье, грызет семечки.
— Откуда лошадь? — обращаюсь я к ней.
— Из Озерков. Почтовая.
— А где почтальон?
— Сейчас придет.
Ветерок веет холодом. Зябко шелестят листья корявой раскидистой березы у меня над головой. Сижу на чемодане. Думаю. На душе тревожно. Слишком ясно понимаю я всю сложность того дела, которое меня ждет. Мне знакомы те неисчислимые пути, которыми подкрадывается к человеку смерть. Я знаю, с каким хитрым и беспощадным противником мне придется иметь дело. На его стороне микробы и вирусы, невежество и грязные руки, слякоть и осеннее ненастье.
Смеркается. Зажегся фонарь на деревянном столбе. В дверях почты появилась девушка в стеганой телогрейке. Одной рукой она прижимает к груди обшитую полотном посылку, в другой — несет кожаную сумку.
— Девушка, вы из Озерков?
Она оборачивается с готовностью.
— Да, а что?
Голос у нее приятный, звучный, с задорной мальчишеской интонацией. Она останавливается в двух шагах от меня, и свет электрического фонаря освещает ее улыбающееся лицо, совсем еще юное, с ямочками на упругих щеках. Глаза ее, серые, живые, смотрят на меня вопросительно.
— Мне можно будет с вами доехать? Я врач…
— Вы к нам насовсем? — радостно восклицает она.
— Да.
— Вот хорошо! Много у вас вещей?
— Один чемодан.
Мы направляемся к лошади.
— На новую дорогу щебня навозили, плохо ехать. Мы лучше лесом. Вдвоем-то веселее, — говорит девушка, складывая на телегу посылку и кожаную сумку. — Вам не холодно? А то у меня плащ.
Двигаемся заброшенной проселочной дорогой. Ветви темных кустов касаются иногда моего лица прохладными листьями. Слева блестит узкое, длинное озеро, похожее на реку. На другом его берегу пылает костер, и желтые искры летят высоко в небо. Где-то близко кричит филин:
— Ух, ух!
И умолкает. Пахнет невидимыми цветами, свежескошенной травой и дегтем от лошадиной сбруи.
Пытаюсь разговориться с девушкой.
— Вы почтальоном работаете?
— Да нет, — смеется она. — Это вместо мамы.
— Учитесь?
— С осени в институт собираюсь.
— В какой?
— В сельскохозяйственный.
— Клуб у вас есть?
— Есть.
— И кино бывает?
— Привозят. Только демонстрируют плохо. То рвется, то ничего не слышно.
Девушка приветливая, но не особенно разговорчивая, но мне хорошо и без разговора. Все необычайно и прекрасно в этой ночи: и холод росных трав, и низкая, еще не разгоревшаяся луна над лесом, и озеро, то и дело проглядывающее светлой живой поверхностью сквозь камыши.
Впереди блеснули неяркие огни.
— Вон и Озерки завиднелись, — говорит девушка.
Спускаемся в лог, и сразу нас обдает резким, почти морозным холодом. Колеса глухо бренчат о настил моста. Снова подъем. Лошадь бредет шагом. Проплыли ворота поскотины, жерди изгороди. Опять засверкали огни, теперь уже ярко, отчетливо.
Показалась первая изба. В низком оконце, сквозь заросли бурьяна, теплится свет коптилки или свечи. Вокруг избы не видно ни ограды, ни построек. На дерновой кровле торчит покосившаяся железная труба.
— Кто живет здесь? — спрашиваю спутницу.
— Колдунья.
— Нет, серьезно.
— Знахарка, Авдотья Окоемова. От всех болезней лечит.
— И вы верите ей?
— Я-то не верю, а мама, пожалуй, верит. У нее нога сильно болит.
— А что у нее с ногой?
— На грабли напоролась.
— А как ваша фамилия?
— Невьянова.
Едем улицей. Колеса телеги мягко вжимаются в грязь. Блеснул красный глазок папиросы. Из темноты кто-то окликает:
— Надюша, ты?
Девушка останавливает лошадь, спрыгивает с телеги, отдает мне вожжи.
— Обождите, я сейчас.
Она скрывается в темноте. Доносится мужской голос:
— Придешь?..
— Ну, конечно.
— Душа изболелась, — гудит просительно мужской голос.
— Тише, ты.
— Надь!
Неуловимый шепот и затем опять явственно:
— Старый?
— Да нет, совсем молоденький.
На секунду тишина. «Целуются», — думаю я.
Девушка возвращается к телеге, поправляет волосы.
— Поедемте.
Останавливаемся у большого дома с шатровой крышей. На воротах белеет вывеска: «Врачебный пункт». Надя громко стучит в калитку кнутом.
— Тетя Ариша!
Далеко во дворе хлопает калитка. Появляется пожилая женщина в пальто внакидку, в галошах.
Я иду вслед за ней. Поднимаемся на какое-то крыльцо.
— Как звать вас? — спрашивает Ариша, отмыкая большой винтовой замок. Я называю себя.
Входим. Щелкает выключатель. Вспыхивает электрическая лампа в матовом абажуре. Из прихожей две двери: одна в кухню, другая в комнату.
Комната, в которой мне предстоит жить, почти квадратная, с большими окнами. Она пахнет известью и краской. Против двери письменный стол и белый табурет. Справа от стола — этажерка. У стены никелированная кровать, подле нее тумбочка. Между окон большой мягкий диван с высокой спинкой.
Ариша задергивает занавески на окнах.
— Располагайтесь, — говорит она. — Сейчас я чай согрею.
— Нет, чаю мне не надо.
— А то мне недолго, — еще раз предлагает Ариша.
Невысокого роста, худая, она выглядит нескладно. Мускулистые руки ее с мозолистыми, загрубевшими в работе пальцами загорелые, почти шоколадные. Лицо старое, увядшее. Красивы одни глаза: темные, глубокие с неизгладимой печалью много испытавшего человека.
Она уходит. Я раздеваюсь, ложусь в постель, задремываю. Сейчас же появляется Вера. Она присаживается рядом, спрашивает:
— Ну, как тебе без меня?
— Плохо, Вера.
И вдруг оказывается, мы не в комнате, а в Малиновом логу. Настил моста разобран. Вера на другом берегу речки. Она тянет ко мне руки.
— Не ходи! — кричу я.
Она прыгает на кочку, падает, начинает погружаться в воду. Я ищу палку, чтобы протянуть ей. Нахожу, оборачиваюсь, Веры нет.
ОЗЕРКИ
Вижу их с высокого крыльца медпункта. Бревенчатые избы, тесовые серые крыши, над крышами ранние сизые дымки. Невдалеке, как осенний пожухлый репей, чернеет старая деревянная церковка. Окна ее заколочены досками, вместо креста острый шпиль, а выше голубеет, как будто только что покрашенное лазурью и необсохшее, без единой тучки небо.
С трех сторон село крепко обнимает тайга. В ее глубине синий ночной мрак, но между острых вершин пихт пробиваются, брызжут огненные капли подымающегося солнца.
С четвертой стороны низина. В ней клубится и течет непроглядный тяжелый туман. Там, должно быть, река. За ней чистый горизонт, спокойные дали, чуть тронутые голубизной.
Здесь мне жить. Теперь я здешний, не саратовский уже, а озерский. Что ж, именно этого я и искал для себя: темная тайга, бревенчатые избы. Теперь держись, Виктор Вересов, начинается твоя собственная жизнь. Она спросит, из чего ты скроен и крепко ли ты сшит. Не гнилыми ли нитками? Все правильно, все идет как надо, и все-таки немного грустно.
На широком дворе врачебного пункта — амбулатория с квартирой врача, еще два дома и маленькая избенка в два окна. Она выглядывает из-за стволов берез. Над ее обомшелой крышей высоко в ветвях виднеется долбленый скворечник.
Из дверей избенки появляется Ариша в белом халате и марлевой косынке. Она приветливо здоровается и ведет знакомить с моими владениями.
Один из флигелей — родильное отделение, сейчас пустующее, но чисто прибранное, другой — маленькая больничка. В трех ее комнатах едва могли бы расположиться две палаты и кухня. Половицы западают под ногами, словно клавиши аккордеона, потолочные балки угрожающе провисают, из-под плинтусов белой слезящейся пеной выпирает грибок. Пахнет плесенью, гниющим деревом и холодной печью.
— Конец приходит нашей больнице, — вздыхает Ариша.
По полу серой пушинкой скользит мышь и прячется в щель между половицами. Ариша топает ногой.
— Ишь, обнаглели!
Больничка произвела на меня тягостное впечатление, но амбулатория понравилась. Застекленная дверь открылась мягко, без скрипа. Недавно покрашенные полы, рамы окон, подоконники и табуреты, шкафы с лекарствами и инструментами, никелированные стерилизаторы и даже проволочные крючки вешалки — все начищено, вымыто и блестит.
Ариша протягивает мне ключи. Открываю шкаф, осматриваю инструменты. В это время в окне мелькают грива лошади и дуга.
— Больного привезли, — говорит Ариша, снимая с вешалки и подавая мне халат.
Чувствую себя, как на экзамене, когда, стараясь казаться невозмутимым, протягиваешь руку к экзаменационному билету.
Через порог шагает парень в промасленной гимнастерке. Одну руку, посиневшую от притока крови и неестественно согнутую, он осторожно поддерживает здоровой рукой. Вслед за ним входит мужчина. Окинув кабинет взглядом, говорит неповоротливым басом:
— Врача нам надо.
Иду ему навстречу, застегиваю халат.
— Что случилось? Перелом?
— Похоже на то, — соглашается он, снимая фуражку.
На смуглом лбу парня тесно выступили капли пота, в суженных зрачках просвечивают страх и боль.
— Напугался он очень.
— И вовсе не напугался, — резко, почти грубо, возражает парень.
Усаживаю пострадавшего на стул. Волнение мое улеглось. Разрезаю ножницами рукав его рубахи, обнажаю поврежденную руку.
— Трактористом работаете?
Парень утвердительно кивает головой, с тревогой следя за моими движениями.
— Второй раз ключом бьет, — поясняет его спутник. — Тот раз как-то сошло, а сейчас вон что…
Сломаны локтевая и лучевая кости. Ставлю их в правильное положение, накладываю лубки, бинтую. Пострадавший измучен болью, до скрипа сжал зубы, но молчит. Рослый, складный, с малахитово-зелеными дерзкими глазами на сухом загорелом лице, он красив резкой, мужественной красотой.
Заполняю карточку. Мужчина диктует:
— Окоемов Андрей Александрович. Рождения тридцать четвертого года.
«У колдуньи такая же фамилия», — вспоминаю я.
— Вы тоже тракторист? — спрашиваю я мужчину.
— Бригадиром работаю. Невьянов я.
— Наде Невьяновой не родня?
Лицо его светлеет.
— Как же, отцом родным прихожусь.
— И часто в вашей бригаде бывают такие случаи?
— Так ведь, если на раннее зажигание ставить… — начинает объяснять Невьянов. Я останавливаю его:
— Об этом потом, а сейчас отправляйте Андрея в больницу, к хирургу.
Они уходят, оставив в кабинете запах керосина и смазочных масел. Ариша открывает окно на улицу. В комнату проникают лучи солнца, ложатся широкой полосой на стол. В палисадник на ветку черемухи прилетел воробей и принялся чистить перья. Проходит пастух, вызывая коров громкими, похожими на выстрелы, ударами бича. Откуда-то доносятся бодрые команды утренней зарядки: «И раз, и два, и раз, и два». Я счастлив от этих светлых лучей, ворвавшихся в комнату, от прохладного утреннего воздуха и особенно оттого, что началась моя самостоятельная трудовая жизнь.
Завтракаю у Ариши в ее маленькой, точно игрушечной избушке. Здесь чисто, уютно и пахнет полынным веником. Узкая железная кровать, столик, придвинутый к подоконнику, сундучок, окованный медными полосами, на стене полка с посудой — все выглядит удобным и нужным, как пух и перья в гнезде птицы.
— Вы меня Ариной Федоровной не зовите, — предлагает Ариша. — Не личит мне это. Зовите Аришей.
— Тогда и вы меня зовите по имени.
— По имени звать не буду, а вот выкать — мне неловко. Не понимаю я этого выканья.
Говорит она мало, но по ее быстрым движениям, помолодевшему выражению глаз замечаю, что ей доставляет удовольствие заботиться обо мне.
Неторопливо и сдержанно, даже как будто с опасением вызвать жалость, рассказывает мне Ариша, что был у нее муж — здешний избач, что в тридцатом году его убили кулаки, а она так и осталась век свой доживать бобылкой.
Неожиданно усмехнулась недоброй улыбкой.
— Запугать нас думали. Тех, кто за колхозы агитировал. Вам-то молодым, это только по книгам известно.
Едва успеваю позавтракать, как является медсестра Елена Осиповна. Толстушка, скромная, тихая, с неуверенными движениями коротких рук. Жидкие косы она закручивает узелком на затылке, и от этого ее лицо кажется совсем круглым.
Ариша называет ее Леночкой. Иначе ее и трудно называть — слишком уж похожа она на ребенка. Мы разговорились. Есть у нее девочка восьми месяцев, муж на флоте в Тихом океане, а живет она со свекровью. На мои вопросы отвечает смущаясь, с беспричинной улыбкой.
Начинают приходить больные. В это утро у нас побывали кладовщик Елагин, туберкулезный мужчина со впалой грудью и маленькими глазами цвета дождевых облаков, женщина с мальчиком, который подавился рыбной костью, и старик Окоемов — высокий, негнущийся, в серых валенках и желтом полушубке.
«Еще один Окоемов» — удивляюсь я. Он жалуется на ломоту в пояснице и вопрошает, растягивая слова:
— Зачем живу — сам не знаю. От меня и толку-то никакого нету. На той неделе, слышал я, академик помер. Фамилии я не упомнил… Какой же это порядок? Ему бы жить да жить, а мне — пора на спокой.
— Разве жить не хочется?
— Без малого уж расхотелось. Старуха все копит, копит. Сам посуди. В праздник на шкалик — и то копейки не выпросишь. А мне зачем копить? На тот свет рукавиц и то не надо…
Выясняется, что жена его — та самая колдунья, о которой мне рассказывала Надя.
— Собираюсь к внуку перебраться. Хочу напоследок пожить, как душе угодно, — кряхтит он.
— А где работает ваш внук?
— Так он был у вас. Который руку-то покалечил. Не повезло парню. Без руки ему как? Он дом ставит. Жениться, вишь, задумал. Надюшку Невьянову будет сватать. Ладная девка. Одно досада — с домом парень запутался. Людей добрых насмешил…
— Как так?
— Да не по-мужицки затеял, с этим самым меженином.
— Мезонином?
— Ну да. И опять же плюгером… Ему бы это ни к чему. Все для нее. А она что? Самая что ни на есть наша, деревенская, без выдумок. Он свое: «Она у меня, как королева, будет жить».
Старик никак не может кончить и, уже стоя у дверей, все гудит:
— В молодые-то годы я дюже сильный был. Двадцать лет на Оби в грузчиках ходил. Как сейчас помню случай вышел. Вынес я из баржи бочонок. Тащу его на горбу. Встречь мне барин, при часах, в котелке. Остановился, видно, маленько под мухой и ну смеется, заливается: «Экий верзила ты, а махонький бочонок тебя в три погибели согнул». А я ему в ответ: «Неправильно ваше суждение. Если пожелаете — сможете самолично убедиться, есть ли в русском человеке сила». Дошли с ним к весам, сняли товарищи бочонок и на весы. И потянул тот бочонок двадцать один пуд и шесть фунтов. «Вот, барин, говорю, ваша неправда, потому что в бочоночке-то дробь». Тогда он достает портмонет и вынимает пятиалтынный. «На, говорит, молодец. Выпей за мое здоровье». Андрюха-то весь в меня, кость у него широкая. Литру выпьет — не поперхнется.
В половине десятого приходит фельдшерица. Надевая халат, она наклоняется к Леночке.
— Давно начали?
На вид ей лет тридцать, высокая, худая, с пепельным оттенком лица, какой бывает у желудочных больных. В движениях порывиста. Когда заканчивается прием, она подходит ко мне.
— Ну что ж, следует познакомиться. Погрызова Ольга Никандровна.
Получается некоторая заминка. Мы стоим один против другого. Пожать руки или нет? Все же жмем.
— Как я рада, что вы приехали, — говорит она. — Совсем измучилась одна. Все на мне: и прием, и аптека. — Скосив глаза в сторону Леночки, продолжает вполголоса: — Это разве помощница? Сами видите — девчонка. Опыта никакого. Свежеиспеченная.
— Я тоже свежеиспеченный, — замечаю я.
Погрызова испуганно машет руками.
— Что вы, что вы! Я совсем не в этом смысле. Вы же врач. Это уж одно само за себя говорит.
Нервная женщина с признаками неврастении. Все делает быстро, говорит нетерпеливо. Спрашиваю:
— Ольга Никандровна. Во сколько вы обычно начинали прием?
— В семь, иногда в восемь, — отвечает она с запинкой.
— Надо повесить объявление, чтобы народ точно знал время нашей работы.
— Обязательно, — соглашается она и краснеет пятнами. Леночка уходит, остаемся вдвоем. Ольга Никандровна снимает халат, вкрадчиво осведомляется: — Ну, как вам наш медвежий угол? Понравился?.. Вы, конечно, шутите, — недоверчиво замечает она.
Садится на подоконник, сутулится.
— Глушь, так уж глушь. Ни одного порядочного человека. Ариша — чучело гороховое. Леночка, что о ней скажешь? С ребеночком, да и самой ей хоть пеленки меняй — сосунок. Из начальства — ну кто тут? Председатель колхоза Климов — интересный мужчина, но увяз в хозделах. Новиков — партийный секретарь, — между нами говоря, слишком во все нос сует. Вчера заявился: почему, видите ли, лекцию не прочла? Настырный такой, во все вмешивается. Ну, я его быстро на место поставила. «Пока что, говорю, я лично перед районной больницей отчитываюсь, а вы давайте по своей линии…» В общем, тоска зеленая… Вы не представляете, как все надоело. Вы молоко у кого брать будете?
— Не знаю еще…
— Если надумаете, так берите у нас… Жирность четыре и три десятых. Хоть на молзаводе справьтесь. Породистей нашей коровы, пожалуй, во всех Озерках не найдете… С одной стороны симменталка.
— Спасибо.
— Папочка ее здешний бычок, а мамочка благородная… — Она смеется, довольная своим остроумием. Прощаюсь с Ольгой Никандровной. Иду к Невьяновым.
Вдоль села — горбатая улица. Маленький магазинчик с вывеской: «Магазин Пихтовского сельпо». На дверях замок. Кровельными гвоздями прибита бумажонка «Принимаем гребы». Вдоль улицы провода: телефонная линия и электросеть. Вправо и влево разбегаются узкие зеленые переулочки. Замечаю, что в селе много новых домов. Это радует.
Навстречу девочка ведет за руку голопузого малыша. Спрашиваю, где живут Невьяновы. Она машет в сторону дома с голубыми ставнями.
— А вон там…
Вхожу в чистый широкий двор. У стены сарая приютился верстак из толстых плах с металлическими тисками. Над сараем, как черная небывалая птица, простирает неподвижные крылья ветродвигатель.
Посреди двора на треножнике сияет медный таз. В тазу кипит варенье. Надя, раскрасневшаяся, в белом фартуке, с губами, испачканными ягодой, снимает ложкой розовую пену, стряхивает ее в блюдечко. Оглядывается на стук калитки.
— Здравствуйте.
Почему-то приятно, что девушка не удивлена моему приходу, будто ждала.
— Вы к маме? Я вас провожу.
Идем в дом. В просторной кухне лавки выкрашены светло-голубой краской. На стенах сельскохозяйственные плакаты, почетные грамоты в рамках, фотографии. Под самым потолком, в углу, темный, засиженный мухами образок богоматери с младенцем и пыльная веточка вербы.
В горнице на деревянной кровати сидит женщина. Одна нога ее, обмотанная чистой белой тряпицей, лежит на подушке. Женщина шьет что-то, близко поднося шитво к глазам.
— Вот спасибо, что зашли, — заговорила она улыбаясь. — Садитесь, пожалуйста.
— И давно болит?
— Второй месяц пошел.
Развертываю повязку. Ощущаю отвратительный гнилостный запах. Ниже колена, среди набухших синих венозных узлов, зияет гнойная рана. Вместе с тряпицей от нее отделяется что-то сырое, желтоватое, похожее на глину.
— Что это?
Женщина смущена, мнется. Надя вмешивается:
— Это Авдотья жевку приложила.
— Что за жевка?
— Хлеб нажевала.
Промываю рану перекисью водорода. Становится заметна краснота, ползущая вверх от раны.
Входит Невьянов с полотенцем в руках, вытирает мокрые шею и плечи.
— Вот как плохо получается, — говорю я ему. — У бабки лечитесь, а к медработникам не обратились. До чего довели.
Невьянов спокойно вешает полотенце на гвоздь.
— А к кому обращаться? К Погрызовой? От нее помощи ждать нечего.
— Почему?
— Свиней развела. Кроме своего хозяйства, ничем не интересуется. Явится к больному, присядет подле кровати, пульс щупает, а сама выведывает: «У вас боровок или свинка?» — «Свинка». Спросит, огулялась ли, закажет пару боровков. А выслушать больного и не подумает. Вот тебе и медпомощь.
Странно. Этого я не ожидал. Ну что ж, поживем, увидим.
Накладываю повязку с риванолом, выхожу в кухню. За мной следом Надя.
— Надя, — произношу я громко, чтобы слышала ее мать. — Если придет Авдотья, гоните ее прочь, чтоб духу ее здесь не было. А то Полина Михайловна без ноги останется.
Надя приносит в кухню чернила и ручку. Вместе с Невьяновым составляем акт о несчастном случае с Окоемовым. Узнаю, что колесный трактор, на котором работал Андрей, давно уже списан. Он самовольно отремонтировал его и пустил в ход.
— Похвастать хотел: «Вы, мол, трактор выбросили, а я на кем еще поработаю», — пояснил Невьянов.
Он не оправдывается, только говорит сокрушенно:
— Прошляпил я. Молодежь — народ аховый.
На обратном пути зашел в сельсовет. Знакомлюсь с председателем сельского Совета Егоровым. Это крепкий, плечистый мужчина, лет пятидесяти, с загорелым моложавым лицом и седыми, снежными, прямо-таки морозно-голубыми волосами. Гладко выбритый, с непокрытой головой, он стоял на крыльце сельского Совета и недовольно смотрел на небо.
— Опять дождя не миновать.
Узнав, кто я, он улыбается, на лбу его расправились незагорелые морщинки, карие глаза глянули на меня весело.
В приемной Совета женщина в пенсне печатала что-то на машинке.
— Лина, — обратился к ней Егоров. — Вот этого товарища пропиши в Озерках и сделай примечание: «Пожизненно».
Женщина не обратила внимания на шутку. На миг ее пальцы застыли над клавиатурой и снова замелькали. Егоров сел на диван, указывая место рядом с собой, сказал:
— До вас тут все гости были. Поработают полгода, год и рвутся увольняться. А у вас какие планы?.. О больнице не говорите — знаю. И уже позаботился. Смета утверждена. По шестнадцатой статье двадцать тысяч на ремонт. Договариваюсь с плотниками.
— Помещение тесное.
Егоров развел руками.
— Что поделаешь? Пока так. У нас не Москва.
— Где ж там можно разместить десять коек?
— Размещали, уверяю вас.
В голосе его прозвучала легкая обида.
— Скажите, — заговорил я о другом, — что вы знаете об Авдотье Окоемовой?
Егоров насторожился.
— Окоемова? Она раньше занималась знахарством. Пользовалась тем, что врачебная работа у нас ослабла. Мы ее серьезно предупреждали, она дала расписку…
— Она и сейчас этим занимается.
— Вы уверены?
— Вполне.
— Тогда надо собрать факты и пресечь. Пресечь! Поняли?
— Да, да, — согласился я, насколько мог уверенно. — Надо пресечь.
Бабка Окоемова представлялась мне уродливой Наиной из «Руслана и Людмилы», с руками цепкими и колючими, как ветви сухой боярки, с пронзительным и ненавидящим взглядом, с лохмотьями на костлявых грязных плечах. Она, как вошь, копошится где-то рядом, сея заразу невежества. «Пресечь, — думал я. — А как пресечь? Откуда я знаю?»
КОЛДУНЬЯ
У Погрызовой мутные глаза. В лицо собеседнику она не смотрит, на миг вскидывает взгляд и снова прячет его за припухшие, желтоватые веки. Еще неприятная черта: Ольга Никандровна ходит шумно, стуча о пол туфлями, надетыми на босу ногу. И еще: груба с Леночкой. Говорит ей «ты», «ну-ка поживей», «чего расселась?»
Со мной она вежлива. Даже очень. На днях рассердилась на меня, но не вспылила, сдержалась. Дело было так. Пришел шофер с обожженной рукой, и я попросил Погрызову:
— Сделайте сухую повязку.
Она открыла стерилизатор, взяла пальцами марлю и положила на стол.
— Обождите, что вы хотите делать? — вмешался я.
— Вы сказали, повязку.
— Выбросьте эту марлю, — посоветовал я тихо. — Стерильный материал класть на стол нельзя.
Она шумно отодвинула дверцу шкафа, стала искать пинцет. В полдень, когда больные разошлись, Погрызова попросила Леночку выйти и, расположившись против меня, сказала вкрадчиво и ласково, будто нашалившему ребенку:
— Виктор Петрович, не совсем удобно получается. Вы делаете мне замечания при больных.
— Да, неудобно, — согласился я.
— Вы подрываете мой авторитет. Медицинская этика не позволяет…
— При чем тут этика? — удивился я. — Вы ошиблись — я поправил вас. Если ошибусь я — поправите вы меня. Давайте договоримся не обижаться друг на друга.
Погрызова ничего не ответила. Странно. Неужели она действительно считает, что я хотел унизить ее? Мне хотелось с самого начала установить с ней простые, откровенные отношения, какие были у меня с товарищами по институту. Мы говорили и выслушивали правду не обижаясь.
Вчера расспрашивал ее о знахарке. Она утверждает, что Авдотья никого не лечит. Непонятно, какой смысл ей говорить неправду? Я знаю уже нескольких больных, которые лечились у бабки. Почему Погрызова мирилась с этим? Не могла же она не знать!.. А я чего жду? Ведь Егоров сказал: «Пресечь». И вот, поручив прием больных Погрызовой и Леночке, отправляюсь на край села, где стоит изба Авдотьи. Навстречу мне из бурьяна выскакивает с лаем пушистый желтый щенок. Не добежав до меня двух шагов, он пугается, взвизгивает и прячется под крыльцо. В сенях я ударяюсь головой о какую-то балку и, пригнувшись, стучу в обитую мешковиной дверь. За ней слышатся приглушенные голоса.
— Можно? — кричу я.
Молчание. Тогда я, не дожидаясь разрешения, вхожу и почти наталкиваюсь на высокую, худую старуху. Она отступает на шаг и разглядывает меня маленькими, насмешливыми глазами.
— Вы Окоемова?
Глаза старухи округляются, она поднимает руку и начинает крестить меня мелкими, частыми взмахами.
— Да восстанет бог и расточатся враги его, и да бегут от лица его ненавидящие его. Как рассеется дым, ты рассей их, яко тает воск…
— Обождите минуточку, — пытаюсь я остановить ее.
Но она еще неистовее и громче бормочет:
— Отец сирот и вдов судия, бог освобождает узников от оков, а непокорные остаются в знойной пустыне.
«Шизофреничка», — мелькает у меня неприятная мысль.
Низкая сумрачная комната освещена двумя небольшими окнами с грязными стеклами, подклеенными желтоватой бумагой. В правом углу стоит, касаясь верхним краем потолка, огромный образ под стеклом в массивной золоченой раме. Метровое лицо Христа в терновом венце смотрит хмуро и укоризненно. На непокрытом столе красный узелок с яйцами. «Образ, должно быть, из церкви, а узелок — доброхотные даяния», — соображаю я.
Наконец, она умолкает. Лицо ее выражает озабоченность, но в зрачках искрится насмешливый огонек.
— Авдотья Никитична, — опять начинаю я. — Кто дал вам право лечить больных?
Она будто не слышит.
— У вас есть медицинское образование? — продолжаю я.
Опять глаза ее становятся пустыми и бессмысленными.
— Господь, свет мой и спасение мое… Если будут наступать на меня злодеи, противники мои, они сами преткнутся, падут во мраке…
— Выслушайте меня. Я пришел к вам…
— Вступись, господи, восстань на помощь мне… Прегради тропу преследующим меня. Да будет их путь темен и скользок.
— Хватит притворяться! — теряю я терпение. — Бросьте ваши причитания. Это ваш путь темен и скользок. У меня составлен список больных, которых вы лечили. Мы привлечем вас к судебной ответственности за знахарство.
Авдотья все еще бормочет, торопливо, захлебываясь, точно читая по книге:
— Да придет на него погибель нежданная…
Но я не обращаю на это внимания.
— Вас будут судить.
— Никого я не лечила, батюшка, — возражает вдруг Авдотья совершенно естественным тоном. — Это по злобе кто-то наговаривает.
— Никто не наговаривает. Сами факты говорят.
— Хвакты? Это кто такие? Должно, приезжие. У нас, вроде, таких нет.
— Факты здешние. Вы лечили Елизара Быкова от малярии — не вылечили. Полине Михайловне Невьяновой вы прикладывали к ране жеваный хлеб и едва не довели ее до заражения крови.
На русской печи, за ситцевым пологом, кто-то шевельнулся. Я подхожу, отдергиваю занавеску:
— Кто здесь?
— Ой! — вскрикивает молодая женщина, подбирая под себя голые ноги.
— А вы что здесь?
— К Авдотье я, — отвечает она.
— А зачем прятаться? Почему на медпункт не пришли? Такая молодая…
Женщина заливается румянцем.
— Совестно к вам-то. Мы по женским.
— Так не лечишь? — оборачиваюсь я к Авдотье. — Не лечишь? Говори, где твоя аптека…
— Никакой аптеки не знаю. Вот еще что придумали!
Заглядываю под печку, под лавку, выхожу в сени и замечаю на стене шкафчик из фанеры. На трех полках размещаются баночки, флакончики, коренья, пучки трав и конское копыто с остатками шерсти и даже подковой. По соседству с бутылкой дегтя белеют какие-то таблетки, здесь же пузырек с касторкой, с сигнатурой, написанной по-латыни, салол, английская соль и липкий пластырь.
«Где она достала медикаменты? — недоумеваю я. — Неужели на медпункте?»
— Сколько Ольга Никандровна взяла с вас за салол? — спрашиваю я.
— Сколько положено, столько и взяла.
— А касторка зачем?
— Вам лучше знать.
— Так не лечите, значит?
— Где уж нам…
— Лжете.
Авдотья нагло ухмыляется.
— Не терял бы ты, сынок, времени. Шел бы домой подобру-поздорову.
Это насмешливое «сынок» взрывает меня. Я хватаю с полки бутылку с дегтем и выбрасываю ее во двор, потом швыряю баночки с мазями, пучки трав, лошадиное копыто, таблетки. Каждый раз, когда я заношу над головой бутылку или пучок травы, Авдотья подымает руку, словно пытаясь остановить меня этим жестом.
— Батюшки мои! Что ты?
Выхожу от нее и слышу за собой злой шепот:
— Узы… Узы его!
Авдотья стоит на крыльцо и натравливает на меня щенка. Мне становится смешно, и озорная мысль приходит мне.
— Слушай, Трезор, — зову я щенка. — Поди сюда.
Чмокаю губами. Щенок подбегает.
— И не стыдно тебе?.. Айда ко мне!
Глажу его, и он, виляя хвостиком, бежит за мной. Дома я кормлю щенка молоком, щекочу ему брюшко. Он блаженно растягивается и засыпает подле моей кровати.
— И зачем эту нечисть привели? — ворчит Ариша. — Что толку в ней?
— Пусть дом караулит.
— От кого? Воры-то давным-давно перевелись.
Вечерний прием ведет Погрызова. Захожу к ней. Спрашиваю прямо:
— Ольга Никандровна, вы продавали Окоемовой медикаменты?
Погрызова вздрагивает.
— Я… А почему я не могу продавать?
— Она ведь знахарка и покупала, конечно, не для себя.
Погрызова уже успела оправиться от неожиданности.
— Вот новости! — фыркает она. — Кто это успел вам насплетничать? — Кидает подозрительный взгляд на Леночку.
— Никто не сплетничал. Я сам сейчас от Окоемовой.
— Так я не понимаю, в чем дело, — оправдывается Погрызова. — Окоемова болела. Ее преклонный возраст…
— А карточка на нее заведена?
— Странно, откуда такое недоверие. Я пятый год работаю. Мне всегда доверяли. Были врачи и постарше вас…
Ей хочется, чтобы мне стало неловко и стыдно: как же — обидел человека, который старше меня. Мне и правда стыдно, но не за себя, за нее: просмотрел всю картотеку два раза, карточки Окоемовой в ней нет.
Погрызова накидывается на Леночку:
— Ты брала карточку Окоемовой? Никогда на место не кладешь.
— Нет, кажется. Не помню…
Леночка смотрит затравленными глазами. Должно быть, до меня Погрызова ей и пикнуть не давала.
Зачем же Погрызова давала лекарства Окоемовой? Чтоб работы меньше было? Вспоминаю подленькую усмешку человека в подтяжках: «Дикость и серость»… Но не все же! Не все!
ОЛЕГ
Он в красной майке и спортивных брюках. У него худощавое, скульптурно-красивое тело, широкая мускулистая грудь. Это электромонтер Титов — секретарь комсомольской организации. Любуюсь его скуластым обветренным лицом, красивыми густыми бровями.
Мы сидим в сарайчике, за огородом. С потолка свешивается электрическая лампа под железным абажуром. Олег вертит в руках логарифмическую линейку. Голос его звучит убежденно:
— Вам тут хорошо будет. У нас библиотека большая. Бор сосновый. В логу малины полно — скоро поспеет. Озера кругом, рыбачить можно. Прежде и медведи водились, а сейчас беспокойно стало, дальше в тайгу подались. Охотитесь?
— Нет.
— Напрасно. — И улыбнулся. — Впрочем, и я не охочусь. Времени нет. Я ведь заочник. Встаю в шесть, ложусь в двенадцать. Сутки слишком короткие… Всего не могу охватить. Иногда так прямо теряюсь. С работы сейчас поздно возвращаемся. Пока ужин — смотришь, десятый час. Газеты прочесть надо — без этого нельзя. Да на сон шесть часов — меньше не получается.
— Да, тратить время на сон обидно, — вставляю я.
— Уверен, при коммунизме люди придумают что-нибудь такое, чтобы спать два-три часа в сутки. Может, излучатель какой-нибудь будут подвешивать над кроватью.
Издалека слышатся звуки вальса «Амурские волны». Олег прислушивается, подмигивает мне.
— Слышите? Зовет, заливается.
— Кто?
— Баян мой. Это братишка играет. Алешка. — Поморщился, с досадой тряхнул чубом. — Не то… Врет парень. Шпарит, как на гармошке…
Посидел молча. Подавил печальный вздох.
— Танцуют.
— Трудно?
— Да, — признается Олег. — Знаете, придешь с работы, умоешься, переоденешься, так и заманит на улицу. Иногда, кажется, кинул бы все. Пропади оно пропадом! Потом раздумаешься — нет, правильно. Решил стать инженером — значит, надо.
От него веет чем-то родным, студенческим, саратовским. Напомнились бессонные ночи перед экзаменами, зубрежка всяких «фарам». На душе стало светло, будто земляка встретил.
Я зашел к нему на минутку — встать на комсомольский учет, а вот сижу уже третий час. Мы говорим о Толстом, Горьком. Он читает мне наизусть отрывки из Теркина. Читает с озорным блеском в глазах и восклицает:
— А ведь здорово? Правда?
Потом он расспрашивает меня про гипотермию, про операции на сердце.
Опять прислушивается.
— Тише, слышите?
Подле сарая шуршит картофельная ботва.
— Это Алешка пробирается, думает, не заметят, что он поздно… Хороший парень. Одна беда — заикается. Как вы считаете — излечимо это? Из-за этого девушек дичится. Все кажется, что смеются над ним.
На улице полнозвучно заиграла гармонь. Звуки медленно удаляются.
— А это вот Лаврик домой двинулся. Сегодня, видать, трезвый.
— Кто такой?
— Киномеханик наш. Ишь выводит! Алешку поддразнивает — попробуй, мол, так.
Рассказываю Олегу о событиях сегодняшнего дня. Он озабоченно хмурится.
— Погрызова — черт с ней. Она пройдоха известная. А вот со старухой вы, кажется, путлянули. Слишком как-то… — Он поискал слово. — Как у Лескова пьяный купчик.
Я и сам чувствовал, что «путлянул».
Расстались мы на рассвете. Трава, голубая от обильной росы, мягко поскрипывала под ногами. Шел я домой без усталости, полный ощущения своей молодости и сознания того, что везде есть хорошие люди.
НА ДРУГОЙ ДЕНЬ
Уборщица принесла из сельсовета записочку от Егорова. «Прошу зайти, необходимо поговорить». Почерк у него колючий, каждая буква стоит чуть наискось, острая, как кавалерийская пика.
Через час сижу в его кабинете. Лицо пылает от стыда. Он ходит по кабинету, гремит о пол кирзовыми сапогами и спрашивает с гневом:
— Вы знаете, что значит социалистическая законность? Читали Конституцию?
— Читал.
— Плохо читали! Кто дал вам право самому творить суд и расправу? Где вы научились таким методам?
Он резко выделил слово «таким».
— Вы знаете, как это называется? Нет? Так я скажу. Это мальчишество, нет, хуже — самое настоящее хулиганство.
— Но… Василий Максимович! Вы сами сказали: «Пресечь».
— Сказал, но ведь понимать надо. Взяли бы вы депутата, может быть, даже еще и Зарубина, нашего участкового милиционера, пришли бы к старухе вежливенько, законно изъяли ее аптеку, составили акт. А так знаете, что о ваших «подвигах» на селе толкуют? «Ворвался пьяный, лыка не вяжет. Дверь с петель чуть не сорвал…»
— Ничего я не срывал.
— Расскажите теперь! Окоемова говорит, срывали. Всю посуду ей порасхлестали, во двор повыкидали и ее, старуху, чуть не прибили. Еле ноги унесла. Теперь ей впору на вас в суд подавать… Где же тут законность? Да, кстати, что это за разговоры о собаке? Она утверждает, что вы у нее украли собаку.
Муравьем проползла по спине капля пота.
— Не собаку, щенка.
— Но все-таки украли?
— Не украл, а… сманил.
— В пьяном виде?
— Да просто под горячую руку попала.
— Этак вы и корову под горячую руку сманить можете. — Егоров расхохотался. — Не ожидал! От вас не ожидал.
Я улыбаюсь, должно быть, глупо.
— Да вы знаете, — продолжает он, — сколько времени пройдет, пока народ забудет эти ваши художества? Люди, конечно, понимают, что старуха кое-что привирает, однако, посмеиваются: «Нет дыма без огня».
Сижу с поникшей головой. Егоров приближается к письменному столу, водит пальцем по табелю-календарю под стеклом. Спрашивает:
— Сколько вам нужно времени на составление плана работы?
— День, два.
— Через неделю сессия сельского Совета. Доложите нам, что наметили.
СВЕЖИЙ ВЕТЕР
Это первое мое поражение. Сорвался — глупо, по-мальчишески. Черт меня дернул схватиться с этой бабкой! И Егоров! Я думал, славный, а он сразу: «Хулиганство! Самоуправство!» Я ведь уже у Олега понял, что ошибся. И Егоров понимал, что до меня «дошло», а все-таки отхлестал. Можно бы и вежливо, а то: «корову сманить можете». Совсем неуместная шутка. И эта отвратительная начальственность тона…
И вдруг трезвая мысль: «А ты сам как со старухой? Тоже начальственно».
Шагаю по комнате, не нахожу себе места.
Через два дня план готов. Я аккуратно переписываю его в двух экземплярах и несу Егорову. Откровенно говоря, я ожидаю его похвалы: в плане предусмотрено все, чем должен заниматься врач на селе. Но сегодня мне опять не везет. Егоров берет из моих рук бумагу, не читая сует ее в ящик письменного стола. Затем накрывает чернильницу бронзовым колпачком, похожим на древнеассирийский шлем, берет фуражку.
— Творение ваше посмотрю завтра, а сейчас еду на луга. — Вздохнул, покачал головой. — И так каждый день — ни минуты отдыха… Да, между прочим, если хотите, можете со мной. — Приподнял бровь. — Не мешает расширить кругозор.
Я охотно соглашаюсь. Вместе идем на конный двор. Егоров запрягает темно-карего жеребца. Кидает в телегу охапку сена. Усаживаемся. Егоров взмахивает кнутом:
— Но, Пострел!
Конь идет неторопливой, размеренной рысью. Спустились переулком к реке. Переезжаем обмелевшую протоку. Пострел останавливается, тянется пить. Под телегой журчит, переливается прозрачная вода. Наклоняюсь и вижу пестрое дно из разноцветной гальки и стайку тоненьких мальков. Они застыли около спиц колеса. Я взмахиваю рукой — они исчезли, словно их сдуло ветром. Пострел засопел, тряхнул головой, тронулся.
Выехали на остров. Дорога петляет узким тоннелем сквозь заросли тальника и черемухи. Бледно-зеленые лапчатые листья хмеля на тонких стеблях свисают с ветвей. Пахнет смородиной. Чавкают подковы лошади в жирной черной грязи. Почти из-под колес вылетает серенькая плисточка, садится впереди, прыгает, затем снова перелетает дальше, как будто указывая нам дорогу.
Как чудесно волнуют меня деревья, освещенные сверху солнцем, с паутиной на ветвях, и этот воздух, напитанный прохладой, запахом земли и сырых листьев, и жужжание золотой осы, которая почему-то гонится за нами, вьется и не отстает.
Прощально плеснув водой, колеса телеги последний раз ныряют в глубокие колеи. Дорога круто вздымается. Зеленый занавес раздвигается.
Жадно всматриваюсь в просторы лугов. Все кругом облито солнцем, ослепительным, щедрым, горячим. Вот она, Сибирь! Не такая, какой я представлял ее прежде. Не сумрачная старуха, укутанная туманами да изморосью, а светлая ясноглазая красавица.
От копыт лошади и до самой последней голубой черточки, которую улавливает глаз вдали, бугрится, бежит и кипит волнами свежее, не моченное дождями сено. Ветер радостно шевелит его, треплет, помахивает сухими, чуть поблеклыми цветами. В этом море мечтательно синеют островки черемуховых колков. В небе, распластав крылья, парит коршун, а еще выше сияет жемчужной иглой тонкий след реактивного самолета. Он разрезал небосвод будто нарочно для того, чтобы открыть его неизмеримую глубину.
Как жаль, что нет со мной Веры! Она поняла бы здесь, что есть в жизни то, чего нельзя променять ни на тряпки, ни на собственный автомобиль. Этот свежий ветер раздул бы, как пух, все ее сомнения. Как широко и свободно дышится здесь!
А Егоров этого не чувствует — сосет свою наполовину изжеванную папиросу и не замечает ничего вокруг.
Телега сворачивает с дороги, качается, как лодка, по мягким буграм и яминам напрямик к бледному дымку лугового стана.
Проплывают в стороне пестрые девичьи косынки, обнаженные коричневые руки, плечи. Наперерез нам прогрохотал трактор, волоча за собой огромные грабли. Длинные серповидные пальцы хватают ряды сена, звеня стальными пружинами, комкают в пушистый вал. Другой трактор, с большими деревянными вилами впереди, стремительно движется вдоль вала, собирает его в копну и несет к железной башне стогометателя.
Вон в ложке некошеная трава, нет — травища по пояс, до плеч, взбаламученная ветром, перепутанная визирем, терпко пахнущая, распаренная жаром. Управляя парой лошадей, покачиваясь на пружинящем высоком седле сенокосилки, промчался Олег, обнаженный по пояс, со смуглыми тугими плечами, опоясанный красной майкой. Он крикнул мне что-то со смехом, дернул вожжи и повернул прочь.
Подле берез вьется летучий дымок костра. Женщина в белом фартуке нарезает большими кусками хлеб. В тени около разобранной сенокосилки склонился с гаечным ключом мужчина.
Егоров привязывает коня, кивает мне.
— Вот, знакомьтесь, наш механик, он же секретарь парторганизации. — Мужчина выпрямляется, прихрамывая приближается ко мне. Голова у него крупная, остриженная под машинку, с обильной проседью. Лицо в тяжелых морщинах. Глаза черные. Он осматривает свою руку, запачканную солидолом, нагибается, вытирает пальцы о траву. Сжимает мою руку в своей ладони, такой твердой, будто она скроена из кровельного железа.
— Новиков. А вы врач?.. Я вот тоже лечу. — Он указывает глазами на разобранную сенокосилку и обращается к Егорову: — Газеты привез?
Егоров с досадой выплевывает изжеванный окурок.
— Совсем забыл… Завтра привезу.
Лицо Новикова осуждающе темнеет.
— То уж будет не сегодня.
Он возвращается к сенокосилке. Я подсаживаюсь к нему, расспрашиваю, прошла ли повариха медицинский осмотр, почему она работает без халата. Он отвечает охотно, но немногословно. Иногда вставляет короткое:
— Сделаем.
Спрашиваю, откуда берут питьевую воду. Он предлагает:
— Пойдемте, взглянете.
Шагаем через валки сена к колку. Новиков наклоняется, выдергивает клок сена, мнет его. Неожиданно спрашивает озабоченно:
— Как там барометр? У вас есть ведь.
Да, на медпункте есть барометр. Помню — висит слева от письменного стола. Но что он показывает?
— Не знаю, — отвечаю я.
Новиков кидает сено под ноги.
— Метать надо, а народу мало.
Мне неловко оттого, что я по-городскому не интересуюсь погодой, а еще больше оттого, что мы идем молча.
Шагаю рядом и пытаюсь угадать, знает ли он о том, что произошло у меня с Авдотьей. Должен знать. Не может быть, чтоб не знал. Возможно, сейчас кинет недружелюбный, насмешливый взгляд и потребует: «Ну-ка, расскажите». Он обязан спросить, так лучше сразу, чтоб не томиться. Но он не спрашивает.
Внезапно сквозь кусты блеснуло озеро. Оно лежит в глубокой рытвине. Над его ясной поверхностью висят стрекозы с прозрачными целлофановыми крыльями. Новиков ломает веточку, обмахивается от комаров.
— Ключи здесь. Вода, как лед.
Возвращаемся к стану. Колхозники сходятся на обед. Загорелые веселые парни и девчата теснятся у железной бочки, умываются, плещут друг на друга водой. Молодой тракторист на полном ходу подгоняет трактор вплотную к сидящим на траве девчатам. Рывком останавливает машину. Они с визгом вскакивают со своих мест, рассыпаются по сторонам, дружно принимаются ругать парня:
— Сдурел, что ли?
— Задавить так недолго!
— Черт конопатый!
Он, смеясь, ловко соскакивает на землю, и чувствуется, что ему нравится собственная ловкость. Он невысокий, коренастый, веснушчатый.
Новиков подзывает его. Парень стоит перед ним, виляет, заикается:
— Т… т… так ведь я… ну вот, осторожно.
Догадываюсь, что это брат Олега — Алешка. Он не чает, как скрыться с глаз Новикова, а тут еще подходит Олег:
— Опять дурацкие шутки? Хочешь, чтоб с трактора сняли?
— Ты… ну вот… не кричи. Сказал, не буду.
Черты лица у него тоньше, чем у брата, глаза озорные. Ростом он Олегу до плеча.
Обедаем под березами, в тени, поставив алюминиевые миски прямо на траву. Гороховый мясной суп. Пшенная каша. И то и другое вкусно. Олег рядом, жует и расспрашивает:
— А применяют у нас иглотерапию? Какие результаты?
За спиной кто-то произносит насмешливо:
— Вон и подмога идет.
Вдоль колка по тропинке спешат три бабы. Первая — сухая, жилистая, с двумя корзинами на коромысле. Идет крепким, стремительным шагом. Лицо мокрое от пота. Две другие, тоже с коромыслами, едва поспевают за ней. Все оживляются.
— Гаврюшкина не тушуется. Ишь нагрузилась.
— В колхозе-то работать, так больна.
Кто-то окликает:
— Тетка Глаша, давай к нам.
Гаврюшкина не оглядывается, только сутулится и прибавляет шаг.
— Эй, ягода сыпется! — Алешка засунул два пальца в рот и свистнул резко, пронзительно. — Словно медведь за ними гонится.
— К поезду опаздывают.
Бабы скрываются за кустами.
— Кто такие? — спрашиваю Олега.
— Наши. Та, что впереди, — Гаврюшкина… Она у них вроде бригадира. Сейчас на почтовую машину и с ягодой в Пихтовое, к поезду. Стаканчиками будут продавать. Сама не работает и других сманивает. Ей даже сын из армии писал: «Уважаемая мама, не позорьте меня». Ничего не помогает.
Оглядываюсь на Новикова. Он сидит, прислонившись к березе. Лицо его хмурое, темное, без улыбки.
После обеда стан пустеет. Повариха моет посуду. Егоров растянулся на траве, задремал, прикрыв фуражкой лицо. По нижней губе его ползает большая зеленая муха.
Новиков садится на мотоцикл, говорит Невьянову:
— Съезжу, посмотрю, как ребята начали. Ты закладывай без меня пока. Да широко не разводи.
Уезжает. Шум мотоцикла будит Егорова. Он приподнимается, смотрит вслед. Невьянов берет вилы, уходит.
Зеленый мотоцикл Новикова снует по лугу, от одной группы людей к другой. Вот остановился. Новиков слез, говорит с людьми. Поехал дальше.
Затрещали сенокосилки, двинулись, звеня пружинами, конные грабли. Новиков уже около Невьянова. Вдвоем кидают сено из подвезенных копен.
— Что ж? Домой пора? — спрашивает Егоров.
Уезжать мне не хочется.
— Василий Максимович! Может, не к спеху нам?
— А что?
Я киваю в сторону начатого стога. Егоров разглядывает меня насмешливо.
— Что ж, испытайте. В новинку размяться не вредно.
Он опять растягивается на траве. Хватаю вилы, бегу к стогу. Стог только начат. Он похож еще на огромную зеленую лепешку. Невьянов легко подхватывает на вилы большой пласт сена, ловко поворачивает его и кладет на место. Просто завидно, как это у него четко получается! Новиков со своей больной ногой не так подвижен. Навильники у него меньше, и двигается он вперевалку, с усилием.
— С той стороны вставай, — коротко указывает Невьянов.
Подскакиваю к копне, с размаху глубоко вонзаю вилы, дергаю их вверх, но странно… сено ни с места. Тяну изо всех сил — пласт словно примерз. Оглядываюсь. Кажется, никто не заметил, как я пыжился. Нет, не так. Надо присмотреться. Внимательно слежу за Невьяновым. Вот он неторопливо приблизился к остаткам копны, воткнул вилы в сено, нагнул их вниз, уперся острым концом черена в землю и поднял целое облако сена, до пояса скрывшись в нем. Пробую повторить все его движения. Опять не получается. Новиков окликает:
— Вы по пластикам разбирайте.
Пластики? А где они? Пробую сено в нескольких местах. Наконец, отделяется пластик. За ним другой, третий. Нащупал слабое место. Уже легче пошло. Но куда мне до Невьянова — его навильники раз в пять больше. А ведь издали казалось легко и просто. От стыда меня бросает в жар. Успокаивает только то, что ни Новиков, ни Невьянов не обращают внимания на мою неловкость. Невьянов снимает фуражку, заслоняя ею солнце, смотрит наверх.
— На стог кому-нибудь пора.
Новиков кивает мне:
— Лезьте!
Невьянов смотрит с сомнением:
— А сдюжите?
С облегчением швыряю в сторону ненавистные вилы. Вооружаюсь граблями. Меня подсаживают, впихивают на стог. Делаю шаг и тону в шуршащем сене.
Хожу по кругу, утаптываю. Сено летит ко мне зелеными, шумными облаками. Я подхватываю его граблями, укладываю.
— Рано не затягивай, — командует Невьянов. Что значит «не затягивать»? Догадываюсь: надо сено раскладывать пошире.
— Мы его корчажечкой выложим, — поясняет Новиков. Невьянов со смехом рассказывает старый анекдот о вятских:
— Один подает, семеро на стогу стоят и кричат: «Не заваливай!».
Кручусь на стогу, едва успеваю поворачиваться. Тону в сене. По краям оно зыбкое, ползущее, обманчивое. Становится жарко. И не мне одному. У Невьянова рубаха между лопаток темно-синяя, мокрая.
Он мечет по-молодому лихо, прямо мне под ноги, покрикивает:
— Середочку топчи… А это, серенькое, ты его поближе к краю. Пообыгает.
— А ну, наддай, Захарыч! — подбадривает он Новикова.
Тот работает сосредоточенно, без лихости, но не останавливаясь, не отдыхая.
Я все выше, выше. Невьянов снимает вилы с короткого черена и насаживает на длинный. Стог под моими ногами покачивается, словно плывет по воде. Все уже круг, на котором мне можно двигаться. Мучит жажда.
Копны к стогу возят мальчишки. Загорелые, бойкие. Отцепив копну, они вперегонки мчатся по лугу, шлепая коней в бока босыми пятками. Особенно нравится мне один с мордашкой, перепачканной ягодой, и глаза у него, как спелая черемуха, с темной голубизной. Поодаль две девушки лет по семнадцати подскребают граблями оброненное сено. Часто оборачиваются в мою сторону. Одна в синей косынке, в новом клетчатом платье. Красивая девушка. Она поет громко, не для себя одной:
На закате ходит парень Возле дома моего…Прелестный свежий голос, И вдруг нога моя куда-то проваливается, я взмахиваю руками и вместе с огромным пластом сена лечу вниз, неловко, боком. Пока барахтаюсь, выпутываясь из сена, слышу ранящий звонкий девичий смех.
— Зашиблись? — встревоженно наклоняется ко мне Новиков.
А девчонка, та, в синей косынке, уже тут как тут. Даже не понятно, как она успела подскочить. Вся еще вздрагивает от смеха, а сама торопливо спрашивает Новикова:
— Дядя Илья, я буду вершить? А они пусть подскребают.
«Они» — это я. И какая самоуверенность — она уже протягивает мне свои грабли!
Отряхиваю сено с рубахи, чувствую себя неловким, постыдно неумелым.
— А что? Ксюша может, — неопределенно, задумчиво тянет Невьянов. Посматривает на Новикова. Ксюша, русая, белозубая, с высокой грудью, спрашивает:
— А? Дядя Илья?
От нетерпения она даже топнула ногой. Смотрю затаив дыхание, на Новикова. Что он скажет? Не хочу я подскребать. А главное, не хочу видеть эту белозубую, смешливую там, на стогу, на моем месте. Мелькает даже мысль: «Бросить все и уйти».
Новиков добродушно разглядывает девчонку, переводит взгляд на меня. И тут словно теплый ветерок перебежал от него ко мне. Внезапно стало ясно мне, как хорошо он понимает сейчас и меня, и эту белозубую. Он чуть сомкнул брови, может быть, чтобы не рассмеяться.
— Ксюша-то может. А мы что, Семен Иванович? Неужто не справимся?
— Справимся, — поспешно с облегчением подхватываю я. «Молодец Новиков, не дал в обиду». Ксюша кидает быстро:
— Ну и ладно. — Бежит к подруге, потом оборачивается и кричит мне:
— Другой раз за землю крепче держитесь. Зубами!
Снова я на стогу. Хорошо здесь!
Серебряное легкое облачко на минуту заслонило солнце. Ветер скользнул прохладными струйками под влажную рубашку. Окидываю взглядом луг. Девичьи косынки вдали, как цветы на зеленом шелковом платке. Совсем близко надо мной летит коршун. Он кричит жалобно, как ребенок. Другой плывет в вышине под самыми облаками.
Приплелся Егоров с травинкой, припечатавшейся к щеке. Смотрит сонно. Нехотя стаскивает с себя пиджак.
— Помочь, что ли?
Теперь их трое, а я один. Егоров кидает сено сильно, но бестолково: то на самый край, то мне в лицо.
Неужели они не будут отдыхать? Я уже весь мокрый от пота. Сено горячее, парное, душное. И ветер, как назло, почти затих.
— Теперь затягивайте сильней. Сена не хватит — со стога не снимем, — кричит Невьянов.
Болят ладони. Я уже набил крупную водяную мозоль. Она горит, как ожог.
И вот я стою на острой вершине стога, подбивая под ноги последний навильник. Стог раскачивается, как вершина тонкого дерева.
— Сколько здесь копен? — спрашивает Егоров.
— Тридцать сложили да пять наскребли. Значит, тридцать пять, — шутит Невьянов.
Мне кидают талинки. Связываю их вершинами крест накрест. Они крепят вершину стога.
Серой змеей летит ко мне веревка. Спускаюсь вниз. Обхожу стог. Прислушиваюсь. Он шепчет о чем-то, как живой. Издали он похож на исполинскую луковицу.
Ложусь на траву. Подставляю лицо ветерку. И вдруг Невьянов говорит:
— Пожалуй, еще один успеем до росы.
— Успеем, — соглашается невозмутимо Новиков.
Стараюсь не выказать усталости. Опять все сначала…
Когда спускаюсь со второго стога, ноги у меня дрожат, спина вся облеплена колючими, едкими крошками сена. Оно в сапогах, в ушах, набилось в волосы. Саднит раздавленная мозоль.
Продираемся сквозь высокую береговую траву к реке. Раздеваемся, складываем одежду на теплых камнях. У Новикова крепкое мускулистое тело, но на ногу страшно смотреть — она тонкая, бледная, с кожей, стянутой длинными шрамами.
С размаху кидаюсь в темно-зеленую воду. Она охватывает меня холодными крыльями. Ныряю. Плыву в ледяных сумерках мимо длинных стеблей водорослей. Течение шевелит их, как распущенные волосы. Вырываюсь наружу. Переворачиваюсь на спину. Рядом всплескивает испуганная рыба.
На обратном пути, покачиваясь с Егоровым в телеге, спрашиваю его о Новикове. Егоров рассказывает о нем скупо, неохотно:
— Года три у нас уже работает. Сам откуда-то из-под Курска. Семья у него погибла еще в войну. Кажется, пароход разбомбили немцы на Волге. Здесь женился другой раз, живут, вроде, ничего.
— Жена его здешняя?
— Нет. Откуда-то с Украины приехала. Оксана. Красивая, молодая еще. Он-то ее значительно старше. Что еще о нем скажешь?
В село возвращаемся в сумерках. Светится зеленовато-голубая заря. С севера на чистое небо просачиваются высокие, размытые облака. Прощаясь, Егоров поучает:
— Надеюсь, вы энергично возьметесь за дело. Но не считайте, что все умеете, все знаете. За планчиком своим забегите завтра.
После злосчастной истории с Авдотьей он взял по отношению ко мне тон назидательный и строгий. Видимо, он считает, что я человек ненадежный и держать меня в руках надо твердо.
Утром позвонил Колесников.
— Как живете? Как работаете? — слышится в трубку его голос.
— Неплохо, Иван Степанович.
— Что у вас получилось с Окоемовой?
— Было дело, — отвечаю я. — Самому стыдно.
Кратко рассказываю.
— Оказывается, не так страшно. А мне звонили и наговорили такого, что волосы дыбом становятся.
— Кто звонил?
— Не знаю. Женский голос.
Кладу трубку и думаю: «Кто бы это мог быть?».
ГОРИЗОНТЫ
У калитки сельского Совета я заметил зеленый ИЖ Новикова. Он сам сидел в кабинете у Егорова и говорил ему что-то о закупе молока.
— Вот, — протянул мне мой план Егоров. — Написано неплохо. Постарайтесь, чтобы осталось не только на бумаге. У вас все?
Несколько обескураженный таким напутствием остановился на крыльце, просмотрел написанное. Замечаний сколько-нибудь существенных Егоров не сделал. Кое-где уточнил сроки, изменил нумерацию, иначе озаглавил разделы. Местами на полях заметки: «Правильно», «Давно пора». Каждое слово похоже на подпись — начинается крупно, затем буквы мельчают и переходят в мышиный хвостик.
Кто-то подходит сзади, легонько берет меня под локоть. Это Новиков. Ладонь у него жесткая, но теплая, осторожная.
— Домой?
— Да, — отвечаю я.
— Тогда садитесь.
Он указывает на ИЖа.
Складываю и прячу в карман бумагу. Усаживаемся на мотоцикл: Новиков за рулем, а я прилепляюсь позади, уцепившись за дужку. ИЖ рычит, кидается вперед. Мелькают избы. Ветер упруго давит в лицо. Но Новиков осторожен — около каждой ямки, выбоины он сдерживает машину, как горячего коня.
У медпункта останавливаемся. Соскакиваю на землю.
— Хорошая штука? — спрашивает Новиков и похлопывает ладонью по бачку таким жестом, словно это грива рысака. Подбегают ребятишки, облепляют нас.
— Дядя Илья, прокати!
— Обождите, ребята. В другой раз.
Как будто бы пора нам расстаться, но чувствую, что ему чего-то надо от меня. Но чего? А он не торопится открываться, рассказывает:
— Сколько он мне времени экономит! Со своей ногой больной без него и не управился бы. Вам бы тоже надо. Чтобы план выполнить. У вас там немало поездок намечено.
— А вы читали?
— Прочел, но наспех. Не все понял.
Достаю план, он берет его, надевает очки.
— Вот тут…
Он касается крупным мозолистым пальцем моих аккуратных строчек.
— «Контролировать санитарное состояние водоснабжения…» Это вы как себе представляете?
— Ну, проверять, откуда берут воду, что за вода. Послать на анализ.
— Вот так бы лучше и написать. Конкретнее. Или еще вот: «выдать полевые аптечки». А кому? Нужно научить кого-то ими пользоваться. Значит, это тоже надо добавить… А кое-что вообще упущено.
— Что именно?
Он задумывается. Снимает очки, засовывает их в футляр.
— Знаете, Виктор Петрович? У вас есть время? Может быть, пройдемся по селу?
Новиков приветлив, но, кажется, план мой ему не нравится. Неужели придется писать все сначала? Мне это занятие кажется бумажной волокитой, но отказаться неудобно.
— Пройдемся, — соглашаюсь я.
Думал, займет это полчаса, ну час, а это «пройдемся» растянулось до самой темноты. Пожалуй, не осталось в селе ни одного уголка, куда бы мы не заглянули. Чего бы, кажется, делать на электростанции, но мы побывали и там. Оказалось, что в помещении электростанции дымно, моторист, молодой парень, поминутно выбегает наружу подышать свежим воздухом.
— Что ж ты до этого довел? — спрашивает его Новиков. — Почему не сменишь поршневые кольца? Завтра же займемся этим!
На молзаводе мы обнаружили термометр с разбитой шкалой. Новиков советует:
— Запишите: «Обязать мастера приобрести новый».
— Такие пустяки? — пробую я возражать.
— От этого зависит пастеризация, — поясняет Новиков. — Микробы не мелочь.
Он прав — от таких мелочей зависит здоровье людей. Я начинаю понимать, что он повел меня по селу, чтобы вежливо сунуть носом во все «мелочи», научить составлять планы не за письменным столом.
В детском саду он обращает мое внимание на питание детей — меню однообразное. Спрашивает:
— Может быть, можно было бы организовать небольшой семинар для работников детсада? Продукты у них есть, а использовать толком не умеют. Знаний маловато.
Конечно, надо. Почему же я сам об этом не подумал? Новиков рассказывает:
— Детсад и ясли мы поместили в правлении временно. Новые надо строить не в этом году, так в следующем обязательно. Вот вы будете в районе, поищите там типовой проект.
Мне приятно, и невольная гордость наполняет меня, когда он говорит:
— Теперь с вашим приездом у нас совсем по-другому дела пойдут. Как следует медицинскую работу поставим. Погрызова не то что инициативу проявить… С места не сдвинуть. А вы сможете наладить все по-настоящему. Вот, к примеру, лекции. Раза два читала она. Слово в слово по брошюрке. Без связи с нашей жизнью. Или хотя бы знахарство. Вы вот побили бутылки у Авдотьи…
«Сейчас начнет распекать», — с досадой думаю я. Но он только кратко замечает:
— Конечно, вы сами понимаете — от этого пользы мало. А если бы собрать народ да выступить с фактами в руках, показать, какой она вред приносит, как калечит людей. Да эти больные выступили бы и сказали: «Бабка не вылечила, а врач вылечил». Это было бы да…
«А побить бутылки мы и без вас сумели бы», — мысленно продолжаю я его слова.
— Осенью и весной много народу болеет гриппом. Много трудодней грипп у нас отнял. Да и осложнения. А летом — энцефалит. Было два случая. Значит, тоже с колхозниками надо побеседовать, как предохранить себя от клеща. Также о вреде алкоголя, А то стыдно сказать: самогон гонят. Не часто, но случается. Гаврюшкина даже продавала. Правда, наши комсомольцы это дело быстро прикрыли. И водка нам сильно мешает. Хотя бы киномеханик наш, частенько бывает не в себе. Неважно у нас с техникой безопасности. Случай с Андреем не единственный. Я, как механик, беседую, но этого недостаточно.
Чем дольше мы ходим по селу, тем яснее мне становится, что план мой никуда не годится. Я останавливаюсь и рву его на мелкие клочки. Ветер катит их по земле. Куры бросаются им вслед, пробуют клевать и разочарованно отходят. Несъедобно.
Новиков словно ничего не замечает. Советует:
— В магазине, на складе побывайте. А главное, с людьми познакомьтесь, пройдите по избам, потолкуйте. Многое яснее станет.
Расстались, когда уже темнело. Жму ему руку, благодарю. Иду домой и думаю: «Еще один урок жизни. И сколько их еще будет? Но разве можно иначе? Так и надо — через ошибки, через срывы идти вперед». Тороплюсь домой, чтобы немедленно сесть за стол и записать новые мысли.
ОПЯТЬ ПРОШЛОЕ
Надя Невьянова каждый день приносит газеты. Приходит она обычно после обеда и, если погода сухая, приближается к столу, складывает газеты на его угол и говорит:
— Это вам.
Если погода дождливая, она осматривает свои ботинки, протягивает газеты с порога и, смешно морща нос, произносит озабоченно:
— Не буду проходить, наслежу вам…
Сегодня она принесла письмо, радостно отдала его мне в руки.
— Вот вам, пожалуйста.
Она выговорила это «пожалуйста» очень забавно, с такой интонацией, как будто это она постаралась, чтобы мне написали.
Нет, письмо не то, которого я жду. Это отпечатанная на машинке разнарядка на медикаменты.
Спрашиваю Надю о здоровье Полины Михайловны. Она несмело присаживается на краешек дивана, уверяет меня, что спешит, порывается уйти. И все-таки остается.
Так получается почти ежедневно. Вначале девушка дичилась, отвечала на мои вопросы односложно, но теперь держится просто.
— Виктор Петрович, — выспрашивает она, — трудно учиться в мединституте?
— Трудно, Надя.
— Вы рассказали бы… — Она волнуется, теребит химический карандаш, привязанный бечевкой к почтовой сумке. — Рассказали бы… ведь там трупы вскрывать надо. Не знаю, осмелилась ли бы я?
Она сидит, широко распахнув ресницы, подавшись вперед, ожидает, что я скажу.
— Да, Надя. Неприятно и тяжело. Первый раз я даже потерял сознание. Потом отвращение как-то притупилось, но окончательно так и не привык. Можно привыкнуть к крови, к гною, но к смерти привыкнуть нельзя.
— Как же вы? Против себя шли?
— Против слабости своей. Этого ведь не обойдешь… Это на пути врача…
Мне хотелось добавить: «как роды на пути женщины», но не добавил — побоялся показаться грубым.
Пока я говорю, лицо Нади вытягивается, она встает с дивана, подходит к книжной полке.
— Можно посмотреть?
Берет «Физиологию человека», открывает, рассматривает иллюстрации.
— Возьми, почитай, — предлагаю я.
Она сует книгу под мышку, уходит.
Почему она спрашивала про мединститут? Ведь прежде она думала поступать в сельскохозяйственный.
Славная девушка. Когда она приходит, я беспричинно радуюсь. В ней есть что-то такое чистое, правдивое, что рядом с ней невольно желаешь быть таким же чистым и правдивым. Мне кажется, я никогда не смог бы солгать ей.
Не могу представить себе ее в анатомичке. Это не для нее. Вспоминаю, как несколько лет назад первый раз я присутствовал на вскрытии. До тех пор мне не приходилось видеть мертвых. Когда на улице звучала траурная музыка и показывалось погребальное шествие, я уходил прочь, поддаваясь какому-то непонятному чувству робости.
На мраморном столе лежало тело девушки, приготовленное к вскрытию. Она погибла при автомобильной аварии всего час или два назад. Нежные девичьи груди чуть поникли. Вдоль тела на мраморе лежали ее руки — бессильные, бледные, с узкими накрашенными ногтями. Она вся была еще как живая, но то, что она, такая юная, красивая, лежала перед нами, не стыдясь своей наготы, внезапно открыло мне самое страшное в смерти — бесчувственность, безразличие ко всему на свете.
Странным и неправдоподобным показалось мне, что жизнь вокруг продолжает свое привычное течение. На улице гремел трамвай, по небу текли жизнерадостные, нарядные облака, и курносая студентка, склонившись у подоконника, записывала что-то в тетрадь автоматической ручкой.
Патологоанатом взял в пальцы скальпель так, как берут карандаш. Все медленно поплыло у меня перед глазами.
Потом я сидел у фонтана, и кто-то прикладывал к моим вискам мокрый носовой платок. Около меня теснились девушки-студентки, и одна из них спросила:
— И вы собираетесь стать врачом?.. Ну нет, — возразила она. — С такими нервами вам надо куда-нибудь в кулинарный.
С первой операции, на которой я присутствовал, мне тоже пришлось уйти, чтоб не упасть. Товарищи говорили мне, что я слишком нежен, что чересчур близко все принимаю к сердцу, Вера насмешливо советовала оставить мединститут, поступить на литературное отделение университета и стать поэтом.
Да, насмешничать и язвить Вера любила. Должно быть, это от неуважения к людям. Так легче жить — никого не уважать. Если б Вера хоть немного была похожа на Надю! В Наде нет и тени насмешливости — она видит жизнь просто и серьезно. Впрочем, она совсем еще девчушка. Ей всего восемнадцать. Она на целых шесть лет младше меня. Мне приятно, когда я вижу ее, но это ни к чему не обязывает. Просто я любуюсь ею, как любуются цветами, красивыми закатами.
Между прочим, я догадываюсь, что ей очень хочется спросить, чей портрет стоит на моем столе. Хочется, но я знаю, что она не спросит. Иногда она смотрит на него и о чем-то думает.
А если бы вдруг спросила? Что ответил бы я? Беру в руки портрет Веры. Она подарила мне его накануне отъезда. На фотографии она выглядит почему-то сердито, глаза смотрят с неприязнью. Может быть, против нее, рядом с фотографом, стоял ее муж? Помню, когда протянула мне фотографию, пошутила:
— Я здесь букой гляжу. Ну, да ничего — быстрее разлюбишь.
Легко, нехорошо сказала это слово «разлюбишь». И смех прозвучал нехорошо. Сказала, чтоб я начал разуверять… И все-таки какое милое и зовущее лицо! Зовущее и чужое. Оно всегда было несколько чужим.
Помню, дома у Веры я бывал редко. Она держалась связанно, смущалась, когда я приходил.
— Тебе, наверно, странно все у нас? — спрашивала она. — Мать у нас простая, деревенская. Отец — бывший машинист. А брат, сам видишь, неотесанный.
Мать ее носила дома платок, завязывая концы его под подбородком. У нее были узловатые, морщинистые руки. Отец-пенсионер копался в маленьком садике перед домом, ухаживая за яблоньками. У него с ладоней сходила желтая отмирающая кожа прежних мозолей. Он отрывал ее лоскутами и, качая головой, усмехался:
— Перехожу в группу интеллигенции.
Брат ее, Михаил, работал в депо токарем. Домой он возвращался в промасленной спецовке, с серыми от металлической пыли скулами. Вечерами на маленькой терраске он возился со своим радиоприемником — бесконечно что-то перестраивал в нем.
Я не понимал, почему Вера стыдится этих простых, трудолюбивых людей. Я чувствовал себя с ними легко и свободно.
Не знаю, где с Верой познакомился доцент Нечинский. Это был брюнет, худой, порывистый, с бурно расплескавшейся прической и красивыми глазами, всегда смотрящими чуть насмешливо. Говорили, что он талантливый фармаколог и его ждет блестящее будущее. Он ходил с Верой в театр, увозил ее на своем автомобиле за город.
Я спрашивал ее:
— Зачем ты встречаешься с ним?
— А что в этом плохого? Неужели я не могу иметь друзей? — удивлялась Вера, стараясь казаться беспечной.
— Он к тебе неравнодушен.
— Ну, это его дело. Как тебе не стыдно ревновать? Ты же сам говорил, что ревность — низкое чувство. И, кроме того, это ужасно скучно…
К сожалению, я успел убедиться, что это чувство не из возвышенных, — когда Нечинский беседовал с Верой, я сходил с ума от ненависти к нему, а прежде он мне нравился.
Однажды я догнал их на улице. Они возвращались с катка. Он держал ее под руку и говорил громко и фамильярно:
— После ваших глаз глаза всех других девушек кажутся пластмассовыми пуговицами.
И она не оскорбилась, а весело рассмеялась этому плоскому комплименту.
Вера начала избегать меня. Мы перестали встречаться.
Наступило лето. Я тосковал без нее. Однажды потребность видеть Веру стала совсем невыносимой. Я пошел к ней.
— Вера? Нет ее, — смутилась Верина мать.
— Случилось что? — встревожился я.
Старушка отвернулась. Подошел отец.
— Ну что оробела, старая? Шила в мешке не утаишь. Надо Виктору прямо сказать: не ходи — замуж она вышла. И здесь ее нет. В Сочах с мужем. Вот так, напрямик, лучше.
Вероятно, я изменился в лице, потому что старик осторожно взял меня за локоть:
— Не расстраивайся. Не стоит она того.
Отдыхать я не стал. Ушел. На углу меня догнал Михаил.
— Виктор, обожди.
Мы уселись на бревнах у какой-то стройки. Он заговорил, не сразу находя нужные слова, как говорят очень молчаливые люди:
— Ты особенно не принимай это близко… Может быть, и лучше. Я ее спрашивал зимой: «Зачем доцента приваживаешь? Виктора тебе мало?» Она ответила нехорошо: «Виктор для души… а мне жизнь устраивать надо. Сами не сумели в люди выйти, так мне не мешайте». И заплакала. «Виктор, Виктор! Что толку в нем? С ним всю жизнь в стоптанных туфлях проходишь. Идеалист». Вот как обернулось. Сами виноваты. С первого класса ей бубнили: «Ах, Верочка! Ах, отличница!» Гости придут — отец хвастает: «Светлая голова. Далеко пойдет!» А чем хвалиться было? Ей ведь все с лету давалось. С детства ей голову закружили: на доске отличников ее фотография, в стенгазете ее заметочки «Как учиться на отлично». С пятого класса ей на духи деньги, на театр. А к театру платье новое надо. И еще красота ей вредила. Придет кто-нибудь и хвалит: «Девчушка у вас, как картинка». А она слушает. Позже мальчишки за ней гурьбой. У зеркала рано крутиться приучилась. Дома ничего не делала, даже посуду не мыла. Белья за всю жизнь ни разу не постирала. Лишь бы училась. Так и вырастили барыньку… Зачем же ей сельский врач? Да еще который в Сибирь собирается?
Мысль о том, что Вера вышла за Нечинского только из-за его положения, показалась мне такой дикой, неправдоподобной, что я не поверил Михаилу. Так я и сказал ему. Он усмехнулся с сожалением.
— Дело твое…
В первых числах сентября снова появилась Вера — посмуглевшая, замкнутая, изящно одетая, сторонящаяся студентов и особенно меня. Говорить я с ней не пытался. Тогда я считал, что все и навсегда кончено.
ЧЕГО-ТО НЕ ХВАТАЕТ
Вечерами часто захожу к Олегу. Встречает он меня с неизменным радушием, но тут же смотрит на часы и объявляет:
— На разговоры полчаса.
Когда истекает время, я поднимаюсь и ухожу. Знаю, так надо. Обидного в этом ничего нет. Напротив, мне нравится такая его собранность.
Иногда я остаюсь и наблюдаю, как он решает задачи. Если встречается что-то трудное, брови его сердито соединяются, между ними ложатся две глубокие, нервные складки. Он напряженно подымает плечи и нетерпеливо покусывает конец ручки. Найдя решение, пишет быстро, с нажимом, потрескивая пером и брызгая чернилами. Сверившись с ответом, смеется.
Глубокая ночь. Только что вернулся от Олега. На столе в кухне стакан молока и булка, прикрытая белой салфеткой, Это Ариша ждала меня, не дождалась и оставила ужин.
С Олегом говорили о книгах. Все чаще отмечаю, что мы с ним похожи друг на друга. У нас одинаковые взгляды на жизнь, но характером он сильнее и тверже меня. Я никогда не умел так разумно управлять собой.
Вот и сейчас — опять тяжелые, непроизвольные мысли о Вере. Пытаюсь представить, чем занята она.
У них там еще вечер. Может быть, собирается в кино? Стоит у зеркала и легонько подкрашивает губы? Любопытно, что у нее в эти минуты ужасно серьезный и озабоченный вид. А возможно, сидит одна на берегу Волги, на «нашей» скамье? Все может быть.
А мне чего-то не хватает. Чего — я не знаю. Почему-то вспоминается человек в подтяжках, его дребезжащий, женский голосок: «Сами головой в прорубь тискаетесь». Да где тут прорубь? Здесь люди, газеты, радио. Тысячи кровеносных сосудов большой жизни протянулись и сюда. Отец мой в таком же таежном селе жил долгие годы и никуда не собирался уезжать.
Из леса через открытое окно доносится призывный голос какой-то одинокой пичужки. И вдруг всеми чувствами я ощутил Саратов. Саратов, с его ночным потаенным гулом, с мглисто озаренным небом, с огнями широкой Волги. Сейчас там вечер. Около консерватории продают цветы. Стремительно и беззвучно проносятся троллейбусы. В Липках играет духовой оркестр. Высоко над городом, на Лысой горе, блестит красный глаз телевизионной антенны. Политый водой асфальт влажен, черен. На улицах тысячи людей. Быстрые, веселые жесты, смех, обрывки разговоров. В витринах блекло мерцают разноцветные буквы рекламы. Шуршат автомобили, ярко сияют их глаза… Вот чего мне не хватает — большого города…
Еще раз перечитываю письмо от мамы. Пишет о том, что дома без меня стало пусто, беспокоится, как устроился с питанием, кто стирает. «Мальчик мой, я так беспокоюсь, все думаю, что ты заболеешь. Ты ведь единственный врач в Озерках, и ты один лишен квалифицированной медицинской помощи. Мне снилось, что ты вернулся худой, измученный, в чужом старом пальто. Я не верю снам, но этот почему-то встревожил меня».
До сих пор я для мамы «мальчик». Помню, как смущало меня такое обращение. Когда я учился в школе, мне очень не терпелось стать взрослым и вдруг: «мальчик». Я сутулился, покашливал и спешил скрыться. Теперь это смущение представляется мне смешным. Подпись в конце письма: «Твоя Мама». «Мама» написано с заглавной буквы. Это единственное несогласие мамино с русской грамматикой.
Представляю во всех мелочах нашу комнату, в которой мы прожили столько лет. Комната с широким окном, выходящим на Волгу. Мама, должно быть, вернулась из школы, сложила на письменный стол стопки ученических тетрадей, греет на электроплитке ужин, сваренный еще утром. Чтобы не было скучно, она включила репродуктор. Все напоминает ей обо мне: сундук в углу, на котором я спал, полочка для книг, сделанная мною, трещина на зеркале, которое я уронил в детстве. Она ужинает одна и думает о том, что настает время, когда пора расстаться со школой, которой она отдала двадцать пять лет жизни. За окном темнеет, и та же луна, что смотрит здесь в мое окно, там освещает поверхность Волги. Серебряной листвой трепещут маленькие волны.
Все это происходит как будто на другом континенте, бесконечно далеко от меня. Одинокая птичка за окном, в лесу, все поет, поет…
ЕЩЕ ВСТРЕЧИ
Мы разделили Озерки на три неравные части — мне досталась главная улица, Погрызовой — переулки, а Леночке всего домов двадцать.
Ольга Никандровна не преминула поворчать:
— И зачем ноги бить без толку? Я и без того всех знаю.
Мне же не терпелось как можно скорее познакомиться с людьми. И вот я хожу из двора во двор с блокнотом в руке. Осматриваю всякие закуточки и пристройки. В избах у большинства чисто. Дворы, напротив, у многих грязны, изрыты свиньями, загажены курами. Когда говорю об этом, хозяева удивляются:
— Куда денешься? Скотина…
В некоторых дворах так грязно, что проложены доски от калитки к крыльцу, а около порога так и стоят дежурные сапоги, заляпанные грязью, — их одевают, чтобы пройти в коровник или к свинье.
Около хлевов кучи навоза. Вьются, жужжат мухи. Спрашиваю, почему его не убирают, и слышу в ответ:
— А куда его сейчас? Весной на огород вывезем.
Хожу, а на душе становится все тревожнее — начинаю понимать, как много работы впереди. Надо бы совсем по-другому планировать дворы, огораживать часть их специально для скота. А кто будет делать и когда? Как и где хранить навоз?
И не только в дворах навоз. Около колхозного коровника он лежит целой горой, успел уже превратиться в перегной, порос высоченным бурьяном. Обидно, что такое богатство лежит без пользы. Записываю, что надо поговорить об этом с председателем колхоза.
…Бригадир Маломальский живет в большой и почти пустой избе. Он встречает меня босой, еще не умытый, с каплями желтой слизи в уголках глаз. Извиняется за беспорядок в доме и, обминая в пальцах свернутую из газетной бумаги цигарку, говорит бойким, суетливым голоском:
— Премного рад познакомиться. Раненько вы. Однако, как говорил мой родитель, кто рано встает, тому бог подает.
В окнах жужжат, мечутся мухи, на шестке русской печи валяются картофельные очистки. На полу расстелен тулуп, пузырятся неуклюжие подушки в цветастых наволочках.
— С кровати клопы нас выжили, — виновато поясняет Маломальский.
С подойником в руке входит жена его — громоздкая, полная; цедит молоко в кринки, прикрывая их пожелтевшим куском марли. Прислушивается к тому, что он говорит, окидывает его угрожающим взглядом.
— Афоня! Поди корову выгони.
Он берется за картуз, направляется к двери, но застревает на пороге.
— Супруге моей клопы хоть бы что — она на них нуль внимания, а у меня нервность. Временами даже сон не идет…
— Ну, понес без колес. Иди, куда сказали, — кричит на него жена. Он поспешно хихикает и исчезает.
— Плохо вы живете, нечисто, — говорю я женщине. Она вскидывает на меня злые, отчужденные глаза.
— Прислуги нет у нас. Как умеем, так и живем.
Возвращается Маломальский и уже с порога начинает говорить:
— Мы не одни проживаем. Вот обратите внимание — еще дверь в боковушечку. Здесь обитает жиличка наша, Алевтина Захаровна, по фамилии Букина. Вы, Виктор Петрович, обязательно возьмите себе на заметочку. Образ ее жизни недостоин молодости. Не варит себе, еж-те двадцать. Живет одним хлебом и консервами. Мы ей редиса иногда, чтоб хоть витамины, а то того и гляди цингой заболеет, как в кругосветном путешествии.
За дверью маленькая комнатка, плохо освещенная окном с двойными рамами. На кровати розовое измятое платье. На столе книга Обручева «По центральной Азии» с синим карандашом, заложенным между страниц, и огрызок огурца. На подоконнике — деревянная солонка и нож с прилипшими хлебными крошками.
Вспоминаю близорукую девушку с косичками, которую мельком видел в клубе.
— Почему же тепловые рамы не выставите? — интересуюсь я.
— А так и живет, как в берлоге. Придет из клуба — завалится читать и так до рассвета, а потом спит до полдня.
— Одинокая?
— Девица.
— Так давайте выставим рамы.
Маломальский мнется.
— Можно бы и потом…
— Да нет, давайте сейчас.
Он несет клещи, мы отгибаем гвозди, вынимаем раму. Вынося ее из комнаты, Маломальский мечтательно спрашивает:
— Однако любопытно, еж-те двадцать, заметит она или нет? Что мы раму — того? Живет она как во сне…
На прощанье он горячо трясет мне руку, пытается напоить меня молоком из грязного стакана, провожает до ворот, улыбается, заглядывает любовно в глаза и, выйдя за ворота, даже машет мне рукой вслед.
… Навстречу мне идет старик. Он в черном пальто и фетровой шляпе. Сухое, длинное лицо. Над узкими маленькими глазами — белые полоски бровей. Морщинистый, тщательно выбритый подбородок. Еще секунда, и глаза его встречаются с моими, изумленно раскрываются. Странная встреча — это мой вагонный попутчик.
— Мое почтение, — произносит он и останавливается. Серые губы его то ли улыбаются, то ли кривятся.
— Значит, в нашу деревеньку?
— Как видите…
— Чего только в жизни не приключается.
— А все-таки интересно, — напоминаю я ему. — Доказывали, что в деревне должны жить те, которые поплоше, а сами здесь…
Он прикрывает веки, вздыхает притворно.
— А мы и есть из этих самых. Далеко не прыгаем…
Он дотрагивается двумя пальцами до полей шляпы:
— Коли судьба свела, считаю необходимым представиться. Валетов Модест Валентинович. Фамилия скромная, ничем не примечательная. Позволю себе заметить, не так давно в «Известиях» сообщали о некоем Валетове. Он магазин очистил и мануфактуру в молочных бидонах скрывал, так прошу принять к сведению — это не я.
Он насмешливо жует губами, в глазах мелькает нечто вызывающее. Опять трогает пальцами поля шляпы.
— Не смею задерживать.
До чего неприятный человек! «Волком взвоете». Теперь, должно быть, будет наблюдать за мной и ждать, когда его пророчество исполнится.
«Чепуха, — думаю я. — Какое мне до него дело?» И все же понимаю, что теперь мне не отвязаться от мысли, что за мной следит его насмешливый, во всем изверившийся, холодный, как жало скальпеля, взгляд. Поездной разговор не окончен.
…На лавочке сидит старик Окоемов. Подле ног его в старом ведре тлеет кусок сухого навоза — средство против комаров. Едкий дым путается в седой бороде. Опираясь грудью на короткий батожок, он подзывает меня.
— Слышал я, ты по чистоте проверку делаешь?
— Делаю.
— Ну, и как оно?.. Кто ж чище живет? Наши, сибирские, или расейские?
Хитро прищурившись, он ждет ответа.
— Всякие есть, дедушка…
— Лукавишь, сынок, сибирские куда чище живут.
Я подсаживаюсь к нему, вместе с ним глотаю горький дым. Он, радуясь нежданному собеседнику, объясняет мне, что парятся расейские в печках, что хлеб там родится «нескусный» и даже бабы против сибирских «ни в какую меру не идут, тощие да большеротые». К западу от Урала он никогда не был, но почему-то непоколебимо был уверен, что лучше, чем в Сибири, люди не жили и не живут.
Он еще раз обстоятельно рассказывает мне, как сорок лет назад барин при часах подарил ему пятиалтынный.
— Пенсию получаете? — спрашиваю я.
— Начисляют сколько-то. Я-то не помню до точности. У Андрея надо спросить, он все знает…
О пенсии ему говорить неинтересно, зато воспоминания имеют для него непреодолимую заманчивость. Он дрожит, как осиновый лист на ветру, не от холода, а от слабости, взглядывает на меня жалобными, просящими глазами: «Не уходи». Дома на его разговоры, должно быть, давно уж никто не обращает внимания, и он изнывает в стариковской словоохотливой тоске.
Ухожу от него и думаю, какая страшная и пока еще не излечимая болезнь — старость. Мало живет человек, Слишком рано приходит старость. Обидно рано. Вот Окоемов — ему всего семьдесят пять лет, а у него уже тяжелый артериосклероз, угасает воля к жизни. Разве не обидно, что какая-то ничтожная черепаха или крокодил живут до трехсот лет, а человек — властелин мира — в среднем не доживает до семидесяти. Мечников считал, что нормальная человеческая жизнь должна длиться не менее ста пятидесяти лет. Сто пятьдесят! Вот задача науки завтрашнего дня. Это значило бы подарить каждому человеку еще одну жизнь — умную, свежую старость. Не убогую старость Окоемова с трясущимися руками, убитым взглядом, смотрящую в прошлое, а старость, полную молодых мыслей, деятельную и полезную, — такую, какую прожили Толстой, Репин, Павлов…
И потом всякий раз, как я встречал Окоемова, снова приходили мне эти мысли.
…Туберкулезный больной Елагин ютится в небольшом, тесном домике, сплошь заставленном сундуками и старой потемневшей мебелью. Под низким потолком удушливо пахнет мылом и сырой известкой от только что побеленной плиты.
— Вам воздуха больше надо, свежего воздуха, — советую я.
— Где его возьмешь? — угрюмо возражает Елагин.
— Может быть, есть возможность переменить квартиру… Это ваш домик?
— Мой. А зачем менять? На троих-то воздуху хватает.
Из другой комнаты, из-за двери, завешанной пологом, слышится молодой женский голос:
— Спи, Ванюша, спи. Я тебе сказку скажу…
Есть в этом доме что-то гнетущее, надломленное…
…В избе Блиновых включено радио. Звучит «Болеро». Чисто. Прохладно. Большеглазый парень в шерстяных носках и рубашке навыпуск сидит на стуле, далеко просунув длинные ноги под низкий стол. Перед ним миска щей. Откладывает ложку, коротко представляется:
— Костя. А это сестра моя — Варя.
С табурета по-ученически, словно из-за парты, приподнялась русоволосая девушка и как-то ласково, будто для поцелуя, протянула обнаженную до плеча руку.
— С нами обедать…
Варя поражает своей русской крестьянской красотой. Синеглазая, с маленьким, тонким и ярким ртом, она очень привлекательна. Как будто догадываясь об этом, она опускает глаза.
Костя одобрительно говорит:
— Вы насчет чистоты? Это правильно.
В комнате просто, уютно. Над кроватью, заправленной по-армейски, висит портрет Миклухи-Маклая в коричневой рамке. Спрашиваю:
— Географией увлекаетесь?
— Мне бы не трактористом быть, — доверительно говорит Костя. — Страсть люблю о путешествиях читать. И сам хоть немного, а поездил. Служил на границе с Турцией. Северный Кавказ знаю. На Эльбрус поднимался, до Приюта Одиннадцати. Оттуда весь Кавказский хребет как на ладони. Мы с сестренкой мечтаем деньжат поднакопить и двинуть в туристический в Индию.
— В Индии нам, сибирякам, жарко будет, — вставляет сестра, не поднимая лица.
— Привыкнуть недолго. Старики рассказывают, что когда сюда приехали, то и летом стежеными одеялами укрывались. Холодно казалось… Или вокруг Европы тоже хорошо. Колизей увидим, норвежские шхеры, Пирей. Жалко, что вокруг света еще путевки не продают.
В глазах его мальчишеская увлеченность, страстность, нетерпение. Нравятся мне такие люди, которые с мечтой. Вернувшись домой, справляюсь у Леночки, кто такой Валетов. Она задумывается.
— Кто ж его знает? Приехал прошлой весной, построил зачем-то большой дом, а живет один.
— Странно.
— Пенсию, кажется, получает. Обходительный, здоровается. В общем, живет втихомолку.
ТРУДНЫЙ ЧЕЛОВЕК
С Погрызовой я твердо решил быть выдержанным и терпеливым. Нам надо сработаться. Пробую на нее воздействовать — предельно тактично указываю на ее недостатки. У нее свой характер и самолюбие. С этим надо считаться. Не все же такие, как Леночка. Леночку мне жалко. Рассказывают, что властная свекровь тиранит ее, придирается к каждому пустяку, но Леночка все терпит.
Она очень исполнительная, безответная, неразговорчивая и всегда хочет спать. Когда нет больных и в кабинете становится тихо, она задремывает, сидя на табурете. Я иногда пробую отправить ее домой.
— Елена Осиповна, идите отдохните.
— Ничего, ничего. Нельзя, — отказывается она и остается.
И хотя она не уходит, Погрызова замечает язвительно:
— Нарожают детей, а за них работай.
Однажды у Леночки из груди, сквозь халат, проступило молоко. Погрызова безжалостно указала ей на это при мне. Леночка покраснела до слез, застыдилась, убежала за ширмочку. Я молча, укоризненно посмотрел на Погрызову.
— Неряха, — пренебрежительно отозвалась Ольга Никандровна. Через день или два я предложил Леночке:
— Елена Осиповна, берите-ка вы отпуск теперь. А Ольга Никандровна пойдет позже.
— Ни в коем случае! — вскипела Погрызова. — С какой стати? У меня сейчас покос начинается.
Леночка смолчала, как всегда.
Постепенно узнаю о Погрызовой «дела давно минувших дней». Предложил ей съездить в соседнее село к больному ребенку. Она притворно удивилась:
— А почему не Лена?
— Елена Осиповна должна кормить свою девочку.
— Ну, что ж. Раз так, я съезжу. Но на чем?
— На лошади.
— Что вы! Колхоз лошади не даст.
— А вы обращались?
— Как же — не раз. Придется на велосипеде.
После работы я пошел в правление, но председателя колхоза Климова не застал и потому сам отправился на конюшню.
На конном дворе ковыляла хромая лошадь. В рубленой избушке, положив под голову хомут, спал старик-конюх с потухшей цигаркой, прилипшей к нижней губе.
Дедушка! — позвал я.
— Ась? — встрепенулся он, приподнимаясь и поводя мутными со сна глазами. — Не сплю я. Скучно — прилягу, а спать не сплю.
— Пришел с вами потолковать.
— О чем это? — насторожился дед.
— Насчет лошадей.
— Лошади все в работе. Пантера — так она засеклась.
— Я не про то. Ольга Никандровна говорит, что ей лошадей не дают.
Старик по-молодому вскочил на ноги.
— Ишь ты! Лошадей не дают… Так кто ж виноват? Мы разве не люди? Мы от чистого сердца: придет — попросит — на тебе, пожалуйста. Потом, смотрим — не то. Возьмет лошадь к больному ехать, а сама по дрова. Она думает, что ежели лошадь животная бессловесная, так все шито-крыто. Не тут-то было. Перестали лошадь давать…
Пока он сердился, я присел на пустую бочку. Старик, видя, что я настроен миролюбиво, постепенно затих.
— Больше этого не повторится, — обещал я.
Старик вынул маленькую гребеночку, расчесал бороду аккуратно на две стороны.
— Ну как же, все-таки?
— Мне што? Как бригадир, — все еще стараясь казаться строгим, проговорил старик.
— Маломальский разрешит.
— Тогда мы без всякого. Дело нужное. Только сподручнее с вечера упредить или раненько утречком.
— А с Ольгой Никандровной я поговорю.
Он махнул безнадежно рукой.
— Черного кобеля не отмоешь добела.
Боюсь, что он прав. Ольга Никандровна вернулась из Затеевки усталая, пропыленная.
— Ничего особенного, — сообщила она. — Обыкновенная ангина. И зачем меня только гоняли? Больше не поеду. Я не девчонка на велосипедах летать.
Я сказал ей:
— Следующий раз вы поедете на лошади, но только с условием, что не станете возить дрова.
Она не проронила ни слова. Теперь она вежлива со мной, хотя в этой вежливости звучит нарочитость. Обращаясь ко мне, она говорит: «Будьте добры», «Благодарю», «Потрудитесь…», но чем вежливее она старается быть, тем сильнее раздражает меня.
Все в этой женщине вызывает во мне неприязнь: и подол яркого платья, высовывающийся из-под халата, и то, что она часто выходит в прихожую курить, и то, что удивительно много пьет воды из графина и не споласкивает стакан, и даже худые ноги ее, накусанные комарами и расчесанные до ссадин.
Ежеминутно, во время приема больных, я ощущаю присутствие неприятного и недоброжелательного ко мне человека, как будто дверь не затворяется и все время тянет холодным сквознячком.
БУКА
Она появилась неожиданно: маленькая, щупленькая с туго заплетенными, торчащими, словно накрахмаленными, косичками. Взглянула на меня строго из-за толстых стекол очков.
— Это вы раму выставили?
— Да, — признался я.
Она гневно прошлась по комнате.
— Никто вас не просил — это во-первых. А во-вторых, я сама могла. И что вы этим собирались доказать? Нехорошо! Я тут накричала на Маломальского — и все из-за вас.
— Алевтина Захаровна!
— Не зовите меня так. Что за Алевтина? Я еще не старуха. Зовите Аллой.
— Садитесь, Алла.
— Я не сидеть пришла. Короче — мы решили поставить пьесу, Андрей выбыл. Вам придется исполнять роль репортера.
— Позвольте, я никогда не исполнял никаких ролей.
— Неважно.
— Да и времени у меня нет.
— Найдете.
— Но почему именно я?
Она посмотрела на меня уничтожающе.
— И это называется интеллигенция в селе! Постыдитесь. Я из-за вас выговор получать не собираюсь. Вот так вы все: «Клуб работает плохо. У Букиной нет инициативы». А помочь — так нет вас. Олег, видите ли, студент, к Погрызову без пол-литра не подступишься. Какое-нибудь паршивое дерево и то намалевать не соберется, не говоря уж о том, чтобы роль взять. Пора кончать с иждивенчеством!
Она кинула на стол зеленую книжечку «Сельская сцена».
— Спишите. Впрочем, можете оставить. У всех уже списано.
Натиск был такой внезапный, что я не успел даже оказать сколько-нибудь действенного сопротивления. Раскрыл книжечку. Одноактная пьеса «Неожиданность». Вот уж, действительно, неожиданность! Мне предстояло играть незадачливого репортера в узких брючках и клетчатом светлом пиджаке, застегнутом на одну пуговицу.
Пока я печально размышлял над зеленой книжечкой, в комнату вошла Надя. Она была в белом платье с короткими рукавами-фонариками. Две ямки на упругих румяных щеках, косы, собранные сзади полумесяцем, и живые, счастливые, какие-то праздничные глаза необычайно милы.
— Вам письмо, — протянула она мне конверт. Письмо было от Веры. Я отложил его. Спросил Надю о здоровье Полины Михайловны.
— Лучше ей, — отвечала девушка. — Ночь спала. А что это у вас? — Она взяла со стола пьесу.
— Алла Букина предложила роль.
— Кого вы будете играть?
— Репортера.
Надя смятенно взглянула на меня.
— Виктор Петрович! Зачем вы согласились?
— У нее было такое боевое настроение…
— Откажитесь!
— Почему?
— Я очень прошу. — Надя даже умоляюще приложила руку к груди. — И не спрашивайте. Только это невозможно. Откажитесь.
— Теперь неудобно.
Она ушла расстроенная. Не понятно, почему ей так не хочется, чтобы я играл репортера?
Милая девушка! Как все очаровательно в ней: свежее девичье лицо, легкие пушистые волосы, немудрые ситцевые платья и даже по-детски коротко остриженные ногти. Интересный характер — прямой, удивительно чистый. Она все больше занимает меня. Я глубоко уважаю ее за то, что она есть такая, как есть, ни в чем не притворяется. В каждом слове ее, в каждом жесте, улыбке — только правда. У Веры этого не было.
Читаю Верино письмо. Лучше бы его не было. Строчки вьются, как растянутые пружинки, дрожат, даже как будто сердито металлически позванивают. Упреки. Жалобы. «Тоска, в городе пыль, асфальт, размягченный от жары, вдавливается каблуком, как свежевыпеченный хлеб. А главное, я одна…» Это она о том, что я уехал. Неверно, она не одна, а с мужем — Нечинским. Все письмо только о себе, хоть бы раз спросила: «Как ты там?» Что ж, она, как всегда, занята собой — вполне закономерно. Отсюда, издалека, особенно ясно видно, что мы никогда не были настоящими друзьями.
КАК РАБОТАТЬ?
Правление колхоза размещается в пустующем хлебном амбаре. Прежнее его помещение отдано под ясли. В широко растворенные двери амбара, прислушиваясь к стуку пишущей машинки, заглядывают желтыми просяными глазами куры. Бабочки залетают и садятся на чернильницы.
Ищу председателя колхоза Климова. Счетовод — бледный человек с больными ревматическими ногами — говорит мне:
— Утром был и уехал.
— Куда?
— Однако, не скажу. Он человек перелетный.
Обхожу все село и, наконец, застаю его в кузнице. Это высокий мужчина в полинявшей с засученными рукавами ковбойке. Лицо одутловатое, на вид даже несколько вялое. Наклонившись к деревянному корыту, он шарит рукой в воде, извлекает какую-то деталь и подходит к дверям, чтобы рассмотреть ее на свету.
— Пойдет? — спрашивает кузнец.
— На наждаке обработаем — пойдет, — отвечает он.
— Товарищ Климов, я к вам, — вмешиваюсь я в разговор.
— Я слушаю, — говорит он, думая, должно быть, о той мокрой, покрытой голубоватой окалиной детали, что лежит у него на ладони.
— Мне нужно поговорить…
Климов кидает деталь на землю подле горна.
— Так?
Натужно дышат меха, высокое голубое пламя стремительно летит к закопченному, черному потолку. Усатый пожилой кузнец в брезентовом фартуке поворачивает что-то белое длинными клещами в глубине вздрагивающих раскаленных углей.
— В нашем колхозе многое не в порядке в смысле санитарии, — начинаю я с обидным сознанием, что он меня не слушает. — На полевых станах нет кипятильников. Люди пьют сырую воду.
— Кубы мы имеем, — словно между прочим замечает Климов.
— Почему же ими не пользуются?
Он молчит.
— Около коровников скопились горы навоза. Надо его вывезти.
— Сейчас некуда.
— В летнем лагере, где доят коров, нет умывальника, полотенца. На продуктовом складе завелись крысы. Я думаю, надо вызвать бригаду санэпидстанции.
— Вызывайте.
— В яслях нет сеток на окнах. Около водокачки выбоины, непролазная грязь. Надо навозить опилок и гальки. Пилорама без навеса. Колхозники работают иногда целый день то на жаре, то под дождем.
Климов слушает меня как будто внимательно, но вдруг обращается к кузнецу:
— Угля на эту неделю хватит?
— Хватит, Владимир Владимирович.
И опять ко мне.
— Я слушаю.
«Что толку слушать? — думаю я раздраженно. — Делать надо».
— В селе мало зелени. Перед домами нет палисадников.
— Навес над пилорамой сейчас делать некому — плотники заняты. Оборудуют тока. О кипятильных кубах поговорите с бригадиром. Насчет водокачки тоже к нему, пусть назначит на день машину и двух человек.
Перед кузницей останавливается зеленая «Победа». Скрипит дверца, парень — шофер зовет Климова.
— Иду, — машет рукой Климов.
Он споласкивает руку в воде, вытирает о какую-то тряпку.
— Вот так, — кивает он мне и идет к машине.
«Ну, с этим каши не сваришь, — с огорчением думаю я. — Даже не обещал ничего. Видно, хозяином себя не чувствует».
— О чем замечтались? — спрашивает кузнец.
— Председатель у вас какой-то снулый.
— Ну нет, не сказал бы. Мужик он дельный. Не быстрый, однако заметливый.
— «Заметливый»! Грязь кругом, беспорядок, а он и в ус не дует.
— Воздуху! — кричит кузнец молотобойцу.
И прибавляет для меня:
— Он и так не знай, когда спит, а вы с кубами да деревцами.
— Так разве это неважно?
— Кто говорит… Но только ему и без этого хватает мороки.
Он выдергивает из горна белый раскаленный прут, искры прыгают к моим ногам сверкающими кузнечиками.
С Маломальским, к которому отсылал меня Климов, я уже имел дело. Он никогда не возражал, не задумываясь, обещал выполнить все, что я просил, и так же легко обо всем забывал. Видимо, для того, чтобы выказать мне особую симпатию, он взял дурацкую манеру называть меня «милейшим».
Маломальский носит новые синие брюки-галифе добротного диагонального сукна и любит рассказывать, как купил их «почти за ничто» у какого-то пьяницы. На сапогах его лежит густой, затвердевший слой пыли, и только с внутренней стороны голенища блестят, как отполированные, от постоянной езды верхом. Он редко бреется, и в складках его загорелой шеи черными ниточками лежит влажная от пота грязь.
— Чувствую, милейший, чувствую. Виноват, — оправдывается он. — Прямо из головы выдуло. Ехал на поля, думал: «Как бы не забыть», а приехал — тут то одно, то другое… Запамятовал.
— Записывать надо.
— И то правда, — угодливо соглашается он. — Пожалуй, буду писать. Оно вернее.
Он роется в карманах, не находит ни карандаша, ни чистой бумаги.
— Теперь, однако, уж не забуду: кубы кипятильные — раз, водокачка — два, сетки на окнах — три… Даже не тревожьтесь. Завтра лично все проверну. Озерная вода, она ведь стоячая, вредная. Не смотрите, что на вид чистая. Я сам понимаю, в ней козявки всякие плавают и даже микробы. До вас тут была женщина-врач — солидная такая. Не знакомы? Она говорила: «Вы не воду пьете, а чистый яд». Даже специально из Пихтового микроскоп привозила. Мне эту воду показывала с увеличением в миллион раз. И, действительно, микробов страсть как много. И не то, чтобы сидели на месте, а носятся друг за другом, будто в догоняшки играют. Занимательно! Еж-те двадцать!
— Ну, вот что. Раз вы все это так хорошо понимаете, то я надеюсь, что сделаете. У водокачки подъезды надо поправить.
— Вот это правильно, — опять с удовольствием соглашается Маломальский. — Давно пора. А то перед людьми стыдно: едут мимо и любуются, как озерские в грязи барахтаются. Я ведь, милейший Виктор Петрович, давеча сам чуть вместе с кадкой не перекинулся. Спасибо Андрей подскочил, вовремя поддержал.
— Что надо для ремонта подъездов?
— Первым делом, ямочку в стороне выкопать для осушения и по канаве воду в нее спустить. Затем в низиночку опилок и щепы насыпать. Поверх этого машин десять гальки. Деревянный мусор гальке не даст погрузиться. Затем все выровнять, и дело в шляпе.
— И когда это будет сделано?
Он задумывается, что-то вычисляет, загибая пальцы, должно быть, для пущей выразительности.
— Сегодня что у нас?
— Четверг.
— Завтра, значит, пятница. Так, так. Значит, примерно, во вторник. Как раз ребята с раскорчевки вернутся, пособят.
— Договорились, значит?
— Точненько.
Время идет, а Маломальский не выполняет ничего из того, что обещал.
— Замотался я, — снова жалуется он, со страдальческим видом снимая выгоревший пыльный картуз и вытирая рукавом вспотевший лоб. — Обождите чуток, вот новых колхозников устроим…
При следующей встрече опять:
— Амбары сейчас строим — дело срочное.
Снова терпеливо разъясняю ему крайнюю необходимость всего, что намечено в плане, но вскоре замечаю, что Маломальский начинает избегать встреч; завидев меня, он поворачивает коня куда-нибудь в переулок. Если же не успевает скрыться, то радостно жмет мне руку, обещает устроить все наилучшим образом и даже приглашает заходить к нему запросто как-нибудь вечерком, уверяет, что страсть любит как потолковать с образованным человеком.
Иногда я ловлю себя на том, что начинаю прямо-таки ненавидеть его лживую улыбочку и суетливый, с хрипотцой голосок.
Погрызова ни в чем, кроме приема больных, не помогает. Леночку мне жалко загружать работой. Жизнь и так у нее трудная. В результате как-то само собой получилось, что я взял на складе кипятильники и увез их с попутной подводой на поля, прибил сетки на окнах в детских яслях, стал выполнять десятки тех маленьких, но очень нужных дел, от которых зависело здоровье людей. Все это было бы неплохо, я не стыжусь черновой работы, но так как я, кроме того, веду утренний прием, посещаю больных на дому, выезжаю по вызовам в другие бригады, проверяю санитарное состояние магазина, молочного завода, пекарни, детских яслей, то получается так, что зачастую не успеваю даже поесть. Между прочим, сделал открытие, хотя, может быть, пока и бесполезное: в районной больнице я обнаружил хорошую библиотеку, собранную Колесниковым. Здесь нашел даже то, чего никак не ожидал найти, — «Курс гигиены» Эрисмана и «Этюды оптимизма» Мечникова. Я набрал целую связку книг и увез к себе в Озерки. Намерение было хорошее: читать, делать выписки по проблемам долголетия. Однако это оказалось мне не под силу. За день изматываюсь так, что, садясь ночью за книгу, засыпаю на стуле. В таком положении застала меня как-то утром Ариша, разбудила и стала выговаривать:
— Ты что, двужильный, что ли? С ума сошел, право. Как поел с утра, так и до ночи голодом. Разве может человек без отдыха?
— Отдыхать на том свете будем, — стараюсь отшутиться я.
Она жалеет меня, и эта жалость, похожая на материнскую, приятна мне. Между тем все чаще приходит мне обидная мысль, что работать я не умею. Огорчает не столько обилие работы, а то, что сколько бы я ни старался, работа не только не уменьшается, а напротив, непрерывно прибывает. Каждый день я узнаю новых людей, вникаю в их жизнь и обнаруживаю, что в моем плане многое упущено, что мы с Новиковым заметили далеко не все.
Так, мне стало известно, что девушки и даже беременные женщины направляются Маломальским на тяжелые работы, что подростки на покосе работают полный рабочий день, что питание на полях хотя и сытное, но очень однообразное — почти ежедневно гороховый суп со свининой и на второе картофель.
Все это требует неотложного вмешательства, и я вмешиваюсь, причем наталкиваюсь иногда на непредвиденные трудности. Девушки, которые работают на вывозке дров, не захотели перейти на другую работу. Оказалось, отпускать подростков с работы раньше, чем взрослых, невозможно. Подростки подвозили копны, без них задержалась бы метка сена. Пришлось этот вопрос обсуждать на правлении колхоза и по-иному расставить на работе подростков и взрослых.
Узнал я, что ребята ездят домой только по субботам, чтобы помыться в бане, что целую неделю живут на лугах в избушке без окон с дырявой крышей.
Стал говорить об этом с Маломальским.
— Нежности какие! — удивился он. — Да что им сделается? Сибиряки — народ закаленный. Это вам не какие-нибудь японцы. Нашим и холод и дождь нипочем. К конфорту они непривычные. Чем проще, тем лучше.
Я возразил.
Маломальский снисходительно усмехнулся:
— Вы знаете, как меня мать ростила? Родился я на вздвиженье, а в страду она меня уже на поля с собой брала. Сама жнет с отцом, а я в зыбке на березе. Яслей тогда-то не знали. Сестренка, на три года старше меня, комаров отгоняет, а другая, десятилетняя, снопы вяжет. Лет семи я уже с конями в ночное ездил. Все лето босой, в одной рубашонке и порточках, шапки никакой, волосы выгорают, как лен, белые. И так до самого инея…
— Что ж хорошего?
— Вырос вот и ничем никогда не болел. Только ранение на фронте имел, а до того не знал, как и лекарства пахнут.
— Сколько у матери вашей было детей?
— Семеро.
— А в живых осталось?
— Со мной трое.
— Вот видите. Нет уж, избушку покрыть надо, вырезать окно, связать раму и застеклить. Ночи на лугах холодные, попростужаются ребята.
— А кто им велит ночевать? Конюх нужен, верно, а ребятам там делать нечего.
Знал он и сам, зачем мальчишки остаются ночевать на лугах: нравились им зеленые чистые просторы, березовые рощи, озера, ночи под открытым небом у костра, голубые звезды, душистое шелестящее сено вместо жаркой домашней постели, и особенно привлекала их видимость настоящей, взрослой жизни.
— Нету плотников, — уверял Маломальский. — Амбары надо заканчивать. Урожай ожидаем вдвое против прошлогоднего. Не будут к сроку готовы — с меня голову снимут.
— А за людей не снимут?
— Мне их в амбары не ссыпать.
Раза два вызывал меня Егоров в сельский Совет, интересовался выполнением плана. Я высказал ему все по пунктам. Он остался доволен:
— Правильно действуете.
Похвала эта меня не радовала. Я не высказал ему всего, что тревожило меня. После случая с бабкой Авдотьей я стеснялся говорить с ним откровенно.
Нет, я не обольщался выполнением плана. Успехи мои были непрочны. Руководство колхоза помогало мне только по обязанности. Я приходил к Климову, он вежливо выслушивал меня, обычно не возражая, но и не возмущаясь теми неполадками, на которые я ему указывал. Иногда он писал записки тем, от кого зависело выполнение моих требований, но ни разу не увлекся, не пожелал сделать лучше и больше того, что я предлагал. Обращаться за помощью к Новикову или в район мне не хотелось — стыдно было сознаваться в своем бессилии.
В последних числах июля вышли на поля первые лафетные жатки косить рожь. Мы стояли на краю поля, раскорчеванного прошлым летом, у вырванных с корнем берез и наблюдали, как Новиков ведет трактор.
По высокой ржи перебегали волны ветра. Жатка вошла в хлеба, и сразу треск и металлический шум сменились приглушенным жужжанием. По полотну побежали стебли ржи, укладываясь ровным валом.
— Ладно начали, — довольно кивнул мне Климов.
Вслед за Новиковым двинулись Костя Блинов и Алеша. Мы с Климовым присели на поваленную березу.
— Добрая нынче рожь, — заговорил он. — Зерно крупное. Только бы теперь погода не подвела. Большое богатство вырастили…
Ящерица вползла мне на сапог и замерла, пригревшись на солнце. Одутловатое лицо Климова выражало довольство собой, делами, погодой.
— Хлеб заботу любит, — проронил он.
— А люди, по-вашему, не любят? — невольно вырвалось у меня. Он с недоумением обернулся.
— Люди?
Мне хотелось высказать ему все, о чем я думал, что мучило меня.
— Да, люди. Пора уже ставить вопрос, чтобы в колхозе были и хорошие ясли, и общественная баня, и столовая. Людям мало уже одной сытости. Ведь в колхозе нет ни одного стана, оборудованного как следует. Даже умывальников нет.
— Мысли верные, — подтвердил Климов.
— Соглашаться легче всего. Делать надо.
— Мы и делаем.
— Мало.
Климов нахмурился, отрезал твердо:
— В помощи я вам не отказываю, но аптечки по полям развозить не намерен. Своих дел по горло…
— Хозяйственные дела заслонили от вас все. Вы забываете о нуждах людей. Вам не больно за них.
— Мне не больно? — повторил он изумленно. — Для кого ж я стараюсь? Домой едете?
— Нет, — отказался я, хотя мне надо было возвращаться домой.
Дня через два случилось несчастье: в третьей бригаде, у новых колхозников, приехавших из города, заболела дифтерией пятилетняя девочка. Из района пришло распоряжение Колесникова сделать прививки против дифтерии всем детям от двух до двенадцати лет.
На время я забросил все остальные дела, и мною овладело настоящее отчаяние. Я понял, что со своей текущей работой один справиться не могу. «Неужели, — приходила мне мысль, — отступить, отказаться от справедливой требовательности к себе и людям, стать человеком, равнодушным к своему делу, и жить так, как живет Маломальский, — только посильным, ежедневным, не опережая жизнь, а лишь безвольно отдаваясь ее течению?»
Жить так — значило отказаться от своих убеждений, потерять смысл жизни, не уважать себя. Неужели же сбыться пророчеству моего попутчика, человека в подтяжках: «Сибирь пыл-жар с вас посдует».
Нет, конечно, только не это. Но что делать? Скандалить? Кричать? Жаловаться? Конечно, на мою сторону встанут и Новиков, и Колесников, и райком партии может помочь. А потом как? Снова встанет тот же вопрос: «Как работать?»
АНДРЕЙ ОКОЕМОВ
Он такой чистый, выбритый, улыбающийся, что я даже не сразу узнаю его. Правая рука еще на перевязи, но сам он розовощекий, сдержанно радостный, сильный. Настоящий жених.
— Я по личному делу, — заявляет он, усаживается на диван, вынимает из кармана упругий листок ватманской бумаги. — Это вам. Левой рукой писал.
Сверху крупными печатными буквами начертано: «Благодарность врачу», а ниже мелкими шажками спускаются рифмованные строки:
Мы с вами встретились в тяжелую минуту — Лежал больной я на руках друзей, Мою вы руку быстро залечили, К труду вернуться стало можно мне. Спасибо, друг, идущий нам на помощь. Спасибо, друг, суровый и простой. Желаю вам счастливой долгой жизни, Советский врач, товарищ дорогой.Под стихами подпись с лихими завитушками: Андрей Окоемов. Неприятно и неловко читать эти стихи. Принужденно благодарю:
— Спасибо. Так вы, оказывается, стихи пишете?
— Пишу, — с некоторой даже важностью подтверждает он.
— И все в этом стиле? — осведомляюсь я и тут же понимаю, что задал не тот вопрос.
— Нет, зачем же. Есть и лирика и про строительство.
Андрей поправляет слишком туго завязанный галстук.
— Есть у вас с собой лирические? — спрашиваю я.
— Я и так помню. Хотите? — Он склоняет голову набок, направляет взгляд в потолок и глухим, грудным голосом объявляет: — Посвящаю Н. Н. — Затем декламирует:
Днем и ночью ты светишь мой путь. Днем тоска, но и ночью никак не уснуть. Жизнь тебе отдаю я сполна, Ты и солнце мое и луна. Где сыщу я другую такую? Без тебя я всечасно тоскую.Это он о Наде. Заметив мою улыбку, Андрей не заканчивает, бросает небрежное:
— И так далее…
Опять поправляет галстук. Сидит. Ждет, должно быть, похвалы. Я спрашиваю:
— А этой «Н. Н.» ваши стихи нравятся?
Он секунду колеблется, Отвечает несколько вызывающе:
— Стихи? Не особенно. — За этим слышится недоговоренное: «А я — очень». Странно, почему счастливые люди бывают иногда так неприятны? — Хочу послать куда-нибудь, — продолжает он. — Может, напечатают.
— Я б не посылал, — говорю я.
Андрей вопросительно поднимает брови.
— Почему?
— Стихи слабые.
Тотчас же раскаиваюсь в том, что сказал. Парень пришел ко мне с самыми лучшими намерениями. Он сидит красный, закусив нижнюю губу. Мне становится жаль его.
— Может быть, я слишком резко.
— Нет, ничего; Я люблю, когда напрямик.
Пытается выжать из своих губ улыбку, но получается что-то кривое, жалкое, на улыбку не похожее. Затем решительно, рывком встает, уже простодушно, широко улыбается.
— А здорово вы мою бабушку разгромили.
Тут неловко становится мне. Что сказать?
— Я не осуждаю, — продолжает он. — Она баба вредная. Всю жизнь придуряется, даже огород не садит. Дед на что уж привычный, и то не выдержал, ко мне удрал. — Андрей поднимается. — И мне тоже от вас досталось. Со стихами…
— Я сказал, что думаю.
— Правильно, конечно.
В этом «конечно» послышались сомнение и обида.
НОВИКОВ
Что-то есть влекущее в нем. Но что? Хмур, неразговорчив, неулыбчив. Но сам не знаю, что влечет к нему. Ощущается в нем сила характера, хотя он и не выставляет ее напоказ. Навестил меня. Расспросил о здоровье девочки, заболевшей дифтерией, о мерах, принятых для того, чтобы заболевание не распространилось. Сообщил, что в экстренных случаях для выезда в соседние деревни Климов разрешил брать «Победу».
Неожиданно спрашивает с участием:
— Вы сами-то здоровы?
— Здоров.
— Может, горе какое? Вид у вас какой-то измученный.
— Может быть, и горе. Если говорить откровенно… — Я замялся. Как и о чем говорить? Разве скажешь в двух словах? — В общем, запутался я. Не справляюсь.
Я боюсь, что он постарается разубедить меня, станет успокаивать, скажет: «Ну, что вы, дело идет у вас неплохо» и тем самым отмахнется от того, что мучило меня. Но он вынимает часы, смотрит на циферблат.
— Идемте ко мне обедать. Или обедали уже?
— Не обедал. Но…
— Что такое?
— Вроде неудобно.
— Это вы зря говорите. Пообедаем и потолкуем о ваших невзгодах.
Что ж, раз он хочет, расскажу. Пусть покажусь мальчишкой, но скажу. Едва выходим на улицу, нас догоняет Алла Букина.
— Вот удача: обоих вас поймала, — заговорила она поспешно. — Так вот, Илья Захарович, о пьесе. Андрей не может. Вместо него Виктора Петровича уговорила. Теперь Надя заартачилась. «Если, говорит, Виктор Петрович будет играть, то я не буду». Лаврик декорации отказался рисовать. Да что же это такое? Мне одной нужно, что ли?
Новиков оборачивается ко мне.
— Вы что, с Надей в ссоре?
— Нисколько.
Алла начинает пояснять возмущенно:
— Там поцелуй по ходу действия. Всего один. Я ее агитировала. Говорю: «Это ж не по-настоящему. Что тебе сделается? С Андреем соглашалась играть, а здесь не можешь?» — «Это, — говорит, — совсем другое дело». Наотрез отказалась.
Новиков предлагает:
— А если убрать его, этот поцелуй?
Алла протестует:
— Что вы! Он очень выразительный, под занавес. Без него никак. Илья Захарович, повлияйте на нее.
Новиков обещает:
— Попытаюсь.
С чем только к нему не обращаются! Хотел бы я посмотреть, как он будет беседовать с Надей о поцелуе.
Дом Новикова покрыт шифером. Перед окнами зеленеют молодые елочки. Узкий дворик огорожен только с улицы. В сенях прислонены к стене незастекленные зимние рамы. Квартира из двух комнат и кухни. Пахнет сосновыми, еще не крашенными полами.
Около стола стоит одна табуретка и порожний ящик. На одном окне занавеска, другое закрыто газетой. На подоконнике телефон. В открытую дверь видна спальня — в ней две кровати, прямоугольное зеркало на стене, этажерка с книгами.
Новиков снимает пиджак, вешает его на гвоздь около двери, уходит в кухню. Рассматриваю в простенке между окнами портрет молодой женщины с мальчиком в матросочке. Очертания лиц чуть расплывчаты — должно быть, фотография увеличена с другой, меньшего размера.
Появляется Новиков с тарелками в руках, останавливается около меня. Глухо говорит:
— Это Галинка и сын.
Задерживается, всматриваясь в портрет. Глаза его подергиваются влагой. Голос звучит еще глуше:
— Четырнадцать лет искал, ждал… — Быстро ставит тарелки на стол. Затем приносит кастрюлю с борщом. Нарезает хлеб. Выражение лица его сумрачно, но уже спокойно.
За обедом рассказываю ему о своем вагонном разговоре с Валетовым. Он слушает меня хмуро, неподвижно.
— А кто он, ваш попутчик? Не узнали?
— Он здешний. Валетов.
Новиков кивает.
— Знаю. Живет, как улитка, — тихо, неслышно. Ни до чего ему дела нет. Даже газет не выписывает. Существует для себя. Скрытен. Перед вами приоткрылся, должно быть, случайно, не думал встретиться. — И продолжает, оживляясь негодованием: — Да разве один он такой? Возьмите нашу Гаврюшкину. Кажется, не похожа, а суть та же. Тоже ей на все наплевать. В самое горячее время — по ягоды. А попробуй, тронь ее. Мы хотели ей огород обрезать. Такой крик подняла: «У меня сын во флоте. Я семья военного». В райисполком помчалась жаловаться… Или ваша Погрызова — тоже в ней частица Валетова сидит. Только тот скрытный, а она нараспашку. Глупее и крикливее. Ни до кого ей дела нет, кроме самой себя.
— Маломальский такой же.
— Вот уж нет, — возразил Новиков. — Вы его еще не знаете. Он человек с душой.
— Что-то не заметил.
Я рассказал, как обманывает меня Маломальский, как бесконечно обещает, а затем прячется от меня.
— Так ведь он старый, — возразил Новиков. — Не справляется. В тридцатых годах был председателем колхоза, потом стал бригадиром, сейчас ему и здесь туго. Новые машины, новая агротехника, а Маломальский все тот же и учиться не умеет. За все хватается сам, мечется и ничего не может организовать. Пойдет на покос, сядет бабам литовки отбивать, на кузнице примется помогать кузнецу, то вдруг сам полезет с плотниками крышу крыть, да до вечера и провозится. Целый день суетится, а толку нет. — Новиков отодвинул тарелку.
— Курить будете? Нет? Ну, рассказывайте, что у вас случилось.
И хотя он обратился ко мне просто, я почему-то разволновался и не особенно толково начал рассказывать ему о том, как отстраняется от помощи мне Климов, что не могу преодолеть захламленности и грязи, что я сам недоволен собой — мало читаю, закружился в работе и утонул в очень нужных, но неисчерпаемых мелочах. Да и не мелочи это… Разве мелочь, что у коровника накопились горы навоза, у водокачки грязь, что… Да разве обо всем расскажешь! Сколько ни беседовал с колхозниками, во дворах у многих остается грязно…
— А почему? — вдруг спросил Новиков.
— Ясно почему. Скотина. Двор-то один. Тут и поросята, тут и корова и куры.
Новиков как-то странно, мне показалось задорно, по-юному окинул меня испытующим взглядом:
— А если дальше посмотреть?
— Куда? — не понял я.
— Не понятно? А мне вот хорошо понятны и знакомы ваши мучения. Даже очень хорошо. Вы считаете: «Боже, в какую глушь я попал! Везде грязь, везде равнодушие. И не сдвинуть эту косность». И отсюда уныние, усталость.
— Не совсем так.
— Не совсем, но почти. Это потому, что вы видите пока узкий клочок, у себя перед носом… Извините, такое слово вырвалось. А вы взгляните шире. Дело не в том, что вам не хотят помочь… Трудно нам. Много сделано, но еще больше впереди. Главное, не хватает людей… Везде не хватает. На полях, в строительстве, на фермах. Вы знаете, сколько мужчин из нашего села с войны не вернулось? Сейчас подросла хорошая смена — наши комсомольцы. Славные ребята. И мы их ставим на самые трудные участки. С ними легко работать. Они не боятся техники. Грамотные. Все осваивают быстро. И все-таки мы не можем охватить всего. После сентябрьского Пленума дела у нас круто пошли в гору. Еще четырех лет не прошло, а колхоза не узнать. На ноги встали. Вот и сейчас мы строим коровник, должны механизировать его, перейти на электродойку, начнем поднимать целину на лугах, строить новые ясли, мечтаем о прачечной, столовой.
Я с удивлением смотрел на Новикова — с лица его свалилась тяжелая скорлупа морщин. Словно не было их. Все лицо его и особенно глаза светились молодым, счастливым светом.
— В этом году ожидаем замечательный урожай. Небывалый за все послевоенные годы. Думаем хорошо дать колхозникам на трудодни и хлебом и деньгами. На будущий год планируем открыть столовую, прачечную, построить новые ясли. А года через три-четыре, может быть, колхозники скажут: «Да зачем нам из сил выбиваться, возиться с личным хозяйством? Все это может дать колхоз». Сколько времени освободится у людей для книг, для мыслей! А потом захотят по-новому перестроить деревню, создать культурный, городского типа поселок.
Новиков засмеялся:
— Может быть, вы думаете, что я совсем не на тему? Вы мне про навоз и мух, а я вам про перестройку. Нет, на тему. Поймите, что не все сразу делается, что наши трудности — это трудности роста. Это обязательно надо понять, чтоб руки не опустились, чтоб уныния не было.
Он поднялся из-за стола, хромая, прошелся по комнате.
— Придет время, будут у нас и ванны в квартирах, и асфальтированные улицы. Обязательно придет. Но это не значит, что сейчас надо сидеть и ждать сложа руки. Грязь есть грязь и мириться с ней нельзя. Все, что можно сделать сегодня, надо сделать. И, конечно, вам одному очень трудно. Даже, можно сказать, и не справиться. Ну, Климов — коммунист — мы поправим его, поймет. Маломальский… — Новиков не договорил, задумался. — А знаете что, Виктор Петрович? Если нам провести неделю чистоты? Только не с бухты-барахты, а продумать, подготовиться.
Я обрадовался:
— Хорошо бы.
— Постараемся привлечь к этому делу и коммунистов и комсомольцев. Разобьем село на участки. Назначим ответственных. Используем стенгазету, радио. Выберем комиссию для проверки того, что сделано.
Как много значат несколько слов, сказанных вовремя! Нет уже у меня уныния. Черт возьми, работать надо, а не вешать нос. Не один я.
За окном становится сумрачно. Маленькие елочки треплет, раскачивает ветер.
— Здравствуйте, — слышится позади нас женский голос.
В дверях стоит жена Новикова в тонком плаще, испещренном каплями дождя. Она снимает берет, отряхивает его, поправляет волосы.
— Хорошо, что ты рано, — обрадовался Новиков. — У нас гость.
Женщина быстро протягивает мне влажную от дождя руку.
— Мы уже немного знакомы.
Вспоминаю — работает библиотекаршей. Зовут ее Оксаной. Она скрывается в спальне, прикрывает дверь и через несколько минут появляется снова в домашнем, простеньком платье. Расспрашивает:
— Вы обедали? Сметану нашли?
— А как же!
— А чай? Он в термосе.
— Нет, чай мы не пили.
Оксана извиняется.
— Это неважно, — говорю я, почему-то смущаясь.
Она смотрит на меня сияющими глазами.
— У вас, мужчин, все неважно. Илья вчера сделал открытие: у тебя, говорит, Оксана, новое платье? А я его уже неделю ношу.
Прибирая на столе, спрашивает:
— Не скучаете по Волге?
— Скучаю, — признаюсь я.
— Берите черничное варенье. Наверно, не пробовали никогда? — говорит Оксана.
Пьем чай. За окном, как ленивая собака, изредка беззлобно ворчит гром. Смотрю в глаза Новикова — их будто обмыло солнце. «Любит он ее, — думаю я. — Очень любит».
— Я ведь тоже не сибиряк, — вмешивается в разговор Новиков. — Первые годы только и думал о своей Курщине. Готов был хоть пешком уйти на родину. А потом привык. У вас это тоже будет: вживаешься в жизнь людей, что-то создаешь. Да, между прочим, если не секрет… Над чем это вы сидите вечерами? Как ни иду, у вас свет в окне.
Пытливо взглянул на меня. Я несколько замешкался с ответом. Он это уловил.
— Ну, ну, ладно… Не надо…
— Да нет, — возразил я. — Секрета нет. Над книгами сижу. Только не очень-то получается… За день набегаешься… — Таиться от него не имело смысла. — Геронтологией занимаюсь.
— Это что-то медицинское?
— Буквально — наука о старости. Главная цель ее — найти пути продления жизни человека.
— Это интересно.
Досказать ему не пришлось. Зазвонил телефон. Он стал говорить с кем-то о подкормке, об удобрениях.
Возвращаюсь домой. Навстречу мне медленно двигаются Андрей и Надя. Андрей что-то говорит, жестикулируя левой рукой. Она смотрит себе под ноги. Лицо у нее расстроенное, огорченное. Слышу, как Андрей говорит:
— А чего ждать? Скажи прямо…
О чем это он? Не о свадьбе ли? И все таки мне кажется, что она не любит его. Почему-то хочется, чтоб это было так.
СОН
Люблю разговаривать с Надей. Любопытно она говорит о людях.
— Возьмите Новикова, — рассказывает она. — Вроде неслышный. Никогда голоса не повысит. Придет к трактористам, поможет, а между делом побеседует, о чем надо. Никому не приказывает, а все с ним считаются. Если попросит — разобьются, а сделают… А Оксана? Она ж спасла его. Нашла раненого на поле боя, спрятала, выходила. Помогла к партизанам перебраться. Или Климов наш. Тридцатитысячник, начальником цеха был. По призыву партии в деревню работать поехал. А Ариша! Вы думаете, она тихая? Это она только теперь такая. Старая стала. Папаня рассказывал, в годы коллективизации она во главе женского комитета стояла. Был такой у нас. Мужа ее, Павла, кулаки убили. И в нее стреляли, ранили… Егоров — тоже интересный человек. Когда-то председателем райисполкома был. У нас, правда, еще не показал себя.
Хочется узнать Надю ближе, но о себе рассказывает скупо, будто не веря, что это может быть кому-нибудь интересно. Об отце своем сообщает охотнее:
— Тятя у меня беспокойный. Всегда что-нибудь выдумывает. То маслобойку мастерит, то что-нибудь для комбайна. Ветродвигатель установил, хотел свое электричество иметь, да напрасно старался — колхоз электростанцию построил. Теперь двигатель ни к чему, торчит вместо флюгера. Тятя наш самоучка, шутит: «Математики я не знаю, а то бы вечный двигатель построил». Голова у него инженерская.
После короткой паузы продолжает, но уже не с восхищением, а огорченно:
— А по домашности ничего не помогает. Не любит этого. Разве что иногда ограду поправит или сено смечет. Все хозяйство на маме. Она, пока здоровая была, все успевала: и почту разнести, и огород прополоть, и свинье сварить. Чуть свет вставала и за день, бывало, не присядет. Она Федю никак забыть не может. Да и как забыть? Тятя и то плачет. Вчера, смотрю, сидит во дворе один. Подошла, вижу у него глаза полны слез. Я испугалась: «Что с тобой?» — говорю. А он махнул рукой: «Так, вспомнилось».
— А кто это — Федя?
— Брат мой — на фронте погиб.
Зайдя однажды, я застал Надю на кухне. Она что-то писала.
— Занимаешься? — спросил я.
— Русский язык повторяю.
— В институт готовишься? В какой?
— Наверно, все-таки в медицинский.
И вдруг у меня вырвалось:
— А я слышал, ты замуж выходишь. — Взглянув на Надю, я сразу понял, что дотронулся до того, до чего дотрагиваться нельзя. Девушка отшатнулась от меня, как будто я на нее замахнулся.
— Не знаю, — выдохнула она в смятении. — Ничего не знаю. И зачем вы спрашиваете?
Вот именно, какое мне дело? При чем я тут? Почему я интересуюсь этим? Не знаю. Может быть, просто хочется, чтобы жизнь ее была ясной и счастливой, а Андрей мне не нравится, есть в нем что-то показное. Так думал я. И вдруг мне приснился сон.
Сон был короткий, но он оставил во мне томящее чувство неутоленной нежности и вот уже несколько дней звучит в памяти, как мотив забытой песни, ускользает, возвращается вновь, томит. Приснилось, будто я веду прием, заполняю чью-то карточку. Кто-то неслышно приближается ко мне сзади, охватывает мою шею нежными, горячими руками, и я почему-то не оборачиваюсь, знаю, что это Надя. Она целует меня в шею быстрыми, легкими поцелуями, и у меня замирает сердце от невыразимого, обжигающего счастья. В кабинете мы не одни, я стыжусь ее ласки и потому стараюсь разнять ее руки, шепчу: «Не надо». Вокруг возникает неясный шум, чьи-то настойчивые, требовательные голоса, я отстраняю девушку и просыпаюсь.
Сон был настолько явственным, что утром, когда я увидел Надю, то невольно смутился, словно она могла знать, что приснилось мне.
Теперь на душе странно и тревожно. Что-то сдвинулось внутри у меня и никак не может стать на место. Что же случилось? Обязательно надо в этом разобраться. Что же это такое?
Я говорю себе: «Вера». Еще раз повторяю: «Вера» и не ощущаю ничего. Нет, неправда — ощущаю боль, привычную обидную боль. Даже сейчас, когда я думаю о ней, меня охватывает острое чувство несчастья.
Я был уже студентом пятого курса, когда встретился с Верой на пляже. Она была в купальном костюме и в шляпе с огромными полями. Глаза ее прикрывали темные очки.
Она сама подошла ко мне и заговорила приветливо, как если бы мы были друзьями по-прежнему. Во мне поднялось тогда странное желание противиться этой приветливости, которой я не смел верить.
— А где Виталий Васильевич? — спросил я, сознавая, что напоминание о муже оттолкнет ее.
— А зачем он тебе? — удивилась она непринужденно.
— Мне он не нужен.
— А мне тем более.
Пляж был весь густо устлан коричневыми, загорелыми телами.
— Уйдем отсюда, — предложила она.
Мы пошли с ней по мокрой твердой полосе песка, около самой воды. Я шел молча, стараясь не замечать рядом ее худощавого, почти мальчишеского тела.
Мы ушли далеко, в другой конец острова. Здесь было безлюдно, от реки веяло прохладой, пахло брызгами воды и сырым песком. Нервно смеясь, она рассказывала о новых своих знакомых, которых я не знал. Я сидел на песке, подавленный тем, что чувство к ней оказалось таким же сильным, как прежде, Нет, не таким — теперь я видел в ней не любимую девушку, а женщину, и меня тревожно влекло к ней.
— Ты все такой же, — говорила Вера.
— Какой?
— Скучный.
— Конечно, Виталий Васильевич интереснее.
Вера умолкла, легла спиной на песок, сбросила темные очки и стала смотреть в небо.
— Ты читал Флобера «Госпожу Бовари»?
— Да, читал.
— Что ты думаешь об Эмме?
— Несчастная женщина. А ты читала его письма?
Вера не ответила.
— Флобер вечно мучился стилем. Иногда за весь день ему удавалось создать всего несколько строчек… Он учил Мопассана…
Не знаю, зачем я все это говорил.
— Ты все о книгах, — остановила меня Вера. — Не надо. Какое мне дело до всех этих умных людей?
— До кого ж тебе дело?
Она лежала, закинув руки за голову, держа в зубах листок тальника. Между ресницами ее показались слезы.
Я склонился над ней, весь содрогаясь от боли за нее.
— Веронька, что с тобой?
— Неужели ты не понимаешь, что я не могу без тебя? Не видишь? Да?
Она приподнялась на локте и прильнула лицом к моему плечу.
Губы у нее были горькие, пахнущие соком тальника.
…Возвращались мы уже в темноте. Под босыми ногами скрипел теплый песок. Последний катер давно ушел в город. В черном небе пылали звезды. Слева сиял муравейник городских огней, и вся вода между городом и островом тоже светилась этими огнями.
— Боже мой! — воскликнула Вера. — Где же моя шляпа?
— У меня нет, — сказал я.
— Она осталась там, — чуть слышно, испуганно произнесла Вера. В этом «там», которое она боялась произнести громко, содержался огромный, только нам двоим известный смысл.
Впереди блестело красноватое пламя костра. Вниз по течению прошел белый трехпалубный, весь залитый светом пассажирский пароход. В ночной тишине донесся с него вальс «Березка».
— Вера, — говорил я, — ты не должна возвращаться к нему.
— Я безумно устала, — простонала она.
Мне показалось, что она плачет. Я зажег спичку, осветил ее лицо, она с раздражением отвернулась.
— Зачем ты? Оставь…
У костра сидел и курил мужчина. Склонившись над стланью, чистила рыбу молодая женщина в красном платье, похожая на цыганку. Вера остановилась поодаль, пряча лицо от света. Я подошел, попросил перевезти нас в город.
— Двое? — спросил мужчина, внимательно осматривая меня. — А второй где?
— Здесь она.
Женщина в красном платье с любопытством всматривалась в темноту, где стояла Вера. Мужчина молча взял весла и пошел к лодке.
Потом мы почти бежали по опустевшим ночным улицам. Один раз Вера приостановилась у фонаря, внимательно осмотрела себя в зеркало и подкрасила губы. Квартала за два до дома она попросила:
— Не ходи со мной. Здесь уже близко.
Она торопливо пожала мне руку и кинулась прочь, постукивая по асфальту высокими каблучками босоножек. Теперь ею владел только страх, только забота: скрыть от мужа то, что случилось.
Я следовал за ней по другой стороне улицы. Около ее дома стоял Нечинский в белом костюме и соломенной шляпе. Вероятно, он уже собрался на поиски ее. Она остановилась около него, стала что-то говорить. Он спрашивал, она отвечала со смехом. Затем взяла его под руку и увела в дом. Дверь захлопнулась за ними.
С этого времени началась нестерпимо тяжелая и стыдная для нас обоих жизнь. Мы скрывали от всех нашу близость, встречались редко, а встретившись, не могли расстаться. Я изводил ее своей ревностью, она меня — упорным нежеланием выяснить свои отношения с мужем.
— Чего ты хочешь от меня? — возмущалась Вера. — Я и так безумно рискую ради тебя.
— Но пойми, — в сотый раз говорил я, — невозможно, чтобы так продолжалось. Ты должна решить, кто тебе нужен: я или он. Неужели ты не чувствуешь, что это глупо, унизительно, грязно, наконец?
— Замолчи, — просила она.
— Как ты можешь делить себя…
— Ты начинаешь говорить гадости. Я твоя, пойми, только твоя.
— Если ты не порвешь с ним, я сам пойду к нему и расскажу все. Если он честный человек…
— Ты с ума сошел! Ты не имеешь права этого делать. Слышишь? Я не прощу тебе…
Так было. А кто она мне теперь? Не жена, не товарищ, не друг. Сперва была прелестная девочка, которая играла в разочарование, потом она стала женой другого, неверной женой, и наши отношения были смяты, изуродованы сознанием стыда и невозможности быть счастливыми. Все человеческое, спокойное, вдумчивое ушло. Что же связывает нас? Мне жалко ее. А любовь? Есть ли она? Не знаю. Есть горькая мысль: «Как было бы хорошо, если бы я никогда не встретил Веру».
СТУК В ОКНО
К «неделе чистоты» мы подготовились хорошо. Новиков помог нам расшевелить все село. Теперь совсем по-другому разговаривает Климов. Говорят, его сильно критиковали на партийном собрании. Он без всяких проволочек выделил на один день бульдозер и три машины.
Начали мы с радиопередачи. Я произнес вступительное слово. Затем комсомольцы рассказали о том, что намечено сделать в Озерках за неделю. Поставили задачу привести в порядок все хозяйственные помещения и усадьбы колхозников. Основную работу решили «провернуть» в воскресенье.
День выдался ясный, солнечный. В семь часов утра комсомольцы уже подходили к медпункту. Я был в роли главнокомандующего. Появилась Надя в синем комбинезоне, в красной косыночке, похожая на мальчика. Удивительно, что она и в старом, застиранном комбинезоне умеет быть сияюще красивой. Подошла, застенчиво поздоровалась.
— Можно отправляться?
— Все в сборе?
— Все.
Девчата ушли белить клуб. Подъехал на бульдозере Костя Блинов. Не сбавляя хода, махнул рукой в сторону коровника. Ему поручено очистить от залежей навоза скотный двор. «Давай, давай», — кивнул я в ответ.
Вместе с грузовыми машинами приехали Климов и Новиков. Посадили в кузов парней и умчались к пилораме за опилками — засыпать ямы около водокачки.
Часам к девяти пришли два учителя с учениками, вооруженными граблями, лопатами и метлами. Я их направил счищать от соломы и мусора дворы хозяйственных помещений.
Алла и Варя сели в правлении колхоза выпускать стенгазету.
Когда все занялись делом, я присоединился к звену Климова. Настроение у меня весь день было замечательное, мы ездили на берег реки с песнями, и мне ужасно нравились и небо, и ветер, и река, и я не слезал с машины, а спрыгивал на хрустящую гальку и весь день чувствовал себя веселым, сильным и ловким. Лопаты так и мелькали, и нисколько не чувствовалось усталости. Смешно было смотреть, как Климов, большой, с начинающим откладываться брюшком, кидает гальку маленькой лопаткой — ему досталась почти детская — иногда выпрямляется и виновато вздыхает:
— Сердце, черт возьми. Совсем отвык…
— Физкультурой надо заниматься, — советую я.
А сзади веселые голоса разыгрывают диалог:
— Тит, иди полдничать!
— А где моя большая ложка?
— Тит, иди гальку грузить!
— А где моя маленькая лопатка?
Климов хохочет вместе со всеми.
Работу у водокачки закончили к обеду. А сколько из-за этого было разговоров!
Кто-то предложил пройти по дворам и помочь старикам. Рассыпались по деревне. А с Алешкой Титовым вышел анекдот. Мы знали, что Гаврюшкина сама не раскачается, и направили Алешку к ней. А она решила, что он опять идет к ней искать самогон. Пока он пытался, заикаясь, объяснить ей, зачем пришел, она успела отругать его и вытолкать на улицу.
— Ишь, повадились! Нет у меня ничего.
Когда он пытался вернуться, она спустила с цепи собаку.
— Я насчет чистоты, — выговорил, наконец, Алешка.
— Наплевать мне на вашу чистоту. Хоть утону в грязи — не ваше дело.
Алешка вернулся ни с чем и взволнованно рассказывал:
— Во какая собака… П..п..прямо баскервильская…
В общем, Алешка обозлился, взял лист бумаги, написал на нем: «Здесь еще грязно» и прибил на воротах Гаврюшкиной.
Решили помочь Маломальским. Самого его не было дома. С утра он уехал искать лошадей. К Маломальским пошла Варя. Жена Маломальского отругала ее, и Варя пришла со слезами:
— Да разве мне это нужно? Не пойду больше.
А поздним вечером на трех машинах всей гурьбой поехали купаться и мыть машины.
Было совсем темно. Девчата плескались где-то в стороне, и оттуда доносились их смех, повизгивания, плеск воды.
Я выплыл на середину протоки, лег на спину и долго лежал без движения, смотрел в звездное небо. Голубыми огнями горело созвездие Ориона. Было совсем не холодно, и не хотелось возвращаться на берег. Все вокруг казалось странным и прекрасным. Вода бережно покачивала меня и медленно уносила вниз по течению, словно в колыбели.
С берега начали кричать:
— Виктор Петрович!
— Витя!
— Где же он?
— Да что же вы смотрели?
— Утонул…
— Здесь я, — крикнул я громко и саженками поплыл к берегу. Когда ехали обратно, рядом оказалась Надя. Была она почему-то притихшая, задумчивая.
— О чем ты?
— Зачем же вы так пугаете? — прозвучал ее голос так же тихо.
У гаража слезли с машин, пошли пешком. Около избы Маломальского Олег зашептал:
— Тише, посмотрите-ка!
А посмотреть было что: через окно, не прикрытое занавеской, было видно, как Маломальский, стоя на столе, в женском переднике белил потолок. Жена его что-то бубнила, указывала, как надо.
— Дошло-таки, — засмеялась Варя.
«Не дошло», кажется, только до одной Погрызовой. На воскресник она не явилась, а в понедельник ворчала:
— Никак не могут жить спокойно. То воскресники, то субботники, то недели всякие. Ну к чему затеяли возню? Радио и все прочее?
— А вы пройдите, посмотрите, сколько мы сделали за вчерашний день, — посоветовал я. — Совсем другой вид стал у села.
— Пустые хлопоты. Штрафанули бы как следует, сразу бы все заблестело. Без всякого радио.
Ее, видно, ничем не раскачаешь. До чего тяжело и неприятно работать с таким человеком! Через день-два опять столкнулся с ней. На прием явился ее брат Лаврентий. Медлительный, неопрятно одетый парень. Лицо дремотное, сальное, в нечесаных волосах белеют чешуйки перхоти. Он еще молод, но под глазами дряблые морщины синева. Спрашиваю:
— На что жалуетесь?
Лаврентий опускается на кушетку, потирает ладонью лоб.
— Голова болит. Аппетита нет и жар. Жар просто одолевает.
Руки у него дрожат, как это бывает у алкоголиков. Отвечает мне, но смотрит почему-то на сестру. Даю ему термометр, приглашаю следующего.
— Виктор Петрович, — жалуется Погрызов, — душно здесь. Я в коридор выйду.
Минут через десять он возвращается, волоча ноги, расслабленный. Термометр показывает сорок и пять десятых.
Пульс у Погрызова нормальный, зрачки не расширены. Замечаю, что из-за прищуренных век его следит за мной изучающий, слегка враждебный взгляд. Меняю термометр.
— Измерьте этим.
— Зачем?
— Надо проверить.
На этот раз термометр показывает тридцать шесть и четыре.
— Зачем вы набили температуру? — спрашиваю я.
— Ничего я не набивал, — дерзко отвечает он.
— Идите, вы здоровы.
— Виктор Петрович! — вступается за брата Ольга Никандровна. — Я точно знаю — он два дня лежал без движения. Как вы могли подумать? Да и зачем ему?
— Не знаю зачем, но он симулирует.
— Я болен, — бормочет Погрызов.
— Не задерживайте других, — тороплю я его.
Ольга Никандровна принимается меня убеждать:
— Это какое-то недоразумение. Лаврентий, действительно, болен. Вчера он даже сеанса не мог закончить.
— Вы же говорили, он два дня без движения.
— Через силу пошел, и на половине сеанса ему стало плохо.
— Почему он не пришел вчера?
— Я сама оказала ему помощь.
— Так зачем он явился ко мне?
— Ему справка нужна в отдел кинообслуги. Если они узнают, что сеанс сорвался, его могут уволить. Может быть, напишем все-таки? А?
Справки я не написал, а о болезни Лаврентия решил поговорить с Букиной. Зашел к ней вечером.
В клубе никого. В пустом зале между скамеек сонно бродит серый котенок. Заблудился, мяукает. Алла в гриммировочной. Она сидит под картонным, чрезмерно зеленым деревом, похожим на большой огурец, и читает.
— Где же молодежь? — спрашиваю я.
— А что им здесь делать? — Алла вызывающе смотрит на меня. — Это плохо? Да?
— Вы сами понимаете.
— Простите, я не то говорю. Глупо.
Она встает, встряхивает косичками, кидает книгу на стол.
— Я еще, когда посылали, говорила: «Клубная работа не для меня. Что я в ней смыслю?» Ну, кончила курсы, а я все та же. Я их боюсь. Просто боюсь. Недавно кто-то бумажку к косам привязал, как собаке. Смеются. Я бранюсь, но знаю, что это не поможет. Сама скучная — ни петь, ни танцевать.
— Зачем же вы взялись?
— Как зачем? Направили. Я комсомолка — отказываться не могла. А знаете, когда с работой не ладится — такая тоска! Никто не имеет права работать плохо. Я таких людей сама терпеть не могу. Но что делать?
— А что любите вы?
— Книги. Читать люблю, о книгах говорить. Читки у меня хорошо получаются, но не могут же ребята только читать и читать. Они ж молодые. Придет Лаврик с баяном или Алешка — вот и веселье, а без них скука. Олег наш преподобный сюда носа не показывает.
— Почему преподобный?
— А ну его… Скроит лицо недоступное, правильное-расправильное, хоть икону с него пиши. — Алла закатила глаза, изображая Олега, затем подняла палец, погрозила: «Я о тебе поставлю вопрос…» Пусть ставит хоть двадцать… Ну, что я одна могу?
Спрашиваю о Лаврике. Алла рассказывает брезгливо:
— Пьяный был. Мы это сразу поняли. Долго не начинал, а потом вверх ногами начал показывать. Мальчишки свист подняли. Ноги на место стали — звук исчез. Затем, слышим, аппарат работает, а ни звука, ни изображения. Пошли мы в будку, а он спит в таком виде, что рассказывать стыдно. Сегодня обещал «переказать».
Неожиданно Алла спрашивает:
— Вы море любите?
— Не видел его.
— И я не видела. А хочется. Почитайте, как о нем пишет Паустовский. У него слова прямо пахнут морем. Я даже наизусть знаю. Послушайте: «Тянуло туда, в далекую даль, где над морем лежала, покачиваясь, синеватая мгла. День казался таким высоким, как будто небо растворилось до самой глубины». День — высокий! Хорошо? Правда? А в общем, плакать хочется.
Ушел я из клуба с давящей жалостью к этой некрасивой, неумелой девушке.
Думаю об Олеге. Трудно ему, не хватает на все времени, но и Алла права — резковат он. Зачем так: «Поставлю вопрос», а почему бы просто не поговорить, без «вопросов»?
* * *
Пробуждаюсь от резкого стука в окно. В смутных сумерках белеет припавшее к стеклу лицо. Открываю дверь. В комнату входит женщина, переступает несколько шагов и не садится, а роняет свое тело на стул. Лицо ее и розовая кофточка, заштопанная на плечах, залиты кровью. Она разматывает с головы клетчатую косынку, и из ее складок вываливается, звякая о пол, окровавленный осколок стекла.
— Вот что со мною сделал, — порывисто произносит она.
Я не уточняю, кого она имеет в виду.
— Последнюю молодость во мне убивает.
Осторожно выстригаю волосы вокруг раны на голове.
— Пьяный?
— А когда он бывает трезвый? Много не стригите…
— Чем он вас?
— Кирпичом. Пришел в три часа ночи. Я открывать не хотела. Подошла к окну, так он кирпичом. Стекла выбил, Славку перепугал. Мне прямо в голову. Не знаю, как жива осталась.
Кожа на виске рассечена. Рана кровоточит. На лбу порез стеклом.
Сделав перевязку, осторожно обтираю влажным тампоном запачканное кровью лицо, и оно неожиданно оказывается бледным от испуга и боли, совсем еще юным, хрупким, с выражением тоскливого недоумения. Темные-претемные глаза ее смотрят на меня с затаенной надеждой услышать что-то ласковое. Она зябко поджимает губы, сиреневые от утреннего холода и волнения.
— Жила девушкой — как славно было! Работала в колхозе. А он приехал и начал: выходи да выходи за него. Гармонист. На меня как затмение нашло. Мать отговаривала, а я все свое: выйду да и все. И вышла. Теперь вот маюсь. Жизни не рада.
Предлагаю ей выпить валериановых капель. Она брезгливо морщится:
— Не хочу. На что мне капли? Душа изболелась — места живого нет.
Это была двадцатитрехлетняя Таня Погрызова — жена Лаврентия.
Утром одним из первых явился ко мне милиционер. На пороге он козырнул:
— Участковый, Зарубин.
От него исходил запах новых ремней и одеколона. Невысокий, лет сорока, черноволосый, с выбритым до синевы, раздвоенным подбородком, он понравился мне неторопливыми, точными жестами человека, привыкшего к дисциплине.
— К вам обращалась Татьяна Погрызова?
— Да.
— Когда?
— Сегодня в полчетвертого ночи.
Он расспросил меня обо всем подробно, что-то записал и пояснил:
— Подала мне жалобу на мужа для оформления дела в суд. Прошу вас написать медицинское заключение. Если нужно, я пришлю ее для повторного медицинского освидетельствования.
— Не потребуется. Я помню. Как она себя чувствует?
— В смысле здоровья неплохо. Я был у них.
— А Лаврентий?
— Спит. Через всю комнату растянулся. Проснется и будет божиться, что ничего не помнит.
— Заранее знаете?
— Двадцать лет работаю. Изучил таких типов. Храбры они один на один со своими женами, а как до ответственности доходит, притворяются младенцами. Не буду мешать. До свидания.
СЕВЕРНАЯ НОЧЬ
Непривычно долгие стоят здесь вечера. Люблю смотреть, как тонет солнце в черных волнах леса, как светло-розовая заря неторопливо растворяется в синем воздухе. Наступает прозрачнейшая тишина, в которой можно различить еле слышный постук моторной лодки на реке и сонный вскрик какой-то птицы в лесу. Слышно даже, как бьется собственное сердце.
Небо пронзают острые голубые звезды, но, странно, — заря не гаснет. Она горит спокойным сиянием и медленно плывет над вершинами пихт, вдоль горизонта к северу.
Торжественно в течение ночи она обходит полнеба и, приближаясь к востоку, вновь разгорается. Появляется зеленый оттенок, затем проскальзывает что-то золотисто-желтое. Тают одна за другой звезды. Все выше, сильнее вздымается сияние неба, и снова из-за облаков ослепительным всплеском показывается край солнца.
Приходят мысли о том, что жизнь человека также не угасает — после нее остается светлый след. Светлый след! Он разгорается в новую зарю. Так умер отец мой, но жизнь его не угасла, не наступила непроглядная ночь небытия. Здесь, на земле, сохранился его светлый след в делах и в памяти людей, и он не исчезнет. Я продолжу его дело. Так идет жизнь. Она сильнее смерти, сильнее сил разрушения, вопреки всяким Валетовым.
Вот и сегодня — чудесная северная ночь. В небе перламутровая луна. Белым ручьем течет в голубых сумерках посыпанная гравием дорога. Небо простирается над нами матово-бледное, полупрозрачное. Мы идем с Надей вдвоем, рука об руку.
Случилось это так: смотрели мы пьесу. Точнее — я был в зале, а Надя на сцене. Она так и не согласилась на поцелуй, и поэтому Букиной пришлось играть репортера самой. Пожалуй, Надя и не играла. Она говорила, улыбалась, хмурилась, удивлялась так, как делала это каждый день. Алла, напротив, сбивалась, путалась, завороженно ждала шепотка суфлера. В общем, в пьесе не было ничего интересного, кроме Нади.
Когда закрылся занавес и девчата стали растаскивать скамейки, освобождая место для танцев, Надя подошла ко мне в том же самом платье, в каком была на сцене. На лице ее были еще остатки грима: подчерненные брови, яркие губы. Я видел, как Андрей пробирается к ней из толпы с решительным и сердитым видом, затем остановился поодаль, ожидая ее.
Она спросила меня:
— Вы остаетесь танцевать?
— Нет, мне не хочется.
— Тогда пойдемте, — просто предложила она.
Вышли под звезды. В Наде чувствуется легкое возбуждение после спектакля. Беззвучно и легко ступая ногами, обутыми в тапочки, она произносит с восхищением:
— Не часто у нас бывают такие теплые ночи. Славно. Правда? — И смеется: — Ну, как мы играли? — Тут же спохватывается: — Нет, нет. Не отвечайте. Знаю — плохо.
— Как у тебя с Андреем? — спрашиваю я.
Наступает пауза. Девушка что-то обдумывает, вздыхает.
— Объяснять не к чему. Не интересно вам. Одно только скажу. Знаете что? Женой его я никогда не буду. Никогда!
Едва я сдержался, чтобы не вскрикнуть от радости.
— И еще, — продолжает она. — Пусть будет между нами, как будто никакого Андрея никогда не было и вы обо мне ничего, ничего не знаете.
Село далеко позади.
— Куда мы идем? — спрашиваю я.
— Не все ли равно? Разве плохо?
Мне нравится ее настроение. Впервые она держится со мною совершенно свободно, говорит не стесняясь.
— Нет, играть я не умею. Это я, чтоб Алке помочь. А то скучно в клубе. — Она вздыхает, продолжает негромко: — Когда я была маленькой, мечтала пойти вот по этой дороге. Идти, идти и так до самой Москвы. Всю страну увидеть. По правде сказать, и сейчас хочется. — Замолчала, затем прибавила задумчиво: — Только теперь хочется не одной.
— А с кем?
— Ну, этого я не скажу, — тихо, чуть кокетливо засмеялась она ласковым, журчащим смехом. — Потом когда-нибудь, может быть… Скажите, вам нравится у нас в Озерках?
— Да, здесь хорошо.
Надя с оживлением, радостно подхватывает:
— Еще бы! Вдохните — воздух какой у нас! Как вода ключевая — пила бы и пила. А лес? Летом зайдешь в бор, над головой шум стоит, ясный такой, будто сосны поют. Дятел стучит. Смолой пахнет. На душе становится так просторно! И село наше люблю. Кругом болота и озера, а оно высоко стоит, и перед ним река, острова. Гостила я в Томске у сестры сродной. Красивый город, и зелени много, и улицы поливают, а все мне тесно, будто чужое платье натянула. Деревенская я…
Сказала и, вспомнив что-то, умолкает.
— А вы городской. — Подождала не скажу ли я чего, спросила: — Трудно вам?
— Иногда.
— Хуже всего Погрызова?
— А ты откуда знаешь?
— Как же? Она ведь человек «знаменитый»! До вас больные все больше к Леночке обращались, хотя она только медсестра, а Погрызова фельдшерица. Все удивляются, как вы можете с ней работать.
— Давай не говорить о ней.
— Верно. — смеется Надя. — Кругом красота такая, а мы о ней. Ну, скажите: бывают у вас на Волге такие ночи? — И без всякой последовательности созналась: — Мне иногда приходит мысль, что я когда-нибудь буду старая, а потом умру… Вы думаете о себе так?
— О себе нечасто.
— Так и надо, чтоб нечасто. Но иногда надо.
— Зачем?
— Чтоб жизнь сильнее любить.
— А знаешь, Надя, придет время, должно быть уже при коммунизме, люди будут стариться не в пятьдесят, а в сто лет.
— Шутите? — спросила девушка.
— Нет, так будет. Обязательно!
Я рассказал ей о современных идеях советских геронтологов.
Она заметила:
— Вот это правильно — надо умирать, когда все, все в человеке устанет и ничего уже не хочется. Тогда и не обидно… Пусть другие поживут.
— Пока это редко бывает. Я только одного человека встретил, который говорит, что жить надоело.
— Кого?
— Старика Окоемова.
— Да, он устал.
Уходим от села все дальше. Спускаемся в лог. Здесь сумрачно, холодно. Высокие сосны почти закрывают светлую полосу неба. Где-то рядом журчит, переливается вода. Надя останавливается.
— Здесь убили Павла Зотова. Слышали? Мужа Ариши. Топором зарубили. Он книги из Пихтового вез. Я иногда прихожу сюда.
— Зачем?
— Чтоб подумать.
Новое, неожиданное раскрывается мне в Наде. Такой я ее не знал.
Тихо. Из села доносится лай собак. Надя рассказывает:
— Авдотьина изба крайняя. Она слышала ночью, как он кричал. Испугалась, спряталась, как крыса. — Надя берет меня под руку легко, чуть касаясь. — Пойдемте напрямик.
— Куда?
— А вот увидите.
Тропинка ведет куда-то в густую тьму леса.
— Не заблудимся?
— Я здесь часто с покоса ходила. И ночью, случалось.
— Не страшно?
— А я люблю, когда немного страшно.
Пахнет хвоей, сосновой смолой. Открылось озеро, чистое, как кусок безоблачного неба.
— Узнаете? — спросила Надя. — Это Светлое. Ехали тогда с вами. Костер горел.
Опускаемся на траву. Надя сидит, поджав под себя ноги. Смотрит в сторону озера. Голос ее звучит задумчиво.
— Вы Варю Блинову знаете?
— Знаю.
— Красивая она. Правда?
— Даже очень.
— А Андрею не нравится. Почему — не понятно. Она мне все рассказывает. Для нее он самый лучший на свете. Бывает же так: много людей разных проходит, и вдруг почему-то один… что-то есть в нем, чего нет ни в ком. Только тебе одной это видно, и тогда кажется, что жизни нет без него. Знаешь — он один на всю жизнь. Так жутко и радостно становится.
Что с девушкой? Откуда этот грудной голос, доверчивость? О ком она? Неужели обо мне? Нет, не может быть.
Внезапно Надя предлагает с озорным блеском в глазах:
— Давайте купаться! Я люблю ночью.
Стремглав вскакивает, убегает куда-то за кусты.
Я сижу к размышляю: удивительная девушка, как причудливо смешно в ней взрослое и ребячье, серьезное и наивное.
Слышится плеск. По воде скользят, разбегаются дугами гладкие, словно отполированные волны. Всколыхнулась прибрежная осока.
Надя плывет по середине озера. Смутно различаю ее белое лицо, руки, сияющие в полутьме.
— Совсем не холодно, — кричит она мне. — Зря вы не захотели…
Плывет на спине, оставляя белый вспененный след. Через несколько минут она уже рядом. Протягивает мне кувшинку.
— Это вам… Заколела я. Пойдемте быстрее.
Заря горит на небе, и не понятно, то ли догорает вчерашний день, то ли разгорается новый.
«КАК БЫТЬ С ЛАВРИКОМ?»
Лаврик избил жену. Избил жестоко, вкровь. Разве это проступок? Это — преступление. Грязный, опустившийся человек. Разве место ему в комсомоле? Он только пачкает нашу организацию.
На собрание он не явился. Долго спорили — обсуждать или не обсуждать, а пока спорили — само собой получилось обсуждение. Меня удивило, что мнения комсомольцев разделились, хотя, по-моему, все ясно.
Андрей высказал мнение, что Лаврик не безнадежный, что он раньше неплохо участвовал в самодеятельности.
— С ложками плясал! Велика заслуга, — пренебрежительно рассмеялась Букина.
— А ты ни с ложками, ни без ложек, — съязвил Андрей.
Ребята зашумели, заспорили. Председателем собрания была Варя. Олег сделал ей жест рукой: «Веди собрание». Варя сдвинула свои красивые брови, решительно ударила ладонью по столу.
— Ну, вот что! Выбрали, так слушайтесь, а то… ей богу, закрою собрание и выбирайте тогда другого председателя.
Все рассмеялись, но установилась тишина.
— Кто еще выскажется?
Никто не решался выступить.
— Не все разом, — съехидничал за моей спиной Алеша.
Букина подняла руку:
— У меня предложение. Давайте постановим: Погрызову в магазине водки не продавать. Просить правление сельпо…
Ей не дали договорить:
— Это ерунда — не продавать. Самогон будет гнать.
— Ему Андрей всегда купит.
— Он и одеколон может.
— Товарищи, важно другое — понять, почему он пьет.
— Мысль правильная, — поддержал Олег. — Понять, почему он пьет. Андрею это лучше всех известно. Пусть объяснит нам.
Надя, сидящая рядом со мной, низко опустила голову.
— Окоемов, выскажись, — с трудом проговорила Варя.
У нее жалкий, растерянный вид: лицо горит, рука с белым листочком бумаги мелко дрожит.
Окоемов поднялся, неловко одернул гимнастерку.
— Мне о чем говорить? Он на свои деньги пьет.
— Пусть расскажет, почему пьянствует вместе с Погрызовым, — послышалось из зала.
— Пусть вперед выйдет.
— Тише, товарищи.
— Он и вчера был пьяный, — крикнула Букина.
Андрей с раздражением обернулся к ней.
— А ты меня пьяным видела?
— Видела, своими глазами.
— Когда это?
— Когда ты Надю искал.
— Я не пьяный был, а выпившим.
— Пьянство так и начинается, — вмешался Олег. — Пьяницами не родятся. Ну, пусть не пьян, а только выпивши. Поверим. Но ради чего?
Андрей стоял молча.
— У меня предложение, — радостно вскрикнула Букина.
— Ну, говори, — разрешила Варя.
— Раз нет Погрызова, давайте обсудим Окоемова.
В зале засмеялись.
— Одно к-к другому не касается, — растерянно проговорил Андрей.
— Очень даже касается, — возразил строго маленький комсомолец с пестрым от веснушек лицом и ежиком рыжеватых волос.
Варя с мольбой смотрела на Олега. Так и казалось, что она сейчас не выдержит и крикнет с отчаянием: «Не надо!» Но Олег поддержал Букину:
— Конечно, не дело обсуждать Окоемова, чтобы только не пропадало время, но собрание вправе спросить Андрея, почему он часто появляется нетрезвым. Почему пьяница Погрызов — его лучший друг?
— Какой он друг? — исподлобья глянул Андрей.
— Пусть не друг, так близкий товарищ. Тебе бы повлиять на него, помочь стать на ноги, а ты сам становишься его собутыльником. К лицу ли это комсомольцу?
— Не к лицу, — выдавил из себя Андрей.
Он постоял, чего-то ожидая, но никто к нему не обратился, и он осторожно опустился на свое место. Варя сдавленным голосом, что-то преодолевая в себе, спросила:
— Кто еще хочет высказаться?
— Я хочу, — решительно поднялась Надя. — Что вы его спрашиваете: к лицу или не к лицу? Он не дошкольник. Андрей восемь классов кончил, лучшим трактористом в районе считается, в армии отслужил. Он других может поучить правильной жизни. Надо прямо сказать: распустился он, зазнался, и наше депо его серьезно предупредить.
Не ожидал я от нее такого резкого выступления.
— Как же быть нам? — спросила Варя.
— Относительно Погрызова мы не можем выносить решения, — напомнил Олег. — Надо его выслушать.
— Обсудим на следующем собрании.
— А если он и тогда не явится?
Сомнения все разрешились совершенно неожиданно. Варя Блинова заговорила о том, что Погрызов давно отделился от комсомольского коллектива, но что она его не считает безнадежным. Ведь нельзя думать, что он уже нисколько не считается с мнением своих товарищей. Надо послушать, что он скажет сам. Ведь у него есть уже строгий выговор…
И тут случилось нечто совсем несообразное: из открытого окна вдруг послышалось:
— Ты ври да не завирайся!
Все обернулись, некоторые повскакивали с мест. Опираясь грудью о подоконник, с улицы просунулся Погрызов. Он ухмылялся пьяной улыбкой, на лоб свисали слипшиеся волосы.
Это продолжалось одно мгновение. Затем он спрыгнул вниз, пронзительно свистнул и пошел прочь, горланя сорванным голосом:
— Калинка, малинка…
Слышно было, как на дороге гремят о гальку подкованные каблуки сапог.
— Вот и самого выслушали, — вздохнул Блинов.
Варя виновато проговорила:
— Как видно, я ошиблась.
Погрызова исключили единогласно. Андрею объявили строгий выговор.
Когда расходились, Андрей обратился к Наде с издевочкой:
— Спасибо вам, Надежда Семеновна, не обошли вниманием.
Надя ничего не ответила.
На другой день я написал медицинское заключение и послал его Зарубину. Через некоторое время, встретив его на улице, поинтересовался:
— Вы получили мое заключение?
Зарубин с досадой отвернулся:
— Не нужно теперь.
— Почему?
— Простила она его. Я стал допрашивать, а она рассказывает, что в погреб спросонок свалилась. За квасом полезла и оступилась. Вот как бывает. А в глаза не смотрит.
— А он как держится?
— Смеется, наглец… Я, говорит, ее пальцем не трогал. С чего это вы взяли?
— А окно разбито?
— Рассказывает, коза соседская за цветком потянулась да копытом и выдавила.
Зарубин вздохнул:
— Жалко девчушку. Глупенькая она еще. Приласкал ее Лаврик, она и растаяла. А зря, надо бы его проучить, хоть условно дать срок, чтоб знал, что нельзя безнаказанно над женой издеваться.
ВЕРА УЧИТ МЕНЯ ЖИТЬ
Предо мной ее письмо. Опять строки похожи на растянутые пружинки, опять бумага пахнет ее духами. Но на этот раз письмо не сумбурное, не о себе. В нем все продумано, каждое слово.
Вера учит меня жить. Она пишет: «Когда-нибудь ты осознаешь, что сам испортил себе жизнь. Это случится неминуемо, и тогда ты поймешь, что я была права. Не вечно же свежий деревенский воздух и благодарные улыбки твоих пациентов смогут заменить тебе все радости жизни.
Юный порыв пройдет, и ты почувствуешь неодолимую потребность в городских условиях жизни. Тебя потянет в общество культурных людей, а главное, тебе самому захочется занять в нем определенное место — именно то, которое соответствует твоему уму и способностям. Захочется! Но будет поздно. В борьбе за жизнь сворачивать с дороги нельзя. Через несколько лет ты будешь в институте никому не нужен, поднимется новая поросль, твое имя забудется. Если ты явишься, тебя встретят с недоумением. На всю жизнь у тебя останется в душе горечь неосуществленных возможностей.
Пойми, мне больно за тебя. Мне хочется, чтобы ты в жизни нашел свое счастье, а счастье твое в науке. Только в ней.
О, если бы ты знал, как мне не хватает тебя! По-прежнему ты мой единственный. Если бы ты знал, как я несчастна! Я, кажется, отдала бы полжизни, чтобы снова увидеть тебя, но… Ты знаешь это ужасное „но“ — оно сильнее нас. Прошу об одном — будь со мной откровенен, как с самим собой, и ответь: неужели нет никакой надежды, что ты вернешься?
По-прежнему твоя Вера. Пиши мне до востребования».
Конец письма особенно поразил меня. Зовет вернуться, подписывается «Твоя Вера» и рядом «до востребования». Значит, с мужем у нее все по-прежнему. Зачем же писать «твоя»? Какая ложь! Никогда она не была моей. Никогда!
Помню, в начале апреля я сидел в читальном зале. Вера села рядом со мной. Никогда прежде она не бывала со мною вместе на людях.
Она оторвала от тетради уголок бумаги, написала что-то и протянула мне. В записке очень мелко, но разборчиво было написано: «Я беременна». Как только я прочел, она выхватила у меня записочку и порвала.
В этот вечер я уже не мог заниматься. Мне думалось, что теперь у Веры исчезнут все сомнения, что она уйдет от мужа. Как хорошо, как свободно будет дышаться, не будет между нами постыдного страха разоблачения, унижений ворованной любви.
Вечером она ждала меня на берегу Волги, на том месте, где мы обычно встречались. Первые мгновения я не мог говорить, взволнованный той чудесной человеческой близостью, которая возникла между нами. Я смотрел на Веру, и она представлялась мне обновленной, приобщенной к чему-то загадочному и прекрасному, о чем и говорить надо было совсем особыми, прекрасными словами. Слов таких я не умел найти, а потому спросил только:
— Давно?
Я держал ее маленькую руку в своей и нежно ласкал, чтобы хоть этим дать понять ей то, чего не умел сказать словами.
— Месяца три.
— Почему же ты печалишься? Я все расскажу маме, ты переберешься к нам.
Внезапно я заметил, что ее внимание поглощено какой-то другой мыслью — она не слушала меня.
— Неужели ты и теперь сомневаешься?
Она сидела с закрытыми глазами.
— Это хорошо, что так случилось, — продолжал я.
Вера сделала непроизвольное движение остановить меня. Почему? Я взял ее за плечи, повернул к себе лицом. Вера оттолкнула меня и с ненавистью проговорила сквозь зубы:
— Оставь меня! Ребенка у нас не будет.
— Подумай, что ты говоришь!
— Тише ты!
Послышались голоса. Мимо прошли двое. Парень читал девушке стихи:
Своей любви перебирая даты, Я не могу представить одного, Что ты чужою мне была когда-то…Вера, не прощаясь со мною, пошла. Долго я сидел на скамье, не в силах подняться.
Несколько дней я не видел Веру. Затем она появилась снова. Я не подходил к ней, но она нашла случай увидеть меня наедине. Спросила:
— Теперь я противна тебе?
— Нет, Вера. Просто очень больно.
— Поверь, мне больней, но я сделала то, что нужно: его не будет…
После этого что-то как будто оборвалось между нами.
Зачем же она пишет в Озерки? Не нужно мне ее писем — они как грязные старые бинты на зажившей ране. Пора сорвать их, чтоб быть совсем здоровым.
Я сел и написал ей, что все, что было между нами, кончилось и не надо обманывать себя.
Давно это нужно было сделать.
ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ
C Егоровым у меня так и не установилось простых, товарищеских отношений. Воспоминание о моей ошибке и о том разгоне, который он мне дал, невольно заставляло меня быть с ним сдержанным.
Вскоре отношения наши стали еще хуже. Много думал я о нашей больнице. Открывал скрипучую дверь, ходил по шатким половицам, слушал протяжный звон заблудившегося комара под растрескавшимся потолком. Не годилась эта больница для нас. Мысленно я размещал по комнатам койки, переставлял их и так и этак. Тесно. Негде разместить дежурку, ванную, перевязочную, изолятор.
Однажды, когда я стоял так в невеселом раздумье, позади меня прозвучал голос Ариши:
— О чем задумался?
— О ремонте. Отремонтируем, а ведь все равно тесно.
— На ремонт согласия не давай. Пусть новую строят, — посоветовала Ариша.
— Егоров настаивает.
— А ты на своем стой: строить новую больницу. Если согласишься на ремонт, у нас еще десять лет настоящей больницы не будет.
Я знаю, Ариша права.
В тот же день пришли двое плотников с ломами, топором и лопатой. Один из них молодой, в поношенной фетровой шляпе, улыбчивый, другой — одноглазый, с потухшей трубкой в зубах.
Они сели во дворе на бревна, закурили. Я подошел к ним.
— Что, начинать будете?
— Стало быть — начинать, — ответил молодой.
— Оно бы, по-доброму, так и трогать ее не надо. Тут только тронь — все посыпется, — заговорил другой.
— На дрова, — и то не годится. Сопрело все.
— А во сколько обошлось бы построить новую больницу? — поинтересовался я.
— Такую же?
— Нет, раза в три больше.
Плотник подумал, посопел трубкой.
— Да в тысяч восемьдесят встала бы…
Молодой докурил, затоптал окурок, приставил лестницу к стене и полез разбирать крышу.
— Обожди, — окликнул я его. — Вы извините, товарищи, я на минутку к Егорову схожу.
— Слазь, Санька, обождем.
Санька полез вниз.
— Нам что? Наше дело такое: скажут разбирай, разберем. Нет — и то ладно.
— Потому — дурак, — сделал заключение старший. — Завтра, к примеру, ногу порубишь, так в нашей же больнице лежать будешь. А ты «и то ладно». Думать надо!
— А мне зачем ногу рубить? — ухмыльнулся Санька.
— Долго ли до греха?
— Оно так, — бездумно согласился парень.
К Егорову я почти бежал. Он впустил меня в свой кабинет, плотно прикрыл за мной дверь.
— Что опять натворили?
— Почему обязательно творить? — заговорил я, переводя дыхание. — Но дело не в этом. Дело вот в чем. Поймите, какой смысл тратить деньги на эту гнилушку? Я о больнице. Нам надо новую больницу. Новую. Понимаете?
Егоров снисходительно улыбнулся.
— Оттого, что вы два раза произнесли слово «новую», новая больница не появится.
— Я сказал плотникам, чтобы они не начинали разбирать.
Он посмотрел на меня со льдинкой во взгляде.
— А говорите, не натворили? Идите немедленно и скажите, чтобы продолжали работу.
— Но давайте обсудим…
— Нечего переливать из пустого в порожнее. И когда вы научитесь сперва думать, а потом делать? Представления не имеете, что значит — заниматься строительством, а вклиниваетесь не в свое дело. Ну, как вы считаете, во что обойдется новая больница?
— Тысяч в восемьдесят.
— Примерно так. Да и то трудно уложиться. И где вы их думаете взять?
— Ставить вопрос перед райисполкомом.
— Ставили — отказано. В районе строятся две больницы, несколько клубов. Мы не одни. Дальше что?
— Нам нужна не такая больница.
— Вы не сделали никакого открытия. Короче говоря, идите и скажите плотникам…
— Не пойду, — вырвалось у меня.
Егоров оскорбленно вскинул брови.
— Вы слишком много себе позволяете. Какое право вы имеете отменять мои распоряжения? Я сам сейчас…
— Я хочу сперва посоветоваться с Новиковым.
Он зарумянился от возмущения.
— Ваше право, но не думайте, что он так и выложит вам восемьдесят тысяч.
Новикова я застал в гараже. Он внимательно выслушал меня.
— Сегодня, говорите? Да, он не любит, когда вмешиваются. Есть такое решение о ремонте. Да, утверждено. Но решение решением, а жизнь, действительно, подсказывает другое. Что ж, пойдемте, потолкуем.
Когда мы появились у Егорова, он намеренно спокойно предложил нам подождать. Закончил что-то писать, сложил бумагу, сунул ее в конверт, заклеил.
— Итак, я к вашим услугам, — проговорил он полушутливо, принимая позу, показавшую, что он набрался терпения и выслушает нас внимательно, какую бы чепуху мы ни говорили.
Новиков сделал вид, что не замечает этой манерности, заговорил просто, по-дружески:
— Слушай, Максимыч, тут Виктор Петрович предлагает подумать, стоит ли начинать ремонт.
— Мы уже думали, и ты думал.
— Как говорится, семь раз отмерь…
— Денег нет.
— Давай не торопиться. День-два погоды не делают. Может быть, можно так: отпущенные деньги — эти двенадцать тысяч — пустить на строительство новой больницы?
Егоров засмеялся, покачал головой: «Что за наивность».
— Обожди. А остальные расходы возьмет на себя колхоз. На днях я читал в «Правде», один из украинских колхозов, кажется, Полтавской области…
— И я читал. Так то колхоз-миллионер.
— Они построили дворец культуры стоимостью в пятьсот тысяч. Мы замахнемся скромнее — больницу. Для нашего колхоза это вполне посильно. Учти: лес свой, плотники есть, урожай ожидается исключительный.
— А я считаю, лучше синица в руках, чем сокол в небе. Когда-то еще вы раскачаетесь строить? Растянете лет на пять. И останемся мы у разбитого корыта. Новую больницу не построим, и старая окончательно развалится. Посмотрят-посмотрят на нас, мудрецов, да и ликвидируют врачебный участок. Останемся мы с нашей милой Погрызовой. Да и нас, руководителей, за это по головке не погладят. Спросят: «Деньги вам давали, так что же вы, шляпы, их из рук упустили. Горе вы хозяева».
— Почему же ты думаешь, что мы растянем строительство?
— У вас своих забот по горло.
— Вот тут ты не прав, — изменил тон Новиков и заговорил строго и твердо. — Что значит «своих»? Ты что же, считаешь, что строительство больницы колхоза не касается?
— Я-то правильно считаю, — смягчился Егоров. — Как вот Климов считать будет?
— Климов — коммунист. И с ним поговорим, и с членами правления, и с колхозниками. Не думаю, чтобы они стали серьезно возражать.
Егоров нервно мял руки.
— Поговори, желаю удачи.
— Пойми, Максимыч, времена меняются, — продолжал Новиков. — То, что было невозможным года два назад, сегодня уже реальность. Люди иначе смотрят на вещи. А тем, которые смотрят не вперед, а назад, надо будет повернуть голову в нужную сторону.
— Легко говорить.
— Пусть пока плотники идут домой.
— Но с ними договор.
— Я потолкую с ними. В общем, прошу — к ремонту пока не приступай. Остальное беру на себя.
— И ответственность?
Егоров испытующе посмотрел на Новикова. Тот ответил без запальчивости:
— Пусть и ответственность.
На улице Новиков кивнул мне.
— Пойдемте в правление.
Климов выслушал нас со свойственным ему спокойствием. Посидел, разглядывая свои серые, крупные ногти. Чмокнул губами.
— Что ж, дело разумное. Только, не знаю, вытянем ли.
Стал ссылаться на недостаток средств, на загруженность работой плотничьей бригады, на то, что не заготовлен еще лес.
— А лес мы с молодежью заготовим и вывезем, — предложил Новиков.
— Как бы не завязнуть с этим делом, — опять засомневался Климов. — Лес готовить сейчас нельзя. Через болото на колхозную деляну не проедешь, а на госдаче покупать билет — дорого.
— В ноябре-декабре заготовим. Подумай пока, а я как депутат поставлю этот вопрос на сессии сельского Совета.
После этого, в течение нескольких дней, мы беседовали о нашей идее с депутатами, с колхозниками, с комсомольским активом. Олег твердо обнадежил нас:
— Молодежь это дело поддержит.
ОНА УЕХАЛА
Наступил день Надиного отъезда в институт. Мы выходим из села в полдень, чтобы пораньше попасть в Лопатино. Около магазина встречается нам Валетов. Он радостно снимает шляпу.
— Молодому специалисту привет!
— Здравствуйте, — отвечаю я.
— Итак, значит, как говорится, «того»?
— Не понимаю.
— Опять на прямую дорожку? Потянуло к дыханию родного города?
Тут только догадываюсь я, чему он радуется, — в руке у меня Надин чемодан. Валетов решил, что я уезжаю.
— Нет, — смеюсь я. — Вы трагически ошиблись. Я только провожаю.
Он жует губами.
— Тем лучше, я ведь не в обиду. Слегка полюбопытствовал.
Значит, не забыл он нашего разговора в поезде, и сейчас этот разговор продолжается. Он убежден, что останется победителем. Ну, что ж, посмотрим…
С высокого берега реки открываются ровные выкошенные луга, покрытые зеленеющей отавой. С юга угрожающе подымается низкая серая туча. Сырая, твердо утоптанная тропинка извивается между осиновых колков, где в зелени трепещут и горят первые красно-малиновые листья.
Иду рядом с Надей, знаю, что она уедет, и не хочу верить, что это случится. Почему она мне кажется такой близкой, почти родной? Неужели это любовь?
Серая туча, которую мы видели еще из села, вырастает, надвигается на солнце, заслоняет его и глухо грохочет.
— Пойдемте быстрее, — торопит Надя. — Здесь стан недалеко.
Ветер зашумел листьями кустарников, наклоняет их. Остро сверкнула молния, и тотчас же оглушающе затрещал гром.
Мы бежим по лугу, а вокруг уже стучат тяжелые капли дождя. Ветер обжимает спереди тонкое платье девушки, мелькают ее обнаженные колени. Она приостанавливается, одергивает подол и кричит мне сквозь шум ветра и плеск надвигающегося дождя:
— Бегите, бегите!
Едва успеваем укрыться в полевой избушке, как хлынул ливень, закрыл от нас весь мир плотной мутной стеной.
В маленькое оконце ветер швыряет крупные капли дождя. На сыром земляном полу ползает мокрая пчела. Мы сидим на низких нарах, покрытых толстым слоем душистого, свежего сена.
Надя еще улыбается, возбужденная быстрым движением, глубоко дышит. На лбу ее прилипшая прядь волос. На розовой мочке уха темнеет маленькая вмятина от серьги, шею охватило дешевое ожерелье — оно красное, как спелый боярышник. Ясно и близко ощущаю я парной запах чистого девичьего тела, влажного платья, согретого ее теплом. Неодолимо хочется обнять девушку, прильнуть лицом к ее смуглой шее, почувствовать губами ее губы.
— Надя, — окликаю я срывающимся голосом.
Она оборачивается. На лице ее уже нет улыбки.
— А сено у нас еще в рядах, — говорит она встревоженно.
— Что? — силюсь я понять, о чем она.
— Метать сено мы сегодня собирались.
«Она не чувствует того, что чувствую я», — пронзает меня холодная, трезвая мысль.
Мы сидим, слушаем дождь, и, может быть, она думает о том же, о чем и я: «Что нам принесет разлука?»
Затихает гроза. Падают одиночные капли дождя. Мы выходим из избушки. Солнце освободилось из туч и освещает вымытую траву, деревья, блестящую тропинку и смоченные дождем, потемневшие стога сена. Ветер осыпает с кустарников холодные брызги.
Надя сняла белые тапочки, ступает розовыми босыми ногами по мокрой траве и говорит:
— Окончу институт, приеду работать вместе с вами. Возьмете?
— Конечно, — обещаю я. — К тому времени у нас будет новая, хорошо оборудованная больница. Я приеду за тобой на станцию на больничной легковой машине. Приеду с цветами. С огромным букетом. Ты выйдешь из вагона в изящном плаще, вслед за тобою появится молодой человек с красивыми усиками, и ты скажешь: «Виктор Петрович, это мой муж. Познакомьтесь».
— Этого не будет, — возражает Надя без улыбки.
— Как знать!
— Твердо уверена.
— Я буду вести автомобиль, а ты скажешь мужу: «Представь себе, в этой глуши начиналась моя жизнь».
Надя останавливается, смотрит на меня с упреком.
— Зачем вы так?
Сам не знаю почему, но мне ужасно хочется подразнить ее. А может быть, я дразню самого себя? Продолжаю фантазировать:
— Он спросит тебя обо мне: «А это что за туземец?» Ты ответишь: «Здешний эскулап». Он печально покачает головой: «Пиджачок на нем сшит еще по моде пятидесятых годов». Ты заступишься за меня: «Ну что он видел? Ему кажется, что он одет прилично».
— Даже не смешно, — обидчиво произносит Надя.
Подходим к Светлому. Надя приостанавливается.
— Помните?
— Как же!
— Какая я в ту ночь была глупая! А может быть, и не глупая. Сама не знаю. Мне представлялось, что должно случиться что-то очень-очень хорошее, совсем небывалое, но ничего не случилось.
«Милая, любимая», — думаю я и чувствую, как сердце тяжело стучит от волнения.
— Надя, — говорю я. — Я … привык к тебе. Мне будет не хватать тебя.
— Привыкли?
Наклоняется, срывает цветок дикой гвоздики, обдергивает его лепестки, один за другим, бросает под ноги.
«ЧТО ЖЕ ВЫ?..»
Только что вернулся из Лопатино. Не успеваю снять сырой от дождя пиджак, как за мной приходят.
— Виктор Петрович, скорее! У Вани ручки отнялись, — торопит меня маленькая, похожая на школьницу женщина, тоненькая и чистая, как птичка. В карих глазах ее бьется испуг, тонкие губы подергивает судорога подступающих рыданий.
Выходим на улицу. Я спешу, она, не поспевая за мной, задыхаясь, говорит:
— Мы уж не останемся перед вами в долгу. Муж в сельпо работает.
— Постыдитесь! — обрываю я ее.
У ворот нас встречает мужчина в коричневом выцветшем пиджаке.
— Думал, уж не придете, — облегченно вздыхает он.
Это Елагин. Рядом с женой он выглядит совсем старым. Кожа на лице его загрубевшая, морщинистая, вся в крупных угрях.
В тесной комнате окна завешены одеялами. В желтых сумерках белеет тюлевый полог детской кроватки.
— Снимите одеяла, — прошу я.
Полузакрыв глаза и раскинувшись на перинке, лежит мальчик лет двух. Лицо его горит, головка закинута назад.
— До меня лекарства давали?
— Нет, — отвечает Елагин глухо и кашляет. — На прошлой неделе Ольга Никандровна заходила, признала грипп. А больше не была.
Беру руку мальчика. Она безжизненно виснет. «Похоже на менингит, — думаю я, — но какой? Елагин болен — значит, возможно, туберкулезный». А Погрызова решила, что грипп. «Вот, — размышляю я, неприязненно глядя на запавшие щеки Елагина, — стареющий, больной мужчина женился на этой тоненькой девочке, а расплачиваться приходится Ване».
Посылаю Елагина с запиской к Погрызовой.
— Идите сейчас. Пусть принесет все, что нужно для инъекции стрептомицина.
— Как звать вас? — спрашиваю женщину.
— Светланой. Что с ним? Скажите.
— Не знаю пока.
Приходит Ольга Никандровна. Приносит флакончики стрептомицина. Сделал пункцию спинномозговой жидкости. Жидкость прозрачна. Значит, менингит туберкулезный. Ввожу стрептомицин. Улучшения нет. Всю ночь не отхожу от Вани. Мальчик прерывисто дышит. Изредка ноги его сводит судорога. Тогда он протяжно стонет и скрипит зубами. Светлана подает мне мокрые полотенца. Я прикладываю их к пылающему лбу мальчика. Потом посылаю на молочный завод за льдом.
Елагин уехал в Пихтовое за стрептомицином.
Проходит еще один страшный день. Ваня — без сознания. Значит, стрептомицин уже не поможет. Время течет. Елагин не возвращается. На улице становится прохладно, мы открываем окно. В восьмом часу прогоняют стадо.
Темнеет. Светлана мечется по комнате, будто боясь хоть на минутку присесть.
— Что могло случиться? Почему их нет?
Она думает, если вернется муж, значит, все будет хорошо — был бы стрептомицин. Я не разуверяю ее. Иногда она подходит к кроватке, склоняется к ребенку.
— Ванечка, что с тобой? — Мы пытаемся напоить мальчика, насильно разжимая зубы, вливаем в рот воду, но она вытекает на подушку.
— Ванечка, что с тобой?
В окно смотрят звезды. «Жизнь идет, словно ничего не случилось, а в кроватке умирает мальчик. Никогда больше он не увидит звезды, не станет взрослым», — думаю я. Где-то поют девичьи голоса.
В половине первого Светлана выходит посмотреть, не едет ли муж. В это время умер Ваня. Я выхожу позвать ее.
Светлана стоит на крыльце, подняв лицо к небу, крестится и шепчет:
— Оставь, сохрани последнее счастье мое.
Мне хочется закричать: «Не надо, Светлана! Не надо!» Меня пугают ее молитвы, как приступ безумия.
— Света, — зову я тихо. — Идите в дом.
Услышав мой голос, она в ужасе вскрикивает, кусает пальцы.
Ваня лежит на подушках. Веки его полуприкрыты, лоб обнимает ненужная уже влажная тряпочка, ворот белой рубашечки расстегнут, бледные руки спокойно лежат поверх легкого светло-зеленого одеяла.
Все не нужно теперь: и шприц, который лежит на столе в блестящем никелированном футляре, и серые куски льда, медленно тающие в глубокой тарелке. И я не нужен. Я разбит. Страшная усталость сковывает меня.
Светлана не плачет.
— Как же это? — тупо спрашивает она и широко раскрытыми глазами смотрит на сына.
Подхожу к ней. На полу хрустят осколки разбитого термометра. Кладу руку на ее плечо, выговариваю через силу:
— Надо пережить. Вы молоды. У вас еще будут дети.
Она, как обожженная, отшатывается от меня.
— Дети? Не хочу. Никого мне не нужно.
Сухие глаза ее смотрят на меня с ненавистью.
— Что же вы, врачи… ничего не умеете?
Потом в комнате появляются всхлипывающие шепчущие старухи, они крестятся, причитают певучими деревенскими голосами. Светлана тоже плачет вместе с ними. Теперь ужас и несправедливость смерти отступили куда-то. Мелкими хлопотами люди стараются заслонить большое непоправимое горе: кто-то тянет от головы к ногам ребенка клеенчатую сантиметровую ленту, кто-то завесил зеркало и положил на веки мальчика черные медные монеты.
В комнате становится тесно и жарко. Никто не оборачивается, когда я направляюсь к двери. На крыльце неожиданно наталкиваюсь на Валетова. Он без сюртука, без шляпы. Настороженно смотрит через открытую дверь в комнату. Увидев меня, поспешно отстраняется. Как в тумане скользит мимоходом мысль: «Зачем он здесь? Что ему до Светланы? И почему не идет в дом?»
На улице ударяют мне в лицо сверкающие лучи света. Рядом со мной резко тормозит автомашина. Скрипнула дверца. На землю соскакивает Елагин.
— Мотор забарахлил, — начинает он бойко. — Около моста сидели часа два.
Протягивает мне аптечную коробку. Я отстраняю его руку.
— Теперь не надо.
— Как?
— Вани нет уже.
Мотор машины заглох. На улице ни звука. Слышится только дыхание Елагина — тяжелое, с присвистом.
Он уходит. Я стою один в темноте и плачу.
На следующий день Елагин, пошатываясь, входит ко мне в кабинет. За эту ночь он постарел, осунулся. Выкладывает мне на стол пузырьки со стрептомицином.
— Возьмите, может пригодится кому-нибудь.
Я благодарю, напоминаю ему:
— Вы заходите.
— Зачем?
— Время от времени вам надо проверяться.
— Э, проверяться, — кривит он губы. — Я знаю, моя песенка спета. Год-два — и крышка.
Сутулясь, нетвердо направляется прочь. У самой двери останавливается.
— А вы как думаете?
— Если вести правильный образ жизни, не простужаться…
— Знаю, что скажете, — не хочет он слушать меня. — Все для успокоения.
Когда он уходит, говорю Погрызовой:
— Ольга Никандровна! Как же так получилось? Поставили диагноз — грипп и ни разу потом не зашли, не посмотрели ребенка. Ведь если бы мы захватили болезнь вовремя…
Она взвизгивает внезапно, пронзительно, как будто у нее внутри разбилось что-то стеклянное и посыпалось звенящими осколками.
— Не имеете права! Ребенок и без того был безнадежный. Я ошиблась! А вы что, не ошибались никогда? Все ошибаются. — И все более разгораясь: — А вы сами-то как работаете? Больше милуетесь со своею кралечкой, чем делом занимаетесь. Жену где-то бросили. Закрутили голову девчонке. Я еще буду писать в райком комсомола. Пусть и там узнают, что вы за штучка.
— Жену? Какую жену? — изумляюсь я.
— Не считайте меня грудным младенцем, — кричит она. — Все знаю, все. Все вы распутники. Чуть юбку увидели, так хвост трубой…
Швырнув халат на стул, она убегает из комнаты.
— О, боже мой, — вздыхает Леночка.
Леночка тихая. Она боится неприятностей, готова покориться, приспособиться. А что делать? Тяжело и отвратительно работать с Погрызовой — человеком равнодушным к своему делу. Для нее ничего не стоит лгать, клеветать. Изо дня в день она отравляет жизнь мне и Леночке. В маленьком ее мирке — корова, куры, муж-заготовитель. Она, как хорек, готова кусаться, царапаться, тявкать, обороняя свою нору. Никогда она не думала, чем живут другие люди. Она думает лишь о себе. Только о себе, и, может быть, поэтому погиб Ваня. Ошиблась! Все ошибаются! Но почему она не зашла к ребенку второй раз?
Даю себе слово: по вызовам на дом буду ходить сам. Пусть будет трудно, но так надо. Разве забыть мне когда-нибудь полный тоски голос Светланы: «Что же вы, врачи?».
Что ответить на этот горестный, полный отчаяния упрек? Да, во многом медицина еще бессильна. Ведь ее детство растянулось на тысячелетия, и только теперь она переживает свою молодость. Долгие века она шла наощупь, наугад, с интуицией слепого, ничего не зная ни о микробах, ни о нервах, ни о кровообращении, не имея представления о строении клетки, железах внутренней секреции, ферментах, витаминах. Ведь только теперь медицина научилась экспериментировать не вслепую, прочно сомкнулась с техникой, физикой, химией, микробиологией. Совсем недавно пришли на помощь ей вакцины, рентген, электронный микроскоп, лучевая терапия, меченые атомы, антибиотики, полимеры, обладающие биологическими свойствами. За каких-то сто последних лет сделано столько, сколько не могла она осилить за тысячелетия. Побеждены оспа, холера, малярия, чума, которые наводили ужас на человечество. Хирурги уже научились делать операции на сердце, пересадку тканей и целых органов, уже поставлена великая задача совсем покончить с инфекционными заболеваниями и это не мечта — это реальность.
Перед медициной открываются новые дали: начаты решительные наступательные действия против туберкулеза, и нет сомнения, что через десять-пятнадцать лет он будет побежден. Целая армия ученых пытается разобраться в микромире вирусов, разгадать тайны структуры нуклеиновых кислот белка, чтобы победить рак. Ученые уже проникли в святая святых органической природы — человеческий мозг и вычерчивают его электрическую схему, предчувствуется возможность применения математических методов исследования, счетных машин… И все-таки еще звучит этот голос, надрывающий сердце: «Что же вы, врачи?» Разве успокоится сердце матери, если сказать ей, что через пятнадцать лет туберкулеза не будет? Ведь никто не вернет ей ее сына лучшего, единственного, неповторимого…
ЯСНОГЛАЗАЯ
Нестерпимо медленно тянутся дни. Жду вестей от Нади. Прошла уже неделя. Ни одного письма.
Ужинаю у Ариши в ее маленькой избушке. У ног моих примостился Трезор. Думаю о Наде, о том, что без нее холодно и неуютно жить и что я сам виноват в том, что не посмел признаться ей в своем чувстве, и потому теперь все так неопределенно и мутно.
— Трезор, — спрашиваю я пса, забыв, что мы с ним в комнате не одни. — Почему у меня в жизни все так не ладится?
Он смотрит на меня блестящими преданными глазами, не понимает, чего я от него хочу, стыдливо опускает морду.
Ариша сидит на сундучке поодаль. Говорит неожиданно:
— Напрасно тоскуешь, Виктор Петрович.
— С чего вы взяли? О ком мне тосковать?
— Ясно о ком. Только посмотрю я на вас — разные вы люди.
— Тетя Ариша, к чему вы…
— Зачем тебе Надя? — продолжает Ариша. — Девчонка, как девчонка. На личико, правда, пригоженькая, а в остальном ничего особого. Влюбился ты — вот в чем дело. Потому и кажется она тебе лучше всех на свете. Не зря говорят: «Не по хорошу мил, а по милу хорош».
Может быть, Ариша и права, но от этого не легче. Я молчу, а она ворчит укоризненно:
— Ей бы Андрей, тракторист, самая пара. Так нет — ей доктор нужен.
— А вы думаете, я ей нужен?
— Она в тебе души не чает.
— Откуда вы знаете?
— Будто сам не замечал? Когда смотрит на тебя, вся аж светится… Чудные нынче парни, как слепые.
«Неужели это правда? Значит, не обманывался я».
Вечерняя заря уже догорела, и только бледно-зеленая полоса света указывает на западе то место, где зашло солнце. Вечер выдался прозрачный, чистый, пахнущий травой и хвоей, и оттого, что вечер этот так хорош, особенно остро чувствую я свое одиночество.
В полутьме возвращаюсь к себе. Слабый свет из окон едва освещает предметы. На диване кто-то сидит. Зажигаю настольную лампу и оглядываюсь. Надя!
— Я вас дожидала, — улыбается она своей удивительной, сияющей улыбкой.
Я теряюсь от нахлынувшего счастья. Все прекрасно в ней: и платье, синее в белую горошинку с рукавами-фонариками, и юные загорелые руки, и все те же вмятинки на мочках от сережек, которые она носила в детстве, и слово «дожидала», неправильное, но в ее устах милое.
В порыве радости беру ее за плечи.
— Ну, рассказывай, рассказывай.
Неожиданная радость кружит мне голову. Слишком поздно замечаю, что губы ее улыбаются невесело, со скрытой болью, а глаза блестят оттого, что наполняются слезами.
— Что рассказывать? Сочинение на тройку написала. По конкурсу не прошла.
Она силится объяснить что-то и не может. Большие детские слезы сбегают с ресниц, ползут вниз по щекам.
— Надя, Надюша. Зачем ты?
Она сидит, бессильно бросив руки на колени. В ее позе, в косах, скрепленных сзади полумесяцем, в легком золотистом пушке на шее столько детского, беспомощного, что сердце щемит от боли за нее.
— Надя, милая, может быть, можно пересдать?
— Нет, нет, — отвечает она сквозь всхлипывания.
Глажу ее пушистые волосы, целую руки. Она прячет лицо у меня на плече и затихает. Я говорю о том, что она обязательно подготовится и пересдаст, говорю еще что-то…
Надя поднимает лицо. Вижу ее серые глаза, в них смущение, счастье.
— Надя!
Выдергиваю из-под резинки ее рукава маленький, обшитый зеленым шелком платочек, вытираю ей глаза. Девушка удивленно пожимает плечами:
— Вот глупо. Не думала, что разревусь, как девчонка. У вас есть расческа? Раскосматилась я.
Надя уходит к зеркалу, прибирает волосы.
— Не смотрите на меня.
В эту минуту заскрипела дверь, в комнату просовывается желтоватое лицо Погрызовой.
— Можно к вам?
Прежде чем я успеваю ответить, взгляд ее жадно шмыгает по комнате, останавливается на Наде, перебегает к смятому, влажному платочку на диване.
— Войдите.
Погрызова проскальзывает в дверь.
— Извините, пожалуйста. Я помешала?
Она старается казаться смущенной.
— Я на одну минуточку. Виктор Петрович, не откажите. — Надя отходит от зеркала, становится перед окном, спиной к Погрызовой. — Не откажитесь поприсутствовать. Ко мне сестра приехала. Так вот, собираемся своей компанией.
«Помириться хочет», — заключаю я и говорю:
— Я занят.
Она уговаривает:
— Ну, хоть на полчасика. Отдохнете…
— Извините, я не устал.
— Не мешает развлечься, изредка, конечно. Все — свои люди: начальник почты, директор молзавода, — не отстает она.
— Нет. Нет.
— Я понимаю, — Погрызова бросает выразительный взгляд в сторону Нади. — Надеюсь, и Надежда… Семеновна не откажется. Мы люди простые.
Она все стоит в дверях, а я не предлагаю ей сесть. Мне хочется только, чтобы она скорее ушла.
— Нет, не просите, — отказываюсь я твердо.
— Тогда извините, — оскорбленно выговаривает Погрызова. Она исчезает. Надя встревожена:
— Пойдут теперь сплетни.
* * *
Ясноглазая, неповторимая, нежная. Каждая минута наполнена ожиданием ее. Она приходит всегда чем-то непонятным, неуловимым новая. Прячет от Ариши сияющие глаза, еще стесняется, робеет, старается проскользнуть ко мне незамеченной. Все еще избегает называть меня по имени…
— Надя, — говорю я укоризненно. — Надюша, ты мне самая близкая, самая родная. Теперь я твой навсегда, понимаешь? А ты чего-то боишься, зачем-то торопишься, не хочешь назвать меня по имени, как будто я учитель, а ты ученица. Зови меня просто — Витя.
Она шевелит губами, произнося мое имя про себя.
— Не могу.
— Почему?
— Не получается. Но я научусь. Обязательно.
Мы уходим в лес. Горит красная листва осин, трепещет под прохладным ветром. Сквозь зелень берез пробиваются желтые длинные пряди. Во всем чувствуется приближение осени.
Здесь, в лесу, Надя совсем иная — свободная, любящая. Нетерпеливо перебивая друг друга, мы вспоминаем.
— А помнишь грозу? — спрашивает Надя, как будто это было лет двадцать назад. — Я тогда боялась, что уеду, а ты полюбишь другую.
— А разве ты знала, что я люблю тебя?
— Конечно, знала.
— А ты? Когда ты полюбила?
— Когда с Андреем дружила, то думала, что люблю, а сама даже не знала, как это бывает. Просто нравился он мне. Замуж предлагал, а я не решалась. А вы приехали…
— Опять «вы»?
— А ты приехал, и вдруг поняла: «Вот мое счастье». И тут испугалась: «Да кто я такая, чтоб он полюбил меня?»
— Тебя нельзя не полюбить.
— Видела, что нравлюсь тебе, а поверить не смела. Боялась тебя. Ты умный, образованный. Я и сейчас боюсь, что тебе со мной скучно.
— А тебе?
— Нет, мне хорошо. Даже сказать не умею как. — Поцеловала и засмеялась: — Ты лекарствами пахнешь.
Мы счастливы, и все-таки я улавливаю в ней тоску и растерянность. Она не может ее скрыть. Иногда она умолкает и думает. Думает о чем-то своем, отъединенном.
— Скажи, Надя, — допытываюсь я. — Ты не оставила мысль об институте?
— Нет. — И продолжает с досадой: — Не понимаю и никогда не пойму, почему надо писать «прочь» с мягким знаком. Разве это важно? «Прочь», «прочь», — повторяет она. — Где тут мягкий знак? И не слышно его вовсе. Ну, скажите, зачем он нужен?
— Не знаю, Надя. В этом случае мягкий знак сохраняется, как аппендикс. Не нужен, а существует.
Надю моя шутка не веселит. Она возмущается:
— У меня голова не держит того, чего нельзя понять. И от такого пустяка зависит судьба человека. — Тут же решительно добавляет: — Работать буду и готовиться. Мама советует на бухгалтера учиться. А я не хочу. Косточки гонять не по мне.
— А что по тебе?
— Не знаю, куда и кинуться, — признается девушка. Трудно ей принять решение. Делится своим горем: — Мать жалко и совестно, что не сдала. Ведь, бывало, дома возьмусь за что-нибудь, а она отнимет: «Оставь, я сама. Тебе заниматься надо». Весной дрова и то не позволяла резать, чтобы только к экзаменам готовилась. И вот, провалила. Бабушка приезжала, так даже не поцеловала. Я к ней: «Бабонька». А она мне: «Уймись, стрекоза. Что бабонька? Бабонька свой век прожила, теперь тебе жить. Вон вымахала какая, заневестилась, а ума не нажила».
* * *
Изредка захожу к Невьяновым. Семен Иванович держится со мной вежливо, но несколько сухо. Однажды встретил меня просьбой:
— Хоть бы вы, Виктор Петрович, посоветовали насчет Надежды. Куда ей теперь?
Был он хмельной, выпил немного после бани.
— На будущий год сдаст, — обнадежил я его.
— Не сдаст. В голове у нее ветер.
— Отец, — остановила его Полина Михайловна. — Посовестись.
— Ты не мне о совести говори, — вскипел Невьянов, — а ей вон. Просвистела десять лет.
Надя пыталась уйти, но отец вернул ее с порога.
— Ты куда? Сиди, слушай. О тебе речь.
Она замерла у подоконника.
— Семен Иванович, — вступился я за Надю. — На одно место было по нескольку человек.
— Знаю. Но кто-то же поступил? Почему не она? Или ей условий не дали? Все ей: и босоножки христовы из одних ремешков, и жакетку мятого бархата, и косынки «газированные». Мать вон даже капроновые чулки подарила. Проку-то в них! Что есть они, что нет — все равно не видно. На тебе, дочка, всякие утехи девичьи. Учись только. И вот вам — отблагодарила!
— Не всем высшее образование иметь, — вступилась Полина Михайловна. — И без высшего честные люди живут.
— Так нечего было нам голову крутить. Теперь вот что, мать, бархатную жакетку в сундук, босоножки туда же. Капроны в печь — ни на что другое не годны. Не к чему фасоны наводить — модиться. Дадим ей сапоги резиновые и марш, на свинарник.
— Ну и пойду, чем испугали! — вскрикнула Надя. — Завтра же пойду. Что, там не люди работают?
— Иди, иди! Там Фенька с тремя классами. Там Нюська Брындина с пятью и дед Зотыч, который ни одной буквы не знает.
— Сам-то ты сколько кончил? — напомнила ему Полина Михайловна.
— Что я? По мне равняться нельзя. У меня капронов не было. У кулака Звягина с десяти годков вкалывал за харчи да за рубаху ношеную. Читать учился без книг: теленка хромого около кладбища пас и на крестах надписи разбирал, так и буквы выучил, а складывать их не умел. Если б не Советская власть, то и по сей день кнутом бы щелкал. Надежде бы хоть десятую долю моего стремления. Я первый в районе на трактор сел.
Он снял со стены фанерную рамочку с фотографией, протянул мне. Всматриваюсь в выцветшие, пожелтевшие контуры: на лесной поляне трактор поднимает целину. Вся деревня бежит вслед. Наклоняются, измеряют глубину борозды.
— Вот, смотрите!
Лицо парня знакомо — во взгляде его счастье и вызов, ветер раздувает буйные вихры. Семен Невьянов!
Семен Иванович не унимается:
— Я первый из мужиков в ликбез пошел и до сих пор беспрерывно учусь. Учусь всю жизнь и все-таки невежда, потому что сразу правильного направления не получил. С крыши дом строить начал, а фундамента нет. Что в школе за день проходят, я месяц своим умом постигал. Теперь по тракторам и машинам все до тонкости умею, а вычислить что-нибудь надо — и стоп. Мне бы математику, так я бы, пожалуй…
— Ну, расхвастался! Человека бы постыдился, — оборвала его жена.
— Так вот я и спрашиваю: чем наша Надежда хуже тех, других? Почему в институт не поступила? Потому, что ей ухажеры головы закрутили.
Мать подошла к Наде, обняла ее.
— Не слушай его. Хмельной он. А ты хватит, отец. И без тебя ей тошно.
— Однако, замуж ей надо. Вон за Никиту гнусавого, — кивнул Семен Иванович, идя к двери.
— Не болтай зря. — Полина Михайловна сняла с вешалки пиджак, протянула его Наде. — Отнеси ему, а то простынет. — Печально подняла на меня серые, усталые глаза. — Вы уж простите старого. Переживает. Все говорил прежде: «Надя должна шагнуть далеко вперед, как я шагнул от своих родителей». Родители его весь век свой в людях жили, батрачили. А он все же бригадир, механизатор. Федя на фронте погинул, так он на Надюшку все надежды возлагал. А она шагнула, да на первом шаге и запнулась.
Позднее Надя рассказывала:
— После вчерашнего отец глаз не поднимает. Делает вид, что сердится, а самому стыдно. Не люблю его хмельного. Говорит, говорит и остановиться не может. Жакеткой попрекнул. Неужели мне самой не совестно?
— Он любя.
— Все одно — обидно. Но теперь я решила окончательно: в институт поступлю. Вызубрю всякие эти «прочь» да «навзничь» и сдам. Не для отца и не для диплома. Стану животноводом. Я ведь и раньше хотела. — Улыбнулась, вспоминая: — Ты меня смутил в медицинский.
— Вот так-так! Ни слова не говорил.
— Шучу. Сама я выдумала, что мне в медицинский хочется.
— Значит, хорошо, что в медицинский не сдала. Теперь поступишь, куда мечтала.
Надя заглянула мне в глаза.
— А еще почему хорошо?
— Не знаю.
Внезапно запечалилась, вздохнула:
— Стыдно мне без дела. Где-то надо устраиваться или на подготовительные курсы ехать.
Что посоветовать ей?
И вдруг однажды пришла с просветленными глазами, сдержанно радостная, и я сразу понял, что она имеет сказать мне что-то важное. Полистала книгу на столе, заметила:
— Когда ты только успеваешь читать?
— Ночами.
— Худой ты стал, не отдыхаешь совсем. — И прибавила: — А у меня прояснилось.
— Ну, ну, говори.
— Не знаю, как ты на это посмотришь.
Смущенно, быстро порхнула ресницами. «Неужели уедет?» — испуганно подумал я.
— Вчера Новиков собирал нас, девчат. Комсомолок. Рассказал, что дела с животноводством надо выправлять, что дальше так продолжаться не может. И грязь и низкие удои… Предлагает, чтобы дела на ферме взяла в руки молодежь. Чтобы все поставить по-научному, на современном уровне в смысле рационов и техники. Девчата решили пойти доярками. Раз такое положение создается.
«Значит, никуда не уедет», — с облегчением подумал я и спросил:
— И ты?
— А как же? — Несмело взглянула мне в лицо: — Не сердишься?
— За что же?
— Скажи совсем откровенно. Тебе не будет стыдно, что ты врач, а я… у тебя простая доярка.
Это «я у тебя», такое нежное, откровенное, взволновало меня.
— Надя, зачем такие мысли?
— Сама не знаю. Говорят, у неровней любовь недолгая. — Продолжала уже радостно: — Работать буду и учиться. Заочно поступлю.
— Почему заочно?
Ответила серьезно, сдержанно:
— Теперь без тебя и дня не могу.
Смешная, боится, что я буду стыдиться ее, доярки. «У неровней…» Не Надины мысли — Аришины. Вековой инстинктивный расчет. А мне не надо расчета. Только быть с ней сегодня, завтра, всю жизнь. «Неровня!» Сегодня неровня, а завтра ровня. Ей только восемнадцать… Она еще не жила. Впереди годы учебы, институт, свежие люди, огромный мир мыслей и знаний. Кем станет она? Как угадать? Жизнь не стоит на месте — она подхватывает человека, как вешняя вода, властно несет вперед. Сегодня Надя мечется, сомневается, а завтра прочно встанет на ноги и, кто знает, может быть, станет знатным животноводом, опытником… А если и нет — все равно пронесет она сквозь всю свою жизнь чистоту и правдивость, готовность учиться и работать. Разве это мало? С такой не страшно пройти жизнь. Такая не кинет в беде.
Да и сами Озерки? Разве через десять-пятнадцать лет они останутся прежними? Все дальше уходит в тайгу шоссе, которое соединит Озерки с железной дорогой. Вдоль нее пройдет высоковольтная линия и узкоколейка к месторождению торфа в Малиновом логу. В Пихтовом намечено построить электростанцию, которая даст энергию всему району. Придет день, и Олег или какой-нибудь такой же, как он, молодой фантазер в красной физкультурной майке придет с астролябией по-новому планировать улицы Озерок, корчевать лес, асфальтировать дороги. Сквозь все, если присмотреться, просвечивает будущее. Не надо мне другого счастья, как идти в это будущее с Надей.
В эти же дни она окончательно поссорилась с Андреем. Он пришел к ней и вызвал во двор, как он сам выразился, «для последнего разговора». Она вышла к нему на крыльцо. От него пахло водкой. Надя объявила ему:
— Ты ко мне пьяный не ходи.
Он спросил вызывающе:
— Почему так строго?
— Противен ты пьяный.
Он прищурился язвительно.
— Ясное дело — врач куда милей… Он и почище, и зарплата у него ежемесячная. Прямой расчет.
— Какой же ты, оказывается, подлец, Андрей, — кинула ему Надя и пошла в дом.
— Ты это окончательно? — крикнул он вслед.
ЛЕТЯТ ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ
Чудесная песня. Хожу и напеваю ее повсюду. Я доволен. Все решилось! У нас будет новая больница.
Чуть свет прикатил на пропыленном газике Колесников, попросил халат и все утро просидел у меня в кабинете, наблюдая, как я веду прием. Потом сообщил мне, так сказать, свою рецензию:
— Хорошо, что внимательны. Хорошо, что неторопливы, грамотны. Одного у вас не хватает…
— Чего, Иван Степанович?
— Улыбки. Иногда она нужнее, чем лекарство. Врач призван лечить не только тело. Вы поняли меня?
— Понял.
Чудесный человек он! Вечером состоялась сессия сельского Совета. Я волновался, но обошлось как нельзя лучше. Выступали Колесников, Новиков, Алла, я, конечно, и многие другие.
Егоров сдался. Не мог же он идти против всех. Когда вопрос поставили на голосование, он тоже поднял руку «за», правда, с таким видом, как будто хотел сказать при этом: «Куда денешься, вас много».
В общем, перебороли скептиков. Кстати сказать, Егоров теперь здоровается со мною совсем иначе, чем прежде, — небрежно, сквозь зубы, и в разговоре обращается: «Товарищ Вересов». Ну, да ничего, с ним общий язык найти можно.
В победе нашей главная заслуга, конечно, Новикова. Без него, пожалуй, я бы ничего не сделал. Без шума и крика он добился своего.
Случилось и другое приятное событие. На два дня я уезжал в Пихтовое по делам, а когда вернулся, зашел к Маломальскому попросить лошадь и застал его на печи с длиннейшей, размером в неочиненный карандаш, цигаркой во рту. Опираясь на локоть, он курил и читал какую-то толстую книгу.
То, что при моем появлении он не вскочил, не назвал меня милейшим, удивило и встревожило меня: «Не заболел ли?»
— Такой цигарки на целый день хватит, — пошутил я.
Он отложил книгу, стряхнул пепел с цигарки на пол.
— Теперь мне хоть какие можно вертеть, хоть с телеграфный столб. Еж-те двадцать. Это раньше времени не было.
— Вы не заболели?
— Такими пустяками не занимаюсь.
— Я к вам насчет… — начал я.
— Со мной уже никаких счетов, — не дослушал меня Маломальский. — Попали не по адресу.
— То есть как это?
— Решение правления. Видите ли, не обеспечиваю и так далее. Короче — я не бригадир. Еж-те двадцать. Да, отмаялся. Определили пенсию. Теперь повышаю культурный уровень. Взял вот «Трех мушкетеров». Начал их — еще колхоза не было, и все некогда было закончить. Тридцать лет мечтал дочитать и, наконец, добрался. Между прочим, чуть не забыл спросить — что за профанское масло?
— Профанское? Такого нет. Может быть, прованское?
— Вот, вот. Встретил в книге и не знаю, что за штука. Для еды или как смазочное применяется?
Рассказал ему о прованском масле, собрался уходить. Он опять заговорил:
— Вы на сушилке не были? Как там, печи сложили?
— Заканчивают уже.
— Д-да, — вздохнул он протяжно.
Подпалил спичкой цигарку, зачадил в потолок.
— Все же, думаю, не раз еще вспомнят старика Маломальского. Еж-те двадцать!
«Вспомнят, обязательно вспомнят, — подумалось мне. — Я так, пожалуй, никогда не забуду».
Наступил сентябрь. Небо будто приподнялось, истончилось, стало прозрачнее. Летят белые паутинки, вспыхивают под солнцем снежинками. Бабье лето!
Дети ходят в школу. Когда я вижу их маленькие фигурки в неуклюжей серой форме, мне каждый раз вспоминается мама. Опять она сидит вечерами над тетрадями, опять серьезна, озабочена, бережет каждую минуту. Вероятно, теперь она меньше тоскует обо мне.
Надя работает дояркой. Каждое утро вижу в окно, как она проносится в кузове грузовой машины на дойку. Девчата стоят в обнимку и поют. Долго слежу взглядом за красным пятнышком Надиной косынки. Машина исчезает, остается вертящееся облако пыли, а песня еще летит издалека, и среди голосов различаю один чистый, высокий, неповторимо милый.
После работы она приходит ко мне. Ее руки пахнут травой и парным молоком. Рассказывает, что Варя и другие подруги выдаивают по четырнадцать коров, а она за то же время едва успевает семь. С непривычки болят руки, ломит спину.
— Никак не налажусь доить кулаком. Дою, как дома, пальцами. — Я стараюсь успокоить ее, уверяю, что она привыкнет, рассказываю, как мне трудно давалась хирургия. Кажется, это действует.
Недолго простояли ясные дни. С юго-запада хлынули серые облака. Они шли и шли над селом, как волны мутного океана, осыпая землю холодным мелким дождем. Один раз закружился, но тотчас же исчез мокрый редкий снежок.
На полях убирали пшеницу. Комбайны не брали сырой хлеб, ломались валы, срывались зубья у шестеренок. День и ночь работала сушилка. Новиков ходил в прорезиненном черном плаще и намазанных дегтем сапогах, небритый, шатающийся от усталости. Целыми днями он был на полях и в селе появлялся только тогда, когда надо было получить запасные детали.
Мы, комсомольцы, ночами веяли зерно на полевых токах, грузили его на автомашины. Грузовики буксовали и тонули в липкой грязи на лесных искалеченных и разбитых дорогах. Домой я возвращался мокрый, голодный и замертво падал на постель. Это была не просто работа — это была битва за хлеб на ветру, под дождем, битва, в которой нельзя было отступать.
Помню одну ночь на сушилке. Моросит медленный, неслышный дождь. Вначале нас трое: Олег, Надя и я. Потом приходит Костя. С ним Алла. Площадка под навесом освещена фонарями — это светлый островок в море моросящей тьмы.
Алла и Надя подгребают зерно к транспортеру зерноочистки, а мы оттаскиваем и складываем кули очищенного зерна. Мерный шум мотора, шелест пересыпающегося по решетам зерна нагоняют сон. Слегка подвыпивший Лаврик — он работает здесь мотористом — в начале вечера надоедает нам насмешками. Изображает из себя начальника, ходит, заложив руки в карманы, и строжится:
— А ну, поживей пошевеливайся.
— Отцепись, надоел, — огрызается Алла.
— Взял бы лучше да помог, — советую я.
— Помогать! Ишь ты!
Кривляется, изображает на лице неприступную важность.
— Я моторист. Техническая интеллигенция.
Меня Лаврик с его неумными выходками раздражает. Олег просто не обращает на него внимания, словно его нет.
С наступлением ночи Лаврик затихает, умащивается на пустых кулях, натягивает на себя брезент, засыпает.
Часа в три ночи, когда мы уже собираемся домой, внезапно раздается шум грузовой машины. Появляется Климов в мокром прорезиненном плаще. Его сильный бас легко перекрывает шум мотора:
— Ну, комсомольцы, выручайте. Хлеб горит на седьмом току.
Олег срывает с Лаврика брезент. Тот вскакивает, покачиваясь спросонок.
— Выключай все. Мы поехали.
— Куда?
— На седьмой ток.
Вместо теплой постели пьяная лесная дорога. Черное, как земля, небо, осклизлый ветер по лицу. В белом свете фар качаются березы и кусок дороги, усыпанный желтыми опавшими листьями. Надя рядом, тихая, теплая.
На подъеме машина забуксовала. Спрыгиваем, толкаем ее, дружно покрикивая:
— Эх, ухнем…
Но наши «уханья» не помогают. Из тьмы к нам бредет кто-то мохнатый, держа фонарь над головой. Тулуп. Через плечо ремень, из-за плеча выглядывает ствол берданки. Это сторож. Вид у него одичалый, лицо заросло щетиной. Он кричит простуженно:
— Что ж вы долго так? Еж-те двадцать!
Да ведь это Маломальский!
— Что я один могу? Лопатил, лопатил, аж спина отваливается.
Оставляем машину внизу. Выбираемся на горку. Маленький, крытый соломой ток. В несмелом свете «летучей мыши» холмы пшеницы. Сквозь солому просачивается вода и с шорохом падает крупными каплями на ворох. Зерно лежит буграми — влажное, горячее, больное.
В том, что плохо ток покрыт, виноват сам Маломальский — не сегодняшний — сторож, а вчерашний — бригадир. Может быть, именно поэтому он особенно суетлив, по-стариковски растерян.
— Какое добро губим! Прощения нам нет…
— Что будем делать? — спрашивает Олег.
— Лопатить бесполезно. Зерно совсем мокрое.
— Вывозить надо, — предлагает Костя. — На сушилку.
— Машина не пройдет.
— Выход один — таскать!
Рассуждать долго нечего. Надя, Алла и Маломальский нагребают зерно в кули. Первый куль вскидываем на плечо Косте. Второй — мне. Выхожу в тьму. Впереди меня где-то Костя, но я его не вижу. Слышен приглушенный шорох листьев под его шагами. Избегая скользкой дороги, он пробирается кустами. Иду за ним и сразу промокаю до пояса.
Каким-то чудом Костя угадывает, где машина. Грузим на нее кули. Возвращаемся. И вдруг неожиданность — навстречу нам Лаврик с кулем на плече.
— Откуда Лаврик-то взялся? — спрашиваю Олега.
— А шут его знает. Подходит, ни слова не говоря, подставляет плечо. Оригинальничает.
Отправляюсь с кулем другой раз, третий, четвертый… Сколько этих раз — неизвестно. Плечи ломит. Ноги немеют от напряжения. Первую машину отправили. Наступает отдых. Маломальский достает из сумки буханку домашнего хлеба. На нижней мучнистой корке чернеет, как изюмина, уголек. Режет хлеб на всех, раскладывает на куле огурцы и мечтательно крякает:
— Сейчас бы с устаточку… по маленькой.
Никакой «маленькой» у него нет, да это и не нужно. Нужна обыкновенная вода, а ее нет. В бидончике Маломальского остатки кваса, каждому достается по глотку.
Алла зовет:
— Лаврентий, иди к нам. Вот хлеб твой, огурцы…
Он уходит в дальний угол.
— Не хочу…
Она подходит к нему, тянет за рукав.
— Ну, чего прицепилась? — упирается он.
Выдергивает рукав, уходит в темноту.
— Корчит из себя черт те знает что, — сердится Олег.
Подсаживаюсь к Маломальскому.
— Вы ж, Афанасий Иванович, на пенсии.
— Скучно дома углы считать…
— А как же мушкетеры? Прочли?
— Какое там! Обман один. Тех кончил, а говорят там еще десять лет спустя да еще двадцать… Вроде сказки про белого бычка…
Из-под пригорка сигналит машина. Опять работа. Дробно звенят плицы. Снова на плечах каменная тяжесть мешка. Она давит, пригибает к земле. Каждый мускул натянут, как шпагат, готовый оборваться. Кули становятся все тяжелее и тяжелее. Да когда же конец?
И вдруг радость: со смехом и шутками подходят парни и девчата.
— Смена!
Шесть часов утра. Слабо брезжит голубое на горизонте. Карабкаемся на машину. Лаврика с нами нет.
— Обождем, — говорит Костя.
— Сам не маленький, — замечает Олег.
— А все же интересно, — произносит Алла. — Не звали его, а он сам пришел. Это у него что-то новое.
— На доску почета его теперь, — обрывает ее насмешливо Олег.
— Зачем ты так? — останавливаю я Олега.
Машина вздрагивает и начинает ковылять по выбоинам. Надя крепко держит меня под руку.
Впереди завиднелась длинная фигура Лаврика. Он оглядывается и уходит с дороги. Исчезает в кустах. А дождь все моросит — однообразный, скучный, хлипкий.
Дожди продолжались неделю.
И вдруг будто сдернули с неба серый полог. Пришли солнечные, ясные дни. Утрами стал выпадать иней. Сухо, как металлическая стружка, похрустывала под ногами побуревшая трава. Днем ослепительно светило солнце, но кругом все поблекло: лес обнажился, поседела трава, небо стало еще бледнее.
Олег работал на строительстве электролинии, которую вели к новому коровнику. Он частенько забегал ко мне прямо с работы, опоясанный широким брезентовым поясом, с мотком проводов через плечо. Он приносил с собою свежие новости, которые нетерпеливо сообщал, еще не успев снять телогрейку.
— Слышал? — звучал из прихожей его громкий голос. — На дне Днепра найден челн. По изотопам углерода ученые установили, что он построен пять тысяч лет тому назад. — И, входя в комнату, восклицал радостно: — Физика дает археологам точную хронологию.
— А ты тут при чем? — подтруниваю я над ним.
— Как при чем? Интересно. Ты вот современный человек, скажи, почему голуби ориентируются в незнакомой местности? Не можешь? Теперь известно — у них есть какой-то орган, который чувствует магнитные силовые линии земли. А как разговаривают муравьи? Опять не знаешь? У них есть уски-антенны, с помощью их они обмениваются информацией.
В этих вопросах его и ответах слышалось мне мальчишеское безобидное хвастовство своими знаниями. «Чертовски интересно жить», — любил говорить он.
С увлечением рассказывал он мне о новых методах строительства, о сооружении надувных сводов, о замечательных качествах пеностекла, о том, как будут строить дома целиком из пластических масс.
— Они не будут бояться ни огня, ни гниения. Облицовке можно будет придавать любой цвет, любой оттенок. Разве это не поэзия?..
Мечтая стать сельским строителем, Олег не раз принимался набрасывать на листе бумаги планировку будущих Озерок: правильные кварталы вместо одной длинной улицы, стадион за селом в молодой сосновой роще.
Глаза его сияли, движения становились отрывистыми и четкими, голос звучал увлеченно, карандаш, сжатый в пальцах, стремительно чертил кривую.
— Часть леса отведем под Парк культуры и отдыха. Выкопаем пруд, напустим карасей…
— Ты, как Манилов. Сейчас появится мост, а на нем беседка. — Он вспыхивал:
— Если войны не будет — сделаем. Не лопатками будем копать. Ты знаешь, что такое современная техника! Через несколько лет мы чудеса увидим.
Но чудеса нам суждено было увидеть не через несколько лет, а через несколько дней.
Этот замечательный день останется в памяти навсегда со всеми мельчайшими подробностями. Было начало октября, на полях убирали последние ряды картофеля. По дорогам шли машины с красными флажками, глухо гудели, тяжело катились их рифленые шины. Колхозы вывозили хлеб с глубинок.
Одна такая машина остановилась перед медпунктом. С нее соскочил Олег — возбужденный, праздничный, и крикнул мне в открытое окно:
— Слышал? Наши спутника запустили. Следи за последними известиями. Я в Пихтовое, на элеватор.
Крикнул и убежал к машине. Ночью мы сидели в клубе у приемника и слушали летящие из беспредельного мрака Космоса сигналы спутника: «Пи. Пи. Пи.».
— Как цыпленок отбился от наседки, — засмеялся Олег. — Этот писк нашим врагам страшнее любой канонады. Повезло же нам, черт возьми, родиться именно теперь, а не сто лет назад.
ТУТ БЫЛА ФОТОГРАФИЯ
Рано или поздно это должно было случиться. Мучительный момент наступил. Я знал, что он наступит. Конечно, я должен был начать первым. Но поздно.
Надя стоит у моего стола спиной ко мне и говорит:
— Помнишь, здесь была фотография.
Связанный, напряженный голос ее выдает волнение — так говорят, когда долго сомневаются, а потом все же решают начать важный разговор.
— Да, — подтверждаю я. — Была.
Больше молчать нельзя. Предстоит разговор о Вере. Приближаюсь к Наде. Она слегка, как ветка от дуновения ветра, отстраняется. Спрашивает бесцветным голосом:
— Ты любил ее?
— Да.
Еще не все сказано. Надя ждет. Я объясняю:
— Мы учились вместе. В одном институте. Мы были близки… Очень.
Не вижу лица Нади, но чувствую, как она вся сжалась, замерла.
— Почему вы не поженились?
Медлю с ответом. Как, какими словами рассказать чистой, любящей девушке все, что было?
— Были причины. Это сложная и нехорошая история. Она не хотела.
— Значит, не любила?
Для Нади все просто, ей не понять сложную, противоречивую Веру. Надо открыть ей самое главное и самое постыдное, что Вера была замужем, но это невозможно, стыдно, свыше моих сил. Но сказать надо — между нами не должно быть и тени неправды. Мелким, грязным ощущаю я себя рядом с Надей — она как моя совесть.
Надя ждет и тоже, конечно, мучится, страдает. Розовые пальцы ее нервно вертят крышечку от чернильницы.
В это время во дворе яростно залаял Трезор. Слышатся голоса. Фыркает автомашина. В дверях появляется Ариша.
— Виктор Петрович! Дрова привезли.
— Скажите, чтоб свалили.
— Расписаться просят.
С досадой выхожу во двор. В полутьме два грузчика сбрасывают с грузовика березовые дрова.
— Надо бы подальше проехать.
— Вовремя надо говорить, — отвечает мне добродушно бородатый мужчина. — Расписаться треба…
Он нескончаемо долго роется в карманах, вынимает бумажник и среди пачки каких-то затертых квитанций и справок находит, наконец, нужный листок. Затем так же медленно начинает искать карандаш. Я вспоминаю, что у меня с собой авторучка. Заходим к Арише в избушку. Расписываюсь в получении дров.
Тороплюсь к Наде. Вхожу в комнату. Нади уже нет. Стою и пытаюсь понять, почему она ушла. Обиделась? Рассердилась? Или просто не захотела продолжать тяжелый разговор? Да и зачем продолжать его? Надя теперь знает о Вере самое важное, а подробности — зачем они ей? Зачем пачкать то чудесное, доверчивое, что возникло между нами? Жестоко навязывать ей мои воспоминания о другой женщине.
Так и осталось между нами недоговоренное. Виной тому было мое малодушие. Счастье пьянило меня, я боялся заслонить его хотя бы тончайшим облачком.
На следующий день Надя держалась со мною так просто, так ласково, как будто никакого неприятного разговора и не было. «Вот и уладилось все», — подумал я с облегчением.
ГЛУБОКОЙ ОСЕНЬЮ
Давно убран хлеб с полей, давно опали последние листья в лесу. Место для больницы мы выбрали в молодой сосновой роще между селом и рекой. Срезали деревья, образовалась квадратная поляна. Вырубили просеку для дороги. Задерживается только заготовка леса. Сейчас на колхозную деляну не попадешь. Надо ждать, когда замерзнет и окрепнет болото. Будет это в конце ноября.
В будни с Надей мы видимся только мельком. Забежит на минуту, клюнет в губы, поиграет любящими пальцами в волосах и исчезнет. Вечно она куда-то торопится. Новая работа все сильнее захватывает ее.
Изредка захожу к ней. Сидит в кухне, обложившись зоотехническими учебниками, таблицами рационов, чертежами.
— Переходим на электродойку, — рассказывает она. — Уже привезли доильные аппараты. Строят вакуумную установку. Ты знаешь, мне все больше нравится. Оказывается, совсем не просто стать хорошей дояркой.
Меня радует, что исчезло в ней чувство разочарования в себе, которое я замечал в ней в конце лета.
Погрызова тиха, как осенний пасмурный день. Внешне молчалива, равнодушна, но что-то готовит, плетет против меня. Узнал об этом случайно, зайдя к Елагину. У него обострение процесса. Лежит он, напуганный, бледный. Температура повышенная. В легких прослушиваются свежие очаги. Решил направить его в больницу.
Когда уходил, Светлана остановила меня.
— Виктор Петрович, предупредить вас хотела.
— О чем?
— Ольга Никандровна приходила. Уговаривала подписать заявление.
— Какое?
— На вас. В больницу. Пишет, что вы моего мальчика загубили.
— А вы что?
— Выгнала ее. Но это не все. Она говорит, что у вас моральный облик не в порядке. — Светлана усмехнулась недобро: — Что вы женаты и, простите… в то же время с Надей… Рассказывает, что собственными глазами видела.
— И не женат я, и ничего она не видела…
Светлана глянула просветленно.
— Я так и думала. — И тотчас же прибавила зачем-то: — Впрочем, вы человек взрослый, сами за себя отвечаете.
Насчет того, что я услышал о Погрызовой, мне хотелось посоветоваться с Новиковым. Даже пришел к нему домой, но потом говорить раздумал. Стыдно беспокоить его такими мелочами. Говорили о работе детсада, о том, что задерживается строительство больницы.
Новиков последнее время как будто помолодел. Не заметно выражения усталости в глазах, сутулая спина расправилась. В нем светится какая-то глубоко скрытая радость. О причине ее догадался я, когда зашел к нему. Первое, что бросилось в глаза, — это обжитость той квартиры, которую я летом видел почти пустой. Вместо газет — на окнах тюлевые занавески. Книги не лежат на подоконниках, а аккуратно расставлены на новой книжной полке. Обстановка пополнилась и гардеробом, и венскими стульями, но одна обнова понравилась мне больше всего: в спальне одна кровать была отодвинута в сторону, и на ее месте стояла никелированная, сияющая детская кроватка с шелковой сеткой и красной погремушкой, привязанной к изголовью.
Оксана пополнела, походка у нее стала осторожнее, тяжелее.
Очень удивило меня, что болезнью Елагина заинтересовался старик Валетов. Опять приходит мысль, что он чем-то связан с ним или со Светланой. Но чем? Повстречался он мне на улице, в своем черном длинном пальто и черной фетровой шляпе, похожий на ворона. Он слегка волочил ноги, обутые в теплые боты. Глаза бледные, зеленоватые, как будто наполненные стоячей водой, оживились при виде меня.
— Э… э… Виктор Петрович! — окликнул он меня, делая вид, что не сразу вспомнил мое имя. Небрежно, словно между прочим, заговорил: — Извините, я на секундочку. Вы, кажется, пользуете некоего больного, Елагин его фамилия. Так вот, я намеревался навести справочку. Относительно, так сказать, шансов на его скорейшее выздоровление…
— А зачем вам?
Не понравилась мне его скороговорочка, лживая участливость. Заметив мою холодность, он стушевался.
— Слышал я, что он плох, так я просто из человеческого сочувствия. Если невозможно, можете умолчать. Не смею настаивать.
На этом наш разговор кончился, но через два дня он появился в моем кабинете. Я думал: он снова заговорит о Елагине, но ошибся.
— Собственно, я не о себе, — проговорил он.
— Присаживайтесь.
— Не стоит. Я не о себе пекусь.
В глазах его тревога.
— О ком это?
— Местный участковый. Вероятно, он вам известен.
— Зарубин Павел Арсентьевич?
— Так точно — он.
— Что с ним?
— Затрудняюсь определить. Измерил ему температуру. Тридцать девять градусов. Он намеревался выйти на работу и даже упорствовал, так что я вынужден был запереть его и проследовать к вам.
— Я приду.
— Только прошу вас, не забудьте.
Дом Валетова стоял в конце переулка, ведущего к лесу, Построено здесь было всего два дома: в начале переулка дом с мезонином, с резьбой и нарядным крыльцом — Андрея Окоемова. Дом еще без печей, с незастекленными окнами. Над крышей флюгер, на воротах табличка «№ 1».
Вдали, на опушке молодой сосновой рощи, желтел свежими бревнами дом Валетова. Большой, с высоко поднятыми над землей окнами, придавленный сверху грузной тесовой крышей. Валетов заметил меня издали, вышел на тропинку.
— Не бойтесь, проходите, я собачонку привязал покороче.
В кухне на веревке висела гимнастерка Зарубина и галифе. Сам он лежал на двуспальной кровати в жарко натопленной комнате.
— Что с вами?
Он приподнялся было, но я остановил его:
— Лежите, лежите.
— Ничего страшного, — заговорил он затрудненно. — Не знаю, зачем Модест Валентинович беспокоил вас. Вчера в Нелидово ездил — должно быть, простыл. Приехал, водки выпил, да вот что-то грудь заложило.
Пока он измерял температуру, я огляделся. Квартира из двух комнат и кухни не была еще оштукатурена. Бревна стен обиты были голубыми обоями с желтыми ромашками. Висели картины, писанные маслом, копии пейзажей Левитана, Шишкина, Куинджи. Новый диван, новый стол, книжный шкаф с книгами подписных изданий в свежих переплетах, новые стулья с мягкими сиденьями — все это едко пахло фанерой, лаком, клеенкой. На окнах фигурные багеты с позолотой. «И зачем это все одинокому старику?» — удивился я.
Осмотрел Зарубина, назначил ему лечение. Валетов несколько раз порывался что-то сказать мне, подходил, но не решался. Наконец, проговорил:
— Павел Арсентьевич вам самого главного не открывает.
Зарубин раздраженно поморщился.
— Модест Валентинович, я ведь просил…
— Что у вас за секреты? — спросил я.
— Пустое дело. Не стоит говорить, — отнекивался Зарубин.
— Он же купался вчера, — воскликнул, не в силах сдерживать себя, Валетов.
— Каким образом?
— Самым натуральным, в реке, — заторопился Валетов в странном волнении.
— Зачем вы? — недовольно проворчал Зарубин.
— Нет, я хочу, чтобы они знали, — настаивал старик. — Представьте — он явился, на нем все коркой застыло.
— Павел Арсентьевич, расскажите.
— Совсем не важно рассказывать.
— Очень даже важно, — возразил старик.
— Дело несложное, — неохотно начал Зарубин. — Ехал из Нелидова. Дорога известная, по-над берегом. Напротив Ковалевской рощи, сами знаете, мостик в две доски, без перил. Гляжу — старуха какая-то через мостик к дороге ковыляет. Досточки, надо думать, обледенились, она и поскользнись. Что тут делать? Шинель скинул, сапоги, и к ней. Вытащил, в тулуп укутал и до Лопатино домчал. Вот и вся история.
— Вы заметили, — спросил Валетов, — как он неинтересно рассказывает? «Скинул сапоги и за ней». И, между прочим, во внеслужебное время.
— При чем тут время? — недовольно заметил Зарубин.
— А то, что надобно мне уяснить, что вас в воду толкнуло.
— Как что? Я сам.
— Да вы же могли решить: мое дело сторона, старуха не озерская, меня никто не видел. Подстегнули бы лошадку, да и тягу. Мало ли на свете старух? Одной больше, одной меньше, убыток невелик. Ан теперь здоровешеньки были бы. А?
— Вы все шутите.
— Напротив, весьма серьезно: интересно мне знать, что вы думали, когда в ледяную воду погружались. Мне психологически необходимо уточнить.
— Думал, как бы поспеть ей наперерез.
— А если б все же сделали вид, что не приметили происшествия? Задремали бы, предположим, на этот момент? Не приметили, да и все. Какой с вас спрос?
Зарубин задумался. Слышно было, как тикали часы, как падали в таз капли из умывальника. Страшно интересно было мне, что ответит Зарубин. Он сказал, сдвинув брови, со вздохом:
— Если б «сделал вид», то, должно быть, она, старуха эта, всю жизнь перед глазами стояла бы и спрашивала: «Как же это ты, Павел Арсентьевич, меня не приметил?»
— Прекрасно выражено! — воскликнул визгливо Валетов. — А как это называется?
— Что именно?
— Это самое — сожаление, которое стоит перед глазами? Картина эта постыдная о самом себе?
— Кто ж ее знает.
— А я скажу, она совестью зовется.
— Ну, правильно, совестью. Что ж вы волнуетесь?
Возбуждение старика дошло до крайности. Он схватился руками за никелированную спинку кровати и так сжал ее, что косточки на кулаках стали, как меловые.
— А то волнуюсь, что у меня тоже было такое. Надо было снять сапоги да кинуться, а я сделал вид, что не приметил. Не на реке, конечно, я и плавать-то не умею, а иносказательно… А теперь поздно, не воротишь.
Высказав это, он поспешно вышел на кухню.
— Он странный какой-то, — сказал я тихо.
Зарубин улыбнулся.
— Его почему-то поразил этот случай. Вчера все расспрашивал и требовал, чтобы со всеми подробностями. В них, говорит, самая соль. А сегодня пришел из магазина, хлеб принес и рассказывает: «Там только и разговоров о том, как вы старуху спасли. Люди из Ковалева сами видели. Значит, правда это, а я, грешным делом, думал, вы сами где пьяные в воду свалились».
После этой беседы и Зарубин, и Валетов представились мне в новом свете: Зарубин стал ближе и понятнее, Валетов, напротив, стал вовсе непонятен. Прежде я оценивал его просто: «Злой, сухой скептик». Но сегодня я убедился, что в нем кипит какая-то скрытая духовная работа, и только как бы отзвуки ее выходят наружу; волнение, внезапная краска в лице, странные вопросы, непонятные намеки.
БУДЕМ ЖДАТЬ!
«Легла зима», — так говорят здесь, когда выпадает настоящий зимний снег. Коров из летних лагерей перегнали в село. Надя не ездит на дойку, у нее теперь много свободного времени, и мы видимся каждый вечер. Приходит она обязательно вместе с Варей — вероятно, этого требуют деревенские приличия, ведь Надя — моя невеста. Хотя об этом и не говорится, но, кажется, все об этом знают. Кроме девушек, неизменно приходит Олег.
Нравятся мне дружные вечера за одним столом, среди разложенных учебников. Вспоминаются студенческие времена, когда я ходил готовиться к экзаменам к моим друзьям в общежитие.
Олег всегда заразительно весел, всегда старается чем-нибудь нас удивить. Потрясая в воздухе свежим журналом, восклицает:
— В Сахаре пробурили скважину артезианского колодца, и струя воды выбросила на поверхность… что бы ты думал?
— Монету? Сосуд?
— Нет.
— Мумию?
— Сам ты мумия! Живую рыбу! Теперь подумай — как она очутилась под землей?
— Не знаю.
— Я тоже. Или еще: знаешь ли ты, кто такая Венера Милосская?
— Знаю, — отвечаю я с улыбкой. — Это статуя.
— Кем она изваяна?
Олег насупливает брови, выпячивает грудь и говорит, видимо, изображая профессора на лекции:
— Молодые люди! Она изваяна греческим скульптором Агу… Аге… — Заглядывает будто украдкой в записную книжку. — Агессандром в четвертом веке до нашей эры.
— Да сказал бы просто — Александром! — смеюсь я.
— А почему статуя искалечена? Опять не знаете? Ай, ай, ай… Французский консул и константинопольский поп подрались из-за нее и в этой исторической драке пообломали ей руки. Ученые утверждают, что в одной поднятой руке у нее было яблоко, а другой она придерживала одежды. Прошу вашу зачетку. Вы, молодой человек, честно заработали двойку…
Он хохочет, по-детски бурно радуясь своей шутке.
Варя сердится:
— А потише нельзя? — И начинает читать вслух: — Показателем молочной продуктивности коров является удой за триста дней лактации и средний процент жира за лактацию…
Иногда Надя приходит опечаленная. Значит, что-то не ладится у нее с работой.
— Ты знаешь, — говорит она, — сперва мне было стыдно, что без дела болтаюсь, а теперь другого стыдно. Работаю плохо. Варя передала мне пять своих коров. Они у нее давали по двенадцати литров, а у меня сразу сбавили.
— Почему?
— Сама не знаю. Все как будто делаю, как она, а не получается. Как быть? Не могу же я работать плохо. У нас в семье никто плохо не работал. — Упрямо сдвигает брови. — Все равно добьюсь. Пойму в чем дело.
Радует меня в ней это упорство. Молодец она.
Неожиданно Надя не пришла ко мне день, другой. Встревожился. Иду к ней сам. Не домой, а на ферму. Дома у нее, не знаю почему, чувствую некоторый холодок Семена Ивановича. Приду, он поздоровается вежливо, приветливо, но затем ничего не спросит, наденет очки, закроется газетой. Может быть, это просто отцовская ревность?
Коровник далеко за селом. Рядом лес, мелкие березки. Между ними синий вечерний снег, на нем заячьи следы, а дальше молодая сосновая поросль, серое угасшее небо с голубой звездой и подымающаяся белая луна.
В просторной кормокухне полутемно. Глухо ворчит и рокочет кормозапарник. Дрожит, как живая, стрелка манометра. В углу сложены кули, наполненные чем-то мучнистым. Рядом — серые глыбы каменной соли.
Открываю еще дверь. Передо мной длинный ряд столбов. Остро, винно пахнет силосом. Полутемно и здесь. Вдали желтые светляки огней, голоса. Иду вдоль прохода. Коровы, как мне кажется, внимательно и подозрительно разглядывают меня.
Окликают. Голос Ксюши:
— Виктор Петрович! — Она присела около коровы, говорит со мною, не переставая доить. — Надю? В том конце она.
Иду дальше. Навстречу мне девушка. Еще не вижу лица, но узнаю по контурам, по движениям, по походке. В одной руке у нее подойник, полный молока, с шапкой пены, другую откинула в сторону для равновесия. Она во всем белом, похожая на медсестру.
— Вы ко мне? Я сейчас.
Когда мы не одни, Надя все еще называет меня на «вы», и каждый раз мне это неприятно и пугает. Приостановилась. По-прежнему прямо и открыто смотрят глаза, так же смеются губы, ставшие родными, но все же есть в ней что-то смущенное, какая-то отчужденность. Что это?
Ушла и быстро вернулась.
— Пойдемте, мне последнюю корову осталось. — Опустилась на скамеечку. Придерживая ведро коленями, склонилась к вымени. Стала рассказывать: — Плохо у нас еще. Все не устроено, а главное, света нет. Ты посвети.
Беру фонарь, освещаю руки Нади, ее лицо, большое розовое вымя коровы. Ударили о дно подойника первые струи молока. Мне они кажутся белыми, туго натянутыми шнурами. Они дергаются, поют сперва звонко, затем все глуше, глуше. Мелькают Надины пальцы так легко и проворно, словно не работает она, а играет. Знаю, что это не так, что очень тяжело выдоить четырнадцать коров, и все-таки не могу отделаться от мысли, что Надя просто из озорства вызванивает струями молока о тонкую жесть жизнерадостную, бодрую мелодию.
Кончила доить, поднялась, погладила ладонью лоб коровы, смахнула клочки приставшего сена. Проговорила ласково:
— Это моя Красуля.
— Давай понесу ведро, — предлагаю я.
— Зачем? Я сама. — Надя несет молоко, останавливается и показывает мне трубы вакуумной установки для электродойки, рельсы подвесной дороги. Объясняет: — Пока все вручную. Тяжело. С непривычки у девчат руки болят. Но скоро будет легче: электродойка, автопоилки…
Угадываю, что она знает, зачем я пришел, и не хочет, чтобы я заговорил об этом здесь. Уводит меня в комнату для доярок. Она еще не отделана. Холодно. Недоложенная печь. На ней мастерок с присохшей глиной. В углу бухты проводов. Светится неярким светом заиндевевшее квадратное окно, словно в рыбьей чешуе.
— Надя, почему не приходишь?
— Соскучился? — Прильнула ко мне, обняла. Шепчет: — Стыдно мне.
— Чего?
Прячет глаза за опущенные ресницы.
— Люди нехорошо говорят.
— Что именно?
— Совестно повторять…
Обдавая щеку горячим дыханием, приникла к моему уху.
— Погрызова рассказывает, что я живу с тобой. Понимаешь, как жена…
— От нее всего ждать можно.
— До наших дойдет или дошло уже. Сегодня у магазина на ставне про нас нехорошо написано было. Варя стерла.
— Кто писал?
— Лаврик. Хвастал, что ворота дегтем вымажет.
— Не посмеет.
— А что сделаешь? Ночи темные. — Испуганно отпрянула от меня. Дверь приоткрылась. В щель просунулась чья-то рука, сняла с гвоздя марлю и исчезла. Надя объяснила смеясь: — Ксюша. Не хочет мешать нам. — И заторопилась: — Я пойду. Девчатам еще помочь надо.
Я удерживаю ее.
— Обожди. Нельзя так. Встречаться урывками, будто крадучись. Я хочу, чтобы мы всегда были вместе. Совсем, совсем. Навсегда.
Надя судорожно сжимает мне руку, на секунду закрыла глаза.
— Сватайся! — выдохнула она и убежала.
«Сватайся!» Значит, все решено. Пытаюсь соединить два слова «Надя» и «жена». Звучит странно, так странно, что замирает сердце, словно стоишь над обрывом. Домой возвращаюсь мальчишеской пружинистой походкой. Хочется, чтобы заиграла, засвистела метель, хочется громко петь, смеяться, кинуть в луну снежком.
— Ариша! — кричу я, врываясь в ее избушку. — Почему дома сидите? В такой праздник!
Она отодвигает недопитый стакан чая, смотрит на меня с недоумением.
— Какой такой праздник?
— Великий праздник: ледоход, весна, почки распускаются! Ну, давайте танцевать.
Вытаскиваю Аришу из-за стола. Она упирается, размахивая чайной ложкой.
— Где ты нагрузился-то, Виктор Петрович? Шел бы отдыхать.
Причем тут отдых? Меня подхватила, закружила и уносит вперед сама жизнь. Но как свататься? Вопрос практический. Как это делают? Вспоминаю, что видел в кино, в театре, и ничего толком не могу вспомнить. Да зачем вспоминать? Неужели это так важно? Буду свататься, как умею.
Сажусь и пишу маме письмо о том, что собираюсь жениться.
* * *
В комнате вкусно пахнет печеным хлебом. Древний деревенский запах.
Сижу за столом против Семена Ивановича. Он в шерстяных носках, синяя сатиновая рубаха навыпуск. Полина Михайловна чистит картофель. Надя в другой комнате — спряталась, притихла, не шелохнется. Сердце у нее бьется, должно быть, так же сильно, как у меня.
Надо начинать. Пытаюсь взять степенный тон, но получается почему-то порывисто.
— Семен Иванович, я насчет Нади.
Знаю, что она сейчас слышит меня, и это придает мне бодрости, будто говорю не я один, а мы вдвоем.
— Что такое? — поднимает глаза Семен Иванович.
Ясно, что он уже догадался, зачем я пришел. Смотрю не в глаза ему, а на длинные, загорелые пролысины, бегущие от висков.
— Хочу просить… Мы с Надей хотим пожениться.
Он лезет в карман за кисетом. Отрывает лоскуток затертой газеты, складывает его желобком, насыпает табак. Зачем он медлит? Он зовет:
— Надежда!
На пороге шорох. Она появляется в дверях, приостанавливается. Серые ясные глаза ее смотрят на отца с мольбой.
— Слышишь, что Виктор Петрович говорит?
— Слышу, — еле различимо произносит Надя.
— Так садись, давайте думать.
Надя присаживается в стороне, поправляет волосы.
— И ты, мать, давай сюда поближе. Дело серьезное.
— Мне и здесь ладно, — откликается Полина Михайловна.
Семен Иванович закуривает.
— Ну, дочь, слово тебе.
Надя говорит, овладевая собой:
— Сам знаешь, папаня. Мне другого счастья не надо.
— Так, понятно, — удовлетворенно кивает Семен Иванович. — Как ты, мать?
Полина Михайловна откладывает нож, вытирает руки о фартук, улыбается.
— Я что?.. Промеж себя они и без того решили. — Она кидает добрый взгляд на меня, на Надю. — Чему быть, тому не миновать.
Видно, ей хочется сказать еще что-то, но она боится обидеть нас. Семен Иванович тоже это улавливает.
— А ты говори, говори, не затаивай.
Полина Михайловна подходит к дочери, гладит ее по волосам.
— Вы, Виктор Петрович, не подумайте чего. Я как мать. Не обождать ли? И ты, Надюша, подумай. Андрей хоть не сватался, так все равно людям известно, ты за него собиралась. Конечно, дело твое. Насильно мил не будешь, но все же, наверно, лучше обождать. Если сейчас, так что люди скажут? Ветреница.
Так вот в чем дело! Ждать! Надя смотрит в пол, упрямо, в одну точку.
— Да и то, пожалуй, — подхватывает разговор отец. — Не рано ли? Мужа найти нетрудно, себя надо найти. Ну, что ты сейчас? Ни два, ни полтора. Недоучка — одно слово.
— Учиться я буду, — сумрачно отвечает Надя.
— Как сказать, — с сомнением произносит отец. — А коли дети пойдут?
— Ты уже не о том начал, — останавливает его Полина Михайловна.
— Почему не о том? Дело законное… Не с закрытыми глазами, не в омут кидается. По-доброму надо все рассудить. А без детей как? Чай, не статуи они какие-нибудь… Так вот я и думаю: рано вы это, ребята, затеяли. Про Виктора Петровича ничего плохого не скажу, человек он самостоятельный, к делу вышел. Сам себя скромно ведет, а что касается Надежды, то много еще ветра у нее в голове. Ой, много… В общем, и мой совет: обождать… Не горит ведь. Хоть до весны. Мы, значит, очень рады, как говорится, но…
Срывается с места Надя. Слышно, кинулась с разлета в кровать, и опять тихо.
Беру шапку.
— Что ж, до свидания.
Семен Иванович поднимается из-за стола.
— Ты только правильно пойми…
Уже понял: «Ждать». Это «ты» звучит примиряюще-родственно. Выходит за мной в сени. Ловит за руку, осведомляется озабоченно:
— Причины-то неотложной нет спешить?
— Что вы, Семен Иванович?
Он облегченно вздыхает.
— Ну, ну, не серчай. Дело молодое, глупое. — Еще раз берет мою руку. — Почаще к нам заходи. Как к своим. Ей-то к тебе не личит бегать. Не девичье дело. А порознь, я так понимаю, тоже теперь трудновато.
Тихое, осеннее небо. Звезды морозные. Под ногами похрустывает ледок. Что ж, будем ждать до весны.
* * *
В середине ноября умер Елагин. Из районной больницы его привезли хоронить в Озерки. Дул сильный южный ветер. Сани с гробом медленно волочились по сырой дороге. Люди шли за ними вразброд. Председатель сельпо вполголоса выговаривал бухгалтеру колхоза за то, что тот не перечислил деньги за шифер. Светлана шла молча, засунув руки в глубокие карманы серой шубки. Она была спокойна, бледна. Заметив меня, рассеянно кивнула.
У покосившихся тесовых ворот кладбища лошадь остановилась. Мы понесли гроб на связанных полотенцах к тому месту, где желтела свеженакиданная глина. Поставили гроб на край узкой глубокой ямы. Председатель сельпо, сильно морща лоб и комкая в руках шапку, пытался произнести речь.
— Товарищи, сегодня мы хороним нашего товарища… Мы вечно будем помнить его скромность, трудолюбие, честность… — Прокашлялся и продолжал: — Надолго останется он в нашей памяти.
Постоял, силясь припомнить еще что-то, затем кивнул мужчинам. Гроб опустили.
Светлана наклонилась, взяла горсть земли, осторожно кинула в могилу и вытерла пальцы носовым платком.
Неслышно приблизился Валетов.
— Света, я очень сочувствую.
Она посмотрела на него, как на пустое место, не ответила. Когда кончили засыпать могилу, повернувшись ко мне, спросила:
— Что ж? Пойдем?
Ветер утих. Желтый свет зари горел в окнах изб. Светлана шла рядом, тщательно обходя пихтовые веточки на дороге. С упреком, задумчиво себя самое спросила:
— Зачем люди лгут? Даже сегодня вот: хороший товарищ, скромность, трудолюбие, честность. Сколько слов… Спросили бы меня. Я бы сказала… Нет, зря говорю — не сказала бы. Таких людей надо закапывать молча.
— Почему?
— Потому, что он никого не любил. Или этот еще: «Сочувствую, Света».
— Валетов?
— Да. Сердечный старичок. Не правда ли?
— Что ж плохого — человек посочувствовал.
— Он человек? Да что в нем человеческого? Расчет один голый.
— Почему вы так думаете?
— Не думаю, а точно знаю. Говорить только сейчас не хочется. Длинная история и гадкая.
У своего дома Светлана остановилась.
— Сейчас спать, спать. Устала я. — И неожиданно грубо засмеялась: — Если бы вы знали — какое счастье спать одной. Прощайте.
* * *
Пришло письмо от мамы. Она пишет: «Ты намерен жениться? В твоем возрасте это естественно, но знаешь ли ты, насколько это серьезно? Любовь и брак — это ведь не только радость, но и трудные человеческие обязанности по отношению к жене, самому себе, детям.
Прежде всего пойми, что ты соединяешь свою жизнь не с девушкой, не с женщиной, а прежде всего с человеком. Ведь то, что кажется тебе в ней таким удивительным и прекрасным, — женские молодость и красота — со временем окажется не таким уж важным.
И еще: хватит ли у тебя и у нее силы разума и любви, чтобы найти равнодействующую ваших характеров, без которой немыслима повседневная супружеская жизнь? Не будет ли все то иное, не похожее на тебя, что есть в ней, коробить тебя, раздражать? Сможешь ли ты отказаться от того, что задевает ее, научишься ли уступать ей, прощать мелкие недостатки и слабости?
Ты скажешь: но разве можно все предусмотреть на всю жизнь? Нет, конечно, все предусмотреть нельзя, но задуматься над этим ты обязан. От этого зависит не только твоя, но и ее судьба, а ведь женщины намного тяжелее расплачиваются за свои ошибки.
Говорю это потому, что мне хочется, чтобы твоя семейная жизнь сложилась удачнее, чем у меня.
Твой отец был хороший человек: трудолюбивый, честный, умный. Но он ошибся во мне тогдашней. Жизнь в Сибири, в деревне, казалась мне слишком серой. Я уехала от него на родину. Думала на месяц-два, а оказалось — навсегда. Через несколько лет я поняла свою ошибку, но исправить ее не позволила глупая молодая гордость. Так осталась я одинокой, а ведь мы, как я понимаю теперь, могли бы быть друг с другом счастливы.
Прочти мое письмо и подумай над ним, не знаю, способен ли ты сейчас мыслить трезво. К сожалению, ум, знание людей и способность ценить их приходят с возрастом.
Желаю счастья тебе и твоей юной подруге».
Мама — неисправимый педагог. Даже в таком письме она поучает, поучает. Но зачем мне сомневаться в Наде и самом себе? Мы любим друг друга. Наше будущее — это мы сами. Нелепо бояться за самих себя.
За несколько дней до нового года заболел Андрей. Невьянов, встретив меня на улице, попросил:
— Вы бы заглянули к Андрею. Заболел он, на работу не вышел.
Андрея я застал на кровати. Он лежал одетый, поверх одеяла.
— Что с тобой? — спросил я.
— А не все ли равно вам? — вскинул он на меня злые глаза. — Вам-то какая забота?
— Понятно какая — я врач.
Вмешалась мать Андрея:
— Ты не груби. К тебе пришли, так разговаривай толком.
— Что у тебя болит? — еще раз попытался я заговорить с ним.
— Это вас не касается. Не звал я вас и умирал бы, не позвал.
Мать его заплакала.
— Вы уж простите его. Он как дурной стал. И со мной тоже — слова доброго не скажет.
Я ушел, ничего не добившись. Обещал прислать вместо себя Леночку.
На другой день я встретил Олега на улице. Он ехал верхом на серой лошади. Увидев меня, резко дернул повод.
— Куда это ты? — удивился я.
— Провода тянем к новому коровнику.
— Как Новый год встречать будем?
Ответить ему не пришлось. Из переулка послышалась песня:
Ах, вы кони мои вороные, Вороные вы кони мои…Появились в обнимку Андрей и Погрызов. Оба в пальто нараспашку, с шапками, заломленными лихо на затылок.
Поравнявшись с нами, остановились пошатываясь. Андрей крикнул:
— Секретарь! Можно тебя?
Олег спросил:
— Что скажешь?
Андрей, будто не замечая меня, начал:
— Ты объясни, почему это всякие приезжие, так сказать, приезжают и это самое… воду мутят. Скажи, нужны они нам или нет?
— Знаешь, Андрей, давай завтра поговорим, когда ты трезвый будешь.
— Забрезговал, значит? Чуешь, Лаврик? Он не хочет.
Олег тронул лошадь. Я пошел рядом.
Назавтра Олег отправился к нему домой, хотел потолковать по-товарищески. Нужного разговора, однако, не получилось. У Олега вырвалось неосторожное:
— Ты под гору катишься.
Андрей сразу отшатнулся.
— А мне все равно, куда катиться, — в гору или под гору.
Олег пытался склонить его к откровенности:
— Ты что, из-за Надежды?
— Ты мне о ней не говори, — сжал зубы Андрей.
— Но, пойми, нужно взять себя в руки. Ты ведь неглупый человек.
— Кто человек? Я? Ты пойди у Надежды спроси, кто я. Она тебе скажет: «Подлец он». Вот как я теперь прозываюсь. И, пожалуйста, не «проявляй чуткости», иди лучше свои книжки читай.
— Ну, а из-за чего у вас так с Надей-то?
— Опять в душу полез? Отстань. А впрочем, извини — мутит жутко с похмелья. Не до тебя.
Рассказав мне это, Олег сжал кулаки.
— И все-таки я его не оставлю. Обсуждать его сейчас на комсомольском собрании бесполезно. Обижен он и считает себя опозоренным. Мне кажется, Погрызов нарочно подогревает в нем ревность. Тот тебя сильно не любит. Самое плохое, что у Андрея сейчас нет никакого поручения. После Нового года он поостынет, надо будет поручить ему вести кружок трактористов в школе. Дело живое, может быть, заинтересуется.
Внезапно он обмяк, опустил плечи. Задумался.
— О чем ты?
Он ответил вяло:
— Не умею я очень важного, может быть, главного.
— Чего не умеешь?
— Подойти к товарищу, растормошить, чтоб открылся, выложил душу. Вот ты меня хорошо знаешь. Почему это так?
Я ответил откровенно:
— Потому, что ты всегда несколько свысока к людям.
Он испуганно вскинул глаза:
— Правда? Странно. Не замечал. И к тебе?
— Ко мне, пожалуй, нет. А вообще-то это есть у тебя.
Олег улыбнулся, глянул на меня недоверчиво, искоса.
— А может, выдумываешь? С чего бы это мне вдруг — свысока?
ФИЛОСОФИЯ ЛИЧНОЙ СВОБОДЫ
Зарубин прислал мне коротенькую записочку: «Навестите, пожалуйста, Модеста Валентиновича. Видимо, он нездоров».
«Видимо, нездоров» — звучит странно. Почему Зарубин не написал просто, что Валетов болен?
В темноте шумела под ветром молодая сосновая роща. Сумрачно и глухо, как слепые, смотрели неосвещенные окна дома Валетова. Ветер протяжно скрипел незапертой калиткой.
Старик сидел на табурете, тесно прижавшись спиной к обогревателю. Он был в валенках, в ватной запачканной мелом телогрейке. При виде меня засуетился, зажег керосиновую лампу.
— Что ж вы в темноте сидите? — подивился я.
— Не хочется лишний раз пустоту видеть. Лишился я моего Павла Арсентьевича. Особенной души был человек. Мне с ним пречудесно жилось. Покинул он меня по семейным причинам: супруга явилась с детками, он дом купил.
— К вам и тропинки нет.
— Некому торить. Кроме Павла Арсентьевича, никто не заходит. А сам я раз в три дни проковыляю за хлебом, и опять идти некуда.
— А по воду кто ходит?
— Давно не обеспечивал себя. Снег таю. Скучно здесь. Собака была, так выла по ночам — все дурехе что-то чудилось. Спать не давала. Да я и без того почти не сплю.
— На что жалуетесь?
— Боже мой! Трудно даже определить. Температуру измеряю. Вот на листочке даже график вычертил ради убиения досуга.
Я посмотрел листочек, достал и погрел над лампой стетоскоп. Валетов поежился.
— Раздевания желательно было бы избегнуть. Потому что холодно.
— Дров нет?
— Хватает. Однако ж, они во дворе, а я сегодня выползти не решаюсь. Страшно. Ветер голову сносит.
Я сходил во двор, принес дров.
— Право же, вы напрасно утруждаетесь, — твердил он, пока я щипал лучину большим зазубренным ножом.
— Дети у вас есть? — спросил я.
— Дети? М-да… То есть какие дети? Зачем они мне? У меня пенсия, да и так кое-что про черный день на сберкнижке.
Он проковылял по комнате, задернул занавески.
— Вы не ходите с градусником, — предупредил я.
— Сейчас сяду. Мне даже совестно, что вам такие хлопоты. Конечно, у меня грипп, обыкновеннейший грипп.
Температура у старика оказалась нормальная. Когда дрова в печке разгорелись и в комнате стало теплее, я выслушал его. Худое тело было жалким и дряблым. Узкая вдавленная грудь, желтая, обвисающая на руках кожа. Сердце работало нормально. В легких ничего не прослушивалось.
— Вот и чай согрелся. Хотите? — предложил он. Я отказался.
— Ну, а я изнутри обогреваюсь. — Прихлебывая чай из маленькой синей чашечки, он рассказывал:
— Тут я вам про собачку начал, да не досказал. Сидела она на цепи, кормил я ее как надо. Конуру ей построил теплую, на мху, а что-то не нравилось ей. Выла по целой ночи. Думал я: чего ж ей нужно? Оказалось — свободы. Отвязал — убежала, и след простыл. А вот мне не хватает совершенно обратного — крепкой цепи.
— Как это понять?
— Ни к чему я не привязан. Начинаю приходить к убеждению, что человеку это обязательно необходимо, быть к чему-либо привязану. Я, может быть, и не болен вовсе, а просто нет у меня привязи. Тут доктор не поможет.
Он отодвинул пустую чашку, подошел к печи и стал греть руки над плитой.
— Вы вот спросили меня о детях. Я по привычке изрек: «К чему они мне?» Однако оно не так. Я ведь, когда в Озерки перебирался, имел определенную мыслишку — Светлану потихонечку к себе приручить и создать на старости лет подобие семейного гнездышка.
— О какой вы Светлане? Елагиной?
— Так точно. Она моя дочь. Не знали? А этого, может быть, никто и не знает, кроме нее да меня. Да, родная дочь, но, как это в старину называли, незаконная.
— А законные дети есть?
— Нет и не было. Женат я никогда не был. Связать себя не желал. Обузы боялся.
— Ну, а… — Мне хотелось было сказать слово «любили», но уж слишком не шло оно к нему. — Ну, а привязанности были?
— Без этого человеку невозможно. Светланина мамаша и была таковою. Уму непостижимо, что она во мне нашла, но утверждала весьма определенно, что нашла. Уговаривала жениться. Но я отступить не захотел.
— От чего?
— От своей философии.
— Что ж это за философия?
— Была такая самодельненькая. Именовал я ее «философией личной свободы». Если временем располагаете, могу изложить.
Он уселся на табурет подле печи, прижался спиной к обогревателю.
— Вам, как молодому человеку, должно любопытно показаться. Исходным моим пунктом была идея счастья. Счастье, считал я, есть наслаждение жизнью. Удовольствию сему, как я заключил, мешают житейские обстоятельства. Главнейшие из них три: личные болезни — раз, излишние желания, пустые капризы ума и плоти, так сказать, — два и еще третье — и это особенно важно — сочувствие ближним. Желая достигнуть счастия, надобно всего выше упомянутого избегнуть. Рассуждал я так: личных болезней можно избегнуть, следуя скромному образу поведения, ни в чем не пресыщаясь, как учили древние греки, сторониться тяжелой работы. Излишних желаний можно избегнуть привычной умеренностью. Остается избежать сочувствия ближним. Сие, надо сказать, самое что ни на есть труднейшее. Требуется ни с кем не связывать себя навеки, а природа очень настойчиво подталкивает к сочувствию относительно женщин, особенно в образе молодых девушек. Есть в них некая непреоборимая заманчивость. Во-вторых, книги любовь к людям проповедуют, иногда до слез сильно, как, например, Антон Павлович Чехов. Мысли эти посетили меня еще в желторотые годы и поместил я в рукописный журнальчик гимназический сочинение под заголовком «Философия личной свободы». В сем труде доказывал я своим однокашникам, что счастья в мире достигнет лишь тот, кто способен жить в одиночестве и пользоваться полной свободой ума своего и тела во благо себе одному, не принимая во внимание никого и ничего, к удовольствию твоему не касающегося.
Философию мою товарищи просмеяли и даже наградили меня прозвищем, каким — не так уж важно сообщать, но весьма непристойнейшим.
Папаша мой судия был, и я тоже по юридической линии пошел, в университет. Способности у меня были не ахти какие, но все же курс наук осилил. Стал не судьей, а нотариусом. Судить — это, знаете ли, дело канительное и простор большой для действия совести, а нотариусом преспокойно: кто-то продает, покупает, судится, разыскивает, завещает, а я от всего в стороне и с некоего олимпийского возвышения философически взираю на события. Все знаю, во все вникаю, а сам размышляю: суета сует все, как сказал некогда Екклесиаст, а я свободен, и нет мне до вашей муравьиной возни ни малейшего дела.
Так я тридцать лет нотариусом и прослужил. Газет принципиально не читал, чтобы не волноваться. Бывало, уборщица в кабинете цветы поставит, я прикажу вынести — с какой стати мне тревожиться, политы они или нет.
Светланина мамаша мою философию сильно поколебала. Особенной души была девушка. Одно время совсем уверовал, что другого счастья мне не требуется, как только возле нее жизнь провести. Однако одумался и свое независимое положение сохранил.
Еще в революцию трудный момент был — никак не мог в серединочке удержаться. Белые требуют: «Ты должен», — и грозят, красные в свою сторону тянут: «Ты должен». Я себя ничьим должником не почитал, думал только о том, как бы шальной пулей не задело. Колчак все же мобилизовал, пришлось дезертировать. Тоже момент наиопаснейший был — расстрел грозил. И последний момент: в сорок третьем году Светлана явилась в полуботиночках мужских, в юбчонке легонькой с голыми фиолетовыми коленками. По первому ледку. Судьбишка их с матерью прижала. Просила продуктов сколько-нибудь. Мамаша ее, Зинаида Васильевна, в то время в больнице пребывала. Однако и тут я от своего принципа отойти не посчитал возможным: отвечал девушке, что упомянутую Зинаиду Васильевну в числе своих знакомых припомнить не могу. Ничего, думаю, свет не без добрых людей — помогут. И правда — помогли, но девчушка оказалась, между прочим, памятлива. Когда я с ней здесь в переговоры вступить пожелал, на предмет, так сказать, семейного соединения, она мне так прямо и отрезала: «Вы, гражданин Валетов, ни на что относительно меня не рассчитывайте, а пуще всего на мои дочерние чувства. Вас я не знаю и знать не хочу, однако разговор наш прискорбный в сорок третьем году помню до ниточки. Тогда у вас дочери никакой не было, откуда же ей теперь взяться?»
А я-то для нее и дом соорудил и обстановочку пособрал. К сожалению, убедился, что характер у нее весьма острый и такими пустяками ее не приманишь.
Так и остался на старости лет наедине со своими немощами. Власть позаботилась — пенсию определила. Одному существовать вполне возможно. Однако, понимаете, как все обернулось: душа человеческая весьма загадочна и непостоянна — в чем ей отказано, того ей и подавай. Сижу здесь один, как сыч в дупле, и думаю, думаю и до того додумываюсь, что мозговращение обратным ходом начинает поворачивать. Например, прихожу к сомнению, тот ли я самый, за кого себя всю жизнь принимал. Непонятно? Постараюсь пояснить. Кажется мне, что я не свою, а чью-то чужую судьбу прожил. Был во мне кто-то другой, кого я во всем пресекал и приостанавливал. Вот этот другой и Зину любил, и Светку, а я запрещал ему об этом говорить, рот затыкал, и когда Светка за продуктами приходила, тот, другой, если хотите знать, плакал от жалости, но я его одолел. А может быть, я не его одолел, а самого себя? И не единый раз, а всю жизнь душил и каблуками топтал. Ради чего же? Ради себя опять же. Ради свободы своей загнал себя в такую философию, которая хуже всякого одиночного заключения. Вот этого я понять не в состоянии. Фамилия одна Ва-ле-тов, а человеков во мне двое, и один другого теперь допрашивает и казнит. И еще пустота меня донимает. Предметов в квартире уйма, передвигаться даже затруднительно, а мне все мерещится пустота, как в поле голом. Вещи с места на место переставляю, однако от перестановки мест сумма слагаемых не меняется — пустоту прикрыть нечем. Человека живого нет, дыхания его. Павел Арсентьевич проживал, так я при нем просто духом воспрянул. А теперь еще хуже прежнего, лучше бы и не было его.
В Валетове меня раздражала его дикая манера говорить какими-то сдвинутыми с мест словами, но понимал я, что это не простое пустословие привыкшего к кривлянию человека. Он будто стыдился говорить обыкновенно, стараясь заслонить шутовскими словечками сожаление о напрасно прожитой жизни.
— Нет ли у вас для сна чего?
Я дал ему люминалу. Он спрятал его в карман и снова заскрипел вкрадчиво:
— Опять же хочется вспомнить о купании Павла Арсентьевича. Я прежде и за собой замечал, а случай этот меня окончательно к общему знаменателю привел насчет совести. Мыслил я, что есть она плод изобретения писательской фантазии, ан, нет, не то. Есть в нас червячок некий, под самым сердцем проживающий, и не прогнать его никаким цитварным семенем. Убедился в том. Вы могли бы мне о ней сорок лекций прочесть — я бы стоял на своем. А вот когда у Павла Арсентьевича китель ледяной хрустел, то этот хруст меня на колени поставил. Поверил я. А зачем? Поздно уже верить. Ни к чему.
— И очень хорошо сделали, что поверили, — не выдержал я. — Очень хорошо. И не поздно. Вы человек здоровый — еще долго проживете. И со Светланой у вас еще, может быть, все наладится. Поймет она…
— Поймет? — спросил он почти испуганно.
— Не чужая ж она.
Старик с горечью поправил меня:
— Она-то не чужая, да я ей чужой.
Расставаясь со мной, он попросил:
— Заходите иногда ради скуки человеческой.
Когда я вышел из дома и оглянулся, то увидел: он стоит, отдернув занавеску, и смотрит на занесенную снегом тропинку.
НОЧЬ НЕОЖИДАННЫХ СОБЫТИЙ
Новый год решили встречать у Нади. Отец и мать ее уехали к бабушке.
Тридцать первого с вечера подул северный ветер, началась метель. Нудно застонали провода.
Иду к Невьяновым раньше, чем договорились. Хочется побыть с Надей вдвоем. Но она уже не одна. У нее Варя и еще две подруги. Помогают накрывать на стол.
Надя оживленная, румяная, в прозрачной кофточке. На мгновение задержала мою руку в своей, сказала одними глазами: «Люблю».
В углу стоит елочка — молоденькая, нарядная, и мне приходит мысль, что Надя сейчас чем-то похожа на нее.
Сходятся гости. Появился Костя с Аллой Букиной, вслед за ними девушки-доярки. Они стряхивают снег с платков, снимают шубы и тотчас убегают в горницу к зеркалу. Оттуда доносятся их смех и голоса:
— Ну как?
— Лучше всех.
— А сзади?
— Хорошо. Кто шил?
И опять смех, шепот. Сменив валенки на туфли, появляются припудренные, праздничные.
Пришел Олег с пластинками для патефона, в новом пальто и новой шапке, и с ним Алеша с баяном. Сразу объявляет нам с Костей:
— Давайте договоримся, друзья, — курить здесь не будем. Не всем приятно. — Подзывает Надю, спрашивает тихо:
— Андрея пригласили?
— Нет, — отвечает Надя. — Зачем?
— У нас ведь складчина. Он пришел бы не к тебе, а к нам. Нельзя парня отталкивать.
— Теперь уже поздно, — разводит руками Надя.
Часы показывают без двадцати двенадцать. Девчата суетятся, все еще куда-то бегают за рюмками, за стоваттной лампой, и в последнюю минуту оказывается, что котлеты не сдобрены перцем.
Садимся за стол по сибирскому обычаю — парни и девушки на противоположные стороны стола. Слышно, как в другой комнате бьют большие настенные часы.
Надя обращается ко всем:
— С Новым годом, с новым счастьем!
Чокаемся, выпиваем по рюмке кагора.
— Тебе чего положить? — спрашивает Надя.
Накладывает мне селедки, винегрета.
Сидим, беседуем. Олег по секрету сообщает мне, что две ночи просидел над доказательством теоремы Ферма.
— Смотри, — предостерегаю я его шутливо, — завязнешь на всю жизнь.
— Ну, это не квадратура круга.
— Ферма-то ведь как-то же доказал…
Алла через стол спорит с Алешкой, кто лучше изображает природу — Шишкин или Левитан. Варя сидит грустная, сосредоточенная. Надя рассказывает о корове, купленной недавно колхозом:
— Замучилась я с ней. Ее хозяйка, Марья, известная певунья, и когда доила, тоже, наверно, пела. Теперь, если молча начинаешь доить, молока не дает. Такая музыкальная корова. Вот и пою. Больше всего ей нравятся лирические…
Наливаем по второй рюмке.
— Теперь мой тост, — поднимается Варя. — Разрешите?
— Тише. Тише. Говори.
— Я предлагаю выпить за…
Варя делает паузу, выразительно смотрит на меня, затем на Надю. Надя удивленно и недовольно подымает брови.
В это время распахивается дверь. В кухню, весь в снегу, вваливается Андрей Окоемов. За ним Погрызов. Оба нетвердо держатся на ногах.
— С новым счастьем! — говорит Андрей.
Все от неожиданности молчат. Он пьяно ухмыляется:
— Если лишние — извините… Можем сделать от ворот поворот.
— Ноги-то обмети, — говорит Надя.
Андрей сдергивает с головы шапку.
— Ага, ноги! Ликуй, Лаврик. Надежда Семеновна снизошла. Теперь не выгонят.
Он швыряет пальто свое на сундук, стаскивает с Лаврика полушубок. Парни подвигаются, дают им место за столом.
Варя, неудачно начавшая тост, все еще стоит, протянутая рука ее заметно дрожит, и на скатерть падает несколько темных капель. Она бледна, грудь взволнованно поднимается. Надя шепчет ей на ухо.
— Ничего — семи смертям не бывать, а одной не миновать, — отвечает Варя и громко обращается ко всем: — Я ведь не кончила. Предлагаю… за счастье Надюши и Виктора Петровича. Пожелаем им согласия в семейной жизни.
Все я заметил в короткий этот миг: быстрый взгляд Олега от Вари в сторону Андрея, и как что-то дернулось на шее Окоемова, и как широко, судорожно вдохнул он воздух, как будто вошел в ледяную воду, и как Лаврик с усмешечкой склонил голову.
Все тянутся к нам с Надей с рюмками.
— А мне почему ж не налили? — хрипло спросил Андрей.
— А вот, — показывает кто-то на его рюмку.
— Ради такого случая рюмки ни к чему. Лаврик! Стакан!
Погрызов с наигранной угодливостью кидается к полке.
— А тяжелая артиллерия у нас у самих есть.
Он вытаскивает из кармана пол-литра водки, срывает белый сургуч, дополна наливает себе стакан.
В комнате нависает томительная тишина.
— Здесь не распивочная, — замечает строго Букина.
— Завидно? — подмигивает в ее сторону Андрей.
— Андрей, не дури. Пришел, так не ломай компании, — уговаривает его Костя.
— А я могу всем налить. Ну, кому? — Он встает, выпрямляется во весь рост. — Пить так пить… За Надежду Семеновну вот как надо.
Он осушает стакан, громко бьет донышком его о стол. Алеша подвигает ему тарелку с курником.
— Закуси, а то одуреешь.
— Не требуется. Для того и пьют.
Ксюша, сидящая против меня, пытается запеть.
За фабричной заставой, Где закаты в дыму, Жил парнишка кудрявый…Ее робкий голос никто не поддерживает, она спотыкается раз, другой и умолкает.
— Пейте, ешьте, — уговаривает Надя гостей упавшим голосом.
Но ни есть, ни пить не хочется. Отставляю рюмку. То счастливое, светлое настроение, с которым я шел сюда, исчезло. Хочется встать и уйти домой. Сижу только потому, что боюсь обидеть Надю.
Алеша лениво ловит тупой вилкой скользкие грибки. Костя Блинов приуныл и рассеянно вертит в пальцах хлебный шарик. Варя отвернулась: того и гляди заплачет.
— Ну, вы как хотите, а я еще подзаправлюсь, — подмигивает Андрей, опять наливает себе водку.
Лаврик хихикает:
— Вот жизни дает!
Варя кидается к Андрею, тянется к его стакану.
— Не пей больше. И так на себя не похож.
Он противится:
— Это еще почему? Я никого не трогаю — каждый сам по себе.
— Не пей, — настаивает она.
Вмешивается Олег:
— Андрей, оставь эти глупости.
Андрей отталкивает Варю.
— Отстань. Не вяжись. Вот женюсь на тебе, тогда будешь, а сейчас уйди. Да, прошу внимания… Прошу выпить еще… за наше с Варварой Сергеевной счастье. Она-то от меня не откажется. Верно, Варюха? — Он обнимает девушку, тянется губами к ее лицу. Она вырывается, убегает в горницу. Оттуда слышатся ее рыдания.
Девушки оставляют стол, уходят к ней. Остается только Надя. Она приближается к Андрею, близко вглядываясь ему в глаза, выговаривает с презрением:
— Чем шутить вздумал! Уйди лучше, если не можешь быть человеком.
Лицо его тяжелеет прихлынувшей кровью, на шее надуваются вены. Я выхожу из-за стола, становлюсь рядом с Надей. Олег берет его стакан, выливает водку под печь.
— Все против меня? — усмехается Андрей. — Выбирается из-за стола, садится на пол подле елочки. — Ну, давайте, давайте! А я отдохну.
Лицо его в поту, растрепанные волосы лезут на глаза. Надя отзывает меня в сторону.
— Прости, что все так глупо…
Алеша вынимает из футляра баян, играет вальс. Костя Блинов уводит Надю танцевать. Лаврик тянет за руку Аллу, она отказывается.
— Значит, мы безработные! — кричит Лаврик.
Он опускается на пол рядом с Андреем, достает портсигар.
— Здесь не курят, — кидает ему Надя.
— Это мы п-понимаем, — икает Андрей. — Пошли, Лаврик!
Они выходят в сени. Лаврик почти тотчас же возвращается, пробирается между танцующими ко мне.
— Андрей просит на пару слов.
Накидываю шубу, выхожу вслед за ним.
Метель кончилась. Небо очищается от облаков. Блестят кое-где звезды. Андрей стоит на крыльце. Ворот его белой шелковой рубахи расстегнут. Враждебно смотрят на меня пьяные, белесо-полынные глаза.
— Иди, оденься. Простынешь, — советую я.
— Не то говоришь! — грубо обрывает он меня.
Наклоняется, зачерпывает ладонью снег.
— Скажи лучше, доктор, правда это?
— Что именно?
Андрей трет лицо снегом, вытирается рукавом.
— Скажи, как дважды два — ты женишься на ней?
— Здесь не место…
— А ты говори, не бойся.
— А кого бояться?.. Да, женюсь.
— Выходит, Окоемов лишний?.. Точка. Так и запишем.
Я поворачиваюсь, чтоб уйти, он удерживает меня за плечо.
— Ты куда?
Мы стоим на крыльце вдвоем. Лаврик куда-то исчез. Правую руку Андрей подозрительно держит в кармане. Наверное, нож.
— Не уйдешь! — хрипит он.
Внезапно появляется Надя. Она сразу угадывает, что происходит. Заслоняет меня. Голос ее звучит твердо:
— Так вот зачем ты пришел! Отпусти. Слышишь?
Сейчас же отпусти!
Андрей отпускает мое плечо.
— Идем, Витя. А ты, Андрей, не унижай себя.
В дверях мы наталкиваемся на Олега.
— Что такое?
— Все в порядке, — отвечаю я.
В горнице Надя взволнованно спрашивает меня:
— Зачем ты вышел к нему?
Оглядывается на дверь, быстро целует.
— Пойдем к людям, а то неудобно.
Не знаю, о чем думал Андрей, пока стоял один на крыльце, только он опять вернулся в комнату, медленным, нетвердым шагом приблизился ко мне и протянул нож.
Это был обоюдоострый, прочный нож, выточенный из напильника. Андрей держал его за острие.
— На, возьми.
— Зачем мне?
— Не хочешь? Ну, и мне ни к чему…
Он обводит вокруг глазами, швыряет нож на шесток печи. Пошатнулся, придержался рукой за Лаврика, с силой провел ладонью по растрепавшимся волосам, по мокрому лицу.
— Пошел я домой… Пальто где? — Нахлобучил шапку, влез в пальто. — Ничего мне не надо. Ушел я.
После этого Лаврик еще пытался плясать, но Алешка бросил играть. Начинают разбирать шубы.
— Простите, нехорошо все вышло, — извиняется Надя.
— Опять мы прощаемся, — говорю я ей тихо, чтоб никто не слышал.
— Весна скоро… — отвечает она, легко и горячо пожимает мне пальцы. — Скоро, Витя… Варя, а ты куда? Ты ж хотела у меня ночевать.
— Мне надо пойти. Боюсь я. Пьяный он сильно.
— Ну, иди. Может, и надо пойти.
— А ты не забоишься одна? — спрашивает Варя.
— Мне некогда будет бояться. Сейчас спать лягу.
От Невьяновых иду с Варей.
— Невеселый Новый год, — вздыхает она.
Я молчу: боюсь обидеть Варю.
— Я сегодня нарочно узел разрубила. Надюшка, может, в душе и сердится, ну да ничего. Так лучше будет. И ему легче, раз все решилось. Мучится он, а зря. Неужто на одной Наде свет клином сошелся? — Другим, помягчавшим голосом продолжает:
— Вы не думайте, что он плохой. Водка его портит да эта любовь незадачная. Были мы раньше хорошими друзьями, а потом все расклеилось.
— Нравится он тебе? — спрашиваю я, видя, что ей хочется говорить о нем.
— Люблю. Вот и сейчас буду ходить и искать, и домой не уйду, пока не узнаю, что с ним ничего не стряслось.
— Он уж дома, наверное.
— Дай бог.
У Больничного переулка я должен свернуть влево. Мы останавливаемся.
— Сколько времени? — спрашивает Варя.
Смотрю на светящийся циферблат часов.
— Ровно два.
Она уходит, издали окликает:
— Что ж стоите? Без милой ноги домой не идут?
Как она угадала, что творится у меня в душе? Ведь и правда, не могу сегодня уйти домой.
Варя скрывается из вида. Я поворачиваю назад. У Нади еще горит свет. Наружная дверь не заперта. Вхожу в сени, едва слышно стучу.
— Кто там? — так же тихо спрашивает Надя.
— Открой, — отзываюсь я, задыхаясь от волнения.
Брякает отброшенный крючок. Дверь открывается. Надя протягивает мне руки — горячие, легкие, обнаженные до плеч.
— Я знала, что ты придешь…
— Милая моя…
Больше я не могу вспомнить, о чем мы говорили. Может быть, это случилось без слов. Милая, нежная моя Надя.
Будит меня ее голос.
— Витя, вставай. Стучат к нам.
Действительно, в дверь барабанят громко, исступленно. Надя бежит на кухню. Оттуда говорит через дверь с кем-то, кто в сенях:
— Что? Не открою. Домой ушел. Да, нет же, говорю вам. Не знаю. А зачем он?
Возвращается ко мне помертвевшая, выдавливает:
— Тебя ищут… Там Андрея порезали… умирает.
Помню, как бежал напрямик, через огороды, утопая в глубоком снегу, к медпункту. Ариша не спала. Дожидалась меня. Выхватил из рук ее ключи. Кинулся в амбулаторию.
На улице, подле старой избы Андрея, толпились люди.
— Доктор идет. Дайте дорогу.
— Поздно уже.
— Кровью изошел.
В душной комнате, притиснутой низким потолком, всхлипывают женщины. Мужчины без шапок, словно в доме покойник. Одно лицо бросается мне в глаза своею бумажной бледностью. Это лицо женщины, которая склонилась у изголовья кровати и неотрывно смотрит на Андрея. Он лежит на спине в мокрой красной рубахе. Голова запрокинута назад. На обнаженной шее наискось от уха к гортани широкая рана. Следующий миг я уже понимаю, что рубаха красна от крови, а женщина с бумажно-белым лицом — Варя Блинова. Погрызова протягивает ей что-то в пузырьке:
— Понюхайте.
Старик Окоемов в нижнем белье покачивается на стуле и обводит всех совершенно бессмысленным, пустым взглядом.
— Лампу! — бросаю я.
Кто-то близко освещает лицо Андрея. Глаза его закрыты, дыхания не заметно, пульс прощупывается с трудом.
— Еще лампу, даже две.
Готовлю шелк, пинцеты, иглы. Погрызова обрабатывает мне руки. Варя немного пришла в себя. Губы ее шевелятся:
— Говорите, что делать.
— Срочно за машиной. Надо в больницу. Влить кровь.
Из толпы выползает шепоток:
— Антихрист навязался. Живого не пожалел, так хоть покойника постыдился бы. Погубитель…
Встречаюсь взглядом с наглыми, насмешливыми глазами Авдотьи.
Кто-то шикает на нее:
— Умолкни ты, ведьма.
— Чего уж теперь.
Я прошу всех выйти.
— Вот еще хозяин объявился, — возражает Авдотья.
— Уйди отсюда! — кричу я, чувствуя, что перестаю владеть собой. Старуха трусливо шмыгает в дверь. Люди нехотя вытекают наружу.
С помощью Погрызовой накладываю четыре шва, делаю перевязку. Люди как-то незаметно снова набираются в комнату, молчаливо и хмуро наблюдают за тем, что я делаю. Опять жарко, пот заливает мне лицо.
Андрей открывает глаза. Будто света прибавилось в керосиновых лампах. Лица людей прояснились, ожили.
Кто-то рассмеялся:
— А бабка Авдотья хоронить собралась.
— Так это врач, а она кто?
Мать Андрея забилась в истерике. К ней кидаются женщины, поят ее водой, кто-то накапывает валерианки.
Замороженное окно вспыхнуло: к дому подошла машина.
СЛЕДСТВИЕ
Из Пихтового я вернулся на другой день, и сразу на улице повстречалась Светлана в короткой плюшевой жакетке, в резиновых ботиках, с плетеной сумкой в руках. Она смятенно оглянулась, потянула меня за рукав в сторону забора.
— Что я вам скажу…
Ее крашеные, редисового цвета губки потянулись к моему уху. Подбритые черненые брови ее были похожи на мокрые перышки.
— Про вас нехорошо говорят… Остерегайтесь. В магазине бабка Окоемова… что Андрея это вы из ревности. — Глянула с нескрываемым ужасом мне в лицо. — Не верю. Не может быть.
— Конечно, не может быть, — улыбнулся я, стараясь оставаться спокойным. — Чепуха…
Она робко протянула руку, озябшей ладонью погладила мой рукав.
— Вы не беспокойтесь, вас здесь любят.
И вдруг дернулась, вскинула голову и ушла прочь чуть развинченной, скользящей походкой.
Дома я узнал от Ариши, что в Озерки уже приехал следователь, вызывает людей, выясняет обстоятельства ранения Андрея. Ариша, тревожно посматривая на меня своими темными внимательными глазами, рассказывала:
— Молодой, но острый. Во все проникает, а самого не очень поймешь.
— Где вы его видели?
— Сюда приходил. Интересовался, в какое время ты в Новый год с вечера вернулся.
— А вы что?
— Сказала, что на часы не смотрела. Что? Неладно сказала?
— Нет, почему же? Раз это правда.
— В амбулаторию заходил, с полу спички все пособрал, спрашивал, давно ли прибирала.
Не столько сами слова Ариши, сколько ее расстроенное лицо, опечаленные глаза встревожили меня.
— Не понимаю, — сказал я Арише. — Сейчас Елагину видел. Говорит, Авдотья распускает слухи… что Андрея… я. — Мне стыдно было выговорить слово «ранил».
— Слышала уже, — нахмурилась Ариша. — Может, он сам себя с перепою. Бывает такое.
— Но зачем клеветать?
Ариша улыбнулась грустно.
— Ты что хочешь? Осот рвать, да пальчики не уколоть? А ты крепче стой на земле. Обеими ногами упирайся, чтоб не сшибли.
Знал я, что унывать нет причины, и все-таки стало тоскливо и одиноко. Правда, я постарался не показывать этого, поговорил с Аришей о чем-то постороннем, совсем не помню — о чем, и ушел к себе.
Мысль о том, что меня подозревают, не давала покоя. «Зачем мне расстраиваться? — убеждал я себя. — Случилось несчастье, следователь делает свое необходимое дело и пусть делает. Криминалистика — это наука, она верит только фактам, строго проверенным фактам. Разве будет он слушать наветы невменяемой старухи? Мало ли что она может наплести? Надо разобраться. Ясное дело, следователь уже знает о нашей с Андреем ссоре на крыльце, но зачем он собирал спички?»
Прилег на постель. Как хорошо бы сейчас уснуть. Конечно, Андрей, как только ему станет лучше, сам расскажет правду. Лгать он не способен. А если он умрет? Вдруг я заметил, куда забрели мои мысли. Стало нестерпимо стыдно, что я связываю мысль о выздоровлении Андрея со своим оправданием. Низко, безобразно.
В голову настойчиво ползут липкие, тягостные картины. Передо мной узкий, высокий бокал, наполненный кагором. Варя Блинова с вызовом вскрикивает: «За счастье!»
Кто-то кричит истошно: «Горько!»
Недоумевающе моргают близорукие глаза Аллы. «Зачем! Это только на свадьбах». Все встают, я тянусь к Надиной рюмке и не могу дотянуться.
Красная рубаха Андрея. Когда он успел переодеться? Он пляшет. За моей спиной сиплый придушенный голос Окоемовой: «Сам погубитель явился». Слово-то какое нашла — «погубитель». Оно жжет, как огнем.
Голубое поле, занесенное снегом. Наша «Победа» зарывается в него по самый радиатор, по-волчьи воет от напряжения, как больной в бреду, кидается из стороны в сторону. Уткнувшись горячей мордой в снег, захлебывается. Тогда я выскакиваю наружу и выхватываю железной лопатой из-под бессильно вращающихся колес сырое месиво снега…
Будит меня Зарубин. Вскакиваю с постели.
— Следователь вас приглашает, — поясняет Зарубин и успокоительно добавляет: — Да вы не торопитесь, успеем.
— Тут ребята заходили, — сообщает Ариша. — Я уж не стала будить тебя.
— Кто был?
— Костя Блинов, Алешка, Букина и Олег, вроде.
Пока одеваюсь, Зарубин с преувеличенным интересом осматривает комнату, дивится, как много книг. Осведомляется, теплая ли квартира.
По пути в сельсовет тоже говорим о малозначительных вещах. Посредине улицы трактор тянет подхваченный стальным тросом стог сена. Позади стога бегут ребятишки, подпрыгивают, стараясь повиснуть, прокатиться.
— Здорово Новиков придумал, — поясняет Зарубин. — Экономия. Прежде какой труд: грузи сено на сани да сгружай. А сейчас подъехали, зацепили и вези. Дома на место поставили, трос выдернули, и делу конец.
На меня успокоительно действует его неофициальный, домашний басок, в котором слышится: «К чему волноваться? Следователь вызывает, так он обязан вызывать. Может, и подозревает, так это по молодости, а я не такие виды видывал, в людях разбираюсь, а потому в вашу виновность не верю».
Против дома Невьяновых замечаю: зеркальный след санных полозьев завернул с дороги к воротам. Значит, родители Надины вернулись.
У крыльца сельсовета кучки людей. Сошлись любопытные, жадные до новостей. Как же, небывалое событие — следователь приехал. Окоемова тоже здесь. Прохожу мимо. Слышу сзади голос ее:
— Вот и главного привели.
Меня, значит.
Из плохо прикрытой двери председательского кабинета сизой шелковой ленточкой ползет струйка табачного дыма. На скамье в углу Лаврик. Чиркнул по мне настороженным острым взглядом. Лицо его, как всегда, сальное, щеки и подбородок в черной щетине. Запахнул плотнее полы полушубка, отвернулся.
Зарубин улыбается мне — не робей, мол. Вхожу. Следователь сидит, отвалясь на спинку кресла, курит. Перед ним на письменном столе недоеденная булка и стакан молока. Увидев меня, он поспешно отставляет стакан, отодвигает булку и прикрывает их газетой. При этом он выглядит так растерянно, как если бы я увидел у него на столе не булку и молоко, а плюшевого мишку.
Следователь, — розовощекий блондин с желтыми пушистыми усиками, еще очень жидкими, сквозь которые просвечивает верхняя губа, — хмурится, указывает на стул:
— Прошу. Как ваша фамилия? Так. Да, кстати, вы на часы не обижаетесь? Сколько сейчас времени? Три? Хорошо.
Он удовлетворенно кивает, что-то записывает. Я понимаю — допрос начался. Почему он проверил мои часы?
Читает:
— За дачу ложных показаний вы можете быть привлечены к уголовной ответственности по статье…
Слова эти, должно быть, обладают гипнотической силой. Я ощущаю робость, хотя лгать не намереваюсь.
Записав обо мне обычные анкетные сведения, он вынимает из ящика письменного стола нож. Я сразу узнаю его — это самодельный, обоюдоострый нож с черенком из текстолита. На лезвии чернеет запекшаяся кровь.
— Вам знакома эта вещь?
— Да, — отвечаю я.
— Расскажите.
Излагаю ему события новогоднего вечера. Говорю кратко и неторопливо, потому что волнуюсь и боюсь сказать что-нибудь неверно.
— После того, как Окоемов кинул его на шесток, не брал ли его кто-нибудь другой?
— Не видел.
— Вы твердо помните?
— Вполне.
— С кем пришел Окоемов?
— С Погрызовым.
— И ушли они вместе?
— Нет, Окоемов ушел раньше.
— Так, а где вы расстались с Варварой Блиновой?
— На углу Больничного переулка.
— Она спрашивала вас, сколько времени?
— Да.
— И вы что ответили?
— Ответил: «Ровно два».
— А когда вы пришли домой?
Следователь внимательно смотрит мне в глаза. У него лицо шахматиста, сделавшего удачный ход.
— Точно не знаю.
— А примерно?
— Даже примерно не знаю.
Он проницательно щурит веки.
— А я напомню вам. В амбулатории около шкафа с инструментами я обнаружил семь спичек. Пять из них — сгоревшие. Вы зажигали их, чтобы осветить помещение. Значит, свет в это время был уже выключен. Я справился на электростанции. Подача тока была прекращена в три часа ночи. Уборщица вечером прибирала помещение. Значит, спички набросаны вами уже после трех часов ночи. Между прочим, психологическая деталь — две спички сломаны. Это указывает, что вы очень торопились и были чем-то взволнованы.
Теперь я понимаю, к чему он клонит.
— Сколько времени требуется, чтобы дойти от угла Больничного переулка до медпункта?
— Не знаю.
— А я засек время: ровно шесть минут, при движении очень неторопливым шагом. Итак, где же вы находились от двух до трех часов ночи, а может быть, и позднее?
Ясно, что на этот вопрос я отвечать не могу. Так я и заявляю ему.
— Это ваше право, — соглашается он вежливо. — Вы подождите там, а Погрызова пригласите ко мне.
Выхожу в приемную. Лаврентий уходит к следователю. Из-за двери по-пчелиному гудит их разговор. Слова неразличимы. Зато из другой комнаты, оттуда, где обычно работает бухгалтер, отчетливо доносятся два голоса. Один — Новикова. Он звучит ровно, настойчиво:
— Совершенно уверен, что не виноват…
Ему вспыльчиво возражает Егоров:
— Не следует доверяться интуиции. Это, знаешь ли, очень шаткое основание.
— У меня интуиция, а у тебя что?
— Логика! — восклицает Егоров. — Логика подсказывает. Андрей его соперник. Ты знаешь римскую пословицу: «Скажи, кому выгодно преступление, и я скажу тебе, кто его совершил».
Новиков не соглашается.
— Я знаю русскую: «Первая пороша не санный путь».
Выхожу на крыльцо, чтобы не слышать этого разговора. И без того душно от вопросов следователя.
На перилах крыльца присел Зарубин. Внизу — Погрызова, оживленная, даже как будто помолодевшая, слушает Окоемову. Та, в синем суконном платке, уютно разместившись на завалинке, повествует таинственным, но громким шепотом:
— Известно, бешеный… На меня тогда накинулся. Да и Андрею он давно грозился: «Головы тебе не сносить». А Андрей-то наш, все знают, воды не замутит.
У Погрызовой красный от холода нос. Постукивая ботинками в калошах, она топчется перед старухой, ужасается, делает большие глаза.
Заметив меня, разговора не прекращают. Шушукаются так, что все слышно. Голосок Погрызовой шипит, как шкварка на сковороде:
— Я его сразу раскусила. Ему своей ставки, видите ли, мало, так он еще аптеку у меня отнять захотел. То не так, это не так. Но не на таковскую напал…
— Тьфу, раскудахтались, — сплевывает Зарубин.
Ожидаю долго. Час, может быть, полтора. Или это только кажется?
Уходит домой Новиков. Заметив меня, приостанавливается.
— Нам не по дороге?
— Мне еще к следователю.
— Ну-ну. А что это пальто у вас расстегнуто? — Прибавляет тихо, только для меня: — Обвисать не следует. Застегнитесь. Отсюда пойдете, загляните ко мне, если будет настроение.
Вышел от следователя Лаврик. Молча кивнул мне. Я понял — снова к следователю.
Он встретил меня, как мне показалось, с предвкушением какой-то своей удачи. Обратился очень ласково:
— Итак, продолжим? Значит, когда вы вернулись оттуда, где вы были, то постучали к санитарке и попросили ключ от помещения медпункта? Не так ли?
— Так.
— Зачем?
— Чтобы взять инструменты и перевязочный материал.
— Но откуда же вы знали, что Окоемов ранен?
Рука его играет карандашом, слегка постукивает им о стол.
— Это не важно, — говорю я.
— Напротив. Сами посудите, странно получается: нож этот найден не на шестке, а в пяти с половиной метрах от Окоемова в снегу. После того, как вы расстались с Блиновой, вы не сразу направились домой, а где-то пробыли час или больше. Никто из тех лиц, которые подобрали Окоемова, вас не видел, а вы уже спешите за перевязочным материалом. Очень все загадочно. Не правда ли?
— С вашей точки зрения, пожалуй.
— Напрашиваются весьма неприятные заключения. Почему же вы молчите?
— Все, что мог, я сказал.
— Вы вынуждаете меня взять подписку о невыезде.
— Берите что угодно.
Не читая, я подписал какую-то бумагу и протокол допроса.
— Можно идти?
— Да.
Выйдя от следователя, из приемной звоню в Пихтовое. Мышиный голос дежурной сестры сообщает мне, что состояние Окоемова продолжает оставаться тяжелым.
У ворот сельсовета сталкиваюсь лицом к лицу с Олегом. Он спрашивает:
— Был уже? Меня тоже вызывает. Как, по-твоему, кто все-таки ранил Андрея?
— Не знаю. Следователь, например, уверен, что я.
— Тебе это показалось.
— Нет, улики складываются против меня.
— Какие же могут быть улики?
Я рассказал Олегу о разговоре со следователем. Он задумался:
— Действительно, непонятно, где же ты был?.. Мне это надо знать не из любопытства, — холодно говорит Олег. — Ты ведь комсомолец нашей организации.
— Я был у Нади.
Олег молчит, покусывает губы.
— Нехорошо складывается. Ты понимаешь, если дело дойдет до суда, то вам придется сказать правду. Легко ли это? Особенно ей…
— Все знаю, Олег.
— Ну, я пошел к следователю.
— Только об этом…
— Конечно. Ни слова.
Улыбнулся своей широкой, приветливой улыбкой, которую я у него так люблю.
— Путаники вы, путаники.
Проходя мимо дома Невьяновых, я замедляю шаг. В замороженных окнах что-то мелькнуло. Может быть, это Надя.
Идти к ней сейчас не могу, и к Новикову не пойду. Слишком все мутно, противно, нехорошо.
ПОСЛЕДНИЙ РАЗГОВОР
Какая усталость, как все глупо. Одно желание — плюхнуться в кровать, ни о чем не думать, никого не видеть. Спать!
Раздеваясь у себя в прихожей, чувствую неизвестно откуда взявшийся запах яблок. На вешалке к моему неуклюжему выездному тулупу прильнуло чье-то дамское пальто с пушистым меховым воротником и серыми большими пуговицами. Думаю с досадой: «Кто бы это мог быть?»
Вхожу в комнату. Никого, кроме Трезора. Он подбегает ко мне, трется мордой о колени. Замечаю на столе Аришину стеклянную вазу. В ней горкой наложена крупная антоновка. В пепельнице недокуренная папироса. На полу коричневый чемодан. В недоумении останавливаюсь около стола. Рядом скрипнула половица, и кто-то, прильнув ко мне сзади, прикрывает мне глаза холодными ладонями. Трезор рычит. Мне следует угадать, кто это, но угадывать нет охоты. Я отнимаю от лица чьи-то слегка сопротивляющиеся руки и оборачиваюсь. Предо мной стоит готовая расхохотаться Вера.
— Ты? — вырывается у меня от неожиданности.
— Не ждал?
Она жмет, тискает мою руку. Вглядывается мне в лицо, ждет чего-то. Чего? Что я обниму ее? Поцелую?
Вместо этого я говорю:
— Откуда ты взялась?
Напускное оживление ее уже исчезло. Она улыбается сдержанно.
— Взяла и приехала. И, кажется, как раз вовремя. Что ты смотришь на меня так дико?
Приблизилась к столу, взяла из пепельницы свою недокуренную папиросу.
— У тебя можно курить? — Закурила, выдохнула дым вверх, к потолку. — Ты извини, я тут прикорнула, дожидаясь тебя. На твоей постели. — Заговорила насмешливо: — Между прочим, я уже в курсе всех ваших новостей. Следователь. Допросы. Какие-то ножи и черт знает что… Мне шофер рассказывал. Я была поражена. Сибирь и вдруг испанские страсти. И, говорят, героиня романа — девушка? Хорошенькая? Очень?
— Зачем тебе это?
— Да, конечно, — с сарказмом бросила Вера. — Ни к чему, но в эту историю впутали тебя. Подозрения, допросы. Какая глупость! Я ведь говорила. Не надо было забиваться в такую глушь. Чего ты ждал от этих людей? Благодарности? Детская наивность!
«Зачем приехала?» — лихорадочно размышляю я.
С тех пор, как я ее видел, она как-то потускнела. Между накрашенными губами желтым блеском непривычно вспыхивает золотой зуб. Коричневое платье из дорогой шерсти плотно облегает пополневшее тело. Под глазами морщинки — тонкие, как жилочки на засохшем листе.
— Что же ты думаешь делать? — спрашивает Вера.
— Как что?
— Оставаться здесь?
— Конечно.
— Не понимаю. — Вера отходит к дивану, садится, закинув ногу на ногу. — Это безумие. Оставаться после того, как тебя облили грязью? Да где твоя гордость? Не узнаю тебя. Ты посмотри, на кого ты стал похож.
Вера вскакивает с дивана, приближается ко мне. Берет за плечи.
— Ну-ка повернись к свету. Ты всегда такой?
— Какой?
— Первобытный. Галстук не носишь. Худой, как голодающий индеец. Подстрижен как-то странно. Да есть ли у вас парикмахерская?
— Стрижет один тракторист.
— Оно и видно, что тракторист.
Мы стоим у окна. В окно смотрит малиновый закат. Чернеют, как траурные флаги, приспущенные ветви неподвижных пихт.
— Да, чуть не забыла…
Вера вынимает из чемодана зеленый с голубыми полосами джемпер, развертывает предо мной.
— Оригинальный, не правда ли? Тебе будет к лицу. — Она кидает джемпер на стол. — Примерь, я отвернусь.
— Не надо, Вера. И примерять не буду.
Вера качает головой.
— Что с тобой?
Протянула какую-то книгу. Монография Смородинова «Наука о долголетии», та самая, которую я видел в рукописи, отпечатанной на старенькой разбитой машинке. Книга свежая, как младенец, только что вымытый в ванне.
Вера испытующе покосилась:
— Ну, что скажешь?
— Что сказать? Прочту с удовольствием.
— И честолюбие твое тебе ничего не говорит?
— У меня нет его.
— Напрасно… Честолюбие — это питательный бульон, на котором выращиваются способности.
— Способности — не микробы. Стимул честолюбия — это что-то из другого мира… Во всяком случае, не из медицинского.
— А ты не боишься за себя? Ведь способности…
Мне не хотелось слушать ее. Я никогда не замечал у себя никаких особых способностей — ничто не давалось мне легко. Меня злило, когда мне говорили: «У тебя способности». Может быть, только одна способность отличала меня от моих сверстников — способность подолгу сохранять желания…
Она ходит по комнате и говорит. Она будто опасается, что в комнате наступит тишина. Голос ее звучит надтреснуто, выражения лица в сумерках я уже не различаю.
— Почему ты не хочешь быть откровенным? Молчишь, замыкаешься… Между прочим, от станции сюда меня вез какой-то питекантроп. От него жутко воняло чесноком и бензином.
— Чеснок полезен, в нем фитонциды, — вставляю я некстати, а сам думаю: «Почему она не говорит о главном — зачем она здесь». Вера продолжает с фальшивым изумлением:
— Между прочим, тебя здесь знают. Представь себе, он не хотел меня брать. Тогда я назвалась твоей женой, и он, как по волшебству, стал вежливым. «Садитесь, пожалуйста. Что ж вы раньше не сказали?» Стажера сейчас же в кузов, а меня рядом с собой. Ты, надеюсь, извинишь меня за эту маленькую мистификацию. Не могла же я идти пешком.
— Слышал бы это Нечинский! — вставляю я, стараясь сдержать раздражение.
— Можешь меня поздравить — с Нечинским все кончено.
— Что? Умер?
— Нет, зачем такие ужасы? Просто я развелась.
— Просто?
Вера продолжает с невеселым смехом:
— Ты же сам хотел этого. Забыл?
Хрустит пальцами, смотрит в окно, где между двумя белыми занавесками виднеется синяя полоска неба, говорит:
— Часто думаю о ребенке. Как была бы я счастлива! А так все пусто, холодно. Остался ты один. Но и ты, как чужой. Ты знаешь, я многое поняла за последние месяцы. Я жестоко ошиблась в выборе профессии. Наша работа невыносимо нудная. Осенью была на практике в Южном Казахстане. Ветер и блохи. Что-то кошмарное. К ним привыкнуть нельзя. Может быть, окончив институт, придется вернуться туда же. Награда за шесть лет отвратительнейшей зубрежки. Лучшие годы зачеркнуты. Ты понимаешь, я в тупике. Не хочу… И больные. У меня к ним отвращение. Пойду хоть на завод, хоть в продавщицы… Ты думаешь, не смогу? Смогу. Для тебя все смогу. Мне теперь хочется жить просто. И чтоб не было лжи. Чтоб ни к чему себя не принуждать. У нас будет небольшая квартирка. Окно на Волгу, книги…
В голосе ее слышится что-то надломленное, неуверенное, даже заискивающее.
— Поздно, Вера.
Хочу сказать, что не будет у нас ни квартиры, ни комнаты, ни окна на Волгу, что она сама чужая мне, нелюбимая, но Вера не дает мне договорить. Она взмахивает руками, словно что-то стряхивает с себя. Снова голос ее звучит развязно, как будто две Веры в комнате; одна — усталая, разбитая, несчастная, другая — наглая, наступательная.
— Нет, не поздно. Почему ты сдаешься? Нужно бороться за жизнь. Ты еще молод. Слушай, самое главное. Из-за этого я и приехала. Весной из института увольняется зав. анатомическим музеем, помнишь, хромал? Я договорилась — ты пойдешь на его место. Его жена училась, сейчас кончает, и они вместе уезжают работать на Север. Тоже идеалист, вроде тебя.
— Ты хочешь, чтобы я кишки заспиртованные караулил?
— Боже мой! Да не все ли равно? Важно попасть в институт, а там все будет зависеть от тебя. Ты мне ответь: есть у тебя желание вырваться отсюда? Ты же мечтал о научной работе…
— Никуда вырываться не собираюсь. Буду работать здесь.
Она взяла меня за руку.
— Значит, уже закис? Примирился? Да разве можно с таким мириться? Послушай — тишина, как в могиле. Я бы здесь через неделю спятила с ума. Поверить не могу, что тебе тут нравится, особенно после всей этой истории. Ну, какие у тебя здесь перспективы? Сегодня работа, завтра работа и так до конца жизни? Вечный труд на благо других, и в итоге деревянный памятник на сельском кладбище с безграмотной надписью: «Здесь пачил дохтар». А кругом лопухи…
— Вера, — говорю я, — напрасно ты меня убеждаешь…
Хлопает входная дверь. Вера вздрагивает.
— Идут сюда. Надо хоть постель прикрыть.
На пороге появляется тень. Протягиваю руку к выключателю, зажигаю свет.
На пороге стоит Надя. Она сдерживает тяжелое дыхание, волосы выбились из-под платка, валенки по колено в снегу. Видно, спешила сюда, не разбирая дороги.
Вера спешно накидывает одеяло на смятую постель. Я зову Надю:
— Проходи.
— Нет, нет, — в смятении пятится она.
— Куда же ты?
— Я пойду, — шепчет она и скрывается за дверь.
Выбегаю вслед. Ее уже нет. Что с ней? Может быть, она от следователя? Или узнала Веру, ревнует? Надо было догнать, объяснить, почему у меня Вера, но я не сделал этого. Слишком был уверен, что у нас все и навсегда решено.
Вера спрашивает меня насмешливо:
— Что за странности? Кто это?
— Надя.
— Знаешь, мне показалось, что она не совсем к тебе равнодушна.
— Да?
— Она так мило опешила, увидев меня здесь, будто я слон или гиппопотам. У нее совсем детское лицо — ничего не умеет скрывать. Позволь, позволь… Это не та ли самая? Героиня романа?
— Да, — говорю я. — Та самая. Надя Невьянова. Моя невеста.
Вера сразу становится серьезной.
— Ты шутишь? Ты понимаешь, что говоришь?
— Это не шутка. Мы с Надей любим друг друга.
Вера слушает внешне спокойно, только пальцы ее ищут в пачке папиросу и не могут найти.
— Моя вина. Я не написал тебе о Наде. Нужно было написать, чтобы тебе все было ясно…
— Не все ли равно теперь, — прерывает меня Вера.
— У нас с тобой разные пути. Ты не смогла бы…
— Не смягчай и не трусь, — вскрикивает Вера. — Я не из тех, которые травятся.
Вера кидается к столу, где лежат вещи, которые она выложила, когда доставала джемпер, швыряет их в чемодан.
— Куда ты? — спрашиваю я.
— Что за вопрос? На станцию, конечно.
— Но сейчас ночь.
— Какое это имеет значение?
— Дождись утра.
— Мне стыдно, Виктор. Мне никогда не было так стыдно.
— Но пойми…
— Уже поняла… Ты говорил вполне членораздельно, хотя слишком длинно. Надо было сказать всего три слова; «Убирайся отсюда вон». И сказать сразу…
Она выкрикивает это, пытаясь закрыть крышку чемодана, но застежки не достают, наклоняется, давит крышку коленом. Крышка опускается, защемив край белой блузки.
В прихожей Вера сдергивает с вешалки пальто, накидывает его на себя. Не застегивая на пуговицы, выбегает во двор. Чемодан ей не по силам. Он бьет ее о ногу, и от этого она хромает и пошатывается. Уговариваю ее:
— Дай чемодан. Я понесу.
— Не тронь.
— Но куда ты идешь?
— Не знаю, — отвечает она упрямо, затем кидает чемодан в снег.
— Вера, останься до утра, — опять предлагаю я.
— Это ни к чему, — твердит она.
В конце концов она осталась. Я устроил ее ночевать у Ариши.
Вернулся домой. В комнате пахло яблоками. Около дивана валялся на полу окурок со следом крашеных губ. На запотевшем стекле, дожидаясь меня, Вера написала свое имя. Сейчас надпись расплылась, подернулась веточками морозных узоров. К ночи крепчал мороз.
Утром я Веру не видел. Она уехала чуть свет с попутной машиной.
Я НЕ ОДИН
Они ввалились ко мне утром: Олег с братом Алешкой, Костя Блинов, Варя, Алла Букина. Наполнили комнату здоровыми живыми голосами.
— Ну, как? Жив?
— Не пасуй. В обиду не дадим.
Алешка все еще кипел после вчерашнего разговора со следователем.
— Ну, вот черт побери. Прицепился — сколько врач выпил? Да, может быть, он… ну вот… до этого пил? А я ему напрямик: «Не в ту дверь ломитесь». Он мне строго так: «Прошу соблюдать вежливость». А сам немного постарше меня…
— Мы все за вас, — пробасил Костя. — А он одно свое твердит, как попугай: «Отбросьте ваши дружеские симпатии, будьте объективны».
— Нет, это все-таки безобразие, — вмешалась Варя. — Неужели не видно человека? Виктор Петрович! Да как это можно!
— «Отбросьте дружеские симпатии», — возмущался Костя. — Ишь, какой нашелся. Ничего я отбрасывать не хочу.
— А все же ничего непонятно, — вслух рассуждает Олег. — Кто же ранил Андрея? Сам себя? Тогда как около него оказался нож? Ведь он оставил его на шестке. Стало быть, ранил его кто-то из тех, кто был на вечере. Девчат вычеркнем. Лаврик? Он шел с нами до самого дома. И потом, говорит Татьяна, никуда не уходил. Пришел и лег спать…
— Получается, что, кроме меня, некому, — сказал я.
Ребята зашумели.
— Ну, это вы бросьте. О вас никто и думать не может.
Алла пыталась установить тишину:
— Зачем кричите без толку? Надо действовать. Давайте напишем заявление прокурору, что мы за Виктора ручаемся.
— А следователь вызовет — не ходите, — запальчиво предложил Алеша. — Нужно ему, пусть сам приходит.
— Так нельзя, — возразил Олег. — Заявление давайте напишем.
Я пытался их отговорить, но не тут-то было. Окружили письменный стол, достали бумаги и написали послание, где перечислили по пунктам все мои самые лучшие качества. Я был растроган, смущен, и в душе что-то как будто растаяло, распустились какие-то туго затянутые узлы. Прочли вслух. Одобрили, и Костя сел переписывать аккуратнейшим, каллиграфическим почерком.
— Может, на машинке отстукаем? — предложил Алеша. — Оф… фициальнее будет… ну вот… выглядеть.
— Наоборот, — отвергла предложение Букина. — Пусть видят, что живые люди писали.
Пришла уборщица из сельсовета.
— Ну, замаялась я нынче, — пожаловалась она. — То одного ему подай, то этот неладен — другого. Сразу собрал бы всех, а то сам не знает, кого ему надо.
— Все вместе пойдем, — зашумели ребята.
Гурьбой двинулись в сельсовет. По дороге я решил забежать к Наде.
— Вы идите, я догоню.
Невьянов без фуфайки, в синей рубахе навыпуск, в шапке, сдвинутой на затылок, расчищал дорожку возле дома. Заметив меня, он выпрямился, хмуро ответил на мое приветствие.
— Надя? А зачем она вам?
— Как зачем? — удивился я.
— Не зря я спрашиваю — зачем. Вы человек женатый. Надя вам не игрушка.
— Семен Иванович! Откуда вы взяли, что я женат?
— Вот так-так — «откуда». Жена самолично явилась, а он спрашивает, почему женат… Все знают, а он нет…
«Дернуло же Веру назваться женой», — подумал я с тоской.
— Вера Нечинская мне не жена. У нее муж есть. То есть, она говорит, что развелась, но это не важно, — начал я объяснять и от волнения запутался.
— Час от часу не легче, — развел руками Семен Иванович. — Если она чужая жена, то тем более ночевать у вас ей не личит.
— Я не звал ее. Это просто недоразумение.
— Какой уж тут разум…
— А Надя? Что она?
— Вас видеть не хочет, — произнес Невьянов строго и внятно, повернулся ко мне спиной и принялся с ожесточением кидать снег. «Все равно, — решил я, — мы увидимся с Надей. Не может она не понять, что Вера просто солгала».
В приемной сельсовета ребята встретили меня вопросом:
— Ты что побледнел?
Я только махнул рукой, пошел к следователю. Он поднял утомленные глаза.
— Вспомнили?
— Что?
— Где вы были после того, как расстались с Варварой Блиновой?
— На этот вопрос я отвечать не могу.
Следователь продолжал моим тоном:
— Ибо, будем говорить откровенно, он уличает вас… Расскажите, о чем вы говорили с Окоемовым, когда встретили его в Больничном переулке?
— Я не встречал его.
— Чистосердечное признание только облегчит приговор.
— Вы уж и до приговора дошли! — засмеялся я.
Должно быть, оттого, что следователь устал, или оттого, что я засмеялся и это обидело его, он вскочил со стула, хлопнул ладонью о стол:
— Нет, вы скажете, где были.
Я тоже встал.
— В таком тоне я разговор продолжать не буду.
Он посмотрел на меня с сожалением о своей грубости.
— Мне нужна истина, — проговорил он уже тихо. — Истина.
— Так вы ее ищете не там, где нужно.
Мы смотрели друг другу в лицо. В его глазах выражалась прямо-таки мольба: «Ну, сознайтесь».
Дверь скрипнула.
— Вы куда? Нельзя, — сердито обернулся следователь. Не обращая внимания на его слова, в комнату вошла Надя.
— Я не звал вас…
Надя приблизилась к столу, одной рукой оперлась о бумаги. Лицо ее было бледно, на меня она не смотрела.
— Вересов вам не скажет, где он был, а я скажу…
— Вы…
— Он попрощался с Блиновой и вернулся ко мне.
— Вы не имеете права так врываться.
— Какое тут право? Вы истину хотели знать.
— Не мните мои бумаги.
— Ничего не сделается вашим бумагам. Спрашивайте меня, я все скажу.
Следователь поискал в карманах портсигар, который лежал на столе.
— Вы, — обратился он ко мне, от растерянности забыв мою фамилию, — вы идите. А вы, товарищ Невьянова, останьтесь.
Когда я был в дверях, то расслышал, как он сказал Наде с упреком:
— Почему ж вы раньше не сказали?
Надя ответила:
— Не надо было.
Появилась Надя минут через двадцать. Не глядя на меня, кинулась к выходу.
— Надюша, — окликнул я ее.
Она не остановилась, и я понял: сейчас она разговаривать со мною не может.
Проходит еще день. Работаю, как в тумане. В голове одно: Надя, Андрей. Приходит Олег, пробует разговорить меня. Отвечаю ему невпопад.
Надя больна, меня к ней не пускают. И больна ли? Леночку тоже не пустили.
Отбросив всякую деликатность, через каждый час звоню в районную больницу. С Андреем плохо. Есть опасение, что поздно влили кровь. Может быть, произошли уже необратимые изменения.
Навестили меня ребята. Держались чинно, не шумели, не смеялись. Энергия спала. Заявление послано прокурору. Делать нечего. Надо ждать. Чего? Несколько раз пробовал собраться с мыслями и результат один — тяжело я виноват перед Надей. А тут еще, когда стемнело, заявился Валетов. Просунулся в дверь, осведомился, не помешает ли. Что мне было ответить? Пришел человек, не гнать же его.
Примостился к печке, потирая сухие, шуршащие руки, заговорил:
— Я, знаете ли, до некоторой степени в курсе событий. Интересовался. Конечно, я и мысли не допускаю, но, однако, следует признать — ситуация не из завидных. Следователь-то у меня остановился, ну мы с ним, как юристы — один бывший, другой настоящий, — несколько порассуждали… И, представьте себе, все так аккуратно одно к одному сходится… По всем правилам. В том числе, так сказать, и психологические факторы. Замыкается колечко, и притом довольно крепкое…
— Это я и без вас знаю, — неучтиво сказал я.
Валетов сделал вид, что не заметил моей грубости. Опять зажурчал его женский голосок:
— Что касается показаний некой, известной вам девицы, то принимать их всерьез весьма затруднительно. Во-первых, потому, что, когда к ней в памятную ночь стучали, она сама через дверь крикнула, что вас у нее в наличии не имеется, а, во-вторых, что она весьма заинтересованное лицо. Стало быть, не ей разрывать колечко, а только пострадавшему. Однако и тут не все благополучно. Парень он крепкий, и медицину мы нашу очень уважаем, а все же, избави бог, скончается? А? Как тогда? Видите ли, какая закавыка получается?
— И это я знаю.
— Вот и думаю я, что предпринять. Рокироваться вам, то есть вежливо удалиться, ни с кем не прощаясь, тоже не совсем разумно. Так сказать, заранее расписаться…
Сидел я, смотрел на него и с недоумением спрашивал себя: «Что это: сочувствие или издевательство?»
— Модест Валентинович! — не выдержал я, наконец. — Скажите честно — зачем пришли?
Он взволновался:
— И сам о том же думаю. Прямо-таки трудно пояснить. Не усидел в уединении. Такие события экстраординарные. Как услышал, так прямо ни о чем больше мыслить не в состоянии.
— Любопытно?
— Это дело третьестепенное. Прежде бы, напротив, носа не высунул, а тут не терпится. Очень уж несправедливо получается. Молодой специалист. От чистого сердца ко всем. А тут, видите ли, его в такую муть низвергают. Не умею, представьте себе, выразить сочувствия. Никогда не приходилось. Внутри-то есть оно, а наружу — никак. Словно цыпленок недогретый не может скорлупу сломать. Заблудился в словах. В области душевной, как в незнакомом лесу.
Мне нестерпимо хотелось, чтобы он замолчал, но он все говорил. Сочувствие его было невыносимо, как пытка.
— Так вот оно и бывает. Я насчет благодарности человеческой. Видите, как оборачивается. Вы для них с открытым сердцем, а они для вас вон что… в тюрьму помаленечку подталкивают. Закон жизни.
— Нет такого закона.
— Не нужно бы его — да. Никто не помнит добра.
— Неправда.
— При вашем хроническом идеализме так и следует возражать. И это неплохо. Твердость в своих убеждениях. Без нее, как без позвоночного столба. Прощевайте. Надеюсь, еще увидимся, хотя, извините, хотел бы напомнить вам одну не особенно приятную возможность. Если Окоемов, так сказать… ну, вы меня понимаете… все мы смертны, то не исключена вероятность, что вас того…
Он сделал жест рукой, словно подметая в воздухе нечто невидимое.
— Говорю для того, чтобы несколько приготовить вас, чтоб вы не особенно пугались, если пожалуют непрошеные гости…
Наконец-то ушел. Оставил горький осадок. «Успокоил». Нет, он не издевался. У него так нечаянно получилось, Просто человек никогда никому не сочувствовал. Не умеет.
Ночь. Лежу без света. Синий прямоугольник окна. Почему-то вспоминается Верино: «Тишина, как в могиле».
А может быть, кончится следствие и правда уехать? Чтоб ничего не помнить, не видеть этих людей, перед которыми я так опозорен. Взять Надю и уехать, чтоб не видеть ни желтого лица Погрызовой, ни раздражающе покорного взгляда Леночки, ни поджатых губ Егорова. Никого, никого! Где-нибудь начать все сначала, без ошибок, совсем по-взрослому. А можно ли без ошибок? Да, теперь я знаю, как надо… Должно быть, я слабый или бездарный. Попробуй тронь такого, как Новиков, а на меня набросились. Ребята — славные, но пройдет год, другой — и забудут меня. Вместо меня будет новый врач. Не все ли равно? Сменятся только фамилии. А я здесь не прижился. Очень простой выход — уехать, и сразу как гора с плеч. Снова мединститут, приятная работа со Смородиновым.
Пока мелькали, суетились эти мысли, между ними все шевелилась еще одна. Я чувствовал ее, и вот она выплыла: «А будешь ли ты уважать себя после этого? Не уезжать — убегать собираешься». Правда! Убегать. Прозвучал голос отца: «Человек должен ставить себе задачи на грани невозможного». А я? Сдаюсь при первых трудностях, при первых тяжелых обстоятельствах. За кем пойду? За Верой? За Валетовым?
Внезапно на потолке загорается голубой электрический свет. Слышно, как около ворот остановилась автомашина. Кто это? Кидаюсь к окну. Из легковой машины неторопливо вылезают двое. Один в кожаном пальто. Твердая, уверенная походка. Машина — «козлик» из района. Обжигает мысль: «За мной. Значит, Андрей умер».
Жалко парня. Слезы подступают к горлу, душат. Как Варя теперь? И что будет со мной? Те, двое, прошли к Арише. О чем-то поговорили с ней, возвращаются. Входят на крыльцо. Стучат властно. Что ж, значит, так надо.
Зажигаю свет. Иду в коридор. Я уже не волнуюсь. Мне уже безразлично. Когда они войдут, я тоже буду спокоен. Только сердце бьется, словно в тесной скорлупе. Больно и жестко ему.
Отбрасываю крючок, не спрашивая — кто. Румяный от мороза стоит передо мной Колесников. Второй, в кожаном пальто, снимает шоферские перчатки.
Колесников смеется:
— Гостей принимайте. Что с вами?
— Ничего.
От него пахнет ветром. Весело рокочет его голос:
— Чтобы не мучить вас понапрасну сообщу новость. Относительно Окоемова. Я считаю, что непосредственная опасность миновала. Сегодня ему стало значительно лучше. Он попросил бумагу и нацарапал три слова: «Я себя сам».
Помогаю Колесникову высвободиться из тесных объятий дохи. Он достает платок, вытирает усы, мохнатые толстовские брови.
— Вот мчались! Даже замерзнуть не успели. Мы к вам с ночевой. Не помешаем?
Меня так и подмывало обнять и расцеловать его.
— И завтра пробуду, — энергично сообщает он.
Шофер уходит загнать машину во двор и спустить воду из радиатора. Колесников рассказывает:
— Раньше приехать не мог. Егоров звал, правда, а я ему ответил, что в вашу виновность не верю и ехать мне нечего, а сейчас у меня другое дело. Скажу прямо — поступило заявление, жалоба. Надо будет разобраться. Но об этом завтра.
— От кого?
— Ну, этого говорить не обязательно, но вы, видно, и сами догадываетесь.
До полуночи болтали о медицине, о биологической защите астронавтов, о полетах на другие планеты. Настроение у меня было такое, словно из темного колодца я поднялся наверх, к солнцу, к воздуху. Нечаянно как-то проговорился о своей тоске по научной работе, о мечтах своих. Колесников отнесся одобрительно.
— А что? Больницу выстроите. При ней оборудуем небольшую лабораторию. Хотя бы в том помещении, где у вас сейчас здравпункт. Работайте, сколько душе угодно. Все от вас зависит. Мало ли сельских врачей научной работой занимались? За примером далеко не ходить — ваш отец. Какие замечательные операции делал, молодежь учил… Дерзайте! А со старостью люди только начинают бороться, только еще на подступах к овладению проблемой. Впереди горы работы. Каждому дело найдется…
Утром Колесников рассказал мне содержание заявления:
— Жалуются на то, что вы были грубы с Лаврентием Погрызовым. Не дали ему справки о болезни, в результате его уволили с работы. Как было дело?
Я рассказал о столкновении с Погрызовым, о том, что болезнь его была симуляцией.
— Понятно. Я еще кое-что уточню, но в общем картина ясная.
Он подробно расспросил меня о смерти Вани Елагина, о ранении Андрея, не перегружаю ли работой Погрызову.
— Кроме того, вас обвиняют в том, что вы пьете «казенный спирт». Так и написано «казенный». Кажется, даже через «о». Я пожал плечами:
— Мало ли что можно написать!
— Прощаться не будем, — закончил Колесников, — вечером я к вам забегу.
Пришел он, когда уже стемнело.
— Вот и все. Был у Елагиной. Говорил с людьми. Факты, указанные в заявлении, — ложь. Осталось только побывать на медпункте.
Он осмотрел инструментарий, аптеку.
— По нынешним временам уже бедновато. На оборудование денег не жалейте, мы поддержим.
Просмотрел карточки больных, остался недоволен.
— Карточки заполняете небрежно. Откуда у вас эта «врачебная» лихость в почерке? Ну что здесь написано? То ли «геморрой», то ли «гайморит»? Нехорошо пишете, размашисто. Девушке, должно быть, не таким почерком письма пишете. Не так ли? Ну, краснеть незачем, а исправиться необходимо. Кроме того, не следует чересчур увлекаться антибиотиками. У вас получается из пушки по воробьям. Чуть что — пенициллин. Нельзя так. И еще замечание — не надо быть таким грустным.
— Я не грустный.
— Несколько пришибленный. Это есть. Напрасно. Я сегодня говорил о вашей работе со многими людьми, не только с Новиковым и Егоровым. О вас отзываются с благодарностью. У вас много друзей.
— И врагов немало.
— Кого вы имеете в виду?
— Погрызову, ее брата, Окоемова. И еще есть…
Колесников улыбнулся:
— Какие это враги? Вы преувеличиваете. Конечно, цель всяких Погрызовых да Окоемовых в том, чтобы вы ушли отсюда или примирились с ними. Но народ не поддержит, и ваше дело не мириться. Между прочим, мы давно знали о том, что Погрызова — неважный работник, но все думали — исправится. А теперь я вижу: необходимо расстаться с ней.
«НЕТ У ТЕБЯ ПАПЫ»
Надя уехала. Я так и не успел поговорить с ней. Вернее, она так и не захотела поговорить со мной. Самое плохое то, что я не знаю, где она. И узнать не у кого. К Невьяновым я идти не могу, да они и не скажут. Семен Иванович не желает даже разговаривать со мной.
Надю осуждают за то, что уехала, никого не предупредив, не снявшись с комсомольского учета, бросила работу, даже не попросив замены. О ней говорят не «уехала», а «сбежала». Осуждают, вероятно, и меня, хотя никто не говорит мне этого в лицо. Но больно и стыдно, когда Олег говорит о Наде:
— Вот так Надежда! Не ждал от нее такого номера.
Меня раздражает слово «номер». Неужели не мог найти другого? Он-то лучше других знает, почему уехала Надя. Знает, как тяжело все это.
Без Нади моя жизнь внешне мало изменилась: так же я встаю утром, обтираюсь холодной водой, завтракаю, веду прием, затем посещаю больных на дому. Все как будто по-прежнему, но только теперь я понимаю, насколько Надя теплила и освещала мою жизнь.
Особенно плохо, когда нет Олега и я остаюсь один в своей комнате. От тоски спасаюсь у Ариши. Она сидит, что-нибудь вяжет, мельком поглядывает на меня:
— Скучно?
— Скучно, тетя Ариша.
— Почитай.
— Не читается.
— Усни.
— Не спится.
— Вот беда. — Ариша задумывается, спрашивает: — Насчет больницы-то как?
Как? Колхоз выделил троих мужчин заготовлять лес. Дело подвигается очень медленно. Дни короткие. Ходят они на работу пешком. Климов все обещает:
«Вот закончим вывозку кормов, тогда за лес возьмемся».
Приходится ждать.
Стоят жестокие морозы. Утром солнце всходит из серой ледяной мглы. Эта мгла одевает и лес, и небо. На протоке, над прорубью дымится тяжелый, медлительный туман. В накаленной морозом тишине каждый звук, скрип полоза или голос человека отдаются четко и гулко, как на воде. Поперек проселочной дороги ползут, как серые ужи, глубокие узкие трещины. Деревья стояли в густом белом инее.
Окна в моей комнате закрывает толстый слой льда. Когда открывается дверь во двор, от порога по полу катится озорной клуб седого, холодного пара. Термометр показывает минус сорок шесть. Утрами температура два раза падала до пятидесяти двух.
Но жизнь идет своим чередом. Школьники, несмотря на запрещение, бегут в школу, и учителям приходится волей-неволей проводить уроки. Работают молочный завод, кузница, подвозят корма. Только плотничные работы остановились — топор не берет закаменевшее дерево.
На рассвете меня вызывают к Погрызову. Около его избы подводы, на занесенном снегом крыльце — обозники. Около них Олег. Он молча кивает мне, и по тому, как он сразу отводит взгляд, я понимаю: вмешательство мое уже ни к чему.
Поражают глаза Татьяны. Пустые, оцепеневшие, при моем появлении они вспыхивают сумасшедшей надеждой.
Лаврик лежит на двуспальной деревянной кровати, скрюченный, с торчащей вбок рукой. Он в пальто, без шапки. В каштановых вихрах его всклоченных волос тают комочки снега. Беру его руку. Она твердая, словно деревянная.
Татьяна против меня на железной детской коечке, туго охватила плечи рваной шерстяной шалью. Пятилетний Славка дергает ее за рукав, спрашивает:
— Мам, а мам, папка пьяный?
Она неотрывно смотрит на мокрое землистое лицо, Лаврентия, чуть покачивается. Не изменяя положения тела, поднимает руку к лицу, касается кончиками пальцев щеки, где синим рубцом темнеет кровоподтек. Славка упрямо, однообразно твердит:
— Папка пьяный?
На столе мигает готовая погаснуть керосиновая лампа с черным, закопченным стеклом. Она горела всю ночь. Я гашу ее, и сквозь обледеневшее окно в комнату проникают желтые лучи солнца. Татьяна спрашивает почти без голоса, одним шорохом губ:
— Умер?
Она на что-то еще надеется.
— Надо везти на вскрытие.
Она привлекает сына к себе, опять дотрагивается пальцами до кровоподтека, как будто желая убедиться, на месте ли он.
Вздыхает прерывисто:
— Как жить будем?
Плачет беззвучно, кусает пальцы. У порога шепчутся женщины:
— Как живой лежит.
— Еще вчера иду по воду, он навстречу. Выпивши, веселый. Кричит мне: «Тетка Маня, нос береги. Закуржевел».
— И совсем ведь молоденький.
— Ишь, что водка делает.
— Золотые руки были у человека. Погинул ни за что.
— А помните, как лошадь на протоке тонула? Без него только толклись и кричали, а он подоспел, все повернул по пути. «Не стойте в куче, сами погрузитесь. Не распрягайте, а то сразу зальется». Жерди приволок и вытащил-таки…
На стене, над кроватью картина без рамы. Сельская улица, знакомые избы Озерок, а за селом лес и над ним поднимающееся солнце. Внизу надпись голубыми буквами: «Золотое утро». И лес, и солнце, и бревенчатые избы выписаны грубовато, но схвачено что-то живое, неподдельное.
Татьяна замечает, что я смотрю на картину, вспоминает:
— Дорисовать все хотел.
Заплакала громко, навзрыд.
— Папка пьяный? — снова спрашивает Славка и моргает глазами.
— Нет у тебя папки… нет… навсегда нет. Вдвоем мы с тобой остались, — закричала Татьяна, прижимая к себе мальчика. У дверей, как будто только этого ожидая, заголосили женщины. По дороге домой Олег рассказывает мне, что вчера Лаврик поссорился с женой, ударил ее по лицу, взял деньги и ушел. Ночью он стучался к Светлане. Она не впустила его. Тогда он направился в соседнюю деревню. До утра прождала его Татьяна, а утром обозники, когда ехали по сено, нашли его на лесной дороге окоченевшего, без шапки.
У ОГНЯ
Ночь. За окном ярко-лунная, пронзительная тишина. В кухне дремотно мурлычет счетчик. Сегодня Олег ночует у меня на диване. Мы давно лежим, и оба не можем уснуть. Ворочаемся, вздыхаем, но молчим. Ни я, ни он не обращаемся друг к другу. Это наша первая размолвка. А может быть, ссора, может быть, навсегда.
Именно сегодня, именно теперь, лежа с открытыми глазами и вспоминая сегодняшнее собрание, как никогда, чувствую, насколько дорог стал мне Олег.
Да, было собрание. С нами беседовал Новиков. Мы заранее знали, что он будет говорить о Лаврентии. Он сам предупредил: «Надо обсудить, понять». Пытаюсь спокойно восстановить в памяти, что же собственно случилось.
Олегу идея собрания не понравилась сразу.
— Что ж тут обсуждать? И без того ясно.
Он словно предчувствовал, как повернется дело, хотя, конечно, никто заранее не имел никаких планов против него. Все получилось стихийно.
Мы сидели в клубе, переговаривались, ждали Новикова. Ждала ярко освещенная сцена и стол, покрытый красным сатином. Ждал новый графин на столе, наполненный до пробки чистой, как зеркальное стекло, водой.
Железная печурка разгорелась шумно, азартно, докрасна, и казалось, что сквозь жесть проступает жаркий румянец пламени. И все-таки ее тепло не могло осилить нежилого холода высокого, просторного зала.
Подходили парни, девчата, голоса звучали строго, приглушенно. Ни смеха, ни шуток. У самого огня, кутаясь в серый шерстяной платок, сутулилась Алла, рядом с ней Костя с подмороженным подбородком и Варя с ресницами, облепленными мелкими каплями растаявшего инея. Ксюша пришла прямо с работы в валенках с калошами, с керосиновым фонарем, остро пахнущая силосом. В стороне от всех прятала лицо в тень Светлана.
Новиков должен был прийти с минуты на минуту. Олег возился, расставляя скамьи.
Первым раскатом грома, значения которого я сначала не понял, была схватка Олега с Аллой Букиной. Они поссорились, как два школьника, шумно и, на первый взгляд, даже несерьезно.
— В клубе волков морозить можно, — сокрушенно вздохнула Алла. — Ну, как тут работать?
Сказала это, ни к кому не обращаясь, но Олег мгновенно откликнулся, как будто радуясь случаю схватиться с нею.
— Кстати сказать, и тепло было — ты ничего не делала.
— А почему «кстати»?
— Ты к словам не придирайся, — оборвал ее Олег.
— Ах, виновата! — воскликнула Алла, отбрасывая на плечи платок и вызывающе вскидывая голову. — Забыла, что это твоя функция: придираться да ученые вопросы задавать.
— А я что? Не работаю? — взорвался Олег.
— Как же! На языке уже мозоли набил. А ты бы на моем месте попробовал: дров нет, баян мыши погрызли. Ты со своим баяном хоть раз пришел? Поиграл? Да и без баяна мы тебя здесь не видели. Все на меня спихнули и ручки сложили.
Олег усмехнулся:
— Баян нужно в ремонт отдать, а дрова… О дровах надо было с весны думать.
— «Надо, надо»! — передразнила его Алла. — Взялся бы да и показал, как это надо.
— А что? И показал бы, — распалялся Олег.
Девушка нарочно его подзадоривала:
— Ну, ну, покажи!
— Покажу! Хоть завтра клуб приму. Сдашь?
— Да хватит вам, — пытался остановить их Костя. — Как не надоест?
Но они уже не слушали.
— Сдам ли клуб? — горячилась Алла. — С превеликим удовольствием. — Она подскочила к Олегу с протянутой ладонью. — По рукам? Или струсил?
Олег посмотрел на девушку исподлобья.
— Как райисполком…
— Вытри нос.
— Что?
— Паутиной зарос.
— Глупо.
— Ну и пусть.
— Тише ты! — дернула Варя Букину за рукав. — Илья Захарович!
Никто не заметил, когда он появился. Алла застыдилась, спряталась за девушек. Новиков поздоровался. В меховой полудошке и мохнатых унтах он похож был на полярника. Прихрамывая, прошел между рядов. Спросил мимоходом:
— Критика?
Олег с досадой ответил:
— Склока.
— А вы, Илья Захарович, проходите на сцену.
Новиков снял рукавицы, подул на пальцы.
— Ты что? Заморозить меня собираешься? Ну, нет. Я еще жить хочу.
Попросил ребят потесниться, подсел к печке, снял шапку и провел ладонью по седеющим волосам. Морщась, с натугой вытянул больную ногу.
— Там у крыльца санки. Чьи?
— Мои, — отозвался Олег.
— Дрова привозил?
— Ага.
— Вот, видишь, как получается.
— Мы Егорову не раз говорили, — начал Олег.
Новиков быстро спросил:
— А он не подвез? Как же это? Не заботится, стало быть, о молодежи?
Олег осекся, потупился. Все примолкли. В печке дышало пламя. Олег спросил:
— Что ж? Начинать будем?
— А по-моему, мы начали уже, — сказал Новиков и обвел взглядом комсомольцев.
Так и остались не у дел и ярко освещенная сцена, и стол, накрытый скатертью, и графин, ожидающий жаждущих ораторов.
— Так вот о критике, — снова заговорил Новиков. — Я тут частицу застал. Как же надо понимать? Критика это или склока? Ну, вот ты, Ксюша, как думаешь?
Все обернулись к девушке. Она застеснялась, зарумянилась, но ответила довольно бойко:
— По-моему, Алла правильно. Никто ей не помогает, а спрашивать, так все.
Ее поддержала Варя:
— Если б, Илья Захарович, у нас работа велась по-настоящему, так, может быть, и Лаврика к водке не тянуло.
Олег оборвал ее резко:
— А как ты понимаешь «по-настоящему»?
Варя прищурила красивые глаза.
— А ты думаешь, кроме тебя, никто и понимать не может? — И неожиданно вспылила: — Да если хочешь знать, ты сам в книги зарылся, людей не видишь и не понимаешь. Вот, что я думаю.
Тут случилось то, чего я не ожидал. Зашумели, заговорили все сразу и даже те, кто обычно отмалчивался на собраниях. Гневные резкие возгласы полетели в лицо Олегу:
— Вот именно — зарылся!
— Высоко ставить себя стал.
— Что ты сделал, чтобы Лаврика спасти? Что?
— «Очистили» свои ряды, а про человека забыли.
— Ты его и за человека не считал.
— Требовать только умеешь, а сам ни во что не вникаешь!
Олег растерялся только в первый момент, но тотчас же оправился и начал очень твердо и логично объяснять, что работа велась и мероприятия все проводились, по отношению к Лаврику все необходимое было сделано.
— Поведение Лаврентия не раз обсуждалось…
— А в результате? — спросил Новиков.
Олег замолчал, опустил голову.
— Кинули парня одного. Вот и погиб, — вздохнул Костя.
— Исключили мы его, может быть, и правильно. Отталкивать от себя нельзя было, — сказал я.
От страстного тона перешли к тихим репликам, воспоминаниям, раздумьям. Об Олеге словно забыли. Он сидел, как пришибленный, будто внезапно ставший чужим всем.
Разговор шел о Лаврике. Вспомнили все — и плохое, и хорошее: и то, как он избил Татьяну, и как рисовал свою картину, и как явился к Наде на новогодний вечер. Припомнили и о том, как он пришел ночью на ток.
— Подло мы тогда поступили, — проговорила Алла.
— Да ты б уж прямо сказала: «Олег подло поступил». Чего юлишь? — с горечью заметил Олег.
— Да, тогда ты неправильно повел себя. И мы тоже, — вмешался я. — Помнишь, смеялся: «На доску почета его». Тебе казалось, что он просто оригинальничает. И сейчас неправильно ведешь себя — не хочешь признать свою ошибку.
— Может быть, — нехотя согласился Олег.
Новиков вставил:
— А знаете, возможно, если б вы поняли его тогда, задумались, что происходит с ним, то не было бы этой смерти.
— Зря обижаешься, Олег, — сказал я.
— Я и не думаю, — проговорил он, хотя весь его вид показывал, что он обижен.
Наступил момент, когда все выговорились, примолкли. Новиков открыл дверцу печи, кинул полено на угли. Улыбаясь одними морщинками у глаз, заговорил, не повышая голоса, и комсомольцы невольно подвинулись к нему поближе. Начал он, словно думая вслух:
— Сидел я, слушал вас и порадовался — хорошие вы парни и девчата и отношение у вас к тому, что случилось, правильное. И хорошо, что умеете говорить откровенно, прямо. Получилось у вас то, что получается, когда работа с людьми поставлена плохо, — каждый виноват немного, а в результате погиб человек. Некоторые говорят: «Водка виновата». Нет, не водка, а мы. Лаврентий и сам пил и Андрея Окоемова спаивал, мы что? Ну, беседовали, убеждали и ничего не добились. Победила водка, а не мы. Можно теперь обвинять и Аллу, и Олега. И они виноваты, это ясно. Но не они одни. Виноват коллектив и в том числе и я сам, вместе с вами…
— Илья Захарович! — прервала его Алла. — Освободите меня от работы. Не умею я.
Новиков задумался.
— Как вы, ребята? Может быть, и правда надо подобрать другого товарища?
Стали обсуждать, кто годится для этой работы.
Олег сидел безучастный ко всему и крепкими белыми зубами рассеянно покусывал ленточку бересты, которую держал в пальцах.
— Тут Олег сам напрашивается в заведующие, — со смехом напомнила Алла.
— А что? — серьезно поддержал ее Новиков. — У него неплохо могло бы получиться. — Помедлил. — Если только он осознает, что главное — это работа с людьми, что за каждого человека мы обязаны бороться, как за брата родного. А не просто проводить мероприятия.
Олег поморщился словно от боли.
— Предположим, сменим Аллу, — опять заговорил Новиков. — А потом что?
Опять ребята зашумели. Посыпались предложения: привезти дров, переизбрать совет клуба, наметить план, чтоб не танцы только, а и газеты, и книги, и лекции, и встречи с передовиками, и диспуты. Вспомнили и библиотеку. Варя правильно заметила:
— Книг у нас хороших много, а вот по животноводству недостаточно. Может, и есть, да где-то на полках. Не найдешь их. А надо на вид их. Чтоб любой мог посмотреть и взять. И не только в библиотеке. Здесь, в клубе, тоже надо устраивать выставки по сельскому хозяйству.
Алла записывала на клочке бумаги, положив его прямо на колени.
Потом Новиков предложил комсомольцам организовать воскресник по заготовке леса для больницы. Ребята тут же составили список тех, кто выйдет на работу.
Расходились с собрания совсем с другим настроением — не было ни уныния, ни подавленности, с которыми пришли сюда. Около порога Новиков обернулся к Олегу, напомнил будто мельком:
— Воду из графина не забудь вылить. Застынет…
Я приостановился, поджидая Олега. Он сделал вид, что не замечает меня.
Шел по улице один и с горечью думал: «Лишился любимой, а теперь, может быть, и друга».
Дома сел было читать, но мысли были о другом.
Лаврика я не любил. Он отталкивал меня даже своим обликом: сальное, угристое лицо, глаза, смотрящие с бессмысленным вызовом, ленивые, разболтанные движения длинных рук внушали мне отвращение. И все же смерть его подействовала на меня очень тяжело. Мучила мысль о том, что я ни разу не поговорил с ним по-человечески ни как комсомолец, ни как врач. Почему я не посоветовал ему лечиться от запоев? Правильно Новиков сказал: «За каждого человека бороться, как за брата родного». Вот таким надо быть в жизни, как Илья Захарович, — простым, человечным. Ведь после собрания не я один, все поняли ясно то, что смутно чувствовал каждый. Это урок на всю жизнь…
Кто-то постучал в дверь. Я привык к ночным вызовам, не спросил, кто стучит. Оказалось, Олег.
— Спят уже мои. Можно у тебя до утра?
Пока на электрической плитке грелся чайник, он, потирая озябшие руки, ходил по комнате.
— Да, хитер Новиков…
— Хитрости как раз и не заметил, — сказал я.
— Значит, ты ничего не понял, — горячо заговорил Олег. — Начал с санок, а смотри, как повернул все. Как по нотам спели. Даже ты подтянул… Знает, чем ребят растревожить.
— Ты не прав, — возразил я. — В тебе обида говорит. Что значит «подтянул»? Я сказал, что думал.
Олег, размахивая руками, все еще ходил по комнате, не мог согреться. Прищурился иронически:
— Сказал, что думал… А почему не раньше?
— Иди к печке, грейся, — посоветовал я.
Он уселся на стул, но от волнения не смог усидеть на месте, опять заходил по комнате.
— Ты слышал, что Варя изрекла? «Олег зарылся в книги». Ты не играй в деликатность. Скажи — так это?
Олег выпил залпом стакан чая, до булки и сахара не дотронулся. Обрывая разговор, закончил:
— Скажи, где мне лечь?
Он принес из прихожей свой полушубок, кинул его на диван.
— Обожди, я тебе как следует постелю, — предложил я.
— Ничего мне не надо. Свет тушить?
Теперь мы лежали в темноте и молчали. Мне было и жалко его, и обидно, что он меня не понимает.
— Спишь? — позвал я его.
— Нет.
— Ты знаешь, Олег, — начал я. — До сегодняшнего дня я тоже думал, что у тебя все правильно.
— Спасибо за откровенность.
— Ирония тут ни при чем, а, впрочем, хочешь слушай, а нет — давай спать.
— Начал, так говори.
— Я даже завидовал тебе. Все у тебя по часам, по минутам. Все по плану, ничего случайного.
— Что ж, по-твоему, лучше расхлябанность?
— Ясно, что не расхлябанность.
— Ты, видно, считаешь, что стране не нужны специалисты? — не слушал меня Олег. — Думаешь, легко и работать, и учиться? Или ночи не спал я для собственного удовольствия?
— От комсомольцев ты отстранился — вот в чем дело. Неужели ты не чувствуешь, что это так и есть. Ведь это тоже эгоизм — одного себя выращивать, как цветок оранжерейный. Для учебы часы, для людей минуты. Помнишь, как Андрей сказал: «В душу не лезь, иди свои книжки читай». Вот результат этого…
Олег не отвечал.
— О чем ты думаешь? — спросил я.
— О графине.
Мне показалось, что он шутит. При чем тут графин? О чем речь? Но он пояснил:
— Ты слышал, как Илья Захарович про графин сказал?
Мне показалось, что он говорит о пустяках, не понимает главного. Он с досадой повторил:
— В графине вся суть. Воду из графина. Воду! Понимаешь?
Лежали долго. Я задремал. Замелькали обрывки каких-то снов, лица, голоса. Все это ненадолго. Опять проснулся.
Голос Олега спрашивал из темноты:
— Виктор! Спишь?
— Нет.
— Помнишь Светлану сегодня?
Да, я помнил ее. Она сидела позади всех и, когда я взглянул на нее, слегка отодвинулась за чью-то спину. А потом? Потом я забыл о ней. Она одна, кажется, за весь вечер не сказала ни одного слова.
— Я тут лежал, пытался понять… Послушай, Виктор. Как ты считаешь, уедет Светлана или нет?
— Кто ж ее знает?
— Не знаешь? И я не знаю. Как же так? Ни от кого не отстраняешься и тоже не знаешь. — Он шлепает босиком к моей кровати, садится на край ее, кутаясь в полушубок.
— Ты понимаешь, мне надо разобраться. Обязательно, хотя бы в Светлане.
Он заговорил отрывисто:
— Да, Светлана. Странная она. Комсомолкой только числится. Никакой общественной работы мы ей не поручали. Хочет куда-то ехать. А зачем? Чего ищет? Неужели нельзя найти дела по душе здесь? И, между прочим, очень любит детей, и они ее любят. Я наблюдал за ней, когда был дедом-Морозом на детской елке. У нее было, совсем другое лицо, красивое такое, нежное, Я даже не сразу узнал ее. Она счастливая, когда с детьми. Зря ее направили работать дояркой. Не так ей помогать надо. Ее бы воспитателем детского сада… А Алка! Что я о ней знаю? Маленькая. Кусачая. Кажется, чудачка. Кажется, настойчивая. Временами смешная. Твердо знаю одно — влюблена в книги.
— Не только в книги.
— Да, с Костей они хорошо подружились. Она ему книги о путешествиях целыми стопками достает. Не понимаю, когда он успевает читать. А кто ее родители? О чем мечтает она? К чему стремится? Опять белое пятно. Или Андрея взять. Почему он с Лавриком был близок? Что соединяло их? Не только же водка? Почему меня так сторонится? Потому, что чужой я ему. Даже ты! Может быть, ты завтра такое вытворишь, что все рты разинут?
— Ты уж через край хватил. Ничего я не вытворяю.
— Уже вытворил — меня стукнул. Сегодня…
Он ушел к себе на диван. Опять лег. Долго ворочался, и до меня донесся его шепот:
— Воду вылей из графина.
Утром я проснулся, разбуженный плеском воды в кухне. Олега на диване уже не было. Через минуту он вошел в комнату, обнаженный по пояс, туго вытирая полотенцем мокрую грудь, сильные мускулистые руки.
— Как спал? — спросил я.
— Не спал. Думал.
СНЕЖНАЯ ПЫЛЬ
Товарищи комсомольцы! Товарищи комсомольцы!
Испуганно вскакиваю с постели. «Проспал!» Светящиеся стрелки наручных часов показывают восемь. Нет, все в порядке. Погода?
Одеваюсь, выбегаю на крыльцо. Огонек спички освещает короткую кровяную ниточку подкрашенного спирта. Минус сорок пять! Прислушиваюсь. В тишине алюминиевый репродуктор зычным голосом продолжает звать:
— …все на воскресник по заготовке леса для больницы… Девушкам не являться по причине сильного мороза…
Ступени крыльца скрипуче всхлипывают. Село затопляет сухой туман. Огни ближних домов едва пробиваются через его густую, липкую паутину. Дыхание шуршит, как папиросная бумага.
Забегаю к Арише. Она сует мне тугую, теплую авоську. Я смеюсь:
— Что здесь? Кошка?
Она подталкивает меня к двери:
— Иди, иди, там увидишь.
Свет из окон тянется полосами. Тени людей мелькают в них, как призраки. В коридоре правления колхоза черно от табачного дыма. Над дверью густое белое кружево инея. Олег в брюках, спущенных поверх валенок, за поясом у него топор, уши меховой шапки завязаны назад. Жму ему руку.
— Сколько?
— Пока шестнадцать.
— Остальные?
— Подойдут.
Дверь отворяется, и в белом бегущем облаке пара является странное видение: кто-то толстый, куклообразный, в красном платке, обмотанном вокруг головы, в ватной телогрейке и ватных же брюках, торчащих сзади пузырем. Помахивают белыми длинными ресницами большие, темные глаза. Да ведь это Алла! Она подпоясана, затянута красным ямщицким кушаком.
Ее тотчас же обступают, давясь от смеха, крутят, как манекен, осматривают.
— Ты откуда? Из Антарктики?
— Где кушак такой достала?
— Тебя пулей не прошибешь!
Настроение у нее злое.
— Сумасшедший.
— Кто?
— Да Маломальский. Это он меня так нарядил. Пропадешь, говорит, девка в лесу.
К ней подходит Олег.
— Разве ты не слышала? Девушкам не являться.
— А что я, по-твоему, глухая?
— Иди домой, — уговариваю я ее.
— Ну, нет, — решительно заявляет она. — Не затем я пришла.
Переспорить ее невозможно.
Подходят еще комсомольцы. С ними Новиков.
— Ну, как, ребята, настроение? Может, перенесем воскресник? Обморозитесь.
В ответ слышится со всех сторон:
— Нечего ждать!
— А если морозы еще месяц простоят?
— Сибирякам мороз, что слону дробина.
На улице — грохот. Выбегаем. Кидаемся к саням, гурьбой падаем на солому, холодную, как железная стружка. Трактор издает разбойничий свист, дергает сани. Кто-то со смехом падает, вскакивает, догоняет.
Тронулись в тьму. Я не знаю куда. Уплывают последние огни села. Туман проглатывает их. Дорога под полозьями визжит, как стеклянная. Я напуган морозом. Как работать на таком холоде? Слева от меня отворачивает лицо от ветра старик — лесообъездчик. Усы у него, как в мыльной пене. С длинных бровей свешивается ледяная лапша.
Начинает светать — неясно, смутно, багрово. Кто-то запел:
По долинам и по взгорьям…И умолк. Нет девчат. Они бы подхватили.
Трактор движется. Я с ужасом замечаю, что пальто становится тоньше и тоньше — ветер продувает меня насквозь.
Все светлее. Кругом, как декорации к «Ивану Сусанину», — царство нетронутого снега. Залепленные белым пихты. Низко клонят сосны забинтованные тяжелые лапы. Справа — небо, раскрасневшееся от мороза, слева — лог, спящий синим сном. Как необычно все!
Внезапно кто-то толкает меня в спину. Я падаю вниз головой в снег. Вскакиваю, отплевываюсь, догоняю убегающие сани. Олег хохочет — это он решил погреть меня. Забегаю, выдергиваю его из саней и кидаюсь на его место.
Сани кренятся, скользят куда-то вбок. Мы ныряем в темно-синюю глубину лога.
Внезапно лязг трактора обрывается. Перед нами снежная тишина. Куча в санях заворошилась, распалась, растворилась в сумраке. Как оружие, поблескивают топоры и пилы. В неподвижном воздухе журчат теплые голоса.
Из-под снега вырвались, стегнули тишину тяжелыми сильными крыльями косачи. Они взрывают снег почти под ногами. Летят низко, и слышно, как они сбивают крыльями мелкие сучья.
Пока шли, совсем разголубелось. Зарубки на стволах белеют, как мишени.
Мы с Олегом еще примериваемся, обминаем, топчем снег вокруг головокружительно высокой сосны, а где-то близко уже раздается треск сучьев, стон падающего дерева, глухой удар о землю. К нам, струясь, летит снежная пыль.
Горбатая пила прыгает по мягкой коре, кусает ее, царапает. Она мне кажется уродски длинной. Ей никак не хочется бежать по одному месту. К нам пробирается Костя. Олег отстраняет меня:
— Будешь ветви обрубать.
«Девичье дело. Но что поделаешь, сучья, так сучья», — обиженно думаю я. Пила в руках Кости и Олега звенит, мерно поплевывает опилками. Ходит длинными, уверенными махами, быстро погружается в ствол. Приглушенный треск. Предостерегающее:
— Бойся!
Вершина сосны дрогнула, помедлила и пошла вниз дугой. Гром в белом облаке.
Топор кашляет уже у соседней сосны, а я, высоко поднимая ноги, бреду, как по болоту, к вершине сосны. Сучья, как сосульки. Удар топора, и они со звоном отскакивают. Издали кричит Олег:
— Что делаешь?
Подбегает, выхватывает у меня топор.
— Ноги порубишь. Вот как надо.
Показывает, где стоять, как рубить, куда складывать ветки. Солнце освещает вершины сосен, как прожектор. По снегу стелются узкие, длинные тени, как синие тропы.
Молча появляется Алла. На ресницах ее замерзшие слезы, Костя оставляет нас, уводит ее за руку, как нашалившего ребенка. Они таскают ветви. Зашевелился, поплыл ручейком к небу дымок костра.
Костя возвращается. Со страхом я гляжу, как он снимает стежонку, кидает ее на пень, остается в одном свитере. От лица его идет пар. Весь он дымится, словно тлеет.
Из снега выползает трактор, оглушает нас лязгом и грохотом. Выскакивает Алешка, захлестывает тугой стальной петлей вершину хлыста, и через минуту оранжевый ствол ползет вверх на гриву, к дороге.
Брожу по колено в снегу. Он ходит под ногами, как трясина. Сверху — мягкий пух. В глубине — россыпь, крупная, как зерно.
Первыми согрелись, вспыхнули руки. Дальше огоньки поспешили к спине, ударили в лицо обжигающим хмелем. Теперь я уже не удивляюсь, что Костя работает без фуфайки. И сам снимаю и сую за пояс рукавицы. Руки дымятся, будто облитые кипятком. Топор жадно въедается в дерево. Сухие сучья сшибаю обухом. Считаю, сколько сделал. Ошибаюсь, припоминаю, а затем решаю, что это ни к чему: можно считать по пням.
Отовсюду несутся веселые, бодрые звуки. Как дятлы стучат топоры, шипят пилы, с треском раздирая гущу ветвей, падают навзничь сосны. Издали видно, какой огромный костер раскочегарила Алка. Голое, почти бездымное пламя его вьется, как знамя.
Приходят еще два трактора, расползаются стальными жуками по лесу. Бревна стремительно плывут в волнах снега, зарываясь, ныряя, как дельфины.
Олег роется в рукаве, добирается до часов, кричит:
— Обед!
Бьет в пилу. Она поет, заливается, вторит: «Обед, обед!»
Идем к костру, тащим с собою зеленые сосновые лапы, расстилаем их, садимся в узкий круг тепла. Вьется, пульсирует пламя. Клокочет вода в ведре. Пью дымный чай с хлопьями пепла. Замечательная штука — кружка кипятку. Он жжется, как спирт, дышит, сопит в лицо горячим паром. Жалко только, что нет сахара. Никто из ребят не подумал взять хотя бы кусочек.
Аришииы пирожки затвердели в камень. Я грею их на углях и раздаю товарищам.
За дрожащим пологом костра текучий силуэт Аллы. Кажется, что она сейчас растворится и улетит вместе с жаркими струями. Она приносит Косте кусок сахара. Смущенно смеется:
— На, тебе, в счет зарплаты.
Он ответно улыбается, раскусывает кусок крепкими белыми зубами, делится со мной и Олегом.
Лица у ребят маково-алые, пылающие. Разговор у костра лесной: о косачах, о том, как они гибнут под снегом, когда после оттепели сверху затвердевает корка льда, о медведях-«шатунах», о кержацких таежных скитах.
К костру подходит вернувшийся из Озерок трактор. Алеша кидает Алле тулуп.
— На, держи. Для обратного пути.
Короток зимний день. Сумерки заливают лог. Снова крепчает, звончеет мороз, снова пронзительно отчетлив каждый звук, удар, вскрик. Сто кубометров звенящих, как медь, бревен сделано нами сегодня.
Зажигают фары. Олег бьет в пилу.
— Кончай!
Гурьбой хлынули в сани. Но теперь, не то, что утром. Не притихшая, съежившаяся куча фуфаек и полушубков, Смех, шутки, веселые лица победителей. Взревел трактор, дернул. Заскулил снег.
Румяное солнце дотлевает за пихтами. Они, как силуэты древнерусского города. Башни, бойницы, купола церквей. И рядом со мной древнерусские богатыри, способные весело идти на подвиг.
Мелькает, как в книге, которую медленно перелистываю, яркая картинка: сосна, длинная, сухая ветвь и на ней крупный черный косач. На багряном, шелковом — черное. Толкаю локтем Алку, посапывающую в теплой норе тулупа. Она высовывает лицо.
— Смотри, красота какая!
— Я ж без очков, — ворчит она и снова втягивает голову в тулуп, как черепаха.
Мороз прямо-таки железный, но и мы тоже из крепкого материала.
НАДИ ВСЕ НЕТ
Неужели все кончено? Оборвалось так нелепо и ничего уже нельзя поправить? Правдивая, ясноглазая моя, где ты? Как найти тебя? Никому ни одного письма. Даже Варе.
Варя иногда забегает ко мне, возвращаясь с дойки. О Наде она ничего не знает. У нее тоже горе. Может быть, поэтому она заходит поговорить со мной — чувствует, что я ее пойму.
Вернулся из больницы Андрей Окоемов. Ходит на перевязки к Леночке. Олег навестил его, и он рассказал о событиях новогодней ночи. Оказывается, нож ему вынес Лаврик, опасаясь, что за холодное оружие их могут привлечь к ответственности. Отдал и вернулся танцевать. Дальше Андрей сам ничего не помнит. Одно утверждает твердо: «До того мысли о смерти не было». Теперь ему стыдно. Почти все время сидит дома; выходя на улицу, поднимает воротник кожаного пальто, угрюмо смотрит перед собой. При встрече со мной кивает, не глядя в лицо. Варю даже не замечает. От горя она исхудала, как будто тоже вернулась из больницы.
Между тем, в жизни ее появился новый человек. Узнал я об этом случайно. Шел по улице, когда послышался близкий окрик. Меня обогнал, увлекая легкие санки, тонконогий рысак, рослый, стройный, с солнечными бликами, вспыхивающими на короткой черной шерсти. Мелькнуло розовое улыбающееся лицо седока.
Промчавшись вперед, санки остановились, и из них выбрался, отряхивая снежную крошку, кто-то в меховой дохе, похожий на огромную, мохнатую куклу.
Я поравнялся с ним.
— Виктор Петрович! — воскликнул он к протянул мне свою медвежью лапу.
Я пожал горячие кончики пальцев, высунувшиеся из рукава. Где я видел эти светлые брови, голубые глаза и тонкий нос с энергичной горбинкой? Так это ж следователь! Нет усов, да и глаза стали другими. Тогда они старались казаться проницательными и строгими, теперь же они откровенно радушные, юношеские.
— Как живете? — воскликнул он, непонятно почему радуясь этой встрече.
— Хорошо, — отвечал я сдержанно.
— Женились?
— Нет. Куда это вы так торопитесь?
— Сюда, в Озерки.
— Случилось что-нибудь?
— Нет, ничего.
Рысак нетерпеливо переступал передними ногами, косился на нас, оборачивая красивую голову, показывая удила с примерзшей белой пеной. Путаясь в полах длинной дохи, следователь неловко втиснулся в санки, засмеялся.
— Да, подвели вы меня.
— Чем же?
— Разрушили мою версию.
— Не хотел огорчать вас, но что поделаешь.
— Я ведь увлекся вашим делом. Нож, семь спичек, хронометраж времени — классические улики. До того мне больше по торговой линии приходилось расследовать. Бумажное занятие. Сплошная бухгалтерия. Даже криминалистику забывать стал.
— Когда-нибудь вашей профессии вообще не будет. Ликвидируется за ненадобностью. Неперспективная у вас жизнь — безработица грозит.
— Нам, молодым, не страшно. Переквалифицируемся. А по-честному говоря, я рад был, когда убедился, что вы невиновны. Просто по-человечески рад, хотя и стыдно было.
— Даже стыдно?
— Представьте подобное из вашей практики: лечили бы вы больного от воспаления легких, а у него аппендицит. Полный конфуз. Ну, прощайте.
Он тронул рукой шапку, отпустил вожжи. Конь двинулся изящной, небрежной рысью. Кошева домчалась до дома Блиновых и свернула к воротам. «Так он к Варе», — подумал я и, оказалось, не ошибся. Пленила молодого следователя ее нежная красота.
Дня через два она сама рассказала мне:
— Приехал и спрашивает: «Хотите свежим воздухом подышать?» «С чего это вдруг?» — спрашиваю. «Да так просто» — отвечает. «Ну, если так просто, то можно».
Застенчиво опустила глаза. Добавила тихо:
— Рысак у него — огонь.
— А сам?
— Скучный, говорить не знает о чем. Смущается, как девушка.
— Может, еще разговорится? — предположил я.
— А зачем мне? — пренебрежительно спросила Варя. — Думаете, понравится? Нет, Виктор Петрович. Этому не бывать. Не нужен мне никто. Один у меня на сердце.
* * *
Погрызова подала заявление о своем уходе. Она, видимо, считала унизительным для себя говорить со мной и ограничилась тем, что положила заявление на стол.
Сообщил об этом Колесникову. Он обрадовался:
— Значит, вняла голосу разума? Не беспокойтесь, замена будет.
На прощание Погрызовой все же захотелось еще раз «устроить концерт». Подписывая акт о передаче аптеки, она спросила язвительно:
— Надеюсь, вы довольны?
— Да, — признался я.
— Я тоже. Мне в сельпо в сто раз лучше будет. Принимаю склад. А вам счастливо поработать с Леночкой. С ней вы далеко не уедете. Где сядете, там и слезете. Кормящая мать.
— Фельдшерицу пришлют.
— Вот кому не завидую. С вами ведь и ангел не сработается. Полгода здесь чудеса творите. Как только все с рук сходит? Окоемова чуть не зарезали, не знаю, как уж увернулись от суда. Сунули, должно быть, следователю. Сына у Светланы уморили и на меня сперли. Брата моего на тот свет отправили… Да вас к стенке мало. Я еще жаловаться буду. Я здесь три года работаю, ни слова плохого обо мне никто. Меня в облздраве знают. Вот буду в городе…
Я встал и, ни слова не говоря, вышел.
Приехала акушерка Люда. Она высокая-превысокая. Когда я спросил, как ее отчество, замахала руками, словно отгоняя комаров.
— Не надо никакого отчества. Зовите просто Людой.
Выяснилось, что отчество ее Селиверстовна. Под величайшим секретом она сообщила мне, что в техникуме ее дразнили совсем бессмысленно «седьмая верста» и все из-за отчества.
Она слегка сутулится, должно быть, чтобы этим несколько скрывать свой рост и худобу, но это плохо удается. Понравились мне ее глаза — серые, человечные, но причесывается она очень странно и этим портит себя. Начесывает волосы на лоб и слегка завивает их. Лоб получается маленький, как корочка, объеденная крысами.
Узнал странную новость. Поздно, в двенадцатом часу, пришла Варя. Не с дойки, не в рабочем платье, а в беличьей полудошке, в красном шелковом платке, пахнущая хорошими духами. Лицо, обожженное ветром, горело, глаза смотрели на меня радостно и виновато. Когда входила, слегка пошатнулась, придержалась рукой за стену, и мне показалось невероятное: «Пьяна».
Вошла, и первыми словами ее было:
— Вы одни?
— Один, конечно. Что с тобой?
— Ветер ужасный. С ног валит. И снег. Закружилась я.
Она вздохнула глубоко, стараясь справиться с волнением.
— У вас есть время? Поговорить мне надо.
В комнату ко мне не пошла. Села на кухне не раздеваясь. Припала грудью к столу, зажмурилась.
— Что-нибудь с Надей?
Она засмеялась:
— Вы только о ней. Нет, совсем другое. Вы только не смейтесь. Андрей за меня сватается… Вот и все. У вас есть вода?
Выпила стакан холодной воды.
— Жжет все внутри. Или я сама горю? Другому советы легко давать, а о себе ничего не знаю…
— И что ты ответила?
— Убежала. Глупо очень, ничего не могла. Ни слова. А вы что скажете? Не надо, да?
— Нет, не скажу.
— А мне нужен совет. Ну, я вам все по порядку расскажу. У вас есть время? Пришел он трезвый. Один. Дома у нас никого. Мы вдвоем. «Ну, Варвара, — говорит, — решай окончательно мою судьбу. Хватит вокруг своего счастья с завязанными глазами ходить. Ты, — говорит, — считаешь меня пьяницей? Так ставлю тебя в известность, что я зарок дал — к вину дорожка оборвана. Никогда ни одной рюмки. И еще тебе должен сказать, что насчет Надежды — это бред и туман, а ты мне вроде солнца». Так и сказал — солнца. Хотел руку у меня поцеловать, чудной такой, да я вырвала и убежала. В одном платьишке через дорогу к соседям. Кто меня погнал от него, самой непонятно. Я вам неверно сказала, что советоваться. Нет, так просто пришла. К человеку живому. Костя еще не знает. Да он что? Самой надо решать.
И снова засмеялась счастливым легким смехом:
— О чем ты?
— Он совсем другой стал. Такой смешной, как мальчишка. Вы его таким не знаете. Даже представить не можете. Свое предложение в стихах изложил.
— Когда же это?
— А мы еще раз виделись. Недавно. Только что. Я ж от него. Вот, видите! Сумасшедшая, правда? Я теперь думаю: что-то будет? Да, на всех ухабах загодя соломы не настелешь. А ответить не смогла.
Пододвинулась ко мне и просительно проговорила:
— Виктор Петрович! Вы ужасно хороший и умный. Только ничего мне не советуйте. Очень вас прошу. Все равно за него пойду. — И добавила серьезно, словно страшась своих слов:
— Разве можно ему без меня?
И как будто опасаясь, что я все-таки начну отговаривать, заторопилась домой. У порога протянула руку, спросила:
— Что улыбаетесь? Глупые мы, девчата? Да?
Когда закрылась за ней дверь, я подумал: «Тронулась река, скинула лед. Кто ж остановит ее?»
Хорошая, славная она, и хочется, чтобы нашла она свое счастье.
Еще новость — к Леночке приехал в отпуск муж. Широкоплечий, крепкий моряк. Первый раз вижу Леночку свежей, беззаботной, смеющейся, какой она и должна быть в свои двадцать лет. Сегодня во время приема она приблизилась ко мне и таинственно шепнула:
— Посмотрите, кто пришел.
Я выглянул в коридор. На скамье сидела, устало сложив руки на коленях, старуха Окоемова. Подошел к ней.
— Вы ко мне?
Она подняла больные, воспаленные глаза.
— Занедужила я, батюшка…
— Что ж не заходите?
— Не посмела.
— Проходите, пожалуйста.
— Плохая я стала, — проскрипела она, входя в кабинет и сдвигая с головы на плечи толстый, грубошерстный платок. — Должно быть, отжила свое.
Леночка помогла ей снять пальто, пододвинула табурет.
— Первичная? — спросила Люда, вынимая из ящика новый бланк.
— Да, первичная, — отвечал я и строго, осуждающе посмотрел на Леночку, которая радостно улыбнулась.
Алла работает в библиотеке вместо Оксаны, которая ушла в дородовой отпуск. На днях зашел к ней. Она сразу накинулась на меня:
— Давненько вас поджидаю.
Была она в синем, скромном халатике, но в лице пробивалось праздничное оживление. Бросилась в глаза новая выставка под красивым заголовком «Что надо знать животноводу».
— Просмотрела ваш формуляр. Маловато читаете, товарищ доктор. Беллетристики совсем не берете. Замыкаетесь в узкий практицизм.
— Некогда, Алла.
На секунду скрылась за стеллажами.
— Тут я специально для вас приготовила.
Шлепнула о стол объемистую стопку книг.
— Смотрите, Игорь Неверли «Парень из Сальских степей». Не читали? Ой, как стыдно! Вам, как врачу, обязательно надо прочесть. Панова «Спутники».
— Читал.
Перебрал книги.
— И «Ивана Ивановича» читал, и «Открытую книгу».
— А Джигурды «Теплоход „Кахетия“»?
— Нет.
— Возьмите. Еще Кронина «Путь Шеннона», «Цитадель».
— Алла, не все сразу, — взмолился я.
— Я отложу. Хорошо? Это все книги о врачах.
Настроение у меня до этого было дрянное. Забота Аллы меня развеселила. Смешная она все-таки. Ей кажется, что люди только и должны читать, читать и читать. Из вежливости взял «Путь Шеннона».
Нет, читать я сейчас не могу. Что бы ни делал я, все время чувствую свое одиночество. Бессонными ночами думаю все об одном и том же. Было счастье. Я не сберег его. Нужно было открыть Наде все, все о Вере, ничего не утаивая. Или, вернее, я ошибся не здесь, а еще тогда, давно, на острове? Не знаю, но теперь все собралось в одну темную тучу.
Невыносимы зимние, бесконечно длинные ночи. Пустынные, беззвучные ночи, когда стоит только закрыть глаза и рядом неотвратимо возникает Надя, так реально, что слышишь нежный шепот ее влажных губ.
В одну из таких ночей раскрыл «Шеннона». Не ждал я, что он так захватит меня. Далекая Англия, далекое умершее время. Казалось бы, все чужое, но неожиданно прочел залпом в один вечер. Молодой ученый, его скитания в поисках пристанища для научной работы: университет, Далнейрская больница, психолечебница, и везде гонения со стороны чиновников от медицины. Из ночного мрака на меня взглянули ласковые глаза милой несчастной Джин Лоу, связанной путами пуританских взглядов. Шеннон, влюбленный в свою науку, снедаемый молодым честолюбием, близкий и далекий.
Книга растолкала, растормошила во мне новые мысли. Неужели права Вера? Неужели нельзя без честолюбия? А есть ли у меня оно? Нет, у меня не честолюбие, а что-то другое, чего нельзя, может быть, определить одним словом, — страх умереть, не истратив себя без остатка, не достигнув всего, на что способен, исчезнуть, как осенний лист. Вот это чувство было сильно во мне с самого детства, еще когда я, лежа на острове и слушая шум тальника под ветром, мечтал. А честолюбие? Нет его…
И еще одна мысль: Шеннон — одинокий скиталец — ни на мгновение не оставлял свою науку. А я? Почему же я бездействую? Откуда это малодушие? Никаких оправданий. Трудно, времени нет, но все надо преодолеть. Я не дрянь и не тряпка, чтоб ссылаться на обстоятельства. И тут я задал себе вопрос: «Хочу ли я?» Ответил: «Да, хочу». Больше всего остального в жизни — служить науке. Дать ей хоть зернышко, но мое.
Все чаще почему-то стала попадаться на глаза Светлана. Мне даже думается, что она ищет встреч. Однажды она попросила меня:
— Зайдите ко мне. У меня дело к вам есть.
— Когда?
— Да хоть сейчас. Вы не заняты?
Маленькая квартирка выглядела теперь просторнее оттого, что вынесли кровать Бориса Михайловича. Стол выдвинут на середину комнаты. Светлана торопливо прикрыла его скатертью.
Присев на корточки перед плитой и кидая тонкие лучиночки язычкам пламени, она сообщила мне:
— Дом продаю. Покупайте.
— Пока не думаю.
— Не хочу здесь жить. Старые стены давят, и он все еще здесь. Побелила я, вымыла все, проветрила, а все мне чудится, что тленом пахнет.
На колени мне вспрыгнула, стала тереться мордой о грудь и мурлыкать тигристая красивая кошка с короткими, отмороженными ушами.
Светлана, захлопнув дверцу печи, отошла к двери, оперлась о косяк. Голос ее зазвучал вкрадчиво:
— У вас бывает такое: вдруг замечаешь, что жизнь уходит, тает, как снег?
— Нет, не бывает.
— Надоела мне деревня. Хочу жить в большом городе. Я ведь еще не старая. Хотите вина?
Я отказался.
— Напрасно.
Она достала из буфета бутылку портвейна, наполнила высокую с просинью рюмку, выпила.
— За ваше здоровье. — И продолжала: — Жизни я еще не видела. После войны маму схоронила, очутилась в детском доме, в Тогуре. Там и десять классов кончила. Хорошо там было. Книги полюбила, зачитывалась. В комсомол вступила. Затем приехала сюда, работать счетоводом в сельпо. Борис Михайлович стал уговаривать замуж. Работа мне не нравилась — тоска смертная. Глупая я еще тогда была, никто мне не нравился, и я посчитала: когда-нибудь замуж все равно надо. Согласилась, с работы ушла. Поживу, думаю, в свое удовольствие. Он сперва, правда, был ласковый, тихий. Такой ласковый, что даже до тошноты. Потом посуровел. Не умела я такой женой стать, какой ему надо. Противно рассказывать даже: обед свари, свинью накорми, за коровой присмотри, сырые валенки его не забудь на печь поставить, да сама к ночи подушись духами «Кармен», чтобы волосы навозом не припахивали. Читать не позволял. Сяду, бывало, за книгу, а он: «Ну, опять в книгу уткнулась. Неужели дела нет?» Из дома никуда не пускал. Девчата в клуб идут, а я сижу дома, плачу. По-своему и заботился обо мне, да радости от этой заботы мне не было: платья мне, сласти — без отказа. Вина захочу — пожалуйста. К себе приручал, да не приручил. Боялась заразиться. Он обнимет, а я отворачиваюсь, чтоб в лицо не дышал.
Скучно мне было и тянуло к людям. От скуки даже полюбить его старалась, откопать в себе что-нибудь к нему хорошее. Но после пуговицы перестала даже думать…
— Что за пуговица?
— Я одну свою кофтенку ветхую пустила на тряпки. Вытираю стол после ужина — что-то бренчит по клеенке. Он услышал, взял у меня тряпку из рук: «Это что?» Взглянул: пуговичка перламутровая крохотная. «Почему ты, — спрашивает, — не спорола?» «Да что-то не заметила», — отвечаю. Он этой мокрой тряпкой меня по лицу хлесть. Раз, другой. «Будь позаметливей, береги добро». Мне больно не было. Так только удушливо стало на сердце. Не сдержалась я, крикнула: «Постарше бы да поскупее взял себе, так она бы и чужого тебе в дом натаскала». «Чужого мне не надо, а мое не смей по ветру пускать». «Кофтенка то моя», — говорю. А он мне: «Нет у тебя ничего своего… Здесь все мое, и запомни — на копейке мир стоит… Не знала этого?» «Плевала, — говорю, — я на твой копеечный мир. А руку поднимешь еще хоть раз — уйду в чем стою, и больше ты меня не увидишь». «Вот, — говорит, — пригрел змею». Однако после этого не трогал. Куда ему — больной совсем стал. Как Ваню схоронила, опостылело все. Думала уйти, да пожалела его — недолго ему уж оставалось. Потерплю, думаю… Он и женился, говорят, чтоб было кому дом караулить. Видите, сколько накоплено — дышать нечем. А в комоде, а в сундуках страсть сколько всего понатолкано, и все ненадеванное. Тридцать лет в нору таскал. Ему на складе, на холоде никак нельзя было работать. Он знал это, а уйти не хотел, Выгодно было. Так и погиб за свои копейки. Дайте закурить. — Неловко взяла папиросу в рот, прикурила из печи от уголька, вдохнула дым, закашлялась, бросила папиросу на пол.
— Фу, дрянь какая.
— Зачем же пробовать? — спросил я. — Вы ведь не курите.
— Испытать надо. Я и водку пить пробовала. Целый стакан выпила. Сперва противно стало, а потом все закружилось, смешно так. Я смеялась, после заплакала. Мне всего хочется попробовать… Вы стихи любите? — спросила она отрывисто.
— Нет, не очень.
— А я люблю. Например, у Лермонтова: «Белеет парус одинокий в тумане моря голубом…» Хорошо… Как будто про меня сказано. Нет, уеду. Куда-нибудь на юг, к морю, к пальмам.
— Учиться вам надо, — посоветовал я.
Светлана презрительно взглянула на меня:
— Чтоб умней стать? Это лишнее. Мне надоело думать. Не хочу.
— А сами думаете.
— Почему вы угадали? Конечно, думаю. Только пользы мне от этого мало. Слишком многого хочу. Муж умер — я словно из тюрьмы вышла, весь мир обнять хочется. Вы когда-нибудь многого хотели? Не только там экзамен какой-нибудь сдать или костюм купить… Ну, скажите, чего вы сейчас хотите?
— Хочу стать настоящим врачом, чтобы мне никогда никто не сказал: «Что же вы, врачи?»
Светлана внимательно посмотрела мне в глаза.
— Да, для этого жить стоит. А у меня желания порхают, как бабочки. Разного хочется, а больше всего простого бабьего счастья. Вам смешно, наверно, покажется… Такого, чтобы проснулась утром, а рядом любимый. Мне ведь этого испытать не довелось. Не знаю, как это бывает. Что вы так на меня смотрите?
— Как смотрю?
— Как на больную. Это вы, как врач, — по привычке.
— Свет надо зажечь.
Она нервно засмеялась.
— Не стоит. Так лучше. Не стыдно правду говорить.
Опять налила вина.
— Хотите?
Я снова отказался.
— А мне нравится. Мысли свободнее ходят.
Говорила она быстро. Лицо освещалось огнем из открытой печи. Мне было больно и обидно за нее, что она, такая молодая, неглупая, запуталась в жизни.
— Светлана, — заговорил я. — Вам надо учиться, работать. Нельзя падать духом, нельзя склонять голову.
Слова мои звучали неубедительно. Я чувствовал, что она не понимает их.
— Зачем вы пробовали курить, пить? Всего попробовать? Чепуха все это. Не в этом радость жизни. Работа вам нужна. Такая, в которую вы могли бы вложить всю душу. Знаете, у Олега есть мысль послать вас на курсы воспитателей.
Светлана задумалась.
— Курсы? Не знаю. Я уже вещи начала продавать.
— Это не важно — вещи. Вы сами понимаете. Не в этом дело. Вы любите детей. Такие люди очень нужны. Подумайте. А уезжать никуда не надо. Зачем?
И тут произошло странное и непредвиденное: оказалось, все, что я говорил, проскользнуло мимо ее сознания, и только последняя мысль задела ее. Она встрепенулась.
— Вы, правда, не хотите, чтоб я уезжала?
— Не во мне дело. Вам самой не нужно уезжать. К тому же отец у вас здесь.
Метнула изумленный взгляд.
— Вы откуда знаете?
— Он сам рассказывал.
— И дочерью меня называл? Не похоже на него.
Я посмотрел на часы.
— Мне пора, Светлана.
— Куда же вы? — разочарованно произнесла она. И прибавила совсем обыденно: — Оставайтесь.
— Нет, — покачал я головой. — Оставаться нельзя.
В темных сенях она догнала меня, заслонила собой наружную дверь, зашептала порывисто:
— Не нравлюсь? Да?
Руки ее призывно легли мне на плечи.
— Ну почему? — спросила она со стоном. — Почему? Разве я хуже?
От нее пахло вином. Она привстала на цыпочки, чтобы дотянуться до моих губ.
— Не надо, Света, — сказал я, осторожно отстраняя ее.
КРЕПИСЬ, ВИКТОР!
Дома меня ожидал Олег.
— Где же ты пропадаешь? — быстро заговорил он. — Такие новости!
— Говори, какие.
— Надя вернулась.
Кровь отхлынула от моего лица, что-то властное, тяжелое перехватило горло. Свет электрической лампы потускнел. Закружились серые мухи, все гуще, гуще…
— Ты очнись, — говорил Олег, неловко расстегивая пуговицы моей шубы. — Воды дать?
— Нет, не надо.
В комнате снова начинает светлеть.
— Олег, чертушка ты этакий! Да ты знаешь, что ты сказал?
— Ясное дело, знаю.
Мысль о том, что Олег уже говорил с Надей, слышал ее голос, видел ее глаза, улыбку, поразила меня.
— Какая она?
— Обыкновенная. Правда, шапочка на ней новая, городская. Знаешь, бывают такие из вязаной шерсти. Очень ей к лицу. Да, еще валенки новые, или, нет, извини, она была не в валенках, а в бурках. Да, белых бурках.
Глаза у Олега смеялись, но в том, что он говорил, мне каждое слово было дорого и важно.
— Еще какие вопросы будут?
— Обо мне ничего?
Он беспомощно развел руками.
— Понятно. Значит, как ты ее назвал?
— Обыкновенная.
— Сам ты «обыкновенный», — расхохотался я.
Я был растерян и совершенно не знал, что мне делать. Первое, что пришло мне в голову, — подстричься и побриться. Сейчас же, пока Костя не лег спать.
Оделся, побежал. У Кости я застал Букину. Она близоруко щурила глаза и, низко наклоняясь к книге, читала вслух: «Старый Лоб-нор, который китайцы когда-то нанесли на карту, исчез, высох, а река, питавшая его, передвинула свое устье на юг и образовала там новое озеро, которое и открыл Пржевальский».
Алла сильно переменилась последнее время. Косички она обрезала, и от этого лицо ее стало милее и проще. Во всем ее облике проступило что-то мягкое, девичье, чего я прежде в ней не замечал. «Очки зря не носит. Глаза портит» — подумал я. Она недовольно взглянула на меня — я помешал чтению, и пока Костя протирал машинку одеколоном, обиженно молчала.
— Читай, читай, Аленька, — успокаивающе сказал Костя, и она взглянула на него послушными, преданными глазами.
— На будущий год собираемся втроем на Кавказ катнуть, — сообщил Костя.
Алла, с трудом сдерживая счастливую улыбку, снова начала читать. «Она для него уже Аленька», — отметил я.
Через час я вернулся домой. Двор неярко освещала луна. Сел на крыльце. Что делать? Спать? Да разве я усну? Из флигеля донесся приглушенный вскрик. Я зашел в родильное отделение. Люда сообщила мне, что все в порядке — роды у Оксаны Новиковой идут нормально.
Прошла ночь. Утром у Новиковых родился сын. Поздравил Илью Захаровича. Он разволновался, обнял меня, за что-то благодарил. Рад за него и Оксану и, честно говоря, завидно. Иметь ребенка — что может быть прекраснее этого?
Наконец наступил вечер, которого я так долго ждал. В семь начнется совещание передовиков животноводства. Не утерпел — пошел раньше. В клубе уже собрались девчата и парни. В фойе напевает радиола. Кружатся пары. Костя учит Аллу танцевать. Она сбивается с такта, спотыкается о его ноги, смущенно смеется.
У зеркала Ксюша. Лизнула мизинец, украдкой поправляет брови. Стрельнула бойкими глазами в мою сторону, покраснела.
Оживленно пожимает мне руку Олег. Вместе входим в празднично убранный зал. Олег ничего не спрашивает, но по глазам вижу, что ему хочется спросить: «Ну, как тебе нравится?» Да, теперь мне клуб нравится. Светло, чисто, уютно. Над сценой лозунг: «Дадим по 3000 кг молока от каждой коровы». По почерку видно — писал Олег. На стене диаграммы надоев молока, портреты передовых доярок. В центре Варин — самый большой. А вот и сама она — недалеко от сцены, склонившись над листком, зажала уши, шевелит губами. Должно быть, готовится к выступлению.
Подле нее Андрей в том самом костюме, в котором приходил читать мне стихи. Он наклоняется к Варе, что-то говорит ей. Около глаз его собрались ласковые морщинки. В нем ни властности, ни прежнего пренебреженья — словно подменили его. И она отвечает ласково, просто, и красивое лицо ее счастливо. Надолго ли?
Рядом с ними, оседлав скамью, Климов играет с Алешкой в шахматы. Алешка хмурится, трет лоб, покрытый испариной. Олег говорит мне что-то о шахматных столиках, которые он заказал, но голос его доносится словно из другой комнаты.
В углу, поодаль от других, сидит Надя. Печальная, сумрачная. Она в незнакомом мне темном платье, такая же, как прежде, но чем-то неуловимо другая, с большими невеселыми глазами.
Я стою у стены, прямо против нее. Она посмотрела в мою сторону. На мгновение глаза наши встретились, но ничто не изменилось в ее лице. Хоть бы невольно задержала взгляд. Ведь она так давно не видела меня. Нет, снова равнодушно отвернулась. Для нее я уже не существую на свете.
Заметила меня, улыбнулась и кивнула Варя. Замахала рукой: «Идите сюда». Я качаю головой: «Зачем?» Ухожу. Варя догоняет меня в коридоре.
— Вы куда? — оглядывается, не услышит ли кто. — Вы должны помириться. Она же любит вас. Обождите. Я сейчас.
Милая, добрая Варя! Как заботится она о чужом счастье! Через минуту она появляется, ведя под руку Надю. Подталкивает ее ко мне.
— Может, познакомить вас? Или сами?
Засмеялась, убежала в зал. Надя стоит передо мной неподвижно. Ожидает. Решающий момент наступил. Я говорю тихо:
— Надя, нам надо с тобой выяснить…
Она поднимает ресницы.
— Что выяснить?
Глаза ее спокойные, морозные. Передо мной не Надя, а совсем незнакомый мне человек.
— Я хотел сказать — Вера не жена мне и никогда не была…
— Может быть, — вздохнула Надя устало и безразлично.
— Значит, все? — спросил я, с ужасом сознавая, что происходит что-то непоправимое.
— Все, — кивнула она.
— Надя, но почему?
— Вы знаете, — ответила она и пошла к двери.
Давно погас свет в Аришиной избушке, давно прошли со смехом и шутками девчата и парни из клуба. Впереди ночь, бесконечная, бессонная, наедине со своими мыслями. Снова буду бесполезно думать о том, что сотни раз передумано. Надо как-то привыкнуть жить без Нади. Надо. Но как? Этого я не умею.
Очень обрадовался я приходу Новикова. Он сегодня необыкновенно разговорчивый.
— Смотрю, в окнах свет, — и смущенно вытянул из кармана бутылку тока́я.
— Купил для Оксаны, а акушерка не взяла. Говорит — не надо. Дай, думаю, зайду к Виктору.
Он не заметил, как назвал меня по имени. Глаза блестят весенним юношеским оживлением, говорит, улыбаясь и ртом, и глазами, и всеми морщинами стареющего лица. Видно, что в душе у него что-то настойчиво стремится вылиться наружу в слова, в жесты.
Расположились в кухне. Я раскупорил бутылку. Поискал закуски, но не нашел ничего. Рюмок у меня тоже не было. Налил в стаканы. Выпили за новорожденного. Помолчали. Илья Захарович осторожно спросил:
— А у вас как?
Он не назвал имени Нади, но я понял, что спрашивает о ней.
— Плохо, Илья Захарович, — отвечал я. — Очень плохо. — Но рассказывать не хотелось, и потому я спросил: — Как мальчонку назвать думаете?
— Сергеем. Мы с Оксаной давно решили.
Он подпер голову рукой и продолжал с каким-то недоумением:
— Не могу еще освоиться, что у меня сын. Прямо не верится, что жизнь так повернулась. Опасался, опять она меня стукнет. Непривычен я к счастью.
Лицо Ильи Захаровича помрачнело, но глаза продолжали гореть умным, волевым огнем.
— Трудная штука — жизнь. Суровая. Потому, что время наше суровое. Потомкам нашим легче будет, а мы — солдаты на передовой. Вы, молодежь, мало горя видели, а нашему поколению чего только не пришлось испытать: и голод, и холод, и войну. Все же не сломались, не обессилели, снова в строю. — Потянулся к пачке папирос, вынул одну, размял в пальцах. — У вас сейчас горе. Я понимаю, что тяжело, но, мне думается, вернется она. А не вернется… что ж, значит, не сумела полюбить. Значит, к лучшему. — Встревоженно спросил: — Я не напрасно об этом?
Нет, не напрасно. Почему-то мне было хорошо от его слов и от того тона, которым он говорил со мной. Было в нем что-то, чего я не знал в жизни, — сдержанная отцовская ласка, и от этого было тоскливо и радостно.
Он несколько придвинулся ко мне, отстраняя стакан.
— Любовь — это далеко не все в жизни, и у вас не все. Вы это сами знаете. У вас к научной работе склонность. Так верьте себе и стремитесь. Самое страшное — веру в себя потерять. Тогда уж человек действительно ни на что не годен. Без веры я бы, например, давно погиб. Было время в жизни моей такое гиблое. Помню, после ранения вышел из госпиталя. Сам на костылях, дома нет, семьи нет, город чужой. На всем свете никого родного, и жить, верите, нисколько не хочется. Уснул бы и не просыпался… Да, были такие мысли. Пришел я в райком партии. Секретарь спрашивает: «Куда тебя направить?». «А мне, — отвечаю, — все равно». Тут он взялся за меня. «Это почему же, — спрашивает, — все равно?» — «Выдохся, — говорю. — Если б мог автомат в руки взять, пошел бы хоть в огонь, хоть в воду. А так куда я гожусь?» «Товарищи есть у тебя?» — допытывается. «Воюют они». — «Мать?» — «Умерла». — «Жена? Дети?» — «Убили их». — «Расскажи, как жил». Не хотелось мне. Тяжело было прошлое ворошить. Скомкал все, но все же рассказал. Отец и мать были расстреляны белыми, еще в гражданскую. Мальчонкой в детдом попал. Затем работал на заводе, учился на рабфаке. За два года до войны поступил в автодорожный институт. С женой у нас план был: сперва я выучусь, затем парнишка подрастет, она учиться будет. Но тут война. Ушел я и больше их не видел… Рассказал, как под Харьковом танк наш подбили, и как Оксана меня в соломе раненого прятала. Как потом к партизанам ушел. И опять тяжелое ранение. На самолете на Большую землю вывезли…
Секретарь слушал внимательно. «Да, солоно тебе, — говорит, — досталось. Но что ж поделаешь. Такое свалилось на плечи не одному тебе. Миллионы людей война опалила, искалечила. Надо в руки себя взять. Борьба-то ведь не кончена». Сидел он против меня седой, в старом лоснящемся кителе. Пустой рукав под ремень засунут. Посмотрел я на него и подумал: «Может быть, у тебя, брат, еще хуже моего на душе, а ты не хнычешь».
Обозлился я на себя: «Неужели, думаю, тот снаряд немецкий, которым меня искалечило, все до дна из меня вытряхнул?». Сжал зубы покрепче. «Нет, думаю, не сдамся». Говорю: «Давайте туда, где у вас туго». Дали мне работу на военном заводе, поселился в общежитии. Сидя на табурете работал. С людьми новыми познакомился, в дело стал вникать, дали партийное поручение. Отмякла душа. Главное, почувствовал, что опять в строю, что человек я, а не лом, которому на свалку.
Взял себя в руки, работаю, как черт, а все где-то внутри холодно. К тому времени война кончилась, и думаю: «А что если написать Оксане? Может, уцелела во всех невзгодах»? Написал просто: жив, мол, здоров, добро твое помню. Один я теперь. Если жива, напиши. Вот в таком смысле. Через месяц получаю ответ. Оказалось, у нее жизнь тоже тяжело сложилась. Мобилизовали ее немцы, в Германию увезли. Там два года у помещика работала. Брюквой кормили ее, спала в сарае, на соломе, как скотина. Норму задавали. Не выполнишь — кнутом. Наши как раз вовремя пришли. Еще б немного — конец ей. Вернулась, работает в колхозе. Письмо товарищеское, славное такое, подробное. В гости зовет. Переписки у нас регулярной не получилось, но к Новому году всегда поздравления, телеграммы. Так же и по другим праздникам. И то сладко. Тут несколько лет у нее так получалось, что увидеться мы никак не могли. Не до того ей было. Отец и мать ее в оккупации погибли. На ее руках остались братья и сестры. Их надо было на ноги поставить. Затем училась в техникуме. Окончила. Я ее поздравил и пишу, что теперь и замуж можно. Она ответила, что человека по душе нет, что был один, да теперь он далеко. Так пишет, что можно понять, что я ей не безразличен, что меня она не забыла, и еще многое между строчек мелькает, но я себя обнадеживать боялся. Очень захотелось мне ее увидеть. Написал: «Приезжай Сибирь посмотреть». Позвал, ни на что особенное не рассчитывал, и вдруг телеграмма: «Выезжаю». Испугался я и стыдно — у меня все, что есть, на себе. Миска, ложка да немного книг в чемодане. Не считал я нужным свою жизнь загромождать. Жил налегке. Приехала. От прежней Оксаны мало что осталось, но для меня она еще милее стала. Прожила месяц. Пошел я в райком, попросился в колхоз. Приехали сюда уже как муж с женой. Первое время жили у людей, затем дом поставили. Все как будто ничего, живем дружно, только детей нет. Поэтому меня совесть мучила. Моложе меня она, ее годы уходят напрасно. «Может быть, с другим она счастливее была бы?» Какая жизнь без детей? Проснусь иногда ночью, раздумаюсь: «Что я наделал? Обокрал человека». А теперь все решилось. Видел Сережку в окно. Глаза у него мои — черные. Сильное это чувство. Как будто бы в меня кровь новую влили. — Плеснул в стаканы остатки вина. Спросил: — А помните, вы мне о геронтологии начали, да телефон помешал?
— Помню.
— Не бросайте. Нужное дело.
— Наука будущего…
— А сейчас достигнуто что-нибудь конкретное?
— Кое-что.
Я рассказал ему об опытах Анучина по продлению жизни крыс с помощью бромистого натрия, о работе румынских ученых Пархона и Анны Аслан.
— Черт возьми, здорово. А может быть, вы народу нашему могли бы рассказать? А? Лекцию подготовить. Для вас это нетрудно.
ВЕСНА РАЗБИВАЕТ ЛЬДЫ
Дует настойчивый южный ветер. Как голуби, воркуют ручьи в кюветах. Нежные, теплые облака текут над вершинами пихт. В сибирской весне есть что-то ласковое, женственное и, вместе с тем, мужественное, сильное, стремительное.
Никогда в жизни я не ждал весну так нетерпеливо, как в нынешнем году. Устал от холода, вьюг. Каждую ночь перед сном выхожу постоять на крыльце. В мутном небе шумит хвоя невидимых пихт. Ветер приносит из-за протоки то затихающий, то громкий натужный рокот моторов. Трактористы на острове поднимают луговую целину. Это Новиков на днях обратился к ребятам с предложением поднять на лугах сто гектаров целины и засеять ее кукурузой. Великолепная целинная земля обойдется здесь дешево — не надо корчевать лес. Она лежит жирная, никогда не паханная, ожидая плуга. Новиков подсчитал, что если кукуруза уродится и скосить ее на силос, то весь скот Озерской фермы будет обеспечен на зиму хорошим кормом, повысятся удои молока, и можно будет приступить к выдаче молочных продуктов по трудодням. Это первый шаг к освобождению колхозников от личного хозяйства. Теперь, когда техника передана колхозам, новую задачу решить легче.
Добровольцами вызвались работать на острове Костя, Алешка, Андрей Окоемов и трое прицепщиков. По последнему, уже посиневшему, хрупкому льду ребята перегнали на остров тракторы и сеялки. Алешка взял с собою баян, Костя стопку книг, связанных голубой ленточкой. Костя шутит:
— В Антарктику отправляемся!
Недавно состоялось заседание исполкома. Я докладывал о своей работе. Многое одобрили. Климов в шутку сказал, что я очень «надоедливый» и «не мытьем, так катаньем» своего добиваюсь. Говорили о строительстве больницы. Плотники кончают рубить стены. Пора позаботиться о гвоздях, шифере, закупить стекло. Следует сделать заявку на кадры. Если все пойдет ладно, осенью переберемся в новую больницу. Это радует, но все-таки мне плохо. Очень плохо. Мучительно видеть Надю — родную, самую близкую на свете, — холодной, бесконечно далекой. При редких встречах со мной взгляд ее безразлично скользит мимо. Значит, я противен ей. Так это и должно быть.
На днях, гонимый своей тоской, я зачем-то отправился на ферму. Знал, что иду напрасно, что не стану говорить с Надей, даже не подойду к ней.
Вошел в знакомую комнату для доярок. Тогда осенью здесь было холодно, неустроенно, в углу лежали провода и на недоложенной печи — забытый мастерок с засохшей глиной. Но тогда было счастье, были милые, любящие губы, было обжигающее слово «сватайся». Теперь здесь стало тепло, уютно. Девчата оборудовали библиотечку, украсили стены плакатами и картинами. Олег провел им радио. Но как не похоже мое настроение на тогдашнее! В душе так холодно и безнадежно. У стола, подперев голову рукой, неподвижно сидела Светлана. Она не слышала, когда я вошел, и продолжала смотреть в низкое, широкое окно неподвижным усталым взглядом. Я остановился. Захотелось поговорить с ней, чтоб исчез тот тягостный осадок, что остался от последней встречи.
За дверью кто-то уронил подойник. Загремела жесть. Светлана обернулась, увидела меня.
— Вы?
— Здравствуйте, Света.
Какую-то секунду она была застигнута врасплох. Глаза непроизвольно вспыхнули радостью, губы дрогнули. Ей подумалось, что я пришел к ней. Но в следующее мгновение она поняла, зачем я здесь, порывисто поднялась.
— Вам Надю? Я сейчас позову…
— Не надо.
Она пожала плечами, отошла к окну, отворила его.
— Зачем же вы пришли? — спросила она, подставляя лицо свежему воздуху. — Попрощаться?
— Нет.
— Через два дня я уезжаю. На курсы.
— Это хорошо, — сказал я.
Она быстро обернулась.
— Что именно?
— Что на курсы.
Она заговорила лихорадочно, стремительно, словно боясь, что я не стану слушать ее:
— Вы меня, пожалуйста, забудьте. Прошу вас. Будто никогда не знали. Мне надо все оборвать сразу. Чтоб от прежней жизни ни одной ниточки не осталось. Спасибо вам… Очень помогли вы мне. Но не думайте плохо. — Неожиданно умолкла, провела ладонью по лбу, словно что-то вспоминая. — А вообще вам не понять меня, и разговор этот ни к чему. — Прижимаясь спиной к косяку, Светлана проскользнула в дверь. Она не уходила, а скрывалась от меня.
* * *
Сегодня воскресенье. С утра сижу и готовлюсь к лекции «Здоровье и долголетие». Трудно готовиться, когда много материала. Нужно выбрать только самое яркое, самое доходчивое. Схемы и диаграммы обещал мне вычертить Олег. Он тоже засел за подготовку лекции. Взял свою любимую тему о космических полетах.
Иногда отрываюсь от книг и смотрю на улицу.
Ветер кидает в окно крупные хлопья влажного снега. Он тает на стекле, и вниз катятся крупные капли, похожие на слезы. Очень тяжело сидеть одному и вспоминать. На улице опять ветер, раскачиваются телефонные провода. На проволоку опустилась ворона, побалансировала, не смогла усидеть, улетела.
Скоро Первое мая. На воротах медпункта полощется красный флаг. Невеселый у меня будет праздник в этом году.
Неожиданно в комнате появляется Алешка Титов. Я знаю, что он работает за рекой, на острове, откуда нет пути, и все-таки он стоит передо мной в мокрой от снега стеганке, с раскрасневшимся лицом. Он не здоровается, только стаскивает с головы меховую ушанку и, неестественно расширяя глаза, выталкивает слова:
— Ну вот… помогите… Б-б…линов Костя помирает.
— Что с ним? Говори!
— Сильно, ну… плохой. Посинел весь.
— Когда заболел?
— Он давно… но работал, а сейчас г-говорит… конец мне. Дышать нечем. Грудь захватывает.
«Видимо, пневмония», — догадываюсь я.
— Ты как сюда попал?
— По льду. Затор.
— Можно пройти?
— К..а…ак по проспекту.
Беру санитарную сумку, складываю в нее ампулы камфары, пенициллин, норсульфазол. Выходим на улицу. Алеша двигается впереди, пряча от ледяного ветра кисти рук в мелкие карманы стеганки.
Подходя к берегу, Алеша останавливается и, приподняв ухо шапки, прислушивается.
— Однако сорвало затор.
С реки слышится глухое дыхание кого-то огромного, живого.
Выходим на яр. Сильный ветер гонит снег почти параллельно земле. Остров тонет в серой марлевой мгле. Шумят хвоей сосны. Внизу стремительно мчатся огромные льдины. Тесня и поднимая друг друга, они наполняют воздух злым ворчанием, звонким скрежетом и хрустом, таранят берег, выгрызая из него ломти сырой желтой глины.
— Так и есть, — безнадежно качает головой Алешка.
Пробуем закурить. Ветер гасит спички. Скользим по мокрой глинистой тропинке вниз. Приближаемся к воде. Она мутная, вся в грязных клочьях серой пены.
— Пойдем, — киваю Алешке.
Он спрашивает уныло:
— Вы что задумали?
Я сам не знаю. Не разговаривая друг с другом, безнадежно бредем по берегу. Выше по течению берег низкий. Трещат, как от медвежьей поступи, залитые водой тальники. Сквозь них продираются, сопя и шумно вздыхая, сердитые глыбы льда. Перебраться на остров невозможно — это ясно. Любую лодку в несколько минут лед изжует в щепки.
И вдруг вижу: целое ледяное поле наплывает сверху, медленно поворачивается, задевая берег, теснит и вышвыривает на берег мелкие глыбы льда. Останавливаюсь:
— Алешка! Смотри!
Ледяное поле замирает на мгновение, словно сомневаясь, продолжать ли путь, словно приглашая. Каким-то одним взмахом охватываю я множество картин. Они мелькают, как последние кадры оборванной киноленты. Улыбающееся смуглое лицо Кости и нежное, нечаянно вырвавшееся у него — «Аленька», и то же лицо теперь — изможденное, бледное, предсмертное, и еще одно лицо — Зарубина с чернявым, плохо выбритым подбородком, и его простуженный голос: «Совестью зовется»… И глаза Нади — серые, чистые, вопросительные… и почему-то небо с бегущими белыми облаками… и Волга в бурю, когда по стланям плещется вода и волны выбивают весла из рук…
Мне некогда думать — ледяное поле колеблется, подрагивает. Рву с себя, осыпая пуговицы, длинное пальто, кричу Алешке:
— Фуфайку давай!
Он растерянно смотрит.
— Скорее!
Хватаю фуфайку. Уже на бегу сую руки в рукава. Прыгаю на лед.
— Виктор Петрович! — кричит Алешка вслед. — Сумку!
Поле сопит и уходит от берега. Он кидает мне сумку через полосу кипящей, темной воды. Ловлю ее на лету и бегу. Чувствую необычайную ясность и стремительность мыслей, легкость тела и прилив незнакомого, захватывающего сердце оживления. Вспоминая это ощущение позднее, я понял: это было ни с чем не сравнимое счастье борьбы всерьез. Но сейчас я не думаю, что это борьба, а бегу что есть духу по ледяному полю, гремя сапогами по ноздреватому, черствому снегу, наклоняясь вперед навстречу пронзительному, давящему ветру.
Поле обрывается. Прыгаю на соседнюю льдину, и сердце охватывает холод испуга — дальше пути нет. Озираюсь. Кругом плывут мелкие осколки разбитого льда.
Вдали, на середине реки, скрипят и звучно всхрапывают льдины. С левого берега, из Озерок, доносится комариный писк гармошки. Почти рядом ровно бежит островной берег — низкий, незаметно уходящий в воду. На нем ясно виден каждый камешек, каждая галечка. Вон одна пестрая и круглая, как серый цыпленок, и рядом с ней кусок льда голубоватолунного цвета, примерзший к берегу, а между ней и мной темная рябая вода, вся иссверленная мелкими водоворотами.
Разбегаюсь и прыгаю насколько могу дальше, держу санитарную сумку над головой. Грудь, руки сразу охватывает тяжелая, как ртуть, вода. Ноги касаются дна, но вода тотчас же валит меня и несет. Плыву недолго, наверно, не более минуты. Не выхожу, а выползаю на берег. Сажусь на камнях, задыхаясь, отплевываясь.
Ветер леденит, жжет. Снег сечет лицо. Снимаю и пытаюсь выжать стеганку. Жму, тискаю, кручу ее, и все-таки она остается увесистой, как кольчуга.
Летом я раза два или три бывал здесь и даже ночевал в той избушке, где живут сейчас трактористы, но пятна белого снега, обнажившиеся кустарники, густеющие сумерки все изменили неузнаваемо. Бреду почти наугад. Неожиданно оказываюсь у какого-то болота, занесенного снегом. Сквозь снег проступает вода, пятнами, как кровь сквозь бинт. Потом натыкаюсь на стога. Усталая мысль — зарыться в сено, отогреться. Опять почему-то выхожу к берегу. Не знаю, сколько времени плутаю по острову. Часы остановились. Неужели замерзну?
Внезапно сквозь тьму пробивается свет. Одна драгоценная капля. Кидаюсь вперед. Спотыкаюсь, падаю. Я у цели! Как это чудесно: и раскрытая настежь дверь, и полоса света, желтым клином рассекающая тьму, и блеск зеркально-гладкого лемеха в ней, и собака у порога — черная дворняга с репьями в курчавой шерсти, и дуновение живого тепла, ударившее мне в лицо.
Жарко раскалена железная печь. Тесную комнату освещает шестивольтовая лампешка, подвешенная к потолку. На железной койке, сдвинувшись на край, лежит Костя. У стола Андрей. Повернул голову, узнал меня, нахмурился. Ребята-прицепщики кидаются ко мне.
— Виктор Петрович! Вы откуда?
Один из них — курносый, рыжеватый, другой — большеглазый, со стриженной под машинку головой, третий — робкий, улыбчивый, остается в стороне.
— Плавом?
— По-всякому пришлось.
Костя беспокойно ворочается, шепчет:
— Вы его ребята…
Не договорив, уронил голову на подушку, надрывно кашляет.
— Мы моментом, — соображает стриженый.
Они стаскивают с меня тяжелую мокрую одежду, кое-где похрустывающую ледком. Одевают в сухую, теплую, припахивающую керосином.
Андрей, ни слова не говоря, ставит передо мной стакан водки. Нет, пить сейчас нельзя.
Состояние Кости тяжелое. Он лежит, полуприкрыв веки. Дышит неровно, порывисто. Пульс учащенный, со слабым наполнением и перебоями. На иссиня-бледном лице выделяется заострившийся нос. Выслушиваю его. Тоны сердца глухие. В обоих легких прослушиваются очаги притупления, влажные хрипы. Пневмония.
Пока на печке кипятятся шприц и иглы, я слежу за его сердцем. Временами мне кажется — оно готово остановиться. Я замираю от боли и страха.
Подходит Андрей. Предлагает, смотря в пол:
— Вы, если чего помочь надо — говорите.
— Пока ничего.
Впрыскиваю камфару. Пульс становится тверже, увереннее. На скулах больного появляется слабый румянец. Мы приподнимаем его и даем норсульфазол. На грудь кладем горчичники.
Костя дремлет. Ребята умостились спать все трое под одним большим тулупом. Я присел у стола и думаю о том, что, явись ко мне Алеша на час позже, и не было бы теперь Кости — умного, веселого тракториста, который так любит читать о путешествиях и у которого над постелью висит портрет Миклухи-Маклая.
Андрей тоже не спит. Он лежит на своем топчане, изредка поднимается и, накинув на плечи пиджак, выходит курить. Потом и он засыпает. Незаметно задремываю и тут же испуганно пробуждаюсь. Показалось, что-то случилось. Напрасно — Костя спит. Дыхание ровное, пульс без перебоев. Осторожно бужу его, делаю инъекцию пенициллина, даю норсульфазол.
Снова клонит меня ко сну и слегка знобит. Иногда проносятся неясные видения — река, шум наползающих друг на друга льдин. Просыпается Андрей, смотрит на меня, потом обращается, не называя по имени:
— Вы давайте ложитесь. В случае чего разбужу.
Но ложиться я боюсь. Чтоб не уснуть, хожу по избушке от порога к окну.
Утро. Ушел к трактору Андрей со своим прицепщиком. Двое других еще спят. Слышится голос Кости:
— Виктор Петрович!
Наклоняюсь над ним:
— Что?
— Слабый я…
— Ничего, Костя. Это уже жизнь.
Он улыбается бледными губами.
Встаю, распахиваю настежь дверь. Солнце встало, и все кругом сверкает чистым снегом. Костя с наслаждением вдыхает полной грудью свежий воздух.
По снегу к избушке идут трое: Зарубин, Олег и Новиков. Несут носилки. Я бегу им навстречу. Новиков протягивает мне руку, обнимает за плечи.
— Что Костя?
— Двустороннее воспаление легких. Было плохо с сердцем.
— Было? Сейчас уже лучше?
— Да.
Он хлопает меня ладонью по плечу, щурится.
— А ты, оказывается, парень рисковый.
Несем Костю к лодке. Как будто бы и не было вчерашней непогоды. Небо ясное-преясное. Высокий яр левого берега, залитый солнечным светом, шиферные крыши изб, сосновый бор — все сияет весенними, глубокими красками. На реке тишина. По воде плывут последние запоздалые льдины.
Кутаем Костю в тулуп, усаживаем на скамье в лодке. Я рядом с ним, поддерживаю его.
— Хлопот я вам наделал, — виновато говорит Костя.
Зарубин и Олег гребут размашисто, сильными рывками длинных, неуклюжих весел. Весла грубые, тяжелые. Я думаю: «Посмотрели бы, какие весла на Волге — легкие, гибкие, как перышки». Новиков правит, изредка привставая и помогая грести кормовым веслом. Рассказывает:
— Вас-то застать мы не надеялись. Алешка прибежал ко мне весь в поту. «Дыгггды…», а сказать ничего не может. Едва вытянули из него: «Доктор, кажись, залился», — утонул, значит. Мы с Олегом сразу на берег в лодку. Не тут-то было. Как подхватило нас, зажало льдом, не вырваться. К острову не выправили. Утащило километров на пять вниз. Кинули лодку и пешком домой. Чуть рассвело, опять решили попытать. Лед реже пошел, да и развиднялось. А то Олег совсем было закис.
— Ну, уж тоже скажете, — возражает Олег.
— Ты давай, греби. Все Озерки на тебя смотрят.
На берегу, там, где мы должны пристать, толпятся люди. Некоторые стоят у самой воды, другие вскарабкались на льдины, выброшенные на мель, — издали они похожи на пингвинов.
Приближаемся. Различаем одежду, лица. Узнаю Егорова, Невьянова, Андрея, Варю. Светлана в белом шерстяном шарфике машет рукой, рядом с ней Леночка.
— Левым табань, — командует Новиков.
Олег подтабанил, снял весло. Лодка клюнула носом льдину. Чьи-то руки хватают за цепь.
Прыгаю на берег. Костю выносим к телеге. Меня окружают, жмут руки, говорят хорошие слова. Никак не ожидал я такой встречи, смущаюсь до крайности и не знаю, что говорить. И вдруг замечаю Надю. Она стоит отдельно от всех, в стороне, с непокрытой головой, в расстегнутом ватнике. Между полами его краснеет кофточка. Косынка сбилась на шею. Мне что-то еще говорят, но я уже не понимаю, что именно. Я чувствую только одно — ее лицо. Нет ничего сейчас на свете, кроме него, — оно просветленное, прежнее, мое. Словно река, очистившаяся ото льда. Всплеск бровей, глаза серые, теплые — они тоже прежние. Это вспыхивает на один миг, между двумя взмахами ее ресниц. Опалило смутной радостью, смутной догадкой. И все. Она уже спрятала взгляд, отвернулась, сейчас уйдет.
Телега трогается. Я сажусь рядом с Костей. Надя отстает. Она идет одна, позади всех, медленно, пуговицу за пуговицей, застегивая стеганку. Вот остановилась, повязала косынку.
Алла идет рядом, держась рукой за телегу. Блестящие крупные слезы переваливаются через ее ресницы, одна за другой бегут по щекам.
— Не плачь! — успокаиваю я ее. — Теперь уже не о чем.
ГОРИТ ЗАРЯ
Весь этот день я спал как убитый. Около Кости дежурила Леночка. Проснулся под вечер, пошел проведать его. Он все еще слаб, бледен, но уже появился аппетит. Попросил есть. Алла около него неотступно. Кормит с ложечки.
От Кости ушел на берег. Знакомый яр, овеянный ветром. Под ногами выцветшая прошлогодняя трава. Река раскинулась широко, до самого горизонта. Остров весь в озерах, словно подтаявший. На буграх черные прямоугольники пахоты. Три трактора ползают вдоль кромки нового поля.
Кусты черемухи залиты, наклонились по течению, как под сильным ветром. От их стволов вниз текут стрелами полосы тонких волн. И все это: и гладкая вода, и озера, выплеснувшиеся на остров, и кусты черемухи, и янтарные сосны над яром — все залито вечерней зарей. Над всем заря. Она красно-желтая, с дымными всплесками облаков. Вскипела, вздыбилась, словно конь, да так и замерла.
Где-то ниже по берегу — гармонь. Голос Ксюши поет об Орленке. Ее песня, словно частица зари. И во мне самом словно отсвет зари. Он высветил всего меня, забрался во все уголки души. Удивительное ощущение ясности. Откуда оно? Что случилось? Такое ощущение бывало после сдачи экзаменов. Но то было мельче. Сегодня сдан первый экзамен настоящей жизни. Валетов ошибся — никуда я не убежал и твердо знаю, что не убегу. Впервые чувствую себя настоящим мужчиной.
Теперь я всей душой чувствую, что Озерки мои. Мои. Выстраданные. О ними я сросся. И будущая больница, и лаборатория, и будущие красивые чистые улицы, новые дома, и парк культуры и отдыха, о котором мечтает Олег, тоже мои.
Тяжело бывало временами. Но разве легко было отцу, тысячам таких же, как он, сельских врачей? Идти дорогой отца — значит, впереди будет опять нелегко и никогда не будет легко. Пусть. Так и должно быть.
Теперь я уверен, что не сдамся, не скисну, не сбегу. Сама жизнь подталкивает, не дает стоять на месте: книга Смородинова, напоминание Веры, советы Новикова, Колесникова, наконец, далекий коллега мой, Шеннон, — все словно сговорились разбудить меня. И снова я во власти прежних мыслей о геронтологии. Да нет, никуда они не уходили. Они все время жили во мне, как живет проросшее семя под слоем снега… Прав Колесников — будет больница, при ней организуем лабораторию, я освою технику анализов, буду экспериментировать по моей теме. Не ждать затишья в работе. Не дождешься его. Работать всегда, в любых условиях. Завтра же надо написать Смородинову.
…За спиной шелестнула прошлогодняя трава. Не под ветром. Легкие, небыстрые шаги. Я знаю чьи. Она все ближе. Уже рядом. Рядом ее дыхание. Она ничего не говорит, не спрашивает, не объясняет — просто осторожно берет мою руку в свою, слегка пожимает.
Мы стоим высоко на яру, а над нами горит заря — горячая, растрепанная, буйная, как костер. Огромная, как сама жизнь.
1958—61 гг. с. Калтай.




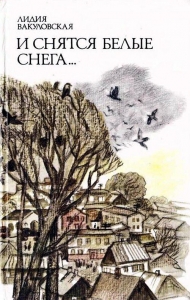
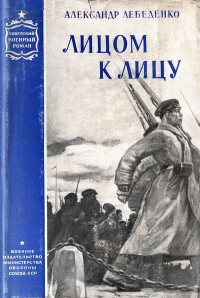
Комментарии к книге «Зори не гаснут», Леонид Андреевич Гартунг
Всего 0 комментариев