Виталий Закруткин ПЛАВУЧАЯ СТАНИЦА Роман
Глава первая
1
Негреющее, чуть повитое морозной дымкой зимнее солнце тускло светило над белыми холмами. После короткой оттепели жестокие морозы затянули снег ледяной пленкой, и вся степь сияла ровной холодной желтизной.
Между высокими заснеженными скирдами, минуя грейдер, прямо по склону холма пробирались одинокие сани. Косматые рыжие кобылы, пофыркивая и тяжело поводя запотевшими, тронутыми инеем боками, грузно шагали по глубокому снегу.
В санях сидели здоровенный старик кучер в овчинном тулупе и тонкий юноша в коротком дубленом полушубке и серой барашковой шапке, с которой еще не сошла плотная вмятина — след военной звезды.
Путники долго молчали. Только за холмом, когда уже скрылись с глаз лиловые дымы далеких шахт, старик повернул закутанную бабьим платком голову и хмуро спросил:
— Как вы там, ишо не задубели?
— Есть маленько, — признался юноша. — Надо бы пробежаться.
— Ну так что ж, пробегитесь, — ухмыльнулся старик, — а то в ваших сапожках заклякнуть можно. Заместо вас только сосулю до станицы довезу…
Юноша соскочил с саней, похлопал руками, потоптался на месте, а когда кобылы вышли на бровку и побежали рысью, кинулся за санями. Потом кони пошли медленнее, и старый кучер, не теряя из виду далеко отставшего спутника, хрипло запел тягучую песню без слов.
— Инспектор! — проворчал он, оглядываясь. — Какой с него инспектор? Молоко на губах не обсохло. Тут наши братцы не таких птенчиков обламывали…
Василий Зубов, которого вез со станицы угрюмый старик, был назначен участковым инспектором рыболовного надзора и ехал в станицу Голубовскую принимать участок. По окончании рыбопромышленного техникума он заболел воспалением легких, долго провалялся в больнице и только зимой смог выехать к месту службы.
— Ну как, согрелись? — спросил старик, когда разрумянившийся Зубов вскочил в сани.
— Согрелся, — весело усмехнулся Василий. — А то чуть было не пропал…
Он посмотрел на заиндевевшие усы кучера, на его спущенный с саней огромный резиновый сапог.
— А вам разве не холодно в таких сапогах?
— У меня, мил человек, в каждом сапожке по пуду сенца намощено, — усмехнулся старик.
— Как же вас зовут? — полюбопытствовал Василий, усаживаясь поудобнее. — Вы до сих пор даже фамилию свою не сказали.
— По документу моя фамилия — Ерофей Сазонов, — буркнул кучер, — а только ежели вы в станице меня по этой фамилии искать зачнете, то вам все одно никто ничего не скажет.
— Почему? — удивился Василий.
— А потому, к слову сказать, что у меня есть станичное, уличное то есть, прозвание.
— Какое же?
Старик пренебрежительно махнул кнутом:
— Дурацкое прозвание.
— А все-таки?
— Малявочкой меня кличут, — нахмурился старик, — дед Малявочка — и все…
Посмотрев на грузную фигуру великана кучера, Василий не выдержал и засмеялся. Кучер прикрикнул на кобыл и повернулся к нему.
— Выдумают дурость, она и пристанет до человека.
— Почему же вас так прозвали? — пряча усмешку, спросил Василий.
Дед намотал вожжи на колено, стащил рукавицы, закурил и проворчал, мрачно сплевывая в сторону:
— Это вам в станице все чисто расскажут.
Явно уклоняясь от неприятной темы, старик покосился на Зубова:
— А вы, значится, инспектором до нас назначены?
— Да, инспектором.
— Откудова ж сами родом будете?
Зубов пересел ближе к старику:
— Из города. Мать у меня там учительницей работает. А я в сорок пятом году, как демобилизовался, в рыбтехникум поступил, сразу на второй курс, потому что первый до войны закончил.
— Чей же вы по фамилии будете?
— Зубов, Василий Кириллович.
Дед Малявочка одобрительно кивнул:
— Доброе дело, Кириллыч. Тольки когда ж вы успели в армии служить, ежели вам, должно быть, годочков двадцать, не более, будет?
— Двадцать три, — покраснел Василий. — Я, дедушка, в сорок втором добровольцем в армию пошел. Шестнадцать лет мне было. Пришлось прибавить себе годы, чтобы не отказали в полк зачислить…
Они помолчали.
Оседая на задние ноги, всхрапывая, лошади осторожно спускали сани с высокого крутого холма. Внизу зачернели деревья, крыши хуторских домов, скирды сена, а еще ниже, за кривой излучиной замерзшей речушки, раскинулось белоснежное ровное займище. Далеко на горизонте, за сизо-голубой морозной дымкой, угадывалось русло большой, скованной льдом реки.
Солнце спустилось к самой земле, и все займище было залито красноватыми отблесками косых лучей. Слева и справа замелькали дома. Залаяли собаки.
— Хутор Виноградный, — махнул рукой старик.
— А до Голубовской далеко? — спросил Василий.
— Километров двенадцать будет.
Через несколько минут они миновали хутор, пересекли утонувшую в сугробах молодую лесопосадку и помчались по ровной, накатанной дороге. Уткнувшись носом в шерстяной платок, дед Малявочка раскачивался из стороны в сторону и монотонно покрикивал на спотыкавшихся кобыл.
Ошметки летевшего из-под копыт колючего снега больно били Зубова по лицу, он отворачивался, дышал на озябшие руки и, ожидая появления станицы, смотрел на сумеречные тени лиловеющего займища.
— Вот она, наша плавучая станица! — крикнул старик, тыча кнутовищем влево.
— Почему плавучая? — спросил Зубов, всматриваясь в длинный ряд тополей.
— А вот поглядишь весной: полая вода затопит тут все кругом, баркасами по улицам ездить будем… Да и Станичники наши от рождения до самой смерти на воде проживают…
Крякнув, Малявочка похлопал Зубова рукавицей по плечу:
— Озяб?
— Озяб, — отозвался Василий.
— А водку пьешь?
— Нет, не пью.
— Не пьешь? — недоверчиво переспросил старик.
— Не пью, дед!
Насупив брови, Малявочка осмотрел Зубова с головы до ног, будто только сейчас увидел его, и, усмехнувшись, пожал плечами:
— Ну, значит, трудно, тебе будет должность свою справлять, и для рыбаков трудным ты человеком окажешься…
Он придержал лошадей и добавил суховато:
— Сейчас мы тебя доставим до Марфы Пантелеевны. Это моя невестка, сына моего погибшего женка. Там тебе квартерку наготовили… В ней Степан Иваныч стоял, инспектор, которого осенью увольнили.
Когда въехали в станицу, было почти темно. На голубом снегу чернели высокие дома, присыпанные инеем деревья, загороженные плетнями базы. Сани миновали колхозный двор, свернули в переулок и остановились у крайнего дома, приткнувшегося на бугорке у самой реки.
Дед Малявочка остановил коней, помог Зубову снять чемоданы и, не здороваясь, сказал появившейся на пороге дома женщине:
— Принимай гостя, Марфа.
Василий смущенно сунул старику десятку, простился с ним и, подхватив тяжелые чемоданы, пошел за женщиной в дом. Он так замерз, что у него зуб на зуб не попадал, а ноги совсем одеревенели. Марфа провела его в кухню, открыла дверь в боковую комнатушку и сказала приветливо:
— Снимайте полушубок. Я сейчас лампу засвечу, растоплю печку, а то вы, видать, пока ехали, окоченели.
Василий разделся и присел на табурет, потирая руки.
Марфа внесла зажженную лампу. Не скрывая любопытства, она осмотрела своего гостя — скользнула взглядом по его тонкой, мальчишеской шее, румяным от холода щекам и тихонько засмеялась:
— Молоденький у нас инспектор будет, не такой, как Степан Иваныч.
Поставив лампу на стол, она захлопотала у печки, застучала кастрюлями и, больше не глядя на Василия, заговорила так, точно была в комнате одна:
— Скипятим чайку. Горячий чаек с мороза лучше всего. На ночь затопим в залике, теплей будет. А можно и за спиртом до председателя послать. У нас рыбаки зимой спирт получают…
— Спирта не надо, хозяюшка, — сказал Василий, — а чаю я выпью с удовольствием…
Пока Василий, сидя у стола, пил горячий чай, женщина стояла возле печки, заложив руки за спину, и рассказывала негромко:
— Муж у меня был ранен в голову аж под самым Берлином. Списали его с госпиталя в чистую отставку. Пожил он дома семь месяцев, а потом помер от мозговой болезни, кровоизлияние называется. Осталась я одна с сыном Витькой, пятнадцатый год ему. Сама цельный день на работе — я в сетчиковой бригаде состою, — а сын школу не кончил, в седьмой класс ходит и в колхозе работает. Вот так и живем…
Василий слушал словоохотливую хозяйку, поигрывал с пестрой кошкой, сидевшей на табурете, но его уже разморило от жары, и он все чаще поглядывал на дверь, за которой видна была пышно взбитая постель.
— Идите спать, — наконец спохватилась Марфа, — небось промерзли в дороге, а я вас разговором своим задерживаю.
Он поблагодарил, взял лампу и вошел в отведенную ему комнату. Это была обычная казачья горенка, с фотографиями на стенах, с высоким сундуком в углу, со столом, покрытым чистой голубой скатертью.
— Вот тут и будете жить, ежели понравится, — сказала Марфа, — а не понравится, председатель вам другую квартиру найдет.
— Спасибо, мне очень нравится, — смутился Василий.
— Ну, спите спокойно, а я пойду дожидаться своего гуляку. Должно быть, в избе-читальне засиделся.
Она ушла, плотно притворив дверь.
Василий расстегнул ремень, вынул из кобуры пистолет, сунул его под подушку, стащил сапоги, быстро разделся и лег под одеяло.
— Можно взять лампу! — крикнул он Марфе. — Я уже лег.
— Нехай стоит, я после возьму, — отозвалась женщина.
Жестяная лампа скупо освещала край скатерти, цветы на подоконнике, темную икону в углу. Сквозь маленькое, затянутое льдом оконце, прочертив на чистом глиняном полу голубую дорожку, пробивался лунный свет. Где-то на краю улицы залаяла собака, потом кто-то прошел, скрипя сапогами по затвердевшему на морозе снегу.
Василий закрыл глаза. Вот и началось наконец то, о чем он мечтал. Остались позади фронтовые дороги, годы пребывания в техникуме, веселые споры в шумном студенческом общежитии. С завтрашнего дня он, Василий Зубов, начинал новую жизнь.
«Интересно, как это все получится», — подумал Василий.
Он вспомнил свой последний разговор с начальником Рыбвода Бардиным, который подписывал ему направление в голубовский инспекторский участок.
«Смотрите, Зубов, — сказал Бардин, — вы назначаетесь в трудный район. В техникуме вас обучили всему, чему надо, — от ихтиологии и рыбоводства до коллоидной химии, — но на реке вы с первых же шагов убедитесь, что это еще далеко не все. Именно там, на реке, вам придется сдавать настоящий экзамен, запомните это…»
«Ладно, товарищ Бардин, — подумал Василий, — постараемся сдать и этот экзамен».
2
Утром Василий Зубов разложил на столе вынутые из чемодана книги, белье, походный письменный прибор, бритву, стопки конвертов, папиросы, целлулоидные воротнички, карандаши, перья, папки с бумагами.
Все это Василий расположил в ящиках стола, на подоконниках и на бамбуковой этажерке. Затем подшил на гимнастерку белый подворотничок и, отвернув до локтей рукава ночной сорочки, вышел в кухню.
Марфа и ее сын Витька, белесый рябоватый парнишка в стеганке, стоя над миской, обдирали кукурузу для кур. Оба они приветливо поздоровались с Василием и засуетились, чтобы приготовить ему умывальник. Сын кинулся наливать из ведра воду, а мать побежала за чистым полотенцем.
— Вы не беспокойтесь, — сказал ей Василий, — у меня все есть.
Только сейчас, при дневном свете, он рассмотрел свою хозяйку. Это была белокурая, румяная женщина с высокой грудью, ясными глазами и суховатыми маленькими руками, которые ни одной минуты не оставались без движения. На Марфе были заправленная в короткую юбку спецовка, синяя косынка и комнатные чирики, надетые прямо на босые ноги.
Намыливая шею, Василий повторил, неловко улыбаясь:
— Вы напрасно беспокоитесь, честное слово. Я ведь привез с собой все, что надо.
— А вы тоже не тревожьтесь, — перебила его Марфа, — умывайтесь да садитесь завтракать, а то вас уже люди спрашивали.
— Какие люди? — удивился Василий.
— Досмотрщик из рыбнадзора и бригадир второй рыболовецкой бригады.
— Досмотрщик мне как раз очень нужен, — отфыркиваясь, пробормотал Василий, — ведь это пока мой единственный помощник в станице, он должен ввести меня в курс дела…
Переглянувшись с сыном, Марфа засмеялась.
— В курс-то он вас введет, — грубовато сказала она, — а только выйдете вы из этого курса или нет, будет видно.
— А где же он сейчас? — спросил Василий.
— Кто?
— Досмотрщик.
— Да я их обоих выгнала, и его и бригадира, — призналась Марфа, — сказала им, что вы отдыхаете с дороги. Они обещались позднее зайти.
Василий наскоро позавтракал, поболтал с Витькой и только успел закурить, как во дворе залаяла собака и в комнату вошли дородный, чисто выбритый крепыш в белом брезентовом плаще и невысокий, тщедушный человечек в старой солдатской шинели, бараньем треухе и резиновых сапогах.
Они поздоровались, окинули Василия быстрым, мгновенно оценивающим взглядом и сняли шапки.
— Мы до вас, товарищ инспектор, — густым, сиплым басом сказал человек в белом плаще. — Я, значит, бригадир второй рыболовецкой бригады Пимен Гаврилович Талалаев, а этот товарищ — ваш помощник будет, досмотрщик рыбнадзора Прохоров Иван Никанорович…
— Очень приятно, — поднялся Василий. — Меня зовут Василий Кириллович Зубов. Садитесь, товарищи, поговорим…
Талалаев и Прохоров сели: первый — уверенно и грузно, так что под ним жалобно заскрипел стул, второй — робко, на краешек табурета.
Не обращая пока внимания на бригадира, Зубов не сводил глаз со своего помощника, и чем внимательнее он смотрел на Прохорова, тем более неприятное чувство овладевало им. Досмотрщик Прохоров, ссутулившись, нервно теребил брошенный на колени треух, изредка поднимал на Зубова светлые пустые глаза и, встретив взгляд Василия, виновато опускал голову, вздыхал и отворачивался.
«Хороший, видно, помощничек, — подумал Василий, — ни рыба ни мясо».
— Ну, рассказывайте, товарищи, как у вас тут дела, — сказал он, обращаясь к Прохорову.
Тот заерзал на табурете, оглянулся на Талалаева и скривил губы в почтительной улыбке:
— Ничего, Василь Кириллыч, дела идут как полагается. Рыбколхоз годовой план выполнил еще в октябре, рыбной молоди летось спасли более тридцати миллионов штук, сроки лова соблюдаются справно, участок я обхожу каждые сутки, так что можно сказать…
Василий тряхнул волосами и забарабанил пальцами по столу.
— Браконьеров у вас много? — спросил он жестко.
Прохоров опять посмотрел на бригадира и развел руками:
— Бывают и браконьеры, Василь Кириллыч, где же их нет?
— Я спрашиваю: много ли их на нашем участке? — настойчиво повторил Зубов.
Бригадир Талалаев усмехнулся, подтянул голенище хромового сапога и проговорил, глядя на Зубова:
— Браконьеры везде бывают, товарищ инспектор. Есть они, конечно, и на нашем участке: ребятишки с раскидными сетчонками на заре балуются да, глядишь, какой-нибудь инвалид войны пару килограммов весенней селедочки черпаком наловит. Вот и все браконьеры.
Он пожал плечом и прогудел насмешливо:
— Теперь, при Советской власти, браконьер пропал, товарищ инспектор. Ликвидировали его как класс, под откос пустили. В старое время бывали такие крутьки, что своими дубами да баркасами аж до залива доходили, в перестрелку с пихрой [1] вступали, а те их с пулеметов крыли, в реке один другого топили. Вот это браконьеры! А теперь что?
Талалаев презрительно махнул рукой:
— Выйдет какой-нибудь сопляк с раскидушкой, а Иван Никанорыч его на трешку оштрафуют, квитанцию ему выпишут, вот те и все браконьерство.
Он посерьезнел и внушительно добавил:
— Колхознику-рыбаку нет никакого резону себя же обманывать да власти своей очки втирать. Ныне другое время, товарищ инспектор. Река, обратно же, как и земля, стала теперь социалистическая собственность. Кому ж интересно обкрадать свое рабоче-крестьянское государство?
В голосе бригадира звучали насмешливо-покровительственные нотки, он явно поучал инспектора.
Марфа не вмешивалась в разговор. Присев на кровать, она вязала варежки. Серый клубок шерсти перекатывался по чистому глиняному полу, спицы мелькали в проворных руках женщины, и она, пряча улыбку, исподлобья поглядывала то на бригадира, то на Зубова.
— Ну, хорошо, — сказал Василий, — посмотрим все это на месте. Вы лучше расскажите мне, Пимен Гаврилович, о рыбколхозе. А с Иваном Никаноровичем мы потом отдельно побеседуем.
Свертывая толстыми пальцами цигарку, Талалаев ухмыльнулся:
— А чего рассказывать? Колхозишко у нас небольшой, не то что в низовых станицах. Две неводные бригады, одна сетчиковая, женская. Дед Малявочка ею заправляет, хозяйке вашей свекром доводится. Ну, конечно, флотик свой имеем — штук шесть дубов, баркасы, каюки. Тони у нас никудышные, кажен год затопляются, веснами чистить надо. Правда, есть одно местечко под шлюзом, да оттуда ваш брат инспектор гоняет: запретное место. Ну, чего еще можно сказать? Есть у нас транспортная бригада для доставки рыбы с берега в цех. Обратно же подсобное хозяйство имеется.
— А люди?
— Люди как люди. За председателя у нас Мосолов Кузьма Федорович, в войну сержантом служил в танковых частях. Он сам не из тутошних будет, но хороший человек, колхозники его уважают. В первой бригаде за бригадира Антропов Архип Иванович. Его тут все знают. В гражданскую партизанил, с Подтелковым по степям мотался…
— Он сейчас партийным секретарем в рыбколхозе выбран, — робко ввернул Прохоров, — член партии с восемнадцатого года. Кремневый мужчина.
— Что значит кремневый?
— Тяжелый человек, грубый, неуважительный. Начальство ни в грош не ставит, во все дела вмешивается, приказывать любит, а ему слова не скажи: сейчас на дыбки — и понес…
— А как его бригада работает? — поинтересовался Василий.
Прохоров посмотрел на Талалаева.
— Ничего работает, как и все, — сдвинув брови, отозвался бригадир. — План выполнила на сто три процента.
— А ваша бригада?
— Моя первенство по колхозу держит, — степенно и строго сказал Талалаев, на сто тридцать процентов вытянула, благодарность из области имеет…
Марфа усмехнулась, и Талалаев дернулся, оглядываясь на нее:
— Чего ты? Неправда, може?
— Правда, правда, — отмахнулась женщина, — недаром же твое фото в красном уголке красуется!
Василий понял, что Марфа чего-то не договаривает, и вопросительно глянул на хозяйку, но она, ничего не сказав, вышла в сени.
— Как доехали, товарищ инспектор? — осведомился Талалаев.
— Ничего, спасибо. Холодно было, но ваш дед Малявочка мигом домчал меня до станицы.
Слегка приподнявшись со стула, Талалаев сказал:
— Мы вам, товарищ инспектор, свежачка подкинули. Рыбца отборного. Рыбец сейчас жирный. Там, в сенях, лежит, нехай хозяйка приберет, чтоб, случаем, собачонка не нашкодила.
Густо покраснев, Василий махнул рукой:
— Что вы, товарищи! Для чего это?
— Как же так «для чего»? — удивился Талалаев. — Вы тут покудова чужой человек, еще не обжились, есть-пить вам надо. А рыбец у нас, слава богу, не ворованный, и река от него не обеднеет. Можно сказать, ваше хозяйство, так чего ж…
— Нет-нет, — нетерпеливо перебил Зубов, — рыбца вы возьмите, он мне ни к чему.
Талалаев поднялся, застегнул сначала стеганку, потом плащ и обиженно проговорил:
— Зря вы, товарищ инспектор, обижаете колхозников. Или же вы, может, думаете, что рыбаки вам взятку дают, рыбцом паршивым задобрить вас хочут? Люди до вас от чистого сердца, удовольствие вам хочут сделать, а вы их обижаете и навроде с высоты на их глядите.
— Ладно, Пимен Гаврилович, — хмуро сказал Зубов, — оставьте рыбу. Спасибо. Но только попрошу вас передать колхозникам, тем, которые прислали рыбца, чтоб они этого больше не делали. Неудобно это, товарищи, честное слово! Вы не обижайтесь, но у меня на этот счет есть свои правила. Понимаете?
Гости поднялись.
— Ладно, Василь Кириллыч, — застенчиво сказал Прохоров, — вы уж на нас не обижайтесь. Раз вам не нравится, больше повторяться не будет.
Они простились с Зубовым и вышли на улицу.
Проводив бригадира и досмотрщика, Марфа сердито захлопнула за ними дверь, повозилась у печки, осмотрела надевшего полушубок Василия и сказала, усмехаясь:
— Погодите, всю спину убрали мелом, почистить надо.
Взяв щетку, она стала чистить полушубок и, зайдя вперед, заглянула Василию в глаза:
— Вы не дюже им доверяйте, этим друзьям.
Почему?
Марфа кинула щетку на кухонный шкафчик.
— Потому. Пишка Талалаев — этот и вовсе сволочной мужик, а помощник ваш, Иван Никанорович, — вроде и неплохой человек, да им всякий руководствует как хочет, никакой твердости в нем нет…
— Ладно, — тряхнул головой Зубов, — придет время, я каждого из них узнаю. А за предупреждение спасибо.
Спросив у хозяйки, как найти председателя рыбколхоза, он надел перчатки и вышел во двор.
Стояло тихое морозное утро. Тронутые сверкающей изморозью, вдоль заборов высились свежие, как видно недавно поставленные, столбы, на которых белели пушистые от снега радиотелефонные провода. Из высоких труб станичных домов поднимались к небу ровные, как свечи, дымки. Размахивая сумками, по улице бежали румяные от мороза ребятишки-школьники. Закутанные в шерстяные платки женщины несли на коромыслах обледенелые ведра с водой. Увидев Зубова, они останавливались, степенно давали ему дорогу и, проводив его любопытным взглядом, негромко переговаривались между собой:
— Это чей же такой?
— Кажись, инспектор новый вчерась приехал.
— Его у Марфеньки Сазоновой поставили.
— Гляди, какой молоденький…
— Видать, до председателя пошел…
Председатель рыбколхоза Кузьма Федорович Мосолов, бывший сержант танковых войск, коренастый сорокалетний мужчина, сидя в правлении, нетерпеливо дожидался нового инспектора. Мосолов держал изуродованную руку на черной перевязи, постоянно носил военный китель, галифе и хромовые сапоги и никогда не снимал орденов и медалей, а было их у него много: орден Ленина, два ордена Красного Знамени, орден Отечественной войны и пять медалей.
То, что Кузьма Федорович с нетерпением и даже с тревогой ожидал нового инспектора, имело свои причины.
С Лихачевым, старым инспектором, были установлены отношения, которые позволяли председателю почти бесконтрольно хозяйничать на реке. Мосолов умело пользовался этим: будучи человеком честным, он не брал себе лично ни одной рыбешки, но если колхозный план выполнялся плохо, Кузьма Федорович шел к Лихачеву, договаривался с ним и посылал одну-две бригады в те места, где рыболовство вообще запрещалось.
«Всю рыбу, до последнего грамма, мы сдаем государству и выполняем государственный план, — говорил при этом Кузьма Федорович, — значит, облов можно допускать на любой тоне…»
Отстранение Лихачева от должности сразу изменило положение, и это не на шутку встревожило председателя.
Получив из управления Рыбвода телеграмму о выезде Зубова, Мосолов договорился с Марфой о квартире и выслал к поезду деда Малявочку. На другой день рано утром дед зашел к председателю.
Когда Малявочка, басовито кашляя, вошел в председательский кабинет, Мосолов поднял тяжелую, стриженную ежиком голову и, кивнув старику, спросил:
— Ну как?
— Доставил, Кузьма Федорович, — уклончиво ответил Малявочка.
Мосолов почесал карандашом переносицу:
— Молодой?
— Да, можно сказать, совсем вьюнош, — доложил старик, — одначе в армии служил и, кажись, награды имеет.
Дед покосился на председательские ордена и продолжал, покашливая в кулак:
— Человек он вроде холостой, мамаша у него в городе учительницей служит… А багажа везли не дюже много: два или же три чемодана, вещевой мешок да одеялка — вот и все.
Шевельнув бровями, Мосолов осведомился:
— Колхозом интересовался?
— Не, больше про меня спрашивал: как, дескать, мое имя, откудова такое прозвище до меня пристало…
— Ладно.
Председатель отпустил Малявочку, рассеянно переставил чернильницу на столе, погрелся у железной времянки и зашагал по кабинету, сунув здоровую правую руку в карман.
«Окажется инспектор каким-нибудь бюрократом, так с ним неприятностей не оберешься, — думал он. — То к высокому прилову молоди начнет придираться, то сроки запрета будет по дням да по часам выдерживать, то бригадиров штрафовать начнет, то ячею в каждом неводе сантиметром измерять станет. Было бы желание, а причин для придирки да для протокола на каждой тоне можно тысячи найти…»
Когда Зубов вошел в кабинет, Кузьма Федорович, оценивая доложившего о себе посетителя, мгновенно осмотрел его всего — от казачьей шапки серого курпея до носков отлично сшитых шевровых сапог. Председатель сразу отметил все, что, как ему казалось, подчеркивало твердый характер нового инспектора: точно пригнанный полушубок, щегольские замшевые перчатки, начищенную пряжку офицерского пояса, резкий, с легкой хрипотцой голос. Лицо Зубова показалось председателю слишком уж молодым, но то, что на лбу Василия, чуть повыше левой брови, белел косой шрам — след пулевого ранения, говорило о том, что инспектор бывал в переделках.
— «Нет, — быстро решил председатель, — это не Степан Иванович, этому, по всему видать, пальца в рот не клади — мигом отхватит…»
— Ну, с приездом вас, товарищ инспектор! — приветливо сказал председатель. — Садитесь, прошу вас, гостем будете. Раздевайтесь, пожалуйста, у нас тут тепло. Чего-чего, а топлива нам хватает.
— Не беспокойтесь, я так посижу, — ответил Зубов. — Мне хотелось разыскать секретаря парторганизации, на учет надо стать.
Кузьма Федорович посмотрел в окно:
— Секретарь аккурат через полчаса здесь будет. Только я не знаю, успеете ли вы побеседовать с ним. Он собирается на Донец с рыбаками, там ихняя бригада вентеря [2] поставила, проверить нужно…
Поглядывая друг на друга, они заговорили о разных, не относящихся к рыбе делах, похвалили погоду, спросили друг друга о службе в армии, вспомнили сражение под Корсунь-Шевченковским, бои на кюстринских крепостных бастионах, памятный штурм Берлина. Кузьма Федорович оживился, заходил по комнате, раза два или три тронул Зубова за плечо.
Однако как только Василий начинал расспрашивать председателя о характере и методах промысла, о взаимоотношениях колхоза с прежним инспектором или заговаривал о соблюдении рыболовных правил, Кузьма Федорович, посмеиваясь, отделывался ничего не значащими замечаниями.
— Придет весна, сами все увидите, Василий Кириллыч, — говорил председатель. — У нас ведь такое дело, что всего не предусмотришь. Правила правилами, а государство сидеть без рыбы не может, государство требует выполнения плана добычи любой ценой.
Василий пристально всматривался в квадратное лицо Мосолова и поправлял осторожно, но твердо:
— Нет, Кузьма Федорович, не любой ценой. Тут вы ошибаетесь. Если мы начнем выполнять план любой ценой, завтра государство без рыбы останется.
— Да я ж не стою за хищнический лов, — усмехнулся Мосолов, — я только говорю, что буква закона не может быть мертвой. Вы же знаете, что у нас даже марксизм является не догмой, а руководством к действию А марксизм будет поважнее ваших рыболовных правил Значит, и правила не могут быть мертвой догмой.
«Ловкий мужик, — думал Василий, — разговаривать умеет. Но подожди, братец! Начнется весенняя путина, я тебе покажу, что такое правила…»
Глянув в окно, Кузьма Федорович повернулся к Зубову:
— Вы, кажись, секретаря спрашивали, вон его санки пришли.
Зубов хотел поговорить с Антроповым, но тот торопился на реку, где шел подледный лов рыбы. Василий успел только мельком взглянуть на коренастую фигуру сидевшего в санях секретаря. Поверх ватной стеганки на Антропове был грубого брезента плащ с капюшоном, закрывавшим все лицо.
Протянув Зубову тяжелую, темную руку, Антропов сказал:
— Извиняйте. Знакомиться будем после. Вы забегите до моего заместителя, он там все оформит. А разговор у нас с вами будет долгий.
Надев меховые, обшитые брезентом рукавицы, он взмахнул кнутом. Поджарые рыжие дончаки, вздрагивая и скаля зубы, оторвали от снега примерзшие полозья саней и вскачь понеслись по улице.
3
Станица Голубовская, в которой находился инспекторский участок рыболовного надзора, стояла на широком займище между четырьмя реками: Доном, Северским Донцом, Сухим Донцом и маленькой речушкой Барсовкой.
За Барсовкой, чуть повыше ее слияния с Доном, всю реку пересекала плотина. Глубокой осенью металлические фермы плотины укладывались плашмя, а после весеннего паводка устанавливались на реке, сдерживая напор воды и регулируя ее течение до самой осени. Под крутым левобережным обрывом располагалась камера шлюза, сквозь которую во время навигации проходили пароходы, баржи, катера.
Каждую весну, когда с верховьев Дона шла большая вода, все займище на десятки километров, до самых донецких холмов, затапливалось речным разливом. Под водой исчезали мелкие пойменные озера, речки, ерики, кусты и деревья — все, что оказывалось на пути яростного паводка. В такие дни на станичных улицах сновали рыбацкие каюки, а голубовцы отсиживались по домам, дожидаясь ухода воды.
Поэтому все станичные дома состояли из двух «этажей»: каменных низов, где обычно находились погреб, летняя кухня, и деревянных верхов, где жили хозяева и где они спасались во время разливов.
Накинув полушубок, Василий Зубов почти весь день ходил по станичным улицам, любовался высокими, покрытыми снегом тополями, разговаривал со станичниками, ходил на берег Барсовки, осматривал колхозный двор, посреди которого стояли на подставках остроносые просмоленные баркасы.
Вскоре после приезда Зубова мороз стал утихать, выпал снежок, и с крыш, стекая с острых ледяных сосулек, побежала талая вода.
Досмотрщик Прохоров показывал Василию станицу и, почтительно отставая, все посматривал на его высокую фигуру, на полушубок с черным каракулем, на желтую кобуру пистолета и старался угадать характер своего нового начальника.
Он доложил Зубову о том, что во дворе правления рыбколхоза стоит моторная лодка, принадлежащая рыболовному надзору, и что ее надо ремонтировать, так как осенью в ней шалил мотор.
— Больше у нас тут никакого имущества нету, Василий Кириллыч, — сказал Прохоров, — за мной числится один карабин и сто штук патронов, я их ни одного не срасходовал, так они целенькие и лежат.
— Скажите, Иван Никанорович, — как будто невзначай спросил Зубов, когда они вышли к реке, — что за человек был мой предшественник, Лихачев, и за что его сняли?
Прохоров замялся, пожал плечами, закашлялся:
— Как вам сказать… Человек он был будто неплохой, дело знал и к колхозу хорошо относился. Правда, выпивал маленько, ну, и того…
— Что?
— Ну, и, случалось, рыбку продавал на базаре. Не сам, конечно. Жинка его, Лукерья Осиповна, этими делами заведовала. Но тут, знаете, вопрос в другом.
— В чем же? — остановился Василий.
Полой своей замызганной шинели Прохоров обмел снег на поваленном бревне и, заискивающе улыбаясь, предложил:
— Давайте посидим, Василий Кириллыч. Я вас введу в курс дела, хотя не мне бы про это говорить, ну да ладно…
Они присели на бревно. Досмотрщик, деликатно отказавшись от папиросы, свернул «козью ножку», затянулся и заговорил нехотя:
— Все зло в моей родной дочке, Василий Кириллыч. Есть у меня дочка, одна-единственная. Грунькой зовут, Аграфеной то есть. Так вот эта самая Грунька, Аграфена Прохорова, в тутошнем колхозе рыбоводом работает. Матери ее, моей супруги то есть, на свете уже давно нету, и Грунька, значит, росла с сорок первого году, как бурьян при дороге. Школу-семилетку она, конечно, окончила, потом год была в городе на курсах колхозных рыбоводов, там же и в комсомол поступила. И вот по окончании курсов ее в наш же колхоз и направили. Думали мы со Степаном Иванычем, с инспектором, что толк с девчонки будет. Степан Иваныч и в город ее командировал, на курсы. А она его же и отблагодарила…
— Как? — с интересом спросил Василий.
— Да так. После того как Грунька назначение сюда получила, житья мне не стало. Девчонке сейчас восемнадцать годов, а дома она не сидит, за хозяйством не смотрит, только лето и зиму по степи да по лесу с ружьем шатается.
— С каким ружьем?
— С самым обыкновенным. Представьте себе, премировали ее на курсах двустволкой. За отличные успехи. Ребята там предлагали ей ружье это самое на чего-нибудь женское обменять: отрез шелка на платье ей давали, туфли модельные, аккордеон, так она — ни в какую. «Раз, говорит, я премию получила, значит, буду ее сохранять как память и сама ею пользоваться буду».
— Здорово! — засмеялся Василий.
— Ну вот. Прибыла она, значит, сюда и сразу давай председателя колхоза на бога брать. «Вы, говорит, только о промысле думаете, а на спасение рыбной молоди внимания не обращаете. Надо, говорит, организовать специальную бригаду по спасению рыбной молоди и по искусственному рыборазведению, чтобы запасы рыбы в водоеме восполнять». Ну, председатель создал ей бригаду. Так этого, видите ли, мало оказалось. Стала она требовать быков для транспорта, денежных средств на приобретение всякой всячины. Сама цельный день по озерам шастает, уток из ружья лупит да мальков рыбьих в Дон возит, а придет вечер, так она на собрание или же в район — и давай Степана Иваныча крыть на чем свет стоит.
— За что же?
— Да за разное, — досадливо сморщился Прохоров. — Прицепилась до человека, прямо со света его сживать стала. То, представьте себе, за связь с браконьерами обвинение Степану Иванычу предъявила, то в райком партии заявление написала, что инспектор якобы разрешал колхозным бригадирам запретные тони облавливать и взятки с них за это получал…
— А он действительно разрешал? — нахмурился Василий.
— Какой там! Может, раз или два колхозники на самом деле в запретных зонах рыбку ловили, дак при чем тут инспектор? У него ж, извините меня, не десять рук и не двадцать ног, чтоб сразу быть по всему береговому участку.
— Ну и что?
Прохоров помолчал и искоса взглянул на Зубова:
— Да ведь как вам сказать… Ежели бы Грунька была одна, то на ее дурость никто внимания не обратил бы. А то ведь, окромя Груньки, тут есть немало таких. Спервоначалу она сама воду мутила, а потом подмогу ей оказали. Есть у нас такой Антропов Архип, мы вам давеча про него рассказывали, так он тоже капать на Степана Иваныча заходился, ну и пошла такая коломуть, что сам черт ногу сломит. Зачались всякие комиссии-перекомиссии, из области сам начальник Рыбвода с инспекторами заявился. Осенью Степан Иваныч и полинял. Ни за что ни про что человеку дорогу поломали…
С интересом слушая все, что рассказывал досмотрщик, Василий поглядывал на его тщедушную фигуру, запавшие щеки, бесцветные глаза, отечные веки и все больше испытывал смешанное чувство жалости и презрения к этому человеку.
— Вы не больны, Иван Никанорович? — участливо спросил он.
— А почему вы спрашиваете? — насторожился тот, боясь, что Зубов заведет разговор об увольнении. — Будешь болеть, ежели на такой работенке двадцать годов промаешься.
Досмотрщик нахмурился и в первый раз взглянул Зубову прямо в глаза.
— Легкие у меня не в порядке, — виновато улыбаясь, сказал он, — был я в районной больнице, так врачиха определила чахотку. «У вас, говорит, товарищ Прохоров, есть в легких процесс, вам, говорит, лечиться надо…»
— Вот видите, — пожал плечами Василий, — а вы, наверное, здоровье совсем забросили. Дочка-то с вами сейчас живет? Помогает она вам? Или вы с ней рассорились?
— Нет, зачем же? — обиделся досмотрщик. — Она ведь мое дите, и чувство я к ней имею. Живет она со мной в чужой хате — своей до сих пор не построил, — глядит, конечно, за отцом, жалиться я не могу. И обед сготовит, и постирает, и в хате приберет… А только, должен я сказать, не одинаковыми стежками мы с дочкой идем… Она как-то сама по себе, а я, представьте, сам по себе…
Василий простился с досмотрщиком у поворота улицы, постоял на бугорке, любуясь тем, как мальчишки катаются на салазках, и пошел домой.
Он шел береговой уличкой, по колени засыпанной снегом, следил за полетом разлохмаченных сорок, слушал их назойливое деревянное стрекотание.
Разговор с досмотрщиком вызвал у Василия смутное беспокойство, и он подумал о том, что тут, в этой большой, запрятанной среди четырех рек станице, его ждет трудная жизнь, та самая, о которой он часто думал в техникуме, но которую, видимо, еще очень мало знал.
Домой Василий вернулся, когда уже совсем стемнело. Марфы дома не было. Витька, сидя у печки, мастерил из проволоки капкан. При появлении Зубова он поднялся, подвинул ему табурет и сказал приветливо:
— Сидайте. Я тут ловушку для зайцев делаю. Пленка называется. Найду заячью стежку, приспособлю на ней пленку — и готово. Как заяц побежит, голову в эту петельку встромит, так, считай, есть шкурка.
Он посмотрел на Зубова плутоватыми светлыми, как у матери, глазами и добавил, понизив голос:
— У меня уже четыре заячьи шкурки захоронено и две хорьковые. Я их для агента собираю. Может, до весны соберу.
— Для какого агента? — рассеянно спросил Василий.
— Который ружья на шкурки меняет. Из Заготсырья. Как на сто семьдесят рублей шкурок сдашь, так он тебе любую ижевку-одностволку на выбор даст. У нас в бригаде почти все шкурки собирают, а ружье есть только у одного бригадира — у Груньки Прохоровой.
— Ну что ж она? Охотится?
— Еще как! — оживился Витька. — Мы летось рыбью молодь на Лебяжьем озере и на ериках спасали, так Грунька ни одного дня без утей в станицу не верталась: то сизика подобьет, то нырка, то чирков настреляет. А то раз казарку убила на Иловатом. Красивая казарка, здоровенная, клювик такой аккуратный и лысинка беленькая над клювом. Над Грунькой все девчата в станице смеются, а она хоть бы что!
Витька продолжал болтать, а Василий почувствовал, что его клонит ко сну.
— Где мать? — зевая, спросил он.
— На дежурство в правление пошла, — объяснил мальчик. — Она сказала, чтоб вы, как придете, ели рыбу. А может, будете молоко пить, так оно в сенцах стоит, я принесу.
— Тащи молоко, — потянулся Василий, — поужинаем да будем спать, а то у меня завтра много дела. Хочу свой участок осмотреть.
Он выпил две кружки холодного молока, закурил и ушел в свою комнату.
Беспокойство, которое Зубов почувствовал после разговора с досмотрщиком, не исчезло. Он долго ворочался, лежа в постели, часто курил и наконец раздраженно сказал самому себе:
— Ладно, товарищ Зубов. Поживете — увидите и, если у вас есть голова на плечах, примете правильное решение…
4
Участок рыболовного надзора, принятый Зубовым, был не из легких. В ведение инспектора входили две береговые полосы протяженностью в восемнадцать километров — от островов песчаной дельты Северского Донца вниз по Дону до крутой излучины реки, поворачивающей в этом месте к югу.
Самой опасной и наиболее заманчивой для браконьеров была зона голубовской плотины, с которой буквально нельзя было спускать глаз. Плотина устанавливалась ежегодно после стока паводковых вод, и ее огромные щиты и металлические фермы рассекали реку на два изолированных участка. Таким образом, путь рыбы, стремящейся в верховья реки, обрывался у плотины, и тут каждую весну собиралась масса сельдей, чехони, лещей, судаков, сомов, множество красной рыбы. Падкие на легкую наживу, браконьеры тянулись сюда со всеми орудиями лова: накидными сетками, черпаками, бреднями, сачками, переметами, удочками, спиннингами — со всем, что могло выхватить из воды рыбу, снующую тут, как в кипящем котле.
В задачу инспектора рыболовного надзора входило безусловное и обязательное сохранение рыбы в опасном месте ее массивного скопления, у плотины. Для этого тут располагался специальный пост досмотрщика Прохорова, подчиненного Зубову.
Кроме того, в участок Зубова входили десятки займищных озер севернее станицы Голубовской: Большое Лебяжье, Малое Лебяжье, Петровское, Кужное, Иловатое, Круглое и сотни мелких ериков — притоков Дона и Донца. После спада весенней воды озера эти отсекались от реки, и в них оставалось множество рыбы, не успевшей скатиться в речное русло. Самое же главное: в отсеченных от реки озерах оставались десятки миллионов рыбной молоди, обреченной на гибель во время летнего пересыхания рек. Инспектор рыболовного надзора обязан был охранять запасы рыбы в озерах и следить за своевременным спасением молоди, которую особая рыбацкая бригада переводила в реку, прорывая канавы и прокашивая тропы в густых камышах. Кроме того, выловленную в озерах молодь перевозили в реку в бочках.
Накинув стеганку и захватив с собой старенькую, оставшуюся от покойного отца централку, Василий четверо суток бродил по заснеженным рекам и озерам, осматривая свой замерзший до весны участок.
На ледяной глади реки и на ее крутых берегах ровным слоем лежал чистый снег. Лишь в тех местах, где рыбаки-колхозники установили подледные вентеря, Василий видел груды выброшенного на снег голубоватого льда, высокие, торчащие во льду шесты и следы человеческих ног. Над вентерными метками кружились стаи голодных ворон и стрекотали хлопотливые сороки.
Выше разобранных и аккуратно уложенных шлюзовых ферм, под крутым левым берегом реки, темнела длинная узкая полынья. Было тихо, и Василий издалека услышал, как плещет у ледяных закраин вода. Над полыньей носились зимующие на реке нырки.
Обойдя полынью и полюбовавшись нырками, Василий поднялся на берег и остановился у пустой избушки бакенщика. Избушка по самые оконца утонула в снегу. Сбоку были сложены заржавленные якоря, деревянные подставки для плавучих бакенных фонарей, а внизу чернела вытащенная на тропинку лодка.
Присев на якорь, Василий закурил. С правого берега, откуда-то из глубины леса, доносилось монотонное постукивание топора. Где-то выше, за спиной Василия, слышны были ленивые покрикивания какого-то возчика: «Ге-ей… ге-е-ей!» Эти приглушенные звуки еще больше подчеркивали мертвую тишину зимней реки, и Василий, вслушиваясь в стук топора и невнятные окрики идущего по дальней дороге возчика, почувствовал томящую теплоту в груди. Он и сам не знал, откуда появилось это радостное чувство, но ему вдруг захотелось сорваться с крутого берега, гикнуть, кинуться кувырком в снежный сугроб, а потом понестись по ровной глади замерзшей реки и лететь все дальше и дальше, туда, где белая земля сходится с низким, почти лиловым небом.
Над самой головой Василия пронеслась стая нырков. Не заметив притаившегося у пустой избы человека, нырки опустились на край полыньи, выровнялись в ниточку и поплыли за вожаком вниз по течению.
Василия охватил охотничий азарт. Он взвел курки, подождал, пока нырки сплылись в середине полыньи, и уже собирался выстрелить, как вдруг услышал за своей спиной голос:
— Не трать заряда на такую дребедень! Есть дичина поважнее!
Сверху, с бугра, зацепив обледенелый вербовый куст и осыпав Василия снегом, прыгнул широкоплечий, скуластый парень в черном матросском бушлате и шапке-кубанке. На груди у парня, подвешенное так, как на фронте носили автоматы, болталось короткое одноствольное ружье.
— Какая там еще дичина? — недовольно спросил Зубов.
— Волки! — выпалил парень. — Они, черти, уже какой раз шкодят в станице. Их тут за войну развелось видимо-невидимо. Колхозники не могли от них, проклятых, уберечь ни одну бахчу. В ноябре они у нас двух жеребят в табуне задрали, а намедни ворвались ночью на баз в колхозе «Победа» и тридцать штук овец порезали.
Парень перевел дух, откашлялся и заговорил, торопливо заглатывая слова:
— Вчера дед Малявочка видал их под Соленым Логом, цельная стая, говорит, по куге [3] шастала. Наши охотники с рассвета поехали на облаву. Я туда бегу. Может, пойдем вместе?
Видимо, вспомнив, что Зубов его не знает, парень добавил:
— Я сам из бригады Талалаева, ловец. Будем знакомы. Худяков моя фамилия, а имя — Степан. Так что вы не сомневайтесь, я вас до самого места проведу.
Зубов поднялся и тронул рукой патронташ:
— Ну что ж, пошли. Только у меня картечи нет, всего два патрона крупной дробью заряжены, да и то заряды слабые.
— Ладно, — махнул рукой Степан, — может, там найдем у кого-нибудь готовые патроны. У Архипа Иваныча, кажись, ружье подходит до вашего калибра…
Они сбежали с обрыва и пошли по речному льду, обогнув заколоченный домик станичной пристани и оставляя станицу далеко вправо.
— Напрямки мы скорее добежим до Соленого Лога, — объяснил Степан, — тут километра три будет, не больше.
Миновав старое речное русло, они, помогая друг другу, выбрались на крутой заледенелый берег, быстро обошли неширокую лесосеку и зашагали по ровному, засыпанному снегом займищу. Далеко впереди Зубов увидел мелькающие на снегу темные фигурки лыжников.
— Это наши ребята-комсомольцы волков зафлаживают, — всматриваясь, сказал Степан. — Они суток трое флажки на шнур вязали да керосинцем их сдабривали для запаха. Волк опасается флажков и ни за что через шнур не пойдет…
По-солдатски идя в ногу с Василием, Степан незаметно поглядывал на него и говорил, энергично размахивая рукой:
— Значит, вы на житье до нас прибыли? Это хорошо. Сюда давно надо было нового человека прислать. Народ у нас в артели работящий, а толку на участке маловато. Плохо хозяйнуем. Потому и с выполнением плана обман получается.
— Какой обман? — насторожился Василий.
— А вот какой…
Движением ноги Степан откинул с протоптанной тропинки оброненную кем-то кучку хвороста.
— Допустим, наша вторая бригада получает квартальное задание — выловить и сдать в рыбцех пятьсот центнеров рыбы. Это я к примеру говорю. Допустим даже, мы сдаем эти самые пятьсот центнеров тютелька в тютельку. Вроде, значит, квартальный план мы выполнили…
— Ну?
— Ну, а вы поглядите, какую мы рыбу в счет плана сдали. У нас ведь ее принимают по весу. Вот мы и сдаем малоценную рыбную мелюзгу: ласкиря, уклейку, пескаря. Или же хамсу да тюльку в море ловим. Этой дребеденью и план выполняем. Да еще и молодь промысловых пород без всякого ограничения прилавливаем.
То, что рассказал Степан Худяков, поразило Василия.
— Скажите, а если взять ваш годовой улов в целом, — осторожно спросил он, — сколько же в нем получается этой низкосортной мелюзги?
— Больше половины, — отрезал Степан.
— Здо-орово! — протянул Зубов, недоверчиво поглядывая на своего спутника. — Ну, а как же рыбозавод платит артели за такие уловы?
— Платят нам, конечно, по установленным расценкам, за каждый вид рыбы по-разному. Да ведь государству от этого не легче. Государство ждет от нас ценной рыбы — сазана, леща, севрюги, рыбца, — а мы, извиняюсь, всякую дрянь сдаем и о выполнении плана рапортуем…
Они уже приближались к Соленому Логу — широкому заснеженному займищу, по которому ходили люди, и Василий, тронув Степана за рукав бушлата, спросил:
— Скажите, товарищ Худяков, чем же вы все-таки объясняете такое положение?
— Известно чем: рыбы у нас в реке становится маловато.
— Почему?
— По-разному люди говорят…
Степан сбил на затылок кубанку и махнул рукой:
— Бригадир наш, к примеру сказать, обвиняет природу: то, мол, вода в реке низкая, то верховой ветер всю весну дует, то, дескать, рыба плохо плодится. А по-моему, не вода и не ветер, а мы сами всему причиной: как хозяйнуем, так и прибыль получаем. А мы рыбалим так, будто в очко играем: выйдет карта — значит, хорошо, а нет- недобор будет…
Он, должно быть, хотел еще что-то сказать, но в это время до них донесся сердитый окрик идущего навстречу Антропова:
— Чего вы копаетесь, друзья? Становись по местам! Загонщики вот-вот начнут гаять по камышам и поднимут волков, а мы гуляем!
Соленый Лог, то самое место, на котором должна была начаться облава, представлял собой низкую часть надречного займища; он был растянут километра на три и одним концом упирался в старое, поросшее вербами русло реки, а другим — в ровную линию темнеющих на горизонте приозерных камышей. По словам деда Малявочки, вся волчья стая лежала сейчас в засыпанных снегом камышах. В обход этих камышей еще с утра отправились загонщики. Они должны были поднять волков и, перекрикиваясь, постукивая палками и посвистывая, погнать всю стаю к вербовым зарослям, где стояли охотники.
Для того чтобы волки не ушли ни влево, ни вправо, лыжники-комсомольцы зафлажили весь Соленый Лог, то есть замкнули его подвешенным на бурьяны и кустарники тонким шнуром, на котором трепыхались разноцветные, смоченные керосином флажки.
Когда Зубов и Степан Худяков подошли к зарослям, Архип Иванович Антропов — он руководил облавой — заканчивал последние приготовления. Вокруг него тесной кучкой стояли охотники. Среди них Зубов увидел девушку. Она, по всему было видно, только что прибежала и никак не могла отдышаться от быстрого бега.
«Должно быть, та самая дочка моего досмотрщика», — подумал Зубов.
Одетая в ватную стеганку и в такие же ватные штаны, в заломленной на затылок шапке-ушанке, девушка стояла у толстого вербового пня, держа на плечах ружье так, как женщины носят коромысло.
Зубов искоса взглянул на нее.
Прямые, даже на концах не вьющиеся пепельно-русые волосы, выбившись из-под шапки, спадали ей на плечи. Высокий чистый лоб был покрыт капельками пота. Ни слегка вздернутый нос, ни чуточку припухшие губы девушки не понравились Зубову. Только глаза ее сразу притягивали: серо-голубые, цвета речной воды, они почему-то казались почти темными, и взгляд их был медлителен, излишне настойчив и тяжеловат.
Не скрывая любопытства, девушка посмотрела на Зубова, заметила, что он тоже смотрит на нее, нахмурилась и отвернулась.
— Ты, Груня, становись первым номером, — обратился к ней Антропов, — займешь место под той, крайней вербой, будешь у нас на левом фланге. Ты, Степан, иди за ней и занимай второй номер.
Он подумал и положил ладонь на ружье Зубова:
— Вы, товарищ инспектор, будете третьим номером, а я стану в середке, правее вас…
Зубов хотел было сказать, что у него нет заряженных картечью патронов, но Архип Иванович уже повел остальных четырех охотников к обрамленной вербами речной излучине.
Василий остался один. Он видел, как Степан Худяков, протоптав снег, лег метрах в пятидесяти левее, а еще дальше, прислонившись спиной к корявому стволу старой вербы, стала Груня. Справа, скрывшись за бугристой кромкой берегового обрыва, устроился Архип Иванович. Василий осмотрелся, зарядил ружье, примял ногой сухой бурьян, опустился на колени и уперся плечом в ободранный, выгоревший в середине пень.
Вокруг стояла тишина. Над белым займищем висело низкое, темное небо. Колючий, обжигающий ветер нес по земле снежные клочья поземки, и они курились по ложбинам, вспыхивали на буграх густой заметью, засыпали отпечатанные на снегу человеческие следы. Из зарослей тянуло терпким, горьковатым запахом тронутой морозцем вербовой коры, а откуда-то снизу, из прибрежной чащобы, поднимался слабый запах гари.
— Хорошо! — вздохнул Василий.
Вдали, у самого горизонта, едва различимая, голубела линия камышей, а за ними, повитая белесоватой мглой пасмурного зимнего дня, чуть-чуть виднелась гряда высоких холмов, на которых темными пятнами обозначались хутора, заросшие лесом балки, высоченные, покрытые снегом скирды соломы на колхозных токах.
— Хорошо! — повторил Василий.
Он осмотрел черные точки флажков и усмехнулся. «Ничего из этой затеи не получится, — подумал он. — Старый волк перемахнет через флажки, а за ним убегут и волчата».
Он хотел достать портсигар и закурить, но в это мгновение ветер донес до него отдаленные крики людей.
У Зубова екнуло сердце: гонят!
Не чувствуя холода, он стащил перчатки, кинул их на снег и положил ружье на колено.
Еще ничего не было видно, но нестройные крики загонщиков приближались, и уже можно было различить их голоса. «Где же волки?» — подумал Зубов. Он до боли в глазах всматривался в ровную пелену займища и отмечал каждый темнеющий на снегу предмет: торчащий из сугроба ствол сухого репейника, седовато-рыжую гривку полыни, поднятые ветром комья перекати-поля, придорожный столбик на земляной насыпи.
Вдруг Василий увидел четырех волков. Они трусили спокойной, неторопливой рысцой вдоль левой линии флажков, часто останавливались, поворачивали назад головы и, навострив уши, вслушивались в крики загонщиков.
Впереди бежала матерая волчица. Ветер дул ей в спину, лохматил серую с буроватым подпалом шерсть; и волчица, посматривая на трепыхающиеся неподалеку флажки, тревожно косила глаза и, потряхивая головой, вела стаю к берегу.
Следом за волчицей бежали два тонконогих головастых переярка. Они, как видно, еще не чуяли опасности, играючи толкали друг друга, высоко вскидывали лапы, срывались вскачь, настигали волчицу, но она злобно огрызалась, и переярки послушно переходили с галопа на размеренную рысь.
Сзади всех, отставая, коротким поскоком шел старый хромой волк. Его свалявшаяся грязно-пегая шерсть висела клочьями, а усеянный колючками хвост был туго прижат к вислому заду, словно сгорбившийся материк готовился к прыжку.
Вся стая шла прямо на вербу, под которой стояла Груня.
Зубова бросило в жар. «Выстрелит раньше времени и промажет», — с тревогой подумал он и на глаз прикинул расстояние: волчица была примерно в семидесяти шагах от вербы. Пробежав еще немного, она внезапно остановилась как вкопанная, ощетинилась и, нервно поводя носом, стала пятиться назад, отжимая сбившихся за ней переярков.
Василий скорее почувствовал, чем увидел, как стоящая у вербы девушка вскинула ружье.
«Промажет!» — дрогнул Василий.
Он ждал выстрела, но выстрела не было.
Заметив, как шарахнулась вправо вся волчья стая, Зубов понял, что звери услышали холостое щелканье курков, и замер: осечка!
Наклонив лобастую голову, волчица сделала два-три прыжка и стала приближаться к Василию. Теперь она на махах неслась мимо него слева направо, и он видел ее ощеренную пасть, свешенный набок язык.
Он рванул ружье навскидку и мгновенно поймал волчицу на мушку.
Его сразу охватило сложное, ни с чем не сравнимое чувство дикого восторга, азарта, волнения, щемящей тревоги («Не уйдет ли?») и непоколебимой уверенности («Нет, не уйдет!»), чувство, знакомое только охотнику, у которого цель оказалась «на стволе».
Теперь уже Зубов ничего не видел и не слышал.
Теперь на всем свете существовали только он и эта несущаяся в снежной замети волчица.
Почти инстинктивно делая упреждение, Зубов чуть-чуть занес стволы вправо и один за другим нажал оба спусковых крючка.
Оглушительно-резко хлобыстнули выстрелы.
Взвихрив снег, волчица прянула вверх, защелкала зубами и, тяжело заваливаясь на бок, ткнулась горячей пастью в глубокий сугроб, но тотчас же вскочила и, роняя с языка алую пену, ничего не разбирая, ринулась прямо на Антропова, который выстрелом в упор уложил ее на самом берегу.
Степан убил одного переярка, а охотники, стоявшие на излучине, другого.
Ушел только старый хромой волк. От Груни он кинулся назад, навстречу загонщикам, потом одним прыжком перемахнул через шнур с флажками и исчез в заросшей татарником ложбине.
Охотники вышли из засады. Подбежали загонщики. Увидев, что Груня, держа ружье за спиной, стоит одна в стороне, Архип Иванович ласково сказал огорченной девушке:
— Ты не жалкуй, Грунечка. Осечки бывают у самых первейших охотников. Вот и наш товарищ инспектор не ахти какой выстрел сделал, только подранил волчицу.
Он подмигнул Зубову:
— А?
— У меня не было крупной дроби, — поглядывая на Груню, горячо сказал Василий, — а с мелкой дробью что сделаешь?
Груня подняла глаза. Василий, играя ружейным ремнем, стоял рядом с ней в распахнутом полушубке, румяный, возбужденный, и она, встретив его взгляд, на этот раз не отвернулась, а засмеялась тихонько:
— Да-да, оправдывайтесь!
— Честное слово, — смущенно улыбаясь, развел руками Василий, — можете спросить у Степана…
Загонщики стащили убитых волков в одно место, закрыли их брезентом и вывели из дальних зарослей пару запряженных в широкие розвальни лошадей. Чуя волчий запах и кровь, рыжие жеребцы пугливо всхрапывали, пятились назад, злобно прижимали уши и, топчась на выбитом снегу, чуть не поломали дышло.
— Закройте им глаза! — закричал дед Малявочка.
Раскидывая здоровенными валенками снег, он подошел к лошадям, сдвинул их головы, придержал за уздечку, и загонщики взвалили волков на сани.
Раскормленные кони, скаля зубы, бились в мелкой дрожи, грызли удила и, кося глаза, приседали на задние ноги.
— Кто ж теперь поедет на энтих дьяволяках? — спросил Малявочка. — Они ж сани в щепки разнесут!
— Я сам поеду! — отозвался Архип Иванович.
Он сел впереди, взял пахнущие дегтем вожжи и повернулся к Василию и Груне:
— Ежели не боитесь, то усаживайтесь, да держитесь крепче. А хотите, дожидайтесь вторых саней, там будет спокойнее.
Груня исподлобья посмотрела на Зубова:
— Сядем?
— Конечно, сядем! — весело отозвался Василий.
Они уложили ружья и уселись в сани. Жеребцы бешено рванулись вперед и, не разбирая дороги, понеслись прямо по займищу. Зубов, придерживая девушку за талию, подвинулся ближе к ней.
— Давайте руку, а то упадете! — закричал он.
Она послушно подала ему руку и что-то сказала, но он не понял что.
— Я не слышу! — снова крикнул он.
Груня приблизила к нему лицо так, что прядь волос коснулась его щеки, и он увидел белые снежинки на ее темных ресницах.
— Я говорю, что у вас рука холодная!
— Перчатки в кармане, не могу вынуть! — отозвался он.
И она, доверчиво посмотрев на него, взяла его руку и накрыла своей маленькой теплой ладонью.
На заносах сани забрасывало то влево, то вправо, из-под конских копыт летели комья снега, и вокруг мелькали кусты татарника, деревья, придорожные столбы.
Архип Иванович довез Василия и Груню до правления, с трудом остановил жеребцов и сказал хрипло:
— Тут надо сойти, а то кони совсем ошалели.
Василий довел Груню до переулка и простился с ней у крайнего дома. Она несколько раз оглянулась, думая, что Зубов тоже оглянется, — ей почему-то очень хотелось, чтоб он оглянулся, — но он шел, закинув ружье за спину, посвистывая, и ни разу не посмотрел в ее сторону.
Придя домой, Груня положила на лавку ружье, сняла стеганку и сказала чинившему сапоги отцу:
— Видела нового инспектора.
Посасывая дратву, Прохоров вопросительно посмотрел на дочь:
— Ну и что?
— Не знаю, — задумчиво протянула Груня. — Вроде славный парень. Но уж больно молод. Вам не такого сюда надо. Такой ничего с вами не сделает, будет под вашу дудку плясать. Вы его быстро уходите! Оглянуться не успеет, а уж окажется в ваших лапках…
Прохоров жалобно сморщился:
— Чего ты мелешь, Грунюшка? Под какую дудку? В каких лапках? Чего тут, преступники сидят или кто?
Закашлявшись, Прохоров укоризненно покачал головой:
— Славный, говоришь? А мы вот намедни с Пишкой Талалаевым понесли ему для угощения десяток рыбцов, так, ты думаешь, он их сразу так и взял? Ни в какую! «У меня, говорит, на этот счет свои правила есть». Насилочку уговорили его взять.
Груня, расчесывая жестковатые волосы, взглянула в зеркало на отца и спросила тревожно:
— А все-таки взял?
— Взял, потому что Пишка зачал стыдить его: «Это, говорит, колхозники от чистого сердца вам передали, а вы, говорит, обижаете людей». Ну, человеку неловко стало, он махнул рукой: оставьте, дескать, но чтоб этого больше не было.
— Пес он, этот Пишка, — грубо сказала Груня, такой хоть к кому подъедет и вокруг пальца обведет. Его давно пора гнать из колхоза поганой метлой, а он в героях ходит, премии получает, фотографии его в газетах печатают.
Ковырнув шилом неподатливую подошву, досмотрщик боязливо посмотрел на дочь и пробормотал:
— Вот это уж ты напрасно, Грунюшка! Все люди знают, что Пишка, как весенняя путина приходит, — день и ночь на реке. Лучше его нет бригадира во всем районе. Он каждую тоню знает как пять пальцев. Кто первым план по колхозу выполнил? Он же, Пишка, Пимен Гаврилович Талалаев. Кто довел в этом году улов до ста тридцати процентов? Опять же таки Пишка…
Стоя за дверью, Груня с трудом стаскивала с себя тяжелую, мокрую одежду.
— На сто тридцать процентов?! — зарумянившись от гнева, вскрикнула она. — А за счет чего ваш Пишка набрал эти проценты? За счет недомерков? За счет рыбной молоди, которую бригада сдавала под маркой тюльки? Вы с Лихачевым глаза на это закрывали, делали вид, что ничего не замечаете, а Пишка тем временем рыбную молодь губил, завтрашний день государства обкрадывал, народ обманывал!
Выйдя из-за двери, с треском застегивая на платье тугие кнопки, она бросила угрюмо притихшему отцу:
— Так вы с Пишкой вашим и нового инспектора обработаете. Придет весна, поглядим, как он, этот самый Зубов, будет охранять реку от Пишкиных ловцов. Тогда сразу видно будет, человек он или не человек. А пока я вижу, что вы намерены нового инспектора рыбцом задобрить: клюнет, дескать, или не клюнет?
— Брось, дочка, — примирительно махнул рукой досмотрщик. — Мне сдается, что Зубов — не Лихачев. На этом, кажись, никто не поедет.
— Поживем — увидим, — сладко зевнув, сказала Груня.
Она ушла в свою комнату, прилегла на стоящий у печки сундук и задумалась. На секунду ей представился Зубов таким, каким она видела его на облаве, — в распахнутом полушубке, румяный, смущенно улыбающийся, и ей показалось, что его рука еще лежит в ее руке…
5
Когда Василий Зубов ехал в станицу Голубовскую, он думал, что его там никто не ждет и не может ждать, потому что он никого из станичников не знал и его не знали.
Однако Зубов ошибался: в станице его ждали все — от мала до велика. Конечно, ждали не его, Василия Кирилловича Зубова, а нового инспектора рыболовного надзора, который должен был следить за режимом рыболовства на огромном участке реки.
Дед Малявочка недаром назвал Голубовскую плавучей станицей: как только на Дону сходил лед, а потом, заливая бескрайнее займище, с верховьев прибывала теплая «русская вода», — снизу, от моря и разветвленной дельты большой реки, начинала свой весенний ход туча нерестующей рыбы. Так было испокон веков, и испокон веков голубовцы проводили весну и лето на воде, добывая тысячи пудов разной рыбы.
Днем и ночью по реке сновали тяжелые рыбацкие дубы, неуклюжие байды, остроносые баркасы, сотни юрких каюков. Станица плавала на высокой воде, добывая рыбу.
Эта рыба размножалась, росла и жировала, не требуя человеческого труда, и поэтому среди станичников издавна укоренился взгляд, что рыба — это божий дар, над которым люди не властны, что каждый человек, кто бы он ни был, может стать хозяином на реке и ловить рыбу сколько хочет и когда захочет. Так говорили древние голубовские старики, этому же они научили своих внуков и правнуков.
— Что ж, — разводили руками станичники, — земля — это одно, а вода — другое. На воде ни сеять, ни пахать не надобно, тут природа одна управляется, а наше дело — взять то, что заготовлено природой для пользы человека.
Бывший инспектор рыбнадзора Лихачев в меру своих сил старался «соблюдать правила», но он был человек покладистый и не раз утверждал, что рыбное хозяйство нельзя смешивать с земледелием.
— Мне самому надо жить, — говорил Лихачев, — и надо жить давать другим. Ежели рыбколхоз, выполняя план, один раз обловит запретное место или два десятка станичников посидят с черпаками под плотиной, — от этого государство не пострадает…
Из шестисот станичных домов десятка полтора принадлежало людям, которые, как говорил Архип Иванович Антропов, «байдики били», то есть всячески уклонялись от колхозной работы, для виду пристраивались на какую-нибудь службу, а сами только то и делали, что ловили рыбу, вялили ее, коптили, солили «в корень», а потом увозили в глубинную степь и обменивали на муку, сливочное масло, овечью шерсть.
Эти люди жили с Лихачевым душа в душу, по субботам зазывали к себе в гости, угощали вином, и он сквозь пальцы смотрел на то, как браконьеры хозяйничали на реке. Ловцы из рыболовецкой артели пытались жаловаться на Лихачева, но у него, как он сам хвастливо утверждал, была в районе «своя рука».
— Кажен человек исть да пить хочет, — ухмылялся подвыпивший инспектор, — а рыбка хоть кого усовестит. Один раз дозволишь половить, другой раз, глядишь, он уже тебе первейшим дружком стал.
Инспектора не раз предупреждали о том, что на него уже «заведено дело» и что прокуратура им интересуется, но Лихачев только отмахивался.
Однако как он ни бахвалился, его все же отозвали в город, отстранили от должности и отдали под суд.
— Это все Архип Иваныч с Грунькой сотворили, — сказал перед отъездом Лихачев. — Они в обком партии про меня писали, в министерство жаловались, на закрытых собраниях скрозь обсуждали, за каждым моим шагом следили… Пущай теперь радуются: приедет заместо меня какой-нибудь обормот, он им покажет, где раки зимуют…
Всю осень станичники ждали нового инспектора — одни с надеждой, другие — те, которым покровительствовал Лихачев, — с нескрываемой тревогой: каков-то будет новый инспектор?
А новый инспектор как будто и не очень старался показать себя.
Во дворе правления, между телегами и горой плетеных корзин, он разыскал принадлежащую рыболовному надзору моторную лодку. Узкая, с хищным, задранным вверх носом, с чуть покатым изгибом бортов и отличным килем, лодка, по-видимому, была очень быстроходной и маневренной. Сильный, накрытый железным кожухом мотор помещался почти у кормы. В середине лодки была сооружена довольно просторная трехместная каюта с круглыми иллюминаторами на все стороны. В каюте стояли две маленькие, привинченные к полу коечки, прикрепленный к стене откидной столик и табурет. У переднего окна видно было черное колесо рулевого управления.
Василий обошел поставленную на бревна лодку, полюбовался ее прекрасной конструкцией, обмел веточкой снег с бортов, обследовал днище, заглянул в мотор и решил: «Будет называться „Стерлядь“…»
Он договорился с председателем артели Мосоловым, и тот вызвал из района механика моторно-рыболовной станции, который через два дня приступил к ремонту мотолодки. Василий часами возился в мастерской, помогал механику разбирать мотор, тщательно чистил и вытирал тряпочкой блестящие, как зеркало, поршни, рылся в куче железного хлама, чтобы разыскать подходящие гайки. Наконец ремонт был закончен. Пожилой механик прогнал мотор на стенде, послушал, опустив очки, ритмическую, безотказную работу поршней, подвинтил сверкающие белым фаянсом свечи и закричал Зубову, поглаживая ревущий мотор:
— Силен, собака! Такой черта потянет! Будет ваша лодка как торпедный катер!
Ездивший в город досмотрщик Прохоров привез по заказу Зубова масляной краски разных цветов. Затащив лодку в пустой амбар, они сами начали окраску ее корпуса.
— Лодка будет называться «Стерлядь», — сообщил Василий своему помощнику, — значит, и выкрасить ее надо под цвет стерляди: спинку дать песочно-пепельную, бока оживить розоватыми отсветами, а низ пустить посветлее…
Они возились с лодкой дня четыре: заменили старую конопать, кое-где просмолили днище, зашпаклевали все щели и начали окраску. Сняв полушубок и подвернув рукава гимнастерки, Василий сам возился в амбаре с утра до вечера: смешивал краски, чистил тряпкой медные поручни, протирал газетной бумагой толстые стекла иллюминаторов, следил за тем, чтобы Прохоров накладывал краску тонким и ровным слоем и чтобы нигде не оставалось следов кисти.
Иногда в амбар заходили рыбаки.
Сгрудившись в дверях или присев на корточки на земляном полу, они дымили махорочными скрутками, переглядывались и роняли, ни к кому не обращаясь:
— А старый инспектор ни разу и не садился в эту лодку.
— На ей больше наш председатель ездил по бригадам.
— Лодчонка добрая…
— На такой можно куды хочь ехать.
— Мотор только оглушает здорово! Мы с председателем, как раз при большой воде, поездили трое суток по займищу, так я не слышал, кажись, с неделю…
Каждый день к работающему в амбаре досмотрщику приходила Груня. Она молча следила за отцом и Василием, покусывала пухлые губы, рассеяно застегивала и расстегивала пуговицы короткого, с меховой выпушкой, жакета, и Василию, встречавшему ее напряженный взгляд, казалось, что Груня обязательно должна заговорить с ним, но девушка ничего не говорила. Поставив перед отцом узелок с незатейливым завтраком, она дожидалась, пока досмотрщик поест, забирала посуду и уходила.
Но от Василия не укрылось и то, что перед каждым приходом в амбар Груня прихорашивалась: надевала праздничный жакет, синюю шевиотовую юбку, а над аккуратными черными валенками у нее были видны тонкие шелковые чулки, туго обтягивающие крепкие икры и сгиб стройных, упругих ног.
Однажды, когда окраска лодки уже заканчивалась Груня посмотрела на Зубова и засмеялась.
— Чего вы смеетесь? — удивился он.
— У вас нос в белой краске, — посмеиваясь, сказала девушка, — и потом вы так наряжаете свою лодку, будто собираетесь веселое путешествие на ней совершить.
— Насчет путешествия — правильно, — в тон ей ответил Зубов, — а что касается веселья, то это бабка надвое ворожила, кому будет веселье, а кому — слезы.
Выбрав тонкую кисть, Василий взял банку с черным лаком и уверенно вывел на лодке крупную надпись: «Стерлядь».
— Аципензер рутенус? — задумчиво протянула Груня, следя за рукой Зубова.
— Что? — не понял тот. — Ах, да! Латинское название стерляди! Вы ведь работаете в колхозе техником-рыбоводом?..
Девушка вздохнула и провела рукой по волосам:
— Несчастье, а не работа. У нас в колхозе думают только о добыче, а на воспроизводство рыбы не обращают никакого внимания. Рыба в реке, говорят, была, есть и будет, и нечего, мол, пустяками заниматься, рабочие руки от промысла отвлекать на какое-то там ненужное спасение мальков…
— А мне вот Степан Худяков жаловался, что рыбы у вас маловато становится, — сказал Василий, растирая краску в глиняном горшке.
Груня пожала плечами:
— Разве их это касается?
— Кого?
— Наших артельных руководителей. Пока есть рыба — ловят, а не станет — будут сидеть сложа руки…
Работая, Зубов посматривал на Груню и все время чувствовал на себе ее долгий взгляд. Они заводили разговор о реке, о рыбе, и Василий, загораясь, откладывал кисти и говорил:
— Мы все это по-новому поставим. Начнем реку изучать, рыбоводством займемся. Самое трудное — начать, а потом легче будет…
Он умолкал, задумывался о чем-то и признавался смущенно:
— Знаете, Груня, мне ведь самому еще учиться надо. Я вот хожу, присматриваюсь, рыбаков расспрашиваю. Вижу, что дело на участке неладно, а многого еще не понимаю. Чувствую только, что одному тут не управиться…
Груня слушала все, что говорил Зубов, и вдруг ловила себя на том, что ей хочется, как тогда, в санях, взять его покрасневшую от холода руку и согреть своей ладонью.
С грустью глядя на дремлющего в углу Ивана Никаноровича, Груня роняла негромко:
— Отец для вас будет плохим помощником… Слабый он человек…
— Ничего, — смеялся Зубов, — мы его подтянем…
— Вы поговорите с Архипом Ивановичем, — советовала девушка, — он тут всех знает и поможет вам.
— Да, конечно. Я с ним уже сговорился о встрече.
Как-то Зубов попросил Груню прийти с иголкой и подрубить края приготовленного им вымпела.
Сверкая стеклом и начищенной медью, «Стерлядь» стояла на высоких подставках, и на ней уже висели аккуратно сложенные, пахнущие смолой канаты, спасательные круги, а вдоль бортов лежали ярко раскрашенные багры.
— Можно начинать плавание! — воскликнул Зубов, встречая Груню.
Полюбовавшись лодкой, она села у дверей на ящике, и он положил ей на колени белое с красной каймой полотнище.
— Подшейте, пожалуйста…
За открытой дверью сарая были видны медленно летящие хлопья снега. Неподалеку, за ледяной полосой речушки, опушенные инеем, белели высокие тополя.
— Скоро весна, — задумчиво сказал Зубов.
Он вышел из сарая, набрал горсть снега и стал тереть испачканную краской ладонь. Возвращаясь, он нечаянно толкнул Груню, и она тихо вскрикнула, уронив иглу.
— Что вы? — испугался Зубов.
— Н-ничего…
Он взял ее руку и увидел на тоненьком Грунином пальце каплю крови.
— Как же это? — пробормотал он. — Это я виноват… Минутку… Надо сейчас же…
— Ничего не надо, — отрывисто сказала Груня и, краснея, склонилась над шитьем…
6
В середине февраля после сильных морозов началась оттепель. Вокруг станичных домов из-под талого снега показалась земля. Снег на реке потемнел, набряк от влаги и стал рыхлым и податливым. Целыми днями над рекой, особенно там, где проходила санная дорога, кружилось воронье.
На левобережье, среди лесных полян Тополихи и в молодой, засыпанной снегом лесопосадке, начались суматошные заячьи свадьбы. Поднявшись на крутой берег Дона, можно было видеть сотни заячьих следов. Разбрасывая лапками снег, зайцы бегали по лесу во всех направлениях, путали следы, сходились на белых полянах и, облюбовав какую-нибудь старую, покрытую обледенелыми водорослями вербу, начинали вокруг нее веселую свалку.
Иногда, опустив острую морду, по заячьему следу шла отощавшая за зиму лиса. Острый запах свалявшейся на лежках заячьей шерсти дразнил ее, она часами плутала по свежим следам на снегу, наспех съедала подвернувшуюся мышь-полевку и, провожаемая насмешливым стрекотанием вездесущих сорок, бежала дальше.
…Груня Прохорова почти каждый день бродила по лесу с ружьем. Она уже научилась читать мудрую и простую книгу лесной жизни, почти безошибочно могла определить по следу, спокойно ли шел ничем не пуганный зверь или бежал сломя голову, преследуемый врагом. Слабый запах талого снежка, молодой вербовой коры и карагача, дующий снизу ветерок, невнятный шелест и позвякивание чуть тронутых ледком тонких ветвей — все это было хорошо знакомо Груне, но теперь как-то по-особенному волновало ее.
В последнее время она все чаще думала о Зубове. Его серые глаза, ласковая усмешка, сильный грудной голос нравились ей, и она, незаметно для себя, потянулась к Василию.
По субботам в рыбацком клубе показывали кинокартины. До начала сеанса бойкий инвалид-кооператор раскладывал свои товары на столике, именуемом буфетом, и десятки парней и девушек подходили к столику выпить стаканчик виноградного голубовского вина или полакомиться конфетами.
Почти каждый раз бывал в кино и Василий. Витька убегал в клуб первый, Марфа оставалась дома одна, и Василию было жаль ее. Он звал ее с собой, и она чинно шла рядом с ним, в белом пуховом платке, в лучшем своем пальто, в модельных туфлях и новеньких сверкающих глянцем калошах. Зубов осторожно придерживал Марфу за локоть, усаживал на стул и, распахнув полушубок, садился рядом.
Груня видела все это и отворачивалась, покусывая губы.
«Ну и пусть, — говорила она себе, — очень надо…»
В клубе стоял неумолчный гомон, голубые облака махорочного дыма носились над темным потолком, впереди, у самого экрана, визжали ребятишки, а невозмутимый киномеханик часами настраивал среди зала свою передвижку.
Василий брал Марфу за руку и подводил к столику. Блестя глазами, смущенно посмеиваясь, она отказывалась от вина и деликатно ела купленные Зубовым конфеты, а он наливал стакан самого лучшего ладанного вина, подняв к лампе, любовался его солнечно-рдяными отсветами и выпивал за здоровье своей хозяйки.
Вокруг Груня слышала незлобивый, веселый шепот женщин-рыбачек:
— Кажись, наша Марфа инспектора обратала.
— Такая не пропустит!
— Как розочка расцвела, зарумянилась, глаз с его не спускает!
Груня и сама не знала, почему ей так неприятно было слушать все эти разговоры и почему поведение Зубова обижало и злило ее. Десятки раз она давала себе слово не ходить в клуб, чтобы не встречаться с Василием, но как только приходил субботний вечер, она одевалась, шла в кино и даже выбирала такое место, чтобы сесть поближе к Зубову и Марфе и слушать их негромкий разговор.
Уходя в лес, она чувствовала себя спокойнее. Правда, во время этих прогулок ей совсем не хотелось стрелять. Закинув ружье за спину, она брела по сугробам, всматриваясь в звериные и птичьи следы, подолгу стояла среди густых вербовых зарослей.
Странными были эти заросли. Древние вербы росли вдоль всего левого берега, и весенние воды приносили сюда множество сухих растений, ила, длинных, как нити, водорослей. Играя яростной круговертью, вода из года в год опутывала вербовые стволы мотками растений, а когда паводок сходил, на вербах оставались пышные рыжие шубы, проросшие множеством вербовых корешков. Зимой эти шубы засыпались снегом, обледеневали, и тысячи верб стояли над белой рекой, как сказочные изваяния великанов, пришедших из какого-то чудесного царства.
Прислонившись спиной к дереву, Груня слушала неясные звуки, едва различаемые в лесной тишине: то сорвется и, прошелестев в ветвях, утонет в сугробе ледяная сосулька; то, как далекий дровосек, застучит в тополях трудолюбивый черно-белый дятел, то треснет под лапкой выползающего из лежки зайца сухой, схороненный под снегом бурьян; то, поворачивая во все стороны синеватую голову, гортанно прострекочет качающаяся на ветке сорока…
Однажды Груню встретил на Тополихе Архип Иванович Антропов, бригадир первой рыболовецкой бригады, секретарь колхозной партийной организации. У него редко выпадало время поохотиться, потому что он всегда был чем-нибудь занят, но если оказывалась свободная минутка, Архип Иванович ходил в лес побаловаться с ружьишком.
Груня с детства любила и немножко боялась этого человека. Антропов был невысок, широкоплеч, коренаст. Его темное, как дубовая кора, лицо, густая, с проседью, борода и нависшие над крепкими губами усы, особенно его глаза, узкие и острые, как стальные буравчики, — все это притягивало людей неторопливой, спокойной силой, крепкой земной хваткой и молчаливым, глубоким сознанием своего человеческого достоинства.
Антропов ходил медленно, вразвалку, говорил очень мало, голос у него был густой, глуховатый. Все пятьдесят лет своей жизни он провел на воде, плавая по морям и рекам, и когда оказывался на земле, то ходил так, будто под ногами у него была качающаяся на волнах шаланда.
Бродя по опушке, Архип Иванович увидел свежий лисий след, долго плутал над берегом, потом попал в вербовую чащу и заметил среди деревьев Груню Прохорову. Еще издали, чтобы не испугать девушку, он негромко окликнул ее:
— Грунюшка!
И, подойдя ближе, сказал ласково:
— Ну, здравствуй, мальковая царевна! Сороку слушаешь? Чего ж хорошего она тебе напророчила?
Груня смутилась:
— Я тут… лозу выбираю, Архип Иванович… Хочу корзин для бригады наплести, а то весна подходит, а тары у нас никакой нет…
— Это ты плохое место выбрала, — усмехнулся Антропов, — тебе надо бы молодой тальничек найти, а из старья какие ж корзинки?
Домой они шли вместе и на реке остановились.
— Спит река, — задумчиво сказала Груня, — подо льдом ничего не видно и не слышно.
— Нет, девушка, река никогда не спит, — возразил Антропов, — в ней всегда жизнь играет, только человек не видит того, что подо льдом творится.
Он достал из кармана широченных штанов жестяную коробку, свернул из обрывка газеты «козью ножку», набил ее махоркой, пыхнул дымом и заговорил, серьезно посматривая на Груню:
— Правда, рыба сейчас спит по иловатым ямам да по опечкам. Надела свою зимнюю шубу из слени и дремлет до весны. Но не вся рыба спит. Хотя и темновато от льда и от снега в ее рыбьем царстве, а есть у них такие гуляки, что ни холод, ни тьма не задержит: то, гляди, чебаки проплывут из глубин на мелкое место, то ерши, проголодавшись, кинутся спросонку за какой-нибудь живностью, то, к примеру, косячок чехони по своему маршруту проследует…
Он постучал каблуком по льду и засмеялся:
— Под этой самой твердью уже налимьи свадьбы идут, аж вода кипит.
Уже на обратном пути Антропов тронул Груню за локоть:
— Ну, а как твоя спасательная бригада? В боевой готовности?
— Какая у меня бригада, Архип Иванович? Председатель только на добычу смотрит, чтобы план выполнить, а спасение молоди считает детской игрушкой. Выделил мне в бригаду четырех мальчишек да четырех девчонок, вот и управляйся с ними как хочешь.
Антропов блеснул глазами из-под кудлатой шапки:
— Это ты правильно говоришь. Привыкли мы по старинке хозяйновать на реке: только брать из нее любим, а в остальном на природу надеемся. Колхозник, который на земле работает, далеко от нас ушел. Он теперь на дождик надежду не возлагает, хозяином на своей ниве стал, на полвека вперед расчеты производит, в коммунизм глядит…
Колючие глаза Архипа Ивановича потемнели.
— Ладно, — сквозь зубы сказал он, поглядывая на притихшее под низким февральским небом правобережье, — мы истинную дорожку найдем, не заблудимся.
Помолчав, он повернулся к Груне и спросил внезапно:
— Ты ведь с новым инспектором уже встречалась?
— Встречалась, — вспыхнула Груня.
— Как он тебе сдается? Стоящий парень?
Девушка заволновалась:
— Откуда я знаю? Вам виднее, стоящий он или нестоящий, а я с ним детей крестить не собираюсь.
Черная бровь Антропова поднялась, взгляд его узеньких глаз на секунду задержался на лице девушки.
— Угу, — промычал он, — это, конечно… крестины мне тоже ни к чему, а человека знать надо. Он ведь в твоем деле первым советчиком может быть, да и нам помощь от него немалая ожидается…
Архип Иванович простился с Груней и пошел в колхозный двор, где рыбаки заканчивали последние приготовления к весенней путине: конопатили и смолили перевернутые вверх днищем баркасы, чинили, растянув на затоптанном снегу, невода и сети, вытесывали из камня тяжелые грузила, вырезывали деревянные поплавки.
Посередине двора горел костер, над которым стоял черный котел с кипящей смолой. Отовсюду доносился запах смолы, свежевыструганных досок, рыбьей чешуи. Слышались визжание пил, стук топоров, дробное постукивание молотков.
На одном из дубов сидел выпачканный смолой Пимен Талалаев. Он встретил Антропова молчаливым кивком и тотчас же отвернулся. Бригадиры недолюбливали друг друга и вступали в разговор только в случае крайней необходимости. В заднем углу двора, под навесом, возился над сетями дед Малявочка. Его окружали одни женщины, и он беспрерывно покрикивал на них, хотя в этом не было никакой необходимости.
Кузьма Федорович Мосолов, в брезентовом плаще и в военной фуражке, расхаживал по всему двору, выслушивая короткие доклады рыбаков, делая попутные замечания, записывая что-то в свой пропитанный рыбьим жиром блокнот.
Антропова охватило то радостное чувство, которое обычно бывает у старого рыбака в преддверии весны, когда каждый день приближает выход рыбацкой флотилии на реку и первое притонение в холодной воде, по которой еще плывут почерневшие льдины.
— Ну как, — ухмыляясь, спросил он, подавая Мосолову темную, тяжелую руку, — начинаем, товарищ начальник?
— Выходим на исходные позиции, — в тон ему ответил Мосолов. — Надо собрать людей да поговорить о планах добычи и многих других делах.
— Что ж, соберем, — тряхнул головой Антропов, — я сам об этом думал…
Широко расставив ноги, могучий, обветренный, как будто вытесанный из камня, он стоял у ворот и смотрел на реку.
Всюду еще лежал снег. Холодновато поблескивал лед на реке. Казалось, ничто не предвещало близкой весны. Но слабевший ветер незаметно подул уже не с востока, а с юга, из-за перелесков левобережной Тополихи; уже на острове, над высоченными деревьями, хлопотливо кружились первые грачи, а снег обмяк, отяжелел и, тусклый, пропитанный влагой, стал покрываться бурыми и глинисто-желтыми пятнами.
Раздувая ноздри, Архип Иванович жадно втянул свежий, пахнущий смолой и лесными корнями воздух, и ему почудилось, что внизу, где-то глубоко под речным льдом, ворочается, набирая силы, что-то живое, крепкое, молодое…
Глава вторая
1
На две тысячи километров, от Иван-озера до Азовского моря, протянулась большая река, за неторопливое свое течение прозванная тихим Доном. Петляя в разные стороны, огибает река белые столбы Дивногорья, поворачивает то на юг, то на восток, обходит правобережную меловую гряду, упирается у Иловли в склоны великой Приволжской возвышенности и, обтекая ее ниже хутора Вертячего, описывает огромную дугу и стремится все дальше на юго-запад.
В верховьях вливаются в Дон реки Красивая Меча, Быстрая Сосна, Воронеж, Непрядва, многие ручьи и протоки. На правом берегу высятся крутые холмы и горы, а на низменном левом белеют песчаные натеки: Вешенский, Арчадинский, Трехостровянский. Тут русло реки прижимается к высокому правобережью, а слева расстилается широкая долина с музгами, старицами, озерами. И снова Дон принимает в себя воды Тихой Сосны, Битюга, Хопра, Медведицы, Иловли, а ниже вливаются в его русло Чир, Цимла, Северский Донец, Сал, Маныч, Тузлов.
Тысячи лет течет тихий Дон к Азовскому морю, отлагая у берегов песчаные отмели, образуя из наносов острова и перекаты, острые языки поросших лозняком белых кос и подводные осередки, вырастающие из вечно движущихся песков речного дна.
Самую низкую часть донского русла, по которому летом и осенью течет речная вода, рыбаки называют меженным, или малым руслом. В межень река обнажает сотни перекатов, мелеет, и только на плесах в жаркие летние дни можно видеть зеленоватую водную глубь. При наступлении зимних холодов низкую воду Дона сковывает лед.
Но как только по-весеннему пригреет солнце и станет прибывать вода, начинается затопление огромных речных займищ, разбросанных в долине на обоих берегах. В эти дни и наступает рыбацкая страда.
С приближением весны Зубов бывал дома все реже и реже. Он по целым дням бродил по участку, объезжал верхом хутора по Сухому Донцу, чтобы на местности посмотреть предстоящий весенний маршрут рыбца (каждую весну косяки рыбца шли по Сухому Донцу к своим старинным нерестилищам на Северском Донце).
С Марфой Зубов почти не виделся. Домой он возвращался поздно, когда хозяйка уже спала, а вставал, когда она уже уходила на работу.
Марфа ухаживала за ним, как за сыном: то поставит ему утром кувшин с молоком, то испечет вкусных пышек, то белье ему постирает и приготовит помыться. Зубов попытался как-то заплатить Марфе сверх той суммы, о которой они договорились, но женщина сердито отказалась, обиделась и почти перестала с ним разговаривать, хотя по-прежнему заботилась о нем и старалась предупредить любое его желание.
Каждое утро Василий уходил в станицу. «Надо узнать людей, — говорил он самому себе, — без этого я буду бродить здесь как в лесу, и меня любой обставит…»
Он осмотрел огромный двор рыбцеха с его бетонированными приемниками, каменными и деревянными чанами, ледниками, коптильнями.
Начальник рыбцеха Михаил Степанович Головнев, невысокий плечистый мужчина с зачесанными набок черными волосами и гладким, безбородым лицом, встретил Зубова очень приветливо, показал ему все службы и посвятил в планы нового строительства.
Рыбцех представлял собой своеобразный филиал рыбозавода, расположенного в далеком городе. В задачу Головнева входили приемка рыбы от колхозов, первичная ее обработка в цехе (замораживание, соление и копчение) и отправка в город. Соблюдая интересы завода, Михаил Степанович был больше всего озабочен тем, чтобы в цех поступала высококачественная рыба и чтобы заводские катера вовремя увозили ее вниз по реке, освобождая место для новых партий свежака.
Зубов часто встречался со старыми рыбаками, ходил на левый берег в контору шлюза и познакомился с начальником гидроузла инженером Акименко, который показал ему чертежи и схемы речного дна на подшлюзном участке.
Когда Зубов, сопровождаемый Акименко, уходил со шлюза, его внимание привлек молодой парень, работавший у трансформаторной будки. Это был цыгановатый, черноглазый крепыш с подбритыми усиками и наглым выражением смуглого румяного лица. Проводив Зубова насмешливым взглядом, он засмеялся и довольно громко сказал своему помощнику, болезненного вида мальчишке в бушлате:
— Видал? Новый инспектор пошел, который заместо Лихачева назначен. Молоко на губах не обсохло, а гляди какой! Должно быть, в Ташкенте с мамкой воевал, а теперь геройство свое будет тут показывать…
Василий обернулся. Парень вызывающе спокойно встретил его взгляд и продолжал работать как ни в чем не бывало.
— Кто этот черномазый, в брезентовой робе? — спросил Василий у Акименко.
— Который? — оглянулся начальник шлюза. — А-а, это наш старший монтер Талалаев. Отец его паромщиком работает, а дядя — бригадиром в колхозе. Когда-то, говорят, богачами слыли. Сады у них были на Костиных горах…
Возвращаясь с плотины, Зубов встретил на реке проверяющего вентеря Архипа Антоновича Антропова. Бригадир издали узнал Василия.
Они постояли, покурили, и Архип Иванович, по-медвежьи переступив с ноги на ногу, провел жестким пальцем по усам и кольнул Зубова взглядом глубоко сидящих глаз:
— Вот чего… вы, может, подбегите до меня вечерком? Нам бы с вами поговорить надо…
— Хорошо, я зайду, — пообещал Василий, — я сам собирался к вам.
Вечером, как только стемнело, он пошел к Антропову. Бригадир жил почти на краю станицы, в низеньком, будто игрушечном, деревянном домике, окрашенном желтой охрой. И во дворе и в домике было очень чисто. Антроповы не имели детей; только после войны Архип Иванович взял из детского дома девятилетнюю девочку-сироту, родители которой, старочеркасские рыбаки, погибли во время немецкой оккупации.
Когда Василий вошел в дом, хозяйка с девочкой мыли посуду, а сам Антропов сидел у стола и читал газету, сосредоточенно водя пальцем по строкам.
— Садитесь сюда, на табуретку, — пригласил он Зубова и, похлопав ладонью по газете, проговорил задумчиво: — Америка все дурочку валяет, думает запугать нас атомной бомбой, холуев своих на кукан нанизывает да долларами их подмазывает…
Отложив газету, он сказал жене:
— Тащи-ка нам, Сидоровна, бутылочку красностопа…
Он налил себе и гостю по стакану терпкого красного вина, некоторое время молчал, прислушиваясь, как в соседней комнате девочка вслух учит стихи, потом отпил из стакана и заговорил негромко, сверля Василия своими стальными глазами:
— Плохо мы в нашем рыбколхозе хозяйнуем, Кириллыч. Отстающее наше хозяйство. Все нас, рыбников, обгоняют: и полеводы, и виноградари, и животноводы. А почему? Потому, что наш брат-рыбак по старинке на свое дело смотрит: он только берет от реки, на иждивении у нее состоит, вроде как инвалид при собесе. А, по-моему, рыбак должен хозяином на воде стать, как крестьянин на земле. Советский рыбак должен не только добывать, но и производить. Понятно? Про-из-во-дить!
Архип Иванович разгладил крепкими пальцами скатерть и продолжал, глядя на Зубова в упор:
— Добыча рыбы у нас на реке с каждым годом падает? Падает. А почему? Потому, милый человек, что мы в завтрашний день не глядим, потому, что мы хотим жать, не сеявши. При социализме так хозяйновать нельзя, как наш рыбколхоз хозяйнует. И думка у меня есть: на новые рельсы дело наше переводить, производством рыбы заняться…
Поигрывая бахромой скатерти, Зубов посмотрел в глаза бригадиру:
— Скажите, Архип Иванович, браконьеров у вас тут много?
— Браконьеров? — переспросил Антропов. — Разве дело только в браконьерстве? Дело…
— Пока я спрашиваю о браконьерах, — мягко перебил Василий, — меня интересует: много ли хищений на реке?
Архип Иванович подумал и сказал раздельно и строго:
— Таких людей, которых ты, Кириллыч, именуешь браконьерами, еще немало. Да-да. И знаешь почему? Потому, что любой лов рыбы у нас спокон веку за кражу не считается. Погляди, как оно выходит: ежели, скажем, какой-нибудь ворюга с колхозного поля десять килограммов зерна унесет, мы ему по закону от седьмого августа за расхищение социалистической собственности такое пропишем, что он внукам своим воровать закажет. А на реке? Выедет, к примеру сказать, Авдей Талалаев со своим сыном Егором, полбаркаса селедки черпаком нагребет или же перемет под чехонь поставит и тыщи на три ее наловит — и ему хоть бы что! Это, говорят, человек спортом занимается, для своего домашнего потребления рыбкой балуется. А вкоренилось это потому, что до рыбы никто трудовых рук не прикладывал. Люди так и глядят на рыбку, как на божий дар: дескать, ее никто не сеял, и, значит, она ничья, бесхозяйная.
Вспомнив черномазого парня у трансформаторной будки, Василий спросил угрюмо:
— Это вы о каком Талалаеве говорите?
— Паромщиком у нас тут работает старичок один, Авдей Гаврилыч называется, а сын его Егор монтером на шлюзу пристроился. Они при Лихачеве цельными ночами рыбу ловили да в город отправляли…
Антропов положил Василию на плечо тяжелую руку и убежденно сказал:
— Так, Кириллыч, дело дальше не может идти. Подходит пора наше рыбное хозяйство на новый лад перестраивать. Слыхал небось про Мичурина? Ну так вот. Ты думаешь, этот старичок только яблочками занимался? Нет, Кириллыч. Я так себе думаю: недаром у нас такое внимание ему оказали. В корень он глядел. В самый корень. На примере своих яблочек он нам стежку протоптал и указал, как мы всю природу по-своему перекроить обязаны, на пользу людям. Мы, мол, не можем ждать милостей от природы, мы сами должны взять их у нее, так он говорил. Слыхал?
— Слыхал, — отозвался Василий.
— То-то. Так и с нашей рыбой.
Глаза Антропова засверкали. Допив вино, он поставил стакан, ударил кулаком по столу и, наклонившись к Зубову, негромко продолжал:
— Сеять надо рыбу, милый человек. Да, да. Именно сеять, так же как полеводы сеют пшеницу. И притом сеять не абы какую рыбу, а лучшие сорта: севрюгу, рыбца, чебака, сазана, сулу. Сеять и ухаживать за ней надо, выращивать ее, как знатная колхозница ягнят или поросят выращивает. Подкормку рыбе надо давать, на учет ее взять надо, планы рыбного урожая повышать ежегодно надо. Вот это и будет называться социалистическое рыбное хозяйство. Правильно я говорю или нет?
— По-моему, правильно, — улыбнулся Василий, — но вашему колхозу до этого, кажется, еще очень далеко.
— Верно! — вспыхнул Архип Иванович. — Далеко! Я вон слышал, на Волге уже сазаньи да лещевые рыбопитомники организованы, и в них миллионы рыбной молоди выращивают. А мы даже спасения рыбной молоди и то как следует наладить не можем. Есть тут в станице девчонка-рыбовод. Славная девчонка, досмотрщика вашего дочка. Да что я объясняю, вы же ее на облаве видели и домой вместе с ней ехали. Так вот, как весна приходит, она цельный день на займище бродит, молодь спасает. На курсы мы ее посылали, деньги для этого дела расходовали, а теперь человеку помочь не можем, мальчишек в бригаду ей насовали — и с плеч долой.
— Что же вы ей не поможете? — спросил Зубов. — Разве спасение рыбной молоди не касается партийной организации?
— Известное дело, касается, — пошевелил пальцами Архип Иванович, — а только у нас все силы на добычу отдаются. Так и начальство на это дело смотрит: в первую очередь за выполнение плана добычи спрашивает, а потом уже за все другое…
Он помолчал и проговорил задумчиво:
— Работенка у вас тут будет нелегкая. А помощник ваш Иван Никанорыч, нечего греха таить, слабоват для этого дела. Его бы лучше освободить от должности досмотрщика.
— А как он себя держал при Лихачеве?
— Никак! — пренебрежительно махнул рукой Антропов. — Он, этот ваш помощничек, вроде вербовой лозины на косе: куда ветер подует, туда он и гнется. Лихачева он боялся как огня и ни в чем ему не перечил. А теперь вас будет бояться и тоже ни в чем перечить не будет. Робкий он человек, безответный. А сюда разве такой нужен?
— Но и увольнять его без причины неудобно, — возразил Василий, — и потом, как же это получится? Человек проработал в рыбнадзоре лет двадцать, а его вдруг взять и выгнать на улицу?
— Зачем же на улицу? Место мы ему подыщем. Головневу в цех весовщик нужен для приема рыбы, в детдоме у нас люди требуются. Дело ему везде найдется. А вам бы на должность досмотрщика надо подыскать хорошего молодого рыбака, коммуниста или же комсомольца, такого, скажем, как Степа Худяков…
Зубов нахмурился:
— Нет, Архип Иванович, на увольнение Прохорова я своего согласия не дам. Так швыряться людьми нельзя. И обо мне после этого черт знает какие разговоры пойдут: не успел, скажут, приехать, и сразу же разгром учинил. Надо подождать, потолковать с Иваном Никанорычем, объяснить ему как следует, что надо делать…
— Ну, глядите, дело ваше, — пожал плечами Антропов, — вам с ним работать, вам и отвечать. А только сдается мне, что Иван Никанорыч когда-нибудь здорово подведет вас.
То, что говорил Архип Иванович, смутило Зубова, но он пожалел досмотрщика и сказал, что пока остается при своем мнении и Прохорова не уволит.
Зубов проговорил с бригадиром до полуночи, а когда уходил, Архип Иванович проводил его до калитки и сказал, глядя на темные космы плывущих над рекой туч:
— Весна на подходе, Кириллыч. Скоро тронется лед на реке.
Он протянул Зубову руку, подумал и проговорил тихо:
— Одно я могу сказать тебе, Кириллыч. Человек ты молодой и, видать, стоящий. Трудно тебе тут покажется, но линия у тебя должна быть прямая и твердая. Ежели в чем-либо моя помощь потребуется или же ты, как коммунист, будешь нуждаться в поддержке парторганизации, можешь на нас положиться. Мы тебя в обиду не дадим…
Василий возвращался по пустынной темной улице. По всей станице лаяли собаки. Ни в одном окне не светился огонь. С крыш капала вода. Снизу тянуло свежим запахом тающего снега и влажной земли.
2
Все больше пригревало солнце, лед на реке потемнел и покрылся талой водой. Уже заструились невидимые глазу подземные теплые воды, и ледяная гладь реки побурела, набухла, образуя у берегов отражающие голубое небо проталины. По ночам слышно было, как трещит, лопаясь, лед и как с глухим шумом начинает он первую свою подвижку к низовьям: медленно-медленно сдвинется с места ледяное поле и, словно в раздумье, станет, окруженное тихо плещущей водой. Потом снова подвинется, повинуясь могучему напору речной воды, и снова станет, тихонько потрескивая.
Рыбаки днем и ночью дежурили у реки, дожидаясь, пока ледяное поле оторвется от берегов и, перейдя на плав, заколышется на воде. Рыбакам нельзя было прозевать долгожданные минуты первого весеннего лова: как только поплывет лед по воде, с грохотом станут раскалываться огромные льдины, навалятся одна на другую, начнут сбиваться навалами у берегов, освободят полосы чистой воды, — тут и вырвется с берега смелый рыбацкий баркас и начнется замет длиннейшего, пахнущего смолой невода.
Покуривая, перебрасывать шутками, негромко запевая песни, поглядывая на небо и на реку, ждали рыбаки условного сигнала. Они бродили по двое, по трое, сидели на бревнах группками, расхаживали вдоль берега. Тут же стояли, уткнувшись носом в сверкающие на солнце талые окраинцы, просмоленные дубы, на которых были сложены темные невода. А вокруг, над Тополихой и над Дубками, над Церковным рынком и над Волчьим логом, с криком носились грачи, трещали сороки, и уже хищная скопа, сияя белой, с землистой пестринкой, грудью, парила, распластав острые крылья, над просыпающейся рекой.
На лов были поставлены первая бригада Антропова и третья, сетчиковая, бригада деда Малявочки. Бригада Пимена Талалаева уже вторые сутки находилась на левом берегу у Тополихи, расчищая лучшую в рыбколхозе тоню Таловую.
Одетые в тяжелые брезентовые плащи, овчинные треухи и высокие, подвязанные к поясу, резиновые сапоги, рыбаки Талалаева, бродя по колени в ледяной воде, вытаскивали на берег принесенные водой карчи, покрытые мхом бревна, вырванные из-под плотины «тюфяки» — плотные связки хвороста — все, что несла разбуженная весенним солнцем река и что могло рвать сети и невода, мешать замету и притонению, задерживать добычу.
Сам Талалаев, расстелив у костра плащ и стеганку, лежал, ни во что не вмешиваясь и хмуро посматривая на правый берег. Лед на реке потрескивал, едва заметно двигался вниз, лопался, все больше обнажая темную студеную воду. Светило солнце, снизу, с излучины, дул теплый ветерок.
— Сволочи! — сердито сплюнул Талалаев. — Как взял первенство, так они и зачали меня назад отпихивать. Сами будут рыбу ловить, а я за уборщика управляться должон…
С Тополихи хорошо было видно, как две пары дюжих колхозных быков подвезли к берегу на длинном разводе сверкающую медью и начищенными стеклами пепельно-розовую моторную лодку. На тонкой стальной мачте лодки был приспущен белый вымпел рыболовного надзора.
Талалаев швырнул в костер недокуренную цигарку и кисло усмехнулся:
— Инспектор к бою готовится… Видать, шустрый парень.
Он не заметил, как из леса к нему подошли брат и племянник. Оставив неподалеку нагруженные дровами салазки, они погрелись у костра и закурили.
Паромщик Авдей Талалаев, чистенький, сухонький, в вязаных перчатках и в белых валенках с новыми калошами, задрав вверх подстриженную седую бороденку, посмотрел на брата и хмыкнул насмешливо:
— Промышляешь, Пиша? Сколько центнеров карчей на засол наловил?
Цыгановатый Егор, подмигнув отцу, захохотал и похлопал бригадира по крепкому плечу:
— Ничего, дядя. Терпи, атаманом будешь.
Пимен угрюмо молчал, глядя в жаркое пламя потрескивающего костра. Его душила злоба, и он в эти минуты ненавидел всех: и председателя колхоза Мосолова, и бригадира первой бригады Антропова, которого считал своим злейшим врагом, и деда Малявочку, и даже брата Авдея с племянником, которые притащились на эту проклятую тоню и вздумали шуточки отпускать.
Авдей расстегнул бархатный воротник шинели, уселся на край лежавшего на земле плаща и проговорил, поглядывая на правый берег дальнозоркими, старческими глазами:
— Вроде моторку спущать готовятся. Это чья же? Председателева, должно быть?
— Была председателева, — отозвался Егор, блеснув белыми зубами, — а теперь новый инспектор ее захватил. Дюже прыткий, видать…
Отец и сын переглянулись и посмотрели на бригадира, помешивая обгорелыми палками горячую золу в костре.
— Надо бы, Пиша, кинуть разок под шлюзом, — погладил бородку Авдей, — намедни Егорка в ополоньях видал: рыбец косяками ходит. Накидная у меня густенькая, каючок в ходу легкий, я его проконопатил, просмолил, одно удовольствие будет ночку покидать.
— Ладно, — махнул рукой Пимен, — как лед пройдет, спробуем, кинем…
Они поговорили еще немного, покурили и разошлись.
Между тем на правом берегу, у станицы, не умолкали гомон и шум.
Рыбаки не сводили глаз с набухшего, темного, медленно ползущего вниз ледяного поля. Они не покидали берег ни на одну минуту. Даже те, кто жил совсем близко, не ходили домой завтракать и обедать. Женщины приносили им харчи в плетенных из талы корзинках прямо на берег. И люди, расстелив плащи, рассаживались на непросохшей земле, доставали из корзин жесткую вяленую чехонь, лепешки, творог, заткнутые очищенными кукурузными кочанами бутылки с вином и начинали есть, посматривая на реку и возбужденно, как перед боем, переговариваясь друг с другом.
Марфа, отпросившись у деда Малявочки, тоже сбегала домой и принесла Василию завернутый в чистую холстинку кусочек сала, буханку хлеба и наполненную вином трофейную солдатскую флягу.
Широко шагая в своих стеганых штанах и шурша по песку тяжелыми сапогами, Марфа подошла к моторной лодке, возле которой возился Зубов, и с улыбкой сказала:
— Покушайте, Вася, а то с голоду помрете.
Василий положил на борт лодки подпилок, вытер руки и подошел к Марфе.
Она стояла против солнца, в сдвинутом на затылок шерстяном платке, ветер трепал ее белокурые волосы, играл концами развязавшегося платка.
— Ну что ж, — сказал Зубов, — давайте сядем вместе, Марфа Пантелеевна, да выпьем за счастливую путину.
— Сядем, — усмехнулась Марфа.
Они уселись на выступе бревна, на котором стояла лодка. Марфа перевернула вверх дном круглую плетенку, расстелила на ней холстинку, положила хлеб и сало. Отстегнув от фляги черный стаканчик, она наполнила его вином и протянула Зубову:
— Пейте.
Василий коснулся ее руки и возразил шутливо:
— Так не полагается. Сначала пьют женщины.
— Женщины? Нехай женщины.
Подняв стаканчик, Марфа согнала с лица улыбку и сказала серьезно:
— Так вы, Вася, хотели выпить за счастливую путину? Только за это? Ну что ж, давайте выпьем за путину.
По-мужски, не отрывая стаканчик от губ, она выпила вино и подала Зубову флягу:
— Наливайте…
Как раз в ту секунду, когда Зубов наливал из фляги и, смеясь, говорил своей хозяйке о том, что собирается выпить за ее, Марфино, счастье, мимо лодки, отвернувшись, медленно прошла Груня Прохорова.
— Здравствуйте, Груня! — окликнул ее Зубов.
Девушка взглянула не него исподлобья, поклонилась и, ускорив шаги, почти побежала к баркасам.
— Э-ге-э-эй! — закричали сверху, с холмов Церковного рынка. — Лед быстрей пошел!
— За ночь покажется чистая вода!
— К утру можно сыпануть невод!
Огромное ледяное поле, ползущее ниже станицы, оставляя булькающие водой ледяные натёки, подвигалось к излучине русла. Вдруг раздался треск. Взметнулись вверх грачи. С длинной полыньи сорвались нырки и, просвиристев крыльями, скрылись за лесом. Ледяное поле лопнуло пополам. Из длинной — от берега до берега — поперечной трещины хлынула вода. Обе половины рассеченного ледяного поля закачались на плаву. Потом часть льдины, ползущей сзади, откололась и стала налезать на переднюю. Грохот льда становился все громче и грознее. Кое-где среди плывущих льдин показались первые проталины чистой воды.
Антропов, нацеливаясь на реку колючим глазом и поглядывая на первый стоящий у берега дуб с уложенным неводом, подошел к председателю.
— Ну что, Кузьма Федорович, — сказал Антропов, указывая на реку, — может, начнем?
Сидевший рядом с Мосоловым начальник рыбцеха испуганно посмотрел на бригадира:
— Ты, Архип Иваныч, случаем, не заболел? Разве ж можно в такое столпотворение дуб спускать? От вас через минуту только мокрое место останется!
— Не рано ли, Иваныч? — с сомнением спросил председатель и почему-то вынул часы.
К ним подошли дед Малявочка, Зубов, досмотрщик Прохоров, Марфа, Груня, а потом, один за другим, и все рыбаки с женами и детьми, толпившимися на берегу.
— По-моему, можно попробовать.
Тяжелые льдины со звоном и грохотом сшибались на разволновавшейся реке. Участки чистой воды становились все шире, но они тотчас же заполнялись напиравшими сзади льдинами, и вряд ли хоть один баркас смог бы удержаться в грохочущем водовороте реки.
— Повремени маленько, Иваныч, — уговаривал председатель, — это ж на верную гибель идти. Зачем рисковать людьми и судном? Денек потерпим, а потом вернее дело будет.
Но Антропов стоял на своем. Притаптывая тяжелыми сапогами смешанный с грязью снег, он стоял перед Мосоловым с темным, каменным лицом и говорил упрямо:
— Пора начинать. Настоящий рыбак должен быть орлом, а не курчонком. Нехай молодежь приучается к тому, что рыбу из реки ей на блюдечке не вынесут. Какие ж с нас тогда рыбаки будут, ежели мы речки испугаемся? А рыба сейчас непотревоженная, спокойная. Большой улов можно взять…
Дед Малявочка, пожевав губами, произнес важно:
— Силком можно бы и не принуждать, а ежели добровольные охотники найдутся, то чего ж… Риск, как говорится, — благородное дело, а почин дороже денег.
Эти слова убедили председателя. Он подумал, поежившись, посмотрел на ревущий ледоход и махнул рукой:
— Как хочешь, Архип Иванович. Но только под твою личную ответственность, и на лов идти не по принуждению, а добровольно; Можешь набирать охотников…
Услышав решение председателя, рыбаки стали медленно расходиться, с опаской посматривая на Антропова.
А бригадир медленно, вразвалку, подошел к дубу, погладил пальцами невод, вытащил кисет и сказал, буравя собравшихся вокруг него рыбаков своими стальными глазами:
— Ну чего ж, хлопцы? Кто на бабайки охочий?
Двое здоровенных парней, скинув плащи и оставшись в засаленных стеганках, подошли к нему.
— Мы поедем, дядя Архип, — сказал один из парней.
Еще четверо рыбаков согласились сесть за весла, но к одному из них подбежала жена, смазливая бабенка, в сером жакете, и закричала, хватая его за руку:
— Ты чего, ополоумел? Не видишь, что на реке творится? Или же тебе жизнь надоела?
Рыбаки захохотали. Сконфуженный «охотник» попытался было вырваться из рук жены, но та крепко держала его и, покраснев от злости, тащила в сторону.
— Отпихивай! — приказал Антропов. — Управимся без него!
Тяжелый дуб, скрипнув по песку, посунулся в воду, на секунду замер и закачался на волнах. Гребцы начали отталкиваться от берега. Антропов стоял посреди дуба, расставив ноги и держась за свернутый невод.
В это мгновение Груня Прохорова, растолкав столпившихся на берегу рыбаков, кинулась к дубу, ухватилась за корму, перекинула ноги через борт и оказалась рядом с Антроповым.
— Ты куда? — закричал насмерть перепуганный досмотрщик. — Грунька, вернись!
— Чего ты, Груня? — громко, перекрывая грохот льда, спросил Антропов.
— С вами поеду, — ответила девушка и взяла свободное весло.
Антропов повернулся к растерянно бегавшему по берегу досмотрщику:
— Нехай едет! Видать, она посмелее парней будет!
Гребцы взмахнули веслами. Лавируя между ледяными полями, дуб вылетел на чистую воду и понесся к середине реки, уклоняясь от наплывающих льдин.
Зубов подошел к берегу, вынул из воды оброненную Груней барашковую шапочку, отряхнул ее и пошел к своей моторке, испытывая чувство неловкости и смущения.
Рыбаки сгрудились у самой реки, не спуская глаз с дуба, на котором виднелась коренастая фигура Антропова, засыпающего укороченный невод. Десятка полтора самых отважных и опытных рыбаков, взяв багры, сели в каюки и, отплыв от берега, стали расталкивать баграми льдины, пытаясь расчистить обратный путь уже выплывающему на середину реки дубу. Почти все женщины из бригады Малявочки вереницей выстроились на берегу, готовясь подцепить лямки к бежному крылу [4] засыпаемого Антроповым невода и начать притонение.
Вместе со всеми стоявшими на берегу людьми Зубов с тревожно бьющимся сердцем следил за дубом. Спины дюжих гребцов заслоняли Груню. Василию хорошо был виден только один Антропов, и по движению его руки и головы Зубов понял, что бригадир что-то кричит гребцам, но из-за звона, стука и грохота льдов ничего не было слышно.
Вдруг вздыбившаяся глыба льда — с берега она показалась Василию небольшой, — сползая с ледяного поля, мимо которого проходил дуб, ударила его сверху по правому борту. Резко накренившись, дуб черпнул воды и сразу осел. Гребцы стали быстро вычерпывать воду, и она, разлетаясь по ветру, засверкала на солнце радужными брызгами.
— Черт! — вздохнул председатель. — Говорил я ему, что подождать нужно.
— Остановить их надо было, Кузьма Федорович, — жалобно проговорил досмотрщик Прохоров, — разве ж можно на такое дело людей посылать?
Вторая льдина ударила дуб по носу. Он подался назад и завертелся на месте, но, повинуясь гребцам, обошел проплывающую мимо льдину. Как ни старались рыбаки, вышедшие на каюках, облегчить дубу обратный путь, как ни отпихивали они баграми льдину за льдиной, дуб все больше затирало.
Уже неподалеку от берега две льдины толкнули дуб в корму. Раздался треск. Народ на берегу ахнул. Но стоявший на банке Антропов закричал что-то гребцам, и те, откидывая спины назад, заработали изо всех сил, вырывая судно из ледяной круговерти. Через минуту отяжелевший дуб, полный воды и мелких льдинок, ткнулся носом в прибрежный песок. Народ кинулся туда.
Василий тоже побежал к дубу. Он видел, как затянутые брезентовыми лямками женщины-рыбачки, гремя цепями, приняли бежной урез, как к ним подошли рыбаки, приплывшие на каюках, и начали притонение. Антропов уже успел пересесть с дуба на остроносый баркас с двумя новыми гребцами. Лежа на носу баркаса, бригадир ощупывал невод, перебирая голыми по локоть руками прыгающие на воде деревянные поплавки и подправляя сеть.
Протолкавшись вперед, Василий увидел Груню.
Девушка сидела на банке залитого водой дуба. С ее потемневших волос сбегали струйки воды. Платье намокло и прилипло к телу. Лицо Груни было бледно, руки дрожали. Возле нее суетился досмотрщик, уговаривая дочь идти домой.
При виде Василия бледное лицо девушки окрасилось румянцем. И он, глядя на ее чистый, покрытый капельками пота лоб, на маленькие, в ссадинах, руки и мокрые ноги в расстегнутых резиновых ботиках, вдруг проникся такой нежностью и жалостью к ней, что ему захотелось взять ее на руки и нести куда-нибудь к теплу, туда, где ей было бы хорошо, где она могла бы отогреться и прийти в себя.
— Вот… ваша шапочка, — сказал Василий Груне, — вы уронили ее… возьмите… И потом… вам надо сейчас же идти домой и переодеться.
Он помог ей сойти с дуба.
Почти все рыбаки и детишки уже кинулись к тому месту, где бригады Антропова и Малявочки заканчивали притонение. Туда же побежал и досмотрщик. Василий и Груня остались одни.
Он взял ее за руку и проговорил смущенно:
— Надо выжать воду из жакета. Давайте я помогу.
Груня позволила ему снять с себя мокрый жакет, но тут же отвернулась.
— Это вы Марфе помогайте… — обиженно пробормотала она. — А я как-нибудь сама обойдусь.
Осторожно выжав жакет, Василий накинул его на плечи девушки.
— Ладно, — сказал он. — Марфа Марфой, а из ботиков воду надо вылить. Обопритесь на меня и давайте ногу.
Он опустился на колени и почувствовал на спине ее руку.
— Я и сама вылью, — сказала она со слезами в голосе, — не нужна мне ваша доброта… она другим нужнее… вот и идите к другим.
Василий вылил воду из одного ботика, из другого, проведя ладонью по маленькой ноге, отжал воду из чулок и помог девушке надеть ботики.
— Ну вот и все, — грубовато сказал он. — Идите домой. А насчет доброты, Аграфена Ивановна, так это уж дело мое…,
Не простившись с Груней и не оглядываясь, Зубов пошел к месту притонения.
Несколько рыбаков, одетых в резиновые, наглухо застегнутые комбинезоны, стоя по пояс в воде, подтягивали к берегу тяжелую неводную мотню. В ней, разбрасывая брызги, билась большая и малая рыба — первый весенний улов. Вокруг невода теснились люди. Десятки человеческих рук хватали рыбу и, сортируя, раскидывали ее по круглым плетенкам. Парни и девушки-рыбачки, балагуря, уносили наполненные корзины к веренице телег и устанавливали рядами в тележных ящиках.
На берегу не умолкал разноголосый гул.
— Добрый улов! — покачивали головами старые рыбаки.
— Известно дело, добрый, рыба-то еще не пугана…
— Архип дело знает! Он завсегда первый невод сыпануть любит.
— Геройский рыбак, такого по всей реке не сыщешь!
А невдалеке, за баркасами, притиснув Мосолова к борту выброшенной на берег баржи, Архип Иванович Антропов вполголоса поучал председателя:
— Ты, Федорыч, хотя и танкист, а шляпа. Да-да, не обижайся! В рыбацком деле смелость нужна. И риска тут бояться нечего. Ежели лед раскололся и река пошла, тут, брат, нечего турусы разводить и народ расхолаживать. А будешь по бережку в калошах разгуливать да погоды ждать, самый добычливый улов упустишь…
Сбив шапку на затылок, Архип Иванович закричал:
— Разгрузили? Давай второй невод на засыпку! Нечего время терять!
3
Через неделю на реке не осталось ни одной льдинки, В рыбколхозе шел круглосуточный лов. Все бригады не сходили с дубов, баркасов и каюков: люди, сколотив из досок незатейливые балаганы, ночевали прямо на тонях, чтобы не тратить времени на возвращение в станицу и на утренние сборы к промыслу.
Казалось, вся станица переселилась на реку. Дома оставались только древние старики и маленькие дети. Каждый, кто мог помочь на промысле — мужчины, женщины, подростки, — после ледохода жил на реке. Днем и ночью на левобережье, где были расположены основные голубовские тони, горели костры. Невода и сети не успевали просыхать, как их снова укладывали на дубы и начинали засыпку.
Кузьма Федорович Мосолов торопился с добычей рыбы и торопил рыбаков. Скоро на реке вступал в силу длительный весенний запрет, и председатель хотел выполнить до запрета хотя бы третью часть плана.
Из района и из области шли телеграммы с запросами об улове рыбы, требования о представлении ежедневных сводок, напоминания и приказы. Кузьма Федорович с помощью бухгалтера наскоро отвечал на все эти запросы и снова бежал на тоню, проверяя каждый невод и отмечая в потертой книжечке цифры вылова по каждой бригаде. Пока все три бригады ловили с одинаковым успехом, и трудно было сказать, какая из них окажется первой.
Голубовский рыбколхоз соревновался с соседним рыбколхозом, расположенным на хуторе Судачьем, в шести километрах за излучиной реки. На совместном заседании правлений обоих колхозов был придуман остроумный способ взаимной информации: на самых высоких придонских холмах рыбаки-колхозники установили две высоченные мачты — одну на участку голубовского, другую на участке судачинского колхоза. Если рыболовецкие бригады к вечеру выполняли дневной план добычи, на мачте взвивался красный флаг, чтобы предупредить соседа: «У нас выполнено». Если план перевыполнялся, поднимали два флага, а если дневное задание оставалось невыполненным, на мачте не поднимался ни один флаг.
С первых же весенних притонений на обеих мачтах каждый вечер алели победные флаги, и еще никто не мог предсказать, кому доведется получить знамя — голубовцам или судачинцам.
Тяжело нагруженные рыбой баркасы с утра до ночи сновали от левобережья к станичным причалам, где целая толпа говорливых девушек из транспортной бригады перегружала снулую рыбу в корзины, а возчики увозили ее в рыбцех.
— Скоро вы, кажется, весь свой двор завалите рыбой, — сказал Зубов Головневу, наблюдая за выгрузкой и засолом рыбы в цехе.
Головнев вытер рукавом потное лицо.
— Я, Василь Кириллыч, со дня на день жду подхода заводских катеров, — объяснил он. — Катера у нас оборудованы по последнему слову техники: на них и холодильники есть, и передвижные краны, и рыбососы, и всякие механические прессы. После подхода катеров мне легче дышать будет: они почти всю рыбу прямо с баркасов грузят в трюмы и увозят на завод…
После осмотра рыбы в цехе Василий бежал к лодке, возле которой возился недавно принятый на службу моторист Яша, худощавый паренек-инвалид с черной лентой, закрывающей левый, выбитый осколком мины глаз.
— Ну, Яша, как дела? — спрашивал Василий, любуясь ловкими руками моториста.
— Все в порядке, Василь Кириллыч, — рапортовал моторист, — детали все смазал, мотор проверил. Не лодка будет, а зверь.
— Вот и хорошо. Надо готовиться к выезду…
Вечером Зубов решил поговорить со своим помощником. После разговора с Груней на берегу он чувствовал себя немного виноватым перед ней, ему очень хотелось увидеть ее и извиниться за свою резкость. Он пошел к Прохорову, но Груни дома не оказалось. Иван Никанорович, сидя у окна и разложив на подоконнике инструменты, затачивал большие сомовьи крючки.
Скинув шапку, Василий присел на табурете, осмотрелся и задержал взгляд на стоявшем в углу карабине. Он взял карабин, щелкнул затвором, заглянул в ствол.
— Грязноватое у вас ружье, Никанорыч, — нахмурился Зубов, — ржавчина кругом, пылищи набилось во все пазы. За такое оружие у нас в полку старшина спуску не давал.
— Я почищу, Василь Кириллыч, — сказал Прохоров, — а только оно мне ни к чему: я все одно ни разу с него не стрелял.
— Что, мирно жили с браконьерами? — усмехнулся Василий, ставя карабин на место.
Досмотрщик, не поворачиваясь к нему, наклонился ниже к подоконнику.
— Мое дело было маленькое, Василь Кириллыч, — виновато пробормотал он, — мне что начальство приказывало, то я и выполнял. Мы людей не трогали, и люди на нас не обижались.
Поднявшись с табурета, Зубов прошелся по комнате, искоса взглянул на убранную белым покрывалом узкую кроватку в углу и заговорил, глядя в спину досмотрщика:
— Людям, конечно, было неплохо, и добрые друзья да родственники инспектора хорошо жили, а государство страдало, потому что его обворовывали браконьеры, причем обворовывали совершенно безнаказанно, хищнически уничтожая множество рыбы. Так я говорю или нет?
— Оно, может, и так, а только…
— Подождите, Иван Никанорович. Вы знаете, что у нас на участке добыча рыбы снизилась в несколько раз? Знаете? А ведь мы с вами ответственны за это в первую очередь, и с нас народ спросит прежде всего…
Он молча походил по комнате, достал из полевой сумки сборничек законов по рыбоохране, полистал его и протянул досмотрщику:
— Прочитайте эту книжечку, Иван Никанорович, и учтите, что советские законы пишутся для того, чтобы их выполнять…
— А как же! — смутился Иван Никанорович. — Разве я против законов? Я не против…
Зубов присел на табурет. Осторожно подбирая слова, он сказал тихо:
— Вот что, Иван Никанорович. Мне не хотелось говорить вам об этом, но все-таки скажу. Некоторые товарищи, очень уважаемые, настаивают на освобождении вас от работы. Слабый, говорят, человек. Да, да… Я поручился за то, что вы будете хорошо работать. Не подводите же меня, поймите, что вы можете принести и мне и себе большой вред… Понимаете, я ведь тут новый человек, могу ошибиться, сделать не то, что надо. Кто же мне должен помогать, как не вы?
Растерянно перелистывая книжку, Прохоров с виноватым видом взглянул на Зубова:
— Люди правду говорят, Василий Кириллович, — морща лоб, сказал он, — какой-то я негромкий человек… дюже смирный, без голоса… И не то что боюсь… нет… Мне как-то совестно доказывать людям, что этого, мол, делать нельзя. Ну, раз скажешь, два, а он одно знает — просит: дозволь, дескать, половить маленько… Дозволишь ему черпаком ласкирей половить, а он, глядишь, накидную сеть приспосабливает…
— Вот видите, — перебил Зубов, — этого делать нельзя. Разрешено ловить удочками и сачками — пусть ловят, а так мы живо всю рыбу разбазарим.
Прохоров закивал головой:
— Правда, Василий Кириллыч, истинная правда.
У него дрогнули губы:
— А должности прошу меня не лишать… Куда же мне тогда податься? И здоровье мое плохое, и года уже немалые…
Иван Никанорович не договорил. В комнату, стукнув дверью, вошла Груня.
Должно быть, услышав слова отца, она остановилась у порога, откинула на плечи белый шарфик и сказала укоризненно:
— Что вы все плачете, батя?
Исподлобья взглянув на поднявшегося с табурета Зубова, Груня поздоровалась издали, подошла к отцу и, пряча ласку, тронула его за рукав:
— Вам давно пора уходить из надзора… Ничего у вас не получается… Нет, правда, — повернулась она к Василию, — вы бы освободили отца, ему уже трудно работать на реке.
— Иван Никанорович только что просил о другом, — возразил Зубов.
Девушка сердито пожала плечом:
— Напрасно просил…
«Искренне говорит или притворяется?» — подумал Зубов, наблюдая за Груней.
— Почему же напрасно? Он давно работает, привык.
— Вот именно: привык. И люди к нему привыкли. Свой человек, говорят, значит, можно ловить рыбу сколько хочешь.
Иван Никанорович удивленно поднял брови:
— Кто ж это так говорит?
— Все говорят…
Теребя конец шарфика, Груня прошлась по комнате и стала перекладывать лежавшие на столике книги.
— Мы, собственно, уже закончили разговор с вашим отцом, — сказал Зубов. — Он останется на прежней работе.
Зубову не хотелось уходить, но, взяв шапку, он простился с Иваном Никаноровичем и подошел к Груне:
— До свиданья.
Ресницы девушки дрогнули:
— До свиданья…
И как Груня ни прятала глаза, Зубов сразу понял, что она просит его остаться. Но теперь, когда он уже собрался, а она ничего не сказала, оставаться было неловко, и он быстро попрощался и ушел.
…В то самое время, когда Василий Зубов беседовал с Прохоровым, в домике старого паромщика Авдея Талалаева собрались станичники: дружок Егора Талалаева продавец сельпо Трифон Сазонов и плотник со шлюза глухонемой Тит Чакушин, здоровенный добродушный детина лет сорока.
Когда гости подвыпили, разговор перекинулся на то, что больше всего волновало собравшихся, — на рыбу. Чистенький, розовый паромщик, сияя седой бородой и гладкой лысиной, посматривал на веселого сына, на продавца Тришку Сазонова, посмеивался и покачивал головой. Глухонемой Тит, сидя в конце стола, глушил стакан за стаканом и мрачно сопел.
— Эхе-хе! — незлобно вздохнул дед Авдей, подталкивая локтем сына. — Гляжу я на тебя, Егорка, и думаю: до чего же молодежь у нас жидкая пошла, уж такая тебе хлипкая, ни до чего не способная молодежь. Мы, бывало, каждую весну, как только лед сойдет, так цельные ночи на реке пропадали. Рыбы до дому приволакивали несчетное число. А потом, конешное дело, продавали рыбку, сапожки хромовые со скрипом себе покупали, сюртуки суконные справляли, девок щиколатом да пряниками задаривали. Весело жили.
Он поднял дрожащей рукой стакан с вином, выпил, вытер уголком скатерти усы и укоризненно поглядел на смуглого, развалившегося на лавке Егора.
— Время было другое, — лениво возразил Егор. — Теперь рыбка стала священной социалистической собственностью и трогать ее запрещается. Удочкой там или леской — пожалуйста, а насчет накидной сети, или же перемета, или крючьев всяких — это забывайте, батя. Не то время.
Рыжий Трифон, позванивая стаканами, протянул задумчиво:
— Оно, конечно, не мешало бы пару центнеров рыбки под шлюзом прихватить. Я уже давно думку имею на баян грошей собрать. А тут одна ночка удачного рыбальства — и считай, что баян у тебя в кармане.
— Пара центнеров — ерунда, — помрачнел Егор, — это детишкам на молочишко. Ежели пачкаться, так уж за стоящее дело…
Он обнял дружка за талию, вывел из-за стола, прижал к висевшим в углу тулупам и заговорил, дыша острым винным перегаром:
— Мне денег до черта надо… Душа у меня не спокойна. Краля одна приглянулась мне, Трифон… Молчаком хожу, никому слова не говорю, а сам сохну по ней, проклятой, ни дома, ни на работе радости не вижу.
— Это какая ж краля? — полюбопытствовал Трифон.
— Грунька Прохорова, досмотрщика нашего дочка, — угрюмо сообщил Егор, — знаешь?
— Как же, знаю, — осклабился Трифон, — не раз видал, как она по озерам шалается…
— Пробовал я раз или два говорить с ней, — продолжал Егор, — и слушать не хочет. А сама живет как горох при дороге: батька никудышний, хата чужая, на собачью конуру похожа… И загвоздилось мне в думку гордость ее прошибить. Были бы у меня деньжата, я бы с ней по-другому поговорил.
— Это ты загнул, Егор, — попробовал урезонить его друг. — Груня твоя — комсомолка, она на такой крючок не клюнет…
— Брось, — отмахнулся Егор, — ни черта ты не понимаешь. А я тебе только одно скажу, Тришка: все равно эта девка моей будет. Я ее не одним, так другим возьму.
Он помолчал, оглянулся на сидевших у стола людей и схватил Трифона за лацкан модного пиджака:
— На завтра готовься, Тришка. Кинем под шлюзом. Тарань здорово идет, и рыбец есть.
— А инспектор?
— Да хрен с ним! Нехай попробует нарваться!
И они шепотом договорились о том, что в ночь под воскресенье выедут рыбалить у лежащих плашмя ферм шлюза. Трифон, как они условились, должен был загодя спрятать в лесу Церковного рынка накидную сеть и черпак, а Егор обещал подогнать к полосатому шлюзному столбу крепкий отцовский каюк и захоронить в кустах пару лучших весел.
— Ты, Егор, поговори на пальцах с Титком, — сказал рыжий, — нехай он в субботу вечером прибегит на Церковный рынок да добрых мешков с собой прихватит. А то мы вдвоем не уволокем рыбу. Без помощи Титка нам не обойтись, он хоть черта утащит.
— Ладно, Триша, поговорю…
От паромщика разошлись еще засветло, и Трифон решил забежать в магазин.
У прилавка он натолкнулся на Зубова. Тот отбирал латунные патроны для охотничьего ружья. Пока продавщица увязывала ему кулек с патронами, Трифон решил поговорить с Зубовым, чтобы узнать, где он будет проводить субботний вечер.
— Ну как, товарищ инспектор, обжились уже у нас? — заходя за прилавок и любезно улыбаясь, спросил Трифон.
— Привыкаю помаленьку, — отозвался Василий.
— Вы ведь, кажется, холостой, — продолжал допытываться продавец, потряхивая пышной шевелюрой, — а чего-то вас среди молодежи не видать…
— Почему? Я бываю в клубе, а больше куда пойдешь? — усмехнулся Василий.
— Клуб, конечно, клубом, да ведь там не разгуляешься. У нас тут молоденькие учительницы есть, можно за ними поухаживать. Было бы желание. А так жить бирюком — это пропасть можно от скуки. Я, к примеру сказать, каждую субботу у знакомых девушек время провожу.
Тихон хитро прищурился и посмотрел на Зубова:
— А вы, должно быть, по субботам дома сидите?
Василию стала надоедать назойливость рыжего продавца, и он ответил сухо:
— Как придется. Я живу не по расписанию.
Взяв кулек с патронами, Василий вышел из магазина и направился к дому.
Уже заходило солнце, но в воздухе все еще чувствовалось свежее тепло весеннего дня. У калиток стояли женщины. Они провожали Зубова любопытными взглядами.
За Барсовкой, на острове, стаями носились грачи. Отовсюду веяло запахом весны: и от влажной земли, и от набухающих почек деревьев, и от невидимой за садами реки.
4
На другой день в станицу прибыл заводской катер. Подойдя к правобережному причалу, он принимал с баркасов свежую рыбу, только что подвезенную с Таловой тони.
Зубов, в сбитой на затылке шапке, в наброшенном на плечи кожушке, подошел к катеру, поздоровался с сидевшими на палубе Мосоловым и Головневым, кивнул незнакомому капитану в черном бушлате и, обойдя катер, взглянул на выгружаемую из баркаса рыбу. Рыбы было много: в четырех баркасах трепыхались рыбцы, язи, жерехи, тарань. Василий подошел ближе, и ему показалось, что в массе рыбы попадается очень много недомерков. Он понаблюдал за погрузкой рыбы еще две-три минуты, потом круто повернулся и подошел к капитану, беседовавшему с председателем колхоза и начальником рыбцеха.
Вежливо притронувшись рукой к шапке, Зубов сказал капитану:
— Прекратите, пожалуйста, погрузку.
— Почему? — спросил пожилой капитан. — Кто вы такой будете?
— Я участковый инспектор рыболовного надзора, и мне необходимо взять пробы, чтобы определить прилов молоди.
Мосолов и Головнев удивленно посмотрели на Василия, а капитан, кашлянув, проговорил внушительно:
— Вы извините, товарищ инспектор, я в рыболовецком флоте человек новый, погрузку мне задерживать нельзя, и я понятия не имею, что такое «прилов».
— Прилов, товарищ капитан, — это часть общего улова, состоящая из рыбы ниже установленных промысловых размеров, то есть из незрелой, молодой рыбы, — спокойно объяснил Василий, — и по закону прилов частиковой рыбы в каждом притонении не должен превышать восьми процентов…
— Ну, а ежели она, эта ваша молодь, лезет в невод больше, чем ей полагается по инструкции, — ухмыльнулся капитан, — что же тогда? Приказывать ей занимать места согласно купленным билетам?
Василий посмотрел на хранивших молчание Головнева и Мосолова и твердо сказал:
— Как только невод подтянут к берегу, рыбаки обязаны выпустить молодь обратно в воду в живом и неповрежденном виде. За соблюдением этого правила должен следить не только я, инспектор рыболовного надзора, но и каждый рыбак. Прошу вас прекратить погрузку и предоставить мне возможность взять пробы…
Пожав плечами, капитан приложил к губам свисток, посвистал, потом передал команду в машинное отделение. Погрузочные механизмы затихли. Матросы в накинутых на головы брезентовых капюшонах присели, недоуменно поглядывая на капитана.
Пока Василий с одним из матросов подсчитывал рыбу в трех взятых из разных баркасов пробах, Кузьма Федорович Мосолов недовольно говорил Головневу:
— Ну, Михаил Степаныч, кажись, этот мальчик начинает выпускать коготки. Ежели он будет такую линию гнуть, то нашему рыбколхозу не видать первенства, как своих ушей. Нехай бы лучше браконьеров ловил, чем к колхозу придирался. Как будто колхоз в карман себе рыбу кладет, а не сдает государству.
Головнев невозмутимо улыбнулся. Ему, как представителю завода, не было никакой нужды вмешиваться в то, что затеял Зубов. «У него свои отношения с рыбаками, — думал Михаил Степанович, — пусть они между собой и расхлебывают кашу, а мое дело — сторона».
Закончив проверку рыбы, Василий подошел к Мосолову и спросил:
— Какая бригада ловила, Кузьма Федорович?
— Кажись, вторая бригада, — хмуро ответил Мосолов, — это их баркасы.
— Тогда я попрошу вызвать с тони бригадира Талалаева.
— Зачем? — насупился председатель.
— В сданной Талалаевым рыбе одиннадцать процентов молоди, — глядя в блокнот, сказал Василий. — Я вынужден отобрать весь этот улов, сдать его рыбозаводу, помимо колхоза, а стоимость рыбы зачислить в доход государства. Конечно, из вашего плана эта рыба будет исключена, и включать ее на оплату рыбакам второй бригады запрещается…
— Видали? — повернулся Мосолов к начальнику рыбцеха. — Я вам говорил, что мы с такой практикой на последнем месте окажемся.
Головнев, почесывая подбородок, молчал, уставившись в чисто вымытый пол палубы.
— Так я попрошу, Кузьма Федорович, вызвать бригадира, — повторил Зубов.
Мосолов перегнулся через борт и закричал мальчишке-рыбаку, сидевшему в баркасе:
— Бери кайку и ступай на Таловую, нехай Пимен Гаврилович сию минуту едет сюда!
Он прошелся вдоль перил, посмотрел на Зубова, протянул ему кожаный портсигар и заговорил, стараясь смягчить свой осипший голос:
— Вы, конечно, правы, товарищ Зубов. Согласно законам правы. Но, насколько я понимаю, у каждого человека патриотизм должен быть. Без патриотизма ничего не сделаешь и с места не сдвинешься. А у вас патриотизма маловато, товарищ Зубов.
— При чем тут патриотизм? — вспыхнул Василий.
— А при том, товарищ Зубов, что каждому рыбаку хочется обязательство свое перед Советским государством выполнить и с чистой совестью рапортовать о своих производственных успехах. Это же не частный сектор, не лавочка какая-нибудь, а рыболовецкая артель, колхоз. И продукцию он опять же таки для государства добывает, а не для дяди. Чего ж мы будем бюрократизмом заниматься и вставлять рыбакам палки в колеса?
Кузьма Федорович подошел к Зубову, положил ему руку на плечо и сказал, просительно усмехаясь:
— Может, простим на первый раз, товарищ инспектор? А?
— На первый раз? — волнуясь, переспросил Василий. — Нет, товарищ председатель, видно по всему, что у вас тут не первый раз такие вещи происходят. Вы говорите о бюрократизме, не понимая того, что этими словами вы защищаете самых настоящих хищников. Нет, Кузьма Федорович, я ни на какие сделки с совестью не пойду. Рыба будет конфискована, а бригадир второй бригады должен быть наказан. Вот мое решение…
К правому борту катера подошел каюк, и по трапу поднялся на палубу бригадир Пимен Талалаев. Его плащ, сапоги и откинутый на спину капюшон блестели от налипшей со всех сторон рыбьей чешуи, лицо было покрыто потом. Оставляя на светлом линолеуме лужицы стекающей с сапог воды, бригадир остановился возле Мосолова, исподлобья оглядел стоящих вокруг людей и спросил сердито:
— Звали, Кузьма Федорович?
Мосолов неопределенно махнул рукой:
— Инспектор звал, с ним говори.
Василий вынул из полевой сумки блокнот, присел на край скамьи и сказал, не глядя на бригадира:
— Придется акт подписать, товарищ Талалаев.
— Какой акт? — не понял бригадир.
— О незаконном прилове молоди. У вас оказалось одиннадцать процентов недомерков, которых вы обязаны были сразу же выпустить в воду. Вы этого не сделали и погубили около десяти тысяч штук молодой рыбы, еще не имеющей промысловой ценности. Поэтому весь ваш улов отбирается мною и на вас составляется акт. Понятно?
Лицо Талалаева побагровело. Он расстегнул плащ, посмотрел на Мосолова, на Головнева и прогудел растерянно:
— Это чего ж такое? Сколько ловили, никогда никакие акты не составлялись, а тут на тебе! Как же так, товарищ инспектор? Что я рыбакам своим скажу? Люди двое суток с воды не выходили, задание свое перевыполнили, улов государству сдают, а их заместо благодарности по голове стукают? Хорошенькое дело!
Он все больше повышал голос, его слушали Мосолов, Головнев, матросы с катера, девушки-засольщицы, рыбаки на пришвартованных к катеру баркасах, и Василий понял, что сейчас начался тот трудный поединок, который будет длиться до тех пор, пока он, Зубов, не добьется на своем участке самого строгого соблюдения правил рыболовства.
Подойдя к двери, Василий коротко бросил сидевшему на трапе матросу:
— Принесите корзину с пробами.
Тот сбегал вниз и, тяжело дыша, внес и поставил на палубе большую корзину, в которой лежала уже потускневшая снулая рыба самых малых размеров.
Зубов толкнул корзину носком сапога и спросил негромко:
— Это что такое, по-вашему?
— Известно что: рыба, — попятился Талалаев.
— Рыба? Какая рыба? Кому вы очки втираете? Вы что, первый год рыбу ловите? Не можете молодь отличить от взрослой рыбы?
— Зачем первый год? — обиделся Талалаев. — Я двенадцать лет бригадиром рыболовецкой бригады работаю, могу еще некоторых образованных поучить уму-разуму.
С трудом сдерживая гнев, Василий спросил:
— Вам известна инструкция о прилове молоди?
— Известна, — проворчал бригадир.
— Вы знаете, что ваша бригада нарушила эту инструкцию и довела прилов маломерной рыбы до одиннадцати процентов?
Талалаев хмыкнул в жесткие, нависшие над губой усы:
— Я, товарищ инспектор, не могу рулеточкой обмерять каждую рыбину да в блокнотик размеры ее записывать. Мое дело — выполнять государственное задание добычи рыбы, а кому нужно, нехай берет сантиметр да хвостики рыбам обмеривает от нечего делать.
Зубов побледнел, медленно подошел к Талалаеву и сказал раздельно:
— Вы что, серьезно это говорите или дурака валяете? В том и другом случае вы отстаиваете преступные по отношению к государству действия, и я обязан пресечь их, товарищ бригадир. Извольте подписать акт о конфискации улова. При моих пробах присутствовали два рыбака из вашей бригады, которые уже подписали акт.
Он протянул Талалаеву бумагу, и тот, посмотрев на председателя, послюнявил карандаш и поставил в нижнем углу бумаги свою подпись.
— Это еще не все, — сказал Зубов. — Предупреждаю вас в присутствии председателя колхоза: если еще хоть один раз будет замечен прилов молоди выше восьми процентов, я вообще не разрешу ловить рыбу на Таловой тоне, о чем сообщу в управление рыбоохраны, в Госрыбтрест и Рыбаксоюз. Понятно?
— Понятно, — проворчал Талалаев.
— Можете идти.
Повернувшись к Головневу, Василий сказал:
— Михаил Степанович, весь этот улов исключите из плана добычи колхоза, сдайте на завод по сниженной цене, а деньги отчислите в доход государства.
Когда бригадир ушел, Мосолов раздраженно чиркнул спичкой, закурил и сказал Василию:
— А вы все же не правы, товарищ Зубов. На первый раз можно было предупредить Талалаева. Ведь не для себя же человек старался, для колхоза. И потом, нельзя соблюдать только мертвую букву закона и колхоз подсекать.
— Знаете что, Кузьма Федорович, — нахмурился Василий, — колхоз должен работать честно, а его руководство не должно втирать очки государству и выполнять план за счет рыбной молоди.
Мосолов угрюмо посмотрел на него и толкнул локтем начальника рыбцеха, хранившего гробовое молчание:
— Как вам это нравится?
Головнев усмехнулся, но ничего не сказал. До поры до времени он решил соблюдать строжайший нейтралитет. Подняв за хвост маленькую снулую таранку, он покачал головой:
— Рыба действительно не очень… молодая рыбка… А погуляй она годика два, из нее полноценный продукт получился бы…
Михаил Степанович сдал капитану заводского катера улов Талалаева, вычеркнул из графы суточного плана всю эту рыбу и пошел домой.
Через час рыбаки с хутора Судачьего с удивлением увидели, что поднятый с утра на Голубовской мачте красный флаг вдруг куда-то исчез.
— Что там за чертовщина у голубовцев? — разводили руками судачинские рыбаки. — Вроде ведь висел флаг, значит, суточное задание было выполнено, а потом чего-то приключилось.
— Может, утоп баркас с добычей? — предположил кто-то.
— Надо бы послать верхового, пущай узнает, чего там стряслось…
Посланный судачинским рыбколхозом верховой по возвращении на тоню обескураженно сообщил, что новый инспектор рыболовного надзора отобрал у голубовцев весь улов второй бригады и составил на бригадира акт о незаконном прилове молоди.
— Гляди, какой завзятый! — качали головами рыбаки. — При старом инспекторе у них этого не бывало, мирно жили…
…Сойдя с катера, Василий Зубов уселся на бревно возле лодки, уже спущенной на воду.
День был теплый, солнечный. Река сияла так, что на нее больно было смотреть. Моторист Яша, развалившись на борту лодки, подремывал, жмуря свой единственный глаз. Василий молча курил. Осматривая левый и правый берег, он видел, как ловят рыбу станичные удильщики: ниже Церковного рынка, стоя на камне, удил старый учитель-пенсионер Тимофей Тимофеевич; неподалеку от него, на плоскодонном каюке, устроились трое мальчишек с лесками; на левом берегу ловили удочками старики из полеводческого колхоза; сидя на пароме, ставил лески чистенький благообразный дед Авдей.
Удочками и лесками ловить рыбу разрешалось, и никто из удильщиков не обращал внимания на сидящего у лодки инспектора. Только две женщины, стиравшие белье в реке, оглянулись на Василия и снова занялись своей работой.
Часов в двенадцать из станицы пришли Егор Талалаев и рыжий продавец сельпо Трифон. Они прошлись по берегу, посматривая на Зубова, постояли у парома, лузгая семечки и всем своим видом показывая, что им наплевать и на рыбу, и на реку, и на инспектора.
Пересмеиваясь и далеко заплевывая шелуху, они расположились на пароме, сели спиной к Василию и, пока дед Авдей крутился возле своих лесок, перебросились несколькими короткими, сказанными вполголоса фразами:
— Так от лодки и не отходит…
— Видать, стреляный воробей…
— У дядьки моего утром весь улов конфисковал…
На всякий случай рыжий Тришка с опаской спросил у Егора:
— А может, на сегодня отставим?
— Нет уж, — оборвал его Егор, — волков бояться — в лес не ходить.
5
С наступлением темноты Егор отправился в лес. Он пробирался окраинами, чтобы его никто не видел; раздевшись, перешел мелководную Барсовку, постоял на крутом берегу поросшего лесом острова и, углубившись в чащу, негромко засвистал. На его свист никто не отозвался. Он подождал немного и еще раз засвистал, но и на этот раз никто не ответил.
— Чего ж он, сволочуга, спужался, что ли? — сквозь зубы проговорил Егор.
Он решил подождать полчаса. Было тихо. Темные, еще не одетые листвой деревья еле слышно шелестели ветвями. Босые ноги Егора ощущали мягкие, прохладные стеблинки выбивающейся стрелками травы. Мимо него пролетела, цепляя ветки молодых тополей, похожая на серую тряпку лесная сова — неясыть. На небе мерцали звезды, над самой рекой сверкала тоненькая полоска народившегося месяца.
Егор вздохнул всей грудью, сплюнул сквозь зубы и хотел уже возвращаться домой, как вдруг услышал приглушенный свист Трифона.
— Ну, чего ты там шлепаешь? — негромко сказал он. — Самая пора кидать, а мы прогулки устроили…
— Да еле вырвался, не отпускали, — объяснил запыхавшийся Трифон, — там люди приехали из райпотребсоюза, требуют разные сведения, спрашивают по сто раз, тянут, как мертвого за нос…
— Ладно, пошли! — перебил Егор.
На всякий случай Трифон счел нужным еще раз спросить у своего дружка:
— Может, отложим на другой раз?
— Нет уж, — озлился Егор, — я не шуточки шутковать пришел. Пошли!
Они пересекли лес, нашли в вербовых зарослях спрятанную Трифоном накидную сеть, достали засыпанные сухими листьями весла и, осторожно шагая по опушке леса, добрались до стоявшего на приколе каюка.
Егор прислушался. Ни один звук не нарушал ночной тишины. На левом берегу реки, должно быть на Таловой тоне, горели два костра. Глухо плескалась вода, постукивая о борт качающегося каюка.
— Бери бабайки и греби прямо в Замануху! — скомандовал Егор.
Он отомкнул замок на каюке, бесшумно уложил якорную цепь, уселся на корме с правильным веслом и бросил:
— Давай!
Заманухой станичники называли укромный участок реки менаду островом и длинной каменной дамбой, рассекающей реку вдоль течения на две части. Эта вспомогательная дамба, расположенная перпендикулярно к плотине, ослабляла напор воды на плотину и предохраняла подводные сооружения шлюза от размыва. Участок реки, отгороженный длинной дамбой, голубовцы не случайно назвали Заманухой: сюда тысячами «заманывалась» идущая в верховья рыба: сельдь, лещ, судак, чехонь, жерех, язь и всякая мелочь. Конечно, Замануха была строго запретной зоной, но, поскольку фермы плотины еще не были подняты и часовые по дамбе не ходили, Егор опасался встречи только с инспектором и приготовился, как он говорил, бахвалясь, «дать Зубову по зубам»…
Каюк выбрался из тиховода и понесся вдоль дамбы в Замануху.
Егор, подвернув штаны, стоял на корме с накидной сетью в руках.
Накидная сеть, запретное орудие лова, требовала от рыбака исключительной сноровки и ловкости. Сложенная в лодке, она напоминала никчемную ветошь. Но как только опытный рыбак брал накидную в руки и, размахнувшись, кидал ее в воду с несущегося по быстрине каюка, накидная, распростертая в воде как парашютный купол и влекомая грузилами на дно, плотно накрывала рыбу на большом участке. Потом ее затягивали крепким шнуром, точно гигантский махорочный кисет, и, полную рыбы, вытаскивали на борт.
— Не бойсь, Тришка! Давай на самую круговерть! — приказал Егор.
Когда каюк врезался в белую пену подшлюзной быстрины, Егор, расставив босые ноги, откинул тело назад и сильным движением выбросил накидную. Через минуту он затянул шнур и, выбирая отяжелевшую сеть, крикнул, оскалив зубы, Трифону:
— Во! Не меньше трех пудов!
Покряхтывая от натуги, он перевалил накидную через борт и выбросил на дно каюка трепещущую в отсветах белой речной пены суматошную рыбу.
— Валяй, Тришка! Я тебе говорил, что к утру пудов пятнадцать возьмем, не меньше!
Трифон взмахнул веслами, направляя легкий каюк вновь против течения на быстринку, и Егор опять закинул просвиставшую в воздухе накидную. Они бороздили Замануху вдоль и поперек. Каюк, уже наполовину наполненный рыбой, осел глубоко в воду, и Трифону было все тяжелее и тяжелее грести, но Егор не унимался. Ничто вокруг не предвещало опасности, и друзья решили набрать полный каюк рыбы.
В это время Василий Зубов, сунув в карман пистолет, вышел из хаты на улицу и направился к берегу, где его должен был ждать моторист. Но Василию почему-то не захотелось идти к причалу, и он быстро пошел к домику досмотрщика. Там, видно, еще не спали: сквозь неплотно прикрытые ставни Василий увидел свет лампы.
Он постучал в раму окна.
— Кто там? — раздался недовольный голос Груни.
— Это Зубов, — ответил Василий. — Отец дома?
— Я сейчас, — торопливо ответила девушка, — одну минуту, только оденусь…
В ее голосе слышалась радость, и Василию опять, как тогда, на берегу, захотелось взять Груню на руки и нести куда-то…
— Ничего, Грунечка… — смущенно пробормотал он. — Вы не беспокойтесь… Если отец дома, пусть выйдет, он мне очень нужен.
Через минуту досмотрщик, покашливая, стукнул дверной щеколдой и показался на пороге. Он с тревогой посмотрел на Зубова:
— Я вас слушаю, Василь Кириллыч. Чего-нибудь случилось?
— Нет, ничего не случилось, Иван Никанорович. Возьмите, пожалуйста, весла, пойдем к вашей лодке и погуляем по реке, — сказал Зубов. — Я вначале хотел было ехать своей моторкой, но потом раздумал: шуму много. А лодочкой удобнее всего. Поэтому я вас и побеспокоил.
Они взяли весла, молча спустились к реке, уселись в каюк и оттолкнулись от берега.
— Куда грести, Василь Кириллыч? — спросил Прохоров.
— Посмотрим у левого берега, а потом покрутимся в Заманухе, — ответил Василий, поеживаясь от ночной прохлады. Он пожалел, что не взял полушубка: на реке было гораздо холоднее, чем в станице.
Каюк пересек реку. Нажимая на левое весло, досмотрщик описал полукруг у самой плотины. Там никого не было.
— Садитесь на корму, Иван Никанорович, а я буду грести, — сказал Зубов, — что-то вроде прохладно стало.
Они поменялись местами. Уступая течению, каюк бесшумно скользил вдоль дамбы, и Василий тихонько пошевеливал веслами, любуясь искрящимися в воде отсветами звезд, темнеющими на левом берегу деревьями Тополихи, огоньками костров на Таловой тоне. Чиркнув правым бортом по каменному выступу дамбы, каюк завернул в Замануху.
Досмотрщик привстал, приложил ладонь к глазам и сказал тревожно:
— Там ловят, Василь Кириллыч! Один каюк ходит…
Василий оглянулся. На светлом фоне кипящей вдали быстрины чуть заметной точкой чернела лодка. Она то поднималась вверх по течению, то опускалась вниз, то описывала небольшие круги, и Зубов понял, что кто-то ловит рыбу накидной сеткой.
— Давайте я сяду на весла, — предложил Прохоров.
— Садитесь, — отрывисто сказал Зубов, — подгребайте вверх и держитесь тени от дамбы. Подплывем к ним незаметно.
— Теперь уж им выхода из Заманухи нет, — вздохнул досмотрщик, — выход мы отрезали. Разве только они каюк с рыбой бросят, а сами в лес убегут…
— Поехали, Иван Никанорович…
Лодка скользнула в черную тень высокой дамбы и стала подвигаться вперед.
…Шел второй час ночи. Рыжий Трифон рук не чувствовал от усталости. Каюк уже был полон рыбы и погрузился в воду по самую кромку бортов, а жадный Егор все кидал и кидал сеть и каждый раз вываливал из нее новую партию тяжелых леща, сулы, рыбца. В каюке не осталось ни одного сухого места: везде трепыхалась рыба. Трифон сидел за веслами, подняв колени, потому что ноги его упирались в холодное месиво рыбы, а одеревеневшие руки скользили по заляпанным чешуей держакам весел.
— Еще разок кинем и поедем, — успокоил дружка Егор, — ты ж видишь, что за каждой накидкой тут сотня рублей стоит…
Вдруг Трифон сквозь шум воды уловил приближающееся поскрипывание уключин. Он поднял весла и махнул рукой Егору. Тот замер на корме с сетью в руках. Размеренное поскрипывание доносилось все более явственно.
— Кто-то плывет, — дрогнувшим голосом сказал Трифон.
— Погоди, не паникуй! — отмахнулся Егор, вслушиваясь. — У инспектора моторка, а это простой рыбацкий каюк. Бабайки по воде шлепают, не слышишь разве?
— Ежели бы это рыбаки плыли, то они уже кидали бы сеть, а эти молчаком плывут, — настаивал Трифон.
У Егора мелькнула мысль, что рыжий прав. Вдоль дамбы, конечно, пробиралась не обычная рыбацкая лодка. Надо было уходить. Но как уйдешь на загруженном каюке, если узкий выход из Заманухи уже отрезан? Бросить каюк с дорогой добычей и бежать в лес? Нет, на это идти нельзя.
Егор оттолкнул Трифона, сел за весла и погнал лодку к правому берегу, надеясь на то, что ему удастся незаметно ускользнуть из Заманухи и схоронить рыбу под паромом. Но как только каюк, развернувшись, понесся по течению, слева из темноты раздался резкий окрик:
— Стой!
«Так я тебе и стану!» — с тоскливой злобой подумал Егор. Открыв рот, хрипло дыша, он изо всей силы нажимал на весла и гнал каюк вниз, держась берега. Но лодка, идущая по фарватеру, быстро опередила Егора и стала пересекать ему путь, заходя снизу и приближаясь с каждой секундой…
— Стой, говорят! — снова раздался окрик, и Егор узнал голос Зубова.
— Зубов, сволочь, — мрачно бросил он Трифону, — все ж таки застукал!
Круто повернув от берега, Егор стал бешено грести по направлению к дамбе. Прыжки его каюка по взбаламученной воде напоминали бег загнанного волка, который уже не знает, где ему искать спасения, и каждый миг готов обернуться и вцепиться в глотку преследователя.
— В последний раз говорю: стой! — закричал Зубов.
Каюк Егора приближался к дамбе. Трифона, который лежал на корме, держась за скользкие борта, била лихорадочная дрожь, Он уже хорошо видел фигуру Зубова на летящем сзади каюке и понял, что затея Егора кончится плохо.
— Давай станем, — прохрипел он, — сейчас он, гад, стрелять будет!
Егор, оскалившись, метнул взгляд назад. Дамба чернела в десяти метрах.
— Все! — закричал он Трифону. — Топи каюк!
— Ты чего, очумел? — вскочил Трифон.
Но Егор уже навалился на борт, каюк зачерпнул воды и стал опускаться на дно. Оба парня кинулись в воду и быстро поплыли вниз по течению, направляясь к парому.
Когда Зубов и Прохоров подогнали свою лодку к тому месту, где затонул браконьерский каюк, они увидели только белеющую на поверхности воды пену от рыбьей слизи и уносимую течением снулую рыбу.
— Ушли, дьяволы! — сокрушенно развел руками досмотрщик. — Каюк утопили, а сами ушли. Теперь их не догонишь: они, должно быть, поплыли к парому. Пока мы доберемся туда, они убегут в станицу, а там ищи-свищи…
— Надо бы утром посмотреть затопленный каюк и узнать, чей он, — сказал Василий, — а по каюку узнаем и тех, кто тут был.
— Ни шиша мы так не узнаем, Василь Кириллыч, — махнул рукой Прохоров, — они могли ловить на чужом каюке. Завтра угонят мой каюк и зачнут кидать, поди узнай их!
Между тем Егор и Трифон выбрались на берег и, не отжимая мокрой одежды, побежали через сады домой.
— Заместо прибыли сапоги оставил в реке, — злобно пробормотал Егор.
Он послушал тихий шум воды на берегу, сплюнул и помахал в темноте кулаком:
— Ничего… Мы с ним еще встретимся!
6
После случая с конфискацией улова второй бригады и ночной истории в Заманухе Зубов решил, что ему обязательно надо поговорить с Архипом Ивановичем Антроповым. Они увиделись на колхозном дворе, и Василий узнал, что в среду вечером в рыбацком клубе состоится собрание членов рыболовецкой артели, на котором будет присутствовать первый секретарь райкома партии Назаров.
— Это такой человек, что он тебе настоящий совет подаст, — убежденно сказал Архип Иванович, — его тут каждый колхозник уважает, а он все районные дела и всех людей так знает, будто через зоркое стеклышко в душу глядит.
— Мне хотелось бы поговорить с ним и с рыбаками, — сказал Василий. — У вас тут Лихачев такую обстановку создал, что люди начинают на меня смотреть чертом и колоть мне глаза тем, что я мешаю им работать…
— Ну, это ты не загибай, друг милый, — усмехнулся в усы Архип Иванович. — Ежели два или три дурака мутят тебе воду, то при чем тут люди? Рыбаки у нас славные ребята, побеседуй с ними, и они с одного разу разберутся в делах. Да и Тихон Филиппыч сам любит во все вникать и помощь тебе окажет.
— Какой Тихон Филиппыч?
— Назаров, секретарь наш. А я до общего собрания соберу в правлении рыбаков-коммунистов и потолкую с ребятами, пущай мнение свое собранию доложат…
Василий два дня готовился к собранию. Сидя в своей комнатушке, он перечитывал журнал «Рыбное хозяйство», старые лекции и конспекты, вырезки из газет, инструкции и законы по рыбоохране и рыбоводству.
Перед вечером он вышел, чтобы пройтись по станице и освежить голову. С тоней уже съезжались созванные на собрание рыбаки. Они шли по улицам, неся в руках мешки с хворостом и дровами. Навстречу рыбакам с криком выбегали ребятишки. Топоча босыми ногами по непросохшей песчаной земле, дети вертелись возле взрослых, заглядывали в их корзины и всем своим видом выражали радость.
Возле большого, покрытого этернитом клуба на поваленных гранитных столбах судачили старые рыбаки: столетний дед Иона, возрастом которого гордилась вся станица и который еще сохранил ясный ум и память, дед Малявочка, бригадир транспортной бригады Ксенофонт Сидоров и два рыбака помоложе — они работали коптильщиками в рыбцехе.
Среди рыбаков, расстегнув потертую офицерскую шинель и кинув на колени защитную фуражку, сидел незнакомый Василию человек. Наклонив коротко остриженную голову и посмеиваясь, он слушал деда Иону. Фигура и выражение лица этого человека сразу привлекали внимание. Он был высок, несколько грузен и тяжеловат. Лицо его с отекшими веками и обветренными губами, над которыми пролегли глубокие складки усталости, оживлялось молодым блеском светлых, с умной хитринкой глаз.
Зубов присел на один из столбов и спросил соседа-коптильщика:
— Кто это?
Тот ответил вполголоса:
— Секретарь райкома.
Повернувшись к секретарю и постукивая вишневой палкой, дед Иона продолжал рассказ:
— Ну, значится, тягнут они сеть, кругом ничегошеньки не видно, а оно возьми и закричи: «Кря! Кря!..» Кинули наши рыбаки волокушку и давай бечь до балагана. Разбудили ватажного и гутарят: беда, мол, нечистого в сеть поймали!..
Рыбаки засмеялись. Секретарь райкома тоже засмеялся, обнажая ровные, крепкие зубы.
— Ну-ну, что ж дальше? — спросил он.
— …Пришли до речки, сбились на берегу и, значится, совет держат: как до этого нечистого духа приступиться и какое супротив него заклятие держать.
— А он? — усмехнулся Назаров.
— Кто?
— Дух.
— А дух никакой жизни не подает, — покрутил головой дед, — его не тревожат, и он не тревожит. Так до утра и просидели, а когда развиднелось, то вся оказия понятной стала: в волокушку забился нырок, лапочки и голову в ячею сеточную просунул и сидит. Как только зачнут сеть тянуть, он и кричит с перепугу. Вот вам и дух.
Вдоволь посмеявшись над рассказом деда Ионы, Назаров вместе с колхозниками отправился в клуб.
Собрание началось ровно в семь часов.
На сцене стоял накрытый красной скатертью стол, а сбоку обтянутая такой же красной материей кафедра. Слева и справа, прикрепленные к потолку, висели две большие керосиновые лампы.
Клуб был битком набит. Люди заполнили все скамьи, сидели на подоконниках, теснились в дверях, ребятишки уселись прямо на полу. Стоявший у окна Зубов заметил в третьем или четвертом ряду Груню Прохорову. Рядом с ней сидела молоденькая черноволосая девушка, а позади, развалясь на скамье, важно курил папиросу Егор Талалаев. Рыбаки и рыбачки, чисто одетые, с праздничными лицами и немного скованными торжественными движениями, входили в зал, искали глазами свободное место и шумно рассаживались, переговариваясь между собой.
На повестке дня стоял один вопрос: о выполнении плана весеннего лова. В президиум были избраны пять человек: секретарь райкома Назаров, председатель сельсовета Жигаев, председатель рыбколхоза Мосолов, бригадир Антропов и Марфа.
О плане докладывал Кузьма Федорович Мосолов. Он стал за кафедрой, разложил перед собой папку с бумагами, откашлялся и начал говорить, обстоятельно приводя цифры уловов, называя размеры и качество полученных от моторно-рыболовной станции неводов, сетей, волокуш, зачитывая длинные выдержки из инструкции Рыбаксоюза и управления моторно-рыболовных станций.
По докладу Мосолова выходило, что колхоз сможет выполнить план лова гораздо раньше срока и в последнем квартале будет ловить на перевыполнение, соревнуясь с судачинскими рыбаками.
Придерживая на черном платке раненую руку, внушительно сверкая орденами и медалями, Кузьма Федорович поглядывал то на колхозников, то на президиум, главным образом на секретаря райкома, и говорил степенно:
— Хотя общие запасы рыбы на нашем участке, по всем признакам, истощились и обеднели, мы надеемся и в этом году с честью выполнить наш долг перед народом и перед Родиной.
— А в тридцать шестом году сколько вы на своем участке поймали рыбы? — неожиданно спросил Назаров, хитровато посматривая на Мосолова.
— В тридцать шестом? — растерялся Мосолов. — Но это, Тихон Филиппыч, было давно, и я не был тогда председателем.
Антропов наклонился к секретарю и что-то сказал ему вполголоса.
Назаров помолчал, черкнул карандашом в записной книжке и кивнул председателю:
— Продолжай, Кузьма Федорович!
Тот покашлял, пошевелил лежащие на кафедре листки бумаги и закончил, повысив голос:
— Скоро на нашем участке вступает в силу весенний запрет на лов, и все наши рыбаки со своим флотом выезжают в низовья, где будут ловить рыбу в речных гирлах. Конечно, все уловы в гирлах будут зачисляться в план нашего рыбколхоза, и мы… гм… уверены, что наши рыболовецкие бригады… это самое… с честью выполнят и перевыполнят план добычи.
Кузьма Федорович подхватил здоровой рукой папку с бумагами, сел на свое место в президиуме и нервно закурил, придерживая в коленях спичечный коробок.
Маленький смуглый Жигаев — он председательствовал на собрании — спросил у рыбаков:
— Разговор какой будет по этому делу?
Некоторое время люди молчали, и председатель сельсовета вынужден был повторить свой вопрос. Потом, подняв руку, попросил слова бригадир Пимен Талалаев. Поскрипывая отличными яловыми сапогами, он прошел к кафедре, провел крепкой ладонью по вспотевшей лысине и обратил в зал красное одутловатое лицо.
— Сейчас дядя Пиша настукает Зубову, — сказал Егор Талалаев соседу сбоку, посматривая на Груню.
— Так вот, товарищи, — начал бригадир, — наши руководители призывают нас к тому, чтобы мы, значится, отдали все свои силы на выполнение плана.
Он передохнул, расстегнул ворот белой рубашки и, отыскав глазами Зубова, продолжал:
— Но у нас, товарищи, есть люди, которые, прямо надо сказать, мешают работать. Вот, к примеру, наш участковый инспектор рыболовного надзора. Он в субботу утром отобрал во второй бригаде весь суточный улов. А почему, спросите его? Потому, дескать, что бригада допустила дюже высокий прилов молоди. Правильно товарищ Зубов поступил или неправильно? Нет, неправильно, потому что план добычи — это не игрушка. Рыбаки сутки не спали, по пояс в воде бродили, силы последние клали на то, чтобы, как сказал тут товарищ докладчик, дать трудящимся рыбы, а инспектор в это время вредительством занимается…
— Инспектор правильно поступил! — раздался звонкий голос с задних рядов.
— Кто там реплику подает? — спросил Жигаев, постукивая карандашом по столу.
Со скамьи поднялся Степан Худяков, одетый в свой неизменный бушлат и матросскую тельняшку.
— Я реплику подаю, ловец из этой же бригады, который ночь не спал и по пояс в воде бродил. Степан Худяков моя фамилия. Мы еще с вечера говорили бригадиру, что молодь надо в реку выпустить, а он приказал выбирать улов из мотни в баркас и сказал ловцам, что в городе, мол, все поедят и незачем тут, дескать, сортировкой заниматься.
По залу пробежал смешок. Пимен Талалаев растерянно посмотрел на секретаря райкома. Тот сидел, откинувшись на спинку стула, и по выражению его лица нельзя было понять: одобряет он реплику ловца Худякова или не одобряет. Он только щелкнул портсигаром, достал папиросу и, вертя ее в руках, спросил через весь зал:
— Вы один так думаете, товарищ Худяков?
— Так думает почти что вся бригада, Тихон Филиппович, — ответил ловец.
Бригадир Талалаев насупился и постучал ребром ладони по кафедре.
— Мое дело маленькое, — сказал он, надувая щеки, — я против инспектора ничего не имею. А только надо соблюдать интересы рыбаков и про план добычи думать, иначе мы его сорвем и соревнование проиграем…
После бригадира один за другим выступили три ловца его бригады. Они заявили, что рыба была инспектором отобрана правильно, по закону, хотя, конечно, для рыбаков это неприятно и даже обидно.
— Только тут винить надо самих себя, — закончил третий ловец, — потому что на обмане далеко не уедешь, а мы, выходит, обманывали и государство и себя.
— Может быть, инспектор рыболовного надзора хочет выступить? — спросил Назаров, глядя на стоящего у окна Зубова.
Василий смутился. То, что секретарь обратился прямо к нему, означало, что Тихон Филиппович уже знает его, и он был удивлен: от кого Назаров мог слышать о нем?
Забыв о своих выписках и конспектах, Зубов пошел к кафедре.
Перед ним сидели и стояли шестьсот мужчин и женщин — почти вся плавучая станица, люди, чья жизнь от рождения до смерти была связана с большой рекой. Не один из их отцов и дедов утонул в этой самой реке и был унесен водой в неглубокое серое море. Не один старый рыбак плавучей станицы, промышляя в свое время ночным крутийством в заповедных гирлах и ериках, был застрелен вездесущей «пихрой», извечным врагом отважных крутийских ватаг. Много рыбацкой крови выпила река, и рассказы об этой унесенной половодьем дедовской и отцовской крови переходили от поколения к поколению в живущих рыбацких семьях.
Прошло много лет…
Как и все земли, моря и реки новой страны, свободной стала большая тиховодная река. Исчезли на ней злобные пихрецы, ненасытные перекупщики-прасолы, обиравшие рыбаков до последней рыбешки. Разрозненные рыбацкие ватаги объединились в товарищеские артели, государство оснастило их техникой, дало самые совершенные орудия лова и сказало: «Ведите свое рыбное хозяйство на благо свободного народа, добывайте из глубей речных все больше и больше рыбы, чтобы с каждым годом все лучше жили советские люди».
Василий посмотрел в зал, увидел обращенные к нему молодые и старые лица и начал, волнуясь:
— Мне очень неприятно, товарищи, говорить о том, что я вынужден был отобрать улов второй бригады. Иначе я поступить не мог. Государство возложило на меня почетную и трудную обязанность: охранять рыбные запасы реки, запасы, хозяином которых является советский народ. У нас в стране все трудящиеся рыбаки давно уже объединились в рыболовецкие колхозы. Они-то и призваны вести рыбное хозяйство.
Он помолчал и, встретив одобряющий взгляд Груни, продолжал более уверенно:
— Нам с вами надо не просто ловить рыбу и не только ловить рыбу, но надо вести рыбное хозяйство, управлять им, совершенствовать его, повышать урожайность рыбы… Да, да! Ежегодно повышать урожайность рыбы и обеспечивать самые высокие уловы. Это можно сделать только в том случае, если мы будем твердо соблюдать правила рыболовства, будем по-настоящему спасать миллионы мальков и займемся активным рыборазведением. Закинуть невод и вытащить рыбу легче всего. Так хозяйничали на реке наши деды, но мы не можем так хозяйничать, потому что мы с вами уже другие люди… советские люди… Мы должны научиться сеять рыбу, выращивать ее и ловить столько, сколько нам нужно.
Оставив кафедру, Зубов шагнул вперед и сказал, сунув руки в карманы:
— Я вот хочу рассказать вам, как хозяйничают американцы. Полсотни лет тому назад в океанских береговых водах Америки во множестве водилась ценная рыба палтус. Пока эту рыбу ловили индейцы, ее было сколько угодно. Потом американские колонизаторы погнали индейцев на самые неплодородные земли, отобрали у них побережье и провели туда железную дорогу. И как только появилась удобная дорога, все океанское побережье усыпали шхуны рыбопромышленников. Они накинулись на этого несчастного палтуса, как волки: построили на океане рыболовные порты Ванкувер и Сиэттль и стали миллиардами доставлять туда выловленную рыбу. Они хватали палтуса днем, ночью, весной, летом, не соблюдая ни правил, ни ограничений, хватали чем попало и как попало. Через тридцать лет у берегов Северной Америки почти весь палтус исчез. Вот вам и результат…
— Здорово! — раздался чей-то голос.
— У нас, в Советской стране, — продолжал Василий, — с ее рыболовецкой колхозной системой такого ведения рыбного хозяйства нет и быть не может. Но, товарищи… — Он вынул из кармана листок бумаги, стал ближе к лампе и проговорил, глядя в зал: — Мы иногда все-таки забываем о том, что написано в примерном уставе рыбацкой артели. А там в шестой статье прямо сказано следующее: «Артель обязуется строго соблюдать установленные правила рыболовства, содействовать государственным органам в деле охраны водоемов и бороться с обловом рыбоохранных запретных зон, с выловом молоди и маломерной рыбы, с применением запрещенных орудий и способов лова и с нарушением установленных запретных сроков лова». Кроме того, артель обязуется «заниматься рыборазведением в естественных водоемах и прудах, а также проводить работу по спасению молоди, по мелиорации мест нереста и нагула молоди в естественных водоемах».
Положив в карман бумагу, Зубов спросил у сидящих в зале рыбаков:
— Вы принимали, товарищи, этот устав?
Из темноты зала ответили десятки голосов:
— Известное дело, принимали!
— На общем собрании обсуждали!
— Принимали, принимали, как же!
И Василий, забыв о том, что им приготовлен целый доклад, с цифрами и цитатами, вдруг сказал так, будто разговаривал с отцом или матерью, когда, бывало, в детстве нуждался в их помощи и поддержке:
— Мне очень трудно. И я прошу вас помочь мне выбрать из числа рыбаков общественный рыболовный надзор. Правительство давно уже утвердило инструкцию по организации и деятельности такого надзора. Он существует во всех лучших рыбколхозах. Ведь мы все должны по-хозяйски смотреть за рыбой, и это наше общее дело.
— Правильно! — раздались голоса. — Надо выбрать общественный надзор.
Секретарь райкома партии Тихон Филиппович Назаров выступал в самом конце. Он терпеливо и внимательно слушал рыбаков, задавал вопросы, бегло отмечал что-то красным карандашом в записной книжке, потом, когда прения подошли к концу, попросил слова. Назаров говорил не очень гладко, он не отличался ни красноречием, ни любовью к громким словам; видно было, что он не просто говорит, а думает вслух, ясно видит то, о чем думает, и старается сказать об этом так, чтобы все увидели то, что видно ему самому.
— Недавно наше правительство опубликовало постановление о полезащитных лесополосах, — сказал Назаров. — Мы все его читали. Так? И все мы понимаем, что это значит. Это означает полное преобразование природы, выполненное умной рукой советского человека. Наш человек становится истинным хозяином природы, ее творцом. Так? Творцом становится наш человек. Он уже не раб природы, не убийца ее, не транжир и мот, не хищник, не иждивенец, а творец. Тво-рец! А это и есть одно из самых важных условий построения коммунизма…
Видно было, что Назаров волновался, Его смуглые обветренные щеки покрылись румянцем. Сунув руки за широкий, туго стягивающий синюю гимнастерку ремень, он прошелся по сцене, напряженно всматриваясь в затемненный зал.
— Коммунизм разовьет все силы и способности человека, поднимет его ум до самых вершин, — сказал он тихо, — и это произойдет тем скорее, чем больше мы будем работать для завтрашнего дня и приближать его к себе.
Повернувшись к Мосолову, Назаров спросил, посмеиваясь:
— Как ты думаешь, Кузьма Федорович, рыбаки при коммунизме будут существовать? Будут. Так. Значит, и рыба нужна нам будет? Конечно, нужна так же, как хлеб, плоды, овощи, гуси, овцы — все, что потребляет человек. Только всего этого должно быть при коммунизме больше, гораздо больше, чем было и есть. Так?
И, уже глядя в зал, секретарь сказал:
— Движения народов к коммунизму никто не остановит. Никто. Сегодня мы читаем закон о полезащитных полосах и прудах, а завтра может быть издан закон о гигантских рыбхозах, в которых советские рыбаки будут выращивать миллиарды экземпляров белуги, осетра, рыбца, леща, сазана — всего, что нам нужно. Надо уже сегодня находить практические пути к этому! Так? Надо искать формы планирования рыбного хозяйства, методы выведения лучших сортов рыбы. Так? Надо не болтовней, а делом содействовать тому, чтобы наши уловы повышались… — Он сердито кашлянул и опять обратился к ерзавшему на стуле Мосолову: — В нынешнюю весну вы собираетесь поймать рыбы меньше, чем ловили раньше. Так? Так, я спрашиваю?
— Да, Тихон Филиппович, — пробормотал Мосолов. — Но план нам дается из области… И потом… рыбы в реке стало меньше.
— Меньше? — загремел Назаров. — А кто в этом виноват? Вы думаете, партия не найдет виновника? Найдет, где бы он ни находился: в районе, в области или в министерстве. Партия, товарищ Мосолов, сумеет дать по рукам тем рыбным делягам, которые не смотрят дальше своего носа. Понятно? Большевики вытащат за ушко да на солнышко тех самых очковтирателей и чинуш, которые не могут и не хотят вести рыбное хозяйство страны к коммунизму.
— К вам вот назначен новый инспектор, — заговорил секретарь тише. — Надо ему помочь. Он хорошо выступал. И улов второй бригады конфисковал правильно. У вас здоровый, крепкий колхоз. Смелее же ставьте свое хозяйство на новые рельсы. Смелее выдвигайте молодежь! До конца искореняйте вредные крутийские традиции хищнического лова. Думайте, товарищи, о завтрашнем дне, но не ждите его сложа руки, а честным трудом, заботой, благородной тревогой приближайте его, этот день…
Рыбаки, дымя махорочными скрутками, переглядываясь, одобрительно покачивая головами, слушали выступление Тихона Филипповича, открывавшее им глаза на многое, чего они, может быть, еще и не знали, но к чему уже тянулись всей душой.
Собрание закончилось далеко за полночь.
Когда Василий вместе с толпой рыбаков вышел на освещенное фонарем каменное крыльцо, он остановился и, пропуская оживленно переговаривающихся людей, стал отыскивать глазами Груню. Она уже стояла внизу, и около нее вертелся Егор Талалаев. Заметив Зубова, Груня сделала вид, что ей надо вернуться в клуб, побежала назад и, проходя мимо Василия, замедлила шаги.
— Добрый вечер, Грунечка! — весело сказал Зубов. — Вы домой?
— Домой, Василий Кириллович, — вспыхнула девушка.
— А я вас искал, — простодушно признался Василий.
По выражению его лица, радостного и возбужденного, она поняла, что он пойдет с ней, и он действительно пошел рядом с ней, осторожно придерживая ее за локоть.
В эту теплую, пахнущую дождем весеннюю ночь Зубову показалось, что идущая рядом с ним невысокая девушка в небрежно накинутом белом шарфике, та самая, которую он только что, сам не зная почему, нетерпеливо отыскивал в темноте, становится для него не такой, как все другие люди, и что ему хочется, чтобы она это поняла. Но он не знал, как сказать ей об этом. Радуясь и робея, он шел рядом с Груней и тихо говорил ей о чем-то постороннем, тоже хорошем и радостном, но совсем не о том, о чем думал.
Глава третья
1
Весна хозяйничала на реке. Все жарче становилось солнце. Распускались первые набухшие соками почки. Светлая зелень опушила ветви деревьев, на пойме зазеленели травы, белыми барашками нежного цветения покрылись надречные вербы. Унося все следы ледохода, сошла в море холодная «казачья» вода. В далеких верховьях реки, на северной стороне, за меловыми склонами Дивногорья, у великой Приволжской возвышенности, стекая бесчисленными ручьями с холмов, уже стала собираться прогретая солнцем талая «русская» вода. Медленным и неотвратимым паводком она стремилась вниз, к дельте, которая протянула к морю щупальца гирл, поросших кугою и камышом.
Уровень воды с каждым днем поднимался. Сначала исчезли в речных глубинах прибрежные косы и перекаты, потом утонули слоистые срезы более высоких берегов, оказались в воде цветущие белой кипенью вербы, а талая вода поднималась все выше и выше, бурлила под глинистыми ярами, размывая наносы и устремляясь во все стороны по ерикам. Наконец, выйдя из берегов, она понеслась веселым голубым разливом по бескрайним донским займищам, затопляя станицы, леса, поля, сады, виноградники — все, что попадалось на ее пути.
В эти дни голубовские рыбаки покидали станицу. На среднем участке реки вступал в силу строгий весенний запрет на рыбу. Начинался самый разгар рыбьего нереста, и все рыболовецкие артели переезжали в низовья.
Прощаясь с Василием, Марфа сказала ему, что она договорилась с Осиповной, своей старой теткой, и та пообещала через день приходить и варить обед Зубову и Витьке, который, несмотря на пылкое желание уехать в гирла, был оставлен в станице.
Уже одетая в парусиновую рыбацкую робу, неуклюжие сапоги, по-девичьи повязанная алой косынкой, Марфа стояла, опершись о косяк дверей, и, улыбаясь глазами, говорила Зубову:
— Вы же глядите, не скучайте, Вася. Тут остается много славных девчат. Что это вы — либо на моторке своей по реке гоняете, либо за книжками сидите. Разве ж так можно? — Она вздохнула и подала Зубову маленькую, с крепкой ладонью руку: — До свидания, Василь Кириллыч…
Василий поднялся, снял со спинки стула пояс и крикнул:
— Я сейчас догоню вас, Марфа Пантелеевна! Пойду проводить рыбаков.
Когда он вышел на улицу, Марфа была уже довольно далеко. Придерживая рукой корзинку с вещами, она шла легкой, молодой походкой, похожая в своей синей робе на девушку. Василий догнал ее, взял у нее корзинку и пошел рядом.
На берегу собралась вся станица.
Окаймленная молодой, еще неяркой прибрежной зеленью, розово-золотая от игравших на воде солнечных бликов, река, казалось, трепетала. И в этом едва заметном трепете было такое радостное выражение счастья жизни, что оно, словно теплый отсвет солнца, отражалось на лицах толпившихся на яру людей.
У затопленных причалов, выстроившись вереницей, стояли просмоленные рыбацкие дубы, на которых высились завязанные канатами невода, плетеные корзины, длинные шесты, ведра, ящики с инструментом — все, что могло понадобиться во время лова.
На каждом дубе виден был черный, покрытый копотью костров ермак — огромный чугунный котел, из которого не одно поколение голубовских крутьков со смаком хлебало наваристую рыбацкую шарбу [5].
Возле дубов покачивались взятые на буксир баркасы и каюки. Они тоже были забиты корзинками, ящиками, ворохами одежды, мешками с мукой и хлебом, разномастным рыбацким добром, необходимым во время путины.
Василий и Марфа пришли перед самой посадкой рыбаков на суда.
Вдоль всего берега стояли мужчины и женщины, суетились ребятишки. Даже столетний дед Иона вышел проводить на путину двух своих сыновей, шестерых внуков и четырех невесток. Всматриваясь в разношерстную, гудящую, как потревоженный пчелиный улей, толпу, Василий увидел Груню. Она стояла рядом с Егором Талалаевым и улыбалась, слушая его болтовню. Заметив, что Василий пришел вместе с Марфой и, осторожно ступая по сходням, отнес на дуб Марфину плетеную корзину, Груня слегка нахмурилась. Потом она повернулась к Зубову спиной, еще веселее заговорила с Егором и стала ходить в отдалении, искоса поглядывая на Василия.
Зубов всего этого не видел, но Марфа, как видно, заметила. Тронув Василия за локоть, она как бы невзначай сказала:
— Вася, вам нравится эта девочка?
— Которая? — рассеянно спросил Зубов.
— Рыбвод наш, Грунечка Прохорова, вот она ходит с племянником Пимен Гаврилыча… Видать, интересный у них разговор… Славная девочка, правда, Вася?
— Не знаю, Марфа Пантелеевна, я не думал об этом, — мрачно буркнул Зубов.
Мимо них, громко переговариваясь, прошли Мосолов, Архип Иванович, Пимен Талалаев и трое членов правления. Мосолов посмотрел на залитую солнцем реку с затопленными берегами, вынул часы и сказал озабоченно:
— Ну, братцы, по баркасам! Пора!
Началась суматоха. Наскоро прощаясь с остающимися женщинами, стариками и детьми, рыбаки один за другим стали подниматься по сходням на дубы. Вся женская бригада деда Малявочки разместилась на последнем дубе. Первая смена гребцов, здоровенных румяных парней, села за весла. Стоявший на берегу Мосолов простился с бригадирами и махнул здоровой рукой:
— Добрый час! Счастливой путины!
Архип Иванович Антропов — он ехал в гирла за старшего — закричал:
— Поехали!
Гребцы взмахнули веслами. Колыхаясь на высокой воде, поскрипывая деревянными кочетками, дубы плавно двинулись вниз по реке. Василий, стоя на обрыве и держась за плетень, еще долго видел, как над последним дубом взлетала алая Марфина косынка.
Станичники стали расходиться по домам. Берег опустел.
Зубов вдруг почувствовал щемящую тоску одиночества. Он присел на обрыве и закурил.
Над водой, описывая круги, парила скопа. Раскинув могучие крылья и напружинив сильные, готовые к удару когтистые лапы, она кружилась над серединой реки. Вперив в речную глубь острый взгляд светлых, с желтизной, злобных глаз, птица примечала даже самое малое движение в реке. Сверкая белоснежным оперением подгрудка и наклонив хищную с бурым чубатым загривком голову, скопа несколько раз пересекла реку и вдруг замерла в одной точке, потом, сложив крылья, камнем ринулась вниз. Короткий удар, всплеск воды — и вот уже птица, тяжело махая пестрыми крыльями, понесла над разливом трепещущую в ее железных лапах чехонь.
— Вот это браконьер! — невольно улыбнулся Зубов. — Прямо как пикирующий бомбардировщик!
Он не заметил, как сзади, из виноградных садов, к нему подошли Груня и Егор Талалаев. Егору не очень хотелось встречаться, да к тому же еще и знакомиться с Зубовым, но, уступая Груне, он пошел с ней, важно заложив руку за борт франтовского суконного пиджака. Груня, в наброшенном на плечи жакетике и мягких, туго охватывающих ногу, спортивных туфлях, неслышно подошла к Зубову и сказала вполголоса:
— Проводили, Василий Кириллович, а теперь скучаете?
Василий вздрогнул, быстро обернулся, но, овладев собой, сухо ответил:
— Здравствуйте, Груня. Да, проводил и скучаю.
Тронув Егора за руку, девушка подвела его к Зубову:
— Знакомьтесь, это старший монтер с плотины, Георгий Авдеевич Талалаев, племянник нашего бригадира.
— Очень приятно, — не улыбаясь, сказал Зубов. — Я, кажется, уже видел вашего друга, Аграфена Ивановна.
— Где же именно вы меня видели, товарищ инспектор? — блестя цыгановатыми глазами, спросил Егор. — Мы с вами, кажись, нигде не встречались.
Не ответив Егору, Зубов повернулся к Груне:
— Я вам нужен, Аграфена Ивановна?
Девушка вспыхнула, исподлобья взглянула на него и нервным движением пальцев сломала сухую лозинку, которую держала за спиной.
— Нет, Василий Кириллович, — сдерживаясь, чтобы не заплакать, сказала она, — вы мне не нужны… Это я так… Извините, пожалуйста, если мы вам помешали… До свидания.
И, не дожидаясь оторопевшего Егора, Груня быстро пошла между рядами воткнутых в землю виноградных кольев и исчезла за вербами. Талалаев побежал следом за ней.
Разговор с Груней окончательно испортил Зубову настроение.
«Что ей было нужно, не понимаю? — сердито подумал он. — Гуляла со своим монтером, ну и пускай бы себе гуляла. Я-то ей зачем?..»
Но, думая так, Василий испытывал горькое чувство обиды и ревности.
«Больше никогда не пойду к Прохоровым, — говорил он самому себе, — и встречаться с ней больше не буду. Хватит!»
Так он говорил себе, а сам думал о темных Груниных ресницах, о милых, чуть припухших губах, о стройной ножке, на которой так ладно сидела кожаная спортивная туфелька. И чем больше он думал об этом, тем сильнее растравлял себя: «Нет, не пойду… ни за что не пойду и даже разговаривать не буду… Не нужна она мне…»
…Егор догнал девушку, пошел с ней рядом и, заглядывая в ее расстроенное, подурневшее лицо, сбивчиво заговорил:
— Что я вам скажу, Аграфена Ивановна… Давно уже собираюсь сказать, да только случая подходящего не было… Может, вам и не дюже интересно будет слушать мои слова, так это дело ваше… А я уже больше года надеюсь поговорить с вами, только никак не могу рискнуть…
Самоуверенный Егор путался, бормотал что-то непонятное, и Груня, не глядя на него, спросила:
— Чего вы хотите, Георгий Авдеевич?
— Вашей взаимности, Грунечка, — выпалил Егор и, сказав это, как будто сбросил с плеч гнетущую тяжесть и заговорил своим обычным нагловато-веселым тоном: — Работаю я на шлюзу, работенка у меня подходящая… Деньжат хватает… Живем мы с батей вдвоем, да батя уже, как говорится, на ладан дышит. Усадьба тридцать соток, обшелёванный домик, садок яблоневый на двенадцать корней, двадцать виноградных кустов… ну и, обратно же, коровка своя, барахлишко всякое в доме…
Егор взял Груню за локоть и сказал, обжигая ее цыганскими, влажными, как терн под дождем, глазами:
— Одним словом, хозяечка мне нужна, Аграфена Ивановна… Жениться я задумал… Записаться в загсе, честь по чести, как положено по закону…
— Ну и что же? — передернула плечами Груня. — При чем тут я?
— Вы-то тут как раз и при чем, — засмеялся Егор, — потому что я, Грунечка, на вас вид имею и слова вашего ожидаю.
— Какого слова, Георгий Авдеевич?
Егор остановился и загородил девушке дорогу. Внезапным движением сильных рук он привлек ее к себе, придержал за плечи и заговорил глухо:
— Понравилась ты мне, Грунечка… ночи из-за тебя не сплю… Прошу по чести моей женой стать… Я не обманываю… я по закону хочу.
Прижав Груню к себе, он коснулся ее губ горячим ртом.
— Что вы, Георгий Авдеевич?! — испугалась Груня. — Оставьте. Оставьте меня, иначе я закричу! Слышите? Не смейте!
Она вырвалась из его объятий и отбежала за редкий, зеленеющий молодыми листочками виноградный куст.
— Как не стыдно! — с сердцем крикнула Груня. — Вы что? Силу свою показываете?
Приглаживая жесткие черные волосы, Егор засмеялся:
— Какую силу? Разве нельзя побаловаться?
Груня перескочила через плетень и, не оглядываясь, побежала к станице.
2
Вода с каждым днем все прибывала. Уже затоплен был весь лес на Церковном рынке, по самые кроны утонули в разливе цветущие вербы Тополихи, исчезли под водой Бабские луга, и, наконец, вода, пробираясь по чуть приметным падинам, устремилась в станицу. Подмывая плетни, руша насыпанные станичниками земляные преграды, теплая, сверкающая на солнце вода разлилась по широким улицам, хлынула в колодцы, погреба, ледники, стала рвать доски на деревянных ступенях каждого крыльца, полилась, вышибая стекла и просачиваясь через рамы, в избяные низы, откуда предусмотрительные хозяева вынесли всю домашнюю рухлядь.
По бескрайнему займищу поплыли прошлогодние стога сена, вырванные с корнем деревья, разметанные скирды соломы. Голубовцы едва успели выгнать из затопленных базов ревущую скотину и погнали ее на Пески — огромный с пологими склонами холм, стоявший среди залитого водой займища, как остров в синем море. К счастью, на Пески вела ровная, как натянутая струна, возвышенность — Бугровская грядина, по которой можно было гнать быков, лошадей, коров с телятами, овец, коз. Там, на этой грядине, и паслось большое голубовское стадо, выщипывая молодую, еще не набравшую силы траву.
Вся Голубовская уже была затоплена из конца в конец. На сбитых паводком плетнях виднелись только верхние колышки, каменные низы домов утонули в воде, на деревьях и на крышах пели петухи и отсиживались перепуганные куры; между ними, задрав хвосты и брезгливо потряхивая взмокшими лапками, разгуливали призывно мяукающие коты. Собаки жались к дверям домовых верхов, а некоторые храбро пускались в плавание.
У каждого порога стоял на приколе маленький, легкий на ходу каюк, и люди, если им надо было побывать в сельсовете, в магазине сельпо или правлении колхоза, усаживались в каюки и плавали по улицам, вздымая веслами радужные брызги. После отъезда рыболовецких бригад в низовья все оставшиеся в Голубовской станичники — мужчины и женщины — надели высокие резиновые сапоги, с голенищами, подтянутыми до самого пояса. Кое-где люди отыскивали брод и переходили улицы, шагая по колени в воде. Резиновые сапоги были в таких случаях незаменимой обувью.
По воскресеньям на станичной площади, между аптекой и правлением полеводческого колхоза, собирался плавучий базар: колхозницы привозили на каюках крынки со сметаной, бутылки с молоком, картофель, соленую рыбу, связанных попарно цыплят. Покупатели, лихо управляя легкими каюками, пробирались между затопленными базарными стойками, приценивались к продуктам и, купив бутылку молока или десяток яиц, уплывали к своим усадьбам.
Василий впервые в жизни наблюдал такое зрелище. Вместе с Витькой он починил старый Марфин каюк и с утра до вечера плавал по затопленной станице, любуясь ее великолепным, почти сказочным видом. В станичных садах уже зацвели стоящие в воде деревья, и тонкие ветви их, осыпанные белой кипенью пахучих лепестков, отражались в спокойном, широком, как небо, голубом разливе. Над деревьями с тихим жужжанием кружились сытые, охваченные сладостной ленью шмели, серые аленки, красные солнышки с прозрачными крыльями.
Спасаясь от губительной воды, на ветвях багровели целые колонии насекомых. Легкий весенний ветерок нес по всей станице крепкий, дурманящий запах цветущих деревьев, трав и влажной, теплой земли.
Время от времени Зубов выезжал с досмотрщиком ка своей моторной лодке.
Сверкая медью и стеклами, оставляя за кормой пенный, разбегающийся веером след, нарядная «Стерлядь» летела по разливу, точно выпущенный из пушки снаряд. Воде, казалось, не было конца: до светлеющих на горизонте правобережных донецких высот разлилась она могучим, спокойным потоком, сровняла все холмы и западины займища, накрыла ерики, озера, мочажины и остановилась, застыла, отражая чистую голубизну сияющего неба.
— Эх, красота какая, Василь Кириллыч! — вздыхал Прохоров, осматривая необъятную водную гладь. — Вот родился я в этой станице, вырос тут, уже, можно сказать, стариться стал, а все не могу налюбоваться на наши места и считаю, что красивше их нету на свете.
— Да, Иван Никанорович, красиво! — соглашался Василий.
— Куда уж красивше! Тут бы только жить и жить в этой благодати.
Поглядывая на Зубова кроткими, слезящимися глазами, кашляя и сморкаясь, досмотрщик бормотал умиленно:
— И ведь злого немало у нас есть… На днях вот мошка налетит, цельная туча мошки, спасенья от нее не найдешь… Потом, апосля мошки, комар заявится и, чуть солнышко на закат, зачнет грызть, проклятый… А ведь, скажите, любят наши люди свои места. Ни мошка, ни комар, ни наводнение — ничего наших станичников отсюда не выгонит! Привыкли!
Слушая словоохотливого досмотрщика, Василий несколько раз порывался спросить у него о Груне, но сдерживал себя и заговаривал о чем-нибудь другом.
Так, в своей быстроходной «Стерляди», проводил он целые дни, записывая в дневнике ход рыбьего нереста.
А нерест с разливом реки вступал в свою силу.
Вначале, еще при сломе льда, отнерестился налим. За ним — тарань, потом заиграли язи и жерехи, и наконец наступила пора нереста самой промысловой и важной рыбы: судака, леща, сома, сазана, сельди.
Первым снялся с зимовальных ям и пошел бродить подо льдом гуляка-лещ, которого станичники издавна именуют чебаком. Чебак даже зимой не любит крепкого сна, а в теплые зимы и вовсе не сидит на месте, разгуливая по омутам и под крутоярами. Когда же наступают весенние дни, чебаки партиями движутся на нерестилища, выискивая тиховодные неглубокие места с луговыми травами. Сперва играют свадьбу холодные лещи, которые зимовали в реке, а уже за ними выходит из залива и моря главная масса «теплых лещей», чующих приближение насквозь прогретой солнцем «русской» воды.
Иногда чебаковый косяк ведет опытный, старый «князек» — здоровенный чебачина, у которого пожелтевшая от старости чешуя крупнее двугривенного, а весь он отливает червонным золотом. Голубовские рыбаки, поймав неводом такого «князька», обязательно выкидывают его обратно в реку, веря в то, что «князек» снова приведет в это место стаю чебаков.
Лещ — рыба сторожкая. Даже при малом шуме она уходит и не скоро возвращается в беспокойное место.
— У нас в старину, — рассказывал Василию дед Иона, — во время чебачиного хода рыбаки требовали у попа, чтоб он даже в праздники не звонил в церковные колокола и не распугивал своим звоном нерестующих чебаков. Приходилось попу подчиняться, потому что чебак дюже нервная и капризная рыба…
Деду Ионе, с которым любил поговорить Василий, из всех рыб больше всего нравились сазаны. О сазанах он рассказывал с упоением, с таким азартом, что на его иссохших, морщинистых щеках появлялось даже слабое подобие румянца.
— Сазан — энто рыба! — покачивал головой и причмокивал языком дед Иона. — Энто всем рыбам рыба! Донской король!
— Ну, дедушка, разве только о сазане можно говорить? — пробовал возражать Зубов. — А возьмите белугу или осетра, или стерлядь, да и того же леща! Плохая рыба?
— Не то, сынок, не то! — жевал губами старик. — Сазан — энто рыба! А то — так. Рыбка!
И дед Иона рассказывал Василию о жизни сазанов с такими подробностями, будто сам прожил свои сто лет под водой, по соседству с сазанами.
— Как наступят холода, — говорил дед, — сазаны идут искать зимовье. В это время они уже едят мало, а шкорлуха ихняя зачинает одеваться сленью, навроде шубы или же полушубка. Ну, найдут они какой-либо опечек или же, скажем, яму и давай пристраиваться. А в яме, бывает, уже сомы зимуют: повсунули рыла в иловатую мякинку и спят, как ведмеди. Летом сазан и не подступил бы до сома: тот враз пасть разинет; а тут другой коленкор: лежат сотни сомов навроде дровеняк, хоть танцуй по их. Ну, сазаны покрутятся, покрутятся и давай один по одному укладываться на сомов. Так и зимуют двумя этажами: сверху сазаны, снизу сомы.
— Только ледок таять пойдет, — закрыв глаза, продолжал дед Иона, — так сазан просыпается на своих становищах. Спервоначала он далеко от ям не идет, тут же и прогуливается, а потом, как солнце пригреет и «русская» вода с теплотой вниз двинется, зачинает сазан свой ход на свадьбу.
Все больше оживляясь, дед Иона переходил на свистящий шепот и хватал Зубова за руку:
— Сазан идет на нерест с блеском, с буйством, с баловством, прямо-таки как подгулявший казак. Ежели ему, скажем, надо через мель какую перебраться или препятствие обойти, так он смело сигает вверх, выскакивает из воды, плюхается назад, обратно скачет, и все это, заметьте, весело, яро, шумно…
Василий слушал бесконечные рассказы деда Ионы, всматривался в темное, с тонкой, словно пергаментной, кожей лицо старика и видел, как этот столетний человек оживает, вдыхая запах весны, и каким блеском начинают сверкать его бесцветные, затянутые старческой мутью глаза…
А весна брала свое, и уже по всем затопленным займищам большой реки сновала нерестящаяся рыба: чем крепче пригревало солнце, тем большими табунами выплывали на свои нерестилища громадные, похожие на замшелые колоды сомы; бесчисленными косяками шла в верховья сверкающая, с синеватым отливом сельдь…
И всюду, по всему неоглядному, отражающему бездонное небо голубому разливу, начался незаметный для человека, но буйный и яростный, как сама весна, рыбий свадебный праздник.
В самый разгар рыбьего нереста появились несметные тучи мошкары. Казалось, будто эти заполнившие воздух крошечные существа непрестанно выходят из водных хлябей. От мошкары не было спасения нигде: подобно поднятому бурей песку, она облепляла пасущиеся на грядине стада, забивалась животным и людям в ноздри, в уши, в глаза, проникала в каждую складку одежды, гибла во множестве и тотчас же появлялась в еще более великом множестве, словно массой своей мстила за малую величину, и несметным количеством отвоевывала место под солнцем.
Все голубовцы ходили, накинув на головы смоченные в керосине обрывки рыбацких сетей. Пока в этих сетках держался едкий керосиновый запах, он хоть немного отгонял мошкару, но стоило сетке высохнуть, как мошка налетала на человека, забивалась ему за пазуху, за воротник, в волосы, в рукава и каждым своим прикосновением причиняла нестерпимый зуд.
Особенно страдали дети. У них не хватало терпения примириться с зудом, и они до крови расчесывали себе щеки, шею, ноги, руки.
— Это мучение будет до той поры, покедова зинчики налетят, — успокаивала Василия старая Осиповна, приходившая варить обед вместо Марфы.
— Какие зинчики? — морщился пестрый от расчесов Зубов.
— Ну какие… Как они у вас по-книжному именуются? Стрекозы, что ли? Как только зинчики налетят, они мошкару враз сничтожат, поедят всю, и следов ее не останется…
Василий спрашивал с тоской:
— А скоро они налетят, ваши зинчики?
Пожевав губами, старуха отвечала хладнокровно:
— Может, через месяц или через полтора месяца, это разно бывает…
В один из жарких воскресных дней Зубов решил съездить на займище и посидеть с ружьем в затопленном Кужном озере. Там, в этом озере, водилось много больших кряковых уток. Скрытые от человеческого глаза густыми зарослями непроходимой куги и камыша, утки уже начали гнездоваться в Кужном, и Василию захотелось понаблюдать за ними.
Одноглазый Яша подал сердито урчащую «Стерлядь» под самый порог Марфиной хаты. Смочив керосином кусок невода, Василий накрылся от мошки, захватил ружье, взял в сумку хлеб и кусок сала, и «Стерлядь» помчалась по станичным улицам, вышла за околицу и понеслась по разливу в ту сторону, где синели камыши Кужного озера.
Через четверть часа моторная лодка была на месте. Яша заглушил мотор, натянул на лицо рубашку и растянулся на лодочной скамье, готовясь уснуть. Василий поднял голенища непромокаемых сапог, подвязал их ремешками к патронташу, сунул в карман полинявшей синей спецовки кусок хлеба и, взяв двустволку, побрел в камышовую гущину.
Солнце припекало довольно крепко. Над озером носилась темная туча мошки. Перед Василием вставала зеленая стена камыша, в которую вкраплены были ломкие желтые стволы прошлогоднего старника. Камыш и куга оказались высокими — в два человеческих роста. Когда Зубов залез в чащу и пошел по колени в воде, он сразу потерял горизонт и стал ориентироваться только по солнцу.
Идти было тяжело: приходилось все время раздвигать руками густой камыш. Ноги цеплялись за подводные кочки, руки царапал колючий, режущий, как острый нож, камышовый старник. Мошка вилась над Зубовым беспрерывно, но крепкий запах смоченной керосином сетки пока предохранял его от укусов.
Василий знал, что посреди озера есть связанные между собой пространства чистой, не заросшей камышом воды, которую станичники называли плесками. Но эти плески не так легко было найти, потому что в камыше, раскинувшемся на несколько километров, не было ни одной тропинки. Как раз на плесках и можно было встретить уток.
Долго плутая по камышам, Василий все-таки выбрался к чистой воде и решил посидеть. Он облюбовал густой камыш между двумя плесками: первой, круглой, и второй, продолговатой; нарезал ножом ворох камыша, связал его снопом и устроил себе сиденье. Потом он тщательно замаскировался, сел и положил на колени ружье.
Ждать пришлось недолго. Через четверть часа на круглую плеску, совсем близко от Василия, сел матерый селезень. Где-то неподалеку закричала спрятанная в камышах утка. Красавец селезень, видимо, готовился к встрече. Нежно-сизый, с кофейной грудью, с двумя темно-синими вставками в крыльях и кольцеобразными завитками на подвижном хвосте, он горделиво поднимал блестящую, как бархат, изумрудную голову, чистил и приглаживал широким клювом каждое перышко, и его ослепительно-белый воротничок резко выделялся на гибкой, грациозно выгнутой шее.
«Ну как же в такое чудо стрелять?» — усмехнулся Василий.
Селезень покрутился на плеске, несколько раз хлопнул крыльями и, охорашиваясь, поплыл навстречу своей подруге. Потом до Василия донеслось их радостное кряканье, шум потревоженной воды и потрескивание камыша.
На воде то здесь, то там вскидывались сазаны. Василий слышал их характерное причмокивание и наблюдал игру озорной рыбы. Он смирно сидел на своем камышовом снопе, муть под его ногами давно улеглась, и он видел мечущихся, как стрелы, мальков, но не мог на глаз определить: к какому семейству принадлежат эти юркие, недавно выросшие из выметанной икры рыбки.
Вспоминая все, что на протяжении последних месяцев произошло с ним в станице, Зубов вспомнил и годы учебы и подумал о том, что техникум с его лабораториями, лекциями, так называемыми практическими занятиями все же не дал ему и его товарищам знания той жизни, с которой он встретился только тут, в этой плавучей станице, где все выглядело не так, как он представлял себе раньше…
«Да, обо всем этом мне говорили, — подумал Зубов, — говорили и о законных восьми процентах прилова, но не предупредили, что меня будут упрекать в том, что я, следуя правилам, якобы подрываю выполнение колхозного плана…»
Размышления Зубова были прерваны шумом воды, который он услышал в конце правой длинной плески.
Ему показалось, что у камышей плывет целая стая уток.
Шум и плескание усиливались, все громче и громче потрескивал камышовый старник. И вдруг Василий увидел вышедшую из камыша Груню.
В белой майке и в мальчишеских синих трусах, она шла, отмахиваясь от мошкары, встряхивала мокрыми волосами, часто садилась в воду, смешно надувая губы и сосредоточенно всматриваясь в суету мальковых стаек. Когда она поднималась, с ее прямых волос, с шеи и с маленьких загорелых рук стекали сверкающие на солнце капли воды.
Она была так близко от Василия, что он увидел даже розовые пятнышки москитных укусов на ее шее и румяных щеках. Не зная, что делать, Зубов с бьющимся сердцем смотрел на приближавшуюся девушку. Она прошла мимо него на расстоянии трех шагов и, подминая исцарапанными босыми ногами колкий камыш, исчезла в густой чаще.
Слушая утихающее плескание воды и шорох камыша, Василий подумал, что Груня приснилась ему, но вдруг она запела негромким, охрипшим от ветра и долгого молчания голосом.
И, слушая Грунину песню, Василий понял, что он любит эту девушку, любит всем существом, как воздух, как пахучие белые деревья и веселых птиц, как этот безбрежный разлив, отразивший в себе голубое небо и нестерпимо пылающее яростное солнце.
Она уже была далеко, когда он бросился догонять ее. В непролазной чаще высокого камыша трудно было найти человеческий след. Только медленно поднимающиеся из воды камышовые стебли, недавно примятые Груниными ногами, выдавали направление, по которому она шла. Песня ее умолкла, и Василий наугад шел среди камышей, несколько раз сбивался, два раза упал, споткнувшись о подводные кочки, набрал полные сапоги воды и потерял свою смоченную керосином сетку.
Они увидели друг друга на чистой плеске.
Груня густо покраснела, исподлобья глянула на Василия и, не зная, что сказать, жалобно пробормотала:
— Камыш колючий… ноги изрезала до крови…
Василий тихонько засмеялся. Наклонившись, он подхватил Груню на руки, бережно прижал к себе ее влажное, прохладное тело и понес по разливу, идя боком, чтобы ее не исцарапал жесткий камышовый старник.
А она, доверчиво обняв его за шею, сказала, не думая о том, что говорит:
— Не надо, Вася…
Как будто не слыша Груниных бессвязных слов, Василий целовал ее мокрые волосы, глаза, щеки, и она, отстраняя его слабым движением руки, повторяла:
— Не надо… я пойду… тебе ведь тяжело…
— Почему тяжело? — удивляясь и радуясь своему счастью, сказал он. — Мне совсем не тяжело… Тут есть тропинка… Я донесу…
Он донес ее до тропинки, осторожно опустил в воду, и они, держась за руки, пошли к лодке.
Зубов разбудил дремавшего моториста:
— Заводи, Яша! — весело закричал он. — Поедем на Донец!
Мотор фыркнул, как застоявшийся конь, и лодка, вздымая пылающую золотом пену, понеслась по разливу к голубым холмам…
3
Голубовский колхоз получил телеграмму-молнию о срочной подготовке к спасению рыбной молоди. Беспокоясь о выполнении плана добычи, Мосолов созвал заседание правления и предложил решить вопрос о спасательных работах так, чтобы они не оторвали рыбаков, занятых ловом в низовьях реки.
На заседание был приглашен и Зубов.
В просторной комнате правления Василий застал человек пятнадцать. Мосолов вызвал группу комсомольцев, часть которых уже работала в бригаде Груни Прохоровой. С низовьев на три дня приехали Антропов и дед Малявочка; они тоже присутствовали на заседании. На скамье у стены сидело несколько пожилых женщин.
Груня стояла у окна, сердито слушая Мосолова. Лицо ее разрумянилось, брови были нахмурены. Глядя куда-то в угол, она нервно теребила пепельно-русую прядь волос.
Посмотрев на присевшего рядом Зубова, Кузьма Федорович сказал, очевидно продолжая свое выступление:
— Раз народа у нас мало — значит, выше себя не подскочишь. Не буду же я снимать ловцов из бригады и бросать их на спасение молоди! Мне этого никто не позволит сделать. Придется обходиться теми силами, которые есть в наличии… План срывать я не могу.
— У нас всегда так, — перебила его Груня, — если дело касается спасения молоди, то помощи тут никогда не добьешься, потому что вы, Кузьма Федорович, считаете это детской забавой!
— Погоди, Прохорова! — отмахнулся председатель. — Никакой забавой я это не считаю, но чего не могу сделать, того не могу. Надо мобилизовать на спасение молоди комсомол и тех стариков, которые дома остались. Нехай поработают.
Груня насмешливо фыркнула:
— Вы мобилизуйте деда Иону, он за вас все сделает.
Женщины засмеялись. Усмехнулся и Антропов. Он попросил у председателя слова и заговорил, покалывая Мосолова буравчиками стальных глаз:
— Тут надо рассудить по-хозяйски, Кузьма Федорович. План добычи — это ведь только одна часть общего производственного плана колхоза. А нам надо выполнить не только часть, а все, что положено. Спасение молоди не игрушка. Ежели у нас ребятишки будут с черпаками по займищу бегать, то мы толку не добьемся. Надо осмотреть все места, прорыть каналы, выполнить всю мелиоративную работу, какая нужна, приготовить тару для перевозки молоди, закрепить транспорт — одним словом, подготовиться как следует.
Он перевел взгляд с Мосолова на сидевших позади подростков, которым, очевидно, уже надоело сидеть на скучном совещании, и они стали посматривать в окно и громко переговариваться.
— Комсомол, ясное дело, надо мобилизовать. Пускай девчата и хлопцы активность свою покажут и заведут личные счета спасенной молоди. Мы с них спросим за это дело по-сурьезному. Да и школа станичная должна тут помощь оказать. А то они там в классах книжки читают, а чебака от сазана отличить не могут. Нехай ученики и учителя поработают в свободное время, это им пользу принесет.
Архип Иванович сипло вздохнул и уже обратился прямо к председателю:
— Надо бы и тебе, Кузьма Федорович, работничков своих из правления на займище выгнать. Погляди, сколько их у нас сидит: счетоводы, приемщики, весовщики, кладовщики, сторожа — прямо цельный взвод людей. Оно бы можно время выбрать да по озерам с волокушей походить, производство свое поглядеть и свежим воздухом подышать. А вы, вроде леща, в корень себя засолили в правленской бочке и носа с нее не показываете.
Слушая Антропова, люди стали улыбаться и одобрительно покачивать головами. Видно, слова Архипа Ивановича попадали не в бровь, а в глаз. Даже лицо Мосолова тронула кисловатая усмешка, и он поспешил сказать:
— Это ты правду говоришь. Аппарат наш надо на займище направить.
Предложение Антропова было принято, однако ответственность за спасение молоди правление рыбколхоза возложило на рыбовода Груню Прохорову.
Секретарь комсомольской организации Тося Белявская заверила правление, что она с помощью райкома комсомола уже организовала станичную и хуторскую молодежь, не исключая и школьников, которые сами выразили желание участвовать в работе на займище.
Василий и Груня возвращались с заседания вместе. Уже почти стемнело, и они решили побродить по освещенной луной воде. После недавней встречи в камышах они уже не таили своих чувств и, когда оставались одни, называли друг друга на «ты», радуясь и в то же время пугаясь той зарождающейся близости, которая придавала их отношениям особую нежность и теплоту.
Тесно прижавшись друг к другу, они молча шли по пустынной улице.
Под их ногами блестела вода. В затопленных садах, озаренных полной луной, голубели цветущие деревья. Их тонкий, пьянящий запах разносился по всей пойме, широкой, как море.
Чем ближе к реке подходили Василий и Груня, тем глубже становилась вода: на первой улице воды было по щиколотки, потом стало на ладонь выше, а в крайнем переулке, упиравшемся в колхозные виноградники, вода достигала колен.
— Ты ниже меня и сейчас наберешь полные сапоги, — смеялся Василий, — давай лучше пойдем назад: там мельче.
— А вот и не наберу, — заупрямилась Груня, — и сапоги у меня такие же высокие.
Вырвав у него руку, она храбро зашагала по воде и стала высоко, как гусенок, поднимать ноги. Но вода становилась все глубже, и Груня несколько раз останавливалась и растерянно смотрела на идущего сзади Василия.
— Еще немного — и сапоги будут полные! — закричал он. — Лучше вернись!
— Не вернусь, — смеялась Груня, — ты выше меня, а я храбрее…
Вдруг она ступила в какую-то ямку, и вода забулькала вокруг ее колен.
— Ай! — закричала Груня. — Тону!
Василий, смеясь, бросился к ней, взял ее на руки и понес так же, как нес там, в камышах. И она, обняв его, заговорила, по привычке надувая губы:
— А ты колючий… и табаком от тебя пахнет… и целовать я тебя не буду…
Груня произнесла слово «целовать» нараспев, зная, что Василий сейчас же ее поцелует. И он действительно наклонился к ней, чтобы поцеловать, но она отвернулась и закрыла ему рот ладонью.
Василий остановился, щекой прижал Грунину голову к своему плечу и стал целовать ее. И она, ослабев, сама повернула к нему лицо и, улыбаясь, приоткрыв губы, отвечала на его поцелуи.
Он стоял у чьей-то изгороди и не услышал приглушенного девичьего смеха.
Это Тося Белявская, сидя на крыльце с подругой, дочерью бакенщика, заметила Зубова и Груню и следила за ними до тех пор, пока Василий не скрылся со своей ношей в темноте.
— Видела, Ирка? — вздохнула Тося. — Вот это называется любовь. Поднял ее на руки и носит, как лялечку.
Подруги тихо переговаривались между собой, и луна сияла над ними, и ясный лик ее бесконечной золотой дорогой отражался в большой спокойной воде. Далеко-далеко слышно было, как вскидывается в разливах жирующая рыба: выбросится наверх, вся в лунном сиянии, повалится плашмя, ударит, озоруя, сильным хвостом и нырнет в глубину, оставив на тихой воде чуть колеблющийся мерцающий круг. Вслед за ней плеснет другая рыбина, третья, четвертая, и опять стоит такая нерушимая тишина, что, кажется, приложи ухо к земле — и услышишь невнятный шорох малых подземных тварей, хода которых не слышал никто.
4
Еще учась в техникуме, Зубов думал о том, как по приезде на участок он развернет в рыболовецком колхозе строительство рыбоводного завода и научит людей хозяйничать по-новому. Для того чтобы заинтересовать рыбаков, он решил начать с организации небольшого рыбоводного пункта и в один из воскресных дней пошел к председателю колхоза Мосолову посоветоваться с ним и попросить его выделить для рыбпункта подходящее помещение.
Кузьма Федорович Мосолов встретил Зубова на крыльце и повел его в беседку, оплетенную молодым, распускающим светло-зеленые листья виноградом.
— Ну, садись, садись, товарищ инспектор, — благодушно сказал Мосолов, выжидательно посматривая на Зубова, — это, кажись, ты первый раз ко мне пожаловал.
Хотя обращение на «ты» несколько удивило Василия, он ответил в тон Мосолову:
— Ты ведь ни разу меня и не приглашал, Кузьма Федорович.
— Ладно, ладно, садись, гостем будешь.
От чисто выбритого лица и крепкой фигуры Мосолова веяло здоровьем, и по выражению его проницательных карих глаз видно было, что этот человек твердо уверен в том, что все, что он делает и говорит, правильно, хорошо и нужно для пользы дела.
— Я к тебе с небольшим вопросом, Кузьма Федорович, — сказал Василий. Он подвинул стул к Мосолову: — Хочу у вас при колхозе организовать для начала рыбоводный пункт, а к осени, если все пойдет хорошо, можно будет свой заводик оборудовать… Я посоветуюсь с Архипом Ивановичем, поговорю с рыбаками, комсомольцев поднимем…
— Ну чего ж, — поднял брови Мосолов, — дело это хорошее, правление колхоза тебе поможет.
— Так вот я и хотел потолковать насчет помещения и кое-какого оборудования.
Мосолов помолчал. Как бы прикидывая про себя, во что может обойтись строительство и оборудование рыбоводного завода, он постучал носком начищенного сапога по полу и повел в сторону Зубова затянутой черным бинтом рукой.
— Это же, должно быть, станет нам в копеечку, как ты полагаешь? Завод — это, брат, не шутка, тут обмозговать надо…
— Что ж, по-твоему, мы рельсопрокатный или автомобильный завод строить будем? — усмехнулся Василий. — Тут, Кузьма Федорович, ни кирпичных корпусов, ни станков не требуется. Просторное помещение да водопроводные трубы — вот тебе и весь завод. А потом уж мы в нем бассейны для мальков соорудим, стационарные рыбоводные аппараты поставим, холодильник установим, садики на реке разместим… — Он с надеждой взглянул на помрачневшего Мосолова и добавил просительно: — Да я ведь сейчас не о заводе речь веду, а о рыбоводном пункте, в котором людям хотя бы методы разведения рыбы показать можно было.
Мосолов подошел к Василию и легонько тронул его за плечо.
— А зачем это нам сейчас? — жестко спросил он.
— Что? — не понял Василий.
— Да рыбоводный пункт.
— Как — зачем? Надо же, Кузьма Федорович, переходить к новым методам ведения рыбного хозяйства…
Мосолов снова сел и здоровой рукой стал оправлять повязку.
— Я давно собирался потолковать с тобой, Василий Кириллыч, — обдумывая каждое слово, начал он. — Ты, по-моему, загибаешь в своей работе.
— Как это — загибаю? — удивленно посмотрел на него Василий. — Почему?
— Погоди, не горячись. Я тебе все выскажу. Ты вот давеча конфисковал улов второй бригады. Теперь завод придумал. Все это, конечно, хорошо, и мы, между прочим, помещение для рыбпункта тебе выделим. Но не в этом дело.
— А в чем же?
— Дело, брат, в том, что при нашей работе нам невозможно, как детишкам, гопки скакать и всякими дуростями заниматься.
— Разве завод — это дурость?
— Погоди, — досадливо отмахнулся Мосолов, — не пришивай мне всякой ерунды. Надо, друг милый, каждую работу соразмерять со своими силенками. — Он хлопнул Василия по колену: — Ты скажи, какая главная задача стоит сейчас перед нашим рыболовецким колхозом? Дать государству рыбу? Правильно? Так вот из этой задачи нам и надо исходить. За завод с нас никто не спросит, а за выполнение плана добычи спросят. «Где, скажут, ваша рыба? Как выполнено ваше обязательство?» — Кузьма Федорович смягчил голос и проговорил мечтательно: — Придет время — мы, Василий Кириллыч, и завод построим и хозяйство по-новому поставим, а пока надо по одежке протягивать ножки и не распылять силы, иначе доведется нам плакать. Обратно же и с приловом молоди такая же история получается. — Он протянул Василию портсигар. — Кури.
Из дому вышла жена Мосолова, дородная женщина в розовом капоте. Придерживая ведро, она покосилась на Зубова и вежливо поклонилась.
— Кончай свою уборку, Фаня, — крикнул Кузьма Федорович, — да организуй нам чего-нибудь! — Посмотрев на угрюмо молчавшего Василия, он усмехнулся: — Ты не обижайся, Кириллыч. Мы с тобой фронтовики, и я тебе зла не желаю. Хоть ты и офицер, а я сержант, но я по годам в батьки тебе гожусь и могу тебя по-дружески уму-разуму поучить, потому что…
— Нет, Кузьма Федорович, подожди, — перебил его Василий, — сначала я выскажу тебе все, что думаю, а потом учи меня, если есть охота… И уж если ты заговорил о фронтовиках, то я тебе скажу, что при твоих мыслях ты свое звание фронтовика в грязь затоптать можешь. Да, да! Ты говоришь, что надо силенки свои соразмерять? А помнишь, у нас бойцы втроем или вчетвером от немецкого взвода отбивались, рубеж свой обороняли да еще на штурм вражеских дотов шли? Не помнишь? Забыл, Кузьма Федорович?
— Это я помню, — сердито возразил Мосолов, — но там, друг милый, другое дело было… Там была война…
— Нет, не другое дело, Кузьма Федорович. И тогда и сейчас решало одно и то же — сила нашего советского человека. А ты человеческую душу со счетов своих канцелярских скинул, пренебрег ею, и потому, помяни мое слово, будешь в обозе у жизни плестись.
Мосолов в раздражении дернул плечом, хотел что-то сказать, но в это время его жена вышла на порог и крикнула:
— Пожалуйте к столу!
Они пошли в комнату, и, пока хозяйка потчевала Василия холодным каймаком и вяленой рыбой, он, волнуясь, говорил Мосолову:
— Рыбака надо убеждать делом, Кузьма Федорович. Он болтовне не поверит, ему надо видеть результаты новых форм хозяйства, а так…
Глядя на Василия, Мосолов думал раздраженно: «Только петушится, герой, а посади его на мое место да заставь план выполнять, он не то запоет!..»
— Ладно, Кириллыч, — хмуро сказал Мосолов, — видать, мы один другого не понимаем. Я тебе уже сказал что препятствий для твоего рыбпункта никто чинить не будет. Бери себе, пожалуйста, амбарчик, который на винограднике стоит, и развертывай на здоровье рыбпункт. — Кузьма Федорович поднялся, походил по комнате и заговорил глухо: — А что касается колхоза, то тут мы по-разному на дело глядим. Ты, друг милый, землю копытом роешь, выше себя прыгнуть хочешь, как конь норовистый, а я свой расчет имею.
— При чем тут расчет? — пожал плечами Василий,
— А при том, что перво-наперво надо в колхозе дисциплину укрепить, обязательство перед государством выполнить, силы расставить правильно, а потом уже бить наверняка, чтобы не иметь поражения. Ясно?
— Бросим об этом, — поднялся Василий, — все равно мы так ни до чего не договоримся. Лучше поставить вопрос о хозяйственном плане артели на партийном собрании, с людьми посоветоваться, а потом решение принимать.
Темнея от гнева, Мосолов со стуком отодвинул стул.
— Что ж, можно и на партийном собрании поговорить, — сказал он тихо, — а только, товарищ лейтенант, рановато вы меня в отстающие записали…
Когда Василий ушел, Кузьма Федорович долго ходил по комнате, глядя себе под ноги.
«Без году неделю в станице находится, — думал он о Зубове, — а уже учить меня вздумал и дорогу колхозу определять…»
Но, как ни злился Мосолов, его все-таки тревожила мысль о том, что он, гвардии сержант, коммунист и герой войны, что-то напутал и потому совершает какую-то серьезную ошибку.
Зубов же хотя и жалел Мосолова, но считал, что поступил правильно, сказав председателю все, что думал.
Не желая отрывать старых рыбаков от лова, Зубов пошел к Тосе Белявской, чтобы договориться о помощи со стороны комсомольцев.
Тося, потеряв родных, ушла, как и Зубов, добровольцем на фронт, служила в прожекторной роте, дважды была контужена и в конце войны награждена орденом Красной Звезды. По окончании войны она вернулась в Голубовскую, поселилась у старшего брата, работала в избе-читальне, а потом была избрана секретарем комсомольской организации. Спокойная, рассудительная девушка, она скоро стала любимицей всей станичной молодежи. Лучшие рыбаки-стахановцы не раз сватали Тосю, но она вежливо отказывала женихам и говорила задумчиво: «Я еще подожду с замужеством». Девчата прозвали Тосю чудачкой, но поговорили немного и замолчали, решив, что каждый человек волен устраивать свою судьбу, как ему хочется.
Идя от Мосолова, Василий встретил Тосю на улице.
В белой шелковой блузке, в накинутой на шею синей косынке, в резиновых сапожках, она шла по залитой водою улице, держа на руках толстую белокурую девочку.
— Здравствуйте, товарищ ефрейтор! — издали закричал Василий. — Вы-то как раз мне и нужны!
— Здравия желаю, товарищ лейтенант! — серьезно ответила Тося и пересадила девочку с правой руки на левую.
— Это что же, дочка, что ли? — спросил Василий.
Тося засмеялась:
— Дочка, только не моя.
Когда Василий рассказал об организации рыбоводного пункта и попросил помочь оборудовать выделенный Мосоловым амбар, Тося кивнула головой:
— Конечно, поможем, Вася. Я уже давно думала о чем-нибудь таком. Не о пункте, правда, а вообще о новом большом деле, чтобы молодежь наша увлеклась им по-настоящему… — Подняв голубые глаза, Тося сказала серьезно: — Понимаешь, Вася, ребятам и девушкам надоело наше тихое захолустье.
— Подожди, подожди, — насторожился Василий, — с каких это пор Голубовская стала для вас захолустьем?
— Да я не в этом смысле, — сердито отмахнулась Тося, — я совсем о другом…
— О чем же?
— Как бы тебе сказать… Вот, понимаешь, спрашивает нас кто-нибудь со стороны: «Как там у вас дела?» — а мы отвечаем: «Ничего». Ни-че-го… Ни хорошо, ни плохо. Удовлетворительно. Посмотришь, в других колхозах жизнь ключом бьет, люди растут, а у нас ни холодно ни жарко. План добычи мы с горем пополам выполняем, снасть бережем — значит, все в порядке. А люди работают вполсилы.
Василий пытливо посмотрел на девушку. На белой Тосиной блузке, словно раскрывший лепестки мак, алел орден. Перебирая пальцами русую косу, Тося говорила тихонько:
— Это ты хорошее дело задумал, только бы нам его до конца довести. Трудно будет, Вася. Придется кое-кого уговаривать, а кое с кем в драку вступать… Ну, ничего. Почин мы сделаем. Сегодня же соберем девчат и завтра выйдем на работу. Девчата все пойдут. — Она притронулась к руке Василия и сказала, глядя ему в глаза: — Только смотри, Вася, чтоб опыт твой удался, а то конфуз выйдет. Ты не обижайся. Надо ведь, чтоб люди сразу, на практике, убедились, в чем тут дело, и доверие к нам не потеряли.
— Не бойся, Тосенька, все будет сделано, — твердо проговорил Зубов, — никакого конфуза мы не допустим. Воду погоним в амбар электродвижком, за аппаратами Груня в город поедет, а остальное на месте найдем. За месяц-полтора подготовим своих молодых рыбоводов и поставим вопрос об организации колхозного завода…
Зубов проводил Тосю домой и условился с нею о встрече на собрании.
Собрание было созвано в избе-читальне, а в понедельник большая бригада девушек-комсомолок начала приводить в порядок амбар. Две отсыревшие, засыпанные камышом амбарные клетки были очищены от мусора. На следующий день девушки подвезли песок и глину, оштукатурили стены, вставили стекла. Зубов, Иван Никанорович и моторист Яша покрыли цементом пол, устроили водосток, оборудовали длинные столы для установки рыбоводных аппаратов. С берега к амбару были подведены две трубы, а неподалеку, в деревянной будке, поставлен принадлежавший полеводческому колхозу электродвижок.
Старухи-станичницы, узнав от девчат, что новый инспектор собирается выводить в амбаре рыбьих мальков, покачивали головами и говорили сердито:
— Нечего ему, видно, делать, так он баловством занимается!..
— Виданное ли дело — рыбу вроде курчат выводить!
— Нехай бы лучше до невода ставал, там рабочие руки требуются!..
Особенно куражился паромщик Авдей Талалаев. Каждый день, идя на берег, он заворачивал к амбару, несколько минут стоял, почесывая бородку, а потом спрашивал ехидно:
— Значит, девоньки, рыбу высиживать станете?
Выслушав ответ, Авдей Гаврилович смеялся:
— Так, так… Отличное дело… Вперед рыбку в реке сгубили, а теперь за восстановление взялись? А только будет ли с вашей рыбки уха?
При встрече с Зубовым паромщик учтиво кланялся и спрашивал, щуря подслеповатые глаза:
— Это, значит, на манер искусственного осеменения будет или как?
— Да, дед, похоже, — отвечал Василий.
— Так, так, интересно, — смеялся старик, — только глядите, не ожените судака на чехоньке!
Он уходил из сада и долго бормотал что-то, поглядывая на хлопотавших у амбара девчат.
Дожидаясь спада воды, Авдей Гаврилович исподволь готовился к перевозу. Как только потеплело, он переселился в свой балаган, стоявший в лесу на бугре, у самого берега. Балаган у паромщика был добротный, сложенный из крепких тополевых жердей, накрытый толстым слоем ржаной соломы, просторный, с каменной печуркой посередине и широкими дощатыми полатями.
В этом балагане дед Авдей хранил все свое паромное имущество: фонари с зелеными и красными стеклами, измерительные шесты, топоры, плотницкий инструмент, веревки, тросы, проволоку. Все это было на виду. Но, кроме этого, дед прятал в солому рыбацкие снасти: черпаки со снятыми сетками, длиннейшие переметы, лески, удочки, накидные сетки и все, что могло поместиться в толстом слое слежавшейся, прелой соломы.
Егор уже давно поднял утопленный в Заманухе отцовский каюк, и он стоял тут же, у балагана, привязанный к дереву длинной цепью. Как ни скрывал Егор от отца свои приключения в Заманухе, старик все-таки узнал о них от рыжего Трифона, и однажды, когда сын принес в балаган ужин, дед Авдей напустился на него с бранью:
— Дурак ты, Егорка, аж крутишься, дурак! На кой ляд ты держал всю рыбу в каюке? Кто ж так ловит? Надо было иначе все это делать. Раз-два кинул — и рыбку на берег, еще разок кинул — и обратно на берег. Каюк у тебя должон быть завсегда пустой. Налетит какой черт, а ты его сей минут носом в каюк: гляди, мол, в каюке ничего нету, чистый каючок.
Лежа на полатях, Егор слушал отца и лениво отругивался:
— Бросьте, батя! Пока Степан Иванович инспектором был, я и без ваших советов каждый день рыбу домой носил, а вы теперь спробуйте…
— Дурило ты, — заключил дед Авдей. — Вот поглядишь, как я стану рыбу ловить, никто меня не споймает.
— Поглядим, поглядим, — подзадоривал Егор.
— Ловить надо тихо и с головою, — поучал сына Авдей, — тогда и комар носа не подточит. Выехали, к примеру, два каюка на реку и стали на якорях: один под одним берегом, а другой — под другим. В каюках, допустим, сидят обыкновенные законные удильщики с удочками. Ловят себе по маленькой на червячков. Никто не имеет права до них прицепиться. И никто, к тому же, не замечает, что промеж каюков через всю реку перемет поставлен, а на том перемете триста крючков. Сиди себе с удочкою, лови да по сторонам поглядывай. Как только увидал, что никакой опасности нету, ну, значит, удочки долой и тихонечко выбирай из воды перемет. Выбрал и в тую же минуту выгружай рыбу с каюка на берег, в корзиночки, и… до свидания, будьте здоровы…
Егор, лежа на полатях с папиросой в зубах, лениво слушал отцовские поучения. Ему претило это рыбальство тихой сапой, и он насмешливо кривил рот, отворачиваясь от отца, и часами глядел на реку. Но в то же время он понимал, что отец поступает правильно, не желая лезть на рожон и подвергать себя опасности.
«Хитрый, чертяка, — ухмылялся Егор, слушая отцовские поучения, — и деньжат насбирает, и в браконьерстве его никто не уличит».
Ему было известно, что рыбаки-колхозники организовали, по просьбе Зубова, общественный рыболовный надзор. В группу надзора колхозное собрание выбрало секретаря рыбацкой комсомольской организации Тосю Белявскую, ловца второй бригады Степана Худякова, деда Малявочку, Марфиного сына Витьку, дочь бакенщика Иру Грачеву и бригадира Пимена Талалаева.
Узнав о том, что младший брат выбран в группу надзора, Авдей Гаврилович несколько успокоился.
— Как рыбаки вернутся с низовьев, я поговорю с дядей Пишей, — сказал он Егору. — Он ведь большую помощь оказать может. Ихний надзор инспектор по участкам раскреплять будет, вот и надо, чтобы Пиша взял себе подшлюзный участок, тут сама рыба сходится. А уж мы с Пименом как-нибудь договоримся по-свойски…
Вокруг балагана паромщика постоянно стояли на приколе пять-шесть каюков, в соломе были спрятаны сети и переметы, а на покатой крыше сушились весла. Когда Зубов, с подозрением посматривая на целую флотилию каюков, спросил однажды у паромщика, почему эти каюки собраны у балагана, Авдей Гаврилович добродушно усмехнулся и ответил, не моргнув глазом:
— Ить каждая лодочка догляду требует, товарищ инспектор. А я круглые сутки в балагане, вот и гляжу за чужими лодками. А хозяева мне благодарность оказывают: то картошки кило дадут, то грушек сушеных подкинут, а то, гляди, какую чехонь на ужин старику оставят…
— А что, много рыбы ловят? — поинтересовался Василий.
Авдей Гаврилович усмехнулся и махнул рукой:
— Рыбалят, конешно. Вон у меня полна крыша ихних удочек да лесок. Одно знают: червя по огородам копают да с удочками на каюках дежурят. День или же ночь такой рыбалка посидит и несет до дому пяток паршивых чехонишек. Вот тебе и весь улов.
Мимоходом осмотрев темный, заваленный рухлядью балаган, Зубов простился с паромщиком и ушел, успокоенный.
В этот день он договорился с Груней о ее поездке в город.
Вечерком, взяв свой затянутый парусиновым чехлом фибровый чемоданчик, Груня уехала. Она надеялась без задержки получить заказанные правлением рыбколхоза пять рыбоводных аппаратов и тотчас вернуться в станицу. Однако все получилось иначе.
Хмурая женщина, к которой Груня обратилась в городской конторе, сразу ошеломила ее вопросом:
— У вас наряд есть?
— Какой наряд? — смутилась Груня.
— Наряд на аппараты.
— У меня есть бумага, подписанная председателем колхоза.
Щелкая замком изрядно потертого портфеля и разглядывая какие-то бумаги, женщина возразила:
— Во-первых, без наряда мы ничего не отпускаем, а во-вторых, у нас нет ни одного исправного аппарата.
— В таком случае я пойду к директору или в редакцию газеты, — пригрозила Груня. — Что же это получается? Люди едут к вам за двести километров, а вы их маринуете в своей канцелярии. Разве так можно?
Женщина равнодушно посмотрела на нее:
— Можете идти к директору, он вам то же самое скажет.
К счастью, румяный, с глянцевой лысиной директор оказался не столь твердокаменным и угрюмым, как его подчиненная. Поглаживая располневшую шею голубым платочком, он выслушал Груню, вздохнул и сказал участливо:
— К сожалению, у нас, дорогой товарищ, действительно нет исправных аппаратов, и я, право, не знаю, как вам помочь… — Он подумал, аккуратно сложил свой пахнущий духами платочек, сунул его в карман, посмотрел в окно и вдруг оживился: — Знаете что? Я напишу записочку директору рыбопромышленного техникума! Он вам даст пару аппаратов. Мы ему через недельку вернем. Один вы возьмете у нас, его легко исправить. Нельзя же вас отпускать с пустыми руками.
Директор написал записку, и Груня пошла в техникум. Она быстро нашла приземистое, восстановленное после войны здание. «Тут учился Вася, — думала Груня, — его, должно быть, помнят и начнут расспрашивать меня о нем…»
Груня не ошиблась. Высокий седой директор, прочитав записку, тотчас же приказал лаборантке упаковать два аппарата, усадил Груню на диван и заговорил о Зубове.
— Вы из Голубовской? — спросил он. — Так, так. Знаю вашу станицу. Там у вас должен работать наш бывший студент Зубов. Работает? Ну, вот. Передавайте ему привет. Он славный парень. Горяч немного, но это пройдет. Скажите ему, что мы поможем в вашей затее. На днях я вышлю ему книги, кое-какие аппараты, новые инструкции. Если нужны будут консультации, пусть пишет…
Груне было очень приятно слушать все, что связано с Зубовым, и она внимательно вслушивалась в тихий голос директора.
— Зубов был хороший студент, — говорил директор. — Боюсь я только, чтоб он не разменялся на мелочи в вашей станице. Увлечется какой-нибудь одной стороной дела и потеряет масштабы. С ним это может случиться. Скажите ему, пусть выписывает журналы, читает, интересуется новым. Наука не терпит косности и узости. Так и скажите ему.
— Я скажу, — пообещала Груня, — но он и без этого работает. Молодежь собрал вокруг себя, сейчас мы рыбоводный пункт открываем в колхозе, спасение рыбной молоди планируем…
— Вот, вот. Это хорошо. У нас в рыбном хозяйстве непочатый край работы, лишь бы желание и умение были…
Все три полученных в городе аппарата были аккуратно упакованы в ящики и отправлены Груней на пристань. Пароход «Молотов» уже стоял у причала, но посадки еще не было. Среди сновавших на пристани людей Груня заметила Степана Худякова. Одетый в брезентовую робу, Степан сидел на вещевом мешке у чугунной изгороди. Увидев Груню, он издали поздоровался с ней и крикнул:
— Вместе едем?
— А ты куда? — спросила Груня.
— В Голубовскую. За солью в город посылали.
— Я тоже в Голубовскую.
Они устроились на нижней палубе, плотно затянутой тугим брезентом. Пароход отошел в сумерках. Слева замелькали частые огни города, справа лиловой полосой потянулись густые, ровно подстриженные рощи.
— Не замерзнешь? — спросил Степан.
— Нет, Степа, у меня ватная стеганка, да и ночи уже теплеть стали.
Груня села поближе к Степану, и он с грубоватой нежностью закутал девушку своим матросским бушлатом.
— Так будет лучше, товарищ рыбовод.
До войны Степан Худяков служил на одном из черноморских крейсеров, потом оказался в бригаде морской пехоты, с которой прошел все военные дороги. Молчаливый, даже мрачноватый, он на всю жизнь полюбил друзей-матросов и очень горевал, когда его после тяжелого ранения в грудь демобилизовали из флота. Вернувшись в станицу, он не расставался с матросской тельняшкой, по праздникам надевал черный парадный бушлат, бескозырку с полосатыми гвардейскими лентами и, взяв баян, ходил по улицам, играл песни о моряках.
Не успел пароход отойти от пристани и миновать залитый водою Зеленый остров, как Степан спросил, покосившись на Груню:
— Может, сыграть?
— Сыграй, Степа, — попросила Груня.
Степан расстегнул защитный чехол, вынул баян, с деланным равнодушием накинул на плечо ремень и лениво тронул сверкающие белой костью и перламутром клавиши. Тихонько подпевая, он заиграл старую песню о широком море, об умирающем кочегаре. Но на мотив старой, всем знакомой песни кто-то сложил новую — о герое матросе, оборонявшем от врага родное море. Задумчиво перебирая клавиши, Степан запел вполголоса.
Вокруг него стали собираться пассажиры: они вставали со своих узлов и чемоданов, подвигались поближе к сидевшему в темноте певцу и, вздыхая, слушали хватающую за душу песню. А Степан пел о смерти отважного матроса, о его храбрых друзьях, мстящих за гибель героя:
Напрасно старушка ждет сына домой, — Тоскуют и плачут баяны… Воюет бригада пехоты морской, По суше проходит с боями.Прижавшись к стене, Груня слушала песню, и перед ее глазами вдруг как живое возникло все, о чем пел Степан: она увидела широкое синее море, повитый дымом скалистый берег, смертельно раненного матроса, который, выплюнув песок и кровь, зубами взводит последнюю гранату. Закрыв глаза, Груня думала об этом неизвестном человеке, о его предсмертных мыслях, о прекрасной жизни-мечте, которую он защищал на горячей каменистой земле, побитой и посеченной вражескими бомбами, пахнущей гарью, но бесконечно милой и дорогой. И, думая это, Груня всем сердцем поняла, что ее жизнь и труд, так же как жизнь и труд Степана, Василия Зубова, Тоси — всех, кого она знала, — это живая частица человеческой мечты, за которую принял смертные муки погибший на пустынном берегу неизвестный герой-матрос.
— Такие-то у нас были люди, Грунюшка, — сказал Степан, помолчав. — Гордые, красивые люди… Они меня жить научили…
Над левобережной рощей поднималась большая луна. За бортом парохода шумно бурлила тронутая золотой рябью вода. Медленно расходились по местам привлеченные песней пассажиры. Внизу, в приоткрытом люке, видна была мерной грохочущая, пышущая жаром машина.
Они проговорили далеко за полночь. Не утерпев, Груня рассказала Степану о рыбоводном пункте, об аппаратах, которые стояли рядом в фанерных ящиках, о широких планах спасения рыбной молоди.
— Это здорово! — качнул головой Степан. — Я уважаю настоящую работу. Без работы скучно жить на свете. — Он тронул Груню за руку и сказал тоном заговорщика: — Знаешь что? Давай откроем ящики и поглядим эти твои аппараты! Я ж их отродясь не видал. Очень мне хочется понять, как это живую рыбу из икры выводят.
— Нет, Степа, нельзя! — испугалась Груня. — Тут все обложено стружками, увязано. В станице посмотришь…
На Голубовской пристани Груню встретили Иван Никанорович, Зубов, Тося с подругами. Пока возчик из рыбколхоза вез ящики к сияющему чистотой амбару, Зубов, взяв Груню за локоть, спросил:
— Какой системы аппараты?
— Я не рассмотрела, Вася, — смутилась Груня, — некогда было смотреть: их без меня упаковали.
— Ладно, я осмотрю сам, а в субботу сделаем первую закладку. Для начала возьмем сазана.
Боязливо прижавшись к Василию, Груня прошептала:
— Выйдет, Вася?
— Выйдет.
— Там один аппарат неисправный.
— Ничего, исправим…
Зубов провозился с аппаратами двое суток. Возбужденный, сердитый, он с утра до ночи работал в амбаре, устанавливая на деревянных стеллажах разнотипные аппараты. Толпа почтительно молчавших девчат наблюдала за установкой. Раз по пять в день в амбар забегал Степан. Заходил и Мосолов. Он рассмотрел аппараты, поговорил с Зубовым и сказал:
— Если чего надо, присылай девчат…
Василию помогала Груня. Она вырезала ножницами кожаные прокладки, кипятила смолу, проверяла термометры.
В пятницу вечером работа была закончена. В тесном амбарчике, поблескивая стеклом и металлом, стояли только что установленные аппараты. Два из них представляли собою похожие на опрокинутые бутылки стеклянные сосуды, плотно вставленные в полую чугунную подставку с краном; третий хотя и несколько отличался по конструкции от первых двух, но был построен по такому же принципу: беспрерывно поступающая в сосуд вода своим напором должна была поддерживать заложенную в сосуд икру в состоянии постоянного вращения.
В последний раз осмотрев аппараты, Зубов пошел к Мосолову и попросил его сделать утром контрольное притонение на Таловой.
— Мне нужно отобрать сотню хороших лещей и сазанов, — сказал он. — На пункте все готово, остановка только за рыбой.
— Ладно, — кивнул Мосолов. — Сегодня с низовьев приехал Пимен Гаврилович, мы попросим его засыпать невод.
Василий забеспокоился:
— Боюсь, что ваш Пимен Гаврилыч начнет артачиться. «Не успел, скажет, приехать в станицу, а вы меня на тоню посылаете…»
Однако Талалаев, прочитав записку председателя колхоза, тотчас же согласился засыпать невод на Таловой тоне и только спросил у посыльного:
— А как же с запретом? Нынче ведь не разрешается рыбу ловить. Наскочит инспектор, чего тогда делать?
— Для инспектора-то и ловить будете, — объяснил посыльный. — Ему для чего-то нужны чебаки или сазаны.
— Для инспектора? — удивленно протянул Талалаев и весело подмигнул: — Это другое дело!
Он похлопал посыльного по плечу:
— Сколько же товарищу Зубову чебаков требуется?
— Да не меньше сотни, говорят.
— Ну чего ж, передай председателю, что для инспектора мы с полным удовольствием. Чебаков ему доставим самых отборных. А ежели захочет, то мы их и закоптить или же провялить сможем.
— Ему, говорят, живая рыба нужна.
— Свежачка захотелось? — ухмыльнулся Пимен. — Можно и свежачка, нам это не трудно…
На рассвете сборная бригада оставшихся в станице рыбаков во главе с Талалаевым отправилась на тоню и засыпала невод. Улов оказался удачным: рыбаки выбрали из мотни пятьдесят корзин разной рыбы.
По просьбе Василия Груня переправилась на Таловую, отобрала сто штук самых крупных лещей и сазанов и осторожно уложила их в полузатопленную лодку.
— А чего ж делать с остальной рыбой? — спросил у нее Талалаев.
— Как чего? — удивилась Груня. — Отправьте в цех, Головневу. Нам нужны только лещи и сазаны.
— Ясно! — кивнул Талалаев, посмеиваясь, и провел рукой по усам: — Это что ж, для опытов столько рыбы берете?
— Да, Пимен Гаврилович, для опытов.
— Сотню штук? — недоверчиво переспросил Талалаев.
— Да… А что?
— Ничего… Я просто так… Наукой интересуюсь…
Доставленная к причалу рыба была тщательно осмотрена Зубовым, рассортирована и отсажена в плавающие на реке большие корзины.
Вокруг амбарчика, где располагался рыбоводный пункт, царило необычное оживление: у дверей толпились старики, под окнами сновали ребятишки, в самом амбаре, с любопытством посматривая на хлопотавшего у стола Зубова, чинно стояли Тося, Ира и три их подруги, девушки-комсомолки, которые помогали приводить в порядок амбар.
— Это будут наши новые рыбоводы, — сказала Груня Мосолову,
Кузьма Федорович, покуривая, наблюдал за Зубовым. Подвернув рукава рубашки, Василий стоял у стола и оттачивал на бруске узкий нож. Одна из девушек-засольщиц надела на Зубова свой белый клеенчатый фартук, и он, улыбаясь, сказал Груне:
— Как продавец из гастронома, правда?
На длинном чисто вымытом столе стояли стеклянные банки с притертыми пробками, флаконы с пестрыми этикетками, белели комки ваты, тускло поблескивали ножницы и ланцеты.
«Черт его знает, выйдет или не выйдет? — с волнением думал Зубов. — Люди интересуются этим делом!.. Вон их сколько набилось: дышать трудно… И если я провалю эту первую закладку, все полетит под откос…»
Он старался держаться спокойно, улыбался, шутил, весело покрикивал на ребятишек, но видно было, что он взволнован: на секунду задумываясь, он умолкал, нервно постукивал ногой по полу, часто курил и, встречая тревожный взгляд Груни, встряхивал головой, словно отгонял от себя назойливую, ненужную мысль.
— Ладно! — отрывисто бросил он девушкам. — Давайте начнем.
Груня и Тося вытащили из корзины крупного, с червонеющей чешуей леща и, придержав его руками, уложили в неглубокий вырез стола. Наклонившись, Зубов коротким движением ножа сделал надрез на спине леща, близ головы, обнажил мозг, взял копьевидный изогнутый ланцет, осторожно извлек из мозга рыбы серовато-белую крупинку и опустил ее в стеклянную баночку.
— Это для чего же? — спросила Ира.
— Сейчас… сейчас расскажу… минуточку, — забормотал Зубов.
Работая над второй рыбой, он стал объяснять, посматривая то на одну, то на другую девушку:
— Это важная штука, девушки. Она позволяет нам управлять сроками размножения рыбы.
Держа над ладонью заалевший от крови ланцет, он показал сгрудившимся вокруг стола девушкам лежащую на конце ланцета мелкую крупинку.
— Это гипофиз, придаток головного мозга. Сейчас мы приготовим из него препарат и введем его в самку-икрянку, а завтра получим от этой самки зрелую, готовую к оплодотворению икру.
— Здόрово! — одобрительно сказал Мосолов, подвигаясь ближе к Зубову. — Значит, выходит, что мы можем рыбе свой календарь установить? Так, что ли?
— Именно, — подтвердил Зубов. — То, что мы сейчас будем делать, называется гипофизарной инъекцией. Это открытие нашего советского ученого, и оно имеет для культурного рыбного хозяйства огромное значение, так как позволяет человеку управлять сложным процессом размножения рыбы…
Когда нужное количество гипофизов было вынуто, Зубов взял со стола флакон с прозрачной жидкостью и налил в баночку, где лежали похожие на светлые бисеринки гипофизы.
— А это что? — спросила Тося.
Зубов протянул ей флакон:
— Посмотрите. Это ацетон. Он обезжиривает гипофизы и удаляет из них влагу… Через четверть часа мы сольем помутневшую первую порцию ацетона и наполним баночку новой порцией…
Проходили часы, но из амбарчика никто не уходил. Взрослые и дети с одинаковым интересом смотрели на все, что делал Зубов. Старухи станичницы, покачивая головами, говорили вполголоса:
— Разве ж это все поймешь?
— Тут для этого дела не колхозник, а доктор из больницы требуется.
— Да и доктор навряд ли поможет. Он ведь по людям понимание имеет, а рыба — совсем другое…
— Нет, наш станичник тут не разберет что к чему…
— Ничего, бабушка, придет время — все разберутся, — отозвался Зубов. — Раз человек ошибется, другой раз, а потом сделает все, что надо. Ученые люди помогут нам разобраться…
— Н-да… наука до всего доходит, — поддержал стоявший в дверях Мосолов.
Он не слишком верил зубовской затее, но и ему хотелось, чтобы первый в колхозе опыт инкубации икры удался. Именно поэтому Кузьма Федорович уже несколько раз подходил к Василию и гудел ему в ухо:
— Не робей, Кириллыч. Ежели чего надо будет, мы поможем. Ты только поддержи нашу колхозную марку, не ударь лицом в грязь.
Вынутые из ацетона гипофизы просохли и стали похожи на твердые бусинки. Зубов выложил их в круглую фаянсовую чашечку и растер в порошок. Потом он вылил туда отмеренный в мензурке раствор, подождал немного и, вынув из никелированной коробки шприц, вставил иглу и сказал девушкам:
— Давайте икрянок из второй и третьей корзины. В ведро берите не больше одной рыбы. Самое главное — ничем не беспокойте отсаженных самок… — Он повернулся к Груне: — Пойди с ними, Грунечка… проследи сама…
Девушки побежали к берегу, и вскоре одна за другой стали возвращаться в амбарчик, осторожно неся на коромысле закрытые сеткой ведра. Тося вынула из ведра первую брюхатую сазаниху и положила на стол. Шевеля янтарными плавниками, рыба ударила хвостом по скользкой доске и, если бы Мосолов не придержал ее, слетела бы на пол.
Зубов опустил шприц в баночку и посмотрел на свет.
— Так, — пробормотал он, — точно полтора кубика.
Шагнув к столу, он крикнул Тосе:
— Держите рыбу!
Он нащупал на спинной части рыбьего туловища удобное место и довольно уверенно вонзил иглу наискось по направлению к голове, потом, придерживая шприц, неторопливо ввел жидкость.
— Готово. Кладите в ведро и несите обратно, — скомандовал он. — Только, смотрите, отсаживайте инъекцированных самок в отдельные корзины. Давайте следующую рыбу!
Закончив работу, Василий тщательно вымыл руки и сказал устало:
— На сегодня, товарищи, все… То, что нами сейчас сделано, вызовет полное созревание икры в те часы, какие нам нужны. Завтра в полдень мы начнем первую закладку.
Люди, переговариваясь, разошлись по домам. В этот вечер вся станица говорила о том, что делается в старом амбарчике на винограднике. Многие собирались туда назавтра, чтобы увидеть, как инспектор будет закладывать в рыбоводные аппараты сазанью и чебачью икру.
— Ну как? Выйдет, Вася? — тревожно спросила Груня, когда все ушли.
— Должно выйти, — не очень уверенно ответил Зубов. — Уж очень устаревшие аппараты ты привезла…
Он посмотрел на девушку и засмеялся: в Груниных волосах, на лбу и на шее блестела рыбья чешуя.
— Ничего, Грунюшка, выйдет, — сказал Василий, — а теперь давай я тебя умою, посмотри, на кого ты похожа!
Домой они ушли вместе.
Утром вся «рыбоводная бригада», как кто-то назвал девушек, была в амбаре. Вслед за девушками туда потянулись старики, женщины, дети. Пришел даже старый паромщик Авдей Талалаев.
Вся рыба уже была принесена из отсадочных корзин и уложена в наполненную речной водой ванну.
Зубов медленно подвернул рукава рубашки, подвинул к краю стола чистый эмалированный тазик и повернулся к безмолвно ожидавшей Груне:
— Давай, Грунечка!
Груня выбрала из ванны тяжелую икрянку-сазаниху и подала Василию. Блестя глянцевой желтизной чешуи, рыба тревожно заглатывала воздух и довольно вяло заносила то влево, то вправо скользкое, пахнущее рекой туловище.
Прижав голову рыбы локтем и придерживая ее извивающийся хвост, Василий наклонился над тазом, осторожно сжал пальцами брюхо сазанихи и, не ослабляя тугого зажима ладони, стал подвигать руку к повисшему над тазом рыбьему хвосту.
На белую эмаль тазика брызнула икра.
— Хорошая самка, — сквозь зубы сказал Василий, — давай вторую!
Он выдавил икру из второй рыбы, потом из третьей. Люди молча наблюдали за ним. Только Авдей Гаврилович, разглядывая тазик с икрой, попробовал пошутить:
— Ну, теперь сюда доброго луку да постного маслица — и закуска под водку готова.
На шутку паромщика никто не ответил.
Покончив с икрянками, Василий коротко бросил:
— Давай самцов, Груня!
В тот же тазик, где лежала только что выдавленная икра, он выдавил у сазанов молоки, подлил в тазик немного мутной воды, чтобы лишить икринки клейкости, и стал пучком гусиных перьев помешивать икру.
— Европейские и американские рыбоводы при смешивании икры с молоками прибавляли много воды, — задумчиво сказал Зубов. — Наш русский ученый Врасский изобрел сухой метод, и это оказалось гораздо лучше. Сейчас мы разрабатываем полусухой метод. У нас в техникуме ставились такие опыты…
Хитро скосив глаза, паромщик Талалаев оглянулся, как бы ища поддержки, и махнул рукой:
— Товарищ инспектор сказки рассказывает! Рыба плодится в воде, а вы, значится, желаете свой закон ей установить, Каждому насекомому спокон века своя фортуна в природе показана, а вы хочете на свой манер это дело перекроить!..
Вытирая полотенцем руки, Василий возразил спокойно:
— Умные люди говорят, что в природе не все хорошо устроено. Кое-что надо исправлять, дедушка. Вот мы и пробуем исправить.
— Ну чего ж, — смиренно согласился дед, — дай боже нашему телку волка съисть.
— Поживем — увидим, — засмеялся Василий, — может, и съедим!
Он сказал это, но полной уверенности у него не было. Первый опыт мог оказаться неудачным. Оставалось одно: ждать…
…Теперь Груня с утра до поздней ночи дежурила в старом амбаре. Из сложенной в аппараты икры вскоре выклюнулись личинки. Тонкие, прозрачные, как стекло, с неуклюжими желточными пузырями, еще не похожие на рыб, они кишели в сосудах, и Груня часами любовалась ими, приговаривая:
— Мои малышки, мои котики… Скоро мы вас выпустим в реку, и вы поплывете в далекое синее море.
Целый день двери амбара были широко распахнуты. Люди толпами приходили смотреть аппараты, причем приходили не только рыбаки, но и колхозники соседних полеводческих колхозов. Они наблюдали легкое движение личинок, переглядывались и говорили степенно:
— Красивое дело! Тут, ежели его как следует поставить, большая польза хозяйству будет.
— Еще бы не польза! Как курчат, рыбу выращивают. Все стадо посчитать можно и учет ему вести!
Особенно подолгу присматривались к личинкам колхозники-степняки. Дожидаясь у парома, на переправе, они приходили в амбар, беседовали с Груней и Василием, говорили друг другу:
— Для нас — это самое нужнейшее дело. Земли наши лежат далеко от реки. Мы сейчас пруды роем. Вот бы для наших прудов рыбку вырастить!
— Вырастим и для ваших прудов, — весело обещала Груня.
Но однажды утром, придя в амбар, она замерла от испуга: поступающая в аппараты вода неторопливо кружила множество мертвых личинок.
Груня бросилась за Зубовым, они вдвоем прибежали в амбар, и Василий растерянно посмотрел на аппараты.
С досадой тряхнув головой, он сказал смущенно:
— Ничего не понимаю. Все было сделано как надо.
Он забегал по амбару и остановился, осененный догадкой:
— Должно быть, мы прозевали отсадку личинок из аппаратов в ящики. После выклевывания из икры личинки карповых должны пройти стадию некоторого покоя, неподвижности. А в аппаратах ни на секунду не прекращается быстрая циркуляция воды.
Тронув огорченную девушку за плечо, Зубов сказал тихо:
— Ладно. Давай, пока не поздно, выберем живых личинок и отсадим в ящики, на реку. А опыт свой мы все-таки будем продолжать. Правда, Грунечка?
— Правда, Вася, — ответила Груня, вытирая слезы.
5
Вода медленно сходила с займищ, словно нехотя уступала настойчивости солнца и ветра, иссушавшего теплую землю. На залитых лугах островками стали обозначаться самые высокие места — холмики, бугорки, древние татарские могилы, которые были рассыпаны по всей придонской степи. Проходили недели, и вода, убывая, вливалась обратно в реку, а вместе с нею скатывалась выметавшая икру рыба. Вслед за старой рыбой к реке тянулось много рыбьей мелочи. Но в озерах и ериках оставалась масса молоди, которая не чувствовала приближающейся смертельной опасности.
А опасность надвигалась все более неотвратимо: днем и ночью незаметно уходила с займищ вода, и уже близок был тот час, когда последняя полоса береговой суши, выйдя из воды, должна была стать барьером между рекой и теми полыми водами, которые блестели во всех углублениях займища: озерах, ериках, старицах, мелких музгах.
В каждом таком углублении ежегодно задерживалось множество молодой рыбешки: маленьких лещей, сазанов, судачков. Чем мельче становились отрезанные от реки водоемы, тем больше погибало оставшейся там рыбьей молоди: ее склевывала прожорливая болотная птица, жрали пасущиеся на займище свиньи. Когда летнее солнце лишало полои последней влаги, остаткам несозревшей молоди приходил конец: точно опавшая с деревьев листва, валялась несметная масса рыбинок на обезводевшей земле; судорожно заглатывая сухой, палящий воздух, поводя тронутыми степной пылью жаберками, тараща в небо тускнеющие глаза, издыхали миллионы рыбок бессмысленно и нелепо, по слепому закону не рассуждающей природы.
…Четверо суток сидел Зубов над планом спасения рыбной молоди, предусмотрел каждую мелочь, несколько раз бегал советоваться с Груней, а она уже шила с подругами марлевые черпаки, проверяла в колхозных складах тару для перевозки молоди и не один раз, чуть не плача, говорила Василию:
— Негодяи эти кладовщики… Чистые бочки были приготовлены еще зимой, а они их поналивали всякой дрянью: керосином, смолой, купоросом… Как я теперь в таких бочках молодь перевозить буду? У меня же погибнут все рыбки…
Василий мрачнел. Он вообще не мог выносить вида плачущих женщин, а когда начинала плакать Груня, ему хотелось зубами вцепиться в горло любому обидчику.
А она прятала от него заплаканное лицо и грозилась:
— Я им за каждую рыбку душу вытрясу… Бочки мне испакостили, марлю всю израсходовали, лопат не приготовили… Как я работать должна?
— Ничего, Грунечка, сделаем что-нибудь, — успокаивал Зубов, — я поговорю с председателем… У них там новые бочки приготовлены для вина, используем эти бочки… За марлей можно человека в райздрав послать, объяснить, в чем дело, они дадут марли. А лопаты отремонтируем старые, я сам схожу к кузнецам.
В самый разгар подготовки рыбколхоза к спасению молоди Василий узнал, что все голубовские рыбаки возвращаются с низовьев и что у плотины будет работать научная экспедиция.
— Какая экспедиция? — спросил Василий.
Кузьма Федорович озабоченно пожал плечами:
— По изучению белуги.
— Белуги? — обрадовался Зубов. — А кто руководит этой экспедицией, не слышали? Не профессор Щетинин?
— Во-во, профессор Щетинин, — подтвердил председатель, — так написано в телеграмме, а телеграмма прислана прямо из министерства. Завтра они будут здесь…
Зубов ушел из правления с бьющимся сердцем и сразу пошел к Прохоровым обрадовать Груню сообщением об экспедиции.
Профессора Илью Афанасьевича Щетинина Зубов знал давно: еще до войны, когда Василий, будучи совсем мальчишкой, держал экзамены в рыбопромышленный техникум, студенты старших курсов по-дружески предупредили его, чтобы он не совался к экзаменаторам, если в кабинете будет присутствовать профессор Щетинин. «Он все равно зарежет», — пугали его доброжелатели. Как назло, в ту самую минуту, когда Зубов уселся перед молодой женщиной-экзаменатором и начал отвечать на вопрос, в комнату, шаркая башмаками, вошел высокий и тощий, как жердь, старик в роговых очках. Это и был профессор Щетинин. Он, насупившись, выслушал ответы Василия, несколько раз грубовато перебил его, но ничего не сказал. По этому экзамену Зубову была все же поставлена пятерка.
Потом, уже учась в техникуме, Василий несколько раз украдкой проникал в аудиторию старших курсов, чтобы послушать лекции Щетинина по ихтиологии и рыбоводству в естественных водоемах. Лекции этого высокого хмурого старика покорили Зубова. Профессор Щетинин читал так, как не читал никто: он прекрасно знал рыб, мог бесконечно рассказывать о жизни в воде и вместе с тем бесстрашно и резко подчеркивал иногда свою беспомощность во многих научных вопросах. «Я этого не знаю, — говорил Щетинин студентам, — не знаю и ничего не могу сказать. Это надо нам изучать вместе с вами». Зубову, как и всем другим, нравилась такая бесстрашная честность, она проникала в сердца слушателей гораздо глубже, чем гладкие лекции самодовольных всезнаек.
Позже, когда Василий по окончании войны демобилизовался из армии и был зачислен на второй курс техникума, он снова встретился с еще более постаревшим профессором Щетининым. Несмотря на то что многие рыбники не любили старика, считали его слишком беспокойным и раздражительным человеком, а некоторые — за глаза, конечно, — называли грубияном и даже склочником, Василию что-то нравилось в Щетинине: то ли действительно тяжелая для окружающих прямота и резкость его характера, то ли стыдливо спрятанная в глубине души поэтическая влюбленность в природу.
За три года пребывания в техникуме Василий Зубов все больше и больше привязывался к своему учителю, ходил за ним по пятам и готов был ночами не спать, лишь бы слушать рассказы старика о разных морях и реках, о бесчисленных озерах России, которые повидал Щетинин, долгие годы занимаясь рыбоводством, о повадках и нравах рыб и, самое главное, о будущем рыбного хозяйства. Это был конек Щетинина. Он постоянно носился с планами организации новых форм рыбоводства, писал множество докладных записок, заявлений, телеграмм в различные тресты, комбинаты, управления, главки, а потом вдруг надолго исчезал, бродя где-нибудь по рекам или месяцами высиживая на берегу какого-нибудь озера и наблюдая неизвестную разновидность леща.
Узнав о том, что Щетинин будет возглавлять экспедицию по белуге и со дня на день должен приехать в Голубовскую, Василий побежал к Груне в амбар и закричал с порога:
— К нам едет Щетинин!
— Какой Щетинин? — всполошилась Груня.
— Помнишь, я тебе рассказывал о нем: мой учитель! Посмотришь, Грунечка, какой это человек, — забегал по комнате Василий. — С ним день побудешь — на голову выше станешь, и настроение у тебя появится такое, как будто за спиной выросли крылья.
Груня с тревогой посмотрела на подруг, на разбросанные обрывки марли и испуганно тронула Зубова за рукав:
— Ой, я боюсь, Вася!
— Чего?
— Как же я буду при Щетинине руководить спасением молоди? Он еще изругает нас всех. Ты ж рассказывал, что он всех ругает.
— Ну уж не придумывай, Груня, — засмеялся Зубов, — я тебе никогда не говорил, что он всех ругает. К нему просто привыкнуть надо…
Вечером Зубов встретился с Мосоловым, и тот сообщил ему, что Щетинин едет в Голубовскую на катере «Жерех», который придан экспедиции, и что катер должен прибыть завтра утром.
— Следом за «Жерехом» идут наши рыбацкие дубы, — сказал Кузьма Федорович, — они тоже, наверное, прибудут завтра к вечеру.
— А как же с выполнением плана? — спросил Зубов, не понимая, почему председатель, говоря о возвращении рыбаков с низовьев, загадочно пощелкивает пальцами здоровой руки и явно радуется чему-то.
— План будет выполняться на месте.
— Как на месте? — удивился Василий. — А запрет?
Мосолов заулыбался:
— Для вылова белуги Щетинину нужны обе наши неводные бригады. А все, что будет поймано, кроме белуг, министерство разрешило нашему колхозу сдавать в рыбцех в счет годового плана добычи.
— Значит, и Щетинин будет доволен и рыбколхоз в убытке не останется?
— То-то и оно, — кивнул Мосолов. — Теперь мы сможем всю сетчиковую бригаду деда Малявочки бросить на спасение молоди, а то наш рыбовод уже который день в три ручья слезы льет, говорит, что работы, дескать, будут сорваны…
Придя домой, Василий решил сразу лечь спать, чтобы встать пораньше и побежать на берег к прибытию «Жереха». Проснулся он на рассвете, быстро умылся и, не будя сладко спавшего Витьку, пошел на берег.
Каждая река особенно хороша по утрам, и Василий с детства любил утренние прогулки. Он присел на чей-то вытащенный на песок каюк и закурил. Солнца еще не было видно, но ранняя заря, спрятанная за лесом Церковного рынка, уже тронула яркой киноварью верхушки надречных верб и тополей. Охлажденные за ночь воды спокойной реки синели гладким разливом, кое-где над рекой клубились едва заметные клочья тумана. В окутанных дымчатыми тенями лесах щебетали проснувшиеся птицы.
«Жерех» показался в восьмом часу. Он шел, таща на буксире три глубоко сидевших в воде широких паузка, и резкое пахканье его дизеля Василий услышал издалека. Однако, к удивлению Василия, профессора Щетинина на катере не оказалось.
— А где же Илья Афанасьевич? — спросил Зубов у рулевого, румяного парня в брезентовой куртке.
— Они на рыбацких дубах, — зевая, сказал рулевой. — Мы догнали дубы возле мелеховского переката, и Илья Афанасьевич пересели до рыбаков.
— Зачем?
— Кто их знает. «Вы, говорит, не ожидайте меня, двигайтесь дальше, а я, мол, доберусь до Голубовской с рыбаками».
Василий засмеялся. Он сразу узнал в этом знакомые ему черты щетининского характера, те самые черты, которые многие недолюбливавшие старика рыбники называли капризами, кониками, номерами и трюками.
Днем, ожидая подхода рыбацких дубов, Василий помогал Груне готовить тару для молоди. Они провозились в колхозном складе часа четыре: следили за мойкой новых бочек, проверяли большие резиновые ванны, объясняли плотнику, как надо сделать учетные ловушки.
Перед вечером вместе со всей станицей Василий и Груня пошли на берег.
Озаренная заходящим солнцем, на излучине показалась длинная вереница рыбацких дубов. Над темными бортами ладно взлетали десятки весел. Чистые мужские и женские голоса пели протяжную песню о Степане Разине, и затихающее ее эхо носилось над лесами и займищами.
— Хорошо поют, — задумчиво сказала Груня.
Дубы подошли к причалам все вместе, плотно сомкнутым караваном: над бортами с грохотом взлетали широкие сходни, и рыбаки один за другим стали выходить на берег.
— Вот он, Щетинин, — шепнул Василий Груне.
Поддерживаемый под руку Архипом Ивановичем, неловко стуча тяжелыми солдатскими башмаками, по сходням спускался высокий прямой старик. У него было морщинистое лицо с колючим, небритым подбородком и крупным носом, на котором крепко сидели сверкающие массивными стеклами очки. Старик был одет в грубошерстный костюм песочного цвета и форменную фуражку с круглым гербом. Измятые брюки и китель профессора были забрызганы водой и грязью.
Шагнув на сходни, Василий закричал радостно:
— Здравствуйте, Илья Афанасьевич!
Холодные старческие глаза Щетинина тронула искорка теплоты. Он протянул Зубову большую, испачканную илом руку и проговорил резким, скрипучим голосом:
— Здравствуйте, Зубов. Вот вы, оказывается, где устроились! Хорошо… К-кажется, Василием вас зовут? Василий… п-по батюшке?
— Василий Кириллович, — подсказал Зубов.
— Да, да. Вспоминаю, как же…
Щетинин говорил с трудом, точно держал во рту круглый речной голышок и он мешал ему быстро и внятно произносить нужные слова. Иногда, раздражаясь и злясь, профессор даже начинал заикаться, внезапно умолкал, упрямо глядя в лицо собеседнику выпуклыми недобрыми глазами, и, овладев собой, вновь начинал прерванную нервной спазмой речь.
— Как вы тут живете? — спросил Щетинин, опираясь на руку Василия и идя рядом с ним. — Рыбы у вас много воруют?
— Не очень много, Илья Афанасьевич.
Уступив место идущей сбоку Груне, Василий сказал профессору:
— Это рыбовод Голубовского колхоза Аграфена Ивановна Прохорова.
Щетинин, кивнув, посмотрел на девушку:
— Очень приятно. Курсы кончали?
— Годичные курсы, — зарделась Груня, — в прошлом году окончила…
Они шли в станицу, окруженные весело гудевшей толпой рыбаков. Нагруженные мешками и корзинками, рыбаки брели медленно, вразвалку, прижимая к себе вертевшихся под ногами ребятишек и осматривая выплывающие из воды станичные улицы, над которыми темнела пышная весенняя зелень. Василий успел на ходу поздороваться с Марфой, взял ее корзинку, перебросился несколькими словами с Архипом Ивановичем и побежал догонять Щетинина.
Профессору было тяжело ходить, и ему отвели комнату поближе к реке, в домике деда Малявочки, стоявшем на самом берегу. Вечером, когда Щетинин отдохнул, Зубов пошел к нему и застал Илью Афанасьевича на крыльце. Он сидел с огромным, как гора, Малявочкой и, ловко свертывая папиросу, говорил о белугах:
— Это, дед, интересная рыба, чисто русская. Она водится только в наших водоемах. Мы ее мало знаем, белугу, а о ней можно большие книги писать. Вот и надо нам изучать образ жизни белуги, ее поведение в море и реке, условия ее размножения…
— А почему, Илья Афанасьевич, вы выбрали для наблюдений Голубовскую? — спросил Василий, присаживаясь на ступеньки крыльца.
Щетинин пустил густые клубы табачного дыма и закашлялся.
— Меня беспокоит голубовская плотина. Вы ведь знаете, что часть белужьего стада идет нереститься уже тогда, когда фермы у плотины поставлены и река перерезана. Между тем основные белужьи нерестилища расположены гораздо выше вашей станицы. Следовательно, плотина преграждает белуге нерестовый ход. Огромные белуги толкутся у самого шлюза, обивают себе носы об острые края ферм, пытаются силой прорваться сквозь преграду и уходят ни с чем… — Профессор вытряхнул из мундштука догоревшую скрутку и сказал задумчиво: — Не найдя своего нерестилища, белуга не может выметать икру, которая претерпевает перерождение, и самка остается без потомства… Правда, тут многое еще не ясно, но для меня, по крайней мере, ясно одно: человек должен помочь рыбе. Вот мы и хотим попробовать один способ такой помощи.
— Какой же способ? — спросил Зубов.
— Будем ловить икряных белуг и молошников и попытаемся перебросить их за плотину, чтобы они свободно прошли к местам нереста. Вероятно, это будет трудная работа, потому что мы не имеем тут никакого опыта…
Они помолчали. Дед Малявочка, поглядывая на мерцающие вдали белые и красные огоньки бакенов, почесал мохнатую грудь и сладко зевнул:
— Старые люди говорят, что белужий камень от любой болезни человека спасает… Энтот камень и от порчи вылечивает, и от дурного глазу, и от всякой болячки… Попадается у белуги в почках такой камень, навроде курячего яйца. Возьмешь его в руку, спервоначалу мяконькой, а после твердее, как мосол делается… Оно и осетёр имеет такой же камень, а только осетровый куда слабже по силе…
Лениво пролаяла соседская собака. На виноградниках сонно закричала иволга.
— Ну и что ж, Ерофей Куприяныч, лечили вы кого-нибудь белужьим камнем? — усмехнулся Щетинин.
— Я-то сам, можно сказать, не лечил, — признался Малявочка, — а дед мой покойный кривую Талалаиху на ноги энтим камнем поднял. Здоровая была баба, они богато жили, а потом чего-то ноги у нее отнялись, годов, кажись, трое с лежанки не вставала. По врачам ее возили, шептухи всякие над ей колдовали, ничего не помогло. А дед вылечил ее белужьим камнем. Как зачал весной лечить, так до осени эту калеку на ноги поставил. Апосля он белужий камень чиновнику на шахтах продал за десять целковых, чиновник от запоя хотел камнем лечиться…
— Слышал, Зубов? — сдерживая улыбку, спросил Щетинин. — Впрочем, говорят, белужья печень содержит вещества, излечивающие людей от такой тяжелой болезни, как белокровие…
Он стал спрашивать Василия о работах по спасению рыбной молоди, и Василий рассказал ему, как рыбколхоз готовился к этому, и пожаловался на то, что колхозное правление все же до сих пор считает спасение делом второстепенным и не уделяет ему достаточного внимания.
Выслушав Василия, Илья Афанасьевич неожиданно обрушился на него:
— Вы сами в этом виноваты, — раздраженно сказал Щетинин, — нельзя считать, молодой человек, что инспектор рыболовного надзора — это участковый м-милиционер и что ему надлежит только составлять п-протоколы. Вы сидите тут несколько месяцев, надо было повести работу так, чтобы у вас каждый колхозник знал, что значит для государства спасение тридцати или сорока миллионов рыбной молоди.
— Мы говорили об этом на заседании правления, — попробовал возразить Зубов.
— Мало и п-плохо говорили… Я сам завтра зайду в колхоз…
Щетинин с кряхтеньем поднялся, вздохнул, протянул Василию руку и сказал виновато:
— Устал я. Годы свое берут. Отдыхать надо. До свидания.
Когда Зубов и дед Малявочка ушли: один на улицу, а другой в летнюю кухню, — старик свернул папиросу и, шаркая башмаками, прошелся у крыльца. Он посматривал на затянутую легкой облачной дымкой луну, слушал тихое плескание воды на реке и думал о белугах, о рыбной молоди, обо всем том, что составляло смысл всей его долгой жизни.
6
В жаркий летний день весь Голубовский рыболовецкий колхоз вышел на займище. Выступив на заседании правления, профессор Щетинин заявил, что все колхозные бригады должны быть немедленно брошены на спасение рыбной молоди.
Взяв в колхозе линейку, Щетинин в сопровождении Антропова и Зубова объехал правобережное займище, на котором были расположены десятки поросших кугой озер, старых ериков и черных заболоченных музг. Не слезая с линейки, он набросал схему займищных водоемов, сам провел контрольный облов в наиболее отдаленных озерах и подсчитал выловленных мальков по породам.
— Молоди на займище несметная масса, — сказал он колхозникам, — надо ее спасать.
В воскресенье бригады Антропова, Талалаева и деда Малявочки, специальная бригада Груни Прохоровой и большая группа школьников выехали на луг. Мосолов хотел было освободить от работы правленческий аппарат, но Щетинин рассердился на председателя, отчитал его при всех, и тот вывел в поле бухгалтера, счетоводов, приемщиков, весовщиков, курьеров, уборщиц.
Люди рассыпались по всему займищу. Больше ста человек стали копать канал от огромного Кужного озера до реки. Женская бригада Малявочки облавливала волокушами самые дальние озера: Большое Лебяжье, Петровское, Иловатое, Жемчужное.
Займище уже зеленело молодой травкой, по высохшим дорогам вставала под колесами арб легкая пыльца, и только местами блестели в низинах последние лужицы воды.
Груне Прохоровой доставалось больше всех. Оседлав рыжего правленческого жеребца, она носилась от озера к озеру, и ее голубая майка мелькала по всему займищу.
Особенно беспокоила Груню сетчиковая бригада Малявочки. Тут рыбу перебрасывали в реку самым тяжелым для мальков способом: вылавливали их в озере, марлевыми зюзьгами перекладывали из волокуши в стоявшие на арбах бочки, девять километров везли к реке и там выкидывали из бочек в воду.
Увидев Груню на дороге, старик Щетинин сердито окликнул ее, и когда она подскакала к нему на взмокревшем жеребце, он протянул скрипучим голосом:
— У вас, девушка, сетчики ни к черту не годятся. Они перегружают бочки молодью маловыносливых пород — судака, например. Пусть кладут на ведро воды не больше ста штук мальков, иначе они заморят в дороге рыбу и в реку будут скидывать трупы.
— Я сейчас поеду туда, — заволновалась Груня.
Щетинин досадливо поморщился:
— Подождите. Еще не все. В бочках у вас слишком теплая вода, значит, она содержит меньшее количество кислорода. Ч-что вам следует сделать?
Осадив играющего коня, Груня ответила смущенно:
— Я скажу им, чтобы они не допускали густой посадки мальков, и попрошу председателя привезти из рыбцеха льда… Я поеду!
И, огрев жеребца плетью, Груня понеслась к Лебяжьему озеру. Она залетела прямо в воду, забрызгала чертыхнувшегося Малявочку и, вытирая потный лоб, набросилась на деда:
— Зачем перегружаете бочки судачатами? Знаете ведь, что это нежный малек! Через вас и мне попало. И зюзьгами надо работать аккуратнее, а то у вас в бочках чуть не половина снулой рыбы.
— Тю, будь ты неладна, — пятился, топчась в воде, Малявочка, — скачешь, как будто тебе вожжа под хвост попала! Без тебя знаем, чего нам делать. Подумаешь, нежность какую нашла в судачатах. Черт их не возьмет, твоих судачат!
— Как это — черт не возьмет?! — возмутилась Груня. — Вот посадить бы вас в бочку да перевезти за девять километров на быках, тогда б вы сказали, возьмет или не возьмет.
Малявочка миролюбиво махнул рукой;
— Отвяжись, анчутка! Ладно. Будем твоих судачат с плацкартой в бочку сажать, а чебачата да сазанята нехай в общем вагоне следуют, они покрепче будут.
Понаблюдав за тем, как женщины-рыбачки, подтянув к берегу волокушу, выбирают мальков из мотни легонькими зюзьгами, Груня сказала умоляюще:
— Только, бабочки, поаккуратнее, прошу вас! Ведь они, эти мальки, все равно как цыплята слабые: чуть придавил сильней или в воду кинул с размахом, так, считай, и готов — сразу рот раскроет.
К Груне подошла Марфа Сазонова. Оправляя высоко подоткнутую юбку и скосив на свекра красивые глаза, она спросила:
— Вы, Грунечка, Василь Кириллыча не видали? Мне надо бы завтрак ему передать, а то он как ушел до света, так до сей поры и не ел ничего.
— Нет, Марфа Пантелеевна, не видала, — нахмурилась Груня, — я за ним следом не хожу.
Марфа улыбнулась:
— Ежели увидите, скажите ему, Грунечка, что я на Лебяжьем. Пущай забежит да хоть покушает, а то человек с голоду помрет. — Она оглянулась и добавила: — Даже и до свадьбы своей не доживет.
Напоив коня, Груня решила подождать, пока женщины пересадят мальков из волокуши в бочку, и сопровождать потом подводу с бочкой до самой реки, чтобы понаблюдать за состоянием молоди. Скоро стоведерная бочка с чистой речной водой была наполнена юркими мальками и накрыта мокрым пеньковым мешком. Скрипя ярмами, высокие рябые быки поволокли арбу по кочковатой дороге. Пробиваясь через редкую мешковину, из бочки потекла вода.
Груня не знала, кто погоняет быков, и закричала издали:
— Сверни с дороги на траву! По таким кочкам ни одного малька не довезешь!
Из-за бочки выглянула повязанная белой косынкой голова Иры Грачевой.
— Это сенокос полеводческого колхоза, — замахала она руками, — вытопчем ихнюю траву, так они с нас головы поснимают…
Дед Малявочка счел нужным вмешаться и крикнул Ире:
— Давай, давай, сворачивай! Ничего траве не будет, она ишо молодая, выправится до сенокоса!
Девушка послушно сбила быков с дороги, и те, помахивая хвостами, пошли напрямик по зеленому разнотравью. Груня, придерживая танцующего жеребца за жиденький загривок, никак не могла вскочить на седло. Ее лоснящаяся от травы спортивная туфля скользила по высоко подтянутому стремени, а раскормленный жеребец, игриво перебирая тонкими, в белых чулках, ногами, скалил зубы и норовил ухватить Груню за туфлю.
Наблюдая за обозленной, вспотевшей девушкой, Марфа подмигнула ухмылявшемуся свекру и сказала:
— Чего ж вы, батя, не подсобите товарищу рыбоводу? Вы ж тут один за кавалера остались…
Дед Малявочка, шурша мокрыми штанинами, подошел к Груне, подставил ей под ногу широченную ладонь и проворчал:
— Сигай, казак в юбке!
Груня, не оглядываясь, поскакала вслед за арбой. Ей особенно неприятно было то, что ее беспомощность видела Марфа, которая, конечно, расскажет Зубову о том, как проклятый конь измывался над «товарищем рыбоводом».
В дороге Груня несколько раз просила Иру остановить быков, слезала с коня, разматывала мешок и заглядывала в бочку. Маленькие, с полпальца, чебачата и сазанята чувствовали себя как дома: они шныряли в воде во все стороны и, натыкаясь на стенку бочки, испуганно шарахались назад, зато молодь судака явно сдавала, была вялой и неподвижной.
Привязав жеребца к арбе, Груня пересела к Ире, сняла туфли и умоляюще сказала:
— Поехали скорее, Ирочка! Вода в бочке потеплела, малькам дышать трудно.
— Ге-э-эй! — закричала Ира, помахивая длинной хворостиной.
Быки пошли быстрее. Девушки сидели молча, свесив с арбы голые ноги. Они проехали мимо копавших соединительную канаву ловцов Пимена Талалаева, заметили на меже стоявшего с председателем полеводческого колхоза профессора Щетинина и повернули вправо, туда, где синели вербы старого речного русла. Река в незапамятные годы оставила это русло, и оно, обтекая лесистый остров, превратилось в рукав. Голубовцы называли этот рукав Низеньким.
— Гони, Ира, прямо к Низенькому, — тревожно сказала Груня, — так будет скорее!
Ира, покрикивая на ленивых быков, подогнала их к пологому берегу и заставила зайти в воду выше брюха.
Развязав бочку, девушки стали осторожно выбирать мальков ведрами и, наклоняя ведра к самой воде, бережно выпускали юркую рыбешку в реку. Мальки на мгновение застывали на месте и, вильнув прозрачными хвостиками, исчезали в глубине реки.
И тут, наблюдая за спасенными рыбинками, Груня забывала все: широко расставив на скользкой доске арбы босые ноги, приоткрыв от удовольствия рот, она следила, как мальки, точно серебряный дождь, падали в реку и мерцающими искорками таяли в зеленоватой воде.
— Вот здорово, Ирочка! — восторгалась Груня. — Сколько мы их спасли и сколько из них получится здоровенных сазанов, лещей, судаков… Пусть теперь плавают да нас вспоминают!
У Низенького девушки расстались. Ира поехала обратно к Лебяжьему за следующей партией мальков, а Груня, сев на коня, поскакала проверить, как идет работа в бригаде Талалаева, которая прокапывала канал на среднем участке трассы, между Кужным озером и рекой. По расчетам Груни Талалаев должен был закончить работу к одиннадцати часам дня. Однако, подъехав к тому месту, где белела растянутая на займище палатка, Груня с удивлением увидела сидевших вокруг нее рыбаков. Воткнув лопаты в землю, ловцы завтракали.
— Чего это вы, товарищи, так рано отдыхать вздумали? — спросила Груня, не слезая с коня. — Первая и третья бригады работают, а вы что? Ведь нам сейчас каждая минута дорога!
Пимен Гаврилович Талалаев, обсасывая над поставленной между ногами кошелкой жирную вяленую чехонь, поднял замасленную руку и прогудел:
— Сидай до стола, дочка. Поморились мои хлопцы, ну и решили перекусить маленько.
Соскочив с жеребца, Груня подошла ближе и сказала обиженно:
— Пимен Гаврилович, но вы так задержите спуск озера. Другие прокопают свою норму и уйдут, а молодь не ждет. Что ж это получается?
— Сидай до стола, Грунька, и не тревожься, не пропадет твоя молодь, — добродушно ухмыльнулся бригадир.
Он вытер руки о штаны, свернул махорочную скрутку, закурил, растянулся на траве и заговорил, хитро посматривая то на ловцов, то на взволнованную девушку:
— Э-хе-хе! Чудные дела твои, господи! Вот, Аграфена, век мы живем на реке, и отцы, и деды наши жили, и молодь никогда не спасали, а рыбы у нас завсегда было полно. А нынче мы и молодь спасаем и всякие другие штуки творим, а рыбки в реке с каждым годом все меньше и меньше. И вот я, грешный, гляжу на это на все и думаю, что пользы нам будет с твоей спасенной молоди как с козла молока.
— Почему? — возмутилась Груня. — С каждого миллиона молоди мы получим больше десяти тысяч штук промысловой рыбы. Это, Пимен Гаврилович, уже доказано нашими учеными-рыбоводами. Ну, пусть сотни тысяч мальков погибнут в реке, хищники их пожрут и всякое такое, но ведь десять тысяч штук взрослой рыбы мы все-таки получим! Это ж какая польза народу!
Талалаев поднялся со вздохом и протянул руку к лопате:
— Какая там польза! Название одно. Просто река истощается, и эта твоя молодь поможет как мертвому припарка.
Степан Худяков, очищая лопату, недовольно сказал:
— Хватит, дядя Пиша! Вы всегда свои теории нам докладаете, а толку им не можете дать. Ловили там ваши деды! С гулькин нос они ловили. Вы б поглядели на рыбозаводе, сколько мы теперь ловим! Я был в городе, видал. Рыбосос заводской работает беспрестанно, и рыба по нем, как по конвейеру, идет. Конечно, таким манером река скорее истощится. Значит, нам и надо рыбные запасы пополнять.
— Вставил он вам, дядя Пиша! — захохотали ловцы. — Право слова, вставил!
Сложив свои котелки под палаткой, они принялись за работу, и Груня, ведя коня в поводу, пошла по дороге к Кужному озеру. Слова Талалаева, его усмешка, выражение красного одутловатого лица привели Груню в состояние ярости. Она шла, беспрерывно одергивая пощипывающего траву жеребца, и думала, кусая губы: «Ох, много тут еще надо работать, и трудная это будет работа. С таким, как этот Талалаев, нелегко справиться. Он будет вот так жизнь свою доживать и кровь людям портить, а на него молиться будут за то, что он, видите ли, план выполняет. И председатель наш помешался только на выполнении плана, не думая о том, что рыбу для этого самого плана надо выращивать».
Потом она подумала о Зубове и о Марфе и вспомнила просьбу Марфы — прислать Василия на Лебяжье озеро. «Пусть дожидается, — усмехнулась Груня. — так я и стану сейчас его разыскивать…»
Она решила сесть на коня и на этот раз поступила хитрее, чем на Лебяжьем: дождавшись, пока жеребец, потянувшись за травой, нагнул голову, Груня легла животом на его опущенную шею. Сильным движением головы жеребец мгновенно подбросил девушку вверх, и она оказалась в седле.
Это несколько исправило Груне настроение. Помахивая плетью, она поехала к нижнему берегу Кужного озера, где бригада Архипа Ивановича Антропова заканчивала работу и собиралась начать спуск воды по только что вырытому соединительному каналу. Задерживали только люди Талалаева, но пока Груня разговаривала с Антроповым, вернувшийся с объезда Мосолов сказал, что канал прорыт на всем протяжении и что можно начинать.
Как раз в это время подъехал на линейке профессор Щетинин. Он метнул из-под очков взгляд на темнеющую по займищу линию канала, посмотрел на зеленые заросли озерной куги и проворчал:
— Сейчас же сделайте прокосы в куге, она задержит всю молодь. Вода у вас утечет, а рыба останется за чертой куги.
Люди, только что оставившие лопаты, взялись за косы. Сам Антропов, стоя по колени в воде, выкашивал густую кугу под самый корень, а бегавшие следом за ним школьники еле успевали относить охапки куги на илистый берег. Через четверть часа среди зеленой чащи пролегла ровная полоса чистой воды.
— Ну, в добрый час! — сказал Архип Иванович, отдуваясь.
Он взял лопату и прокопал последний метр земли, отделявший озеро от канала. Мокрые, забрызганные грязью люди сгрудились у широкого перешейка, в который с журчанием хлынула вода, несущая с собой в реку сотни тысяч юрких мальков.
Любуясь веселой суетой скатывающихся по каналу проворных рыбинок, усталые люди оживали, как дети: они усаживались на корточки, пытались поймать мальков растопыренными пальцами и удивлялись:
— Сколько их тут! Как же им теперь учет произвести? Разве такую силу посчитаешь?
— Ничего, посчитаем, — засмеялась Груня. — Сейчас мы поставим на канале учетные ловушки и начнем брать контрольные пробы…
Тут, к вящей зависти товарищей, во всем блеске показал себя Витька Сазонов, один из главных Груниных помощников. Нырнув под телегу, он достал оттуда сделанную им самим ловушку, над которой он возился не меньше месяца. Эта учетная ловушка Витькиной конструкции представляла собой квадратную раму, сделанную из плоских железных полос, снятых со старой материной кровати. К раме особыми зажимами была прикреплена похожая на мешок сетка из самой мелкой тюлечной дели. На верхней планке рамы голубовский конструктор укрепил деревянную подставку для песочных часов. Все это соответствовало инструкции Главрыбвода, в которой описывалась такая ловушка. Последняя же деталь этой ловушки и была, собственно, изобретением Витьки Сазонова.
Работая в Груниной бригаде, он заметил, что главрыбводская ловушка не гарантирует от неточности. Будучи установленной в канале, она должна была принимать в себя несущихся по воде мальков ровно десять минут, ни больше ни меньше, по часам, чтобы потом можно было точно подсчитать пропущенную через канал рыбную молодь. Однако, пока учетчик опускал ловушку в канал, она еще до запуска часов принимала в себя известное количество рыбешки, а когда по истечении десяти минут ее убирали, мальки тоже имели возможность проскочить в сетку, потому что тяжелую ловушку не сразу можно было выдернуть из канала. Конечно, при таком грубом учете в сводках появлялись буквально астрономические цифры якобы спасенных мальков.
— Это же получается обман государства, — жаловался Витька Зубову. — Спасут миллион мальков, а записывают два миллиона. Какой же это учет?
И он, марая карандашными чертежами свои школьные тетради, целый месяц возился над учетной ловушкой новой конструкции, испортил Марфе не один табурет, изломал стоявшую на чердаке старую кровать, целыми вечерами строгал, пилил, резал, вертел в руках песочные часы и, наконец, добился своего: недостающая деталь была найдена.
Витькины муки творчества достойно завершила обычная печная заслонка. Однажды он закрыл заслонку слишком рано, напустил в комнату угара, за что получил от Марфы увесистый подзатыльник. Горестно размышляя над назначением печной заслонки, Витька вдруг понял, что это и есть та деталь, которую он мучительно искал.
На следующий день новая ловушка была закончена. Изобретение оказалось необыкновенно простым: Витька устроил в раме ловушки пазы и вставил в них квадратный жестяной лист, напоминавший печную заслонку. Отныне учетная ловушка могла быть открыта и закрыта в одно мгновение, как кассета фотоаппарата.
Теперь, в этот теплый летний день, Витька Сазонов мог наконец перед всем колхозом продемонстрировать свое изобретение. Он захлопнул кассету, неторопливо установил ловушку в канале, плотно заложил камешками и кугой щели между рамой и стенкой канала и, поднявшись, степенно спросил у Груни:
— Ну, чего? Запускать, что ли?
— Запускай, Витя, — разрешила Груня, посмотрев на свои ручные часики.
Размеренным, ловким движением левой руки Витька перевернул и вставил в гнездо десятиминутные песочные часы, а правой поднял изобретенную им кассету учетной ловушки. Все несомые водой мальки поплыли в сетку. Рыбаки, посмеиваясь, следили за Витькой. А он, блестя карими, озорными, как у Марфы, глазами, косился на склянку с песком, и его подвижное рябоватое лицо застыло в каменном величии. В ту самую секунду, когда последняя песчинка часов оказалась в нижней склянке, Витька с треском захлопнул кассету и отошел в сторону.
— Теперь можете считать мальков, — сказал он важно, — это и есть учет…
Профессор Щетинин, сидевший сбоку на куге и не спускавший глаз с Витькиной ловушки, подозвал мальчишку к себе и спросил, хмуря густые брови:
— Сазонов твоя фамилия?
— Сазонов Виктор Петрович, — подтвердил Витька.
— Учишься?
— Учусь.
— В каком классе?
— В седьмом.
Щетинин блеснул стеклами очков, оглядывая Витьку с головы до ног:
— Тебе, брат, Виктор Петрович, малость постричься надо, а то зарос ты, как дьячок, смотреть на тебя неинтересно…
— Да у нас парикмахерская аж на другом краю станицы, — смутился Витька, — а парикмахер никогда в ней не бывает: или вино пьет, или на реке рыбу удит.
— Т-так, — кивнул седой головой Щетинин, — а ты, Виктор Петрович, кем хочешь быть?
Размазывая босой ногой подсыхающий на солнце озерный ил, Витька ответил, дерзко глядя в профессорские очки:
— По рыбному делу думаю пойти, в рыбопромышленный техникум, а потом, конечно, в Москву, в этот самый… в институт.
— Угу, — хмыкнул старик, — а ты думаешь, это легкое дело?
— Может, и нелегкое, а я все равно пойду, — упрямо повторил Витька.
Глаза угрюмого старика на секунду потеплели под очками, точно голубые проталины заиграли на ледяной реке.
— Ну, ладно, — сказал Щетинин, — иди, Виктор Петрович. А там посмотрим. Сегодня вечером я про твою учетную ловушку напишу министру рыбной промышленности. Понятно?
— Понятно! — вспыхнул Витька. Уже не будучи в силах сдерживать бешеный восторг, он ринулся прочь от Щетинина и исчез в куге.
А Щетинин подозвал к себе Груню, расспросил ее о Витьке и напомнил о том, что вдоль соединительного канала и на берегу реки надо расставить людей, которые оберегали бы мальков от птиц.
— Можно послать туда школьников, — сказал он. — Пусть подежурят до вечера, а то птицы уничтожат много молоди.
Действительно, над всей трассой уже носились стаи почуявших наживу птиц: по займищу прыгали, подлетывая на кочках, сизые, с черной головой, вороны; у самой реки летали бакланы и чайки, вылавливая из воды сверкающих на солнце мальков.
Груня расставила вдоль канала школьников, объяснила им, чтό надо делать, и, сев на коня, поскакала к Петровскому озеру, куда были переведены бригады Антропова и Талалаева. Она осмотрела всю новую трассу, поговорила с людьми и, почувствовав усталость, медленно поехала по займищу.
Солнце близилось к закату. На зеленом займище темнели квадраты только что вспаханной полеводческим колхозом земли; по свежей пахоте деловито расхаживали носатые грачи, а между ними вертелись, подлетывая на бороздах, беспокойные черно-белые чибисы. Взморенный жеребец, у которого шея закурчавилась от пыльных натеков подсохшего пота, брел по траве и, недовольно перебирая удила, пощипывал подросший пырей. Груня целый день провела в седле, у нее одеревенели ноги, болела спина, а обветренное лицо горело в нестерпимом жару. Кинув поводья на луку, она ехала по озаренному закатным солнцем займищу, вздыхала и думала о Зубове, которого не видела с утра.
Они встретились на берегу Низенького, где Василий проверял слив мальков, выловленных сборной правленческой бригадой на Иловатом озере. Он издалека заметил Груню, закинул за плечо полевую сумку и пошел ей навстречу, улыбаясь и вытирая на ходу потное, раскрасневшееся лицо.
Груня придержала коня, дожидаясь Василия и угадывая, что он подойдет к ней как раз у холмика, где их не увидят хохочущие на Низеньком девчата. Он подошел, засмеялся, заглядывая Груне в глаза, и поцеловал измазанное травяной зеленью Грунино колено.
Она вспыхнула, смущенно провела пальцами по его волосам и, задерживая дыхание, сказала с тихой укоризной:
— Ну-ну, Вася…
Василий посмотрел на ее покрытое струйками пота лицо, на обветренные, в ссадинах губы и шлепнул ладонью присмиревшего жеребца.
— Ну как? — засмеялся Василий. — Хорошо, правда?
— Что хорошо? — не поняла девушка.
Он с шумом вдохнул пахнущий луговыми травами воздух:
— Все хорошо, Грунечка: и река, и лес, и мальки, и птицы, и ты!..
…Первый день спасательных работ заканчивался. Вечером учетчики передали Груне сведения о спасенной молоди. За пятнадцать часов работы рыбаки спасли от неминуемой гибели шестьсот тридцать тысяч штук мальков сазанов, лещей, судаков, сельдей и других промысловых рыб…
В этот вечер паромщик Авдей Талалаев готовился к ночному лову.
— У них там весь народ поморился, — посмеиваясь, говорил он Егору и Трифону, — целый день по займищу бегали, молодь спасали, значит, спать будут как убитые. Нехай они спят, а мы тем часом кинем в Заманухе двумя накидными… У меня захоронены две густенькие накидные, ни одна рыбешка не уйдет.
— А как же с этим самым надзором общественным? — покусывая соломинку, спросил Трифон. — Ежели, допустим, инспектор спать завалится, то надзор может обход совершать.
— Это я уже все сделал, — успокоил его дед Авдей, — сегодня в ночь брательник мой Пишка по Заманухе дежурить заступит…
Вероятно, у крутьков и на этот раз все сошло бы благополучно: Зубов, уморившись на займище, спал дома мертвецким сном; Пимен Талалаев для виду побродил с вечера у реки, а потом, прекрасно зная, что брат с племянником будут ловить в Заманухе, отправился спать. И тем не менее затея паромщика неожиданно потерпела полное поражение.
Получилось это так: дочь бакенщика Ира Грачева, возвращаясь с огорода, заметила приготовления у балагана, пошла к Тосе и предупредила о том, что в Заманухе собираются ловить рыбу. Обе девушки побежали на Церковный рынок, спрятались в лесной чаще и стали наблюдать за рекой. Они хорошо заметили появление каюка под дамбой, слышали, как под ударами накидной сетки плещет вода, а потом, когда каюк подошел к берегу и люди стали выгружать в мешки первую партию рыбы, Ира и Тося по голосам узнали Егора Талалаева и рыжего Тришку.
— Дюже густую раскидную батя подсунул, — приглушенно пробубнил в темноте Егор, — гляди, сколько тут мелкой дряни набралось!
Прижавшись к подруге, Тося зашептала ей в ухо:
— Вот сволочи! Мы целый день эту молодь спасали, ни рук ни ног не чуем, а они будут свиней своих мальками кормить!
Выждав, пока каюк отошел от берега, девушки сломя голову побежали на квартиру к Зубову. Разбудив Марфу, они попросили позвать инспектора, а когда сонный Василий, потягиваясь и потирая опухшие веки, вышел из комнаты, Ира и Тося закричали, перебивая друг друга:
— Там, в Заманухе, волчки работают!
— Ловят густой сетью, сколько мальков погубили!
Сон мгновенно слетел с Василия. Он натянул куртку, перекинул через плечо ремень пистолета, растолкал Витьку и велел ему быстро одеться, а девушкам сказал, чтобы они шли к досмотрщику и, взяв его с собой, показали тропинку, по которой браконьеры носят рыбу.
— Ты пойдешь со мной! — крикнул он Витьке. — А то моториста долго ждать…
Спотыкаясь в темноте, они побежали к причалу, где стояла «Стерлядь». Василий быстро отстегнул закрывающий люки брезент и, пока Витька отомкнул замок на цепи, завел мотор. Через пять минут подрагивающая «Стерлядь», гулко стуча поршнями, описала полукруг и понеслась вверх по реке, оставляя пенистый хвост.
В ту же минуту на пароме вспыхнул красный фонарь.
Впрочем, деду Авдею можно было и не беспокоиться. На каюке сразу услышали бешеный стук лодочного мотора. Егор лихорадочно заработал веслами. Трифон стал выбрасывать за борт только что пойманную рыбу и уже приготовился топить сети, но в это время, обдав людей бензиновым перегаром и содрогаясь от толчков, подлетела грохочущая «Стерлядь».
Зубов, осветив каюк карманным фонарем, закричал:
— Гребите к берегу!
— А ты что за начальник? — нагло ответил Егор. — Видали мы таких командиров!
Луч фонарика скользнул по его потному лицу, и Василий повторил гневно:
— Гребите к берегу без разговоров!
— Брось, Жора, — запричитал Трифон, — раз товарищ инспектор просят, чтобы мы причалили до берега, значит, их надо слухать. Они свою должность исполняют, а мы обязаны им подчиняться…
На каюке заскрипели уключины.
Явно рассчитывая на то, что Зубов его слышит, Трифон заговорил успокоительно:
— Вот товарищ инспектор поглядят наш каюк и удостоверятся, что мы ничего не ловили, а так только, баловством одним занимались… Разве ж за это людей наказывают? За такой пустяк, товарищи, у нас никого не наказывают.
Конвоируемый «Стерлядью» каюк стукнулся о крутой берег. Все вышли, только один Витька остался в лодке. Спотыкаясь о камни, Василий шел следом за браконьерами, и его душила злоба. Когда поднялись наверх и остановились на опушке леса, Василий осветил фонариком пасмурные лица крутьков и сказал сквозь зубы:
— Кто вам разрешил ловить накидными сетками?
— А мы не ловили, — огрызнулся Егор, с ненавистью глядя на Зубова — Мы на природу любовались и дышали свежим воздухом.
— Перестаньте паясничать, Талалаев, — резко сказал Зубов — Я спрашиваю: кто разрешил вам болтаться в запретной зоне и ловить рыбу запрещенными орудиями?
Но Егор не унимался. Сунув руки в карманы, он подошел ближе и проговорил угрожающе:
— Это не мы, товарищ инспектор, в запретной зоне, а вы. Я сам старший монтер гидроузла и нахожусь на его территории, а вот почему вы шатаетесь тут без пропуска, это разберут органы…
— Молчать! — крикнул Зубов. — Не то я иначе с вами поговорю! Я вам покажу гидроузел!
Как видно, Егор собирался еще что-то сказать, но в это время в лесу послышался шум, и к берегу вышли досмотрщик Прохоров с карабином на плече и Тося Белявская.
— Там шесть полных корзин рыбы, — доложил Зубову досмотрщик, — при них остались наши люди.
— Хорошо, Иван Никанорович, заберите накидные сети и составьте протокол, — сказал Василий, — мы завтра же передадим этот протокол в районную инспекцию рыболовного надзора…
Протокол был составлен, а через два дня пришло решение районного инспектора. Егор Талалаев и продавец Гришка были оштрафованы на сто рублен каждый, а принадлежащая им сеть отобрана. Дед Авдей не пострадал, так как Егор и Трифон не сказали о нем ни слова.
Казалось бы, после этого случая Егор должен был угомониться. Но он, заплатив штраф, в тот же вечер сказал отцу:
— Все равно не покорюсь Зубову, не на того он, паразит, напал.
Рыжий пытался уговаривать подвыпившего дружка, но тот твердил, стиснув челюсти:
— Нехай он, гад, лучше свертает с моей дорожки: мы вдвоем на ней не уместимся…
— Ты что это все? Через Груньку на Зубова зуб имеешь? — сострил рыжий.
— На Груньку мне наплевать! — отмахнулся Егор. — Не она первая, не она и последняя. Дело не в ней. Дело в том, что этот молодец порядки на реке перекраивать зачал по-своему. Покель он не заявился, люди жили, как люди. А этот герой свою линию задумал. Вот мы и померяемся с ним силенками…
Он стукнул рукой по столу и добавил с глухой угрозой:
— Пожалеет он еще, да поздно будет!
Глава четвертая
1
Председатель рыбколхоза Кузьма Федорович Мосолов с нетерпением ждал того дня, когда профессор Щетинин начнет работу экспедиции по белугам. На среднем участке реки все еще оставался в силе весенний запрет, но Кузьма Федорович знал, что лов рыбы для научных целей, если он предусмотрен министерством, разрешается всеми орудиями, в любое время, в любом месте, включая и заповедные пространства. Профессора интересовала только белуга, и Мосолова предупредили, что вся остальная рыба, попавшая в невода, будет зачисляться колхозу в счет выполнения годового плана.
План добычи очень беспокоил Кузьму Федоровича. Неуверенность в том, что план будет выполнен, угнетала председателя. Но еще больше встревожил Кузьму Федоровича разговор с Зубовым. «Чего-то я все же не понимаю и не могу понять, — думал он. — Мое начальство требует от меня рыбы, а этот друг гнет свою линию, тоже, должно быть, правильную, потому что запасы реки в самом деле могут иссякнуть».
Кузьма Федорович справедливо считал себя человеком дела. На войне, будучи водителем танка, он с готовностью выполнял каждый боевой приказ и привык к тому, что его мощный «Т-34», отлично заправленный горючим и снабженный боеприпасами, работал с точностью хронометра. Там, на войне, все было подчинено железному распорядку и потому представлялось Мосолову ясным и четким, как таблица умножения.
Тут, в рыболовецкой артели, все казалось иным. Конечно, годовой план добычи Кузьма Федорович тоже считал приказом, подлежащим немедленному и безоговорочному выполнению. Но тут было много такого, что требовало постоянного вмешательства, коллективного обсуждения, проверки; тут были люди, которые вносили свои предложения, спорили, совещались, заседали днем и ночью, и Кузьма Федорович не сразу понимал, кто из них прав, а кто ошибается.
Вечерами председатель приходил в амбарчик. Остановившись у дверей, он несколько минут молчал, а потом спрашивал по-хозяйски:
— Ну как? Идет дело?
— Все в порядке, — отвечал Зубов.
Кузьма Федорович осматривал икринки в аппарате и с виноватым видом произносил:
— А оно действительно здорово получается.
Василий довольно улыбался, угощал Мосолова папиросой и говорил мечтательно:
— Когда-нибудь мы еще поставим опыты по гибридизации и попробуем создать новые породы рыб. Скрещивание карпа и карася, например, дает интересные результаты: потомки как будто выходят крупнее и растут быстрее, чем их родители. Конечно, в таких условиях опыты по гибридизации ставить трудно, но если у нас в колхозе будет свой завод…
— Ладно, Кириллыч, — усмехнулся Мосолов, — придет время, подумаем и о заводе.
Чем чаще Кузьма Федорович приходил в амбарчик, тем больше укреплялась в нем уверенность в том, что Зубов прав и что рыбаки-колхозники должны по-настоящему заняться воспроизводством рыбных запасов. Но в правление каждый день приходили из города письма и телеграммы, требовавшие сводок о выполнении плана. Кузьма Федорович читал эти письма, скреб рукой затылок и думал: «Скорее бы профессор начинал свой лов…»
Река после весеннего паводка уже почти вошла в берега, и все фермы плотины были подняты. Огромные, покрытые мшистой зеленью деревянные щиты водрузились на место и, перерезав реку от берега к берегу, рассекли ее воды на две части. Образуя пенистый, кипящий, как в котле, молочно-белый спад, вода верхнего бьефа, регулируемая щитами, с диким ревом устремлялась вниз. Подчиняясь человеку, река разделила свое лоно на разные уровни: подпираемый плотиной верхний бьеф реки стал на два метра выше нижнего.
В тот самый день, когда все фермы плотины поднялись из воды и у щитов закипела белая пена, путь идущей в верховья нерестующей рыбы оборвался. Дальше плотины ей хода не было: перед рыбой встала содрогающаяся от рева и грохота непроходимая стена.
Как раз в эти дни у плотины и стала собираться идущая снизу белуга.
Профессор Щетинин, сидя на крутом берегу, часами наблюдал за рекой. Ничто не ускользало от его опытного стариковского глаза. Он видел и суматошную игру мальков в зеленоватой воде и медлительное ползание раков по светлому песчаному дну. Но волновали его те минуты, когда, нарушая тишину, вдруг выбрасывала из воды свою слоновью тушу и снова исчезала в речных глубинах белуга.
Что управляет поведением этой рыбы? Какие инстинкты ежегодно гонят ее из моря в далекие речные верховья и заставляют метать икру именно в тех местах, где на протяжении тысяч лет нерестились ее предки? Почему она упрямо и настойчиво стремится отыскать эти места, только эти, и там высеять множество икринок — будущих маленьких белужат? Какие законы подчас вызывают в ней, в этой рыбе, странный процесс перерождения невыметанной икры? Ведь икряная белуга, если она лишена возможности попасть на свое нерестилище и вынуждена бессильно тыкаться острой мордой в возникшее на пути препятствие, не вымечет икры. Долго будет плавать она от берега к берегу, выискивая хотя бы маленькую лазейку для того, чтобы пройти в верховья… Долго будет толкаться носом в железную ферму плотины, и все сильнее и яростнее будут ее толчки: уже вода зарозовеет от крови и сотни рыб соберутся вокруг — клевать разбитые железом и расплывающиеся по воде хрящики белужьего рыла, а обезумевшая брюхатая самка, изнемогая от тяжести икринок, все еще будет пытаться сокрушить несокрушимую преграду. Наконец она отплывет от плотины и начнет бесцельно ходить по реке, так и не выметав ни одной икринки; а несколько миллионов икринок в ее брюхе постепенно начнут затягиваться жирком, а потом навсегда потеряют свою жизненную силу. И ученый, вспоров ножом пойманную рыбаками захолостевшую самку, скажет, что в ней произошло перерождение икры.
Все это было давно известно профессору Щетинину, так же как были известны ему сотни определений и терминов, разъясняющих миграцию рыб и формы их размножения. Но старик хотел проникнуть глубже этих известных определений и во что бы то ни стало найти метод сохранения в реке явно исчезающей белуги.
— Мы нарушили плотиной законы размножения белуги, и мы должны ей помочь, — упрямо твердил Щетинин, — мы не можем бросить ее на произвол судьбы.
— Все это напрасная затея, — возражали профессору его коллеги, — природа сильнее нас…
— Чепуха! Ересь! — сердито кричал Щетинин. — Эта рыба — гордость советской земли, ее нигде, кроме наших водоемов, нет. Чудесная зернистая икра, добываемая нами из белуги, славится на весь мир. Мы должны спасти белугу для завтрашнего дня…,
— Ничего из щетининской затеи не выйдет, — утверждали скептики, — она выеденного яйца не стоит.
— Только денежки государственные плакать будут.
— Поживем — увидим…
Илья Афанасьевич знал об этих разговорах. Он и сам не был твердо уверен в успехе своего предприятия, так как икряную белугу никто никогда не пересаживал за плотину, и поэтому нельзя было заранее предсказать результаты такой пересадки. Зато Щетинин знал другое: рыбники не могут сидеть сложа руки и равнодушно дожидаться окончательного исчезновения белуги. Именно поэтому он и рискнул заняться пересадкой рыб за плотину, поставив на карту свой научный авторитет.
И как ни сгорали от нетерпения Мосолов и Головнев, мечтавшие с помощью белужьей экспедиции выполнить свои планы, как ни торопили они Щетинина — старик оставался непоколебимым: он не разрешал начать лов до тех пор, пока не будут закончены все приготовления.
Прежде всего надо было приготовить суда для перевозки пойманной белуги за шлюз. Для этого использовали два вместительных паузка, приведенных на буксире «Жерехом»; в подводной части их бортов прорезали большие люки с откидывающимися крышками и наполнили паузки водой; это превратило полузатопленные, низко сидящие суда в плавучие водаки. Водаки и предназначались для транспортировки белуг за плотину.
Кроме того, под наблюдением Щетинина были заготовлены для мечения белуг нержавеющие латунные ярлыки с оттиснутым на них номером. Прикреплять эти ярлыки к рыбе решили тонкой и мягкой проволокой с особым покровом, похожим на изоляцию телефонной проводки. Затем профессор выбрал на колхозном дворе самые крепкие невода, шнуры для куканов, велел изготовить длинный гладкий шест для обмера гигантской рыбы, нанес на этот шест сантиметровые деления и приказал отправить все оборудование на тоню.
Первый лов белуги Щетинин назначил на пятницу и попросил Мосолова к шести часам утра выслать обе бригады на тоню Таловую.
С восходом солнца вся станица оказалась на левобережье. Каждого голубовца интересовало невиданное зрелище.
Тоня Таловая представляла собою вытянутый вдоль реки длинный участок пологого, засыпанного белым песком берега. В некотором отдалении от воды на ней высились поросшие вербой и тальником песчаные наносы, а еще дальше темнела Тополиха — густой зеленый лес. Обычно на Тополихе полновластно царствовала тишина: тут были слышны только всплески жирующей рыбы да звонкое кукование голосистой кукушки в лесной чаще. Но в это утро на тоне стоял неумолчный шум: переговаривались ожидавшие замета ловцы, суетилась детвора, скрипели нагруженные неводами дубы, стучал механизмами пыхтящий «Жерех». Всюду слышались лязганье якорных цепей, стук весел, голоса рыбаков.
Только один человек оставался как будто спокойным и безучастным ко всему — старик Щетинин. Он стоял на холме в своем неизменном, песочного цвета, костюме, в тяжелых солдатских башмаках и форменной фуражке, из-под широкого козырька которой сверкали стекла очков.
Профессор думал о чем-то, угрюмо опустив седую голову, куря папиросу за папиросой и вслушиваясь в монотонное плескание реки.
— Может, начнем, Илья Афанасьевич? — спросил его Зубов. — Рыбаки ждут.
Щетинин посмотрел на него отсутствующим взглядом.
— Ах, это вы? — вздохнул он. — Да, да. Начнем. П-пусть «Жерех» оттянет водаки ниже, станет на якорь и выключит свои м-механизмы… И п-потом пусть там поменьше шумят на тоне… голова болит от этого шума…
Передав приказание Щетинина, Зубов постоял немного и еще раз спросил:
— Начнем?
Старик вынул из кармана помятых штанов зажигательное стекло, подставил его под горячий луч солнца, навел белое пятнышко на табачную скрутку, затянулся крепким дымом и сказал, посмотрев на реку:
— Начинайте.
Большой рыбацкий дуб, повинуясь взмахам десяти весел, отделился от берега и пошел к середине реки. Полуголые рыбаки, вскидывая загорелые руки, начали засыпку невода. Дуб пересек фарватер и стал забирать все ближе к правобережью, захватывая огромную ширь реки и оставляя за собой бесконечный пунктир покачивающихся на воде неводных поплавков.
Щетинин сказал Мосолову:
— Скажите, чтобы обметывали вокруг первого невода второй, иначе белуга прорвет мотню и уйдет!
По сигналу Мосолова запасный дуб отчалил от берега, и рыбаки Пимена Талалаева начали засыпку второго невода.
Щетинин подозвал к себе Зубова.
— Послушайте, — сказал он, — эта самая девочка, рыбовод колхозный, на тоне?
— Нет, на тоне ее не видно, — ответил Василий, отводя глаза, — она, кажется, готовится к докладу на комсомольском собрании.
— Сейчас же пошлите за ней мотобот, она мне нужна.
— Зачем, Илья Афанасьевич? — спросил Василий. — Я сам поеду за рыбоводом, может, ей надо сказать что-нибудь от вашего имени?
Сняв фуражку, Щетинин вытер ладонью потный лоб и вздохнул:
— Скажите этой девочке, что для мечения белуги мне нужны умные и ласковые руки. Понятно? Скажите, что я не могу поручить это рыбакам, которые будут проволокой рвать рыбе ноздри и травмировать икряных самок. Попросите рыбовода от моего имени, чтобы она помогла мне и занялась этим…
Растормошив спавшего на корме «Стерляди» моториста, Зубов сел в лодку и помчался за Груней. Он слово в слово передал ей просьбу Щетинина. Груня усадила Василия в сенях и переоделась, быстро натянув на себя старенький красный сарафан.
— Ой, Вася, как же я буду это делать? — волнуясь, бормотала она. — Он так и сказал, что нужны, дескать, умные руки? Правда? И ласковые?
— Ладно, Грунечка, быстрее! — торопил Василий. — Старик ждет!
Когда они приехали на левый берег, там уже началось притонение. Молодые ловцы с блестящими потными спинами медленно шли по глубокому, нагретому солнцем песку, выволакивая длиннейший невод. Никто не знал, есть ли в неводной мотне белуга, потому что далеко оттянутая мотня еще подвигалась по глубинам и гигантская рыба могла вести себя спокойно. Однако отмеченная поплавками площадь замета с каждым движением тянувших невод ловцов приближалась к берегу.
Вдоль колеблющейся на воде кривой линии поплавков взад и вперед ходил легкий каюк с одним гребцом. На носу каюка лежал животом вниз Архип Иванович Антропов. Зорко глядя в речную глубь, он перебирал голыми по локоть руками верхнюю бечеву невода и уже чуял ладонями подводную возню захваченной в мотню рыбы.
Сотни стоявших на берегу людей не сводили глаз с Архипа Ивановича. Как зачарованные смотрели они на отражавшую небо речную гладь и ждали: есть или нет?
И вот подвигающаяся по бечеве рука бригадира явно ощутила первый тяжелый, как у быка, рывок под водой.
— Есть белуга! — закричал Архип Иванович.
Люди хлынули к берегу. Через десять минут оба неводных крыла были вытащены на песок, и из воды медленно поползла распираемая рыбой мотня. На влажном песке, сверкая золотом и серебром, запрыгала рыбья мелочь. Вдруг раздался резкий всплеск, потом другой, мотня зашевелилась от могучих толчков, и из мутной воды показалась, взбивая песок, пепельно-белесая туша громадной, двадцатипятипудовой белуги.
Как в последний миг облавы набрасываются охотники на загнанного и окруженного медведя, так, гремя цепями, путаясь в сетях и веревках, накинулись рыбаки на бешено извивающееся туловище белуги.
И тут, перекрывая шум воды, лязганье цепей и голоса ловцов, яростно закричал вбежавший в реку профессор Щетинин:
— Осторожнее, черт вас побери! Это икряная, б-беременная самка!
Бригадир Талалаев и его подручный закуканили белугу крепким шнуром, плотно охватившим тело рыбы за грудными плавниками, и тихонько, с помощью шестерых рыбаков, подтянули белугу ближе к берегу.
Теперь она лежала, присмирев, неподвижно вытянув на песке трехметровое туловище и устремив в небо странно маленькие, обведенные мерцающим желтоватым ободком глаза. На ее пепельной спине, на боках и на тяжелом белом брюхе выпирали ряды острых костяных щитиков — жучек, а короткий заостренный нос почти просвечивал на солнце. Если бы не трудное движение жабер, рыбу можно было бы счесть мертвой.
Постояв над белугой, Щетинин коснулся пальцем ее скользкого лба и сказал задумчиво:
— Какой все-таки архаизм!.. Какие доисторические формы!..
Груня, зажимая в коленях мокрый сарафан, осторожно продела в ноздрю белуги тонкую проволочку и, волнуясь, закрепила маленький латунный ярлык.
Через пять минут рыбаки оттянули здоровенную рыбу на глубину и тихо повели ее к тому месту, где покачивался стоявший на якоре «Жерех». Раскрыв подводный люк, ловцы осторожно, не снимая кукана, втолкнули белугу в водак.
В этот день на Таловой тоне были пойманы еще четыре белуги, которых, так же как и первую, обмерили, пометили ярлыками и завели в водак. Вместе с белугами рыбаки поймали сто шестьдесят центнеров другой рыбы, отвезли ее на баркасах к причалам и сдали Головневу.
Перед вечером Щетинин, усталым движением протирая забрызганные песком очки, сказал Зубову и Груне:
— Ну что ж, если хотите, поедем посмотрим, как наших красавиц будут выпускать из водака…
Моторная лодка довезла их до «Жереха», и они пересели на катер. Солнце уже опускалось к нижней речной излучине. Из леса веяло прохладой. Груня, поводя обожженными солнцем плечами и поджимая босые ноги, ежилась и норовила сесть поближе к машинному отделению. Василий заметил это, сбросил с себя китель и молча накинул его на плечи девушке.
Щетинин, покосившись на молодых людей, вздохнул, спустился в свою каюту и вернулся с плащом.
— Наденьте, — сказал он Груне.
— Спасибо! Зачем вы беспокоитесь! — смутилась девушка. — Я уже стала согреваться, честное слово… мне прямо неловко…
— Наденьте, наденьте! — ворчливо повторил профессор, следя за тем, как Груня кутается в мешковатый старомодный плащ.
Как только «Жерех» отшлюзовался и вышел из камеры, с пыхтением таща за собой наполненный белугами водак, Щетинин, покашливая, прошелся по узкой палубе и заговорил хрипловато:
— Белуга через многие тысячелетия донесла до нашего времени формы древнейших ганоидных рыб… Вы обратили внимание на рисунок ее головного панциря, на ряды костяных жучек на туловище и на отсутствие таких же пластинок между этими рядами? Да, белуга — очень древняя рыба… Да, да… Конечно, она изменялась с тысячелетиями, но почему-то изменения были слишком незначительны для того, чтобы… да, слишком незначительны…
Произнося все это, Щетинин как бы размышлял вслух. Зубов еще со времен учебы в техникуме знал эту привычку своего учителя и без труда улавливал ход его мыслей. А старик снял очки, повернул к Василию и Груне усталое лицо и улыбнулся по-детски.
— А жаль будет, если она исчезнет, правда?
— Кто исчезнет? — не поняла Груня.
— Белуга…
Когда «Жерех» остановился, они по доскам перешли на водак. Два рыбака открыли подводные люки, подвели к ним белуг и, снимая веревочные куканы, стали осторожно выталкивать рыб в реку. Белуги медленно выплывали из водаков, несколько секунд, пошевеливая хвостами, постояли на одном месте, а потом как будто нехотя ушли в темную глубину…
Щетинин проводил их тревожно-настороженным взглядом и сказал:
— Плывите, тут перед вами путь открыт. А мы подождем, что вы нам скажете…
2
По рассказам станичников, Зубов знал, что мошкара исчезнет с появлением стрекоз, и с нетерпением ждал, когда же наконец это произойдет. Мириады беснующихся мошек изнуряли людей до изнеможения. Как только всходило солнце, мошкара темным туманом поднималась с земли и носилась в воздухе до поздней ночи. Работавшие на огородах женщины спасались от мошки, закутываясь платками, рыбаки закрывали лица и шеи смоченными в керосине сетками…
Зубов с непривычки готов был бежать от мошкары куда угодно. Он бродил по станице мрачный, с припухшим лицом, исполосованный красными зудящими расчесами, и спрашивал жалобно:
— Когда же исчезнет эта ваша божья кара?
Но вот в один из жарких дней над займищем появились первые стрекозы. Сверкая на солнце прозрачными слюдяными крылышками, стрекозы облетывали зеленые сады, озерные заросли, леса, нежились в чистом, пахнущем травами воздухе, и их становилось все больше и больше. Василий ни разу не видел, чтобы стрекоза охотилась за мошкой, но полчища мошки действительно начали таять, рассеиваться, исчезать куда-то, как будто неведомая сила погнала их прочь от измученных людей.
Только один профессор Щетинин, казалось, не страдал от мошкары и даже не заметил ее исчезновения. Он целые дни проводил на тоне, наблюдая за выловом белуги, расхаживал, насупившись, по опушке Тополихи или лежал на горячем песке, набрасывая что-то карандашом в своей измятой тетради. Полинялый костюм старика так сливался с песком, что издали его нельзя было разглядеть. Рыбаки часто искали Щетинина по кустам, думая, что он прячется где-нибудь в тени, а он, услышав свое имя, поднимался из-за песчаного холмика, шел к неводу и молча рассматривал улов.
Василий знал, что Илья Афанасьевич нервничает. Старику не терпелось узнать, как ведет себя на нерестилищах перевезенная на шлюз белуга: здорова ли она, не повредили ли рыбу при перевозке? Никто не мог ответить профессору на эти вопросы. Где-то на нерестилищах разгуливали в речных глубинах двадцать девять самцов и икряных самок. Но разве немая река так быстро скажет, что делается под водой? Разве кто-нибудь может денно и нощно наблюдать за поведением отмеченной ярлыками рыбы?
Щетинин уже не раз брал у Зубова моторную лодку, переправлялся за шлюз и часами маневрировал в тех местах, где была выпущена белуга. Стоя на носу лодки с биноклем в руках, он всматривался в речную гладь и следил, не вскинется ли где-нибудь огромная рыбина, не даст ли о себе знать хоть секундным плесканием. Он часами говорил с бакенщиками, лесниками, ловцами верховых рыбколхозов и все расспрашивал, не видел ли кто-нибудь из них вскидывания белуги. Но люди отвечали, что они ничего не видели.
Прошло несколько дней. Рыбаки выловили и перевезли за шлюз еще тринадцать белуг, но о тех, которые были выпущены раньше, ни один человек ничего не знал.
В один из вечеров, когда Зубов, помогая Марфе вскапывать огород, трудился на усадьбе и лениво перебранивался с Витькой, во двор вбежала Груня Прохорова. Это удивило Василия: Груня никогда не приходила к Марфе. Сейчас у нее был испуганный вид, она не успела даже надеть туфли и прибежала босиком, раскрасневшаяся и взволнованная.
— Где Илья Афанасьевич? — издали закричала Груня.
Василий, не выпуская из рук лопату, пошел к калитке.
— Что случилось, Грунечка? — спросил он, глядя в заплаканные глаза девушки.
— Ой, Вася, там рыбаки белугу поймали, — пробормотала Груня, оглядываясь, точно кто-то мог подслушать ее слова.
— Ну и что ж? — поднял брови Василий. — Какую белугу?
— Меченую белугу, Васенька! Надо искать Илью Афанасьевича!
Груня заторопилась, отбежала от калитки, потом вернулась и зашептала, глотая слезы:
— Знаешь, Вася, белуга эта… она…
— Что?
— Она мертвая, Вася… побитая вся… вода выбросила ее через плотину… мальчишки увидели, сказали рыбакам… рыбаки вытащили ее на тоню…
— Где же она сейчас? — спросил Василий, оставляя лопату.
— На тоне. Туда уже все побежали. И председатель там и все бригадиры. Только Ильи Афанасьевича нет, и я не знаю, где его найти и как ему сказать…
Витька, который стоял сбоку, посматривая то на Василия, то на Груню, бросил грабли и ринулся на улицу.
— Я сейчас найду его! — на бегу крикнул он Зубову. — Они с секретарем райкома на линейке поехали в полеводческую бригаду!
— Подожди! — закричал Зубов. — Надо сказать ему осторожно, чтоб не напугать старика, а то черт знает что получится.
— Я знаю! — отмахнулся Витька и, не оглядываясь, побежал по улице.
Зубов и Груня пошли к реке. Когда моторист перевез их на левый берег и хотел идти вместе с ними на тоню, Зубов вернул его, приказав дожидаться Щетинина у станицы, чтобы тотчас же перебросить на Тополиху.
Вокруг вытащенной на песок мертвой белуги толпился народ. Огромная рыбина, белея вздутым брюхом, лежала точно колода. Ее остекленелые глаза, бока и плавники были засыпаны песком, но даже сквозь песчинки были видны длинные ссадины, кровоподтеки и раны, багровевшие на туловище, как страшные следы батога.
— Вся чисто побита! — изумлялись рыбаки.
— На левом боку четыре жучки содрано!
— Под жабрами кровь запеклась!
— И кожа вся поснесена!
Загорелые, широкоплечие ловцы медленно ходили вокруг белуги, щупали ее бока, покачивали головами и угрюмо отходили в сторону, посматривая на правый берег.
— Едет, едет! — закричали мальчишки.
— Профессор едет!
Когда моторная лодка на полном ходу врезалась в песок и кто-то бросил широкую сходню, рыбаки увидели Щетинина и замолкли.
Он шел без фуражки, в расстегнутом кителе, тяжело волоча ноги и кинув за спину дрожащие, испачканные илом руки. Следом за Щетининым шел секретарь райкома Назаров. Он тоже был без фуражки, в запыленных брюках и серой, подпоясанной ремнем рубашке.
Рыбаки расступились. Щетинин подошел к мертвой белуге, наклонился, положил ладонь на ее холодное тело, и все вдруг услышали, как по-стариковски трудно и сипло дышит этот высокий седой человек.
Щетинин долго стоял с опущенной головой. Он, казалось, не видел ни людей, толпившихся вокруг него, ни реки, ни заходящего за речной излучиной солнца. Неловко переступая с ноги на ногу, он смотрел на мертвую рыбу и молчал.
— Да-да, — хрипло сказал он наконец, — н-не вышло…
Назаров осторожно взял старика за локоть и повел его вдоль берега.
— Не вышло? — спросил он.
— Да-да, Тихон Филиппович, н-не вышло, — махнул рукой Щетинин. — Это рыба номер четыре… самка с невыметанной икрой…
Его тяжелый подбородок задрожал.
— Подождите, — негромко сказал Назаров, — разве так можно? Надо спокойнее к этому относиться. Так? Надо найти причину. Так?
Назаров и сам волновался и не знал, что сказать старику. По-прежнему держа Щетинина за локоть, он заговорил с ласковой укоризной:
— Нет, так же нельзя, Илья Афанасьевич. Могут быть разные причины. Значит, надо разобраться, подумать. А? Правда ведь? Подумать надо?
— Мне все понятно, — глухо сказал Щетинин, — это смерть от внутреннего кровоизлияния… артериальный конус…
— А кровоподтеки?
— Это следы кукана. Рыбаки травмировали белугу куканом… п-потом она билась в водаке… в результате — н-нервный шок и гибель…
— Значит, нужно удалить эту причину, — тряхнул головой Назаров, — поискать иных путей переброски…
И уже не будучи в силах сдержать острую жалость к старику, Назаров обнял его за плечи и повел к лодке.
— Поедем домой, — сказал он, — будем думать вместе. Так?
— Хорошо, поедем домой, — безвольно согласился Щетинин, — только прикажите, чтобы с мертвой б-белуги сняли ярлык…
Не глядя на людей, он побрел к лодке.
3
Во время весеннего паводка в голубовском полеводческом колхозе было затоплено девяносто гектаров пшеницы и ячменя; высокая вода, залив посевы, начисто снесла верхний слой почвы, разметала все борозды, размыла и унесла в реку миллиарды слабых, еще не окрепших пшеничных ростков. Девяносто гектаров колосовых превратились в черное болото, на котором позже пустили корень занесенные ветрами семена сорняков.
Секретарь райкома партии Назаров решил сам осмотреть уничтоженные посевы, проверить общее состояние колхозных земель и после этого поставить вопрос о перестройке голубовского колхоза, который каждую весну подвергался затоплению, терял посевы колосовых и не мог выбраться из числа отстающих.
Положение голубовского колхоза уже не раз тревожило Назарова. Секретарь райкома был старым коммунистом, он привык к тому, чтобы любые неполадки устранялись трудом и твердой волей советских людей. Он любил повторять давно уже ставшее народной поговоркой утверждение: «Нет таких крепостей, которых большевики не взяли бы», — и непоколебимо верил в то, что советский человек никогда не склонит голову перед трудностями. Но весь земельный участок голубовского полеводческого колхоза располагался на ежегодно затопляемой пойме, и от воды не было никакого спасения. Каждую весну голубовцы сообщали в район о гибели посевов колосовых, и районная комиссия каждый год составляла акты о стихийном бедствии. Весеннее наступление воды никто не мог остановить. Это раздражало Назарова, и он решил изучить голубовский колхоз и просить областное управление сельского хозяйства о том, чтобы колхозу было придано животноводческое и садово-огородное направление.
Назаров думал пробыть в станице пять-шесть дней. Он остановился на квартире у председателя колхоза Захара Петровича Бугрова, новенький флигель которого стоял на холме у Барсовки, там же, где начиналась полоса колхозных виноградников.
Захар Бугров, исконный голубовский казак, отличался спокойствием и молчаливостью. Высокий, с белесым коротким чубом, он ходил чуть-чуть горбясь и потому казался сутуловатым. Это был один из тех людей, которых в народе обычно называют работягами. Бугров не любил праздной болтовни, говорил коротко, односложными фразами, краснел и смущался на больших собраниях, но зато по целым дням мотался в поле, на огородах, в садах и, бывало, по неделям не приходил домой, ночуя где-нибудь в тракторном вагончике, на пчельнике или на току.
Двадцатилетним парнем Захар Бугров в числе первых вступил в колхоз, работал свинарем, чабаном, учетчиком, завхозом, бригадиром полеводческой бригады.
На фронт он не попал, так как еще в детстве, разряжая охотничий патрон, покалечил пальцы на левой руке и потому был снят с военного учета. Перед оккупацией Захар Петрович ушел из станицы и угнал все колхозное стадо — полторы тысячи овец, коров, волов, лошадей. Сорок суток гнал он это стадо по степи, через реки, долины и горы, оглядывался назад и, видя багровеющее в отсветах пожара небо, уходил все дальше и дальше. Так он добрался до горных аулов Дагестана, пробыл там полгода, а потом, когда немцы были разбиты, погнал стадо обратно. После войны голубовцы избрали Бугрова председателем колхоза.
Назаров любил голубовского председателя за его честность, трудолюбие, за его спокойный характер, скромность и простоту. Но он часто журил Бугрова за то, что председатель мало читает, не интересуется новинками агрономии и вообще недостаточно работает над собой.
— Смотри, Захар Петрович, еще год-два, а потом ты окажешься в обозе, — предупреждал он Бугрова.
Сейчас, приехав в Голубовскую, Тихон Филиппович дважды присутствовал на заседании колхозного правления, осмотрел молочнотоварную ферму, пасеку, птичник и по вечерам беседовал с Бугровым о хозяйстве.
— Коров у тебя маловато, — сказал он Бугрову, — и к тому же паршивые коровенки, низкоудойные… нужно расширить стадо. Как у вас тут с кормами?
— Кормов-то у нас хватает, — отозвался Захар Петрович. — Одних заливных лугов пятьсот гектаров.
— И хорошие травы небось?
— Трава как трава, чуток похуже будет, нежели в степи, да наша скотина привычна до лугового сена, — объяснил Бугров.
— Вот видишь! А у тебя на пятистах гектарах ходит три десятка беспородных коровок. Разве так хозяйничают, Захар Петрович?
Секретарь вздохнул, вынул потертый кисет, свернул «козью ножку» и сказал, закуривая:
— Завтра посмотрим твои сеноугодья. И профессора прихватим, рыбника. Жалко старика. С белугами у него там дело не клеится…
Рано утром Назаров, Бугров и Щетинин сели в дрожки и поехали на займище. Тихон Филиппович с трудом вытащил Щетинина из дому, убедив старика, что поездка будет ему полезна и отвлечет от мрачных мыслей.
Сытые колхозные кони бежали по разнотравью и сердито мотали головами, отмахиваясь от назойливых слепней. Сидя рядом с пожилым кучером, Щетинин угрюмо смотрел на рыжие конские крупы, от которых отлетали белые клочки пены, и думал о чем-то своем. Назаров и Бугров говорили о колхозных делах.
До полудня они объехали все сенокосы, потом секретарь райкома попросил Бугрова завернуть на те поля, которые погибли во время наводнения. Кучер погнал лошадей по заросшему пыреем проселку. Через четверть часа впереди затемнело черное, будто только что вспаханное поле.
— Вот оно, наше горе! — махнул рукой Бугров. — Можете глядеть на него. Осень и весну люди копались на нем, сто центнеров чистосортных семян израсходовали, за трудодни колхозникам начислили, а река все чисто пожрала, зернышка не оставила…
Они сошли с дрожек.
Перед ними чернела жесткая, потрескавшаяся земля, на которой кое-где, в западниках, поблескивали остатки воды. То тут, то там на пропавшей ниве высились илистые наносы и желтели россыпи прибитого водою речного песка. Вся эта мертвая земля напоминала поле битвы, по которому прошел, пожирая травы, пожар.
— Да-а, — протянул Назаров, — прямо-таки Мамаево побоище…
Старик Щетинин, с трудом передвигая ноги, прошелся по темному полю и внимательно осмотрел землю. Вернувшись на дорогу, он сказал:
— Все это отживает свой век… У нас уже есть Днепрострой, Фархадская гидростанция, Беломорканал. С-со-ветский человек научился повелевать природой. Он с-со-здал Московское море, оросил Голодную степь… Он, н-наш человек, и эту реку успокоит…
— Конечно, успокоит, — подтвердил Назаров, — а то ведь смотрите, что получается: тут вода заливает тысячи гектаров пшеницы, а на востоке, недалеко отсюда, у нас лежат засушливые, бесплодные степи. Разве с этим можно мириться?
Сняв фуражку, Щетинин вытер платком лоб и протер очки.
— Я твердо уверен, что мы возьмемся и за нашу реку, — сказал он, — мы построим и тут гигантское водохранилище, гидростанцию, к-каналы… Это д-дело ближайшего будущего. И я, п-предвидя это, хочу указать рыбе новые пути…
Он тронул председателя колхоза за рукав…
— Скажите, Захар Петрович, после гибели зерновых вы считаете эту землю п-пропащей?
— Зачем же пропащей? — усмехнулся Бугров. — Мы сейчас будем сеять на ней поздние культуры: кукурузу, подсолнухи, бахчу посадим.
— А б-бобовые можно тут посадить?
— Можно, а чего же?
Не выпуская бугровский рукав, профессор продолжал допрашивать председателя:
— Значит, вы считаете, что эту землю п-после наводнения можно использовать п-под посадку п-поздних культур?
— Известно, можно.
— И ее чрезмерная насыщенность влагой не помешает вам?
— Никак не помешает. Оно, можно сказать, даже свою пользу имеет, потому что есть такие культуры, которые влагу уважают, — пояснил Бугров.
Когда они возвращались в станицу, Щетинин оживленно разговаривал с секретарем райкома и рассказывал о будущем рыбного хозяйства.
— Сейчас у нас на реке только одна небольшая плотина, — говорил он, придерживая на коленях полинялую фуражку — но мы с вами доживем до того дня, когда весь сток реки будет зарегулирован. Всю речную пойму перекроет огромная плотина. Она задержит п-паводковые разливы, значит, весенние наводнения п-прекратятся навсегда. Займище никогда не будет заливаться водой, и рыбные нерестилища исчезнут. Судоходные шлюзы н-навеки отрежут п-проходной рыбе п-путь в верховья реки. П-природа изменит свое лицо, и режим реки станет иным. А вы п-представляете, что это значит для рыбного хозяйства?
Он помолчал и заговорил, отчеканивая каждое слово:
— Это означает п-полную революцию. И т-тут произойдет одно из двух: либо мы коренным образом перестроим наше рыбное хозяйство, либо останемся без рыбы.
— Как же так? — заинтересовался Бугров.
— Раз у рыбы исчезнут нерестовые площади, она п-потеряет возможность размножаться, — объяснил Щетинин. — С-следовательно, мы обязаны с-сами выращивать рыбу и после зарегулирования стока обязаны п-по-строить новые нерестово-выростные хозяйства, так называемые рыбхозы.
— Рыбхозы? — переспросил Назаров. — Это что же, вроде совхозов?
— Да, если хотите. Государственные рыбхозы со своими породами рыб, с отборными прозводителями, с определенным режимом п-питания и с новыми методами выращивания молоди б-белуги, осетра, сазана, леща. Это и будет к-коммунистическое рыбное хозяйство, которого нет ни в одной стране, Мы б-будем с-собирать в своих рыбхозах такой урожай, какой нам нужен, и н-навсегда избавимся от недолова…
Щетинин долго рассказывал о будущих рыбхозах, потом, придерживая рукой Бугрова, спросил его:
— У вас в станице два колхоза?
— Два, — оглянулся Захар Петрович, — один полеводческий, а другой рыболовецкий.
— Ну и как же вы, уживаетесь? Не ссоритесь друг с другом?
Покосившись на кучера, Бугров ответил неопределенно:
— Всяко бывает.
— А все же? — настаивал Щетинин.
— Видите, товарищ профессор, это дело сурьезное, — задумчиво сказал Захар Петрович. — Промеж наших колхозов твердой грани нет. По своему жительству все станичники перемешаны: полеводы живут промеж рыбаков, а рыбацкие дворы промеж наших имеются. Потому и есть у нас такие люди, что с колхоза в колхоз бегают. Не понравилось ему у рыбаков — он до нас идет или же обратно: от нас — до рыбаков. А то еще такие семьи в станице есть: муж, скажем, у рыбаков в колхозе состоит, а жинка у нас за свинарку или же за телятницу работает.
— А вы это одобряете? — подмигнув Щетинину, спросил Назаров.
— Не дюже одобряем, — нахмурился председатель, — потому что толку от такого порядка не видать. Вся такая семья, можно сказать, врозь живет и колхозных интересов не соблюдает, работает без огонька, абы день до вечера.
— Да-а, — протянул Щетинин, — я понимаю… Но я думаю, что вы будете х-хорошо жить с рыбаками, п-потому что скоро у вас появится общее дело…
Назаров и Захар Петрович с любопытством посмотрели на Щетинина, ожидая, что он скажет, но старик замолчал и больше не промолвил ни слова.
— А как с белугой, Илья Афанасьевич? — осторожно напомнил Назаров. — Удалось вам докопаться до корня?
— Как будто удалось, — неохотно ответил Щетинин. — Мне кажется, что во всем виноват кукан.
— Кукан?
— Да. Ж-жесткий шнур кукана травмировал рыбу. Я думал об этом и искал выход.
Он посмотрел на секретаря потеплевшими глазами и усмехнулся:
— Если бы м-можно было, я бы эту б-белугу на руках перенес за плотину, чтобы не причинить ей никакого вреда. Но — увы! — б белуга — крупная штука, а я стар и слаб. И все-таки я избавлю рыбу от п-проклятого кукана.
— Как же?
— Я придумал для нее мягкое ложе… б-большой мешок б-без дна… Мы будем осторожно вводить рыбу в этот мешок и отбуксируем ее к водаку без всякой травмы…
Назаров с удовольствием слушал старика. Ему нравилось то, что Щетинин с такой любовью относится к своему делу, так беззаветно любит реку и, несмотря на свои годы, не теряет энергии и настойчивости. «Наш профессор — крепкий мужик, — с уважением говорил Назаров председателю колхоза, — такой от своего не отступит и трудностей не испугается». Больше всего Назарову нравилась беспокойная устремленность Щетинина в будущее. Старик, как будто наверстывая все, что им не было сделано, торопился совершить самое главное, то, что ему казалось основным в его жизни, и, зная, что было и что есть, всячески стремился взглянуть на то, что будет.
— Будет у нас такое, что в-весь мир удивится! — посмеиваясь, сказал Щетинин секретарю. — Я вот собираюсь разработать формы единого производственного процесса в сельском и рыбном хозяйстве, с-собираюсь с-связать землю с водой.
Похлопав Назарова по колену, старик продолжал:
— Бог, как известно, отделил воду от суши и при этом вообразил, что им сделано д-доброе дело… а мне не нравится эта б-божья политика… Рыбак и земледелец б-ближе друг к другу, чем кажется н-некоторым теоретикам… и мы подумаем о том, чтобы они работали б-бок о бок…
После поездки в поле секретарь райкома, по приглашению Мосолова, пошел посмотреть только что организованный рыбпункт.
— Там наши комсомольцы прямо-таки научный кабинет оборудовали, — сказал Кузьма Федорович. — Скоро мы своих мальков выпускать в реку будем.
— Ну-ну, пойдем, — кивнул головой Назаров, — показывай свой кабинет.
На реке огненной дорогой пылало предзакатное солнце. Нагрузив на плечи фонари, по тропинке спускался бакенщик Анисим. Следом за ним старуха в черном бушлате несла весла. На левом берегу видны были растянутые на песке рыбацкие сети. До станицы доносился глуховатый гул воды на плотине, и казалось, что где-то недалеко неумолчно шумит морской прибой.
Секретарь райкома шел вразвалку, сунув пальцы за пояс, на ходу осматривая подметенные дворы, алые цветы на клумбах, увитые диким виноградом беседки.
— Женщины у вас аккуратные, — сказал он Мосолову, — чисто живут и за усадьбами своими смотрят.
— Станичники наши все такие, — ответил Мосолов.
— Это видно, — усмехнулся Назаров, — а только гляжу я на вашу станицу и удивляюсь: во дворах чисто, цветы пахнут, а на улицах из репьев не вылезешь, скоро волки в бурьянах завоют. Вот смотрю я на это и думаю: неважно станичные руководители работают. Надо не только свои личные дворы в порядок приводить, но и за станицей смотреть. Так?
— Вроде так, — уныло согласился Кузьма Федорович.
Когда Назаров и Мосолов по проложенной на винограднике тропке дошли до амбарчика и секретарь увидел его камышовую крышу, связанную из двух плетней дверь и забитые деревянной решеткой окна, он спросил, недоуменно оглядываясь:
— Где же твой научный кабинет? Уж не это ли?
— Так точно, Тихон Филиппыч, он самый.
— Вот этот сарай? — удивился Назаров.
Кузьма Федорович совсем смутился:
— У нас не хватает помещений, приходится пока мириться…
Сердито прищурив глаза, секретарь повернулся к Мосолову:
— А совесть у тебя есть, товарищ Мосолов? Люди начали полезное для колхоза новое дело, целое производство развернули, а ты их в сарай загнал? Так? Здорово же ты помогаешь своим новаторам!
Не слушая объяснений Мосолова, он махнул рукой:
— Ладно, не оправдывайся. Пойдем. Потом поговорим.
В амбаре были Груня, Тося и Витька Сазонов. Девушки, склонившись над аппаратами, выбирали пинцетами тронутые грибком икринки, Витька возился с маленьким школьным микроскопом.
Назаров поздоровался и подошел к Витьке:
— Ну, товарищ профессор, рассказывай нам о своих наблюдениях. Чем ты занят?
— Изучаю планктон Лебяжьего озера, — не моргнув глазом, ответил Витька.
— Вот как! А что такое планктон?
Витька подозрительно посмотрел на секретаря:
— А вы что, не знаете, что ли? Планктон — это мельчайшие растения и животные, которые находятся в воде. Их рыбы едят. Мы, значит, и изучаем кормовую базу Лебяжьего озера: планктон глядим, рыбьи желудки исследуем.
— Ну и что ж он, этот твой планктон? — не меняя серьезного тона, спросил Назаров. — Будет рыбам корм обеспечен или нет?
Витька искоса взглянул на Груню и заговорил, важно растягивая слова:
— Смотря каким рыбам. Я уже нашел в Лебяжьем десятки видов. Вот поглядите тетрадь. Тут все записано и даже срисовано. Я сам рисовал. Вот. Веслоногие рачки, коловратки, всякие водоросли. Они все имеют свои научные названия, только их не запомнишь.
Витька расхрабрился и презрительно скривил рот:
— Планктон — ерунда! Мы уже газовый и соляной режим озер изучали, прозрачность воды измеряли, а я даже бентос глядел.
Не дожидаясь вопроса, Витька покровительственно улыбнулся:
— Знаете, что такое бентос? Это — население дна. Личинки комара-дергуна, червей, мотыли и всякая дребедень. У нас есть озеро, называется Иловатое, так в нем этого самого бентоса кишмя кишит. Хочете, я покажу банку?
Груня нахмурилась и остановила словоохотливого Витьку:
— Ладно, Витя! «Хочете»! Хватит!
Назаров подошел к девушкам, тронул рукой аппараты, посмотрел икру.
— Кто ж это все придумал?
— Инспектор наш, товарищ Зубов, — слегка краснея, ответила Груня, — он и руководит этим делом.
— А где он сам?
На секунду задержав взгляд на Груниных зарумянившихся щеках, секретарь сказал задумчиво:
— Ваш председатель сказал мне, что вы подумываете о постановке опытов по гибридизации рыб. Это возможно?
Груня помедлила:
— Возможно. Правда, я не смогу объяснить как следует. Оплодотворение достигается не только среди представителей рыб одного вида. В природе есть помеси среди осетровых, карповых, сигов. На севере искусственно скрещивают речную камбалу с морской. Значит, человек может сам выводить новые ценные породы рыб. Понимаете? Так же, как Мичурин выводил новые плоды. Все это очень важно для будущего рыбного хозяйства. Вот мы и хотим поставить такие опыты.
— Что же для этого нужно?
— Нужны подходящие условия, целый ряд приборов, помещение, аппаратура, нужна помощь ученых…
Назаров подмигнул Мосолову:
— Ишь ты! А председатель небось вам скажет, что Мичурин не так начинал. Правда, Кузьма Федорович? Мичурин, дескать, начинал на пустыре, на клочке брошенной земли, без всяких консультаций. Расскажи им, товарищ Мосолов, утешь их, пусть в амбаре поработают.
Тося спокойно взглянула на секретаря и сказала с достоинством:
— Мичурин начинал свои опыты в старое время, Тихон Филиппович, а мы работаем в советском обществе, в колхозе. Большая разница.
Назаров тронул Мосолова за плечо:
— Слышишь, председатель? Чувствуешь, о чем речь идет? Это прямо к тебе относится. Надо людям помочь. Они затеяли не шуточное дело. Тут не отделаешься старым амбаром.
Выйдя с Мосоловым, секретарь осмотрел амбарчик снаружи и кивнул головой:
— Это не пойдет, Кузьма Федорович. Раз у людей желание есть и они заговорили о заводе, надо завод строить. Понятно? Вы его за месяц построите, это ведь не «Запорожсталь» и не домна. Соберите собрание, побеседуйте со старыми рыбаками, станичную молодежь привлеките. Так? Стройматериалы мы достанем, кое-что вы в кредит возьмете. Я поговорю с Антроповым, пусть соберет коммунистов, мобилизует на это дело актив…
Вечером Груня встретила Зубова в избе-читальне и рассказала ему о разговоре с секретарем райкома.
— Ты понимаешь, — взволнованно зашептала Груня, увлекая Василия к стоявшей у окна скамье. — Назаров так разнес нашего Кузьму, что тот не знал, куда ему деваться. Витька слышал, как Тихон Филиппович на улице отчитывал председателя: «Вы, говорит, должны рыбозавод строить, а не игрушками заниматься… Надо, говорит, станичную молодежь мобилизовать на это, коммунистов собрать…»
— Ну, а Кузьма что? — посмеиваясь, спросил Василий.
— Не знаю, он больше молчал…
У стола, склонившись над газетой, сидел Захар Петрович Бугров. Он, видимо, слышал все, что говорила Груня, ухмыльнулся и сказал, разглаживая газетный лист:
— Ваш Кузьма — неплохой мужик, только тяжеловат на подъем, и голова у него работает наподобие гранаты замедленного действия.
За окном, на обрамленном тополями асфальтированном круге, танцевали парни и девушки. Невидимые за деревьями, ладно вели тихую мелодию вальса баян и скрипка. Еле слышные звуки баяна, казалось, неслись откуда-то издалека, из звездной глубины ночи, зато скрипка, грустя и радуясь, пела так, точно близкие струны по-человечески внятно выпевали ласковые слова о молодом гармонисте, который до рассвета бродит по темным деревенским улицам и нежной песней тревожит сон любимой девушки.
— Хорошо играют, — задумчиво сказал Зубов.
— Это Егор Иваныч с Худяковым, — отозвался Бугров.
— Какой Егор Иваныч?
Сложив газету, Бугров подошел ближе:
— Наш казачок, станичник. Золотые руки. Послушайте, что он своей скрипкой делает…
Тихонько шурша подошвами по гладкому асфальту, у окна плавно кружились пары: девушки в развевающихся праздничных платьях, парни-рыбаки в черных пиджаках и небрежно расстегнутых рубашках. Девушки танцевали легко, с упоением, чуть-чуть откинув стан, словно собирались улететь куда-то; их шелковые юбки шелестели, раздувались, как разноцветные паруса, и крепкие руки парней все сильней увлекали девушек в горячую круговерть танца.
А скрипка пела, и казалось, что ее песня, чистая и легкая, тоже вот-вот оторвется от приглушенных звуков рокочущего басами баяна и, радуясь, малиновкой полетит над отражающей звезды рекой, над темной полосой прибрежных тополей, над пахнущей травами степью…
— Пойдем потанцуем, Вася, — шепнула Груня, незаметно пожимая Зубову руку.
— Пойдем…
Они сбежали вниз по шатким ступеням деревянного крыльца, обошли дом и на секунду задержались перед шумным кругом молодежи. Справа, под старой яблоней, Зубов увидел музыкантов. Степан Худяков сидел на низком табурете, задумчиво перебирая лады баяна, а рядом с ним стоял маленький худощавый скрипач; Василий успел рассмотреть его сухую, крепко сбитую фигуру, защитного цвета солдатский костюм, склоненную над скрипкой стриженую голову с темной челкой, жесткие, аккуратно подбритые усики над напряженно сомкнутым ртом.
«Здорово играет», — подумал Василий.
Он осторожно обнял Груню за талию, ввел ее в круг и, вначале сбиваясь, а потом все более уверенно и радостно закружил в вальсе.
— Правда, хорошо? — спросил он, наклоняясь к Груниной щеке.
— Хорошо, — беззвучно ответили губы девушки…
После танцев Зубов и Груня взяли в библиотеке книги и пошли домой. Прощаясь у калитки, Василий поцеловал Груню и тихо спросил:
— Ты что будешь делать завтра?
— Пойду к Дульным садам, — подумав, ответила Груня, — там, говорят, в низинах, осталось много мальков. Посмотрю, может, еще можно спасти их.
— А мне надо побывать в устье Сухого Донца, — сказал Зубов, — это близко от Дульных садов. Если ты подождешь меня в садах, я приду туда к полудню, и домой мы пойдем вместе.
— Хорошо, Васенька, я подожду, — пообещала Груня.
Они условились о встрече и разошлись.
По просьбе Зубова Марфа разбудила его на рассвете. Он наскоро позавтракал, накинул китель и, перебежав шаткий мостик, пошел по тропинке на остров.
Солнце еще не взошло, но за густой чащей леса, окрашивая стволы старых верб огненными пятнами, вставала заря. Тут, на лесной тропе, Зубов почувствовал странную духоту. На кустах и деревьях не шевелился ни один листок, неподвижно стояли под яром зеленые камыши, а на ясной, как стекло, речной глади плыли белые пушинки тополевого цветения. Глубоко прогретая земля не успела за ночь остыть, от нее тянуло горьковатым сухим теплом.
Василию стало жарко. Он расстегнул китель и пошел медленнее.
У низкой, поросшей тальником надречной косы тропинка приблизилась к берегу. На потемневшем от влаги плотном песке заблестели тронутые мшистой зеленью лужицы. С песчаного закоса лениво поднялась белая цапля. Медлительно махая розовеющими крыльями, она пролетела над сонной рекой и исчезла за лесом.
Перейдя овраг, Василий выбрался на крутой, обрывистый яр. Отсюда хорошо просматривалось место слияния двух рек — широкий разлив, по которому проходили весенне-летние маршруты рыбы. Зубов решил отдохнуть немного и заодно найти удобную точку для поста, где должен был дежурить досмотрщик Прохоров. Неторопливо шагая вдоль берега, Василий всматривался в прозрачную воду и на излучине заметил непонятное подводное сооружение.
Он остановился.
Под водой, на песчаном речном дне, лежал поваленный набок остов грузовой автомашины. Как видно, вода давно уже разрушила все ее деревянные части — от машины остались только рама с дисками и помятая шоферская кабина. В овальных отверстиях дисков тихонько колыхались изумрудные космы водорослей, на буром от ржавчины металле толстым слоем лепились белые ракушки.
Зубов долго стоял на крутом берегу, всматриваясь в воду и наблюдая за движением рыбьих стай вокруг полузасыпанной песком машины. В ее железных лабиринтах неторопливо кружились жерехи; слева и справа мелькали юркие косячки плотвы; снизу, уверенно двигаясь против течения, несколько раз проплывала молодая щука; уклоняясь от мерцающих на дне солнечных пятен, она уходила в зеленоватую тень дисков и там выжидала, слегка пошевеливая жесткими глазниками; как только осмелевшая плотва приближалась к диску, щука, точно торпеда, вылетала из засады и, ощерив пасть, заглатывала зазевавшуюся рыбешку.
Присев на размытое корневище вербы, Зубов ладонью заслонил глаза от солнца и склонился над водой.
— Любуетесь? — услышал он незнакомый голос.
Перед ним стоял Егор Иванович, тот самый, который вечером играл возле избы-читальни на скрипке. В полинялом солдатском костюме, в брезентовых тапочках, надетых на босу ногу, он стоял, держа в руках неказистое ружьишко. За плечами у него болтался рюкзак, из порванных карманов которого выглядывали крылья и хвосты аккуратно переложенных бумагой щуров, ястребов, сорокопутов.
— Любуетесь? — повторил Егор Иванович, скинув фуражку и вытирая потный лоб. — А я вот заготовки себе на вечер делаю.
— Какие заготовки? — не понял Зубов.
Егор Иванович бережно поставил в тень видавший виды рюкзак.
— Птицу отстреливал, — сказал он, усаживаясь рядом, — такая у меня работа. Я чучела делаю для фабрики наглядных пособий. Каждый месяц мне наряд на отстрел дают. Потом по моим чучелам детишки в школах природный мир изучают.
Он со вздохом вытянул ноги и повернулся к Зубову:
— А вы, значит, на рыбку любуетесь? Она этого места завсегда держится. Тут рыбе раздолье. Течение несет сверху всякий рыбий корм — червяков, водяных блошек, травку разную, а это все под машиной оседает. Получается вроде рыбьего продпункта…
Живо поблескивая карими глазами, Егор Иванович заговорил о рыбах, потом перешел к птицам и подвинулся ближе к Василию.
— Каждую животную тварь надо изучать по ее жизни, — серьезно сказал он, — надо понимать, где она проживает, чем кормится, как плодится. Тогда и понятие про эту животную тварь будет настоящим. Иначе один конфуз получается, — он засмеялся, обнажив крупные, пожелтевшие от табака зубы. — Так вот у нас на фабрике выходит. Понабрали девчонок чучела делать, а те в этом деле — как чурки. Отстрельщики доставляют им, допустим, сотню шкурок болотного луня или нырка белоглазого. Девчатки же ни разу ни луня, ни нырка даже в кино не видали. По картинкам позу чучелам придают. Потом эти чучела стоят на полках, как чайники, — глядеть на них тошно. А почему так получается? Потому что знания и понятия у людей нету…
Вслушиваясь в то, что говорил Егор Иванович, Зубов подумал, что ему самому, инспектору рыболовного надзора, несмотря на обучение в техникуме и на отличный аттестат, надо браться за настоящее изучение рыбы не только по книгам и скелетам, но и тут, на реке.
— Конечно, вы правы, — сказал Василий. — Для того чтобы хозяйничать в природе, надо многое знать…
Егор Иванович, склонив голову набок, прислушался к отрывистому посвистыванию в кустах, ухмыльнулся и тронул Зубова за плечо:
— Вы поглядите, что сейчас будет. Это зимородок голос подает. Он ведь в вашем деле надежный помощник. Птичка не более наперстка будет, а воздушный разведчик хоть куда! По его полету можно определить скопление малька. Это он на вербе где-то сидит и подруге своей высвистывает: лечу, дескать, на охоту, а ты меня с добычей дожидайся…
Оборвав фразу, Егор Иванович прижался к дереву:
— Ш-ш-ш… вот он!
Из-за прибрежных кустов голубой звездой вылетел крохотный зимородок. Над тем местом, где виднелась затопленная машина, он сделал крутой вираж и вдруг повис в воздухе, мельтеша тонкими крылышками. Сверкающий яркими оттенками оперения, бирюзовый, синий, небесно-лазоревый зимородок долго висел над рекой, как елочный ангелок, на невидимой солнечной нити, и каждое его перышко радужно мерцало, отражаясь в зеркально-спокойной воде.
Вдруг он с размаху кинулся в воду и через мгновение вылетел, держа в крепком черном клювике блистающую серебром рыбешку. Не обращая никакого внимания на сидевших под деревом людей, зимородок опустился на ближнюю ветку и, покрутившись на тонких ножках, придержал рыбку за хвост и оглушил ее, ударив головой о вербовый ствол. Потом он положил рыбешку рядом, встряхнулся, фонтанчиком выплюнул воду, оправил перья и весело засвистал.
— Видали? — прошептал Егор Иванович. — Это он жинку свою извещает: все, мол, в порядке, вертаюсь до дому.
Зимородок подхватил рыбку, сорвался с места, низко пролетел над рекой и пропал в кустах.
— Вот, — сказал Егор Иванович, — вы, должно быть, этого дьяволенка только у дамочек на шляпах видали, а он вам помочь может. И разве он один?
Пока они разговаривали, лежа на берегу, с запада, со стороны станицы, поднялась темная туча. Она ширилась, захватывала весь горизонт — от левобережного леса до дальних холмов — и, наползая на займище, поднималась все выше и выше.
— Дождь будет, — вскочил Зубов, — надо, пожалуй, идти.
Раздувая ноздри, Егор Иванович медленно втянул воздух и взялся за рюкзак.
— Тут не дождем пахнет, а грозой, — усмехнулся он, — и гроза, имейте в виду, развернется вовсю.
— Тогда пошли быстрее, — тревожно сказал Василий, — мне еще надо зайти на Дульные…
Они сбежали с обрыва вниз, миновали береговые заросли и пошли по дороге через займище. За их спиной еще светило жаркое полуденное солнце, но густая туча, наплывая с низовьев, уже легла на степь гигантской тенью. На фоне изжелта-темной тучи, освещенные солнечными лучами, резко выделялись станичные дома с белыми этернитовыми крышами и пароходы с баржами, стоящие у плотины.
Через несколько минут туча закрыла солнце. Все вокруг потемнело. Над тополями суетливо захлопотали грачи. Справа, из-за кустов придорожной полыни, сорвалась стайка куропаток. Рассыпавшись веером, куропатки перелетели через высохший ерик и укрылись в вербовых зарослях.
По займищу, в направлении к Дульным садам, со всех сторон двигались люди: две девушки-телятницы, громко перекликаясь, гнали к терновнику стадо позванивающих бубенчиками пестрых телят; по проселочной дороге бежали женщины с лопатами, ведрами, тяпками; вдоль заросшей молодым бурьянцем пахоты, щелкая плетью, промчался парень-табунщик на поджаром жеребце.
— На Дульных есть укрытие, — объяснил Егор Иванович, — там в стародавние времена жили станичные садоводы. От них остались разные постройки. Люди и поспешают туда от грозы схорониться…
Зубов прибавил шагу. Над его головой сверкнула синеватая молния, и загрохотал первый раскат грома. Зловеще-желтый хаос клубящихся над землей туч приближался с каждой секундой. На западе, за речной излучиной, встала белесая дождевая пелена. Резко запахло влагой. Порыв ветра взметнул на дороге увядшие космы перекати-поля, завертел их в бешеном вихре, поднял вверх и, окутав столбом пыли, погнал к реке.
— Не успеем! — закричал Зубов.
— Ничего, не сахарные, не растаем! — отозвался бежавший сзади Егор Иванович.
Они уже почти добрались до Дульных садов, как вдруг все озарилось ослепляюще белым светом, и, словно раскалывая небо пополам, взрывом ударил страшный гром. Взметая на дороге клубочки пыли, на землю упали вначале редкие, а потом все более частые капли дождя, и сразу — неудержимый, ошалелый, теплый — хлынул ливень.
Пока Зубов и Егор Иванович добежали до полуразрушенного каменного сарая, на них не осталось ни одного сухого места: все промокло — от фуражек до сапог.
Они заскочили в сарай. Там уже сидели и стояли люди: пастухи, огородницы, рыбаки, садоводы. Почти все они сбились в угол, под уцелевший кусок крыши, негромко переговаривались и, прячась от дождя, жались друг к другу.
Среди женщин-огородниц Зубов сразу заметил Груню. Она сидела рядом с сухонькой старушкой, оживленная, веселая, в мокром платье, босиком, и, искоса поглядывая на соседку, отжимала влажную косынку и вытирала ею лицо, шею и руки.
Увидев Зубова, она улыбнулась ему и закричала:
— Ага! Вы тоже промокли! Так и надо!
— Почему же «так надо»? — засмеялся Василий.
— Потому!
Груня набросила косынку на вытянутые ноги и позвала Зубова к себе:
— Идите сюда, тут есть место!
Осторожно стряхнув с фуражки воду, Василий подошел ближе, присел на корточки. Востроносая старушка посмотрела на него с любопытством, пожевала тонкими губами и, тронув Груню за локоть, спросила бесцеремонно:
— Это чей же такой будет? Наш станичный или приезжий?
— Приезжий, Куприяновна, приезжий, — посмеиваясь, сказала Груня, — инспектор, который вместо Степана Ивановича на участке работает…
Куприяновна понимающе кивнула:
— Как же, слыхала. Гутарят, будто он рыбу на манер курчат выводит…
Гроза бушевала с прежней силой. По зеленым холмам бежали мутные потоки воды. На западинах, в лужах, вздымая пенные пузырьки, плясали дождевые капли. Сидящие у порога мужчины вполголоса говорили о сенокосах, о лесопосадке, об уловах рыбы в низовьях, а женщины, расчесывая мокрые волосы и отжимая подолы платьев, судачили о своих домашних делах.
Из угла, где сидели Зубов и Груня, видны были окутанные пеленой дождя три столетние груши. Как три великана, с темными стволами, с корявыми ветками, деревья стояли на вершине холма, сомкнув могучие кроны, словно навеки сжали друг друга в железных объятиях. По чернеющим на их стволах обгоревшим дуплам, по следам топоров на шершавой, покрытой мхом коре, по обломкам ветвей, торчащих огрызками из пышных крон, видно было, что за сотню лет их не раз опаляли молнии, рубили люди, ломали ветры. Но и сейчас, в этот грозовой день, деревья стояли точно завороженные: крепкие, зеленые, живые…
Прищурив подслеповатые старушечьи глаза, сложив на коленях жесткие, натруженные руки, старая Куприяновна долго смотрела на темнеющие в пробоине стены деревья и заговорила, ни к кому не обращаясь:
— Стоят, будто их и время не берет. А ведь сколько годов прошло! И все человечьи руки. Человек посадил, человек доглядал. Сперва дед, потом сын, потом внук. Сколько труда сюда вложено — не сосчитать!
Она посмотрела в окно, и темное лицо ее осветилось.
— Тут ведь и мой труд вложен. Ох, какой труд! И вот я помру, а вы, голубчики, откушаете сладкого плода и помянете бабку: она, дескать, за садами глядела…
Василий вслушивался в то, что говорила Куприяновна, и душу его все больше и сильнее наполняло щемяще-острое ощущение счастья. Эта гроза, и запах воды и земли, и Егор Иванович в брезентовых тапочках, и столетние деревья в саду, и рыбьи мальки, и лазоревый зимородок, и — самое главное — Груня, босая, смеющаяся, крепкая, как деревце под дождем, — все это стало уже частью его самого, частью той трудной и радостной жизни, которую он избрал.
И он, вздыхая всей грудью, улыбаясь и хмурясь, смотрел на Груню, касался рукой ее влажной руки, что-то отвечал ей невпопад и думал о своем…
Между тем свежий низовой ветер погнал тучу на восток. Над рекой засияло солнце. Блистающая радуга гигантским мостом перекинулась от заречной степи до синих донецких холмов. За окном звонко, голосисто, как серебряная труба, заржала зовущая жеребенка кобыла. На груше заворковала лесная горлица. Два рыжих телка, смешно закидывая скользящие по размытой тропинке ноги, ринулись к зарослям терна.
Люди вышли из сарая.
— Ох ты, господи, благодать какая! — жмурясь, сказала Куприяновна.
За ней, с туфлями в руках, выскочила Груня. Приподняв юбку и разбрызгивая босыми ногами воду, она побежала по лужам. Следом пошел в своих хлюпающих тапочках Егор Иванович. Недолго думая, Зубов стащил сапоги, подвернул брюки и зашагал по дороге, догоняя Груню.
Они шли, весело переговариваясь, жадно вдыхая пряный запах трав, и вся земля вокруг них, омытая ливнем, молодая, зеленая, мерцала мириадами золотых капель.
У самой станицы их встретил Архип Иванович.
— На ловца и зверь бежит! — закричал он Зубову. — Завтра у нас в рыбколхозе состоится открытое партийное собрание. Вы, Василь Кириллыч, расскажете, коммунистам и о рыбохозяйственных мероприятиях, артели.
Добродушно усмехаясь, он добавил:
— Вот тут в самый раз будет и о рыбозаводе вопрос поставить.
— Хорошо, — сказал Зубов, — я попробую…
Подготовиться к докладу у Василия не было времени, а отказаться было стыдно, да и не хотелось. Зная, что на собрании будут присутствовать Щетинин и секретарь райкома, Василий очень волновался. Ему казалось, что многие, в том числе и Мосолов, будут выступать против строительства завода и этим могут сорвать все планы молодежи.
Однако ни один человек не выступил против. Доклад Зубова длился почти два часа, и все слушали с напряженным вниманием.
Василий начал с того, о чем ему уже приходилось однажды говорить на собрании. Он рассказал рыбакам, как в старое время возникла вредная для человечества теория о неистощимости рыбных запасов, как за последнее столетие низко упало речное, а потом и морское рыболовство в странах Европы и Америки.
— Истощаются ли мировые рыбные запасы? — задал он вопрос и сам себе ответил: — Да, истощаются. Один английский ученый недавно подсчитал вес пойманной в Англии рыбы на единицу снасти и пришел в ужас: еще недавно на одну снасть приходилось сто пятьдесят килограммов выловленной рыбы, а сейчас — не больше семнадцати килограммов. В девять раз меньше! Это за пару десятков лет!
Некоторые буржуазные ученые, — продолжал Василий, — считают, что население земного шара увеличивается гораздо быстрее, чем средства человеческого существования, и потому, дескать, запасы питания на земле иссякают. Это неправда. Истощение происходит не потому, что людей стало слишком много, а потому, что капитализм уродует, ранит и опустошает землю. Конкурируя одна с другой, буржуазные страны превратили рыболовство в разнузданный грабеж: они ловят рыбу днем и ночью, во все времена года, ловят чем попало — оттертралами, крючной снастью, дрифтерными сетями, кошельковым неводом; они бесконтрольно истребляют маломерную молодь, свирепствуют в морях и реках, подобно пиратам, и, как черный смерч, уничтожают в водах все живое…
Василий провел рукой по волосам, отпил из пододвинутого кем-то стакана и заговорил тише:
— Наш советский народ хозяйничает по-иному! И если мы, пока еще находясь в капиталистическом окружении, не можем изменить режим рыболовства на морях, где проходит граница, то свои внутренние водоемы мы обязаны рассматривать как часть социалистического народного хозяйства. Тут у нас нет никаких помех для того, чтобы наши рыбные запасы росли из года в год и шли на пользу народу. Для этого надо, чтобы каждый колхоз научился хозяйничать по-новому. Мы сами будем помогать природе, начнем выращивать рыбу, оберегать ее выгул, мы усилим кормовую базу для рыб, создадим новые ценные породы…
Доложив о проекте строительства рыбозавода, Василий закончил коротко:
— Я думаю, что мы все готовы начать закладку фундамента хоть в ближайшие дни, так, чтобы к осени помещение рыбозавода было построено, а с будущей весны началась бы плановая работа.
Выступившие на собрании Антропов, Груня, Степан, Тося и целая группа молодых рыбаков заявили о том, что они полностью присоединяются к предложению Зубова и готовы немедленно начать работу.
С таким же заявлением выступил и Кузьма Федорович Мосолов. Он объявил, что у колхоза есть свободные средства и что общее собрание членов артели, безусловно, одобрит проект.
Пимен Талалаев по привычке сидел сзади, молчал, а в конце собрания взял слово и заговорил, мрачно глядя себе под ноги:
— Оно, конечно, правильно. Хозяйновать на реке надо умеючи. Только, к слову сказать, как с заработком рыбацким получится? Завод будем после работы на тонях строить, сверхурочно, а кто ж детишков наших накормит? Кто нам платить за эту ударную работу будет? Нехай уж там ученые орудуют, новые тропки в разных науках прокладывают…
Последним выступал секретарь райкома Назаров. Он не пошел на сцену, а говорил стоя внизу, среди рыбаков, и говорил тихо, не так, как обычно говорят на больших собраниях.
— Дела у нас на реке неважные, — сказал он, — и добыча рыбы в колхозе падает. Так? А кто виноват? Все виноваты, и прежде всего мы, районные руководители. Мы привыкли считать рыбу второстепенным делом и занимаемся главным образом хлебом…
Он обвел сидевших в зале людей напряженным, острым взглядом:
— Я работаю в районе не очень давно, но вина лежит и на мне. Мы еще не взялись за рыбное хозяйство, а за него давно пора взяться. У вас тут годами хозяйничали жулики вроде Лихачева, который пригрел около себя целую свору и грабил реку, как хотел. Зло, конечно, не только в Лихачеве. Его уж тут нет. Зло сейчас в другом — в нашем непонимании тех задач, которые стоят перед рыбным хозяйством, в неумении предвидеть то, что несет реке завтрашний день. Есть зло и в лихачевских ядовитых корешках. Кое-где они остались. Нам надо выдернуть эти корешки до конца и взяться за работу по-большевистски.
Тихон Филиппович посмотрел на Пимена и усмехнулся:
— Тут кое-кто о заработках говорил, предлагал ученым заниматься науками и сам собирался в сторонку стать. А ведь новые пути в науке прокладывают иногда не общеизвестные ученые, а простые люди, практики, новаторы дела. Это надо помнить. Завод мы построим и хозяйничать на реке будем по-новому, чтобы обеспечить высокую добычу рыбы так же, как мы обеспечиваем урожай. И тут нас не собьет с дороги никто…
В этот вечер голубовскими коммунистами было принято единогласное решение о скоростном строительстве колхозного рыбоводного завода.
4
Пимен Гаврилович Талалаев затаил злобу против Зубова с того дня, как был конфискован суточный улов второй бригады. И хотя Талалаев не решался открыто выступать против инспектора, он исподволь гнул свою линию и старался вооружить рыбаков против Василия.
— Ледащий человечек, — презрительно говорил он о Зубове, — такому инспектору грош цена в базарный день. Рыбы он не знает и знать не хочет, рыбаков не уважает и на рыбколхоз как барин смотрит: они там, дескать, ковыряются, а мое дело — сторона.
Если кто-нибудь из рыбаков пытался возражать Талалаеву, Пимен Гаврилович смотрел на него сердито и говорил, махнув рукой:
— Чего ты понимаешь? Видать, еще не раскусил этого Зубова, а я вижу инспектора со всеми его потрохами. Никудышный человек. Не такого нам сюда надо.
Он угрюмо умолкал и заканчивал многозначительно:
— С таким инспектором колхоз наш на мель сядет, потому что Зубов — настоящий бюрократ. Он и для государства пользы не соблюдает и нашим бригадам никакого ходу не дает…
Василий часто приходил во вторую бригаду, много раз говорил по душам с рыбаками, видел, что молодые ловцы относятся к нему сочувственно, но со стороны бригадира встречал только молчание или язвительные насмешки.
После истории с конфискацией улова вторая бригада оказалась на последнем месте. Это ударило по заработку ловцов, и Талалаев решил воспользоваться их настроением, чтобы восстановить рыбаков против Зубова.
— Мы с этим бюрократом завсегда будем в хвосте, — сказал он рыбакам, — он с нас не слезет и зачнет теперь проверять каждое притонение. Так что вы даже и не надейтесь на премию, потому что товарищ инспектор поперек вашей премии стал…
Рыбаки мрачно слушали своего бригадира, не возражали ему, но и не высказывали никакого одобрения. Поэтому Пимен Гаврилович боялся продолжать разговор. Он отводил душу только в беседах с братом, старым паромщиком Авдеем.
Однажды паромщик, слушая брата, решил помочь ему избавиться от ненавистного инспектора.
— Тебе, Пиша, надо разоблачить Зубова, — подумав, сказал Авдей Гаврилович.
— Легко сказать! — отмахнулся Пимен. — Каким чертом ты под него подкопаешься?
Они сидели при свете лампы за кухонным столом; в комнате, кроме них, никого не было, и братья могли беседовать, не опасаясь, что их кто-то подслушает. Поглаживая жесткой ладонью обтертую до блеска доску стола, Авдей Гаврилович щурил подслеповатые глаза и говорил Пимену:
— Чего-то ты сдаешь, Пишка. Стареешь, должно быть, и силу свою теряешь. А силу тебе терять нельзя. Ты человек незамаранный, Пиша, чистый человек. Чего ж тебе, спрашивается, бояться? Ты, брат, могешь свалить не такого, как Зубов, ежели он тебе поперек горла стал.
Пимен Гаврилович досадливо сморщился:
— Ты, Авдюшка, мелешь незнамо чего. Зубов — коммунист, за него, случай чего, райком заступится, а мне голову скрутят.
— Головы дуракам крутят, — невозмутимо возразил паромщик, — а ты, чай, не дурак. Каждое дело надо делать аккуратночко, тихо, по-хозяйски, как покойный батя нас учил…
Подкрутив потрескивающий фитиль лампы, Авдей Гаврилович приблизил к брату чистое, розовое лицо и щекотнул его щеку белой бородой.
— Так ты говоришь, Зубов — партейный? — задумчиво спросил он.
— Известное дело, партейный.
— Оно и лучше, ежели партейный, — ухмыльнулся паромщик, — партия, она взятошников не уважает и враз их вышибает из своих рядов.
— Каких взятошников? — поднял брови Пимен.
— А таких, — хихикнул паромщик, — обыкновенных, которые взятки с людей требуют.
— При чем же тут Зубов?
— Вот, Пиша, и надо так сделать, чтоб был при чем, — погладил бороду Авдей Гаврилович. — Раз человечек тебе помехой стал, значится, его надо с копытков сбить, заявление на него написать нужно. И все это надо соорудить крепенько, честь по чести, чтоб никакой прицепки не было.
Пимен захохотал и, скривив рот, уставился на брата.
— Чертище ты, Авдюша, — прогудел он. — Какой же дурак мне поверит, ежели я всякую муру на Зубова напишу? Или же ты думаешь, что все это шуточки, дескать, раз, два — в дамках?
Улыбка исчезла с благообразного лица паромщика. Он сказал строго:
— Брось мудрить, Пишка! Ты слухай, чего я тебе говорю. Твой Зубов у всех нас в печенках сидит, и пора пришла ослобонять от него станицу. И ты не строй с себя христосика. От тебя дела ожидают, а ты дурочку валяешь… Я ж знаю, что вы с досмотрщиком рыбу инспектору носили, и он взял у вас эту рыбу. Вот тебе и есть первая зацепка. Возьми ее на карандашик, с людьми своими потолкуй и сообщай куда положено.
Посапывая, шмыгая носом, Авдей Гаврилович слезливо запричитал:
— Покель не было этого паразита, река нас всех кормила и жить нам давала. Каждый, кто не ленился, с рыбой был и денежки имел. А теперича на реку и носа не покажешь, враз зацапают. Слыхал ведь, чего он с Егором сделал?
Братья проговорили до полуночи и сошлись на том, что Зубова надо удалить из станицы любым способом. Пимен пообещал Авдею Гавриловичу заняться инспектором в ближайшие дни и дал твердое слово «подобрать материальчик» и написать заявление в Рыбвод.
Случай с досмотрщиком Прохоровым помог Пимену Талалаеву осуществить свое намерение. Случай этот произошел на Донце, возле затопленной машины, в том самом месте, где Зубов наметил для своего досмотрщика удобный наблюдательный пост.
Собираясь на ночное дежурство, Прохоров вдруг почувствовал недомогание: у него ломило в пояснице, болели руки и ноги, кружилась голова. Вначале у Ивана Никаноровича мелькнула мысль: «Не пойду на дежурство, останусь дома», — но он отогнал от себя эту мысль и только сказал дочери:
— Чего-то мне неможется, Грунюшка…
— А что? — спросила Груня.
— Корежит меня всего.
— Так, может, остались бы дома?
— Нет, я уж пойду, — махнул рукой Прохоров, — пост далеко от станицы, рыбы там сейчас туча, какие-нибудь волчки сыпанут невод — горя потом не оберешься…
Он с кряхтеньем натянул сапоги, надел шинель и шапку, сунул в карман кусок хлеба, вяленую чехонь, взял карабин и побрел на пост. Пока он шел лесом, совсем стемнело, от реки потянуло прохладным ветром, и Прохорова стало знобить. Он поднял воротник, застегнулся и зашагал быстрее.
Придя на крутой донецкий берег, Иван Никанорович походил немного, потоптался на месте, осмотрел речной залив и мелководье на излучине. Было тихо. Едва слышно шумела темная река, время от времени всплескивала играющая рыба. Со стороны невидимой за лесом плотины доносился глуховатый гул воды.
«Никто сюда не сунется», — подумал Иван Никанорович.
Заметив неподалеку копну сена, он добрел до этой копны, уселся поудобнее и решил: «Посижу немного, согреюсь, а потом обратно пройдусь по берегу». Но его незаметно стал одолевать сон, и он, подмостив под бок сухого, пахнущего полынью сена, лег, задремал, а потом уснул.
Иван Никанорович не услышал, как со стороны Рыбачьего острова подошел легкий рыбацкий каюк и двое в темных плащах стали ловить рыбу накидной сеткой. Им никто не мешал, и они бороздили реку от берега до берега, с каждой накидной вытаскивая по два-три пуда рыбы.
В это самое время дежурные общественного надзора Пимен Талалаев и дед Малявочка совершали обход вдоль Верхней Заманухи. Они шли молча, покуривая цигарки, и, когда дошли до песчаного закоска у Донца, Пимену почудилось, что где-то неподалеку поскрипывают весла.
— Погоди-ка, дед, — сказал Пимен, — вроде кто-то на Донце кидает…
— Да не! — отмахнулся Малявочка — Это, должно быть, ветерок ветками балуется или же…
Пимен сердито перебил его:
— Какой там ветерок! Бабайки стучат!
Он остановился, снял шапку и прислушался.
— На Донце ить Ванька Прохоров дежурит, — попробовал возразить Малявочка, — я сам видел, как он шел на дежурство.
— Ну и что? — огрызнулся Пимен. — Может, он сам и ловит, твой Ванька?
— Как так — сам ловит?
— Очень просто!
Пимен подумал, почесал затылок и решительно махнул рукой:
— Пошли, дед. Тут в зарослях братнина каечка на приколе стоит. Ключ у меня в кармане, кайка легкая, на ходу, мы их враз накроем.
Они спустились к воде. Пимен отомкнул замок на якорной цепи, принес откуда-то из-за кустов пару весел, усадил Малявочку за руль, оттолкнулся от берега и вскочил в лодку:
— Поехали!
Миновав песчаную косу, они выехали на разлив и через двадцать минут зацепили железным багром хуторской каюк, который схоронился у яра, в гущине тополевых деревьев. В каюке оказалось полно рыбы. Сбоку, на берегу, сидели двое в плащах, мужчина и женщина.
— А ну-ка, вылезай наверх! — рявкнул Пимен. — Чьи вы там такие хитрые?
Чиркнув спичкой, Пимен узнал повара с землечерпалки, которая на протяжении трех последних дней работала возле Чебачьего острова. Повар приходил в станицу за молоком, и Талалаев сразу вспомнил его толстое, одутловатое лицо.
— Так, — важно протянул Талалаев, — ну чего ж, сейчас мы составим на вас акт…
Присвечивая зажженным факелом, Пимен быстро написал акт, заставил подписаться повара, его жену и Малявочку, подписался сам и кивнул снисходительно:
— Дуйте на свою землечерпалку, начальство разберется, чего с вами делать, а за лодкой явитесь в рыбцех до товарища Головнева.
Потом Пимен взял чужой каюк на буксир, подвел его к берегу и, проводив взглядом удаляющегося повара, сказал Малявочке:
— Пойдем нашего стража поищем. Он, должно быть, дрыхнет где-нибудь в кустах…
Он побродил по берегу, дошел до копны, увидел спящего досмотрщика и махнул рукой деду Малявочке:
— Иди полюбуйся! Вон он, твой Ванька! Храпит, аж посвистывает!
Дед наклонился, чтобы разбудить Прохорова, но Талалаев остановил его:
— Нехай спит: сморился человек.
Оставив Ивана Никаноровича у копны, Пимен увел Малявочку, усадил его в лодку и сказал:
— Поехали. Доведем кайку до причала и сдадим рыбу Головневу.
— Может, надо инспектору про этот случай рассказать? — спросил Малявочка.
— Давай расскажем инспектору, — ехидно ухмыльнулся Пимен, — а он завтра же из Ваньки Прохорова отбивную котлету сделает.
— За что? — не понял дед.
— За то, что Ванька заснул на боевом посту и социалистическую собственность проворонил.
Сердобольный Малявочка с уважением посмотрел на Талалаева и подумал: «Жалостливый, сукин кот, не хочет Ваньку губить…»
А Пимен уже прикидывал про себя: «Ну, товарищ Зубов, я тебя этой штуковиной подведу под монастырь. Прохорова ты через Груньку пригрел, семейственность на участке развел! Я теперь тебе покажу, где раки зимуют…»
Не дожидаясь рассвета, Пимен заставил Малявочку караулить каюк у причала, пошел в станицу, разбудил Головнева и попросил его принять конфискованную на Донце рыбу.
— А инспектор знает про эту рыбу? — позевывая, спросил Головнев.
— Знает, Михаил Степаныч, конечное дело, знает, — успокоил его Талалаев.
Головнев послал на берег подводу, принял рыбу, взвесил ее и стал писать квитанцию.
— Ты, Степаныч, квитанцию пиши на мою фамилию, — сказал Пимен, — что, дескать, отобранную у волчков рыбу, столько-то килограммов, сдал общественный надзор товарищ Талалаев…
— Да, так я и напишу, — согласился Головнев, — раз ты сдаешь, значит, на твое имя и квитанция будет.
— Печать поставь ясную и число не забудь, — напомнил Пимен.
— Ладно, все будет сделано как следует…
Придя домой, Пимен тщательно обследовал акт и квитанцию, разгладил бумажки рукой, послюнявил карандаш и прибавил к акту следующие строки: «Досмотрщик И. Н. Прохоров был обнаружен нами спящим на копне сена, а хищение рыбы производилось в его дежурство на его посту…»
Строки эти были написаны выше подписей Малявочки, повара и самого Талалаева.
— Ничего, товарищ инспектор, — с угрозой протянул Пимен, поглядывая в окно, — мы замахнемся на твоего тестя, а стукнем тебя…
О ночном происшествии на Донце Пимен Гаврилович не сказал ни одному человеку. Малявочка тоже молчал, боясь, что своими разговорами навлечет на Прохорова беду. Сам Прохоров, проспав на копне до рассвета, не знал, что произошло на его дежурстве. Головнев же, думая, что конфискованную рыбу в цех прислал Василий, не заговаривал с ним об этом и через два дня вернул повару лодку по записке Пимена.
— Ну, Авдюша, — сказал Пимен брату, — кажись, у меня клюет. Надо только хорошо обдумать, как начать…
И он стал писать заявление в Рыбвод, но об истории с Прохоровым решил молчать и придерживать ее до конца, как придерживает картежник козырный туз.
Между тем Василий Зубов даже не подозревал, что над его головой собираются тучи. Он ежедневно объезжал свой участок, проверял уловы на Таловой тоне, работал на рыбпункте, вечерами навещал Груню и гулял с нею по станице. Все об этом знали и не видели ничего предосудительного в том, что молодой инспектор встречается с дочкой досмотрщика: оба они были свободны, и никто не мог им запретить любить друг друга.
Иван Никанорович тоже заметил влечение Груни к Зубову, и, хотя это ему не понравилось, он, по свойственной ему робости, не стал вмешиваться в дела дочери. Только один раз, после того как Василий и Груня слишком засиделись в садике, Иван Никанорович сказал осторожно:
— Ты бы там полегче с Василь Кириллычем, Грунюшка.
— А что? — насторожилась Груня.
— Да ничего, это я так, — вздохнул досмотрщик, — люди вы оба молодые, может, у вас там ничего плохого и нет, а народ говорить будет, дескать, гуляет девушка…
— Пусть говорят, — отозвалась Груня из темноты, — мы ничего плохого не делаем…
Больше Иван Никанорович не говорил с дочкой, считая, что у нее своя голова на плечах.
Марфа Сазонова, прослышав о том, что ее жилец гуляет с Груней Прохоровой, подшучивала над ним:
— Ну чего ж, Вася, может, пора уже сватов засылать? — лукаво говорила она.
— Каких сватов? — усмехнулся Василий. — Я пока жениться не собираюсь.
— Как же так не собираетесь? Девочка только про вас думает, а вы такое говорите!
Марфа часто рассказывала ему о своем замужестве, и он знал, что она не любила своего покойного мужа, несколько раз бросала его, уходила на хутор, где жили ее родные, и возвращалась только после настойчивых просьб старухи матери.
Вечерами, за ужином, Василий заводил разговор о разведении рыбы, и Марфа с удовольствием слушала его рассказы о развитии икринок, о жизни мальков, о питании морских и речных рыб. Однажды Зубов даже застал Марфу за чтением. Присев у края стола и подвинув поближе лампу, она, сосредоточенно шевеля губами, читала толстую книгу Берга «Рыбы России».
Увидев Василия, Марфа смутилась и захлопнула книгу.
— Это вы меня подбили своими разговорами, — застенчиво улыбаясь, сказала она. — Мне давно пора тесто месить, а я, вишь ты, картинки разглядываю.
— Ничего, это полезно, — засмеялся Василий, — только книгу вы выбрали трудную, я дам вам полегче…
Чем дальше шло время, тем больше входила Марфа в круг интересов своего жильца. Немалую роль в этом сыграл и Витька, который каждую минуту посвящал мать в тайны своих биологических изысканий и настойчиво приглашал ее зайти на рыбпункт. Марфа понимала, что Витька пристрастился к науке под влиянием Василия, и она была благодарна за это своему жильцу, которого полюбила теперь, как старшего сына. На рыбпункте Марфа с детским любопытством осмотрела все аппараты, Витька с гордостью подвел ее к микроскопу и разрешил взглянуть на планктон. Груня с Тосей показали Марфе личинку сазана, в которой уже ясно было видно пигментированное пятнышко глаза.
— До чего ученые люди доходят! — восхищалась Марфа. — Все видать, как в стеклышке!
После посещения рыбпункта Марфа стала еще больше уважать Василия, относилась к нему с ласковой заботливостью и отстаивала его везде, где могла. Она же первая и узнала о том, что бригадир Пимен Талалаев подбивает рыбаков написать на Василия заявление и что один из ловцов поддался влиянию Пимена и поставил свою подпись на той бумаге, которую приготовил Талалаев. Никто не мог сказать Марфе, о чем писал бригадир, но все, с кем она встречалась, говорили, что Зубову несдобровать.
А дело обстояло так. После разговора с братом Пимен написал большое заявление начальнику Рыбвода о том, что участковый инспектор Зубов берет с колхозников взятки (при этом бригадир упомянул о рыбце, принесенном Василию в первый день его приезда). Кроме того, Талалаев предупреждал Рыбвод о «незаконных поборах», которые Зубов «накладывает на удильщиков». Упомянув о конфискации улова у пойманных в Заманухе браконьеров, Пимен написал, что часть этого улова якобы была утаена инспектором и продана им на рынке по спекулятивной цене. В конце заявления Пимен сообщал о том, что Зубов в период запрета посылал на Таловую тоню целую бригаду рыбаков и заставлял их ловить для него сотни самых отборных лещей и сазанов.
Василий ничего не знал о происках Талалаева, а когда Марфа заговорила с ним об этом, он посмеялся и сказал, что на каждое чиханье не наздравствуешься.
— Пусть пишет, — успокоил он Марфу, — меня этим не запугаешь. Они думают, что я, как теленок на поводке у них пойду, а я вижу, чем они дышат, и никогда не буду потворствовать безобразию.
Вышло, однако, что Зубов напрасно отмахнулся от предупреждения Марфы: заявление было написано так умело, что ему дали ход. Но Василий об этом ничего не знал и не хотел думать о возне Талалаева: все это казалось ему пустяками.
Зато Архипа Ивановича Антропова поведение Пимена не на шутку тревожило, возмущало.
Однажды вечером, когда рыбаки обеих бригад, став на отдых, смолили на берегу невода, Антропов решил поговорить с Пименом. Расстелив стеганку, он улегся у опрокинутого на песке баркаса и сказал проходившему мимо Степану Худякову:
— Покличь-ка своего бригадира, нехай подойдет на минуту!
Архип Иванович чувствовал, что предстоящий разговор не предвещает ничего хорошего, но решил узнать настроение Талалаева и откровенно побеседовать с ним.
Увидев медленно приближающегося Пимена, Архип Иванович понял, что из разговора с ним толку не будет: Талалаев шел, низко опустив голову, тяжело загребая сапогами песок; перекинутый через руку резиновый плащ волочился за ним, как хвост большой рыбы.
Подойдя ближе, Пимен остановился в двух шагах.
— Кликал, что ли? — спросил он.
— Кликал.
— Чего?
— Дело есть.
Пимен бросил плащ на песок и, ни слова не говоря, сел.
Оба они, и Антропов и Талалаев, родились и выросли в Голубовской и знали друг друга с детства. Оба были старыми рыбаками, но жизнь их сложилась по-разному, и потому они никогда не дружили. В годы, когда Антропов исходил все Задонье с красногвардейским отрядом Подтелкова, Пимен Талалаев прятался на хуторе Атаманском у тестя; если Антропов, вступая в артель, отдал свой баркас и снасти, то Талалаев сначала продал все, вплоть до последней пары весел, а потом написал просьбу о приеме его в артель; работая бригадиром, Антропов охотно делился с молодыми рыбаками своим опытом, а Пимен Талалаев упорно скрывал от ловцов рыбацкие секреты и посмеивался: «Разбирайтесь сами, вы теперь ученые»; в самом начале войны Антропов ушел на фронт и был дважды ранен, а Талалаев вызвался эвакуировать скот подсобного хозяйства колхоза и четыре года провел в Казахстане.
Прожив пятьдесят лет на одной улице, Антропов и Талалаев редко говорили между собой и не любили друг друга.
— Чего звал? — нехотя спросил Пимен. — Говори, а то меня люди ждут и смола закипает.
Его тяготило молчание Антропова, а тот, как нарочно, медленно доставал кисет, медленно, поглядывая на реку, свертывал цигарку, чересчур тщательно собирал рассыпавшиеся крошки махорки.
— Не спеши, разговор будет долгий.
Он подвинулся ближе и сказал, тяжело выговаривая слова:
— Ну, Пимен, как оно дальше будет?
— Чего? — поднял брови Талалаев.
— Ты сам знаешь, чего.
— Ничего я не знаю.
— Долго ты на своей шелудивой козе ехать думаешь?
Пимен пожал плечами:
— На какой козе?
— На той, которую ты по дурости оседлал и гонишь ее в прорву.
— Брось присказки, — отмахнулся Талалаев, — начинай сказку, а то мне некогда тебя слушать.
— Будет и сказка.
Архип Иванович заглянул Пимену в глаза:
— Ты в артели думаешь работать?
— А чего я, на печке лежу, по-твоему? Или же у тебя есть думка исключить меня из артели?
— Вот про это, Пимен Талалаев, и разговор будет, — резко сказал Архип Иванович, — потому что ты от глупых своих обычаев отстать не можешь и начинаешь людей в бригаде с толку сбивать. За это никто тебя по голове гладить не будет.
— Какие ж такие обычаи? — криво усмехнулся Талалаев. — Чего ты меня стращаешь? Что я, прогульщик или же лодырь?
— Ты хуже лодыря, потому что твоя линия прямой вред артели приносит и молодых рыбаков портит.
Талалаев исподлобья взглянул на Антропова.
— Это ж какая такая линия? Что я, против Советской власти выступаю или же вредительство делаю?
— Ты не прикидывайся дурачком и не строй из себя святого, — сурово отрезал Архип Иванович. — Выступать против Советской власти у тебя кишка тонка, да и ни к чему тебе это дело, а вред артели ты приносишь.
Он положил на плечо Талалаева тяжелую, жилистую руку:
— Как ты жизнь свою построил? Скажи мне, что в тебе есть нашего? В артель ты пошел потому, что все шли и тебе некуда было податься. Лихачеву ты был первейший дружок и государство вместе с ним нагло обманывал. Из реки ты выбирал все без разбору, лишь бы норму выполнить и паек свой получить. Тридцать с лишним годов прошло, а ты, Пимен Талалаев, каким был, таким и остался, душу свою у себя в сундуке схоронил и на замок ее запер. Теперь артель на новую дорогу становить надо, а ты только про свой карман заботу имеешь, а на колхоз плюешь. Заместо Лихачева, твоего дружка, новый человек до нас приехал, по-советски начал работать, так ты выжить его хочешь! Всякую чушь про него городишь и рыбаков против государственного дела настраиваешь.
— Это все брехня! — сумрачно ввернул Талалаев.
— Брехня? Ты думаешь, мы ничего не знаем? — посапывая, сказал Архип Иванович. — Мы все знаем, каждое твое слово нам известно: и как ты на старое время киваешь и как новому всему противишься. Спасение рыбной молоди, охрана реки, рыбоводный завод — все это тебе, Пимен, поперек горла стало, и ты молодых рыбаков дурными своими разговорами начал портить…
У Талалаева заиграли скулы. Он не торопясь поднялся, стряхнул с плаща песок и проговорил глухо:
— Ты мне не указчик, Архип. Не учи ученого, лучше за собой гляди, а я сам за себя ответчик…
Архип Иванович тоже встал.
— Ладно, Пимен, иди, — сипло сказал он, — иди и запомни этот разговор. Я не напрасно его затеял, тебя же, дурака, пожалел, думал, толк будет…
— Пожалел волк кобылу… — огрызнулся Пимен.
Отвернувшись, Архип Иванович долго смотрел на голубую, с лиловыми отсветами, кромку берега.
— Глупой ты человек, — тихо сказал он, — очень ты глупой человек. Больше я с тобой говорить не стану. Не поймешь, что к чему, — пеняй на себя: пощады за такие дела не будет.
5
Почти все рыбаки обычно ночевали на тоне. Многие из них жили на дальней окраине станицы и не хотели ежедневно возвращаться домой, да это и не нужно было: ночи стояли теплые, продуктов в бригаде хватало.
Ночью, когда костры зажигались на рыбацких тонях, на полеводческих и огородных станах, у тракторных вагончиков в степи — везде, где ночевали люди, река отражала десятки пламенеющих в темноте огней, густая пелена отсвечивающего лунным сиянием дыма стояла над равниной, и вся станица казалась притихшим плавучим кочевьем.
Василий Зубов любил уходить в такие ночи к рыбакам. Он все больше сближался с ними, готов был без конца слушать их мечты о будущем, неторопливые рассказы стариков о прежних рыбацких ватагах и всякие веселые небывальщины, которыми разгоняли вечернюю дрему усталые ловцы.
Единственное, что беспокоило ловцов, были комары.
Обе ночующие на тоне бригады из ночи в ночь незлобиво допекали деда Малявочку, потешаясь над его страхом перед комарами. Собственно, Малявочке незачем было появляться на тоне, так как его сетчиковая бригада не участвовала в лове, но старик не мог оставаться дома и крутился среди рыбаков, помогая перевозить выловленную рыбу на правый берег. Боясь комаров, он приволок с собой на тоню огромный марлевый полог, установил его на воткнутых в песок жердях и после ужина укладывался под своим пологом, как китайский богдыхан.
— Дед Малявочка навроде Исуса в плащанице, — шутили ловцы, — до его ни один комар не подступится.
— Должно быть, все занавески у своей старухи ободрал на полог.
— А чего ему, первый раз, что ли? Дед сдавна до сетки привычный!
— Недаром же рыбаки ему прозвище такое дали!
Не понимая, в чем заключается связь между пологом и прозвищем угрюмого деда Малявочки, Зубов однажды спросил об этом у Архипа Ивановича. Бригадир засмеялся, расковырял палкой потухающий костер и стал рассказывать Василию историю деда.
— Это, Кириллыч, давно случилось, годков с полсотни будет, — задумался Архип Иванович, — я, можно сказать, в ту пору совсем еще мальцом был. Ну вот, Ерофей Куприяныч, дед Малявочка то есть, пошел под пасху на озеро порыбалить, чтоб, значит, к празднику свежачка добыть. Взял он с собой сетку, все как полагается, и до света пошагал на озеро. Весна в тот год оказалась ранняя, тепло было. Пришел Куприяныч на Лебяжье, скинул с себя одежину и, раньше чем в воду лезть, закурил.
Архип Иванович хитровато поднял кустистую бровь:
— Огонь тогда кресалом высекали, не то что теперь: зажигалки всякие, спички и тому подобное. Курцы в ту пору цельный агрегат в кармане держали: кремень с полкило весом, кресало и к тому же трут из тряпки или же сухого кукурузного ствола… Ну, закурил, значит, Куприяныч в голом виде, а трут, видать, не загасил как следует и так сунул его в штаны. А сам, конечное дело, за сетку — и в воду.
— Ну? — усмехнулся Василий.
— Ну и ну. Чи долго, чи недолго он там рыбалил, десятка три сазанов взял, надо, думает, до дому поспешать, чтоб жинка с церкви пришла и свежачка наготовить успела. Вылез Куприяныч из воды, идет до одежи, а заместо нее только зола на берегу чернеется — все чисто сгорело: и штаны, и сорочка, и капелюха. А тут уж солнышко поднялось, пономарь, слышно, во все церковные звоны шпарит, и народ, видать, по станице валом валит. Стоит Куприяныч, голяком, и прямо до земли прикипел. Делать ему, конечно, было нечего. Сетчонка у него осталась паршивенькая да кресало, которое не сгорело в штанах. Замотался Куприяныч в сетку, срам свой ею прикрыл и побежал по чужим огородам на усадьбу. Да разве от людей схоронишься? Увидали они Куприяныча, затюкали и цельной ордой за ним побежали. «Глядите, кричат, какая малявочка в сетку попалась…» С того самого дня и прозвали Куприяныча Малявочкой. Так оно и пошло…
Архип Иванович замолк, но добродушная усмешка долго еще не сходила с его озаренного костром темного лица. Сложив на коленях могучие руки, сузив глубоко сидящие глаза, он смотрел в потрескивающее пламя и говорил задумчиво:
— Скушно жила наша станица, Кириллыч, никудышно жила… Не допускал нас царь ни до земли, ни до воды… Были, конечно, такие, что жрали в три горла, в сюртуках суконных ходили, коням своим скармливали печеный хлеб. Да много ли их было, таких-то, — с десяток дворов! А народ бедовал. Вся земля лоскутками была суродована, никакого разворота на ней не было, а до воды мы, рыбаки, и подступиться не могли: пулями нас царская охрана встречала…
Он прилег рядом с Василием и засмеялся:
— А теперь слыхали? Марфы Сазоновой Витька, вашей хозяйки сынишка, от самого министра в подарок золотые часы получил!
— Как? — вскочил Зубов. — Я ничего не знаю.
— Был я под вечер в правлении, а туда письмоносец пришел и вручил пакет из министерства с адресом на самого Витьку. Все честь по чести: «Станица Голубовская, рыболовецкий колхоз, Виктору Петровичу товарищу Сазонову». Мы с председателем, должно быть, всех рыбаков Сазоновых по фамилиям перебрали, не могли угадать, какой же это у нас Виктор Петрович объявился, только потом догадались, про кого тут речь идет. Распечатали мы пакет, а там приказ и подпись министра, что, дескать, Сазонов Виктор Петрович награждается ценным подарком — золотыми часами.
— Витька уже знает об этом?
— Как же! — усмехнулся Архип Иванович. — Мы сразу за ним послали, вручили ему пакет, так он там чуть не до потолка гопки скакал.
— А часы?
— А часы привезет из города товарищ Бардин, начальник Рыбвода.
— Разве Бардин собирается приехать в Голубовскую? — спросил Зубов.
— Говорят, приедет…
Они замолчали. Над спящими вокруг костра рыбаками назойливо вились комары, и Архип Иванович решил подбросить в костер хвороста. Он со вздохом поднялся, ступая босыми ногами по не остывшему от дневной жары песку, зашагал к лесу и стал собирать хворост. Василий лежал, закутав ноги плащом и глядя на угасающий костер. Искорки на затянутом пеплом огнище напоминали в темноте какой-то далекий, сказочный город, и Василию на секунду показалось, что он смотрит на этот город с невиданной высоты, с вершины величайшего на земле горного хребта или из окна медленно плывущего по воздуху самолета. Искры внизу угасали, вновь нарождались, и в их мерцании как будто трепетали отсветы большой реки. Василий думал о своей жизни, о Груне, о спящих вокруг рыбаках, и вдруг неожиданно радостное чувство охватило его. «У всех у нас одна большая жизнь, — подумал он, — потому что воедино слиты наши цели и каждый знает общую большую мечту, ради которой живет…»
Неярко светилась в темноте тихая река, с плотины доносился монотонный шум воды, всплескивала в тишине жирующая рыба, едва слышно шелестели тополевые листья в лесу, и все эти ночные звуки рождали в душе Василия тихую радость и горячее ощущение слиянности с землей и водой, с людьми, которые жили и трудились на молодой, пахнущей травами земле.
— Вы еще не заснули, Кириллыч? — спросил неожиданно появившийся из темноты Антропов.
Он сбросил с плеча огромную охапку хвороста, опустился на колени и стал ломать сухие ветки и подбрасывать их в костер. Языки пламени вспыхнули в темноте, озарили светлый песчаный берег, край реки, неподвижные фигуры спящих рыбаков. Запахло смолистым дымом.
— Хорошо! — обронил Архип Иванович.
Протянув к костру босые ноги, он улегся рядом с Василием, подложил руки под голову и сказал, позевывая:
— Скоро, должно быть, светать будет. По звездам видать.
— Вы спите, Архип Иванович, — отозвался Зубов, — я присмотрю за костром.
— Чего-то мне не спится, Кириллыч… то комары одолевают, то думки разные в голову лезут.
Архип Иванович подвинулся ближе и заговорил негромко:
— Вот читаю я газеты, Кириллыч, и муторно мне делается. Мы тут силы кладем на то, чтобы человеку лучше жилось, а паразиты за океаном свою линию гнут: то бомбы пробуют, то сволочь всякую долларами подкупают, то пакты против нас исподтишка подписывают и резак свой на точиле точат, аж искры сыплются. Гляжу я на это все и думаю; сколько ж нам терпения требуется и как мы силу свою оберегать должны!
Сумрачно сдвинув брови, Антропов продолжал:
— Народ наш правду видит, он кровью и трудом правду эту завоевал, и его не собьешь с дороги. Пущай они себе тешатся атомной штуковиной, а нам надо свой курс напрямки держать и дело свое справно делать. Так я говорю, Кириллыч, или не так?
— Что же вас все-таки тревожит, Архип Иванович? — спросил Зубов.
Антропов подумал, засопел сердито и сказал, подбирая слова:
— Сдается мне, что я до людей дюже жестким стал… дюже много я хочу от человека и требую от него не только труда на всю силу, а… этого самого… чтоб каждый чуть ли не героем был и Золотую Звезду за работу свою имел бы… Вот читаю я про холодную войну, и думка у меня такая: чи холодная, чи горячая, а все ж таки война против нас не утихает, значит, и нам надо каждому понимать, что мы живем вроде солдат в строю и что с нас спросится, честно или нечестно действуем мы в бою… Так-то, Кириллыч. А у нас, по правде сказать, попадаются еще типы, которые на чужом хребту в коммунизм въехать норовят, вполсилы работают или же видимость одну показывают: и я, дескать, герой, и я жизнь свою на общее дело кладу… а у самого руки нечистые и мыслишка только про свою хату…
Понизив голос, Архип Иванович закончил хмуро:
— Таких типов я без жалости гнал бы вон… Как подумаю, что те, за океаном, маяк наш загасить желают и шайку свою по всему свету собирают, так меня, Кириллыч, злость душит. Кажись, стал бы перед своим колхозом, вынес бы знамя и сказал людям: «У кого душа чистая, вставай под знамя и присягу перед всем советским народом давай, а в присяге этой клянись: землю свою от гадов оборонять, труд свой честный отдать Родине и коммунизм строить каждый день и каждый час… А ежели есть который такой, что его слабина берет, то нечего его и щадить».
Прислушиваясь к тому, как в руках Зубова трещат сухие ветки тополя, Антропов посоветовал:
— Вы листа да травы в костер прибавляйте, больше дыма будет, а комар дыма боится.
Зубов подбросил в горящий костер охапку влажной травы и, отворачиваясь от дыма, спросил:
— А много среди рыбаков таких, у которых эта самая слабина чувствуется?
— Как вам сказать… таких, конечно, немного, по пальцам посчитать можно. Им давно уже надо перевоспитание настоящее сделать, а то они, бывает, за такими, как Пишка Талалаев, руку тянут. А Пишка — это, Кириллыч, большое зло для рыбаков.
— Почему?
— Потому, что у Пишки душа не артельная, — с неприязнью сказал Архип Иванович. — Пишка не может командиром быть на тоне и по-хозяйски дело вести. Он как завалящий батрак на артель глядит: дескать, я вам план выполняю, а вы мне паек и гроши гоните. Потому он и план выполняет абы как: недомерками, молодью, всякой мелкой рыбой. Ежели бы начальник цеха камни заместо рыбы принимал, Пишка и камни ему всунул бы, лишь бы на весах побольше потянуло.
— Позвольте, но разве такой человек может быть бригадиром? — удивился Василий. — Зачем же вы ему бригаду дали?
— Бригаду ему дали напрасно, — согласился Антропов, — думали люди, что он по-настоящему работать будет. А он, конечно, работает, да толку от этого мало. Холодный сапожник, а не бригадир. Мы его скинем с бригады…
На реке обозначились первые, робкие признаки рассвета: побелели и как будто стали меркнуть звезды, на остывшей воде появились голубоватые клочки тумана, за островом, на правом берегу, густой киноварью сверкнула между деревьями полоса утренней зари. На излучине раздался зычный гудок. Гулко стуча колесами, к пристани подошел пароход «Москва». Бакенщик Анисим, рассекая каюком посветлевшую воду, выехал гасить фонари.
— Керосин экономит! — мотнул головой Антропов. — Этот каждую копейку бережет и дело свое уважает. Его ни буря, ни холод не остановят — как часы работает…
Архип Иванович потянулся, крякнул, достал с шеста подсохшие портянки, аккуратно замотал ноги и надел резиновые, с желтыми латками, сапоги. Он поднялся, подошел к берегу, присел на корточки, умылся и жестким полотенцем растер докрасна смуглое бородатое лицо.
Вверх по реке мимо тони проходила «Москва». Красавец пароход, сияя белизной легкой палубы, широкой голубой полосой на трубе, стеклами иллюминаторов, ярко-красной ватерлинией, проплыл к шлюзу, оставляя за собой расходящиеся к берегам волны.
— Вот, Кириллыч, — сказал Антропов, повернувшись к Василию, — еще год-два, а там вы нашу реку не узнаете! Зарегулируем мы ее воды, с другими реками ее свяжем, уровень поднимем, глубины дадим, портов понастроим, и пойдут по ней морские пароходы хоть на край земли.
Взошло солнце.
Архип Иванович вынул из кармана гимнастерки роговой свисток, приложил его к губам и засвистал. Молодые ловцы, раскидывая плащи и стеганки, которыми укрывались, как были, в трусах и совсем голые, позевывая, подталкивая друг друга, кинулись в реку. Старые рыбаки, степенно умывшись на берегу, посматривали на молодежь, усмехаясь.
— Вали на засыпку! — скомандовал Архип Иванович. — Завтракать будем потом!
6
Начальник Рыбвода Михаил Борисович Бардин ехал в Голубовскую без особого удовольствия. Во-первых, ему неприятно было заниматься делом участкового инспектора Зубова, которого бригадир Талалаев обвинил во всех смертных грехах: в связях с браконьерами, взяточничестве, спекуляции рыбой; во-вторых, Бардин готовил для министерства большую докладную записку о рыбных запасах бассейна, и поездка оторвала его от работы.
Михаил Борисович Бардин был еще молод и полон энергии. Небольшого роста, с темными кудрявыми волосами и слегка вздернутым носом, он отличался крайней подвижностью и горячностью. Несмотря на молодость, Бардину еще до войны поручили очень ответственный пост, и он хорошо справлялся с доверенным ему делом. В его ведении был огромный рыбохозяйственный бассейн: с морем, заливами, большой рекой, в дельте которой находился государственный рыбный заповедник, с десятками малых рек и притоков, с сотнями наполненных рыбой озер и ериков.
В круг задач возглавляемого Бардиным Рыбвода входили: охрана и увеличение рыбных запасов бассейна, регулирование промыслового лова, выделение рыболовных участков ловецким артелям и государственным предприятиям, планирование рыбохозяйственной мелиорации, строительство рыбоводных заводов, искусственных нерестилищ и специальных рыбхозов, спасение рыбной молоди, контроль за деятельностью рыболовного надзора и много других, не менее важных задач.
Бардин любил свое дело, считался отличным администратором и, несмотря на занятость, находил время для научно-исследовательской работы, изучая отдельные породы рыб и занимаясь подготовкой к организации лещевого рыбхоза. Он привык к тому, что руководимые им люди без лишних слов выполняли его распоряжения, и не терпел никаких препирательств.
История с участковым инспектором Зубовым, который совсем недавно был назначен в Голубовскую, настолько возмутила Бардина, что он решил сам съездить в станицу и лично проверить заявление бригадира Талалаева.
Когда быстроходный катер «Севрюга», на котором ехал Бардин, миновал станицу Раздорскую, на крутой излучине реки ему пересек путь легкий рыбацкий каюк с двумя гребцами. Один из гребцов, взмахнув рукой, попросил стоявшего на палубе капитана остановить катер, и тот приказал выключить мотор. С каюка поднялся дородный рыбак в чистой белой рубашке, холщовых штанах и в резиновых сапогах с подвернутыми голенищами. Это был Пимен Талалаев.
Узнав о том, что начальник Рыбвода едет в Голубовскую, Пимен трое суток следил за рекой, связался со своим живущим в городе двоюродным братом, получил от него телеграмму о выезде Бардина, вовремя встретил «Севрюгу» и как ни в чем не бывало поднялся на борт катера.
— Я бригадир с Голубовского рыбколхоза, по фамилии Талалаев, — степенно объяснил Пимен, — и, ежели можно, прошу подвезти меня до станицы, а то мой гребец совсем умаялся, а мне нужно поспеть в станицу, чтоб увидать товарища Бардина.
— Товарищ Бардин здесь, — сказал капитан, — он сейчас выйдет.
Внизу застучал мотор. Слегка подрагивая, катер понесся вверх по реке.
Бардин вышел из каюты в наброшенном на плечи синем кителе. Он скользнул взглядом по фигуре Талалаева и, отвернувшись, стал смотреть на берег.
— Михаил Борисович! — обратился к нему капитан. — Это, кажется, тот самый бригадир, который вам нужен.
— Вы из Голубовской? — спросил Бардин.
Так точно, товарищ Бардин, — ответил Пимен, — я бригадир второй бригады, фамилия моя — Талалаев, Пимен Гаврилович. Был я в Раздорской, вижу: катер вверх идет, ну и попросил товарища капитана подвезти меня до станицы.
Поправив движением плеча сползающий китель, Бардин пошел по трапу в каюту и, обернувшись, сказал Пимену:
— Ну что ж, пойдемте, расскажите, что там у вас произошло…
Уже сидя в маленькой, сверкающей никелем и стеклом каюте, поглядывая на колеблемый ветром шелк кремовых занавесок у открытых иллюминаторов, Пимен впервые ощутил тревогу: слишком замкнутым, чужим и холодным показалось ему суровое лицо Бардина.
— Рассказывайте! — отрывисто бросил Михаил Борисович.
Сложив на коленях жилистые руки, Талалаев заговорил спокойно:
— Чего ж тут рассказывать, товарищ Бардин? Обидно колхозникам на такого инспектора глядеть. Человек вроде молодой и к тому же коммунист, а повел себя некрасиво. Рыбу с ловцов требует, в карман им заглядывает, с браконьерами — волчками — связь держит. Штраф на них для блезиру наложит, а сам отобранный улов заставляет везти на базар. Ну, и семейственность, конечно, в своем служебном деле развел, а это никуда не годится,
— Какую семейственность? — нахмурился Бардин.
— Досмотрщик у нас такой есть, Прохоров Иван Никанорович, он еще с Лихачевым работал, годов тридцать в нашей станице живет.
— Ну и что же? Я знаю Прохорова.
— Так вот, у этого Прохорова дочка есть, Аграфена. Рыбоводом в колхозе работает. Молодая девчонка, ей бы своему делу учиться, а не глупости творить…
Пимен слегка замялся, почесал затылок и заговорил осторожно, подбирая слова:
— Товарищ Зубов… это самое… гуляет с Аграфеной… живет с ней, как с жинкой… Папаша, значит, — досмотрщик, дочка — рыбовод, а зять — инспектор. Куда ни кинь, все одна семейка получается…
— У кого из рыбаков инспектор требовал взятку? — перебил Бардин.
— Мы сами с досмотрщиком рыбца ему приносили, — замялся Пимен, — правда, он напрямки нам не говорил про это, а обиняком намек делал…
Бардин слушал все, что говорил Пимен, и глухая неприязнь к сидевшему перед ним рыбаку все больше одолевала его. Слишком прямо смотрел в глаза этот человек, слишком спокойно говорил обо всем, слишком подозрительно казалось даже его неожиданное появление на катере. «Что-то тут не так, — подумал Бардин, — что-то он путает и какую-то свою линию гнет».
— Я одно хочу вам сказать, товарищ Бардин, — поднялся Пимен. — Всю эту музыку нелегко будет разобрать, потому что с наших рыбаков клещами слова не вытянешь. Они никакого понятия не имеют про политический момент и не хочут иметь вражду с инспектором. Потому, значится, они молчком будут отсиживаться и помощи с разоблачением товарища Зубова не окажут.
— Хорошо, можете идти! — сказал Бардин. — Мы на месте разберемся, кто там из вас прав, а кто виноват.
И, тронув уходящего Пимена за плечо, начальник Рыбвода неожиданно добавил:
— Но если вы оклеветали инспектора, пеняйте на себя, Талалаев.
Не зная характера Михаила Борисовича, Пимен предложил начальнику Рыбвода помощь в приискании «подходящей квартерки» и даже попросил остановиться в его, талалаевском, доме, но Бардин, не дослушав, оборвал бригадира.
— Я не нуждаюсь в квартире, — сказал он, — у меня есть своя каюта…
Василий Зубов не знал о дне и часе приезда Бардина и потому не встречал его. На пристани оказались только Мосолов и начальник рыбцеха Головнев. Поговорив и с ними и узнав, что инспектор выехал на моторке в устье Донца, Михаил Борисович спросил у Мосолова:
— Как он работает?
— Ничего работает, — ответил Кузьма Федорович, — браконьеров у нас стало меньше и на тонях порядок.
— Товарищ Зубов недавно конфисковал весь суточный улов бригады, — объяснил Головнев, — с тех пор недомерки и молодь не превышают положенной нормы.
— У кого был конфискован лов? — спросил Бардин.
— Во второй бригаде, у Талалаева.
— У Талалаева? — поднял бровь Михаил Борисович.
— У Талалаева, — подтвердил Мосолов. — Он намного превысил законный прилов, так что инспектор правильно отобрал рыбу.
— Рыба была сдана в цех? — обратился Бардин к Головневу.
— А как же, мы составили акт, и я принял рыбу.
— Весь улов?
— До последней рыбешки.
— М-мм… Ну, ладно, — кивнул Бардин, — если кто-нибудь из вас, товарищи, увидит Зубова, пошлите его, пожалуйста, ко мне.
— Досмотрщик вам не нужен? — осведомился Мосолов. — Он дома, можно его вызвать.
— За досмотрщиком я уже послал матроса.
Михаил Борисович расспросил Мосолова о добыче на левобережных тонях, выслушал сообщение Головнева о количестве выловленной рыбы по породам и, как бы вскользь, обронил:
— Ну, а с белугой как?
— Ловим, товарищ Бардин, — усмехнулся Кузьма Федорович.
— Много поймали?
— Шестьдесят девять штук.
Отворачиваясь от ветра и закуривая, Бардин посмотрел на председателя:
— А чего вы улыбаетесь?
Председатель колхоза и начальник рыбцеха переглянулись.
— Да как вам сказать, Михаил Борисович, — смутился Мосолов, — есть тут у нас разговор такой, что с этими белугами мы… это самое… переливаем из пустого в порожнее и что, дескать, рыбу только портим… Наш рыбак привык к тому, чтобы сразу видеть дело своих рук, а тут, знаете, улита едет, а когда-то будет…
— Это научный эксперимент, — задумчиво сказал Бардин, — и пока пересадка белуг не вышла за пределы эксперимента, о результатах судить трудно.
Разговор о белугах был прерван приходом Прохорова. Бардин пригласил досмотрщика в каюту и долго расспрашивал его о Зубове. Иван Никанорович робел: помня недавнюю историю с Лихачевым и не зная, как отвечать начальнику Рыбвода, он растерянно бормотал о том, что Зубов завел на участке большие строгости и что кое-какие рыбаки обижаются на него. Как ни пытался Бардин узнать, за что обижаются на инспектора рыбаки, у него ничего не вышло — досмотрщик смущенно покашливал, разводил руками и говорил тихо:
— Мало ли за что можно обижаться на человека… у одного — одно, у другого — другое… на всех не угодишь.
Бардину надоело слушать это невнятное бормотание, и он спросил Прохорова:
— Скажите, Иван Никанорович, как инспектор относится к вам?
— Ко мне?
— Ну да, к вам.
— Обыкновенно относится, — улыбнулся досмотрщик, — я жалиться на него не могу. Человек он уважительный, разумный, чего ж на него обижаться? Ну, бывает, конечно, сделает мне замечание., без этого нельзя… По ночам заставляет на посту сидеть, и сам часто со мной сидит…
— А рыбу он у браконьеров отбирает?
— А как же! Отбирает, конечно.
— И куда девается эта рыба?
— В цех ее сдают, к товарищу Головневу.
— Всю?
— Всю.
— Себе инспектор ничего не оставляет?
— При мне, товарищ начальник, ни разу не оставлял, — испугался Иван Никифорович, — может, без меня где-нибудь оставлял, я за него ручаться не могу, а при мне вся рыба дочиста сдавалась в цех по акту.
— А куда делись те лещи и сазаны, которые были выловлены якобы для Зубова на Таловой тоне? — спросил Бардин.
— Точно сказать не могу, но вроде их на рыбпункт доставляли, — нерешительно ответил Прохоров.
Разговор с досмотрщиком ничего не дал Бардину. Иван Никанорович почувствовал, что Зубова в чем-то обвиняют, и совсем заробел. Перебирая в руках полинялый картуз, он кашлял, улыбался и так жалобно смотрел на Бардина, что тот не выдержал и сказал:
— Идите, Иван Никанорович. Слабый вы человек. Не знаю, зачем мы только держим вас на этой должности, — вам бы не досмотрщиком рыбнадзора быть, а в детском саду работать или цветы в оранжерее высаживать.
Он отпустил Прохорова и стал ходить по каюте, дожидаясь возвращения Зубова в станицу. Между тем рыбаки узнали о приезде Бардина и один за другим стали приходить к нему, чтобы поговорить о разных делах. Между разговорами о спасении рыбной молоди, о тонях, о сроках запрета Бардин спрашивал о Зубове, и каждый из рыбаков отзывался о нем с похвалой, хотя кое-кто говорил об излишней строгости инспектора и о том, что Зубов мало помогает рыбколхозу в выполнении плана.
— А что же он должен делать? — усмехнулся Бардин. — Невод с вами засыпать или облавливать запретные участки? Это уж должность у него такая, ничего не сделаешь. Вы должны план добычи выполнять, а он должен охранять государственные запасы рыбы и следить за соблюдением всех правил…
Перед вечером в каюту Бардина пришел Архип Иванович Антропов. Он сухо поздоровался с Михаилом Борисовичем, присел на стул и, не дожидаясь вопросов, сказал грубовато:
— Тут, мне сказали, одна сволочь заявление на инспектора подала. Есть у нас такой бригадир по фамилии Талалаев…
Архип Иванович кольнул Бардина острым взглядом:
— Вы, товарищ Бардин, кажись, знаете этого человека, он с вами на катере ехал, трое или четверо суток вас поджидал.
— Я его не приглашал на катер, — вспыхнул Бардин, — он попросился у капитана где-то на излучине.
— Это подлый человечишко, — невозмутимо продолжал Архип Иванович, — мы его вышибать будем с бригадирства, а может, и совсем из колхоза погоним.
— Однако Талалаев план добычи выполняет, — вставил Бардин, — а это самый лучший показатель…
Застучав пальцами по столику, Архип Иванович возразил спокойно:
— Выполнение плана — только одна сторона дела. Талалаев выполняет план потому, что это дает ему высокий заработок и столько пайковой рыбы, что он продает ее на базаре. Вы лучше поглядите, как он выполняет план: всякую мелкую рыбу сует в улов, абы на весах больше потянуло, молодь тысячами губит. Нам такое ложное ударничество не нужно. Нам нужен рыбак, который и план выполнять будет и на реке хозяйновать начнет по-мичурински, чтобы река каждый год давала больше самой ценной рыбы… Вот наша партийная организация и будет воспитывать такого рыбака, и этот самый Пишка с дороги нас не собьет…
Посмотрев на Бардина, Архип Иванович сказал:
— Инспектор Зубов для Пишки — сейчас главная опасность, потому что Зубов государственный интерес охраняет, а Пишке на этот интерес наплевать. У него свой интерес: загрести побольше рыбы и процент за перевыполнение плана получить. Есть же у нас еще такие дурачки, которые на Пишкину политику глаза закрывают! Рыба к нам поступает — и ладно! Рапорт в центр можно послать, что выполнили, дескать, план, — и хорошо! А ежели завтра неводная мотня пустой окажется, то тут можно на стихийное бедствие пожаловаться: пропала, мол, рыба в реке и взять ее неоткуда… И виноватого тогда не найдешь, всю вину на природу возложат, а с природы, понятное дело, взятки гладки.
Бардин слушал все, что говорил Архип Иванович, и чувствовал, что на душе у него становится легко. Он смотрел на сидевшего перед ним рыбака, вслушивался в его глуховатый голос и думал о том, как много знает этот неторопливый, спокойный человек и как нужны такие люди огромному, раскинутому по морям и рекам рыбному хозяйству.
Разговор с Архипом Ивановичем почти убедил Бардина в невиновности Зубова, но поздно вечером в каюту начальника Рыбвода вошел Пимен Талалаев и, мрачно поклонившись, положил на стол акт о конфискации рыбы на Донце и квитанцию, подписанную Головневым.
— Вот, — сказал Пимен, — читайте.
— Что это? — нахмурился Бардин.
Талалаев грубовато отрезал:
— Разве вы не видите? Документы с подписями ответственных товарищей и с печатями.
Прочитав акт и квитанцию, Бардин пожал плечами:
— Ничего не понимаю. При чем тут инспектор Зубов, имя которого не значится ни в одном из документов? Какое отношение эти бумажки имеют к Зубову?
Не дожидаясь приглашения, Талалаев степенно уселся на привинченный к стене металлический табурет.
— Это я вам сейчас все чисто расскажу, — сказал Пимен. — Дело случилось совсем недавно, на Донце. На посту дежурил досмотрщик Иван Прохоров, с дочкой которого, извиняюсь, гуляет товарищ Зубов. Мы же с дедом Малявочкой, с Сазоновым то есть, поймали волчков и сдали улов в рыбцех. А досмотрщик, не подавая виду, прикинулся, вроде он спит на копне. Тут, в документах, про это написано.
— Ну? — спросил Бардин. — При чем же здесь все-таки инспектор?
— А при том, что досмотрщик по приказанию инспектора допустил повара с землечерпалки к незаконному облову. Этот досмотрщик при Лихачеве работал, его давно надо было гнать в три шеи, а инспектор пригрел его потому, что живет с его дочкой…
Потом Пимен Талалаев стал называть фамилии рыбаков, которые по указанию инспектора ловили рыбу в запретное время на Таловой тоне и сотнями отсчитывали для Зубова самых лучших сазанов и чебаков.
— Грунька Прохорова сама отбирала этих чебаков, и их на баркасе увозили в станицу, — сказал Пимен. — Когда же я спросил у нее, для чего товарищу Зубову столько рыбы, она заявила, что рыба, дескать, нужна для опытов.
Бардин записал все, что говорил Талалаев, и махнул рукой:
— Ладно, идите. Я разберусь во всем…
Он вызвал Архипа Ивановича и спросил у него, почему Зубов своевременно не уволил досмотрщика Прохорова, который, как это сейчас выяснилось, не только спал на посту, но и прямо покрывал браконьеров.
— Этого я не знаю, — угрюмо ответил Архип Иванович, — это вы спросите у товарища Зубова. Я его предупреждал о том, что Прохорова надо уволить.
— Предупреждали? — насторожился Бардин.
— Да, предупреждал.
— А он что?
— А он заявил мне, что не согласен увольнять досмотрщика только за то, что этот человек работал с Лихачевым.
— Вот как, — поморщился Бардин, — значит, Зубов действительно опекал Прохорова и не согласился с мнением партийной организации.
— Это было мнение мое, а не партийной организации.
— Все равно, — раздраженно сказал Бардин, — факт остается фактом. Вы, как секретарь партийной организации, предложили уволить досмотрщика, а Зубов отстаивал его и, следовательно, несет полную ответственность за то, что произошло на Донце…
Архип Иванович недовольно засопел и перебил Бардина:
— Погодите. Я не дюже и настаивал на том, чтобы товарищ Зубов уволил Прохорова, так что тут и моя вина есть…
Договорившись с Бардиным о встрече, Архип Иванович пошел домой и неожиданно столкнулся с только что вернувшимся из поездки Зубовым. Тот бежал по улице, посвечивая карманным фонариком, и, увидев Архипа Ивановича, весело поздоровался с ним.
— Ну, не послушали меня, — осадил его Антропов, — теперь будете расхлебывать кашу.
— Какую кашу? — тревожно спросил Василий.
— Говорил я вам, что Прохорова надо уволить, а вы на своем стояли. Вот теперь и пеняйте на себя. Ваш Прохоров заснул на посту, а Пишка Талалаев на его дежурстве крутьков изловил и доложил про это Бардину.
— Ну и что же?
— Ну и получается, что вы, значит, покрывали своего досмотрщика только потому, что… это самое…
— Что?
— Потому что у него есть дочка, — отрезал Архип Иванович.
— Вы что? — вспыхнул Василий. — Она сама настойчиво просила меня уволить отца.
— То-то и оно. Я вам тоже советовал уволить Прохорова и взять к себе в помощники рыбака-комсомольца. А теперь идите и давайте своему начальнику объяснение, почему так получилось.
Василий нахмурился:
— Ладно. Я поговорю с Бардиным.
— Разговора тут мало, — жестко сказал Архип Иванович, — тут надо честно признать свою ошибку и больше ее не повторять. Понятно? Причем ошибку эту, Василий Кириллыч, вам доведется признать не только в каюте у товарища Бардина.
— А где же еще?
— На закрытом партийном собрании.
— Хорошо. Я готов нести ответственность, за все, что делаю, — сказал Василий.
Простившись с Архипом Ивановичем, он побежал прямо на берег, думая, что катер Бардина еще стоит у причала, но рыбак из транспортной бригады сказал ему, что начальник Рыбвода только что уехал.
— Куда? — с тревогой спросил Зубов.
— Кто его знает. Куда-то в верховья… Вы подходили к берегу, а катер вышел из камеры шлюза и направился вверх по реке.
Василий медленно побрел домой. Впервые за все время своего пребывания в станице он почувствовал, что им действительно допущена грубая ошибка. Теперь ему было ясно, что, решая судьбу Прохорова, он поступил неправильно. Больше всего его угнетало то, что история с Прохоровым затронула его отношения с Груней. Не послушав ее, так же как в свое время и Антропова, он сам оказался во всем виноват.
Посидев дома и нехотя отвечая на тревожные вопросы Марфы, Зубов пошел к Прохоровым, чтобы расспросить Ивана Никаноровича о происшествии на Донце.
Василий думал, что Прохоровы еще не знают о приезде Бардина и о заявлении Пимена Талалаева.
Открывая дверь, Груня вышла из комнаты с заплаканными глазами и сердито сказала Василию:
— Ну, кто ж из нас прав? Что вы теперь скажете?
Иван Никанорович бросился навстречу Зубову и забормотал, жалобно моргая:
— Я во всем виноват, Василь Кириллыч… Это я вас подвел… Не выдержал, заснул на посту…
Мягко отстранив досмотрщика, Зубов присел на табурет.
— Ну, что ж вы скажете? — повторила Груня.
Василий помолчал. Видимо, ему очень не хотелось говорить, но он, подняв глаза, посмотрел на Груню и сказал:
— Да, я ошибся, и во всем я виновен больше, чем кто-либо другой. Что же касается вашего отца, то вы были правы: нам с ним следовало расстаться, и не потому, что он плохой человек, а потому, что он слабый человек. Я не учел этого и не понял, какой вред, помимо своего желания, может принести ваш отец. Так оно и случилось. Я отвечу за поступок Ивана Никаноровича, и это послужит мне хорошим уроком…
— Что ж мне теперь делать, Василь Кириллыч? — растерянно спросил Прохоров. — Куда ж я теперь пойду и как жить буду?
Зубов тряхнул головой:
— Вы не падайте духом, Иван Никанорович. Ваш проступок совершен без злого умысла, и никому в голову не придет жестоко наказывать вас. Мы подумаем, какую работу вам подыскать, но… выполнять обязанности досмотрщика вам действительно не под силу…
Смущенно посмотрев на постукивающие между окнами ходики, Иван Никанорович подошел к Зубову:
— Мне пора идти на дежурство… Как же теперь, Василь Кириллыч… идти на пост или же оставаться дома?
— Вас еще никто не освободил, Иван Никанорович, — сказал Зубов, — значит, надо идти на пост. Идите, а я сегодня наведаюсь к вам.
Как только досмотрщик ушел, Василий тоже поднялся. Он взял притихшую Груню за руку и тихо сказал:
— Прости меня, Грунечка… Я знаю, как тебе тяжело…
Он ушел от Прохоровых, вызвал моториста и отправился на участок.
На другой день вся станица говорила о случае на Донце и о заявлении бригадира Талалаева. Почти все рыбаки осуждали Пимена и высказывали предположение, что бригадир мстит Зубову за конфискацию улова.
Егор Иванович, узнав о поступке Пимена, сплюнул и сказал презрительно:
— Он хищник. Стервятник.
Архип Иванович посоветовался с Мосоловым, съездил в райком партии и попросил Назарова вмешаться в дело Зубова и посоветовать начальнику Рыбвода не делать поспешных выводов.
— Ладно, — сказал Тихон Филиппович, — завтра я приеду в станицу и поговорю с Бардиным. А вы подыщите для досмотрщика подходящее место, потому что он в один прекрасный день еще не так подведет вашего инспектора…
На следующее утро секретарь райкома приехал в станицу, зашел на катер к Бардину и долго разговаривал с ним о Зубове и о Талалаеве.
— Вы имейте в виду, — сказал он, расхаживая по каюте, — ваши рыболовецкие артели значительно отстали от полеводческих колхозов, причем отстали не только по методам ведения хозяйства, но и по результатам своего хозяйничанья на реке. В этом мы все виноваты, и нам давно пора всерьез заняться этим делом. Надо научиться управлять рыбными запасами, а без народа тут ничего не получится.
Сунув руки за пояс, он остановился перед Бардиным и заговорил, отделяя слово от слова:
— Вы, товарищ Бардин, плохо знаете своих людей: этот ваш парень-инспектор будет неплохо работать. Ошибся он? Так. Надо его поправить. А таких, как Талалаев, следует воспитывать самыми жесткими мерами. Какой он бригадир? Это шкурник и рвач. Его надо гнать из бригады, а если он не исправится, надо избавить от него артель. Иначе он будет пакостить рыбному хозяйству и повиснет на артели стопудовой гирей. А этого, как его, Прохорова, можно перевести на другую работу. Мне говорили, что у Головнева в рыбцехе есть свободные места весовщиков-засольщиков, приемщиков. Вот Прохорова и можно определить на одно из этих мест…
— Мне все понятно, товарищ Назаров, — сказал Бардин. — Конечно, Талалаева надо удалить из бригады. А что касается Зубова, то он человек молодой, неопытный и ему нужна помощь. То, что ему удалось начать на участке большое и нужное дело, — очень хорошо. Но он еще не раз будет спотыкаться, и я прошу вас помочь ему в работе.
Перед отъездом из Голубовской Назаров через Архипа Ивановича вызвал Зубова в райком.
— Только пусть он не задерживается и приедет сегодня же, — сказал Тихон Филиппович. — Завтра он меня уже не застанет, я буду занят в колхозах.
Узнав о вызове, Василий попросил у Мосолова велосипед, переправился на баркасе в Задонье и поехал по лесной дороге в районную станицу. Он не знал, зачем Назаров вызвал его в райком, и с тревогой ждал предстоящего разговора. «Вероятно, будет расспрашивать об истории с Прохоровым, — думал он, — еще, чего доброго, взыскание наложит…»
Дорога петляла по лесу. Между старыми, отливающими серебром тополями зеленели молодые посадки дубов и кленов. В лесных зарослях наперебой куковали кукушки. Слева, невидимый за деревьями, пыхтел трактор и где-то совсем близко стрекотали сенокосилки.
В лесу было душно, и только на холме, там, где низкая речная пойма с песчаными косами переходила в крутой прибрежный яр, повеяло свежим ветерком. Выбравшись на холм, Василий погнал велосипед по ровной обочине покрытой пылью шоссейной дороги. По дороге сновали грузовые машины. Справа, точно гигантские дирижабли, сверкали оцинкованные баки нефтебазы, а за ними высились белые амбары районного пункта Заготзерно.
В райкоме Зубову сказали, что секретарь на заседании райисполкома. Василий решил поехать туда.
В райисполкомовском дворе тесно стояли брички, линейки, запыленные мотоциклы, велосипеды. Распряженные кони, пофыркивая, жевали наложенную в тележные ящики зеленую траву. Два шофера в замасленных комбинезонах, обливаясь потом, возились над лопнувшим скатом тяжелой трехтонки. Все это напоминало штаб полка или бригады, и Василий, прежде чем войти, по привычке провел пальцами по ремню, застегнул воротник гимнастерки и поправил сбитую на затылок фуражку.
В длинном коридоре, покуривая и прислушиваясь к звукам голосов за полуоткрытой дверью, группками стояли и ходили люди, среди которых Василий увидел председателя голубовского колхоза Бугрова.
— Что там? — спросил у него Василий.
— Слушают вопрос о ходе сеноуборки, — озабоченно мотнул головой Бугров.
— Давно начали?
— Да уж скоро кончать будут, осталось два колхоза.
— А товарищ Назаров тут?
— Тут, — усмехнулся Бугров, — он уж меня пробирал за сено: плохо, говорит, работаю…
Василий приоткрыл дверь. В большой комнате с распахнутыми окнами вокруг покрытого красной скатертью стола сидели десятки людей. Стоящий у окна пожилой мужчина в вышитой сорочке, поглаживая лысину, обстоятельно докладывал о сенокосе, о силосовании кормов и выпасе скота.
Слева, облокотясь о кожаный валик дивана, сидел Назаров. Прикрыв глаза загорелой рукой, он, казалось, дремал. Но как только пожилого председателя сменил молодой парень в синей спецовке и, помахивая блокнотом, стал уверенно говорить о том, что в его колхозе уборка сена подходит к концу, секретарь райкома неожиданно спросил:
— Терещенко! Сколько гектаров скошено и убрано за вчерашний день?
Парень заглянул в блокнот.
— Трактором тридцать гектаров, — повернувшись к Назарову, сказал он, — и лобогрейками двенадцать, всего сорок два гектара.
— Это у тебя в блокноте записано? — невозмутимо спросил Назаров.
— Да, Тихон Филиппович, в блокноте.
Секретарь райкома отвел руку от лица:
— А ну-ка, Терещенко, дай мне свой блокнот.
Парень в спецовке покраснел и закашлялся. Сидящие у стола председатели колхозов засмеялись.
— Ничего, ничего, не смущайся, давай блокнот! — повторил Назаров.
Получив блокнот, Тихон Филиппович перелистал его и сердито посмотрел на парня:
— Значит, говоришь, сорок два гектара? Так? А почему в блокноте записано двадцать два? Для чего ж ты двадцать гектаров прибавил? Кому ты очки втираешь?
— У нас было два простоя трактора, — забормотал парень, — ну и отстали маленько. Ночью, Тихон Филиппович, мы выкосим эти двадцать гектаров.
— Я знаю, что выкосите, — сурово сказал Назаров, — но дело не в этом. Дело в том, что партия и Советская власть не терпят лжи. Понятно? Возьми, Терещенко, свой блокнот и изволь докладывать так, как есть в действительности. Нам не нужны цифры с потолка. Ясно? Каждый день и каждый час мы должны знать истинное положение вещей, а не успокаивать себя брехней…
Он передал блокнот обескураженному парню, дослушал его сообщение и, заметив Зубова, сказал председателю райисполкома:
— Я сейчас…
Вместе с Василием он вышел во двор, присел на одну из линеек и спросил:
— Ну, что там у вас случилось?
Серые, с тяжелыми от бессонницы веками, глаза секретаря смотрели спокойно-выжидательно, как будто Назарову заранее было известно, что скажет стоящий перед ним юноша в офицерской гимнастерке, и Василий понял, что с этим человеком надо говорить коротко, четко и ясно.
— Я допустил ошибку, — сказал он, твердо выговаривая каждое слово.
— Какую?
— Я пожалел досмотрщика Прохорова и, хотя меня предупреждали, не уволил его. Сейчас Прохоров совершил проступок, и люди считают, что я не уволил его потому, что я… потому, что…
Василий сбился и, покраснев от стыда, отрезал грубовато:
— Потому, что я люблю дочь Прохорова.
— А может, ты и в самом деле поэтому держал на службе неспособного досмотрщика? — сдерживая улыбку, спросил Назаров.
— Нет, Тихон Филиппович, я просто пожалел его, — сказал Василий. — Он двадцать лет проработал в рыболовном надзоре. Мне казалось, что я смогу заставить его работать.
— Так тебе тогда казалось? — Назаров сделал ударение на слове «тогда» и внимательно посмотрел на Василия.
— Да.
— А сейчас?
— Сейчас я понимаю, что совершил ошибку. Мне надо было послушаться Антропова и взять нового досмотрщика, который не был бы заражен лихачевским разгильдяйством…
Василий умолк, думая, что секретарь райкома начнет разговор с ним, но тот тоже молчал, покусывая травинку.
— Ты, кажется, с первого дня приезда совершил еще одну ошибку, — наконец сказал Назаров.
— Да, Тихон Филиппович, я помимо своего желания принял принесенную бригадиром Талалаевым рыбу, — поглаживая крыло линейки, сказал Зубов, — мне не хотелось брать эту злосчастную рыбу, но бригадир настаивал и заявил, что я своим отказом обижу рыбаков.
— А теперь этот же бригадир говорит, что ты принял от него взятку. Так?
— Да.
— Ну вот…
Назаров заглянул Василию в глаза и заговорил тихо:
— Поэтому я тебя и позвал, товарищ Зубов. То, что ты понял свои ошибки, — это хорошо. Ошибки могут быть у каждого из нас. Так? Но честно признать эти ошибки и исправить их — для этого нужно большевистское мужество. Понятно? Мне кажется, у тебя это мужество есть. Ты слышал, как только что выступал председатель одного из хуторских колхозов Терещенко? Это, между прочим, неплохой парень, но у него нет смелости сказать о своих ошибках, и потому он иногда занимается очковтирательством… Его надо одергивать и постоянно держать в руках.
Теребя челку дремлющей возле линейки лошади, Назаров продолжал:
— У тебя, Зубов, тяжелый участок, тяжелый потому, что у вас там привыкли безнаказанно грабить реку и до сих пор считают рыбу ничьей. Надо это вредное убеждение ломать. Понятно? И запомни: один ты ничего не добьешься. Тебе надо опереться на лучших людей. А ты, товарищ Зубов, мало интересуешься людьми. Мне вот рассказывали, что ты изучил свой участок и успел побывать на каждом ерике, чуть ли не каждое озерцо зарегистрировал. Это очень хорошо. А кто у тебя в общественном рыболовном надзоре? Тот же вездесущий Талалаев? Разве можно ему доверять? Где же у тебя глаза были, когда Талалаева выдвигали в надзор? В станице много прекрасных людей, растет комсомольская молодежь, можно было подобрать себе дельных и честных помощников, связаться с народом, объяснить рыбакам новые задачи…
— Я, Тихон Филиппович, часто встречаюсь с рыбаками, — попробовал возразить Зубов, — несколько раз делал доклады по охране и воспроизводству рыбных запасов…
— Этого мало, — жестко перебил Назаров, — тебе надо знать каждого рыбака на своем участке, надо поощрять лучших, надо увлечь людей замечательными методами нового хозяйства, надо заставить людей поверить в то, что ты делаешь…
Глаза Назарова стали мягче, и он добавил, усмехаясь:
— Езжай домой, Зубов. Подбери себе нового досмотрщика, добейся того, чтобы в общественный надзор вошли лучшие рыбаки, учись руководить людьми. А если очень трудно будет, обращайся в райком — мы тебе поможем.
Он поднялся с линейки и закричал идущей по улице стройной девушке в палевом платье:
— Как твоя химия, Рая?
— Четверка! — ответила девушка.
— Ну-ну, ладно…
Улыбаясь, он посмотрел ей вслед и повернулся к Зубову:
— Дочка. Экзамены держит на аттестат зрелости. В этом году в институт поступать будет. Историком хочет стать.
От Василия не ускользнули теплые нотки скрытой отцовской нежности, прозвучавшие в словах секретаря.
Поглядывая на часы, Назаров протянул руку и сказал так же, как только что говорил дочке:
— Ну ладно, езжай. Я буду наведываться к вам.
Разговор с секретарем райкома успокоил Василия, и он, весело усмехаясь, помчался на велосипеде в Голубовскую.
«Шалишь! — мысленно сказал он кому-то. — Мы будем бороться и все-таки установим на реке новый режим…»
С Бардиным Зубову удалось повидаться только вечером, на общем собрании, где Витьке Сазонову вручали подарок министра — золотые часы на замшевом ремешке. Бардин и Зубов сидели в президиуме рядом, и Михаил Борисович успел переговорить с Василием о заявлении Талалаева.
— Вам, Зубов, надо смотреть в оба, — предупредил он. — Такие случаи не исключены и в будущем. У нас до поры до времени еще будут встречаться типы, подобные Талалаеву; значит, нужно свято оберегать от их клеветы честь рыболовного надзора и не давать им ни малейшего повода для всяких интриг и сплетен.
Лицо Зубова покрылось густым румянцем. Он наклонился к Бардину и сказал тихо:
— Больше это не повторится. Меня, Михаил Борисович, никто не собьет с дороги, потому что талалаевых тут единицы, а настоящих, советских людей — тысячи…
Пимен Талалаев, как видно, понял, что его карта бита: в президиум его не выбрали, и он, прячась от насмешливых взглядов рыбаков, уселся в темном углу. Груня, которой отец рассказал о встрече Назарова с Бардиным, волновалась и глаз не сводила с Зубова, стараясь узнать, чем закончился его разговор с начальником Рыбвода. Марфа, зная о заявлении Пимена, тоже тревожилась. Почти всем рыбакам перед собранием стало известно, что бригадир Талалаев разоблачен как склочник и клеветник, и они оживленно переговаривались друг с другом, ища взглядом исчезнувшего Пимена.
Собрание резко осудило недостойное поведение Талалаева и единодушно приветствовало решение о снятии его с руководства бригадой.
Только один Витька Сазонов ничего не знал и знать не хотел. Он чувствовал себя на седьмом небе. Весь вечер вокруг него ходили взрослые и дети. Они заглядывали Витьке в глаза, улыбались, говорили ему разные ласковые слова. Даже суровый профессор Щетинин и тот, проходя мимо, взъерошил Витькины волосы и проворчал:
— Все-таки постригся?
— Я с мамкой в районе был, — объяснил Витька, — там и зашел в парикмахерскую.
— Молодец, — кивнул Щетинин, — иначе тебя в президиум не выбрали бы.
Когда Витька оказался в президиуме, сидевшая в зале Марфа забыла обо всем: взволнованная, возбужденная, она нервно теребила косынку и глаз не сводила с сына. А он чинно восседал рядом с профессором Щетининым и старательно копировал позы старика: то поглаживал ладонью колено, то, заложив руку в разрез белой сорочки, застывал в раздумье и спокойно смотрел в освещенный зал.
Витька плохо слушал то, что говорил стоявший у кафедры Бардин. Он понял только то, что сам министр наградил его, Виктора Петровича Сазонова (так было сказано в приказе), золотыми часами за усовершенствование контрольной ловушки; понять остальное у Витьки уже не хватало терпения, ему хотелось, чтобы начальник Рыбвода скорее открыл обтянутую желтой кожей коробочку и всем показал часы.
Рыбаки же, как видно, не разделяли Витькиного нетерпения. Они внимательно слушали Бардина, посматривали, усмехаясь, на Витьку и вполголоса переговаривались между собой:
— Раз заслужил, значит, и подарок получай!
— А чего ж, за это стоит!
— Молодчага парень, его ловушка настоящий учет обеспечить может и пользу принесет…
Дед Малявочка, гордясь внуком, подталкивал локтем сидевшую рядом Марфу и гудел ей в ухо:
— Энто у него от покойного Петра вся прыть оказалась. Тот тоже одно знал — строгал да пилил. То конька или же казака с пикой на крышу приспособит, то скворешню соорудит на пять этажей, то ишо чего-либо придумает…
За спиной Марфы сидели ее соседки, рыбачки из сетчиковой бригады. Они сердито шикали на Малявочку, но через минуту сами шептали Марфе:
— Вот, Марфуша, тебе пощастило, такого сына вырастила!
— Орел, а не парень!
— Такому не жалко чего хочешь справить!
У Марфы подступило к горлу что-то горячее, а глаза затуманились. Она смотрела на сидевшего в президиуме сына, размазывала кончиком косынки слезы и отмахивалась от рыбачек:
— Будет, бабы! У каждой из вас есть дети, и все они такие непосидючие. Они ведь теперь за весь свет болеют, не то что мы…
Подарок министра стал праздником для всей станицы. В этот вечер выступили многие рыбаки, они говорили о новых делах артели, призывали молодежь следовать примеру «товарища Сазонова» и скуповато, но зато от души хвалили смущенно улыбавшегося Витьку.
Когда Бардин громко прочитал приказ министра и надел Витьке на руку золотые часы с белым как снег циферблатом и сверкающей, бегающей по кругу секундной стрелкой, профессор Щетинин сказал усмехаясь:
— Надо бы, Виктор Петрович, выступить с ответным словом!
Витька оглянулся, шагнул к кафедре, приложил часы к уху, зарделся и сказал, подняв руку:
— Это самое… девять минут двенадцатого! Пора кончать собрание, а то завтра чуть свет на тоню надо идти!
Глава пятая
1
Наступили жаркие летние дни. Уже отошла пора сенокоса, и по всему займищу высились аккуратно выметанные копны сена. Яростное степное солнце припаливало невыкошенные, оставленные под выпас луговые травы, и они, тронутые желтизной, стали ломкими и жесткими, как проволока. Только в низинах, вокруг озер и на опушках равнинных перелесков, там, где густые кроны деревьев отбрасывали тень на горячую землю, еще зеленело сочное разнотравье. На этих зеленых островках паслись станичные стада. Старые пастухи-колхозники, с загорелыми, темными лицами, часами стояли, опершись на посохи и всматриваясь в изжелта-бурую, выжженную солнцем степь.
На покатых вершинах степных холмов, на стародавних татарских курганах, на каменных левобережных крутоярах Северского Донца работали появившиеся в долине новые люди: землемеры устанавливали вешки, гидротехники производили подсчеты разных уровней речной поймы, геологи щупали бурами земные недра, проектировщики набрасывали в планшетах различные схемы, эскизы, планы. Оставляя за собой серые клубящиеся хвосты дорожной пыли, по всей степи носились грузовые и легковые машины; куда-то вверх по синей реке плыли нагруженные строительным лесом самоходные баржи. За ними на буксирах тянулись плашкоуты, паузки, длинные баркасы, в которых молчаливые, дымящие махоркой шкиперы везли кирпич, бочки с цементом, листовое железо, известь, стекло.
Пастухи смотрели на все это, покачивали головами и бормотали задумчиво:
— До всего у нас человек дошел, по-своему начал землю перекраивать…
— Как цветок, ее доглядают, землю нашу, чтоб красивше была и пользу людям приносила…
В один из жарких дней к голубовскому причалу подошла самоходная баржа. На барже, у застекленной рубки рулевого, стоял Кузьма Федорович Мосолов. На нем был праздничный костюм со всеми орденами, и вид у председателя тоже был торжественный, словно Мосолов готовился произнести важную речь.
Голубовцы знали, что председатель ездил в город и пробыл там недели две, но что он делал в городе и почему задержался, почти никто не знал. Между тем как раз в те дни, когда Кузьму Федоровича вызвали в город с отчетом, ему сообщили, что управление моторно-рыболовных станций получило приказ о механизации голубовских тоней и направляет в станицу много машин, два трактора и катер с холодильной установкой.
— Пора вам ставить свое хозяйство на более высокую техническую основу, — сказал Кузьме Федоровичу инженер управления. — Сейчас мы дадим вам новые лебедки, электродвижки, тракторы, пришлем специалистов по монтажу. А вы должны выжать из этих машин все, что можно, и увеличить добычу рыбы.
— Я думаю, что артель свою задачу выполнит, — с достоинством ответил Кузьма Федорович.
Он сам побывал на базе управления, сам отбирал с техниками машины, сам следил за погрузкой на городской пристани.
Уже перед отправкой грузов Кузьме Федоровичу позвонил по телефону начальник Рыбвода Бардин и попросил погрузить вместе с машинами один разборный домик.
— Какой домик? — удивился Мосолов.
— Мы получили недавно пять комплектов разборных домиков для рыболовного надзора, — объяснил Бардин. — Один из них я решил направить в Голубовскую для вашего инспектора. Он ведь до сих пор живет на частной квартире?
— Так точно, на квартире, у нашей колхозницы Марфы Сазоновой.
— Ну вот. Один из домиков мы выделили для голубовского инспектора. Очень прошу вас погрузить весь комплект на баржу. Сейчас мы перебросим его в порт.
— Хорошо, товарищ Бардин, домик будет доставлен в целости, — пообещал Мосолов.
Когда самоходная баржа подошла к голубовскому. причалу, Кузьма Федорович вышел на палубу с таким видом, точно он сам добыл и привез все, что проворные матросы в брезентовых рукавицах, гремя кранами, стали выгружать из трюма.
— Видали? — сказал председатель рыбакам. — К весенней путине у нас тут целый комбинат будет построен. И разве только у нас? Поглядите, что на реке делается! Сотни судов плывут вниз и вверх…
…Паромщик Авдей Талалаев, сидя в своем балагане, тоже смотрел, как шлюзуются у плотины тяжело нагруженные баржи, потирал ладонью запотевшую лысину и говорил лежавшему на прохладных нарах Пимену:
— Вот, Пиша, конец нашей станице приходит. Не станет теперь у нас прибывать по веснам большая вода, а ить станица только этой водой и жила: и рыбка по займищу в воде нерестилась, и огороды наши на заливной земле кохались, и виноградными садами нас бог не обидел… Все это теперь пропадет, сгинет навеки.
Пимен мрачно отмалчивался. Вскоре после приезда Бардина его сняли с бригадирства и отправили ловцом, в сетчиковую бригаду деда Малявочки. Вместо Пимена бригадиром стал Степан Худяков.
Пимена особенно обозлило то, что его, прославленного рыбака, поставили под начало старого деда Малявочки и принудили «крутиться промеж баб». Правда, председатель рыбколхоза Мосолов пытался уговорить нового бригадира Худякова оставить Пимена во второй бригаде, но Степан наотрез отказался и заявил, что талалаевской ноги отныне в бригаде не будет. Так Пимен оказался у деда Малявочки. Он несколько раз съездил с женщинами-рыбачками на озера, а потом стал ссылаться на болезнь и все чаще сидел дома, не выходя на работу.
В те редкие дни, когда Пимен являлся в бригаду, он чувствовал на себе насмешливо-настороженные взгляды женщин и слышал их обидные, нарочито громкие слова:
— Должно быть, у нас сегодня улова не будет, потому что дядя Пиша прибыл…
— Его вся рыба боится…
— Ласкирь и тот от него хоронится…
Иногда Пимен лениво отругивался, а больше молчал, неторопливо исполняя то, что требовалось, или, сидя на берегу озера, неприязненно поглядывал на работающих женщин.
— Ничего, дядя Пиша, — весело утешала его Марфа, — вы не горюйте. Ну, скинули вас с бригадирства, ну, в женскую бригаду направили. Чего ж тут такого? Наши бабы, гляди, из вас еще человека сделают…
— Отстань, Марфушка, — огрызнулся Пимен, — не твоего ума дело.
Но Марфа, подмигивая смеющимся рыбачкам, говорила важно:
— Как же не моего ума? Вы ведь, дядя Пиша, до нас для перевоспитания прибыли, и мы, можно сказать, отвечать за вас будем…
— Чего ты там мелешь? — мрачнел Пимен. — Какое перевоспитание? Я человек больной. Ноги у меня не ходят и в середке мутить стало…
Для того чтобы оправдать свою выдумку о болезни, Пимен, несмотря на жару, надевал огромные валенки, брал в руки тяжелую палку и, изредка показываясь в станице, жаловался, что его мучает ревматизм.
Каждый день он приходил в балаган к брату Авдею, укладывался на земляные, пахнущие погребом нары и молчал, глядя в затянутый паутиной камышовый потолок. Паромщик боязливо посматривал на брата, несколько раз принимался уговаривать Пимена, но тот огрызался с ленивой злобой:
— Отстань, Авдей. Через тебя, старого чертяку, я и погорел…
Он слушал тоскливые причитания Авдея Гавриловича, молча посапывал и, зевая, засыпал. А паромщик, думая, что брат только прикидывается спящим, продолжал бубнить под нос свои бесконечные жалобы:
— Паромишко мой совсем рассыпается, пары телег удержать не могёт, а председатель колхоза и в ус не дует. Потерпи, говорит, Гаврилыч, скоро, дескать, новый паром устроим…
Председатель полеводческого колхоза Захар Петрович Бугров действительно приходил на берег и пообещал деду Авдею построить новый паром. Его давно уже беспокоило положение с перевозом: в степи поспевали хлеба, надвигалась страдная пора хлебопоставок, а элеватор был расположен в районной станице, на левом берегу. Секретарь райкома предупредил Захара Петровича, что район взял обязательство выполнить хлебопоставки в предельно сжатые сроки и что зерно не должно оставаться на токах ни одного лишнего часа.
— Ежели у вас плохо с транспортом, мы подкинем колхозу автомашины, — сказал Назаров, — а вам надо приложить все силы, чтобы выполнить свое обещание.
— С перевозом у нас плоховато, — почесал затылок Захар Петрович, — старый паром почти что вышел из строя, а до нового руки еще не дошли.
— В станице два колхоза, а вы не можете настоящий паром построить? — удивился секретарь. — Да об этом, товарищ Бугров, говорить стыдно!
Захар Петрович попытался повести разговор о пароме с Мосоловым, но скуповатый Кузьма Федорович пожал плечами, отделался шуткой.
— А для чего рыбакам паром? — усмехнулся он. — Мы, брат Петрович, всю жизнь на воде живем, и у нас каюк или баркас за все отдуваются. Это вам, полеводам, паром нужен, потому что телегой через реку не поедешь, а нам он ни к чему.
— Ну как же «ни к чему»? — урезонивал несговорчивого председателя Бугров. — Скотинку там перевезти или же сено с левобережья переправить, разве без парома обойдешься? Вот и давай, Федорыч, средства свои соединим, лесу хорошего купим и двумя артелями такой паром соорудим, чтоб дети наши нас благодарили.
— Нет, Петрович, уволь, — отмахивался Мосолов, — денежки у меня, в рыбколхозе, не дурные, и я не хочу выкидывать их собаке под хвост. Мы вот свой рыбоводный завод строить думаем, радиостанцию на пятьсот точек решили соорудить, куда ж мне еще этот паром на шею вешать?
Захар Петрович сердито укорял Мосолова:
— Ты чегой-то только про свой колхоз думку имеешь, а по-моему, коммунисты так не поступают, они шире на вопросы глядят. Разве паром нужен только одним голубовцам? Вон хутора по горам пораскиданы, и люди с хуторских колхозов через реку переправы ищут, левобережные станицы из Шахт уголь на разные производства возят. Прямо стыдно в глаза людям глядеть. Должны ж мы с тобой, Федорыч, и про государство думать…
Но, несмотря на увещевания Захара Петровича, Мосолов оставался непреклонным. В рыбколхозе были в запасе отличные доски, однако Кузьма Федорович приберегал их для ремонта рыбацкого флота и не хотел тратить на паром. Поэтому голубовцы вынуждены были при любой поездке на левобережье грузить телеги на баркасы, а быков или коней гнать через реку вплавь.
Здоровенные быки неохотно входили в воду, их приходилось подгонять палками. Как очумелые, кидались быки из стороны в сторону, но, повинуясь окрикам, шли на глубину, теряли под ногами дно и, натужно кряхтя, плыли за баркасами. На быстринах быков подхватывало течение и сносило вниз, а они, выкатив от ужаса налитые кровью глаза, теряли силы и, слабея, захлебывались шумливой, вспененной веслами водой. Сидящий на корме баркаса человек вынужден был ежеминутно поддергивать подвязанные канатами бычьи морды, чтобы быки не утонули. Выбравшись на берег, мокрая скотина шаталась от усталости, и тут на нее надевали ярма и ехали куда нужно.
Глядя на все это и памятуя о приближающихся хлебопоставках, Захар Петрович уговорил председателя стансовета Жигаева собрать партийный актив станицы и поставить вопрос о пароме. Мосолов и на собрании актива отказался строить паром, но коммунисты пристыдили его, и он скрепя сердце согласился дать лес. Остальные материалы и рабочую силу должен был предоставить полеводческий колхоз. Общее собрание обоих колхозов согласилось с предложением коммунистов.
— Ну, Пиша, паром наши хозяева утвердили, — сообщил Авдей Гаврилович брату.
— Черт с ним, с паромом! — угрюмо проворчал Пимен. — На кой ляд он мне сдался?
Он поднялся с нар, сунул ноги в валенки, зевнул и подошел к распахнутой двери балагана.
Нестерпимо сверкала залитая солнцем река. На белых песках Таловой тони темнели растянутые на жердях невода. Караван нагруженных лесом барж сбился перед плотиной у левого берега, и окрашенный в желтую краску буксирный пароход «Декабрист», сердито пыхтя, мотался между баржами и перетаскивал их в камеру шлюза. От реки тянуло запахом смолы, рыбы и нефти.
Повернувшись к брату, Пимен провел ладонью по жестким, коротко подстриженным усам:
— Я себя еще покажу, Авдей. Поглядим, как этот хваленый инспектор справится с таким рыбаком, как Пимен Талалаев. Я ему не Егорка и шутки шутковать с ним не буду…
Всю свою ненависть Пимен сосредоточил на Зубове, и ему казалось, что именно инспектор принес с собой все то новое, что с такой силой и остротой вошло в жизнь станицы. В своей слепой ярости Пимен не замечал, что все рыбаки уже ушли далеко вперед, что даже самые молодые ловцы стали задумываться над тем, как вести рыбное хозяйство по-новому. В рыбацких бригадах большой реки нарождался новый тип советского ловца — человека, который, подобно колхознику-земледельцу, хотел управлять природой, а не быть ее рабом. Этот новый ловец уже заглядывал в завтрашний день и стремился к тому, чтобы обеспечить запасы рыбы на пятьдесят лет вперед.
Всего этого не видел и не хотел видеть Пимен Гаврилович Талалаев.
Вскоре после того как его отстранили от руководства бригадой, он узнал, что вторая бригада выполняет декадные задания всего на семьдесят — восемьдесят процентов.
— Слыхал? — злобно посмеиваясь, сказал Пимен паромщику. — Новоявленный бригадир Степка Худяков зашился с добычей!
— Да ну? — хихикнул Авдей Гаврилович. — Значит, кишка тонка оказалась?
Пимен угрюмо опустил голову.
— Они еще не раз меня вспомянут. Покель я был в бригаде, рыба была, а теперь стыд и срам: судачинцы каждые сутки обставляют наш колхоз. Архип с натуги до ста процентов доходит, а про Степку и говорить нечего: он только невода полощет в реке.
В самом деле: на судачинской мачте каждый вечер взвивался красный флаг, а голубовские рыбаки только поглядывали на свою мачту и опускали головы. Суточные задания Голубовский рыбколхоз не выполнял.
Это настолько тревожило Мосолова, что он рискнул при встрече с Архипом Ивановичем заговорить о возвращении Пимена.
— Дело у нас не движется, Иваныч, — сказал Мосолов, — ничего у Степана не выходит. Я вот думаю: не лучше ли будет вернуть во вторую бригаду Талалаева? Его уже добре наказали, он свою ошибку осознал и теперь будет ловить, как зверь!
— Он уже ловил, как зверь, — сухо возразил Антропов, — а нам в бригаде человек нужен. Понятно? Зверский способ лова нам ни к чему.
— Но ведь вторая бригада не выполняет плана, заваливает весь колхоз. Чего ж мы будем опытного бригадира на задворках держать? Судачинцы уже обошли нас на четыреста центнеров. Из Рыбаксоюза чуть ли не каждый день идут телеграммы с напоминаниями, предупреждениями, выговорами. Что ж это, шутка, что ли?
— Ты, Кузьма Федорович, не пугайся, — мрачно сказал Антропов. — Нам надо обеспечить не халтуру, а настоящее выполнение плана. Понятно? А то, что делал Пишка Талалаев, есть халтура и очковтирательство.
— Вот я и хочу обеспечить выполнение плана. Худяков не справляется с бригадой. Он человек молодой, неопытный, а ему сразу дали бригаду, в которой полсотни ловцов. Значит, для пользы дела надо вернуть Талалаева.
Архип Иванович тронул за рукав председателя и отчеканил резко:
— Партийная организация не дает на это своего согласия. Завтра мы с тобой, Кузьма Федорович, поедем на тоню второй бригады и поглядим, как Степка ловит, а после будет видно, чего нам делать. А так вертеть молодого парнишку-комсомольца я не дам. Понятно?
…Рано утром, до восхода солнца, Мосолов и Антропов сошлись у реки, взяли каюк и поехали на тоню второй бригады, расположенную у самой излучины.
Река особенно хороша по утрам. В эти ранние часы ветер еще не беспокоит ее лона, и оно, отражая чистое розово-голубое небо, сияет ровным светом — прозрачное и прохладное, как хрусталь. Ни один баркас еще не бороздит речную гладь, и если вскинется где-нибудь гулливый сазан или быстрая скопа на лету чирканет воду острым, с белой подкладкой, крылом — разойдутся по тихой воде круги, на миг всколыхнут розовеющий разлив и исчезнут незаметно, беззвучно, как будто их и не было.
Только рыбак по-настоящему знает, что такое утренняя река: эти бесплотные, тающие на заре, белые, с голубизной, туманы; эти зеленые берега, на которых далеко-далеко протянулись золотые пески, а над ними — темная полоса тополевого леса; эти радужные блики восходящего солнца на ясной воде, свежий запах влажного песка и рыбы, смолы и трав; эта нерушимая тишина, в которой каждый, даже самый невнятный и слабый звук вызывает теплый, живой отклик в человеческом сердце.
Архип Иванович любил реку, на которой родился и вырос. Он знал ее всю, от верховьев до дельты, знал во все времена года и в любые часы суток, видел ее бурной и тихой, скованной льдами и несущейся в веселом, яростном разливе, но больше всего Архип Иванович любил утренние зори на летней реке.
Чуть касаясь веслами розовой воды, он легко гнал остроносый каюк вниз по реке. Босые ноги его упирались в мокрую, залитую водой перекладину, рубашка на груди была распахнута, глаза светились от удовольствия.
Когда председатель и секретарь приехали на тоню, рыбаки второй бригады уже начали засыпку невода. Молодые ловцы в трусах, похожие в своих брезентовых лямках на борцов, стояли, позванивая короткими цепными тяглами, в ожидании выноса бежного уреза. Легкий каюк, на котором лежал поддерживающий невод Степан Худяков, скользил по следу, оставленному темными поплавками. Две девушки — Ира и Тося — хлопотали возле покрытого копотью ермака, раздувая костер. Чуть поодаль от них, натянув тяглами пятной урез, пересмеиваясь, медленно подвигались по песку полуголые пятчики.
— Эй, на дубе! — закричал Архип Иванович. — Нажми на байбаки! Ослепли, что ли? Не видите, что у вас невод сносит? Пошевеливаться надо!
Весла на дубе замелькали быстрее. Через пять минут стоявшие на берегу рыбаки подхватили лямками бежное крыло невода. Началось притонение.
На правом берегу глухо застучал лодочный мотор.
— Товарищ Зубов на тоню едет, — сказал один из ловцов, прикладывая ладонь к глазам, — он каждый улов у нас глядит.
Действительно, белая инспекторская «Стерлядь», вздымая бурливую пену, вынеслась на фарватер, описала полукруг у плотины и устремилась вниз, к тоне. Чтобы не мешать притонению, моторист остановил лодку в стороне. С нее сошли Зубов и профессор Щетинин. Они поздоровались с ловцами и присели на песке, расстелив старый щетининский плащ.
Рыбаки заканчивали выборку. Степан Худяков, в мокрых синих трусах и полосатой тельняшке, стоял по колени в воде, наблюдая за приближавшейся мотней, вокруг которой кипела взбаламученная рыбой вода. Два рыбака подогнали поближе к неводу пустые баркасы. Чем ближе к берегу подтягивалась мотня, тем теснее смыкались вокруг нее рыбаки.
— Выбирай рыбу по баркасам! — скомандовал Степан.
Архип Иванович подтолкнул локтем сосредоточенно курившего Мосолова:
— Вот ты теперь и гляди, Кузьма Федорович, как новый бригадир начнет рыбу сортировать. Тут-то и собака зарыта, в этой самой сортировке.
Склонившись над мотней, рыбаки быстро и ладно выбирали улов. На дно придвинутых к неводу баркасов один за другим падали тяжелые сомы, сазаны, чебаки. В воздухе мелькали серебристые бока судаков, чехони, жерехов. Остро запахло свежей рыбой и стянутыми сетью водорослями.
Всю рыбью молодь ловцы, косясь на Степана, выбрасывали в воду. Сотни юрких недомерков, сверкнув чешуей, исчезали в реке. Покрутившись у берега и почуяв внезапно обретенную свободу, они мгновенно уплывали на глубины.
— Гуляйте, братцы, до весны! — смеялись рыбаки, вытряхивая из сетей целые ворохи недомерков. — Гуляйте, да не попадайтесь!
— Вы там полегче, хлопцы! — закричал Степан. — Чего кидаете так, будто это камни? Это ж живая рыба! Забьете ей дух — она и поплывет по реке, как щепка.
— Слыхал, Федорыч? — подмигнул Антропов председателю. — Вот что значит советский рыбак. Это тебе не Пишка. Такой в самый корень глядит, по-хозяйски на тоне орудует…
— А сколько он не дотянет до нормы дневного вылова? — сумрачно усмехнулся Мосолов.
— Сегодня не дотянет, завтра не дотянет, а потом дотянет, — спокойно сказал Архип Иванович. — У такого до всего руки дойдут!
2
Придвинув к мотне высокую, плетенную из талы корзину, Ира и Тося стали выбирать рыбу для ухи. Молодые ловцы, помогая девушкам, бросали в корзину самых крупных чебаков и сазанов. Это заметил Архип Иванович. Загребая босыми ногами прохладный песок, он подошел к девушкам и сказал насмешливо:
— С такой рыбы, девчата, шарбы не наваришь!
— А какую надо выбирать, дядя Архип? — спросила Ира.
— Э-э-э! — ухмыльнулся Архип Иванович. — Да я вижу, что твой жених, хотя он и бригадир, ничему тебя не научил. Высыпайте-ка, куховарки, всю вашу рыбу и набирайте по моему выбору. Я вас научу, как надо рыбацкую шарбу на тоне варить.
И он быстро набросал в корзину жирных пласкирей, стерляди, чебачков помельче, десятка два красноперки подкинул, прибавил штук пять сазанов-зобачей и несколько сомят.
— Мелкая рыбка самый вкус шарбе придает, — сказал Архип Иванович, — она наваристей, нежели крупная, и запах лучший имеет.
Пока ловцы делали второй замет и возились с притонением, Ира и Тося под руководством Архипа Ивановича сварили уху. Архип Иванович не позволил девчатам мыть распластанную рыбу в воде, он только слегка ополоснул ее и бросил в котел.
После второго притонения ловцы уселись в тени тополей, достали из кошелок хлеб, миски и ложки и начали завтракать. В общий рыбацкий круг были приглашены и гости: Щетинин с Зубовым и Мосолов с Архипом Ивановичем. В стоявших на песке мисках дымилась горячая уха.
Только тот, кто бывал на тоне, знает, что такое рыбацкая шарба. Это не та уха, которая сварена на электрической плите в ресторане и подана на стол в белом фаянсовом супнике. Шарба варится в черном от копоти ермаке из самой свежей, только что выловленной рыбы, еще не потерявшей запахов реки. В шарбе вместе с рыбой кипит молодая картошка, зеленый щавель придает ей кислинку, разломанные пополам сахаристые помидоры окрашивают ее наваристую юшку в красноватый цвет, а лук и перец обжигают, как пламя. И если дымок от костра еще чуточку тронет янтарный жир кипящей в ермаке шарбы, а усталый человек, выйдя из воды, растянется в тени тополя и протянет к ермаку глубокую глиняную миску с деревянной ложкой, — он будет есть настоящую шарбу…
Архип Иванович был доволен ухой: он сам ел мало, но с нескрываемым удовольствием посматривал на рыбаков, которые то и дело протягивали Ире пустые миски и требовали добавки. Там же, за завтраком, беседуя с ловцами, Архип Иванович сказал, что они небрежно засыпают невод, не учитывая скорости течения, допускают комкание невода и не только проигрывают во времени, но и теряют часть рыбы.
— То, что вы, братцы, жалеете молодь и выпускаете ее в реку, — это, конечно, правильно, — сказал Архип Иванович. — Но есть еще план добычи, который надо выполнять. С Талалаевым вам легче было выполнять план, потому что он выгребал из мотни в баркасы все, что попадало, — от осетра до рака. Вы же подходите к вопросу по-хозяйски: молодь не губите, улов сортируете, а это тоже время отнимает. Значит, надо делать за сутки больше притонений и, ежели потребуется, организовать ночной лов. Понятно?
— Понятно, дядя Архип! — заговорили рыбаки. — До всего сразу не дойдешь, тут опыт и стаж нужны…
— Правильно, — согласился Архип Иванович, — а только наш колхоз не может дожидаться, пока вы стаж проходить будете. Колхозу надо выполнять свое обязательство перед государством, а вы, братцы, в хвосте плететесь…
— Судачинцы уже обошли нас, — угрюмо вставил Мосолов. — Куда ж это годится? У них каждый вечер на мачте флаг поднимают, а мы суточный улов не можем обеспечить.
Он посмотрел на сидевшую неподалеку Тосю Белявскую и повернулся в ее сторону:
— Вторая бригада почти вся состоит из комсомольцев, а комсомольский секретарь только уху варит. Давно пора собрать людей и поговорить с ними.
— Насчет ухи у нее тоже не дюже здорово получается, — усмехнулся Архип Иванович, — она и сама в этом деле пока что плавает. Ну да мы ей поможем. Правда, Тося?
— Я беседовала с комсомольцами, Архип Иванович, — вспыхнула Тося, — собрания нам некогда устраивать, потому что люди работают на разных участках, а разговор у меня был с каждым. Мы уже решили просить у Кузьмы Федоровича разрешения на ночной лов.
Архип Иванович одобрительно кивнул:
— Ну, вот и добре. А мы вам поможем, Тося: на ночь будем присылать до вас двух-трех старых рыбаков из моей бригады, фонари достанем, помещение на тоне построим…
Он хлопнул по плечу лежавшего рядом Степана Худякова:
— Чего ж ты молчишь, товарищ бригадир? Или ты возражаешь против ночного лова?
Степан ответил, поглядывая на рыбаков:
— Можно ловить и ночью… Но вторая бригада выполнит месячное задание днем, так же как первая, товарищ секретарь. А ночной лов пойдет на перевыполнение…
Оборвав разговор, он поднялся и сказал:
— Пошли на замет, хлопцы!
Не прошло и трех минут, как тяжелый дуб уже несся по реке, выбрасывая подсохший на солнце невод. Вдоль пунктирной трассы колеблющихся поплавков скользил низкий каючок, на котором лежал Степан, придерживая верхний неводной шнур. Мосолов с Антроповым уехали на подшлюзную тоню. Девушки на берегу мыли посуду. Щетинин и Зубов остались одни.
Профессор жмурился от нестерпимого блеска солнечных лучей на реке и говорил сонно:
— Слышали, Зубов? Рыбную молодь жалеют… Это первый и самый в-важный п-признак нового… Человек-хищник у нас исчезает б-безвозвратно. Уже пришел новый человек-зиждитель…
Он закрыл глаза и сказал, позевывая:
— Встретил я сегодня вашу невесту, она все хлопочет о рыбоводном заводе… Расспрашивала меня о приборах… Славная девушка…
Слушая Щетинина, Зубов радовался тому, что старик называет Груню его, Василия, невестой.
— Станица Голубовская — самое подходящее место для рыбоводного завода, — сказал Щетинин, наблюдая за притонением. — Она расположена на среднем участке реки и может быть связана как с верховьем, так и с дельтой, д-давая рыбе ход в обе стороны.
— Но на реке сверху и снизу станут плотины, — осторожно возразил Зубов, — и эта система гидроузла замкнет рыбу в ограниченных квадратах реки.
— К-какую рыбу? — прищурился профессор.
— Хотя бы ту, которую мы будем получать на рыбоводных заводах и выращивать в будущих рыбхозах…
Илья Афанасьевич вздохнул. Подняв на лоб очки и всматриваясь в мягкую лазурь глубокого, чистого неба, он заговорил тихо:
— Помните, Зубов, я вам г-говорил как-то, что мне очень не хочется умирать. Я говорил это п-потому, что только сейчас стала сбываться моя д-давняя-д-давняя мечта. Я ведь уже стар, мой друг, очень стар… Жизнь мотала меня по всем рекам страны, и я видел, как год за годом исчезает рыба. Т-только после революции п-пришло то новое, о котором я мечтал. Свободный человек стал т-творцом. Вот вы говорите о том, что п-плотины замкнут рыбу в ограниченных квадратах реки. А вы знаете, к-как будет выглядеть наше рыбное хозяйство в б-ближайшие годы?
Опершись на локоть, Илья Афанасьевич приблизил к Василию морщинистое, небритое лицо:
— Рыба п-полетит у нас по воздуху в любое место. Мы п-приспособим сотни специальных гидросамолетов для т-транспоргировки оплодотворенной икры, м-мальков, чистопородных п-производителей. Мы выведем на рыбоводных заводах самые лучшие виды осетра, б-белуги, сазана, леща, стерляди, лосося, форели. Мы будем спланировать в своем хозяйстве все, вплоть до сроков созревания икры. Вы ведь знаете о м-методе гипофизарных инъекций? Надеюсь, вы понимаете, что это значит для нас? Вы знаете, что советские ихтиологи уже акклиматизировали в Каспийском море те виды рыб, которых на К-каспии не было от сотворения мира? Вы, надеюсь, читали о том, что в д-дельте Волги уже созданы п-прекрасные лещевые рыбхозы, имеющие п-промысловое значение? Вы знаете, д-друг мой, что все это значит? Это значит, что мы п-преображаем лик земли и воды и п-повелеваем ими на благо человека…
Илья Афанасьевич достал из кармана круглую коробку из-под зернистой икры, скрутил, просыпая табак, коротенькую папиросу, вставил ее в мундштук и заговорил, искоса поглядывая на Василия:
— Знаете, Зубов, я открою вам один секрет. Т-такое уж у меня сегодня настроение — в-выдавать свои тайны.
Он пыхнул клубами дыма и спросил Василия:
— Вы не удивились тому, что я т-так долго сижу в Голубовской? Экспедиция моя закончилась, мы п-переправили за плотину двести б-белуг, а я сижу…..
— Мне казалось, что вы, Илья Афанасьевич, ждете известий с верховьев, — несмело сказал Зубов, — и что вы хотите посмотреть, как белуга ведет себя за шлюзом.
Щетинин кивнул:
— Это т-так… Но это еще не все… Д-дело в том, что я изучаю тут зерновые и огородные культуры п-полеводческого колхоза.
— Что? — удивился Василий. — Зачем?
— Я вам скажу з-зачем…
И старик стал говорить глухо, торжественно, точно давал кому-то великую клятву. При этом он, казалось, не обращал на Зубова никакого внимания, а смотрел вдаль, туда, где за станицей желтело бескрайнее, выжженое солнцем займище.
— В недалеком б-будущем труд рыбака и земледельца можно и д-должно сблизить, — сказал Щетинин. — Через два-три года мы начнем строить рыбхозы. Это б-будут огромные, в тысячу гектаров, участки на займище, обнесенные д-довольно высоким земляным валом. В-вода будет подаваться туда по особым каналам, образуя п-постоянное течение. Но нам эта в-вода понадобится только весной, когда наши рыбхозы будут заполнены мальками. П-после того как мы вместе с водой выпустим в реку подросших мальков, участки рыбхоза останутся свободными до следующего напуска воды и нерестующей рыбы, то есть до следующей весны. Вот тут-то и м-могут начать свою работу к-колхозники-земледельцы. К-как мне кажется, они могут п-помочь нам создать рыбную кормовую базу. Они посеют на участках рыбхозов те культуры, которые насытят почву нужными для рыбы веществами. Они, конечно, вырастят на увлажненных участках п-прекрасный урожай овощей и с-соберут его для своего колхоза…
Щетинин повернулся к Зубову:
— Возможно, они назовут т-такие участки водяным паром, а? Как вы думаете? Есть в земледелии ч-черный пар, есть з-зеленый пар, а теперь еще будет в-водяной пар. Хорошо, правда? В-водяной пар! Ну так вот: урожай п-полеводы соберут, а б-будущей рыбе обеспечат щедро насыщенную азотистыми веществами почву. Кроме того, рыба нуждается и в зеленых кормах. Значит, тут можно п-продумать систему высева на в-водяных парах п-полезных нам многолетних трав. Полеводы будут кормить этими травами животных, а мы будем кормить рыбу. П-потом когда-нибудь п-придут молодые агрономы, которые, может быть, создадут теорию комплексного земледелия и рыбоводства на искусственно орошаемых пойменных участках. Эти молодые ученые, к-которых мне уже не придется увидеть, назовут себя не агрономами, а, пожалуй, агроихтиологами… Вот я и работаю сейчас над этим вопросом, — тихо закончил Щетинин, — в этом и заключается м-мой секрет.
Он выбил из мундштука погасшую папиросу и обронил устало:
— А умирать, конечно, не хочется. Умирать как будто еще рано.
Волнуясь, Василий коснулся руки старика:
— Вам тем более умирать нельзя, Илья Афанасьевич! То, что вы задумали, — это… должно держать вас на земле, честное слово!
— Да, — согласился профессор, — сейчас надо думать о жизни…
Идея водяного пара для комплексного рыбоводно-земледельческого хозяйства настолько захватила Щетинина, что дом старого Малявочки, у которого профессор снимал комнату, превратился в штаб-квартиру, где каждый вечер собирались люди.
Чаще других у Щетинина бывали председатель Голубовского полеводческого колхоза Бугров и усатый агроном МТС Литвинов. Черный, как негр, обожженный степным солнцем Литвинов почтительно слушая профессора, кричал сочным басом Бугрову:
— Птичку надо разводить, Захар Петрович, водоплавающую птичку: гусей, уток! Слышишь? Надо, чтобы птичка тысячами плодилась в новых водоемах и доход колхозу приносила!
— А малька эта наша птичка не станет уничтожать? — сомневался Бугров. — А то, может статься, мы одно разведем, а другое изведем.
Литвинов пренебрежительно отмахивался:
— Не бойся! Мы твоим гусям и утям особые корма в рыбхозе подберем, начнем культивировать в наших водоемах такую растительность, чтоб и рыбке и птичке сгодилась.
— Ассортимент самых дешевых и питательных кормов нам еще предстоит изучить, — строго говорил Щетинин, — а для этого надо исследовать желудки избранной нами для разведения рыбы, побеседовать с женщинами-птичницами, понаблюдать за кормами гусей и уток в закрытом водоеме озерного типа…
И они почти каждый вечер чертили, планировали, составляли разные схемы, расспрашивали вызванных Бугровым птичниц, беседовали со старыми рыбаками.
Дед Малявочка важно, как будто он уже вершил судьбы будущего рыбхоза, встречал вечерних гостей у ворот, выносил им стулья, сам степенно усаживался рядом с профессором на ступеньке крыльца, молча слушал полеводов, а когда разговор касался рыбы, покашливал и начинал очередной длинный рассказ о повадках сулы, леща или сазана.
Полеводы и рыбаки вначале отнеслись к щетининской затее недоверчиво, как к ненужному новшеству, а потом увлеклись и, обсуждая невиданный тип нового комплексного хозяйства, дополняли разработанный профессором проект ценными предложениями и советами.
— Ты ж там про китайскую породу утей запиши, — наказывала Щетинину старая птичница Куприянова, — они весом поболе гуся будут, их самая выгода разводить…
Раз в рыбхозе вода будет подаваться в любое время, значит, можно кругом рисовые или же капустные плантации насадить, — мечтали огородницы, — а то, гляди, и хлопок можно спробовать или же другую поливную культуру.
— На таком участке все чисто можно развести, — кивали головами старики, — тут, по всему видать, замах широкий предвидится…
Когда люди расходились по домам, а профессор еще писал что-то карандашом в записной книжке, дед Малявочка сладко зевал и говорил задумчиво:
— Вот, Афанасьич, семьдесят годов живу на белом свете, а такого нигде не видел. Внуку моему министр золотые часы дарует, Архип Антропов, которого я мальцом знал, партией в станице руководствует… на што бабы и те, скажи ты на милость, понятие про политику имеют и предложения свои ученым, вроде тебя, подают, да так, будто завтра они сами с министром или же с генералом за руку будут здоровкаться… А отчего бы это все?
И, не дожидаясь ответа от Щетинина, дед отвечал сам себе:
— По всему видать, народ у нас другой стал… иначий стал народ… А молодые — те и вовсе на крыльях летят, никто за ними не угонится. То одно сдумают, то другое, и кажен хозяином себя полагает… Оно и справедливо: у нас ить кажен трудящий уважение от народа имеет… Такой, стало быть, у нас строй, ничего не скажешь…
3
Рыбаки начали строительство рыбоводного завода накануне жатвы. Полеводческий колхоз выделил рыбколхозу из своих земельных фондов самый лучший и удобный участок на крутом берегу реки и рядом с виноградниками. Уже в середине июня тут началась работа: для закладки фундамента рыбаки подвезли сто двадцать подвод дикого камня, Мосолов с бухгалтером и завхозом ездили на катере в город и оттуда притащили на буксире паузок, загруженный отличным строительным лесом. Правда, Кузьме Федоровичу пришлось немало похлопотать, прежде чем он получил наряд на лес, гвозди, цемент и стекло; рыбоводный завод не был включен в план, и потому контора Рыболовпотребсоюза вначале наотрез отказалась выдать Мосолову стройматериалы. Однако Кузьма Федорович побывал в обкоме партии, и секретарь обкома при нем позвонил в Облплан и дал указание обеспечить строительство голубовского рыбоводного завода всеми необходимыми материалами из резервных фондов.
Расспросив Кузьму Федоровича о колхозе, секретарь обкома встал из-за стола, прошелся по кабинету и сказал задумчиво:
— Конечно, ваш колхозный рыбозавод не может стать единственным и основным мероприятием по воспроизводству рыбных запасов. Дело не только в заводе. Главное в наших условиях — это твердое регулирование рыболовства, охрана запасов и активное спасение молоди промысловых пород рыбы.
Секретарь остановился у кресла, в котором сидел Кузьма Федорович, и спросил неожиданно:
— Правильно я говорю, товарищ Мосолов?
— По-моему, правильно, — смутился Кузьма Федорович. — Я тоже говорил нашему инспектору, что нечего с этим заводом огород городить, потому что пользы от него будет как от козла молока, а он…
— Нет, погодите, — мягко перебил секретарь. — Рыбозавод может не только стать живой и практической агитацией за интенсивное рыборазведение, но и принесет пользу всему нашему хозяйству. Сотни степных полеводческих колхозов уже начали сооружение искусственных прудов. Как вы думаете, надо в этих прудах разводить рыбу или не надо?
— Известное дело, надо.
— Я тоже так думаю, — оживился секретарь, — а ведь ваш рыбозавод мог бы в этом деле большую помощь оказать…
— Оно, конечно, завод мог бы помочь степным колхозам, — смущенно пробормотал Кузьма Федорович, — я давно про это думал…
— Ну, вот видите. Значит, надо действовать. Стройматериалы вам дадут, рабочая сила у вас есть. А специалисты помогут вашей артели наладить работу…
Секретарь простился с Кузьмой Федоровичем, проводил его до дверей и сказал, стоя на пороге:
— Весной мы пришлем на ваш завод рыбаков, пусть посмотрят и поучатся у вас.
Кузьма Федорович ответил громко — так, что слышали все сидевшие в приемной люди:
— Присылайте. Рыбозавод в этом году будет выстроен…
Голубовцы решили строить завод своими силами. Проект был заказан в городе и утвержден Главрыбводом. Он не представлял собой ничего сложного, и рыбаки приняли решение отработать на строительстве по сто часов.
Каждое утро перед восходом солнца к участку, на котором строился завод, со всех концов станицы спешили свободные от промысла рыбаки. Их жены и матери еще с вечера готовили им харчи, и люди шли с кошелками, с вещевыми мешками, с корзинками, в которых лежала домашняя снедь. Позже, управившись с коровами, на участок выходили и женщины.
Целый день, с утра до вечера, на берегу слышалось визжание пил, стук топоров, ладное посвистывание рубанков. Каменщики уже заканчивали кладку добротного фундамента, их острые молотки высекали из камня снопы искр, а огрубелые, в ссадинах руки ловко выравнивали испещренную подтеками цемента кладку.
Плотники зачищали рубанками каждую пластину, вокруг них высились горы пахучих стружек, и они, не дожидаясь, пока будут уложены деревянные стены, готовили двери, оконные рамы, широкие стеллажи для рыбоводных аппаратов.
Груня Прохорова почти не покидала строительный участок. В полинялой голубой майке с подвернутыми выше локтя рукавами, в измазанной известью и цементом синей юбчонке и в надетых на босые ноги спортивных тапочках, она перебегала от каменщиков к плотникам, следила за работой роющих большой бассейн землекопов, просматривала каждую сотню доставляемого из районной станицы кирпича, успевала побывать у женщин, просеивающих песок, покрикивала на мальчишек, которые добровольно взяли на себя обязанность выравнивать гвозди. Она бегала, суетилась, нервничала, но глаза ее сияли, а с загорелого лица не сходило выражение счастья.
— Грунька прямо-таки директором себя чувствует, — смеялись рыбаки.
— Ну, а как же иначе? Она-то и заварила эту кашу.
— Для нее, можно сказать, все сооружение строим!
Мысленно Груня уже давно построила этот завод. Она много раз видела его во сне, и он представлялся ей прекрасным, чистым домом с окнами, в которых сказочно сияют зеленые, желтые и синие стекла. Груне хотелось, чтобы миллионы крошечных рыбок, родившихся в этом доме, видели мир в том самом зеленовато-желтом освещении, в каком они видели бы его в глубинах родной реки. Она хотела, чтобы тут, в огромных комнатах, так же как на берегу реки, зеленели выращенные в кадках цветы и деревья, пахло влажными травами, а в бассейнах и садках колыхались бархатные нежные водоросли и носились юркие дафнии.
Почти наяву Груня видела сверкающие светлой эмалевой краской ледники, водные и воздушные термометры, проложенные вдоль стеллажей электрические обогреватели, мягкие дорожки на полах; она уже слышала похожий на весенний ветер шум мощных вентиляторов и ласковое журчание плещущей в аппаратах воды.
Теперь эта мечта сбывалась. Вся станица строила Грунин сказочный дом. На прибрежном холме вырастал крепкий фундамент будущего завода, целыми днями не умолкал веселый стук топоров, пели свои песни пилы, шумели люди.
Строительство рыбозавода примирило Груню с Зубовым. После истории с Иваном Никаноровичем Груня недели две не встречалась с Василием, считая его виновником всего, что случилось.
— Если бы ты послушал меня, было бы лучше, — сказала она тогда Василию. — Я ведь знала, что отца давно надо уволить, и ты напрасно держал его…
Жалость к отцу и обида на Зубова долго не давали Груне покоя, но как только развернулось строительство, все было забыто. Теперь Груня думала только о заводе, одолевала профессора Щетинина сотнями вопросов, по вечерам встречалась с Василием и говорила восторженно:
— Ах, Васенька, теперь у нас в колхозе все будет по-другому, правда?
— Конечно, правда! — соглашался Зубов. — Мы начнем новое дело! А это сразу воспитает в людях новое отношение к своей работе.
— У нас на заводе будут свои бассейны, своя лаборатория, — живо подхватывала Груня. — Кузьма Федорович обещал купить микроскопы, фотоаппараты, химическую посуду. И рыбоводы будут у нас ходить в белых халатах, правда?
— Правда, Грунечка, правда! — смеялся Зубов.
Открытие завода было назначено на первое августа, и Груня, повесив у себя над кроватью календарь, каждое утро отрывала очередной листок и спрашивала у Ивана Никаноровича:
— Как вы думаете, батя, к первому успеют или нет?
Иван Никанорович (его недавно назначили весовщиком в рыбцех) уже привык к этим вопросам.
— По всему видать, успеют, — не очень уверенно говорил он. — Народ крепко взялся за работу, лишь бы погода не помешала.
Но погода не собиралась подводить Груню: только три раза прошли в начале лета короткие дожди с буйным громом и яркой радугой над Доном, а потом установились жаркие дни и теплые звездные ночи.
Чем дальше подвигалось строительство завода, тем больше людей приходило на участок. Даже дед Иона, опираясь на толстую вишневую палку, приползал на берег, усаживался на длинном кругляке и, вслушиваясь в стук и грохот, бормотал одобрительно:
— Гуртом, говорят, даже батьку побить можно…
Самая трудная работа — крепление фундамента и подготовка деревянных пластин — была закончена. Каменщики уже выкладывали кирпичом примыкающие к заводу бассейны, а плотники начали возводить стены, плотно подгоняя пластину к пластине и связывая их железными угольниками. Женские бригады, замесив глину, обмазывали подвал, штукатурили низы, застилали опилками и камышовыми матами пространство между нижним и верхним полом. Трое стариков — один из них, Федот Кузовлев, когда-то работал стекольщиком — стеклили оконные рамы.
По настоянию Груни Кузьма Федорович раздобыл-таки в городе цветное стекло. Правда, стекла хватило только на южные окна, но и этого было достаточно для того, чтобы избавить будущих мальков от слишком яркого солнечного света. Груню почему-то больше всего беспокоили эти стекла: ей казалось, что старик Кузовлев, орудуя своим древним алмазом, обязательно разобьет их и испортит все дело.
— Вы уж как-нибудь поосторожнее, Федот Прокофьевич, — умоляла Груня старика, — а то мальки мои обижаться будут на вас!
— Ладно, ладно, дочка, не шебурши, — ворчал дед Федот, — кажись, не впервой стекло режем!
Стены завода росли не по дням, а по часам. Люди работали не покладая рук, и даже тот, кто, идя мимо, заходил на участок, чтобы просто полюбоваться строительством, не оставался равнодушным зрителем. Взяв свободную лопату, топор или грабли, он принимался рыть траншею для водопровода, вырубал заросли терновника, корчевал пни или сгребал разбросанные по всему участку стружки и щепки.
С бьющимся сердцем срывала Груня календарные листки и спрашивала у каждого, с кем встречалась:
— Как вы думаете, закончим к первому?
По всему было видно, что завод к первому августа будет закончен. Кузьма Федорович Мосолов за две недели вперед послал в город и в соседние рыбколхозы приглашения на торжественное открытие рыбоводного завода. Однако непредвиденное обстоятельство сорвало планы голубовских рыбаков.
4
Вечером в Голубовскую приехал секретарь райкома партии Тихон Филиппович Назаров. Он не стал ждать, пока дед Авдей будет переправлять с левого берега его покрытую пылью легковую машину, сел в рыбацкий каюк, переплыл Дон и зашагал в правление полеводческого колхоза.
Каждый, кто видел в этот вечер секретаря, сразу замечал, что Назаров чем-то очень встревожен: угрюмо опустив голову, он шел по проложенной через остров тропинке, молча здоровался с работавшими на огородах женщинами и ни разу ни с кем не заговорил.
— Чего-то Филиппыч дюже сердитый нынче, — переглядывались станичники.
Беспокойство Назарова было вызвано серьезной причиной. Весеннее наводнение изуродовало поля Голубовского колхоза наносами речного ила и песка. Из-за этого колхоз не только отстал с уборкой зерновых, но и оказался в очень тяжелом положении: невыкошенная на его полях озимая пшеница могла при такой жаркой и сухой погоде осыпаться и погибнуть.
Ночью Тихон Филиппович созвал объединенное партийное собрание рыболовецкого колхоза, плотины и лесхозовского участка с Тополихи. Началось оно поздно, потому что коммунисты-рыбаки работали в разных бригадах, на озерах и на реке, а лесхозовцы находились на разных участках лесопитомника.
— Голубовский колхоз не справляется с уборкой зерновых, — жестко сказал коммунистам Назаров. — На полях триста девяносто гектаров неубранной пшеницы.
Он помолчал, обвел взглядом сидевших на скамьях людей и бросил свое привычное, отсекающее фразу от фразы:
— Так?
Люди молчали.
— Если пшеница не будет убрана в течение недели, она пропадет, — сказал Назаров. — Я созвал вас, товарищи, для того, чтобы обсудить положение. Так? Надо помочь колхозникам убрать хлеб без потерь и мобилизовать для этого все силы…
На столе тускло мигала керосиновая лампа. Зеленоватые мошки густой стаей кружились возле закопченного горячего стекла, обжигались и падали на залитую чернилами красную скатерть. Люди в зале молчали.
Сунув руки за пояс, Назаров повернулся к сидевшему в президиуме начальнику шлюза инженеру Акименко:
— Что ты скажешь, Виктор Дмитрич?
Не ожидавший вопроса Акименко скрипнул стулом:
— Убрать хлеб надо, вот что я скажу.
— Это ясно! — махнул рукой Назаров. — Ты скажи, сколько ты людей пошлешь на поля?
Начальник шлюза подумал, посмотрел в темный зал и проговорил тихо:
— Человек двадцать мы пошлем, а если поговорить с начальником охраны, то и свободных от нарядов стрелков можно послать.
— Сколько?
Из зала раздался голос начальника охраны:
— Человек десять наберем, Тихон Филиппович!
Лесхозовцы дали слово послать на уборочную сорок человек.
Назаров подошел к Антропову и спросил беспокойно:
— Ну, а ты, Архип Иванович, чего молчишь? На рыбколхоз мы надеемся больше всего. У вас там людей много. Так? Чего ж ты молчишь?
— Я скажу, товарищ Назаров, — поднялся Архип Иванович..
Он вышел из-за стола и заговорил, обращаясь то к сидевшим в зале коммунистам, то к секретарю райкома:
— Людей у нас, конечно, много. Это правда. А только люди эти большим трудом заняты. Рыбоводный завод мы у себя строим, миллионы мальков будем в нем выводить. Рыбаки наши обязательство на себя взяли: к первому августа закончить завод… Теперь, видно, придется ломать наши планы…
— Это понятно. А что ты думаешь насчет осыпающегося хлеба? — перебил Антропова секретарь райкома.
Он задал этот вопрос с нарочитой грубоватостью, но по выражению его лица было видно, что ему жаль и Архипа Ивановича, который медлил с ответом, и рыбаков, которые должны прервать строительство, чтобы убирать хлеб. И, стараясь смягчить резкий тон, Тихон Филиппович добавил негромко:
— Про завод ты потом скажешь, а мы послушаем. Так? А сейчас ты скажи: как спасти триста девяносто гектаров пшеницы?
Назаров понимал, что Антропову трудно оставить строительство рыбозавода и бросить рыбаков на поля. Но Архип Иванович все же сказал то, чего ждал Назаров:
— Да, хоть и жалко, а придется нам недели на две бросить свою стройку. Я считаю, что рыболовецкий колхоз обязан спасать хлеб. Завтра мы все выйдем в поле.
Услышав слова Антропова, Кузьма Федорович Мосолов выбежал на сцену и, не дожидаясь разрешения говорить, закричал:
— Значит, хлеб — это, по-вашему, важно, а рыба — не важно? Так, что ли? Они там чухались, досидели до последнего, а теперь помощи просят?
Повернув к Назарову сердитое, покрасневшее лицо, Кузьма Федорович отрезал, сдерживая гнев:
— Пока я председатель, моего согласия, Тихон Филиппович, на это не будет. У нас есть свои обязательства перед государством. Наша рыбацкая система…
— Погоди, Мосолов! — вспыхнул председатель сельсовета Жигаев. — Заладил, как граммофон: система, система! А что такое социалистическая система, тебе известно? Или ты дальше своего рыбколхоза не заглядываешь?
Кузьма Федорович нервно повел висящей на черном платке рукой:
— Ты, товарищ Жигаев, не попрекай меня. Я за социализм руку свою на поле боя оставил, а ежели случилось бы, то и голову отдал бы. А что касается рыбколхоза, то я отвечаю за него перед партией и не хочу ставить под удар его работу. Люди наши добровольно взялись построить рыбоводный завод, который нужен всей области. Они ночей недосыпают, трудятся не за страх, а за совесть, даже старики на стройку вышли, а вы хотите с дороги их сбить и чужое головотяпство прикрыть их трудом…
— Здорово завернул! — отозвался с места Захар Бугров. — Он глядит на рыбаков как на свое поместье и рассуждение имеет вроде панского приказчика: то, дескать, твое, а это мое! Ежели бы товарищ Мосолов по-соседски в полеводческий колхоз заглядал, то он бы увидел, что тут не головотяпство, а тяжелое стихийное бедствие.
— А на што ему твой колхоз! — засмеялся кто-то. — У него рыбацкая система!
— Подождите, товарищи, — сказал Назаров, — надо в это дело ясность внести.
Устало поглаживая седеющие волосы, секретарь райкома негромко сказал Мосолову:
— Иди сюда, Кузьма Федорович, тут есть свободный стул.
Мосолов подошел и сел рядом.
— Я вас слушаю, Тихон Филиппович…
Секретарь долго молчал, думая о чем-то, а потом спросил:
— Ты когда решил закончить строительство рыбозавода?
— К первому августа.
— А потом что?
— Как потом?
Тихон Филиппович повернулся ближе к Мосолову:
— Потом, после первого августа, когда завод будет выстроен, что вы будете делать на нем? Сразу начнете эксплуатировать?
— Нет, не сразу, — насупился Кузьма Федорович, — работать на заводе мы начнем позднее.
— Когда именно?
— Наибольшая загрузка у нас будет весной будущего года.
— А до весны?
— До весны мы будем вести подготовительные работы, аппаратуру установим, ну и всякое такое…
Спокойная рука Назарова легла на плечо председателя рыбколхоза:
— Значит, Кузьма Федорович, если строительство завода вы закончите не к первому августа, а, скажем, к пятнадцатому сентября, от этого ваши планы не будут поломаны? Так? Не будут?
— Планы, конечно, не будут поломаны, — почесал затылок Мосолов, — но у нас уже приглашены гости к открытию завода, и люди ждут…
— Это очень жалко, — серьезно сказал Назаров, — но для того чтобы спасти хлеб, придется, очевидно, извиниться перед гостями и празднование немного отодвинуть…
Архип Иванович, разглаживая густую бороду, поднялся с табурета.
— Мне думается, что тут даже и обсуждать нечего, — сказал он, посматривая на Мосолова, — потому что после первого августа мы все равно повесим на свой рыбозавод замок. Работа у нас начнется только весной, а до весны можно пять таких заводов выстроить. Никакого графика строительства у нас не было и нет. Просто рыбаки сами назначили срок и хотят его выполнить. Значит, мы, как советские люди, обязаны учитывать стихийное бедствие на полях и должны прийти на помощь колхозникам.
— Правильно! Правильно! — закричали вокруг.
Секретарь райкома поднялся и, держа ладони за поясом, стал говорить, глядя в повитую махорочным дымом темноту, в которой смутно виднелись загорелые лица людей!
— Конечно, товарищи, Голубовский колхоз виноват в том, что не предусмотрел трудность уборки урожая на своих искалеченных наводнением полях. Комбайны пускать на такие поля нельзя, а для того чтобы быстро убрать хлеб лобогрейками, у колхоза не хватает рабочей силы. Наш долг — помочь колхозу спасти хлеб. Так? Мы, коммунисты, не можем смотреть на это дело из окошка отдельного ведомства и не можем отказать колхозникам в помощи. Так? Мы не имеем права ждать, пока на наших глазах пропадут десятки тысяч пудов пшеницы. Так? Значит, мы сегодня же должны решать, чем мы поможем пострадавшему от наводнения колхозу…
Совещание коммунистов продолжалось до трех часов ночи.
Утром Мосолов и Антропов организовали на строительном участке короткий митинг. Рыбаки решили отложить на две недели открытие завода, чтобы помочь колхозникам убрать хлеб. Такое решение было принято не сразу, так как Груня Прохорова, а вслед за ней пять или шесть рыбаков категорически отказались оставить строительство. Только после того как Архип Иванович отдельно поговорил с Груней, она согласилась с тем, что ее комсомольский долг — выполнить решение партийного собрания и выйти в поле.
— Ты не горюй, Грунечка, — ласково сказал Архип Иванович, — завод твой будет построен, никуда он от нас не уйдет.
Кроме строителей, рыбаки выделили для помощи полеводческому колхозу и сетчиковую бригаду деда Малявочки. На тонях остались две ловецкие бригады, которые в эти горячие дни перешли на круглосуточный лов.
Даже Пимен Талалаев согласился помочь в уборке хлеба, только просил не ставить его на тяжелую работу.
Егор Талалаев, посланный от шлюза, был назначен на вывозку зерна. Вечером он позвал к себе Трифона, долго совещался с ним о чем-то, а потом сказал сидевшему на крыльце деду Авдею:
— Ну, батя, ночью мы сыпанем невод прямо на Лучковой тоне!
— Ты что, Егорка, очумел, что ли? — испугался паромщик. — Ить Лучковая тоня рядом с Таловой, а там Степка Худяков с бригадой круглые сутки ловит и инспектор ночует. Смотри, поймают!
— Не поймают, — буркнул Егор. — Зато за одну засыпку мы себя на цельный год обеспечим. Невод у Анисьи на хуторе лежит, тот, который из Новой станицы дали на починку.
— Чем же ты вытянешь этот невод? Туда людей надо человек пятнадцать.
— Быками вытяну! — хмыкнул Егор. — Наши шлюзовские быки такие, что черта свалят. Окромя этого, Тришка мне пособит сельповскими быками. Понятно?
Те колхозные поля, о которых говорил секретарь райкома, лежали на покатых придонских холмах, на займищных грядинах, на едва приметных высотах, которые почти не выделялись на ровной линии равнинного междуречья. Большая вода весеннего паводка, медленно подвигаясь по западинам и низинам, обтекала эти неприметные возвышенности, и они зеленели весной в голубом разливе, как острова в неоглядно широком море. Однако кое-где вода проникала и на высоты; она находила любую лазейку: ложбинку, овражек, даже вдавленную тележными колесами колею — и устремлялась туда сначала тоненькой струйкой, потом весело журчащим ручьем, а потом, пробив себе русло в податливых супесках, шумливым, сверкающим на солнце потоком. И везде, где только прошла вода, она оставляла илистые наносы, нагромождение гальки, горы песка и размытого чернозема.
Позже, когда паводковый разлив исчез и река вошла в свои берега, на этих промоинах, наносах и натеках, чернеющих, как свежие раны, среди зеленых посевов, буйно проросли разнесенные весенними ветрами семена сорняков: синяка, повители, жесткого, как проволока, пырея, могучего татарника, перекати-поля, сизой полыни.
И все же озимая пшеницы не пропала: перерезанная промоинами и наносами ила, полосами сорняков и натеками песка, напоенная обильной влагой, она выгнала тучный, тяжелый колос, насытила соками крупное, ярой желтизны, зерно и, пригретая горячим солнцем, созрела и стала сохнуть.
Ни одни комбайнер, глядя на изуродованную паводком ниву и на пересекающие ее высоченные, в человеческий рост, заросли сорных трав, не рискнул бы загнать сюда комбайн: не пройдя и сотни метров, он порвал бы косу, искалечил хедер и вывел бы машину из строя.
Поэтому секретарь райкома, осмотрев все эти поля, посоветовал выкосить их лобогрейками. Только лобогрейка, неприхотливая маневренная машина, могла крутиться среди хаоса паводковых наносов и зарослей диких трав. Но для того чтобы убрать урожай быстро и без потерь, требовались рабочие руки: скидальщики, вязальщицы, возчики. Надо было приготовить полевой ток, поставить на нем молотилку, несколько веялок и сразу же вывезти зерно на элеватор и в колхозные закрома.
…В ясное воскресное утро, не дожидаясь восхода солнца, Груня Прохорова наспех позавтракала, захватила с собой мешочек со снедью и побежала в поле. По всем дорогам, на арбах, в телегах и пешком, пробирались спешившие на уборку станичники. Груня на повороте догнала пару рябых быков, запряженных в длинную, с глубоким ящиком возилку. На возилке, балагуря и пересмеиваясь, сидели шлюзовские рабочие — молодые парни в черных фуражках и синих полинялых спецовках. Среди них, развалясь, восседал Егор Талалаев с хворостинкой в руках.
Увидев Груню, Егор подмигнул товарищам, свесил с телеги ноги, обутые в начищенные хромовые сапоги, и закричал:
— Сидайте, Грунечка, подвезем!
Парни потеснились, освободили Груне место, и она села в телегу.
— Ну как, Грунечка, свадьбу скоро гулять будем? — насмешливо спросил Егор.
— Какую свадьбу?
— Известно, какую: вашу с товарищем Зубовым.
Груня ничего не ответила, повернулась к нему спиной и заговорила с рабочим в защитной кепке. Ухмыльнувшись, Егор снова подмигнул парням, но за всю дорогу больше не сказал ни слова.
Они приехали на холм в числе первых. Внизу, на дороге, длинной вереницей стояли лобогрейки. Быки и кони были выпряжены и поставлены к тюкам прессованного сена. Чуть поодаль дымились два огромных очага, возле которых хлопотали повязанные белыми платками кухарки. Одну из них, красивую пожилую вдову Елену Макееву, лучшую ударницу полеводческого колхоза, Груня знала хорошо. Вторая была Марфа Сазонова. Оголив смуглые от загара руки, Марфа ловко резала на доске капусту, набирала ее полные горсти и бросала в кипящий котел. Оживленная, румяная, с выбившимися из-под косынки прядями светлых волос, она, улыбаясь, говорила что-то Макеевой, и та, скосив глаза, посматривала в ту сторону, где стояла Груня.
К полевому стану все время подходили и подъезжали станичники. Председатель колхоза Захар Петрович Бугров распределял их по бригадам, указывал, на каком участке и что они должны делать, на ходу поторапливал бригадиров.
С восходом солнца все девять лобогреек были запущены в загон. Для того чтобы выдержать равномерную скорость жатвы, Бугров дал указание запрячь в лобогрейку только лошадей, а быков использовать для подвоза снопов к стоящей на току молотилке.
Упитанные племенные матки из колхозной конефермы, запряженные тройками в каждую косилку, сразу взяли с места размашистым, резвым шагом и, помахивая расчесанными жиденькими хвостами, пошли вдоль загона, как лодки в золотом море. Замелькали красные крылья косилок, раздалось дружное стрекотание шестеренок, ножей, стук шатунов, взмахнули вилами сидевшие на площадках полуголые скидальщики — и первые валки скошенной пшеницы ровными рядами легли на низкую стерню.
Вдоль всего загона, с левой и с правой стороны, стояли женщины-вязальщицы. Босые, с высоко подоткнутыми юбками, в белых, закрывающих лицо платках, они пропускали мимо себя косилки, склонялись над валками и, скручивая соломенные перевясла, быстро и ловко связывали тяжелые пшеничные снопы. Сухие стебли соломы мелькали в руках женщин, бесформенная россыпь валков превращалась в тугие снопы, и шумливые девчата тотчас же сносили их и складывали крестовинами в высокие копны. Возильщики нагружали снопами длинные арбы и увозили их к тарахтевшей на току молотилке.
В поле стоял неумолчный гомон, слышались песни, ржание коней, стрекот косилок и звонкий стук тележных колес. Работавшая у веялки Груня всматривалась в то, что делается на холме, и ей казалось, что кто-то невидимый, но властный, как дирижер в огромном оркестре, объединяет движение этой массы людей, машин, лошадей, и дружная масса, радостно подчиняясь живому ритму труда, выполняет все, что нужно, и выполняет именно так, как хочет невидимый дирижер: быстро, весело, ладно и чисто.
Нажимая на гладкую, отшлифованную многими ладонями ручку веялки, Груня и сама охотно подчинялась тому, что направляло работу людей, и знала, что невидимым дирижером всего, что происходило в этот жаркий день на холме, была осознанная людьми сила коллективного, общего труда.
Слева, у самого Груниного уха, монотонно гудела окутанная хлебной пылью веялка. В ее равномерно подрагивающей деревянной утробе стучали решета, а внизу из длинной щели желтой лентой сыпалось и сыпалось пшеничное зерно.
Чуть подавшись правым плечом вперед, Груня крутила скрежещущую ручку. Во рту у нее пересохло, по лбу и щекам, заливая глаза, бежали струйки пота, дышать было тяжело, но она не могла остановиться, потому что маленькая Ира безостановочно кидала в жестяной зев веялки нечищеное зерно. Ира тоже не могла остановиться, потому что двое хохочущих стрелков-комсомольцев из шлюзовской охраны, Иван и Пашка, беспрерывно подносили мешки с непровеянным зерном и высыпали его на землю перед Ирой. Смешно перебирая босыми ногами, Иван и Пашка бегали от молотилки к веялке, и гора зерна все росла и росла. На молотилке, опустив на глаза затянутые резиновыми шорами квадратные очки, с утра работал сам председатель колхоза Захар Бугров. Одним движением руки он принимал от девчат-подавальщиц снопы с разорванными перевяслами и, рассыпав веером шелестящий слабеющий сноп, направлял его в рычащую пасть молотильного барабана. Вокруг молотилки хлопотали десятки людей: рыжеватый дед Евсей Корольков суетился, подставляя мешки под потоки зерна; дюжие парни-скирдовщики, орудуя на скирдах, выкладывали острые верхи. А еще дальше работали возильщики, трактористы, весовщики, косари, вязальщицы.
Груня не столько видела, сколько ощущала всем своим существом ладную, согласованную работу трехсот разбросанных по холму людей и, так же как веснушчатый Пашка, Ира, высокая Люба Бугрова, сам Бугров, дед Малявочка и все, кто трудился на колхозном поле, чувствовала силу и гордость человеческого единения, могучую общность нужного всему народу труда.
Над степью немилосердно палило ослепительное солнце, от жары попрятались в лесных чащах птицы, раскалились части косилок, потемнели и покрылись белыми хлопьями пены взмокревшие бока рыжих кобыл. Но, несмотря на духоту, люди не прекращали работу. Обходя островки высоких сорняков, лобогрейки двигались взад и вперед по загону, и уже по всему холму протянулась ровная, срезанная острыми ножами полоса чистой стерни.
Во второй половине дня Груню сменила у веялки Тося Белявская. Стащив с головы серый от пыли платок, Груня встряхнула его, вытерла, размазывая потеки пота, мокрое, горячее лицо и, разморенная, еле передвигая ноги, пошла к жнивью. Тело ее ныло от усталости, ладони горели, в ушах стоял ровный гул веялки и молотилки.
Груня дошла до полосы покоса и увидела Марфу и Елену Макееву. Обе женщины, прикрыв головы зелеными венками из повители, вязали снопы. Выбрав из валка длинные стебли пшеницы и добавив к ним для крепости травы, Марфа скручивала перевясло, укладывала на него валок, а идущая следом за ней Макеева, нагнувшись, соединяла концы перевясла, затягивала, нажав голым коленом, сноп и, туго связав его, отталкивала от себя ногой и шла дальше.
— Заморились, Грунечка? — ласково спросила Марфа, поглядывая на Макееву и не прекращая работу.
— Руки заболели, — виновато пробормотала Груня.
— Это с непривычки, — отозвалась Макеева, — а когда втянешься, ничего!
Блестя глазами и улыбаясь, Марфа подошла к Груне и сказала:
— Сидайте, Грунечка, отдышитесь. И мы с вами передохнем.
Они присели.
— Хороший хлебушек нонче уродился! — сказала Марфа, оглядывая поле.
Макеева обмахивала голые ноги подолом юбки. Елену как будто выкупали в реке: туго обтягивая крепкую грудь, ее белая кофточка прилипла к плечам, потемневшие пряди волос вились по влажным, разгоряченным щекам, и все красивое, слегка располневшее тело пахло потом и духовитой пшеничной пыльцой.
Макеева тоже оглядела большое поле и глубоко вздохнула.
— Хороший хлеб, — повторила она, — а все потому, что руки до него приложены были. Без рук ничего бы не уродилось. А тут прошлый год под черным паром земля отдыхала, от сорняков мы ее очищали, культивировали сколько раз, семена протравили, посев пололи, навозной жижей его подкармливали. Если б не наводнение, мы бы тут по своему труду, знаете, сколько хлеба взяли!
Стащив с головы косынку и оправляя волосы, Макеева повернулась к Груне.
— Это у ваших рыбаков по-другому строится, — засмеялась она, — они одно знают — ловят. Есть рыба — слава богу, а нету — значит, скажут, что нема рыбки, — и все. Оно так и получается, что не люди над рекой хозяйнуют, а река над людьми…
Женщины стали говорить о станичных новостях, о товарах, которые поступили в сельпо и рыбкооп, о том, что посажено на огородах и у кого какие удались огурцы, помидоры, капуста. Груня слушала то, что они говорили, жадно вдыхала запах хлебной пыльцы и думала о словах Макеевой. «Это правда, — думала Груня, — они работают лучше, чем мы, и нам давно пора браться за ум, потому что мы очень плохие хозяева».
Потом она подумала о том, что рыбоводный завод скоро будет построен и они с Василием станут обучать рыбаков-комсомольцев: покажут, как надо следить за аппаратами, воспитывать мальков, устанавливать режим питания. Они будут учить других и сами будут учиться, и в колхозе вырастут новые люди, которые станут хозяйничать на реке так же, как Елена Макеева хозяйничает на земле.
Не успела она подумать о Василии, как Марфа подвинулась к ней ближе и спросила, заглядывая в глаза:
— Что же, Грунечка, вы, должно быть, скоро заберете до себя моего квартиранта?
— Я не знаю, Марфа Пантелеевна, про что вы говорите, — смутилась Груня.
— Ну как же! Вся станица говорит про это: дескать, Грунечка Прохорова замуж за инспектора выходит. Вы ж гуляете с Василь Кириллычем, люди говорят… А чего вам! Он человек славный и вас любит… И домик уже для него из города привезли. Хороший, говорят, домик, разборный. Вот и поселитесь вы с Василь Кириллычем в этом домике…
— Давай вставать, Марфуша, — перебила Макеева, оглядываясь, — а то наши хлопцы уже третий раз загон обходят, не догоним…
Они поднялись и пошли навстречу приближающимся лобогрейкам.
Груня тоже поднялась.
Отсюда, с вершины холма, ей хорошо были видны дымок трактора у молотилки, золотящиеся под солнцем скирды соломы, ползущие по степи арбы, далекие женщины-вязальщицы, которые растянулись до самого леса, и все, что двигалось и работало на холме в этот жаркий, пахнущий хлебом день.
И Груня, глядя на все это и вдыхая полной грудью повеявший от реки ветерок, почувствовала, как вдруг исчезает куда-то усталость и все ее тело наполняется волнующей, радостной силой, неразрывно слитой с веселой многородящей землей, с зелеными деревьями, с ясным небом, с людьми, работающими на горячем, палимом яростным солнцем холме.
5
Перед вечером колхозный обоз возвращался из районной станицы, где находился элеватор. Бригадир транспортной бригады Иван Дятлов, которому было поручено сдавать пшеницу, ехал на передней телеге. Остальные двенадцать подвод растянулись по степи километра на полтора. Особенно отставали две последние подводы. На них ехали продавец сельпо Трифон и Егор Талалаев. У Трифона были в запряжке здоровенные быки сельпо, у Егора — молодые и сытые шлюзовские быки.
Иван Дятлов, высокий парень в полинялом, наброшенном на плечи кителе, оглянулся и тревожно закричал ехавшему за ним следом старому колхознику Устину Слесареву:
— Чего-то у нас Егор и Тришка больно отстают! Оно бы можно сегодня еще один конец сделать, а они гдей-то ворон ловят!
— У Трифона, кажись, переднее колесо рассыпается, — отозвался Слесарев. — Он еще возле элеватора жалился, что спицы, мол, летят одна за другой.
— Чего он там брешет? — раздраженно отмахнулся Иван. — Какие спицы? Я каждую возилку с утра проверял, на всех колесах спицы были целые.
— Не знаю, Ваня. Жалился Трифон на переднее левое.
— А Егор?
— У Егора вроде бороздный бык захромал, ногу, кажись, натрудил.
Иван сердито сплюнул и улегся в длинном тележном ящике.
— Помощники, чтоб им черти так помогали! Одно название только!
Между тем Трифон и Егор отставали не потому, что не могли поспеть за колхозным обозом, а потому, что намеренно придерживали быков, останавливая их через каждые сто шагов.
— Нехай едут! — буркнул Егор, провожая взглядом последнюю скрывающуюся из глаз подводу.
— А ежели кто вернется проверить, чего будем говорить? — спросил Трифон.
— Мы не станем их дожидаться, доедем до поворота и свернем в лес, — сказал Егор. — Уже смеркает, и нам самая пора!
Они добрались до балки и, понукая быков, повернули влево, на заросшую бурьяном лесную дорогу.
Вечерело. Тонкий серпик молодого месяца светился над иссиня-темной чащобой прибрежного леса. В глубокой крутой балке, поросшей вербой и карагачем, тихонько журчала вода. Где-то в лесном озерце призывно крякала дикая утка. Через дорогу, боязливо подняв уши, пробежали два зайца.
— Чтоб вы подохли, проклятые! — выругался Трифон.
— Чего ты там? — отозвался из темноты Егор.
— Зайцы дорогу перебежали — это, говорят, не к добру.
Егор засмеялся:
— Пущай бабы всяким россказням верят, а мы поедем!
Трифон соскочил на землю, закинул налыгач своих быков на задок передней телеги и, забежав вперед, присел рядом с Егором.
— А как же с неводом будет? — спросил Трифон.
— Невод Анисья обещалась загодя перекинуть в лес. Твой братишка ей поможет…
— Ну а ежли нас хватятся на полевом стане?
— Скажем, что товарищ из района перестрел нас и приказал гнать быков до пристани, чтоб запчасти в мэтээс перебросить.
Замысел Егора Талалаева был дерзок и прост: под самым носом у второй рыболовецкой бригады, которая работала на тоне Таловой, засыпать невод, вытащить его быками, забрать весь улов, ночью же отправить рыбу на хутор Атаманский, а там погрузить на пароход и отвезти в город.
Тот участок, на котором Егор думал ловить, располагался в двухстах метрах ниже Таловой тони, на самой излучине, и туда еще с вечера должны были прийти Авдей Гаврилович с племянницей Анисьей и Семка, брат Трифона, чтобы помочь в засыпке невода.
Все сложилось так, как предполагал Егор: они с Трифоном без труда нашли под железной оградой заброшенной часовни спрятанный Анисьей невод, взвалили его на телегу, спокойно объехали горящие на тоне костры и остановили быков у самой излучины. Анисья и Семка уже ждали, лежа на берегу под вербой.
Труднее всего было доставить на место баркас, с которого Егор собирался засыпать невод. За это взялся Авдей Гаврилович. Дождавшись темноты, он сел на баркас и отправился прямо на тоню Таловую. Как и ожидал паромщик, Зубов оказался на тоне. Он сидел с рыбаками у костра и слушал веселый рассказ балагура Федота о чьей-то неудачной свадьбе.
Авдей Гаврилович остановил баркас у самого костра, вышел, как будто ему надо было прикурить, посидел для приличия и вздохнул, умильно поглядывая на Зубова:
— Охо-хо! Вот, товарищ инспектор, Федот про свадьбу гутарит, а мне надо на районную пристань за кирпичом ехать. Еще вниз, бог даст, выгребу, а каким способом буду возвертаться, и сам не знаю. Может, вы бы мой баркасик до своей моторки прицепили и пособили бы старику кирпич доставить?
— Сегодня не могу, Авдей Гаврилыч, — сказал Зубов. — В пятницу я поеду в район, если можете ждать, я возьму ваш баркас на буксир.
Паромщик в раздумье почесал затылок.
— Оно бы можно было подождать, да время не терпит. Видно, доведется самому грести до кирпичного завода, а там просить кого-нибудь покрепче, чтобы пособили.
Демонстративно вздыхая, Авдей Гаврилович поплелся к баркасу, уселся поудобнее, покряхтел и, медленно ворочая тяжелые весла, погнал баркас вниз и вскоре исчез в темноте.
— Ничего, этот дедок сдюжает, — хмыкнул Федот, — он только прикидывается хлипким, а сам, ежели надо, черта за собой потянет. У них вся талалаевская порода такая.
— Куда уж там ему тянуть! — засмеялся Зубов. — Он еле ноги волочит…
Зубову, конечно, и в голову не могло прийти, что немощный паромщик Авдей Гаврилович Талалаев, еле поднимающий весла, отправился не в станицу, а на браконьерский лов.
Авдей Гаврилович спокойно довел баркас до излучины, где его ждали Егор, Анисья и братья Трифон и Семка Жучковы, а неподалеку, на поляне, были видны костры на тоне и вокруг них — черные фигуры отдыхающих ловцов.
— Чего они там, много наловили? — осведомился Егор.
— Не знаю, я в ихние баркасы не заглядал, — смиренно ответил Авдей Гаврилович. — Должно быть, много, потому что хлопцы-рыбаки дюже веселые…
— И Зубов там?
— Там.
Егор, разуваясь, мотнул головой в сторону леса:
— А я бычат выпряг, нехай попасутся, а то приморились. Надо бы их подогнать поближе, чтоб, случаем, не ушли.
Семка Жучков пошел загонять быков, а Егор с Трифоном стали укладывать на баркас невод. Голые, в одних трусах, они топтались вокруг покачивающегося на воде баркаса, сопели и переговаривались друг с другом свистящим шепотом.
Через четверть часа они уселись в баркас и начали засыпку. Под взмахами весел чуть слышно поскрипывали кочетки, с мягким шелестом исчезал в темной воде невод, за бортами тихонько плескались волны. Мириадами светляков мерцали на небе звезды. В эту ночь ни один человек не помешал волчкам; подцепив дышла к бежному урезу, они запрягли быков, вытащили невод на песчаный берег и до утра отвезли улов на хутор Атаманский, где жила овдовевшая в войну двоюродная сестра Егора Анисья. Там они перебрали рыбу по сортам, потом уложили ее в плетеные корзины и точно определили улов: восемьдесят с лишним пудов чехони, судака, леща и сазана, не считая рыбьей мелочи.
— Вот как надо ловить, — самодовольно сказал Егор, — а то вы детскими игрушками баловались, только народ смешили.
6
Утром Анисья и Семка засолили часть рыбы в четырех бочках, а остальную погрузили на пароход и повезли в город, на базар. Трифон и Егор, тщательно отмыв и почистив песком тележные ящики, вернулись на полевой стан только к полудню, когда транспортная бригада Ивана Дятлова в третий раз повезла зерно на элеватор.
— Где ж это вы блукали? — накинулся на Егора председатель колхоза Бугров. — Чем такая помощь, так лучше валите подобру-поздорову, а то мы на вас надеемся, а вы, окромя вреда, ничего не сделали.
— Мы тут ни при чем, — огрызнулся Егор, — нас перестрел уполномоченный с области и погнал аж до районной пристани перевозить запчасти до комбайнов.
— Какие запчасти?
— Откель же я знаю? Запчасти — и все, в ящиках запечатанные.
— Куда ж вы их возили?
— Аж до Атаманской балки, а там, за балкой, все эти ящики перегрузили на трехтонку.
Егор нагло смотрел в глаза Бугрову и говорил так спокойно, что председатель поверил и раздраженно махнул рукой:
— Ладно! Грузите зерно с третьего тока и везите на элеватор, надо кончать хлебопоставки…
И Егор с Трифоном как ни в чем не бывало отправились на ток, нагрузили пахнущие рыбой тележные ящики зерном и поехали на элеватор.
Захар Петрович Бугров торопился закончить сдачу хлеба, потому что в эти жаркие, летние дни вся область со всеми надречными и глубокими степными районами уже вызвала на соревнование Украину, Ставропольщину и Кубань и сдавала государству миллионы пудов чистейшей пшеницы только что снятого урожая.
Убирая хлеб на холме, Груня видела вокруг себя сотни работающих одностаничников: земледельцев, рыбаков, лесников, шлюзовских рабочих. Но если бы огромный стратостат поднял Груню высоко к небу и там, излучая серебристое свечение, поплыл над рекой, над степью и морем, над лесами и озерами — Груня увидела бы то, от чего ее сердце радостно забилось бы, а по щекам полились бы счастливые слезы.
По всем дорогам — шоссейным, грейдерным, проселочным, — оставляя за собой светлые клубы пыли, двигались к ссыпным пунктам длиннейшие обозы с зерном. Огромные элеваторы днем и ночью принимали золотой поток хлеба. Обозы двигались безостановочно, но в палимой солнцем степи так же безостановочно работали самоходные комбайны, сноповязалки, лобогрейки, дымили тракторы, грохотали молотилки, и на колхозных токах росли и росли горы зерна. Появилась опасность, что сельский транспорт не успеет до дождей вывезти с поля хлеб.
Тогда секретарь обкома (в его кабинете, как в штабе фронта, сходились десятки телефонных проводов и круглосуточно принимались сотни оперативных сводок и донесений) предложил на заседании бюро бросить в поле весь автомобильный парк города.
И по дорогам помчались тысячи новых трехтонок, полуторок, «пикапов». В степь выехали шоферы различных городских учреждений: трестов, банков, магазинов, складов, типографий, фабрик.
Караваны железных барж, плашкоуты и паузки один за другим подходили к речным элеваторам, а составы крытых товарных вагонов — к степным, и бесконечным шумным зернопадом сыпалась в баржи и вагоны пахучая пшеница.
В поле соревновались бригады, колхозы, районы, области, республики. Весь Советский Союз убирал хлеб.
Груня не поднималась к голубому небу на стратостате, но с каждым днем крепла ее вера в свободный труд объединенных людей, и с того степного холма, на котором она работала, ей видно было все, что делалось вокруг.
Теперь она уже не жалела о том, что рыбаков оторвали от строительства завода. Захар Петрович Бугров дал слово Антропову, что по окончании уборки колхозники помогут рыбакам достроить завод.
На седьмые сутки Голубовский полеводческий колхоз закончил уборку колосовых и сдал государству весь причитающийся с него хлеб. А еще через три дня секретарь райкома Назаров послал в обком молнию о том, что район завершил хлебопоставки и сдает зерно сверх плана.
Глава шестая
1
В конце лета в придонских садах налился и созрел виноград. Подвязанные к высоким жердевым подпорам, в два человеческих роста, высились виноградные кусты, и на них, под сенью разлапистых листьев, тронутые сизой паутиной, висели, роняя тонкие нити сока, тяжелые, липкие кисти. Точно сгущенный в пахучих ягодах солнечный луч, просвечивал светлой желтизной ладанный виноград — гордость донских садоводов; налитый алым соком, багровел красностоп золотовский; затянутый матовой дымкой, изумрудом красовался продолговатый пухляк; лиловели крупные, с туманным налетом, ягоды венгерских, молдавских, французских лоз: их в стародавние времена, приторочив тонкие чубуки к седельным саквам, привезли на Донщину казаки платовских полков; ярким воском светился шампанчик, крупными сливами свисал, оттягивая лозы, красный с голубизной желудевый; поблескивал из-под листьев иссиня-черный сильняк.
За пристанью, на крутом яру, там, где белели цехи Голубовского винпункта, в шесть этажей выстроились шеренги стоведерных бочек. Как железо, звенели их стянутые крепкими обручами дубовые клепки, а рука винодела уже чертила на темных днищах новые цифры. Из распахнутых настежь двустворчатых дверей слышалось журчание текущего в чаны сока, и над берегом стоял запах молодого вина.
Веселые девчата с утра до ночи резали виноград, накладывали в плетенные из талы корзины и на быках отвозили в винпункт. Девчата пробовали там вино разных сортов и потому, возвращаясь в сады, ладно пели казачьи песни и хохотали.
Впрочем, вино пробовали не только девчата: колхозники, рыбаки, шлюзовые рабочие, лесники привозили на винпункт свой, выращенный на усадьбах виноград, и улыбающийся винодел Нестор Антоныч, флегматичный казак с красным носом, сразу выдававшим его профессию, радушно угощал клиентов молодым вином. Каждый пил с непьянеющим Антонычем, и каждый уходил от него, слегка покачиваясь и напевая первую пришедшую на ум песню.
Как раз в эти дни голубовские рыбаки закончили строительство рыбоводного завода. Грунина мечта наконец сбылась: на высоком берегу реки стоял высокий, крытый белым этернитом дом, и в его окнах, отражая лучи солнца, радужно светились разноцветные стекла.
На открытие завода приехали низовые и верховые рыбаки, представители Рыбвода, Рыбаксоюза, районных партийных организаций, соседних полеводческих колхозов. Люди ходили по усыпанным песком дорожкам, осматривали бетонированные бассейны, деревянные садки для рыбы, рыбоводные аппараты.
После короткого митинга хозяева и гости разделились на группы и заговорили о своих делах. Не имея возможности поговорить с Груней, окруженной толпой девчат, Василий бесцельно побродил по двору и подошел к сидевшим на бревне рыбакам, которые слушали Архипа Ивановича Антропова.
Одетый в чистую, пахнущую нафталином рубашку и черный пиджак, Архип Иванович вытирал платком вспотевшее лицо и говорил глуховато:
— Вот гляжу я на этот завод и вспоминаю, как в царское время мы хозяйновали на реке. Я тогда в гирлах ловил, годов пять рыбалил в ватаге у Яшки Валухи.
— У того самого Яшки? — спросил дед Малявочка.
— У того самого. Яшку по всей реке знали, он потом стал первым среди крутьков.
— И его, кажись, убили?
— Полковник Шаров поймал его, привязал канатом до столба и посек с пулемета. Сорок восемь пуль всадили в Яшку шаровские пихрецы. Мы после считали. Так и пропал Яшка Валух…
Архип Иванович, покашливая, затянулся махорочным дымом:
— Ну, так вот. Ходила наша ватага по всем гирлам, а рыбу у нас забирал Митронька Данилов. Богатейший был прасол. Говорят, у него сто тысяч золотом захоронено было. Наша ватага плавала на Митронькиных дубах, ловила его неводами, а он драл с нас три шкуры, копейки за рыбу платил. И вот, как сейчас помню, одной весной здорово селедка пошла. Цельными горами выгребали мы ее на берег, наловили столько, что Данилов уже не успевал эту селедку засолить, потому что тары у него не хватало и соли не было. Так вы думаете, он пропустил хоть одну паршивую сельдь в верховья? Ни одной! «Ловите, — говорит он нам, — и в песок зарывайте, нехай лучше сгниет в песке, чем верховым прасолам достанется, а то собьют, говорит, цену, и я только потеряю на этом деле».
— Так и зарывали? — спросил молодой рыбак.
— Так и зарывали, — махнул рукой Архип Иванович. — Вывалим ее с баркасов, притрусим песком, она и гниет… На всех ериках, помню, дурной запах всю весну стоял. Зато Митронька Данилов хватил на проданной селедке пятнадцать чи двадцать тысяч и цену свою на базаре удержал… Вот так и хозяйновали в ту пору наши рыбаки.
— То время уже не вернется, Архип Иванович, — серьезно сказал Степан Худяков.
— Да, Степа, не вернется, — кивнул Антропов, — оно утекло каламутной водой…
Василий, покуривая, слушал рыбаков, и в душе его все больше росло ощущение важности того, что произошло на берегу. Построенный голубовцами рыбоводный завод был только частицей того нового, что все более властно входило в жизнь станицы. Даже в старых рыбаках Василий заметил важную перемену: они уже говорили не только о лове, но и о разведении рыбы, о нерестово-выростных площадях, о спасении рыбной молоди. «Это уже совсем другие люди, — думал Василий, — теперь никто из них не зароет в песок сотни тонн сельди и не устрашится конкуренции, они все делают большое общее дело и с каждым днем лучше и лучше работают…»
Только вечером, когда разъехались прибывшие на открытие завода гости, Василий и Груня остались одни. Они засмеялись, взглянув на дремлющего на пороге сторожа — инвалида Игнатьевича, обнялись и пошли между деревьями.
На виноградниках, за пахнущим свежей сосной забором, пели девчата. Их звонкие голоса неслись над заалевшей вечерней рекой. Две старухи внизу, под яром, перебраниваясь, носили на коромыслах воду и поливали зеленеющие в лунках кочаны поздней капусты. Вспорхнула в кустах желтая иволга. Над садами, сверкая лазурным оперением, пролетела сизоворонка. На ветвях раскидистых старых яблонь, чуть заметная, трепетала паутина — первый знак близкой осени.
— Ну как, Груня, довольна? — спросил Василий.
— Довольна, Вася! — ответила девушка. — Теперь мы начнем работать по-настоящему.
Она, скосив глаза, взглянула на него и спросила неожиданно:
— А ты будешь меня любить?
Василий привлек ее ближе к себе:
— За что ж тебя любить?
Не говоря ни слова, он стал целовать Груню, а она, подчиняясь его ласке, прижалась к нему и улыбалась счастливо, думая о нем, о себе — обо всем, что произошло в последние месяцы в станице, и хотя ничего особенного как будто не произошло, но Груня знала, что и этот рыбоводный завод, и то, что на степных холмах работали партии геологов, гидротехников, землемеров, и в особенности приезд Василия Зубова — все это входило в ее, Грунину, судьбу чем-то неизведанно-радостным и заставляло жить по-новому.
— Знаешь, Вася, — исподлобья поглядывая на Зубова, сказала Груня, — в станице все говорят, что мы с тобой поженимся.
— Правда? — засмеялся Василий. — Кто ж говорит?
— Да все! Куда ни пойдешь, каждый одно знай спрашивает: когда, мол, будем на свадьбе гулять? Ехала я со шлюзовскими ребятами на Пески, так Егор Талалаев пристал, скоро ли, дескать, вы с инспектором поженитесь? Говорит, а сам ребятам подмаргивает. А на Песках твоя хозяйка Марфа разговор со мной завела: «Вы, говорит, Груня, должно быть, моего квартиранта к себе заберете?»
— Так и сказала?
— Так и сказала.
— Еще что Марфа говорила? — поинтересовался Василий.
— Больше ничего не говорила. Сказала только, что ты хороший человек и любишь меня…
Поглаживая Грунину руку, Василий сказал:
— А знаешь, Илья Афанасьевич тоже называет тебя моей невестой.
— Правда?
— Честное слово. Разговаривал со мной недавно и сказал: «Я сегодня встретил вашу невесту».
Он засмеялся, но потом вдруг стал серьезным и сказал тихо:
— Грунечка, а ты бы согласилась быть моей женой?
Груня, освободив руку, помолчала, разглядывая тронутый желтизной яблоневый листок.
— Ты мне нравишься, Вася, — сказала она. — Но знаешь что? Давай подождем немного.
— Зачем же нам ждать?
— Пройдет время, мы лучше узнаем друг друга.
— А разве мы сейчас не знаем?
— Знаем, конечно, но все-таки… Объясняй потом, что не сошлись характерами… Я этого не хочу.
— Я тоже не хочу.
— Вот видишь, — обрадовалась Груня, — значит, нам надо подождать…
— Долго ли? — усмехнулся Василий.
Груня, краснея, легонько ударила его по руке:
— Ну, хотя бы… до зимы…
Он проводил ее домой, а когда они простились, Груня остановилась у калитки, подождала, пока Василий свернул в переулок, и пошла на остров, откуда доносилась протяжная песня девчат. По голосам Груня узнала Иру и Асю, и ей захотелось посидеть с подругами.
Вечерело. По высохшему, заросшему бурьяном руслу речушки брели телята. В мелких, густо покрытых зеленой ряской лужицах копошились утки. За молодой вербовой рощей сверкали огоньки стоявшего у пристани парохода. Во дворах, у жарких, чисто выбеленных печей хлопотали женщины. Оттуда тянуло горьковатым дымком. А с острова, из-за высоких, неумолчно шелестящих тополей, плыла тихая девичья песня.
Все это с детства было знакомо Груне: и мерцающие на реке огоньки, и кряканье уток под бурым глинистым яром, и запах дымка на станичных улицах. Но сегодня она как будто впервые увидела погруженное в синие предвечерние тени надречье и, удивляясь этому, вдруг поняла, что в ней самой что-то изменилось, стало не таким, как было раньше.
На лесную поляну, туда, где сидели девушки, Груня подошла медленно, сунув руки в карманы старенького синего жакетика, усталая и счастливая.
— Девчата, пропажа нашлась! — взвизгнула Ира.
Сидевшие тесным полукругом девушки зашевелились.
— Садись, Грунечка! — заторопили они наперебой.
— Вот самое лучшее местечко, под тополем!
— Садись, рассказывай, как он тебя голубил!
Подобрав кружевные подолы праздничных юбок, девушки расселись, давая место Груне, и она, все так же устало и счастливо улыбаясь, прилегла на примятую, остро пахнущую траву, сняла тесные тапочки и в блаженстве вытянула ноги.
— Ну, рассказывай, Грунечка! — нетерпеливо затеребила ее Ира.
— Что рассказывать? — засмеялась Груня.
— Чего он тебе говорил?
— Кто?
Ира всплеснула руками:
— Поглядите на нее! Вроде она ничего не знает!
— Ай-ай, Груня, как не стыдно! — отозвался кто-то из девчат.
— Признавайся, чего у вас там было!
— Небось про свадьбу уже говорили?
«Откуда они знают?» — удивилась Груня. Она положила голову на колени молча улыбающейся Асе и сказала тихо:
— Говорили…
— Ой ты-ы-ы! — с восторженным удивлением вскрикнула Ира. — Когда же свадьба, Грунечка?
— Зимой, — отозвалась Груня.
Ира разочарованно махнула рукой:
— Тю на тебя! Чего ж дожидаться зимы! Самый бы раз осенью свадьбу играть: виноград поспеет, люди вина надавят, яблок будут целые горы, мед откачают…
Груня ничего не ответила, и девушки, поняв, что ей, должно быть, не хочется говорить, сразу притихли. Только Ася, ласково поглаживая Грунины волосы, обронила тихо:
— Это все равно, что осенью, что зимой, что летом… лишь бы жили хорошо и понимали один другого…
Прижавшись горячей щекой к плечу Груни, Ира заговорила с хитроватой усмешкой:
— А ты переменилась, Грунечка. То, бывало, днем и ночью со своим дурацким ружьем по лесам да по озерам бегала, а теперь, видать, твое ружье заржавело и тебе на него глядеть неохота. С чего бы это такая перемена, а, Грунечка?
«В самом деле, — подумала Груня, — Ира правду говорит. Какая-то я другая стала…»
— Еще, чего доброго, совсем тихоней сделаешься, — не умолкала Ира, — хотя бы на улицу по вечерам выходила, а то все дома и дома…
«Нет, правда, что ж такое случилось? — сжимая руку подруги, думала Груня. — Отчего у меня по-другому все получается? Ведь есть же все-таки причина…»
И мысли Груни, независимо от ее желания, снова и снова возвращались к Василию.
Она вспомнила все, что увлекло ее и заставило забросить ружье и веселые прогулки по займищу: появление прозрачных живых рыбьих личинок в старом амбаре; запах свежей сосны и ласковый блеск цветного стекла на только что построенном заводе; горящие глаза и крепкие руки Василия, когда он, держа острый скальпель, добывал волшебные белые крупинки, которые, умирая, вызывали появление множества новых жизней.
Да, это было то новое, веселое, живое, что пришло в станицу и привлекло Груню своей покоряюще-светлой силой. Конечно, оно, это новое, пришло бы и без Василия, как приходит теплая, многородящая весна, но то, что именно Василий повел Груню за собой и показал ей и другим, что и как надо делать, было особенно радостным…
— Ну, чего ж ты молчишь, Грунечка? — опять всплеснула руками Ира. — Признавайся, чего там у тебя случилось? Почему ты стала такая, вроде тебя подменили?
Между темными стволами деревьев багряно засветилась большая луна. Легким холодом потянуло от реки, терпко запахли тронутые росой чуть присохшие травы.
— Нет, девчата, никто меня не подменил, — тихо сказала Груня, — я какой была, такой и осталась. Только в жизнь мою вошло то, чего я ждала, а понять не умела…
Она помолчала и добавила еще тише:
— Он показал мне, куда надо идти, и я пошла за ним…
Ася обняла ее в темноте, щекотнула волосами щеку:
— Он хороший парень, настоящий…
Притихшие девчата поднялись, отряхнули с юбок траву и, обнявшись, пошли по испещренной лунными пятнами лесной дороге.
— Начинай, Ирочка, нашу любимую, — сказала Ася.
Маленькая Ира, отделившись, запела так, как поют птицы, слегка запрокинув голову и чуть прикрыв глаза:
Как да вече-е-ерней порой туман поднимается…И девушки подхватили, сжав друг другу руки:
Как да вечерней порой туман поднимается, Ой да как и утренней порой туман расстилается, Ой да как повадился лебедь по ночам летать, По ночам летать, по зорям кричать…Где-то на улице запели парни, их сильные голоса, словно перекликаясь с нежными девичьими, взмыли к звездному небу, и сжимающая сердце, повторенная звонкими откликами леса, полетела казачья песня над золотыми лунными озерами, над притихшей в ночном безмолвии степью…
Открыв окно, высунулся и замер на подоконнике старый Щетинин.
А сидевший на приступке дед Малявочка горделиво покачал седой головой:
— Поет станица…
2
Изыскательские партии, работавшие на степном левобережье и на пойме, в междуречье, установили за станицей палатки и там жили, чтобы не отдаляться от своих участков. Но количество рабочих в различных партиях и отрядах с каждым днем все увеличивалось, и потому часть людей переселилась в Голубовскую, сняв квартиры у колхозников и рыбаков.
По вечерам, когда усталые геологи и гидротехники возвращались в станицу, голубовцы собирались вокруг них и задавали бесконечные вопросы о строительстве, которое началось в верховьях реки. Больше всего голубовцев беспокоили неясные разговоры о том, что будущие гидросооружения настолько изменят водный режим реки, что береговым жителям придется переходить к другим видам хозяйства.
Разговоры были разные: кто-то слышал о том, что уровень воды в реке поднимется якобы метров на десять, и потому все прибрежные станицы и хутора будут затоплены, а жителей переселят на донецкие высоты; кое-кто, наоборот, утверждал, что проложенный между двумя реками канал приведет к обмелению русла; одни говорили, что теперь навсегда исчезнет рыба и пропадут веками растущие на заливных местах виноградники; другие радовались тому, что река станет одной из главных водных трасс страны.
Василий Зубов знал о строительстве больше других, так как профессор Щетинин в связи с предстоящим зарегулированием стока реки разрабатывал мероприятия по рыбному хозяйству и потому постоянно консультировался с инженерами-строителями. Вечерами, сидя на крыльце правления рыбколхоза, Щетинин рассказывал рыбакам о гигантском водохранилище, которое будет сооружено выше плотины, о системе гидроузлов, о судоходных шлюзах, об ирригационных каналах.
— Река станет жить иной жизнью, — задумчиво говорил профессор, пыхтя прокуренным мундштуком, — изменятся ближние береговые пейзажи, и даже самые глубинные степные районы нам трудно будет узнать.
Он развертывал на коленях исчерченную цветными карандашами карту и, помолчав, продолжал:
— Через какой-нибудь десяток лет мы вообще не узнаем нашей области. В самые засушливые районы из нового, созданного нами моря потечет по каналам вода. Взгляните сюда, на карту: тут сейчас видны только пятна солонцов с черной полынью. Кроме типчака, мхов да лишайников, в этой засушливой степи ничего нет. Вода принесет сюда жизнь. Мощные тракторы поднимут п-пласты непаханой целины. На м-мертвых солонцах зазеленеют сады, заколосится пшеница… В-высокие лесополосы оградят новые поля от суховея. П-по всей степи заблестят пруды, т-тысячи прудов. Это изменит не только пейзаж, но и климат: он станет более мягким и влажным…
Дымя махорочными скрутками, рыбаки слушали Щетинина, а он, загораясь, хмуря седые брови, говорил вдохновенно:
— Это не сказка, не фантазия. И нам, рыбникам, надо по-настоящему приготовиться к новой жизни реки. А это не так п-просто, как представляется на п-первый взгляд. Во-первых, сооружаемая на среднем участке реки новая плотина навеки п-преградит путь к нерестилищам б-белуге, рыбцу и другим рыбам. Значит, мы должны вмешаться в их судьбу и обеспечить их размножение. Во-вторых, зарегулирование весеннего паводкового стока резко изменит гидрологический режим реки и уменьшит вынос пресной воды в залив. Это п-повысит соленость Азовского моря и, конечно, изменит условия развития п-полупроходных рыб. В-третьих, у нас навсегда прекратятся паводки, и, значит, займища наши останутся б-без воды. А залитые займища — это п-постоянные нерестилища сазана, леща, судака, то есть самых важных промысловых пород. Кроме того, вода постоянно уносила с плодородных займищ в море множество необходимых для питания рыбы органических веществ. Теперь этого не будет. 3-значит, перед нами стоят задачи п-перестроить все рыбное хозяйство реки в соответствии с новыми условиями.
— Нелегкое это дело! — покачивали головами рыбаки.
— Шутка ли сказать — по всей реке рыбу зачать перевоспитывать!
Архип Иванович, вслушиваясь в отрывистые разговоры рыбаков, говорил негромко:
— А как же колхозники кур выращивают или же, к примеру сказать, новый сорт пшеницы выводят, а теперь лесополосы садят на тысячи километров?
— Тут, Иваныч, другое дело, — хмурился дед Малявочка. — Колхозник этого курчонка сам с инкубатора вынимает, на руках его держит, глядит на его и каждое перышко на нем видит. Обратно же и с зерном и с деревом так: ты его могёшь пощупать, качество его определить, наблюдение за ним вести. А с рыбой как? Она ить под водой ходит, и ее не проверишь, навроде курчонка или дубового саженца. Рыба глазу твоему не дается и в руки до тебя не идет. Это, брат Иваныч, не телочка.
— Мы не пробовали с рыбой хозяйновать, потому и тревожимся загодя, — настаивал Архип Иванович, — а ежели наш рыбак за дело возьмется и ученые путь ему укажут, так же как наш товарищ Лысенко полеводам дорожку определяет, то ничего страшного не будет, управимся…
— Это правильно, — кивал головой Щетинин, — мы в ближайшее время рассмотрим вопрос о рыбопропускных сооружениях на плотинах, заведем свою рыбохозяйственную гидроавиацию и будем п-перебрасывать п-производителей на самолетах… Около п-плотины мы построим одну рыбоводную станцию, в д-дельте — вторую… Установим тысячи аппаратов и начнем инкубировать миллиарды икринок. Соорудим д-десятки выростных прудов и организуем свои рыбхозы. Все это в наших руках, а п-правительство пойдет нам навстречу и даст все, что нужно.
В темноте лениво зудели комары. Сидевшие вокруг крыльца люди слушали стариковский голос Щетинина, старались представить то, что будет на реке, но представить это было очень трудно, потому что никто не знал, как можно пересилить природу, поломать установленные веками законы рыбного хозяйства и построить его по- новому.
Кое-кому казалось, что это новое не пойдет дальше разговоров и совещаний, но оно властно заявляло о себе караванами загруженных лесом барж, брезентовыми палатками появившихся на займище гидротехников, деревянными бараками, которые выросли на среднем участке реки, строительством рыбоводного завода в Голубовской — всем тем, что пришло в станицу после войны и потребовало беспокойства, внимания и заботы.
Почти все рыбаки начали понимать, что старому приходит конец и что надо искать пути к новому. Но были в станице и такие, как Егор Талалаев, который привык к легкой наживе на реке и не хотел думать ни о чем.
Ночная удача на излучине окрылила Егора: рыбу, которую он поймал, Анисья частями увозила с хутора Атаманского в город и продавала на базаре. На вырученные ею деньги Егор справил себе кожаное пальто и сапоги, а рыжий Трифон купил баян и заказал в городском ателье модный, цвета беж, костюм. Анисье за ее хлопоты Егор подарил пятьсот рублей, и она купила шелку на платье и прозрачные, «стеклянные» чулки, которые и надевала по воскресеньям.
После такой удачи Егор Талалаев решил повторись лов и выпросил у начальника шлюза быков, якобы для того, чтобы перевезти оставшееся на займище сено. Трифон обратился с такой же просьбой к заведующему сельпо, и тот разрешил взять пару быков и арбу. Парни сговорились ловить в ночь под воскресенье, зная, что молодежь по субботам смотрит в клубе кино, а старики пораньше укладываются спать.
Егор предпринял попытку привлечь к лову Пимена Гавриловича, но тот, к удивлению племянника, не только наотрез отказался ехать на Лучковую, но и сказал с явной угрозой в голосе:
— Гляди, дружок, ты до чего-нибудь доскачешься. Зачнешь тогда локти себе кусать, да поздно будет!
— Ничего мне не будет до самой смерти! — тряхнул головой Егор.
— Ну, гляди, гляди…
— А чего?
— Ничего, — отрезал Пимен Гаврилович. — Ты знаешь, кто до Зубова в помощники идет заместо Прохорова?
— Кто же?
— Этот, брат, не станет ушами хлопать, как Иван Никанорыч. Он день и ночь на реке пропадает и живет в лесу.
— Да кто ж такой? — насторожился Егор.
— Тезка твой, Егор Иванович, охотник.
— Правда?
Пимен Гаврилович пожал плечами:
— Разговор такой по станице идет, будто Зубов до себя Егора Иваныча приглашает и Егор вроде согласие дает. «Я, говорит, этих голубовских волчков, как клопов поганых, в два счета выведу…»
Поглядывая на примолкшего племянника, Пимен Гаврилович сказал строго:
— Такой на самом деле спуску не даст. Он ведь каждый кустик тут знает, каждую косу на реке. От него не схоронишься. На войне он первым снайпером был и в разведку, говорят, ходил в самое пекло.
Помолчав немного, Пимен Гаврилович счел нужным добавить:
— А тебе, племяш, давно пора за ум взяться. Дюже уж ты разболтанный стал. Это до добра не доведет. И рыжий твой такой же. У него только девки да водка в голове.
— Ладно, дядя Пиша, — сухо сказал Егор, — я сам себе хозяин.
После встречи с Пименом Гавриловичем у Егора шевельнулась мысль о том, что предприятие на Лучковой тоне может закончиться плохо, но он был настолько уверен в себе, что решил не поддаваться беспокойной мысли.
Егор Талалаев не знал только одного: в пятницу его двоюродная сестра Анисья, угощая у себя на хуторе лесника Антона Белявского, Тосиного брата, проговорилась о том, что парни здорово подработали на рыбе и снова собираются ловить. Анисья была пьяна и рассказала веселому Антону, как Егор и его подручные сыпанули на излучине и как ей, Анисье, пришлось неделю подряд продавать в городе рыбу. Антон, не придавая этому большого значения, при встрече с Тосей похвастался тем, что Анисья угощала его портвейном, и не счел нужным скрывать от сестры, откуда Талалаевы добыли деньги. В тот же день, то есть в субботу, Тося рассказала об этом Зубову и сообщила, что в ночь под воскресенье на излучине готовится очередной браконьерский лов.
— Хорошо, — сказал Зубов, — на этот раз они от меня не уйдут.
— Глядите, Василь Кириллыч — предупредила Тося — брат говорит, что они берут с собой на баркас железные занозы от ярма.
— Ну и что? — спросил Василий.
— Как бы у вас там чего-нибудь худого не получилось, — заволновалась девушка. — Вы хоть людей побольше возьмите с собой. Вы ж знаете Егора — ему море по колено.
Василий внимательно посмотрел на Тосю.
— Ладно, Тосенька, — сказал он, — волков бояться — в лес не ходить. Вы только никому не говорите о нашем разговоре, а то ваши подруги растрезвонят это на всю станицу.
— Я никому не скажу, — пообещала Тося.
Когда она ушла, Зубов в раздражении прошелся по комнате. Вокруг горячего стекла коптящей лампы вились легкие бабочки, Витька постукивал в соседней комнате молотком. На подоконнике, сладко потягиваясь, мурлыкал рябой кот.
Василий открыл дверь и сказал Витьке:
— Сбегай, Витя, к мотористу и к Егору Ивановичу, пусть оба они сейчас придут сюда. Скажи — срочное, мол, дело и инспектор просит не задерживаться.
— А чего? Волчков ловить поедете?
— Каких там волчков! — с деланным равнодушием махнул рукой Зубов. — Мотор у нас в лодке барахлит, надо разобрать и поршни проверить.
Пока Витька бегал за Яшей и Егором Ивановичем, Зубов сидел у стола, положив голову на руки.
— Ах, сволочи! — сказал он в сердцах. — Ну, ничего, я у вас отобью охоту к грабежу, вы у меня сегодня попляшете!
Между тем Егор и Трифон, не зная о нависшей над ними угрозе, сидели у Анисьи на хуторе Атаманском и дожидались темноты. Поглядывая в окно на жующих сено быков, Егор молча пил водку и слушал, как Трифон поет под баян бесконечную песню про умершего в море кочегара.
О своей беседе с Антоном Белявским Анисья не сказала Егору, так как успела забыть о ней и не считала ее важной.
3
Тося Белявская тоже не сдержала слова, данного Зубову. Антон рассказал ей, что Егор и Трифон часто пьянствуют на хуторе Атаманском, и она, зная горячность Зубова, испугалась того, что он встретит яростное сопротивление пьяных парней. Не зная, как предотвратить неминуемую стычку на излучине, Тося побежала к Груне Прохоровой и, волнуясь, стала говорить о поездке Василия.
— Знаешь, Грунечка, — торопясь и глотая слова, сказала Тося, — я боюсь за Василия Кирилловича. Егор давно уже хвалился, что расправится с ним. Нужно что-то сделать, Грунечка, а то там получится такое…
— Они еще не уехали? — бледнея, спросила Груня.
— Кажись, уехали, только в другую сторону, куда-то за шлюз.
— Чего ж мы будем делать? — заволновалась Груня.
— Может, сбегаем до Архипа Ивановича?
— Его нет дома, они с Мосоловым в сетчиковой бригаде.
— Давай, Грунечка, возьмем в правлении дрожки и поедем туда!
— Куда?
— До Архипа Ивановича.
Едва успев накинуть на себя платок, Груня выбежала вслед за Тосей, и обе они прямо по огородам побежали к правлению. Растормошив дремавшего на лавке завхоза, они потребовали коня, запрягли его в дрожки и помчались на озера, где работала сетчиковая бригада деда Малявочки.
Опасения девушек были не напрасны. Собравшиеся у Анисьи парни к полуночи перепились и, еще не выезжая на лов, стали бахвалиться своей силой, ловкостью и молодечеством.
Слушая пьяное хвастовство брата и Егора, Семка Жучков только улыбался. На его глуповатом, заросшем отроческим пушком лице застыло выражение блаженной лени. Он не вмешивался ни в какие разговоры, за весь вечер не сказал ни слова и, умильно поглядывая на вспотевшую Анисью, отпивал из стакана смешанное с водкой мутноватое молодое вино.
— А ты чего молчишь, Семушка? — подмигивая Егору, спросила Анисья. — Иль ты только пить умеешь?
Пухлые щеки Семки зарозовели, он смущенно отодвинулся от пышущей жаром женщины и пробубнил невнятно:
— Мне чего? Мне чего скажут, я то и делаю…
Было уже близко к полуночи, когда Егор, ненадолго выйдя из хаты, вернулся и сказал коротко:
— Пора!
Проходя через темные сенцы, Егор нащупал в углу железный ломик, которым зимой сбивают лед на крыльце, и, потянув за рукав идущего впереди Семку, спросил шепотом:
— Инспектора Зубова знаешь?
— Который на моторке ездит? — обернулся Семка.
— Во-во!
— Знаю.
— Он-то и есть самая первая сволочь, — дыша в лицо Семке водочным перегаром, зашептал Егор. — Так гляди: ежели чего — задержи его, а то и приласкай маленько…
Ничего не ответив, Семка молча взял из рук Егора ломик и пошел вслед за другими к излучине. Когда Трифон разулся в темноте и, подвернув штаны, полез на баркас, Егор шепнул ему:
— Нехай Семка останется на берегу, а то ненароком кого-нибудь черт поднесет…
— Нехай останется.
Оттолкнув баркас от берега, Трифон с Егором начали выметывать невод. Семка постоял, послушал тихое плескание воды, потом отошел в сторону и уселся под вербой, не выпуская из рук потеплевший от ладоней ломик.
В это самое время, обойдя за огородами хутор Атаманский, Василий Зубов по вытоптанной скотом прибрежной тропке пробирался к излучине. На тоне Таловой он усадил в лодку Егора Ивановича, приказал Яше тихонько, не запуская мотора, на веслах идти вниз по реке, а сам, справедливо полагая, что браконьеры в случае опасности кинутся к левому берегу, пошел пешком, чтобы встретить их баркас.
Проплутав среди заросших лебедой бахчей, Василий выбрался на песчаную косу, остановился и услышал шум весел. Браконьерский баркас, уже освобожденный от невода, подходил к берегу. В десяти шагах от Василия стояли две пары быков, возле которых крутился их погоныч, невысокий парнишка в белеющей в темноте рубашке…
Дремавший под кустом Семка еще не замечал Зубова, хотя каждую секунду, отгоняя дремоту, протирал глаза и всматривался в темноту. Зубов тоже не заметил Семку, так как все свое внимание обратил на подплывающий к берегу баркас.
Баркас еще не успел коснуться прибрежного песка, как вдруг в темноте вспыхнул прожектор и раздался совсем близкий стук лодочного мотора. Голубоватый луч прожектора подвинулся от фарватера к мелководью и осветил сбившихся на носу баркаса парней. Только на одно мгновение резкая полоса света выхватила из темноты второй баркас, который, повинуясь бешено работающим гребцам, пересекал фарватер, устремляясь к берегу.
Если бы Егор Талалаев обратил внимание на этот второй баркас, он увидел бы в нем Антропова, Мосолова, Груню, Тосю Белявскую и двух молодых ловцов сетчиковой бригады. Но ни Егор, ни Трофим не видели этого баркаса, потому что смотрели на подлетавшую слева моторную лодку, с которой раздался голос Егора Ивановича:
— Сто-ой!
Соскочив на берег, парни бросились к лесу, но им пересек дорогу Зубов.
— Стой, ни с места! — закричал он, бросаясь к бегущему впереди Трифону.
В эту секунду Семка, с которым поравнялся Зубов, выскочил из-за деревьев и, разинув рот, застыл с ломом в руке. Василий мгновенно вышиб у него лом и ухватил его за пояс.
— Подожди, не торопись, — сказал Василий, — иди сюда.
— Завертай быков и жарь в лес! — заорал Егор.
Парни кинулись вправо, но перед ними вдруг выросла освещенная прожектором коренастая фигура Антропова. Сунув за ремень сжатые кулаки, широко расставив ноги, Архип Иванович стоял на узкой тропинке, и за его спиной Егор увидел фигуры ловцов.
— Ну, здорово, Талалаев! — сквозь зубы сказал Архип Иванович. — Теперь уже бежать некуда, теперь вы со мной встретились, а ты, кажись, меня знаешь…
Парни исподлобья поглядывали то на Антропова, то на Василия, возле которого, подняв с земли лом, стоял оробевший Семка.
Не вынимая из-за пояса сжатых кулаков, Архип Иванович повернулся к парням и бросил коротко:
— Ну что ж, сидайте в баркас.
Молодой ловец принял из рук дрожащего парнишки налыгач и погнал быков вдоль берега. Окруженные рыбаками, браконьеры, понуро опустив головы, полезли в баркас.
— Сдайте их в сельский Совет, — сказал Архип Иванович, — и пришлите со второй бригады людей, нехай вытянут невод…
Невидимый невод покачивался в черной реке, и взбаламученная вода плескалась, набегая на истоптанный, похолодевший за ночь песок.
4
Когда с деревьев осыпались листья и садоводы стали зарывать в землю виноградные лозы, над станицей полетели дикие гуси. Им предстояло совершить далекий, трудный путь, и летели они неторопливо, выдерживая ровный строй — птица за птицей и стая за стаей. Утром и днем в холодноватой чистой синеве неба видны были темные точки улетавших на юг гусиных стай и слышалось звонкое гоготанье — перекличка в пути. Иногда порыв встречного ветра сбивал летящих сзади молодых гусей, они ломали линию строя, тревожно кружились над степью, и старый вожак, замедлив размеренный лет, звал их резким гортанным криком. Они возвращались на свои места, и стая летела дальше и дальше, в подернутую белой дымкой синеву.
И все же, бывало, на озере или где-нибудь на мелководье степного ерика оставалась обессилевшая старая гусыня. Ей уже трудно было поспеть за стаей, и она летела одна, часто опускаясь на землю и отдыхая от полета…
Заболоченные берега ерика были испещрены засохшими, как камень, следами воловьих и конских копыт. Тихонько покачивались поломанные стебли бурого камыша. Отражая холодное солнце, чуть рябила под ветром прозрачная вода, и вокруг стоял горький запах осыпающейся полыни.
По длинному ерику плавали юркие нырки, на излучинах, у берега, бродили по болоту тонконогие кулики-поручейники, и одинокая гусыня казалась им великаном. Она долго сидела, покачиваясь на воде, всматривалась, вытянув шею, в пустынную синь неба и, вдруг услышав далекий клич невидимых гусиных стай, разбегалась, тяжело хлопала крыльями и взлетала, роняя капли воды. Под ней, однообразно бурая, по-осеннему тусклая, проносилась земля, на которой мелькали отбрасывающие тень высокие скирды соломы, темные квадраты зяби, серые ленты проселочных дорог, станицы и хутора.
Гусыня летела все дальше на юг, ее обгоняли чужие стаи. Проводив их коротким криком, она тщетно всматривалась в повитое дымкой поднебесье и упрямо продолжала трудный полет…
— Ничего, долетит, — следя за гусыней, говорил Щетинину Егор Иванович, — а ежели своих не найдет, то до чужих пристанет…
С наступлением осени Егор Иванович все чаще уходил с профессором Щетининым на берег и подолгу сидел с ним, рассказывая о своей жизни.
За последние недели до Голубовской дошли сведения об отдельных экземплярах меченых белуг, причем в этих сведениях не было ничего утешительного.
Одну мертвую белугу нашел выше плотины бакенщик Анисим. Ее прибило к камышам, и когда Анисим тронул веслом огромную рыбу, он увидел, что ее брюхо изранено чем-то острым. Бакенщик снял с белуги латунный ярлык и принес его Щетинину.
— Вот, товарищ профессор, — сказал Анисим, — с вашей рыбы снял, она лежит снулая в устье Дона…
Щетинин молча взял ярлык, повертел его между пальцами, поговорил с бакенщиком, потом вынул записную книжку и записал: «Белуга № 54. Самка. Снулая. Икра слабая…»
Через два дня лесник Антон Белявский, проверяя тополевый участок на Чебачьем острове, увидел на песчаной косе белужью голову. Присев на корточки, он долго осматривал песок, потом снял с белуги ярлык и пробормотал:
— Должно быть, волной выкинуло на берег, а лесное зверье растащило рыбину по кускам…
И опять в книжечке Щетинина появилась лаконическая запись:
«Голова меченой белуги-самки № 84 обнаружена на косе у Чебачьего острова».
Еще через три дня от районного инспектора рыболовного надзора в адрес профессора пришла телеграмма: «Возле станицы Багаевской рыбаками найдена снулая белуга № 61 точка Направляю акт осмотра и ярлык…»
Старые голубовские рыбаки знали, что Щетинина очень тревожит судьба переброшенных за плотину белуг. Увидев сидящего на берегу профессора, рыбаки подходили к нему, степенно здоровались и осторожно спрашивали:
— Ну, товарищ профессор, как же оно будет с нашей белугой?
Щетинин хмурился, поглядывал на реку и отвечал:
— Надо ждать…
— А чего ждать-то? — пожимал плечами дед Малявочка. — По всему видно, что дела с белугой неважные…
Губы профессора подергивались, и он раздраженно бормотал:
— Надо иметь терпение. Цыплят п-по осени считают. Б-будем ждать… П-пять или шесть мертвых белуг еще не решают проблемы…
Когда же рыбаки расходились и рядом оставался только Егор Иванович, лицо профессора мрачнело, и он размышлял вслух:
— Река — не лабораторный стол. Это в лаборатории можно сразу видеть результат опыта. И все же идея пересадки п-производителей-белуг за плотину, безусловно, правильна. Только маловеры могут это отрицать…
До Щетинина дошли слухи, что кое-кто из его коллег пытается опорочить работу экспедиции, но он не обращал на это никакого внимания и только с каждым днем становился все более сердитым и раздражительным.
В таком настроении его и застал однажды на берегу Кузьма Федорович Мосолов. Он подошел к профессору, вежливо поздоровался, присел сбоку на перевернутой лодке и сообщил Щетинину последнюю станичную новость:
— Вчерась в районе крутьков наших судили.
— Каких крутьков? — буркнул Щетинин, недовольный тем, что председатель прервал его размышления.
— Егора Талалаева и продавца Тришку. Их инспектор поймал на Лучковой тоне.
— Ну и что?
— Оба получили по заслугам. Егор, как заводила, — лишение свободы, а Тришка — принудительные работы.
— Так им и надо, — поморщился Щетинин.
Заметив состояние профессора, Кузьма Федорович осведомился деликатно:
— А вы, Илья Афанасьевич, все про своих белуг думаете?
— Не про моих, а про ваших белуг думаю, — сердито поправил Щетинин, — и вам советую ч-чаще о них думать.
Кузьма Федорович смущенно пожал плечами:
— А что? Я в этом деле мало разбираюсь.
— Надо разбираться.
— Известно, надо. Только для меня это нелегко.
Щетинин усталым движением поднял на лоб очки и сказал неожиданно:
— А вы думаете, для меня легко? — Он охватил руками колени и задумался. — Для меня, друг мой, еще тяжелее.
— Почему же?
— Потому, что хочется скорее увидеть результат, а это пока невозможно… П-потому, что глупые и скучные маловеры сомневаются в целесообразности нашей работы и предпочитают стоять в сторонке… П-потому, наконец, что белугу надо спасти от гибели, а мне до сих пор не ясно, как это сделать…
— Когда же можно видеть результаты пересадки? — осторожно спросил Мосолов.
— Не раньше весны. А может, и позже. Сейчас пересаженная нами белуга гуляет где-то выше плотины… Мертвые экземпляры не в счет, меня интересуют живые: как они ведут себя, добрались ли до своих нерестилищ, выметали они икру или нет? Все это надо знать.
— А можно?
— Можно, — убежденно сказал Щетинин.
— Как же?
— Б-белуга, которую мы пересадили за плотину, принадлежит к так называемой озимой расе. Она идет к нерестилищам не весной, а летом и осенью. Поднявшись вверх, эта белуга залегает на зимовку в ямы, а икру выметывает только следующей весной. 3-значит, нам надо ждать весны.
— А потом?
— А потом б-будет видно. После нереста выбившие икру самки начинают скатываться обратно в море. Если рыбаки поймают весной меченных нами белуг и у этих белуг икра окажется выметанной, значит, наш опыт удался.
— Д-да, — вздохнул Кузьма Федорович, — хитрая штука…
Он с нескрываемым восхищением посмотрел на сутуловатую фигуру профессора и спросил:
— Скажите, Илья Афанасьевич, почему же, если эта самая белуга — такая важная для нас рыба, никто, окромя вас, ею не занимается?
— Как это «не занимается»? — поднял брови Щетинин. — Белугой занимается много людей. В низовьях на рыбоводном пункте и сейчас работает одна наша сотрудница. В Москве, в научно-исследовательских институтах, многие ученые заняты белугой.
— И результат есть? — заинтересовался Кузьма Федорович.
— Есть и результат, вернее, намечается, — задумчиво сказал Щетинин. — Одна московская аспирантка успешно работает над искусственным разведением и выращиванием белужьей молоди. Другие изучают проблему кормовой базы для белуги. Третьи уже думают о яровизации озимой расы белуги п-по методу академика Лысенко, который дал в своих трудах замечательные установки на примере пшеницы и картофеля…
Щетинин повернулся к Мосолову, и впервые улыбка осветила его хмурое лицо:
— Так что, товарищ Мосолов, я работаю не один… Именно потому у нас не может быть неудач… Мы работаем коллективно, и в этом наша сила. Кроме того, государство отпускает нам средства, которые обеспечивают безусловный успех любого п-полезного для народа начинания…
— Да, — поднялся Кузьма Федорович, — это я понимаю.
Он пожал профессору руку и сказал добродушно:
— Ну дак что ж… Будем ждать…
Возвращаясь в станицу, Кузьма Федорович вспоминал разговор с профессором и думал: «Старик правильно говорит. Ежели у нас еще попадаются маловеры, то не в них суть дела. Они своими глупостями нас не остановят…»
Думая об этом, Кузьма Федорович забывал, что еще недавно ему самому многое было совсем не так ясно, как теперь. Незаметно для себя Кузьма Федорович сильно изменился за последнее время. Беседы с Назаровым и Антроповым, знакомство с профессором Щетининым, даже стычки с Зубовым заставили его многое передумать. Он понял, что на старых методах хозяйничанья далеко не уедешь и что ему, председателю рыбколхоза, надо вести людей к тому новому, что уже на деле изменяло устаревшие основы рыбного промысла и постепенно превращало этот промысел в сложное, отлично механизированное хозяйство.
«Да, — думал Кузьма Федорович, — что ни говори, а надо учиться. Одного замета невода да умения выбрать рыбу из реки становится маловато».
Так он думал, но все же в нем еще жила успокоительная мысль: «Конечно, надо учиться, но лов рыбы для колхоза важнее, чем всякие там переброски или спасение молоди… И то важно, ничего не скажешь, а лов все ж таки важнее…»
Как Кузьма Федорович ни пытался понять связь между работой Щетинина и сегодняшним планом лова рыбы, у него ничего не получалось, и он уверял себя: «И то важно и другое, а добыча на тоне — это самое важное…»
Возле правления он встретил Зубова. Тот бежал с ящиком гвоздей в руках, и лицо его выражало радостную озабоченность.
— Здорово, Кириллыч! — окликнул его Мосолов. — Погоди-ка маленько.
Зубов остановился.
— Куда это ты с гвоздями?
— Сегодня начинаю дом свой устанавливать, — сообщил Василий. — Вчера вечером сельсовет выделил для рыбнадзора участок, мы и взялись за работу.
— А где ж участок получил? — спросил Кузьма Федорович.
— Там, где и просил, на острове, поближе к Заманухе, чтобы из окна самые рыбные места видны были.
— Хитер, хитер, — усмехнулся Мосолов, — а только теперь это тебе ни к чему.
— Как так — ни к чему? — удивился Василий.
— Ну как же! Главный волчок, Жорка Талалаев, выбыл из строя, а рыжего тоже на канал куда-то отправили. Кто ж теперь будет рыбу ловить? Дед Малявочка, что ли?
Василий посмотрел на Мосолова и засмеялся:
— Почему же обязательно дед Малявочка? Мне рассказывали, что в прошлом году председатель рыбколхоза Кузьма Федорович Мосолов, по договоренности с инспектором, довольно успешно облавливал запретную зону двумя бригадами…
Кузьма Федорович смущенно махнул рукой:
— Ну да что ж? Был такой случай, не отрицаю. Только это — совсем другое дело. Мосолов лично для себя не брал и не возьмет даже самого завалящего ласкиря. Он облавливал твою зону для государства и всю рыбу сдавал государству…
— Я знаю, — перебил Зубов, — но этого, Кузьма Федорович, больше не будет, потому что это не польза, а вред государству…
— Ладно, ладно…
Мосолов тронул Василия за плечо и сказал примирительно:
— Знаешь, Кириллыч, кто старое помянет, тому глаз вон. Такого облова больше не будет, потому что и рыбаки и председатель рыбколхоза начинают понимать, что к чему… Я вот беседовал сейчас с нашим профессором, про белугу его расспрашивал, и он так интересно рассказывал, что я бы до вечера слушал…
Заметив, что Зубов уже раза три взглянул на часы, Кузьма Федорович виновато усмехнулся:
— Ну ладно, неси, Кириллыч, свои гвозди. Только не забудь председателя на новоселье позвать.
— А как же? Обязательно позову, — пообещал Василий.
Он простился с Мосоловым и, придерживая тяжелый ящик, пошел на участок, где уже собирали присланный Рыбводом домик. Участок был расположен на южной стороне острова, среди леса, у самой реки. Старые тополя и густые заросли вербы отлично защищали это место от холодных северных ветров, и — самое главное — отсюда просматривались все запретные зоны, за которыми должен был следить инспектор.
По просьбе Зубова домик ставил лучший голубовский плотник Никита Иванович, суровый, неразговорчивый старик, которого знала вся округа. До войны Никита Иванович работал в плотницкой бригаде рыбколхоза, но однажды обиделся на председателя и после возвращения из эвакуации перешел в полеводческий колхоз к Бугрову.
— Раз люди красоты не понимают, значит, мне с ними не работать, — упрямо сказал старик, — а рыбацкому председателю что шкафчик для книг, что свиное корыто — одинаково.
Среднего роста, сутуловатый, с угрюмым и строгим лицом, с жесткими, коротко подстриженными усами, Никита Иванович тотчас обращал на себя внимание неторопливой походкой знающего себе цену человека и испытующим взглядом серых, с тяжелыми веками глаз.
Когда Зубов обратился в правление рыбколхоза с просьбой выделить плотника, который смог бы разобраться в конструкции разборного дома и поставить его на участке, Антропов посмотрел на Мосолова и сказал:
— Придется просить Никиту Ивановича.
— Разве наши не сделают? — спросил Мосолов.
— Куда там нашим! — махнул рукой Антропов. — Я глядел чертеж этого дома. В нем три комнаты, кухня, веранда, всякие кладовочки, умывальники, ванна. Там одних труб метров сто будет, да с десяток ящиков с разными скобками, болтами, шурупами, планками, крючками. Кто ж, кроме Никиты Ивановича, разберет всю эту музыку?
— А что Никита Иванович, хороший мастер? — поинтересовался Зубов.
Антропов оживился:
— Хороший? Это, брат, Василий Кириллыч, не мастер, а бог плотницкого дела. Он еще в старое время по станицам дома строил, и вы поглядите, какие дома! Каждый красуется, как картина на выставке: карнизы, крыльца, наличники на дверях, на окнах, ставни — все резное и все будто из самого тонкого кружева вывязано. А ведь Никита Иванович все это своим инструментом делал, вручную.
— На днях он мне показывал токарный станок, — вмешался Мосолов, — для колхозной мастерской сделал.
— Сам?
— Сам. Нашел старое колесо от лобогрейки, штук пять дубовых бревен да пару ремней. А вы полюбуйтесь, что он из этого сделал! Не станок, а игрушка. Тронешь ногой педаль — и что тебе угодно выточишь, лишь бы руки были умелые…
— А за что он на рыбколхоз обиделся? — спросил Зубов.
— Председатель его обидел, — усмехнулся Мосолов.
— Вы, что ли?
— Нет, до войны тут был другой председатель. Никита Иванович соорудил тогда для колхозного клуба стол. Чуть ли не год его делал. Говорят, не стол был, а чудо. Председатель возьми и отдай кому-то этот стол. В район или область отвез, кому — не знаю. Ну, а Никита — старик норовистый. «Ах, так, говорит, я стол для трудящихся рыбаков мастерил, а ты им, как своей собственностью, распорядился, Ты, говорит, не председатель, а…» Не знаю, как он его там назвал, а только поссорились они. Вскоре война началась, эвакуация, и старик перешел в полеводческий колхоз.
Когда Зубов попросил Никиту Ивановича поставить на острове привезенный из города разборный дом, старый плотник внимательно посмотрел на него и сказал отрывисто:
— Ладно, поставим…
И как только на участке закипела работа, Василий каждое утро ходил туда и любовался Никитой Ивановичем. У этого человека были волшебные руки: все, к чему прикасались его жесткие, натруженные пальцы, сразу как будто оживало; из-под рубанка с легким посвистыванием вылетала тончайшая, пахнущая сосной стружка; острый топор вытесывал столб так ровно и точно, что все его грани можно было измерять сантиметром; любой гвоздь, даже самый ржавый и тонкий, входил в дерево после двух-трех ударов молотка.
Никита Иванович почти никогда не разговаривал. Слегка сутулясь и расставив ноги, он стоял у самодельного, наскоро сколоченного из досок верстака и работал молча, сосредоточенно и даже угрюмо.
Он только изредка бросал помогавшему ему молодому плотнику:
— Гвозди!
— Фуганок!
— Отвертку!
— Молоток!
Зубов заметил, что старый мастер не выносит плохо выполненной работы и по десять раз переделывает то, что ему не нравится. Казалось бы, петля сидит на двери безукоризненно. А он прикоснется к ней угольником, сморщится и начнет отвинчивать все шурупы, чтобы сделать по-своему. Любой выбитый из доски сучок, чуть-чуть косо посаженный гвоздь, зазубрина на пиле или шероховатость на буковой планке — все приводило Никиту Ивановича в состояние тихого, молчаливого бешенства. Он мрачнел и, стиснув зубы, подтачивал, подстругивал, переделывал — и все это молча, без единого слова, упрямо и настойчиво.
Зато как только нужная деталь укладывалась на место или доска после фуганка становилась зеркально гладкой, Никита Иванович светлел. Он и в этих случаях не произносил ни одного слова, только щурил левый глаз и, осмотрев какую-нибудь на диво выстроганную планку, облегченно вздыхал и ласково поглаживал пальцами усмиренное, неподвижное, еще теплое от трудной работы дерево.
Василий часами наблюдал за стариком, видел, как быстро и ладно вырастают стены уютного, светлого дома, и говорил восхищенно:
— Золотые руки!
«Так настоящий человек должен относиться к своему делу, — думал Василий. — Он должен уметь трудиться самоотверженно, красиво, наслаждаясь даже самой тяжелой работой. Он обязан все задуманное им доводить до конца, причем делать это так, чтобы сам он был доволен и совесть не могла упрекнуть его ни в чем…»
Думая о Никите Ивановиче, любуясь его руками, Зубов спрашивал себя: «А я так могу?» — и со стыдом признавался себе, что еще не может так работать, что ему не хватает выдержки, опыта, настойчивости.
«Нет, нет, еще до этого далеко, — думал Василий, — мне еще многого не хватает. Я тороплюсь, уступаю своей нетребовательности, горячусь. Так нельзя. Надо научиться побеждать в большом и в малом…»
Однажды на участок, где строился инспекторский дом, забрел Пимен Талалаев. Сторонясь людей, он отлеживался в балагане у паромщика и, изнывая от тоски и скуки, решил побродить по острову. Увидев, что Никита Иванович работает один, Пимен подошел к нему и молча присел на штабель досок.
— Мастеруем? — равнодушно кивнул он.
Старый плотник угрюмо посмотрел на него из-под козырька полинялой фуражки и ничего не сказал.
— О-хо-хо! — вздохнул Пимен. — А я вот места себе не нахожу, ослаб вовсе… ноги, можно сказать, отнялись.
— Голова у тебя, дурака, отнялась, — буркнул Никита Иванович.
Пимен удивленно посмотрел на него:
— Чего ты?
— Ничего…
Никита Иванович и Пимен Талалаев жили по соседству и хорошо знали друг друга, хотя в последние годы встречались редко, так как старик плотник работал в колхозной мастерской, а Пимен днем и ночью крутился на реке.
— Не, ты все ж таки скажи, — настойчиво повторил Пимен.
Фуганок летал в жилистых руках плотника, на землю атласными завитками сыпались сосновые стружки.
— Чего там говорить, — отмахнулся Никита Иванович, — одно слово тебе скажу: дурак…
Пимен промолчал. Там, в полутемном балагане деда Авдея, он уже не раз, проснувшись на пахнущих гнильем нарах, кряхтел, вздыхал, сплевывал на земляной пол горькую от махорочных корешков слюну и проклинал себя, сам не зная за что. Он все еще считал себя правым, ненавидел Зубова, Антропова, Мосолова, Груню, Степана Худякова, всех ловцов своей бригады, каждого, кто, по его мнению, в подметки ему не годился, но работал, в то время как он, опытный рыбак, мертвяком лежал в балагане.
Уже много ночей подряд, поворочавшись на нарах, он выходил на берег, молча слушал мерное поскрипывание уключин на рыбацких каюках, жадно вдыхал запах свежей рыбы и, опустив лысеющую крепкую голову, нудно ругался и до рассвета бродил по влажному, упругому песку, напряженно думая о том непонятном, что с ним произошло…
— Не, ты все ж таки скажи, — с упрямой злобой повторил он, поглядывая на Никиту Ивановича, — за что меня дураком обозвал?
Отложив очищенную доску, Никита Иванович погладил ее ладонью, быстро спилив края, приметал к подоконнику и наложил на него старенький плотницкий уровень. Подвижное пятнышко воздуха в уровне, поколебавшись, легло точно между двумя черточками в стеклянной трубке.
Никита Иванович исподлобья посмотрел на Пимена:
— Вот… Видал ты такой инструмент? Называется уровень. Им, этим инструментом, мастер ровность определяет. Ежели же, скажем, дерево не станет ровно, а кособочит — мастер его подпиливает, стесывает, молотком подбивает, чтобы оно не кривуляло и красоты строения не паскудило…
— Чего ты мне басни рассказываешь? — мрачно усмехнулся Пимен. — Я сам этот уровень сто раз в руках держал.
Старик присел на штабель рядом и заговорил, строго и сумрачно глядя в глаза Талалаеву:
— Так вот, имей в виду, Пимен Гаврилов, так оно и с тобой получилось… Люди до твоей личности такой же невидимый уровень приложили, и ты им отразу всю свою кособокость показал: куда ты хитнулся и сколько на тебе корявых сучков понатыкано… Сдумали они тебя маленько подправить, людскую ровность тебе придать, а ты, как дурной пень, корневищем своим уперся, будто бог тебя от твоего рождения косо прибил, да еще здоровенными ржавыми гвоздищами… Ну, чего ж было с тобой делать? Взяли тогда топор, лом под тебя подложили и рванули со всеми твоими сучками, чтоб ты, значит, красоты нового строения не паскудил… Так и оказалось, что ты кругом как есть дурак. И нечего тебе жалиться на кого-то. Жалься теперь на себя, потому что ты косой и неправильный человек.
Пимен ошеломленно отодвинулся от старика и диковато взглянул на его строгое, старчески чистое лицо.
— Это как же понимать надо? — пробормотал он.
— Вот так и понимай, как сказано, — отрезал Никита Иванович.
— А ты знаешь, что меня с бригадирства скинули, перебросили до баб в сетчиковую бригаду, а теперь и оттудова гонят?
— Кто ж тебя гонит?
— Все гонят. Ты, говорят, нам негож, потому что ты, дескать, хищник и симулянт. А я на ноги слабый стал и работать не сдюжаю. В нутре у меня болит, а они ничего не берут во внимание.
— Брешешь ты, Пишка, — сердито сказал плотник, — людей и себя обманываешь, воду каламутишь. Никакой в тебе болезни нет, и ты здоровей меня в сто раз. А на болезнь свою ты киваешь потому, что злоба на людей тебя точит и ум твой мутит. Ты, видать, думаешь, что все люди кривые, один ты ровный? Оно же, имей в виду, как раз обратно получается: рыбаки по новой, ровной дороге пошли, а ты все косыми тропками путляешь и выпрямить себя не хотишь…
Сунув руки в широкие раструбы валенок, Пимен потускнел и притих. В словах старого плотника он еще раз увидел ту жестокую правду, которая в последнее время выгоняла его по ночам из балагана и заставляла ходить взад и вперед по берегу, ревниво всматриваясь в мерцание недоступных рыбацких костров на Тополихе.
— Нет, Иваныч, — тоскливо вздохнул Пимен, — теперь уже мне поворота нема. Люди на меня озлобились и духа моего не выносят. Негодящий, говорят, человек. Степка Худяков от меня отказался, бабы в один голос требуют, чтоб правление выгнало меня из сетчиковой бригады, а Архип Антропов — тот и вовсе чертом глядит…
Приложив ладонь к глазам, Никита Иванович стал всматриваться в вербовые заросли:
— Вот он аккурат идет.
— Кто? — привстал Пимен.
— Архип Иванович.
Пимен хотел было скрыться. Не простившись с плотником, он заторопился, пошел по тропе к реке, но не успел уклониться от встречи с Антроповым. Тот, шелестя мокрыми штанинами и спущенными до земли голенищами резиновых сапог, шел к Никите Ивановичу и столкнулся с Пименом у ворот инспекторского дворика.
Загородив Пимену дорогу, Архип Иванович остановился.
Испытующе взглянув на заросшее щетиной, похудевшее лицо бывшего бригадира, Архип Иванович сказал сквозь зубы:
— Здорово, Талалаев.
— Здорово, — ответил Пимен, опуская голову.
— Чего ты? Болеешь все?
Пимен метнул на него взгляд исподлобья:
— Так… чего-то не сдюжаю…
— Угу…
Архип Иванович шагнул ближе:
— Вот чего. Сетчики требуют вовсе исключить тебя из колхоза. Завтра разбирать будем. Ни одна бригада не хочет тебя принимать.
Щеки Талалаева стали серыми. Пришло то, чего он боялся больше всего и чего не мог предотвратить, так как знал, что люди перестали ему верить и отказались от него.
Подняв помутневшие глаза, он растерянно спросил:
— А как же будет? Я ж того… пятьдесят годов на баркасе…
Архип Иванович положил ему па плечо тяжелую руку.
— Вот, Пимен Талалаев, — сказал он, — ты сам осудил себя… И все ж таки я… это самое… хочу спробовать последний раз…
И отрубил, приблизив к Пимену смуглое, твердое, как речной камень, лицо:
— Ежели дашь обещание… пойдешь в мою бригаду…,
Пимен медленно снял с плеча руку Антропова и, отворачиваясь, глухо сказал:
— Спасибо, Архип.
Никита Иванович не слышал, о чем они говорили, но, искоса следя за ними, видел, как они вместе пошли в станицу.
Он поднялся со штабеля, вздохнул и пробормотал, жмурясь от солнца:
— Видишь, как получается… Самое непотребное дерево можно поставить по уровню, ежели у мастера настоящая рука.
Дом на острове вырастал с каждым днем. Его поставили на высокие, двухметровые, сваи, накрыли белой этернитовой крышей, у переднего фасада пристроили застекленную веранду.
Когда все было закончено, Никита Иванович, собрав в корзину стружки, затопил маленькую кафельную печь, вышел во двор, полюбовался тающим над трубой облачком дыма и строго сказал Зубову:
— Готово жилище. Можно вести хозяйку.
— Какую хозяйку? — смутился Василий.
— А это уж я не знаю, — сухо сказал мастер, — только без хозяйки дом не дом…
Он аккуратно вложил в мешок инструменты, взвалил его на плечи и протянул Зубову большую, в ссадинах, руку:
— Прощевайте. Живите счастливо. А на новоселье меня покличьте…
Зубов остался один. В печке догорели и погасли стружки, белым налетом покрылся пепел.
Вертя в руках ключ, Василий походил по пустым, пахнущим скипидаром комнатам и остановился у окна.
Вечерело. На левом берегу реки, у парома, чернели подводы. Над синеватым лесом остро проблескивал тонкий серп месяца. Слева, у плотины, дожидаясь очереди, стоял на якоре двухпалубный пассажирский пароход. На излучине, отражаясь в спокойной воде, мерцали красные огоньки бакенов.
На мгновение Василий вдруг ощутил щемящее чувство одиночества.
«Как это сказал старик? Без хозяйки дом не дом…»
Весь вечер Зубов бродил по берегу. Слегка пригнувшись, он всматривался в темную гладь реки, слушал однообразный гул воды на плотине, курил, присев на холодный песок. Потом он замерз, побежал домой и, наскоро поужинав, сказал Марфе:
— Я скоро приду, вы дверь не закрывайте.
— Куда ж это вы так поздно? — усмехнулась Марфа.
— К Егору Ивановичу, — не думая, ответил Зубов.
Он накинул шинель и, не оглядываясь, пошел к Груне.
5
Ивана Никаноровича не было дома. Разложив на стульях стопки белья, Груня гладила. Между окнами, на фанерной подставочке, отбрасывая на скатерть желтый круг света, горела лампа. Груня набирала в рот воду, старательно опрыскивала чуть пересохшее белье и, тронув мокрым пальцем горячий утюг, разглаживала полотенца, наволочки, простыни, носовые платки.
У ног девушки с мурлыканьем терся толстый кот Бунька с ободранным носом. Груня поднимала утюг и, наклонившись, напевала Буньке что-то невнятное.
В окно негромко постучали.
— Кто там? — спросила Груня.
— Это я, — услышала она голос Зубова.
Груня кинулась к двери.
Зубов вошел в комнату, поздоровался, снял шинель и присел на стул.
— Ну, как живешь, Грунечка? — спросил он, не зная, с чего начать.
— Хорошо, Вася, — ответила девушка и засмеялась. — Вот глажу и пою песни Буньке.
Василий улыбнулся.
— А я по тебе соскучился.
— Правда?
— Честное слово. Мы ведь встречались вчера, а мне кажется, что я тебя год не видел.
Он поднялся, взял Грунину руку, повернул ладонью вверх и поцеловал.
— Пойдем погуляем, Грунюшка, — шепнул Василий, — мы давно уже не гуляли вместе.
— Пойдем, только надо отца подождать…
Не договорив, Груня вскрикнула и рванулась к столу.
— Что ты? — испугался он.
— Разве не видишь? Забыла утюг принять и сожгла наволочку…
Она убрала утюг на плиту, свернула прожженную наволочку и с видом заговорщицы сунула ее куда-то за книги.
— Отец идет, калитка стукнула.
В комнату вошел Иван Никанорович. Увидев Зубова, он вежливо поклонился, помыл на кухне руки и сказал дочери:
— Ну, хозяечка, чем ты меня сегодня кормить будешь?
— В духовке стоит обед, — весело ответила Груня, — сейчас подогрею.
Зубову показалось, что Иван Никанорович в последнее время как-то раздобрел, стал гораздо спокойнее и держался с достоинством, чего у него не было раньше. Даже в голосе его появились новые, гораздо более твердые и уверенные нотки.
— Вы, кажется, довольны, что перешли в рыбцех? — спросил Зубов.
Иван Никанорович аккуратно причесал тронутые сединой жидкие волосы.
— Как вам сказать, Василь Кириллыч, — задумчиво протянул он, — я не то что доволен, а, прямо сказать, человеком стал. Тут ведь совсем другая работа. Ни с кем не ругаешься, никого не обижаешь, и тебя никто не обижает. Стоишь себе возле весов, рыбу вешаешь да квитанции людям выписываешь. И людей кругом тебя много, и от непогоды ты укрыт. А вы ведь сами знаете, какое у меня здоровье.
— Вот видите, — улыбнулся Зубов, значит, я напрасно задерживал вас.
— Выходит, напрасно…
Груня подогрела обед, набросила на плечи жакетик и сказала отцу:
— Мы на минутку выйдем, батя…
Они вышли на улицу, но Груня не вернулась ни через минутку, ни через час.
Целую ночь бродили они по тихим улицам станицы, потом спустились к реке и долго сидели на опрокинутой лодке. От реки тянуло влажным холодом, и Груня призналась:
— Я замерзла, Вася…
Зубов снял шинель, укутал ее, усадил на колени и, прижав к себе, стал целовать…
Уже рассветало, когда они поднялись и пошли вдоль берега.
Было тихо. На мелких береговых лужицах серебрилась игольчатая кромка первого льда. Под ногами мягко шуршали отсыревшие за ночь, тронутые инеем листья. У причала, там, где стояли рыбацкие лодки, кто-то зажег костер, и оттуда вместе с дымом несся крепкий запах смолы.
Закуривая, Василий нечаянно вынул из кармана ключ, засмеялся и сказал, посмотрев на бледное Грунино лицо:
— Хочешь, Грунюшка, я покажу тебе свой дом?
— Разве его уже поставили? — удивилась Груня.
— Да, вчера закончили…
Они поднялись на крутой берег, свернули по тропинке в лес и вышли прямо к белеющему невдалеке домику.
В стеклах дома багряно светилась утренняя заря.
Василий замедлил шаги и протянул Груне ключ:
— Ну, дорогая хозяйка, входи…
— Что, не будем ждать зимы? — улыбнулась Груня.
— Зима уже пришла, — серьезно ответил Зубов, — только что мы видели первый лед.
…В этот день председатель сельсовета Жигаев зарегистрировал их брак, выдал им брачное свидетельство, поздравил и сказал шутливо:
— Как представитель власти, ставлю молодоженам условие: из станицы не уезжать и рыбаков наших не оставлять, иначе брак будет расторгнут.
— А мы не собираемся уезжать, — заверил его Зубов,
— Подождите, товарищ, не зарекайтесь, — поднял руку Жигаев.
— Почему?
— Сейчас объясню…
Председатель открыл ящик письменного стола и достал из папки зеленый листок бумаги.
— Вот. Вчерась нарочный из района привез телефонограмму. Не успели вам доставить. Можете читать.
Василий прочитал вслух:
«Участковый инспектор рыболовного надзора Зубов по распоряжению Главрыбвода с первого декабря отзывается в Москву на трехмесячные курсы. Участок временно сдать досмотрщику. Начальник Рыбвода Бардин».
— Как же это так? — испугалась Груня.
— Ничего, Грунечка, мы поедем в Москву вместе и вернемся, — сказал Василий. — Я попрошу Мосолова, и он тебя отпустит.
Сложив телефонограмму, Зубов сунул ее в карман и весело посмотрел на Жигаева:
— А насчет станицы, товарищ Жигаев, можете не беспокоиться. Через три месяца я вернусь, как говорится, к месту постоянной работы.
Зубов и Груня хотели незаметно перебраться в новый дом на острове и пожить там до отъезда в Москву, но против этого восстали Марфа и Иван Никанорович.
— Как же так незаметно? — сердито упрекнула Василия Марфа. — Люди на всю жизнь сходятся, значит, надо свадьбу сыграть как следует быть и новоселье справить. Мы уже тут толковали с Кузьмой Федоровичем. Грунечка ведь лучшая наша колхозница. Разве ж рыбаки допустят, чтоб она тайком замуж выходила? Это же обида для людей…
Смущенно улыбаясь, Василий с покорным видом слушал все, что говорила Марфа. Ему было неловко, он не хотел, чтобы вокруг него и Груни хлопотали люди, но все так радушно поздравляли его, так искренне и горячо желали счастья, что он в конце концов махнул рукой и сказал Марфе:
— Ладно, Марфа Пантелеевна, делайте, что хотите…
Несколько дней Василий и Груня жили как во сне.
Оба они вдруг увидели, что многие люди, не только те, которых они знали, но и почти незнакомые, относятся к ним с большой нежностью. Председатель полеводческого колхоза Бугров прислал им вина и вяленого винограда, Архип Иванович — бутыль медовой браги, Мосолов с женой — отличный свадебный пирог, Степан Худяков — рыбы какого-то особого засола. Егор Иванович передал Марфе, и та изжарила полтора десятка диких уток с яблоками и штук сорок куропаток. Тося и Ира помогали Груне шить платье. Дед Малявочка перевозил на остров вещи. Елена Макеева напекла гору сдобных пшеничных пышек.
Все эти дни Зубов почти не видел Груню. Он, как всегда, осматривал свой участок, разговаривал с людьми, то есть как будто делал все, что привык делать, но его ни на секунду не покидало радостное и непривычное ощущение чего-то неизведанно нового, праздничного и веселого.
Наконец Марфа объявила о свадебном вечере.
В маленький домик на острове сошлось столько народу, что повернуться было негде. По всем комнатам стояли столы с разными яствами, и вокруг них сидели и ходили люди.
Василий пристроился рядом с Груней, вдыхал запах ее духов, и ему казалось, что эти духи делают Груню чужой, почти незнакомой.
Профессор Щетинин с усмешкой наблюдал за Зубовым. Старик много выпил, его, как видно, разобрало, и он, тихонько раскачиваясь на стуле, говорил своему соседу Никите Ивановичу:
— Смотрю я на них и радуюсь. И знаете, ч-чему радуюсь? Тому, что они могут завершить мое дело…
Никита Иванович строго смотрел на профессора, ставил на стол недопитый стакан и хмуро повторял:
— Ты на них не надейся. Ты сам свое дело доделывай. Взялся — значит, делай. Тяжко, а ты все ж таки делай.
— Вам хорошо рассуждать, — отмахнулся Щетинин, — а вы п-попробуйте так, как я: работать, а результатов н-не дождаться, п-потому что ждать их надо лет десять.
Захмелевший Никита Иванович упорно смотрел на профессора.
— Эка невидаль! — заговорил он вдруг слезливо. — Я вот, знаешь, сколько домов построил этими руками? Сотни домов. А чего хотел, того еще не построил.
— Чего же?
— Новый клуб. Такой, чтобы вся станица в нем поместилась. Чтоб в этом клубе были резные потолки и стены с резьбой, и все чисто цветами разукрашено…
Он широко улыбнулся:
— Я чего хочешь построить могу! Хочешь, всю станицу из махоньких кубиков построю? Как игрушку ее сделаю и любыми красками распишу!
Василий вслушивался в людской гомон, и ему казалось, что всех этих людей он знает очень давно, что они его тоже давно знают и любят и что ему будет с ними очень легко жить и работать, потому что они, так же как и он, уже нашли на земле одно большое счастье.
А кругом сидели и стояли слегка опьяневшие, веселые мужчины и женщины: полеводы, виноградари, рыбаки, охотники — жители станицы, сызмальства привыкшие трудиться на земле и на воде. Они пели песни, смеялись, танцевали, говорили о пшенице, о черных парах, о коровах, о том, как смолить баркасы, заметывать невод, высаживать виноградные чубуки; они ели, пили вино, и над белой скатертью длинного стола темнели их смуглые, загрубелые руки с жесткими от работы ладонями и крепкими пальцами…
— Ну, Кириллыч, — сказал, наклоняясь к Зубову, Архип Иванович, — вот она, наша плавучая станица. Любуйся ею и знай: с этими людьми не пропадешь. Они видят свою дорогу и умеют работать. С такими людьми можно горы перевернуть, и ты не сомневайся: наша станица выдюжит.
Он стиснул руку Василию и добавил, добродушно посмеиваясь:
— Проводим тебя в Москву, а к весне будем ждать, чтоб начинать новое дело…
Сидевший рядом Мосолов подмигнул Антропову и весело сказал Груне:
— А тебя, Аграфена Ивановна, мы вроде как премировать решили. Поедешь с молодым супругом в Москву. Все равно зимой у тебя тут почти никакой работы не бывает…
Всю ночь в домике на острове слышались песни, звучала музыка, смеялись веселые люди.
Разошлись по домам под утро.
На следующий день профессор Щетинин зашел к Зубову, чтобы проститься. Работа экспедиции закончилась, и старик уезжал из станицы.
— Знаете, Илья Афанасьевич, — сказал ему Зубов, — я вот уезжаю в Москву, а мысли мои здесь. Хочется мне скорее узнать результат ваших опытов с белугами. Хочется начать плановую рыбоводную работу на участке. Ведь это будет трудное дело. Людям еще очень многое надо понять.
Сидя у стола, Щетинин слушал взволнованного Зубова и поглядывал на опавшую вербу под окном. Хотя на его небритых щеках темной тенью лежала стариковская усталость, а у рта резко обозначились глубокие складки, Василий заметил в глазах профессора знакомые искорки веселого упрямства.
— Все, что вы говорите, правильно, — сказал Щетинин, — это б-будет нелегкое дело, но рыбаки его выполнят.
— Они его выполнят, если среди них не будет Талалаевых, — вставил Василий.
— А вы не смотрите на таких, как Талалаев, — махнул рукой Щетинин, — они будут выплеснуты, как выплескивают н-накипь с хорошей ухи. Вы смотрите на таких, как Виктор Петрович…
— Какой Виктор Петрович?
— М-мальчишка этот, сын вашей бывшей хозяйки. Он недавно прибежал ко мне и сообщил, что организовал в школе группу п-по изучению зоопланктона реки. Слышите? Этакий п-пистолет! Изучая питание рыбы, он собирает вислоногих рачков, коловраток и прочих водяных зверей, причем он вполне серьезно сообщил мне, что п-подал в правление докладную записку о п-приобретении еще одного микроскопа. Вот вы на таких смотрите. Это б-будет рыбак нового п-поколения. Он уже вступает в строй…
Щетинин рассказал Зубову о том, что Совет Министров, очевидно, скоро утвердит проект строительства целого ряда рыбхозов, рыбоводных заводов и станций и что весной после спада воды — на этот раз последней в истории Дона — тысячи людей приступят к работе.
Они говорили очень долго, пока в распахнутую форточку не донесся зычный гудок вечернего парохода.
— Весной мы встретимся с вами, Зубов, — поднялся Щетинин, — и тогда вы увидите, что могут сделать наши люди!..
Он пожал Василию руку и ушел, с трудом волоча ноги, постукивая по натертому полу тяжелыми, подбитыми железом солдатскими башмаками.
Василий следил, как исчезает синеющий дымок оставленной на подоконнике щетининской папиросы, и, хотя за окном медленно, почти незаметно плыли по-зимнему низкие облака, он уже думал о весне…
Через неделю Зубов и Груня уезжали в Москву.
На пристань их пошли проводить человек двадцать: Мосолов, Антропов, Егор Иванович, Марфа с Витькой, Иван Никанорович, Тося, Степан, Ира и много рыбаков.
Сверху шел пароход «Молотов». Это был его последний рейс, так как на реке появился лед и навигация прекращалась. У шлюза пароход задержали, и он подошел к пристани поздно вечером, когда уже стемнело…
Взяв Груню под руку, Василий повел ее по сходням вниз. Они вышли на палубу и, повернувшись спиной к ветру, стали смотреть на берег. Раздался третий гудок. Люди на берегу замахали шапками и платками.
Сложив ладони рупором, Василий закричал Егору Ивановичу:
— Следите за подледным ловом!
Мосолов отвернул брезентовый капюшон плаща и прокричал в ответ:
— Не беспокойся, Кириллыч! Все будет в порядке! Мы все будем следить! А вы приезжайте поскорее!
Лязгнули якорные цепи. Захлопало по темной воде колесо. Белый пар с шипением вырвался откуда-то сбоку и растянулся вдоль бортов.
Освещенный прожектором крутой берег медленно поплыл назад.
6
Почти всю зиму Василий и Груня прожили в Москве.
Их поселили в общежитии на Верхне-Красносельской улице, неподалеку от огромного дома, в котором помещались Главрыбвод, Гипрорыба, Всесоюзный научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и океанографии с его многочисленными кабинетами, музеями и лабораториями. Тут же, в этом доме, расположились организованные Главрыбводом курсы.
На курсы съехались сотни инспекторов рыболовного надзора. Люди прибыли в Москву из самых далеких мест страны: с северного побережья, с Сахалина, с Камчатки и Курильских островов, с Каспия и Кавказа. Они слушали лекции и доклады по воспроизводству рыбных запасов, обменивались опытом на семинарских занятиях, работали в библиотеках.
Москва поразила Василия и Груню гигантскими домами, бесчисленными автомобилями, станциями метро, ясным и размеренным ритмом сложной, большой жизни, в которой миллионы людей четко выполняли свое дело: водили троллейбусы и автомобили, учили детей, принимали иностранных послов, издавали газеты, регулировали уличное движение, развозили хлеб, очищали от снега тротуары и мостовые, доставляли письма, то есть совершали все то, что давало возможность каждому из них в отдельности и всем им вместе выполнять одну большую, нужную всей стране задачу.
— Сколько здесь людей, Вася! — восторгалась Груня, когда они гуляли по улицам Москвы. — Казалось бы, тут можно заблудиться, как в лесу, а смотри, какой порядок!
По воскресеньям занятий на курсах не было, и Василий с Груней днем осматривали город, потом обедали и уходили в театр. В общежитии они жили в разных комнатах, и Зубов по вечерам терпеливо ждал, расхаживая по коридору, когда Груня переоденется и выйдет к нему, чтобы ехать в оперу, в Малый или Художественный театр.
Первое время Василию казалось, что Груня, выросшая в станице, будет чувствовать себя неловко в Москве, особенно в театре, где собирались сотни незнакомых людей, энергичных и живых горожан, которые, конечно, сразу могли бы заметить растерянность и смущение скромной деревенской женщины. Однако ничего подобного не было.
Уже в первый вечер, когда Зубовы пришли в Малый театр и Василий помог Груне снять пальто, он удивленно поднял брови, как будто впервые увидел свою молодую жену: стоя у зеркала, Груня непринужденно поправляла волосы, таким легким движением сунула крохотный шелковый платочек в рукав безукоризненно сидящего темно-синего платья и, постукивая каблучками, так уверенно вошла в сияющий позолотой зал, что Василий не выдержал и засмеялся.
— Что ты? — тихонько спросила Груня.
Он покачал головой:
— Ну-ну!
— Что?
— Откуда у тебя это все?
— Я не знаю, о чем ты говоришь?
— А я не знаю, откуда у меня такая жена.
Она поняла, покраснела и незаметно ущипнула его за руку.
К тому, что происходило на курсах, Василий относился с неизменным вниманием и интересом. Он аккуратно записывал все лекции, часто разговаривал с товарищами, слушал их рассказы о работе, посещал лаборатории и успел познакомиться со многими научными работниками. Чем дальше шло время, тем больше он понимал, что на многочисленных реках, морях и озерах страны идет громадная созидательная работа и что там трудятся тысячи его товарищей, которые уже успели разрешить такие задачи, какие не снились людям.
Зубову особенно понравилось сообщение еще совсем не старого ученого-ихтиолога об акклиматизации черноморской кефали в Каспийском море.
Невысокий румяный человек в очках рассказывал об этом спокойно, обстоятельно, как о деле, которое не только выполнено, но и принесло заранее намеченные, нужные всей стране результаты.
— Лет двадцать тому назад, когда мы начали это дело, у нас было немало противников, — задумчиво говорил ихтиолог. — Одни утверждали, что воды Каспия, ввиду избытка сернокислых солей, непригодны для жизни кефали, другие кричали, что кефаль не найдет в Каспийском море кормов, третьи боялись, что она станет конкурентом для ценных каспийских рыб… Но мы провели все опыты, получили от государства деньги и начали работу по пересадке. Мы ловили мальков и годовиков кефали близ Новороссийска, отсаживали их в садки, а оттуда переносили в живорыбные бочки и грузили в специальный вагон на мягких рессорах. Вагон этот прицепляли к пассажирскому поезду, и наши переселенцы отправлялись в путешествие из Новороссийска в Махачкалу. Конечно, в дороге за ними надо было следить, как за младенцами. Поэтому молодь сопровождали опытные рыбоводы. В Махачкале вагон подавался поближе к морю, и мальки выпускались в воду…
Так мы работали четыре года. Уже к концу этого периода стаи кефали были обнаружены у Красноводска, а еще через год мы заметили массовое расселение наших новоселов по южному и среднему Каспию. Конечно, всякий лов кефали до поры до времени был категорически запрещен. Только в тридцать седьмом году Анастас Иванович Микоян, который лично следил за исходом всего этого дела, разрешил первый лов каспийской кефали на промысле Кызыл-Су в Красноводском заливе. На промысел вышла бригада рыбаков из двенадцати человек, на двух лодках, с неводом-дифоном в триста пятьдесят метров длиной. Бригада эта выловила на мелководных участках около четырехсот пудов кефали и видела в море ее огромные косяки…
Задача наша была выполнена. Мы поселили в Каспийском море новую ценную рыбу. В последнее время из Каспия взято нашей кефали на десять миллионов рублей, но ее можно ловить еще больше, надо только организовать более интенсивный лов. Сейчас Каспий кишит кефалью: ее косяки ходят от Мангышлака до залива Гасан-Кули и от острова Чечень до Астары. Были случаи, когда катер рыболовного надзора, наблюдая за морем в тихую погоду, по нескольку часов подряд шел над несметными косяками кефали. Наше рыбоводное мероприятие мы закончили… Теперь промысловики должны взять заселенную в Каспий кефаль…
Василий слушал сообщение ихтиолога, стараясь не пропустить ни слова, а вечером рассказал о нем Груне и воскликнул восхищенно:
— Это настоящая работа! Здесь и точность прогнозов, и тонко продуманные опыты, и дьявольское терпение, и железная уверенность в своей правоте!
В большой комнате министерского общежития, куда направили Зубова, жили тринадцать инспекторов. Почти все они были пожилые люди, с большим стажем и опытом. Василию особенно понравился один из них, Иван Корнеевич Ларионов, сухонький старик с темным, обветренным лицом и с постоянной трубочкой-носогрейкой в зубах.
Ларионов лет тридцать бродяжил по северо-востоку страны: он жил на Таймыре, пересекал Становой хребет, ходил пешком от Большой Хатанги до устья Лены. С группой охотников он бил тюленей и котиков, попадал в лапы к медведям, несколько раз до полусмерти замерзал в снегах.
По вечерам, когда на курсах заканчивались занятия, инспектора сходились в общежитии, и Ларионов начинал свои бесконечные рассказы о северных скитаниях.
В комнате стояли сизые клубы табачного дыма, лежавшие на койках люди изредка перебрасывались двумя-тремя словами, а сухонький старик неторопливо рассказывал о суровой красоте дальнего Севера, о собачьих упряжках, о вяленой рыбе, о встречах в тайге, и каждый его рассказ был похож на чудесный вымысел.
— Должность у нас интересная, — посмеиваясь, говорил Ларионов, — другой такой не сыщешь! Воздух, вода, солнце! Ни канцелярии, ни столов со счетами, ни скоросшивателей — свобода! Что хочешь, то и делаешь, куда хочешь, туда идешь. Особенно на окраинах. Там совсем рай! Необъятные пространства, непроходимая тайга со зверьем, тундра на тысячи километров, снега, по которым собаки несутся, как черти…
Слушая Ларионова, Василий искренне завидовал ему и думал о том, как много этот человек испытал и сколько видел. Вместе с тем Василий заметил, что старый инспектор очень охотно рассказывал о трудном единоборстве с хитрыми браконьерами, о стычках с контрабандистами, о скитаниях по ледяным пустыням Севера, а как только вопрос касался воспроизводства рыбных запасов, Ларионов начинал позевывать и через полчаса мирно храпел на своей стоящей в углу койке.
Однажды Василий рассказал товарищам об экспедиции Щетинина, о строительстве рыбоводного завода и о планах зарыбления новых водоемов в засушливых степях Задонья.
Сидевший у стола Ларионов насмешливо хмыкнул в седые усы и сказал, щуря острые глаза:
— А зачем это вам?
— Что? — не понял Зубов.
— Вся эта канитель: воспроизводство, зарыбление, проекты…
Он лениво вытянул ноги и полюбовался носками из верблюжьей шерсти.
— Разве это ваше дело? По-моему, инспектор рыболовного надзора должен оправдывать свое название и охранять участок, а не производить рыбоводные эксперименты. Это две разные задачи и смешивать их нельзя.
— Позвольте, — возразил Василий, — значит, по-вашему, выходит, что участковый или районный инспектор должен ограничиться наблюдением и оставаться пассивным?
— Не совсем так, — в свою очередь возразил Ларионов. — Наблюдение и охрана — это не одно и то же. Разве стоящий на посту солдат-часовой пассивен? Вот, по-моему, инспектор рыболовного надзора и должен быть таким неподкупным часовым. Ему не следует вмешиваться ни в какие другие дела и вступать в отношения с людьми, которые будут только сбивать его с толку…
Заметив раздраженную усмешку Зубова, Ларионов забегал по комнате и, размахивая трубкой, стал кричать:
— Вы понимаете, что вами нарушена первейшая заповедь часового: не общаться с посторонними! Вы, как солдат, обязаны быть бдительным, и вам по роду службы запрещается отвлекать себя чем бы то ни было. Вы же впутали себя в какое-то строительство и забыли долг часового. Вы стали рыбоводом, политработником, докладчиком, кем угодно, но только не инспектором рыболовного надзора!
Зубов тоже вскочил с койки и заговорил сердито:
— Нет, Иван Корнеич, это вы, очевидно, как были, так и остались инспектором-спортсменом, для которого единственным удовольствием является борьба с браконьерами…
— Да! — вызывающе перебил старик. — Зато от меня еще не уходил ни один браконьер! И учтите, молодой человек, я их ловил не в таких местах, как именуемая Заманухой лужа! Я неделями гонялся за ними на лодке, настигал в снегах, находил у черта на куличках, где-нибудь в самом потаенном таежном зимовье. Я состязался с ними в ловкости, отваге, выносливости, дьявольской хитрости, глаз с них не спускал, знал все их мысли, потом ловил на месте преступления и беспощадно карал! И заметьте: у меня не было среди них ни врагов, ни друзей, ни симпатий, ни антипатий! Я был для этих людей только карающим богом…
— А почему, Иван Корнеич, вы обо всем этом говорите в прошедшем времени, — насмешливо спросил Зубов, — «гонялся», «настигал», «карал»? Очевидно, ваши браконьеры перевелись и измельчали?
Ларионов вздохнул:
— Да, молодой человек. В последние годы их стало гораздо меньше, и, представьте себе, меня обуяла лень… интерес пропал…
Лежавшие на койках люди засмеялись.
Засмеялся и Василий.
— Вы, оказывается, неисправимый романтик, Иван Корнеич, — сказал он. — Я же знаю все это только по книгам. Ловцы креветок, устричные пираты в желтых платках, связанные веревками короли браконьеров — об этом в свое время писал отличный инспектор рыболовного надзора Джек Лондон. Но все это в далеком прошлом. Конечно, у нас еще есть браконьеры, и мы боремся с ними, но сейчас дело не только в них. Честное слово, в рыбоводных пунктах, в выведении новых пород промысловой рыбы и в зарыблении колхозных степных водоемов гораздо больше романтики, чем в желтых платках устричных пиратов!
— Бросьте вы делать из меня школьника! — махнул рукой Ларионов. — Я, друг мой, вышел из этого возраста. Вы же, как мне думается, неправильно представляете себе тип инспектора и хватаетесь за посторонние задачи…
— А по-моему, Зубов прав, — вмешался смуглый инспектор Самсуров из Осетии. — Зубов решает этот вопрос по-советски, и то, что он начал на своем участке, надо подхватить нам всем…
— Это делается и в других районах, — отозвался кто-то из инспекторов.
— Плохо делается! Надо этим всерьез заняться!
Так в ожесточенных спорах проходили вечера, и все заметили, что Ларионов стал сдаваться. Энергия товарищей и веселое упрямство Зубова покорили его.
Как-то на улице он подошел к Василию и Груне, учтиво поздоровался с ними и спросил, поглядывая на Груню:
— Ваша жена?
— Да, — ответил Василий, — рыбоводом работает в колхозе.
Ларионов искоса взглянул на белую шубку и вязаные рукавички Груни и подмигнул Василию:
— Теперь я понимаю, почему вы заинтересовались рыбоводством.
Он усмехнулся и добавил смущенно:
— А если говорить без шуток, то вы, кажется, убедили старика. Правда, у нас на Севере совсем другие условия, но… в общем да, кажется, вы правы.
Посещая лаборатории ВНИРО [6], Зубов познакомился с аспиранткой, о которой рассказывал Щетинин и которая уже несколько лет занималась важной проблемой искусственного разведения белуги. Аспирантка показала ему образцы выведенных ею белужьих мальков, и он с интересом осмотрел разложенную по пробиркам икру, укрепленных на стекле личинок, опущенных в прозрачные цилиндры с формалином маленьких белужат.
— А почему они разной расцветки? — спросил Зубов. — У одних спинка темнее, а у других светлее.
— Это зависит от состава пищи, — сказала женщина, — мы ведь почти ничего не знали о кормах белужьей молоди. Поэтому нам пришлось составлять своим белужатам очень сложное меню, вплоть до рыбьего фарша.
— Как же у вас протекала работа?
— Икру белуги мы получили от гипофизированной самки в низовьях Дона, оплодотворили ее и поместили для инкубации в аппараты. Через восемь дней началось массовое выклевывание личинок. Мы доставили их на самолете в Саратов, на рыбохозяйственную станцию, поселили в аквариумах с проточной водой и стали вести наблюдения…
В своей собеседнице Зубов сначала не заметил ничего примечательного: это была добродушная, скромная русская женщина, о себе она говорила нехотя, смущаясь, но то, что она сделала, поразило Зубова своим значением.
— Значит, проблема разведения белуги решена? — спросил он.
— Да, в основном решена, — ответила женщина, — хотя кое-какие вопросы еще следует доработать. Во всяком случае, белугу мы спасем и не дадим ей исчезнуть из наших водоемов.
Она помолчала и добавила, улыбаясь:
— В этом немалая заслуга и вашего учителя Щетинина. То, что он делает, очень важно, особенно сейчас, когда вопрос о массовом разведении белуги еще находится в стадии окончательного разрешения…
Здесь же, в этой лаборатории, Василия познакомили с худенькой, кутающейся в шерстяной платок сотрудницей, которая недавно закончила интересные опыты по выращиванию молоди белорыбицы в прудах, а затем стала выращивать ее совместно с карпом и добилась замечательной комбинации для зарыбления колхозных водоемов.
— Понимаете, — сказала она Зубову, — белорыбица кормится сорной рыбой, которая в своем питании конкурирует с карпом. Теперь, после решения вопроса о совместном выращивании, колхозники будут получать из своих прудов в несколько раз больше карпа, чем прежде…
Посещая занятия на курсах, Василий и Груня все более глубоко понимали огромный размах рыбного хозяйства страны. Они всматривались в расцвеченную флажками карту, на которой обозначались советские рыболовные промыслы, и им казалось, что они стоят на вершине высочайшей в мире горы и видят отсюда все, что делают рыбаки от Тихого океана до Каспия и от снежного Шпицбергена до их родного Дона.
Они видели все четырнадцать морей, омывающих берега Родины, видели протянувшиеся на многие сотни тысяч километров реки, миллионы гектаров озер, тысячи больших и малых рыболовных судов, бороздящих под советским флагом моря и океаны.
Стоя у карты, они представляли, как на китовых пастбищах, окружающих ледовый материк Антарктиды, гарпунеры китобойной флотилии «Слава» бьют финвалов, кашалотов, синих китов и вытапливают из них тысячи тонн жира; как советские траулеры, плавая в Баренцевом море, ловят треску и пикшу; как великое множество закаленных в бурях рыбаков промышляет у берегов Камчатки, на Сахалине и на Курильских островах, в заливе Фришгаф и на Аральском море. Они представляли, как летчики рыболовной разведки по темно-серым пятнам в толще воды находят косяки сельди, по черным точкам на льдинах — нерпу, по длинным светло-дымчатым полосам — стаи сардин.
Изучая музеи и кабинеты, Зубов и Груня ясно представляли невиданно высокий уровень техники рыбного хозяйства. Перед ними стояли в моделях и в натуральном виде сотни замечательных машин и приборов: передвижные ледодробилки с электродвигателем, гидроэлеваторы для перекачивания рыбы, ленточные транспортеры, тяговые лебедки для неводов, механизмы для посола, охлаждения и замораживания рыбы, дымогенераторы для копчения, рыбомоечные барабаны и рыбоукладочные автоматы, эхолоты для фиксирования на морских глубинах рыбных косяков, обжарочные печи на консервных заводах, машины для сортировки и разделки рыбы — множество тяжелых и легких механизмов, созданных советской наукой для рыбного хозяйства страны.
Пораженные титаническим размахом всего, что они увидели, Зубов и его жена с грустной нежностью вспоминали свою маленькую, затерянную среди степей и займищ станицу, и она показалась им едва заметной, почти невидимой отсюда точкой.
— Вот, Вася, — вздохнула Груня, — куда нашей станице до всего этого!
— Да-а… — задумчиво протянул Василий.
Но в то же время, думая о размахе рыбного хозяйства, о характере различных морских и речных промыслов, Зубов понял, что далекая плавучая станица, с ее людьми, тонями, рыбацкими дубами и каюками, с ее рыбцехом, причалом и рыбными нерестилищами в тиховодной реке, тоже составляет малую частицу великого целого.
Он понял, что тысячи таких, на первый взгляд неприметных, станиц и хуторов, сел и деревень, разбросанных на Волге и на Дону, на Кубани и на Днепре, на Амуре и на Урале, на Куре и на Енисее, на многих реках Советской страны, как раз и составляют внутреннее речное рыбное хозяйство и ежегодно дают народу миллионы пудов ценной рыбы.
— Нет, милая, — убежденно сказал он Груне, — наша станица тоже кое-что значит. Таких, как мы, много. Очень много. И если Голубовская, а потом Судачинская, а потом третья станица, пятая, двадцатая, сотая перестроят свое хозяйство и начнут планомерно выращивать рыбу — посмотришь, что будет!
— А ты знаешь, Вася, — призналась Груня, — я уже начинаю скучать по станице.
Она посмотрела на него и добавила задумчиво:
— Сейчас у нас снег лежит на займище… Вокруг нашего домика, наверное, бродят волки… Архип Иванович вентеря ставит в прорубях…
— Ничего, Грунечка, — сказал Зубов, — время пройдет незаметно, и мы вернемся домой… Но ведь ты знаешь, дела у наших рыбаков не очень хорошие.
— А что? — насторожилась Груня.
— С планом заминка получается.
Из газет и из писем станичников Зубов узнал, что многие колхозы бассейна не выполнили годовой план лова и попали в число отстающих. На областной партийной конференции секретарь обкома упрекнул рыбников в том, что они ловят все меньше и меньше рыбы ценных пород: леща, судака, сельди, рыбца, осетра, севрюги — и этот недолов восполняют малоценной тюлькой и хамсой.
Архип Иванович и Мосолов написали Зубову письмо, в котором сообщили, что отдельные низовые рыбколхозы за два месяца выполнили только тридцать процентов квартального плана.
«Наш колхоз тоже потерпел поражение, — горестно сообщил Кузьма Федорович, — судачинцы вышли на первое место, теперь уже мы их вряд ли скоро догоним…»
Зубов мучительно искал основную причину такого отставания. Он знал, что другие люди тоже ищут эти причины и находят их во многих, хотя и важных, но, как ему казалось, не главных фактах. Неорганизованный выход рыбаков на путину, отсутствие подледного лова, неправильное планирование добычи и распределение неводов, неумение полностью использовать техническое вооружение, простои рыболовных судов в ожидании разгрузки, срыв графика обработки орудий лова, недостаточно высокая трудовая дисциплина в некоторых рыболовецких колхозах — все это действительно снижало добычу, и Зубов знал, что все это постоянно фигурирует в докладах, отчетах и протоколах.
Много раз присутствовал Зубов на всяких совещаниях и слышал выступления рыбаков, бригадиров, работников моторно-рыболовных станций, сотрудников треста, которые говорили:
— За нами не закреплены тони.
— У нас нет буксирных канатов и якорных цепей.
— Укрепите дисциплину!
— Давайте нам брезент для палаток!
— Не завезена соль!
— Мы опоздали заготовить лед!
— Надо перестроить сетное хозяйство!
— Замените решковые сети рамовыми, они уловистей!
Конечно, все это было очень важно, и люди правильно говорили об этом. Но Зубов все чаще начинал думать, что давно пришла пора говорить о самом главном, самом основном и решающем: о социалистическом, творческом, мичуринском принципе ведения рыбного хозяйства, о плановом выращивании «рыбьего урожая», о всемерном обеспечении широкого воспроизводства рыбы, о строжайшем соблюдении законов регулирования рыболовства и охраны рыбных запасов, то есть о том наиважнейшем, что неизмеримо повысило бы улов.
Думая об этом, Зубов с грустной усмешкой вспомнил, как на одном из совещаний председатель низового рыбколхоза объяснил невыполнение плана добычи тем, что у него в ловецких бараках на тоне не было… огнетушителей.
— Нет, нет, дорогая, — сказал Василий жене, — надо по-настоящему приниматься за работу. И не на отдельном колхозном рыбозаводе, не с устаревшими аппаратами, а на всем участке реки…
Он походил по комнате и, вслушиваясь в ровный гул машин за окном, заговорил негромко:
— Я уже начал разрабатывать схему освоения наших займищных озер. Это бросовые, безнадзорные водоемы, зарастающие камышом и кугой. В них разгуливает масса почти бесполезной сорной рыбы: окуня, плотвы, пескаря. Мы возьмемся весной за эти озера, начнем выращивать в них карпа и белорыбицу… Мы возьмем обязательство вырастить на своем рыбозаводе молодь ценных пород и заселим ею пруды степных колхозов…
Наклонившись, Василий обнял жену и привлек ее к себе.
— Как видишь, Грунечка, — сказал он, — у нас с тобой будет очень много работы. И если мы оба поймем, что наша работа приближает поставленную перед нами великую цель, мы будем счастливы…
Они вернулись ранней весной.
На полях лежал потемневший, набухший снег. Лед на реке уже тронулся, но пароходы еще не ходили, и Зубовым пришлось ехать по железной дороге.
Со станции их вез дед Малявочка. Нахохленный, как всегда, он сидел, понукая движением вожжей рыжих кобыл, причмокивал губами и рассказывал монотонно:
— Степа Худяков женился на бакенщиковой дочке. Как вы уехали, так они вскорости и поженились… У Кузьмы Федоровича семейство прибавилось: жинка ихняя сына родила… А дед Иона Пахомов помер. Аккурат под рождество. Хоронили всей станицей. Детей и внуков съехалось — сила! У Ионы ведь семеро сынов было да дочек пятеро или шестеро…
По степным холмам, поблескивая в лучах солнца, с тихим журчанием бежали из-под снега талые воды. Вокруг пахнущих сосновыми досками мостиков, над черными пятнами пригретой земли, едва заметно вился легкий парок. На окраинах придорожных хуторов, хлопотливо роясь в навозе, кудахтали куры.
Сунув кнут за голенище, дед Малявочка повернулся к Зубову.
— Почитай, больше года прошло, как я вез вас в Голубовскую, — сказал он. — Ну да, больше года. Вы еще, как сейчас помню, мерзли в своих сапожках и все спрашивали: скоро ли, мол, доедем?
— Да, Ерофей Куприянович, больше года, — задумчиво отозвался Зубов, — с тех пор много воды утекло.
— Известное дело, много, — согласился старик.
Незаметно поглаживая Грунину ладонь, Василий вспомнил свой первый приезд в станицу, белую реку с наезженной санной дорогой, встречу с Груней, теплые ночи, костры на берегу, разговоры с Архипом Ивановичем, веселую работу на зеленом займище, вспомнил все, что он успел сделать тут за год, и подумал о том, что еще предстояло сделать.
Они приехали в станицу перед вечером, и тотчас же их охватило знакомое чувство радостной общности со всем тем, что происходило на реке.
На колхозных тонях шел круглосуточный лов. Просмоленные рыбацкие дубы, описывая полукруг, носились по левобережью, и ловкие руки рыбаков выметывали невода. Ритмично постукивали установленные на берегу лебедки. Одетые в резиновые комбинезоны, девушки торопливо выбирали рыбу, раскладывали ее по плетенкам и относили к баркасам…
— Ловим, Кириллыч, ловим! — издали закричал, увидев Зубова, Кузьма Федорович Мосолов. — Теперь мы будем работать по-новому! Никаких отставаний. Будем бороться за первенство. Рыбаки днем и ночью на тонях. Народ у нас, знаете, какой! Даже Пимен Талалаев другим человеком становится — Архип Иванович научил его уму-разуму!
На следующее утро Василий и Груня начали свою работу: он с Егором Ивановичем — на реке и на озерах, а она с новой, только что организованной рыбоводной бригадой — на построенном осенью колхозном заводе. Почти целыми днями они не виделись и возвращались в свой домик на острове, когда над рекой синели густые весенние сумерки.
В напряженной работе быстро проходили дни. Все жарче пригревало солнце. Зазеленели деревья. Вернулись с далекого юга все, даже самые поздние перелетные птицы. На реке стала прибывать вода… Рыба массами пошла на нерест.
Через несколько дней должен был вступить в силу весенний запрет.
Кузьма Федорович Мосолов и вернувшийся недавно с верховьев Архип Иванович Антропов торопились выполнить месячный план лова. Почти вся рыбацкая станица жила на тонях. Лов не прекращался ни на одну минуту.
— Не вытянем, — поглядывая на сводку о выполнении плана, тревожился Мосолов. — Еще бы три-четыре денька…
— В ночь под воскресенье конец, Кузьма Федорович, — напоминал Зубов, — ровно в двенадцать ночи в реке не должен остаться ни один невод.
Мосолов попробовал отшутиться:
— У рыбаков на тонях нет часов, где им знать, когда двенадцать, когда час.
— Это предусмотрено, — серьезно ответил Василий. — Я договорился с начальником гидроузла: в двенадцать ночи он даст тройной сигнал всеми шлюзовскими огнями После сигнала путь нерестующей рыбе должен быть открыт по всей реке…
В субботу рыбацкие бригады работали не покладая рук.
Близилась ночь. В сводке у Мосолова стояла цифра «99,6».
— Половить бы до утра — и план выполнен, — сказал Кузьма Федорович, подняв на Зубова затуманенные бессонницей глаза.
Они стояли на берегу.
Зубов положил руку на плечо председателя:
— Ты этого хочешь? Половить до утра?
Кузьма Федорович молчал всего несколько секунд, потом протянул Василию руку и сказал тихо:
— Нет, не хочу. Правда, с планом мы чуточку не дотянули, да это уж наша вина. А запрет нарушать не будем…
Отражая мерцающие звезды, темнела река. У левобережья поскрипывали невидимые баркасы. Ниже, у причала, размеренно постукивали механизмы принимающего рыбу катера. На излучине, протянув по воде красную полосу, сверкал покачивающийся бакен…
Ровно в двенадцать часов ночи все шлюзовские огни — на сигнальных мачтах, в окнах домов, в бараках — на мгновение погасли, потом снова зажглись, снова погасли и зажглись опять.
Рыбаки на тонях прекратили лов.
Зубов, Груня и Архип Иванович с Мосоловым сели а каюк и поехали к каменной дамбе, чтобы посмотреть ход рыбы.
— Я был в верховьях и видел, как вскидывается на нерестилищах наша белуга, — сказал Архип Иванович. — Надо бы послать профессору телеграмму, пусть старик порадуется…
Они простояли на дамбе до утра. И когда взошло солнце, им показалось, что вся станица, с ее домами, цветущими садами, стоящими у баркасов людьми, торжественно плывет в неоглядный, озаренный теплым светом невиданно синий простор, которому нет ни конца ни края.
Примечания
1
Пихрой казаки называли царскую рыболовную охрану.
(обратно)2
Вентеря — рыболовная ловушка.
(обратно)3
Куга — болотная растительность.
(обратно)4
Бежное крыло — длинное подвижное крыло невода, которое заметывается в реку, тогда как более короткое (пятное) крыло при замете остается на берегу.
(обратно)5
Шарба — казачье название ухи.
(обратно)6
ВНИРО — Всесоюзный научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и океанографии.
(обратно)



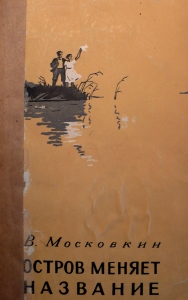


Комментарии к книге «Плавучая станица», Виталий Александрович Закруткин
Всего 0 комментариев