Перевод с удмуртского автора
Старый дом (повесть)
Глава 1
Куда ни посмотришь — кругом невысокие холмы, перелески, поля. Холмы эти, дальние отроги Уральских гор, с неизменными елочками на вершинах, издали похожи на больших рыб с колючками на спине. Село Лкагурт стоит на одном из них, на холме Глейбамал; улицы весело сбегают к самому подножию и обрываются на берегу тихой речки Акашур.
Выделяясь среди других, бросается в глаза дом с новой крышей и затейливо вырезанными наличниками. С вершины холма он виден как на ладони. Дом заботливо обшит досками, чтобы непогода не секла, не портила сруба. На улицу смотрят два окна: хозяин, должно быть из опаски, что прохожие будут заглядывать в окна и увидят лишнее, три окна срубил во двор, а на улицу только два. Карниз свисает низко, и оттого кажется, что дом сторожко смотрит из-под козырька куда-то в поле. Случись что-нибудь, он сейчас же незаметно спрячется, присядет за высоким палисадником. Возле ворот, на вкопанных в землю столбиках — скамеечка; чтобы озорная молодежь или любители даровщинки не утащили доску, она обтянута полоской железа и крепко прибита.
Это — дом Макара Кабышева. Раньше его здесь не было, Кабышевы жили на другой улице. Но жене Макара, Зое, там не нравилось. Изо дня в день она ворчала: «Нашел место! Сам в правлении, а жить как люди не можешь… Микта Иван, и тот в самой середке деревни живет, а мы сидим у шайтана на хвосте. Попросить хорошенько — дали бы место…»
Макару помог случай: Микта Иван продал свой старенький домик на дрова, а сам перебрался вместе с семьей в районный центр Акташ, устроился там конюхом при исполкоме. Удерживать его в колхозе не стали: «Скатертью дорожка, зря только в колхозе числился». Вскоре трехтонный грузовик в два рейса отвез домишко Ивана на распилку, осталось в ряду домов пустое место, как от выпавшего гнилого зуба.
Узнав об этом, Зоя чуть не силком услала мужа в контору:
— Иди-ка, Макар, пусть то место на нас запишут! Иди, иди, а то другие раньше тебя прибегут. Огород у Ивана был хороший, каждый год унаваживали…
Макару не отказали, дали участок. Дважды собирал веме[1]: с помощью соседей перевез свой дом, амбар, две конюшни, отстроился на новом месте. Один бы не справился, спасибо — люди помогли. В те годы хозяйство Макара считалось маломощным, и ему помогали то тем, то другим. Перевозка дома с пристройками тоже обошлась Макару недорого: всем, кто работал на веме, выставили несколько четвертей самогона, накормили блинами, на том и разошлись. Никто слова даже не сказал, что Макар слишком легко откупился. Да и что говорить: Макар сызмальства нахлебался горя досыта, так уж пускай хоть теперь по-людски живет.
С этого времени, пожалуй, и встал Макар на ноги. А там пошло легче: руки у Макара были хорошие, за что ни брался, все получалось, — топорище ли выстрогать, сапоги ли себе сшить. А то купит в магазине листового железа и сделает пару ведер — все-таки дешевле обходится, чем на базаре брать.
Теперь Макар с головой ушел в свое хозяйство. Днем, как все, работает в колхозе, а вечером дотемна возится во дворе: ладит ульи, под навесом что-то топором вытесывает, а потом возьмет молоток и забивает дыры в заборе. Так-так-так! — выстукивает молоток, радостью отдается этот стук в душе Макара: «Так-так, своим хозяйством жить способнее». Будь сейчас жив отец, вот обрадовался бы: сын-то в люди выбился! Старики всю жизнь маялись в плохонькой избенке, в тесноте да в грязи, а сын какую домину отмахал! Что ни говори, времена не те, не сравнишь…
Макар весь дом обшил тесом, усадьбу обнес высоким — выше человека — забором, и дом казался крепко сбитым сундуком. Во дворе пустил бегать на проволоке собаку: встречь чужому человеку из-под навеса выскакивает серая, с желтыми клыками, полуовчарка и, задыхаясь от злобы, рвется на привязи.
Чтоб Макар был жаден, скуп чрезмерно — того в Акагурте про него никто бы не сказал. Когда был парнем, — уж как бедно ни жили, делился с товарищами последним, помогал другому в нужде. Отец наставлял его: «Ты, Макарка, одно помни: скупость, она от глупости идет. Скупердяй, он худее нищего — ни себе, ни другим…»
Но вот женился Макар, зажил своим хозяйством и стал тогда сам в себе замечать: придет к ним человек просто посидеть, потолковать, а он уже с тревогой ждет, что тот попросит взаймы… Оттого становился хмурым, неразговорчивым, ждал, чтобы гость ушел поскорее.
Семья у Кабышевых небольшая: сам Макар, жена Зоя и сын Олексан — рослый семнадцатилетний парень. Маленьких нет, поэтому в доме всегда тишина, скука, вещи уже много лет стоят на своих местах. В воскресенье Зоя расстилает на полу цветастые половики, сотканные ею еще до замужества. Тогда и вовсе никто не ходит по комнате. Случается, Макар, забывшись, пройдет в сапогах прямо к столу. Зоя сразу же замечает непорядок, ворчит: «Макар, коли пришел, сапоги снимай. Наследил тут, будто в колхозной конторе».
Сама Зоя каждый раз, как войти в комнату, оставляет калоши у порога и ходит в шерстяных носках, ступая мягко, словно большая кошка.
А гость, не решаясь идти по чисто вымытому полу, останавливается у порога. «Проходи, садись, в ногах правды нет», — приглашает Зоя, а сама смотрит на ноги вошедшего, будто говорит: «Запачкаешь, наследишь тут…» И хочешь, да не сядешь.
Вещи в комнате Зоя расставила по-своему. У входа, в углу, стоит двуспальная кровать с блестящими медными шариками, с горкой подушек. Вдоль стен и вокруг стола — широкая крашеная лавка. Ослепительной белизны печь разделяет комнату пополам. На подоконниках цветы, на окнах, что выходят на улицу, легкие кружевные занавески. А на тех окнах, что выходят во двор, занавесок нет: здесь они ни к чему.
Занавески, покрывала, ширмочки сшила сама Зоя: ими завешаны и чело у печи, и полочка, где держат посуду, и умывальник — все спрятано за ситцем в веселых цветочках.
В конюшне, под навесом, в амбаре, в чулане бережно хранятся разные вещи. В хлеву, рядом с корытом, лежит почти новая покрышка от автомашины; под навесом прислонена к поленнице железная борона, валяется старинная двухпудовая гиря с заржавелым царским орлом, хорошее тележное колесо, куча всякого железа… Вряд ли сам Макар теперь знает, как и откуда попали к нему эти нужные и ненужные вещи. Но выбрасывать их не решается — кто знает, может, пригодятся в хозяйстве.
И в амбаре тоже, кроме огромного ларя для хлеба, — множество всяких ящиков и корзинок, со столярным и плотничьим инструментом, гвоздями, деталями от разных машин. На деревянных колышках, вбитых в стены, развешаны веревки, сыромятная кожа, хомут без одного гужа.
При чужих людях дверь амбара не открывают. Зоя часто повторяет: «Незачем показывать, что у нас есть да чего нет. А то нынче — как увидят, сразу просить придут. И без того в деревне косо посматривают. А кому какое дело, как живем? Чай, не краденое, а свое…»
И то сказать — жили Кабышевы хорошо. Много ли нужно для троих, если бережно расходовать? Макар с женой старались, чтобы ни одна щепочка не отлетела в сторону, гостей встречали скуповато. Может, потому в Акагурте поговаривали: «Дегтем от них попахивает. Видно, от тестя остался душок-то…»
«Деготная душа» — так прозвали когда-то в Акагурте Камая Бегичева, отца Зои. Занимался он смолокурением, при случае торговал и самогоном, зерном, держал лошадей для извоза. Нахрапистый был мужик, считался первым богачом в деревне. Ходили слухи, что он собирается взять на откуп у миллионера-лесопромышленника Ушакова, который владел в этих краях всеми лесами, участок и расширить свой промысел, открыть новые смолокурни.
Единственную свою дочь Камай Бегичев рассчитывал выдать за ровню и потому на наряды для нее не скупился. А уберечь не смог: Зоя еще в девушках понесла. Это был позор чернее дегтя, его ничем не смоешь. Взбешенный Камай взял ременные вожжи, отхлестал дочку и среди лютой зимы выгнал из дома в одном платье:
— Иди к тому, с кем нагуляла, с…
С гулянок вечерами Зоя каждый раз уходила обнявшись с Миктой Иваном. Иван был парень высокий, некрасивый, с приплюснутым носом. Жили они тоже богато, в конюшне всегда стояли пять-шесть лошадей, оттого держался он нагло и самоуверенно, ходил всегда с ременным кнутом. Узнав, что любушка беременна, Иван сразу ощетинился, оттолкнул прильнувшую было к нему Зою. Та упала на обочину дороги, в снег.
— Зачем ты мне такая? Я жениться не спешу. Да и с чего ты взяла, что этот… мой? Пошла ты к…
— Твой ребенок, Иван, тво-о-й! — рыдая, ползла Зоя к нему на коленях. — С тобой только и гуляла, сам знаешь! Ой, Ива-а-ан!..
Иван сплюнул, запахнулся плотнее в новую, отороченную черным мехом шубу, отвернулся от Зои и зашагал прочь. Пройдя несколько шагов, остановился, мрачно погрозил:
— К нам не ходи — собаки разорвут!
Зоя плакала, сидя одна на дороге. Домой нельзя: знала крутой нрав отца, убить может. Куда же теперь?..
Тогда-то и вспомнила она про Макара Кабышева.
Макару в то время было уже семнадцать, вечерами ходил на Глейбамал, где молодежь устраивала веселые игрища с хороводами, плясками. Зоя замечала: плохо одетый, застенчивый парень подолгу смотрит на нее, но только издали, украдкой. Зоя однажды с издевкой пропела, глядя на него:
Не ходи под окнами, Если шляпы нет…Вспомнила о нем Зоя в эту морозную ночь и решительно направилась к Макарову дому. Дрожащими руками с трудом открыла покосившуюся калитку; войдя в темные сени, долго шарила по стенам, нащупывая дверную ручку. Кто-то изнутри толкнул дверь, Зоя вошла. «Будь что будет, отсюда никуда не уйду!» — решила она и, всхлипнув, повалилась на лавку.
Старики, родители Макара, ужинали. Они молча, с удивлением смотрели на дочку богатея Камая. А Зоя, в бессильной злобе на Ивана, на отца, на себя, рыдала в голос, билась головой о жесткую лавку. Старики обомлели, когда сквозь рыдания услышали бессвязные слова:
— От вашего Макара забеременела… Делайте со мной, что хотите. Кто теперь на меня смотреть будет… Пришла к вам… О-о!..
Зоя осталась в доме Макара. Забилась в самый угол полатей, два дня не вылезала оттуда. Родители Макара сходили к Камаю, чтобы в деревне не было лишних слухов, по обычаю провели сговоры, а на масленицу сыграли свадьбу.
У Макара никто ничего не спрашивал. На свадьбе его напоили крепким самогоном, и он проспал, так и не повеселившись. Через пять месяцев после свадьбы у Зои родилась девочка: широконосая, с черными глазами — вылитый Иван. Девочка прожила недолго, умерла от глотошной болезни. Макару в ту пору исполнилось восемнадцать, Зоя года на четыре была старше его. Знал о ее грехе, втайне держал обиду, однако молчал, ни словом не упрекнул жену.
Когда в Акагурте создавали колхоз, стали раскулачивать богатеев. Камай был смекалистее других, большую часть своего добра тайком перетаскал к зятю. Потом самого Камая выслали, осталось богатство у Макара. Макара не трогали: хозяйство было бедняцкое. Думали, что тесть вернется, вещи надежно упрятали в подполье, в сарае… Жили в ту пору в нужде, однако чужое добро не трогали. Но никто из сосланных не вернулся, и спрятанное добро стали помаленьку вытаскивать: что ему пропадать?
Макар даже и не заметил, как тихая, во всем послушная жена стала полной хозяйкой в доме, и это нравилось ему. Нравилось Макару, что она такая бережливая, женским приметливым глазом ведет хозяйству строгий счет. «Добрая жена дом сбережет, а плохая рукавом разнесет». Зоя никогда не кричала на него, не ругалась, неприметно, словно мышка в хлебе, заняла место в его душе. Макар как будто остался хозяином в доме, а без Зоиного слова, помимо ее, — ничего не делалось. Макар и тут был доволен: как-никак Зоя заботилась не о чужом, хотела добра своему дому, своей семье.
Глава II
Рождению сына Макар несказанно обрадовался. Когда у Зои начались схватки и она сказала об этом мужу, он тут же запряг лошадь и сам отвез Зою в Акташ. В родильном доме Зоя лежала десять дней, и Макар каждый день после работы пешком ходил в райцентр. Зоя родила утром, и когда Макар в этот день вечером пришел в роддом, медсестра, улыбаясь, спросила:
— Сына или дочку ждали?
Макар смущенно сказал:
— Сына бы надо.
— Сын, сын! — засмеялась медсестра. — Больше четырех кило весит. Ревет все равно как взрослый.
Макар двинулся было поглядеть на сына, но сестра замахала руками:
— Куда такой! Ребенок испугается…
Макар посмотрел в зеркало на стене. Оттуда на него глянул худой, скуластый, с недельной бородой мужчина. От глаз разбегаются морщины, на переносице — красные прожилки; от жары и ветра лицо загорело, стало коричневым, цвета дубовой коры. «И впрямь, можно человека испугать, — подумал Макар. — Надо бы бороду снять. Ишь щетина!»
Когда Зою выписали, Макар бережно усадил ее в тарантас, подложив для удобства подушку, а сам устроился на облучке. Дома к гибкому шесту подвесил зыбку, тайком от Зои долго смотрел на сына: «Ну, вот, сынок, ты уже видишь все, дышишь… Только ничего еще не понимаешь… Кем ты будешь? Дождусь ли дня, когда станешь мне помогать?»
Мальчика хотели назвать по дедушке — Петром. Но учитель из недавно открывшейся в Акагурте школы посоветовал:
— Макар Петрович, назови сына Александром. Знаешь, сколько было знаменитых людей с этим именем? Вот, считай: Александр Македонский — раз, Александр Невский — два, Александр Суворов — три, Александр Пушкин — четыре… Обязательно назови Александром!
Захмелевший Макар, соглашаясь с учителем, кивал головой:
— Так, так… Ты, конечно, ученый человек, знаешь. А мне что, хоть совсем без имени, только чтоб помощником вырос. Олексан, так Олексан.
Олексан рос здоровым, крепким. В детстве Макар его баловал — видно, сильно любил. До двенадцати лет сам шил Олексану всю одежду, обувку. Мастер он был на все руки, за что ни возьмется — хорошо получается. Шил крошечные ботиночки, катал маленькие валенки, на швейной машине шил штаны, картузы. А сколько игрушек он сделал для маленького Олексана! Макару самому нравились сделанные им вещи, да и сын, он думал, должен был благодаря им сильнее привязаться к отцу.
Олексан любил возиться под навесом со стружками, деревяшками, пока отец что-то мастерил. Макар сделал сыну маленький молоток и, глядя, как мальчик старается забить гвоздик, втайне радовался: «Работник из него выйдет». Сына он любил по-своему, но никогда об этом не говорил вслух. Другие ласкают своих детей на глазах у чужих, а Макар даже наедине редко баловал сына лаской, — лишь иногда проведет корявыми пальцами по мягким волосам мальчика. Может, поэтому Олексан мало привязался к отцу.
Зато в минуты гнева не знал Макар жалости. Как-то Олексан, не спросившись отца, взял в амбаре инструменты и принялся делать скворечник: в школе учительница велела, и Олексану хотелось, чтобы его скворечник был лучше всех. Макар вернулся с работы, увидел, что делает сын, смачно выругался и сильно ударил Олексана.
— Не спрося, не смей трогать инструменты, не твоих это рук дело!
Олексан в то время ходил уже в четвертый класс, и случай этот запомнился надолго. Боялся Олексан отца, всегда казалось ему, что вот-вот он опять обругает, станет бить.
Совсем иначе относилась к сыну Зоя: ласкала, кормила сладостями. Намажет на хлеб масла, сверху меду.
— Ешь, сынок, только не ходи с хлебом на улицу — чужие мальчишки попросят. Смотри, другим не давай, сам ешь!
Маленький Олексан удивлялся:
— Мама, а ребята мне всегда свои игрушки дают, почему мне нельзя им дать? Ну, немножко, вот столечко я дам Петьке или Васе попробовать, ладно? Ведь у них нет дома меду.
— Ишь ты, какой добрый! — бранилась тогда Зоя. — Знай себя, и ладно! Поди, эти голодранцы только и ждут, чтобы у тебя из рук кусок вырвать! — И заставляла сына есть при ней, дома.
В школе Олексан был средним — выделялся только одним: держался в стороне, никогда ни с кем не делился. Шла война, отцы у многих ребят ушли на фронт, их семьи жили трудно. Отца Олексана на фронт по взяли, признали негодным (Макар давно страдал грыжей). Поэтому Олексан и одет был лучше других, и сыт всегда. В школу брал с собой кусок хлеба с медом, на перемене уходил в угол и торопливо съедал. Крепко помнил наказ матери: «Чужим не давай, на всех не напасешься!»
Кончил Олексан семь классов, а дальше учиться не захотел. Сколько ни ругал его Макар, сколько ни ходили учителя домой, уговаривали, — все напрасно. Олексан уперся: «Не пойду — и все!» Сказал, что будет работать в колхозе. Почему — неизвестно. Может, просто смущался парень своего роста: в классе он был самый высокий, и ребята прозвали его «каланчой».
Зоя взяла сторону Олексана:
— Ладно уж, Макар, силой не заставишь. Хватит с него, поучился. Не велика беда, если и в колхоз не пойдет работать, много-то там не получишь. Слава богу, живем неплохо, хлеба — в достатке, одного-единственного сына прокормим. Пусть пока дома поживет, подрастет — еще успеет, наработается…
Макар махнул рукой: «Ну, если так, делайте, как хотите!»
Два года, словно девушка на выданье, Олексан жил дома. Правда, теперь Макар не давал ему бездельничать: в хозяйстве работа всегда найдется. Зимой Олексан очищал двор от снега, расчищал дорожки, пилил и колол дрова, ходил за скотиной. А летом работы еще больше: надо в огород навоз вывезти, вспахать, посадить картошку, окучить… А потом заготовка на зиму сена для скотины. Для коровы и десяти овец ни много ни мало шесть, а то и все восемь возов надо. Сверстники Олексана работают в колхозе, а он выкашивает лужайки в роще и возит траву домой на ручной тележке. Не раз слышал, как ребята смеялись вслед:
— Гляди, единоличник опять пошел колхозную траву воровать!
Олексан обходил их Стороной. А когда возвращался домой с полной тележкой, мать хвалила:
— Осто[2], Олексан, как ты много привез! Скоро на всю зиму запасемся, люди опять завидовать станут!
В деревне Кабышевых не любили, говорили, что они за копейку горло перегрызть готовы. Но, зная расчетливый, хозяйственный глаз Макара, его выбрали в правление колхоза: дельные советы везде нужны. На людях Макар тих и покладист, мало, нескладно говорит. Дома он совсем другой: злой, зубы кочедычком не разожмешь, ни на кого не смотрит, ходит низко опустив голову, будто потерял что-то и теперь мучительно ищет.
Чем старше становился Олексан, тем реже Макар разговаривал с ним. Утром, уходя на работу, наказывает, что надо сделать за день, а придя с работы, молча ужинает и ложится отдыхать. Тогда Зоя предупреждает Олексана:
— Отец спит, не шуми! — И тихо в доме, тихо до звона в ушах…
А вокруг все напоминает Олексану о том, что есть непохожая на ихнюю жизнь. С шумом проходили мимо тракторы, колхозная автомашина, по вечерам с песнями бродили по деревне молодые ребята и девушки, и в душе Олексана возникало ощущение, что они, Кабышевы, живут не как другие. От этого становилось тоскливо: «Почему другим весело? Что, у них нет таких забот, как у нас?..»
Временами ему казалось, что родители что-то скрывают от него и от людей, боятся, как бы кто не узнал. Однажды к ним пришел дядя Тима. Левый рукав у него болтается пустой — с войны вернулся без одной руки, с тех пор его в Акагурте прозвали Одноруким Тимой. Они долго сидели с Макаром. Тима много курил, ловко свертывая самокрутки одной рукой. Макар больше молчал, слушал Однорукого.
— Да-а, Макар Петрович, — говорил Тима, выпуская целое облако дыма, — дела в нашем колхозе плохи, сам знаешь… Не могу я на это спокойно смотреть. Хожу сам не свои, ночей не сплю. Али мы хуже других, что не можем свой колхоз на ноги поставить? Не может этого быть, Макар Петрович! Председателя бы нам хорошего, агронома настоящего… Да и самим пора стать в своей артели хозяевами. Тут у нас, я замечаю, еще есть такие: живут на колхозной земле, всякими выгодами пользуются, а натура у них — не наша, не колхозная. Колхоз им вроде бы завески, а там, за завеской, — черт знает что! Устроились, прижились… Вот ты мае скажи, Макар Петрович, с какого краю нам взяться за это дело? Человек ты с опытом, не зря в правление выдвинули.
Макар молчал, осторожно покашливал и неопределенно тянул:
— Оно, конешно, самим надо браться. Да ведь… как тебе сказать, Тимофей… Каждый живет как может… Ежели свое хозяйство начисто в сторону, да целиком на колхоз положиться — кто знает…
Однорукий мрачно слушал, сосал цигарку, а уходя, сказал:
— Шел я к тебе за советом, Макар Петрович, а ты еще больше меня разбередил. — И с горечью добавил: — Да и сам ты, я вижу, не особенно хвораешь за наше дело. «Ты гори, сосед, а я посмотрю», — вот ведь что получается! Эх, не такой ты раньше был, Макар Петрович. Ну, смотри, как бы оплошки не вышло!
Так и ушел Тимофей. Только за ним захлопнулась дверь, Зоя встревоженно спросила мужа:
— Чего приходил этот косорукий? Высматривал небось…
Макар ничего не ответил.
Разговор этот почему-то запомнился Олексану, — было как-то неловко за отца. Олексану казалось, что слова Однорукого сильно встревожили отца, но он не решается себе в этом признаться.
Все чаще Олексан задумывался об этом, хотелось о многом спросить, да некого было спрашивать.
Олексану скоро семнадцать, а на вид больше дашь. Мать с отцом не особенно крупны, сын же неизвестно в кого пошел. Мать говорит — в дедушку… Ходит крепко ступая, руки в стороны, будто тесно ему — сила из парня прет. Лицом в отца: серые глаза спрятаны глубоко, и скулы выдаются. От матери только одно — крутой подбородок. Говорят, такой бывает у своевольных, упрямых…
«Теперь пора приставить Олексана к делу», — думала Зоя. Посоветовалась с Макаром и сказала сыну:
— Мы с отцом спину в колхозе гнем, а толку не видно. Хорошо бы тебе сыскать денежную работу. Вон этот Микта Иван перебрался в Акташ, в исполкоме за лошадьми ходит, припеваючи живет… Сходил бы ты, Олексан, в Акташ — может, на службу какую и взяли бы. Увидишь Микту Ивана, попроси, может, поможет в чем. В исполкоме-то у него теперь все знакомые.
На другой день Олексан отправился в Акташ, встретил во дворе райисполкома акагуртского земляка. Тот запрягал в тарантас гладкого, беспокойного жеребца.
— Макаров сын, говоришь? Хм, не знаю, какую работу ты здесь-подыщешь… У нас в исполкоме все занято. Работать в колхозе тебе, конечно, нет никакого расчета. Место надо сыскать, без места не проживешь. Тпру, проклятый! — крикнул Микта Иван, ударив жеребца кулаком в бок. — Стой смирно! Ишь разъелся на овсе, зашалил…
Микта Иван никакого толкового совета не дал, сказал, чтобы сам походил, расспросил людей. Олексан не стал ходить и расспрашивать. Было обидно, что сверстникам его не надо ездить в райцентр, спрашивать работу, а он должен кланяться даже Микте Ивану. И Олексан повернул обратно домой.
Не успел зайти во двор — мать накинулась с расспросами:
— Что, нашел работу, видел в Акташе Ивана?..
Олексан резко ответил:
— Да что вы с этим Миктой Иваном носитесь? Не пойду я в Акташ! Буду работать в колхозе…
Зоя всплеснула руками:
— Осто, осто, Олексан, разве можно так-то на мать? Господи, несмышленый ты! И что ты нашел в нашем колхозе-то?
Олексан по именам стал перечислять своих сверстников: этот на конном дворе работает, тот — в строительной бригаде, третий — прицепщиком…
— Ай-яй-яй, как он научился считать! — протянула Зоя. Затем предупредила недобро. — На других не очень-то смотри, себя знай. Не понимаешь что к чему, ну и помалкивай… Э-э, да вольному воля, хоть ночуй в этом колхозе, мне-то какое дело!
Об этом разговоре Зоя рассказала мужу. Макар молча выслушал и противиться не стал: ну что ж, пусть пока работает в колхозе, не пускать вроде неудобно, ведь в правлении то и дело говорят, что рабочих рук не хватает, Кто их там разберет, могут и к Кабышевым придраться: дескать, этакого сына-болвана дома держат. А это совсем ни к чему: не любил Макар, чтобы люди промеж себя трепали его имя.
Олексан стал работать на току, подкидывать снопы в молотилку. Приходит вечером с работы, в сенях скидывает пыльный пиджак (Зоя зорко следит, как бы не натащили в дом грязи!), умывается наскоро и, сев за стол, рассказывает, что нового за день произошло.
— Сегодня тридцать пять возов намолотили! Бабы не успевают солому отметать, из-за них пришлось три раза машину останавливать. Ох, руки устали как!..
Макар с Зоей молча хлебают суп. Затем мать кладет ложку на стол, обтирает губы изнанкой передника и вздыхает:
— Господи, зачем ты сам себя ломаешь, Олексан… Добро, заставлял бы кто…
И Олексан умолкает на полуслове, наклоняется над миской, ест молча. А в голове неотступно: «Ну вот, опять… И всегда так…»
Но неожиданно все кончилось. Спустя неделю после начала работы в колхозе Олексан пришел домой среди дня, правая рука наспех обмотана чьим-то чужим платком. На белой ткани проступили ржавые пятна. Зоя увидела, испугалась, вскрикнула:
— Ой, что случилось, Олексан?
Олексан помахал обмотанной рукой, криво улыбнулся:
— Да так, порезал… Свясла резали серпом, руку задело. Пустяк, заживет…
Оправившаяся от испуга Зоя со злостью передразнила сына:
— «В колхозе буду работать!..» Ну, наработался?
Рука скоро зажила, остался лишь небольшой, скобкой, розовый шрам. Но после этого случая Олексану нечего было и думать о колхозе: родители сказали, что дома работы хватит. И правда, без дела он не сидел — и мать, и отец старались вовсю. Снова потянулись скучные, однообразные дни. Происшествий в жизни Олексана было мало, да и те невеселые.
Однажды акагуртские школьники запрягли лошадей и отправились по дворам собирать золу на удобрение. Дошли до кабышевского дома, громко постучали палкой в наличники. Олексан был дома один, бегом выскочил во двор, привязал задыхавшегося от лая Лусьтро, открыл мальчишкам ворота. Целая ватага ребят окружила его.
— Олексан, зола у вас есть? Давай! Видишь, уже два ящика собрали, во!
Олексан показал им высокую кадушку в углу под навесом. Мать Олексана целую зиму ссыпала сюда золу из печки. Ребята обрадовались: тут сразу на пол-ящика!
Кто-то из ребят заметил борону, приставленную к поленнице.
— Олексан, а зачем она у вас? Наверное, колхозная?
Олексан растерялся, пробормотал:
— Она у нас своя. Давно здесь…
— А зачем она вам?
Олексан не стал объяснять, сказал, чтобы скорее опростали кадушку. Пока мальчишки таскали ведрами золу, Лусьтро сидел на привязи, оскалив желтые клыки, и глухо рычал.
Придя вечером домой, Зоя сразу заметила рассыпанную по двору золу.
— Олексан, ты зачем в кадушку лазил? Кто тут золу рассыпал?
— Мальчишки были, собирали. Говорят, на колхозное поле, под пшеницу. Собирали у всех подряд, у кого было, все выносили, ну и я тоже…
Лицо матери залилось краской, она замахала на Олексана руками, чуть не со слезами закричала:
— Ой, посмотрите вы на этого дурня! Да ведь я хотела эту золу под помидоры, а ты, своими руками… Гляди-ка, решил колхозу хорошее дело сделать, теперь жди, придут к тебе да поклонятся! Тьфу!
На этом дело не кончилось; вечером Зоя пожаловалась Макару. Отец исподлобья взглянул на сына, жестко проговорил, будто бил по щекам:
— Ты, Олексан, если дома сидишь, так слюни не распускай! Слышишь?
Олексан сидел молча, опустив голову. Подумал: уж лучше бы отругал как следует. Может, и в самом деле не стоило открывать ребятам ворота. Испугались бы собаки и ушли. А его словно кто-то подтолкнул… И почему это другим не жалко золы? Все же давали…
Дня через два к ним пришли кузнецы из колхозной кузницы, с ними однорукий Тима. Сказали, что их послал бригадир взять у Кабышева припрятанную борону. Макар вначале будто не понял, развел руками:
— Какая борона, чья?
Однорукий сразу оборвал его;
— Ладно, Макар Петрович, знаешь ведь, какая борона стоит у тебя под навесом? Ребятишки золу собирали, видели ее у вас! Не место ей тут, в колхозе нужнее — посевная скоро! Показывай, где она у тебя…
Макару ничего не оставалось, как вытащить из-под навеса злополучную борону.
— С осени, как забороновали огород, осталась тут, так и лежала, — смущенно пояснил он. — Шут ее знает, сам забыл… Думал; надо увезти к вам, все дня не хватало…
— Дня, говоришь, не хватало? — недобро засмеялся Тима, подмигнув кузнецам. — Эх, дядя Макар, сказал бы прямо, что совести не хватало! Кабы не ребятишки, простояла бы эта борона у тебя под навесом до скончания века! Дескать, авось пригодится, так ведь? Хорошо, пацаны приметили!..
Макар отвел глаза, на скулах проступили красные пятна. Ничего не ответил на обидные слова Однорукого, промолчал; «Черт с ней, с бороной, могло хуже быть!»
Кузнецы ушли, взяв с собой борону. Лусьтро, оскалившись, с рычаньем метался на цепи, стараясь схватить чужих за сапоги.
— Мать честная, волка какого выкормили! Попадись такому — живой не вырвешься. Пристрелить стервеца, — и только!..
А Зоя долго еще недовольно ворчала:
— Вот, пусти во двор чужого — последнее готовы утянуть… Из-за тебя все, Олексан! Плохо хозяйничаешь… Готов последнее отдать, а не тобой оно нажито!
Глава III
С работы Макар всегда возвращается задами, неторопливо пробирается тропинкой. Пес издали чует его, радостно повизгивает, гремя проволокой, кидается навстречу хозяину, старается лизнуть в лицо.
— Пшел, поганец! Ишь ты, лизаться!
Пес отходит обиженно, усаживается под навесом и смотрит на Макара долгим, неподвижным взглядом.
Домой Макар с пустыми руками не возвращается. Если в колхозе плотничает — тащит обрубок бревна или, завернув в фартук, принесет кучу щепок. В хозяйстве для всего место найдется. Вода с крыши по капельке падает, а кадку доверху наполняет.
Зоя работала на птицеферме. Колхозники на собраниях не раз говорили, что ей можно дать работу потяжелее, на поле, но дальше разговоров пока что дело не шло. Председатель Нянькин отмалчивался, а сама Зоя на людях не упускала случая пожаловаться, что «хворает и на тяжелой работе не может».
Параска, которая работала вместе с ней на ферме, не таясь, рассказывала всем, что у Зои «длинные руки». «Стыда у ней нет, — ругали Зою женщины. — Всегда ей больше всех надо! Хватает и хватает, а куда все? Лопнет когда-нибудь от жадности».
Зоя, как и Макар, не возвращалась с фермы с пустыми руками. То подметет корм, который вчера засыпали курам, принесет домой в переднике, звонко скликает кур:
— Цып-цып-цып! Идите, миленькие, поклюйте!
Из-под навеса, из конюшни и сарая торопятся белоснежные леггорны, последним прибегает злой, всегда со следами ожесточенных схваток с соседскими соперниками рыжий петух с огромным, свисающим на бок гребешком.
— Нате, ешьте! Цып-цып-цып! — ласково приговаривает Зоя, а сама между тем зорко считает: — Одна, две, три… восемь… двенадцать… Будто все здесь, не пропали. А то нынче того и гляди — между двух глаз нос оторвут…
Вечером за столом Зоя рассказывает мужу о своих впечатлениях за день.
— Сегодня там, на ферме, снова три курицы пропали. Господи, и чего им еще: кормим так, что лучше и не надо, овес чистый клюют… Кладовщик этот, Однорукий Тима, все ворчит: мол, такую прорву овса изводите, а яичек не видно. Неужто мы сами его, этот овес, жрем! Держится этот косорукий за свой колхоз, будто за материну титьку, а молока-то там и нет!.. Параска нынче утром тридцать яиц собрала, прости господи! И это от двухсот-то куриц! Известное дело, колхозные, не свои… Петухов неизвестно зачем держат, дерутся, проклятые, каждую минуту, горланят. Да мне-то что, велено кормить, вот и кормим, зазря овес изводим. Ох, и хозяева у нас в колхозе!..
Макар ухмыляется, крутит головой:
— От двухсот куриц тридцать яиц? Эхма, одно яичко на шесть кур!
Зоя подхватывает:
— Известно, колхозные… Наши вот каждый день несутся. Слава богу, подкопим, можно и на базар…
— С колхозными не сравнишь!
— Боровку-то надо соли помаленьку давать, говорят, сало лучше откладывает.
— Он у нас гладенький. Пудов на восемь потянет…
— Почему не потянет? Жрет хорошо. Зайду с ведром, чуть с ног не валит.
— Породы хорошей, должен вырасти.
Разговаривают степенно, так же и едят. Вначале Зоя ставит на стол миску с супом. Зачерпывает Макар, за ним — Зоя, за матерью — Олексан. Иногда Макар строго взглянет на Олексана:
— Ты что без хлеба ешь? Какая сытость будет?
С супом покончено. Макар придвигает к себе тарелку с мясом и начинает делить его на куски. Зоя и Олексан молча ждут. Макар вытирает пальцы о волосы, слизывает с ножа жирные капли и ставит тарелку с бараниной на середину стола. Снова неторопливо едят, молча, сосредоточенно.
Первая встает из-за стола Зоя и начинает мыть посуду. А Макар еще долго сидит, любит высасывать из костей мозги, может посидеть и час, и два. Зубов не хватает разгрызть кость, долго возится с ней, обгладывает. А то берет молоток и дробит ее, достает мозг.
После ужина Макар всегда садится у порога и закуривает самокрутку, выпуская дым в приоткрытую дверь. На дворе темнеет. Летом лампу не зажигают — лишняя трата керосина. Осенью или зимой, если и зажигают, то ненадолго. Летними вечерами Макар любит сумерничать вот так, в своем доме, в своей семье: сидит в полутьме, думает свои думы. Ему хорошо, спокойно: оз особенно сильно ощущает семейное благополучие, достаток в хозяйстве, уважение домашних. И Макар мысленно проводит осмотр своего хозяйства. Это — лучшие часы его жизни. Докурив цигарку, он выходит во двор, закладывает засов на воротах, изнутри подпирает жердью калитку, которая ведет в огород, запирает на замок хлев. В сенях дергает железный крюк — и в амбаре со скрипом задвигается массивная дубовая перекладина. Этот секретный запор сделал Макар сам, долго трудился, зато получилось крепко, надежно. Затем спускает пса с привязи. Мало ли что…
Зоя в это время убирает с кровати подушки с вышитыми наволочками, стеганое одеяло, в изголовье кладет старенькую, жесткую подушку. И укрываются старым домотканым одеялом: не в гостях, переспят и так. Олексан спит на широкой лавке в женской половине. Сквозь сон слышит, как мать зевает и шепчет:
— Охо-хо… Слава богу, день прошел. Дай, господи, счастья, убереги от злого человека… Пошли нам хороший сон. Охо-хо…
Тихо в доме. Большие старинные часы с медными гирями и похожим на лепешку маятником мерно отсчитывают время. Когда они бьют, внутри что-то скрежещет, словно там душат кого-то, и раздается мерное: дон-н! дон-н!
Ночь в деревне тихая. Уставшие за день люди спят, набирая силы для нового дня. Изредка лают собаки, в полночь из конца в конец села вдруг перекатывается петушиная перекличка. Когда наступает его очередь, звонким, уверенным голосом отзывается петух в кабышевском сарае.
Утром Зоя просыпается первая, сразу выходит во двор, осматривает замки и запоры, выходит в огород, смотрит, не побывали ли там мальчишки. Слава богу, все цело, ничего не пропало, все на своем месте. Затем идет к пчелам. Ульи стоят за баней, в саду. Сказать по правде, садом это не назовешь, но Зое он очень нравится, все-таки свой! Несколько черемух, рябина, возле амбара пять-шесть кустов смородины. Пчелам здесь хорошо, привольно: тихо, ветра нет. Ульи стоят двумя рядами, от дождя укрыты лубом. Весной прошлого года вышло два роя, теперь пчел восемь семей. Везет им с пчелами. Мать Макара, когда он был маленьким, ласково говорила сыну: «Ой, сынок, сынок, у тебя в волосах две завихринки — с пчелами будешь жить». Тогда, конечно, своих пчел еще не было. Первый улей поставили на третий год после того, как организовался колхоз. Теперь у них восемь ульев. Зоя любит говорить: «В хозяйстве есть все, одна рука — в масле, другая — в меду». Она смотрит на пчел, и ей кажется, что ее семья похожа на эту, пчелиную: хорошо живут, в доме чисто, тепло, все здоровы.
Из дома слышится кашель: Макар проснулся. Зоя начинает готовить завтрак. По утрам обычно ничего не варят, Макар сам говорит: «Какая может быть еда — с постели за стол». Подогревают остатки вчерашнего ужина, пьют чай — и сыты. Ежели на пользу идет, то и малого довольно.
Макар уходит на работу. Зоя на птицеферму не торопится: там куры с голоду не пропадут, сначала своих надо покормить. Наконец и она уходит. Олексан остается один — стеречь вместе с Лусьтро дом.
Глава IV
Дело уже шло к весне, когда в Акташской МТС организовались курсы по подготовке трактористов. Об этом Макар узнал в конторе: председатель Григорий Иванович Нянькин вслух зачитал бумажку из МТС. Просили выделить одного человека на курсы; за время учебы будут начислять трудодни.
— Кого пошлем? — спросил Григорий Иванович. — Молодежи у нас мало, она все в город едет. Конечно, если человек надумал учиться, мы не можем его держать, это понятно. Только ведь знающие люди и в колхозе нужны, во как нужны! — председатель ребром ладони провел по горлу. — Теперь и в колхозе без знаний не за всякую работу возьмешься. Скажем, те же фермы или строительная бригада: если у человека вместо головы, скажем, кочерыжка, ничего не получится. Потому я и говорю: ученые люди в колхозе нужны!
Длинно говорит Григорий Иванович — как начнет, не сразу догадаешься, когда и чем кончит. На первом же собрании, когда Григория Ивановича избрали председателем, он говорил больше часу.
В Акагурте любят давать людям прозвища. И каких только нет: «Петушок», «Верблюд»… Стоит человеку побыть в Акагурте день-другой, — смотришь, уже и кличка нашлась. И Вот прозвище прилипает к человеку, ходит за ним неотступно, как тень. Так, после собрания к Григорию Ивановичу пристала, как тень, кличка «Путырлы», что значит «Деревянный колокол»…
…На этот раз председатель говорил необычно мало. Объяснил, в чем дело, и попросил членов правления подумать, кого послать на курсы.
Один неуверенно предложил:
— Может, этого… Семена Бабкина, подручного кузнеца?
Ему тут же возразили:
— Нельзя Семку! Посевная на носу, кузницу не закроешь. А без Семена не управиться в кузне. Будет время — и его пошлем.
Макар сидел на своем обычном месте — в углу возле печки. Слушая разговоры про эти курсы, подумал: «А что, если Олексана послать… Неплохо живут трактористы, колхознику будет или нет — еще вопрос, а трактористу… как его… минимум — три кило подавай, и точка! Олексан сумел бы, пожалуй, машинистом на молотилке быть. Хватит ему дома сидеть…» Но предложить сам не решился: еще подумают люди, что Макар своего сынка удобно пристраивает. Узнают, скажут: «А почему это, Макар Петрович, твой сын в колхозе не работал, а на курсы его посылать? Пусть сначала вместе со всеми потрудится, а там видно будет…»
Но тут — как будто прочел его мысли — выручил председатель. Заметив в глазах Кабышева какое-то беспокойство, он спросил:
— Макар Петрович, ты чего это там за спинами хоронишься, а? Скажи-ка, между прочим, куда думаешь устраивать своего Олексана? Он у тебя все равно как молодка, дома сидит. Может, пошлем его на курсы? Как ты сам?
Макар, будто нехотя, сказал:
— Мне что… Надо, так пущай учится. Сами решайте…
Члены правления тоже не стали возражать, были довольны: нашли кого послать — и ладно.
Об этом решении Макар сыну сообщил не сразу, вначале поговорил с женой. Зоя не стала противиться:
— Чего же, пусть идет. Трактористы, известное дело, без хлеба не сидят. Правда, работа у них грязная, но зато прибыльная. И деньгами получают немало. У кого из них нет велосипеда, а то и мотоциклетки? Послать надо Олексана, все равно дома зря сидит…
Только на следующий день, после ужина, Макар начал разговор с сыном. Будто был чем-то недоволен, спросил:
— Ты, Олексан, как дальше жить думаешь? Не ребенок, пора к настоящей работе приучаться. Хлеб — он сам в руки не придет…
Олексан молчал. Про себя подумал: хочет, видно, какую-нибудь новую работу по хозяйству дать.
Макар тоже молчал, ждал ответа. Видя, что сын не отвечает, пояснил недовольно:
— В конторе про тебя решали. На тракторные курсы пойдешь учиться. Трудодни за это дадут… Ну, ты чего?
Олексан равнодушным голосом ответил отцу:
— Пойду. Все равно мне, куда…
На том и кончился разговор.
Через три дня Олексан собрался в Акташ. Зоя припасла ему целую котомку домашней снеди: пирогов, колбасы с кашей.
— Смотри, Олексан, едой направо-налево не разбрасывайся. Кто знает, кого там встретишь! Со всеми хороший не будешь. Вещи при себе держи.
Выслушав советы матери, Олексан взвалил котомку на плечи и отправился в Акташ, на курсы.
На дворе потеплело. В несколько дней вся округа неузнаваемо изменилась. Сугробы, которые, казалось, никогда уже не растают, вдруг осели, земля прямо на глазах очищалась от снега. Горбатый холм — Глейбамал — стал похож на пеструю корову: из-под снега выступили рыжие пятна. По оврагам с шумом и пеной бежит мутная холодная вода. С бледного по-весеннему неба солнце почти не уходит: вечером поздно садиться за лесистый бугор, утром поднимается рано, зорька зорьку встречает. Изредка ветер нагоняет тяжелые, набухшие влагой тучи, мелкий дождик моросит, но потом снова все проясняется. Старики говорят: «Солнце с ветром вдвоем за снег взялись».
По дорогам уже нельзя пройти, на каждом шагу оступаешься. В такое время редко кто соберется в дальнюю дорогу. Если выпадает нужда идти в соседнюю деревню, приходится выходить рано утром, по заморозку. Зато в конторе с утра до вечера толпится народ, без передышки звонит телефон: председатель, счетовод, бригадир, почтальон — все звонят в Акташ. Что ж делать — весна…
Весна… В голых еще ветвях деревьев играет шальной ветерок. Цветы на подоконниках осторожно выпускают зеленые листочки. На тополях шумно кричат воробьи. А надоест ссориться — все разом, будто сговорившись, спускаются на дорогу, роются в мокром навозе. И снова затевают жестокие драки. Шум воробьиного базара слышен во всем Акагурте, и только звон железа в кузнице перекрывает его: это Бабкин Семен отбивает лемеха. Жон-жон! Жон-жон! — раздается над Акагуртом, разносится над рекой.
Река еще скована льдом. Талая вода сбежала по Глейбамалу вниз и разлилась по льду, затопила прибрежные ключи. Многие в Акагурте носили воду из этих ключей для питья, для скотины. Хорошо, что в деревне есть несколько колодцев, а то люди остались бы без питьевой воды.
У своего колодца, в огороде, Зоя встретила соседку Марью.
— Наш ключ водой залило, придется, Зоя, из вашего колодца носить, — просительно сказала Марья.
Зоя наполнила свои ведра и отставила их в сторону. Если женщины в Акагурте встретятся у колодца, не так-то скоро разойдутся. Иногда, забыв, зачем пришли, болтают и час, и другой. У колодца услышишь самые свежие новости, нередко тут же и придуманные.
— Кажется, кто-то у тебя ночевал, Марья? Мимоходом заметила, да не узнала. Показалось, будто нездешний человек.
— Э-э, то агроном новый, говорит, к нам послали, в колхоз. Одну ночь ночевала, просится на квартиру.
— Замужем или одна? Показалось, будто молоденькая еще…
За полчаса Зоя выпытала о новой квартирантке все, что знала соседка. Оказалось, что агронома зовут Галей, она незамужняя, приехала издалека, сразу после учебы, с двумя чемоданами. Видно, надолго…
— Пусть живет, места в доме хватит. Одной-то мне скучно, — закончила Марья свой рассказ.
Новость эту Зоя сразу рассказала Макару.
— Знаю, — неохотно ответил Макар, — заходила в контору. Слышно, около тыщи будет получать деньгами.
Зоя прямо рот раскрыла: тысячу рублей!
И это — какой-то девчонке…
Зоя набросилась на мужа:
— Что же ты, ходишь в правление, а ничего не видишь! Не мог привести ее к нам? Место уж нашли бы.
Небось и за квартиру бы платила… У нас ведь в десять раз чище! Да разве человек с такими деньгами станет жить у Марьи?
На другой день Зоя долго стояла у окна, зорко посматривая на соседский двор. Увидев, что Марья пошла за водой, она быстро опорожнила свои ведра и чуть не бегом кинулась к колодцу.
— Должно, квартирантку чаем угощаешь, Марья?
— Да что ты! — засмеялась соседка. — Полы она задумала мыть. До чего старательная: всю посуду перемыла, цветы по-своему расставила, а сама все поет, поет… По-нашему может говорить, семья ихняя долго с удмуртами жила.
Зоя поджала губы, осуждающе заговорила:
— Чего ж ей не петь, коли такую кучу денег будет получать! А за что? Попробовала бы поработать, как мы работаем, тогда бы запела!
По лицу Марьи поняла, что начала не так, изменила тон:
— Понравится ли ей здесь? Надо бы подыскать ей чистую квартиру. В деревне нашлась бы…
Но Марья сразу поняла, откуда ветер подул.
— Сказала, что никуда от меня не уйдет. И то, не хуже людей живем. У нас все… своими руками заработано!
И даже не наполнив ведра, взяла коромысла и быстро пошла прочь от колодца.
Когда Макар вернулся вечером с работы, Зоя заставила его запереть колодец на замок. Зоя видела, как Марья еще раз пришла к колодцу, увидела замок, плюнула и ушла. Зоя злорадно наблюдала за ней из окна.
На следующий день Зоя, как всегда, работала на ферме. Она насыпала курам корм, подмела насесты и пол, собрала яйца из специально сделанных ящиков. Весной куры стали нестись лучше. С утра до вечера кудахчут, с непривычки оглохнуть можно. Почувствовав тепло, и петухи кричат во все горло. Зимой многие из них отморозили гребешки, но это не мешает им сейчас драться друг с другом. Не успеешь оглянуться — они уже сцепились.
— Кыш, шайтаны! — Зоя бежит к драчунам и разнимает их. — Хорошо еще — зимой не подохли, выжили к весне, поганцы!..
Параску, помощницу, с фермы взяли, теперь она ходит с другими женщинами на поле.
Она, видно, ничуть не жалеет, что ушла, а людям рассказывает, будто Кабышева не чиста на руку. Бесстыжая! Сначала поймай, потом говори: не пойманный — не вор. Да и кто поверит, что Зоя Кабышева таскает с фермы яйца — у нее своих кур полный двор. Да какие куры! И если колхозные куры несутся через день, то разве она виновата? Или ее могут упрекнуть, что собирает остатки корма и уносит домой? Да разве мало пропадает корма, валяется под ногами? Скоро и навоз свой будут жалеть?
Собрав яйца в корзину, Зоя отправилась на склад. Кладовщик, Однорукий Тима, беседовал возле склада с какой-то девушкой.
— В теплые дни двери амбаров надо держать открытыми, — горячилась девушка. — Семенам сейчас особенно нужны свет и тепло. Скажите, чтоб на двери сделали специальные решеточки.
Так это и есть новый агроном!
— Галина Степановна, никак руки не доходят. Мы бы все сделали, да дня не хватает.
— Надо, чтобы хватило! — девушка встряхивает головой, отбрасывает со лба прядь волос. — Значит, надо теперь на час раньше вставать. Есть в колхозе плотники? Ну вот, надо их привлечь.
Кладовщик обратился к Зое, которая в сторонке прислушивалась к разговору:
— Ты что, принесла сдавать? Сколько сегодня?
Выбрав из большой связки нужный ключ, Тима открыл продуктовый склад.
— Давай сюда, тетя Зоя. Сосчитать надо.
Пока кладовщик считал яйца в корзинке, Зоя подошла к соседнему открытому амбару.
— Попробую-ка горошку. Господи, крупный-то какой!
Взяла горстку на пробу, а другой рукой успела насыпать в карман пять-шесть больших пригоршней. В это время ее окликнул кладовщик:
— Тетя Зоя, бери свою корзину. Сегодня много принесла — девяносто две штуки.
— Хорошо кормим, Тима, вот и несутся. Сколько корму выписываете — все без остатка съедают. Меня б так кормили, и то бы начала нестись! — засмеялась Зоя.
Тима пошел по своим делам, и тогда к Зое подошла Галя и спросила в упор:
— Вы украли горох! Зачем?
С лица Зои улыбку словно ветром сдуло. Она замялась, потом заговорила удивленно:
— Осто, за всю жизнь не воровала, боже упаси! Думаю, дай-ка попробую — и взяла полгорсточки. Разве от этого колхоз обеднеет?
— А в кармане?
Зоя злобно посмотрела на девушку.
— A-а… осто… да ведь это… думала, вместо семячек погрызть, взяла горсточку… Если жалко, высыплю обратно. Ах боже великий, из-за горсточки гороху еще вором посчитают!
С видом несправедливо обиженного человека Зоя вошла в амбар и высыпала из кармана горох. С горящим лицом, не взглянув, прошла мимо Гали.
— Ах, видано ли, к амбарам теперь и подойти нельзя! В жизни не брала у других вот ни столечко, а тут… Тьфу!
Она сплюнула и пошла прочь, бормоча:
— Уж и горсточки стало жаль! Берегут, будто свое!
— Какая нахальная эта женщина! Кто она? — спросила Галя у кладовщика.
— Жена Макара Кабышева. Квартира ваша рядом с ними. Да уж они такие…
— A-а, так это они и есть?
— Что, уже слышали? — непонятно чему улыбнулся кладовщик.
— Да…
Хозяйка Гали сегодня утром вышла за водой и почему-то вернулась с пустыми ведрами. На недоуменный взгляд Гали сказала, махнув рукой в сторону соседского дома: «Эти скупердяи колодец на замок закрыли! Да пусть захлебнутся своей водой!» — «А кто они, тетя Марья?» — «Да вот, соседушки наши, Кабышевы. Вредная она, из кулаков. И сынок в мать пошел. Не любят их у нас. Давно пора взяться за них как следует».
Утром, по дороге в контору, Галя нарочно присматривалась к дому соседей. Ничего особенного она не заметила, дом как дом, таких в Акагурте немало. Разве только забор у Кабышевых выше, чем у других, да палисадник далеко шагнул на улицу, будто хотел захватить побольше места. «Почему хозяйка так сердито о них говорит? — подумала Галя. — Должно быть, старые обиды помнит». А теперь она подумала, что тетка Марья, пожалуй, была права.
Глава V
Курсантов разместили в бывшем здании конторы МТС. Разобрали перегородки, рядами расставили железные койки, откуда-то привезли огромный стол. Стены не побелили, — времени не хватило, — и на них так и остались темные пятна.
В общежитии было всегда шумно. Каждый день занимались восемь часов, а вечером отправлялись развлекаться: кто в кино, кто на игрища акташских ребят, а в плохую погоду до полуночи сидели за большим столом, с остервенением стучали костяшками домино. Нет-нет, — раздавался дружный, громкий смех: это очередной «козел» лез под стол.
Из двадцати трех курсантов больше половины были удмурты, несколько русских и татарин Сабит Башаров, небольшого роста крепыш, всегда чему-то радующийся. Многие уже отслужили свой срок в армии — народ здоровый, неунывающий.
Олексан вроде ничем среди них не выделялся. Высокий, широкоплечий, с неторопливыми движениями, он походил на взрослого мужчину. А на самом деле жизни не видел, дальше Акташа не бывал. И, словно котенок, который впервые выбрался во двор и, всего остерегаясь, боязливо жмется к забору, Олексан ко всему вокруг относился с недоверием, держался настороженно, готовый сразу же дать отпор. Впервые в жизни был он долгое время среди незнакомых людей, — кто знает, что это за народ? Не забывал наказа матери: «Со всеми одинаково хорошим не будешь, пальцы на руках — и те разные. Знай себя, и ладно!» Курсанты очень скоро перезнакомились, подружились, а Олексан как-то остался в стороне. Нго никто не гнал — он сам всех сторонился, не желая завязывать знакомства. «Вашего мне ничего не нужно, — думал он, — и у меня не просите. Пусть у каждого свое будет».
В первые дни столовой не было, курсанты жили припасами, привезенными из дома. Все привезли с собой чемоданы, котомки, доверху набитые домашними пирогами, печеньями, соленьями. Кто-то поставил на окно туесок с медом, и, почуяв наживу, стали залетать в открытое окно желтобрюхие осы. В первый же вечер Андрей Мошков из Дроздовки, веселый и немного грубоватый парень, большой шутник, развязал свой солдатский вещмешок, поставил его на стол. Заглянул в него, покрутил носом:
— Эге, пахнет чем-то вкусным, ей-богу! Ну-ка, верный сидор, попотчуй мужиков! Кажись, мать натолкала сюда всякой всячины, одному мне за год не управиться. А ну, налетай, ребята, бери кому что понравится. Давай, не зевай!
С шумом и смехом принялись за угощение, — вещмешок сразу уменьшился в объеме. Заметив, что Олексан одиноко сидит на своей койке, Андрей обратился к нему:
— А ты, сосед, чего сидишь, как в гостях у сердитого дяди? Возьми попробуй шанежки с мясом.
Олексан замотал головой.
— Я — мне не хочется есть.
— Ну, как знаешь. Смотри, потом поздно будет!
«С чего это так раздобрился Мошков? Всего второй день вместе живем, а он уже перед всеми свою котомку открывает… Мать, наверное, ему одному посылала, а он хочет всех накормить. Как потом-то будет жить?» — Олексан никак не мог объяснить себе непонятную и, по его мнению, нехорошую щедрость Андрея из Дроздовки.
Улучив минуту, когда никто на него не смотрел, Олексан торопливо развязал свою котомку и положил в карман несколько вареных яиц, перепеч — жареную пресную ватрушку с начинкой из мяса, яиц и лука. Потом надежно, замысловатым узлом завязал котомку, задвинул далеко под койку. Вышел во двор, направился к угольному сарайчику возле мастерских и, поминутно оглядываясь, торопливо начал есть, давясь крутыми яйцами. Тщательно собрал скорлупу в бумажку, бросил далеко в сторону…
Когда Олексан вернулся в общежитие, все сидели за столом и ели бишбармак[3], который привез с собой Сабит. Увидев Олексана, Сабит поднялся:
— Валла, Аликсан, куда ты пропадал? Аида, пока не кончили совсем, садись с нами. Ты смотри, как шибко работают ребята. Айда, айда, садись!
Сабит был уж очень настойчив, и Олексану пришлось попробовать чужое угощение.
Потом он долго ждал удобной минуты: надо же отблагодарить Сабита. Но в общежитии всегда было людно, Сабит не оставался один. Однажды курсанты пошли на субботник — расчищать двор МТС от разного хлама. Мошков, которого назначили старостой общежития, не позволил Сабиту идти на субботник:
— Сиди, сиди! Другой раз будешь работать за двоих, а сейчас сиди и читай!
Сабит плохо знал русский язык, плохо запоминал названия деталей, — путал даже карбюратор с радиатором.
— Ничего, Сабит, научишься, — успокаивали его товарищи. — Познакомься с русской девушкой, она тебе будет живой грамматикой!
Сабит весело смеялся в ответ:
— Кто знает, увидим. Валла, научусь как-нибудь.
Олексан нарочно задержался в комнате и, когда все вышли, вытащил свою котомку, развязал и протянул Сабиту домашнюю колбасу.
— Сабит, возьми, у нас дома барана резали. Попробуй нашего.
— Якши! — попробовал Сабит угощенье. — У нас такую не делают. Валла, вкусная, язык проглотишь!
Круглое лицо Сабита расплылось в улыбке.
— Твоя мама давала? Скажи ей мое спасибо! Много дал, Аликсан, половину Андрею оставлю.
Олексана будто кто за язык потянул:
— У меня еще осталось! Андрею я сам дам.
Сказал — и сразу же пожалел. Кто его просил? Если бы один ел, хватило бы на целую неделю, а теперь…
Дни проходили быстро. По субботам Олексан приходил домой. И каждый раз Зоя встречала его одним и тем же вопросом:
— Еды хватило? Ничего не украли?
После случая с Сабитом Олексана почему-то сильно задел этот вопрос, зашевелилось чувство обиды на мать. Всегда одно и то же, надоело. «Не украли? Чужим не давал?» Олексан хотел уже сказать матери, что у них там воров нет, но сдержался. Все-таки мать заботится, чтоб ему лучше было. Если бы знала, с какими людьми живет Олексан, конечно, не говорила бы так.
Каждый раз, когда Олексан открывал ворота, навстречу ему, гремя цепью, кидался Лусьтро, лез на грудь, лизал, визжал от радости. Мать, как всегда, заставляла снимать в сенях грязные сапоги. И конечно, как всегда, в доме чисто, перед воскресным днем полы вымыты, разостланы полосатые половики. После шума в общежитии Олексану кажется, будто он оглох, — так тихо дома. Двойные зимние рамы с окон еще не сняли, поэтому с улицы не доносится ни звука. Если выйти на улицу, сразу слышно, как возле складов стучит сортировка, в кузнице гремят железом, а на конном дворе тоненько ржут молодые жеребята. А в доме, как в яме…
Разговоры по вечерам все те же: мать кого-нибудь ругает, беспокоится о своем хозяйстве, Макар не прерывает ее, молча слушает, изредка вставит слово-другое.
Теперь Зоя нашла для своего языка новое точило: не проходит дня, чтобы не вспоминала с бранью о новом агрономе. Та, как заноза, жить ей мешает.
— Приезжают сюда всякие! Да еще и хозяйничать начинают… Ходит — руки в карманы, распоряжается: это не так, да то не так. Будто без нее не знают… Тьфу!
Наконец даже Макару надоело ворчанье жены, и он вступился за агронома:
— Ученый человек, вот и распоряжается. Не зря, видно, пять годов учили. Дело свое она понимает…
Увидев, что осталась в одиночестве, Зоя присмирела, вслух Галю больше не ругала, но, видно, в душе затаила сильную обиду.
Олексан встретился с новым агрономом совсем для себя неожиданно. Возвращаясь в субботу из МТС, еще издали заметил на дороге маленькую девичью фигурку. Девушка стояла в нерешительности перед бурным грязным потоком. Вода мчалась через дорогу, прибывала с каждой минутой, и перепрыгнуть через этот холодный поток нечего было и думать. А если идти в обход, там тоже не лучше: земля размякла, того и гляди увязнешь по колено. Девушка была в городском пальто, повязана серым шерстяным платком. Она топталась на месте и с робкой надеждой посматривала на приближающегося Олексана.
— Послушайте, — обратилась она к нему, — не знаете, как здесь пройти?
Олексан взглянул на свои ноги:
— А у меня сапоги. В них можно свободно…
— Если так, пожалуйста, переправьте меня через этот ручей!
Олексан растерялся. Как ее переправить — вода на три метра разлилась. Вот если бы доска какая или жердь…
— Я буду крепко держаться. Ну, согласны или трусите?
Олексан еще больше смутился, жарко, по-девичьи, покраснел. Сам бы он, конечно, не решился предложить это девушке: совсем незнакомая, и вдруг — взять ее на руки…
— Ну, такой большой, а боитесь. Да ведь я совсем легкая, вам будет не тяжело. Ну?
Неумело, будто одеревеневшими руками, Олексан подхватил девушку и, стараясь не дышать, шагнул в воду. Будь он один, не раздумывая, перебрался бы через поток, но сейчас это оказалось делом трудным. Вода доходила почти до ушков сапог, дно было ледянистое и очень скользкое, раз он чуть не упал. Девушка вскрикнула и крепче обхватила шею Олексана. Она и в самом деле была не тяжелая, Олексан мог бы поднять ее одной рукой, но она дышала так близко и обняла его так крепко, что пройти эти десять шагов было для Олексана труднее, чем взобраться на гору. Олексан иногда ходил в селе на игрища, и, случалось, на колени к нему садилась девушка или он сам садился рядом. Но то было совсем другое, тогда его не обнимали так крепко и не прижимались всем телом!..
Наконец Олексан выбрался на дорогу.
— Большое спасибо, а то я простояла бы там целый день! — засмеялась девушка. — А вы сильный, настоящий подъемный кран! Пожалуйста, не сердитесь на меня.
— Нет, зачем же… — замялся Олексан. — У меня вон какие сапоги, никакая вода не зальет…
Девушка взглянула на него:
— Я вас где-то видела. Вы чей?
— Кабышевых знаете? Я их сын, Олексан.
По лицу девушки пробежала тень, но тут же она снова улыбнулась.
— Д-а, значит, Кабышев-младший? Я знаю вашего отца, он хороший плотник… Ну, до свиданья, мне теперь по другой дороге идти. Надеюсь, подъемный кран больше не понадобится. До свиданья!
Еще раз взглянув на Олексана, она засмеялась и быстро зашагала по дороге, обходя и перепрыгивая лужицы. И лишь тогда Олексан догадался, кто эта девушка. Это ее ругает мать, будто она хозяйничает, распоряжается в Акагурте — непрошеная, незваная. Неужели она такая плохая? Нет, она показалась ему веселой, смелой. Смелая, вот и распоряжается.
Новый агроном могла бы, наверно, найти работу даже для мертвого! Два дня Макар делал решетки на двери амбаров. Только кончил, нашлась другая работа: ремонтировать парниковые рамы. Эти рамы валялись без присмотра на чердаке конного двора с тех пор, как захирели колхозные огороды, — и их успели поломать. Теперь новый агроном задумала восстановить парники.
С утра до вечера бегает она по колхозу с конного двора на склад, со склада — в контору, шумит, объясняет, ругается, смеется. «На одном месте ни минуты не стоит. Под ногами у нее блоха не задохнется!»[4],— сказал кладовщик Тима.
Председатель вначале ее будто вовсе не замечал, стороной обходил. Агроном что ни скажет, Григорий Иванович со всем согласен: «Хорошо, сделаем. Все будет в точности». Выйдет за дверь и сразу же об этом забудет. Галя терпела-терпела, в конце концов не вытерпела.
Когда на ее просьбу сделать на двери амбаров деревянные решетки председатель пятый раз сказал: «Хоро-то, сделаем», — она спросила решительно:
— Когда сделаете? Когда будут решетки?
— «Когда, когда»!.. В ближайшие дни, как только будут свободные люди, сразу и сделаем. Я понимаю, решетки просто необходимы, но что делать: каждому человеку бог дал всего две руки.
— О боге потом. Сейчас мне нужны решетки, семена необходимо проветрить. Когда сделаете?
— Ну, вот вы какая… Я же сказал — в самые ближайшие дни…
— Сегодня! Сейчас же! — Галя так раскраснелась, что, казалось, вот-вот с лица брызнет кровь. — Сейчас же пишите наряд!
И Галя, с сердцем хлопнув о стол председателя выцветшей кожаной перчаткой, опустилась на стул:
— Не уйду!
Григорий Иванович смутился. «Черт их знает, этих женщин: всегда им что-то надо, шумят, покоя не знают. Себя изводят и другим житья не дают. И эта вот тоже: у самой губы дрожат, вот-вот заплачет, но крепится. Ну, что с ней делать? Что тут придумаешь? Эх, то ли дело райфо: дашь по телефону сводку о ходе налоговой кампании — вот и вся забота. В двенадцать часов, как все порядочные люди, шел обедать, в шесть часов закрывал кабинет и шел домой. А здесь и обед не в обед, — сидишь за столом, а к тебе люди идут: этому нужно одно, тому — другое… Во всей конторе мягкого стула не найдешь. В общем, попался!»
Григорий Иванович искоса взглянул на Галю: сидит ведь, сидит гвоздем! До сих пор Григорий Иванович думал о ней: «Ну, девчонка! Жизни не видела, молодо-зелено». Но немного времени прешло, а «молодо-зелено» начала командовать, бросает на стол перчатки.
— Зря вы так, Галя… Галина Степановна. Я ведь пошутил…
— Эти шутки мне надоели. Нас сюда посадили не для шуток!
Сказала — что отрубила. И как только с ней разговаривать?
Председатель взял книгу нарядов и вздохнул с видом обиженного человека.
— Эх, Галина Степановна, не стоит нам ссориться. Я ведь отлично вас понимаю, но что делать, у человека всего две руки…
Вовремя остановился, увидев, как сердито блеснули глаза агронома.
— Сами знаете, плотников в колхозе мало. Придется поручить Кабышеву Макару. Он-то сделает! Старательный, хозяйственный человек. Вот таких бы побольше нам в колхоз!
Галя хотела было сказать о случае на складе, но раздумала. Кто знает, — может, зря она тогда погорячилась. И потом, ведь это не он, а его жена. Хотя квартирная хозяйка Марья о них обоих говорит: «Жадные, с кулацким духом», — но кто знает, из-за него соседи могут повздорить? Когда увидишь дым, кричать о пожаре рано…
Вот после этого разговора и навалили на Макара работы, подбросили даже телегу из тракторной бригады. С одной стороны, это неплохо: знай свое дело, никто тебя не торопит. Инструмент у Макара свой, все есть, что нужно, для плотницких работ — собирал сызмальства, когда научился этому ремеслу. О каждом рубанке или пиле может рассказать в точности, как и откуда к нему попала. Весь инструмент выверен, отточен, — только знай работай. Любой плотник может позавидовать. Что же, у хорошего хозяина и инструмент хорош!
Свой верстак Макар поставил возле конного двора, на солнечной стороне. Ветра здесь нет, на солнце уже можно работать в одной рубахе. Каждый прохожий перебросится с Макаром несколькими словами, а иной постоит немного рядом, свернет цигарку.
— Макар-агай[5], все мастеришь?
— Помаленьку, — не отрываясь от работы, односложно отвечает Макар.
— Денек, а? На весну потянуло!
— Да, тепло. В шубе уже нельзя работать, жарко.
— Гляди, скоро в поле выезжать.
Да, кругом весна, самая настоящая весна. Почуяв запах молодой, выбившейся из-под снега травки, на ферме беспокойно мычат коровы. Возле реки, в большом загоне, бегают овцы. Ягнята, родившиеся зимой, уже окрепли. У барашков, видно, пробиваются рожки, и от того, что нестерпимо зудят лбы, они целыми днями смешно бодаются друг с другом. На птицеферме не умолкают куры.
Собрав бесчисленное множество ручьев и ручейков, Акашур начал выходить из берегов. Летом через нее местами курица может перейти. А сейчас река вспучилась, разлилась.
На мосту то и дело собираются люди, смотрят на половодье, переговариваются:
— Видно, и нынче лед не поднимется, останется под водой?
— Как знать… Может, и поднимется.
— Говорят, если лед поднимается, год будет урожайный.
— Да ну? В прошлом году почти весь остался под водой, а в Дроздовке на трудодень по три кило получили.
— Они работать умеют…
— Скажешь тоже! У нас народ тоже работать любит. Да только, как говорится, каждому стаду нужен хороший вожак. Так-то!
Река шумит. Словно вознаграждая себя за долгое зимнее безделье, она смывает и несет все, что встретится на пути: солому, навоз, щепки, поломанные сучья. Кружась и ныряя, они стремительно несутся вннз, к Каме.
Однажды ночью Акашур совсем расшумелся. Утром люди увидели: по реке плывут льдины.
Глава VI
Вокруг Акташа нет ни глубоких морей, ни высоченных гор. Иногда старики остерегают ребятишек: «Смотрите, в омуте за мельницей не вздумайте купаться! Глубина там такая, двумя вожжами не смерить…» Но это, так, для порядка, говорится. А на самом деле во всем районе нет даже речонки, чтобы можно было гидростанцию построить. Не ставить же турбину на Акашуре, которая летом почти вся высыхает! Поэтому-то среди акташцев давно ходят слухи, что вот-вот построят на Каме-реке большую ГЭС и протянут линию до их села. А пока в длинные, темные осенние и зимние ночи акташцы, так же как и все их соседи в районе, сумерничают около обыкновенных керосиновых ламп.
Если идти по району прямиком, никуда не сворачивая, то на пути будет несколько круто спадающих спусков. Идешь по ровному, гладкому полю, и вдруг — словно огромная ступенька.
Потом снова гладкое поле и снова — такая же ступенька. И в самом деле, похоже на огромную лестницу, не зря же называется «Чертов спуск».
Акташская МТС стоит как раз возле одного такого уступа. Речка Акашур в этом месте запружена плотиной, в жаркие дни трактористы выбегают из мастерской, на ходу скидывают одежду и с разбегу бросаются в пруд. Но вода не смывает с них темных пятен автола, и приходится, как наждаком, натираться песком. Из этого же пруда берут воду насосом в мастерские, здесь же, на берегу, шоферы окатывают из ведер свои машины.
Совсем недавно вокруг пруда, кроме небольшой старенькой мельницы, никаких строений не было. Организовали машинно-тракторную станцию, и, словно после теплого дождя грибы, появились крыши домов, складов, мастерских. Неподалеку от Акташа вырос настоящий городок: с утра до ночи стучит двигатель, то здесь, то там тянется вверх дымок, гремит железо, и даже в Актанте слышно, как в кузнице стучит большой молот. Люди в промасленной одежде бегают взад-вперед, грохочут тракторы, взвизгивают стартеры автомашин — словом, настоящий город! А с наступлением темноты МТС опоясывают яркие огни электроламп: станция имеет свой генератор. И акташцы с нескрываемой завистью посматривают на веселые огоньки соседей, вздыхают: «Эх, светло как! Электричество — оно, конечно, большое дело…»
Говорят, что в Акташской МТС сейчас работает больше трехсот человек. Во всем районе нет деревни, в которой жило бы триста человек. Большая станция! Со всех сторон тянутся сюда люди, каждую зиму открываются разные курсы: то на тракториста учат, то на комбайнера, то на машиниста. Приходит из деревни тихонький, незаметный паренек, поначалу все норовит подальше от машин держаться, а посмотришь через месяц-другой — и диву даешься: гоголем сидит на дизельном тракторе, увидит знакомого — только головой кивнет, прибавит газу и прогремит мимо. Другим стал паренек, цену себе узнал. Надо сказать, эмтээсовских сильно уважают, да и как их не уважать!
…На курсах трактористов само собой получилось, что Андрей Мошков из Дроздовки стал вроде бы за главного. Случится что-нибудь — зовут его: «Андрей, иди сюда, помоги» или «Погляди-ка, Мошков, ладно ли будет так?» Андрей всюду поспевает, со всеми умеет все уладить. Олексан тайком приглядывался к нему, прислушивался к разговорам, думал: «Чего он так… распоряжается? Будто он хозяин тут!» Не мог понять этого! Но если бы Олексан заглянул в себя поглубже, то убедился бы, что он просто завидует Мошкову, всем людям, похожим на него. Завидует тайком, из своего угла. «А почему ты не такой, а? — спрашивал его голос откуда-то из глубины души. — Посмотри, им всегда весело, и работают они будто шутя. Они нигде и никогда не прячутся, ни от кого не таятся. А почему ты так не можешь?» — «Не знаю… Они совсем другие. Мошков или Сабит, если попросить у них, последнюю краюшку готовы пополам разломить. Чудаки, не жаль им, что ли?» И он в тысячный раз повторял себе материны слова: «Всякие люди собрались, отдашь им, а обратно когда получишь — неизвестно. А, может, завтра самому понадобится — где возьмешь? Верно говорят: отдашь руками, а искать придется ногами…»
Так Олексан старался успокоить себя, оправдать в собственных глазах: «Вы как хотите, а и сам по себе».
Но что-то это мало успокаивало, смутно чувствовал он свою неправоту и втайне не переставал завидовать Мошкову, его силе, веселому нраву, его умению хорошо и легко разговаривать с людьми. То, что казалось Олексану трудным, вообще неразрешимым, для Андрея было делом чуть ли не пустяковым. И невольно Олексан следил за Мошковым, тут же осуждая или одобряя его.
В один из вечеров курсанты сидели в общежитии, каждый занятый своим делом. Мошков еще днем говорил, что вечером пойдет в кино. Но уже давно стемнело, а он, скинув сапоги и закинув ноги на спинку кровати, все лежал с какой-то книжкой в руках. Сабит несколько раз его окликал, но Андрей недовольно мотал головой:
— Не мешай, Сабит, не до тебя!
Кончив читать, захлопнул книжку, сел на койке и минут пять сидел, о чем-то раздумывая. Затем встал, подошел к «доминошникам», шумно спорившим вокруг стола.
— А ну, кончайте базар! Слушай сюда, ребята!
Игроки с недовольными лицами обернулись к нему.
Сабит заворчал:
— Валла, Андрей, ты книжку читал — мы тебе совсем не мешали, правда? Почему нам мешаешь козла бить? Совсем не до тебя, валла!
Андрей обеими руками взъерошил свои густые волосы, покачал головой:
— Эх ты, бритый. Стучите целый вечер костяшками, в брюхе — сыто, в голове — пусто. Эх люди-народы!.. Знать не знаете, что на дне морском сидите.
В комнате стало тихо, все с недоумением уставились на Андрея: с чего это он?
— А ты, Андрей, сумел убежать из воды? — подмигнув товарищам, изумился Сабит. — Валла, как? Я плавать умею, зачем останусь под водой?
И сразу же все заговорили, насмехаясь над Андреем.
— Ты, Мошков, видно не читал, а накрылся книгой и изрядно храпанул?
— Иди ложись, может, сон досмотришь!
— Да нет, братцы, он втихаря дернул сто грамм!
Все хохотали. Андрей тоже не удержался, махнув рукой, рассмеялся:
— Эх вы… Я вам серьезно, а вы — смешки. Вот слушайте, в этой книжке ясно написано: несколько миллионов лет тому назад здесь, — Андрей постучал пяткой об пол, — было настоящее море! Я и подумал: может, этот наш Чертов спуск и есть берег того доисторического моря? Эх, узнать бы в точности! Тогда — понимаете? — тут должна быть нефть. У соседей, в Башкирии, в Татарии, давно буровые вышки стоят, нефть качают. Вот бы и мам забурить!
Уж такой он человек, этот Андрей Мошков: сам вспыхивает, как сухая береста, и всех вокруг зажигает. Вот и сейчас курсанты забыли о своем «козле», стали спорить с Андреем. Олексан сидел, как обычно, на споен койке, не вмешиваясь, и опять-таки с завистью думал: «Почему Андрей первый эту книгу прочитал? Я тоже в библиотеке бываю, а книгу эту не заметил. Андрей — тот заметил. А почему не я? И всегда ему так везет!»
Если с людьми живешь под одной крышей, тайные твои помыслы и думы рано или поздно открываются. Так и случилось: сошлись Олексан с Мошковым грудь в грудь. Началось, как всегда: Мошков вбежал в общежитие, сунул кожаные рукавицы за ремень и принялся стаскивать с коек отдыхающих курсантов.
— А ну, хватит вам отлеживать бока! Вставайте, живо на улицу!
Послышались недовольные голоса:
— Слушай, Мошков, чего ты каждый раз шутки выкидываешь! Что там, со дна древнего моря нефть забила? Дай людям отдохнуть!
Андрей загорячился:
— Что, сами не видите? Машины целую зиму под снегом стояли. Теперь кругом тает, вся вода в механизмы льется. Пошли снег очищать!
Поднял на ноги всех — с одним пошутил, с другим поругался. Сабит вздохнул, притворно, с сожалением покачал головой:
— Ай-яй, Андрей, тебе бы завхозом работать, хороший завхоз будешь, веришь мне?
Мошков тут же нашелся:
— Дома у меня дед третий год с печи не слазит. Может, подашься к нему, Сабит? И тебе место найдется!
Сабит еще раз вздохнул и потянулся за одеждой. А Мошков подошел к сидевшему в своем углу Олексану и хлопнул его по плечу.
— А ты чего, соседушка, сгорбился, как хомяк на своей куче? Пошли, мы тебе, так и быть, самую большую лопату вручим! Пошли, пошли, шевели крылышками!
Все, что накопилось у Олексана против Мошкова, вдруг прорвалось. Он выпрямился, со злобой взглянул на Мошкова и с силой оттолкнул его, ударив в грудь. Тот качнулся, но на ногах удержался.
— Ух ты, гад! — выругался Мошков, сжав кулаки, подался вперед, на Олексана. Оба стояли лицом к лицу, готовые броситься друг на друга, не спуская с лица противника ненавидящего взгляда. Еще миг, и не миновать бы настоящей драки, но ребята разняли их. Сабит потянул Андрея за руку.
— Андрей, ты будто совсем маленький, валла! Ой нехорошо, совсем яман.
Но Мошков вырвал руку.
— Ладно, пусти. Не бойся, драться не буду, не стоит мараться… Кулацкое отродье! Я же замечал: он давно на меня косится, да трусил, дурак…
Андрей повернулся спиной к Олексану и, коротко бросив: «Пошли, хлопцы!», направился к дверям. Все пошли за ним, нарочно громко стуча сапогами. Никто даже не взглянул на Олексана. Проходя мимо, отводили глаза. Только Сабит удивленно покачал головой и пробормотал:
— Валла, нехорошо, ай-яй, очень яман…
Олексан остался один в общежитии. И сразу в комнате стало холодно, непривычно пусто. Постепенно он стал понимать, что произошло: «С Мошковым поссорились. Я его ударил, он назвал меня кулацким отродьем. Почему — кулацким? Не пошел снег убирать, так, значит, я — кулак? Меня прислали учиться на тракториста, а не машины из-под снега вытаскивать. Он, Мошков, просто хочет везде первым быть. А какое ему дело до меня? Пусть делает, что хочет, только я тут при чем?»
Олексан посмотрел в окно и увидел, что курсанты работают возле длинного навеса. Мошков работал рядом с Сабитом. Вот он выпрямился, воткнул лопату в снег и вытер рукавом лицо. Что-то сказал Сабиту, оба засмеялись. «Наверное, про меня сказал. Смеются… Ну и пусть…»
Когда курсанты, закончив работу, вернулись в общежитие, Кабышев лежал на койке, повернувшись лицом к стене. Никого не видя, он чувствовал: на него косо посматривают, молча осуждают. Ну конечно, теперь не будут разговаривать. Ведь все слушаются только Мошкова. Ну и пусть, ему, Олексану, от них ничего не нужно. Скоро кончится учеба, все разъедутся по разным бригадам. Чужими были, чужими и останутся, хоть и прожили три месяца под одной крышей. У каждого в жизни своя дорога. И у него своя, не хочет он дорогой Мошкова идти! Нет, он пойдет своей дорогой!..
Олексан стал сторониться Мошкова, держался настороже, готовый в любую минуту ответить обидой на обиду. Но Мошков, видимо, совсем этого не замечал, по-прежнему шутил, кому-то что-то объяснял, распоряжался. Вечерами читал книги или, взяв гармошку, отправлялся на вечеринки к акташским девчатам. Курсанты уходили вместе с ним. Они редко, только по крайней нужде, заговаривали с Кабышевым, старались не замечать, будто его совсем не было рядом. Подобно тому, как Кабышевы в Акагурте отделились от остального мира высоким забором, так и Олексан сам поставил здесь вокруг себя невидимый глазу, но высокий, прочный забор.
После недолгих весенних дней снова наступили холода. Раньше к этому времени на деревьях уже лопались почки. Нынче зима задержалась, как надоевшая скучная гостья.
— Уж пора теплу быть. Бывало, в эту пору в подворотню вода выйдет, бычку напиться хватало, — бормотал Макар, выковыривая из-под слежавшегося снега поленья: их занесло после недавних весенних буранов. Зоя складывала сырые, тяжелые поленья на завалинку: пусть просохнут на ветру.
— Погода нынче совсем дурная, — откликнулась она.
Разговаривали нехотя, вяло перебрасывались словами, подолгу молчали. Все давно переговорено, и каждый знает, что другой ответит на его слова.
Лусьтро зарычал и кинулся к воротам — видно, почуял чужого.
— Макар-агай, собаки вашей боюсь! — послышался ребячий голос.
— Пшел! — крикнул Макар. — Пшел на место!
Ворота приоткрылись, просунулась голова Гришки, сына Параски.
— Макар-агай, про собрание тебе велели напомнить. Сейчас же приходи.
Выпалив заученные слова, Гришка исчез.
— О чем собрание? — спросила Зоя Макара.
— Спрашиваешь, будто впервой! Каждую весну о севе собрания собирают…
Когда Макар пришел, контора была уже полна народа. Ожидая начала собрания, люди разговаривали, смеялись, слова сливались в сплошной гул. Некоторые женщины пришли сюда с рукодельем: знают уже, что если собрали к шести, начнут не раньше восьми. В больших сенях шумела молодежь: у этих свои интересы. Визжали девчата, в углу торопливо сосали окурки подростки, пряча их в рукав. Осторожно пробиваясь сквозь шумливую толпу, Макар заметил сына. Хотел его спросить, почему это он пришел сюда, не заходя домой, но увидел молодых парней, выжидающе, с насмешкой смотревших на него, и молча вошел в контору. Сел на свое привычное место — в углу, возле печки.
Специально присланный из Акташа человек долго говорил о подготовке к севу, то и дело заглядывая в свои бумажки. Говорил правильные слова, только раз оговорился: вместо «культивация» сказал «яровизация». Его слушали молча, не прерывая, осторожно зевали в ладони, а кто-то вздохнул: «Охо-хо, кто не знает, что сеять надо быстро… Не первый год…»
Когда покончили с первым вопросом, председатель Нянькин поднялся, окинул собрание строгим взглядом и откашлялся.
— Вот тут у нас есть заявление Баймашева Ивана Никитовича. Он же Микта Иван. Вам он человек известный, поскольку местный уроженец… Уехал по собственному желанию в райцентр, работает в райисполкоме в качестве обслуживающего персонала. В данное время товарищ Баймашев просит принять его обратно в колхоз. Об этом имеется заявление на имя правления колхоза. По моему мнению, лишние руки нам в колхозном производстве не помешают…
Но Нянькину не дали договорить.
— Как стало трудно, так убежал из колхоза!
— Знаем, какой он работник! Если что, снова убежит…
— Ищет, где легче да прибыльней! Где он был раньше? Кукушке везде дом!
— Не нужен он нам!
Когда немного приутихло, дали слово самому, Микте Ивану. Иван вышел к столу — гладко выбритый, здоровенный детина в хорошем драповом пальто.
— Ишь и впрямь как обслуживающий! — заметил кто-то.
Не таким Микта Иван уезжал из Акагурта, а за то время, что кормил двух исполкомовских лошадей, видно, и сам неплохо подкормился. Да и то сказать: в тяжелые годы в Акагурте на трудодень приходилось по триста-четыреста граммов хлеба, а Микта Иван в исполкоме каждый месяц получал свои триста рублей. Мало этого: не спрашиваясь запрягал жеребца и отправлялся в лес за дровишками, на колхозных лугах скашивал травку, оставляя плешины в травостое. Попросту говоря, воровал Микта Иван, а если ему указывали, многозначительно усмехался: «Что, для исполкома нельзя? А может, меня сам товарищ Чепуров попросил?» Повстречав земляков из Акагурта, хвастливо говорил: «Сравнить ежели с колхозом, раз в десять лучше живу!» Однако, видно, безбедному житью Микты Ивана пришел коней, а может, острым нюхом своим Иван учуял, что конец уже близко. Неспроста он просится обратно в колхоз, ой, неспроста!
Микту Ивана слушали внимательно. В конторе, где сидело больше ста человек, было тихо.
— Между прочим, дорогие земляки, я… это самое… не убежал из колхоза. Был вынужден по слабому состоянию здоровья. Сейчас, можно сказать, здоровье мое пошло в лучшую сторону. Если мое заявление будет принято вами, дорогие товарищи, то я буду трудиться по силе возможности.
Микта Иван подыскивал жалостные слова, старался обойти выбоины, которых было немало на обратном пути в акагуртский колхоз. Да, спесь его как ветром сдуло. Не зря решил он вернуться в колхоз, ой, не зря!
— Ты кончил, Иван? Тогда садись.
Это сказал Однорукий Тима. Тима вообще-то не любит говорить окольно, выкладывает все как есть.
А на этот раз начал издалека, стал рассказывать о другом, будто забыл про Микту Ивана.
В эту войну было такое дело. Под Харьковом немец окружил нас, всем полком попали в мешок. Продовольствие кончилось, боеприпасы тоже к концу, а немец все наседает, жмет, чтобы кольцо, значит, совсем сжать и нас прикончить… Зарылись мы в землю, лежим, стреляем по крайней нужде. Смотрю: сосед мой, солдат вдруг скорчился, за живот схватился. Возился, возился он этак на земле, а потом, смотрю, уполз в кусты. Думаю, ранили парня в живот, плохо дело; но тут не до него стало — немцы который раз в атаку поднялись. Мы — навстречу, тоже озлились. Заваруха была, чисто как в котле. Опрокинули немцев, окружение прорвали, только вышло нас оттуда горсть невеликая… Через недельку встречаю того самого солдата, что в живот ранили. Ходит он, живой и невредимый. Оказалось, никакой он был не раненый, а просто уполз от смертного боя в кусты. Удалось ему выбраться из вражеского кольца… Судили мы его…
Тима замолчал. Кто-то из молодежи нетерпеливо спросил;
— А что с ним сделали, Тима-агай?
Однорукий Тима жестко, со злостью ответил:
— А что делают с дезертирами? Расстреляли, как паршивую собаку!
Сказал — и в упор посмотрел на Микту Ивана. Все тоже повернулись в его сторону. Иван сгорбился на своем сиденье, и, такой большой, стал он странно маленьким, словно мальчишка. Пошарил в карманах, отыскал носовой платок, вытер взмокшую шею.
— Будь моя воля, я бы Микту Ивана к колхозу за три версты не подпустила. Он такой: если не себе, так пусть на месте сгниет. Большой рот малым не сделаешь!
Это голос Параски. Макар Кабышев из своего угла незаметно покосился в ее сторону: «Однако, решительная баба, язык чище ножа работает!»
…Когда голосовали по заявлению Микты Ивана, Олексан увидел, как вместе с другими торопливо взметнулся желтый рукав отцовского полушубка, но, будто испугавшись, тут же исчез… Олексану почему-то стало стыдно, — показалось, что все заметили, как его отец испугался Микты Ивана. Он сразу почувствовал, что в конторе очень душно, с трудом пробрался меж коленей сидящих и выбрался в сени. Почти сразу за ним еще кто-то вышел крадучись; на обледеневших ступеньках поскользнулся и, качнувшись, исчез в темноте. Олексан узнал Микту Ивана.
Акагурт не принял его в свою семью, вытолкнул за свои двери, словно ненужную вещь.
Есть родники у подножья Глейбамала. Мальчишки часто бросают туда щепочки, бурлящая вода крутит их, на мгновение щепки исчезают в глубине, но тут же водоворот их выталкивает, отшвыривает к краям, выбрасывает на берег. Поэтому вода в ключах всегда чистая, прозрачная.
И тут же Олексан вспомнил, как он ходил в Акташ искать работу, вспомнил свой разговор с Миктой Иваном. Теперь ему стало стыдно: что, если бы люди, сидящие сейчас в конторе, узнали об этом? Иван и ему тогда сказал: «В колхозе добра не наживешь…» А здесь его назвали дезертиром. Выходит, у этого самого дезертира он, Олексан, помощи просил, спрашивал совета? Так? Так!
Дверь открылась, в темные сени ворвалась широкая полоса света. Вышли двое мужиков, закрыли за собой дверь, и в сенях стало еще темней.
Олексан слышал, как эти двое зашуршали впотьмах бумагой, свернули цигарки и закурили от одной спички. Помолчали, раскуривая горький самосад; в темноте вспыхивали искры. Олексан тихо стоял в своем уголке, — его, видимо, не замечали.
— Таких, как Иван, я бы из колхоза в шею гнал! — по голосу Олексан узнал Однорукого Тиму. — Они как песок: идешь в гору, а ноги вниз скользят, потому что песок. Гладкие, да скользкие они, как ужи. Попробуй схвати! Законы-то они знают…
— Да-а, это верно, голыми руками таких не возьмешь.
Чей это простуженный, сиплый голос? Олексан никак не мог припомнить. А голос неторопливо продолжал:
— У пчел есть вредитель такой, пчелиный волк называется. По виду будто и всамделе пчела, разницы нету никакой, а вредитель самый настоящий: мед из ульев ворует.
— Есть, есть такие! — это снова голос Однорукого. — Говоришь, пчелиный волк? Волк и есть! У нас еще много таких… И правда, трудно их по виду различить, приноровились… Я вот Макару Кабышеву не доверяю. — Олексан вздрогнул, замер, боясь пошевелиться, чтобы не выдать своего, присутствия, и ловя настороженно каждое слово. — Макар, он с тобой ласковый, смирный, а отвернешься от него — укусить норовит. Спереди золото, сзади — уголь. Не больно верю я ему… Давно не люблю я ласковых: не угадаешь, когда они тебя укусят, с какой стороны подступятся.
— Жена у него — чисто оса…
— Не знаю, кто кого там у них подпирает, одно мне понятно: с такими нам колхоза не поднять! Если бы только могли они, конечно, от колхоза начисто бы отказались, потому как не нужен им общественный интерес. А пока без колхоза они не могут — опять-таки огород нужен, скотину на наши луга выгоняют, дрова колхозные, тягло… Ничего, дай время, — справимся! Выяснится, кто честно трудится, а кто мед из общего улья таскает… Вот только с председателем у нас что-то не клеится…
Олексан устал стоять на одном месте, нога сильно затекла, но он не шевелился. Его слегка знобило, но не от холода, — было страшно слышать эти спокойные слова Однорукого, полные силы и скрытой угрозы. На его счастье, дверь снова широко распахнулась, из конторы повалил народ — собрание кончилось. Мимо Олексана потекла живая река, его толкали локтями, словно отталкивали обратно, в темный угол. Наконец ему удалось втиснуться, поток вынес его на улицу, в лицо пахнуло морозным воздухом. Людская река разделилась на отдельные рукава, растекалась по проулкам, постепенно исчезала, словно уходила в землю.
Олексан возвращался домой вместе с отцом. Макар впереди, Олексан шага на три сзади. Сколько помнит, он никогда еще не шел с отцом рядом, как равный с равным. Может быть, давно, маленьким, отец водил его за руку, рядом с собой, но этого Олексан не помнил…
Глядя на сутулую спину отца, Олексан неотступно думал об одном: «Почему он не поднял руку против Микты Ивана? Не хочет с ним ссориться? А почему другие подняли? Неужели правда, что говорил Однорукий Тима? „Не угадаешь, когда они тебя укусят… Колхоз им совсем не нужен…“ А как без колхоза? Тогда как — каждый порознь, за себя лишь? Неужели все так думают о нас? Почему нас так не любят? Кто мы?»
Так же молча дошли они до своего дома, у каждого — отца и сына — свои думы.
Глава VII
Учеба на курсах в МТС закончилась. Все сдали экзамены, получили права. Медлить нельзя было — поля открылись, не сегодня-завтра нужно выезжать пахать. Молодых трактористов распределили по бригадам.
Олексана записали в пятую бригаду, которая обслуживала акагуртский колхоз. Туда" же попал Андрей Мошков, а Сабит сам попросился зачислить его в одну бригаду с Андреем.
— Мне надо с Мошковым, на одном тракторе будем работать. Он знает, как помогать, а то и карбюратор с радиатором буду путать. Валла, обязательно!
Директор, улыбаясь возразил:
— Но, товарищ Башаров, в пятой бригаде больше нет свободного места. Есть, правда, "Универсал", но ведь вы сами, очевидно, не согласитесь?
Но Сабит удивил директора:
— Почему не согласен? Согласен! Разве "Универсал" — плохой трактор? Кто так сказал? Валла, запишите меня туда, работать надо!
Дело в том, что ребята очень неохотно соглашались работать на "козлике", как ласково называли этот маленький и верткий трактор. Считалось, что он предназначен для женщин. "Козлики" очень капризны — то заводятся с пол-оборота, а то полдня бегаешь вокруг них — хоть плачь. К тому же вид у них уж очень не внушительный: рядом с мощным дизелем или пузатым, добродушным "СХТЗ" "козлик" выглядит невзрачным подростком. Какой же уважающий себя тракторист сядет на "козлика"?
Вот почему Башаров удивил директора МТС. Не согласен, тем лучше! И приказ о назначении Сабита в пятую бригаду был написан. "А дальше, — думал Сабит, — видно будет. Валла, не пропадем!"
Олексану предстояло работать на колесном тракторе Сталинградского завода. Мошков в армии был механиком-водителем танка, поэтому его назначили на трактор "ДТ-54": дизелистов не хватало. Все трое были довольны, что попали в пятую бригаду: она уже несколько лет считалась лучшей в МТС. И все немного волновались каково-то будет?
Тракторы разъезжались по бригадам, в колхозы, на место работы.
В один из солнечных дней, грохоча на всю округу, разбрызгивая талую воду и жидкий грязный снег, тракторы пятой бригады прикатили в Акагурт. Впереди шлепал "ДТ-54", а за ним, воинственно сверкая шпорами, старательно поспевал старик "СХТЗ". Несмотря на всю воинственность, обвислый картер-живот придавал ему совсем мирный вид. Старик доживал последние дни: таких теперь не выпускают; но старые продолжали работать из последних сил, и нередко случалось, что такой латаный-перелатанный ветеран времен коллективизации, подобно старому воину, умирал прямо в борозде.
Позади "СХТЗ" бойко тарахтел "козлик", на нем возвышался улыбающийся Сабит.
Услышав гул тракторов, неизвестно откуда примчались ребятишки, вприпрыжку, прямо по лужам, бежали вслед за тракторами. Сабит посадил рядом с собой сына Параски Гришку. Мальчик был несказанно горд, свысока посматривал на своих друзей, бежавших вслед. Те, конечно, умирали от зависти и бежали не отставая, в надежде, что этот круглолицый веселый тракторист еще кого-нибудь осчастливит, но на "козлике" места уже не оставалось.
Сабит одной рукой придерживал Гришку, который беспрестанно вертелся, норовя каждую минуту свалиться с трактора. Гришка был несомненно счастлив, хотя бы потому, что мог вдыхать запах бензина. Да и кто из акагуртских мальчишек не предпочитает этот запах любому другому? Они ведь бегают за каждой автомашиной — до самой околицы, не обращая внимания на пыль. II видно, именно это им особенно нравится: бежать в облаках пыли и вдыхать запах бензинного перегара. Началось это давно, — и тогда в жизни акагуртских мальчишек совершился крутой поворот, в тот самый год, когда колхоз купил автомашину. Были забыты и войлочные шары, и клюшки, и удочки — все затмила машина. Придя домой из школы, торопливо закусывали и, стащив у матери тряпку, бежали в гараж. Шофер давал ведро, немного бензину и начиналось: мальчишки, как муравьи, облепляли полуторку и мыли, скребли, чистили, терли… Шофер стоял в стороне покуривая, иногда брал чистую тряпку и проводил по машине: тряпка оставалась почти чистой, но шофер хмурился: еще раз надо помыть! Иногда выпадали счастливые минуты, когда шофер сажал своих помощников в кузов и мчал их по акагуртским улицам. Большей же частью кончалось тем, что после чистки и мытья машины они долго ходили, то и дело нюхая руки: пахнет бензином!
А вот Гришке везло с самого начала: шофер ему подарил испорченную фару. Гришка стал героем, ребята ходили за ним гурьбой. Предлагали менять фару на рогатку, лук со стрелами, волейбольную камеру с совсем незаметной дыркой, — Гришка был неумолим!..
У конного двора тракторы остановились. Надо было переправляться на другой берег Акашура.
— Андрей, почему остановился? — нетерпеливо крикнул Сабит. — Давай дальше шагать будем. Айда!
Но Андрей, не отвечая, сошел с трактора, подошел к мосту, нагнувшись, посмотрел вниз, затем постучал каблуком по настилу. Мост был явно ненадежен: весенний паводок и ледоход расшатали его. Сваи выдержали удары льдин, но выдержат ли они теперь пятитонную тяжесть тракторов?
— Если я вместе с трактором в реку нырну, ты, что ли, вытащишь, Сабит?
— Вытащу, Андрей, валла! Давай, поехали.
— Ишь, ты, какой быстрый! У нас говорят: "Раньше батьки в пекло не лезь", — понял?
— Конечно, Андрей, почему не понять? Только мост крепкий, под тобой не провалился, значит и трактор пройдет!
Андрей улыбнулся и решительно полез в кабину. Ох, уж этот Сабит! Ему-то что — "козлик" всюду пройдет, а вот его дизель…
Андрей осторожно тронулся с места. Медленно, словно пешеход по тонкому льду, ощупывая гусеницами каждый сантиметр, трактор ступил на мост.
Олексан со своего сиденья, не отрываясь, смотрел на дизель Андрея, а мост под ним скрипел и ходил ходуном. Сердце его сжалось от страха. Казалось, что трактор ползет невыносимо медленно, время тянется и тянется… Наконец дизель сошел с моста на том берегу, и Олексан облегченно вздохнул. Мальчишки, следившие за ним затаив дыхание, зашумели, закричали, как стая галок: "Прошел, прошел!"
Андрей высунулся из кабины, махнул Олексану рукой:
— Давай!
Вцепившись в руль, не снимая ноги с педали сцепления, Олексан медленно поехал по шаткому мосту. Но странно: ему было сейчас совсем не страшно, не то, что за Андрея. Лишь когда очутился на твердой земле, он почувствовал, что все еще до боли в пальцах стискивает баранку.
— Молодец, Аликсан, якши! — крикнул Сабит с того берега. — Посмотрите, сейчас мой "козлик" бегом побежит!
После тяжелого дизеля и грузного "СХТЗ" мост даже не скрипнул под юрким, поджарым "козликом". Но мальчишки все равно закричали:
— Прошел, прошел!
Гришка стоял возле самого моста, готовый в любую минуту кинуться спасать трактор…
Возле колхозных складов, на лужайке, тракторы выстроились в ряд. Недолго оставалось ждать, пока освободится от снега земля. Отсюда — прямая дорога в поле.
Глава VIII
В этот день Олексан вернулся домой усталый. Во дворе его окликнула мать:
— Олексан, не переодевайся, в погреб надо слазить. Картошки набери: завтра в Акташе базар.
Олексан открыл крышку погреба и отшатнулся: в нос ударил тяжелый, гнилой запах.
Зоя заохала, засуетилась:
— Осто, да никак гниет картошка? Продавать скорей надо.
— А чего ждали? Еще зимой продали бы, — глухо отозвался Олексан, спускаясь в погреб.
— Ишь быстрый какой! Да кто же это картошку зимой продает? Зимой она у всех своя, кому нужна. А теперь на семена, дороже пойдет…
Набрав пудов десять, Олексан вытащил тяжелые мешки и ушел, а мать долго еще возилась в погребе, выбирала гнилые картофелины, бормотала:
— Экую пропасть добра сгноили… Чай, ведра три будет. А я-то недоглядела… Куда ее теперь? Корове разве? Ах ты, господи, недогляд какой!..
Назавтра Макар привел из колхоза лошадь, взял с собой в Акташ Олексана: случится мешки поднимать, воз стеречь — двое не один.
— Да вы глядите там, не продешевите, — пропуская телегу в ворота, беспокоилась Зоя, — с умом продавайте. С утра, может, много всего будет, попридержите, а к вечеру подороже отдадите.
Каждое воскресенье в самом центре Акташа, на большой площади, собирается шумный базар. На заре со всех окрестных деревень тянутся сюда пешие и конные — кто с товаром, а кто и просто так, поглядеть да послушать.
У самого въезда на площадь — ряд магазинов. В базарные дни здесь не протолкнешься. Расторопные завхозы и колхозные кладовщики тащат из селькоповского "Хозмага" колеса, хомуты, седелки и всякий инструмент.
В соседнем магазине "Когиза" школьники в один голос просят продать им самые нужные на свете вещи — учебники, карандаши и переводные картинки. В "Культмаге" кто-то пробует на патефоне новые пластинки: покупатель один, а слушателей — целый магазин. В просторном двухэтажном "Раймаге" рябит в глазах от ярких красок: женщины выбирают ткани. Стоят целый час возле прилавка, рассматривают материю на свет, пробуют на ощупь, отходят в сомнении, никак не могут решить: брать или подождать? Легко продать товар, а вот попробуй купить! Не будь здесь такого множества, все было бы проще: бери, что есть! А тут — глаза разбегаются…
Прямо перед магазинами через всю площадь тянутся крытые столы. На них грудами навалены овощи, в липовых кадушках — сотовый и откаченный мед, в берестяных туесах — сливочное и топленое масло, яйца, молоко, сметана… Богатый базар в Акташе!
За столиками, на еще не просохшей земле, располагаются со своими изделиями деревянных и металлических дел мастера. Народ это солидный, цену своему товару знают и покупателям не навязывают: сам смотри, выбирай, товар лицом. Хочешь — бери широкую лопату или дубовую кадку; хочешь — грабли, не пожалеешь: зубья дубовые, не на один сенокос сделаны; или вот топорище — доброе топорище, в руки возьмешь — легкое, а ударишь — толстую жердь разом перерубишь… А рядом — целая груда веников, штабеля деревянной и глиняной посуды.
Макар остановил лошадь возле скотного ряда.
— Олексан, посматривай тут, а я пойду насчет цен узнаю.
И, словно нырнул в толпу, сразу пропал. Через полчаса вынырнул уже с другой стороны.
— Не спрашивали? Картошка нынче дорогая, покупателей — не отобьешься. Будем ведрами продавать, пудами — продешевить можно. Открывай мешок.
Скоро к возу потянулись люди.
— Продаете? За сколько отдаешь, хозяин?
Олексан обернулся — голос показался знакомым. Пожилая женщина — учительница из Акташской средней школы. Перебирает картошку в мешке. Макар неторопливо ответил:
— Сами видите, картошка хорошая, крупная. Порченой нет. Чистый лорх. Хочешь в суп, хочешь — на семена.
— А вот гнилая!
Макар, чрезвычайно удивленный, наклонился к мешку и, выхватив попорченную картофелину, отбросил в сторону.
— Скажи пожалуйста, и откуда взялась? Да нет, вы не сомневайтесь, разве что одна такая попалась, а остальная — одна к одной, чистенькая!
Учительница развязала свою сумку.
— О цене-то не сказал, хозяин!
Макар пыхнул цигаркой, будто бы равнодушно бросил:
— Да что там — недорого. Ведро — десять.
Женщина удивленно взглянула на него и забрала сумку. В толпе зашумели:
— Послушай, дорогой гражданин: кто же картошку ведром продает? Почему не на пуды?
— Десять рублей за ведро!
— Знал, поди, когда вывезти…
— Моментом пользуются… Из камня масло выжмут!
Олексан стоял около воза, готовый провалиться сквозь землю. Узнала его старая учительница или нет? И зачем только поехал на базар, отец мог бы и сам управиться. Без него пусть хоть двадцать рублей запрашивает!
Люди, ворча, отошли от воза. Макар насмешливо посмотрел им вслед, оскалился:
— Ничего, граждане, еще раз придете! На базаре нынче картошки немного… Хо-хо, целую зиму хранил, берег, так задарма отдавать? Как бы не так. Нашли дурака!
Олексан еще не видел отца таким возбужденным. Глаза его блестели, торопливо ощупывали людей, мешки.
Вдруг откуда-то вынырнул Сабит. Видно, кого-то искал, беспокойно оглядывался вокруг. Олексан окликнул его:
— Сабит, кого потерял?
— A-а, это ты, Аликсан? Понимаешь, ищу Андрея. Из Дроздовки картошку привезли на машине. Продавать надо. Просили Андрея помогать, а его шайтан проглотил, что ли?
Сабит снова нырнул в толпу и затерялся в ней. Олексан еще немного постоял около воза и, видя, что отец не собирается трогаться с места, отправился бродить по базару.
Макар остался стоять со своей картошкой. Больше никто не подходил, даже не спрашивали цену. Однако Макар не беспокоился: покупатели найдутся — ждут, пока он цену сбавит. Ха, он, Макар, на это не пойдет, не ждите. Надо, так и за десять возьмете…
Но когда через час Олексан вернулся к возу, отец по-прежнему одиноко стоял возле полных мешков. Зло буркнул:
— Где ходишь? Давай поворачивай лошадь. Домой поедем!
— А как же картошку? Куда ее? — удивился Олексан.
— "Куда, куда"! — вспылил отец. — Домой, вот куда! Дроздовские привезли колхозную, цену сбили. Пуд за восемь продают, хозя-а-а-ева! Айда, н-н-оо!
Злость свою сорвал на лошади:
— Ну, пошевеливайся! Идет, шаги считает, проклятая, н-н-о!
Олексан сел было на телегу, но отец продолжал ругаться, и он, не выдержав, соскочил и пошел домой пешком, кружной дорогой.
Не мог он сейчас видеть отца, его морщинистый затылок, сгорбленную спину: "Эх, зря поехал! И Сабит все видел, наверное…" И опять все тот же вопрос: "Почему мы не как другие?"
Дома ужинали молча. Одна только Зоя, звеня посудой, наливала остывший суп и нудно ворчала:
— Колхозу — ему что… Дешевле продадут — не велик убыток. Скоро, поди, и носа на базар не покажешь…
Макар молчал, тяжело сопел. Олексан нехотя хлебал чуть теплый, с кружочками жира суп. В комнате было душно, как перед грозой, но окон все равно не открывали. Олексан с растущим раздражением прислушивался к жалобам матери. Это наконец становилось невыносимым.
Олексан положил ложку, встал из-за стола.
— Надо было, отец, продать картошку-то! Чего зря обратно ездили?
Макар поперхнулся, закашлялся, с побагровевшим лицом повернулся к Олексану.
— Что-о? По колхозной цене?
— Ну да! А чем наша картошка лучше?
Макар, уже не сдерживаясь, ударил кулаком по столу, на весь дом крикнул:
— Дурак! Сначала сам заработай! На готовом живешь, ну и не суйся куда не след!.. — И добавил обидное, ругательное слово.
Стало совсем тихо. Олексан хотел крикнуть в ответ, что ему ничего ихнего не нужно, что он сам на себя заработает, но сдержался, схватил фуражку и молча вышел.
Макар с Зоей остались вдвоем. Зоя вполголоса стала успокаивать Макара:
— Осто, Макар, и что это ты… Олексан совсем еще дите, по дурости так… Дай срок — за ум возьмется. Еще будет в дом приносить, не чужой ведь, сын.
Не отвечая жене, Макар сидел возле стола, опустив взлохмаченную голову, думал о чем-то своем.
Спать легли, не зажигая огня. В темноте Зоя долго шептала и вздыхала:
— Ох, господи, не оставь нас, убереги от злого глаза… Живем хорошо, а людям — зависть. Убереги от злодеев, господи, не оставь своими милостями. Вразуми сына…
Давно уже стемнело. Олексан все не возвращался. Во дворе Лусьтро скулил и повизгивал, точно жаловался на что-то.
Макар заворочался — видно, неудобно лёг, закололо сердце. Повернулся спиной к жене. Не в силах заснуть, долго лежал с открытыми глазами, переживая обиду, мучительно думал. Понял вдруг: сердце болит из-за Олексана. Нет, он теперь уже не дите, совсем не по дурости говорил эти слова. У него свое на уме. Подрос, а родителям — непонятный, чужой вроде… Что у него на уме?
Впервые подумал: кому же останется хозяйство, которое они с Зоей собирали по щепке, по крохам? Олексан, видно, хозяином не будет, в дом не принесет.
И, словно вторя тяжелым думам хозяина, во дворе скова жалобно завыл Лусьтро. "Если его не спросить, сам никогда первым не заговорит, все молчит. Будто в чужом доме живет… Ведь в хозяйстве все есть, многим на зависть живем, а Олексану будто все равно. Молчит, отворачивается. Ведь ему останется все хозяйство, жить здесь придется!"
Глава IX
Ледоход кончился, и Акашур угомонился, вошел в берега. На берегу остались следы большой воды: грязный ил, сучья, отливающие синевой куски льда. Эти льдины долго еще лежали на берегу, и из-под них со звоном бежали тоненькие веселые ручейки.
Тишину на полях спугнули люди. На склонах, где невозможно взять тракторами, пахали на лошадях. Крики и песни эхом отдавались в соседней ольховой роще.
В лучах солнца ослепительно сверкают отвалы плугов: они так отполированы землей, что можно смотреться в них как в зеркало. Лемеха с мягким шуршанием разрезают землю, будто острым ножом режут свежий, пахучий хлеб.
В акагуртской тракторной бригаде первым выехал в поле Андрей Мошков. Его дизель, сердито урча, уверенно прокладывал себе дорогу по еще не просохшему полю. Тяжелый пятикорпусный плуг выворачивал влажные пласты земли, и они быстро высыхали на солнце. За плугом скакали грачи, суетливо летали скворцы, внимательно осматривали вывороченную землю и быстро выхватывали зазевавшихся червячков. Бригадир Ушаков в черном прорезиненном плаще шел за плугом и тоже чем-то напоминал большого степенного грача.
Вслед за трактором Андрея в поле выехало все хозяйство бригады: зеленая заправочная тележка-двуколка, бочки с керосином, ящики, бидоны, запчасти… Всем этим теперь ведала Параска: правление колхоза на весь сезон закрепило ее за бригадой. У нее теперь своя телега и лошадь, и Параска очень этим гордится. Женщины посмеиваются над ней:
— Осто, Параска, тебя теперь не узнать!
— Да, она, видно, и сама стала трактористкой?
Но Параска себя в обиду не даст — в ответ весело машет рукой:
— Не ходить же всю жизнь с граблями да серпом! Может, и бригадиром стану!
Попробуй поговори с Параской! Бойкая женщина, как говорится, не дай бог попасться ей на язычок. И не только языком умеет болтать — на работу горяча, бегает как пери[6]. Женщины удивляются, глядя на нее.
— У тебя, Параска, много детей, как ты управляешься?
А Параска смеется:
— Двое плачут, двое смеются, а сама пляшу!
Конечно, ей трудно одной, но люди еще никогда не видели, чтобы Параска грустила или жаловалась. На это у нее времени нет. В бригаде она сразу же со всеми подружилась, стала хозяйски покрикивать, поторапливать. Бригадир Ушаков, всегда очень спокойный, рассудительный человек, узнав, что к бригаде прикреплена Параска, вздохнул:
— Ну, ребята, нынче простоя из-за воды или горючего не будет. Все будет на месте. Но зато и покоя не ждите. Параска — она мертвого заставит бегать!..
Дело в том, что Ушаков еще в прошлом году столкнулся с Параской. Трактористы не раз намекали бригадиру, что неплохо бы отведать лапши с курятиной. Ушаков, решив доставить своим "ребятам" удовольствие, и впрямь отправился в контору и выписал требование на трех куриц. Взял мешок и пошел на птицеферму. Навстречу ему вышла Параска.
— Курятинки захотелось отведать? Как же не захотеть, коли трактор второй день посреди поля стоит! Всего-то три курицы! Что так мало? Может, десяток возьмете?
Бригадир, человек миролюбивый, не чувствуя подвоха, скромно ответил, что пока хватит трех, а там видно будет… Тогда Параска махнула широким подолом перед самым носом бригадира и ядовито проговорила:
— Уйди с глаз! Не видать вам и гузки куриной! Сначала поработайте хорошенько, а потом и курятинку ешьте, бесстыжие!
Об этом случае каким-то образом узнали в МТС, и бригадиру стало просто грустно жить на земле — каждый встречный спрашивал: "Ну как, Ушаков, лапша с курицей?"
Вот почему Ушаков сразу предупредил своих трактористов, что с Параской надо быть настороже.
В бригаде, кроме новичков, было несколько старых трактористов. Олексану пришлось работать на одном тракторе с Очеем — очень молчаливым, замкнутым парнем, который мог заснуть в самые неподходящие минуты и в любом положении. Но больше всех повезло Сабиту: его напарником была девушка. Хотя Дарье следовало бы родиться мальчишкой! С детских лет она ходила и штанах, играла с ребятами, дразнила девчонок, которым от нее часто доставалось. И ко всему тому Дарья научилась играть на гармошке. Старухи, завидя ее, отплевывались: "Тьфу, бесстыжая! Разве девушке пристало в штанах ходить? Срамница!" Дарья не оставалась в долгу: "Куклы с кладбища, вот вы кто!" Дома старая ее мать берегла свадебный сундук; глядя на причуды дочери, все надеялась: авось когда-нибудь образумится, и сундук пригодится… В трактористки Дарья пошла по своей охоте: мужская работа! Правда, думала сесть на дизель, но пришлось примириться с "козликом".
Сабита она встретила неприветливо:
— A-а, курсант! Ох, уж эти мне "молодые механизаторы"!.. Предупреждаю: на "Универсале" старший тракторист — я! После первой же аварии выгоню. Понятно?
Сабит жаловался Андрею:
— Я попал к черноглазому шайтану. Съест она меня, валла!
Андрей засмеялся, подмигнул другу.
— Ничего, поладите. Ты только ничего против не говори, и все будет в полном порядке. Такие "шайтаны" не любят, чтоб их против шерсти гладили.
Был в бригаде еще один "старик" — учетчик, рыжий Коля. За свои двадцать пять лет, гоняясь за счастьем, успел он сменить бесчисленное количество должностей и наконец попал в пятую бригаду. Погоня за счастьем обошлась ему недешево: когда работал на какой-то станции по выгрузке, конец стальной проволоки выклюнул ему глаз. Но оставшийся единственный глаз был у Коли зоркий, и часто парень видел такое, чего многие не видят и двумя. Рыжая копна его волос до поздней осени не знала кепки, — уже падает снег, а Коля все еще ходит без шапки, пылая жарким огнем волос…
Андрей Мошков уже два дня работал, когда в поле выехали другие тракторы. Олексан на своем "СХТЗ" сначала не смог пахать: задние колеса глубоко оседали в мягкой почве, буксовали. Ушаков посоветовал вбить в каждую шпору дубовые клинья-уширители.
— А где их найти, клинья? — озадаченно спросил Олексан.
— Где? Вот штука! Ты знай, Кабышев: у нас в бригаде никогда не спрашивают "где и как?" Не маленькие. Ладно, для первого случая скажу, где их найти: твой отец — плотник, так вот у него не то, что дубовая чурка, но и чугунная, должно быть, имеется. Попроси, и дело с концом! Своему-то сыну не пожалеет.
Если послушать бригадира, все это очень просто. Но уж кто-кто, а Олексан знал, как неохотно расстается Макар со всякой вещью, которая попала к нему во двор. Из-за одной щепки ворчит, а тут — целый чурбан!
Однако другого выхода не было, и Олексан бегом помчался домой. Но дома как назло никого не оказалось. Олексан в раздумье ходил по двору, и тут на глаза ему попалась толстая дубовая чурка. Она давно уже Стояла под навесом — Макар ее как-то прикатил с конного двора. На чурке Макар тесал, пилил, строгал — пригодилась в хозяйстве.
И вот эту самую чурку, расколов надвое, притащил Олексан к трактору. Ушаков одобрительно кивнул:
— Ну вот, а спрашивал: "где да как?" Видишь, нашел! Кто ищет, тот всегда найдет, ты это, парень, учти.
С уширителямн дело пошло на лад. Олексан за день вспахал свои первые два-три гектара. Вечером, сдав смену Очею, он с легким сердцем возвращался домой. Что ни говори, сам вспахал. Значит, он может работать! Это настоящая работа! Теперь его не попрекнут, что живет на готовом — сам сможет помогать родителям: трактористы получают неплохо, и хлебом и деньгами…
Не успел он войти в комнату, как мать, словно облила холодной водой, закричала со слезами в голосе:
— Олексан, что наделал? Э-эх, дурак, дурак! Мы с отцом дни-ночи работаем, отдыху не видим…
Олексан, ничего не понимая, смотрел на мать. С трудом вспомнил: из-за этой чурки!
А Зоя не унималась:
— Хоть бы нас пожалел! Долго еще работать сможем? А этот — помочь не успел, а из дому уже тянет…
Хорошего настроения у Олексана как не бывало. Хотел, чтобы лучше было, а получилось… Одному сделаешь хорошо, другой обидится. И впрямь, со всеми добрым не будешь.
Прошло несколько дней, а отец ни словом не упомянул о чурке. Олексан уже стал жалеть, что так плохо думал об отце. Может, он такой же, как и все? Если заботится о своем хозяйстве, разве это плохо? Ведь каждому, наверно, хочется, чтоб жизнь у него была красивой и богатой.
Но неожиданно между ними снова легла тень.
Уже около недели работали в поле — с утра до вечера. Сам председатель Григорий Иванович Нянькин запрягал в плохонький тарантас своего жеребца и объезжал поля. Ребята смеялись ему вслед:
— И где это он откопал этот тарантас? Вот это председатель!
Видно, Григорий Иванович решил показать пример бережливости: есть в колхозе новый, хороший тарантас, а он вот ездит на стареньком, довоенном… Обнаружил на дороге рассыпанную пшеницу — целый день расспрашивал, выяснял, кто возил семена по этой дороге. По привычке пустился в длинные сложные расчеты: "Семена подвозят на пяти подводах. Если за день сделать три рейса да каждый раз просыпать по пятьдесят граммов…" Цифра получалась внушительная, и председатель забеспокоился: "Надо собрать правление, обсудить. Беречь надо, беречь, каждое зернышко на счету держать".
В эту самую минуту в контору зашел Кабышев Макар.
— A-а, Макар Петрович! Очень хорошо, что пришел. Садись, есть нерешенный вопрос.
И, щелкая на счетах, начал рассказывать о просыпанных семенах, о возможных потерях.
— Чувствуешь, Макар Петрович, куда это может нас завести? Всех нас, да, да! Для колхоза это — не пустяк. Этак мы никогда не поднимемся, да и в районе… не похвалят. Необходимо принять меры. Думаю срочно собрать правление. А?
Макар слушал председателя, время от времени кивал головой, но не прерывал: Григорий Иванович не любил, когда его прерывали. А про себя думал: "Эх, Григорий Иваныч! Правду сказали про тебя — "погремушка". Видишь малую блоху, за ней гоняешься, а большого дела не замечаешь. Зрения недостает, видно".
— Григорий Иваныч, такое дело: на ферме зеленую подкормку бросают на пол, коровы топчут. Хорошо бы кормушки сделать. Работы там немного. Без последствиев корма пропадают… Насчет кормушек и агроном говорила.
Григорий Иванович принял глубокомысленный вид. С минуту посидел молча, постукивая пальцами по столу. Потом решительно поднял голову:
— Подкормка, говоришь? Не до нее теперь. Сеять надо, сеять! Отстаем по сводке. В районе накачают за это. А кого накачают? Меня! А кормушки пока подождут. Эта девчонка суется, куда ей не следует. Вот так вот!
Макар не стал настаивать. Собственно говоря, кормушки эти ему не нужны — это только предлог, чтобы начать разговор о своем. Он сказал, а уж дальше пусть сами решают. Пока не прикажут, сам напрашиваться не станет. Правда, работы там немного, с двумя помощниками можно за день управиться.
Только, раз не просят, не заставляют, нечего соваться. Дома бы, конечно, он такого не стерпел, а тут не его дело…
Посидев еще немного, Кабышев начал издалека о своем деле:
— Земля нынче быстро поспела, Григорий Иваныч. Снег растаял, будто в горячем чае сахар.
— Почва просыхает, это верно, — отозвался председатель. — Весна в этом году… такая, вот именно, снег сошел, будто сахар в чаю.
— Земля-то как сохнет! В огороде, например, с комков уже пыль летит…
— Полетит, а как же! Да-а…
— Если огород сейчас не вспахать, все равно что кирпич на печке — затвердеет земля. Тогда картошку или тех же овощей не жди.
— Конечно, какие там овощи!
Макар начал мять в руках шапку.
— Вот я, Григорий Иваныч, хотел спросить: надо ведь колхозникам огороды пахать?
— Конечно, надо. Да, да, надо помочь колхозникам посадить картошку на личных участках.
Этого-то и ждал Макар.
— Так я бы завтра и начал! Хотел лошадку попросить.
Григорий Иванович искоса взглянул на Кабышева:
— Хм… Макар Петрович, не совсем хорошо получается. Ты — член правления. Пока никому лошадей не давали. Успел бы и после…
— Огородец у меня на взгорке, раньше всех просыхает. Если сегодня-завтра не вспахать, кирпичи будут, не огород…
Григорий Иванович снова покосился на Макара: "Тихий вроде, а хитер, ох как хитер!" Но все-таки выписал Кабышеву распоряжение насчет лошади.
На другой день Макар начал пахать свой огород. Зоя тоже, взяв вилы, вышла, стала разбрасывать навозные кучи. Весь навоз из своего хлева каждый год они вывозят себе в огород. Ни один ошметок не пропадет.
Макару дали хорошую лошадь: за час вспахал почти весь огород. Он легко шагает за плугом, крепко вцепившись в поручни, сильно сгорбившись, ступая короткими шажками. Привычным глазом успевает смотреть и за лошадью, и за плугом, и себе под ноги. Хорошо унавоженная земля с мягким шуршаньем отваливается из-под лемеха. Грачи и скворцы толкаются под самыми ногами пахаря, торопливо обгоняя друг друга, собирают червей. Откуда-то прилетела стая воробьев, посидели-поболтали на крыше сарая и, разом снявшись, полетели в сторону конного двора: там есть чем поживиться.
Огород Кабышевых вплотную подходит к участку — Марьи. Чтобы не ссориться, они каждый год оставляли полоску невспаханной земли. Из года в год эту межу не трогали ни Кабышевы, ни Марья.
Кончив пахать, Макар последний раз проехал с плугом вдоль всего огорода, возле самой межи. И в последнюю минуту не удержался — отхватил от межи длинную полоску в пол-лемеха. А затем еще… Зоя видела, что Макар уже забрался на соседский участок, однако ничего не сказала. Подумала: ничего, Марья одна, без семьи, куда ей одной столько земли… Зато свой огород на полшага стал шире. Ежели год выдастся урожайный, с этой полоски самое малое — пудов пять картошки можно выкопать.
Макар начал распрягать лошадь. И в это время Марье зачем-то понадобилось выйти в огород. Не сняла даже холщовый передник — видно, только что пришла с работы. Взглянув на вспаханный огород соседа, всплеснула руками:
— Осто-о, Макар, ты уж и межу себе отхватил! В мой огород залез!
Макар не успел ответить, как Зоя, покраснев от досады, огрызнулась:
— Бесстыжее твое лицо, Марьек! Нужна нам эта межа! Макар до нее и не доехал, а ты… Вовек ничего чужого не брали, а тут нате!..
Марья на минуту даже растерялась. Ведь врут, в глаза врут, да еще и отпираются! Ладно, она от одной-двух борозд не обеднеет. Только уж слишком стали нахальными эти Кабышевы, воруют да еще тебя же попрекают.
— Кусок изо рта торчит, да еще хотите откусить! Глаза у вас ненасытные, знаем! — зло ответила она.
— Тьфу, Марьек, чтоб у тебя на языке чирей выскочил! Зря наговариваешь на людей.
Ссора разгоралась, дальше — больше. У Марьи накопилась обида на соседей. Давно бы высказала им все, да случая не было.
Макар стоял, прячась за лошадью. Теперь ему стало неловко: черт дернул распахать эту межу! Марья остра на язык, разнесет по всей деревне… Он был бы рад незаметно уйти с огорода.
В этот момент появился Олексан. Возвращаясь домой обедать, он еще на улице услышал крики, но, прислушиваясь к голосам, так и не мог ничего разобрать. А когда понял, густо покраснел от стыда, как тогда в Акташе на базаре. Взглянул на отца: нагнувшись к плугу. Макар торопливо отстегивал постромки. Руки его дрожали, не слушались…
Марья махнула на всех троих рукой, сплюнула:
— Вам всегда не хватает! Весь мой огород себе берите, берите, намажьте на хлеб и жрите! Только не подавитесь!.. Все вы одного корня — и мать с отцом, и сынок туда же!
Марья ушла, а Зоя все ругала соседку: "Бесстыжая, что выдумала…" Макар не вытерпел, сердито прикрикнул на жену:
— Хватит тебе лаяться! — И в сердцах пнул под брюхо лошадь: — Айда, проклятая!
Взяв поводья, почти бегом кинулся с огорода, таща за собой упирающуюся лошадь. Зоя, словно подавившись словами, осталась стоять в огороде.
Олексан, не говоря ни слова, бросился к калитке, не заходя домой, побежал в поле.
Трактор стоял возле кузницы, на лужайке. Олексан еще издали заметил долговязую фигуру Ушакова, а рядом — агронома. Поодаль на ящике сидел рыжий Коля, учетчик. Они о чем-то разговаривали, но, когда Олексан подошел ближе, все трое сразу замолчала. Олексану почему-то показалось, что разговор был о нем.
— Павел Васильич, подшипники стучат, перетяжку надо делать. Вон, стоит трактор. Часа за два управлюсь…
Бригадир помолчал.
— Ну, раз надо, делан… — И неожиданно спросил сердито: — Ты что же это, Кабышев, хреновничаешь? А?
Олексан недоуменно посмотрел на бригадира.
— Нн-е знаю… А что?
— Кто же за тебя клинья будет допахивать, концы заделывать? Я, что ли, или вот — агроном? Ты посмотри, какие клинья остались на твоем участке! Так и знай, колхоз не примет такую пашню. Свиньи — и то чище роют!
Олексан впервые видел бригадира таким злым. Глядя в сторону, пробормотал невнятно:
— Не было видно… ночью. Динамо отказало…
Учетчик, посмеиваясь, вставил:
— Клинышков этих у него соток двадцать наберется. Во, напахал парень! Валяй, Кабышев, у колхоза земли много, гектар не допашешь — не обеднеет… Правильно, Павел Васильич?
Ушаков недовольно взглянул на рыжего.
— Не треплись, Николай! Любишь ты попусту болтать. — И уже мягче добавил, обращаясь к Олексану: — Клинья эти будешь допахивать. И концы придется заделывать. Нельзя так работать, Кабышев. Хорошо еще, агроном вовремя заметила…
Олексан молча полез под трактор. Ушаков с Галей вскоре ушли, учетчик еще постоял, что-то тихонько насвистывая, потом, будто между прочим, спросил:
— Слушай, Кабышев, у матери твоей самогон есть?
— Не знаю, — глухо отозвался Олексан из-под трактора.
— Не знаешь? — притворно удивился учетчик. — Как же это ты не знаешь? Дома живешь… А вообще-то говоря, недурно у вас, Кабышев: коровка, садик, огород. За милую душу можно прожить! Так сказать, полное обеспечение за счет родителей…
Олексан бросил отвинчивать гайку, поднялся, с холодным бешенством ругнулся:
— Иди ты отсюда… к чертовой матери!
— Ишь ты какой! — изумился рыжий учетчик. — Луку поел, что ли?
Поглядывая ему вслед, Олексан бормотал:
— Тоже мне, "коровка, садик"… Пошел ты подальше! Чужое-то легко считать…
И тут же вспомнилась недавняя ссора в огороде, в ушах зазвенел Марьин голос: "Все вы одного корня!" Живо встало перед глазами, как мать дергала головой и кричала что-то в ответ Марье, а у отца дрожали руки, когда он отстегивал постромки. Что-то нехорошее шевельнулось в груди, с неприязнью подумал о родителях: "Что им, земли, что ли, не хватило? Вон сколько прошлогодней картошки сгнило, а куда еще? Все мало да мало…"
К вечеру он сделал перетяжку, завел трактор и поехал допахивать клинья. И какой черт дернул агронома пройти именно по тому участку! Ночью, допахав свой загон, он не стал возвращаться: земли-то там пустяк всего, а горючего целое ведро сожжешь. Думал, не заметят, а изъян от этого невелик.
Уже стемнело, когда к трактору подъехал Ушаков.
— Ну, допахал? — спросил он весело. — То-то, брат! С землей надо осторожней, не смотри, что ее много. Никто за тобой твои огрехи подбирать не станет. Раз тебе доверили ее, значит, будь хозяином! Вот так вот… А куда пропал твой сменный? Сдай трактор, иди домой отдыхать…
Олексан замялся, с тоской глянул в сторону деревни.
— Павел Васильич, я буду в ночь работать. Можно?
— Ты что, не умаялся за день? А домой?
— Так… не хочется. В поле ночью хорошо.
— Ну, дело хозяйское. Работай. Сменщику твоему я скажу…
И бригадир с удивлением посмотрел вслед трактору. Олексан, сгорбившись, сидел за рулем. "Хм, чудак! — покачал головой Ушаков. — Видно, подзаработать хочет…"
Глава X
Приехав в Акагурт, о существовании которого она раньше и не подозревала, Галя решила остаться у Марьи. Гале нравилось у нее. Хозяйка — женщина ласковая, домик у нее, правда, небольшой, но для двоих, вполне достаточно. Марья уступила ей самый светлый и теплый угол, Галя поставила туда койку, столик и подарок хозяйки — большой развесистый фикус в деревянной кадушке.
Первое время Марья часто замечала, что по ночам квартирантка беспокойно ворочается на своей койке, а утром просыпается с красными глазами. Наскоро выпивает стакан молока и бежит на конный двор, к складам.
Возле складов, под навесом, женщины сортировали семена. Галя видела, что они смешивают разные сорта… Она пыталась объяснить им, а женщины посмеивались: "Господи, да мы сами знаем, не первый год, поди, сеем!" Но Галя снова и снова терпеливо объясняла, а в душе ругала себя: "Дура, зачем приехала! Ведь могла остаться на опытном участке института!" В райисполкоме сказали: "В пяти колхозах нет агрономов… Из них Акагут — самый отстающий. Решайте сами, товарищ Сомова, куда ехать". Будто кто за язык ее дернул; сказала, что поедет в Акагурт.
Теперь Галя с улыбкой вспоминает о первых днях в Акагурте. Григорий Иванович вообще не хотел ее замечать. Колхозники посматривали недоверчиво: уж очень молода… Однажды Галя услышала, как один старик сказал ей вслед: "Охо-хо, и такой-то доверили! Жила бы себе в городе у маменьки". Уж лучше бы прямо, в лицо, сказали, легче было бы.
Но начались полевые работы, и Гале стало не до обид: с зарей уходила в поле, возвращалась затемно. Ругалась с сеяльщиками: на пяти гектарах посеяли по заниженной норме… Заставила досеять. Объясняла пахарям: нужно брать глубже, если так, то хлеба не ждите. Люди то тут, то там видели худощавую быструю девушку в неизменной косынке с синими цветочками и черном жакетике под фуфайкой. Она часто подсаживалась в тарантас бригадира Ушакова, вместе объезжали бригады — тракторы работали на разных участках, в трех-пяти километрах один от другого.
Как-то Галя обратилась к председателю: "На конном столько лошадей стоит, дайте мне одну". Нянькин хотел отделаться шуткой: "Ну, Галина Степановна, зачем вам лошадь? Я в ваши годы в день по двадцать-тридцать километров на своих бегал!" Галя вспыхнула: "Время дорого, поймите же". Григорий Иванович сразу изменил тон: "Ну, зачем волноваться? Лошадь бы дали, для вас не жалко. Но где взять тарантас? Я сам на каком драндулете езжу. На нет и суда нет… Есть один Новый тарантас, но зря трепать я его не дам". "Зря? Значит, если агроном будет ездить в тарантасе, это — зря?!" Сгоряча Галя тут же написала докладную в МТС: нет никаких условий для работы в Акагурте, поэтому она просит перевести ее в другой колхоз или отпустить из этого района вообще… Через три дня позвонил главный агроном: "Никуда вас, товарищ Сомова, мы не переведем, будете работать в Акагурте, а что касается условий, то создавайте их там совместно с председателем". К этому времени обида Гали уже успела улечься, она не стала снова обращаться к председателю и по-прежнему ходила по полям пешком. Лицо у нее обветрилось, загорело. Она уже знала всех колхозников в лицо, многих по имени, а с трактористами совсем подружилась. И кроме того, часто она ловила себя на том, что дизелист Андрей Мошков ей нравится: сильный, резкий и, наверное, смелый.
Однажды в субботний вечер, когда Галя в раздумье сидела за столом, опершись головой на руки, Марья сказала нарочито весело:
— Галюш, ты бы сходила на нашу гулянку. Земля вот просохла, — ребята и девчата ночи напролет гуляют на Глейбамале. Сходи-ка, посмотри!
Галя улыбнулась:
— Ой, тетя Марья, что я там буду делать? У меня даже подруги еще нет.
— Вот и найдешь! А может, и дружок встретится.
Шутя да посмеиваясь, Марья все же заставила Галю одеться.
— Сходи, посмотри. Попляшешь с нашими девчатами, песни споешь. Ты молодая, не век дома сидеть! А то совсем заскучаешь.
Галя подумала: и в самом деле, почему не пройтись? Выйдя за ворота, в нерешительности остановилась: куда идти?
…Ночь теплая. Лунный свет пробивается сквозь молодую листву, — и листочки похожи на новенькие монеты, — лежит на земле рассыпанным серебром. Ветер доносит с реки прохладу, ласково вздыхает, и деревья начинают о чем-то шептаться. Может, делят серебро щедрого месяца, а может, спорят о своей красоте… Красивые ночи бывают в Акагурте — расшитые серебряной парчой, весенние ночи!
Где-то на краю деревни переливается гармонь. Что-то тревожное шевельнулось в сердце у Гали. "Польку играют!"
Сразу вспомнились вечера в институте, студенческий хор. Сколько песен они перепели! Здесь девушки тоже много поют, но у них свои, незнакомые песни. Но как зовет к себе эта гармонь! Не в силах устоять, Галя сначала нерешительно, а потом все быстрее зашагала к Глейбамалу. Там, на склоне холма, есть площадка, окруженная черемухами и липами, утоптанная сотнями ног — место игр акагуртской молодежи. С незапамятных времен акагуртские девушки и парни приходят сюда по вечерам, и даже самый старый дед, проходя мимо, должно быть, вспоминает, как лихо плясал он здесь когда-то. На Глейбамал приходят и из соседних деревень — из Дроздовки, Мушкара, из Акташа: уж очень веселые бывают игрища в Акагурте, и народ здесь приветливый, гостеприимный.
Сегодня сюда со своей кировской "хромкой" пришел Мошков Андрей. Он сидит на скамеечке, на самом лучшем месте, и девчата ревнивой стайкой окружили его: гармонист на гулянке — самая главная фигура. Ему нельзя перечить. Если чуть что не по нему, — повесит гармонь на плечо и уйдет, гордый и одинокий.
Андрей перебирает пальцами клавиши сверху вниз и обратно, и ноги сами начинают приплясывать. Кто-то не выдержал — выскакивает на середину круга, отчаянно притоптывает, вскрикивает:
— Эхма, пошел!
За ним выходит другой, третий… Пляшут долго, с присвистом, до боли бьют в ладони.
Недалеко от Андрея сидит Дарья. С некоторых пор эта бойкая, своенравная девушка заметно изменилась, притихла. Куда девался ее задор, мальчишеские ухватки? Дарья стала стесняться ребят! Этого с ней никогда не бывало, — раньше она сама любого парня могла смутить. Девушку будто подменили. А отчего — не понять.
Тут же сидят несколько молодых парней, в сторонке тесной кучкой стоят девчата. Около них увивается, угощает семечками учетчик тракторной бригады рыжий Коля.
Увидев приближающегося агронома, девушки смолкли. Лишь Коля продолжал рассказывать что-то, видно, смешное: язык у него хорошо подвешен.
Заметив Галю, Андрей перестал играть. Мотнул головой в сторону какого-то парня: "Встань, уступи место девушке?"
— Галина Степановна, садитесь здесь, место свободное, — пригласил Андрей.
— A-а, Мошков… Спасибо. И ты здесь? — с деланным удивлением спросила Галя: не знала, что сказать. Чувствовала себя неловко — все молча смотрели на нее.
— Ну да! — отозвался Мошков. — В такие вечера кто дома усидит? Одни столетние старушки!
— А… как сегодня работал, Мошков? Тот большой загон закончили?
Андрей взглянул на Галю о улыбкой. Потом развернул гармонь, тряхнул головой:
— Закончили, Галина Степановна… Ну-ка, девчата, спляшите "по три"!
Галя поняла оплошность: "Вот дура, нашла время о работе расспрашивать".
Играя плясовую, Андрей украдкой посматривал на Галю. Затем, не прерывая игры, подозвал одного парня. Галя услышала, как Андрей просил его:
— Сыграй! Ты же можешь!
Парень неохотно закинул ремень на плечо, небрежно прошелся по ладам. Закрыл глаза, помедлил — будто не знал, что бы такое ему сыграть. Тихий, словно издалека, донесся первый аккорд, потом — все сильнее, громче. И вот уже плещутся по Глейбамалу "Амурские волны".
Андрей задорно крикнул:
— Девчата, пошли!
И, легко шагая, подошел к Гале, остановился перед ней, слегка кивнул головой:
— Прошу на вальс, Галина Степановна!
Галя улыбнулась, поправила волосы, встала. Положив руку на плечо Андрея, нерешительно сделала первый шаг. Андрей осторожно обнял ее.
За ними вышли другие пары. Только рыжий Коля остался стоять один. Он бы не прочь потанцевать, но, кроме Дарьи, никого не хочет приглашать. А Дарья наотрез отказалась танцевать с ним. Вот почему рыжий Коля остался стоять в стороне. Вид у него безразличный — выставил одну ногу, часто отплевывается шелухой. Однако зорко следил за Дарьей, и в его единственном глазу вспыхивали зеленоватые искорки. У рыжего учетчика был свой план.
Закинув голову, слегка улыбаясь, Галя кружилась в танце. Закрыла глаза — и ей показалось, что она в актовом зале института, стремительно кружится по залитому ярким светом паркету. И на ней ее лучшее голубое шелковое платье. Открыла глаза — нет, она на Глейбамале, на игрище акагуртских парней и девчат! Вместо люстр светит полная луна, вместо оркестра наигрывает кировская "хромка", а под горой шумит и шумит беспокойная река Акашур. И с нею танцует, осторожно обняв ее, тракторист Андрей Мошков. И вместо шелкового платья на ней фуфайка.
Гармонь умолкла, пары отошли к краю площадки. Вдруг сидевшая рядом с гармонистом Дарья быстро встала и, ни с кем не попрощавшись, ушла. Девушки окликнули ее, но она не ответила и скрылась за липами. В наступившей тишине стало слышно, как шумит в поле трактор. По-видимому, он работал очень далеко, звук мотора порой совсем пропадал, и казалось, будто большой жук садится, и снова взлетает, и снова садится.
— Сабит там пашет, — сказал Андрей. — Скучает, должно быть…
Он взял гармонь и снова заиграл сам. Девушки стали петь, Андрей подтягивал им, незаметно посматривая в сторону Гали. А та чувствовала эти взгляды и, смущения, сердилась: "Ну, чего он смотрит? Неудобно, люди видят…"
Девушки пели:
В семерых парней влюблялась, Позабыла шестерых, Лишь седьмой с ума нейдет…Мошков наклонялся к гармони, будто прислушиваясь к голосам, с улыбкой поглядывал на девушек и на Галю, стоившую в сторонке. Девушкам начал было подпевать рыжий учетчик, но его сразу подняли на смех:
— Помолчал бы лучше, других послушал! На твоем ухе, видно, медведь три дня сидел!
Коли стал отшучиваться, сам смеялся громче всех.
Бросился обнимать кого-то из девчат, та завизжала, сердито отмахнулась:
— Уйди, бесстыжий черт! Опять водкой несет, фу!
Было уже поздно, петухи пропели полночь. Какая-то девушка затянула новую песню:
Пойдем, милый, проводи меня До подножья горочки… Отозвалась другая: Не проводишь — так ругай себя, А обо мне больше не думай…Скоро все разошлись — парами и поодиночке. На тихих улицах долго еще не стихал шепот и приглушенный смех. Вдруг вырвется девичий голос: "Ой, нет, не верю!", а мужской в чем-то горячо убеждает. Девушка тихонько, словно веря и не веря, смеется…
Когда расходились с Глейбамала, Андрей спросил:
— Проводить вас, Галина Степановна?
Гале очень хотелось, чтобы он проводил. Но согласиться было стыдно, и она засмеялась:
— Ой, спасибо, Мошков, дорогу я найду. Видишь, как светло. А потом, должно быть, тебя ждут…
Андрей не успел ответить, — так и остался с открытым ртом. А Галя уже была далеко. Тогда Андрей выругался про себя: "Теленок! Мямля!" Нажал на клавиши гармони сразу всеми пальцами, и над спящей деревней словно пронесся жалобный вздох гармониста.
…Галя тихо разделась, легла. Но заснуть долго не могла. Подставив лицо под льющийся из окна лунный свет, она закрыла глаза. Снова открыла — сколько света! Она увидела на луне девушку с коромыслом и вспомнила, как мать рассказывала ей в детстве, что эта девушка с коромыслом долго искала по свету свое счастье, а потом попала на луну, да там и осталась. Должно быть, нашла там свое счастье. А она, Галя, найдет ли свое? Может быть, оно совсем не здесь? Кто ей поможет? Кто расскажет? Девушка с луны смотрела на свою сверстницу с земли. Может, она завидует Гале? Ей там скучно, тоскливо, она — одна, а Галя — на земле, среди людей.
Где-то близко скрипнули ворота. Звякнул железный засов, со стуком упала перекладина. Рванулась, зазвенела цепь. Кто-то цыкнул на собаку. В тишине Галя слышала все так ясно, как будто это было рядом, за стеной. "Наверное, у соседей, — догадалась она. — У Кабышевых. Видно, Олексан пришел. Странный он, молчаливый, смотрит исподлобья. Не умею я разбираться в людях. Вот, поговоришь, иногда даже посмеешься, пошутишь, а что у них на сердце — не знаешь…" И тут же, внезапно, острая мысль: "А этот, Мошков? Какой он? Хорошо танцует…"
Галя уснула, положив голову на подоконник, и девушка с лупы долго смотрела на все, пока не скрылась за крышей соседнего дома.
Акагурт спит. Извиваясь, беспокойно ворочается на своем каменистом ложе река, не в силах заснуть": целую ночь она играет с лупой, ловит ее в свои волны.
Иногда спросонья тявкнет собака, и снова все тихо.
Пугая засидевшиеся парочки, по улицам Акагурта долго бродил рыжий Коля. Один вопрос волновал его: куда это исчезла Дарья? Как ушла с игрища, так и не видели ее больше. Коля уже раз десять подходил к ее дому, осторожно стучал в стенку амбара, где обычно спят в теплые летние ночи, вполголоса звал:
— Дарья… Дарья!..
Никто не откликался. Потоптавшись на месте, Коля снова отправлялся кружить по улицам. Дело в том, что Дарья была ему необходима: учетчик решил довести извилистую тропку своей жизни до дома Дарьи. "У них в доме мужчины нет, — соображал он. — Хозяйство будто недурное, коровенка есть. Примут в дом — сам хозяином буду, не зря говорят: можно жениться и на козе, были бы у ней золотые рога!.."
Никто не видел, куда ушла Дарья. А пошла она в поле, к Сабиту. Не видел этого и рыжий Коля. Если бы заметил, конечно, не стал бы зря кружить ночью по улицам.
Трудно угадать, что таится в сердце девушки, но Дарья убежала далеко в поле в своем синем платье, в белом вышитом переднике поверх него… Когда же она — собирается отдыхать, если утром ей надо сменить за рулем трактора своего Сабита? Об этом Дарья, должно быть, совсем не думала…
За зиму с конного двора и из коровников вывезли много навоза, свалили в поле, прямо на снег. Собирались раскидать сразу же, как только сойдет снег. Но Григорий Иванович все откладывал, и сколько ни записывала Галя в "Книгу нарядов": "Выделить на разбрасывание удобрений 10 человек", председатель неизменно вычеркивал запись. Не сегодня-завтра тракторы перейдут на это поле, а кучи будут стоять им на пути, забьют стойки плугов.
С утра Галя направилась прямо в контору. Нянькин уже сидел за своим столом. Любил он говорить колхозникам: "Меня-то вы всегда найдете на месте. А вот вы где шатаетесь?"
Нянькин взглянул на агронома и обеспокоенно подумал, что неспроста она спозаранок явилась сюда, — не иначе, опять будет что-то просить, доказывать. Конечно, так и есть!
— Григорий Иванович, навоз надо немедленно разбросать, иначе он потеряет все свои качества. Кроме того, завтра на этот участок выезжает дизель.
Председатель широко развел руками, вымученно улыбнулся:
— Эх-хе, Галина Степановна, вы никак не хотите верить, что рабочих рук в колхозе нехватка. Вы же видите, еле-еле успеваем худые места латать. Нет людей, вот и весь вам наш сказ. Хотел Баймашев вернуться в колхоз, а колхозники отказали…
— И правильно сделали! А что касается удобрений…
Галя на секунду задумалась, потом решительно сказала:
— Григорий Иванович, если вы мне разрешите, я найду людей!
Нянькин недоверчиво сощурил один глаз. Хм, где же это она найдет людей? Разве что древних старух, которые уже несколько зим с печи не слазят?
На губах председателя снова появилось что-то похожее на улыбку.
Но Галя продолжала:
— Попросим помочь штатных работников из МТФ, с конного двора, с птицефермы! Пока скот пасется, ничего не случится, если каждый разбросает десяток возов. Да разве можно отказаться, ведь не для чужого дяди это, для себя! Думаю, и вы не будете против?
Нянькин немного подумал и решил, что, пожалуй, надо согласиться. В самом деле, эта девчонка неплохо придумала. Сама или кто ее надоумил? И все-таки ему очень не правилось, что агроном слишком часто бывает среди рядовых колхозников, подрывает авторитет руководящего состава колхоза. Должно быть, не обходится и без сплетен, клеветы на него, председателя.
— Конечно, Галина Степановна, в принципе я не против. Не возражаю, нет. Штатные работники наравне со всей массой должны вложить свою долю труда в полевые работы! — Фраза получилась гладкая, и Григорий Иванович с минуту сидел молча, мысленно ее повторяя. — Да, доля труда должна быть! Но… не ручаюсь, что пойдут на такое дело. Народ ненадежный…
— Григорий Иванович, честное слово, пойдут! С таким народом можно горы ворочать, не то что эти несчастные кучи!
— Охо-хо, вы это про акагуртских? Мало еще знаете их! Я, честно говоря, устал с ними, очень устал. Каждый старается подставить ногу, сунуть палку в колесо…
"А может, они с тобой устали, товарищ Нянькин? — с неприязнью подумала Галя. — Не зря же окрестили тебя: "Деревянный колокол". Горе луковое, а не председатель!"
— Значит, вы согласны? Тогда скажите бригадирам, чтобы послали доярок, конюхов, птичниц в поле. С вилами, конечно!
Выйдя из конторы, Галя остановилась на крыльце задумавшись: кого бы еще найти? Хорошо бы собрать человек тридцать, тогда можно было бы справиться за день. Побольше бы мужиков! Но где их взять? Кузнецов не пошлешь — им сейчас хватает своей работы, — вон, как гремят за Акашуром. А что, если поговорить с трактористами? В самом деле!
Она кинулась на окраину деревни, на бегу обдумывая предстоящий разговор с механизаторами.
Трактористы — человек шесть — сидели за столом и дружно хлебали дымящуюся паром лапшу.
— Здравствуйте! Приятного аппетита!" — весело поздоровалась с ними Галя.
— Спасибо! Садитесь с нами, — откликнулся Ушаков.
Мошков, увидев Галю, торопливо хлебнул полную ложку и, обжегшись, замотал головой.
— Ты куда-нибудь спешишь, Андрей? — засмеялся Сабит. — Валла, не торопись, кушай спокойно, это настоящий лапша!
— Видимо. Мошков торопится на работу? — улыб нулась Галя, а Андрей еще больше смутился и сердито свел брови.
— Нет, он только что вернулся со смены, собирается отдыхать, — подхватил шутку кто-то из трактористов. — В последнее время бессонница его мучает…
Так, шутя и посмеиваясь, Галя приглядывалась к трактористам, про себя отмечала, загибая в кармане пальцы: "Андрей, безусловно, пойдет, Сабит от него не отстанет, а этот, Кабышев? Он и слова не проронил. Чего он такой?.. Его надо обязательно вытянуть!"
— Товарищ Ушаков, время дорого. Вот какое дело…
Она рассказала о том, что привело ее к механизаторам. Слушали молча. А Ушаков — до чего же хитер! — кивнул на своих подчиненных:
— Товарищи что скажут… Они, конечно, имеют право на отдых, но если в порядке добровольности… Я ничего не имею против. Хотя навоз — это не нас касается…
Мошков положил ложку на стол.
— Чего там, Павел Васильич, судить-рядить! Например, я согласен, иду. Думаю, все пойдут. Только за Кабышева не решаю.
И он насмешливо посмотрел на Олексана. Галя почувствовала, что между этими двумя происходит что-то неладное. Олексан тоже перестал есть, поднялся и вышел из-за стола. Не глядя на Мошкова, пробормотал:
— Ты за других не отвечай. Всегда распоряжаешься, как будто один тут. Я и без твоих распоряжений пойду.
— Ну, неужели пойдешь? Тебя же никто силком не тащит.
Мошков явно насмехался. Олексан слегка побледнел, повернулся к Мошкову и медленно произнес:
— Не смейся, Мошков, придержи язык. Понял?
Галя встала между ними.
— Ого, вы, я вижу, подраться готовы. Не время. А если у вас руки чешутся, идемте со мной. Только, чур, не драться.
Олексан сдернул с гвоздя свою фуфайку и вышел первым, не дожидаясь других. Мошков со злостью проговорил вслед:
— Не люблю этих… тихих!
…В поле вышло около сорока человек. Нянькин на этот раз перестарался: послал даже старика сторожа на МТФ, а сторож этот на деревянной ноге. Хромого старика Галя тут же отослала обратно.
Работали дружно, но работа ничуть не мешала женщинам болтать. Особенно выделялся певучий говор Кабышевой Зои.
— Господи-и, работаем, работаем, а увидим добро-то, — неизвестно. Минутки не посидишь, гоняют туда-сюда. Виданное ли это дело — штатных работников в поле вывели!
Олексан работал рядом с Сабитом. Он слышал, что говорит мать, и мучительно покраснел, — начали гореть даже кончики ушей. Сабит тоже с удивлением прислушивался к голосу Зои, щелкал языком: "Тц-тц, нечему она не хочет работать?" а Зоя не умолкала; нагибалась, подхватывала вилами комочки ссохшегося навоза, далеко отбрасывала его и все сыпала словами:
— Чай, у людей-то иначе, не как у нас, по-людски. Вот увидите, нам за это и трудодней не запишут, пожалеют. Думала, управлюсь сегодня на ферме с курочками, да дома в огороде покопаюсь. Ан нет, навоз им дался! Так уж оно в колхозе: дома хоть все пропадай, а колхозу подавай!
Сабит изумленно покачал головой:
— Аликсан, какая это женщина?! Валла, она совсем не хочет работать! Слушал ее, в ушах стало нехорошо!
Олексан разворачивал большую навозную кучу и сделал вид, что не слышит. Со злостью подумал: "Помолчала бы, не видит, что ли: люди смеются. Все работают, только ее и слышно…" И тут какая-то доярка сердито набросилась на Зою:
— Хватит тебе каркать-то, Зоя, слушать противно! Что у тебя дома, крыша, что ли, валится или дети плачут? — И прибавила зло: — А если неохота с нами работать, иди копайся у себя в огороде. Мы и без тебя справимся! А то раскаркалась тут… ворона!
— Осто-о, Орина, да разве я про тебя плохое сказала? — пропела Зоя, почуяв, что сказала лишнее. — Я ведь так, между делом…
— Не про меня, так про колхоз! Ладно, иди себе…
Никто из женщин не вступился за Кабышеву, отступились от нее, словно она болела прилипчивой хворью. Зоя поняла это, растерянно огляделась вокруг и, встретив насмешливые, враждебные взгляды, поджала губы.
Отступать было поздно. Тогда она стряхнула с вил комки навоза, вскинула на плечо и, не оглядываясь, пошла прочь. Проходя мимо Орины, плюнула:
— Тьфу, Орина, отсохла бы твоя рука от этой работы!
Орина выпрямилась, с задором ответила:
— У нас-то не отсохнет! Это у тебя, видно, на колхозной работе отсыхают!
Зоя ушла не отвечая. Женщины еще некоторое время поговорили о ней, похвалили Орину: "Молодцом, Орина, давно бы ее так!", а вскоре и вовсе о ней забыли.
Теперь Олексану казалось, что все с неодобрением посматривают в его сторону. Не поднимая головы, он молча ворочал большие кучи, с силой размахивая вилами. А в голове стучало: "А я не уйду, не уйду! Почему другие работают, а мать ушла? Что теперь люди скажут? А я все равно не уйду!"
Глава XI
Олексан кончал загон. Прикинул: "На два заезда остается, не больше". Доехав до конца загона, остановил трактор. Из-под крышки радиатора со свистом вырывались струйки пара — вода уже кипела, надо залить свежую… Через каждые два-три круга приходится добавлять ведро воды: трубки в радиаторе старые, протекают. Трактор по возрасту куда старше самого Олексана: весь в железных заплатах. Старый труженик. Олексан ласково провел рукой по теплому боку трактора: "Ну как, старик, жив? Держись, мы с тобой еще поездим!" А сам все-таки поглядывал с завистью на трактор Мошкова: красавец дизель, словно чувствуя свою силу, вздрагивая стальным корпусом, уверенно входил в борозду и шел, подавшись вперед, как хороший, резвый конь. Вот бы на таком поработать! Теперь Олексан был уверен, что смог бы работать и на дизеле. А лучше всего зимой поехать на курсы дизелистов. Отец, наверное, согласится, а сам он рад бы уехать из Акагурта хоть на полгода. Так хочется куда-то уйти из дома. Про тот случай с огородом Марья рассказала женщинам. Отцу, видимо, теперь стыдно, ругает мать, а та плачет и смотрит на Олексана такими глазами, будто говорит: "Смотри, за что отец меня обижает…" На черта дался им этот огород!
Олексан снова сел за руль и выжал муфту сцепления. В это время сзади послышался крик:
— Эй, Аликсан, подожди!
Не снимая ноги с муфты, Олексан обернулся: к трактору бежал Сабит.
— Что такое?
— Валла, Аликсан, дай мне одну свечу, сказали, у тебя есть. За одной свечой на склад бегать больно долго.
Услышав просьбу Сабита, Олексан неприязненно подумал: "Дай ему свечу! У меня-то целый комплект, так я за ними на склад в МТС таскался, выпросил у кладовщика, а ему готовенькое дай? А может, самому нужны будут, тогда как? Сабит, конечно, хороший парень, а только свечи я сам доставал…" Пряча лицо от Сабита, Олексан пробормотал:
— У меня, Сабит, свечи были, но черт знает, куда подевались… Они в ящике лежали. Видно, напарник мой потерял…
Сабит огорченно вздохнул.
— Ай-яй, Аликсан, это совсем нехорошо! Как можно так работать… без головы? Валла, Аликсан, Очея ругать надо: плохой человек, свечи потерял!
Олексан почувствовал, как щеки его заливает краской. И тут же заторопился, с силой рванул рычаг. И долго сидел, опустив голову, вцепившись в рулевое колесо. Когда наконец обернулся, Сабит уже был далеко: оставляя следы на свежей пашне, бежал к еле видневшемуся вдали дизелю Мошкова. Только тогда Олексан вздохнул облегченно: "Ушел. Хорошо, что не заглянул в ящик с инструментами — свечи лежат там, в тряпке".
Посреди загона остался клин. Олексан махнул рукой: а, черт с ним! На третьей скорости проехал до конца загона, остановился около зеленой заправочной тележки. Откуда-то неожиданно показался Ушаков, словно нарочно поджидал Олексана. Подъехал к трактору, хлопнул своего меринка по крупу: "Стоять!" Теперь он мог идти куда угодно: меринок стоял как привязанный.
Вместе с бригадиром приехал учетчик. Его единственный глаз налился кровью, словно рыжий Коля не спал уже пять ночей подряд. Они подошли к Олексану.
— Ну что, кончил, Кабышев? — спросил Ушаков.
— Как раз вот кончил.
— Хм… ладно. Коля, сколько здесь будет?
В бригаде уже привыкли: стоит учетчику взглянуть на вспаханный участок, сразу назовет точно, сколько есть. Пробовали его проверять: одноглазый учетчик редко ошибался на пять-десять соток. Один у него был глаз, а зоркий, как у беркута.
— Сколько? — переспросил Коля. — Двенадцать, это точно!
— Да ну? — удивился Ушаков. — Двенадцать? Ну, это ты, брат, лишку дал. А ну-ка, "перемеряй" еще раз. Хорошенько смотри!
Учетчик почему-то отвернулся, не смотрел на бригадира. Это в бригаде тоже знают: если Коля, разговаривая, поворачивается к собеседнику невидящим глазом — значит пытается схитрить или пьян. Но для чего это ему сейчас понадобилось врать?
По подсчетам Олексана выходило, что в загоне гектаров десять, от силы — одиннадцать. Однако он промолчал: мерять участки — дело учетчика. Лишь бы не уменьшил, а если больше, он, Олексан, против не будет…
Бригадир подошел к трактору, стал что-то осматривать. Коля подмигнул Олексану, дохнул на него винным перегаром:
— Ох, и сильный же самогон мать у тебя гонит! Аж до пяток пробирает! С трех стаканов взяло…
Знал Олексан: мать тайком варит самогон, в подполье стоят зеленоватые посудины с крепким первачом. "Нужных людей приходится угощать", — говорила Зоя. Но как это одноглазый учетчик туда попал? Коля снова подмигнул, нахально хохотнул:
— Ха-ха, Алешка, не бойся! Нам с тобой вместе жить. У нас пуповины одной ниткой перевязаны, понял?..
Вскоре пришла смена. Медлительный, неповоротливый Очей, дремля на ходу, медленно обошел трактор и так же не спеша стал заливать в бак горючее.
— Ну, уж ты не торопишься, брат! — в сердцах проговорил Ушаков.
Очей ничего не ответил.
— Говорят про тебя — "войлочный клип", так и есть! — выругался тихонько Ушаков. Человек он был спокойный, но Очей каждый раз выводил его из себя.
Показав, где надо начать новый загон, бригадир сел в тарантас.
— Куда пропал этот одноглазый черт? — оглянулся он. — В кусты забежал, что ли, слать улегся… Выпил… Что-то частенько он стал на людей своим бельмом смотреть. Ну ладно, не потеряется, придет. Айда, Кабышев, садись, вместе поедем. Ты на квартиру?
Изба, где жили трактористы пятой бригады, находилась на самом краю деревни, у спуска к реке. В правлении решили — у Петыр-агая самое подходящее место; семьи у него нет, дом большой, бабушка Одок стряпать мастерица, будет бригаду поить-кормить.
У стариков единственный сын погиб в минувшую войну. Бабушка Одок, маленькая, с морщинистым живым лицом, глядя на фотокарточку сына, каждый раз вздыхает и утирает слезы. Дед не может этого переносить: заметив, что у жены глаза опять мокрые, начинает ворчать: "Ну вот, опять реветь! Сколько раз я тебе говорил? Горю слезами не поможешь…" Конечно, ему и самому тяжело, но он этого не показывает. На сердце ведь морщин не видно, и если человек не рассказывает о своем горе, подчас кажется, что его, горя, и вовсе нет.
Стар уже Петыр-агай, под семьдесят, но нашел себе подходящее дело: каждый день ходит пешком в Акташ, носит почту. За это ему начисляют по семьдесят сотых. Любит он поговорить, особенно о старине, о делах, давно минувших, готов рассказывать ночи напролет. Трактористам у него хорошо, и хозяйкой, бабушкой Одок, они тоже довольны.
Когда Ушаков с Олексаном приехали с поля, в избе, кроме хозяев, был один Андрей. Старик, по обыкновению, что-то рассказывал, а Андрей у окна читал газету.
— Ого, дед, никак лапти плетешь? Дай бог силы! — с порога крикнул Петыр-агаю Ушаков.
— Спасибо на добром слове. От безделья рукоделье, как в пословице говорится, — отозвался старик. Заметив, что бригадир собирается свернуть цигарку, предложил: — Попробуй-ка моего табачку, Павел. Сам я его не больно уважаю, очень уж злой — за грудь хватает. Вон на шестке, в железной баночке.
Ушаков оторвал клочок от газеты, свернул, сильно затянулся — сразу закашлялся:
— Ух! Ну и табачок, Петыр-агай!
— Кури-кури, не купленый, всем хватит. В прошлом году за баней, в огороде, целую грядку посадил. Сам-трест!
Ушаков долго смотрел, как проворно орудует кочедычком Петыр-агай.
— Смотрю я на тебя, Петыр-агай, и никак не пойму: для какой надобности тебе эти лапти? Новенькие сапоги имеешь. Скупишься, что ли?
Старик ответил не сразу. Потом, повернувшись к бригадиру, замотал головой, засмеялся:
— Хе-хе, говоришь, что я скупой, дескать, под старость лет жадничать стал, а? Ты, брат, не путай! Подумай сам: мне, как говорится, каждый божий день надо в Акташ и обратно бегом бегать. А в сапогах-то тяжеленько мне, старику. Скупость — не глупость, только, как говорится, я не таковский. Надо будет, так завтра же куплю пять пар сапогов! Хе-хе!
Петыр-агай спрятал усмешку в бороде. Но, видно, слова бригадира задели его за живое. Стряхнув с колен обрезки лыка, встал, похлопал по карманам, нащупал трубку, стал набивать табаком.
— Вот расскажу я тебе про давнишнее дело… Был в нашей деревне такой человек, Камаем его звали. А в деревне прозвали "Деготной душой". Однажды, как говорится, случилась у меня причина к нему зайти, стало быть, нужда в деньгах подошла. А он всегда при деньгах был, говорили, что и золото у него где-то, припрятано… Иду я к нему, а он самый раз сидит у своих ворот. Сел я рядом, трубку закурил. Поговорили о том, о сем, он не спрашивает, зачем я пришел, и я не тороплюсь. Под конец выкурил трубку и начал о своей нужде: мол, думаю обзавестись коровенкой, да денег маловато. Не будет ли у тебя, Камай, взаймы до осени? Посмотрел он на меня большущими глазами, ну, чисто как у быка, и говорит: "Не верю, что нет у тебя денег". — "Отчего, спрашиваю, не веришь, разве видно?" — "А вот, говорит, закуривал трубку, а спичку зря потратил, мог бы из моей трубки прикурить!" Тут я и денег у него не стал просить, плюнул да и пошел. Вот, думаю, какой ты, душа твоя деготная!
Ушаков захохотал и закашлялся, поперхнувшись дымом. И еще несколько раз переспрашивал, смеясь:
— Значит, лишнюю спичку потратил, да, Петыр-агай?
Охо-хо, вот это экономия! Если бы наша бригада по этому методу работала, тысяча процентов экономии было бы, не меньше!
Неожиданно вмешался Андрей:
— Павел Васильевич, Сабит в больнице.
У Ушакова сразу вытянулось лицо.
— Как в больнице? Что с ним?
— Из-за меня. Свеча у него в поле лопнула, прибежал ко мне. Как раз у меня одна палилась. Бери, говорю, мне не нужна.
И Андрей почему-то взглянул на Олексана. Олексан невольно съежился, как будто за шиворот ему насыпали горсть колючих ячменных остьев. Андреи продолжал:
— А у меня как раз засорилась питательная трубка. Попросил Сабита: закрой конец патрубка, чтобы масло не бежало. А он воткнул туда палец! Да так, что не вытянуть: палец-то в теплой солярке разбух… Мне и смешно, и жалко. Чудак человек: стоило из-за каких-то капелек горючего! У самого в глазах слезы: больно, тянет палец, а он не идет. Я уж подумал отпилить патрубок, но он тут как-то вытянул. Вся кожа, конечно, слезла… Кровь бежит, а он прыгает и кричит: "Валла, валла!"
Бригадир не удержался, шепотом ругнулся:
— Да, с вами и посмеешься, и поплачешь! Эх вы, дураки! Сначала шагнете, а потом смотрите, что под ногами. Где же он теперь?
— Я же говорю, пошел в Акташ, в больницу. Еле уговорили, не хотел. Боится, что трактор из-за него зря простоит. Хорошо, Дарья устроила ему взбучку.
— Небось пошла с ним?
— Не-е-т, один ушел, А вообще-то она бы не прочь… Видели, как она на него смотрит? Тут уж все ясно. Сейчас она за Сабита работает.
— Бедняжка, и эту ночь не спала, как же работать будет? — вздохнула бабка. — Не случилось бы чего…
Андрей засмеялся:
— Это с Дарьей-то? Да она сама хошь кого напугает!
Старуха снова вздохнула.
— Этот Сабит вроде парень самостоятельный. Совсем как наш Гирой. Он тоже, бывало…
Петыр-агай искоса взглянул на жену: ну вот, опять…
— Ты, Одотья, ребят словами не корми! Они, должно, проголодались, собирай на стол. Павел Васильевич. Олексан, айда, садитесь. Ондрюша успел еще до вас поужинать.
Но Олексану было не до еды. Сев к окну и отвернувшись от товарищей, молча смотрел невидящими глазами на улицу. В голове путались мысли: "Вот тебе и свеча! Дай я тогда Сабиту свечу — ничего и не случилось бы. Мошков думает, что он виноват, а ведь это я… Из-за меня Сабит палец ушиб… И почему Андрей сразу дал Сабиту свечу? Говорит, была ненужна. А разве мне тогда были нужны? Хорошо, что догадался сунуть в карман. Андрей что-то косо посматривает — неужто знает? Ну-у, вряд ли… А может, взять да рассказать, как было все?"
Но рассказать не решился. Станут смеяться: мол, собака на сене, сама не ест и другим не дает! Лучше промолчать, никто не узнает, а потом забудется. Мать, конечно, сказала бы: правильно, так и надо, со всеми добрым не будешь!..
— Ты чего это, Олексан, за стол не садишься? — спросила бабушка Одок. — Смотри, остынет суп, невкусный будет.
— Я… что-то не хочется мне, — помотал головой Олексан, быстро встал и вышел во двор. Открыв калитку, пробрался в огород, ступая через грядки картофеля, спустился к речке. Воровато оглянувшись, торопливо вынул из кармана грязный промасленный сверток со свечами и, не глядя, коротко взмахнув, швырнул в воду. В прибрежных зарослях ивы глухо плеснула вода, кругами пошли мелкие волны; дошли до обоих берегов. Большая зеленая лягушка долго смотрела не мигая на человека, потом сильно оттолкнулась задними лапками, распласталась в воздухе и плюхнулась как раз в то место, куда упал сверток.
…Поздно вечером из больницы вернулся Сабит. Руку ему толсто обмотали, и Сабит держал ее немного на отлете, словно боясь запачкать о свою одежду белоснежный бинт.
— Валла, очень долго стоял в очереди. Врач чем-то нехорошим смазал, ай-яй, шибко болит рука!
"Сказать или нет? — все раздумывал Олексан, не слыша слов Сабита. — Если скажу, что тогда обо мне подумают? Андрей Мошков снова станет насмехаться: дескать, кулак, для себя одного живешь… Ну, теперь свечи далеко, поздно об этом говорить. Кто видел? Никого не было там, одна только лягушка. Она-то не расскажет никому… А все-таки нехорошо получилось, он как неловко! Лучше бы отдать тогда эти несчастные свечи Сабиту. Теперь-то поздно. Вышло ни себе, ни Сабиту".
Глава XII
Прошли теплые дожди, кругом все зазеленело. И откуда только берется такая сила! Всюду, где только есть щелочка, пробивается зеленая травка, будто на глазах растет, выпускает листочки, раскрывает звездочки-цветы, тянутся они ввысь, к теплу, к солнцу! Словно хорошее тесто, все поднимается пышно, растет, тянет из земли живительные соки. И ничем не остановить этот рост!
Скотину давно уже выгоняют на луга. Пастух каждое утро будит Акагурт, вместе с первыми лучами солнца начинает песню его рожок. А женщинам, которые крепко спят по утрам, пастух стучит кнутовищем в наличники окоп: "Эй, тетенька, выгоняй скотину!"
Кто-то спозаранку торопится на речку по воду, ведра будто наперегонки бегут, тоненько поскрипывают. По-над речкой тянется лента тумана. Просыпаются галки, которые гнездятся на старых ивах, растущих вдоль речки. Перелетая с ветки на ветку, шумно кричат. Вот и скотину выгнали. Возле колодцев звенят ведра, из труб поднимается столбами сизоватый дымок — день будет погожий. В кузнице уже позвякивает железо, торопливо начинает стучать мотор: к тракторам пришла дневная смена. Все новые и новые голоса вплетаются в этот утренний хор и разносятся над деревней, рекой. Начинается трудовой день.
Жизнь Кабышевых неторопливо текла по привычному руслу. Пришла весна, но ничего не изменилось. По-прежнему дом будто пристально всматривается в поле. Как и раньше, зимовавшая за наличником воробьиная семья выводит птенцов. В скворечнике, поднятом на высоком шесте, снова поселились скворцы, с боем вытеснил самовольно вселившихся воробьев. Кажется, даже скворцы — и те прилетели старые, прошлогодние.
В садике, что за баней, Макар выставил ульи. Все восемь семей хорошо перезимовали, были здоровые и сильные. Макар установил ульи на прежнем месте, летками к востоку. В теплые солнечные дни пчелы дружно летают, кое-что уже приносят в родной улей. Вот скоро ива распустит сережки, тогда им будет вдоволь работы, успевай только носить!
Готовясь к выходу новых роев, Макар вытащил из сарая пустые ульи, старательно отмыл, с них горячей водой пыль и старый воск, долго скреб ножом. Когда-то эти ульи были в пчельнике его тестя, Камая. Много было пчел у Камая, кадушки с медом годами стояли в его амбаре. Но вдруг ему не повезло: пчелы погибли от загадочной болезни — в один год двенадцать ульев пропало. "Наколдовали, видно, сглазили недобрые люди", — решили тогда. Уже много лет с тех пор прошло, и теперь Макар знал, отчего погибли пчелы тестя: заразились тяжелой болезнью, в книгах ее называют "американским гнильцом". Это очень опасная болезнь: если пчелиная семья заразится, через два-три месяца вся погибнет, и молоди не останется — "гнилец" и ее поражает. Вот почему Макар так тщательно чистил ульи, доставшиеся ему от тестя: говорят, что зараза эта долго сохраняется.
Да, хорошо живут Кабышевы, в доме надолго поселился достаток. Макар с Зоей живут в мире и согласии, на людях друг другу слова плохого не скажут. А если Макар когда и прикрикнет на жену, так что ж, в какой семье этого не бывает! Да и сама Зоя — не дура, мужу не перечит. Знает наперед: если промолчать, Макар скорее остынет, а после сам же будет чувствовать себя виноватым. За двадцать лет Зоя, слава богу, изучила его характер… В деревне кое-кто из женщин просто завидовал ей: "Легко живется Зое, без горя… Теперь сын подрос, женихом стал, будет в доме невестка, тогда Зоя и вовсе заживет припеваючи".
Приглядываясь к Олексану, Зоя и сама начала задумываться: "Женить надо парня. А то не дай бог сойдется с какой-нибудь голодранкой да и женится, отца с матерью не спросившись. Родному сыну невесту выберу сама".
Тревожилась Зоя не зря: последнее время Олексан редко приходил с работы домой, ночевал в бригаде. А если и придет, ходит взад-вперед по комнате, будто не сидится ему в родительском доме, словно и не дома он, а у чужих людей. Зоя раздраженно думала о всех людях, с кем встречался Олексан: все ей почему-то казалось, что они переманивают его к себе и Олексан с каждым днем отдаляется от нее, от родного дома.
"Женить надо Олексана, — думала она, — не маленький, восемнадцать скоро. В бригаде у них всякие люди собрались, того и гляди испортят пария".
Но о своем намерении она покуда никому не рассказывала. Приглядывалась к акагуртским девушкам, приценивалась по-своему. Хотелось, чтоб невестка была не простой колхозницей, а служила бы где-нибудь, получала деньги. Но таких в Акагурте не было. Акагуртские девушки работали в своем колхозе и уходить пока вроде не собирались. Так что не находила Зоя по душе невестку. Правда, была одна, которую Зоя не прочь бы пустить в свой дом, — Дарья-трактористка. Работали бы вдвоем с Олексаном на тракторе, думала Зоя, и сколько хлеба бы получали! И деньгами немало, — прямо сказать, хорошие заработки у трактористов. Да вот беда: говорят, эта Дарья сошлась с татарином из своей бригады. Тьфу, бесстыжая!..
Как-то раз Зоя, желая испытать сына, будто бы в шутку сказала:
— Старухой я становлюсь, ведро воды принести тяжело. Вот возьмем да и женим мы тебя, Олексан. Свадьбу справим…
Олексан вспыхнул, буркнул в ответ:
— Ну вот еще! Незачем это…
А мать, уже серьезно, продолжала:
— Как это — "незачем"? Мы вон с отцом старимся, а ты что-то… сторонишься нас. Я вот спрашиваю у тебя, а в наше время не очень-то спрашивали, хочешь ты али не хочешь. Деда твоего женили — ему семнадцати не было. Да и отец твой… — И вкрадчиво, с улыбочкой спросила: — Может, у тебя на примете есть какая краля?
Олексан обозлился.
— Мало ли что было в ваше время. Было, да сплыло!
Сам он вскоре забыл об этом разговоре. А Зоя не забыла, она окончательно уверилась, что парня пора женить. Иначе, того и гляди… Мода нынче пошла — женятся по любви…
И снова перебирала Зоя акагуртских заневестившихся девушек, и сама же одну за другой браковала: эта чересчур горда, слушаться не будет, другая, может, и подошла бы характером, да не больно густо у нее в доме. Не пропустила Зоя и свою новую соседку, — память услужливо подсказала: "Вот бы такую — тысячу рублей получает!.."
В Акагурте молодого агронома теперь все больше хвалили: "Вишь ты, совсем будто девчонка, а все знает, за все берется с толком. Вишь, парники вновь отстроила, скоро у нее овощи поспеют. И отзывается она всем, одинаково разговаривает и со старым, и с молодым…" И те же люди, которые раньше осуждали ее, теперь говорили о ней с умилением. А Марья — та среди женщин каждый раз расхваливала свою квартирантку: "Ой, до чего же моя агрономка старательная, работящая и чистоту любит! Уж как она мила мне, ну, чисто дочь родная!"
Конечно, все эти толки не проходили мимо Зоиных ушей. Она слушала-слушала и наконец твердо решила: лучше Гали сыну невесты не найдешь. Теперь надо ее не упустить! А то, если уж очень привередливым быть, можно без всего остаться. Придя к такому решению, она постаралась забыть свою обиду на Галю за случай с горохом в колхозном амбаре. Незаметно, со стороны, присматривалась к ней, прикидывала: подходит ли Олексану? Решила: подходит. В деревне, конечно, все станут завидовать: вот какую невестку нашла Зоя — образованная, большие деньги получает.
О своих намерениях Зоя пока не говорила ни Макару, ни Олексану. Ждала случая с глазу на глаз поговорить с Галей, узнать ее мысли, заручиться согласием: господи, да в Акагурте кабышевский дом — самый лучший, а Олексан — чем парень не вышел! Любая девушка пойдет за него.
Однако случая встретиться с Галей долго не представлялось. Пойти к вей на квартиру Зоя не посмела: после того, как поссорились в огороде, соседка Марья все время отворачивалась от нее. Зое снова помог колодец. Однажды она увидела в окно, что к нему с ведрами пошла Галя. Зоя быстренько опорожнила свой ведра и метнулась к колодцу. Еще издали стала приветливо улыбаться.
— Видно, вода понадобилась, Галина Степановна?
— Да.
— Вода у нас вкусная, все хвалят. Носите, пожалуйста, нам не жалко, воды всем хватит… Видно, это Марья вас заставляет работать? Сама что-то совсем перестала по воду ходить.
— Она на работе, — сухо отозвалась Галя. Наполнив ведра, она повернулась, чтоб идти, но Зоя ухватилась за ее коромысло.
— Галина Степановна, ведь мы соседями живем, а вы у нас еще не бывали. Будто чужие мы. Видно, брезгуете нами… Зайдемте сейчас, посидите у нас.
Вцепившись в Галин рукав, Зоя потянула ее за собой. Галя отказывалась, хотела рассердиться, но потом подумала: "В самом деле, пойду посмотрю, как у них дома. А то болтают всякое про них…"
Завидев чужого человека, Лусьтро молча ощетинился, но, увидев хозяйку, зевнул, показав огромные желтые клыки. Галя опасливо покосилась, держалась ближе к крыльцу. Зоя ее успокоила:
— Не бойтесь, Галина Степановна, он у нас смирный… Иди назад, Лусьтро, видишь, кто к нам пришел? Своя она, своя…
Приведя гостью в дом, Зоя уже ни минуты не могла усидеть на месте, суетливо ходила взад-вперед, переставляла стулья, смахивала пыль, без умолку говорила:
— Присаживайтесь, Галина Степановна, вот на этот стульчик сядьте. На нем у нас хозяин сидит. Уж вы нас не обессудьте, Галина Степановна, одна не успеваю прибираться, все некогда — то свое хозяйство, то колхоз… А мужики мои только ночевать приходят домой…
Галя обвела глазами комнату.
— Нет, у вас не грязно. Я бывала в других домах, там хуже… Очень хорошо у вас, чисто и занавески на окнах красивые.
— Да уж куда там, красивые! — будто застеснялась Зоя, а сама чуть ли не таяла от такой похвалы. — Вы уж, Галина Степановна, посидите пока одна, выйду я на минуточку.
Оставшись одна, Галя с нескрываемым любопытством стала рассматривать комнату. На стене, в крашеных самодельных рамках, висели пожелтевшие фотографии. Галя подошла ближе. На одной из них — крестьянский парень в белой расшитой рубахе-косоворотке, в сапогах. Он стоял, напряженно выпрямившись, и, видимо, не знал, куда девать свои большие руки. Видно, заезжий фотограф поставил его к стене, завешанной серым одеялом, и приказал не шевелиться, а парень устал смотреть в объектив и моргнул, оттого на карточке получился слепым. В этом парне Галя с трудом узнала хозяина дома — Макара Кабышева. А рядом — другая карточка: высокая худощавая девушка в белом переднике, с гладко причесанными волосами стоит, держась одной рукой за спинку стула, в другой руке — букетик цветов. Галя сразу узнала Зою — она и сейчас мало изменилась. А потом следовали портреты незнакомых людей, почти у всех были напряженные лица, и чувствовалось, что все они не знали, куда спрятать свои большие руки. И еще одна карточка привлекла внимание Гали. Это был старинный снимок на толстом картоне: по бокам затейливыми буквами написано название фирмы. Снимок был очень хороший. У бородатого мужчины из грудного кармана свисала цепочка от часов, и можно было даже сосчитать ее звенья. Мужчина уверенно сидел на стуле, раздвинув колени, слегка упираясь в них руками, смотрел прямо, чуть нахмурив брови. Позади него — нарисованный фон: кипарисы, море, балкон… Фотографии сына хозяев почему-то не было.
Вошла Зоя с чайным блюдечком в руках. В блюдечке был мед. Поставив его на стол, подошла к Гале и стала показывать:
— Это вот Макар. А это я сама, еще до замужества… А вот с часами — это отец мой, Камаем звали его…
И вдруг спохватилась:
— Галина Степановна, садитесь к столу, меду попробуйте. От своих пчелок. Сами мы без меда чаю не пьем…
Сев напротив Гали, она вздохнула и вполголоса, словно боясь, что ее подслушают, заговорила:
— Хозяйство у нас, Галина Степановна, слава тебе господи, есть. Хоть и небольшое, а все свое. В семье немного, трое живем. Нам с Макаром теперь ничего не надо, все Олексану останется. Спасибо, сынок подрос. Найти бы ему хорошую невесту, пусть живут себе, мы, старики, мешать не станем… Он у нас смирный, к работе приучен. Вы ведь часто бываете у них, в этой бригаде-то, Галина Степановна, как он, справляется на тракторе?
— Сын ваш? По-моему, он неплохо работает, ничем не хуже остальных трактористов. Только он у вас какой-то… странный, будто боится людей, Что, он и дома такой?
— Господи, Галина Степановна, я и говорю: смирный он, не любит лишнего говорить. Весь в отца пошел! И дедушка у него такой же был, за день трех слов не скажет. Стеснительный он, Олексан-то. В отца он такой, не иначе…
Галя рассказала, как весной Олексан на руках перенес ее через ручей. Зоя обрадовалась, засмеялась, закивала головой: "Вот ведь, сам-то не догадался… Ну, вот и хорошо, коли вам помог".
Посидев еще немного, Галя поднялась.
— Спасибо за угощение.
И уже в дверях с улыбкой добавила:
— Вот жените сына, — он тогда повеселеет. Только невесту ему хорошую найдите! Вон их в деревне сколько, за тракториста любая пойдет. До свиданья!
Теперь Зоя окончательно решила, что Галя не будет против. Сама же сказала: "Любая пойдет…" Она уже стала подумывать о том, что когда в доме будет невестка, она перестанет работать в колхозе, — хватит ей дел и в своем хозяйстве. А там, если бог даст, бабушкой станет, одна забота будет — возиться с внучатами… Олексана она ни о чем не спрашивала: по молодости еще брякнет, чего не следует. Мать ведь ему худого не желает, уберечь хочет, держать под теплым крылышком. После сам будет благодарен: "Спасибо, мама, вразумила меня…" Теперь надо поговорить с Макаром, узнать, согласен ли… Но как заговорить, с чего начать?
А с Макаром творилось что-то неладное. Очень изменился он в последнее время. И раньше не любил дома много говорить, а теперь и вовсе не услышишь от него ни слова. Ходит, будто все о чем-то думает и на людей не смотрит. Зоя видела это, но не могла догадаться, в чем дело. Может, хворает? Тогда должен бы сказать…
Да, Макар в последние дни сильно изменился. А спросили бы — он и сам не смог бы объяснить, отчего это у него на сердце так тяжело, будто камень положили. Видно, все вместе навалилось — и прежние горести, и новые невзгоды.
Давно знал Макар, что в деревне их недолюбливают, смотрят искоса. Видел, спиной чувствовал враждебные взгляды. Как-то нарубил в роще ольховых жердинок и понес большую связку домой, думал изгородь починать. Возле колхозных складов встретился Однорукий Тима: "Ого, Макар-агай, в роще похозяйничал?" — "Да вот… изгородь совсем развалилась…" — "Хм, изгородь! Гляди, что вокруг амбаров творится: решетка развалилась, свиньи да козы гуда шляются. Взялся бы починить, а? Вижу, Макар-агай, своё тебе дороже. А колхозное пущай гниет, а? Эх, Макар-агай, смотри, до добра это тебя не доведет, помяни мое слово. Видим, чем ты дышишь!" Так сказал тогда Однорукий Тнма. У него что на уме, то и на языке, а если и другие станут то же говорить?
Последнее время Макару почему-то стало тревожно. Такое чувство бывает во время грозы: видишь блеск молнии, а затем с тяжкой тревогой ожидаешь грохота. Когда акагуртцы прогнали с собрания Микту Ивана, Макару стало не по себе. После того неотвязно думал об этом: ведь могут и его точно так же прогнать! Кажется, нет за ним особой вины, он сам и семья его работают в колхозе, а тревога почему-то не проходила…
Зоя рассказала ему, как ее прогнали с поля:
— Эта проклятая Ор и на накричала на меня, шайтан ее возьми, и хоть бы кто заступился, слово сказал! Так нет же, будто все сговорились!
Макар молча выслушал жену, а потом с трудом проговорил:
— Ты… это, язык свой не распускай больно… И без того нас не хвалят. Бойкая очень!
Зоя горестно всплеснула руками, плачущим голосом затянула:
— Господи-и, Макар, что мне, в глаза им смотреть, что ли? Не дождутся!
— Помолчи! — прикрикнул Макар на жену. — Через тебя обиды терплю. Одна ты такая, не уживаешься. Будто мосол — в котел не лезет…
После этого Зоя притихла, старалась совсем не перечить Макару; что ни скажет — она тут же согласно кивает головой. Всем своим видом говорила: вот я какая смирная, зря так обидел. Постепенно гнев Макара поулегся, а в душе злость осталась, — словно злая собака, что лежит в конуре, но не перестает следить за прохожим, готовая при первом случае с глухим рычанием ринуться на него…
Теперь, задумав женить Олексана, Зоя стала особенно ласковая с мужем. Знала, что Макар таит злобу, и — как паутиной его опутывала — зашивала опасный разрыв в семье. Терпеливо ждала удобного момента — что-что, а когда нужно, она ждать умела.
Однажды вечером, когда сына не было дома, Зоя решила, что этот момент наступил, и, когда улеглись спать, она поведала Макару свои долго хранимые, пригретые под самым сердцем думы:
— Пора бы Олексану за ум взяться. Мы с тобой не молодые… Видно, когда-нибудь придется в дом невестку привести… Я уж, Макар, позаботилась… Она хоть и рус-ская, но уживемся, живут же поди… Тогда бы Олексан и о хозяйстве стал заботиться…
Макар молча слушал шепот жены. А в груди шевельнулась острая, жгучая боль, злость подступила к горлу. Уже не мог слушать жену, которая продолжала нашептывать:
— Галина Степановна согласна… сама у нас была, поговорила я с нею. Олексан будет хлебом получать, а она — деньгами. Хорошие она деньги получает. Поживут — слюбятся…
Задыхаясь, Макар крикнул шепотом:
— Не трожь! Не трожь Олексана!..
Он схватил худое, холодное плечо жены, с силой сдавил и оттолкнул ее от себя.
— Змея!..
Зоя ударилась головой о стену, съежилась, спрятав лицо в подушку, тоненько завыла:
— О-о-й, Макар… бог с тобой… Олексану добра хотела…
Ее острые плечи часто вздрагивали, жидкие волосы разметались по подушке. Макар с ненавистью взглянул на нее.
— Перестань, ты! Олекеан — не твой он, слышишь? Не тво-о-ой!
Отшвырнув тяжелое одеяло, Макар сел на кровати, спустив ноги на пол. Нащупал на подоконнике кисет, дрожащими пальцами свернул цигарку, стал курить, жадно и глубоко затягиваясь. Поперхнувшись, долго и натужно кашлял, с хрипом втягивая воздух. Потом кашель улегся, но Макар еще долго сидел, поглаживая грудь. Искоса взглянул на жену, свернувшуюся под одеялом, скрипнул зубами: "Змея!.. Не трожь сына! У-у, ведьма проклятая…"
Давно уже чувствовал Макар, что в доме, в семье, у них что-то не так, неладно идет. Будто невидимая глазу паутина опутала его, душить — не душит, но и вздохнуть свободно не дает. Невидимую злую силу чуял Макар вокруг себя, а ухватить ее, смять, растоптать — не мог. Оттого у него все время на душе была какая-то тяжесть, и маялся он в одиночестве.
Но вот это "что-то" стало явственно проступать, тянулось к нему холодными руками. И от этого вдруг в доме стало неуютно и тесно им троим, не разойтись будто…
Глава XIII
Мотор работал ровно; грузно покачиваясь, трактор шел по борозде. Но вот мотор застрелял, часто захлопал. Олексан с тревогой подумал, не пробило ли прокладку, не просачивается ли вода в цилиндр. Проверил — все в порядке. Выдернул медную питательную трубку, а она совсем сухая, горючее не поступает.
— Тьфу, черт! — выругался Олексан.
Как раз посредине загона сел без горючего. Придется теперь на заправочную бежать…" Схватив пустое ведро, по пашне побежал к зеленой тележке Параски. Она стояла на лужайке возле густых зарослей ольховника. Прав был Ушаков, когда сказал: пока в бригаде будет Параска, сидеть без горючего не придется. Заведующий базой МТС как-то пожаловался Ушакову: "Ну и дежурная у вас! И где только вы нашли такую, чисто сатана!" Ушаков только рукой махнул: "Сподобил господь!.."
Олексан всматривался, но Параски возле заправочной не видел. Должно быть, уехала за водой.
В это время из-за тележки вышел кто-то, держа в руке белый бидон-канистру. Заметив Олексана, остановился. Олексан узнал рыжего Колю. "Чего это он тут с бидоном ходит?"
Коля стоял, ожидая, пока подойдет Олексан. Бидон поставил рядом на землю. Своим единственным глазом пристально, не мигая, смотрел на Кабышева, словно хотел просверлить его насквозь. Олексан спокойно подошел к тележке, поставил ведро, вытер со лба пот.
— Здорово, Коля!
Учетчик скривился, слюняво улыбнулся, показав зубы.
— A-а, Кабышев… Здорово, если не врешь.
"Пьяный, — догадался Олексан. — Этот рыжий в последнее время что-то слишком часто пьет. На какие это деньги?"
— Что это ты, Коля, с канистрой ходишь? Видно, тоже за горючим? — поинтересовался Олексан.
— А что — наябедничать хочешь?
— Что? — не понял Олексан.
— Наябедничаешь, говорю, Ушакову? Видишь, из этой бочки себе налил. Понял?
Только теперь Олексан заметил, что пробка на бочке отвинчена и валяется на земле, а из отверстия торчит конец резинового шланга.
— Донесешь, Кабишев?
Коля шагнул к Олексану, покачнулся, но удержался на ногах, успев схватиться за колесо заправочной.
— А ты знаешь, Кабышев, куда я его ношу, этот керосин? А? Ну конечно, не знаешь… Знать не знаю, да? Хе-хе…
Олексан, как мог спокойно, ответил:
— Погоди, Коля. Ты что это болтаешь?
Учетчик скрипнул зубами, уставился на Олексана мутным глазом. Он был сильно пьян.
— Ты… слушан, что я говорю!.. Все вы говорите, что Коля пьет. А почему он пьет, а? Не знаешь? То-то!.. Слепой еще ты, мышонок…
Олексан решил, что не стоит с ним связываться, и стал наливать керосин в ведро. Коля носком сапога ударил о бочку, хрипло засмеялся.
— Ты не бойся, Кабышев, хе-хе! Бидончик-то этот я сейчас к вам понесу. За такое добро твоя мать литр самогона даст! Дешево, а?
Олексан резко выпрямился. Сердце сильно забилось, на скулах вспыхнули красные пятна. Стиснув зубы, смотрел на пьяную ухмылку учетчика; "Эх, дал бы я тебе, гад!"
Заметив это, рыжий Коля хмыкнул, подмигнул:
— Хм, Кабышев, ты… молчи! Твое дело тут маленькое: дают — бери, бьют — беги. Понял? Так-то… Матери твоей — керосин, а мне самогон, ловко, а? Чего молчишь? Ну, донесешь, что ли?
Но Олексан молчал, словно слова застряли у него в горле.
— Ладно, ладно, Кабышев. Ты еще теленочек… Не понял, что ли? Твоя мать вокруг меня на задних лапках ходит: "Нельзя ли Олексану побольше трудодней записать?" Хе-хе, почему нельзя? Можно. Коля все может, чистая работа… Так что, брат, мы с тобой из одной чашки хлебаем. Если Коля, по-вашему, свинья, так вы все тоже недалеко ушли. Знаем!..
От сильного внезапного удара в подбородок рыжий Коля кулем повалился навзничь.
— A-а… ты еще драться… гад!
Ругаясь, учетчик с трудом поднялся на ноги, выставив голову, двинулся на Олексана. Но не ударил — встал перед ним.
— Мм… Не хочешь мараться? Другие замарались, а ты хочешь чистеньким остаться? Нет, брат! Ух ты… молокосос!
Казалось, Коля сразу протрезвел. Держась за разбитый подбородок, стоял перед Олексаном, дыша на него самогонным перегаром.
Дрожа от злости, с трудом сдерживаясь, чтобы не ударить еще раз, Олексан мотнул головой, не глядя на учетчика, проговорил сквозь зубы:
— Уходи! Уйди с глаз! Ну?!
Коля исподлобья тяжело взглянул на Олексана, длинно выругался и, повернувшись, пошел вдоль рощи. Олексан смотрел ему в след и, лишь когда он скрылся за поворотом, увидел, что все еще стоит со сжатыми кулаками. Долго не мог успокоиться, в разгоряченном мозгу путались мысли: "Эх, даже не заметил, как ударил. Ну, таких стоит бить, если не понимают… Неужели правда это? "Из одной чашки хлебаем?" Думает, я тоже… Врешь! Мне чужого не надо".
Вечером, в перерыве между сменами, в избе Петыр-агая робрались все трактористы бригады. Ушаков сидел за столом озабоченный, подавленный: за все время его бригадирства такого не бывало. Почему же так случилось? Впрочем, ничего неожиданного в этом не было: в последние дни Коля все чаще приходил на работу навеселе, а то и совсем пьяный. А на что пьет, откуда берет — об этом его не спрашивали. Теперь-то все понятно, только поздно, слишком поздно… Говорят, дорого ведро при пожаре!
Рядом с Ушаковым сидел Андрей Мошков, с другой стороны — Галя. Другие расселись по стенке, а которым не хватило места, теснились около печи.
Коля окончательно протрезвел. Поглаживая лохматые, не знающие гребешка волосы, сидел у другого конца стола, низко опустив голову, сгорбившись.
Кто-то нетерпеливо сказал:
— Павел Васильич, кого ждем? Давай начинай. Людям на работу надо.
Ушаков огляделся, встал. Не зная, как начать, с минуту постоял молча, кашлянул в кулак.
— Вот, товарищи… в бригаде у нас нехорошее дело получилось. Наверно, слышали…
— Знаем уже!
— Пусть он сам расскажет.
— Встань, Коля! Расскажи, как было…
Не поднимая головы, рыжий Коля медленно встал. Стало очень тихо, и было слышно, как за печкой шелестят в старых газетах тараканы. Летчик судорожно проглотил слюну, переступил с ноги на ногу. Бригада ждала молча.
— Что там рассказывать… — Коля облизал пересохшие губы. — Знаете ведь, чего там…
Мошков нетерпеливо, сердито крикнул:
— Не жмись уж, ты! Говори, как было! Ну?
Коля стрельнул в него глазом.
— Ты не нукай, не лошадь, понял?.. Ну, хотел из заправочной бидон керосину…
— Украсть! — подсказали от печки.
Коля вызывающе ответил:
— Ну, украсть! Да, украсть хотел!.. Жаль, не успел, этот вон… Кабышев пришел. Дурак, с кулаками полез. Бог силы дал, а ума дать забыл. Подумаешь, нашелся храбрец — вора с бидоном керосина поймал! Знаем их… У людей в глазу соринку заметят, а у себя — бревно не видят.
Олексан сидел неподалеку от Коли, рядом с Сабитом. При последних словах учетчика он густо покраснел и отвел глаза. Сабит тронул его за колено.
— Валла, Аликсам, он совсем дурной стал! Что говорит, а?
Ушаков вмешался:
— Тише, товарищи. Послушаем сначала его. Ты, Коля, на других не кивай, о себе рассказывай. Ведь ты не сегодня пить начал, люди давно замечали. До этого… тоже на краденое пил?
Коля скривил губы.
— A-а, вот-вот, Павел Васильич, теперь все говорить станут: "Коля всегда вором был". То Коля был хороший, Коля всем друг-товарищ, а теперь он — только вор. Так, что ли? Эх, Павел Васильич…
— Разжалобить хочешь?
— Да вы обо мне не беспокойтесь. Я уж как-нибудь один проживу. В суд подадите? Подавайте… Только вот ведь какое дело… — Коля оглядел всех, словно ища кого-то, заметив Олексана, стиснул зубы. — Вот ведь какое дело… Может, здесь, среди вас, есть такие… собаки, которые тайком овец давят… Сейчас они смирненько сидят и думают: "Коля-то — негодяй, а я — хороший". А сами косят в обе стороны… Знаю я!..
— Ты не наводи тень на плетень. Если есть такие, назови. Боишься? Сам запачкался и других хочешь? — круто спросила Галя.
— Эх, Галина Степановна, товарищ агроном! Молодая вы еще…
— А ты мои года не считай! — оборвала Галя.
— Ладно. Таких людей я знаю, только сейчас не скажу. Может, когда-нибудь вам еще раз придется такое собрание собирать.
— Хватит, Коля. Не то говоришь, — прервал Ушаков учетчика. — Ты лучше скажи, куда носил керосин, у кого менял на самогонку?
Коля снова огляделся, снова волком посмотрел на Олексана. Тот отвел глаза… Коля усмехнулся.
— Павел Васильич, что это, допрос? Подадите в суд — там расскажу. У кого менял — это мое дело. В деревне таких хватит, кто кумышку гонит.
Коля сел. После него говорил Ушаков, затем Андрей, Галя. Коля молчал, казалось, даже не слышал, о чем говорили. Лишь когда стала говорить Параска, поднял голову, слушал ее, криво усмехаясь. Параска почти кричала, — она вообще не могла говорить тихо, спокойно, — потрясала перед самым его носом маленькими, сухими кулачками.
— Стыда у тебя нет, Коля! Вишь, как он жить надумал — воровать, пьянствовать! Хорошее дело, нечего сказать! В тюрьму, видно, захотелось? Дурак ты, глупее меня, бабы. Правильно Дарья сделала, что тебя не захотела!
Коля дернулся, замотал головой.
— А ты не крути головой-то! Я все вижу, да только помалкиваю. Что девка не полюбила, так кумышку надо пить, да?
Снова стало очень тихо. Неприятная тишина. Каждый в эту минуту думал: вот жили с человеком вместе, за одним столом ели, пили, разговаривали. А теперь сидит один — всем чужой…
Неожиданно слова попросил Сабит. Говорил путаясь и сбиваясь, сильно волновался. В другой раз посмеялись бы нал ним, но сейчас было не до смеха, слушали напряженно, не прерывая.
— Параска-апай[7] про Дарью говорила, слышали все. Правильно говорила, совсем правильно. Я знаю, Коля хотел за Дарьей ходить. Дарья сама не захотела, ко мне пришла. Валла, так было! Зачем против сердца ходить? Дарья ко мне пришла, дорогу нашла. Валла, Коля, если бы Дарья к тебе пошла, я ничего не говорил! У каждого своя голова. Ты, Коля, за это на меня сердитый, собакой назвал, да?
Коля проглотил слюну, сдавленно проговорил:
— Э, да что теперь говорить!
Он встал и, ни на кого не глядя, направился, к двери. Люди посторонились, дали ему дорогу. Споткнувшись о порог, он вышел; недобрый знак — неудачная будет дорога. Но кто знает, может, Коля споткнулся в последний раз…
Коля ушел, и никто его не остановил. С тех пор в Акагурте его больше не видели. С работы его сняли, но в суд не подали. Так и ушел Коля снова бродить по земле, искать свое потерявшееся где-то счастье. И кто знает, может, он много раз проходил совсем близко от него, да мешал ему кривой глаз, а главное — вороватый его характер. Кое-кто из акагуртских девушек с грустью вздохнули: как-никак жених был. А вскоре и совсем о нем забыли.
После собрания тс, кто должен был заступить в ночную смену, отправились в поле, другие вышли погулять на — Глейбамал. В избе за столом остались Ушаков, Андрей и Галя. В сторонке, будто чего-то выжидая, неловко переминался Олексан.
Мошков выбрался из-за стола, подошел к Олексану и крепко пожал его руку.
— Ну, Кабышев, вот тебе моя рука! Не хотел, но заслужил ты, брат. А за прежнее ты на меня не дуйся. Кто старое вспомянет, тому глаз вон, слыхал? Правильно шуганул этого рыжего черта. Таких давить надо, понял? Эх, жаль, меня там не было!
Смущенный Олексан не нашелся, что сказать.
— Ну, чего уж там. Просто не вытерпел…
— Ладно, ладно, знаем, слышали. Правильно дал ему! И вообще, давай, Кабышев, не будем. Хоть ты и казался мне хреновым парнем… Думал, рвач, подзаработать хочет, а чуть что — в кусты. А оказалось, ты — ничего, нашего полка. Такого при случае и в разведку можно взять, не подкачает, а, Павел Васильич?
Олексану было и очень приятно и почему-то неловко от похвал Мошкова. А бригадир тоже одобрительно кивал ему, соглашаясь с Андреем.
Наконец Олексан виновато сказал:
— Ну, меня дома ждут. Пойду. — И вышел.
Ушаков крикнул вслед:
— Кабышев, завтра подтяжку сделайте, не забыл?
— Нет. С утра начнем.
— Да-а, дела… — вздохнул Мошков, когда за Олек-саном закрылась дверь. — Странный парень. На курсах был дикарь дикарем, сядет в своем уголке и сидит, точно сыч. За котомку свою дрожал. Раз мы с ним здорово сцепились. Я кулаком его обозвал. В нем это есть. А вообще он молодец.
Галя согласно закивала головой.
— Он другой раз как во сие живет. Натворит глупостей, а проснется — самому стыдно. Знаете, он похож на воск: в какие руки попадет, такую форму и примет.
— Ого, уж не думаешь ли взять его в свои руки? — усмехнулся Андрей. — Если кого брать, так это меня. Любую форму приму!
Галя засмеялась.
— А вот и возьму! Кабышев парень неплохой, только молчун. Видимо, у домашних научился.
— Во-во, как раз попала в точку! — вмешался Ушаков. — Мать у них — чисто репей. Не язык у нее — чистое шило. Сравнить, Параска и то лучше. Вредная женщина, эта Кабышева. Муж без нее шагу не может ступить, слова не скажет, вот и сынок тихий.
Галя вспомнила, как Зоя затащила ее к себе, смеясь, рассказала об этом своем посещении. Андрей нахмурился, буркнул:
— А чего к ним ходить? Думаешь, так это она, по доброте? Как же, жди! Вот увидишь, сватов пошлют…
Галя удивленно посмотрела на Андрея.
— Да ты что?.. Мне замуж спешить нечего. Одна проживу!..
И вдруг заспешила, торопливо попрощавшись, вышла.
Оставшись вдвоем, мужчины помолчали, думай каждый о своем. Ушаков взглянул на Андрея, кивнув на дверь, подмигнул.
— Хорошая девчонка?
— Хорошая, — вздохнув, просто согласился Андрей. С усилием проговорил: — Хорошая, да не про нашего брата. Она институт кончила, а мы что? Неучи… Эх, подучиться бы мне! — с тоской добавил он.
Ушаков" прищурившись, наблюдал за ним, будто соглашаясь, кивал головой.
— Так-так, неучи, темнота… Верно говоришь. А больше все-таки прешь! Дурак ты, Мошков! Счастье-то само в руки лезет, а ты… Э-эх, гвардия! И водь вижу, какими глазами она на тебя посматривает. Хорошая она девчонка, смотри, не упусти — хороший товар, говорят, не залеживается! Да цену себе подкинь, попил? А то — "неучи"!..
Глава XIV
Весной у Зон прибавляется забот по хозяйству. В середине зимы ягнятся овечки, у коровы ждут теленка, гусыня и куры садится на яйца. Всех надо накормить, напоить.
В этом году корова отелилась поздно. Зоя выносила ей пойло, ласково гладила по большому животу: "Скоро ли теленочка принесешь, Милка?"
Родился бычок — черный как ночь, только на лбу белая отметина, будто серебряный рубль. Дня три-четыре Зоя не трогала корову — все высасывал бычок. Потом стала понемногу доить, собрала и сварила целое ведро желтого, густого молозива. Получилась творожистая, комковатая каша — чожи. С незапамятных времен повелось: родился теленок — варят чожи. Дети очень любят чожи, и когда появляется теленок, тормошат мать: "Мама, когда сваришь чожи? Скорей бы, мама…" Попробовать свежее варево садятся всей семьей. А когда едят, отец стукает ложкой детишек по лбу: "Бычок бодается!" Если больно — терпи: ведь это бычок бодается!.. Была еще и другая, тоже давняя привычка: только сварят чожи, обязательно несут соседям или близким родственникам. А когда у них будет теленок, они принесут угощение. Старинные это обычаи, дедов и прадедов тоже стукали по лбам деревянными ложками: "Бычок бодается!" Ведь деды тоже были когда-то детьми и тоже очень любили чожи…
Зоя сварила чожи и немного взгрустнула: Олексана нет, Макар тоже еще не вернулся. Олексан, маленький, очень любил чожи, каждую весну с нетерпением ждал, когда мать сварит любимое кушанье. А нынче его и дома нет…
Макар пришел под вечер. Сели за стол, вдвоем молча пообедали. Зое нынче чожи не удался — пересолила. Раньше Макар обязательно бы стал ворчать. А сейчас не проронил ни слова.
После недавней ссоры он глубоко затаил обиду на Зою. Обида не проходила, тлела, как сухой трут. Гаснуть — не гаснет и пламенем не горит. В жизни Макара, как в старых часах, что-то проржавело, испортилось. Еще молчаливее и угрюмее стал Макар. Казалось, на все махнул рукой: живите как хотите, мне наплевать. По-прежнему работал в колхозе, плотничал. Но нетрудно было заметить: за каких-нибудь несколько дней Макар как-то постарел, сильно сдал. Спина еще больше сгорбилась, вокруг рта легли глубокие морщины. Теперь он, придя с работы, не возится по хозяйству, а, сбросив верхнюю одежду, ложится на широкую лавку с видом сильно уставшего человека, которому уже никогда не придется отдохнуть. Так он молча лежит до глубоких сумерек, не спит — все о чем-то думает, думает… А ночью ему, видно, снятся нехорошие сны: тяжело вздыхает, стонет.
Зоя не беспокоила его, ни о чем не спрашивала. Лучше рану не бередить — боль утихнет, рана затянется, заживет. Поэтому Зоя не тревожила Макара, о прошлой ссоре не напоминала, как будто ничего и не было. Но от мысли женить Олексана не отказалась. Про себя решила так: пусть Макар делает, что хочет, а она своими руками принесет сыну счастье. Если не мать, кто о сыне позаботится? Макар, видно, этого не понимает. Да, он всегда — и в молодости — был такой, непонятливый… Все Зоя сама делала, — и теперь все заботы на ее плечах.
Охваченная одним желанием, Зоя уже не могла откладывать, не останавливалась ни перед чем. Прежде была осмотрительная, осторожная, теперь ее нельзя узнать.
Зоя решила понести угощение свежее чожи — соседке Марье. Заглушила неприязнь — не до старых ссор теперь ей было.
Сначала она решила отнести полное педро. Ладно уж, пусть угощаются, нынче корона у Марьи осталась яловая. Но тут же раздумала. Куда им столько, хватит и половины. Ведь даже спасибо не скажут, — такие люди. Сколько ни давай — добра не поймут.
К соседке Зоя пошла задами — подальше от людских глаз. Проходя через огород Марьи, заметила грядки с луком, подумала с завистью: "А у нее-то лук лучше, хорошо ей, когда в доме агроном свой…"
В сенцах она прокашлялась. Зайдя в дом, певуче спросила:
— Хорошо ли живете?
Марья отозвалась из-за печки.
— Хорошо, слава богу. Кто это там? Захлопоталась я, ужинать готовлю.
Зоя села на скамейку возле печки и, пока Марья не вышла из-за перегородки, успела несколько раз оглядеть комнату. Будто ощупывала глазами, — зорко осмотрела Галин угол, отметила: "Одеяло не новое. А наволочки красиво расшиты. Сама, что ли, вышивала? Наверно, в чемодане еще кое-что есть…"
Вытирая руки передником, из-за перегородки вышла хозяйка. Неласково взглянула на Зою, встала около перегородки, скрестив на груди руки: "Что тебе нужно? — спрашивала она всем своим видом. — Зачем пришла? Или что забыла здесь?"
Но Зоя другого и не ждала. Потому она сразу стала ласковой, уступчивой.
— Я уж сама села, без приглашения, Марьек. Давно в вашем доме не была. Гляжу, ой как у вас красиво стало! Раньше вы тоже чисто жили, а теперь еще чище. Не домик, а куколка, и только!
Не говорила, а пела, голос приторный. Она бы и дальше так продолжала, но суровый взгляд Марьи остановил ее. Пришлось вспомнить, зачем сюда пришла. Схватив ведро с чожи, протянула его Марье:
— Марьек, мы варили чожи, решила вам принести. Думаю, у вас теленочка нет, попробуйте. Видно, нынче ваша корова яловая?
— Да.
— Наша, слава богу, на той неделе отелилась. Макар с Олексаном уже поели, очень им понравилось. Думаю, пока все не съели, снесу-ка Марье. Возьми ведерочко, опорожни куда-нибудь.
Со стороны посмотришь — прямо добрые соседи!
— С коровушкой-то хорошо, что и говорить. Слава богу, корова во дворе — еда на столе…
Марье пришлось принять Зоино угощение. Освободив ведро, она положила в него горбушку ржаного хлеба: этого требовал обычай.
— Скорми своей корове, пусть много молока даст.
— Ой, спасибо, Марьек! Слишком ты большой кусок положила. — И, будто только сейчас заметив, повернулась в сторону Галиного угла, запела еще слаще. — Осто, как хорошо вы ее устроили! Век бы жила в такой красоте: и цветочки, и вышивки… А сама Галина Степановна где же, на работе?
"С каких это пор она тебе Галиной Степановной стала? — ревниво подумала Марья. — Ан нет, наша голубушка не для вашей клеточки!"
— Галя на собрании, у трактористов.
— Э-э, видно, собрание у них? А Олексан ничего мне не сказал. Должно быть, снова хвалить его будут, говорят, самый лучший он у них в бригаде. Галина Степановна уж так его хвалила, и рыжий Коля говорил: "Ну, Зоя-апай, не сын у тебя — золото!"
Не сводя глаз с Зои, Марья медленно сказала, — и каждое слово было, как пощечина Зое:
— Твой Олексан поймал Колю, когда тот керосин воровал, и избил его! А сейчас их там обоих судят.
Зоя сначала побледнела, затем густо побагровела. Рывком схватила ведро, кинулась к двери, выскочила причитая:
— Ох, господи, господи, что за напасть, господи!..
— Не забудь скормить корове хлеб! — крикнула ей вслед Марья.
Оставшись одна, рассмеялась:
— Эхма, наверно, приходила невесту смотреть, только не сумели мы тебя добром встретить. Поделом же вам: шире ног шагаете!
Выйдя после собрания на улицу, Олексан не пошел домой. Не спеша направился к Акашуру.
— Аликсан, подожди, пожалуйста! — послышалось сзади. К нему подбежал Сабит. — Аликсан, ты уж очень быстро ходишь, валла! Догнать совсем трудно!
Олексан молчал, а Сабит пошел рядом, не переставая говорить:
— Ты, видно, к реке пошел, Аликсан? И я как раз туда шел. Говорят, вечером пешком ходить надо, хорошо спать будешь. Валла, мой дедушка так говорил; видно, потому долго жил.
Олексан искоса посмотрел на Сабита: татарин будто бы хочет что-то сказать, — и чего хитрит? Что ему надо? Неужели из-за свечей? Теперь каждый раз, разговаривая с Сабитом, Олексан невольно вспоминал эту проклятую историю со свечами. Палец у Сабита давно зажил — должно быть, он сам уже забыл об этом. А вот Олексан никак не может забыть…
Сабит засмеялся:
— Ай-вай, дорогой Аликсан, как ты Колю проучил! Я никогда так не смог бы, правду говорю, валла!
Олексан смутился, махнул рукой:
— Да что там… Я ударить не хотел. Сам не знаю, как получилось. Сильно рассердился я тогда, Сабит!
— Молодец, Аликсан, сердитым надо быть! Таких людей не надо хлебом кормить. Потом, хорошо сделал, что бригадиру сказал. Коля плохой человек. В руке небольшая заноза будет — все тело болит. Валла, так!
Дошли до речки, остановились. Стаи галок, гнездившиеся на старых ивах, встревожились расшумелись.
— Валла, смешные птицы! — рассмеялся Сабит. — Почему испугались?
Постояли молча на берегу.
Сабит набрал плоских камешков, стал кидать в воду — "печь блины". "Блинов" получилось много, и Сабит смеялся.
— Смотри, Аликсан! Видел, а? Валла, хорошо идет!..
Олексан смотрел в воду, но думал о другом. "Почему у Сабита так легко, просто все получается, а у меня нет? Он может и с галками разговаривать, и камни в воду кидать, а я не могу. Почему? Ничего он ни от кого не скрывает, все у него на виду. Наверное, поэтому ему и легко живется. А я?.. Все не так — и дома и в бригаде. Почему? Мать самогонку на ворованный керосин меняет, а я с Колей подрался… Может, не надо было? Коля матери керосин носил. Мать ведь мне не чужая… Она хочет как лучше, — говорит, со всеми добрым не будешь. Пот сегодня я так сделал, что бригаде лучше, а матери — хуже. Мать мне родная, а они кто, из бригады?"
— Аликсан, ты вчерашний день ищешь, видно, а? Зову, зову — не слышишь? Попробуй, вода теплая, купаться уже можно, валла!
Галки на деревьях привыкли к людям, успокоились. На том берегу ребятишки вывели с конного двора коней, собирались в ночное. Каждый из них сейчас был по крайней мере Чапаем, лихо скачут, кричат. Лучше всех слышно Гришку, сына Параски, — здесь он за главного. Олек-сан вспомнил, как он когда-то ездил в ночное. Мать отпускала неохотно, твердила свое: "Чего ты там не видел, мальчишки еду отберут…"
Гришка их заметил и ударил каблуками в бока лошади, лихо поскакал к берегу. Он давно, с самой весны, дружит с Сабитом — недаром же Сабит катает его на настоящем тракторе.
— Дядя Сабит, едем с нами! — кричит он. — Картошку будем на костре печь! Смотрите, у меня сколько, всем хватит!
Гришка торопливо полез в карман, но вместо картофелины вытащил какой-то грязный сверток.
— A-а, посмотри, Сабит, что я нашел! Мы за огородом Петыр-агая купались, там самое глубокое место. Можно даже с берега нырять. Я нырнул, — и смотри, что нашел. Правда, это от трактора?
— Ну-ка, кидай сюда, посмотрим.
Гришка бросил сверток через реку. Сабит ловко поймал его на лету, развернул тряпицу. Олексан с любопытством заглянул: там лежали четыре свечи. Целый комплект, совсем новые свечи. Олексан сразу узнал их.
— Гришка, а ты в воде трактор не нашел? — засмеялся Сабит. — Какой шайтан прячет в воду свечи? Аликсан, совсем ничего не понимаю, а?
Гришка для друга был готов на все: пусть Сабит берет свечи! Махнув рукой, он повернул лошадь.
— Дядя Сабит, бери их себе насовсем. Я себе, может, еще найду. — И ускакал догонять своих друзей.
Олексан стоял в замешательстве. Что делать? Сказать или не надо? Конечно, Сабит тогда всем расскажет, и Андрею тоже. Вот тебе и будет — "молодец, Кабышев"!
— Н-не-е знаю, Сабит… как это они попали в воду. Может, потерял кто…
— Чудак ты, Аликсан! Кто же может потерять свечи в воде?
— Ну… случайно упали…
Сабит покачал головой.
— Ай-яй-яй, плохой человек, если свечи в воде потерял! На, Аликсан, возьми их себе, пригодятся. Мне сейчас не нужны. Бери, бери, почему так на меня смотришь?
Потом Сабит вдруг заторопился, побежал в поле. Олексан смотрел ему вслед: "Пошел, наверно, к своему трактору. Там сейчас Дарья пашет. Ну конечно, он не догадался. И надо же было, чтоб этот Гришка их выловил!" А теперь они снова у него, лежат в кармане, и он даже чувствует какой-то неприятный холодок. Проклятые свечи!
Олексан резко повернулся и зашагал домой. Какой нехороший сегодня день! Коля, собрание, а теперь вот — эти свечи.
В доме было темно: Макар и Зоя не зажигали огня, сумерничали. Отец сидел у стола, на своем месте, мать стояла, прислонившись к печке. На вошедшего Олексана не взглянули. Молчали. Мать как-то скорбно, глубоко вздыхала. Олексан постоял немного возле двери и стал раздеваться. Неожиданно Зоя громко всхлипнула, плаксиво закричала:
— Зачем пришел? Иди на квартиру! Если они тебе дороже, зачем сюда идешь?
Олексан не успел повесить одежду, — рука остановилась в воздухе. Сердце сжалось: "Вот, начинается. Мало еще…"
— Подожди, мама…
— Чего годить-то, чего? Драться лезет! А знаешь, что делаешь? Нас позоришь!
— Подожди ты, мама! Если этого рыжего раз ударил, то не зря! Пусть не ворует! Это он меня позорил, да и вас тоже.
— А тебе что за дело! A-а, больно хороший, умный стал! Дома керосина нет даже в лампу налить, а он…
Раз уж сам не догадался принести, другим не мешал бы…
Это было уже чересчур. Подойдя к матери, Олексан встал перед ней, протянул к ней руки;
— Мама! Ну зачем так говоришь? В погребе, в большой бутыли — там что? Наворованное! Рыжего не так за это надо бить!
Зоя оторвалась от почки, подалась вперед, грудью на Одексана, визгливо крикнула:
— И мать бей! Ну, чего не бьешь? Ой-ой, сердце мое! Ой, сердце мое! Одного избил, теперь матери черед!
Олексан растерялся, отступил, не зная, что сказать. Попробуй поговори с ней: не понимает, свое твердит.
— Тебе всегда всего мало, мама! Почему другие ворованный керосин не берут?
— А тебе какое дело! — все больше распаляясь, кричала Зоя. — Ешь, что на столе, не спрашивай, откуда! Красивым быть захотел! Гляди, как бы совсем голеньким не остался! С людьми-то хорош, а дом пусть хоть сгорит, да?
До сих пор молчавший Макар встал, с грохотом отшвырнул стул, шагнул к Олексану:
— Олексан! Видно, тебе с нами не жить. Уходи, слышишь! Живи как хочешь, уходи из дома! Не доводи нас до плохого!
Обернувшись к плачущей Зое, заорал:
— Перестань ты, баба!.. — И закрыл лицо руками. — Что это за жизнь, а?..
Зоя сразу замолчала, словно подавилась. В доме стало очень тихо, тихо, будто в яме. Олексан с минуту стоял ошеломленный. Медленно до сознания доходило: "Ага, из дома гонят. Отец сказал: "Уходи, по-хорошему уходи". Ну что же…" Каким-то чужим голосом проговорил, еле выдавливая из себя слова:
— Гоните? Я… уйду, сейчас же… Верно, не жить мне тут… Нехорошо мы здесь живем, я-то ведь понимаю… Не любят нас люди. Никто не любит! Я слышал это, сколько раз слышал! Прогонят нас, как Микту Ивана тогда прогнали…
Макар отнял руки от лица, пошатываясь, вышел на середину избы. Было уже совсем темно, только из бокового окна еле струился сумеречный свет. В этой полутьме Макар казался большим, лохматым. Махнув рукой, крикнул:
— Ты нас не учи, как нам жить! Молод еще! Уходи, живи, как хочешь…
Сорвав с гвоздя фуфайку, Олексан торопливо натянул ее на себя, рванул фуражку, глубоко натянул на голову. "Ну что ж, кому дома жить, а кому уходить. Теперь все понятно. Ничего, не пропаду!" Мысли обрывками мелькали в голове. Ясно было одно: надо уходить!
Сильно хлопнув дверью, бегом бросился к воротам, откинул запор и выбежал на улицу. Лусьтро бросился было за ним, но цепь отбросила его назад; и он остался, жалобно скуля, мечась взад-вперед на проволоке.
Глава XV
Олексан ушел, а Макар, остыв, уже пожалел: зря погорячился. Надо было сдержаться, промолчать. Про себя надеялся: Олексан скоро вернется. Куда же ему, как не домой? Разве проживешь долго у чужих, когда есть родной дом? А то — и подумать страшно: вся деревня будет тыкать в Макара пальцами: "Вон, Макар столько съел, что теперь обратно изо рта лезет — родного сына из дома выгнал". Будто без того мало разговоров: дескать, Кабышевы такие да сякие, жадные, скупые…
Во всем, что случилось, винил Зою. Из-за все в деревне ходят про них нехорошие слухи, из-за нее в семье неполадки, из-за нее теперь ушел Олексан. И кто надоумил ее менять самогон на керосин? Хотя бы его спросила. Благо, если бы не было керосина, или неоткуда достать, а то — пожалуйста, поезжай в Акташ и вези хоть целую бочку!
Стиснув зубы, Макар исподлобья зло глядел на жену, на ее подвижную сухонькую фигуру. И в чем только у нее душа держится! Не хотел бы ее видеть, не хотел бы ее слышать, да глаза видят, уши слышат. Со смиренным видом зря обиженного человека Зоя возится около печи, гремит ухватами, горшками, ступает мягко, словно большая кошка. Спать ложится отдельно, в женской половине стелет себе шубу, и, прежде чем лечь, долго молится, в темноте размахивает руками и шепчет, шепчет: "Осто, великий, светлый боже… пошли здоровья… не оставь в милости своей…" Макар слышит ее шепот и, скрипя зубами, тяжело ворочается на своей койке, думает угрюмо: "И без бога еще долго протянешь: говорят, скрипучее дерево долго стоит… Эх, жизнь! Жили до сих пор — все было ничего, а раз началось, — и все рушится… Как плотина: сверху смотреть — все хорошо, а в один день взяло да прорвало. Вода ее размывала помаленьку, пробила да развалила!.. А здесь — где пробило, когда началось?"
Олексан не вернулся. Прошел день, второй, вот уже неделя прошла — не вернулся Олексан. Макар и Зоя, каждый про себя, ждали: вот-вот сын откроет ворота, стуча сапогами поднимется по лестнице, откроет дверь… Макар готовился: только сын вернется, спокойно, ладком поговорить. Пусть на отца обиду не держит — в жизни всякое бывает, Пусть поймет, не маленький. Если в их семье не будет согласия, люди совсем засмеют. Скажут, что Макар единственного сына от себя отделяет, А чего Олексана отделять? Ведь ему все нажитое принимать, свое наживать! А как же иначе?
А Зоя думала: "Вот вернется Олексан домой, будет виниться перед матерью: "Мама, я виноват, не сердись, вперед умнее буду". А она скажет: "Ладно уж, я-то на тебя не сержусь. В семье надо жить в согласии да в мире. Знаешь, когда пчелиная семья сильная и дружная, ее никакая болезнь не берет, никакие враги ей не страшны".
Чтобы не было лишних разговоров да расспросов, Зоя и Макар на людях о сыне не заговаривали, не расспрашивали. Знали, что Олексан ночует в своей бригаде, у Петыр-агая. Но люди сами, будто невзначай, то и дело спрашивали: "Говорят, вы сына своего отделили? Правду говорят али нет?" Макар ничего не отвечал или обрезал сразу: "Врут"… А Зоя растягивала губы в улыбке: "Осто, за что нам Олексана отделять? Была бы семья большая, а то ведь трое живем! Уж мы его как нежим, прямо на руках носим…" Говорила с улыбкой, а в груди ворочалась злоба: "А вам-то что за дело? Проклятые, чужому горю радуются!"
Но, видно, над их домом злой ворон прокаркал: несчастье за несчастьем пришло.
Спустя несколько дней после ухода Олексана стали роиться пчелы. Вышли сразу два роя, и один из них Зоя тут же впустила в свободный улей, нарочно припасенный для такого случая. А другой, выйдя из улья, вдруг поднялся и привился на тополе, что рос у забора на улице. Растерявшаяся Зоя забегала по двору:
— Ах, бог ты мой, улетит ведь, сейчас улетит! О, господи, хоть бы снять успеть!
Рой привился высоко, без длинной лестницы никак не достать — даже водой не спрыснешь. Причитая, Зоя, славно курица, металась со двора на улицу, с улицы на двор. Потом догадалась, что нужна лестница, кое-как приволокла ее, стала приставлять к тополю. Лестница была дубовая, пяти метров длины — Макар сам делал, — и Зоя никак не могла ее поднять. Оглянулась, — кого бы попросить? Не Марью же — та, верно, и так уж посматривает в окно да радуется чужой беде. Еще бы — ведь в деревне все завидуют Кабышевым, радуются, когда у них горе. И другие соседи не придут. Улица пустая — все на работе.
И тут откуда ни возьмись Марья подбежала к ней, не сказав ни слова, взялась за лестницу, стала помогать. Вдвоем кое-как поставили, теперь легко было достать до ветки, где привился рой. Марья молча ушла, а Зоя даже не поблагодарила ее.
Теперь как же рой снять? Не иначе, придется отпиливать ту ветку. Зоя бегом кинулась к амбару, схватила ножовку Макара, только начала взбираться по лестнице, — глянула вверх и ахнула: клубок пчел начал разматываться. Пчелы летали вокруг матки, множество крылышек гудело обеспокоенно.
— Ах, бог ты мой, уходят, уходят! — шептала Зоя, не сводя глаз с роя. — Где теперь привьются? Ах ты, изъян какой…
Рой поднялся, сильно гудя, оторвался от тополя — улетел. Зоя кинулась за ним, причитая тонким голосом:
— Ай-ой, боже-е, рой уходи-ит.
Добежав до Акашура, остановилась. А рой, перелетев через реку, медленно стал удаляться, пока, наконец, совсем не скрылся из виду…
Когда Макар пришел, Зоя рассказала ему о случившемся. Но Макар ничего не сказал, как будто это его и не касалось. Зоя обиделась: "Что же это такое? Как будто мне одной нужно".
Прошло еще несколько дней. Однажды Зоя вышла в садик и всплеснула руками:
— Осто, да что это за несчастье такое!
Вокруг одного из ульев валялись пчелы, и возле летка еле-еле ползало еще несколько, — но, видно, такие слабые, что уже не могли взлететь. На глазах у Зон они свалились и замерли. Какой-то мор напал на них! "И как раз рой-то молодой. Или улей плохой? Да чего ему быть плохим — еще отец в нем пчел держал. Должно быть, сглазили. Завистливых людей много…"
Назавтра стали гибнуть пчелы и в других ульях, и на земле валялось уже много маленьких коричневых трупиков. Одна и та же болезнь косила их: сначала слабеют, не могут подняться с летка, будто ушибленные, крутятся на одном месте с бессильно опущенными крылышками. Потом падают, переворачиваются и замирают. "Сглазили, — решила Зоя. Поджав губы, вздохнула. — Чтоб им на свою голову тьфу, тьфу!"
Макар клал мертвых пчелок на свою загрубевшую ладонь и подолгу рассматривал, почти не чувствуя прикосновения маленьких мохнатых телец. "Вот летала-летала, а теперь лежишь… мертвая. Должно быть, много меду переносила в свой улей — ишь крылышки как обтрепались. Бедняжечка… Видно, и в дальних полях побывала. Старательная была… А что толку? Работала, работала, а теперь вот — мертвая. Эх ты, малышка!.."
Но пчелы продолжали гибнуть. Пришлось идти к соседке, попросить Галю пойти посмотреть на пчел.
Галя пчеловодство знала очень слабо, — что могли дать несколько часов лекций в институте? Так считалось: для агронома-полевода этого вполне достаточно. Но отказать Макару было неудобно, и Гале пришлось зайти в соседский садик. Надев лубяную шапочку с мелкой проволочной сеткой, она с опаской приблизилась к ульям. Макар стоял среди ульев с непокрытой головой, руки тоже были голые, но пчелы его не трогали.
Галя увидела мертвых пчел.
— Макар Петрович, а как по-вашему, что с ними случилось? — смущаясь своего незнания, Галя решила сама спросить Макара. Он должен лучше знать — не первый год возится с пчелами.
Макар поднял на нее глаза, медленно отвел; сказал нехотя:
— А кто их знает… Бывает, понос губит. У этих будто не то. Откуда заразе этой взяться? Свои семьи здоровые, в округе тоже не слыхать, чтобы пчелы болели. Не знаю…
Галя наморщила лоб, стараясь припомнить немногие сведения по пчеловодству, полученные в институте. "Понос? Что-то не помню… А еще этот — гнилец американский и европейский. Инфекция может сохраняться очень долго, даже в старых ульях. Но здесь другое — не похоже, чтобы был гнилец. К тому же им заражается только молодь. Похоже, они отравились, характерные признаки интоксикации… Но чем, откуда?"
Макар нарушил молчание.
— В тот, крашеный улей недавно молодую семью пустили. Сильная была семья, а пропали все, ни одной не осталось…
— С того улья и начался падеж?
— Как раз с того. Я его недавно выставил, почитай, всего неделя. Нынешний рой туда пустили, подкармливали модом… — Макар помолчал, пожевал губами… — Улей этот в сарае валялся. Когда-то у тестя стоял… Много пчел держал, весь сад был ульями заставлен. А потом пчелы пропали, да и хозяева… тоже пропали. С концом…
Вдруг замолк: для чего это он рассказывает девчонке о Камае? Ей-то все равно — был Камай или совсем его не было на свете.
Галя чувствовала себя неловко: стоит человек намного старше ее, ждет ее совета.
— Ну, Макар Петрович, я не знаю, как тут помочь… Посмотрю в книгах, а кроме того… Давайте, Макар Петрович, я сдам на анализ в районную ветлабораторию несколько погибших пчел! Это будет самое верное.
Обрадованная найденным решением, Галя вышла из садика и сняла сетку. Она направилась уже к воротам, но Макар ее остановил:
— Галина Степановна, погоди-ка. Поговорить надо…
"Что еще? Опять затащат к себе, станут разворачивать полушалки да отрезы? Нет, ни за что не пойду!"
— Что такое? — Галя нетерпеливо обернулась к Макару.
Макар опять пожевал губами, почему-то погладил щеку. Видно, трудно ему было начинать этот разговор.
— Олексан… Он не приходит к нам. Ушел… — Макар помолчал, не глядя на Галю. — Как он… там?
Галя прикусила губу. В первую минуту она не могла попять: почему Кабышев спрашивает у нее об Олек-сане? Внимательно посмотрела на Макара и почему-то сразу ясно заметила, как он сильно постарел с того времени, что она приехала в Акагурт.
— Да, я слышала. А Олексан… как вам оказать… по-прежнему работает. Я давно не была у трактористов, и с тех пор, как он… ушел от вас, наверное, виделись раз, не больше. Он ничего мне об этом не говорил. А… почему он ушел?
Макар стоял, упрямо разглядывая носки своих сапог. Покачав головой, сказал с заметной дрожью в голосе:
— Не гнали мы его… сам ушел. Не захотел с нами жить. Люди, может, разное говорят, а я… не гнал его. Коли увидите его там, скажите: мол, зря ушел… отец на него обиду не держит.
В эту минуту у Макара был такой униженный и жалкий вид, что Гале стало тяжело, и она согласилась:
— Хорошо, хорошо, я ему передам. Поговорю с ним…
— Вот, вот, поговорите, — облегченно вздохнул Кабышев, видимо радуясь, что Галя поняла его.
А в это время в доме, у окна, за сдвинутой занавеской, стояла Зоя, прислушиваясь к разговору. С обидой думала: "A-а, сына выгнал, а теперь сам же и обратно? Только не старайся, не отдам я тебе сына. Не отдам, мой он, Олексан!"
С треском распахнула она створки окна:
— Макар, ты чего там людям банки рассказываешь? Заходи, суп остынет!
А Гале — ни слова, будто и не было ее. Всем своим существом теперь она ненавидела и Галю, и всех трактористов этой проклятой бригады. Была уверена: это они испортили Олексана, учат жить по-своему. Оторвали сына от матери, шайтановы дети!
Галя обернулась, посмотрела на Зою. Взгляды их встретились. Зоя торопливо, со стуком закрыла окно.
Глава XVI
В конце загона стоит запряженная лошадь. Это дежурит лошадь Параски. Сама Параска куда-то ушла. На телеге — полная бочка с керосином. Чтобы не свалилась, Параска подложила под нее с обеих сторон по кирпичу. Лошадь стоит уже давно, спокойно дремлет, чуть шевеля ушами: одолевают мухи. Но вот она насторожилась: в чуткую дремоту проник новый звук. Подняла голову и снова равнодушно опустила: ничего нового, всего-навсего трактор спускается с холма.
Доехав до конца загона, Олексан направил трактор прямо к телеге. Лошадь, испугавшись, отпрянула, телега накренилась, и бочка, перекатившись через кирпич, упала на землю.
Трактор остановился возле самой телеги: Как раз в эту минуту из рощи, с охапкой зеленых веток, показалась Параска. Она что-то кричала, но из-за шума трактора ничего нельзя было разобрать. Олексан заглушил мотор, и тогда донеслось:
— Сдурел, что ли?! Куда лезешь на телегу! Вот возьму да стяну за ногу!
Олексан не стал ждать, пока Параска шисполнит свое намерение, живо соскочил с трактора и миролюбиво улыбнулся Параске.
— Ну, не ругайся, Параска-апай! Я просто хотел проверить, привыкла ли к трактору твоя лошадь…
— "Проверить"! Бочку вон свалил. Эк-кий, право, молодо-зелено, не ум, а яйца всмятку, — проворчала Параска уже более дружелюбно. Потом, улыбнувшись, прибавила. — Тебе, Олексан, пора за ум браться, теперь ты сам себе хозяин — одна голова, две ноги.
Олексан сразу помрачнел.
— Ладно уж, Параска-апай, не надо…
— Как же так — не надо? Заварил кашу, а расхлебывать боишься? Горячо, а? Эх ты… Где теперь живешь-то? У Петыр-агая?
— У него.
Параска помолчала, задумавшись.
— Что ж, век так не проживешь. Не мыкаться же одному, когда своя семья есть. Что ни говори, а родители — мать и отец, — хороши ли, нет ли, а свои. Семья, так уж пусть семья и будет. А так что? Один тянет сюда, другой туда.
— Это верно, Параска-апай. Только ведь я никуда не тяну. Просто хочу жить, как все живут. А мать с отцом хотят… по-другому. Плохо мне там…
— Подожди! Отец-то у тебя работящий, с детства ведь мытарился. А мать в кулацкой семье выросла, привыкла все для себя. Вышла… за бедного. Потом поправились, а колхозом стали жить — и вовсе на ноги стали. Отец твой хороший человек, это мать его испортила, У ихней родни, если кулак сжимался, не скоро разжимался…
Олексан молча слушал Параску и не мог понять, для чего она ему все это говорит, Он и раньше слышал, как жили отец с матерью, — прислушивался к разговорам, а иногда мать сама рассказывала, только к чему это сейчас?
— А ты, молодец? Ушел от отца-матери, а подумал? Может, по молодости — обиделся, да и все? Дескать, вы так, а я — вот так. Из упрямства.
Олексан, поглаживая медленно остывающий радиатор, трогал пальцем медную пластинку, и она жалобно звенела: дзинь-дзинь…
— А может быть, и в самом деле с ними не можешь?
Насильно мил не будешь. Тогда не живи, только хорошо подумай. И людей не сторонись, у тебя товарищи хорошие.
Пластинка под рукой Олексана тоненько звенела: дзинь-дзинь. Остывающий радиатор тихонько шипел, точь-в-точь как самовар, когда мать ставит его на стол.
— Ну, ну, Олексан, чего раскис! — нарочито бодрым голосом окликнула его Параска. — Голову себе не очень забивай. Давай, заправляйся, работу-то забыли.
Вдвоем налили в бак керосин, сменили в радиаторе воду. Олексан схватил заводную ручку; все знали — это был его козырь: заводить мотор с полуоборота. В бригаде никто так не мог. Медвежья сила у парня! Говорят, если человек в детстве много меду съест, обязательно сильным будет, а Олексан маленьким хлебал мед большой деревянной ложкой.
Трактор, грохоча, тронулся с места, вошел правыми колесами в борозду, лемеха врезались в землю. Грачи, галки садятся на борозды, чуть ли не под плуг: давно привыкли к трактору. А когда они прыгают в борозде за плугом, торопясь обогнать друг друга, их совсем не видно: Олексан пашет глубоко, выворачивая подпочвенный слой. Время от времени он оборачивается: все ли в порядке? Крепко запомнился случай, когда из-за "клиньев" пришлось краснеть перед Ушаковым.
Трактор гудит ровно, иногда, будто рассердившись, попыхивает, выбрасывая кольца дыма, и прибавляет обороты — видно, попался твердый участок. Человеку непривычному кажется, что трактор очень уж гремит: грохот бьет по голове, соседа не слышно, если даже он кричит в самое ухо. Но привычному человеку мотор совсем не мешает. Больше того — в беспорядочном шуме ухо улавливает подобие какого-то мотива. Об этом может рассказать любой шофер, тракторист, комбайнер. Опытный человек даже понимает "язык машины". Он слышит, как ходят в цилиндрах поршни, как крутится на подшипниках коленчатый вал, визжат шестерни в коробке передач и в дифере. Трактор неторопливо ползет по полю, а тракторист озабоченно прислушивается: "Пальцы износились, надо сменить…", "подшипники стучат, пора делать подтяжку".
Вначале Олексан удивлялся, как это Ушаков безошибочно узнает на слух, какую деталь нужно сменить, где и что подтянуть. А теперь и сам стал различать "инструменты в оркестре". Недавно сказал Ушакову: "В коробке зубья шестеренки покрошились. Сменить придется". Бригадир не поверил: "Почудилось тебе, Кабышев". Олексан все-гаки сиял крышку коробки и показал Ушакову осколки металла. Ушаков развел руками: "Да-а, полсмены стоять придется. Хорошо, вовремя обнаружили, а то бы еще больше простояли". Бригадир сказал "обнаружили", а надо бы — "обнаружил", — уж очень хотелось Олексану, чтобы похвалили его одного.
Впереди показался пень — большой, старый, но еще крепкий. Каждый год его обходили сеяльщики, жнецы и комбайнеры. Олексан уже собрался его объехать, но вдруг решил: "Будь что будет, не сверну. Попробую своротить!" Из выхлопной трубы вырвались черные клубы дыма, мотор надсадно завыл, трактор напряг все свои тридцать две лошадиные силы. На одно мгновение он остановился, что-то затрещало — и вот машина снова рванулась вперед. Олексан оглянулся: раскинув в стороны уродливые руки-корни, пень лежал на боку. "Ого, какой ты уродина! — подумал он. — Выставил наружу головку и сидишь себе, а главное-то у тебя, оказывается, под землей спрятано".
Только потом Олексан почувствовал, что все еще крепко держится за руль, а пальцы побелели. На лбу выступили капельки пота, будто это он сам выворотил пень из земли.
Дневная смена давно уже вернулась — только Олексана еще нет. Трактористы поужинали и разбрелись кто куда: одни — в сарай отдыхать, другие — прогуляться на Глейбамал. Андрей и Сабит, несмотря на позднюю пору, поехали на велосипедах в Акташ смотреть новую кинокартину. В Акагурте кинопередвижка бывает раз-два в неделю, — и то привозят все старые фильмы, которые по воле райкультпросветотдела совершают по колхозам несколько круговых маршрутов. Андрей то и дело ругается: "Я в газете читал: фильм в Москве еще в прошлом году люди смотрели, а к нам только привезли. Да что, мы от Москвы на год отстали, что ли? Вот возьму да напишу ихнему министру!"
Дедушка Петыр, разнеся свою почту, сразу полез на печь и заснул. Трудно старому в такую погоду.
В темном углу около двери сидит Очей, подвязавшись платком бабушки Одок. У него разболелись зубы.
Днем он на стенку лез, но в больницу так и не пошел: боится, что вырвут зуб. И такая прыть появилась у вечно сонного, неторопливого парня: из избы мчался во двор, со двора в огород, с огорода обратно в избу, посидев минутку, с глухим мычаньем снова рвался к двери. Наконец сжалилась над ним бабушка Одок, — дала свой платок, завязав в него горячую золу. Теперь он сидит в углу и время от времени жалобно стонет: "Бабушка, зола остыла, сменить бы…" Сабит ему посочувствовал: "И почему это как раз нужного человека болезнь нашла? Попробуй положи на больной зуб горчицу или табак, беда как помогает. Валла! Не хочешь? Тогда обязательно помрешь, Очей". Только Очею не до смеха. Попробуй, посмейся, когда челюсть набок сворачивает.
Ночь темная. Небо сплошь затянуто тучами. Тихо и сонно по листьям шуршит несильный дождь. Шум трактора временами совсем замирает — значит, ушел в дальний конец загона, — потом снова нарастает, как жужжанье большого жука.
В открытое окно брызнули капли дождя, и лепестки черемухи, словно маленькие белые мотыльки, влетели в комнату, опустились на стол. Ушаков закрыл окно.
Стало совсем тихо, только ходики уютно тикают.
Но вот стукнула калитка, во дворе залаяла собака.
— Никак Олексан идет. — Бабка Одок отложила вязанье и застучала в печи ухватом. — Должно, наголодался. В обед носила ему в поле поесть, а он нос воротит: неохота…
Олексаи зашел в избу прямо в плаще, весь мокрый — вода ручейками стекала на пол.
Разувшись, Олексан долго умывался, докрасна тер лицо и шею грубым полотенцем.
— Давай садись, Олексан. — Бабка поставила на стол миску, нарезала хлеб. — Суп остыл, пораньше бы тебе прийти.
Видно, и правда, сильно проголодался Олексан: большими кусками откусывал мягкий, пахучий хлеб и торопливо хлебал чуть теплый суп.
— Ого, глядя на тебя, сам есть захочешь. Приятного аппетита! — пожелал Ушаков.
— Спасибо! — отозвался с набитым ртом Олексан.
Он полюбил эти часы ужина в кругу товарищей, когда за столом то и дело перекидываются шутками и едят много и аппетитно. И никто не провожает твою ложку долгим, тяжелым взглядом, от которого кусок застревает в горле, никто не надоедает: "Ешь с хлебом, чего зря хлебать, голодный будешь!" "Почему у нас не так? Мать за столом не разговаривает, и отец молчит. Как будто покойник в доме". Теперь Олексану казалось, что дома он никогда не наедался досыта.
— Ну, как дела, Кабышев?
— Сегодня хорошо, Павел Васильич, — охотно заговорил Олексан. — Загон был хороший. А потом, помнишь, был там старый пень? Своротил я его. А загон весь вспахал.
— Хм, своротил! Мог бы стойки поломать, а отвечать кому? Озорник ты, Олексан. Новый загон не начинал?
— Заехал, да только темно уж стало. Параска-апай там была, я ей факел сделал, вот она и светила мне. Ждет, пока я подъеду, потом снова вперед бежит, отмеривает. Устала она.
— Ого, выходит, ты нынче дал! — обрадовался бригадир. — Молодчина, хвалю.
В темном углу заворочался Очей, забормотал:
— Трудодней загребет…
Олексан перестал жевать, с удивлением уставился в угол, потом вопросительно взглянул на Ушакова.
— С зубами мается. Целый день стонет.
— А я-то гадал: почему нет смены? — проговорил Олексан. — Ну и что теперь?
— Да что? Может, к утру отпустит. В больницу не идет, хоть на веревке тащи.
Очей пробормотал:
— Из-за этого… зуба без трудодней останусь… м-м…
Олексан положил ложку на стол, встал, подошел к Очею, зло проговорил:
— Ну и что? Чего ты раскуковался: "Трудодень, трудодень!" Я твои трудодни не беру, не нужны они мне. Своих хватит. Иди сам да работай!
— Иди-и, — проворчал Очей. — Как я пойду… с зубом?
— Тогда сиди да молчи. Эх, ты…
Олексан постоял минуту, затем решительно сдернул фуфайку с гвоздя.
— Олексан, ты в сарай? Возьми мой зипун, ночь-то холодная, — посоветовала бабка. — Замерзнешь совсем.
Олексан остановился у порога, взглянул на бригадира.
— Я, Павел Васильич, в поле иду. Трактор в борозде оставил.
И вышел, хлопнув дверью. Бригадир хотел остановить Олексана, но потом раздумал: "Пусть идет. Успеет выспаться, ночь длинная. Черт бы побрал этого Очея, нашел время болеть".
Спустя некоторое время Ушаков открыл окно. Дождь перестал. Слышен был гул мотора — где-то работал трактор. "Это Дарья или "СХТЗ", что ли? Да нет, Дарья на другом поле. Значит, это Олексан".
В углу опять заворочался Очей. Встал, подошел к лампе, развязал платок. Щека у него раздулась, словно положил в рот целое яблоко. Осторожно погладил щеку, лаская больное место.
Попросив у бабушки Одок ее старый зипун, Ушаков отравился спать в сарай. Очей стоял посередине комнаты, поглаживая больную щеку и вздыхая. Ему явно не везло. Другим все само в руки лезет, хотя бы тому же Олексану. А Очею не везет. Хотел нынче подработать, получить побольше хлеба, — продать десяток-другой пудов на базаре, а там купить кое-что, отстроить дом. Тогда бы он уж стал жить спокойно. Так нет, не везет ему. С этими горестными думами Очей снова отправился в свой угол.
Глава XVII
Эта неделя была для Олексана тяжелая: приходилось работать за Очея. Бригада держала первое место по МТС, а если трактор простоит хоть одну смену — значит, первого места уже не видать. Олексан работал в две смены.
Сегодня Очей его сменит: зуб все-таки пришлось вырвать…
Под непрерывный рокот мотора невыносимо хочется спать. Вечером, до самой полуночи, еще ничего, а под утро одолевает усталость, слипаются глаза. На рассвете Олексан уже еле сидит за рулем, еле удерживается, чтобы не выключить мотор и лечь прямо на землю, в теплую борозду. Но — нельзя! И Олексан щиплет себя за колени, руки, трет лицо. На минуту становится легче, но скоро веки снова тяжелеют, слипаются. Убаюкивает шум мотора, укачивает, мягко переваливаясь, трактор. Вжи-вжи-вжи… Что это? A-а, бегает Лусьтро, гремит проволокой. Вон и отец под навесом что-то обтесывает топором. Увидев Олексана, втыкает топор в дубовую колоду, сердито взглядывает на сына: "Ты где ходить? Почему так долго, ну?" Олексан хочет сказать, что был у товарищей, в бригаде, но не может выговорить ни слова, — язык словно распух во рту. Отец берет обтесанную рейку и идет навстречу Олексану: "Где был? Отвечай!" Олексан силится вымолвить что-то — и не может. Макар кричит и больно ударяет Олексана по лбу. А-а-а!.. Олексан проснулся, ударившись головой о руль. Крепко задремал! И, кажется, долго… Оглянулся — нет, всего на минуту, не больше. А трактор у него послушный — словно понимает, сам идет по борозде.
Доехав до конца загона, Олексан умылся водой из бочки, оглядел трактор; к утру он тоже похож на усталого труженика: на капоте выступили капельки росы, сбегали струйками вниз, словно пот с лица.
Небо постепенно светлеет над Глейбамалом. В деревне верхушки тополей уже видят первые лучи солнца. А здесь, по низине, еще бродят ночные тени, вдоль рощи стелется легкий дымок тумана. По солнце поднимается все выше, тени исчезают, воздух становится прозрачным. Солнечные лучи, пробившись сквозь ветви тополей, устремились в поле… Разбуженный ими, откуда-то вылетел жаворонок, штопором взвился в небо — вверх, навстречу солнцу! И над полем разливается трель, рассыпаются тысячи бубенчиков — кажется, что звенит сам воздух. В траве, на листьях вспыхивают разноцветные огоньки — роса переливается всеми цветами радуги.
Олексан любил эти минуты — минуты, когда рождается новый день. Дремота проходит, в грудь вливается свежесть, бодрость и сила. Никого нет, только в небе жаворонок, а внизу он, Олексан, один на тракторе в этом огромном поле. Кажется, и трактор ощущает прилив бодрости и гудит сильнее. "Эге-ге-э!" — кричит Олексан. Наверно, роща отвечает ему, но Олексан не слышит: "Эге-ге-э-э-э!.." Олексан сейчас один хозяин здесь, он может делать все, что захочет! И ему уже жалко, что скоро придет смена и место его за рулем займет Очей. А этого барана разве чем проймешь?
Вскоре действительно приплелся Очей, лениво стал шприцевать солидолом трущиеся части трактора. Олексан почти с ненавистью глядел на него.
— Смотри, Очей, трактор мне не угробь! — погрозил он. — Он сейчас как часики отрегулирован.
Очей пробурчал что-то вроде: "Не твой он… Хватит уж, нагнал трудодней…" Но Олексан только махнул рукой и пошел: не хотел портить себе хорошее настроение. Зашел в рощу, отыскав ключ, умылся ледяной водой. Закинув фуфайку на плечо, вышел на дорогу. Пыль за ночь осела, следы на ней оставались как нарисованные.
Немного погодя Олексан заметил на дороге чьи-то свежие следы. Кто-то наискось перешел через дорогу, направился в сторону озимого поля — следы темнели в росистой траве. Очей, что ли, здесь прошел? Но он был в сапогах, а эти следы — маленькие, похожи на детские. Наверное, у хозяйки вчера не вернулась с пастбища овца или корова, вот и ходит теперь, ищет.
Из рощи на дорогу вышла девушка. A-а, вот это кто ходит рано утром в поле! Галя-агроном. Олексан сделал вид, что не заметил девушки, не стал ждать ее. Он все еще сторонился Гали, настороженно отвечал на ее вопросы. Да и о чем ему с ней говорить? Она ему совершенно чужая — приехала откуда-то из города, приехала и уедет, не век же ей здесь жить. Да ее, наверное, Олексан и его жизнь ничуть не интересуют. А что касается работы, то Олексан все агротехнические требования соблюдает. Агроном тут ничем не могла упрекнуть его.
— Кабышев, подожди!
"Ну вот! Шла бы своей дорогой. Сейчас начнется: сколько выработал, на какую глубину пахал, заделал ли концы загона…"
— Здравствуй, Олексан! Почему мимо проходишь? А еще молодой человек!
Олексан слегка покраснел. С чего это она вдруг? Правда, Галя всегда приветливая, веселая, любит пошутить и посмеяться, особенно когда встретит Андрея. Они спорят и ругаются, а потом снова мирятся. Но Андрей — это Андрей, а Олексан — совсем другое дело. Он так не может.
— Мы с тобой соседи, Саша, — Галя искоса взглянула на молча шагавшего рядом Олексана. — А отношения вроде будто дипломатические: здрасте и до свиданья! Я, в конце концов, обижусь!
Олексан смешался. Что это она, смеется? Быстро взглянул на Галю: она не смеялась и как будто не собиралась.
— Почему же… Я как все…
— Нет, нет, Кабышев, на других не спаливай. Давно живем рядом, соседи, а как будто чужие. Может, ты сердишься на меня?
Олексан еще рал покосился на девушку, не в силах разгадать: всерьез что она или шутих?
— Не за что сердиться мне на нас. А насчет соседей — что уж дело прошлое… Не живу я дома. Ушел… — глухо проговорил он.
— Ах, вот как! Галя сделала вид, что удивилась. — Что-то говорили об этом, а я не поверила, прост не поняла: как что можно так — взять и уйти от родителей? Я была у вас… у ваших роди гелей, понравилось: очень чисто, уютно, тишина такая…
— Вот-вот, тихо у нас, как в гробу каком! — зло подхватил Олексан. — Мать с отцом живут, будто в долг кому дают. Все как-то не по-людски, потихоньку да с оглядкой. Попрекают да поправляют на каждом шагу, а я им что, маленький? Мать все хочет из меня хозяина сделать, а какой я им хозяин? И в трактористы нарочно послали, чтоб побольше зарабатывал. Мне-то не говорят, только сам вижу…
Минуту-другую шли молча. Озлобленное выражение постепенно сошло с лица Олексана. Галя, как бы думая вслух, медленно заговорила:
— Да, конечно, и такой семье… трудно ужиться. Я бы, например, тоже не смогла. Я где-то читала, что если человек слишком любит свои вещи, он забывает о людях. Нет, не так, ну, в общем… своя собственность целиком захватила их. Ты, Саша, не обижайся, что и так говорю о твоих родных. Они у тебя уже немолодые, и все это впиталось в них давно, надолго… Может, на всю жизнь. Их переделывать, наверное, уже поздно. А вот ты молодой…
Галя остановилась, испытующе посмотрела на Олексана и вдруг сказала:
— Твой отец просил передать, чтобы ты вернулся домой. Ждут они там.
Олексан отвернулся, глухо, но твердо, как о раз и навсегда решенном, сказал:
— Не пойду я обратно. Один проживу. И они тоже… проживут.
— Все-таки жаль их, они же твои родители. Как можно так легко решить: не пойду, и все?
Олексан по-прежнему твердо ответил:
— Почему легко? Не оставлю, помогать буду. А жить туда — не пойду! Чего меня уговаривать?
— Как же будешь жить? Ну, скажем, ушел ил дома, — это еще полдела, даже меньше. Главное — куда дальше?
Об этом Олексан старался не думать. Сам часто ловил себя на мысли: что же дальше? Но тут же отгонял ее от себя. В конце концов раньше смерти умирать нечего, что будет — то и будет. Но от вопроса этого — "что дальше" — так просто не отделаешься!
Олексан мотнул головой:
— Не знаю пока. Ничего не знаю. Поживем — увидим.
Молча дошли до мостика, перекинутого через Акашур. Из-за ивовых кустов вдруг показался Мошков. Увидев Галю с Олексаном, криво улыбнулся.
— Ого, добрый народ еще спит, а они уже по лужку успели прогуляться. Вот не думал!..
Галя вспыхнула, сердито проговорила:
— Как тебе не стыдно, Андрей! И вообще — разве я должна у кого-то спрашивать?
Андрей сразу изменил тон, примирительно сказал:
— Да я пошутил… Между прочим, товарищ агроном, не желаете взглянуть на мою пашню? Может, мелко беру или как там…
Галя засмеялась, погрозила пальцем.
— Андрей, но я же только вчера была там! Впрочем, идем. Мне нужно взять на анализ почву… на кислотность. До свиданья, Саша! — И ушли, смеясь.
Олексан постоял на мосту, без всяких дум глядя в воду. Потом перекинул фуфайку на другое плечо и зашагал к квартире трактористов. Проходя мимо своего дома, даже не взглянул, не повернул головы. А дом молча смотрел ему вслед своими глазами-окнами.
Вечером в конторе собралось правление колхоза. Заседали долго, до поздней ночи. Мужики одну за другой свертывали добротные цигарки из "огородтреста", как окрестили здесь махорку-самосад, и ожесточенно дымили. На стене позади председателя красовалась фиолетовая надпись, придуманная самим Нянькиным: "Не курите, если даже разрешают!", но на нее никто не обращал внимания.
Члены правления собирались, как всегда, долго. Нет дисциплины: назначат к шести, — хорошо, если к восьми начнут. Будь это в учреждении, Григорий Иванович пустил бы в ход приказы, выговоры. Здесь этого делать нельзя — народ другой…
Григорий Иванович обычно собирает правление два, а то и три раза в неделю. Каждый раз втолковывает: артельные дела нужно решать сообща, то есть "должно иметь место коллегиальное руководство". Однако члены правления почему-то не хотели этого понять, ворчали: "Сидим в конторе как окаянные". Но Нянькин знал по своему опыту: свыкнутся, еще будут заседать по-настоящему!
На сегодняшнем заседании предстояло решить добрый десяток вопросов: о птицеферме, о ремонте моста через Акашур, о закупке сбруи, да еще рассмотреть заявления колхозников. По каждому вопросу Григорий Иванович выступал обстоятельно, с разъяснениями и объяснениями.
Начали с птицефермы. Из полутора тысяч цыплят, привезенных из Акташской инкубаторной станции, более половины оказались петушками. Что с ними делать?
Подал голос почти невидимый в дыму Однорукий Тима:
— Резать их! Мясо сдать в счет заготовок или трактористам на питание. Чего думать-то? Эхма, великое дело!
Решили сдать петухов и счет поставки. Перешли к следующему вопросу: о мосте через Акашур. Переезжая на другое поле, трактористы проломили несколько досок настила. Нужен ремонт. Григорий Иванович начал было: мост — вещь нужная, к тому же имеется специальное постановление райисполкома, чтобы дороги, мосты и канавы всегда содержались в исправности.
Макар Кабышев сидел, как всегда, в уголке возле печки. Молчал, тяжело опершись руками о колени, сидел безучастно, не слушая. Со стороны он выглядел сейчас очень несчастным, уставшим от жизни человеком.
И в самом деле, было ему совсем не весело. Мучили тяжелые мысли: "Не вернется… На кого останется хозяйство, дом? Для чего копил, берег, ночей не спал, спину ломал, себя не жалел? Кто знает, может, помру скоро… А помрешь — ничего с собой не возьмешь. При жизни-то все мало, а помрешь — ничего не надо, хоть всё прахом пропади… Эх, Олексан, чем обидели мы тебя? Ушел из родного дома, от отца с матерью. Ушел… А дальше-то что?.."
Тем временем Однорукий Тима решил прервать рассуждения Нянькина.
— Ладно, чего там, ясно! Надо ремонтировать мост, и точка! Макар Петрович, возьмись-ка ты за это дело. Тебе, как говорится, за инструментом не ходить.
Макар тяжело поднялся, ни на кого не глядя, с усилием проговорил:
— Со здоровьем у меня что-то неладно… Не знаю, смогу ли. Может, кого другого назначите?
Тима будто только этого и ждал.
— Эх, Макар Петрович, лучше бы не говорить тебе такого! Сказал бы прямо — наплевать тебе на артель! Небось сам не раз видел, что по мосту невозможно ездить? Дома-то у тебя досочка от забора ненароком оторвется — так тут же с молоточком выбегаешь! Выбрали тебя в правление за хозяйственность, а она, твоя хозяйственность, только до своего порога, а на колхоз ее уже не хватает. Выходит, не мил тебе колхоз? Смотри, народ рассердиться может!
Тима сел. В конторе стало тихо. Макар медленно обвел взглядом людей, осторожно опустился на место — как слепой, боясь упасть.
— Тима… ты меня на смех не выставляй. В колхозе я… дольше твоего работаю.
Тима махнул здоровой рукой, раздраженно сказал:
— Прошлыми делами недолго проживешь. Работаешь — так это только одни слова, что ты, что твоя жена — числитесь, а за колхозное добро слезу не уроните. Люди видят, кто чем живет!
Макара словно холодным потом прошибло. Вот оно, чего он ждал и боялся. В глаза упрекают: дескать, не так живешь, Макар! А что ему ответить?
Нянькин резко постучал линейкой по алюминиевой кружке, поставленной к графину вместо стакана.
— Товарищи, мы здесь обсуждаем колхозные вопросы! При чем тут Кабышев?
Тима громко возразил:
— Это тоже вопрос колхозный! Ничего, недолго осталось… До отчетного собрания!
Акагуртские петухи давно пропели полночь, на востоке небо стало бледнеть, а в конторе все еще заседали…
Глава XVIII
Прошумели теплые грозовые ливни. Вокруг Акагурта буйно зазеленели сады, на лугах поднялись травы. Там, где весной разлился Акашур, зацвела золотистая купальница — цветок разлуки. Акагуртские девушки, возвращаясь вечером с поля, бежали к речке: выкупавшись, вплетали в косы золотистый нежный цветок. Хорошо в такую пору в Акагурте.
А потом опали лепестки купальницы, целые тысячи их поплыли по реке — вниз, к Каме, а может, и к самок Волге, Теперь на Глейбамале шиповник раскрыл свои розовые бутоны.
По небу плывут легкие облака, смотрясь мимоходом в светлые воды тихого Акашура.
В поднятых на высокие шесты скворечнях кричат ненасытные скворцы, за оконными наличниками пищат еще совсем голенькие воробышки. Их родители, забыв о своих обязанностях, затевают ожесточенные потасовки. Не любят воробьев в птичьем мире, худая слава идет о них: привыкли жить на даровщинку, воры известные — чуть зазеваешься, и уже тащат из-под самого носа. С утра до вечера носятся — ищут легкую наживу, возле колхозных амбаров их тьма-тьмущая; только отвернется кладовщик, — целая стая налетит на зерно, разложенное для просушки, и клюют, воровато оглядываясь. Ко всему этому еще клеветники, сплетники, день-деньской сидят на заборах, перемывают косточки знакомым. Живут грязно, порядка не признают: из гнезд всегда торчат чужие перья, солома, пакли.
Да, лето и разгаре. Даже ночью не умолкает радостный птичий хор, дневных певцов сменяют ночные, в густой ольховой роще по-над рекой кричит дергач, В народе про него говорят, что он зол на людей и вечно жалуется на свою судьбу.
А какое раздолье в Акагурте соловьям! Только зайдет солнце — где-то за околицей один подаст голос, и ему тотчас откликается второй, вступает третий, и начинает перекатываться вдоль Акашура соловьиная перекличка. Какой-то смельчак облюбовал себе для концертов сад Петыр-агая, каждый вечер невидимый в кустах черемухи щелкает до самого утра. Говорят, что в азарте эта маленькая серая птичка обо всем забывает, и пока поет, можно взять ее голыми руками. Кто знает, может, и верно это, да что-то пока не слыхать, чтобы кто-нибудь в самом деле поймал соловья…
Бригадир Ушаков издавна страстно любил слушать соловьев. Оставаясь один, долго торчал у открытого окна или выходил на крыльцо и сидел там до самого рассвета.
Бригадир по утрам даже стал просыпать, и когда выходил из амбара, где обычно спал, никого из трактористов уже не было. Андрей Мошков как-то пошутил: "Соловьи не дают нашему бригадиру спать, тем самым вредно влияют на всю бригаду. Предлагаю прогнать из сада этого певуна. Кто за?" Ушаков свирепо глянул на Андрея, сказал без шуток: "Попробуй прогони, я тебя самого заставлю соловьем щелкать!" Бабка Одок испугалась: "Осто, Павел, да ты никак и вправду не высыпаешься? Ишь глаза красные…"
Однажды после ужина, когда трактористы разошлись кто куда, на крыльцо вышел Олексан.
— Можно, Павел Васильич, я тут посижу, послушаю?
Бригадир недоверчиво покосился на тракториста: смеется, что ли? Нет, Олексан сидел серьезный, будто и впрямь приготовился слушать соловья. Бригадир успокоился и предупредил только, чтобы тот дышать не смел. Молча посидели минуту-другую. И вот со стороны конного двора послышалась дробь. Это был вызов. В саду не замедлил отозваться соперник, — да так, что в один зачин кукарекнул петухом, просвистел скворцом, передразнил воробья и, наконец, рассыпался серебряными молоточками.
Ушаков с таким видом взглянул на Олексана, что можно было подумать, будто это его заслуга.
— Видал?
— Да-а, здорово! Тот, с речки, конечно, послабже.
— Ну-у, сказал! Да он ему в подметки не годится. Я за ними давно слежу, — этот каждый раз того забивает.
Силен! То-то, брат… А вы — "прогнать".
Посидели еще немного, слушая соловьиную бурю на реке. Наконец Олексан кашлянул тихонько — раз, другой. Ушаков недовольно поглядел на него: "Если пришел — сиди тихо, а не то уходи, не мешай".
— Павел Васильич — проговорил Олексан. — Дело у меня…
Ушаков нехотя повернулся к нему.
— Ну что? Днем не мог?
Олексан не знал, как начать, чувствовал себя неловко.
— У меня… лишние свечи есть. Не нужны они мне, так… может, кто попросит — пусть берет. Я хочу их, Павел Васильич, вам отдать…
— Это зачем? — удивился бригадир.
— Ну, знаете… может, кому понадобятся, попросят.
— А почему я? Сам не можешь?
Олексан мучительно думал: "Рассказать или не надо?"
— Сам тоже могу, конечно. Только, Павел Васильич, я… то есть у меня эти свечи как-то просил Сабит, а я не дал. Это как раз когда он руку поранил. Свечи у меня тогда были, в ящике лежали. А Сабиту сказал, что нет.
— Об этом я знаю, — сказал Ушаков.
Олексан изумленно посмотрел на него.
— Как… знаете?
— Хм, как… Видел в ящике. Плохо соврал — ящик-то открытым оставил!
Темнота спасла Олексана: бригадир не видел, как он покраснел, весь, до кончиков ушей.
— Я самому Сабиту еще не говорил…
— И не надо. Он тоже знает. Еще когда просить пошел, знал, что у тебя в ящике свечи лежат.
Ну и ну! Олексана это совсем сбило с толку. Что же это получается? Ходил он целый месяц, мучился, себя клял, боялся людям в глаза взглянуть. Хотел сегодня наконец бригадиру открыться, рассказать начистоту, — и все зря. Знали товарищи обо всем, вся бригада знала, и хоть бы одно слово кто сказал! Никто ему под ноги не плюнул: "Ты плохой человек, Кабышев!" Никто слова не сказал!
Олексан не видел, как Ушаков улыбался в темноте: "Ну, это неплохо, если сам решился сказать. Лучше поздно, чем никогда".
Олексан заговорил, голос у него прерывался от волнения.
— Я, Павел Васильич… не то что пожалел свечи, а так… подумал: надо, так имей свои. А получилось — Сабита подвел.
— Что Сабита? Больше самого себя подвел. Подумай-ка: говорят, кто другим не дает, тот и для себя жалеет, то есть сам у себя крадет. Вот ведь как, парень!
Помолчали. Ушаков неторопливо курил. Ночь величественно плыла над спящей деревней. От построек падали на землю резкие тени.
— Да-а, брат, — протянул Ушаков, — у тебя этого… старого духу еще осталось. Раньше говорили: "Чужая болячка не болит", то есть тебе до других дела нет, ну и ты, ежели даже помирать станешь, спасителя не жди. Каждый сам по себе жил. Посуди: сто, двести, а может, тыщу лет так жили, за тридцать — сорок лет сразу это не вытравишь. У всех есть — у кого меньше, у кого больше. Вот и надо стараться, чтобы меньше этого духу в тебе было. Вытравляй его сам, Олексан, по капле выпускай! Характер ломать надо. Понял?
Олексан с трудом ответил:
— Вроде понял… Спасибо, Павел Васильич.
— За что? — не понял бригадир.
— Думал, смеяться станешь.
— Хм, чудак. Что ж тут смешного? Ты, главное, не бойся людей, если надо чего, спрашивай, за это по губам не шлепнут. Так-то, брат.
Олексан встал, молча прошел в сени, снял с гвоздя фуфайку и отправился на сеновал. Для него предстояла беспокойная, бессонная ночь. Не соловьи беспокоили его, нет, — жизнь, временами вроде совсем понятная, ясная, а часто путаная, сложная, не давала ему спокойно уснуть. Надо было раз и навсегда все себе уяснить. Но только как?
Бригадир остался сидеть на крыльце. Поглядел вслед Олексану: "Да, это хорошо, что рассказал. Правильно сделал! А то раз бы утаил, другой, глядишь, — и совсем веру в себя бы потерял. Уехать бы ему сейчас отсюда — пущай окрепнет, жизнь повидает. Пустить его по правильной дороге — хорошо пойдет, шаг у парня твердый…"
Со вспашкой и севом справились, а работы в бригаде все равно не убавилось: начался сенокос, возили материал на строительство, готовились дисковать пары. Прошли те времена, когда трактористы, кончив пахать, надолго ставили тракторы на "ремонт". До уборки еще далеко, а сенокос — это, дескать, не дело трактористок. Неделями тянулся "текущий ремонт", ребята бездельничали. А колхозники тем временем косили луга, сгребали сено, копнили — все вручную. Механизаторы, посмеиваясь, возились в своем хозяйстве, готовили на зиму дрова, сено.
Теперь же с самой ранней весны и до позднего снега не знают тракторы отдыха, и даже зимой, по бездорожью, мощные дизели ходят до станции и обратно — возят людей, горючее, товары для кооперации.
Нынче сенокос в Акагурте непохож на те, что были раньше. Бывало, в первый день сенокоса женщины надевают самые нарядные платья, иная даже монисто нацепит: посмотришь с Глейбамала, — кажется, будто расцвел луг невиданными цветами. Журавлиным косяком идут косцы, враз взмахивая косами. Три-четыре взмаха, — и готова целая охапка: травы вдоль Акашура богатые. Веселый звон доносится из ольховой рощицы: там удобно устроились кузнецы. Женщины время от времени подходят к ним — отбить затупившееся жало косы.
Хорошо на лугах в косовицу, только попробуй-ка целый день походить с косой — спину к вечеру не разогнешь!
А в этом году женщинам осталось скосить лишь кочковатые места да ложбинки, — все остальное берут косилками. Пулеметной дробью стучит машина, невидимо мелькают зубья ножа, позади ложится полосами скошенная трава. Запах свежескошенной травы волнами ходит над лугом, и от него слегка хмелеет голова, почему-то часто бьется сердце.
— Валла, Аликсан, здесь совсем хорошо! Почему целое лето нельзя косить? Весь год работать бы стал, — Сабит широко улыбается. Его трактор весь в цветах. Это дело Дарьиных рук. Удивительно, как это она еще не нацепила венок на самого Сабита.
Олексан осторожно вел трактор вдоль постати, когда кто-то легонько дотронулся сзади до его плеча. Живо обернулся — с большим букетом стояла Галя и весело улыбалась; что-то сказала, но Олексан замотал головой: "Не слышу!" Тогда она нагнулась и прокричала в самое ухо:
— Испугался? А я нарочно незаметно подкралась. Смотри, какие цветы!
Она поднесла цветы к самому его лицу. Олексан рассмеялся:
— У меня от этих цветов уже голова болит! Вон сколько их кругом…
А сам подумал: "Какая она сегодня необыкновенная. Почему? В новом платье. Красивая она. Ходила в фуфайке — незаметно было".
— Олексан, а где дизель? — снова наклонившись к Олексану, спросила она.
Он махнул в сторону рощи:
— Там!
Галя крикнула "до свиданья!", спрыгнула с трактора и пошла к роще. Она шла по некошенной траве, нагибалась и срывала цветы, и букет в ее руке все рос и рос. Олексан следил за ней пока голубая косынка не исчезла за ольховыми кустиками. Потом с завистью поглядел на трактор Сабита: оставила бы Галя ему свои цветы… Просто не догадалась, что Олексану тоже хочется.
Трава сохла быстро. И опять женщинам почти не пришлось трудиться: сено сгребли механическими граблями. Проедет с ними трактор шагов сто, — готова конна!
— Вот тебе и сенокос, не видали мы его совсем, бабы, — удивлялись акагуртские женщины. — Если так пойдет, что делать будем?
Ушаков успокоил их:
— Нашли о чем горевать. Будете с калачами чаи распивать, а машины вместо вас работать станут.
Огромный луг весь в частых копнах. Теперь придется поработать с вилами: скирдовальной установки в МТС нет. "Ого, сколько работы, можно без рук остаться", — подумал Олексан, глядя на луг. Хорошо бы стаскивать эти копны к скирде на тракторной тяге. Но как? Тут, пожалуй, ничего не придумаешь.
Посовещались с Сабитом.
— Валла, Аликсан, я тоже много думал. Совсем ничего не придумал. Ай-яй-яй…
— А что если сделать так… вроде невода? Мы его с двух сторон будем тянуть тракторами, а сено — волоком, а? Вот только… где взять такой? Ну, шевели головой, Сабит, думай!
Думали, придумывали разное и сразу браковали. Веревки для этого, конечно, не сгодятся — раз-другой подтянешь, и тут же перетрутся. Проволока слишком тонка, тоже оборвется.
— Сабит, в МТС — я сам видел — возле склада лежит трос, целые мотки. Хороший трос, полусталь. Все равно без дела валяется… Если бы дали нам! А, Сабит?
— Эй, Аликсан, ни за что не дадут. Для мастерской нужна, скажут. Валла, не дадут, знаю!
— Ну, если не дадут, сами возьмем!
…Ночью они отправились в Акташ. Сторожа они как-то обошли, так что никто не видел, как они очутились на территории МТС. Утром, затемно, когда Акагурт еще крепко спал, они притащили к кузнице по мотку троса. Сабит вытер со лба пот.
— Фу-у, Аликсан, думал, не дотащу. Коленки совсем слабые стали, не держат. Ты сильный, как лошадь!
— А я, Сабит, много меду съел, когда был маленьким. Большой ложкой, понял? Ну, пошли будить кузнецов!
Утром люди удивились, услышав шум в кузнице: чего это они спозаранок стучат? Видно, срочная работа. Ишь как стараются, в два молота!
"Невод" из толстого, в палец, троса к обеду был готов… Олексану все же было неспокойно: "А вдруг ничего из этого не выйдет? Утащили из МТС трос, изрубили. За это не похвалят…" Приволокли "невод" на луг, приладили к первому ряду копен. Завели тракторы, прицепили к ним концы троса. Олексан махнул рукой:
— Поехали, Сабит!
Взревели моторы, оба трактора враз тронулись с места. Олексан, обернувшись, неотрывно смотрел на "невод". Вот стальная сетка подхватила первую копну, — и та, казалось, оама плавно поплыла по лугу. "Невод" зацепил уже вторую копну, третью, четвертую… Из выхлопных труб вырвались клубы дыма, на миг моторы будто захлебнулись, но затем прибавили обороты — вперед, метр за метром! Сабит со своего трактора что-то кричал, размахивая рукой, не понять: то ли радуется, то ли ругается. Олексану самому хотелось кричать от радости: получилось, пошло дело!!
Стянув одним "заходом" весь ряд копен в один громадный стог, тракторы остановились. Сабит, сияя, подбежал к Олексану.
— Аликсан, нам орден должны дать, а? Мне хватит один медаль, а тебе обязательно орден. Голова твоя хорошо работает. Валла, инженером станешь!
…Чуть не весь Акагурт сбежался смотреть, как трактористы стальным неводом "ловят" копны на лугу. Глядя, как огромные стога медленно плывут по лугу, женщины ахали, всплескивали руками:
— Осто-о, тащит ведь, тащит! Глядите, как придумали!
— Когда бы еще мы их на вилах перетаскали?.. А кто выдумал так? Сын Макара?
— Смотри-ка!
Однорукий Тима хлопнул Олексана по плечу;
— Ну, брат, ты, оказывается, изобретатель! Слышишь, что говорят бабы? Спасибо тебе говорят!
Олексан незаметно поглядывал на людей, но среди них не было ни отца, ни матери. Не пришли посмотреть, как их сын работает…
Ушакова вызвали в МТС. Когда зашел в кабинет к директору, там уже сидела Галя.
Разговор, как и предчувствовал Ушаков, был об украденном тросе.
— С формальной точки зрения ваших трактористов — Кабышева и Башарова — следует отдать под суд. Ночью каким-то образом проникли на территорию станций. Так можно и весь склад увести, — директор побарабанил пальцами по столу. — И как это они унесли такую тяжесть? Кладовщик говорит, там не меньше ста килограммов было…
Галя засмеялась:
— О-о, Кабышев мог один все унести! Он такой сильный — после перетяжки одной рукой трактор заводит.
Директор встал из-за стола. Был он небольшого росла, худощавый, с острыми скулами. Если бы не глаза, которые в упор, будто просверливали насквозь, смотрели на собеседника, можно было бы сказать, что он человек очень добродушный. Но в глазах его все время поблескивали какие-то острые, холодные льдинки, и длинный, нескладный Ушаков под его взглядом сжимался, будто становился меньше.
Директор стал ходить взад-вперед по кабинету;
— Следовало бы этих изобретателей взгреть. Но… как говорят, победителей не судят. Ладно, первый раз простим… Колхозники, наверно, довольны?
— Да, да, они прямо не нарадуются! — горячо вступилась Галя. — Вы бы видели, как у них хорошо получается с этим… неводом.
Директор покачал головой. Он любил быстро принимать решения:
— Ну ладно, с этим покончено. Теперь другое дело. Необходимо послать несколько человек в школу механиков. Нам очень нужны участковые механики из своих работников. Есть у вас в бригаде подходящие люди? Учтите: надо послать одного из лучших, после учебы он будет работать у нас же. А то ведь привыкли в таких случаях выбирать по принципу: на тебе, боже, что нам негоже!
Ушаков перебирал в уме своих людей: "Башарова Сабита? Образования маловато, пять классов всего, и с русским языком неладно, слишком трудно ему будет. Дарью? От Сабита ее не оторвешь, не поедет в город. Андрея? По всем статьям подходит, но… не могу же его из бригады забрать. Нет, его надо выдвинуть на помбригадира. Кабышев… А что, если его послать? Пожалуй, верное дело. Парень с головой, справится. И для него это хорошо".
— Можно этого… Кабышева? По-моему, подходяще!
Директор удивленно взглянул на бригадира.
— Но ведь мы только о нем говорили. Вряд ли подобная "партизанщина" может послужить хорошей рекомендацией для будущего механика.
Ушаков стал его убеждать:
— Конечно, Кабышев еще молод, забывается… Но вы сами сказали, товарищ директор, что победивших судить нельзя. А с техникой у Кабышева все в порядке, хорошо знает машину. Механик из него получится, верьте моему слову! И потом, если человек ошибся, надо дать ему исправиться, а крест поставить никогда не поздно. Да ведь пользы от этого дела больше, чем вреда. Послать его учиться, вот и все! Как вы, Галина Степановна, согласны?
Галя закивала головой.
Директор посмотрел на них, усмехнулся и сказал спокойно:
— Что ж, так и запишем: за Кабышева поручаются бригадир Ушаков и агроном Сомова. Лично я тоже не против, думаю, что парень он толковый. Без головы этот… невод тоже не придумаешь. Одним словом, передайте ему: пусть готовится, поедет учиться!
Уже за дверью Галя вспомнила:
— Ведь с самим-то Олексаном мы не говорили! Может, он откажется?
— Кто, Кабышев? Ну-у, он сейчас руками и ногами ухватится за это дело! Дома не живет, куда ему деваться?
Глава XIX
В детстве мать, лаская Макара, говорила: "В полосах У тебя, сынок, две завихринки — с пчелами будешь жить". Сбылись слова старухи: этим летом Макар собирался выставить девятый улей. И вот из восьми семей осталось только три — видно, эти были сильнее других. Неужели вместе с Олексаном из дома его ушла и удача, добрый дух покинул его?
Макар с виду как будто не огорчился гибелью пчел. Зоя же за двенадцать верст ходила к "знающему человеку", тот, поняв в чем дело, сказал, что есть в деревне злой, завистливый человек, завидует Зоиному счастью — посмотрел дурным глазом на пчел. Остальное Зоя уже сама ему досказала: "Да, это наша соседка Марьей! Кто же еще, если не она?" "Знающий человек" дал Зое засушенный корешок, чтобы, поминая бога, она положила его над дверьми своего дома, — тогда никакая порча не страшна. Приятно удивленная тем, что "знающий человек" так верно угадал ее горе, Зоя оставила ему пятнадцать рублен и десятка два яиц.
Но корешок не помог, а Зоя еще сильнее возненавидела соседку Марью, и ее квартирантку, и всех акагуртцев.
Макар же узнал, отчего погибли пчелы, но молчал, жене не рассказывал. В лаборатории установили, что пчелы отравились гексахлораном. Галя недавно сообщила это Макару. Гексахлоран? Откуда они его взяли? И вспомнил: весной, когда на складе протравливали семена, он взял немного химиката, завернув в бумажку, принес домой. Положил в укромное местечко, в подполье: "Кто знает, может пригодится". Но в темноте кто-то просыпал гексахлоран, — он попал в кадушку с медом. Этим медом Макар и подкармливал весной пчел…
Так Макар, подобно скорпиону, ужалил сам себя.
Последние дни Зоя стала ворчать, что сгнил нижний ряд бревен в конюшне, надо бы сменить. Ворчала дня два, и Макар решил сходить в лес, срубить бревен. Зоя, раз начала, не успокоится, как червь-короед, будет точить: "Конюшня вот-вот развалится". Конюшня простояла бы еще годков пять, но поди убеди в этом Зою.
Макар решил сходить в лес вечерком, хотелось остаться одному со своими невеселыми думами…
— Ты не долго там, — напутствовала его Зоя. — Повали да оставь, привезешь другой раз. В колхозе, чай, лошадь-то дадут?
Надо было взять в лесхозе билет на порубку, но Макару не хотелось идти в Акташ, да и Зоя отсоветовала: "Поди, одну елочку срубишь, так лесу от этого не убудет! Осторожней только, никто и не заметит".
Заткнув топор за пояс, Макар отправился в лес. Лусьтро увязался было за ним, но Макар зло прикрикнул, и собака с жалобным повизгиванием убежала под навес. Макар уже вышел за ворота, а пес вдруг громко завыл. "Э, чтоб тебя! — подумал Макар. — Пожалуй, надо бы взять с собой, за мышами бы поохотился". Но возвращаться не стал.
Старики рассказывают, что лет пятьдесят шестьдесят тому назад Акагурт весь был окружен лесами. Сейчас лесов осталось мало, следы могучих боров и ельников можно, видеть только в ложбинах, больших оврагах, да в поле иногда попадаются ели и сосны-великаны. В страду под ними отдыхают женщины, обедают трактористы: там всегда тенисто и трава густая.
Теперь там, где были леса, — поле, и в хлебах, к большой досаде комбайнеров, присели старые пни.
Да, нет уже настоящего леса. Из года в год рубили его в каком-то остервенении, сплавляли по рекам. До революции всеми этими богатствами владел лесопромышленник Ушаков. Сам он в своей лесной вотчине не появлялся, жил в столице, а здесь, в низовьях Камы и по Вятке, хозяйничали его приказчики, отправляя в города десятки тысяч кубометров превосходного леса.
И после революции лес продолжали рубить. Казалось, конца ему не будет. Рубили подряд, медленно отступала стена стройных елей, сосен, пихт. Огромный зеленый клин — по речке Мукше — засушил короед, потом его срубили на дрова. Каждый думал: на мой век хватит, а там дело не мое, пусть выкручиваются, как знают.
Потом в Акташе, да и во всей округе, началось большое строительство. Грузовые автомашины день и ночь возили бревна. Появлялись новые школы, больницы, клубы, жилые дома, а в каждом доме за зиму жгли по десять — пятнадцать "кубиков": здешние жители издавна привыкли держать в доме тепло — "пар костей не ломит".
И вдруг спохватились: за дровами приходилось уже ездить за много километров. Лесхозы установили жесткую дисциплину: за каждое самовольно срубленное дерево — штраф. Занялись посадкой — но когда-то еще эти полуметровые саженцы станут красавцами великанами…
С исчезновением леса старики связывали перемены в погоде: дождей будто стало меньше, целое лето дуют жаркие, сухие ветры, сушат землю, реки мелеют ("Разве Акашур раньше такой был? В берегах не умещался, э-э…"), и прежняя птица теперь не живет. Пожалуй, не напрасно жаловались старики!
Макар шел в сторону Чебернюка. Это был большой лог, где даже в самую Жаркую пору сыро и прохладно, а под ногами пружинят моховые подушки. Когда-то здесь проводились "огненные моленья", "священная" береза до сих пор стоит. Правда, она очень старая, в середине огромное дупло, вода подмыла и обнажила корни, и дерево чудом держится на самом краю промоины.
В Чебернюке лес сохранился в целости: отсюда трудно вывозить срубленные хлысты.
Спустившись в лог, Макар отыскал глазами старый пенек и присел отдохнуть. Выпростал из-за пояса топор, прислонил рядом к пню. Вокруг неумолчно и тревожно шумели старые ели, испуганно шелестели осины. Здесь еще владычествовал лес, чувствовалась его вековая сила. Редко где выглядывал из мелколесья свежий пень. Сколько еще стоять лесу? Вот пришел человек, какому-то дереву принес гибель. Которому? А завтра придет другой, третий, — и повалятся они, жалобно застонав, прощально взмахнув мохнатыми лапами. Лес шумел, словно предчувствовал беду.
Не спокойно было на сердце у Макара. Давно угнездившийся червячок ерзал беспокойно, напоминал старые и новые беды и ошибки. Что случилось в его жизни? Тяжело ворочались мысли, а червячок услужливо подсказывал: "Олексан ушел. Сын ушел от него, от родного отца. Ушел и не вернулся. Разве он, Олексан, прав, а Макар нет? Разве он всю жизнь шел не той дорогой? Видно, так оно и есть: ошибся Макар дорогой, тропинка его затерялась… Все есть в хозяйстве, могли бы безбедно жить, а вот жить как люди не могут. Нет у них спокойной, хорошей жизни, на сердце всегда тяжело. Видно, один достаток не приносит в дом спокойствие…"
Лучи заходящего солнца осветили верхушку леса, клен далеко от Макара вспыхнул пламенем. Какая-то птичка, невидимая в листве, настойчиво просила: пить-пить-пить. Ветер улегся. Лес затих, только осина продолжала дрожать всеми своими листьями. Но Макар ничего не замечал. Он думал только о своем.
"Почему так получилось? Ради чего он, не видя дня и ночи, трудился, гнул горб…"
И вспомнилась ему слепая лошадь на маслобойке. Ему всегда было жалко ее: не останавливаясь, ходила она по огромному деревянному кругу, который от толчков уходил назад из-под ее ног. Сколько шагов делала лошадь, на столько уже уходило назад полотно круга. Лошадь шла, оставаясь на месте. Она была давно слепа, бедняга… Макар вспомнил эту старую труженицу и подумал, что и он тоже всю жизнь шагал, оставаясь на одном месте. Всю жизнь он был привязан к своему хозяйству, а она, жизнь, подобно большому кругу, уходила из-под его ног. Разве он, Макар, не трудился всю жизнь? Разве Зоя не работала не покладая рук? Даже Олексан теперь стал зарабатывать. Нет, нет, семью его не могли упрекнуть в лени или в нерадивости. Так в чем же дело? Почему в семье раскол, славно пробрался в нее злой дух? Может, не надо было слушать жену, когда она по ночам нашептывала ему в ухо: "Свое хозяйство… никому не кланяться… копейка рубль бережет…" Но Макар и сам этого хотел — жить в достатке, иметь крепкое хозяйство. И достиг этого, а покоя нет…
Стало холодно. Макар вздрогнул, очнулся. Нехотя встал, взял топор: пожалуй, до темноты надо срубить хлыст. Постукивая обухом по стволам, выбрал подходящую ель. Запрокинув голову, осмотрел ее: в какую сторону потянут ветви? Ель стояла на склоне, — должна упасть вершиной как раз в сторону дороги. Так лучше, — потом легче будет вывезти. Лишь бы не зацепилась вершиной за соседнюю сосну.
Поплевав на ладони, Макар размахнулся и с силой ударил топором. Раз, другой, третий… Брызгами летели золотистые щепки, остро запахло смолой. Макар рубил легко, привычно. Подрубил одну сторону, куда должно было повалиться дерево, перешел на другую. Ель толщиной в обхват начала заметно покачиваться. "Ишь ты, дерево-то, оказывается, свилеватое, — подумал Макар, — как бы в сторону не потянуло. В гущине росло, не должно бы таким быть. Эхма…" Пот выступил у него на лбу, но Макар решил довести дело до конца. Еще несколько взмахов, — и ель нехотя качнулась, затрещали сучья. "Кажется, пошла. Эй-кой, малость в сторону валится!" — пожалел Макар, стоя под деревом и подталкивая рукой медленно клонящуюся ель. Вдруг засвистели ветви, с сильным треском полопались неподрубленные волокна. Задев сучьями за соседнюю сосну, ель как-то легко перевернулась в воздухе вокруг оси. "Эхма, да она свилеватая! Не туда пошла, эх не туда!" — пронеслось в голове у Макара. В ту же секунду дерево грохнулось о землю, комель отделился от пня, отскочил и со всей силой ударил Макара по голове. Он упал как подкошенный, и ветви прикрыли его.
Долго еще покачивались соседние деревья, потревоженные падающей елью. Наконец все снова стихло в Чебернюке. Умолкнувшие было птицы снова защебетали, и невидимая маленькая пташка снова просила жалобно: "пить-пить-пить…"
Человек под упавшим деревом не шевелился. Большой коричневый муравей побежал по неподвижной руке, перешагивая через трещины и осадины. Затем пробежал по плечу, взобрался на подбородок. Остановившись, заботливо почистил свои ножки, запачканные кровью, медленно стекавшей изо рта человека…
Макара нашли на другой день пастухи. В полдень, в самую жару, они загнали стадо в прохладный Чебернюк. Коровы вдруг забеспокоились: нагнув головы, окружили свежесрубленную елку, рыли передними ногами землю, мычали низкими голосами, а потом, подняв хвосты, шарахались в сторону. Пастухи решили, что поблизости ходит серый, и науськивали собак. Щелкали кнутами, с трудом отогнали коров от поваленного дерева. Мальчик-подпасок первый заметил торчащую из-под ветвей посиневшую руку, показал старшому. Раздвинув еловые лапы, увидели человека. Неудобно подвернув ногу, — будто он сильно устал и теперь отдыхал, — лежал на земле Кабышев Макар. Если бы не сгусток крови на губах и залитый кровью лоб, можно было подумать, что он и в самом деле прилег отдохнуть в тени. Суетливые муравьи бегали по его лицу…
Зоя еще ничего не знала. Макар не вернулся, но она не беспокоилась. Наверно, дотемна задержался в лесу и зашел ночевать к шурину в Усошур. Туда от Чебернюка ближе, чем до Акагурта. "Пусть побудет с людьми, — подумала Зоя, — может, полегчает, а то последние дни пуще прежнего стал молчаливый, угрюмый".
Услышав бессвязные слова перепуганного мальчика-подпаска, Зоя вначале ничего не поняла.
— Кто под елкой? Зачем?
— Честное слово, Зоя-апай, я сам видел… лежит там. Коровы очень мычали, еле их отогнали… а там Макар-агай мертвый лежит…
Страшным голосом вскрикнула Зоя, белее печки стало ее лицо. Схватившись за сердце, шагнула — ноги подкосились, снопом рухнула на пол. Без слов билась головой об пол, как когда-то — когда первый раз пришла в Макаров дом.
Мальчишка-пастушок, напугавшись еще больше, потоптался у дверей, повернулся и стремглав кинулся на улицу.
…Макара хоронили на другой день; погода стояла жаркая, ждать нельзя было.
Немало людей пришло проводить Макара Кабышева в последнюю дорогу. Многие, пожалуй, впервые переступили порог этого дома — с любопытством приглядывались, вздыхали: "Покойник-то сам все делал. Хозяйствовать умел…" Пришли даже те, котор" ые при жизни считали Макара человеком негодным, — смерть примиряет недругов. Женщины из Макаровой родни обмыли, одели покойника, а мужчины принялись делать Макару Кабышеву новый дом… В сарае оказался давнишний запас дюймовых досок, как раз и пригодились теперь. Всю свою жизнь старался он, чтобы все было в своем хозяйстве, чтоб не ходить с поклоном к чужим людям. Так оно и случилось: все нашлось — доски, гвозди, инструменты… Только от людей уйти уже не мог Макар. Чужие люди пришли в его двор, заполнили дом, и теперь Макар ничего не мог сделать — лежал на столе, накрытый чистым белым полотном, безразличный ко всему на свете…
…Олексану известие о смерти отца привезла Пара-ска. Она примчалась в поле, проехала прямо через пашню к трактору. Увидев ее встревоженное лицо, Олексан почуял недоброе, сердце сжалось. Остановил трактор.
— Олексан, поезжай-ка быстрее домой. С отцом твоим… неладно. — Голос у Параски был непривычно тихий. — Возьми мою лошадь.
— Что? — выдохнул Олексан…
— Под дерево попал. Насмерть…
Олексан побледнел, схватился за крыло трактора. Метнулся к телеге, но, вспомнив, что мотор не выключен, подбежал к трактору, вывернул жиклер и, не ожидая, пока мотор заглохнет, прыгнул на телегу и поскакал в деревню.
Подъехав к дому, оставил лошадь на присмотр мальчишек, шатаясь прошел к воротам. Давно он не был в отцовском доме — с тех пор, как отец крикнул ему: "Уходи!" Никак не мог представить себе, что отца нет. Казалось, что вот сейчас выйдет из-под навеса, исподлобья посмотрит на него. Но, войдя во двор, он увидел, что под навесом строгают и стучат молотками чужие люди. По всему двору валялась свежая стружка. И тогда он особенно остро почувствовал: он остался без отца и — поверил. Раньше он никогда не думал, что может остаться без отца. Казалось, отец будет жить всегда, — всегда один и тот же, не старея, не меняясь. Но вот теперь отца не стало.
Словно в полусне ходил Олексан среди людей, слышал голоса, что-то отвечал, когда его спрашивали. Начал было помогать мужчинам во дворе, но инструменты валились из рук, будто жгли: ведь совсем недавно их держал в руках отец. Кто-то взял из его рук рубанок:
— Ты, Олексан, иди, отдохни, мы сами справимся…
Только один раз взглянул Олексан на отца. Он лежал на столе, почему-то очень длинный и худой, покрытый белым холстом. Кто-то закрыл ему лицо — один глаз остался открытым и нехорошо блестел. Олексан взглянул на отца, увидел этот открытый глаз и — отвернулся.
До самого кладбища гроб несли на руках, подвесив его на полотенцах часто меняясь. Олексан нёс, не сменяясь, не чувствуя тяжести. Глухо стучали комья земли по крышке гроба, люди быстро работали лопатами, как будто торопились зарыть Макара. Зоя стояла тут же, остановившимся взглядом смотрела в яму. Лицо ее словно окаменело, глаза сухие. Женщины говорили:
— Ты, Зоя, поплачь, легче будет.
Оставив на кладбище холмик свежен земли, люди ушли.
День был знойный. Духота к вечеру усилилась, по потом заклубились тучи и прошла гроза. Ветер налетал порывами и снова затихал. Плохо прибитая к прыщу доска стучала на ветру, и казалось, кто-то настойчиво просится в дом. Во дворе завывал Лусьтро, рвался на цепи. Олексан остался ночевать дома. Это была тяжелая ночь. Вконец обессилевшая мать повалилась на лавку в женской половине и забылась, время от времени тяжело вздыхая. Остались ночевать и две женщины — дальние родственницы Макара.
Олексан долго сидел у стола, старался думать о том, что теперь будет. Отца нет. Без любви вырастил Макар сына. Сын без слез похоронил отца — как-то не научился он плакать. В большом доме Олексан остался теперь единственным мужчиной. Мать будет смотреть на него с надеждой: кормилец ты теперь, хозяин. Теперь он, как отец, должен каждый день что-то приносить в дом, в хозяйство. Ведь хозяйство — что большой костер. Если не давать пищу прожорливому огню — потухнет. А как же с учебой? В последние дни он жил, только этим: уехать в город, учиться. Отказаться от этого? Остаться здесь, стать хозяином? Нет! Ом не останется здесь, ни за что!
Вздрогнув, Олексан поднял голову. В доме тихо. Это была давно знакомая тишина. Только стучала доска на крыше да за дощатой перегородкой слышалось тяжелое дыхание и всхрапывание женщин. И все-таки чего-то не хватало в этой тишине. Все было по-прежнему, все вещи стояли на месте, но Олексан смутно чувствовал, что чего-то не хватает. Чего? Он несколько раз обвел взглядом стены. A-а! Огромные старые часы в черном футляре, доставшиеся Макару от тестя Камая, остановились. Не слышно их привычного, с легким скрипом тиканья. Раньше Олексану казалось, что часы, как и отец, будут жить всегда, никогда не остановятся, Но сейчас большой желтый маятник висел неподвижно. Часы Камая, которые так долго служили Макару, остановились…
Шли дни.
Жизнь Олексана, казалось, постепенно входила в привычное русло. Снова он после работы шел домой, снова каждый раз, когда он входил в ворота, его встречал Лусьтро, с радостным визгом рвался на цепи, пытаясь дотянуться до хозяина. По-прежнему в доме всегда чисто, вещи на своих местах. Полы вымыты, разостланы полосатые половики. Только одежду Макара Зоя вынесла в чулан и сложила там в одном месте. И в доме стало еще тише.
Но место людей в доме изменилось. Оба хорошо видели и понимали это. Понимали, но молчали. Спустя неделю после похорон Макара Зоя сходила в сельсовет, попросила записать Олексана домохозяином: сын теперь совершеннолетний. Это, думала она, привяжет Олексана к хозяйству. Сама она будто на все махнула рукой, во всем положилась на сына. Молчаливо ходила по комнате, выходила во двор, бралась за работу, но дело как-то не спорилось в ее недавно еще проворных и цепких руках. Так она и бродила без толку, точно потеряла что-то или силилась о чем-то вспомнить. Не стало в ее походке прежней легкости, когда она ступала мягко, словно большая кошка. Будто какая-то струна оборвалась у нее внутри.
Решила доживать свой век в доме сына. Сыну ни в чем не перечила, затаилась: пусть Олексан крепче прирастает к хозяйству.
Только однажды в голосе её послышались прежние нотки. Пришли три колхозных плотника. Они ставили новое овощехранилище и пришли к Кабышевым с просьбой: не хватает инструмента, а у Макара Петровича, помнится, инструменты были отличные. Может быть, дадут их, кончат — обязательно вернут. Плотники смотрели то на Зою, то на Олексана, не зная, с кем из них говорить. Зоя поправила волосы, скрестила на груди руки, вздохнула:
— У Макара, сердешного, все свое было, по чужим не ходил… Знаю, вам дай — концов потом не отыщешь. Руками отдашь — ногами поищешь. Чужое-то добро не жалко!
Олексану стало стыдно за мать. Опять она плачется!
— Мама! Ведь люди добром просят.
В голосе сына был упрек, но Зоя услышала и другое: это был голос хозяина.
— Мама, инструменты зря будут в амбаре лежать, заржавеют. Пусть лучше люди попользуются! Вернут же!
Зоя замолчала, обиженно поджала губы. Олексану стало жаль ее, но тут же решил: уступать нельзя. Пройдя в амбар, вынес плотникам нужные инструменты.
— Кончите работу, принесите.
После этого Зоя уже ни в чем не перечила сыну. Олексан унес в свою бригаду множество разных ключей, тисков, сверл и зубил (чего только не было у Макара!). Мать видела это, вздыхала и — молчала. Пусть, думала она, лучше так, зато он уже не уйдет из дома. А потом все встанет на свое место.
Олексан ждал, что мать станет упрекать его, и удивился, когда она промолчала.
Сабиту инструменты понравились.
— Валла, Аликсан, хорошо сделал! Нам они здорово пригодятся. Твой отец, видно, был большой мастер?
— Да, он работать умел, — коротко ответил Олексан. — Все, что у нас дома есть, он сам сделал.
В его словах была гордость за отца. Олексан не мог не признать, что отец умел работать.
Глава XX
Дни проходили, подобно легким облачкам на небе. На полях, где весной пахала бригада, буйно поднялись хлеба. Возвращаясь с работы, Олексан часто сворачивал туда, где зеленели посевы. Наклонившись, полоскал руки в мягкой, шелковистой зелени, как в чистой прохладной воде. "Ого, в трубочку пошла, скоро заколосится! — радовался Олексан. — Вот здесь как раз я пахал. Ну да, вон там своротил старый пень… Мои хлеба!"
А потом долго не было дождей. Иссушенная ветрами и солнцем земля потрескалась, трава выгорела, хрустела, крошась, под ногами. По вечерам в конторе собирались люди, с надеждой посматривали на барометр. Но стрелка как вкопанная стояла на "сухо, без перемен"… Галя несколько раз на дню звонила в МТС: "Какую сводку передавали По радио?" — и, услышав далекий голос диспетчера: "Облачность без осадков", бросала трубку.
Однажды Сабит, придя на квартиру, увидел расстроенную Галю и хитровато улыбнулся.
— Ай-вай, агроном, Галя-ханум! Совсем недавно звонил самому аллаху, срочно две тучки послать просил. Аллах сказал, обязательно будут!
Посмеиваясь про себя, Сабит вышел во двор. Под навесом сидел Петыр-агай, морщась, тер колени.
— Сынок, ты нынче в ночь идешь? Плащ с собой бери…
— Зачем, Петыр-агай? — удивился Сабит.
— Должно, дождь будет.
Сабит недоверчиво посмотрел на деда. С Галей, конечно, можно и пошутить, уж очень переживает девушка. А тут старый человек говорит.
— Петыр-агай, разве ты купил барометр?
— Хм, "барометр"! Поживи с моё, сам барометром станешь. Я вот сегодня даже за почтой не мог сходить, ноги болят. Перед ненастьем. И солнце утром взошло красное. А ночью, заметил, как звездочки мигали? То-то и оно. К дождю это, так и знай, парень!
Сабиту понравилась "сводка" деда. Удивился про себя: "Валла, если долго жить, сколько можно узнать".
И впрямь, после обеда с запада потянулись тучи, заволокли небо, а под вечер хлынул дождь. Настоящий ливень — лил как из ведра, с веселыми перекатами грома. Бабушка Одок прикрыла передником самовар, закрыла печную трубу, при каждом ударе грома мелко крестилась. А дед часто подходил к окну, смотрел во двор, удовлетворенно отмечал: "На воде пузыри — гость надолго!"
Андрей Мошков, скинув рубаху, босиком плясал под дождем. Из-под ног фонтаном летели брызги, струйки воды стекали по лицу, по крепкому загорелому телу, а он, хлопая себя по мокрым коленям, смеялся и кричал:
— Эге-ге-гей, даешь!
По канавам, до краев полным водой, засучив штанишки, бегали пацаны и пронзительно верещали:
Дождик, дождик, гуще, Я поеду пуще!..Яркая радуга повисла над Акагуртом. Бабушка Одок рассказала, что радуга своим серебряным ковшиком набирает воду, и кто увидит тот ковшик, — будет на всю жизнь счастливым.
А Петыр-агай теперь неизмеримо вырос в глазах Сабита. Стал он и сам примечать восход солнца, ночью часто посматривал на небо: что там поделывают звезды? Они, конечно, были на своих местах и дружески подмигивали Сабиту. Эх, если бы они все враз замигали, тогда бы Сабит первый узнал: сегодня будет дождь!
После дождя встряхнулась, словно проснувшись от тяжелого сна, Зоя. Опомнилась, ахнула: "Что же это такое со мной? Макара нет, а жить-то все равно надо. Сама недогляжу — все развалится, прахом пойдет. Нет, рановато сидеть сложа руки, смерти ждать. Смерть — она хоть и придет, да не так-то скоро!.."
Зоя прошла в огород, бережно подправила кустики картошки, поваленные ветром и дождем. Заметила, что на огуречной грядке побывали соседские куры, в сердцах плюнула:
— Ах, шелудивые! Свернула бы вам головы!
В саду поднялась поникшая от жары зелень, деловито гудели уцелевшие от болезни пчелы, торопливо очищали свои жилища от разного мусора, наращивали соты: опустошила семьи страшная отрава, а жить все-таки надо, готовиться надо к холодной зиме!
Во дворе по-прежнему квохчут куры, мычит корова, поджидая добрую хозяйку. Слушая эти милые сердцу звуки, Зоя чувствовала, как в душе ее просыпалось старое: "Пока жива, в доме хозяйка я! Никому, кроме меня, хозяйство не нужно. Олексан этого не понимает, — пока не скажешь, сам ни за что не возьмется. Не болит у него сердце за свое добро…"
С огорода она увидела в окошке спину Олексана. Сидит за столом, что-то пишет или просто так сидит, устало задумавшись.
— Олексан, сынок, ты бы помог мне тут. Не поспеваю я одна-то.
— Ладно, сейчас только вот допишу…
Вскоре он показался на крыльце.
— Ну, где помочь?
— Крыша на амбаре совсем прохудилась, в дождь вода, как сквозь сито, льется. Досточками бы забить, на сарае есть… Отец-то все собирался починить… — Голос у нее ласковый, печальный, к Олексану иначе не обращается — только "сынок, сыночек".
Взяв топор, Олексан пошел к амбару, распахнул дверь. Там, как всегда, полутьма, и с непривычки показалось, что в темных углах притаились живые существа — лохматые, угловатые, недружелюбные. Когда глаза привыкли к темноте, стал различать нагроможденные друг на друга ящики, связки мочала, кадки и кадушки. Давно ли схоронили отца, а вещи без хозяина уже успели поседеть, покрыться пылью. Да, нужен здесь глаз, чуть недосмотришь, — и все ужо рассыхается, разваливается.
Олексан решил разобраться в этой куче. Рядом с нужными вещами лежали, стояли, внесли совсем бесполезные, непригодные. Вот безносый, без ручки позеленевший самовар со старинным штампом "Тульского патронного завода", а рядом — искореженная рама велосипеда. "Откуда это она попала к нам? У нас никогда не было велосипеда". Сильно помятая проржавевшая бочка, высохшие березовые веники, рыбачья сеть… Олексан потянул ее — сеть с сухим треском разорвалась, поднимая легкое облачко пыли. "Для чего берег ее отец? Ведь никогда не рыбачил…" В углу громоздилась куча пакли, Олексан тронул ее ногой — на пол вывалились розовые, слепые мышата… Обозлившись, Олексан засыпал их паклей: "Все это надо выбросить к черту, сжечь".
В амбар заглянула мать.
— Мама, зачем это все здесь лежит?
Зоя сложила руки на груди, жалобно проговорили:
— Э-э, сынок, за это-то добро мы с отцом день и ночь не спали. Как без этого жить?
— Так тут все гниет, зря пропадает!
— Ах, господи. Не до того было, сынок. Я не поспевала, а отец… он последнее время будто вовсе рук лишился… Добро никогда не пропадет, не залежится, ему место всегда найдется.
— Половину здесь выбросить надо! Зря место занимает, в амбаре пройти нельзя. Мыши вон завелись…
Мать посмотрела на Олексана с обидой.
— Ой-ой, сынок, не ты все это нашел, рано собрался выбрасывать. Не тронь, пусть как есть лежит!
Олексан махнул рукой — без толку с ней говорить! Взобрался на крышу, стал прибивать оторванные ветром доски. В это время постучали в ворота. Лусьтро с лаем рванулся навстречу входившим Андрею и Гале.
— Эй, Олексан, придержи своего волка! — крикнула Галя.
Не дожидаясь, пока Олексан слезет с крыши, Андрей шагнул навстречу собаке.
— Ой, она у них злая, укусит! — Галя ухватилась за его рукав.
Лусьтро остановился, злобно ощетинился, присел и, глухо рыча попятился назад. Андрей так и шел на него, пока не загнал в конуру.
— На собаку всегда надо прямо идти, тогда она сама убегает. А если показать спину, тогда она от тебя не оторвется! Раз со мной так было — штаны разорвала, — улыбнулся Андреа Гале. — С тех пор не бегаю от собак.
Андрей огляделся — был он дома у Олексана впервые. Присвистнул:
— Фью, вот это я понимаю! Чистая крепость!
Олексан спрыгнул с лестницы, подошел к Андрею, поздоровался. Галя сама протянула руку.
— Хозяином стал? — кивнул Андрей на топор, который Олексан все еще держал в руке.
Олексан почему-то почувствовал себя неловко.
— Да так… просто. Вон крышу починил.
Под навесом Андрей заметил большую чугунную гирю, наполовину сидевшую в земле. Казалось, из земли торчит ручка, за которую можно поднять всю землю. Мошков подошел ближе, наклонился, очистил щепочкой грязь. На гире четко проступил выпуклый двуглавый орел с распростертыми крыльями.
— Ого, штучка-то с царских времен!
— Она давно тут валяется… Без дела, — пояснил Олексан.
— Отнеси в кузницу, там понадобится. Сейчас все равно не годится — мера старая, с нашей не сходится.
Поднатужившись, Андрей вытащил гирю из земли. Рывком поднял ее, постоял, широко расставив ноги, с силой отбросил в сторону. Потирая руки, крякнул.
— Два пуда. Слушай-ка, Олексан, мы к тебе по делу. Ушаков наказал передать: тебя в МТС вызывают. Заявление у тебя готово?
— Написал сегодня.
— Ну вот, не тяни, сбегай в Акташ.
Через двор с полным ведром прошла Зоя, на Галю с Андреем даже не взглянула, будто не заметила. Вылив помои, пошла обратно, и уже поднявшись на крыльцо, спохватилась:
— Олексан, гостей твоих в дом не приглашаю — полы как раз мою…
Андрей поглядел ей вслед, вполголоса сказал:
— Спасибо, мы как раз и не собирались!
Повернувшись к Гале, мотнул головой в сторону дома:
— Врет и не краснеет! Вынесла помои из котла, а говорит — полы мою…
Но Олексан его слов не слышал. Оставшись один, прошелся по двору, размахнувшись, воткнул топор в дубовую чурку. От этой чурки оставалась только одна половинка, другую сам Олексан еще весной унес в поле, когда первый раз выехали пахать. Тогда отец еще был жив…
"Ну, ни к чему сердце не лежит, словно все чужое", — думалось ему. Прошел в дом, начал не спеша переодеваться, собираясь в МТС. Одевшись, в раздумье постоял у порога. Потом толкнул дверь, коротко бросил:
— Иду в Акташ, мама. К директору вызывают.
На улице встретил Ушакова. Тот на своем меринке спешил к трактору Сабита — там что-то случилось.
— Ну, Кабышев, собрался? — спросил он, придержав лошадь.
— Иду вот. Зачем вызывают?
— Как зачем? Насчет учебы, должно быть. Ты смотри, не вздумай отказываться. Хорошая дорога тебе выпала.
— Да я и не думаю отказываться.
Нет, Олексан не собирался отказываться. В каком-то волнении, томясь, ждал он дня отъезда. Дома ему было невмоготу, словно отцовский дом давил его своими стенами. Каждая минута в нем казалась нестерпимо долгой, тянулась почти ощутимо. Успокаивался он только в бригаде, среди товарищей. Да, надо быстрее уезжать. Об этом и думал Олексан по дороге в Акташ.
Директор МТС сказал, что занятия в школе механиков начнутся через десять дней. Надо готовиться в дорогу.
— Возьми в бухгалтерии трудовую книжку, в колхозе рассчитайся по трудодням. Возьми пока половину, остальное — осенью. Можешь оставить доверенность на имя родных. Я слышал, ты… отца похоронил?
— Да. Месяц назад.
Директор помолчал. Олексан тоже сидел молча, опустив голову.
— Как же теперь, мать отпустит тебя?
Олексан испугался, что директор может передумать, взволновался, стал уверять:
— Нет-нет, меня никто не держит! Я поеду, обязательно поеду, товарищ директор!
— Ну что ж, тем лучше. Готовься, Кабышев.
Из МТС Олексан возвращался кружной дорогой: хотелось побыть одному, все обдумать. Вспомнил, что как раз этой дорогой он шел домой в тот день, когда они с отцом ездили в Акташ продавать картошку. В тот самый день они впервые поссорились с отцом, и он услышал от него тяжелые, обидные слова: "Сам еще не заработал!" Столько времени прошло с тех пор, многое изменилось в жизни Олексана. Не стало отца, а теперь вот и сам он уезжает отсюда.
Узкая тропинка выбежала из небольшого леска и стала спускаться, извиваясь, к реке. Олексан долго стоял на опушке, любуясь полями на той стороне Акашура. Хлеба стояли большими массивами, уходили к самому горизонту. Колыхаясь под легким ветром, они каждую секунду меняли цвет, перекатывались волнами, точь-в-точь как море, которое Олексан однажды видел в кино. Рожь уже начала желтеть, и Олексан чувствовал еле уловимый запах нагревшихся колосьев. Да, он вырос здесь, на этой земле, и с детства научился распознавать запах хлеба!
Вот он скоро уедет — и будет скучать по деревне, по этим полям, по Акашуру. Но ведь он через два года вернется сюда. Говорят, что родной дом тянет к себе, его найдешь с закрытыми глазами… "Мать уже старая, вернусь домой — будет отдыхать, хватит ей, наработалась. Как ей сказать, что уезжаю? Будет жаловаться: "Не успели отца похоронить, а ты уезжаешь? Одну меня оставляешь? Для чего же я тебя растила, раз теперь бросаешь дом?" Да, все это она скажет ему. Но он не может остаться. Нет, он твердо решил, что не останется. Пусть хоть развалится дом — он не останется.
Когда-то его родители жили в старой лачужке и мечтали о новом, хорошем доме. Выстроили себе дом, был он для них новый и хороший. Но для их сына он теперь такой же старый, какой была для родителей их лачужка.
Наступил последний день работы в бригаде. Доехав до конца загона, Олексан остановил трактор, заглушил мотор. Стало тихо и как-то грустно. По-домашнему, как в самоваре, шипела вода в радиаторе, трактор слегка вздрагивал, отдыхая, словно сильно уставший человек. "Ну вот, старина, расстаемся, — Олексан положил руку на крыло. — Пожалуй, и не увидимся больше: до моего приезда ты совсем состаришься, сдадут на слом. На смену вон какие молодцы-дизеля прибывают".
В сторонке, на пожелтевшей от пролитого керосина травке, сидел Очей и лениво жевал сухую корку: будто дремал с куском во рту. Узнав, что Олексан уезжает, он даже приободрился, в глазах появился хищноватый блеск: теперь он остается на тракторе один, полным хозяином; как говорится, лошадь своя, хотим — едем, а хотим — продадим… Будет работать день и ночь, стоять трактору не даст. Вот тогда-то посмотрим, сколько трудодней он отхватит! Подсчитывал заранее: на вспашке зяби заработает столько-то, на озимом севе — еще столько… Цифра получилась внушительная, и за ней Очею уже мерещились: во-первых, свой домик, свой огород, своя корова и, наконец, своя жена. А потом завести свою семью, трех — не больше! — детей — это был уже предел мечтаний Очея. Так он мечтал. Но ему не везло, в этом Очей был уверен. Бригадир Ушаков сразу разбил все его планы: вместо Олексана, сказал он, будет работать один из прицепщиков. "Да разве сможет он…" — заикнулся было Очей, но Ушаков успокоил его: "Целое лето проработал, сможет. А если будут затруднения, объяснишь, растолкуешь. Ты же теперь старший тракторист!" Получается, что не будет никаких трудодней, да еще придется обучать кого-то.
Поэтому такое плохое — хуже, чем всегда, — было настроение у Очея, и хлеб ему казался горьким, как лебеда.
— Очей, смотри, береги трактор, — обратился к нему Олексан. — А то тебе все равно — лишь бы вперед шел.
Очей пожевал корку, с трудом проглотил ее.
— Ладно.
Олексан ушел, а Очей даже не посмотрел ему вслед: он был окончательно разочарован в жизни.
Придя домой, Олексан еще с порога спросил:
— Мама, у нас есть чемодан?
Мать стояла возле печки. Ответила не сразу.
— Нету. Зачем он нам. Куда ездить-то?
Еще третьего дня, вернувшись из МТС, Олексан сказал матери, что скоро поедет учиться. Но Зоя не приняла это всерьез: видно, сын пошутил. Как это он уедет так, все бросит?
Походив по дому, Олексан вышел во двор, прошел через калитку в огород. С грядки возле конюшни сорвал десяток больших прохладных огурцов, набил карманы.
— Эй, кто там огурцы ворует?
Олексан обернулся. У колодца стояла с ведром Галя.
— А я подумала, что в огород вор забрался, — улыбнулась она, — оказывается, сам хозяин!
— Собираюсь вот. Ехать надо. Сегодня колхозная машина до станции пойдет. На ней и поеду.
— Ого, так скоро? Ну, счастливого пути! Мы придем тебя провожать, хорошо?
— Приходите.
Зайдя в дом, Олексан снова спросил:
— Мама, так у нас никакого нет чемодана? С котомкой неудобно вроде…
Тогда Зоя поняла: Олексан уезжает. Она остается одна! Выбежала из-за перегородки, встала перед сыном, заговорила чуть не плача:
— Дурно-ой, ты что задумал, кого спросился? Родную мать-то спросил? Куда ты, как такое хозяйство бросишь? Пропади она пропадом, твоя эмтээс, кроме тебя, людей, что ли, не найдут? Картошку надо окучивать, мед качать, дрова, сено на зиму готовить? Куда я одна справлюсь? Дурно-ой, Олексан…
— Уеду я, мама. Теперь уже поздно об этом. В хозяйстве тебе помогут, колхоз поможет.
— Тьфу на твой колхоз! — не слушая сына, распалялась Зоя. — Подумал о доме, о матери? Или совсем забыл?
— Мама, ну зачем ты…
— Я тебе мать, а ты кого слушаешь? Когда надо — мама, а когда не надо — собака!
— Ну, ты послушай! Если бы даже не посылали учиться сейчас, все равно бы потом уехал. Не могу я больше здесь оставаться, понимаешь, не могу! Жить по-вашему не умею, да и не хочу я. Ты меня пойми, мама! Может, потом поймешь… Ладно, я собираться буду.
Выбежал во двор, раздумывая, где бы достать чемодан. Полез на чердак, раскидал какие-то старые ящики, ударился коленом о ножку поломанного стола, но ничего подходящего не нашел. Зашел в амбар, и там ему попался на глаза сундучок с железной ручкой. В нем отец держал свои инструменты. "Во, это подойдет!" Открыл сундучок, выложил инструменты, вытряхнул сор.
Внес сундучок в дом, стал торопливо собирать вещи. Сорвал с гвоздя новое полотенце, завернул в бумажку мыло, положил чистое белье.
— Мама, ты бы сварила яиц. Потом немного бы меду и масла. У нас ведь есть, мама?
Подошел к окну, чтобы посмотреть, не подошла ли машина, и в это время услышал приглушенные всхлипывания. По спине пробежал холодок, защипало в горле. Мать плачет!..
— Мама, ну зачем ты? Ведь я только кончу школу и вернусь, а пока поживи… одна. Получишь мой хлеб. Хозяйство тоже… большое.
Мать с трудом проговорила сквозь рыдания:
— Что же я буду делать… с таким хозяйством, одна?.. Мочи моей… не хватит.
— Продай ненужное. Для чего тебе такая большая конюшня, амбар? Огород тоже, почти полгектара…
Слезы тут же высохли на глазах Зои. Продать? Нет, у нее свои планы: выйти из колхоза, жить своим огородом, — ведь скоро она будет считаться престарелой. Не стал Олексан ни хозяином, ни помощником. Тогда пусть уезжает. Она и одна проживет.
Олексан поставил сундучок у порога, присел: пусть дорога будет удачной. В последний раз оглядел родной дом. Все было знакомо до мелочей. Но ему вдруг показалось, что вещи смотрят враждебно, выжидают, когда он уйдет отсюда. Потолок впервые показался Олексану очень низким, — как будто давил на него, так что трудно было дышать, Матица торчала над самой головой. Странно, как это он не ударялся о нее?
Кто-то застучал в окно — видно, палкой. Когда-то он тоже ходил с палкой, стучал в окна: "Сегодня собрание, идите в контору". Эту обязанность выполняли все по очереди, от дома к дому.
— Дядя Олексан, машина уже ждет!
Это Гришка, сын Параски. Олексан встал. Подойдя к матери, неумело, первый раз в жизни, обнял и поцеловал в холодную сухую щеку. Зоя прижалась к сыну, но тут же отступила.
— Ладно, иди уж, иди… к своим. Раз хорошая жизнь тебе не нравится, иди, хлебни горюшка-то!
Уже схватив сундучок, у самой двери Олексан обернулся, еще раз взглянул на мать. Она стояла, опершись плечом о косячок перегородки, в старом кашемировом платке. Этот платок Макар купил ей в Акташе как раз в год рождения Олексана. Было жалко носить его каждый день — перевернула наизнанку, будто ждала какого-то праздника, чтобы надеть нарядным. А когда перевернула на лицо — платок был уже совсем старый, цветы вылиняли. Так и не успела пощеголять мужниным подарком…
Провожать сына она не пошла, остановилась у порога. Олексан вышел во двор, навстречу ему кинулся Лусьтро. Будто впервые Олексан заметил, что пес постарел; ошейник протер ему шею, — долго сидел Лусьтро на цепи, стерег дом и добро Кабышевых. Еще щенком Макар посадил его на цепь, чтобы злее был. Хозяин уже в могиле, а собака все бегает на своей цепи… Олексан одной рукой обнял пса, ласково потрепал:
— Ну, до свиданья, дружок, авось еще увидимся.
Открыл ворота и быстро пошел по улице, часто оглядываясь. Но матери на крыльце не было.
Возле конторы стояла грузовая автомашина, около нее толпились люди: кто ехал на станцию по делам, а кто просто пришел провожать. Олексан издали узнал высокого Ушакова, рядом с ним — Андрея, Галю, Сабита, Параску. В кузов уже забралось полным-полно пацанов: можно прокатиться на машине!
Олексана сразу окружили. Сабит взял из его рук сундучок и поставил в кузов.
— Валла, Аликсан, на год взял еды? Еле поднял!
Наверное, проводы всегда бывают одинаковые. Начались торопливые напутствия, посыпались советы.
— Пожалуй, через недельку начнем уборку. — сказал Ушаков. — Я думал тебя, Олексан, назначить к комбайну. Видно, придется взять Сабита. У Очея не получится.
— Правильно, Павел Васильич, — сказал Олексан, — у Сабита получится. А ты, Сабит, пиши мне, обязательно напиши, какой будет намолот с моего участка. Напишешь? И вообще пиши, слышишь? Небось скоро свадьба?
— Валла, Аликсан, и о свадьбе напишу.
Галя тронула Олексана за плечо:
— Ты, Саша, там крепче держись. И обязательно приезжай работать в свою бригаду.
— А куда же еще? — улыбнулся Олексан.
Шофер стал сигналить.
— Иди, иди, садись, Олексан, — заторопила его Параска. Но тут увидела в кузове своего сынишку, погрозила кулаком. — И ты уже успел? Слезай, сейчас же!
— Мам, я дядю Олексана провожаю!
— Осто, посмотрите на него! — всплеснула руками Параска. — Тоже мне, провожающий!
Олексан прыгнул в кузов, присел на свой сундучок. Вдруг торопливо сунул руку в карман, вытащил сверток и протянул Сабиту.
— Возьми это, Сабит.
— Что такое, Аликсан?
— Потом увидишь. Мой старый долг!
Машина тронулась. Олексан встал в кузове, долго махал товарищам, пока они не скрылись за поворотом.
Машина пропылила по улице, мимо дома Кабышевых, к шоссе. Олексан до боли в глазах смотрел в окна, но они были задернуты занавесками, и дом равнодушно проводил его своими слепыми глазами. И не мог знать Олексан — невидимая за занавеской, мать в узкую щелку смотрела вслед сыну. Побелевшими губами шептала: "Уехал. Уехал… — ломая пальцы, задыхаясь от обиды, плакала злыми слезами: — Проклятая жизнь!.."
Машина спускалась вниз по Глейбамалу, и дом Кабышевых медленно исчезал за бугром, будто уходил в землю. Сначала скрылся забор, последний раз блеснули окна; вот уже не видно и крыши…
— До свиданья, старый дом!
Взглянув последний раз в ту сторону, Олексан повернулся лицом к тугому встречному ветру.
Остаюсь с тобой (повесть)
А я остаюся с тобою, Родная моя сторона!(Из песни)
Мальчишкой, помню, я часто принимался расспрашивать отца: "Откуда наша речка Чурайка берется?" Отец тогда клал мне на плечо сильную руку, задумчиво говорил: "Откуда речка наша берется? Это, сынок, не близко, полдня надо шагать. В роще из-под земли бьет родничок, вода в нем чистая, холодная, ручейком по траве разливается. Это и есть наша Чурайка. Через нее даже ты свободно перешагнешь, а возле Камы она широко разливается, по ней бегают пароходики. Понял?"
— Понял.
— А что понял-то?
— Из-под земли Чурайка выбегает!
— То-то! Эх ты… Ну иди, иди гуляй.
Я выскакиваю на улицу — там ждут друзья. Отец с усмешкой смотрит вслед, качая головой. Потом он усаживается на свое рабочее место, и я, пробегая под окошками, слышу, как он стучит молотком. Отец без ноги, ходит с костылями. Смутно, словно сквозь сон, помню день, когда он пришел с войны, а мать, завидев его на костылях, схватилась за сердце и тихонько заплакала… Но горевать в ту пору было некогда. Потом отец пристроил себе возле окна низенький столик, вроде тех, какие бывают у сапожников, и принялся шить и ремонтировать хомуты, седелки, уздечки. В колхозе ему за это начисляли трудодни. Случалось, я прибегал с улицы в разорванных ботинках, тогда отец, вздыхая говорил:
— Эх, Алешка, обувка твоя опять каши просит… Тебе хоть железные ботинки сшей — все равно истреплешь…
Будто горит на тебе. Ты поберег бы немного: сам видишь — обновку пока не в силах мы купить…
Да, я понимал, надо беречь одежду, ведь когда еще новое купят. Но что поделаешь, если на мне в самом деле "все горит"! Уйдешь с друзьями на Чурайку, купаешься там, загораешь, а потом, известно, затевается борьба, — кто кого? — и уж обязательно порвешь рубашку или штаны. И как ни старайся — мать все равно заметит, руками всплеснет: "Господи, Алеша, опять рубаху порвал? Да на тебя этак не напасешься!.."
"Не напасешься…" Слова эти мне приходилось слышать часто. Но когда я стал ходить в школу, мать все-таки старалась одевать меня получше. Летом хорошо: можно бегать босиком, в одной рубашке, а вот зимой… Справят пальтишко и говорят: это Сергею. Скатают валенки — опять ему. Сергею, мол, надо теплее одеваться, он работает. А мне пока сойдет: в школе небось и так тепло. Брат мой Сергей уже работал в колхозе, по утрам я его видел редко — уходит спозаранок. Проучился он в школе до шестого класса, а потом отец сказал: "Сергей, ты школу свою… оставь пока. Видишь, матери одной-то тяжело достается. После доучишься, не убежит от тебя…" Сергей забросил школьную сумку на полати и отправился на работу.
А я продолжал ходить в школу. После пятого класса тоже собрался было бросить учебу и начать работать в колхозе, но отец, услышав такое, неожиданно рассердился:
— Я тебе покажу колхоз!..
Потом успокоился, завздыхал:
— Ты не дури, Алешка. Давай учись, старайся, человеком станешь… Нынче без ученья дорога — не дальше порога. Учись, Алешка.
Вот так и получилось: Сергей с матерью работали в поле, отец чинил старые хомуты, а я ходил в школу. В шестом классе сидел два года: осенью по перволедку пошли с ребятами на Чурайку, мне захотелось первым пробежаться по льду, и на самом глубоком месте провалился… Вытащили меня из полыньи, в тот же день затрясла лихорадка, увезли в больницу, там определили: воспаление легких. Пока лежал, пропустил в школе две четверти. Когда поправился, отец снова сказал: "Эх. Алешка, хоть бы ты поскорее закончил ученье. У людей, вон, сыновья в инженерах ходят…"
Давно война закончилась, но дела в Чураеве все равно не поправлялись, колхоз оставался маломощным. Дома у нас тоже не легче было. Как раз Сергею пришло время призываться в армию, и вскоре он уехал. Проводив его, отец как-то многозначительно проговорил: "Ну вот, Алешка, теперь вся надежда на тебя. Еще два года тебе учиться в школе…. А там, глядишь, поступишь в институт, стипендию станешь получать, на себя одного хватит. Человеком зато будешь!"
Отец уже давно решил: мне обязательно надо выучиться на инженера. Не знаю, понимал ли он, чем занимаются инженеры; должно быть, прослышал, что живут инженеры хорошо, получают большие деньги…
Сам я долго не мог решить, кем мне хочется стать. Но вот как-то раз к нам в школу пришел военный летчик-майор, с золотой звездой Героя. Вся грудь у него в орденах, форма очень ловко сидела на нем. Все мы, мальчишки, были в восхищении: настоящий герой, летчик! Оказывается, когда-то он учился в нашей школе, а во время войны летал на истребителях. Майор рассказывал о сражениях с фашистами, а я, как зачарованный, смотрел на него и мучительно завидовал: эх, вот бы мне стать таким! С того дня часто стали сниться серебристые самолеты, стрелой проносящиеся по синему небу. Летчик-истребитель!.. И до слез было обидно, что еще так мало годов, до призыва в армию ждать целую вечность! А дни тянулись нестерпимо медленно, вместо того, чтобы летать на стреле-самолете, приходилось решать скучные уравнения, писать длинные сочинения. Перед моими глазами неотступно стояла красивая крылатая машина, а старая учительница русского языка и литературы, добрая Мария Петровка укоризненно качала головой: "Эх, Курбатов, Курбатов, и когда ты научишься писать без ошибок? Голова у тебя неглупая, а вот ленишься… Сколько раз повторять: слово "серебряный" пишется с одним н!" Словно нарочно преследует меня это злополучное слово, каждый раз ошибаюсь в его написании. А мой сосед по парте Юра Черняев хохочет: "А ты, Алешка, вообще не употребляй это слово. Далось оно тебе!"
Юра — русский, учеба дается ему легко. Отец Юрия работает в райисполкоме, но сам Юра ничуть не задается. Мы с ним вот уже второй год сидим за одной партой. Третий в нашей компании — Семен Малков, белобрысый, тихий и рассудительный. Мы его прошили "Кочаном", а Семке хоть бы что, нисколько не обижается. Попробовали бы так Юрку или меня — ого!.. "Кочан" еще в прошлом году окончательно решил выучится на агронома. Даже немножко жалко стало его: что толку вечно рыться в земле? Невелика птица — агроном… Нет, я не был согласен всю жизнь определить какую-то там всхожесть, кондицию, кислотность. В небе, в синем бездонном небе — вот где человеку просторно, там, по крайней мере, он сам себе хозяин!
Юра Черняев решил стать геологом. Дома у него имеется настоящая коллекция камней, и карманы всегда полны какими-то камешками — подбирает их прямо на улице. Я и геологом тоже не хотел быть: если они и лазают по горам, все равно остаются на земле.
Но неожиданно все мои планы полетели вверх тормашками.
В год окончания школы в Чураеве проходила районная спартакиада. Мы бегали, плавали, прыгали, стреляли. Вначале у меня очков набралось чуть ли не больше всех, а на стрельбе выбил до обидного мало, даже меньше, чем девчонки из нашего класса. Юрка разозлился: "Ты что, слепой? Такую мишень не видишь! Мазила несчастный! Из-за тебя вся наша команда погорела". А что мне было сказать? Я и сам последнее время чувствовал неладное с глазами: силюсь разобрать, что написано на классной доске, а буквы расплываются, вижу их будто в тумане… Пришлось распрощаться с "камчатной" и пересесть ближе к доске, рядом с Раей Березиной. В поликлинике определили близорукость, это очень расстроило меня: неужели придется расстаться с мечтой стать летчиком? Неужели не суждено сидеть за штурвалом самолета, стрелой прочерчивать синее небо? Нет, так просто я не сдамся! Пусть не буду летчиком, но поступлю в авиационный институт, там все равно буду иметь дело с самолетами!..
Отец не возражал: ведь из авиационного института тоже выходят инженеры…
А нынешней весной, отслужив срок, вернулся из армии брат Сергей. Вначале я даже не узнал его: шагнул через порог дюжий солдат с чемоданом, загорелый, широкоплечий. Здорово вытянулся он за три года! До призыва выглядел совсем мальчишкой, отец не верил, что признают годным. Со службы он писал редко и очень скупо: "Жив, здоров, выучился на шофера. Все в порядке, не беспокойтесь за меня…" Мать огорчалась: "Ах, не мог уж побольше отписать! Да как же не беспокоиться, господи?.."
С неделю Сергей пожил дома, гулял, ходил куда-то, справлялся насчет работы. Однажды вечером они долго засиделись с отцом, я спал за дощатой перегородкой. Разбудил меня их громкий гонор:
— А какой мне расчет оставаться в Чураеве? Болтаюсь вторую педелю и все без толку. Писарить в учреждении — не мое дело, нос не дорос, грамоты не хватает! — невесело усмехнулся Сергей. — Пока другие учились, я за плугом ходил… Да и будь я с образованием, все равно без пользы: везде забито, до меня успели. Каждый норовит ухватиться за мало-мальскую денежную работенку. А с моим образованием — куда там! Люди грамотнее и то в колхоз не идут. А я что, глупее их?
Стул под отцом тяжело заскрипел, он долго не отвечал Сергею.
— Да-а, пожалуй… В нашем колхозе толку пока немного. В соседях, слышно, крепко живут, в газетах про них пишут. А у нас… Эх, не везет с председателями!
Ну что ты возьмешь с Беляева? Чтоб он направил дела в колхозе? Не-е-ет… Дом себе поставил, не дом — игрушечка! А к общественному делу сердце у него не лежит. Надо бы к нам председателем такого человека, чтоб народный интерес понимал!
Помолчали. Потом Сергей начал осторожно:
— Думай не думай, а сто рублей — не деньги!.. Смотрю я на эту картину и соображаю: надо подаваться отсюда! Куда? Это — другой вопрос. Перед демобилизацией друзья звали меня в Донбасс, даже в Сибирь ехать подбивали. Мол, устроишься… До Сибири, конечно, далековато. Надо поблизости место сыскать. Толковал я кое с кем, советуют на Урал, в шахты…
Снова отец долго не отвечал: видно раздумывал над словами Сергея.
— Работа — она везде одна… Раньше говорили: за Камой телушка — полушка, да рубль перевоз. Не знаю, Сергей, как тебе и сказать. Может, со временем у нас дело тоже наладится…
Я понял: нелегко отцу, не хочется ему отпускать от себя старшего сына. А удержать Сергея — тоже нельзя: что может отец пообещать ему в Чураеве?.. Наконец он проговорил глухим голосом:
— Ладно, Сергей, так и быть, поезжай, коли надумал. Держать — не держу, но отпускаю тоже без особой охоты. Смотри сам как лучше, не маленький… Нам, вон, Алешку надо выучить, хотя бы его в люди вывести. Человеку без места нельзя, понятное дело. Съездишь, посмотришь, оно, может, и получится. А то после жалеть станешь: мол, хотел, да не отпустили. Поезжай…
После этого разговора брат еще дня три побыл дома, получил паспорт. Матери жалко было отпускать его, уговаривала: "Дома не успел погостить, Сергунька… Остался бы, может, и у нас не все так будет. Живут же люди…" Сергей на это качал головой: "Попробую, съезжу. Попытка, говорят, не пытка. Подыщу денежную работу. На нашем Чураеве земля клином не сошлась!"
Со мной Сергей все эти дни был не особо приветлив, разговаривал мало. Лишь раз, заметив, что я сижу за книжкой, подошел сзади, усмехаясь, сказал:
— Все читаешь? Ну-ну, давай. Станешь инженером — не забывай нас…
— Что ты, Сергей… Еще ничего неизвестно…
— Ладно, чего там! Учись. Видно, кому что: одному с книжкой, другому с киркой!
На другое утро Сергей оделся во все солдатское, спорол только погоны, захватил небольшой чемодан и уехал на станцию в тряском кузове попутной машины.
Проводив старшего сына, отец долго сидел за своим столиком в тяжелом раздумье, опустив лохматую голову на грудь. Мать за печкой неслышно вздыхала. Я готовился к последним экзаменам в школе…
* * *
В колхозе сенокос был в полном разгаре, а мы сдавали экзамены. Потом на выпускном вечере директор по одному вызывал нас к столу и каждому вручал новенький аттестат зрелости. Плотные, гладкие листы, казалось, даже чуть позванивали — до того они были новые, незахватанные. Директор поздравил нас с окончанием школы и сказал небольшую речь. Мы — восемнадцать выпускников — сидели в передних рядах, а по бокам и сзади толпились учащиеся младших классов, с нескрываемой завистью смотрели на нас, заглядывали в аттестаты: им-то такого дня еще долго ждать.
Потом в просторной учительской сдвинули в один ряд столы, уселись вокруг. Впервые в жизни, на глазах у наших учителей, мы неумело чокнулись, сдвинув над столом восемнадцать стаканов, выпили вина. Девочки тут же оживились, заговорили все разом, стали без причины хохотать. Я был вместе со всеми, но слышал голос и смех одной Раи Березиной. Она сидела на другом конце стола по соседству с Юрой Черняевым, я видел, что ей очень весело, лицо раскраснелось, в этот вечер она казалась мне по-особенному красивой. Юра закурил было папироску, но Мария Петровна, наша классная руководительница, укоризненно покачала головой:
— Ах, Черняев, Черняев, получил аттестат и думаешь, теперь все позволено? Еще не поздно переправить оценку по поведению!
Юрка покраснел, смял папироску и бросил под стол.
Неприметно для остальных я приглядывался к Рае. Вот близко к ней придвинулся Черняев, что-то зашептал, Рая звонко расхохоталась. О чем они там? Меня так и подмывало подойти, прислушаться, но это казалось невозможным: все заметят… Волосы Раи касаются Юркиного лица, она счастливыми глазами посматривает на него. Чем-то острым кольнуло сердце, я отвернулся.
Сказать по правде, Рая Березина давно нравилась мне. Когда это началось? В прошлом ила позапрошлом году? Но она об этом не знает, да и я ничего ей не говорил. Несколько раз провожал ее со школьных вечеров, но, даже оставаясь вдвоем, не решался взять под руку… А однажды у нас с Юркой возник разговор: кто лучше всех из девчат нашего класса? Мне было мучительно неловко признаться, но я все-таки сказал, что Рая Березина неплохая девушка… Юра сплюнул сквозь зубы (это у него получалось здорово!) и небрежно процедит: "А мне, например, никто из них не нравится. Все они на одно лицо, сейчас корчат из себя кого-то, носы задирают, а потом…" Что именно "потом" — Юрка не договорил. Было обидно, что самый близкий товарищ так отзывается о девушках, и особенно о Рае. Неужели он сейчас пересказывает ей наш разговор?
От этой мысли у меня даже в горле перехватило.
— Алеша, Алеш! Не слышит…
— Кто меня зовет? А, это она, Рая, тянется через стол, в руке у нее стакан. Вина там осталось чуть-чуть, на донышке. Я поднял пустой стакан.
— Алешка, нехорошо пустым чокаться, а то вся жизнь будет неполной. Сегодня у нас такой день! Давай, я тебе чуть-чуточку налью. Вот так! Ну, за что?.. За исполнение всех желаний. Чтоб исполнилось то, о чем думает сейчас каждый из нас!
Мы выпили. Рая смотрит на меня поверх стакана блестящими глазами, будто говорит: "Выше голову, Алеша, выше! Перед большой дорогой надо быть веселым. Все вы очень хорошие ребята, но ты лучше всех!.." Нет, теперь я нисколько не сердился на Раю. Все-таки она самая лучшая из девчат нашего десятого "Б"!
К концу вечера я здорово устал, голоса вокруг стали сливаться в сплошной гул. Слишком много волнений выпало в этот день. Друзья мне что-то говорят, зовут куда-то, я смеюсь, а у самого в голове стоит звон.
Потом все пошли в физкультурный зал танцевать. Я приотстал от ребят, и в эту минуту кто-то взял меня за руку. Это была Рая.
— Подожди…
Мы остались в учительской вдвоем. Рая, не глядя на меня, спросила:
— Ты… сердишься на меня?
— Что ты? Нет, нисколько даже!
— А мне показалось… Не сердись, Алеша… Просто я сегодня самая счастливая, не верится, что можно быть такой счастливой! Алешенька, слышишь?..
Я не успел опомниться, как Рая встала на цыпочки, потянулась ко мне и звонко поцеловала в щеку. Потом быстро повернулась и убежала по коридору. Я остался стоять, прижав руку к лицу, где горел след торопливого, горячего поцелуя. Щека моя и в самом деле пылала, точно в огне.
Танцевать вместе со всеми я не пошел: во-первых, не умел, а во-вторых, на ногах были огромные кирзовые сапоги, доставшиеся от Сергея. Я стоял в темном коридоре, прижавшись лицом к холодному стеклу.
Значит, напрасно я тревожил себя: Рае никто другой, кроме меня, не нравится, она сама дала об этом понять. Иначе не стала бы ни с того ни с сего целовать! На Юрку также зря обиделся, он, по-видимому, и не собирается ухаживать за ней. От этой мысли сразу стало легко и весело. Незачем горевать! Рая всегда будет со мной!..
На другой день мы всем классом отправились прогуляться по лугам. Юрка захватил с собой аккордеон, мы с песнями бродили вдоль Чурайки, смеялись, словом, дурачились как могли. Юрка принялся в шутку передразнивать нашу учительницу литературы, выводил тоненьким голоском Марии Петровны.
— Ребята, сегодня у нас тема — Маяковский. Как бы обращаясь к вам, он писал… Вот послушайте:
У меня растут года, Будет мне семнадцать…Всем это показалось смешным. Рая захлопала в ладоши: "Он, Юрка, да ты настоящий артист!"
Шумной ватагой взбежали мы на высокий холм. Отсюда видно далеко: луга с островками ольховых рощиц, зелень на полях, серебрится под солнцем извилистая речушка Чурайка. Село лежит перед нами как на ладони, дома вдали кажутся игрушечными. Среди них бросается в глаза голубая крыша сельского клуба, а рядом с ним — двухэтажное здание нашей школы; посреди села — большая площадь с рядами магазинов; дальше — вся в кудрявых тополях Советская улица. Где-то за теми тополями мой дом.
— Ой, смотрите, во-о-н там возле рощи видите? — звонко закричала Рая. — Будто журавли летят, правда? Ой, как красиво!
— Тоже, высказалась! — пренебрежительно откликнулся Юрка. — Просто колхозницы там косят сено, вот и все. Ха, журавли! Вот и шла бы сама туда, а мы бы полюбовались на эту красоту со стороны!
Рая вспыхнула, обернулась к Юрке, с вызовом ответила:
— Очень мне надо! Если хочешь, иди сам, коси. На каникулах я работала, знаю.
— На прополке, да? Горох полола?
— А хоть бы и так! Там тоже работа.
— Ну, если тебе нравится в колхозе, зачем же метишь в институт? — не унимался Юрка. — Сдала бы аттестат свой в колхозную контору, там обсудят на правлении, глядишь, и в колхоз примут!
Ссора вот-вот готова была вспыхнуть, но вмешались ребята.
— Нашли, о чем спорить, — рассудительно сказал Семен Малков. — Каждый идет туда, где ему больше по душе. И каждый приносит пользу на своем месте…
Кто-то со смехом заметил:
— О-о, пошло-поехало! Философ…
Долго стояли мы на холме, любуясь родными просторами, и давно привычные, примелькавшиеся картины будто предстали перед нами в новом свете. Ребята под конец все притихли, и я подумал: "Как это я раньше не замечал этой красоты? Хороша моя родная сторонка, и всегда, всюду, куда бы меня ни закинула жизнь, буду в сердце своем хранить ее образ". Словно угадав мою мысль, Семен задумчиво проговорил вслух:
— Да-а, хорошо у нас… Не представляю, как я расстанусь с Чурайкой? А расстаться придется, ничего не поделаешь. Велика земля, ребята… Ну, пошли!
Перед тем как войти в село, мы взялись под руки, Юрка Черняев развернул аккордеон и заиграл. Не сговариваясь, мы дружно запели. Восемнадцать звонких, сильных голосов разбудили тишину полуденных улиц. Мы шли прямо через площадь, заслышав наше пение, из магазинов высыпали люди, прохожие останавливались. А мы шагали с гордо поднятыми головами и пели:
До свиданья, мама, Не горюй, не грусти, Пожелай нам доброго пути!..Все вокруг смотрят на нас, любуются, говорят о чем-то между собой, женщины утирают платками глаза. А мы шагаем по самой середине площади, нога в ногу, песня, захватив нас, несет, словно на крыльях. Какая-то неведомая сила вливалась в меня в эти минуты, хотелось петь громче всех, чтоб было слышно далеко, далеко. И ничто меня не тревожило сейчас, я готов был вот так, в тесном ряду с друзьями-товарищами пройти через весь мир. "Ничего, Алешка, держись крепче, все будет хорошо, ты обязательно возьмешь свое, ты должен взять, дойти, победить!" — вот о чем стучало мое сердце в те чудесные минуты, пока мы проходили по площади на виду у всех, и от неведомого восторга по всему телу пробегал холодок. Эх, до чего красиво, всем на зависть прошли мы по улице, через всю площадь! А люди радуются за нас, улыбаются вслед нам добрыми улыбками, и мне кажется, что я слышу их голоса: "Смотрите, смот-рите, вон шагает высокий, крепкий парень, он выделяется среди своих товарищей, это — Алексей Курбатов! Смотрите на него, — разве не ясно, что он далеко пойдет, станет настоящим человеком!.."
Дойдя до школы, мы остановились. Оглядываюсь на ребят: у всех возбужденно поблескивают глаза, должно быть, каждый чувствовал то же самое, что и я…
— Вот было здорово! — с восхищением сказала Рая.
Но Семен Малков будто облил нас ушатом холодной воды.
— Да, прошли, нечего сказать!.. Подумаешь, победители какие выискались. Пока ничего полезного не сделали, а людей уже насмешили!
Всем сразу стало неловко, ребята притихли, смущенно поглядывая на Семена. Юрка Черняев пожал плечами, закинул аккордеон за спину.
— Ну чего ты, Кочан… раскаркался! А что плохого сделали? По-твоему, запрещено на улице песни петь?
Юрка по привычке ловко сплюнул. Семен промолчал. Постояв еще немного, стали расходиться, каждый пошел своей дорогой.
* * *
На другой день мы с Юркой пошли на почту — отправлять документы. Пожилая женщина, взяв наши пакеты, взглянула на адреса, потом внимательно посмотрела на нас и вздохнула:
— Доброго пути вам, ребятки! Да, теперь все хотят учиться. А мы вот скоро уйдем на пенсию, и неизвестно, кто будет за нас квитанции выписывать…
Юрка покрутил головой, нашелся быстро?
— А вы не беспокойтесь, к тому времени придумают автоматы, они вас полностью заменят. Вам останется лишь чаек распивать с белой булочкой!
Женщина невесело улыбнулась:
— Быстрый ты очень, сынок!
На крыльце почты мы столкнулись с Раей. Она сделала большие глаза, с упреком сказала:
— Ой, ребята, вы уже отправили документы? А меня не позвали? А еще товарищами считаетесь, бессовестные! Вы хоть подождите, я сейчас…
Рая убежала. Юрка косо глянул ей вслед:
— Сорока на колу! Да чего с ней… Пошли, Лешка!
…Недели две мы, сгорая от нетерпения, ждали ответа. Юрка первым получил отпечатанную на машинке открыточку — вызывали на приемные экзамены. Отец проводил его на станцию на исполкомовской легковушке. Прощаясь, мы крепко пожали друг другу руки. Юрка сказал:
— Ничего, Лешка, может быть, завтра ты тоже получишь. Будь здоров, не вешай носа! Увидимся…
Юрка уехал. Мне стало грустно, показалось, будто в Чураеве я остался один. Семен Малков — тот сидит дома и носа не кажет: должно быть, грызет учебники, готовится в сельхозинститут. Он напористый, как червячок-короед: будет грызть и грызть, пока своего не добьется. Иногда я даже завидую его терпению и упорству, в классе он был самый старательный и, пожалуй, самый рассудительный. И чего его потянуло в агрономию?
Я ждал вызова, дни тянулись нестерпимо медленно. Как нарочно, захворала мать: она у нас давно мучается с ногами, в войну по холодной грязи выбирала картошку, с той поры и жалуется на боли в костях. Вот и сейчас сидит на печке, на горячих кирпичах греет ноги.
— Алешка, — позвала она меня негромко, — поди сюда… Ты бы сходил, подменил меня на работе… Что-то мне совсем неможется, видно, с неделю дома придется побыть. Бригадир Василий еще с вечера наказывал, чтобы шла навоз нагружать с фермы. Пойди, Алешенька, денек поработай…
Переодевшись в старое, взяв вилы, я направился к колхозным фермам. Там уже собралось с десяток женщин, тоже все с вилами. Завидев меня, они разом повернулись в мою сторону, молча стали рассматривать. Я подошел близко, остановился, чувствуя себя очень стесненно.
— Здравствуйте…
— Здравствуй, коли не шутишь! — отозвалась за всех полная, не по погоде одетая в теплую шерстяную фуфайку женщина. Это — тетя Фекла, мать Раи Березиной. — Ты чего с вилами шляешься, Алешка?
— Мать заболела. Пришел на подмену…
— Вон оно что! Значит, захотелось испробовать нашей кашки? — усмехнулась тетя Фекла. Остальные тоже заулыбались. Я знал, что Раина мать на язык бойкая, и хотелось, чтобы она скорей оставила меня в покое. А она продолжала, усмехаясь и оглядываясь на других женщин:
— Вот-вот, попробуй-ка, сыночек, потрудись с нами да понюхай, чем пахнет хлебушек! А то бегаете, как молодые жеребятки, носы воротите от рабочего народа! Ученые все стали, как же!..
Теперь уже все женщины откровенно посмеивались, кто-то даже по-обидному захихикал. Тетя Фекла притворно вздохнула:
— Говорят, в город уезжаешь, на инженера учиться? Охо-хо, прости господи, все куда-то бегут и бегут, а нам, видно, на роду так написано, чтобы всю жизнь в грязи да навозе копаться…
Меня взяла злость, я готов был огрызнуться: чего на чужих указывать? Разве один я уезжаю? Дочку свою небось тоже услала в город учиться! Но в этот момент, грохоча, подкатил гусеничный трактор с огромной, на железном ходу телегой. Не телега — целая платформа! Все взялись за вилы, стали кидать навоз. Работали молча, слышно было лишь тяжелое дыхание женщин, да чавкала под ногами грязь. Стиснув зубы, я вместе со всеми ворочал пласты слежавшегося навоза, швырял тяжелые шмотья. Наконец телега была нагружена доверху, тетя Фекла с размаху воткнула вилы, передником смахнула со лба капельки пота.
— Хватит, бабы, трактор не увезет! А ты, Алешка, оказывается, можешь работать. Силенка-то мужская, не наша!.. Оставайся с нами в колхозе, вон девчата обрадуются. Как, Аннушка, оставим его?
В бригаде было двое девушек, одну из них, Анну Балашову, я знал хорошо: до седьмого класса вместе учились… Потом она бросила школу: похоронили отца, и Анне пришлось принять на себя нелегкую заботу о семье.
Услышав вопрос тети Феклы, Анна смутилась, украдкой взглянула на меня и, растягивая слова, нарочито весело ответила:
— Хорошо бы в колхоз побольше таких… А то у нас совсем ребят не остается. На таких мужиках, как дед Парамон, в передовые не скоро выйдешь!
Все засмеялись, поглядывая на меня. Ну вот, опять они за свое. Я стал жалеть, что послушался матери, пришел сюда: нужна мне эта работа! А женщины только и знают насмешничать, не стесняясь, рассказывают такое, от чего кидает в пот. И руки у них большие, красные, совсем не женские.
Кое-как дождался я вечера. Перед концом дня явился бригадир, заметив меня, удивился:
— Ого, среди овец появился молодец! Ты чего это, Курбатов, не в колхозе ли надумал оставаться?
— Мать заболела…
— A-а… Ну, тогда ясно! Ты не очень поддавайся этим сорокам, они тебя вмиг заклюют. У них только и делов, что языком трепаться…
— Ладно, иди, иди, Василий, проваливай отсюда, пока не попало по хребтине! — сердито замахнулась вилами на бригадира тетя Фекла. — Глазом не успеешь моргнуть! Ты нашего парня не тронь, пусть-ка он хоть в последние денечки попробует нашей работы, какова она есть на вкус. А то ихний брат только и знает, что со стола таскать… Поедет в город, пусть расскажет, как в деревне хлеб растет!
Я промолчал. Подумал со злостью: "Расскажу, расскажу, жди дольше! Очень нужен мне этот ваш навоз…"
Придя домой, я сразу заметил на столе конверт, С бьющимся сердцем разорвал, читаю: "…приемная комиссия вызывает Вас для сдачи экзаменов… Необходимо прибыть в институт к…"
— Завтра мне выезжать! — не скрывая радости, сообщил я отцу. Он с минуту молчал за своим столиком, затем медленно поднял голову и с дрожью в голосе сказал:
— Смотри, Алешка, ты уж как-нибудь… постарайся там. Надежда вся… на тебя!
* * *
Желающих попасть в институт было много, на одно место — пять человек. Чтобы попасть в число счастливцев, нужно было набрать двадцать три балла.
Сдавали несколькими "потоками", я попал в первый. Сдан последний экзамен, все с нетерпением ждут решения приемной комиссии. Наконец в институтском коридоре вывесили длинный список зачисленных. Все столпились около. С трудом протолкавшись ближе, я с замирающим сердцем стал искать свою фамилию, торопливо пробегая глазами по чужим, незнакомым: "…Кардашев, Кибардин, Козлин, Ковин, Кузнецов, Кунц… Ломакин, Лузин…" Моей фамилии в списке не было… Что-то обор-валось в груди, голова сразу наполнилась звоном, я перестал слышать голоса вокруг. И тут же, словно током, пронизало всего: куда теперь? Гулко застучало сердце, каждый удар отзывался мучительным вопросом: "Куда? Куда? Куда?.."
…В тот день я до позднего вечера бродил по улицам незнакомого города, подолгу стоял перед объявлениями о приеме на работу. Их было много, и все разные, отпечатанные броскими буквами: "…Требуется слесарь… механик… токарь… шофер… плотник… электротехник. Обращаться по адресу…" Постепенно назрело твердое решение: остаться в городе. Иначе с какими глазами я покажусь в Чураеве, что отвечу на вопрос отца? Нет, решил я, надо во что бы то ни стало устроиться на работу!
Несколько адресов я переписал в тетрадку и отправился по ним искать удачи. В том, что меня примут на работу, я не сомневался. Как-никак, у меня есть аттестат зрелости, а в нем одни "четверки" и "пятерки". Но в первой же конторе, куда я пришел, сказали: "Окончил десятилетку? Ах, специальности не имеешь? Очень жаль, но нам нужны рабочие с разрядом". Во второй конторе пообещали: "Можем принять помощником маляра. Будешь готовить известковый раствор…"
Ну нет, на это я не был согласен! Чтобы работать помощником маляра, не обязательно оканчивать среднюю школу! Не ради какого-то там известкового раствора с таким трудом я получил аттестат зрелости. Я даже не обиделся на такое предложение, просто на душе стало очень горько. Вконец уставший, еле держась на ногах (сказывалась непривычка к городу), вернулся я в общежитие института. Комендант — сухая сердитая женщина с птичьими глазами — нехотя отозвалась на мою просьбу о ночлеге:
— У нас здесь не гостиница! — она покосилась на мои серые от пыли сапоги и, поджав губы, покачала головой. — Ох! Идут и идут, а куда — сами не знают. Надо было школу с медалью кончить, вот что! Учат вас там… Ладно уж, ночь переспи, а завтра чтоб я тебя тут не видела. Студенты скоро понаедут, а за вами грязь убирать придется…
Ночь я провалялся на старом жестком матраце, не сомкнув глаз. Невеселые думы не давали уснуть. Вспомнилось некстати, как лихо прошли мы с песней по площади Чураева, — стало стыдно до слез.
"Куда теперь?" — этот вопрос не выходил из головы. Никогда не думалось, что жизнь может так посмеяться надо мной. Все оказалось иначе, не похожим на ту жизнь, которую рисовали мы себе. Учителя чуть ли не каждый день напоминали нам: "Для вас открыты светлые пути-дороги, вы — молодые хозяева жизни! Вы — самые счастливые дети на земле, вы призваны претворить дерзновенные мечты…" Вот я, один из "самых счастливых детей", коротаю ночь в чужом общежитии и не знаю, куда пойду утром. Ничего не скажешь, мечты мои дерзновенные!.. Разве учителя говорили нам неправду? Ведь если подумать, передо мной сейчас не то что широкого, светлого пути, а даже простой тропиночки не видно. А сколько нам внушали: "Вы — будущие строители коммунизма". Но почему никто толком не рассказал, где и как строить его? Если бы знать, как это делать! Сейчас я никому не нужен. Давай, Курбатов, подумаем, выясним спокойно, на что ты пригоден? Скажем прямо: ты должен уметь многое — не зря у тебя в кармане лежит совершенно новенький аттестат зрелости! "Зрелости" — это значит, что ты уже возмужал, созрел для самостоятельной жизни, значит, теперь у тебя на плечах голова со "своим царем"; это значит, ты уже не нуждаешься в поводырях. Так? Выходит, что так!
Но все-таки, Алексей Курбатов, что ты умеешь?
Управлять автомашиной, скажем, я не умею. Да и не обязательно иметь аттестат зрелости, чтобы крутить баранку руля. Зато я знаю, что такое бином Ньютона, знаю тригонометрические функции и строение цветка примулы. Пожалуй, ни один шофер ничего такого не знает… Работать электротехником я не смогу, зато разбудите меня в ночь-полночь — без запинки расскажу формулу "куба суммы"! Или вон какой-то начальник предлагал пойти в помощники маляра, разводить известковый раствор. А спросить его, знает он, что такое анапест или амфибрахий? Должно быть, представления не имеет… А я знаю. О-о, много кое-чего усвоил я: не зря десять лет подряд сидел над книгами, учебниками, даже зрение свое испортил. Пусть школу окончил без медали, но в моей голове множество всяких знаний. И тем не менее, оказался никому не нужным. Все, к кому я обращался, в первую очередь спрашивали: "А какую работу ты можешь выполнять?" Конечно, пока ни к какому делу я не приучен, но зато у меня есть аттестат, а его, надо думать, дают не зря и не каждому. Нет, здесь что-то не так. Или учителя говорили неправду о том, что все дороги передо мной открыты, или мне просто не повезло.
Вот какие мысли беспокойно метались в голове, пока лежал я на жестком матраце в общежитии института, куда так хотел и не смог поступить. Да, в жизни и впрямь много путей-дорожек, но оказалось, что для меня ни одной пока не протоптано. Первая же дверь, куда я постучался, оказалась закрытой. Отец часто повторял, что в жизни каждому надо иметь свое место. Я остался без места. Все люди вокруг имеют свои места, им нет никакого дела до молодого паренька, который только вчера окончил школу, пусть он сам устраивается, как может. Конечно, Юрка Черняев в жизни найдет себе пристанище — его даже на станцию проводили на легковой машине. Семен Малков тоже не останется без места: он будет упрямо бить в одну точку, пока не добьется своего. А я не могу так: не хватит терпения, и на станцию я добирался в тряском кузове попутного грузовика…
Утром я взял свой старенький, потрепанный чемодан и вышел на улицу. "Куда пойти?" — этот вопрос неотступно сверлил мозг. Здесь я недолго продержусь: в чемодане всего лишь пара белья и несколько учебников; в левом нагрудном кармане тринадцать рублей — весь мой наличный капитал. Отец, провожая в город, дал двадцать пять рублей (продал на базаре овцу) и сказал: "Продадим последнее, только постарайся выучиться, Алешка". Вот, пожалуйста, выучился… В правом кармане тоже хрустят бумаги — там документы, в канцелярии института их вернули обратно. Совсем новенький, хрустящий аттестат, затем автобиография (сколько ни старался, а больше полстранички не мог написать), справка о здоровье, две фотокарточки… Да, документы у меня очень хорошие, еще вчера я был уверен, что они откроют передо мной все двери. А сегодня…
Следуя невеселому течению мыслей, я бесцельно шел по улице, не замечая людей, и в этот момент кто-то окликнул меня:
— Алешка! Курбатов!..
Оглянулся — догоняет Аня Шкляева, невысокая рябоватая девчонка, кончила школу вместе со мной.
В классе она была самой тихой, мы даже не замечали ее. Как это она оказалась в городе?
— Алешка, здравствуй! Ты только сейчас с вокзала, да? — указывая глазами на мой чемодан, спросила она.
Я и раньше считал Аньку самой простоватой из всех девчат нашего класса. Вот и теперь — неужели она не видит? Кажется, должна бы догадаться…
— Я? Н-нет, не с вокзала. Я тут… уже вторую неделю.
Аня глядела на меня, часто моргая глазами, и поняв, наконец, прикрыла рукой рот, тихонько ойкнула:
— Он… Правда, Алешка? Конкурс… большой был?
— Пять человек на место…
— Ой, Алеша!.. Как же так? И куда ты теперь?
— Не знаю. Хожу вот…
Аня стояла передо мной, о чем-то думая и все так же часто моргая, потом сразу засуетилась, стала дергать меня за рукав.
— Знаешь, Алеша, придумала: идем к нам, в педагогический! У нас тоже конкурс, только небольшой, понимаешь? Пойдем, сдашь свои документы, тебя обязательно примут. У нас ребят мало, они не идут в педагогический… Идем, Алеша?
На какой-то миг вспыхнула мысль: "В самом деле, может, так и сделать? Поступлю в педагогический, дальше видно будет… Конечно, учитель — это не то, что инженер, но все равно, учителям тоже дают дипломы!"
Аня продолжала теребить меня: пойдем да пойдем, нечего раздумывать.
— Погоди, Аня, — сказал я со вздохом, ставя чемодан на землю, — подожди, не тяни… Все это не так просто. Разве для того мы учились, чтобы приземлиться, куда придется? Нет, не могу я так. Я никогда, даже во сне, не думал стать учителем. Не лежит душа к этому делу, не тянет. Спасибо, Аня, но я не пойду с тобой. Если тебе нравится эта профессия, иди в педагогический. А я… как-нибудь найду свою дорогу. До свидания!
Взяв чемодан, я пошел дальше, не оглядываясь. Аня осталась стоять, удивленная и обиженная моим отказом.
Долго бродил я по улицам города. Люди все куда-то спешат, о чем-то разговаривают, смеются, толкаются. Кому я тут нужен? Еще недавно сердце мое радостно сжималось в ожидании: "Скоро буду жить в городе! В деревне скучища, должно быть, наше Чураево — самое скучное место в целом мире. Надо уезжать отсюда в город, в город!.." Немного прошло времени — и вот я в городе, а вместо того чтобы радоваться, с тоской вышагиваю по раскаленному асфальту, не зная, куда приткнуться. Конечно, здесь интереснее, чем в Чураеве, даже никакого сравнения не может быть. Одно плохо; в городе у меня нет своего места.
…Устал, проголодался. Решил зайти пообедать в ресторан (сказали, что днем здесь столовая). Усатый швейцар с золотыми нашивками мельком взглянул на меня и неохотно пробурчал:
— С ручной кладью сюда нельзя.
Я растерялся.
— Да мне только пообедать… В чемодане ничего такого нет, поставьте в гардероб…
Человек с нашивками даже головы не повернул.
— Сказано: в гардероб ручную кладь от клиентов не принимаем! Понял? Видишь, написано, читай, если грамотный…
"Понял, понял, чего расшумелся!" — со злостью подумал я и вышел на улицу. Невдалеке, в тени деревьев, женщина в белом халате торговала пирожками с мясом. Она с удивлением оглядела меня с ног до головы: должно быть, впервые видела, чтобы человек брал сразу пятнадцать пирожков. Отойдя за угол, я присел на чемодан, и, не обращая ни на кого внимания, принялся расправляться с остывшими, чуть прогорклыми пирожками. Серебристо-белый репродуктор надо мной гремел на всю улицу:
И куда ни пойдешь, Всюду счастье найдешь!..Интересно, для чего в городах репродукторы включают "на полную катушку"? Гремят и гремят — оглохнуть можно…
* * *
В вагоне я забрался на самую верхотуру: здесь хоть и душно, зато никто не станет докучать вопросами, откуда, мол, и куда.
Да, я еду домой. А скажите, куда мне было деваться? В городе без прописки и денег долго не прожить.
Душно в вагоне, едкий табачный дым пластами висит под потолком. Колеса выстукивают свое заученное "тук-трак". Сквозь этот перестук я краем уха улавливаю разговор пассажиров. Судя по говору, они мои земляки, быть может, даже из соседнего колхоза.
— …уехал в Челябинск, сперва один, а через год и семью к себе выписал. Домишко в деревне продал, с колхозом распрощался… Годов шесть не был, а тут на-ко — письмо в контору написал, дескать, так и так, семья моя и сам я в том же числе просим обратно принять нас в артель. Специальность, дескать, новую имею, могу кузнецом или токарем. Рассудили мы это дело на правлении, председатель наш и говорит: "Значит, дошло и до него, что колхоз наш третий год в миллионерах ходит. Не зря обратно запросился! Только поздновато хватился — у нас теперь своих, доморощенных специалистов полно. И народу рабочего хватает, все-таки времена другие. Нет ему обратного пути в колхоз, и точка!" Ну, мы поддержали председателя, письмо отписали, мол, так и так, Сидор Петрович, может, ты и стал в бегах хорошим специалистом, а только у нас для тебя вакансии свободной не имеется, своими специалистами обеспечены.
— Выходит, отказали?
— А то как же! Сдезертировал, а потом обратно принимай? Н-е-т, такого положения не должно быть! Не-ет, не положено человеку по-блошиному скакать! Имей свое определенное место!
— Ну, а если колхоз… это самое… плох и даже нечем ему кормить блох, хе-хе, тогда как?
— Ты хозяин, ты и выводи свой колхоз на уровень! До того как стать миллионерами, у нас вовсе другое положение было: жили так себе, ни шатко, ни валко, тонуть не тонули, но и вперед не плыли. Поверху держались, водой захлебывались… Земля отощала за войну, мужики, те, что оставались, больше на шабашку ходили… Уж не говорю о денежной оплате — хлебом кое-как кормились… Теперь, конечно, не сравнишь! А как началось, с чего? Вот, послушай…
Пассажиры с нижних полок ведут бесконечную беседу о хлебе, деньгах, навозе, трудоднях. Я даже позавидовал: счастливые, у них есть свое место, свои заботы и радости на этой земле!
В сумерки, когда стали укладываться спать, один из них, лысый старичок с острой бородкой, задрав голову, стрельнул глазками по мне и вполголоса сообщил товарищу:
— Миколай, на верхних полатях парень чей-то едет, как сел, так ни разу и не сходил… Как бы он ночью… не тово?
— А ты котомку свою сунь под голову, заместо подушки. Ну, ежели что, — я его прямым транзитом через окно…
На станцию поезд прибыл утром. Начинало светать, и небо в той стороне, где должно быть мое родное село, нежно золотилось. В такую рань, конечно, ждать машину бесполезно. Решил двинуться пешком, а если в дороге нагонит какая машина, заскочу в кузов: вещей у меня всего-навсего фанерный чемодан. Сняв с пояса ремень, я зацепил его к ручке, закинул через плечо и налегке зашагал в сторону Чураева.
Эх, будь другие времена, шагать при такой красоте было бы одно удовольствие! В низинах стелется легкий туман, спускаешься с бугра в лощинку — чувствуешь, как постепенно воздух становится холоднее, на одежду оседает тончайшая водяная пыль. Минуя лощину, поднимаешься на бугор, и снова с каждым шагом теплеет воздух. На гребне бугра уже совсем тепло, видно далеко окрест. На самой вершине холма стоит разлапистый дуб-богатырь, совсем как в песне: "Среди долины ровный…" Первые лучи солнца пронизали его крону, и запылал богатырь немым светлым пламенем, загорелся без дыма. В следующее мгновение те же лучи потревожили в траве жаворонка, вспорхнул он, трепеща крылышками, взвился в прозрачную синь, рассыпал на безмолвную землю первую звонкую трель. А за первым взвился второй, третий… Долго стоял я на вершине бугра, забыв обо всем, любуясь трепетным полетом поднебесных веселых певцов. Будь у меня крылья — поднялся бы я вместе с ними, поднялся высоко, насколько можно, и поглядел с высоты на путь-дорогу свою. Кто знает, может, иду я не той тропой, может, следует свернуть с нее, чтобы поискать другую, настоящую, верную… Но нет у меня крыльев, и поэтому вышагиваю я по пыльной, избитой сотнями железных и резиновых шин дороге. Она доведет меня до самого Чураева. А дальше… Пока не представляю, что будет дальше. Среди других все чаще мелькает одна тревожная, острая мысль: "Как я покажусь на глаза отцу?. А что скажу знакомым, соседям?" Отец спросит прямо, без окольностей: "Зачем вернулся?.."
Позади послышался шум легковой машины, не оглядываясь, я свернул на обочину. Мимо меня пронесся крытый брезентом "газик", взлохматил улегшуюся за ночь дорожную пыль. "Голосовать" я не стал: в такую не возьмут… Но через минуту машина затормозила, открылась дверца, и кто-то закричал сквозь шум мотора:
— Эй, парень, живо сюда!.. Садись, пристраивайся рядом. Осторожно с узлом, лимоны передавишь. Ну, устроился? Давай, Гриша, нажимай!
Словно сорвавшись с привязи, "газик" бойко запылил по дороге.
Человек, пригласивший меня в машину, сидит рядом с шофером. Я его знаю, это Алексей Кириллович Захаров, второй секретарь райкома партии. Он высок и широк в кости, его рука раза в три больше моей. На продолговатом лице — крупный нос и глубокие морщины; когда секретарь улыбается, морщины выступают резче. А глаза не по лицу — небольшие, прикрытые тяжелыми, чуть набухшими веками. Голос глуховатый, и говорит он не спеша, будто прислушивается к самому себе. Сказать по правде, я не очень обрадовался "попутке", когда в хозяине машины узнал Захарова: начнет расспрашивать, что да как, куда, откуда…
Так оно и вышло. Проехав молча с полкилометра, Захаров вставил в зубы папироску и, не закуривая, обернулся ко мне:
— Не боишься один в такую рань? Хотя… мужчину дорога не должна пугать. Любая!.. Далеко собрался, если не секрет?
Не глядя на него, я пробормотал:
— Домой. В Чураево…
— Ага, вот как! Значит, подбросим к самому порогу? Повезло тебе! А там… чей будешь?
— Курбатова Петра сын.
— А, знаю, знаю его! Отец у ‘тебя на костылях? Ну, правильно… А сам — далеко гулял?
"Началось… Как ему ответить? Сказать, что в гостях был… неприятно лгать. А расспросов так или иначе не избежать. Не сейчас, так после, дома спросят!"
Захаров слушал, не прерывая. В маленькое зеркальце над головой шофера я вижу его лицо, серьезные, внимательные глаза. Когда я кончил рассказывать, Захаров выбросил в боковое окошечко недокуренную папироску, задумчиво протянул:
— Мм-да-а… Неприятная петрушка, прямо скажем.
Тебя как звать? Ага, значит, мы с тобой тезки. Так ног, тезка, я отлично понимаю гною неудачу, — в свое время со мной точно такая история приключилась…
Видя мое недоверие, Захаров чуть приметно улыбнулся, вокруг широкого рта обозначились морщины.
— Не веришь? А было такое дело, не смог попасть и я в институт. Тебе сейчас сколько? Восемнадцать? Мне было примерно столько же, но я мечтал стать агрономом. Отцу хотелось направить меня по преподавательскому делу, а я зарубил на своем: агроном и точка! Да-а… Послал документы в сельскохозяйственный институт, на другой день война началась… Таким вот образом, тезка, и накрылся мой институт, с того времени никак не могу стать агрономом. Теперь вроде и поздно начинать… После войны тоже не до учебы было. Так и получилось, что будущий агроном пахал землю снарядами, засевал ее свинцом, удобрял своей кровью. Страшная это работа, не приводись снова испытать такое! Ох, как помешала мне война…
Вижу в зеркальце: шофер тоже слушает внимательно, не отрывая взгляда от дороги. Шоссе здесь все в выбоинах, машину кидает в стороны, безжалостно трясет.
— Гриша, возьми-ка ближе к той канаве. Во-во!.. Выходит, Алексей, обоим нам не повезло, а? Стало быть, так. Но у тебя, как я понимаю, дело чуточку иначе выглядит: друзья-товарищи учиться поехали, а ты вроде как бы от стаи своей отбился. Бывает такое у птиц перелетных — журавль или гусь от косяка родного отстанет. Ну, мало ли что… — Захаров чуть нахмурился, брови сошлись на переносице. — Молод, силенок не хватило, или страх вдруг взял? Вот ты на время и оказался отставшим… — Он резко обернулся, испытующе посмотрел на меня, в глазах блеснула искорка и тут же исчезла. Отвернувшись, он продолжил с едва приметной усмешкой:
— Молодежь у нас привыкла: окончат десять классов, а амбиции — прямо на академика! Мол, я — не я, и никто мне не родня.
Тут Захаров еще раз обернулся ко мне, спросил в упор:
— Куда теперь думаешь?
Не выдержав его пристального взгляда, я отвел глаза.
— Не знаю. Пока не решил. Год как-нибудь проживу дома, а на будущий… попробую снова.
Захаров кашлянул в руку, помедлил с ответом.
— Правильно, от своего не отступайся! — сказал он наконец, хлопнув по колену рукой. — Думку насчет дальнейшей учебы не бросай, при себе держи. Это — надо! А вот до будущей осени срок немалый, триста шестьдесят пять дней. Дома будешь сидеть? Ты не девка-перестарок: женихов не ждать. Да и отец не позволит бездельничать: не миллионер пока. Нынче, брат, не любят, чтобы человек без дела шатался. Надо тебе устроиться, только вот вопрос — куда?
Этот проклятый вопрос я задавал уже себе тысячу раз, но пока ничего неизвестно, просто плыву по течению, точно сухая щепочка: куда вынесет…
— Мда-а… — протянул Захаров в раздумье. — В районных учреждениях навряд ли устроишься: полно везде, сокращать надо лишних. Я бы не советовал туда: сидеть над протоколами, акты переписывать — самое нудное дело… бумага вконец может засушить человека. Надо тебе, дружок, другую работу подыскать, чтоб по душе! Ну ладно, подъезжаем к Чураеву… Ты, Алексей, не шибко горюй, держи хвост пистолетом, а в случае, если отец расшумится, скажи ему: мол, Захаров обещал устроить на хорошую работу. Понял? Ну вот, давай, действуй!
Он сказал шоферу, чтобы тот свернул на мою улицу, машина остановилась возле наших ворот. В окне мелькнула лохматая голова отца, должно быть, он немало удивился: до сих пор легковые машины у нас не останавливались, некому было ездить…
— Так не забудь, тезка, что я тебе сказал! — крикнул Захаров, прощаясь. Взметнув легкое облако пыли, "газик" рванулся вперед и вскоре исчез за поворотом. Я остался стоять с чемоданом. Теперь самое трудное — встреча с отцом. Знаю наперед: мать ничем не попрекнет, она даже обрадуется, что младший сын вернулся к ней! Наверное, все матери неохотно отпускают от себя детей. А вот отец… Ну что ж, будь, что будет, раз вернулся, мимо дома не пройдешь.
— Отец, я… мне пришлось вернуться.
Он долго не отвечал. Сидел, опустив голову, упорно разглядывая носок своего сапога, и молчал. Это было самое неприятное. Уж лучше бы начал ругаться!
— Вижу, что вернулся, — выдохнул он наконец.
А потом будто кольнул чем-то острым в самое сердце: — Зачем?
— Конкурс, отец… Большой был конкурс. У меня не хватило балла…
Он, кажется, не поверил. Как объяснить ему, что это такое "балл"? Нет, он прав, что не верит. Как это один-единственный какой-то "балл" помешал его сыну стать инженером?
…Отец понуро сидел за низеньким столиком, подавленный свалившимся на его плечи несчастьем. Причиной несчастья был я, его сын. Уж лучше бы он отругал меня. Но он молчит, и от этого мне в тысячу раз тяжелее. Я вижу, ему тоже очень тяжело: в его воображении я уже давно был инженером. Неважно каким, но — инженером!
— Та-а-ак, Олешка… — покачав головой, хрипло вздохнул отец. — Дальше как думаешь? Эх, сын! Человеком хотел тебя сделать! Теперь всю жизнь в земле будешь копаться? Вон, как мы с матерью… А?
В какую-то долго минуты я остро пожалел, что не пошел с Аней Шкляевой в педагогический институт. Как бы там ни было, а все-таки место…
— Работать стану, а на будущий год… все равно поеду учиться! Захаров, секретарь райкома, на работу устроить обещал…
Отец снова уронил голову, глядя в одну точку на полу, сказал безразличным тоном:
— Сам знаешь… Ты теперь не маленький.
Пришла с работы мать, завидев меня, всплеснула руками, спросила встревоженно:
— Господи-и, Алешенька, приехал? Случилось что-нибудь? Неужто заболел?
— Нет, мама, ничего со мной не случилось. Не смог я поступить…
— A-а… Ну и ладно, коли вернулся! Никто тебя из дому не гонит. А уж я подумала, не приключилось ли с тобой чего плохого. Как ни говори, кругом чужие, захвораешь — помочь некому. Мало ли как бывает. Ну и живи с отцом, с матерью, а с учебой, может, уладится…
Всю свою жизнь мать провела в Чураеве, всего лишь раз видела железную дорогу, когда провожала отца на фронт, и представить даже не может, как это в городе люди живут на пятом этаже. Ей очень не хотелось отпускать меня из дома, вздыхала тайком от отца: "Ты уж там, Алешенька, посматривай за собой, не приведи господь, чтобы заболел или что… Чужие — не свои". Теперь, видя, что меньшой ее вернулся живой и невредимый, она обрадовалась, хотя отцу вида не показывала.
Тягостно было в тот день у нас в доме, не передохнуть.
* * *
Колхоз в Чураеве называется "Вперед", Однажды отец невесело пошутил?
— Одно только название, что "Вперед", а который год все назад да назад пятимся!..
Мать часто вспоминала, что до войны дела в колхозе шли хорошо. "Осенью, как справимся, бывало, с работой — развозим по дворам на трудодни всякую всячину: и хлеб, и картошку, и овощь разную. Не знали, куда сыпать это добро, вот как! Война проклятая все порушила, с той поры никак не выправимся…"
А мы со сверстниками войну помнили смутно — слишком маленькими были в ту пору, да и сама война грохотала где-то очень далеко. Уходили туда наши отцы, братья. Кончилась война, во многих домах в Чураеве плакали, голосили по убитым отцам, сыновьям. Не было дома, чтобы не коснулась его война каким-то краем. Взять хотя бы нашу улицу, я могу рассказать о каждой семье.
По соседству с нами живет старая Чочия, никого родных у нее на свете не осталось. Еще молодой она схоронила мужа, с той поры всю свою любовь, все ласки отдавала единственному сыну, жила для него. В войну сын ушел на фронт и пропал без вести. Прислали старой женщине повестку, в сельсовете прочитали ей, что сын числится в списках пропавших без вести. Много лет прошло с тех пор, а старая Чочия все еще не верит, что сын не вернется… Однажды мать послала меня к ней, не помню, по какой надобности. Запомнилось: зашел в избу, а там такая тишина, будто дом нежилой. Я собрался уже уходить, но в эту минуту за печкой что-то зашуршало, неслышно вышла хозяйка — маленькая, высохшая женщина. Смотрит на меня вопросительно, словно ждет, не скажу ли что-нибудь о сыне… На стене висят две большие рамы, под стеклом тесно разложены пожелтевшие фотокарточки. Одна из них увеличена и раскрашена: это пропавший без вести… А рядом — множество разных фотокарточек. Чочия выпрашивает у знакомых карточки и вкладывает в рамку. Ей хочется, чтобы сын красовался среди живых друзей… Под рамами на гвозде висит новенький пиджак и фуражка из того же материала: ждет старая, что вернется сын, и захочется ему пройтись по деревне во всем новеньком! Теперь бы ему давно жениться пора, а сама Чочия стала бы нянчить внуков… А пока, в ожидании сына, она на себе таскает из рощи вязанки дров, ходит по воду с одним ведром: с двумя ей не управиться. Получает небольшую пенсию: пропавший без вести сынок кормит, содержит свою мать…
Дальше, рядом с Чочией — дом дяди Олексана. Такого сильного и здорового человека я еще нигде не встречал. С фронта он, как и мой отец, вернулся с культей вместо ноги, сделали ему протез, но он почему-то не стал им пользоваться, а смастерил простую деревяшку и ходит, тяжело переваливаясь, поскрипывая и занося в бок на каждом шагу свою липовую ногу. В нашем магазине никак не могут подобрать ему костюм по плечу: не привозят сюда такие размеры, продавцы говорят, что дядя Олексан "не стандарт". Отец рассказывает, что в молодости дядя Олексан шутя играл двухпудовыми гирями, подбрасывая и ловя их на лету… А однажды зимой мы с ребятами играли возле колхозных амбаров, и я видел, как дядя Олексан нёс на плече огромный мешок с зерном; не успел донести до весов, деревянная нога оступилась в снег, дядя Олексан как-то странно покачнулся вбок, будто переламываясь в поясе, и тяжело, повалился на землю. Поднялся он не сразу, повернул голову в нашу сторону, и тут я увидел, как из глаз его выкатились большие слезинки, черкнув по скулам, упали в снег… Дом у дяди Олексана маленький, прямо удивительно, как он живет в нём, с женой и пятью ребятишками. Каждый раз, встречаясь с ним, я с болью вспоминаю, как этот большой, сильный человек лежал на снегу и молча плакал…
А еще через двор красуется новенький, из свежерубленых бревен дом. Каждый раз, проходя мимо, я удивляюсь: хватило же у мастера терпения вырезать, выпилить все эти цветочки, кривулинки, затейливые фигурки на наличниках! Хозяин покрасил их в голубой цвет, от этого весь домик заиграл, словно игрушечный. На крыше — высокая мачта с антенной, оттого дом кажется маленьким кораблем, только кораблик этот никуда не плывет, стоит на якоре в зеленой заводи тополей. В доме с резными наличниками живет Волков Архип. Он работает в чураевской промартели не то кладовщиком, не то счетоводом, а жена числится в колхозе, работает по охотке: день выйдет, два нет. Вырабатывает минимум трудодней. Держат они полный хлев скотины, на колхозные луга выгоняют. Волкова в деревне вслух поругивают, дескать, "волк и есть, только в овечьей шкурке". А есть и такие, что завидуют ему: мол, безбедно живет этот Волков, не каждый может так! Часто приходится слышать и такие разговоры: "Что ни говори, а жить надо уметь. Правильное направление должно быть…" А вот как найти это самое правильное направление?
Я мог бы рассказать по порядку о всех людях улицы. Заречная наша улица небольшая, на ней около пяти десятков домов, но люди здесь живут разные. Всех я знаю в лицо и по имени, это и понятно: на этой улице прожиты все мои восемнадцать лет. Я бывал почти во всех домах: заходил к своим друзьям-товарищам или мать посылала за чем-либо. Не был я лишь в доме старого Парамона. Он живет в самом конце улицы, у самой речки, вдвоем со своей женой. О ней среди чураевских мальчишек бытует мнение, как о самой настоящей ведьме. Бывало, летом отправишься с друзьями в ночное, разведешь высоченный костер из старых, сухих пней, и тут ребята постарше нарочно заводят страшные разговоры, и обязательно про Парамонову старуху: кто-то своими глазами видел, как она огненным шаром нырнула в чью-то печную трубу; другой тоже самолично видел, как она, обернувшись черной кошкой, бегала по крышам, а потом кто-то не забоялся и отрубил ей лапу. Оттого-то и ходит теперь Парамониха с перевязанной рукой… Чего-чего не наслушаешься в ночном у большого костра! И все же, собравшись ватагой, мы наведывались в огород Парамона за огурцами, подсолнухами: грядки у него спускаются почти к воде, оттого и вызревали здесь самые ранние огурцы, а шляпки подсолнуха вымахивали с добрую сковороду. Однажды, забравшись в дедов огород, я чересчур увлекся, нащупывая среди листьев большие, прохладные огурцы, и не заметил, как ребята вдруг поспешно убежали. Неожиданно из-за сарая выросла чья-то высокая тень. Метнувшись с грядок, я в два прыжка очутился возле изгороди, одним махом перелетел поверх суковатого вершинника и шлепнулся на спину по ту сторону. В следующую секунду в полуметре от меня вонзились в землю вилы-тройчатки, и я услышал тугой, угрожающий звон стали…
Но одну семью с нашей улицы воина все-таки обошла стороной. Возле моста через Чурайку стоит дом-пятистенок, крытый железом. Кажется, ему не страшны ни время, ни непогода, сруб надежно укрыт тесовой обшивкой, прочно стоит на фундаменте из дикого песчаника. К дубовым столбам ворог прибита дощечка с нарисованной остроухой овчаркой, снизу четкими буквами выведено: "Остерегайтесь злой собаки". В этом доме живет Иван Карпович Беляев — председатель чураевского колхоза "Вперед". Не знаю, которым он здесь по счету председателем после войны. Не везет в Чураеве с председателями выберут нового, немного поработает, и оказывается, что он вовсе не такой, как его расхваливали. Отец говорит, что по этой самой причине колхоз наш пятится взад… Иван Карпович председателем с прошлого года, а до этого он работал в райисполкоме. В годы войны ему не пришлось даже подержать в руках винтовку. Теперь Беляев уже в годах, лицо у него оплывшее и всегда иссиня-багровое, кажется, тронь пальцем — струйкой брызнет густая, точно сок переспелой вишни, кровь…
Но мне сейчас не до чужих — своих дел по самые ноздри. Сидеть сложа руки никто не даст, надо где-то устраиваться. Интересно, какую работу хочет мне предложить Захаров? Уже три дня, как я дома, но нигде еще не был, Захарова тоже не видел. Признаться, было стыдно показаться на улице: чудилось заранее, что каждый встречный станет ухмыляться: ого, мол, инженер-то вернулся!.. За спиной чувствую косые взгляды отца. Он пока молчит, не ругается, но я знаю, что он думает: "Чего же ты, так и будешь сидеть, как девка на выданье? На готовом я тебя долго держать не стану!" Будь что будет, схожу к Захарову!
На улице никого. Идет уборка, в такую пору народ весь в поле. Возле дома дяди Олексана ребятишки шумно играют в "ляпу", гоняются друг за дружкой. Завидев меня, они враз притихли, молча уставились глазенками, но едва я успел пройти мимо, они вновь зашумели с прежним азартом. Им-то до меня нет никакого дела!
Из-за угла выскочил озабоченный, потный бригадир Василин. Завидев меня, он остановился удивленный:
— Эге, Алешка, ты разве дома? А болтали, что учиться уехал! Врут?
Я не сразу нашелся, — что ему ответить, но он сам догадался.
— Ага, ясно! Конкурс и все такое прочее? Ничего, ничего, поживи в деревне, это полезно!.. Отец твой дома? Собрание у нас. Ого, Алешка, дела в артели завариваются, во! — Василий подмигнул нахальным глазом и выставил торчком большой палец. Он всего года на три-четыре старше меня, а вот, поди ж ты, каким индюком держится. Правда, он успел побывать в армии, отслужил свой срок и теперь не расстается с зеленой пограничной фуражкой. А вообще говоря, меня это не интересует, пусть хоть генеральскую нацепит! Мне с ним из одной чашки не хлебать.
— Слушай, Алешка, ты приходи на собрание, там дела будут та-а-кие! Беляеву зададим баньку…
— Некогда мне. В райком иду, к Захарову…
— А Захаров там! Валяй в контору. Вот увидишь, зададут Беляеву тинти-финти!
Вот не везет! Придется идти в контору, а там полно людей… Но раз Захаров там, видно, не миновать встреч с односельчанами. А чему радуется этот рыжий бригадир? Говорит, Беляеву баню устроят. Интересно, за какие дела?
Шагая к конторе, я еще издали заметил, что народу там множество, люди теснятся в открытых настежь дверях, толпятся под раскрытыми окнами, вытянув шеи, напряженно слушают. Пришел даже старый Парамон, над толпой маячит его неизменная островерхая шапка. На меня никто не обратил внимания. Подойдя ближе, я заглянул внутрь конторы. Там тоже тесно; сидят мужчины, женщины, некуда иголку бросить; за столом — Захаров, чуть поодаль от него нахохлился Беляев. Лицо у него мрачное, застывшим взглядом уставился куда-то. Выступал дядя Олексан. Говорил он разгоряченно, выставляя перед собой огромные кулачищи.
— …Каждому хочется по-людски жить! А то что получается? Работаешь, трудишься, а на деле ни тпру ни ну! Вон, у соседей на трудодни получают хлебом по два кило да деньгами, и хозяйство колхозное в порядке, а в Чураеве портки латаем да перелатываем! Что мы, хуже людей? Ответь, Иван Карпович, перед народом ответь: до каких пор у нас такой срам будет продолжаться? Почему мы от людей отстаем? Говори, люди ждут!
В конторе стало тихо, было слышно только тяжелое дыхание множества людей. Беляев медленно поднял голову, пряча глаза, зло выдавил:
— Устал я с вами… Устал, понимаете? Снимайте с должности, ставьте другого!
Ух, что там началось! Каждый кричал свое, среди этого шума можно было разобрать лишь отдельные выкрики:
— Не бойся, снимем!
— Просто не уйдешь, судить будем!..
— Товарищи, тише…
— Судить его! Хватит, доменялись!..
Кто-то за столом постучал чугунной пепельницей, стало тише. Тогда попросил слова Захаров. Когда в конторе все шумели и кричали, он сидел с виду спокойный, покусывал углы губ, раза два искоса глянул в сторону Беляева.
— Спокойно, товарищи, — не повышая голоса, заговорил Алексей Кириллович. — Нам без горячки нужно решить важные вопросы… Вот ты, Иван Карпович, признался здесь, что устал работать с народом. А я бы сказал так: люди везде одинаковые, и зря ты унижаешь, — да, да, унижаешь! — народ. Похоже, что плюешь в колодец, из которого сам же и воду пьешь?
— Правильно, товарищ Захаров, чего там! — выкрикнул кто-то около дверей. Захаров поднял правую руку:
— Подождите, минутку терпения. Вот и я говорю, что люди у нас везде одинаковые — что в Чураеве, что в Буранове или Калиновке. Если так рассуждать, выходит, что ты, Иван Карпович, не очень-то любишь свой народ? И в том, что в вашем колхозе дела идут неважно, виноваты не колхозники, а мы, руководители, об этом надо сказать прямо!
Снова взрыв возгласов:
— Верно!
— Правильно, чего там! Беляев одного себя знает… У них в роду все таковские! Знаем, чем жили…
Захаров снова поднял руку.
— Вот, товарищи, теперь вам предстоит выбрать нового председателя. Смотрите, не ошибитесь. Я не могу заранее ничего пообещать, это было бы неправильно. Знаю твердо лишь одно: нам придется работать сообща, советоваться и решать дела вместе… И если вы сегодня изберете меня председателем своего колхоза, могу пообещать только одно: бездельникам, пьяницам и прочим придется туго. Лучше пусть сразу уходят!
Не веря своим ушам, я оглянулся на людей, стоявших вокруг. Они очень внимательно слушали Захарова, и никому не было до меня дела. Что же это такое происходит? Значит, Алексей Кириллович переходит работать в чураевский колхоз, его выбирают вместо Беляева? Как же так? Ведь он обещал устроить меня на хорошее место! Как же быть теперь?..
Собрание шло своим чередом, но я уже не слушал, о чем там говорили. Голосовали за нового председателя, секретарю собрания пришлось даже выйти на крыльцо, чтобы подсчитать все голоса. А потом народ валом повалил из дверей, оживленно переговариваясь. Мужики гудели, точно рассерженные шмели, а женщин было слышно за две улицы… Подождав, пока все разойдутся, я побрел домой, но меня кто-то окликнул:
— Эй, Курбатов!
На крылечке конторы стоит Захаров, в пальцах дымится папироска. Он возбужден, с веселым лицом обращается ко мне:
— Ты чего, тезка, не здороваешься? Ай-яй, и чему только учили вас в школе. Ну, что нового, рассказывай!
— Нового? Ничего… Шел к вам, в райком…
Алексей Кириллович смял папироску, щелчком отбросил в сторону и сразу посерьезнел.
— В райком, говоришь? Да-а, брат, с этого дня я и сам в райком стану приходить как проситель, за советом да за помощью… Видел, что тут было? Беляева народ выгнал, придется оформлять материалы в суд — грехов за ним набралось немало. Ну, этим займется прокуратура… Да-а, вот оно как получилось. Хотя… неожиданного для меня тут не было — сам согласился. Попробуем поработать в колхозе!
"Знал, что будет в колхозе? Почему же он пообещал мне хорошую работу? Начать работать в колхозе я мог бы и без рекомендации секретаря райкома! Выходит, зря понадеялся…"
Захаров внимательно посмотрел на меня, улыбнулся.
— Вижу, тезка, тебя не очень радует, что меня избрали председателем? А почему, если не секрет?
— Вы… сами приглашали меня в райком, насчет работы…
— A-а, точно… Вот что, Курбатов. — Он помолчал, что-то припоминая или решая трудный вопрос. — Сейчас очень нужен… вернее, нужны грамотные люди, вроде тебя. Иди в колхоз, тезка! Мы с тобой…
Заметив, что я собираюсь возразить, Захаров помахал рукой.
— Стоп! Знаю, что хочешь сказать. С аттестатом зрелости не обязательно в поле навоз разбрасывать, так? Газеты читаешь? Должен знать… Жаль, у нас с этим делом пока туго, неохотно идет ваш брат в колхоз. Одного они не поймут: земля требует грамотных, знающих людей. Не просит, а именно требует! Подумай, Курбатов…
Алексей Кириллович говорил долго. Меня он, конечно, не убедил, в колхоз я не пойду: как же потом с институтом? В конце Захаров сказал:
— Ладно, Курбатов, у тебя в голове крепко сидит институт. Не будем тревожить, пусть остается на своем месте. Придет время — ты будешь там. Но чем займешься этот год? Будешь сидеть в сельпо или районном ЦСУ? Место там, пожалуй, можно было бы подыскать… Но поверь: там ты не усидишь, через недельку-другую сбежишь, обязательно сбежишь!.. Давай, начнем работать в колхозе, подыщем тебе работу по душе. Не понравится — пожалуйста, уходи, держать насильно не будем. А, тезка? Попробуй, потрудись недельку, а там будет видно: понравится — оставайся, а нет — иди в сельпо, помогу устроиться. Но для начала помоги мне. Понимаешь, я никогда не работал председателем колхоза, и если не хватит баллов, тогда меня тоже "фью-ить!" — выставят в два счета. Слышишь? Помоги мне, и я тебе подсоблю, как смогу! Вдвоем куда веселей, а, Курбатов?
* * *
Середина августа, а солнце припекает вовсю. Раньше я этого как-то не замечал: пойдешь, бывало, с ребятами на речку и по целым часам не вылезаешь из воды. Вот и сейчас одолевает мучительное желание убежать на Чурайку, скинуть липкую от пота рубашку и броситься с высокого берега в прохладные волны. Порой начинает казаться, что вода уже ласкает разгоряченное тело, я лежу на спине, в бездонном синем небе плавает раскаленная тарелка солнца, слепит глаза. Вода мягко ласкает, гладит, чувствую, как блаженствует каждая клетка моего тела…
— Эй, Алешка! Уснул там?..
Окрик словно возвращает меня к действительности. Размечтавшись о речке, я забыл о своем деле, в копнителе выросла груда обмолоченной соломы. С силой тяну за веревку, платформа копнителя нехотя поворачивается, из нее вываливается гора соломы. На жнивье рядами стоят уже сотни, а может, и тысячи таких груд.
Вторую неделю работаю на комбайновом агрегате. Обязанности несложные: следить, чтобы солома в копнитель ложилась ровно, а когда он наполнится, надо дернуть за веревку, и обмолоченная солома сама вываливается на жнивье. И еще надо смотреть, чтобы груды ложились строго в один ряд, иначе их потом не соберешь. Вот и все. Главное — не зазеваться. Бывает, чуть замешкаешься, опоздаешь дернуть веревку, а с мостика уже кричит комбайнер Мишка Симонов: "Эй, проснись там!.."
Одно плохо: солнце печет, от моторов несет удушливым запахом перегоревшего масла. Ну, с этим еще можно мириться, гораздо хуже другое: вокруг меня, точно густая мошкара, вьется, порхает легкая полова. От нее никуда не спасешься, проклятая полова забивается в рот, нос, колет за воротом, каким-то образом набивается даже под рубаху. Вечером, придя домой, скидываю сапоги — и там эта вездесущая колючая полова! Должно быть, в моих легких уже целый килограмм ее; в горле и в носу першит, то и дело чихаю, а Мишка со своего мостика машет рукой: "Будь здоров!" Ему там наверху хорошо: обдувает ветерком, полова не мешает, а от палящего солнца спасает брезентовый тент, а я с утра и до самого вечера кручусь, точно в кипящем котле, и не видно конца моим мучениям. Эх, хоть бы ветер подул с другой стороны!..
Мишка Симонов опять что-то кричит. Оглядываюсь — оказывается, не мне, — трактористу. Машины остановились, грохот стих, от непривычной тишины тонко запело в ушах. Откуда-то издалека сквозь звон донесся голос комбайнера:
— Такие-сякие, в бабушку их! И где у них глаза, чем смотрят? С головы шапка слетит — не поднимут, лень-матушка одолевает! Через них, чертей, хедер чуть не угробил!
Причиной столь бурного излияния его чувств оказалось следующее: после весеннего сева кто-то бросил борону в поле, она так и осталась беспризорно лежать среди озими. А во ржи ее и подавно никто не приметил. Хедер комбайна наскочил на неё, трех зубьев режущего аппарата как не бывало. Поминая чьих-то родителей, Мишка с инструментами полез под хедер. Орудуя гаечными ключами, он продолжал нещадно ругаться: "За этот простой небось никто мне ни шиша не заплатит!.."
Я обрадовался случаю подышать чистым воздухом, соскочил на землю и бросился к заправочной двуколке. Сунув руку в солому, нащупал прохладный бок бидона, долго, с наслаждением тянул тепловатую влагу. Не утерпев, зачерпнул горстью и плеснул себе в лицо. Эх, будь я сейчас на Чурайке, честное слово, целый день не вылезал бы из воды!..
К бидону подошел невысокий, крепко сбитый парень — это наш тракторист Генка Киселев, он водит Мишкин комбайн на прицепе. Генка — человек веселый, всегда чему-то улыбается, Мишка как-то в сердцах сказал ому: "Ты, Генка, будто малохольный! Мать похоронишь, и то зубы будешь скалить!" А тракторист пуще того смеется: "Не беспокойся, на твоих поминках слез не пожалею!"
Генка приложился к горловине бидона, долго пил гулкими глотками, напившись, смахнул рукавом капельки с подбородка.
— Что они, соли сюда насыпали? Во, заботу о механизаторах проявляют: не могут ключевой воды привезти! Из Чурайки зачерпнули, ей-богу! С головастиками… Эй, мать-телега, отец-колесо!.. А ты чего приуныл, Лешка? Жарко, голова болит…. Искупаться бы сейчас.
Генка присвистнул, сочувственно вздохнул.
— И голова же у тебя, Лешка! Не голова, а целый сельсовет! Кошка спит, а во сне молоко видит… Да я сам об этом деле, может, со вчерашнего дня мечтаю, чуешь? То-то! И не думай насчет купанья, этот крокодил Симонов все равно не пустит. Он нынче точно волк, который гонится за лосем: не остановится, пока не задерет или сам не издохнет. Ему сейчас трудодни подавай, а до остального наплевать, хоть трава не расти, понял? У-у, жадюга он! — Генка весело рассмеялся, будто радуясь, что комбайнер такой "жадюга", — жадничает, шире штанов хочет шагнуть. Тип, каких поискать!..
Генка одних со мной лет, но работает уже третий год, в шутку величает себя "почетным механизатором". У него от людей нет никаких секретов. Весь он на виду, каждая его мысль, как на фотопленке, проявляется на широком, улыбчивом лице. Симонова он не любит, ругает "скупердяем", отплевывается: "И скажи, пожалуйста, откуда такие берутся? Их не сеют и не садят, видно, сами родятся!.."
— А разве тебе трудодни не нужны, Генка? — интересуюсь я. Выражение его лица на минутку становится серьезным, он внимательно глядит на меня быстрыми черными глазами.
— Мне? Ого, мне они тоже нужны, Лешка, да еще как! Но для меня трудодень… как это выразился недавно один лектор, — не самоцель. Во, здорово сказано! Трудодень — не самоцель, и точка! Я, Лешка, все равно буду учиться. Не нынче, так через год, а все равно буду. Возможностей в свое время не оказалось: отец помер, две сеструхи да мать на моих плечах остались. Теперь подросли, проживут, а я буду учиться… Эх, и до чего же я тебе завидую: у тебя аттестат и все такое! Как говорят, билет в кармане — поезд не уйдет. Весь вопрос в том, на какой поезд сесть…
От комбайна нам кричит Мишка Симонов, машет рукой: видимо, направил хедер.
— Пошли, — нехотя поднялся Генка. — Крокодил машину свою наладил…
И снова грохочет, сотрясаясь всем корпусом, комбайн, нестерпимо палит солнце, проклятая полова не дает вздохнуть, колет потное тело. Стиснув зубы, открываю платформу копнителя. Стога соломы на скошенном поле растут, множатся…
Узнать бы, где сейчас Юрка Черняев, Семен Малков, Рая. Даже письма не напишут. Они, наверно, думают, что я в институте. А мой институт — вот он: болят плечи, спина, в легких, должно быть, все забито пылью, половой…
Рая… Я силюсь представить себе ее лицо, но это мне почему-то никак не удается. Вижу ее волосы — а глаза и остальное будто туманом окутаны; представляю глаза ее, а лицо расплывается… Словно прячется она от меня, убегает. До сих пор чувствую на своей щеке ее поцелуй. Первый. Интересно, могла бы она поцеловать меня вот такого, грязного, запыленного? Наверно, засмеялась бы, и только. Знаю, она очень любит красивые платья. Мать ее работает в колхозе, но Рая в школу приходила всегда чисто и нарядно одетая. Мать старалась, чтобы ее дочь была первой среди нас, хотя бы по одежде. Однажды, это было за год до окончания школы, старшеклассников собрали на прополку колхозной кукурузы. Откуда ни возьмись, в поле прибежала Райна мать. Ого, как шумела тогда тетя Фекла, как она набросилась на Марию Петровну, нашу классную руководительницу. Стыда, говорит, у вас нет, заставляете работать детей ("дети" к тому времени умели вполне прилично управляться с пятидесятикилограммовой штангой!..) Я, говорит, не для того учу свою дочку, чтобы она в грязи копалась, хватит того, что сама всю жизнь прокопалась в навозе, ваше дело — наших деток образованными сделать! Иначе, говорит, для чего мы вам деньги выплачиваем, кормим, поим, одеваем?.. Такое наговорила! Ну, просто слова не дала сказать Марии Петровне. Юрка тогда сострил: "Скорострельность — триста шестьдесят слов в минуту!" Кончив кричать, тетя Фекла схватила Раю за руку и увела с кукурузного поля домой. Мне тогда стало очень неловко за Раю, а самой ей, видимо, ничего… Но в классе у нас не было девчонки веселее, ей в голову приходили тысячи способов нашалить. Она раньше других научилась кокетничать: в разговоре с ребятами голос ее странным образом менялся, и глаза менялись. Было досадно, потому что никакого кокетства от Раи не требовалось: она и без того была красива, удивительно красива…
"Где ты сейчас, Раечка? Почему не пишешь?"
С мостика слышен пронзительный свист, оказывается, в копнителе полно соломы. Рывком тяну веревку…
Черт его знает, зачем я согласился идти на такую работу! А не лучше ли было бы в сельпо каким-нибудь кладовщиком? По крайней мере, там нет этой пыли, сиди себе в прохладе. Покажется жарко — пожалуйста, речка под носом, купайся, сколько влезет. Перед тем как идти работать на комбайне, Алексей Кириллович меня предупредил, что если не понравится, могу в любое время уйти, держать не станут. Попробуй-ка теперь, уйди! Все будут указывать пальцем, скажут: Курбатов попробовал горяченького — сразу убежал в кусты. Не поинтересуются даже, как и почему, а просто — сбежал и все!.. Или проклятая полова одолеет меня, или я выстою! Хорошо, что уборка идет к концу. Я сейчас целиком и полностью на стороне Мишки: давай, жми, крокодил, нажимай, чем скорее кончим, тем лучше! Наплевать, ради чего ты стараешься, загребай хоть миллион трудодней. Лишь бы машины не стояли, а я выдержу!
Под вечер к нам верхом прискакал Захаров. Председателем он без малого месяц, а уже заметно похудел, скулы выставились. Я понимаю — трудно ему. Пожалуй, труднее, чем мне. Мишка Симонов вчера за глаза посмеялся над председателем: "Бабам, которые на льне работают, премиальную надбавку велел выплачивать: за каждый снопик сверх нормы — две копейки… Ха, чудак, в колхозной кассе мыши гнездо свили, а он деньгами разбрасывается. Миллионер нашелся! Нет, чтобы механизаторам побольше… Э, да чего там, не от хорошей жизни уточка задом наперед плавает…"
Оставив лошадь возле заправочной, Алексей Кириллович направился к нам, полез на мостик, стал что-то пояснять Мишке, обводя рукой вокруг. Не понять, о чем они там. Мишка крутит головой, а по лицу председателя заметно, что сердится. Видимо, недоволен нашей работой. Потом Алексей Кириллович перелез через бункер, спустился ко мне, прокричал в самое ухо:
— Ну как, тезка, дела?
Я в ответ мотнул головой: "Неважные, сами видите, что тут творится!"
— Возьми на складе шоферские очки, глазам будет легче. Ничего, бодрись, не сдавайся! Для тебя это самый трудный экзамен! Понял?
К чему он говорит это? Я не маленький, уговаривать не надо. Раз не сумел попасть в институт, как другие, вот и оказался у разбитого корыта… Сам виноват. Ладно, выдержу, будет же этому конец! Председатель снова наклонился ко мне:
— С этим Симоновым глаз держи востро, слышишь? Обнаглел человек! Видишь, какие клинья оставляет на концах? Он, сукин сын, за рекордами будет гнаться, а колхозники — за ним недожинки убирать!.. Ты сюда от колхоза поставлен, будь хозяином… Иначе работу вашу не примем!
Захаров на ходу соскочил с комбайна, еще прокричал что-то, делая знаки руками: мол, держись! Ничего, я буду держаться до конца, не беспокойся за меня, тезка! Не вечно мне торчать возле копнителя, не всю жизнь воевать с осточертевшей половой…
Работать до самого вечера не пришлось. С утра загон казался громадным, глазом не окинешь. Но с каждым кругом он становился меньше и меньше, комбайн неумолимо стриг и стриг золотисто-желтую прическу поля, наконец, остался лишь небольшой, кругов на десять, "хохолок". Удивились мы все трое несказанно, когда посреди "хохолка" обнаружилась солидная плешина, гектаров на пять. Ни единого колоска, лишь кустики пыльно-серой полыни да скудное разнотравье покачивается на ветру.
Моторы замолчали. Снова в ушах тоненько зазвенело. Генка Киселев выбрался из кабины трактора, постоял на гусенице, оглядывая пустошь, затем спрыгнул.
— Вот те на! Посреди поля — алтайская целина! Прямо хоть аэродром устраивай, елки-моталки!..
Мишка что-то долго не слезает с мостика. Перебирает железки, ключами позвякивает, отряхивается от пыли. Потом не спеша спустился, подошел к нам, держа руки за спиной. Стреляя глазами, заговорил:
— Вот что… Почему площадь оставили незасеянной — нас это дело не касается. Был бы тут посев, мы бы его убрали, верно? Значит, гектары эти мы можем… законно себе засчитать! Вам тоже лишние гектарчика не помешают. Согласны?
Блудливо отводя глаза, Мишка хихикнул. Я не знаю, как быть, жду, что ответит тракторист, он тут поглавнее меня. А Генка скорчил рожу и расхохотался:
— Ха-ха, Мишка, долго же ты думал! Ну, шилом масла хватанул!
Мишка зло глянул на Генку, выдавил сквозь зубы:
— Да заткнись ты, клоун!
Генка перестал смеяться, вздохнул и очень серьезно ответил:
— А ведь и всамделе недурно: раз плюнул — и пять гектаров твои. Хоп — и там! Здорово!.. Только не нужны мне эти гектары, Мишка. На черта они сдались? Жадничаешь ты, вот что! Не по зубам куски выбираешь! Что у тебя, брюхо толще, чем у других?
Мишка что-то промычал и, неожиданно боднув головой, кинулся на Киселева, вцепился ему в грудь. Скаля зубы, он размахнулся, чтобы ударить, но тут Генка рванулся что было сил, вырвался. Рубашка его разорвалась от ворота до самого низа, в руке у комбайнера остался серый лоскут. Генка побледнел, крикнул, задыхаясь:
— Ах ты, гад!.. Алешка, чего смотришь!
Я кинулся к Мишке, ухватил его за руку. Он вывернулся, лязгнул зубами.
— Не ввязывайся, дурак! А ну, хромай отсюда, недоделанный инженер!
Матерно ругаясь, Мишка размахнулся, локтем ударил меня по зубам. Во рту сразу стало солоновато, я выплюнул на жнивье сгусток крови со слюной. Генка бегом кинулся к трактору, выхватил из-под сиденья длинный торцовый ключ, с перекосившимся лицом бросился к Мишке:
— Убью!.. Уходи по-хорошему, слышь! Уйди, гад, плохо будет!
Комбайнер побелел, попятился от Генки.
— Ты… Не дури, Киселев! Я ведь так, пошутил, думаю, что скажете. Брось железку, Генка!..
Генка отшвырнул ключ в кабину, не глядя на комбайнера, прошел мимо, кивнул мне:
— Пошли, Алешка!
Мы зашагали домой, по дороге Генка долго ругался.
— Сволочь, рубаху разодрал… Ладно, я ему этот случай припомню! Ух, жадюга!.. Кусок изо рта торчит, а ему бы все хапать да хапать… А ты молодец, Лешка! Меня одного он мог изувечить. Сильный, как бык, ишь рожу наел!..
Киселева я и раньше уважал за честность и неунывающий характер. После этого случая он еще больше вырос в моих глазах. Мы с ним однолетки, но мне кажется, что Генка много старше меня.
— Ну что ты, Генка… Симонова я тоже не люблю.
Пошарив в карманах, Генка вытащил носовой платок с пятнами масла, сунул мне:
— На, утрись, все лицо у тебя в пыли и крови. Людей напугаешь!.. А то давай, пройдемся на речку, а? Искупаемся, сплавим грехи по течению!
Не доходя до речки, он принялся на ходу скидывать с себя одежду, отыскав пятачок свежей, зеленой травки, кинул под ноги. Оставшись в одних трусах, пошлепал ладонями по груди и, точно ступая по битому стеклу, на цыпочках пошел к высокому яру.
— Эх, была не была, двум смертям не бывать, а одной не миновать! Ух!..
Блеснув на солнце смуглым, крепко сбитым телом, он кинулся с яра вниз головой. От брызг над речкой встала маленькая радуга. На середине, реки всплыла Генкина голова, откидывая налипшие на глаза волосы, он крикнул: "Давай, Лешка, следуй примеру!"
* * *
Первое сентября.
В течение десяти лет в этот день я шел в школу, повзрослевший за лето на один класс. Сегодня чураевские мальчишки и девчонки тоже пойдут в школу, будут шумно спорить за места, рассядутся за новенькие, свежевыкрашенные нарты. А я — нет. За десять лет я изучил в школе все пауки, какие полагалось изучить по программе, за что мне и выдали аттестат зрелости. Это, по-видимому, надо понимать так, что я, Курбатов Алексей, стал вполне зрелым, взрослым, учителей мне больше не требуется и что теперь я должен уметь жить самостоятельно. Дорог впереди много — иди по любой!
Да… первое сентября…
В аудитории институтов, университетов, техникумов с утра придут студенты, они тоже займут места за пахнущими свежей краской столиками. Меня среди них не будет. Что ж такого, если один из многих тысяч парней не попал в число счастливчиков? Никто этого даже не заметит.
Сегодня утром непривычно рано под наши окна явился бригадир Вася. Постучав, он позвал меня:
— Курбатов, спишь? Долго, долго нежишься, рабочий класс! Пойдешь со скирдовальщиками снопы подавать, ясно?
Давно скрылась зеленая фуражка бригадира, но я продолжал лежать и с обидой думал: почему я должен слушаться этого рыжего парня и плестись куда-то в поле? Ведь в конце концов уговор с председателем был только насчет комбайновой уборки!
Алексей Кириллович вчера в конторе с мужиками советовался об этом самом скирдовании. Беда наша, говорит, в том, что поля на той стороне Чурайки неровные, овражки да косогоры, Туда комбайн не пустишь, ему и развернуться негде, того и гляди перевернется. Вот и приходится валить жатками, а тут, как назло, дожди зарядили, в поставцах зерно пойдет в рост… Посоветовавшись, решили спасать хлеб в скирдах. Так и сказал Захаров: "Хлеб — он не спросит, каким методом его спасать, — старым или новым, главное — спасти. А сгноим его — народ не простит. Будем скирдовать, небось старики не забыли еще секрета этого искусства?"
Как трудно по утрам подниматься с постели! Кажется, что за ночь нисколько не прошла вчерашняя усталость; болят мускулы шеи, рук, ломит спину… Полежать бы еще! Но опоздаешь на несколько минут — после пожалеешь. При Алексее Кирилловиче дисциплина в колхозе, хоть и не сразу, но заметно подтянулась, люди теперь аккуратно выходят на работу, все реже бригадиры ходят с батожком под окнами. С утра народ собирается возле конторы, перед тем как разойтись по своим местам, рассуждают о том, о сем, мужики торопливо докуривают цигарки. И беда, если опоздаешь на этот сбор: все смотрят на любителя поспать лишних "десять минут", пересмеиваются, с участием спрашивают; "Чего это, парень, глаза у тебя опухли? Спал, спал, а отдохнуть было некогда, а?" Ну нет, я знаю цену этим "десяти минутам"! Откинув одеяло, встаю на холодный пол…
Мать сварила вкрутую пяток яиц, но без чая их невозможно проглотить. Давясь, торопливо завтракаю, а мать в это время штопает мою одежонку: все рвется невероятно быстро. Отец давно встал, горбится на своем сиденье, молча орудует шилом, чинит шлею. Со мной он мало разговаривает, словно и не замечает. Должно быть, думает, что я сам не захотел поступить в институт или не очень старался. Ведь не приехали же обратно мои товарищи — Юрка Черняев, Семен Малков, Рая, они-то сумели поступить, учатся! И отец все еще не может примириться с мыслью, что я вернулся домой и работаю в колхозе. Зря пропали его надежды видеть сына инженером… Таких, как я, должно быть, много, но ведь отец этого не знает! Он, наверно, думает, что было бы лучше, если бы я поступил даже на должность с окладом в тридцать-сорок рублей. Хоть и небольшие эти деньги, но на дороге их не поднимешь… Сергей, вон, уехал на Урал, пишет, что работает на станции грузчиком, прислал домой полсотни… Отец был рад за Сергея: сумел устроиться, молодец!
…Позавтракав, бегу к конторе. Там уже собрались люди, издали заметна высокая фигура председателя. Удивительно, когда он спит? Вечером позже всех уходит из конторы, а утром является чуть ли не самым первым. С каждым днем растет мое уважение к Алексею Кирилловичу, и не у меня одного. Немного времени прошло с того дня, как в чураевский колхоз пришел Захаров, а уже дела в артели заметно пошли в гору. А ведь почти не услышишь, чтобы Алексей Кириллович ругался или грозился кому, — нет, он с людьми очень спокоен, и даже, на мой взгляд, излишне сдержан, а все его уважают и слушаются. Уж такой у него характер: сильный, добрый, но не мягкий. А когда нужно, Алексей Кириллович умеет пошутить, и сам смеется громко, заразительно. Захаров — решительный человек. Вот, например, в колхозной кассе не было денег, но он добился в банке ссуды, и теперь дояркам, свинаркам и колхозникам, занятым на уборке, дважды в месяц аккуратно выплачивают премиальную надбавку. Надоила лишний литр молока — получай за труды, хорошо откормила свиней или скосил хлебов выше нормы — тоже получай. И случилось удивительное: уборку закончили чуть ли не первыми в районе. Давно, очень давно не было такого в колхозе "Вперед".
Весной, в пору самого половодья; бывает, что на повороте реки большая льдина застопорится, перегородив реку поперек; и уже, глядишь, на том месте образовался затор, все новые и новые льдины со скрежетом напирают друг на друга; а мутный поток, ища выхода, перехлестывает поверх берегов. Но стоит разбить баграми одну, самую "главную" льдину, — и с шумом, треском рушится затор, сталкиваясь и шурша, снова плывут льдины по течению, освобождая путь бурливому потоку.
Вот и у нас в Чураеве получилось точно так: Захаров сумел разбить в сердцах людей ту самую "льдину", которая расхолаживала их интерес к артельным делам; поверили чураевские колхозники в нового председателя и тронулись с места, пошли дела в колхозе! Впрочем, поговаривают, что Алексея Кирилловича вызывало районное начальство, выговаривало ему сердито за то, что деньги расходует не по назначению. Может, и правда это, потому что дня два Алексей Кириллович ходил хмурый и с людьми мало разговаривал, не шутил.
Среди собравшихся возле конторы я заметил старика Парамона. Его можно среди тысячи людей отличить по рыжей островерхой шапке, он с ней не расстается даже летом. Настроение испортилось: мне сегодня работать с ним на скирдовании. Забытое это дело — скирдование, а вот у нас без него невозможно: поля за Чурайкой — сплошь горы да косогоры, а меж ними глубокие рытвины, промоины: комбайнами туда не подступиться, и приходится скашивать хлеба жатками, кое-где даже серпами женщины орудуют: не оставлять же хлеб в поле!
Старик Парамон назначен к скирдовальщикам за главного, а мы будем подавать ему снопы. Мы — это я и человек пять-шесть женщин. Компания не очень подходящая… Ладно, дело это ненадолго, зато можно дышать во всю грудь, не опасаясь, что проглотишь горсть половы и пыли!
Провожая в поле, Алексей Кириллович напутствовал меня:
— Ты, тезка, приглядывайся, как работает старик. Теперь таких мастеров по скирдовальному делу днем с огнем поискать! В своем деле он артист, чистый маг! Смекай, ремесло это хоть и отживает свой век, но умение — оно хлеба не просит, всегда прозапас держи.
Усевшись в телегу, мы поехали. Рядом сидит тетка Фекла, меня так и подмывает спросить, есть ли письма от Раи. Но при людях спрашивать об этом неудобно. При случае как-нибудь обязательно спрошу… Но тетка Фекла, будто догадываясь, о чем я думаю, сама примялась рассказывать женщинам:
— Слава богу, хоть дочка у меня в люди выходит. Вчера письмо от нее пришло, пишет, за учение принялись. Не приведется ей в грязи ковыряться да за свиньями прибирать. За нас дети пусть учатся, за них отцы с матерями хребтины свои погнули на веку, охо-хо, как погнули! Сама-то я теперь согласна на сухой корочке жить да в одном платье ходить, лишь бы Раечка моя нужды не видела, не стыдилась бы перед подругами, мол, того у меня нет, да другого недохват… Последнее продам, а дочке своей отошлю!
— Так уж и последнее! Небось старых запасов хватит?! — насмешливо отозвалась одна женщина. Тетка Фекла живо к ней обернулась, зло оборвала:
— А ты, милушка, чужого не считай! Всяк живет, как может.
"Ага, значит, Рая сумела попасть в институт, теперь она студентка… Сегодня первое сентября… она будет сидеть в институтской аудитории. А я вот еду в тряской телеге в поле, где вместе с сердитым стариком Парамоном и ворчливыми женщинами буду скирдовать снопы. А что придется делать завтра, пока неизвестно, — куда пошлет бригадир Василий. И в таком порядке мне предстоит жить целый год. Впереди хорошего предвидится мало, жизнь пока улыбается не слишком".
Между тем тетка Фекла переменила разговор, принялась вздыхать, жалеть меня:
— Эх, Алешка, Алешка, ведь и ты мог бы теперь учиться. Уж как хотелось матери с отцом, чтобы ты дальше пошел… Надо же такому случиться! Видно, не всякому такое счастье. Раечка моя пишет, мол, трудно очень было, желающих много, и оттого, говорит, отбирают не каждого…
У меня даже кончики ушей загорелись, до того было обидно слышать такое. Чего она заладила? Будто не может о другом! Я вовсе не нуждаюсь в ее жалости, а если дочка ее поступила в институт, так это еще не значит, что надо мной каждый может насмехаться. Ну, тетка Фекла, не будь ты Раиной матерью, я бы тебе сейчас такое сказал!..
Неожиданно за меня заступился Парамон. Не выпуская из рук вожжей, он обернулся к женщинам, сердито сверкнул глазами из-под лохматых бровей:
— Нечего тебе зря парня изводить, Феклинья! Человек сам себе голова, авось без твоего языка дорожку свою сыщет! И дочкой своей ты рано хвастаешь, кто знает, какой она станет после учебы. По зорьке наперед не угадаешь, какой народится день — то ли ведро, то ли дождь!..
Тетка Фекла пробормотала что-то вроде: "Господи, и завело же тебя, старого лешака!" — и прикусила язык. А я про себя от души поблагодарил сурового старика.
…В первый же день я убедился, что в скирдовании ничего хитрого нет. На двух-трех телегах подвозят снопы, а мы длинными вилами подаем их Парамону. Он неторопливо и, как мне кажется, нарочно медленно укладывает их рядками. Мог бы поспешить, а то за целый день не завершим одной скирды! Не понимаю, почему Алексей Кириллович с похвалой отзывается о Парамоне? Ничего особенного, старик топчется на одном месте и лишь чуть-чуть подправляет снопы, только и всего. Пожалуй, я бы тоже не хуже его справился с этим делом. В школе по геометрии мы изучали такие фигуры — конусы и решали задачи: вычисляли объем, высоту… Подаем снопы, старик рядками укладывает их по кругу, скирда — "конус" на наших глазах поднимается, растет. Интересного, в общем, мало. Нет, старика Парамона артистом я бы не назвал. Приходилось слышать, что скирдовальщику надо быть большим мастером, а тут, как я убедился, дело обстоит куда проще: клади снопы рядками, по кругу, вот и вся премудрость!
К полудню завершили кладку первой скирды. Старик Парамон связал вместе два снопа, поставил их торчком на самой верхушке скирды — получилось, будто на великана нахлобучили кукольную шапочку. Сам Парамон по шесту осторожно спустился на землю, отошел в сторонку, по-петушиному склонив голову набок, придирчиво осмотрел свое "творение" и молча сплюнул.
Обедать решили в поле: Парамон сердито объявил, словно отрезал: "Нечего ездить домой в такую даль, зря время тратить". Женщины уселись в тени под скирдой, из холщовых мешочков достали нехитрую еду: хлеб, молоко в пол-литровых бутылках, яйца, огурцы. Парамон устроился поодаль, по-стариковски заботливо подложив под себя увесистый сноп. Раскрыл кожаную, до блеска потертую сумку, заглянул в нее с недовольным лицом, что-то пробормотал под нос. Затем достал из сумки завернутый в тряпочку стакан, долго возился, развязывая узелочек. Тряпочку и суровую нитку бережно сунул в карман. Я лежу в телеге, краешком глаза наблюдаю за ним. Досада червячком шевельнулась в груди: ну и скупердяй, старый хрен! Жалко ему выбросить кусочек нитки… В стакане с верхом наложено что-то желтое, я догадываюсь, что это масло. Потом старик вытянул из сумки еще один стакан, также старательно завернутый в тряпочку и обмотанный ниткой. И снова томительно долго возился он с ним, а тряпочку с ниткой сунул в карман. В стакане искристый свежевыкачанный мед; отрезав стареньким складным ножичком ломоть от каравая, старик принялся есть… Не выдержав, я отвернулся, судорожно глотнув слюну. Дело в том, что у меня не было с собой ничего съестного. Уходя утром из дома, я сунул в карман ломоть хлеба, но еще по дороге незаметно отщипывал от него по кусочку, да так и съел… Лёг, отвернувшись, закрыл глаза, чтоб не видеть, как едят другие, а запах огурцов так и щекочет в носу… Черт, знай я, что на обед не приедем домой, захватил бы целый каравай… Слышу, как обедают женщины, и от голода начинает сводить в животе. А те едят молча, сосредоточенно, отпивая молоко из бутылок… Не вытерпев этой пытки, я слез с телеги и направился на другую сторону скирды.
— Лексей! — окликнул Парамон. — Ну-ка, поди сюда. Ты чего не обедаешь с людьми?
— Да так… Чего-то не хочется.
— Хм, вот те на! Рабочий человек, и вдруг — неохота? Ты меня, старика, не охмуривай, я все вижу. Знаешь, кому бывает неохота есть? Кто не работает, день-деньской бездельничает. Вот им-то еда никак не идет, и стараются по-всякому живот свой обмануть: лаврового листа положат, горчички подмешают, перчиком посыплют, а ежели и это не помогает, стопочку внутрь принимают. Дескать, для вызова аппетиту, будто аппетит этот самый вышел куда-то на часок, и обязательно надобно его обратно вызвать. А рабочему человеку хлеб с солью — наипервейшая еда, за ушами пищит, во как! Кто хлебом питается, до самой смерти здоровый бывает, не шляется по курортам. На-ка бери, вот, закуси… А наперед знай: в поле без хлеба не ходят!
Отрезав добрый ломоть хлеба, старик положил на него кусок масла, нацедил меду и сунул мне.
— Давай, работай. А то как же? Бери, бери, нечего корежиться, чужих тут нет… Бывает, временем и ломоть за целый каравай сходит!
Я не стал "корежиться", взял ломоть. Эх, и до чего же вкусным показался мне этот хлеб! До сих пор не приходилось пробовать ничего подобного. Правда, в детстве мать частенько давала хлеба, намазанного маслом, но то было совсем другое. А здесь я впервые понял, до чего может быть вкусным ржаной, домашней выпечки хлеб с кусочком желтоватого, тоже домашнего масла!
Старик Парамон кончил обедать, старательно обмотал стаканы тряпицами, надежно завязал и сунул в сумочку. Крошки хлеба с колен он тоже бережно собрал в ладонь и высыпал в рот. Затем незаметно покосился в мою сторону и торопливо, будто отмахиваясь от слепня, перекрестился. Я сделал вид, что ничего не заметил. Старый человек, пусть молится, дело хозяйское… Я в бога не верю, никогда не молился, да и не умею, а дома у нас в углу за перегородкой висит маленькая потемневшая иконка: мать иногда вспоминает о боге и тоже торопливо, о чем-то нашептывая, молится. Что она шепчет своему богу, о чем просит — этого я не знаю. А вот чтобы молился отец, я ни разу не видел. По-моему, мать тоже крестится в свой угол лишь по привычке. Вот и старик Парамон украдкой помахал рукой, вроде помолился. Верит он в бога? Вряд ли. У нас в Чураеве верующих мало, во многих домах икон нет; до войны, говорят, церковь была еще открыта, а сейчас в ней стоит локомобиль, промартель пилит тес. А мы, молодежь, никогда в настоящей церкви не бывали и не верим ни в бога, ни в "тот свет". Да и некогда нам думать о "том свете", потому что очень много дел на этом!
Не успели управиться с обедом, как прискакал бригадир Василий. Я недолюбливаю этого рыжего парня, он это чувствует и тоже старается при случае показать: мол, аттестатов у нас нет, а работаем не хуже!
Соскочив с седла, он весело осклабился!
— Приятно вам кушать!
— Опоздал, Васенька, видно, плохо про нас думаешь! — отозвалась тетка Фекла.
Василий запрокинул голову, оглядел готовую скирду.
— Да-а, Парамон Евсеич, скирда получилась, ну, как бы сказать… на все пять! Как яичко! Никакой дождь ей не страшен, это точно.
Бригадир явно старался польстить старику, А тот молча кашлянул в кулак и не ответил. Должно быть, подумал про себя: чего зря треплешь языком, без тебя знаю, что хорошо.
Василий болтает без умолку, мне тоже это не нравится, Голос у него хрипловатый, точно проснулся минуту назад, хочется сказать ему: да прокашляйся ты сначала хорошенько! Непонятно, за какие достоинства Алексей Кириллович терпит его?
— А вы еще не слыхали новость? Сегодня судили Беляева!
— Ивана Карповича? — чем-то встревоженная, спросила тетка Фекла.
— А кого еще? Не станут же судить за его грехи меня! Пришили Беляеву трехлетку.
— Ой, господи-и! — покачала головой Березина. — Хорош ли, плох ли, а все равно жаль. Что ни говори, а живой человек, да и семья…
— Нашла по ком плакать! — зло оборвал ее старик Парамон. — Хватит, наел шею на чужом, пожил в охотку. Мало ему трех лет, вот что я скажу! Беляйская родня с давних пор привыкла по-воровски жить, дед ихний разбоем занимался, человека жизни решил… Таковские они, вся порода один к одному, Иван туда же!
Старик сердито сплюнул, рывком поправил шапку, надвинув на самые глаза.
— Ой, страсти какие рассказываешь, дед, помолчи-ка лучше! — Березина заступилась за бывшего председателя. — Человека зазря очернить — дело простое. В соседях живем, уж кому, как не мне, знать, каков человек Иван Карпович. А коли в колхозе не управился, так что же, — не с ним одним такое приключилось.
— В самом деле, интересно, откуда Парамону Евсеичу известны темные стороны жизни Беляева? — недоверчиво спросил бригадир. — Человека засудили, теперь его всякий может лягнуть, наплести что угодно. А если тебе что известно, надо было на суде рассказать, а не тут, перед бабами! За глаза-то просто, а ты попробуй в глаза!
— В глаза, говоришь? — у старика задрожала бородка. — Хоть и пожил я на свете больше твоего, Васька, а еще хочется походить по земле, вот что скажу тебе! Попробуй, заикнись я о проделках Беляева при нем самом, пока он в силе был, — сжил бы он меня со света, ей-ей! А сила у него имелась, потому как не один действовал, друзей-товарищей имел везде… Дед его при царском режиме в открытую бездельничал, рассказывали, купца заезжего безменом кокнул, а деньги — в карман. Отца Ивана Карповича знаю с малых годков, рос он и в люди выбирался на моих глазах. Крепко они жили, держали шестерку лошадей. А как революция произошла, стали добро свое хоронить по надежным людям, потом в одну ночь дом ихний начисто сгорел. Сказывали, будто сами пустили петуха красного… После дом попроще срубили, чтобы от бедноты особо не выделяться. Попритихли, пережидали времечко. При Колчаке белый офицер отца ихнего застрелил из нагана: золота требовал, а Беляев отказывался, дескать, не имею ничего.
Так и пропал через жадность свою. Семку ихнего, сына старшего, белые с собой забрали, а может, и добровольно ушел, кто теперь разберется, дело давнее… А Иван в ту пору на пасеке хоронился, через это жив остался. После, как Советская власть окончательно победила, Иван на сельских сходках бил себя в грудь: мол, я больше всех от беляков пострадал, отца моего убили, брата силком забрали!.. И стал он у нас самым отчаянным активистом, выбирали его на разные должности. До председателя сельского Совета дошел, а тут как раз война. И до этого он бездельничал, старался урвать себе кусок пожирнее, а в войну вовсе распоясался. Церковь когда закрывали, Беляев самолично проводил опись имущества. Потом поп Василий жаловался в милицию, что чаша золотая для причастия в опись не попала и еще кое-что дорогое из церковной утвари. Наводили справки, да все бесполезно. Вот как хозяйствовал ваш Иван Карпович… Я-то все это видел, в соседях живу, только с другого боку. В войну что он выделывал — всего не расскажешь! Народ голодал, лебеду ел, а к нему ночами хлеб возами подвозили, а потом ночью же в город переправляли, за большие тыщи продавали…
Парамон умолк. Бригадир смотрел на него широко раскрытыми от удивления глазами; женщины тихонько охали, о чем-то шептались. Василий сокрушенно помотал головой:
— Эх, вот бы тебя, дед, свидетелем в суд! Беляю не отделаться бы тремя годами ни за что! Да разве о таком деле молчат, Парамон Евсеич? Зря, честное слово, зря не пошел в свидетели!
— А меня и не звали! — отрезал старик и отвернулся.
— Вот черт, не знал я! — продолжал сокрушаться бригадир. — Посмотреть на Беляева — человек вроде бы смирный, степенный, слова лишнего не скажет. А он, оказывается, без мыла может залезть куда угодно…
Василий оглядывается вокруг, ища поддержки. На этот раз я с ним был согласен; надо было Парамону Евсеичу явиться в суд и рассказать все. Зря он говорит: "Меня никто не звал". В таких случаях и не следует дожидаться, пока позовут, а идти самому.
Тетка Фекла тяжело поднялась, заохала, стряхнула с подола зацепившиеся колосья.
— Ой, ноги отсидела… И найдешь же ты, дед, о чем языком молоть. Посадили человека, так чего после-то балясы точить? Мели, Емеля, твоя неделя! Нечего попусту на человека напраслину возводить! Хоть и судили Ивана Карповича, а все равно жалко, не такой уж плохой он был человек. С седой-то головой каково в тюрьму сесть?
Парамон оглянулся на женщину, еще раз сплюнул и растер плевок.
— А ты как думаешь, Фекла, от одних только добрых дел седеют люди? — ядовито спросил он. — Воры — они тоже, бывает, с седой головой ходят, заметь-ка это! Ты на волосы не смотри, а заглядывай поглубже, в душу… А сказать по правде, мне понятно, отчего ты по нем слезу роняешь!
Фекла моментально вспыхнула, полные ее щеки залило краской, губы задергались; гневно сверкнув глазами на Парамона, закричала:
— Тьфу на тебя, старый лешак! Уж помолчал бы, людей не смешил! Из ума-то выжил, а туда же языком…
Парамон спокойно продолжал:
— Не зря же ты раскипятилась, Фекла. Значит, правда глаза колет. Не отпирайся, перепадало и тебе от Ивана. Самогонку ему кто поставлял? То-то, молчишь! С хлебом туго было, а тебе Иван мешками подбрасывал.
— Свое получала, заработанное!..
— Опять же неправду говоришь, Фекла! Люди по стольку не получали. Молчать бы тебе да помалкивать. Жрал Иван Беляев из большущей миски и тебя заодно подкармливал… Думаешь, зря жена Ивана от ревности бесилась? То-то!
Березина осеклась, уничтожающе посмотрела на Парамона и отошла, бормоча по его адресу проклятия. Остальные женщины о чем-то шептались между собой, кивая в ее сторону. А старик, подняв с земли сумочку, пошел выбирать место для новой скирды. Бригадир помялся, хотел о чем-то спросить деда, но передумав, взобравшись в седло, хлестнул меринка, уехал.
А мне после рассказа Парамона стало не по себе. Не из-за Беляева — черт с ним, раз заслужил, правильно сделали, что посадили — нехороший след остался в душе от слов старика: "…жрал Беляев из большущей миски и тебя прикармливал". Неужели так оно и было? Если так, тогда понятно, откуда брались красивые Раины наряды… В такое время, как нарочно, припоминается прошлое. Однажды Рая пришла в школу в лаковых туфельках, похвалилась перед подружками: "Сшили в артели, тридцать рублей стоят…" Кто-то насмешливо спросил: "У вас заем что ли выиграл?" Рая обидчиво поджала губки, чуть не со слезами выпалила: "По людям не побираемся, своего хватает. И нечего чужие деньги пересчитывать!.."
Неужели старик Парамон сказал правду?
Невеселые мысли не давали покоя. У кого узнать? Будь Рая здесь, спросил бы ее: "Рая, скажи, это — правда?" Но она далеко и даже не пишет писем. Почему не пишет? Каждый день вспоминаю ее, хочу видеть. Любовь? Неужели она такая? Нет, не хочу думать о Рае плохо. Мы всегда, всю жизнь будем жить с ней рядом, не теряя друг друга. А дальше? По правде, пока я затруднялся сказать себе, как будет дальше… Просто мы будем жить вместе, вот и все… Могу ли я в чем-либо обвинить или упрекнуть Раю? Ведь если мать покупала ей новое платье или обувь, она, должно быть, не расспрашивала, как и откуда, на какие деньги куплена обновка. Просто она радовалась покупкам и носила, ни о чем не задумываясь. Да, Рая любила красиво одеваться, оттого она становилась еще красивее. Если даже ее мать и была замешана в каких-то темных делах Беляева, Рая тут ни при чем!
* * *
Четвертый день я работаю на скирдовании. Работа однообразная: знай подавай вилами снопы, конца этому не видно. В поле рядами стоят ровные, похожие один на другой скирды-близнецы. Они смахивают на шляпки гигантских грибов, мощно выпирающих из земли. Старик Парамон, конечно, геометрию не изучал, о тригонометрии даже слыхом не слыхал, а скирды у него получаются будто по математическому расчету. Пожалуй, теперь я согласен с Алексеем Кирилловичем: старик в своем деле оказался настоящим мастером. Зря я плохо подумал о нем: Парамон на самом деле не такой уж вредный и злой старик, ко мне он относится хорошо. Про случай с огурцами в огороде я ему не напоминаю; а сам он, видимо, давно забыл…
Алексея Кирилловича Парамон хвалит, говорит, что новый председатель землю понимает и уважает, а это для председателя штука немаловажная. И добавляет: "При Беляеве я на колхоз махнул рукой. А что с меня возьмешь? Из рабочих годов я давно вышел. На меня тоже махнули тем же концом: мол, сиди на печи да ковыряйся в золе… Так бы и просидел остаток жизни, а тут гляжу — хороший человек пришел к нам, помочь ему надо по мере сил, возможностей…"
Я давно замечаю: тянутся к Алексею Кирилловичу люди, с его приходом они словно пробудились от тягостной дремоты. Сами напрашиваются бригадиру: "Куда нынче назначишь, на какую работу?" Все увидели:, дела в колхозе пошли на поправку, трудодень из простой палочки стал превращаться в рубли, пуды… При Беляеве бригадиры с ног сбивались, бегая под окнами, а сейчас рыжий Василий чинно-важно разъезжает верхом, лишь изредка стучит по наличникам: "Дома кто есть? Тетка, на прополку собирайся!" Да, многое, оказывается, дано сделать даже одному человеку. Конечно, меня ни в какое сравнение с Захаровым брать нельзя: он председатель, в его руках большая сила, что он скажет — другие выполняют. А я? Что я могу сделать своими руками?..
Мы закончили кладку очередной скирды, и тут старик Парамон подозвал меня к себе.
— Этак мы, Лексей, до самого снега не управимся. Сегодня подавальщиков хватает, давай-ка, примись навивать свою скирду.
— Как свою? Мне самому? — растерялся я.
— А то кому же? Мудреного в этом деле немного… Давай, с легкой руки — полпуда муки! Зачин я тебе сделаю, а остальное доделаешь один.
Ну вот, лиха беда начало! Теперь я как бы начальник: четверо женщин подают вилами снопы, кидают к моим ногам, а я укладываю их рядками, но кругу. Чуть замешкаешься с одним снопом, а над головой уже свистит колосьями другой, за ним третий. Знай только успевай укладывать! Надо следить, чтобы снопы ложились ровно, не оставалось между ними щелей, чтобы кладка получалась точно по окружности, чтобы… Перед тем как разрешить мне кладку, старик обстоятельно втолковывал свои "секреты", но стоило начать, как все советы вылетели из головы. Через четверть часа рубашка на мне взмокла, хотя денек сегодня не из жарких… Укладываю снопы, а в голове крутится одно: "Не забыть — скирда должна все время расти точно по кругу. Начиная примерно с середины, она должна постепенно и равномерно суживаться… Точно по кругу. Формула площади круга пи эр квадрат. Помни: пи эр квадрат…" Забывшись, я помедлил со снопом, и в этот момент следующий сноп ткнулся мне в лицо колючим комлем. Из глаз выжались слезы, я закрыл лицо руками, а снизу кричат:
— Эй, Алешка, уснул там? Гляди в оба, не зевай!..
Скирда уже высокая, подавальщицам меня не видно, они, не глядя, закидывают снопы наверх. Надо быть осторожным, шутя можно остаться без глаз или получить вилы в бок… Между делом поглядываю в сторону Парамона Евсеича — он от меня метрах в двухстах завершает свою кладку. Старик привычно нетороплив, наклоняется за снопами будто нехотя, а скирда у него заметно выше моей. И когда он успел? А ведь я стараюсь работать без передышки, без конца танцую по кругу, укладываю бесконечную вереницу тяжелых, налитых зерном снопов (должно быть, в каждом не меньше полпуда веса!), пот градом катится по лицу, а до завершения скирды далеко. Придется поднатужиться, неудобно отстать от старика. Только бы не забыть: пи эр квадрат…
Парамон уже нахлобучил на свою скирду "шапочку" и спустился вниз. Смотрит издали в мою сторону, а идти — не идет. Но вот еще рядок, и скирда моя тоже готова. Сделав аккуратную шапочку, насаживаю ее на голую макушку огромного гриба и, цепляясь за колючие комли снопов, спускаюсь на землю. Вблизи скирда выглядит аккуратной, она крепко стоит среди жнивья, выпячивая пузатенькие, сытые бока. Получилась кладка, честное слово, получилась!
Стараясь не показывать вида, я направился к старику. Для пущей важности насвистываю, но губы сами растягиваются в улыбку. Ну, конечно, старик сейчас начнет хвалить меня, дескать, молодец, хорошо справился с первым почином. Ну, скажем, для меня это дело оказалось не таким уж сложным: как-никак, а геометрию я сдал на пятерку, в любое время могу ответить без запинки, с чем кушают этот самый "пи эр квадрат".
— Кончил? — коротко спросил Парамон.
Я молча кивнул: как видишь, стоит.
— Вижу, вижу, — усмехнулся старик. — Только отчего это, Лексей, скирда твоя… будто кланяется кому? Уж не самому ли тебе, а?
Я живо обернулся, взглянул на свое "творение", и горячая волна пробежала по спине, добралась до самого затылка. Смотрю и не верю глазам: издали скирда выглядит совсем непривлекательной, самое же главное — верхняя ее половина подалась куда-то вбок, точь-в-точь как старая рыжая шапка на голове деда Парамона! Удивительно, как еще она не валится? Конечно, стоит подняться сильному ветру, и тогда… Вот тебе и геометрия с применением тригонометрии. Вот тебе пи эр квадрат! Опозорился, сел в лужу! Убежать бы сейчас, куда глаза глядят, чтобы люди не видели… Но ведь скирда останется стоять на месте, люди будут указывать пальцами и смеяться: "Смотрите, смотрите, эту уродину сложил Алексей Курбатов!" Мне было так же стыдно и горько, как в тот день, когда провалился на экзаменах в институт…
А старик Парамон продолжает молчать. Было б лучше, если принялся бранить: мол, если руки кривые, так и не брался бы! Но он молчит, искоса поглядывая на меня выцветшими глазами.
— Ну, это еще куда ни шло! — сказал он наконец. — Смолоду со мной и не такое было… Взял меня отец в поле, показал, как скирду навивать, а сам и говорит: "Ну, Парамоша, приступай к крестьянскому ремеслу. Не век тебя за руку водить, один привыкай…" Поставил я две скирдушки, а под вечер приезжает отец, работу мою принимать. Постоял он, поглядел, а потом поднял жердину да как спихнет меня со скирды. Не помню, как на землю летел, бок весь расшиб, дыхнуть не могу. Отец на все поле кричит, По-всякому кроет меня: такой-сякой, мало еще тебе досталось за такую работу, на одной мякине тебя надо держать, ежели к хлебу бережливости не имеешь, сукин сын! Было всякое, Лексей… Зато были в мое время настоящие мастера по скирдовальному делу, по-нынешнему — вроде инженеров. Стояли скирды, особенно у богачей, годами, на них уже молодые березки растут, а откроешь сверху — сухо, будто вчера сложили! Что говорить, умели дело делать… И если человек мог самостоятельно сложить скирду, то считался он уже настоящим, дельным мужиком. На скирдовальном деле вроде как экзамен держали. А то как же? Хлеб — он требует труда, большого уменья. Пока рубашка на тебе сухая, то и хлеб без соли покажется… Ты, Лексей, прытко работаешь, а сноровку пока не имеешь. В этом деле глазомер нужен, понял?..
— Понял, Парамон Евсеич. Спасибо…
А на душе все равно было скверно. Колола, лезла в глаза кривобокая скирда, точно кланялась издевательски: "Не умеешь — не брался бы!"
После обеда Парамон сказал, что работать по-прежнему будем врозь, на два постава. Видя мое уныние, старик усмехнулся: "Ничего, постигай крестьянскую премудрость…"
С упавшим сердцем навиваю вторую скирду. В голове неотвязно крутится одно: "Если снова не получится? Выйдет, что не по плечу мне крестьянская премудрость?" Женщины-подавальщицы, видимо, поняли мое состояние: не торопят, снопы подают осторожно, а время от времени участливо подсказывают: "Алеша, подправь тот снопик. Вот теперь хорошо!" Они делают вид, что ничего не произошло, а я до слез благодарен им за это великодушие. Несколько раз я спускался на землю, со стороны придирчиво осматривал свою вторую скирду. Пока все шло нормально. На душе стало веселее, и уже по-новому заиграли мысли: "Что ж такого, если первый блин получился комом? С кем не бывает? Ничего… второй обязательно должен получиться!" Постепенно стал верить самому себе. Посматриваю в сторону Парамона Евсеича: ага, отстал от него на два-три рядка, не больше. Попробовать догнать его? Надо сказать женщинам, чтобы подавали быстрее. Ничего, Алешка, на этот раз у тебя получится!
— Эй, тетушки, миленькие, подавайте живее! Соседей надо нагнать! Подава-а-ай…
Женщины внизу весело засмеялись: "Ишь ты, парень-то ожил!" Через минуту снопы действительно так и посыпались на меня, успевай только поворачиваться. Я ловлю их на лету, веселый задор охватил меня, точно раскручивается во мне стальная пружина, и я кричу:
— Давай! Пошевеливайся-а!..
А снизу в ответ:
— Эй, берегись там!
— Держи еще!
— Лови, парень!..
Снова оглядываюсь на соседей. Ага, там тоже зашевелились. Работа пошла наперегонки — кто кого! Эге-гей, держись, дед Парамон, обгоняем!
И вот скирда готова. Встав на самую макушку, я сдернул с головы кепку, смахнул с лица жаркий пот.
Вскоре и дед Парамон надел на свою скирду "шапочку" и спустился вниз. С минуту он стоял, придирчиво оглядывая мою скирду, потом подошел, сел рядом.
— Кончил, значит?
— Кончил. — На этот раз я был осторожен.
Старик помолчал. Сидим мы с ним рядышком, оба молчим, чувствуя, как усталость волнами охватывает тело. Мне и раньше приходилось замечать: уставшие люди в минуты короткого отдыха больше молчат, изредка перекидываясь словами. Но это — мужчины. А женщины — те и во время отдыха болтают без умолку.
Наконец старик Парамон, кряхтя, поднялся и проговорил, глядя в сторонку:
— Ты, Лексей, того… по мне не равняйся. Ежели силу в себе чувствуешь — вперед нажимай. За день ты, я вижу, три скирды свободно поставить можешь, потому как сила в тебе молодая… А эта твоя скирда постоит сколь хоть, и ничего с нею не случится…
Я слушаю слова старика и стараюсь оставаться спокойным, но в душе поет, нарастает радость, вот-вот готовая вырваться наружу. Будь я в поле один, честное слово, пустился бы в пляс!.. Хоть и не сказал старик прямо, но теперь я и сам вижу: ом доволен мною. Значит, я сдал первый экзамен по предмету, который называется крестьянской премудростью. А экзамен этот оказался куда более трудным, чем те, которые я сдавал на аттестат зрелости…
Смотрю на свои руки: они у меня теперь имеют совсем другой вид, чем год или два назад. Сошли с них чернильные пятна, тыльная сторона в кровь исцарапана сухой колючей соломой, а на ладонях кожа стала глянцевой, с темными и твердыми бугорками мозолей. Такими руками удобно ухватить топор, вилы или штурвал комбайна — любой инструмент лежит в ладонях, точно влитый в форму. Мне становится попятным, почему так неумело держат ручку тс, кому приходится иметь дело с топором; лопатой, и отчего буквы у них получаются неровные: кожа на пальцах и ладонях становится грубой, она не ощущает тоненькую, легкую палочку-ручку…
Домой я возвращался поздно вечером. Иду не спеша, пиджак закинут через плечо, ворот рубашки расстегнут; обычно так возвращаются у нас с работы мужчины, давая свободно подышать уставшему за день телу. Я не оглядываюсь по сторонам, вижу лишь дорогу перед собой: если кому нужен, тот сам должен заметить и окликнуть меня. Я иду домой — усталый работник, мужчина. Случись в эти минуты встретиться со школьными товарищами — интересно, что бы они обо мне подумали? Впрочем, знаю твердо лишь одно: мне нечего было бы стыдиться их. Пусть все видят: идет с поля хорошо поработавший человек. У моей матери есть песня, она рассказывает, что под эту песню когда-то укачивала меня. Вот она:
Спи, мой милый сыночек, Золотой мой комочек, Скоро вырастешь, сынок, С топором пойдешь в лесок, А в лесу, мой золотой, Свалишь старую сосну. Я тебе, сыночек мой, Хлеба с маслом поднесу…В детстве я очень любил хлеб с маслом. Бывало, мать собьет масло и щедро намажет на хлеб: "Ешь, сынок, набегался, устал". Сегодня я иду домой уставший: нешуточное это дело — поставить две скирды. Интересно, догадается мать угостить любимым лакомством? От этой мысли стало смешно: нет, конечно нет, потому что хлебом с маслом угощают только малых ребятишек…
Возле конторы кто-то окликнул: "Алешка, зайди на минуточку!" У окна стоит учетчица Тоня, машет рукой.
— Ой, посмотрите, какой гордый, и головы не повернет! Загордился, Алеша, да? — насмешливо встретила меня девушка. — А у меня припасено что-то интересное для тебя. Пляши!
"Письмо!" — обрадованно догадался я. Но Тоне своей радости не показал, пожав плечами, спросил нарочно безразлично:
— Не ври, Тоня. Что у тебя может быть для меня?
А девушка хитро подмигивает и грозит пальцем:
— Ой, Алешка, никудышный из тебя артист! Знаю ведь: о письме подумал? Ведь правда? И знаю даже, от кого ждешь!
— Ничего ты не знаешь и болтаешь зря! За этим только и позвала? Мне с тобой трепаться некогда…
— Ой, какой быстрый! Подождешь!
Она разложила на столе какую-то ведомость, водя пальцем по бумаге, отыскала мою фамилию.
— За август, сентябрь тебе начислено авансом тридцать два рубля восемьдесят копеек. Распишись вот здесь… Ну, чего уставился, меня не видел? Твои они, твои!..
Целых тридцать два рубля! Вот они, лежат в кармане — новенькие, хрустящие бумажки. У меня в руках никогда еще не бывало враз столько денег. До сих пор я просил денег у отца, а отдавать не приходилось. Эти — мои, заработанные! Теперь отец не станет коситься: приду домой, молча выложу на стол целую кучу денег: возьми, отец, я заработал их. Хотя нет, сделаю иначе. Надо купить родителям подарки: от первой получки должна остаться добрая память. Да, куплю отцу и матери подарки, а себе пока подожду, успеется: ведь получка эта — не последняя!
На базарную площадь я прибежал запыхавшийся. На мое счастье, промтоварный магазин был еще открыт, продавец пересчитывал дневную выручку, собираясь уходить. Он недовольно посмотрел на меня поверх очков, наверно, подумал: "Зря зашел, парень, видишь, торговля закончена. Да и покупатель ты, по всему видать, копеечный".
Растерянный, стоял я перед полками, доверху заваленными товаром. Здесь всего полно, попробуй, выбери самое нужное!
— Ну что, дорогой? — спросил продавец, покончив с деньгами. — Прошу поторопиться-, магазин закрывается.
— Мне бы что-нибудь… ну, чтобы женщине…
— Ага, подарок девушке! Пожалуйста, есть косынки газовые, шелковые. Как раз то, что требуется. Девушкам нравятся. Завернуть?
— Нет, нет… Мне нужно для матери.
— Ага, понятно! Тогда вот, пожалуйста, головные платки. Цена недорогая…
— Мне бы получше, деньги у меня есть…
Продавец усмехнулся и полез под прилавок. Долго я выбирал подарок матери, пока не остановился на клетчатом, с узорчатой каймой платке; для отца выбрал черные, на отличных кожаных подошвах ботинки. И все равно у меня оставалась уйма денег, я решил больше не тратить: пусть отец использует их по своему усмотрению, дома они нужнее. Себе ничего не купил, твердо решив, что первая получка — целиком для семьи.
Зажав покупки под мышку, в самом радужном настроении я вышел из магазина. Представляю, какая будет дома радость! Мать, конечно, тайком утрет слезу: она на радостях всегда плачет. А отец… Не знаю, как он поведет себя: мне никогда не приходилось делать ему подарков.
— Эй, Курбатов! Ты куда разогнался?
Заложив руки в карманы, через улицу ко мне вразвалочку направляется Мишка Симонов. Сунул руку, небрежно кивнул головой на свертки:
— Здорово живем! Это у тебя что? A-а, ясно! Правильно, стариков надо уважать, они это любят. А ты, браток, загордился — старых друзей не признаешь. Эх, Лешка!.. Постой, я слышал, ты отличился, говорят, Евсеича обставил, верно?
Мишку я невзлюбил с первой же встречи, а после стычки у комбайна он мне вовсе стал противен. Какой-то скользкий, не поймешь сразу. Разговаривает с человеком, а у самого глаза кругом шныряют. Но сейчас, когда Мишка похвально отозвался о моей работе, он показался мне не таким уж плохим человеком. В конце концов он не родня и не брат мне, без причины, зря хвалить не станет!
А Мишка продолжает нести разную чепуху. У него есть привычка во время разговора облизывать губы, словно минуту назад его угостили чем-то вкусным.
— Авансик получил? Толково! То-то, смотрю, из магазина прешь, точь-в-точь миллионер какой. Сколько?
— Чего — сколько? — не понял я.
— Во, чудак! Аванса, говорю, сколько дали?
— A-а… Тридцать два. С копейками.
— Ого, крупная деньга! В наш просвещенный век, как сказал один поэт, деньги — сила!.. А… подарки старикам ты как, обмыл? Не доходит? Ха-ха, и клоун же ты, оказывается, Алешка! Ты пойми, еловая твоя голова: не обмоешь — быстро износятся. У настоящих мужиков закон: с первой получки обязательно пропустить! Ну, как? Айда, тут нечего и раздумывать. Пропустим по сто грамм по мозгам… Пошли, отметимся!
Подхватив цепко под руку, Мишка повел меня через площадь к низкому кирпичному зданию с облупившейся вывеской: "Закусочная". Ступив через порог, я чуть не растянулся, поскользнувшись на мокром полу. Внутри было сумрачно, накурено, за столиками сидели незнакомые люди, не слушая друг друга, громко разгова-ривали, ругались. В углу, уронив на стол голову, спит рослый детина, время от времени он дергается, приподнимает голову и, обведя людей мутными глазами, снова с глухим стуком роняет ее. Грязно, душно, я чувствую, как тошнота подступает к горлу. Какого черта я пришел в эту дыру? Скорее вон отсюда, чтобы не вдыхать в себя эту мерзость! И впрямь, после вольного, чистого воздуха тут можно задохнуться!
Но Мишка, поняв мое намерение, еще крепче ухватился за рукав и потащил к стойке, подмигнул женщине в засаленном халате:
— Маруся, приветик! Нам с другом два раза по сто. И найди что-нибудь занюхать…
Отыскав свободный столик, сели. Мишка лихо, со стуком поставил передо мной стакан с водкой.
— Дернем, Лешка, за твои успехи! Будь здоров…
Он выпил сразу, сделав одни большой глоток, торопливо сунул под нос кусок сыра.
— Давай, давай, Лешка! Чего морщишься, раз-раз и готово. Во, чудак…
Люди вокруг начали оглядываться на нас, посмеиваются. Черт побери, могут подумать, что я ничего такого не видел на свете, и вообще, скажут, девчонка. Нет, я им докажу, что перед ними сидит самостоятельный человек!
Водка оглушила меня, перехватила дух, обожгла горло. С трудом перевел дыхание, на глазах выступили слезы. Мишка кривляется, смеется:
— Заешь, Лешка, заешь! Бери сыру! Во-во, правильно… Эх ты, работничек! На-ка, понюхай корочку, в момент перешибет! Во, чудак-рыбак…
Мишка хлопочет, точно наседка, подает мне то одно, то другое и несет всякий вздор. Чувствую, как голова наполнилась легким звоном, мысли начали путаться, перескакивать с одного на другое, и каждая спешит, чтобы ее высказали обязательно вслух:
— Мишка, ты не думай… теперь я вполне самостоятельный. Захочу если, могу хоть сейчас уйти из колхоза, понял? Уеду учиться!.. Ты знаешь, Мишка, какой я? Знаешь, а?
Мишка во всем соглашается со мной, кивает головой и одновременно с озабоченным лицом озирается кругом. Он пытается что-то сказать, но я не обращаю на него внимания, мне самому страсть как хочется говорить и говорить… До крайности необходимо высказаться, неважно перед кем, лишь бы слушали!
— Мишка, да ты… что я тебе скажу… Ребята, товарищи мои учатся, все учатся, а я тут… пропадаю! Ты ж знаешь — у меня аттестат. А ребята учатся, все — и Юрка, и Семен, и Рая… Ты знаешь Раю? Как же ты ее не знаешь, такую девушку! Она…
К нашему столику подсели двое незнакомых парней. Они сделали Мишке какой-то знак и стали шептаться, Мишка широко ухмыльнулся и обнял меня за плечи: Послушай, Лешка, ребята эти — свои в доску, за компанию их надо угостить. Деньги у тебя еще есть? А я, черт побери, пиджак сменил, деньги дома остались… Да ты не бойся, я тебе верну! Идет, что ль?
— Что за вопрос! — Я выхватил из кармана все свои деньги и выложил на стол. — Думаете, денег у меня нет? Вот они! Брось, Мишка, мне твоих денег не нужно, свои имеются! На, бери все!.. Свои, трудовые, понял? Угощай ребят…
Незнакомые парни принялись пожимать мне руки, одобрительно похлопывать по спине: "Вот это компанейский мужик! Молодец, Алеша, не имей сто рублей, а имей сто друзей… Да ты не раскидывай свои свертки, слышь?.."
Мишка снова принес полные стаканы.
С трудом открыв тяжелые веки, я глянул в окно, первой мыслью было: "Ого, как светло, опаздываю на работу!.." Но едва лишь приподнял голову, как перед глазами все поплыло… Из глубины сознания стали выплывать смутные картины вчерашнего дня, я с трудом подавил готовый вырваться стон, А память услужливо подсказывала все новые и новые подробности, обрывки разговоров, Я был не в силах от них отмахнуться…
Произошло что-то непоправимое.
Припоминается: вчера я работал целый день. Вечером, когда шел домой, Тоня окликнула меня возле конторы… До этого все было хорошо, но потом откуда-то взялся этот чертов Мишка Симонов, он повел меня "обмывать" аванс и подарки… Сидели в закусочной, пили водку, затем к нам подсели двое парней… Кажется, я расчувствовался, рассказывая им о себе, плакал, размазывая слезы по лицу, а потом вцепился Мишке в грудь: "Мишка, ты большой гад! Жадюга ты, Мишка, зря тогда пожалели мы тебя…" Меня оттащили, снова усадили за стол… Что было дальше, не помню. О, черт, натворил глупостей, дурак! Вот тебе "настоящий мужик", первый аванс! Что и говорить, порадовал родителей!.. Почти все мои деньги остались там, за грязным, заляпанным огуречными семечками и потрохами селедки столом…
Скрипнула дверь, кто-то вошел. Я не могу повернуть голову, тупая боль ударяет в виски, череп словно разваливается на куски, потолок раскачивается и плывет перед глазами, тошнота подступает к горлу. Душно и тоскливо, точно в грязной яме…
— Где он? А, герой с дырявой головой! Жив?
Ко мне подошел Алексей Кириллович, сдернул одеяло.
— Не прячься, все равно вижу. Ну-ну, молодец! Неплохое начало. Ладно, не крути головой, лежи… Совестно небось? Хорошо еще, если не совсем растерял совесть… Я бы высек тебя хорошенько, дурь выбил. Для таких, как ты, это полезно: бьют по мягкому месту, а умнеет голова! Не посмотрел бы, что вымахал ростом с меня самого, честное слово! Как на это смотришь, Петр Семенович?
Отец сидит у стола, угрюмо молчит. На столе перед ним какой-то сверток. A-а, это платок, подарок матери… И ботинки стоят рядом. Чего уж там говорить, порадовал стариков!
Алексей Кириллович с хмурым лицом отошел, сел напротив отца. Вытащил пачку папирос, протянул отцу, оба молча прикурили от одной спички. Посидели с минуту, сосредоточенно разглядывая папироски, точно держали в руках впервые. Снова заговорил Захаров:
— Зря ты старшего сына, Петр Семеныч, от себя отпустил. Не засиделся бы и тут, работу могли подобрать по душе. А так он — вроде как отрезанный ломоть, хоть и помогает вам…
Отец ответил не сразу. Расковыривал ногтем неприметное пятнышко на скатерти, сидел невеселый, опустив голову на грудь.
— Он, Алексей Кириллыч, еще при Беляеве ушел. Да я особо и не стал удерживать. Сами понимаете, без денег в хозяйстве невозможно. Десятка там или полсотни рублей — вроде и небольшой капитал, но при нашем состоянии они очень даже к месту…
— Это верно, — вздохнул председатель. — В хозяйстве каждая копейка к месту. Но ведь, Петр Семеныч, сам пойми: в колхозе у нас дело идет к тому, чтобы люди больше деньгами получали. Конечно, три-пять рублей на трудодень, как это делается в богатых колхозах, мы пока дать не можем. Но дело к этому идет! Времена другие, теперь одним только хлебом народ не удержать. Каких-нибудь пять-шесть лет тому назад делалось просто: выдадут на трудодень три-четыре килограмма зерном и хорошо. А нынче нет, хлебный трудодень цену терять стал, колхознику желательно иметь денежный трудодень. Колхозника ты хлебом хоть завали, а все равно деньги ему нужны: то на строительство, то на одежду, да мало ли на что! Вот и продает он свой хлеб, везет его на базар, а дело это канительное… Потому и пришел я к тебе, Петр Семеныч, посоветоваться. Человек ты бывалый, крестьянская хватка у тебя есть, понимаешь что к чему. Хочу спросить, не мало будет, если станем выдавать на трудодень по килограмму-полтора хлебом, а остальное — деньгами?
Отец, как видно, прикидывал, не спешил с ответом: дело важное, наобум не скажешь. Наконец поднял глаза на председателя, кашлянул.
— Нет, не думаю, чтобы мало… Полтора килограмма. — это подходяще. Посуди сам, Алексей Кириллыч: будь ты хоть на самой тяжелой работе, а больше одного каравая тебе не съесть. К тому же редкость, чтобы человек за день меньше одного трудодня заработал, бывает, что до двух, а то и до трех нагонит. Скажу тебе, товарищ Захаров, одно: мысль у тебя верная, правильное берешь направление!
Алексей Кириллович взял руку отца, сильно ее тряхнул и серьезно сказал:
— Вот за это спасибо, Петр Семеныч! Спасибо, что мысль мою правильно понял. Хоть и не новое это дело, но чувствуешь под собой тверже, когда люди тебя поддерживают. Задумал я это дело не сегодня и не вчера, а вот шел к тебе и сомневался: может, не прав я, колхозники не согласятся, скажут, мало будет хлеба. Вижу — зря сомневался! Примем на правлении решение: на трудодень полтора килограмма зерном, остальное получай деньгами. Ну, ладно! — Алексей Кириллович взъерошил густые волосы, сильно затянулся папироской, выпустил тонкую струю дыма. Вздохнул: — Та-а-к… Вернусь к тому же, Петр Семеныч. Сергей твой, я слышал, в армии шофером был?
— Был… А здесь ему места не нашлось, решил поискать счастья на стороне.
— Не подумай, Петр Семеныч, что ради одного любопытства спрашиваю. Тут такое дело вырисовывается: новую машину нам дают, значит, шофер потребуется. Нанимать со стороны нежелательно: сторонний — он и есть сторонний, ему лишь бы бегала машина… Вот Сергея бы твоего поставить, а? Подумай, Петр Семеныч, и непременно напиши ему. Может, надумает вернуться…
Ох, как раскалывается голова! Снова потолок заколыхался и поплыл куда-то, я перевожу глаза, чтобы подавить тошноту, и встречаюсь со взглядом матери. Она стоит у печки, горестно скрестив руки на груди, с укором смотрит на меня. Кажется, на глазах у нее слезы… Нет, я не в силах смотреть на нее. Какой же я бессовестный, если мать свою довел до слез? Откидываю одеяло, поднимаюсь, торопливо накидываю пиджачок и выбегаю во двор. Чистый, прохладный воздух пахнул в лицо. Через калитку прошел в огород к колодцу, окунул голову в кадку. Еще раз, еще… Холодная вода льется за шиворот, приятно щекочет спину, грудь, и вместе с ней возвращается бодрость. Раз за разом окунаюсь головой в кадку, в круглом зеркале воды вижу свое лицо, ударяю кулаком по дрожащему отражению.
Вышла к колодцу соседка, старая Чочия, остановилась удивленная:
— И-и, господи, Олеша, никак с ума сошел: в этакую пору колодезной водой купаешься! Не шутка, простынешь да и сляжешь! Ох, парень, парень!..
Пришлось солгать, что дома как раз не оказалось воды, потому и умываюсь тут, у колодца. Освеженный, с мокрыми волосами, вернулся в избу. Захаров с отцом все еще сидели, вели неторопливый разговор. Алексей Кириллович покосился на меня, покачал головой:
— Ну, искупался? Так, так… — И снова повернулся к отцу. — Значит, Петр Семеныч, договорились: напишешь старшему, мол, так и так, если надумаешь, — вертайся, председатель слово дал устроить шофером в колхозе. А народу у нас немало ушло, не один твой Сергей… В этом и мы в большой степени виновны: не воспитали у людей заинтересованности к земле. Человека силком к месту не привяжешь, он тебя прямиком спросит: "А где оплата, где деньги?" Верно? Не-ет, человека можно год кормить обещаниями, от силы два, а потом он снимет перед тобой шапочку и низко поклонится: мол, спасибо на Добром слове, а пока прощай, кроме ушей, у меня еще и брюхо имеется!
— Это так, — отозвался отец. — К хорошим обещаниям дела хорошие требуются.
— Вот именно!.. А теперь, если мы будем выдавать колхозникам и хлебом и деньгами, думаю, народ обратно к нам потянется. Конечно, принимать будем, но… не всякого! Ушли из колхоза по необходимости даже честные люди, но больше таких, которые за длинным рублем погнались. Им-то обратная дорога в колхоз заказана! — В голосе Захарова слышался гнев, он сердито морщился и ерошил волосы. Снова закурил, выдохнул беловатое облако дыма, кивнул в мою сторону. — А кроме того, надо удерживать на земле вот таких молодцов. Нет, ты не радуйся, тезка, о тебе разговор потом. Вот я смотрю, получит паренек аттестат зрелости и обязательно норовит попасть в институт. С этим я не согласен! Ты вначале покажи себя настоящим человеком здесь, на своей земле, докажи, на какие дела ты способный, а потом поезжай за милую душу в институт, подкрепляй свой трудовой опыт науками! Так я понимаю это дело! Иначе без молодой смены мы можем оказаться в положении престарелой матери-одиночки, у которой все дети поразъехались, а она от государства пенсию получает… По-моему, к этому надо подходить так: написано в аттестате зрелости, что владелец его имеет право поступить в любой вуз, по право это следует обязательно подкрепить мозолями. Вот они и дадут настоящую путевку в любой вуз! Ты сначала потрудись наравне со всеми, а потом народ рассудит, имеешь ты право учиться в институте или погодить тебе надо. А мозоли на ладонях, как известно, набиваются не автоматической ручкой, а предметами гораздо потяжелее…
Алексей Кириллович частыми затяжками докурил папироску, от окурка прижег новую. Отец слушал молча, соглашаясь с председателем, коротко кивал головой:
— Так, так, это, конешно, верно…
Захаров поднялся, стал вышагивать по комнате, заложив большие руки за спину, и, словно вслушиваясь в свои мысли, продолжал задумчиво:
— Народ у нас в колхозе хороший, работу любит, ничем он не хуже соседей… Не подумай, Петр Семеныч, что занимаюсь самовосхвалением, а только не повезло в Чураеве с председателями. Наворочали они тут дел — успевай только поправлять! Но самое обидное, знаешь, в чем заключается? Ведь каждого из них рекомендовали мы сами, районные руководители! И на мне лежит этот грех: если помнишь, сватать Беляева в председатели приезжал к вам я, будучи вторым секретарем. Не хотел народ его принимать, чуть не целый день продержали людей в конторе, пять раз голосовали! Одним словом, неугодного народу человека провели в председатели… Да-а, просватать-то просватали, а свадьбы не получилось! С гнильцой оказался человек. Недавно всплыло еще одно его дельце: занижали нормы высева, а семена продавали спекулянтам. История эта длинная, ниточка тянется в разные стороны…
Я в оба уха прислушивался к разговору старших. Услышав о проделке Беляева с семенами, не утерпел:
— А мы тоже видели, оставили среди поля незасеянный клин, гектара три, а может, и больше. Это когда комбайном убирали…
Алексей Кириллович оглянулся на меня, сердито свел брови.
— A-а, зачирикал воробышек! Ну, тезка, не ожидал от тебя… Хорош, нечего сказать… А я за тебя перед людьми ручался! Спроси отца своего — он в твои годы наверняка капли вина в рот не брал, даже вкуса его не знал! Скажи, не так, Петр Семеныч?
Алексей Кириллович сказал это в сердцах, бросая в мою сторону косые, исподлобья взгляды. Отец молчал.
— Алексей Кириллович… сам бы я ни за что не пошел! Мишка Симонов пристал ко мне: пойдем да пойдем…
— Ну, брат, это ты кому-нибудь рассказывай! И вообще — не имей привычку сваливать вину на чужих, если проштрафился, признавайся прямо! Честное признание — половина исправления. Хм, Симонов его, бедного, сманил! Твой Симонов только и думает, как бы за чужой счет поживиться. Да, кстати, Петр Семеныч, такой вопрос. — Захаров вернулся к столу, снова сел напротив отца. — Трактористы, комбайнеры наши, вообще все механизаторы ведут свой род от земли. Но среди них и такие имеются, что не жалуют вниманием колхоз, отношение к земле у них плевое, словно на поденщину нанялись. Им подавай мягкую пахоту, условные гектары, гарантийный минимум на трудодень и все прочее! Безусловно, среди них честных большинство, но часть разбаловалась. И разбаловала не кто иной, как эмтээс! В какой-то мере отлучила она их от земли, как дите от материнской груди. Раньше они что заявляли? Дескать, мы не колхозники, и командовать нами у вас нет прав. Права-то свои они знают, а работать как следует не хотят: мол, натуроплату все равно будете платить. Теперь у нас техника своя, колхозная, а разбалованность эта все еще дает о себе знать… Взять хотя бы тот же незасеянный клин. Работал на том участке кто? Механизаторы, то есть члены нашей артели. Знали, видели: кусок земли в три гектара платочком носовым не прикроешь, а вот поди же ты! Видно, махнули рукой: "Ладно, мне больше других не требуется! Не свое — колхозное…" Вот это и губит нас! Тридцать лет колхозному строю, а хозяйского взгляда на землю не каждому сумели привить. Если и дальше так пойдет, мы своих соседей не скоро обгоним.
Захаров снова поднялся. Потолок у нас по его росту низкий, оттого Алексей Кириллович кажется еще выше, вот-вот головой достанет матицу. Шагнув к отцу, он протянул здоровенную, всю в сплетениях жил руку:
— Ну, Петр Семеныч, будь здоров! За беседу спасибо. А парня своего крепче придерживай, потачки не давай. В башке у него не все перебродило, вот и мотает его, точно лодку без весла. Слышишь, Алексей? Смотри, не сладит отец — сам возьмусь, тогда пеняй на себя. Рука у меня в таких случаях бывает твердой, об этом помни! Ну, до свидания…
Пригнувшись, тяжело перешагнул порог, плотно прикрыл за собой дверь. Отец подождал немного, затем грузно повернулся на стуле, сказал глухим голосом:
— Счастье твое! Не зайди Алексей Кириллыч…
Не договорив, замолчал. Спустя некоторое время добавил мягче:
— А платок сам отдай матери. Ботинки пусть стоят пока, куда мне в них…
Во дворе звонко стукнула калитка, торопливо загремели шаги в сенцах, через минуту в дверь просунулась круглая голова Генки Киселева. Увидев меня, он облегченно выругался:
— Фу ты, лысый тебя возьми, Лешка! Здорово, дядя Петр… Ты чего, и самом деле заболел? Понимаешь, встречаю на улице председателя, он меня с ходу ошарашил: беги, говорит, твой друг погибает, какая-то быстротечная чахотка у него открылась. Ну, и напугал ты меня, Лешка!
Должно быть, вид у меня был мученический, Генка, поняв это, незаметно подмигнул и сказал:
— Душно у вас… Пошли, посидим во дворе.
Мы уселись с ним под навесом на верстаке, и тут я без утайки поведал Генке о своих злоключениях. Он слушал, не перебивая, жевал в зубах щепочку, а когда я кончил, весело расхохотался.
— Ох, уморил, честное пионерское! Значит, клюнул на пробку!.. А ты бы знал, как меня тоже впервые поймали в тракторной бригаде, у-ух, даже вспомнить страшно! Понимаешь, пришел я в бригаду, лет пятнадцать мне тогда было, словом, пацан пацаном, а в бригаде все такие лбы собрались, на самих впору целину пахать! Как-то раз затеяли выпивку, а самогон забухали в ведерный самовар: в случае, если зайдет кто — попробуй, придерись! Чай распиваем, и только… Взялись они за меня: дескать, ты теперь вполне самостоятельный мужчина, а если вина не употребляешь, какой из тебя механизатор может получиться?.. Взяли за уши, руки назад скрутили: пей! Три дня после того медвежьей болезнью страдал: сивухой отравился. Вот гады! — беззлобно выругался Генка. И добавил серьезно: — Попивает наш брат механизатор… Ему каждое тридцатое число подавай получку, и никаких гвоздей! Два рублика на палочку — деньги немалые, потому что в горячую пору тракторист с комбайнером за смену до десяти трудодней выколачивают. Считай, профессорская зарплата! А ведь рядовой колхозник не меньше нашего трудится…
"Какое совпадение, — подумал я, — всего лишь полчаса назад об этом самом говорил Алексей Кириллович, и почти те же слова я слышу от Генки. Как будто они сговорились!" Сказал об этом Генке, он подумал и протянул задумчиво:
— Алексей Кириллович толковый человек, душа у него хорошая. Он, знаешь, за народ как стоит…
Генка чему-то заулыбался, помолчал и снова продолжал:
— В сорок шестом похоронили мы отца, мать тоже прихварывала, а нас четверо, я — за старшего. В том году, помнишь, у нас неурожай был, и война к тому же недавно закончилась Словом, и скучно и грустно нам стало на том свете… Пененю за отца отказали, мол, хоть и воевал он на фронте, а помер дома. Чертовщина какая-то получалась! Здоровый дядька — ему бы на лесозаготовках робить! — получает пенсию, a мы без хлеба сидим, и зубарики играем! Мать ходила и исполком, Беляев в то время заправлял райсобесом, так он, сучья его душа, прогнал мать да еще симулянткой обозвал… Ну, делать нечего, решил я своим умом изворачиваться. Разнюхал, что в райкомовскую конюшню засыпали картошку — не хватало тогда хранилищ. Научился промышлять: пробираюсь огородами к конюшне, в руке мешок, в другой — проволока с крючком. Пристроюсь к окошечку, и давай рыбалить: замахнусь крючком — есть картошечка, в мешок ее!.. И так далее, словом, повадился кувшин по воду ходить. Но в один прекрасный день застукали меня за этим занятием. И не заметил, как сзади подошли, оглянулся — стоит высокий дяденька, в гимнастерке, сапогах. Ну, думаю, милиционеру и руки угодил, теперь полная хана, засудят, и тюрьму упекут. Жаль только, не успел мешок с добычей домой унести!.. А тот человек повел меня прямо в райком, усадил на диван и ну давай выпытывать: кто, откуда, почему воруешь? Наверно, говорит, на речку таскаешь и печешь там на костре? Тут меня зло взяло: какая к черту речка, когда дома сестренки голодные ревут. И выложил все как есть тому человеку. Он выслушал меня и говорит: "Крючок свой закинь подальше, чтоб никто не узнал. А сам дуй к мамке, пока я тебя в подполье к домовому не засадил!.." Вышел я из райкома да как припущу! Через несколько дней смотрю: привезли нам прямо домой целый воз картошки, мешок муки, со следующего месяца стали пенсию за отца давать. Вот он какой человек!
— Кто? — не поняв, спросил я.
— Да об Алексее Кирилловиче речь веду, балда! — вспыхнул Генка. — Я уж потом разузнал о нем. Сам он, конечно, не помнит об этом, а мне на всю жизнь добрая зарубка. Надо бы в гости его позвать, мать часто поминает, да кто его знает, придет, не придет… У него без вас забот сколько…
Генка вздохнул и неожиданно потряс кулаком:
— А этому гаду Мишке я все равно под носом целину забуровлю! Жулье несчастное, рвач! Он тебя спящего догола разденет, и хоть бы что. И нашел ты, Лешка, с кем компанию делить!
— Да я думал…
— Брось! Индюк думал, так знаешь, куда угодил? — резко оборвал меня Киселев и спрыгнул с верстака, собираясь уходить. Потом, вспомнив о чем-то, обернулся и как-то нерешительно спросил:
— Алешка, слушай… У тебя остались от школы учебники?
— Где-то на чердаке валяются. А чего? Тебе заместо ветоши, руки обтирать? Это можно, мне они теперь ни к чему…
— Не-е-т… Знаешь, я надумал в вечернюю школу поступить. В восьмой класс… — сказал он и почему-то вздохнул. — Ты бы дал мне книжки, а?
— Что за вопрос! Подожди, я мигом…
Взобравшись на чердак, я долго рылся среди пожелтевших от дождя, пропыленных, потрепанных книг, тетрадей. Их тут было много, целый порох забытых, заброшенных друзей школьных лет. Когда-то я сидел над ними, до одури решал уравнения, выводил формулы, писал сочинения. Ох уж, эти сочинения… И каких только не было тем: "Образ советской молодежи по роману "Молодая гвардия", "Образ Павла Корчагина", "За что я люблю свою Родину". Сочинения у меня получались неплохие! Интересно, а теперь написал бы? А почему и нет? Побольше эпитетов вроде "красивый", "славный", "необъятный", "дорогая"… И конечно же, учительница по литературе, наша добрая Мария Петровна, поставит за такое сочинение не ниже "тройки"…
Выбрав несколько учебников, я спустился с чердака.
— Нашел? — обрадовался Генка. Нетерпеливо взяв книги, стал листать их, покачал головой. — Эх, Алешка, да разве место им на чердаке? Ну, ладно, спасибо, выручил. По крайней мере, в "Когиз" не бегать. Будь здоров!
— Там у меня тетради со старыми сочинениями лежат, может, пригодятся?
Генка постоял минуту-другую, потом тряхнул головой и весело ответил:
— Ну, нет, спасибо. Сочинения надо писать самому. С этим делом я управлюсь!
* * *
Нелегко приходится в эти дни Захарову: бывший председатель оставил ему незавидное "наследство". По документации значится одно, a на деле другое. "Очковтиратель, чтоб ему! — вполголоса ругается Алексеи Кириллович. — Куда смотрело правление? Рассиживали тут, словно к теще на пироги являлись. Тоже, хозяева называются!.."
В один из вечеров я задержался в конторе: за окнами льет холодный, уже осенний дождь, дороги развезло, не хотелось в такую погоду уходить из светлой, теплой комнаты. Нарочно не спеша рылся в газетных подшивках, чтобы как-то оттянуть время. А тут еще учетчица Тоня пристала с расспросами: зачем да почему не ходишь на вечеринки, да как это можно дома сидеть, и неужели никто из наших девчат не нравится… Я терялся при ней и злился: какое ей дело до меня? Что я, маленький?
В контору по одному, по два стали собираться люди: оказывается, назначено заседание правления. Я хотел уйти, по Алексей Кириллович остановил меня:
— Сиди, сиди, Курбатов, не помешаешь. Послушай, о чем люди будут толковать.
Члены правления — человек десять — расселись по привычным местам, сдержанно покашливали в кулаки. Мне они все знакомые, но почему среди них оказалась Анна Балашова? Она сейчас работает дояркой на ферме, никто ее в правление не выбирал. Сидит близко к двери, наматывает на пальцы кончик платка и снова разматывает. Сразу видно — волнуется. Не иначе, вызвали ее на заседание, чтобы хорошенько "пропесочить". Мне даже стало жаль ее.
Незаметно присматриваюсь к членам правления. Как раз напротив меня сидит хромой дядя Олексан, негнущимися пальцами старается свернуть цигарку. Рядом с ним бригадир механизаторов Никита Лукашов — неразговорчивый, хмурый с виду человек. Возле печки, скрестив руки на груди, сердито посматривает на мужчин Фекла Березина. Вот она притворно закашлялась, замахала руками:
— Бросьте вы курить, дьяволы! Махоркой почем зря кадят, а тут женщины. Уж курили бы папиросы, все-таки дым от них не такой зловредный. Тьфу, и кто только выдумал этот табак!
Дядя Олексан выдохнул сизое облако дыма, исподлобья глянул на Березину.
— На папиросы покуда средств не хватает. По нас и "Прибой" — дорогой, а на "Ракету" — денег нету… Ясно?
— Да уж как не ясно! Как божий день! — ядовито ухмыльнулась Березина. — Али в колхозе даже на папиросы не зарабатываете?
Дядя Олексан собирался что-то ей ответить, но в этот момент Алексей Кириллович оторвался от бумаг, глядя в упор на Березину, жестко проговорил:
— Не то говоришь, Березина! Не пристало тебе, члену правления, в адрес своего колхоза смешками разбрасываться. Дело это — самое легкое, но бесполезное. Выходит, колхоз тебе чужой, а ты — сама по себе?
Тетю Феклу будто кто укусил сзади, она задергалась, заговорила певуче:
— Господи-и, Алексей Кириллович, да разве я о том хотела! Колхоз мне всё едино как родной…
— А раз так, не нужно зря болтать!.. Ну, товарищи, начнем, время позднее. Давай, Анна.
Все, кто был в конторе, оглянулись в сторону Балашовой, она сразу застеснялась, несмело поднялась, чувствуя на себе взгляды, неровными шагами подошла к столу. С минуту постояла, опустив глаза, нервно перебирая пальцами кончик платка. Алексей Кириллович, ласково кивнув, сказал:
— А ты не стесняйся, Аннушка, здесь все свои. Расскажи об всем как есть, за правду у нас по глазам не бьют. Давай, разберемся, почему на ферме надои низкие.
Балашова подняла голову, вздохнула.
— А я и хочу с плохого начать, Алексей Кириллович. По глазам будут бить или как, только терпеть такое дальше невмоготу. Все видят, а не каждый замечает, как у нас на ферме дела обстоят!
Голос ее зазвенел, члены правления невольно встряхнулись, подобрались.
— Кто виноват, где искать виновного? Вы только посмотрите: наши соседи каждое утро отправляют на маслозавод по две, а то и по три машины молока, а у нас — тьфу! — даже сказать стыдно: одна тележка ползет, и та неполная! Хоть бы пришел кто из вас на ферму да поглядел, какие у нас коровушки: срамота одна, сами скелетины, а вымя — с кулачок! Руки мы все поотбили с ними… У доброго хозяина коза — и та больше надаивает! Заведующему сколько говорили — молчит и только, ему говорить — что лесному пню молиться. Чем такого держать, уж лучше вовсе никого не надо, сами управимся, без начальника. Одно название "заведующий", зря только трудодни на него тратят!
Передохнув, Анна поправила выбившиеся из-под платка волосы и продолжала звенящим от обиды и волнения голосом:
— Вы только и знаете одно: "молоко да молоко", а никто по-настоящему не возьмется. На ферму не зайти — увязнешь в грязи, не то что коровушкам, а и людям впору "караул" кричать. Перегородки все отвалились, кормушки расползлись, корма даем, а через минуту глянь — пополам с навозом… Да откуда быть молоку при таком содержании! Бригадиру сколько говорили, а с него как с гуся вода, мимо ушей пропускает, в год раз явится на ферму, повернется туда-сюда, а к коровам не идет — сапожки свои остерегается измазать. Чем так, лучше вовсе не ходи!
Бригадир Василий сидит возле председательского стола, нервно похлестывает по голенищу сапога ремешком своей сумки. Пока Анна не касалась его, он насмешливо кривил губы, будто хотел сказать: "Ишь, смелая нашлась! Ну, говори, говори, что там у тебя…" Но стоило Анне упомянуть его имя, как Василий быстро выпрямился, блеснул на Балашову глазами.
— Алексей Кириллович, разрешите! Это явная…
Анна не дала ему досказать, зло бросила из-за плеча:
— Сиди, коли место нашлось!
Бригадир осекся, заерзал на стуле. Председатель с усмешкой покосился на него: ага, досталось? Ну-ну, поделом!
Чувствовалось, не в один день накопилась в душе Айны эта горечь, переполнила чашу ее терпения. Со слезами в голосе бросала она упреки в адрес членов правления, заведующего фермой, бригадира.
— Не отремонтируете коровник — так и знайте, напишем в газету! Не проклятые мы, чтобы день и ночь грязь месить! Сидите тут, потолок дымом подпираете да штаны протираете, а что вокруг делается — того не видите. Коли выбрали вас в правление, так и будьте с людьми, а не хотите — и не нужны вы вовсе нам!
Рывком поправив волосы, Анна размашистыми шагами направилась на свое место. Оглядываюсь на людей: все сидят смущенные, глаза друг от друга прячут. Допекла их Балашова, не в бровь, а прямо в глаз попала! Оказывается, не для разноса вызвали ее на заседание, сама она приперла правленцев к стенке. Молодец, Анна! Вот уж не подумал бы никогда, что тихая на вид девчонка может вогнать в пот кряжистых мужиков. В душе я был целиком на стороне Анны, и полагайся на заседании правления провожать оратора аплодисментами, честное слово, не пожалел бы ладоней!..
Бригадир, как видно, не мог уняться. Едва Анна уселась на место, как он вскочил и замахал руками:
— Алексей Кириллович, одно слово… Зря и совершенно ни к чему Балашова пытается среди ясного дня бросить тень на плетень. К тому же припутывает совершенно некасаемых к этому делу людей! Если каждому давать полную свободу критики, то что из этого получится? Ералаш!..
Захаров всем корпусом грузно повернулся к бригадиру, глаза его недобро сузились. Ударив ладонью по столу, он оборвал его на полуслове:
— Хватит!.. Балашова говорила правильно, и нечего нам обелять самих себя. Не в грудь себя надо бить, а подумать, как положение исправить. Или правда режет глаза, бригадир? Слушай, дубрава, о чем лес шумит!
Вася стушевался, недовольный сел на место. "Постарается кошка отлить свои слезы мышке! — подумал я. — Теперь жди: станет Анне на пятки наступать — память у него зловредная… Только Анна тоже, оказывается, не из смирненьких, за себя постоит!"
Многое из услышанного на этом заседании было для меня совершенно внове, и я нисколько не жалел, что остался. Показалось, будто на ступеньку выше поднялся, и отсюда дела колхозные обозревались намного шире.
Кончили за полночь. Единогласно приняли решение: ферму отремонтировать, не откладывая в долгий ящик; ответственным по ремонту назначили хромого Олексана Буранова. Под его началом будет работать строительная бригада. Дядя Олексан в ответ сказал лишь коротко: "Ладно, сделаем".
На крыльце конторы меня догнал бригадир.
— Курбатов, завтра ты приходи на ферму.
— Это еще зачем? Доить коров я непривычен!
— Не дури, Курбатов! Слыхал о ремонте?
— Так я же… сам знаешь, не плотник.
— Ладно, коль сказано — значит, завязано! Не забудь топорик с собой захватить.
Вот черт, не было печали! С топором я одно только и умею, что сучки обрубать да дрова колоть, а чтобы по-настоящему плотничать — в жизни не приходилось. Дернуло же меня остаться на заседании! А то бы и на глаза бригадиру не попался…
* * *
Наутро я проснулся от неясного шороха и чуть слышного звона. Спросонок долго гадал: что бы это могло значить? Взглянул на окна — а на улице идет дождь, некрупный, холодный осенний дождь. Капельки ударяются в стекла и оттого еле слышно звенят. Теперь зарядило надолго: в тучах не видно ни малейшего просвета, небо сплошь затянуло серой, похожей на грязную вату пеленой. До чего ж не хочется вылезать из-под нагретого за ночь одеяла, с каким бы удовольствием лежал еще часик-другой! Но все-таки придется вставать, иначе вот-вот подойдет к постели мать, осторожно погладит по плечу, негромко позовет: "Олешка, поднимайся, сынок, на улице светло…"
Рывком отбрасываю одеяло и становлюсь на холодный пол. Это сразу встряхивает, а холодная вода из умывальника начисто смывает остатки сна.
Ох, как невзлюбил я с детства утреннее умывание, особенно зимой! Бывало, проберешься за печку и долго стоишь перед носатым умывальником, не решаясь плеснуть из него ледяную влагу. Минуту, другую, третью стою перед злым мучителем, поеживаясь от холода, пока мать не прикрикнет: "Олешка, бесстыжий, чего стоишь? Мотри, в школу запоздаешь, не пустят на уроки…" Тогда поневоле приходится подставлять горсточку под утиный носик умывальника, для виду провожу мокрыми ладонями по лицу. Однажды отец, заметив мое "умывание", пригрозил: "Ты у меня добалуешься… до ремня!" Угроза эта подействовала: отцовского солдатского ремня с медной пряжкой я побаивался, потому что несколько раз имел возможность близко знакомиться с ним…
Дождь за окном не перестает. Ну, авось к обеду утихнет: говорят, утренний гость не до ночи.
За завтраком в голове неотвязно вертелось одно: "Даст отец свой топор или не даст?" В хозяйстве у нас два топора, один — просто-напросто неуклюжий колун, годный лишь для "черной" работы. Зато другой — настоящий плотничий топор с гладким кленовым топорищем. Отец держит его в чулане и никому не позволяет трогать: мол, мало ли что, зазубрите об гвоздь или еще как попортите". С какой же стати сегодня он должен раздобриться? Нет, не даст. С колуном на строительство не пойдешь — люди засмеют… Черт, и как это угораздило меня попасться на глаза рыжему бригадиру!
Поверх чайного блюдечка незаметно поглядываю на отца. Он сидит напротив, на "хозяйском" стуле, и молча, не поднимая глаз, хлебает подогретый суп. Мать бесшумно хлопочет около печи.
— Отец, мне сегодня с топором на работу…
Будто не расслышав, он продолжает есть. Затем неторопливо вытер губы тыльной стороной ладони, искоса глянул на меня.
— Куда тебе с топором?
— Вчера на правлении решили ферму ремонтировать. И меня туда назначил бригадир. — Для вескости добавил — дядя Олексан будет за старшего…
Отец промолчал. Я приуныл: ну, конечно, не даст. Даже мужикам никому не доверяет свой инструмент, а обо мне и думать нечего. Знает, что в жизни я не вытесал даже мало-мальского клина, какой уж из меня плотник! Вот подгадил мне этот рыжий! Ладно, черт с ним, пойду и напрямик доложу, что на ферме работать не буду, пусть назначит на любую другую работу.
Одевшись, я собрался уходить. Отец, не оборачиваясь, бросил через плечо:
— Возьми мой, в чулане лежит, в ящике. Гляди, Олешка, ногу не изувечь — отточен недавно!
После дурацкой истории с Мишкой Симоновым отец впервые назвал меня по имени. Больше недели он недовольно молчал, почти не разговаривал. Видимо, в душе простил меня, а сказать об этом открыто — пока еще не мог.
Захватив отцовский топор, я бегом направился к ферме. Там на бревнах уже курили дядя Олексан и Боталов — на удивление длинный и нескладный мужик, по прозвищу Часовой. Своей худобой и ростом Боталов очень смахивает на Дон-Кихота, только борода у него круглая и черная.
На свое прозвище он ничуть не обижается, по-моему, даже доволен. Мальчишки, завидев на улице его несуразную фигуру, поднимают истошный крик: "Ребята, Часовой, Часово-о-й!", а он и внимания не обращает, идет себе, посмеиваясь в бородку. Никто не знает, когда и откуда пошло это его прозвище, а настоящее его имя, отчество Иван Евсеевич.
И жизнь у него сложилась под стать самому — нескладная и шутовская. Часовой любит при случае рассказывать людям о себе. Мобилизовали его чуть ли не на второй день войны; эшелон, в котором он ехал со своей частью, еще по пути на фронт попал под бомбежку, одна из бомб разорвалась близко, Часового отбросило взрывной волной, оглушило, порядком контузило. По его словам, дело обстояло так: "Показалось мне, будто небо пополам пошло, и святым божьим огнем на меня полыхнуло. Поверху гром стоит, а снизу того пуще, прости господи! Должно быть, за версту от эшелона выкинуло меня, а то и больше. Лежу таким манером, отца с матерью поминаю, господа на помощь призываю, а тем временем самого себя руками щупаю. Ну, думаю, слава тебе, господи, все при мне, и руки целы, и ноги вроде то же самое. А подняться никак невозможно, в голове гудит, словно бы с похмелья после святой пасхи… Контузило, значит, порядком, с той поры всякие головные боли меня мучают, не жизнь — одна маята. Во-от, повоевал на своем веку, не приведи господь видеть этакое столпотворение другой раз. Истинный бог, страстей каких испытал на войне…"
Так и не доехав до фронта, Боталов "по чистой" вернулся домой, ходил на костылях. А вскоре, рассказывают, он отпустил бороду, стал вести разговоры о боге, ударился в религию. В те годы в Чураеве оставались одни старики да женщины, нашлись среди них такие, что верили Часовому, стали они вечерами собираться в его избенке. Спустя немного времени Часовой женился на вдове-солдатке, пошли у них дети. Люди стали открыто смеяться над ним:
— А как же насчет конца света, Часовой? О конце света говоришь, а детей плодишь! Вот уж правда: кто много врет, тот много и божится!
После войны Часовой костыли свои забросил, но бороду не сбрил. Жена его, не разродившись не то пятым, не то шестым ребенком, умерла в больнице, отчего Часовой стал пуще прежнего "веровать" в бога. Работал он в колхозе ни шатко ни валко, был своего рода "универсалом": сегодня подвозит к тракторам воду, на другой день с женщинами окучивает капусту, а на третий, глядишь, длинная фигура Часового уныло маячит на вышке пожарного сарая…
Вот такой человек и оказался третьим членом нашей небольшой плотницкой артели. Пока я смутно представлял, что может сделать наша артель: хромой Олексан Буранов, "святой" человек Часовой и я…
Воткнув топор в обрубок дерева, я присел чуть в сторонке. Дядя Олексан сплюнул под ноги.
— Тоже небось скажешь, что сюда снарядили?
— Сюда, — покорно мотнул я головой в ответ.
Невозмутимого дядю Олексана взорвало:
— Спустить бы с того Васьки штаны да лупануть хорошенько крапивой! Что он, в самом деле, смеется, что ли? Не мог подобрать стоящих людей!.. Эх, горе девичье, а не бригадир. Вот, Олешка, скажи мне: управлялся ты когда-либо плотницким инструментом, хотя бы тем же топором?
— Не приходилось, дядя Олексан… Да я и не хотел сюда, бригадир вот…
— Ладно, уж и то хорошо, что по-честному признался. А то вот Иван из себя мастера корчит: и не плотник, да стучать охотник!
Часовой хмыкнул, но промолчал.
Старательно затоптав окурок, дядя Олексан поднялся. Оказывается, он до нас уже успел подвезти от пилорамы свежераспиленного теса. Вдвоем с Часовым они принялись распиливать заготовки для кормушек, а меня послали в коровник — разбирать старые, пришедшие в негодность кормушки. До обеда я провозился там: железным ломом выворачивал затоптанные в грязь полусгнившие доски, выдергивал тисками здоровенные ржавые гвозди… Работа не из приятных: густой застоялый навозный дух шибает в нос, першит в горле, до слез щиплет глаза. Стиснув зубы, нажимаю на рычаг "выдерги" — железные челюсти длинных тисков бульдожьей хваткой вцепляются в шляпу гвоздя. Еще, еще сильней… трах! — полусгнивший гвоздь отлетает в сторону. Откуда-то из глубины памяти всплывает "закон рычага", в голове заученно вертится: "Выигрывая в силе, проигрываешь в расстоянии, и наоборот…" Хотел бы знать, в чем выигрываю я, воюя со старыми гвоздями, задыхаясь от вони и пыли?
Слышно, как за стенкой дядя Олексан с Часовым тюкают топорами, звенят пилой. Им-то хорошо, по крайней мере можно вдохнуть полной грудью чистого воздуха. Правда, по сравнению с ними у меня есть одно преимущество: в коровнике нет пронизывающего до костей ветра…
Часа через два они зашли в коровник, чтобы покурить в тепле. Придерживая цигарку в горсти, дядя Олек-сан строгим взглядом окинул мою работу, покачал головой:
— Хм, насквозь прогнило… Придется все заново делать. Понятно: сырость, навоз. Работы нам здесь хватит, парень!
Дядя Олексан обращается ко мне, и от этого на душе становится как-то приятнее: признает за равного. Он сказал "нам", значит, не думает гнать из своей артели. И тон у него теперь добродушный, не то что утром.
Часовой в ответ ему хихикнул и отозвался тонким голоском:
— Ох-хо-хо, работки хватит, это верно! Нанюхаемся, видит бог.
Буранов рассудительно сказал ему:
— А кто же станет за нас делать? Раз взялись, значит, нам и кончать. До заморозков надо справиться, иначе куда пастухи скотину загонят? Ничего, лиха беда начало!
Часовой подергал бороду, вздохнул.
— Это верно, кончать придется. Бог даст, и закончим. Было б здоровьишко…
Дядя Олексан промолчал, ему, видимо, не по душе слова Боталова, он хмурится. Дядя Олексан нравится мне своей силой в решимостью. Он всегда спокоен, держится с достоинством, и весь его вид словно говорит: "Я-то знаю, чего хочу. А вот сам-то ты как?" Не раз я уже ловил себя на мысли, что мне тоже хочется быть похожим на него — сильным, уверенным, умным. Вот Часовой на голову выше его, а рядом с дядей Олексаном кажется ниже ростом. Бубнит под нос о чем-то возле Буранова, точно слепень в жаркую погоду вокруг коня…
Три дня провозился я в коровнике, ломая старые, полуразвалившиеся перегородки, непрестанно чихая от едкой пыли (перегородки были покрашены известью, смешанной с хлоркой), выдирал из стен гвозди, выворачивал изгрызанные крысами половицы. Запах навоза и хлорки въелся в одежду, и когда вечером, разбитый усталостью, я возвращался домой, мать виновато говорила: "Олеша, сынок, ты бы скинул с себя верхнее в сенцах. Дух какой-то тяжелый…" По утрам я выхожу из ворот с отцовским топором, иду по улице, точно заправский плотник, хоть и не сделал пока ни одного затеса…
На четвертый день я справился с заданием. Дядя Олексан посмотрел на мои ноги и усмехнулся:
— Закончил? Ладно, так тому и быть… А сейчас валяй к речке, приведи в порядок свои сапожки. Чтоб чистые были! Дерево тоже чистоту уважает, это запомни… После обеда начни доски строгать.
Легко сказать: начни!
С грехом пополам выстрогал первую доску. Дядя Олексан повертел ее в руках, рассматривал, щуря один глаз, затем в сердцах швырнул в сторону.
— Дрянь работа! — сказал он, нахмурясь. — Эх, Олешка, из школы-то тебя безрукого выпустили! Десять лет человека учили, а не научили, что всякое дерево надо по слою строгать. Это все равно, что кошку по шерсти гладить. Попробуй-ка против шерсти — цапнет она тебя коготками! Так же и дерево… Запомни, Олешка: всякий предмет свой секрет имеет, взять хотя бы ту же досочку. Возьмешься за нее не с того конца — она тебе не поддастся: треснет. А разгадаешь секрет — сама в руки пойдет… Ты погляди на свою работу: досочка твоя в занозах да заусеницах, точно ежик какой. Из такой кормушки корова пить-есть не станет, хоть ты под хвост ей кланяйся!
Часовой со стороны прислушался к разговору, бочком подошел ближе, хохотнул по привычке:
— Ха-ха, насчет хвоста ты верно сказал, Олексан Иванович!.. Было со мной такое: родители взяли с собой на покос, дали литовочку — коси! У людей сзади ровненько остается, а у меня — с загривочком. Родитель и заметь это, прости господи! С тебя, говорит, штаны за такое дело полагается спустить да голым задом посадить! Было такое, было.
Дядя Олексан недовольно оборвал его.
— Язык у тебя, Иван, без узды! Парня надо к делу приучать, а ты со сказочками. Небось мальцом тебя ложку держать учили? А тут дело сурьезное…
Обрадовался я доброй поддержке дяди Олексана! Какой он все-таки правильный человек, прямой, с открытым сердцем. С каждым днем он нравится мне все больше. К месту похвалит, вовремя подправит, а если нужно — всегда оградит от насмешек. И старик Парамон Евсеич по сердцу мне, но дядя Олексан по сравнению с ним совершенно другой человек, и я уверен: он ни за что не промолчал бы на суде, если бы знал о Беляеве столько, сколько знает старик Парамон.
…Дальше дело пошло лучше. Взяв доску, я сначала тщательно смотрю, в каком направлении ее строгать, затем аккуратно закрепляю на верстаке, поплевав на руки, берусь за струг, и вжик! — тоненькая стружка змейкой вылетает из-под моих рук. На доске остается свежая чистая дорожка. "Жив-вжик!.. Жив-вжик!.." С каждым ходом струга дорожка ширится, и вот, наконец, вся доска сверкает желтоватой белизной. Для верности провожу по ней ладонью — она совершенно гладкая, точно отполированная, ни единой щербатинки! А вокруг меня пенится целое озеро стружки, она шуршит под ногами, праздничным новогодним серпантином обвивает мои руки, от нее исходит приятный, щекочущий запах свежего леса. Дядя Олексан с серьезным лицом уверяет, что должность плотника и столяра является самой благородной и полезной для здоровья, потому что всякое дерево выделяет кислород, и воздух через это всегда чистый. Я, конечно, знаю, что кислород выделяют только живые деревья, но разуверять дядю Олексана не хочется: очень уж приятный, волнующий запах смолы и еще чего-то идет от свежей стружки. Кто знает, может, в самом деле из-под моего струга невидимыми струями бьют роднички настоящего, живительного кислорода!..
Дядя Олексан по "шаблону" обрезает обстроганные доски, Часовой гвоздями сколачивает кормушки. Их уже Яного, они штабелями высятся под навесом. По маленькому конвейеру проходит каждая из них, и начало этому конвейеру — в моих руках!..
— Шабаш, ребятки! Перекурим это дело, — объявляет дядя Олексан, стряхивает с колен мелкую стружку и тянется за кисетом. Часовой придвигается ближе к нему, отрывает от газеты лоскут с ладонь и крупной щепотью достает из чужого кисета махорку. Уже больше недели мы работаем втроем, и не было случая, чтоб Часовой имел свое курево — он из породы "вечных стрелков". Дядя Олексан незлобиво смеется:
— Ну и здоровые же ты крутишь из чужого, Иван! Гляди, чахотку схватишь… Хм, интересная это штука: нормальный человек вряд ли попросит у другого гривенник, а вот с куревом вошло в привычку: "Дай закурить!" и точка! Это я не из скупости, просто к слову пришлось. Табак — он на свете самый бессовестный товар.
— А ей-богу, верно! — задохнувшись едкой "моршанской" махоркой, поддакивает Часовой. — Копейку не попросишь, а табачок — очень даже просто…
— Теперь ты мне другое скажи, Иван: как это ты табачным зельем балуешься, если оно богом запрещено?
Вопрос застает Часового врасплох, он мнется, мелко смеется, без нужды слюнявит цигарку и отвечает совсем не по существу вопроса:
— Оха-ха, Олексан, ты скажешь!.. А я… что я? Хоть и курю, а бога понимаю. Как же, как же!.. Без бога, как говорится, до порога, а дальше — закрыта дорога! Курить — кури, только с богом не дури. Истинно так!
— Эх, Иван, твоим бы языком мед лизать! Правду говорят, что возле святых черти водятся… Соври-ка лучше, как ты в войну наших баб в православную веру обращал. Как ты, совсем монахом заделался или мужскую веру держал?
В хорошем настроении дядя Олексан всегда принимается донимать Часового расспросами о его "монашеской" жизни. Часовой поначалу отнекивается, хмурится, но, припертый к стене, сдается. Дядя Олексан от души хохочет, ударяя себя по коленкам:
— Во, монах-то, а! Люди воевали, кровь проливали, а ты, выходит, с бабами молился о победе? Петух своих кур учил бога понимать, ха-ха!.. Ну, шельма! Твое счастье, Иван: народ наш сердцем отходчивый. Шлепнуть бы тебя хорошенько, а люди простили! Да-а, отходчивы мы уж очень… Божий человек! Знаю я вашу братию… В городе тетка моя живет, без бога муху не обидит. Точная твоя копия, Иван, одна только разница — в юбке ходит… Случилось мне в город поехать — протез заказывать в мастерской. Знакомых у меня там нет, в гостинице переполнено, пришлось к тетке тащиться. В дом она меня впустила, а руки не подала: ты, говорит, грешный человек, табак куришь, вино пьешь. Ну, думаю, это еще куда ни шло, обниматься с тобой у меня особой охоты тоже нету… А тут к ней как раз пришли гости — древние старушки. Что там началось! Тетка с ними обнимается, целуется, плачут на радостях, а потом разом бухнулись на колени и ну давай молиться. Эге, думаю, угодил я в старушечий рай! Взял свою котомку и смотался, на вокзале ночь ночевал, на голой скамье провалялся. Вот он и есть, портрет ваш богомольный!
Боталов начинает волноваться, теребит бородку, брызгая слюной, доказывает свое. Дядя Олексан посмеивается:
— Э-э, не говори! Знаем мы вас, были вы у нас, после вас не стало самовара у нас! Без мыла лезете!
— Напраслину возводишь, Олексан, зря человека обижаешь!
— Хо, таких обидишь!
Затем он окончательно кладет Часового на лопатки:
— Как же так получилось, что твой бог позволил немецкому фугасу швырнуть тебя к черту в зубы? Выходит, богу все одно, есть ты на земле, или вовсе нет тебя! А, Иван?
Перед этим вопросом Часовой пасует и старается незаметно свести неприятный разговор на другое:
— Эхе-хе, всякое может с человеком случиться… Живем на божьем свете, землю толчем, грехами обзаводимся. Жить бы человеку при своем месте, тихо да мирно…
— "На своем месте"! — подхватывает дядя Олексан. — Ишь, чего захотел! Всякая жизнь бывает. Вот, например, есть такая ракушка, она имеет свойство зарываться в песок и живет таким манером двести лет. Вот это по-твоему, Иван! Согласен двести лет дрыхнуть, а? Всякая жизнь бывает на земле, а только человек ищет, где ему беспокойнее. Ершистый он, наш брат человек!
Спорить они могут без конца. Я постепенно теряю нить разговора и начинаю думать о своем. Приходит на ум привычный вопрос, он вытесняет все остальное: "Рая, милая Рая! Где ты? Почему так долго нет от тебя вестей?" Стараюсь успокоить себя: "Придет письмо, не может быть, чтобы не написала. А если долго, что ж… Мало ли как бывает. Пока она устраивается на новом месте, привыкает…"
— Эй, Олешка, пригрелся на стружках? Айда, вставай, подымайся, рабочий народ! До вечера надо управиться с кормушками.
И снова я встаю к верстаку. "Жив-вжик!.. Жнв-вжик!.." Из-под струга змейкой вьется лента стружки, ложится к ногам. В работе я забываюсь, незаметно исчезают невеселые думы, точно испаряются, отступают в дальние уголки сознания. А может, в самом деле мой струг высекает из дерева живительные искорки кислорода, и от них легче дышится?
* * *
За ночь погода изменилась: пришла зима, такая долгожданная. Вчера, возвращаясь с работы, я с болью смотрел на дядю Олексана: каждый шаг давался ему с трудом, деревянная нога вязла, оступалась в липкой грязи, он трудно и долго взбирался в гору, спина его переламывалась и кособочилась. Часовой опередил нас, по-журавлиному вышагивая на длинных худых ногах, будто на ходулях. Под мышкой у него обрубок: божился накануне, что дома нечем печурку разжечь. Тащит он каждый вечер: то груду щепок, то клок пакли, то горсточку гвоздей. Дядя Олексан вначале будто не замечал этого, но сегодня, строго насупившись, предупредил:
— Ты, Иван, иной раз на хомяка смахиваешь: всякую дрянь в свою норку утянуть норовишь. Смотри, не зарвись, с мелочишки на большое потянет!
Часовой всполошился, замахал руками:
— Вот те крест, лишнего не беру! Сами знаете; детишки у меня, доглядеть за ними некому. Избенка нетопленная, дровишки вышли. Не ребятки — плюнул бы…
— Шут с тобой, щепы не жалко, бери! — раздраженно махнул рукой дядя Олексан. — А что до остального — смотри, остерегись…
Грязь и слякоть надоела всем "аж по самые ноздри", как говорит Генка Киселев. Ползут и ползут без конца серые, набухшие влагой тучи, нависают над самыми коньками крыш, порой кажется, что вот-вот зацепятся они за голые верхушки тополей и останутся висеть на сучьях грязные, серые лохмотья. Ветер пронизывает сквозь одежду, холодит разгоряченную в работе грудь…
Но сегодня всему этому пришел конец. В комнате непривычно просторно, на потолке играют светлые блики. Соскочив с постели, раздвинул занавеску, и в глаза ударил целый поток света. На улице лежал ослепительно белый, чистый, без единого следа снег. Первый снег!.. И странно: я подумал не о лыжах, а о том, что дядя Олексан теперь не будет оступаться своей деревяшкой в холодную, вязкую грязь. Зима принесла радостное ощущение: работать будет легче!
Дела на ферме продвигаются к концу. Кормушки все поставлены, перегородки сияют чистотой, заново разостлан пол. Девушки-доярки несказанно благодарны нам, оказывают всяческое внимание. Вечерами, подоив коров, они приглашают нас выпить теплого, пенистого парного молока. Мы заходим в маленький домик, где стоит сепаратор, и степенно, как и подобает мужчинам, поочередно прикладываемся к кружке. Первым пьет дядя Олексан, довольно улыбается и, проведя ладонью по губам, крякает:
— Ах-х, хорошо! Спасибо, девки!
Часовой тоже ухмыляется в бородку и подхватывает:
— Хе, с такой жизни… на грех потянет, истинный бог!
Доярки дружно смеются:
— Дядя Иван, женись другой раз! Выбирай тут же, глянь, сколько нас!
Девушки на ферме собрались бойкие, за словом в карман не лезут, чуть зазеваешься — тут же на смех подымут. Незаметно для окружающих я приглядываюсь к Анне Балашовой: что за человек она? Среди подруг держится особняком, старается быть неприметной, однако, странное дело: к ее словам здесь все прислушиваются. Голос у нее певучий: "Девушки, надо бы полы вымыть, а то люди засмеют…" — и пройдет всего, каких-нибудь полчаса — пол в сепараторном домике выскоблен, вымыт до восковой желтизны. Никак не возьму в толк: чем Анна берет сердца людей, отчего ее слушаются даже самые занозистые девчонки? Не слыхать, чтобы она кричала, ругалась — нет, наоборот, голос у нее тихий. Но голос этот слышен всем. Правда, я знаю ее и другой: осенью на заседании правления — ого! как она распалилась, казалось, вот-вот брызнут из глаз искорки! Не случись этого, кто знает, может, стояла бы ферма до сих нор без ремонта, или затянули бы его до самой зимы.
В один из дней, закончив работу, мы собрались идти домой. Дядя Олексан сказал, чтоб я отнес инструменты в сепараторный домик. Я подхватил ящик с инстру ментами, поставил в чуланчик и у выхода неожиданно встретился с Анной. Она легко несла полный подойник, завидев меня, почему-то смутилась и покраснела.
— Ой, Алеша, это ты?.. Думала, никого тут…
Отвела глаза, почему-то перешла на шепот:
— Хочешь, налью молока? Чистое, тепленькое…
Пройдя в домик, она до краев налила молока в белую алюминиевую кружку, руки у нее чуть дрожали, молоко плеснулось на пол. Застенчиво улыбаясь, подала мне кружку:
— Жизнь у тебя будет полная. Это такая примета. Пей… Молока заметно больше пошло, тебе… и всем вам спасибо, Алеша!
Поднеся кружку к губам, я посмотрел на Анну. Глаза наши встретились, Анна тут же отвернулась и спросила дрогнувшим голосом:
— Налить еще… Алеша?
Я улыбнулся и сказал:
— Спасибо, Анна. У нас как в песне: "И стоял он у колодца, может, час, а может, два…" Спасибо, ждут меня.
Выходя из домика, я на пороге еще раз оглянулся на Анну: она смотрела мне вслед, казалось, хотела что-то сказать или спросить…
Догнав товарищей, я поравнялся с дядей Олексаном. Он покосился на меня, усмехнулся и спросил:
— Поставил инструмент? Что-то ты долго там, парень!
Я замялся, пробормотал что-то вроде "попил водички", а дядя Олексан весело рассмеялся и сказал:
— Оно и видно! Не обсохла водичка, спешил, видать!
Я посмотрел на свой рукав, а на нем застыли беленькие капельки молока… Хорошо — выручил Часовой: он принялся охать и жаловаться на свою неустроенную жизнь:
— С детишками просто беда! Дровишками с лета не запасся, просил у бригадира лошадь, а он — "потом" да "некогда"… Утром по избе зайчишки бегают! А ведь дите — оно тепло любит. Прямо беда, хоть ложись да помирай…
Дядя Олексан молча слушал его жалобы, сжав челюсти, играл желваками. Потом сказал сердито:
— Брось канючить! Слюни распустил: "детишки, дровишки!.." Надо было раньше об этом подумать, а ты вот… как запрягать — так дугу загибать. Ваш брат не перекрестится, пока над куполом гром не грянет! Э-э-э, богомолец… Не так ты живешь, Иван, вот что! Женился бы, что ли, правильно подсказывают тебе девчата. И зря ноешь: не те времена, чтоб люди без дров помирали!
Дошли до конторы, здесь дядя Олексан круто свернул и, поскрипывая деревяшкой, захромал к крыльцу. За ним на снегу остался причудливый след: узорчатый отпечаток кирзового сапога, а через шаг — круглая ямка от деревяшки. Похоже, будто прошел великан с батогом.
А на другой день, хотя все лошади были заняты, Алексей Кириллович все-таки выделил пять упряжек с возчиками, и целый день они подбрасывали от колхозной делянки хворост, сухой вершинник, развозили по домам колхозников. В первую очередь поддержали дровами хозяйства многодетных женщин и одиноких старух, вроде нашей соседки Чочии. Во двор Боталову свалили три огромных воза хвороста: Часовой, по-видимому, числился в списке остронуждающихся… Я догадался, что вчера вечером дядя Олексан заходил в контору не просто покурить. Хорошее он дело сделал, а Часовому, должно быть, и невдомек. Еще и помолится на ночь во славу божью!..
Сегодня, во время перекура, как-то сам собой возник разговор: где, в каких краях жизнь человеку дается легче. Разговор этот затеял Часовой. Захватив по привычке из чужого кисета полгорсти махорки, он завздыхал:
— Человеку в жизни по-разному везет… Другие, глядишь, родятся и живут до самой своей смерти в теплых краях. Ни одежонки, ни избы не требуется, живи да и только! А у нас что? Три, от силы четыре месяца в году теплом пользуемся, а остальное — зубами стучишь! Зима — готовь шубу да дрова. Что и говорить, Живут люди в жарких странах, во-от живут!.. Видно, господь бог кому как на роду напишет: одному в холоде родиться, а другому весь век в теплой стране жить…
Часовой блаженно щурится, будто и в самом деле нежится под благодатным тропическим солнцем. А дядя Олексан выпрямил хромую ногу, чертит деревяшкой бороздки в снегу и необыкновенно миролюбиво, будто нехотя, отзывается на слова Боталова:
— Чудной ты, Иван. Временами послушаешь тебя — ну, чисто малый ребенок… И родина тебе, видать, по боку, лишь бы спину солнышко пригревало, да живот от сытости пучило. Без роду, без племени человек… Да разве в том жизненная цель, чтобы пузо свое набить да на солнце пузыри пускать?
— А то как же? — искренне удивился Часовой. — Только и есть, что человек ломает себя за кусок хлеба да за теплый угол! Ну, другой раз выпьешь чарочку не во гнев господу…
Дядя Олексан несогласно помотал головой, нагнувшись, подобрал щепочку, переломил пополам. А в глазах — веселые искорки.
— Эте-теть, Иван, видом ты орел, а умом — тетерев! Тебя как за штаны покрепче возьмешь, тут и богу твоему крышка. Небось сам говорил, дескать, человек на земле проживает временно, вроде как в гостях у мачехи, а постоянная его прописка — там, за гробом… Твои слова? Ну то-то! А что-то не видно по тебе, что ты в гостях! Вишь, на этом свете хочешь удобнее устроиться? Чтоб и пельмени были, и ватрушечки, и перина пуховая, да еще и чарочка ко всему этому? Э-эх, Иван, я тебя насквозь, как через рентген, просматриваю, понял?! Когда тебе сподручно, бога своего ты загоняешь в самое дальнее стойло, точно яловую коровенку! А жизнь, скажу тебе прямо, везде на одну колодку: без труда не вынешь рыбку из пруда. А вынешь — вот тебе и пища. Человек без дела — кто он есть? Тьфу, — и только!
Дядя Олексан сплюнул в снег, притоптал то место сапогом.
— Вот ты говоришь о теплых краях… А по-моему, где положен твой труд, там тебе и тепло. Без дела даже в самой жаркой стране человеку зябко, это точно!.. Случай был со мной: уговорили ехать на Кавказ подлечиться, нога что-то крепко беспокоила. Слов нет, места там подходящие, спервоначалу не знаешь, на чем глаз остановить: тут красиво, а дальше — и того лучше. Эх, думаю, жаль, мало сроку, всего месяц один, а люди весь век в такой благодати проживают. И одежки особой, как ты говоришь, не требуется: летом, к примеру, взял тряпицу, обмотал пониже спины — вот тебе и костюм!.. С неделю ходил, приглядывался, дивился всему, а потом скука ко мне начала приставать. Что ни день — одно и то же: красиво, тепло, на работу никто не наряжает… Не поверите: сплю и во сне вижу тополя по Чурайке, рощи наши, поля, и будто новое хранилище строится, бревна обтесываю. Няни будят: мол, чего это вы, больной, рукам своим во сне волю даете! Да-а, житуха была… Кормят, точно боровов-откормочников, выпускают в садик на прогулочку, укладывают в пружинную кровать, словом, всё за тебя делают, разве что не ходят в известное место… Там, брат, чуть ли не за каждым цветочком специальный человек ухаживает, во! Ну-у, насмотрелся… Кое-как дождался срока, выписался и низко всем поклонился: спасибо за ласку, но сюда меня больше ни за какие пряники не заманишь, не-е-т!.. Конечно, разок стоит такие прелести на себе испытать, земля велика, чудес на ней всяких великое множество. А родина — она и есть родина, хороша ли или чем малость не вышла — все одно, твоя она! И за климат ты зря ее обижаешь, Иван. Такой климат, может, поискать еще надо! За морем, как говорится, теплее, а у нас — светлее. Мне, например, лучшего не надо, потому как здесь все знакомо, привычно, будто друзья сызмальства: и тополя эти, и поле. Иначе и быть не может: выходит, породнился человек с местностью через свой труд. Я так смотрю: должен человек на земле память по себе оставить, чтобы люди сказали: "А ведь это дядя Олексан строил, его рук дело!.." Коли скажут про тебя такие слова, можешь быть спокоен: не зря хлеб жевал да землю топтал, значит, был ты тут как раз на своем законном месте! А ты говоришь: "Теплые страны, шерстяных штанов не требуется…" Глупа та птица, которой свое гнездо не мило!
Я впервые вижу дядю Олексана таким взволнованным, и говорит он очень хорошо, хочется, чтобы говорил еще и еще. И что меня удивляет: образования у него немного, может быть, окончил пять классов, а то и меньше, но откуда такая сила в его словах? Где те родники, что питают его безмерную веру в жизнь, веру в хорошее? Он и с одной ногой стоит на этой земле куда прочнее, чем Боталов! А я? Будет ли у меня когда-либо такая надежная опора под ногами? Да, земля тверда, только не всякий стоит на ней так же твердо, непоколебимо, как дядя Олексан.
Эх, как мне не хватает этой самой опоры! И где мое "законное" место на этой большой земле?
* * *
Наконец, с фермой мы покончили. Дядя Олексан неспешно обошел кругом, осмотрел наши труды придирчивым глазом и сказал: "Кажись, все, дело к концу". И, подмигнув мне, добавил: "А дело без конца — что кобыла без хвоста! Смекай, Олешка".
…Теперь мы готовим сруб под новый свинарник, весной его поставить на фундамент — дело нехитрое. Нас, строителей, собралась целая бригада: зимой в колхозе дел меньше, мужчины свободные. Работа идет весело, дружно, наверно, по всему Чураеву слышно, как мы распеваем плотницкую "Дубинушку":
— Эх, старушка-матушка, да ещ-що…
Это густым, осипшим на морозе голосом выводит дядя Олексан. Чуть выждав, мы разом выдыхаем из десятка грудей:
— …взяли!
Толстое, в два обхвата, мерзлое бревно с удивительной легкостью устремляется наверх: это так называемое "череновос" бревно. А после я смотрю и не верю своим глазам: неужели этакую махину подняли мы? Да, великая вещь — артельная работа. Дядя Олексан не зря часто повторяет любимые свои слова:
— Одному и щепочку поднять несподручно. Потому и плотники завсегда артельно работают. Дружно не грузно, а врозь хоть брось, как в пословице говорится. В одиночку и мед горек, а в семье каша гуще!
Я стараюсь изо всех сил, бегу туда, где труднее. Плотники — народ на язык острый, чуть заметят, что "волынишь", без хитростей в глаза скажут, насмешками изведут. И сразу пропадет всякая охота "волынить". Бедняге Часовому дядя Олексан как-то во время перекура посоветовал:
— Ты, Иван, через силу не старайся, надорвешься… Ежели чирей у тебя на загривке сидит, не беспокой его, пущай дозревает…
И посыпались со всех сторон участливые замечания, советы:
— Ишь ты, хозяина сыскал, а!
— Как бы не раздавил ты своего барина раньше времени, Иван!
— Э-эх, надо же такому случиться…
Часовой растерянно жмется, озирается кругом и бормочет:
— Ну что вы, мужики… Чирья у меня и не бывало, откуда взяли? Шутники, ей-богу…
Довели-таки человека: теперь Часовой чуть ли не первым подставляет плечо под лесину, согнувшись в коленях, идет мелкими шажками, кряхтит: "Ах, мужики… такое скажут… Напраслину возводят, другой послушает и поверит…"
А дядя Олексан подбадривал нас:
— Дружней, ребята! Вполплеча работа тяжела, оба подставишь — легче справишь!
Воздух чистый, сухой, с каждым выходом изо рта вырывается струйка морозного пара и тут же тает. Но я не чувствую мороза, даже скинул фуфайку: легче работать. Весело перекликаются наши топоры, звоном отвечает промерзшее дерево. Работаем молча, лишь время от времени устало разгибает спину тот или другой плотник, склонив голову вбок и прищурив глаз, проверяет "по нитке" свою работу. И опять перестук топоров, звон дерева. До перекура остается долго, а поясница начинает ныть, все чаще приходит в голову: не забыл ли дядя Олексан крикнуть свое: "Шабаш, ребятки!.."
Мой дружок Генка Киселев на тракторе подтаскивает к стройке длинные хлысты. Дороги ему не нужно, прет напролом по снегу. Бывает, забуксует трактор, сердито зарычит, из-под гусениц летит снежная каша; тогда Киселев пятит машину назад, рывком бросает снова вперед на снежный вал, и стальная громадина, содрогаясь всем корпусом и задрав тупой передок к небу, шаг за шагом взбирается на гребень заноса. Похоже, будто ледокол пробирается во льдах. Порой трактор кажется мне живым существом, а Генка просто так сидит в кабине. Но странное дело: большая, могучая машина покорно повинуется даже малейшему движению Генкиных рук: она то круто разворачивается на месте, оставляя на снегу кольца следов, то переползает через бревна или, словно умный конь, осторожно пятится к прицепу. А Генка, небрежно развалившись, сидит в кабине, в одной руке держит краюху хлеба. Нашел время обедать!..
Пока плотники курят, я забираюсь в кабину трактора, устраиваюсь рядом с Генкой, он объясняет мне назначение рычагов, педалей, кнопок… В школе на уроках физики мы изучали устройство дизельных моторов, я мог с закрытыми глазами начертить на доске схему их работы. Но здесь совсем другое дело: знакомый до мелочей дизель кажется чужим, я заново открываю его, знакомлюсь вторично. Со мной это происходит нередко: заново открываю для себя давно известные по книгам вещи, предметы, понятия. Например, летом в городе, оставшись на ночь в общежитии института, я, как зачарованный, стоял перед электроплиткой, тогда я видел это чудо впервые (ведь в Чураеве нет электричества!). И сколько еще на свете вещей, о которых я хорошо знаю по книгам, по рассказам учителей, но которых я ни разу не видел, руки мои не притрагивались к ним!
Заметив, что я тяну рычаг не в ту сторону, Генка делает большие глаза:
— Куда тянешь, чудак! Моментально машину забухаешь! Я ж тебе показывал! Эх, друг, механик из тебя аховый…
Последние слова Генка произносит добродушно, и я не сержусь на него.
Стараясь сгладить свою оплошность, спрашиваю Генку о другом:
— Как идет твоя учеба?
Киселев морщится, крутит головой:
— Пять прогулов за мной, лысый его возьми! То ночная работа, то ремонт… Трудно, Лешка, после смены за партой сидеть. Раз на уроке натурально захрапел. Не выучился в своё время, теперь приходится себя ломать. Сидишь в классе, а на уме другое… — Генка задумался на минутку, потом неожиданно с силой хлопнул меня по плечу: — Ничего, друг, выдюжим, даешь аттестат! Кто сказал "Тяжело в ученье, легко в труде"?
— Суворов…
— Вот и наврал! Запомни, Лешка, раз и навсегда: это сказал Киселев Геннадий, тракторист и по совместительству ученик восьмого класса!
Генка довольный хохочет, а я думаю: "Тебе, Генка, хорошо, ты дорогу свою ясно представляешь. А мне не так просто. Ты обязательно получишь аттестат, будешь засыпать за партой, обедать в кабине трактора, но своего добьешься, в этом нет сомнения. А дальше… Интересно, что он думает делать потом?"
— Потом? Потом кошка с котом! — Но тут Генка становится серьезным. — Дальше я дорожку пробью, будь спокоен. Для начала мне во как нужен аттестат!
А потом… Что, институт? Ну, это еще как сказать, дальше видно будет. И вообще, Лешка, в наше время редко кого увидишь без среднего образования. Явление, так сказать, массовое. Вон, сколько ребят со средним образованием в РТС, и ничего, работают. Вот и я решил не отставать, иначе получится, что один ты не в ногу с ротой шагаешь. Или, скажем, познакомлюсь с девушкой, у нее высшее образование, диплом и все такое прочее. Вот и будешь выглядеть рядом с ней как… ну, вон как тот чурбак неотесанный. Понял?
Он опять смеется. Порой мне трудно понять Генку: шутит он или за смехом таит что-то серьезное, заветное. Он в свою очередь спрашивает меня:
— А ты как, на будущий год снова в институт счастья попытаешь?
— А как же? — вопрос Генки удивляет меня. — Ребята с нашего класса все учатся, один я тут… с топором. Только беда вот — за год забудется многое.
— Это верно, — соглашается Генка и озорно встряхивает головой: — Ничего, подчитаешь, вспомнишь. Да-а… Слушай, переходи сюда, Лешка! Давай на будущий год вместе на комбайне работать, а? Во было бы здорово! Мишку этого я и видеть не желаю, черта с два пойду с ним на пару. Давай с тобой, Лешка?
— Не знаю… С комбайном я мало знаком…
А перед глазами живо встает знакомая картина: жара, пыль, желтые груды соломы, грохочущий комбайн… С какой завистью посматривал я тогда на Мишку Симонова: ему все нипочем, он стоит высоко на мостике, там пыли нет, его со всех сторон обдувает прохладным, без проклятой пыли ветерком. Стоит, точно капитан какой, время от времени лениво ворочает рогатым штурвалом.
— Не знаю, Генка, подумать надо… Все это не так просто. А почему вы с Мишкой не сошлись?
Генка яростно сплевывает в окно кабины и начинает ругаться.
— С Мишкой? Гад он хороший, вот что! Да его до комбайна за километр нельзя подпускать!.. Раньше я знал его другим, не такой он был. Как вернулся из армии, сразу на курсы пошел, окончил, стал работать. Ну, работал на совесть, по две-три нормы выдавал, начали к нему из газет наезжать, пишут о нем, снимки печатают. Испортили парня, загордился, невозможно подступиться, стал якать, чуть что, сразу на стенку лезет: вы, говорит, ученого не учите, у меня своя голова, меня во всей республике знают! Короче, попала вожжа под хвост, и он понес… Стал специально рекорды ставить, а там, известно, до халтуры полшага остается. Знаешь, как он наловчился? Возле дороги выжинает как положено, а отъедет подальше — поднимает хедер, жнет на высоком срезе, третью очистку выключает: дескать, от комбайна и сорное зерно обязаны принимать. Меня заставляет на четвертой скорости гнать трактор: ему бы побольше площади убрать! Поговорили мы с ним один на один, поутих он вроде, а зуб, оказывается, на меня держал. Помнишь, как при тебе его вырвало? Вот, гад! Для меня, говорит, земли хватит, не обеднеет колхоз, если Мишке Симонову заплатят больше других. Понял, какая у него натура? Хапуга тот еще! Хороший был парень, а поди ж ты, с головы начал протухать, точно налим в жару. За воротник часто стал закладывать… А в РТС он какие номера откалывает, ты бы видел! Ему вынь да положь нужную деталь, а если такой на складе нет, в грудь себе стучит: "A-а, нарошно затираете, ножки подставляете! Вам завидно, что Мишка Симонов — передовой работник, такие-сякие!" И давай всех подряд с верхней полочки… Не-ет, не буду я работать с ним на одном агрегате! Хватит с меня, иначе нам добром не разойтись… Давай, Лешка, просись комбайнером, особой сложности там нет, в случае чего вместе будем. Ну, надумал?
Молчу. Да и что я могу сказать Киселеву? Нешуточное это дело. Как еще отнесется к этому отец? Нет, этого сразу не решить, дай срок подумать… Конечно, неплохо бы получить специальность комбайнера — в жизни не помешает.
Генка тычет меня в бок, кивает в окно:
— Смотри, председатель идет сюда. Сказать ему, что согласен, а?
— Не дури, Генка! Зря не болтай…
Киселев скалит зубы, обнимает меня за плечи:
— Эх, Лешка, нерешительный ты парень! Смерти бояться — на свете не жить.
Захаров свернул к строителям, рукавицей смахнув с бревна снежок, присел рядом с мужиками.
— Айда; пошли ближе, послушаем умных людей! — Генка первым выскочил из кабины. Алексей Кириллович встретил нас, насмешливо покашливая:
— Кхм, хм, мужички, здравствуйте! Ну, присаживайтесь ближе! Киселев, когда кончишь трелевать? Вечерком подгони трактор к силосным ямам, помоги снять крышку. Земля там смерзлась, подцепи тросом и рвами. А то женщины с лопатами проковыряются целый день… Ну, товарищи, рассказывайте, как тут у вас дела? Дальше как будем жить-поживать?
Мужчины не торопятся начинать разговор, усердно дымят цигарками. Захаров тоже не торопится. Наконец, дядя Олексан, будто между прочим, замечает:
— К новому году будем закругляться. Конец года, чтоб на шее не висело… Окромя этого, других дел полно. На ремонт наляжем…
— Мой дизель на капиталку придется ставить, Алексей Кириллович, — ввернул слово Киселев. — Поршневую группу всю надо менять, ходовая часть тоже барахлит.
Захаров промолчал. Зашевелился Часовой, моргая глазами, заговорил, давясь словами:
— Году конец, а рассчитываться с колхозниками когда будете, товарищ председатель? Я, к примеру, по контрактации телочку на ферму сдал, а денег ни рублика не дали! Разве это дело? Наобещали с короб, а обещанная шапка на уши не лезет… Кабы знал, что такое дело, свел бы телочку на базар, и денежки в карман. Чистый обман получается, товарищ председатель!
Кто-то из плотников подал голос, что и с ним такая же история тянется: теленка сдал, а денег не получил. Когда будут рассчитываться?
Алексей Кириллович слушал молча, чертил щепочкой на снегу замысловатые фигурки и тут же заметал их. Но вот он поднял голову, оглядел мужиков, остановил взгляд на Часовом. Заговорил негромко, сдерживаясь:
— Конечно, Боталов, ты имеешь полное право требовать оплаты за свою телку. И мы, то есть правление, обязаны уплатить тебе. Это, так сказать, наши с тобой исходные позиции… А теперь давайте рассмотрим, как обстоят у нас дела, и можем ли мы немедленно рассчитаться за сданных телят. Я никакого секрета не раскрою, если скажу, что в кассе денег нет…
Захаров сделал паузу. Плотники выжидательно молчали.
— Где деньги, спросите вы меня, так? Давайте считать вместе. Авансом выдали колхозникам немалую сумму, это раз, затем рассчитались с государством за технику — два, вложили в капитальное строительство — три, потом вернули кругленькую сумму по различным ссудам, уплатили подоходный налог, страховку и прочие платежи — четыре, отчислили в неделимый фонд — пять!..
Алексей Кириллович называл сумму и энергично загибал пальцы на руках. Скоро ему не хватило пальцев, и он продолжал со сжатыми кулаками, выставив их перед мужиками, точно сжимал в них эти многие тысячи рублей. Я и не подозревал, что наш Чураевский колхоз ворочает такими деньгами: счет давно перевалил за первую сотню тысяч, приближался ко второму, а председатель продолжал:
— И последний, если не самый важный", то во всяком случае… очень острый вопрос. Вот он стоит, видите? — Захаров кивком головы указал на киселевский трактор. Все как по команде оглянулись и снова молча, в напряжении обратили лица к Захарову. — Новый, с завода, он стоит две с лишним тысячи, а сейчас, как вы думаете, сколько он стоит? И не гадайте зря, не угадаете! В колхозе у нас сейчас девять тракторов, да плюс комбайны, автомашины, прицепной инвентарь. В течение года мы их ремонтировали, пользовались услугами РТС. Так вот, за эти самые услуги РТС сияла с нашего счета в байке… — Захаров чуть помедлил, выжидая, — тридцать с лишним тысяч!
Кто-то недоверчиво охнул. Дядя Олексан слушал председателя хмурясь, остальные плотники тоже сидели с угрюмыми лицами. Но при последних словах Захарова все оживились, заговорили взволнованно:
— Ого, вот это да!
— С ума они там посходили, что ли?
— Или запчасти они ставят золоченые?..
Выждав, когда возбуждение мужиков уляжется, Захаров жестко продолжал:
— Да, ремонт в РТС нам обходится в дорогую копейку. Рассказывать долго, но ясно одно: так продолжаться не может. Где и кому положено, там об этом знают, и надо надеяться, что положение изменится к лучшему. А пока, как видите, старая техника обходится нам дороже новой. Выгоднее купить новый трактор, чем ремонтировать старый!.. Вот и скажи теперь, Боталов, откуда нам взять денег, чтобы рассчитаться с тобой? А ведь ты не один такой — многие сдали своих телят, коров.
Часовой помялся, зябко повел плечами, неуверенно пробормотал:
— Так ведь… жить как-то надо, товарищ председатель. К тому же многодетный я…
— Ясно! — шумно вздохнул Захаров. — И если хочешь, чтобы мы тебя завтра рассчитали полностью, ты должен сегодня дать колхозу эти средства. Другими словами, сейчас мы закладываем свою колхозную "тяжелую индустрию": обновляем поголовье скота, строим фермы, хранилища, удобряем землю и так далее. Короче, берем разгон, а на подъеме всегда трудно! Вот ты, Боталов, представь себе такое: везешь ты на лошади воз, дорога в гору, и неужели не подсобишь коню своей силой, будешь одними вожжами да кнутом помогать? Не-ет, нам такие помощнички не требуются! Жаль, что некоторые колхозники хорошо запомнили одно слово "дай", а забыли, что есть и такое слово — "возьми"!..
Захаров передохнул и уже более спокойным голосом добавил:
— Если не к новому году, то близко к этому рассчитаемся с колхозниками. Хлеба мы выдали всем, полтора килограмма на трудодень, по-моему, достаточно?
— Хватит, куда больше!
— Лучше бы деньгами поболее…
— Одежкой надо заводиться, всякий шурум-бурум по хозяйству нужен.
Плотники заговорили разом, перебивая друг друга, а мне вспомнился давний разговор председателя с отцом: сколько выдавать хлеба на трудодень? Значит, отец был прав, и председатель правильно понял его. Вот и теперь он на людях проверяет свои расчеты.
— Деньги у нас будут. Нынче лен удался, будем сдавать волокном, кроме того, еще есть что получить за сданное мясо, молоко. Одним словом, на трудодень по рублю обойдется. Мало? А вспомните, сколько получали всего лишь три-четыре года тому назад. Копейки, не так ли?
Плотники согласились: верно, так оно и было. А рыжеватый бойкий мужик, причмокивая губами, принялся рассказывать "к случаю":
— Верно, верно, Алексей Кириллыч, копейки за труды приходились. При Беляеве как-то на собрании отчет слушали, сам Беляев сказывал, мол, доход в этом году был несравнимо выше, колхозники денег на трудодни получили на двести процентов больше. Народ в смех, а приехавший к нам из области человек спрашивает у Беляева: "Сколько выдали на трудодень в прошлом году?" Беляев на трибуне стушевался, молчит, а главный бухгалтер возьми и скажи: выдавали, дескать, по пять копеек. Смеху — еще больше! Встает тот товарищ из области и говорит: "Выходит, на пятак стали богаче, товарищ Беляев, то есть можно купить в лавке лишнюю коробочку спичек? Что же это вы народу голову морочите, процентами прикрываетесь?" И пошел, и пошел честить — Беляев весь взмок, точно всю ночь черти на нем воду возили!
Все засмеялись, Захаров тоже заулыбался и, поднявшись, стал прощаться.
— Да, для очковтирателей проценты — вещь удобная… Ну ладно, товарищи, поговорили бы еще, да спешу. Пойдем-ка, Киселев, покажи свой трактор.
Вдвоем они направились к машине, походили вокруг, о чем-то между собой беседуя. Я принялся было тесать бревно, но Алексей Кириллович и меня подозвал к себе.
— Ты и вправду собираешься летом на комбайне работать? Киселев говорит, что сам пожелал.
— Я?! Алексей Кириллович, да он просто… Генка, ты успел, натрепал? Ну, держись!
Мы схватились с Генкой. Шумно дыша, топчемся в снегу, выжидая удобного момента, чтобы одним броском подмять противника, сунуть лицом в снег… Алексей Кириллович оживился.
— А ну, сильней, ребята, нажми! Тезка, гни его, во-во, так! Киселев, покажи, на что ты способен!.. Эх, зря кормят вас…
Улучив момент, я хотел перебросить Генку через себя, но он цепко ухватился за мой ремень, еще секунда и — бух! — колючим снегом обожгло мне лицо, шею, перехватило дыхание. Не могу пошевелить рукой — Генка сидит на мне верхом, сжал в железные тиски. Подождав, пока я не промычал "пусти, хватит!..", Генка соскочил с меня. Алексей Кириллович сочувственно приговаривает:
— Эх, жидковат ты оказался против Киселева, тезка! Учти, механизаторы имеют дело с металлом, они вроде как сельский рабочий класс… Ну, поскольку ты сдался на милость победителя, так тому и быть: пойдешь в стан победителя. — Став серьезным, добавил: — Мой совет тоже такой: иди в комбайнеры, не пожалеешь. Будет замечательно, когда все механизаторские кадры мы подберем из своих, чураевских! Так что двигай. Подумаем, как это лучше оформить…
Председатель ушел. Генка машет мне рукой из кабины трактора, что-то кричит и смеется, но в шуме мотора не разобрать. Я погрозил ему кулаком: погоди, мазутная твоя душа, мы еще посчитаемся!..
Возвращаясь вечером с работы, я встретился с Раиной матерью.
— Господи, Алешка, богатым тебе быть — не признала издали! Да и то — нацепил на себя фуфайку, оделся по-колхозному!.. — залилась смешком тетка Фекла.
— В ней удобно работать, — объяснил я. И со злостью спросил: — А что, тетка Фекла, в костюме прикажешь бревна ворочать?
— Ишь ты, язык у него вперед ног бежит! Да не сердись, пошутила я… От Раи письмо пришло, привет тебе передает.
— A-а… Спасибо, — только и нашелся ответить ей, а у самого перехватило дыхание, сердце забилось гулкими, неровными толчками. — Как она там… устроилась?
Тетка Фекла ладошкой утерла губы, плаксиво заговорила:
— На одном листочке всего написала, негодница! Мол, учусь, живу хорошо, вот и все письмо. А зимой сюда не собирается, дескать, далеко, хлопотно в дороге… Не понять ей, что мать ее ждет не дождется! Пока маленькие, мать вам нужна, а крылышки вырастут — и до свиданьица! — Женщина и впрямь прослезилась, принялась утирать глаза уголком платка. Горестно махнув рукой, она пошла своей дорогой.
"Значит, Рая меня не забыла, помнит! Только почему не пишет? Может, взять у тетки Феклы адрес и написать первому? Нет, пусть лучше она напишет, а я подожду. Ведь всегда первым должен подать весточку тот, кто уехал… Подожду… Времени у меня впереди много".
Дома ожидала новость: едва успел ступить через порог, навстречу из-за стола поднялся брат Сергей.
— A-а, навозник-колхозник! — усмехнулся он, протягивая руку. — Ну, здорово живем?
Мы пожали друг другу руки и неловко замолчали, не зная, о чем дальше говорить. С детства у нас с Сергеем было мало общего, мы росли разными, вот и теперь, встретившись, не знали, что сказать друг другу. Сергей потоптался на месте, потом подошел к столу — там стояла распечатанная бутылочка — с маху налил полстакана, протянул мне:
— Выпьешь в честь встречи?
— Нет, Сергей, извини, я не хочу.
— Ого, слышь, отец? — деланно засмеялся Сергей и, помедлив, поставил стакан на стол. Прищурившись, стал приглядываться ко мне. Он был уже заметно пьян, но старался не показать этого. — Или… брезгуешь выпить со своим родителем и родным братом? А? Охо-хо, Алексей Петрович, уважь, пожалуйста!
Меня неприятно кольнуло кривлянье Сергея.
— Брось, Сергей… Я сказал, пить не буду. Угощай отца, маме подай, а я не хочу.
Сергей прикусил губу, уставился на меня тяжелым взглядом.
— А ты, браток, не учи меня! — раздельно произнес он. — Я сам знаю, кому поднести, а кого обойти. Ясно? Пр-рошу не учить. В этом доме, как я понимаю, пока все рядовые, ин-же-не-ров тут нет! Так?
Сергей перешел на крик. Мать вышла из-за перегородки, с укором скрестила руки на груди.
— Сергунь, ты бы ложился, устал, поди, с дороги… Ляг, выспись. Олешке тоже утречком рано вставать…
Мягкий голос матери подействовал на Сергея, он сник, сгорбился.
— Ладно, мама… И в самом деле, устал я что-то с дороги, разморило… Спать хочу… найдется у вас для меня местечко?
Вскоре он разделся, лёг на широкой лавке и, свернувшись под тулупом, негромко захрапел. Отец медлил ложиться, сидел за столом, дрожащей рукой поглаживал культю. Она тоже заметно подрагивала, точно жила своей, отдельной жизнью. Но вот отец поднялся, потянулся за костылями и огромной подбитой птицей запрыгал к своей лежанке. Мать убрала со стола ополовиненную бутылку, неслышно дунула на лампу. Стало темно, беспокойная тишина заполнила дом.
* * *
Больше недели свирепствовал буран, солнце не показывалось из-за туч, а с севера дул и дул слепящий, выжимающий из глаз слезы ветер. Снег в воздухе, на земле, проникает через самые, казалось бы, немыслимо малые щели. У нас между двойными рамами насыпало целый сугроб.
Между домами, в прогалах остались после бурана огромные застывшие снежные валы с причудливыми, точно изваянными гребнями. Мальчишки с восторгом штурмуют их, утопая по пояс в снегу. Мне становится немножко грустно: кажется, лишь вчера я так же радовался сугробам, а сейчас с нетерпением жду, когда они исчезнут. Еще только ползимы прошло, а я так жду весну!..
Завтра Новый год. От кого-то я слышал: "Как на Новый год, так и весь год". Пока учился, было привычно встречать Новый год в школе, там у нас каждый раз устраивали бал-маскарад. Правда, маскарадных костюмов у меня не было, но среди своих ребят и без того веселья хватало. До недавнего времени я не слишком задумывался над тем, как встречу наступающий год. Представлялось, что пути-дороги проложены на много лет вперед, и не стоило об этом беспокоиться заранее. Думалось так: окончу среднюю школу, поступлю в институт, а дальше… Дальше, конечно, стану инженером… Словом, о будущем я не слишком беспокоился.
Накануне вечером вся наша семья собралась вместе. Мать была занята вязанием: запасает на нас, троих мужчин, теплые шерстяные варежки, носки. Керосиновая лампа горит красноватым светом, матери приходится вплотную придвигаться к огню, быстрые молнии играют на ее проворных спицах. Не дождусь, когда вспыхнет электрический свет. Не я один — все ждут. Поговаривают, что от Камы протянут высоковольтную линию, но это не скоро, пока же в Чураеве во всех домах коротают вечера вокруг керосиновых ламп. Правда, Алексей Кириллович на одном собрании пообещал, что весной у нас будет свой генератор. Но до весны еще так много дней…
Облокотившись на краешек стола, я читаю взятую из библиотеки книгу, а одним ухом прислушиваюсь к негромкому разговору отца с Сергеем. Они сидят, поджав ноги, на полу, возле раскаленной железной печки. Отец время от времени открывает дверцу печки, ворошит головешки, и красный отсвет огня играет на его скулах. Весело потрескивают дрова, в трубе гудит пламя, временами с улицы доносятся звуки, похожие на выстрелы: крепчает, ярится мороз.
Сергеи рассказывает о своей поездке:
— Был я и на шахте… Рассказывали, что шахтеры крепко зарабатывают. И верно, работа у них не из легких, но зарабатывают прилично. Многие на своих автомашинах разъезжают, квартиры у них хорошие. Приглянулось мне, как они живут. Думаю, тут и осяду, устроюсь на шахте. Хотелось сразу в забой, да не тут-то было!.. Сунули в руки совковую лопату, и айда — снег на машину нагружать. Недельку проваландался на этой работе, на второй — плюнул: нехитрое дело, такую халтурку везде сыщешь. Да-a, не простая это штука, оказывается, — устроиться на шахту, к самому угольку. Сказали прямо: для начала на поверхности поработай, а там посмотрим, может, и в забой пойдешь. Предлагали на курсы, но я не пошел — больно долго ждать! Эх, коли не хватает образования, выше пупка не прыгнешь… А тут как раз письмо от вас пришло, и надумал домой. Не знаю, может, и не стоило?
Отец сунул в печурку несколько щепок, прикурил от уголька. На вопрос брата ответил не сразу.
— Новый председатель в крестьянском деле разбирается и с народом советуется… Поправляться стал колхоз, заметно вперед двинулся. Ежели и дальше так пойдет, гляди, не хуже людей станем жить… За скотину Захаров крепко взялся, сплошь новые помещения надумал ставить. Вон, Олешка тоже там с топором управляется. Свинарник новый рубят…
— Знаю, — нехотя отозвался Сергей. — Вижу, старается. Небось будешь тянуться, если на хвост сапогом наступят!
Я отодвинул книгу в сторонку: чувствую, что Сергей ищет зацепку, чтоб придраться ко мне.
— Да-a, такие дела… — неопределенно тянет он. — Ну, скажем, дам я согласие в колхозе работать, может, и машину мне новую дадут, и все прочее. А дальше? Известно, старая песенка: кто-то будет ишачить день и ночь, а кто лета выжидать, чтоб махнуть учиться, так? Шалишь, дураков в наше время не осталось!
Я захлопнул книгу, встал из-за стола.
— Ты это про меня, Сергей?
Он тоже распрямился, но остался сидеть, зло поглядывая в мою сторону.
— Про дядю твоего! А что, скажешь, неправда. Мать с отцом выучили тебя, сил не жалели, а ты им чем помог? Пока что-то в хозяйстве копейки твоей не видно! Небось не знаешь, сколько из-за тебя мать слез пролила? Ученый ты, а… бессовестный! Эх, жаль, дурак я был, что бросил учебу… И все из-за тебя, слышишь? На моем горбу ты выучился!.. Наш брат дорогу мостит да землю унавоживает, а вы, ученые, по готовенькому дальше катите! А потом на нас же и плюете: дескать, смешно, простых вещей не знаете. Или неправду я говорю? То-то, молчишь! Эх ты!.. — Сергей выругался, сплюнул на печку, раскаленное железо яростно зашипело.
Мать отложила вязанье, протягивая руки к Сергею, со слезами в голосе заговорила:
— Господи-и, Сергей, зачем ты такое говоришь? Опомнись! Олешка тебе брат родной, неужто можно так? Молод еще он, когда было ему зарабатывать? Живите себе мирно, авось уладится все…
Слова матери еще больше распалили брата. Он с первого дня своего приезда ждал случая схватиться со мной, но мать каждый раз умело отводила назревающую ссору. Но рано или поздно нарыв должен был прорваться! Отец сидит молча, не вмешивается, и не понять, на чьей он стороне. Может быть, ему самому неловко перед Сергеем за то, что рано оторвал его от ученья. Какой у него несчастный вид: сидит маленький, растерянный, с дергающейся культей. Раньше я как-то не замечал, что отец у нас невысокого роста, с худыми плечами, лицо сплошь в густом узоре морщин, волосы давно схвачены сединой. Как сильно постарел он за последний год! И немалая доля вины за это лежит на мне: от плохого сына седеет отец…
— Мама, не заступайся за него, у тебя пока двое сыновей! — с горечью бросил Сергей и снова повернулся ко мне: — Что же ты молчишь, любимчик? Так вот, знай наперед, — с холодным бешенством произнес он, — гнуть за тебя спину я больше не согласен. Хватит с меня, понял?! Сорок лет, как лакеев нет! Ты ведь все равно нацеливаешься драть от нас, ну так катись к чертовой матери, а нет — тогда я снова уеду! А хлебать с тобой из одной чашки не буду, да и ты сам, думаю, не станешь, если… хоть капелька совести в тебе осталась!
В доме стало тихо. Мать с отцом молчат, ни за кого не заступаясь. На чью же сторону им встать? Если на мою — тогда Сергей уедет, ему нечего терять. А если останется, он будет кормить их, не даст хозяйству развалиться. На него-то можно положиться, он с детства помогал родителям. А на меня надежды мало… Еще неизвестно, что из меня получится.
В доме стояла тишина, лишь в печурке потрескивали поленья. Но вот мать судорожно, со всхлипом вздохнула, и звук этот вернул меня из забытья. Показалось, что все ждут от меня чего-то. Но что я им скажу? Сергей прав: моего в этом доме пока нет, я только пользовался здесь готовым. Как это сказал Захаров? А, он сказал, что кроме "дай!", есть еще и слово "возьми". Я знал до сих пор одно — "дай!" Нет, мне нечего им сказать…
Сняв с гвоздя фуфайку, я стал молча одеваться. Мать встревоженно спросила:
— Олеша, куда ты? На улице ночь, темно. Не ходи, сынок. И зачем вы ругаетесь, Серга? Сказал бы им свое слово, Петр…
— Пройдусь… — ответил я матери. Никто меня удерживать не стал.
Во дворе было морозно, снег под ногами звенел от малейшего шага. В голубоватом свете луны вспыхивает, искрится снег, сотнями цветов горят огоньки величиной с булавочную головку. Холодные, негреющие огоньки… Из-за речки, со стороны клуба, доносятся голоса, смех, казалось, будто они рядом, всего через улицу. Внезапно я вспомнил: ведь сегодня люди встречают Новый год! Завтра начнется другой год, и все еще долго будут ошибаться, писать второпях цифру старого года. И опять вспомнилось: "Как на Новый год, так и весь год". Для меня он начинается невесело. А может, это просто последний неудачный день старого года?
Что-то быстро скатилось по моей щеке, оставив щекочущий след. Должно быть, это была просто снежинка, такая же одинокая в эту новогоднюю ночь, как и я. Впрочем, откуда ей взяться, если небо совершенно чистое? Ну, мало ли что… Это была лишь одна заблудившаяся снежинка, и вот она упала на мое лицо. Только одна. Больше их не будет. Надо взять себя в руки. Надо!
Где-то близко скрипнули и стукнули ворота, кто-то вразвалку идет по дороге в мою сторону. В голубом свете луны лица человека не различить, лишь когда он подошел совсем близко, я узнал Мишку Симонова. Он удивился, встретив меня одного; от него несло тяжелым перегаром самогона.
— О, Алешка, друг милый! Ты чего тут торчишь без компании? Ну-у, это не дело, этот номер не пройдет! Айда, пошли со мной, там, знаешь, какая компания сколотилась… Не спрашивай, придешь — узнаешь. Ну, пошли, поехали!
Мне было все равно, где и с кем провести эту ночь, лишь бы среди людей, потому что на душе было очень скверно, пожалуй, так скверно еще никогда не было.
Он привел меня к Архипу Волкову. Войдя в дверь первым, Мишка по-пьяному громко сказал:
— Видали, кого в гости привел? Первый парень на деревне — Алешка Курбатов! Понимаете, стоит на дороге, морду задрал к луне, скучает… Хо-хо, Алешка!.. "Что ж ты бродишь всю ночь одиноко, что ж собакам ты спать не даешь!" — запел он и, довольный своей шуткой, захохотал.
У Волкова я раньше не бывал, поэтому с любопытством стал осматриваться. Мишка не соврал: у хозяина были гости. Кроме самого Архипа, за столом сидят его жена, тетка Фекла и незнакомый мужчина — его я вижу впервые. Видимо, мое неожиданное появление прервало их оживленную беседу, все выжидательно смолкли. Мишка подмигнул хозяину и принялся ухаживать за мной:
— Алексей Петрович, прошу! — снял с меня фуфайку, с шутовским поклоном повесил. Тут же подлетел к столу, схватил полный стакан и снова с поклоном подал мне:
— Доброму гостю почет и уважение! Дом хорош, и хозяин нам гож! Трахни, Алешка!
Я отшатнулся: шибануло в нос резким запахом крепкого первача.
— Мишка, не надо! Отстань, не буду я…
— О-хо? — удивился Мишка. — Ну, ты это брось. Девичье "нет" — не отказ. Знаешь, попал к Волкову — по-волчьи… пей!
Симонов снова хрипло засмеялся.
— Ну, держи, что ль! Ломается, как…
Он рывком сунул мне в руки стакан, но я не удержал его, он упал и разбился, вонючая жидкость растеклась по полу. Мишка рассердился:
— Ну и сиди себе! Дурак, дают — бери, бьют — беги!
Жена хозяина — разжиревшая, похожая на растрепанную ветром копну — суетливо вылезла из-за стола, заговорила приторным голоском:
— Ой, спасибичка, что заглянул, Олешенька! В соседях живем, а друг у дружки не бываем, будто в разных царствах… Ой, уважил, уважил, Олешенька, спасибо, милый! Проходи, проходи, дорогим гостем будешь. За стол пройди, Олешенька, за стол!
Она цепко ухватилась за меня, потащила к столу, усадила рядом с тетей Феклой. И хозяин, и гости уже изрядно навеселе, сидят распаренные, с красными лицами. Трезвей других выглядит незнакомый мне мужчина. Архип Волков бесом крутится перед ним, угощает, поминутно придвигая полный стакан, руки его дрожат, вино проливается на скатерть, в миску с кашей.
— Аникей Ильич, неужто не уважаешь, а? Держи стаканчик, богом прошу… за нашу дружбу! Пригуби хотя бы…
Но тот, кого Волков называет Аникеем Ильичом, мягко, но решительно отстраняет руку хозяина и в свою очередь похлопывает Волкова по плечу:
— Правильные слова говоришь, Архип Василич! За дружбу следует держаться.
Он широколиц, на его лице поблескивают неестественно крохотные глазки. Когда он в первый раз посмотрел на меня, стало не по себе: глазки гостя с синеваточерными зрачками напоминали два нацеленных в упор дульца малокалиберной винтовки.
Кивком указав в мою сторону, гость спросил у хозяина:
— Кто сей приятный молодой человек?
— Сын Петра Курбатова, соседи, от нас третий дом…
Не повезло парню, Аникей Ильич: кончил школу, а дальнейшую дорожку перекрыли. Захаров его под свою руку взял, заворожил чем-то. Такому молодцу по плечу размах бы дать, а председатель его в колхозе морит, ходу не дает… Эхма!
Аникей Ильич вторично прицелился на меня своими глазками, сочувственно покачал головой.
— Ай-яй-яй, нехорошо получается!.. Да разве образованному человеку в колхозе место? Жаль, жаль… Я очень уважаю Алексея Кирилловича за проницательный ум, но в данном случае… просто отказываюсь понимать его… Зарывать молодые таланты в землю? О, не те времена, не те! Надобно тебе, молодой мой друг, определиться, найти себя, да, да, непременно! Извиняюсь, звать-величать как?
— Алексей…
— Так вот, Алеша… кхм… Алеша свет Попович, надобно определиться. Прозябать с аттестатом зрелости в колхозе — это, извиняюсь, чересчур шикарно, велики накладные расходы, да-с! А без места человек очень скоро обнаруживает, что он — лишний, так сказать, отход производства. Другое дело, если сумеешь завоевать свое место под солнцем — о-о, в таком случае не то что тебя посмеют укусить, а наоборот, ты будешь в силе! И только в этом случае нуль приобретает необходимую ему палочку! Мда-с… Вот что, дорогой Алеша, ты мне понравился сразу, я человек откровенный и не привык прятать свои чувства, поэтому желаю помочь. Хочешь, я тебя устрою? Гарантирую место. А?
Я был в понятном затруднении: все это так неожиданно, и вместе с тем… может быть, в самом деле мне улыбается удачная возможность устроить свою жизнь? Видя мое замешательство, Аникей Ильич подсел ближе и положил мне на колено свинцово-тяжелую руку.
— Я отлично понимаю твое положение, дорогой друг, и сердечно сочувствую! "Мечты, мечты, где ваша сладость", а? В институт мы не попали по злой случайности, так, а? Как это, Архип Василич, поет нынче молодежь? "Уезжает милый мой в Москву, в консерваторию, я остаюсь заведовать в колхозе свинофермою…" Ха-ха, недурно, с умом сочинили! Эх, друг Алексей, забудь ты про свинофермы, вычеркни раз и навсегда из памяти и сердца, иная участь ждет тебя! — Аникей Ильич вплотную приблизил свое лицо, горячо задышал мне в ухо: — Плюнь на колхоз, с твоей головой мы тебе подыщем настоящую работу, по крайней мере, не пожалеешь! Ну, по рукам?
Он откинулся назад, прострелил меня глазками, засмеялся беззвучным смехом. Смеялся он животом.
— И по институту тоже брось слезы проливать. Ну, скажи, кто есть инженер в житейском смысле? Ерунда! Важен не диплом, а… как его?.. апломб! Человек красит место? Опять-таки ерунда! Все зависит от места. Так-то, молодой человек. Мой совет тебе: держись ближе к умным людям и нащупаешь свою дорогу. А твой Захаров… Впрочем, молчу: Осуждать начальство не принято, даже за глаза… Ты посмотри на Архипа Василича: человек великолепно устроил свою жизнь. Правильно сделал, что вовремя расстался с сельхозартелью. Э-э, в наш просвещенный век важно уметь выбрать верный курс. Да-с… Вас, конечно, в школе учили, что надобно трудиться во имя будущего, грядущего и тому подобное? Так? Ха-ха-ха…
Аникей Ильич, запрокинув голову, на этот раз засмеялся басовито, отчего тряслась его жирная грудь, колыхался живот, мелко дрожали щеки. Внезапно он перестал смеяться, потянулся к стакану и в один прием опрокинул в себя. Улучив минутку, тетя Фекла, до сих пор завороженно прислушивавшаяся к рассуждениям Аникея Ильича, ввернула свое:
— И-и, Аникей Ильич, уж где нам до грядущего! Не в год, а в рот, дай господи…
Хозяин вновь наполнил стаканы, расставил перед гостями.
— Выпьем, дорогие, за хорошую компанию, за нашего Аникея Ильича…
При этих словах Аникей Ильич быстро вскинул голову, просверлил хозяина глазками:
— Тс-с… Это ни к чему, это лишне! Без культа личности, Волков. Не люблю! Давайте просто за дружбу…
И вдруг я почувствовал себя здесь страшно одиноким. Нет, эти люди ничем не могут помочь моему горю. Что за человек этот Аникей Ильич? Хозяин с хозяйкой вертятся, юлят перед ним, подают то, другое, третье, а он сидит, по-барски развалившись, рубаха на груди расстегнута, пьет стаканами, но хмель словно вовсе не берет его, лишь лицо с каждым стаканом багровеет все более. По-видимому, он — начальник хозяина по работе: не зря Волков крутится мелким бесом, обхаживает его. А каким образом очутилась тут Раина мать? Видать, здесь она не впервые. Впрочем, какое мне до этого дело?
Подвернув под голову руку, Мишка Симонов спит на хозяйской кровати. Дошел… А я, — какого черта сижу я здесь? Они мне чужие, я для них — тоже. С какой стати они приняли меня в свою компанию? Просто из желания помочь? Об этом можно поговорить после, а сейчас надо уходить отсюда. Я для них — человек случайный, с улицы. Вот они снова заговорили о своих делах, о каких-то союзках, стельках, новом товаре, который надо устроить… Опять "устроить"! Понравилось им это слово.
Я решительно поднялся, чтобы попрощаться и уйти. Заметив мое намерение, Аникей Ильич оборвал разговор с хозяином, взяв меня за плечи, мягко усадил обратно.
— Куда? Сиди, не спеши. Архип Василия, достань там мою… Молодому другу скушно.
Волков пошел за перегородку, вернулся, со стуком поставил на середину стола темную влажную бутылку. Шампанское. Аникей Ильич привычными движениями открутил проволочный колпачок, пошевелил головастую пробку. Раздался громкий хлопок, белая пена полезла из горлышка. Женщины взвизгнули, тетка Фекла, ловя взгляд Аникея Ильича, заливисто рассмеялась:
— Ой, напугали-и, аж сердце в пяточки! Чего вы так-то, Аникей Ильич? Дорогое, чай, вино?
— Все уместно в свое время! — ухмыльнулся тот.
Мне налили в фарфоровую кружку. Все поднялись, чокнулись, поздравили друг друга с наступающим Новым годом, пожелали удачи в делах. Мне не хотелось пить, но Аникеи Ильич строго заметил, что я их обижу, если не поддержу такой тост. Пришлось выпить. Шампанское я пил впервые, оно мне не понравилось: кисло-сладкая шипучка, бьет в нос, покалывает в горле…
— Значит, за удачу и дружбу! — повторил Аникей Ильич. — И за наше знакомство, молодой друг. Потребуется помощь или поддержка — приходи прямо ко мне. Помогу. Держись за людей, которые знают жизнь!
Я собрался с духом и спросил, где он работает и как можно разыскать его, если придет такая нужда. В ответ Аникей Ильич засмеялся и дружески похлопал меня по спине.
— Ха-ха, нужны гарантии? Не доверяешь? Правильно делаешь, молодец! Человеку, мой друг, доверяться нельзя, если даже ты распивал с ним шампанское. Молодец, хвалю! В наше время никому не следует класть палец в рот — откусят по локоть!.. А найти меня ты сможешь… да вот хотя бы через Архипа Василича. Словом, приходи, подумаем насчет места. Желаю удачи!
Меня не стали больше удерживать, я оделся и вышел. В сенях вслед донесся хохоток Аникея Ильича: "Ха-ха, в нашем деле и малый воробышек пригодится! Ничего, Архип Василия, он тебя не разорил, не обпил…"
Выйдя на улицу, я постоял в смятении, не зная, куда направиться. Домой не хотелось. Бездумно и без всякой цели зашагал по дороге. В голове чуть звенело, должно быть, от шампанского. Не стоило заходить к Волкову. Спрашивается, что привело меня туда? Все вышло чисто случайно: Мишка Симонов встретил на дороге и позвал. Хоть и сидел среди живых людей, но легче от этого не стало…
Не помню, как очутился в Заречье. Подняв голову, с удивлением обнаружил, что стою перед школой. Ноги сами привели сюда, к нашей доброй, старой школе! За палисадником молчаливо стынут голые березки, рябины, кусты акации и клена — их когда-то садили мы. Я и сейчас мог бы показать деревца, которые посадил своими руками. Сквозь кружево ветвей ярко светятся большие окна, в них мелькают неясные тени, слышна музыка. Да, ведь сегодня здесь бал-маскарад! Конечно же, школьники пришли в маскарадных костюмах, танцуют вокруг елки, беззаботно скачут, поют. Что, если зайти, посмотреть, как веселятся в школе "после нас"? Я никому не буду мешать, просто сяду в уголке и стану смотреть, слушать. Ведь в конце концов это и моя школа, это все еще моя школа!
Нет, лучше не ходить. Учителя примутся расспрашивать и, конечно, все будут сочувствовать, что вот "один из лучших учеников, а как не повезло…" В другие дни я тоже всячески стараюсь избегать встреч со своими бывшими учителями, боясь расспросов, жалостливых слов. Нет, не хочу, чтоб меня жалели!
Вероятно, прошло немало времени, пока я стоял перед школой, засмотревшись на большие окна, полные света и неясных теней. Услышав резкий скрип снега под тяжелыми шагами человека, я встрепенулся и уже собирался юркнуть в калитку (мало ли что могут подумать!), но меня остановил знакомый окрик:
— Курбатов, ты? Погоди…
Захаров! Ну, конечно, это он. Вот некстати встреча! Надо же такому случиться именно теперь…
— Ишь, молодежь веселится! — подойдя вплотную, Захаров с восхищением и завистью в голосе кивнул в сторону освещенных окон. — Так и пошел бы с ними в пляс, честное слово! Ну, а ты был там? Почему рано уходишь, и главное — один? Негоже это, тезка!
Он внимательно оглядел меня и, видимо, понял, что фуфайка и подшитые валенки — не совсем подходящий для новогоднего бала костюм…
— Ага, так, так… — Алексей Кириллович на секунду задумался, сунул под мышку какой-то сверток и решительно потянул меня. — Ну-ка, тезка, пойдем со мной! Мне просто здорово повезло, что встретил тебя, веришь? На Новый год остался один-одинешенек, шел сейчас и ломал голову: кого бы пригласить? А зверь сам выскочил на ловца! Идем, идем, шире шаг. Ты сегодня мой гость!
По дороге к дому Захаров оживленно говорил, шутил и вообще всячески пытался расшевелить своего мрачного спутника.
— Очень рад, тезка, что встретил тебя! Понимаешь, какая это пытка — сидеть на Новый год в одиночку? Не привелись такое никому! Ну, теперь мы не пропадем: два сапога — вот и пара!.. А почему ты не спросишь хотя бы из вежливости, куда ходит председатель в глухую полночь? И чему только учили вас в школе!.. Был я в больнице, жена в родильном лежит. Принес ей яблок, конфет… Сестра там строгая, но я все-таки приловчился передать жене бутылочку кагора: пусть тоже встречают Новый год! Значит, в самое ближайшее время дома у меня появится музыка, да такая, что и радио не потребуется! Да-а, вот какие дела… Ну, сейчас мы с тобой устроим холостяцкий пир, сообразим хлеб-соль…
Открыв квартиру, Алексей Кириллович зажег лампу, зябко потер руки:
— А-ах, морозец какой бодренький, а? Ты, тезка, раздевайся сам, швейцаров мы не держим. Словом, будь как дома!
У Захарова было тепло, я быстро отогрелся, вместе с теплом ко мне пришло что-то хорошее. На душе стало легко, рядом с этим большим, сильным человеком сами собой исчезли неуверенность и чувство заброшенности, одиночества. Замечание Алексея Кирилловича о швейцарах живо напомнило случай в городе. Отдаленный временем и расстоянием, теперь он представлялся даже забавным, и я рассказал о своем приключении Захарову. Он тоже вначале посмеялся, но потом стал серьезным, нахмурил брови.
— Так-таки и не пустил в ресторан чертов швейцар? А ведь случись и мне прийти к нему в рабочей фуфайке да кирзовых сапогах, тоже, пожалуй, не пустит?
Нет, не пустит! Попробуй убеди его, что фуфайка — это форма и что ты не собираешься унести в карманах дюжину вилок и парочку фужеров… Привыкли встречать по одежке! Да-а, обидно… Ну, соловья баснями не кормят, я тоже голоден, как сто волков. Давай-ка, тезка, проводим старый год, встретим новый. Добрые люди уже встречают его с самого вечера!
Мне еще не приходилось видеть Алексея Кирилловича таким: сегодня он необычно оживлен, весело шутит, держится со мной, как с равным. Подвязавшись цветистым фартучком жены, накрывает стол. Взглянув на него, я не удержался от смеха. Алексей Кириллович погрозил пальцем:
— Ничего, ничего, вот женишься, пойдут дети, тогда и посмеемся! Повяжешься платочком! Ну, придвигайся ближе.
В тепле, в обществе хорошего, доброго человека я было совершенно забыл о своих недавних горестях. И вдруг все вспомнилось, навалилось гнетуще. Размолвка с домашними, пьяный хохот Мишки Симонова, стреляющие глаза Аникея Ильича… Все это было со мной наяву! И никуда не скрыться от вопроса: "А дальше как?" Если промолчу… Алексей Кириллович всегда поддерживал меня в трудную минуту, придет на помощь и теперь. Я должен рассказать ему обо всем.
Он сидел у стола, уткнувшисть в подбородок кулаком, молча слушал:
— Все?
— Все… Так получилось, Алексей Кириллович.
Он постучал согнутым пальцем по лбу и сказал:
— Вот здесь у тебя лишковато мякины. Той самой, которая летит по любому ветерку!.. Котенок, самый настоящий котенок! Его любой возьмет на руки, погладит по шерстке, и пожалуйста — он доволен, он мурлычет и в блаженстве закрывает глаза!.. Я понимаю, человек в твоем возрасте нуждается в ласке, внимании. Но нельзя же давать гладить себя любому встречному! Не думаю, чтобы Волков и его друг угощали тебя шампанским от избытка любви к людям. Гляди, как бы выпитое шампанское после не обернулось полынной настойкой. Хоть и говорим, что к старому возврата нет, и мы, действительно, никогда не вернемся к нему, но оно само тянется за нами, понимаешь, само! Как дерьмо, приставшее к сапогам! И хватит еще на наш век всякой сволочи, разных Волковых. Не будь их, чураевский колхоз давно ходил бы в миллионерах, а пока, сам видишь, как у нас… Ну ладно, об этом сейчас не будем. Хочу сказать одно: не собираюсь держать тебя на короткой привязи, ты не бычок, у тебя своя голова на плечах, и жизнь вся впереди. Выбирай себе друзей, знакомься с людьми, и вообще старайся быть среди народа — на это ты и есть человек, но! — не каждый встречный может стать тебе другом. Вот это запомни, Алексей, а теперь… от умных речей у меня запершило в горле, и по сему поводу следует принять соответственное смазочное!
Смеясь, Алексей Кириллович налил в рюмочки красного вина.
— С Новым годом, тезка! И от души желаю тебе определиться и найти свое место в жизни!
Мы звонко чокнулись, и тут мне пришла в голову мысль: "Те же самые слова о "месте в жизни" я уже слышал сегодня у Волкова, и вот снова слышу от Захарова. Случайное совпадение? Может быть. Слова те же самые, но разные люди вкладывали в них разные понятия о "месте". Конечно, рано или поздно я должен найти свое место: невозможно без конца болтаться подобно щепке в проруби, не зная, к какому берегу пристать. Но пока у меня так и получается — тычусь туда-сюда: сегодня здесь, завтра там, словом, куда пошлет рыжий бригадир Василий. Кто знает, может, завтра взбредет ему в голову послать пасти гусей. И это — тоже место в жизни?"
— О чем задумался, добрый молодец? — спросил Алексей Кириллович. — Ничего, держи хвост пистолетом! Вот только одно меня беспокоит: дома у тебя не совсем хорошо получается… Но и тут есть выход: к дому, к хозяйству ты пупком не прирос, человек вполне самостоятельный, так что тебе, как в песне поется, "впереди простор открыт"! Знай, шагай!..
— Алексей Кириллович! — взмолился я. — Много раз приходилось мне слышать это самое. "Перед вами открыты все пути и двери", — говорили нам в школе, я в это поверил, а на самом деле…
Захаров резко оборвал меня.
— Стоп! Не хватало, чтобы еще расплакался тут!.. Бедненький, как жестоко, несправедливо поступили с ним! Обманули в самых лучших намерениях!.. Наобещали златые горы, мягкие перины, а оказалось, что все это надо добывать своими руками, так? Ай-яй-яй, — какая неблагодарность со стороны современников! Не хочу повторяться, но приходится: скулеж твой не по адресу, тезка. Раз и навсегда брось ныть, мол, наобещали, обманули, бросили одного… Это в конце концов не по-комсомольски! Ты ведь комсомолец?
— С девятого класса… Взносы плачу. В райкоме на учете.
— Вот и плохо, что только взносы платишь! У нас в колхозе своя организация, переведись туда. Правда, они тоже пока мало себя проявляют…
Захаров поднялся, привычным движением, сунув большие пальцы под ремень, расправил гимнастерку, прошелся по комнате взад-вперед. Остановился против меня, вскинул голову, прищурился.
— Вот что, тезка. Давай-ка мы с тобой по-мужски потолкуем. Пожалуй, ты и в самом деле можешь потерять ориентиры. Это бывает. Захлестывает человека обыденщина, перестает он видеть за елочками настоящий лес. Поезжай-ка, дружок, учиться!
— Куда? — Предложение было таким неожиданным, что я здорово растерялся. — Среди зимы…
— Организуются курсы механиков по сельхозмашинам. Вчера в контору пришла бумажка, просят выделить человека, чтобы образование у него было не ниже десятилетки, потому что курсы ускоренные. Тебя, я уверен, возьмут, а мы со своей стороны тоже поддержим. Свое обещание насчет помощи с учебой я помню! Ну, так как же?
Алексей Кириллович захватил меня врасплох. Я был в затруднении и, честное слово, не знал, что сказать. Учиться на механика… О-о, от механика до инженера остается еще долгий путь!..
— А ведь я, Алексей Кириллович, рассчитывал… снова в институт заявление подать…
— Институт твой будет стоять на своем месте и, поверь мне, подождет сколько угодно. А учеба на курсах нисколько не повредит, к тому же это всего на три месяца. Подумай, иначе найдем другого.
Наверно, Алексей Кириллович заметил по выражению моего лица, как трудно было мне решать, и твердо сказал:
— Все, договорились! Готовься, через недельку на своей машине подброшу на станцию. И поменьше нытья: страсть как не уважаю нытиков, мокриц! А теперь… хочешь вина? Впрочем, я тебе не дам больше, С жуликами на промартели пил шампанское, а теперь будешь пить вермут с председателем-тридцатитысячником? Надо и совесть иметь! Ясно? Разные вина мешать не следует, а людей — тем более. Сейчас иди домой, а можешь и у меня переночевать. Хотя нет, тебе надо домой, обязательно домой! Мать будет беспокоиться. И не вздумай там шуметь с братом. С Новым годом, тезка, будь здоров и счастлив!
От Захарова я ушел в радостном ожидании чего-то хорошего. Это чувство не покидало меня с того момента, как переступил порог захаровского дома. Может быть, это просто потому, что в канун Нового года все люди ждут каких-то перемен? Но меня действительно ждали перемены, и я, окрыленный надеждой, шел навстречу им.
Нет, я не обманулся в своих ожиданиях больших перемен!
* * *
Дни перед отъездом проходят незаметно. Дома пока затишье, но чувствую, что оно непрочное. Рана лишь затянулась тонкой пленочкой, стоит сделать одно неосторожное движение, и она вновь откроется, вновь станет кровоточить. Сергей угрюмо молчит, лишь изредка выдавит слово-другое. Отец безучастно постукивает молотком, сучит дратву, подавленно вздыхает: таит в душе что-то свое, невысказанное. Узнав, что я еду учиться, он коротко бросил: "Сам знаешь…" Похоже, он теперь не очень верит в то, что я все-таки буду учиться.
Зато мать все эти дни особенно внимательна. Она готовит мне в дорогу еду, стирает и чинит белье, украдкой от отца вздыхает: не хочется ей отпускать "младшенького" от себя. Успокаиваю ее: "Ну что ты, мама, будто на три года провожаешь? Я еду всего на три месяца! Не заметишь, как вернусь обратно".
До самого отъезда я работал на строительстве. Услышав, что меня посылают учиться, Часовой завздыхал:
— Кто его знает, как оно будет, Лексей… Тебе бы в большую школу, чтобы сразу человеком стать. А курс… так себе. Курс — он и есть курс!
Дядя Олексае рассердился на Часового, обругал его и сказал:
— Не твое дело, Федосья, собирать чужие колосья!
Не слушай ты его, Олешка, запутает тебя богомолец наш, он ведь ни богу свечка, ни черту кочерга. Поезжай, по крайней мере, людей повидаешь, Какая ни есть, а учеба — она всегда учеба, от слова "учение". Жизнь — она вроде лесенки, одним махом по ней не взберешься — штаны порвешь! По ступеньке надо подниматься, но уж коли шагнул — чтоб было надежно. Езжай, Олешка, в колхозе нужным человеком станешь!
А Генка Киселев — тот взъерошился петушком, озорно толкнул меня в бок и зарычал:
— Ух, Алешка, кому живется, у того и петух несется! Везет тебе, чертяке! Будь у меня аттестат, я бы даже на курсы пожарников махнул… Ничего, годика через два аттестат будет лежать вот тут! — он похлопал себя по карману. — И мы не лаптем щи хлебаем!
Накануне отъезда мы возвращались с работы вместе. Дошли до проулка, Генке здесь сворачивать. Он задержался на минуту и неожиданно спросил со смешком:
— У нас, Лешка, в роду случайно староверы не водились?
— Да ты что, откуда взял?
— Нет, и серьезно! Девчата интересуются тобой: мол, Курбатов не из тех, которые…
Генка сказал такое, что от смущения у меня по затылку забегали жаркие мурашки. А он хохочет:
— Что, не угадал? Эх, Лешка, прямо скажу: губошлеп ты хороший! Да я бы на твоем месте… Слушай, давай напоследок сходим в наш клуб, а? Хоть с людьми попрощаешься, а то уедешь по-воровски!
В Чураеве есть большой сельский клуб, где через день "гоняют" киносеансы, часто устраиваются танцы. Но скуки там все равно хватает. Поэтому колхозные девчата и ребята ходят туда только ради кино, а вечера с плясками, песнями обычно проводят в своем колхозном клубе. Он, правда, невзрачный, тесноватый, но вполне устраивает любителей повеселиться. В этом клубе я был всего два-три раза, и, признаться, не очень понравилось: шумно, грязно и суматошно.
— Ну, так как же, а? — настаивал Генка. — Сходим вечерком? Да ты не жмись, силком тебя никто плясать не заставит. А не понравится — пойдем в кино. Значит, договорились? Зайду за тобой, жди! Я мигом…
Не успел я дома скинуть рабочую одежду, как в окно постучали. Чертов сын, уже примчался!
Генку не узнать — парень принарядился, будто на праздник. На нем черный полушубок, отороченный по бортам белым мехом, шапка-кубанка и новенькие чесанки, а сверх того еще в галошах.
— Ого, Генка, можно подумать, что ты свататься собрался!
— Нет, правда? — простодушно обрадовался мой друг, косясь на свои галоши. — Тут, брат, такое дело… Пошли?
К нашему приходу в клубе уже было шумно, десятка два молодых ребят и девушек сидели вдоль стен на скамейках, перебрасываясь шутками, пели вразнобой. Особняком, в сторонке сидит бригадир Василий, по-птичьи наклонив голову к гармони, безуспешно старается среди шума подобрать какой-то мотив. Заметив нас, он прервал свое занятие, повел плечами и растянул гармошку во все меха.
— A-а, пара чистых и нечистых! — громко усмехнулся бригадир. Девушки в уголочке зашептались, поглядывая на нас, кто-то сказал: "Девчата, глядите, пришли Алешка Курбатов с Генкой… Попался, который кусался! А пусть он попляшет, попросим, девчата!"
Васе приказали играть. Он неохотно послушался: видно, хотелось, чтобы подольше упрашивали, покланялись, Вдруг девушки, разом поднявшись, с шумом и хохотом окружили меня, оттерли от Генки, стали подпевать гармонисту, хлопая в ладоши:
Ой, играй, играй, гармошка, А мы станем подпевать! Ой, танцуй, танцуй, Алеша, А мы станем помогать! Калинка-малинка моя…Я стоял посреди круга, красный от смущения, и не знал, как избавиться от этой "калинки". Человек отродясь не плясал, а тут его со всех сторон теребят, подталкивают, хохочут:
— Ну же, Алешенька!
— "Пляши, Матвей, не жалей лаптей!"
— Не выпустим, пока не спляшешь!..
Избавление пришло неожиданно: за меня заступилась Анна Балашова, урезонила развеселившихся подруг:
— Что пристали к человеку, девчата? Отобьете охоту, в другой раз к нам не придет…
Девушки отступились, я вырвался из круга, сказать точнее — выскочил пробкой. Ну, Генка, попадись ты мне сейчас, посчитаю твои ребрышки! Должно быть, он нарочно все подстроил, заранее подговорил девчат. Это на него похоже! Ишь, ухмыляется в сторонке, прячется за спины ребят. Спасибо Анне, иначе, пожалуй, и в самом деле пришлось бы выкидывать диковинные коленца! Где же она сама? Ага, вон, сидит с двумя подругами, о чем-то шепчутся. Вот они разом покосились в мою сторону, чему-то засмеялись. "Верно, про меня…" — догадался я, и от этой мысли сердце забилось чаще. Анну я впервые вижу такой: она в голубом шелковом платье, а поверх платья — белый расшитый передник. И глаза у нее, оказывается, под цвет платья — голубоватые. Почему-то до сих пор они казались серыми. Может быть, это просто от платья… Интересно, о чем они там? Анна снова украдкой посмотрела на меня, встретила мой взгляд и, стушевавшись, опустила глаза. Вот подруги опять тесно склонились, переговариваются между собой, Анна о чем-то смущенно просит соседку справа — толстушку с ярко-румяными круглыми щеками. Та закивала головой, засмеялась. О чем все-таки они шепчутся?
А в клуб, все идут и идут. С гвалтом и смехом ворвалась целая ватага ребят и девушек, все в снегу: устроили на улице "кучу малу". Ого, сколько в нашем Чураеве молодежи!
Бригадир Вася напрасно просил тишины: здесь его бригадирская власть оказалась бессильной, его не слушают. Наконец, он в отчаянии растянул меха, гармонь рявкнула и, перекрыв все голоса, грянула задорная плясовая. Стали вызывать: "Генка! Киселев! Генка!.."
Упрашивали его недолго, он сам вышел на середину круга, скинул полушубок, снял галоши, поправил шапку и, лихо присвистнув, — пошел, пошел! Вот уж никогда бы не подумал, что плотно сбитый, низенький ростом, мой дружок может так здорово, с удальским перестуком "оторвать" пляску! Генку долго не выпускали из круга, он плясал до пота, пока, наконец, не сменила его пара девушек. Киселев отошел в сторону, стал утираться платком. Я хотел подойти к нему, но не успел сделать шага, как кто-то ущипнул меня за локоть. Смотрю — а это круглощекая подружка Анны, тянет за рукав: "Пройдем в стороночку, слово есть к тебе". Отойдя подальше от танцующих, она быстро зашептала:
— Выйди на минутку, ждут тебя… Понял? Ух ты… Ну, иди, иди, чего уставился? Да не смотри ты так, глаза засмотришь! Иди уж…
Она почти силком вытолкала меня за дверь. Очутившись в темном коридоре, так толком ничего и не поняв, я застыл, прислушиваясь. Темно, тихо, никого… Думаю, подшутить снова решили, и уже повернулся было, чтобы зайти обратно, в этот момент из темноты кто-то шепотом позвал: "Алеша, постой…" По голосу догадался — Анна… Она в темноте отыскала мою руку, потянула за собой.
— Здесь ходят, — шепнула она, — заметят…
Все еще не догадываясь, в чем дело, я покорно двинулся следом за девушкой. Она дошла до угла, дальше не пошла. Отпустив мою руку, заговорила еле слышно:
— Алеша, ты не думай, что я такая… будто сама к тебе… Слышала, уезжаешь завтра, вот и решила поговорить. Только не сердись на меня, Алеша, прошу… Не могла я по-другому, после сам поймешь.
Я стою перед ней пень пеньком и не знаю, что сказать в ответ. Затем у меня вырвалось первое, что пришло на ум:
— Я и не сержусь, Анна, пожалуйста…
Она рывком вскинула голову, заглянула мне в лицо, и в это мгновение, искорками блеснув в лунном свете, быстро скатились по ее щеке две слезинки. А она стояла, словно застывшая, потом встрепенулась и вздохнула, быстро сунула руку за пазуху, торопливо вытащила небольшой сверток и вложила в мою ладонь.
— Возьми… Только не спрашивай ни о чем. После сам поймешь… До свидания, Алеша, счастливой тебе дороги!
Круто повернувшись, она кинулась бежать по улице. Опомнившись, я позвал ее:
— Анна! Подожди…
Она, не оглядываясь, махнула на бегу рукой и скрылась за домами. Потом я вспомнил о свертке, в волнении развернул бумажку — в руке у меня лежал аккуратно сложенный синий платочек… На одном уголочке я прочитал вышитые красным шелком слова: "Всегда с тобой". А выше — крохотный зелененький цветок.
…Из клуба мы шли с Киселевым. Он был возбужден, болтал без умолку, но я не прислушивался к его словам. Тогда Генка рассердился, встряхнул меня за плечо:
— Оглох, что ли? Или влюбился с первого взгляда?
— Влюбился? Точно, Генка, что-то в этом роде… Хочешь, расскажу? Только условие — зря не трепаться!
Генка надулся и обидчиво заявил:
— Не веришь — не рассказывай. Мог и не предупреждать!
— Ладно, я пошутил, Генка… Видишь ли, в этом случае худо придется не мне, а ей. Генка, я тебе как другу…
И я рассказал все, как было, ничего не утаив. О Рае Березиной тоже рассказал. Кто знает, может, о таких делах положено молчать, но в тот вечер я просто не мог оставаться один на один с самим собой, мне был нужен совет друга. А если не Генка Киселев, то кто же мой самый близкий друг? И разговор у нас был очень серьезный, самый настоящий мужской разговор.
— Правильно! — сказал под конец Генка. — Дело это — нешуточное. Выходит, понравился ты ей, если она сама решилась открыться. Это, брат, не часто бывает, чтобы девушка сама осмелилась. Насколько я разбираюсь в событиях, за ней ухлестывал бригадир, но счет сегодняшнего вечера: один ноль в твою пользу! Бита бригадирская карта!
Услышав эти Генкины слова, я живо почувствовал, как на голове у меня вырастает петушиный гребешок, честное слово! Но об этом, разумеется, Генке я ничего не сказал, хотя и распирало закричать на всю улицу: "Ага, Васька, не вышло! Ого-го, так и знай, Аннушки тебе не видать!"
— Вот везет чертовой кочерге! — незлобно ругнулся Генка. — Везет! Девушки сами ему на шею вешаются, а другой, может, нарочно старается, и хоть бы одна догадалась подарить свою утирочку! Эхма…
Дойдя до угла, мы стали прощаться, и здесь Генка заговорил без смеха.
— Жаль, не знаю доподлинно, что за девушка твоя Рая. Но про Анну я ничего плохого не могу сказать. Конечно, ей не угнаться за красотками из кинофильмов, но это дело десятое. Было б сердце хорошее, а остальное — наживется! Смотри сам, Лешка, только… девушку зря не обижай! Она, судя по всему, к тебе серьезно, от всей души. Я бы на твоем месте от счастья ревел! Ну, поживем — увидим… Ты завтра собираешься ехать? Провожать не приду, трактор на ремонте, а раз так, то давай попрощаемся. Будь здоров, желаю удачи!
Мы крепко стиснули друг другу руки, тряхнули разик-другой и разошлись. Шагая к дому, я привычно полез в карман, рука нащупала что-то мягкое. А, дареный платок! "Всегда с тобой"… Я вытащил его, долго разглядывал, ощупывал, наконец, не удержался и понюхал. Нет, он был совершенно чистый, свежий и не надушен духами. От него шел еле уловимый запах чего-то такого, чему я, как ни старался, найти названия не смог. Шевельнулось смутное сожаление, что завтра надо уезжать.
Да, завтра я уезжаю…
* * *
Курсы механиков по сельхозмашинам открывались впервые. Занятия начались с опозданием, а экзамены и вовсе отодвинулись на середину апреля.
Нас, курсантов, около полусотни человек. Народ подобрался пестрый: одни, подобно мне, окончили среднюю школу год-два назад, работали кто где; другие получили аттестат зрелости гораздо раньше, но по разным причинам не могли попасть в вуз. Двое из курсантов лишь минувшей осенью демобилизовались из армии, донашивают солдатское обмундирование — на службе не успели. С одним из них, русским парнем Арсением, я познакомился в первый же день: койки наши в общежитии оказались рядом. Он невысок ростом, худощав, на лине выпирают скулы, но весь точно свит из мускулов. Затевают ребята борьбу на ремнях — Арсений подряд гнет всех.
Арсений рассказал о себе. Среднюю школу закончил в армии, сдавал экзамены экстерном.
— Договаривался с дневальными, после отбоя, пробирался в ленинский уголок, гонял сам себя по учебникам, Старшина унюхал это дело, несколько раз ловил "на месте преступления", сыпал внеочередными нарядами. Понятное дело служба…
Я невольно любуюсь своим новым товарищем и, честно говоря, завидую его характеру: Арсений решительный человек, умеет все доводить до конца, это у него даже не умение, а просто привычка. "А как же иначе?" — удивляется он.
Как и Генка Киселев, Арсений остался в семье за старшего, обоим пришлось бросить учебу в школе, чтобы прокормить семью. А теперь оба учатся и работают. Как-то я рассказал ему о Генке: мол, трудно приходится человеку, работает трактористом и мечтает получить аттестат зрелости. Арсения это ничуть не удивило.
— Правильно делает, — сказал он просто. — В будущем оно так и пойдет: человек будет трудиться и одновременно учиться. А пока у нас слишком балуют молодежь: человеку давно пора жениться, детей иметь, а он бегает с книжками под мышкой: я, дескать, учащийся!.. Иные вот так бегают в студентах до сорока лет. Ну, скажи, какой из него работник? Да ему работать и времена не остается, хоть сразу на пенсию выходи! — Подумав, Арсений добавил: — Другу своему от меня привет передай, учебу свою, как ни трудно, пусть не бросает. Нашему брату сейчас один выход — ночами меньше спать…
За все время, пока мы жили вместе, я лишь один раз видел Арсения потерявшим обычную свою уравновешенность. Случилось это так: отшумели последние весенние бураны, остались после них лежать огромные, выше человека, сугробы. Совершенно задуло снегом дрова сельхозшколы, учебные машины. В общежитии второй день не топили, курсанты недовольно поругивали завхоза, истопника: "Заморозить хотят нас тут, как тараканов! Будем жаловаться начальству". Пытаясь как-то согреться, одни бегали из комнаты в комнату, толкались, подскакивали драчливыми петушками, другие, укрывшись одеялами, неподвижно лежали на койках: берегли тепло. Арсений торопливо накинул шинельку и вышел. Вернулся он через полчаса, от порога громко объявил:
— Ребята, завхоз дает лопаты, пошли снег счищать. Дрова будут!
Слова его встречены были без особого восторга, посыпались недовольные замечания, зашевелились даже лежавшие пол одеялами:
— Валяй, если приспичило!
— Есть подсобные рабочие, пусть они и выгребают!
— Мы сюда учиться приехали!
— Какой выискался, хо!..
Громче всех кричали ребята помоложе, мои сверстники. А один рыжеватый курсант высунул из-под одеяла ногу в дырявом валенке, помотал ею в воздухе:
— В таких корочках на мороз? — И под общий хохот добавил: — Я, если хотите знать, второй день в уборную не вылажу!..
Кровь отлила с лица Арсения, он сжал кулаки, одним прыжком очутился возле рыжего курсанта. И не успел парень спрятать под одеяло ногу, Арсений рывком сорвал его с койки, притянул к себе, спросил, задыхаясь, хриплым голосом:
— А ну, сволочь, повтори! Повтори, что ты сказал? Ух, ты…
Все ждали, что Арсений прибьет парня. Но этого не случилось. Прошла минута, вторая, в общежитии стояла мертвая тишина. Рыжий сразу сник, криво улыбнулся, выдавил из себя:
— Пусти, чего ты… Я ж пошутил, а он… Ну, сказал пойду, черт с тобой!..
Вечером во всех печах весело трещали березовые поленья. Арсений сидел на своей койке, уткнувшись в книгу, читал. Но читалось ему плохо, оторвавшись от страницы, он подолгу сидел неподвижно, вперив взор в невидимую точку. Захлопнув книгу, он оглянулся, негромко позвал:
— Курбатов! Не спишь?
— Нет…
Арсений запустил обе пятерни в свои густые вьющиеся волосы, облокотился на колени, замотал головой, словно от боли.
— Психанул я нынче, Алешка. Предохранитель соскочил, понимаешь… Подумай: разве можно в таком положении ходить "ручки в брючки"? Другой, может, скажет: "А какое твое дело, что, тебе больше других надо?" Таким и земли-то немного требуется, всего три аршина. Помнишь, у Чехова насчет этого здорово: мне, говорит, мало трех аршин, мне весь мир нужен. Точно не помню, но что-то в таком духе. Метко сказано!.. А теперь ответь: откуда берутся такие вот сволочи в дырявых валенках? Нет, ты только погляди на вето: ведь родился он в наши годы, может, даже одних с тобой лет. Но вот ты ни слова не сказал, пошел и взял лопату, а рыжий стал свою поганую пятку выставлять. Почему, не знаешь? Я вот тоже не знаю, не разобрался пока до конца. Кинофильмы смотрим, в книгах читаем, как в гражданскую войну комсомольцы добровольно уходили на фронт, а кончилась война — взялись восстанавливать порушенное хозяйство. Раздетые, разутые, впроголодь… В руках лопата, кирка, а за спиной — трехлинейка болтается. Возьми, например, того же Корчагина или… да ты сам всех их знаешь. И в прошлую войну комсомол показал себя: Матросов, краснодонцы, Зоя, Гастелло… Потом снова строительство, и уж совсем свежий пример — целина, Братск… Все это так. Но меня беспокоит другое, нет-нет да и мелькнет мыслишка: а не заплыли мы малость жирком? Небось замечаешь на Красной улице лохматых фраеров в брючках-кишочках, в немыслимых пиджачках с саженными плечами? Родители ихние, должно быть, немалые деньги получают. Ну, если заслуживает человек — не жалко, пусть по труду своему получает. А сынки при чем?.. Вечерком они слетаются в рестораны, кафе, пьют, жрут, гогочут, ну совсем как жеребчики, коих держат на чистом овсе, да еще сырыми яйцами поят, чтоб к кобылам звало! О, черт!.. Ладно, с этим можно бы еще так или сяк помириться, пойти на сосуществование. Но после вина, жратвы они начинают скверно отрыгивать, кисленькие рожицы строят: дескать, и одеваемся мы хуже, чем на Западе, и танцуем не те танцы. Такая мокрица сквозь гнилые зубы ядовитую слюну цедит: "Фи, советские моды безвкусны, советские фильмы скучны…" Я не знаю, как еще советский хлеб не кажется им горьким! Хлеб-то они хаять все-таки не осмеливаются. Ну, скажи, Алешка, откуда берутся эти хаятели? Они, как я думаю, сами нахально рождаются, прут из навоза, точно полынь или репейник. Эх!..
Сжав руками голову, Арсений тоскливо замычал, скрипнул зубами.
— Это верно, Арсений, такие у нас встречаются… Но нельзя всех под одну гребенку равнять. Сибирь, казахстанскую целину — этого от комсомола, от нашей молодежи не отнимешь. Согласен?
Арсений будто очнулся, секунду-другую смотрел на меня непонимающе.
— А, целину, говоришь? Правильно, я ж об этом и говорю… Пойми меня правильно. Вот в седьмом классе мы проходили Конституцию, точно попугайчики, заучивали наизусть статьи, бойко тараторили: "Граждане СССР имеют право на труд, на отдых, на образование…" Выпалишь без запинки — учительница ставит в дневнике жирную, красивую "пятерку". А в суть… в суть этих прав мы и не старались вникать: право так право, ну и ладно! Нам бы скорее на улицу, футбол погонять. А расскажи мне об этих правах попозднее, когда я уже успел набить себе на руках мозоли, тогда я эти права и без зубрежки запомнил бы! А так, — вяло закончил Арсений, — от зубрежки пользы мало. Мало пользы пацану в тринадцать-четырнадцать лет о правах толковать…
Курсанты давно спали, а мы с Арсением до поздней ночи вели разговор; больше, конечно, говорил Арсений. Временами начинало казаться, что говорит он обо мне самом, будто незримо следил за моей жизнью.
Когда захлопал крыльями и закукарекал завхозовский петух, Арсений молча принялся стаскивать сапоги.
— Отбой, Алеша! Отложим до утра решение мировых проблем. Доброй ночи!..
В город весна приходит раньше, чем в деревню. У нас в это время лишь начинает пригревать, по краям крыш появляются первые робкие проталинки; капельки талого снега, дрожа на ветру, беззвучно падают в рыхлый снег. Воробьи начинают сбиваться в стаи, ведут на деревьях бесконечные споры, как видно, обсуждают квартирный вопрос: на зиму они, заняли пустующие дачи-скворечники, но вот скоро прибудут законные владельцы, и придется выселиться Хлопотное дело!..
А в городе уже настоящая весна, с крыш срываются ливневые потоки, обрушиваются на головы, плечи прохожих, но все довольны, девушки звонко хохочут. Весна… После занятий я выхожу бродить по улицам, часами стою на углу шумной площади, наблюдая, как образуются и исчезают людские водовороты на автобусной остановке. Порой меня охватывает неудержимое желание кинуться в этот водоворот, смешаться с толпой, вскочить в красно-желтый автобус и мчаться навстречу чему-то.
Подолгу простаиваю я перед большими щитами с объявлениями "Требуются слесари… счетоводы… плотники… механики…" Ага, плотником я мог бы пойти работать, теперь мог бы! Да и механиком, пожалуй, мог бы. А в прошлом году я с горьким чувством зависти проходил мимо таких объявлений: даже плотницкое дело для меня тогда являлось недосягаемой высотой. А интересно, пойти бы по какому-нибудь адресу и спросить: "Вам нужен специалист?" — "Да, да! Пам нужен шофер". — "К сожалению, я механик по сельхозмашинам". — "А, очень жаль, дорогой товарищ". И разговор очень вежливый, на "вы". Великое дело — специальность! Можно было бы прийти к тому самому начальнику, который предлагал мне в прошлом году работу помощника маляра. Растирать известь. Должно быть, там и сейчас нужны рабочие — в городе идет "большое строительство. Но теперь я могу спокойно заявить: "Нет, помощник маляра — это меня не устраивает. Я — механик плюс плотник. До свидания!.."
Однажды, проходя по улице, я вздрогнул и остановился: фигура идущей шагах в двадцати от меня девушки поразительно была похожа на Раину. Тот же рост, походка, и даже зеленое пальто с коричневым цигейковым воротником — все было Раино. По веря своим глазам, я кинулся вслед за девушкой. Она шла быстро, зеленое пальто мелькало в толпе прохожих; неожиданно сбоку от меня зазвенел звонок трамвая, и за те полминуты, пока передо мной проходил вагон трамвая, зеленое пальто где-то затерялось. Тщетно осматривался я вокруг — девушка, похожая на Раю, точно сквозь землю провалилась. Постепенно я успокоился, стал уверять себя: ну, конечно, показалось… Мало ли девушек одного роста с Раей, а зеленое пальто… А сколько шьют таких пальто в сотнях ателье разных городов! Нет, нет, это была не она — Рая учится в другом большом городе, очень далеко отсюда. Еще раз оглянувшись вокруг, я побрел в общежитие. Должно быть, просто-напросто весна, капель с крыш и оживление людское немного расстроили мое воображение. Я зашагал в общежитие, за моей спиной огненно-красными змейками извивались неоновые буквы: ресторан "Уют".
* * *
Учеба наша пришла к концу, мы сдали экзамены и получили небольшие, аккуратненькие книжечки-удостоверения. Книжечка легко умещалась на ладони, я долго ее рассматривал, перечитывая снова и снова: "Удостоверяется, что Курбатову Алексею Петровичу присвоена квалификация механика по сельскохозяйственным машинам". Удостоверение я спрятал во внутренний карман пиджака и для верности застегнул булавкой. Эта маленькая картонная книжечка влила в меня удивительную бодрость: что ни говори, а на вопрос "кто ты и что ты?" теперь я без краски стыда могу ответить: я — механик. Это значит, у меня на этой земле есть свое место, я получил постоянную прописку в великой семье мастеров и умельцев!
…Разъезжаются по домам новоиспеченные механики. Этой ночью отходит и мой поезд. Вдвоем с Арсением мы решили напоследок побродить по городу, сделать кое-какие покупки. G этим делом справились быстро: один из нас становился в очередь к продавцу, другой — к кассе. "Разделение труда повышает производительность!" — весело заметил Арсений.
Вышли на Красную улицу, и здесь Арсению неожиданно пришла прямо-таки гениальная мысль.
— У тебя как, денег на дорогу хватит? Ага, уже и билет в кармане? Поезд подождет, а сейчас давай махнем в "Уют", обмоем наши дипломы! — он потянул меня к массивным дверям ресторана. — Пошли, пошли… Кутнем рубля на… три!
Это был единственный в городе ресторан первого разряда. Именно сюда толкнулся я прошлым летом, но был вынужден довольствоваться холодными пирожками с лотка. Недоверие к ресторану сохранилось во мне до сих пор: а вдруг снова не пустят, как говорится, хватанешь шилом масла?..
Но ничего такого не случилось. Мы разделись, сдали одежду в гардероб, прошли в зал. Арсений облюбовал столик в углу, под раскидистым фикусом. Ядовитозеленые его листья оказались картонными. В ресторане было тихо, малолюдно, за двумя-тремя столиками не спеша обедали человек пять. Возле кассы скучали официантки в белых передниках, в одинаковых платьях, с кружевными наколками на волосах, что делало их похожими на строгих богородиц с икон нашей соседки Чочии.
— Днем тут тихо, мирно, все как полагается. А приди вечером часиков в десять — свободного места не сыщешь, набиваются впритирочку… Вон там, в уголочке, оркестр играет — здо-о-ро-вые дядьки! Дудят себе, наигрывают, между делом винцом балуются. Работенка мировая…
Арсений морщился, ворчал вполголоса, рассматривая меню.
— О, солянка, рубль тридцать пять копеек! Калькуляция тютелька в тютельку, дневной заработок уборщицы-поломойки. Черт, и где они такие цены берут?
Минут через десять к нам неслышно подошла официантка, встала за моей спиной, тихо спросила:
— Что будете заказывать?
Голос ее словно током пронизал меня. Не веря своим ушам, я обернулся и… Да, это была она, Рая Березина, моя подруга по школе и первая любовь. Она стояла позади меня, опершись одной рукой на спинку стула, в другой держала крохотный блокнотик и огрызок карандаша. Она тоже узнала меня, рука с блокнотиком дрогнула, губы задрожали, Рая прикусила их. Молчание длилось, вероятно, недолго, но мне показалось, что прошло много времени. Я поднялся, протянул руку.
— Ну, здравствуй, Рая…
— Здравствуй, Алеша…
Мы стоим друг против друга, ошеломленные встречей, в голове назойливо вертится мысль: "Что же еще сказать?" Арсений, видимо, понял наше смущение по-своему: пробормотав что-то вроде "эх, забыл в пальто папиросы", поспешно отошел от нас. Рая первая пришла в себя, принужденно улыбнувшись, сказала:
— Вот так встреча, нарочно не придумаешь! А ты… какими судьбами у нас?
Она быстро оглянулась и присела на краешек стула. Как часто думал я о встрече с ней, но отчего мы не в силах прямо взглянуть друг другу в глаза? Отчего забылись все те слова, которые я собирался сказать ей?
— Еду домой, поезд сегодня ночью… Учился здесь. На механика.
— A-а… Мама писала, что в институт ты не попал. Это уж кому как повезет. Жизнь порой похожа на лотерею…
"Рая, Рая, о чем ты говоришь? И почему ты здесь? Ведь я все время был уверен, что ты в институте! Почему ты в этом городе? Что случилось?"
Она, видимо, поняла, усмехнулась.
— Не можешь понять, почему я здесь? История обычная: не прошла по конкурсу. Так же, как и ты… Устроилась сюда, пока официанткой, а там обещали на курсы послать.
— А почему ты… не вернулась в Чураево?
— Я там ничего своего не забыла! — с непонятной ожесточенностью в голосе отрезала она. — Дурой была, что столько лет зря потеряла там, а умные люди сразу после семилетки в город бегут! Что мы видели в Чураеве? И не жили вовсе, а так… вид один, что жили. Здесь, по крайней мере, людей всяких видишь, и жизнь такая интересная, танцы каждый вечер под оркестр, люди красиво одеваются, среди них себя человеком чувствуешь. А в Чураеве твоем что? Лекции про кукурузу да про надои, да танцульки под разбитый баян, вот и вся культура! Нет уж, Алешенька, если тебе нравится, пожалуйста, живи в Чураеве, а меня теперь шоколадкой не заманишь! И чем я виновата, чтобы пропадать в такой глуши, когда люди в городе в свое удовольствие живут? Я-то чем хуже их уродилась, скажи?
Я еще никогда не видел Раю такой. Говорила она вполголоса, чтобы не слышали за другими столиками, но я заметил, что она готова была сорваться на крик. Лицо ее пошло пятнами, а пальцы торопливо теребили краешек кокетливо расшитого передничка. Неужели эта красивая девушка в кружевной наколке, с подведенными бровями — неужели она та самая Рая, которую я давно привык считать "своей", близкой и понятной? Нет, сейчас я ее не узнавал, это была совсем другая Рая. А может быть, я лишь в воображении нарисовал ту, другую Раю, на самом деле она всегда была вот такой — красивой и злой?
— А как с матерью, Рая? Она будет ждать тебя.
— Ну, уж это не твоя печаль, Алешенька, не о чужих бы тебе пока беспокоиться!
Но она тут же спохватилась и, чтобы смягчить свои слова, добавила:
— А что мама? Она проживет. Буду понемногу помогать…
Мы помолчали.
— В Чураеве тоже жизнь налаживается. Председатель у нас новый, может, помнишь Захарова из райкома? Хорошо взялся за дело, обещал свою электростанцию пустить. И клуб новый будет у нас, и вообще…
— Нет уж, Алеша, ты меня не агитируй возвращаться в Чураево, я как-нибудь здесь проживу! Может, еще мораль станешь читать, мол, культуру в деревне должна поднимать молодежь? Спасибо, наслышана! Культуру сеют, да что-то она больно медленно всходит, а мне ведь не сто лет жить. Кому нравится в деревне соловьев да коров слушать, пусть тот и живет там, а мне что-то по своей темности нравится оперу в театре слушать!
— Неправда, Рая! Раньше ты не так смотрела на жизнь. Ты просто обиделась на всех людей за то, что не попала в институт. Кто же виноват, что ты не добрала несколько баллов?
Рая досадливо поморщилась, сказала с кривой улыбкой:
— К чему об этом… Оставим это, Алеша. Я ведь все равно никуда отсюда не поеду. Останусь здесь. Или ты мне воспретишь, Алешенька?
В голосе Раи послышался вызов, но глаза выдавали ее целиком: они молили меня не спрашивать больше ни о чем. Показалось, что через минуту она расплачется.
— Почему же… Нет, я ничего не имею против. Наоборот, Раи… Только я был уверен, что ты учишься. И не писала…
— А я и домой очень редко писала. Мать еще не знает, что и… не учусь. Ты, Алеша, не говори ей ничего, она ведь все-таки… любит меня, будет переживать, сердце у нее больное…
— Тебя здесь могут встретить и другие.
— Вряд ли. Чураевские в наш ресторан не так уж часто заходят…
И снова тягостное молчание. В ожидании этой встречи я придумывал много хороших и ласковых слов, но вот мы сидим лицом к лицу, она так близко от меня, что я вижу каждую ее ресничку, но слова… где же они, те ласковые и нелепые слова? Их я не находил. Она жила в моем воображении такой, какой была на выпускном вечере, я всегда ощущал на своей щеке тепло ее первого поцелуя. Первого… Он, видимо, больше не повторится никогда. Мы сидим, знакомые и в то же время чужие.
— Рая, ты помнишь выпускной вечер в нашей школе? Юрка Черняев играл на аккордеоне… Помнишь?
Она покачала головой: "Не надо об этом…"
— Не надо, — повторила она вслух. — Видишь, теперь у меня… совсем другое. Вот я сижу с тобой, а бригадир потом устроит разнос: "Почему вступаешь в беседы с клиентами?" У нас насчет этого строго смотрят… Будешь в Чураеве — передавай приветы. Впрочем, нет, не надо, никому ничего не говори! Ты меня не видел, не встречал, Алеша. Так будет лучше! А пока… до свидания! Вы с товарищем хотели обедать? Будешь заказывать?
Арсений не возвращался. Он сказал, что пошел за папиросами. Но ведь он не курит, с чего ему вдруг захотелось покурить? A-а, ясно! Нет, Арсений, ты мог бы спокойно сидеть вместе со мной, у меня с этой девушкой-официанткой никаких секретов нет. Просто я встретил свою землячку, с которой когда-то учился в одной школе, в одном классе и которая даже нравилась мне, и я, может быть, тоже нравился ей. А ты подумал другое, Арсений? Нет, ничего не произошло, встретились земляки из одной деревни, только и всего…
Я не стал заказывать обеда, и Рая заторопилась отойти от меня.
За соседний столик сели двое, Рая подошла к ним прямой, негнущейся походкой, изобразила на, лице улыбку и вежливо спросила:
— Что будете заказывать?
Здесь мне больше нечего было делать. Я встал и прошел через зал. В гардеробной меня ждал Арсений. Мы молча оделись, вышли на улицу. Прошли в молчании еще шагов тридцать, лишь тогда Арсений спросил:
— Знакомая?
Я кивнул: да, знакомая.
— Красивая девушка, — сказал он.
— Да, красивая, — согласился я.
И больше не было сказано ни слова о встрече в ресторане под ядовито-зеленым картонным фикусом.
…Арсений вызвался проводить меня на вокзал — сам он собирался уезжать на следующий день рейсовым автобусом.
В зале ожидания с трудом отыскали свободное место, я поставил чемодан на замызганный пол, стал присматриваться к окружающим. Близко от нас сидит пожилая женщина, рядом с ней — девушка. На минуту иголочкой кольнуло в сердце: девушка чем-то неуловимо напоминала Раю… Женщина, бережно собирая крошки в ладонь, ела домашние шанежки, между делом рассказывала своей соседке:
— Сын письмо прислал: дескать, если надумаешь приехать ко мне, так запомни, что станция, где я живу, будет шестой по счету. Название станции написал, да оно такое мудреное, что мне и не выговорить! Запомнила только, что на шестой станции слезать надо… Справила я билет, села и еду, считаю станции. Как остановился поезд шестой раз, я и собралась слезать, а мне люди говорят: рано, бабушка, не твоя еще станция. Что, думаю, за диво, эдак и вовсе проехать можно! А поезд себе катит и катит, я считаю станции, уже и со счета сбилась… И ведь все равно приехала, нашла сына! Как рассказала ему об этом, он и давай смеяться: ты, говорит, мама, все остановки считала, а надо одни только станции!..
Довольная, женщина тихонько смеется: "Поезд — он хоть на край света умчит!"
Шагах в пяти от нас стоят трое молодых парней. Они заняты тем, что, избрав мишенью кого-либо из пассажиров, принимаются наперебой упражняться в острословии, сами гогочут на весь зал. Особенно старается парень в серой кепчонке, с небрежно повязанным вокруг шеи пестрым шарфом. Ему, по-видимому, страстно хочется обратить на себя внимание окружающих… Вот он скорчил рожу, хохотнул:
— Хэлло, прямо по курсу — старая обезьяна!
Он кивком указал на старичка в поношенном полушубке, боязливо пробирающегося между расставленными на полу чемоданами, корзинами. Он растерянно озирался, люди натыкались на него и недовольно ворчали, отчего старик терялся еще больше. Он, по-видимому, хотел о чем-то спросить, но в вокзальном шуме люди не слышат его слабенького дребезжащего голоса, и он идет дальше, шарахаясь от людей… Но вот старик приблизился к парням, несмело оглядев их слезящимися глазами, спросил ломаным языком:
— Билет надо, билет… Где брать надо?
Парни прямо-таки покатились со смеху, а потом принялись "разыгрывать" старика:
— Поезд твой давно ушел, папаша!
— Да нет, не верь ему, папаша, твой поезд будет завтра! Иди, проспись на печи, поковыряйся в золе! Ха-ха-ха…
Старик растерянно оглядывается, ища помощи, и бормочет свое: "Билет надо… Где брать билет?" Парни гогочут, им страшно весело. В самый разгар их веселья Арсений вдруг резко поднялся, шагнув через чемоданы, решительно взял старика за рукав и повел к кассе. Через головы людей мне видно, как он постучал в крохотное, похожее на амбразуру, окошечко, сунул туда деньги и через минуту вручил старику билет, так же молча вернулся на свое место, сел. Лишь крылья его тонкого носа нервно раздувались. Парням очень не по душе пришелся поступок Арсения, и теперь они избрали мишенью его самого.
— Ха, заступничек нашелся!
— Облагодетельствовал, хо-хо!
— Ефрейтор… В армии ему вдолбили сознательность!
Парень в пестром шарфе сказал что-то вполголоса, и все трое загоготали: "Га-га-га, точно! Таких хлебом не корми, только дай совершить подвиг! Герой…"
Точно подброшенный пружиной, Арсений вскочил, в мгновение очутился перед парнем в серой кепке, схватил за шарф и с силой тряхнул. Голова парня мотнулась назад, а когда он сделал попытку вырваться, Арсений в бешенстве выкрикнул: "Ты, поганка! Издеваешься?" — и неуловимым движением поддал кулаком в подбородок парня. Тот дернулся назад и, загремев чемоданами, грохнулся на спину. Кто-то испуганно вскрикнул: "Ой, дерутся!.." Уже через минуту, настойчиво прокладывая в толпе дорогу, к Арсению пробирался дежурный милиционер. Быстро оценив обстановку, он строго ткнул пальцем на Арсения и не успевшего еще подняться на ноги парня в серой кепке:
— Вы, гражданин, и вы — пройдемте со мной!
Двое других парней незаметно выбрались из толчеи и скрылись. Я схватил свой чемодан и направился вслед за милиционером, но в дежурную комнату меня не пустили, пришлось ждать Арсения возле дверей. Наконец он вышел, лицо у него было немного смущенное, он махнул рукой и кивнул:
— Пошли, из-за меня на поезд опоздаешь.
По пути на перрон объяснил:
— Лейтенант там… стал нравоучение читать, дескать, нельзя кулакам воли давать. Это, конечно, верно, но… смотря где и с кем! Тех подлецов одними лекциями в нашу веру не обратишь. Их двадцать лет воспитывали, а что получилось? Э, да чего там! Считаю их личными врагами, бил таких и буду бить в дальнейшем! Так и сказал товарищу лейтенанту. Ну, кажется, он понял меня: как видишь, обошлось, отпустили… Вон, стоит твой поезд. Какой у тебя вагон?
Мы влезли в битком набитый вагон, я с трудом устроился на самой верхней полке и попрощался со своим новым другом. Арсений крепко стиснул мою руку, встряхнул и сказал:
— Счастливо доехать! Смотри, если что, не раскисай, Лешка. Пиши… Думаю, еще увидимся. Желаю удачи, механик!
Поезд тронулся, Арсений на ходу соскочил с подножки, в окошко я еще раз увидел его, помахал рукой, а через минуту уже замелькали станционные здания, ларьки, буфеты, склады.
Мой новый друг — человек быстрых решений и немедленного действия — занял в моем сердце полагающееся ему место. Я был уверен, что надолго запомню Арсения. Мне положительно, везло на хороших товарищей. А может быть, происходит это по той простой причине, что на земле хороших людей неизмеримо больше, нежели дурных?
Сойдя с поезда на своей станции, я часа два прождал попутную машину до Чураева. Оказалось, что дорога "стала", машины не ходят. В конце концов я готов был ехать на чем угодно, но кто выедет в такую пору в дальний путь? Дороги развезло, в низинах под снегом скопилась талая вода, вот-вот она прорвет непрочную запруду, и пойдет шуметь большая вешняя вода. Весна. Уже прилетели скворцы, по обочинам дорог важно вышагивают дубоносые грачи, смахивающие на строгих ревизоров: неторопливо ковыряются в земле, затем внимательно оглядываются и будто прикидывают, записать председателю колхоза штраф за подмокшую озимь или погодить?..
Незнакомый мужчина — посоветовал справиться на почте: может, подвезут. Так оно и оказалось: в дальние отделения весной почту перевозили на тракторах. "Пожалуйста, поезжай, — сказал мне начальник, — но если случится принять холодную ванну, мы за тебя не в ответе…"
Выехали утром по звонкому застылку. Гусеничный ДТ-54 с веселым громом тащит огромные, сколоченные из цельных бревен сани, на которых грудой высятся кипы газет, баулы с письмами и множество фанерных ящиков с посылками. На случай непогоды все это прикрыто тяжелым, гремящим, словно жесть, брезентом. Кроме сопровождающею почту, на санях сидят пассажиры: женщина с грудным ребенком, паренек-ремесленник, едущий к больной матери, грузная баба с какими-то мешками и я. Наш громоздкий "экипаж" ползет по дороге со скоростью семь километров в час. Если все пойдет нормально, примерно через восемь часов я буду дома.
Трактор, урча, скатывается под уклон, впереди — длинный некрутой подъем. На самом гребне холма одиноко маячит старый дуб с причудливо изогнутыми сучьями, точно от долгого стояния на пронизывающем сыром ветру дерево тяжко переболело ревматизмом, и безжалостная болезнь скрутила ему руки… Дуб этот доводится мне старым знакомым: как раз возле него прошлым летом меня нагнала машина Захарова, и на виду у него круто в сторону повернула дорога моей жизни. Для остальных путников дуб этот ничем не интересен: разве мало попадается их по дороге? Но для меня это скрученное жестокими ветрами, но упрямо продолжающее стоять на самом горбу холма дерево стало приметным знаком на большом жизненном перепутье, Точно в народной сказке: "Направо свернуть — коня потерять, налево свернуть — головы не сносить…"
Осторожно, будто пробуя прочность наста своими широкими гусеницами, трактор стал сползать по крутому спуску. Впереди должна быть глубокая промоина, через нее сооружен бревенчатый мостик без перил. Летом промоину заметно издали. Но сейчас она до краев занесена снегом, и со стороны не видно, что тут затаилась какая-то опасность. Перед самым мостом трактор встал, из кабины выскочил немолодой водитель, озабоченно прошелся по настилу, постукивая каблуком, заглянул под мост. Затем подошел к саням.
— Ненадежный он… Не ездил я тут раньше. Попробуем ниже моста проехать, прямиком.
Мы с ремесленником соскочили на дорогу, стали утаптывать в снегу дорожку.
— Ладно, попытка — не пытка! — сплюнул тракторист и полез в кабину. Трактор двинулся вперед. Местами снег оседает, но это трактору не так страшно — на широких гусеницах он держится хорошо. Вот он уже взобрался на противоположный край промоины, гусеницы яростно скребут выступившую из-под снега землю. Машина высоко задрала нос, кажется, что вот-вот скатится обратно; меня охватило нестерпимое желание взобраться в кабину к водителю и до боли и пальцах ухватиться за рычаг, рвануть вперед. Ну же, скорей, еще полметра!.. Трактор, действительно, резко рванулся вперед, выскочил на ровное место, но сани… остались на месте. Выкованный из железа мощный прицеп не выдержал и оборвался, точно это был кусок гнилой веревки… И надо же случиться такому как раз на этом месте! До Чураева остается еще больше половины пути, с тяжелым чемоданом пешком не пойдешь, а кроме того, не могу же я оставить этих людей здесь посреди поля. Вот женщина с ребенком испуганно и с надеждой посматривает на нас, троих мужчин. Нет, надо как-то вытащить сами!
Тракторист вытянул из-под сиденья стальной, свитый из проволок, трос, молча принялся сцеплять сани с трактором. Почтальон безучастно сидел на своих ящиках: ему было вменено и обязанность "не отлучаться от груза ни при каких обстоятельствах". Женщина с ребенком также осталась на месте. Не думала слезать и толстая баба, продолжая с полным равнодушием разглядывать пустой горизонт.
Наконец, трос был кое-как прикручен. Солнце неумолимо поднималось все выше, начинило ощутимо пригревать, снег становился рыхлым, предательски провяливался, стоило лишь шагнуть с дорожки в сторону. Где то под толщей снега еле слышно журчала вода…
Снова взревел дизель, трос натянулся. Из-под гусениц летели комья грязи, мокрого снега, трактор буксовал и медленно оседал в снег. Он напрягал всю свою мощь, дрожал всем корпусом, но сани не двигались. Широкие полозья, точно намертво, были схвачены плотным, начинавшим подтаивать снегом. Тракторист сдал машину чуть-чуть назад, затем включил передний ход и дал рывок. Стальной трос лопнул, точно его срезало ножом. Тракторист выругался и принялся все делать сызнова. Мы с пареньком-ремесленником помогаем ему, он молча, как должное, принимал нашу помощь. Трос не поддается, стальная змея вырывается из рук и скручивается обратно, Острый конец проволоки мстительно рассек мою ладонь, из раны сразу начала сочиться кровь. Странно, но я не чувствую боли, торопливо вытаскиваю из кармана подаренный Аннушкой носовой платок и завязываю им рану. Через минуту на синей материи проступают ржавые пятна. Тракторист сочувственно замечает:
— Лучше автолом смазать. Моментально затягивает…
Все готово, трос привязан к саням. Снова тракторист лезет в кабину, дает полный газ, и снова — о, черт побери! — сани остаются на месте, а трос, оборвавшись, стремительно скручивается. Сели!.. А солнце припекает все жарче, снег стал совсем рыхлым, того и гляди, он не выдержит тяжести саней. Сколько еще нам предстоит сидеть? Выручки ждать неоткуда — днем никакой смельчак не отважится собраться в дорогу: бесполезно, кругом тает…
Тракторист стоит в раздумье, опершись рукой на гусеницу. Я подошел к нему.
— Лопату про запас имеешь?
— Есть лопата. Для чего она сейчас?..
— Надо подкопать под полозьями. Сани крепко сидят в снегу, а он сырой, прилипает… И спереди тоже надо расчистить. Не сидеть же до утра!
Тракторист взглянул на меня с явным интересом, кивнул и полез в кабину, снял сиденье и вытащил лопату. Молча принялся он отшвыривать снег, с лопаты струйками стекала талая вода. Паренек-ремесленник помогал ему, ковыряя снег дощечкой, я со злостью разгребал снег прямо голыми руками — рукавицы все равно были мокрые и холодные…
Казалось, все готово, можно попробовать снова. А если опять неудача? Нет, на этот раз нужно действовать наверняка! Нельзя ли как-то облегчить сани? Сказал об этом трактористу, он снова согласился со мной: "Верная мысль, парень. Нужно скидать все ящики, в них целая тонна весу!" Мы разостлали брезент прямо на снегу и стали разгружать на него мешки с письмами, пачки газет, ящики с посылками. Ящики были тяжелые, но мы приноровились разгружать их конвейером. Вот уж не думал, что в Чураево приходит такая богатая почта!
Оставалось перенести пяток ящиков. Но тут, ступив неосторожно, я внезапно по пояс провалился в промоину. Там, под снегом, была вода… Как ни поспешно вытянули меня тракторист с ремесленником, но коварная вода опередила их — она налилась через широкие голенища, я почувствовал в ногах леденящий холод. Присев на ящик с посылкой, я стащил с онемевших ног сапоги и принялся выжимать портянки. Женщина с ребенком молча раскрыла свой чемодан и развернула мягкое, с кистями полотенце.
— Возьми, парень, на ноги намотай! Не ровен час, простудишься. Бери, бери, чего там, здоровье дороже!
В третий раз ожил трактор, сердито застрелял кольцами дыма. Взвизгнули шестерни, из-под гусениц вырвался грязный фонтан и… сани нехотя двинулись, поползли следом. На той стороне овражка трактор встал, мы кинулись бегом таскать ящики, мешки, пачки газет. Наконец, все было сложено в прежнем порядке, и мы двинулись вперед. Промоина шириной всего в несколько шагов задержала нас чуть ли не на полдня!
Тракторист посадил меня рядом с собой в кабину: здесь от мотора тянет теплом. Но я никак не мог согреться: зубы выбивают сумасшедшую дробь, в ступни ног впиваются тысячи крохотных иголок. Погода изменилась, ветер нагнал низкие тучи, моросит мелкий дождь — снегоед. Весна…
Не могу в точности сказать, сколько мы ехали — час, два, день? Я перестал ощущать время. Под конец ноги уже ничего не чувствовали, я принимался шевелить пальцами, но их словно не было. Меня начало знобить, кружилась голова, временами казалось, что я вместе с трактором проваливаюсь в глубокую яму, согнувшись, судорожно хватаюсь за борта кабины. Тракторист качает головой, кричит над самым ухом:
— Плохо, браток! Тебе бы сейчас с ходу в баньку, пропотеть основательно. А внутрь принять водку с мёдом — первое лекарство от простуды!..
Вдали показались домики Чураева. Через полчаса трактор остановился, я с трудом слез на землю, поднял ставший свинцово-тяжелым чемодан, шатаясь, побрел вдоль домов. Гудела голова, ноги подгибались от страшной слабости. Добравшись до своих ворот, я с усилием нажал на щеколду, толкнулся в калитку. В окне мелькнуло лицо матери, она тут же выбежала на крыльцо, испуганно охнула:
— О, господи, Олеша, что с тобой? Лица на тебе нет! Бож-же ты мой…
Она подхватила меня под руку, повела в дом. Словно в тумане, увидел я встревоженно вскинутое лицо отца. Валясь в постель, я пробормотал:
— И дороге задержались… Ноги промочил. Ничего, пройдет…
Последнее, что я почувствовал, было мягкое прикосновение руки матери, она осторожно прикладывала их к моему лбу, щекам. Затем потолок надо мной странно покосился, я стал падать с головокружительной высоты в черную бездонную яму. А еще через мгновение — мягкая тишина и мрак…
* * *
Второй раз в своей жизни я учусь ходить и с каждым разом убеждаюсь, что даже один сделанный с усилием шаг доставляет в тысячу раз больше удовольствия, чем бесконечно долгое лежание в постели. Добравшись до окошка, подолгу любуюсь улицей. Раньше я не находил в ней ничего примечательного: улица как улица, летом пыльная, зимой — занесенная снегом. Сейчас я заново открываю ее для себя.
Отец с беспокойством поглядывает на меня, потом с неприметной лаской в голосе говорит:
— Олеша, мотри, рано ты начал ходить. Как бы снова не свалился…
— Нет, отец, мне теперь хорошо. Скоро совсем встану.
Сегодня двенадцатый день моей болезни. Первые два дня, говорят, метался в бреду, звал кого-то. Мать, как всегда, украдкой плакала, отец молча хмурился. Не привык он на людях показывать свои переживания. Несколько раз приходила к нам пожилая женщина-врач, делала уколы. Мать с тревогой выпытывала у нее: "Как, доктор, хуже ему не будет?" — "Ну что вы, не беспокойтесь! — отвечала врач. — У вашего сына отличное здоровье. Парень еще только жить начинает!" Отвернувшись лицом к стене, я тихо улыбался: верно, жизнь для меня только начинается.
На улице разгар весны. Исчезли валы сугробов, лишь кое-где еще виднеются небольшие бугорки грязного ноздреватого снега. Небо синее-синее, без единого облачка, за день солнце успевает обойти все наши окошки, золотыми квадратами лежит на полу, пускает зайчики по потолку. Из окна видно, как сынишки дяди Олексана играют в запруды, ставят самодельные вертушки-мельницы. От вертушек протянуты провода-нитки (конечно, тайком стащили у матери). Нестерпимо сверкают на солнце ручейки, даже через двойные рамы чудится мне их серебряное журчанье. Время от времени проезжают по улице на парных упряжках: колхозники подвозят к сеяльщикам семена. Ближе к обеду к нашим воротам подкатывает новенькая, но вся заляпанная грязью грузовая машина: брат Сергей приехал обедать. Он наскоро хлебает щи, завертывает в газетку кусок хлеба и снова уезжает на своем грузовике. Горячее, видать, время в колхозе! И до чего ж досадно становится, что в такие дни ты лежишь в постели и ничем не можешь помочь своим товарищам. А они часто забегают ко мне, посидят минут пять-десять и с виноватым видом спешат прощаться: мол, сам должен понимать, время такое. Я еще не мог сидеть, когда прибежал запыхавшийся Генка Киселев. Дышит так, будто на нем пахали. Поздоровавшись, он сделал круглые глаза, свистящим шепотом спросил:
— Лешка, здорово! Приболел, что ль, а?
Ох, как я обрадовался ему! Он подсел ко мне, стал торопливо выкладывать новости. Их было много, новостей, и я просил Генку не торопиться с рассказом. Во-первых, они давно пашут и сеют — "по мере поспевания почвы". Во-вторых, Мишка Симонов больше не работает в бригаде, взял расчет, собирается куда-то уехать. "Э, скатертью дорожка! — по-своему оценил это дело Генка. — Особо никто переживать не собирается. Давай, Лешка, поправляйся, будем работать на пару!" Затем он рассказал, что скоро в Чураеве будет электричество, Алексей Кириллович сдержал свое слово, на днях начнут тянуть проводку. A-а, теперь понятно, почему ребятишки дяди Олексана играют "в электростанцию". Затем Генка сообщил мне грустное известие: умер старый Парамон. Он и не хворал, все дни в колхозе работал, пришел как-то на обед, лёг отдохнуть и не встал. Врачи признали разрыв сердца… Жаль старика, хороший был человек. И почему это как раз у хороших людей так часто сердце бывает больное? Поправлюсь окончательно — схожу на его могилу; старик был добр ко мне…
Генка заспешил. Сказав на прощание, что зайдет на днях, натянул на голову кепку, ушел. А вскоре после него опять стукнула калитка, пришли новые гости — дядя Олексан и Часовой. Зашли они попутно — шли с работы. Я не сразу узнал Часового: он был без бороды и одет непривычно чисто. Пока Часовой свертывал цигарку из отцовского кисета, дядя Олексан, посмеиваясь, вполголоса сказал: "Видал молодца? Задумал жениться, божья коровка! Отошел от святости…" От него я также узнал добрые вести: новый свинарник достроили, а рядом поставили овчарник, тоже новый; срубили домик для доярок, помещение под электростанцию, гараж… "Вот отсеемся, — сказал дядя Олексан, — и примемся за клуб". Лес заготовили сами комсомольцы (устраивали воскресники). И ставить клуб молодежь решила своими силами, а дядя Олексан у них будет как бы за технорука.
— Вот, Олешка, какие дела! Такая, брат, жизнь начинается — только держись. Ты, давай, скорее на ноги становись, дела ждут! — дядя Олексан положил свою большую, жесткую руку на мою, легонько пожал. — Ты не думай, парень, мы тебя по-хорошему помним. Ждали. Ну, будь здоров!
От его слов у меня в груди шевельнулось что-то горячее, защипало в глазах, я отвернулся лицом к стене — не должны видеть, как плачет от радости человек.
Вскоре они ушли. Часовой, не вступая в разговор (вот переменился человек), смущенно поглаживал голый подбородок, неловко покашливал. Выходя следом за дядей Олексаном, он споткнулся о порог, забормотал под нос: "Ах ты, нечистая сила…" Видно, и в самом деле Часовой отошел от бога, если поминает нечистую силу! Задумал жениться, ног под собой не чует. Эх, надо было спросить у дяди Олексана, нравится ли девчатам-дояркам наша новая ферма. И как у них там дела идут? И не ругает ли больше Анна Балашова правленцев? И еще… как она сама поживает? Нет, пожалуй, об этом не стоило спрашивать: дядя Олексан сразу смекнет, в чем дело. Не станет же парень ни с того, ни с чего интересоваться девушкой! Любой скажет, что дело тут не спроста! А жаль, что Аннушкин платок я кровью перепачкал, теперь, должно быть, не отмоешь…
Дома у нас тоже важная новость: колхоз выделил Сергею делового леса — он собирается строить дом. Вижу я Сергея редко — из дома уходит рано и возвращается поздно ночью. Сквозь сон слышу, как он умывается, садится за стол, и всякий раз они с отцом заводят долгий, приглушенный разговор о строительстве дома. Конечно, в новом доме Сергей не станет жить в одиночку — женится, заведет свою семью. Мать и раньше исподволь не раз заводила разговор на эту тему, но Сергей лишь досадливо отмахивался: "Ну, куда сейчас? Делиться будем? Мне на улице жить? Успеется, женюсь…" А теперь на вопросы матери лишь смущенно хмурится: по всему видать, приметил он себе девушку, но молчит до поры. Что ж, заневестившихся девчат в Чураеве через два дома в третьем…
Вечером к нам явилась нежданная гостья. Мать с отцом ужинали при лампе, Сергея еще не было. Слышу, как звякнула щеколда в калитке, открылась дверь, и через порог неуклюже перевалилась тетка Матрена, жена Архипа Волкова. В руках у нее какой-то сверток, держит за спиной. Поздоровавшись, певуче заговорила:
— И-и, господи, не была у вас давно — в сенях заблудилась! — тоненько захихикала, затряслась вся. — Гость к еде — видно, не хаяли!
— Ужинаем вот, — отозвалась мать. — Садись с нами к столу, Матрена.
— Спасибо на добром слове, недавно из-за стола… Олеша, бедняжка, ты все еще хвораешь? Слышала от людей про твою болезнь. Ах-ах, господи, надо же такому случиться!
Она прошла вперед, грузно шлепнулась на скамью. Крохотные ее глазки на заплывшем лице беспокойно бегают по углам, точно обшаривают чего-то. И разжирела же баба, даже при разговоре задыхается. Поставить такую к сортировке — сбросила бы лишний жирок! Я живо себе представил, как она крутит ручку сортировки, и невольно засмеялся. Услышав мой смех, Матрена живо повернулась ко мне, изобразила на лице глубокое умиление:
— И-и, больной-то уже голос подает? Слава богу, что на поправку пошел! Здоровье — оно лучшее богатство… Уж ты береги себя, Олешенька, один ты у матери, а Серга ваш — отрезанный ломоть, женится, свою семью заведет. Сам себя не убережешь — никому и дела до тебя не будет! Как же, жди, пожалеют!
С какой стати она печется о моем здоровье? Послушать со стороны — будто о сыне родном заботится!
А Матрена тем временем сыплет и сыплет словами, вздыхает:
— Господи-и, Олеша, заходил ты к нам в Новый-то год, уж как мы рады были, словами не передать, право! Да не смогли угостить, не обессудь… Э, как бы не запамятовать: просил Архип передать тебе, что местечко у них хорошее объявилось, мол, пусть приходит. Уж так он о тебе боспокоится, сынка Петра Семеныча, говорит, надобно пристроить к месту, зря, говорит, в колхозе себя губит. Архип — он такой у нас, для хорошего человека последнее с себя готов отдать!..
Вот чертова матрешка, несет такую чепуху! Незаметно поглядываю на отца: он хмуро прислушивается к её болтовне, катает по столу хлебный мякиш. На лице у него застыло удивление: должно быть, в толк не возьмет, когда и каким образом я успел подружиться с Волковым и с какой стати он старается для меня? В ярости сжимаю под одеялом кулаки, шепчу про себя: "Да заткнись ты, бесхвостая сорока, перестань вздор молоть! У-у, бочка с салом!.."
Матрена вдруг спохватилась, суетливо принялись разворачивать сверток:
— Ах ты, господи, заговорилась я тут, о деле-то и забыла вовсе!.. Заказал Архип в артели сапоги сшить, сам бы рад носить, а они малы ему, в пальцах жмут… Он и говорит мне, сходи, мол, к Петру Семенычу, может, говорит, сапоги эти Олеше как раз впору окажутся. Смеряй-ка, Олешенька, может, и в самом деле приглянутся сапожки. Ишь, какие они, такому только красавчику и носить!
Отец взял одни сапог, повертел в руках, покачал головой:
— Дорогой матерьял. Чистый хром… На такое добро денег у нас покуда… не припасено.
Матрена заерзала на сиденье, расплылась в понимающей улыбочке:
— Да господи, об чем вспомнил, Петр Семеныч! Не припасли, так припасете, вот и вся недолга. После отдадите, не к спеху ведь!.. Как Олешенька на денежное место заступит, сам и расплатится. Архип мой всегда говорит, мол, к умному человеку денежки сами бегут. Да ведь так оно и есть! Мы с вами, прости господи, не чужие, в соседях живем, рассчитаемся как-нибудь. Аникей Ильич тоже о тебе справлялся, Олеша: как приедет, говорит, пусть сразу ко мне идет. По сердцу ты ему пришелся. Господи-и, да это не человек — золото настоящее, поискать таких! Уж ты, Олеша, сходи к нему, направит он тебя, к месту пристроит. Аникей Ильич уж такой человек, завсегда из беды другого выручит… Свое последнее отдаст, а выручит!.. Ой, засиделась я у вас, о доме-то и забыла. Олеша, так ты сапоги эти потом примеришь, они будто на тебя и сшиты. Да такому красавцу в хромовых сапожках и ходить! Небось от девушек отбоя не будет, хи-хи. Нас не забывай, заходи. До свиданьица, у нас бывайте!
Наконец-то она догадалась закрыть за собой дверь. Вот чертова баба, некстати явилась!
Отец долго разглядывал сапоги, в раздумье тер щеку. Сдержанно спросил:
— Ну, что думаешь с ними делать?
Что я думаю? Сказать по правде, я был не прочь пощеголять в хромовых сапогах. Таких у меня никогда еще не было. Кирзовые сапоги, доставшиеся мне от Сергея, давно пришли в ветхость, в них уже неловко показываться на людях. Может, и в самом деле купить эти сапоги? Вот стану работать и с первого аванса рассчитаюсь. Ведь если не я — другой кто-нибудь купит. Хоть и не нравятся мне сами Волковы, но — черт с ними! — на сапогах не написано, чьи они да откуда!
— Отец, — сказал я, — может, пока их оставить? А то все равно другие купят… Я заработаю, отдам деньги.
Отец молча завернул сапоги и сунул под лавку. Вот и отлично, давно я мечтал о настоящих хромовых сапогах. Если еще на них надеть новые галоши, как у Генки Киселева, тогда… Словом, я был доволен. А что касается работы, то с поклоном к Волкову я не пойду, пусть не ждет. Теперь у меня есть специальность, ждут другие дела!
…На улице весна. До чего же надоело лежать! Будь я сейчас здоровый, побежал бы на горку, полюбовался полями, разливом тихой нашей Чурайки, всей бы грудью вдохнул свежего ветра!
* * *
Ну и работа у меня — прямо сумасшедшая! Не успеешь сделать одно дело, глядь — подступило другое. Прибежали сеяльщики, чертыхаются: "Разрегулировалась льносеялка, самим не наладить, айда, помоги, Курбатов!" Бегу в поле, оттуда — в кузницу: надо нарезать болтов, гаек разных. В колхозе нет даже мало-мальского токарного станка, а за каждой мелочью в РТС не побежишь: слишком дорого обходится там ремонт, гайки получаются золотые. Уж лучше нарезать вручную, плашками. И так каждый день — точно белочка в колесе. В кожу ладоней прочно въелась мелкая железная опилка — мылом не отмыть. На руках ссадины, кровоподтеки; промахнулся молотком, ударил по большому пальцу — искры из глаз. Палец здорово распух, а ноготь, как видно, скоро отпадет. Генка успокоил: "До свабьды заживет, новый отрастет!"
Я застал лишь последние дни сева, почти все было сделано, пока болезнь держала меня в постели. Досевали оставшиеся клинья яровых, сеяли лен, кукурузу, готовились садить картофель. Но основное было уже позади, я приспел к шапочному разбору.
Алексей Кириллович как-то, встретив меня, спросил:
— Ну, техник-механик, не жалеешь, что поехал на курсы?
Я сказал, что нисколько не жалею.
— Правильно! — одобрил Захаров. — Ученье в любых видах — вещь полезная. А то заладил было: институт да институт… Наше с тобой от нас не уйдет, дай время!
И аппетитно, с хрустом потянулся.
— Ух, тезка, денечки были: разрываешься надвое, а тебе говорят — надо вчетверо! Теперь не грех отоспаться вволю… Только вряд ли удастся — дома у меня целыми днями музыка, почище Бетховена! Шельмецу, моему Вовке, уже четыре месяца, вовсю пузыри пускает, сеет просо… Между прочим, все понимает! Заходи, увидишь.
Радостное, ни с чем не сравнимое ощущение весны и жизни не покидает меня все эти дни. Так хорошо, так беспокойно-радостно мне еще не было никогда. Может быть, виновата в этом весна, а может, что-то другое? Не вертелись больше в голове мучительные вопросы: что же дальше? Куда податься? Где мое место? Конечно, работа тоже здорово отвлекает: просто не остается времени размышлять, когда со всех сторон тебе кричат: "Эй, Курбатов, поди сюда, помоги зазоры установить" или "Олешка, ну-ка, подсоби поднять. Раз-два, взяли!" Работы, как выражается Генка Киселев, "выше ноздрей", и совершенно некогда раздумывать, на своем ли я месте сижу. Одно для меня было ясно: сегодня я нужен людям, у меня нет права уйти от них, и место свое я занимаю вполне законное!
Но сердце… Порой оно начинало выстукивать что-то тревожное, куда-то зовущее. Но куда? Я знал, что моё место сегодня здесь, и никуда не собирался трогаться. А сердце звало!.. Оно ждало каких-то перемен. Каких? Кого оно ждет? Никто из родных и близких никуда не уехал, все они живут здесь, рядом со мной. Сердце беспокойно ожидало каких-то встреч!
После приезда я всего несколько раз виделся с Анной, да и то лишь на людях. "Здравствуй, Алеша! С приездом!" — "Спасибо, Анна. Как живешь, работаешь?" — "Спасибо, живу хорошо. А скажу плохо — все равно не поверишь…" Вот и весь наш разговор… Мы даже не взглянули друг дркгк в глаза.
Почему-то сердце мое начиняло биться громче и быстрее как раз в такие, моменты, когда я думал о ней, об Анне. Меня тянуло к ней. Зачем? Ответить на это я затруднялся, просто тянуло и все! За то время, пока меня здесь не было, что-то неуловимое изменилось в Анне. Изменился голос? Нет, он все тот же, певучий и немного печально-ласковый. Или глаза? Не знаю. Возможно, они стали голубее, чем прежде, но это скорее оттого, что в них отражается лазурная синь майского неба.
А может, мне все это лишь кажется? Мало ли что может померещиться, если тебе восемнадцать лет, да к тому же на дворе — весна!..
Сергей на своей машине съездил на базу "Сельэлектро", привез полный кузов проволоки, фарфоровых изоляторов, мотков кабеля. Узнав об этом, люди в Чураеве взбудоражились: будут тянуть электричество!
Действительно, вскоре из города прибыл электротехник, но пробыл он всего два дня: показал, где поставить трансформаторную будку, щитки с переключателями, а остальное…
— Остальное сами сделаете, — сказал он Алексею Кирилловичу. — Вон у вас какие орлы, любого электрика за пояс заткнут! А мне проводкой заниматься некогда — ждут в других колхозах.
— Верно, молодежь у нас грамотная! — с заметной гордостью ответил Захаров. — Свои механики имеются, а скоро и инженеры появятся. Что ж, тезка, видно, тебе придется командовать электрификацией Чураева!
И вот, с легкой руки Алексея Кирилловича, я превратился в электрика. Мальчишки табуном бегают за мной, наперебой вызываются помогать, и наш шумный табор кочует от дома к дому. Взрослые, завидев меня, почтительно здороваются первыми, подолгу стоят, задрав голову, пока я прикручиваю к столбу чашечки изоляторов, интересуются:
— Видно, к концу дело? И где это ты, Алексей, научился этому ремеслу? Гляди-ка, а! Парень-то молодец…
Закончив дело в одном доме, я складываю инструменты в сумку, перекидываю через плечо моток проволоки и прощаюсь с хозяевами: "До свиданья! Скоро загорится свет!" Хозяин провожает меня до самых ворот: "Спасибо тебе, Олеша! Заходи, всегда гостем будешь". Нравится мне новая работа. Еще не светится серебряная ниточка в лампочках, но на лицах людей уже играет свет настоящей радости. Честное слово, я был готов всю жизнь ходить вот так, из дома в дом, с инструментами и мотками проволоки, чтобы видеть, как приходит к людям радость!
В один из таких дней я делал проводку в доме Феклы Березиной. Привертывая в стену штепсельную розетку, я встретился глазами с Раей. Она в упор смотрела на меня с сильно увеличенной фотокарточки, почудилось, что она улыбается насмешливо, словно говоря: "Что ж, Алешенька, я вижу, ты нашел свое место в жизни. Доволен? Каждому свое! Жизнь порой похожа на лотерею…"
Хозяйка стояла поблизости, сложив руки на груди, внимательно следила за моей работой. Заметив, что я смотрю на Раину фотографию, шумно вздохнула:
— Ох, Олеша, ведь вы с моей Раей вместе росли, a вот ты уже работаешь, семье своей помогаешь. Люди с похвалой о тебе говорят, дескать, парень ты толковый. А Рая моя… — она всхлипнула, принялась платком утирать глаза. — Не пишет она давно… А каково это матери! Ростила, ростила, ночей не спала, все ей да ей. Думала, в люди дочка выйдет, тогда и поживу себе в охотку. А она… даже писать не желает. Одна она у меня, в ней жизнь вся моя. А так — кому я нужна?
С трудом удержался, чтоб не рассказать о Рае. Отвернулся к стене, чтобы не видеть ее тяжелых, крупных слез. Давно невзлюбил я эту крикливую женщину, но сейчас мне было жалко ее. И все-таки я промолчал о Рае. А тетка Фекла продолжала:
— Ведь дочь она мне родная, под сердцем я ее носила, Олеша! И самой становится боязно за нее: как она там, может, бедствует, без денег среди чужих людей? Телочку годовалую думаю на базар свести — Рае денег отослать… Чтобы не хуже людей одевалась, за мать не краснела! Своя-то молодость в заплаточках прошла, так уж пущай хоть дочка и за меня в шелковых платьях покрасуется!.. Вы ведь друзьями были в школе, Олеша? Бывало, как увижу вас вместе, так сердце и радуется: дети-то хорошие растут! И то верно: от хорошего семени не бывает худого племени!..
Ишь, куда она завернула! Знаю, как ты радовалась. Опоздала ты с этими речами, тетка Фекла, на целый год опоздала. Что правда, то правда — дружили мы с Раей, да только давно это было, разошлись наши пути-дорожки! И не сойтись им больше.
Закончить проводку у Березиных мне не удалось: в дом вбежал запыхавшийся паренек, старший сын дяди Олексана Петька, и, страшно волнуясь, одним духом выпалил:
— Дядь Олеша, к вам милиция пришла, сказали, чтобы ты сейчас же шел домой, по срочному делу!
Через секунду Петька уже выбежал из избы, загремел ногами по лестнице. Я взглянул на хозяйку дома и поразился: лицо ее побелело, и сама она, не в силах стоять, тяжело прислонилась к стене. Странно, как ее напугало известие, принесенное Петькой. Но ведь милиция пришла не к ней и вызывают не ее! Однако раздумывать было некогда, торопливо сложив в сумку инструменты, я бегом кинулся домой. Что же такое там стряслось? Неужели Сергей с машиной попал в аварию?
Открыв дверь, я тотчас увидел лейтенанта с белыми погонами, а рядом с ним милиционера. Отец, странно сгорбившись, сидел на своем привычном месте, мать стояла, прижавшись спиной к печке, неслышно всхлипывала. Сердце мое сжалось в предчувствии чего-то нехорошего.
Милиционер-лейтенант кивнул мне, приглашая сесть, отрывисто спросил:
— Курбатов Алексей?
— Ну, так… Что случилось?
Лейтенант взмахом бровей указал на табуретку рядом с собой, и лишь тогда я заметил полотняный мешок, чем-то туго набитый.
— Как это штука очутилась у вас, Курбатов?
— Мешок? Да я впервые вижу его!
Милиционер переглянулся с товарищем, тот неприметно усмехнулся, потом лейтенант снова спросил:
— А откуда у тебя хромовые сапоги? Тоже, скажешь, не знаю?
"Хромовые сапоги? А-ах, вон они о чем!.. Почему не знаю? Знаю и могу рассказать. Сапоги принесла Жена Архипа Волкова, я их купил. Правда, еще не успел рассчитаться, но Матрена Волкова сама согласилась подождать с деньгами…"
Как было дело, я рассказал им. Выслушав меня, лейтенант укоризненно покачал головой:
— Ай-яй, Курбатов, ты бы хоть родителей своих постыдился! Спекулянты оставляют у тебя на хранение целый мешок краденой кожи, считают тебя своим, надежным человеком, а ты "ничего не знаешь"? Ай-яй, молодой человек.
Мать заплакала в голос, протянув руки перед собой, сквозь плач проговорила:
— Ой, да что же теперь нам будет, господи-и… Оле-ша, сынок, я в этом виноватая: эта шайтанова дочка — жена Архипа давеча притащила тот мешок, оставила у нас… Сказала, будто ты обо всем знаешь, я и поверила, дура! Господи, за что такая напасть, ой!..
Неожиданно отец поднялся с места, с грохотом отшвырнул табуретку, задыхаясь выкрикнул:
— Хватит! Раньше надо было по сыну голосить! Какой срам…
Закрыв лицо рукой, он бессильно опустился на лавку. Мать испуганно затихла, только худые ее плечи продолжали вздрагивать. Я сидел онемевший, разбитый, оглушенный нежданно-негаданно свалившейся на нас бедой. В голове стоял неумолчный звон, вещи перед глазами расплывались, странно росли, пухли. Наконец откуда-то издалека до меня донесся голос: "Пошли, Курбатов". Я очнулся и встал, будто на чужих ногах шагнул к двери. Те двое вышли следом, лейтенант нёс в руках мешок и мои хромовые сапоги. Возле калитки я лицом к лицу столкнулся с Сергеем, он торопился на обед. Увидев шедших позади меня милиционеров, он поспешно посторонился, давая дорогу, лицо его изумленно вытянулось. Так и остался он стоять, пока мы проходили в калитку. Нет, у Сергея все было в порядке, в аварию попал я…
Мы шагали по той самой улице, где всего полчаса назад я весело насвистывал, разматывая проволоку и протягивая ее от столбов к домам. Или этого не было вовсе? Может, я сплю и вижу дурной сон, будто меня ведут в милицию? Нет, это не сон. Я слышу, как звонко перекликаются мальчишки, мои недавние помощники:
— Ребя-та-а, дядю Олешу в тюрьму ведут!
Этого тебе еще не доставало, Алексей Курбатов!
* * *
В тюрьму меня, конечно, не посадили, никто и не собирался этого делать, но события тех дней сейчас мне кажутся кошмарным сном… не хочется вспоминать о них. Но убежать от своей памяти не так-то просто! Снова и снова вижу себя шагающим по улице в сопровождении милиционеров, в ушах звенят мальчишечьи голоса: "Дядю Олешу в тюрьму ведут!" Что ж, дурость своя, самому и быть за все в ответе… Эх, если бы я знал, что так случится! Не угадаешь, на чем споткнешься.
Судили Архипа Волкова и "друга его милого" Аникея Ильича. Выяснилось, что они не первый год занимались спекуляцией и жульничеством: через кладовщика незаконно получали партии хромовой кожи, шили в артели сапоги, плащи, затем продавали через третьи руки. В последнее время стало трудно сбывать краденое, они почуяли опасность и, предвидя "знакомство" с милицией, принялись лихорадочно припрятывать свой "товарец". Таким вот образом я стал владельцем отличных хромовых сапог, а жена Волкова, воспользовавшись "добрым знакомством", по совету Аникея Ильича, припрятала в нашем доме целый мешок краденой кожи. Вместе с ними судили какую-то женщину, я долго силился припомнить, когда и где ее встречал, наконец, вспомнил: это она сидела на мешках когда весной, в половодье, мы ехали на тракторных санях. Вон, оказывается, какая это была ворона!
Открытый суд проходил в клубе, зал был полон до предела. Архип Волков, Аникей Ильич и та женщина сидели на отдельной скамье, отгороженной от народа точно заразные больные. И хотя я сижу не с ними, но жгучий стыд не позволяет мне смотреть людям в глаза, и кажется, что все в зале с молчаливым осуждением поглядывают на меня.
На суде я без утайки рассказал все, что знал о Волкове, о его дружках. И чем больше рассказывал, тем яснее и отчетливее видел самого себя, точно с большой высоты обозревал свой короткий, но уже изрядно запутанный жизненный путь. Да, путь этот не был безукоризненно прямым, местами он начинал петлять, кружить, чтобы затем снова идти по прямой… Судили Волкова и его дружков, но в душе я судил самого себя, и трудно сказать, который суд был беспощаднее!
Феклу Березину тоже вызвали на суд свидетельницей. Она явилась одетой в старенькое платье с заплатами, в полинялом платке: видно, рассчитывала видом своим разжалобить судей и односельчан. Но люди в зале поняли ее хитрость, никто не собирался ронять о ней слезу. Женщины возмущенно переговаривались: "Фекла через свою жадность готова породниться с самим шайтаном!.. Свинья к любому забору привалится… И куда ей все, будто две жизни хочет прожить!"
Плачущим голосом обращалась Фекла Березина к судьям, начисто открещиваясь от своих друзей:
— Ох, ошиблась я по своей глупости, шайтан толкнул к этим паразитам!.. Кабы ведала, что они за люди, ногой бы к ним не ступила. Денег посулили, я и согласилась держать у себя ихний товар. Ох, дура я, дура!.. Думаю, деньги в хозяйстве не лишние, дочке своей пошлю… Она у меня в городе учится, как же ей без денег? Глаза бы мои не смотрели на этих воришек, тьфу на них! А что в гости собирались вместе — так это леший меня попутал… по ошибке пошла, да не туда ногой попала!
В зале громко засмеялись, посыпались замечания:
— Знала нога, куда свернуть!
— Жадное-то око видит далеко!
— Знаем сами, Фекла, что кривы твои сани!..
Березина сразу сникла, съежилась под градом насмешек: видно, дошло до ее сознания, что ее словам здесь никто не верит и разжалобить никого не удастся.
— Значит, дочь ваша учится в институте? — спросил судья.
— Учится, по первому году учится… Только очень вас прошу — ее-то не тревожьте! Пусть мать плоха, мне самой отвечать, а дочку не беспокойте, пусть себе учится!
Судья жестом остановил ее:
— Очень жаль, но я должен огорчить вас, гражданка: ваша дочь в настоящее время не в институте, как вы думаете, а работает сменной официанткой в ресторане. Как любящей матери, вам следовало бы знать правду о своей дочери!
Услышав эту ошеломляющую весть, тетя Фекла вся помертвела, с минуту тупо смотрела на судью, потом схватилась рукой за сердце и, негромко вскрикнув, рухнула на пол. Люди, сидевшие поблизости, подняли ее, подхватили под руки, повели из зала. Платок ее сбился на затылок, волосы растрепались, голова бессильно свесилась. Полной мерой отплатила дочка матери за слепую ее любовь!..
Объявили приговор. Для троих жуликов суд на этом закончился. Но для меня он еще только начинался. При выходе из зала я увидел Анну Балашову, она стояла очень близко, глаза ее были обращены ко мне, в них я заметил слезы. Нет, сейчас я не мог с чистой совестью смотреть в эти глаза, ясный их взгляд слепил меня. Если бы я мог рассказать ей все, что было на душе, если бы она согласилась выслушать меня! Но в глазах ее стоял испуг, они были влажными, и я прошел мимо, не подняв головы.
Дни после этого стали казаться невыносимо длинными, я старался избегать встреч с людьми. Когда проходил по улице, чудилось, что люди смотрят на меня из всех окон, указывают пальцами: "Смотрите, смотрите, вон идет Алексей Курбатов! Не смог поступить учиться, с ворами снюхался! Смотрите, вот он идет…" Правда, этого никто мне в глаза не говорил, но слова эти я словно слышал за спиной. Дома за столом кусок не шел в горло, косые взгляды отца полосовали ножом: "Нечего говорить, вырастили сына себе на радость! Эх-х…" Только мать по-прежнему ласкова, старается незаметно подложить кусок получше: "Ешь, сынок, ешь, лица на тебе не осталось, похудел весь… Ешь, а то захвораешь, не ровен час…"
Алексея Кирилловича в эти дни в Чураеве не было — уехал куда-то по делам колхоза. Узнав, что ночью он приехал, я прямиком направился к нему. Захаров был дома, играл с сынишкой.
— A-а, техник-механик! — приветствовал он меня. — Здравствуй, проходи, рад тебя видеть! Что это ты вроде невеселый! Ты посиди пока один, а я уложу спать разбойника. Давай, Вовка, баиньки, а? Во-от, так… Папку надо слушаться, папка добрый, но сердить его не следует. А ты у меня молодец, правда?
Болтая с сыном, Алексей Кириллович бережно понес его на руках за перегородку, уложил. Вскоре он вернулся, сделав круглые глаза, погрозил пальцем:
— Тс-с, ни звука! Спит, но все слышит, точно гусь на посту… Ну, тезка, выкладывай, что у тебя. Вижу — неспроста пришел. Но я уже привык, что к председателю редко идут делиться радостью, а все больше — наоборот! А?
Захаров беззвучно засмеялся, но смех его был невеселый. Но куда, как не к этому человеку, понесу я свою беду? Отцу не сказал, а к Захарову пришел, потому что знаю: не оттолкнет он.
— Алексей Кириллович, отпустите меня из Чураева… Разрешите уехать…
— Что за чушь! — изумился Захаров. — Просто блажь или… что-нибудь серьезное?
— Не могу я больше здесь оставаться… Да вы сами знаете, к чему рассказывать! После такой истории мне здесь… стыдно глаза показывать людям. Разрешите уехать, Алексей Кириллович! Куда-либо на стройку:..
Захаров молчал, хмурился, поглаживая подбородок. Затем спокойно проговорил:
— Здесь женщин нет, так вот я тебе, тезка, по-мужски скажу одно слово… — и он ясно, отчетливо выговорил крепкое мужское ругательство. — Понял? Эх, Алексей, Алексей… Не хочешь понять того, что люди тебе добра желают, настоящим человеком хотят тебя видеть, а ты… упрямо нос воротишь. Ну, скажу откровенно: куда ты поедешь? Ага, сам пока не знаешь! Ясно… А я вот что скажу: никуда тебе не надо уезжать, место твое здесь, в родном колхозе! Или ты не считаешь его своим? А? Счастье твое здесь, и будущее — тоже, и не надо отталкивать его собственными руками. Котеночка за шиворот тянешь, тычешь мордочкой в блюдце с молоком, а он, глупыш, мяукает, царапнуть норовит. Вот и ты тоже вроде того котенка! Нет, нет, ты головой не тряси, лучше на ус наматывай. Скажи, кто попрекнул тебя за… ну, за этих жуликов?
— Н-никто пока, но… я сам чувствую, как… Словом, все знают, стыдно на улицу показаться!
— Это другое дело. Но на людей зря не греши, молод еще, не знаешь, каков наш народ. Он попусту болтать не станет, а коли заслужишь — в глаза скажет. Н-е-е-т, брат, если бы народ посчитал тебя виноватым, так просто ты бы не отделался, заявили бы примерно так: мол, ты, Курбатов, оказался дурным человеком, с нами тебе не жить, катись-ка следом за дружками! А тебе говорили такие слова? Нет? То-то же! Значит, народ разобрался, правильно рассудил, что вины твоей большой нет, наперед выправишься. Всяко можно о себе подумать, важно — как народ скажет так тому и быть. Он тебя на какую угодно высоту вознесет, а может и больно ушибить! У него — как у отца с матерью: слова жестки, да руки ласковы… Мой тебе совет: выкинь из головы всякую мысль о том, чтобы бежать куда-то, выкинь и позабудь! А может, тебе работа твоя не нравится?
— Нет, почему… Работа хорошая, как раз по душе…
— Большего и не требуется! Если человек работает с охотой, желанием, значит, он на своем месте. А ошибки… У кого их не бывает? Не помнишь, чьи это слова, что не ошибаются только те, кто равнодушен к своей работе? Вот так, тезка. Оставайся до осени, а там увидим… Да, хочу еще спросить: дальше учиться думаешь?
— Как же, конечно! Ребята все учатся…
— Правильно! У каждого человека должна быть большая мечта, чтоб тянулся он к ней, как в темную, глухую ночь путник тянется к далекому огоньку. Значит, твой огонек — учеба, так?
Я кивнул головой: да, только так! Алексей Кириллович помолчал и, откинувшись на спинку стула, сказал вдруг даже просительным тоном:
— Есть у меня такое предложение, тезка: учиться вдвоем, вместе. И ты должен меня взять как бы… ну, под шефство, что ли. Одним словом, помощь твоя потребуется. Как ты, а?
Видя мое недоумение, он весело рассмеялся, но тут же, вспомнив о сыне, прикрыл ладонью рот.
— Фу ты, про меньшого Захарова совсем забыл… Так непонятно? Сейчас объясню. Дело в том, что родилась у меня мыслишка начать учиться заочно. Правда, теперь, пожалуй, и поздновато, но… как говорится, никогда не поздно сделать доброе дело, а в особенности — учиться! Пока сидел я в райкоме, учил других, советы давал, тем временем незаметно сам от людей отстал. Останься я на прежней работе, так, пожалуй, и по сей день не замечал бы этого несоответствия. А в колхозе, когда непосредственно живешь с людьми, одним с ними воздухом дышишь, ненормальность эта быстро выявляется. Оказывается, председателю колхоза нужно быть универсалом! Багаж мой оказался явно устарелым… Думаю постучаться в святой храм науки — поступить в сельскохозяйственный, это у меня давняя мечта детства. Но… чтобы вступить в этот храм, надобно сдать вступительные экзамены, а это для меня сейчас не так-то просто! Вот и прошу тебя, Алеша, помочь мне в этом деле: знания у тебе еще свежие. Сильно смущает иностранный язык. В памятке для вступающих в вузы сказана: экзамен по одному из иностранных языков. Когда-то я изучал в школе немецкий… Как там: Анна унд Марта баден, Анна и Марта купаются. Кхм… На фронте, правда, я пополнил свои знания по-немецкому, но… несколько однобоко. Например, крепко усвоил повелительное наклонение: "Хальт! Хенде хох! Фарвертс!.." Но для того, чтобы поступить в институт, этого, к сожалению, мало! У тебя какая оценка по немецкому в аттестате?
— "Четверка…"
— Да мне бы хотя на "троечку" сдать! — улыбнулся Захаров и, вставая, протянул руку. — Значит, по рукам? Добро! Учеником я буду прилежным. Валяй, тезка, по своим делам и помни: ты нужен нам в Чураеве, а не где-то в стороне!..
Снова, как в ту памятную новогоднюю ночь, я уходил от Захарова с зарядом новых сил, точно человек этот имел счастливую способность аккумулировать людей своей неистощимой верой и энергией. Как будто и не бывало гнетущей тоски и тяжести, я чувствовал, что снова могу смотреть людям в глаза. А ведь, собственно, ничего особенного не произошло, просто один человек пошел к другому, и они поговорили. Один сказал другому самые простые, обычные слова, и человек помог человеку!
…Мне еще оставалось закончить проводку электролинии на ферме, и от Алексея Кирилловича я направился прямо туда. Во вновь отстроенном общежитии дежурили доярки — Анна Балашова с подругой. Завидев меня, Анна заметно растерялась, отвернувшись к окну, принялась листать какую-то книжку. Подруга ее понимающе улыбнулась и быстро выпорхнула на улицу. Мы остались вдвоем. Скинув тяжелую сумку с инструментами, я подошел, встал с девушкой рядом и осторожно взял ее руку в свою. Она повернулась лицом ко мне, я видел, как быстро-быстро бьется тоненькая жилка над ее правой бровью, Я впервые видел ее лицо так близко от себя, но оно почему-то казалось мне знакомым до малейшей черточки. Она не отняла руки, я ощущал шершавость ее ладони и мягкую кожу на тыльный стороне. Рука у нее была маленькая, но сильная, пряничная к работе, с малых лет.
— Анна, — сказал я шепотом, — ты не сердись: платок твой — помнишь, зимой? — я его запачкал… Поранил руку и перевязал им. Он здорово запачкался… Ты не сердись, это я не нарочно.
Анна нагнула голову и ответила прерывистым голосом:
— А я, Алеша, вовсе и не сержусь. Что платок?.. Я могу приготовить другой, если… если тебе хочется.
— Спасибо, Анна. А я… мне уже не верилось, что ты со мной будешь вот так… просто говорить. — Она непонимающе вскинула бровями. — Ты знаешь, о чем я… Ты ведь была там, на суде…
Она решительно встряхнула головой и заговорила, волнуясь:
— Нет, Алеша, не надо об этом, я все понимаю! А ты… ты еще мало знаешь меня. Я всегда смотрю на тебя… Ой, нет, лучше об этом сейчас не говорить! Если у тебя есть чувство ко мне, гы и сам… догадаешься. — Она мягко, но настойчиво высвободила руку и спросила обычным своим голосом с едва приметной лукавинкой: — Будешь молоко пить? Не забыл, как раньше угощались? Ты тогда любил… молоко!
— Я и сейчас люблю, Анна! Больше, чем тогда!
Ничего особенного мы друг другу не сказали, но отчего сердце вдруг забилось учащенно, а у Анны дрогнули губы! Еще секунда — и я, наверное, обнял бы ее, принялся целовать. Но она, будто уловив это мое желание, опередила меня и, отступив назад, смущенно сказал:
— Сейчас сюда придет Маша… Иди уж, иди, Алеша, у тебя ведь работа.
Я вышел на улицу, голова слепка кружилась. Навстречу мне шла подруга Анны, она вполголоса напевала, посмотрев на меня, понимающе улыбнулась. Я тоже улыбнулся ей в ответ. Это получилось само собой.
* * *
В Чураево электричество пришло впервые; его ждали как самого дорогого гостя, чуть ли не каждый встречный останавливал меня на улице, спрашивал: "Олешка, скоро пустите электричество?"
И день этот настал.
Алексей Кириллович с утра предупредил: "Сегодня завершаем сенокос, это событие надо отметить. Поторопитесь с пуском станции, людям будет двойной праздник". А под вечер к домику станции стал собираться народ: по всему селу пронесся слух, что "нынче пустят ток". С шумом, гиканьем носились мальчишки, за ними приходилось смотреть в оба: того и гляди, потянутся к приборам!
За моториста был Генка Киселей. Вот он запустил двигатель, знаками показал, что у него все в порядке. Алексей Кириллович подошел ко мне, тронул за плечо: "Готов? Давай!.." Я подошел к беломраморному щитку, сжал в руке холодную ручку рубильника, и в эту минуту меня охватило волнение. Нет, не за аппаратуру — за нее я был спокоен, знал, что не подведет. Знал я и другое: стоит мне потянуть эту черную эбонитовую ручку, и произойдет чудо — вспыхнут в домах Чураева сотни маленьких солнц; знал я также, что электростанция совсем небольшая, ее энергии хватит всего на один наш колхоз, что таких на свете множество и ни в какое сравнение с гидростанциями на Волге она не идет. И все-таки я очень волновался, словно через несколько мгновений мне предстояло включить рубильник самой величайшей в мире электростанции! Дело, конечно, обстояло проще: я волновался потому, что в это "наше электричество" кое-что было вложено и моего.
Я потянул ручку на себя, контакты мягко вошли в гнезда, и тотчас раздался громкий вопль мальчишек: "Уррра, горит!.." Выбежав из домика, я глянул в сторону села — там было сплошное море сияния. В сотнях окон светились яркие огни, они весело и дружески подмигивали: "Да, горим, светим, полный порядок, Алеша!" Сияние их отражалось на лицах окружавших меня людей — они улыбались. Мы стояли рядом с Генкой, смотрели на огни и тоже улыбались. Говорить все равно было бесполезно — оглушительно гремел двигатель, гудел генератор, поэтому люди вокруг молча улыбались. К нам пробрался дядя Олексан, до боли стиснул руки, перекрывая шум, прокричал:
— Спасибо, ребята! Молодцы!
Потом люди стали расходиться: им еще дома предстояло привыкнуть к чудесной штуке — электричеству. Генка сам вызвался дежурить на станции. Спать он все равно не собирался: готовился к экзаменам.
По пути домой я завернул в контору. В кабинете у Алексея Кирилловича сидел Мишка Симонов. Был он изрядно пьян. Захаров подписал какую-то бумажку, внимательно перечитав, протянул Мишке:
— Возьми, Симонов, характеристику. Желаю хорошей работы на новом месте, но должен сказать прямо: я не очень верю, чтобы ты закрепился там надолго! Сбежишь ведь, Симонов, а? Ноги у длинного рубля, знаешь, какие!
Мишка небрежно сложил пополам листок бумаги, провел по сгибу ногтем, сунул в карман и удовлетворенно похлопал рукой:
— Порядок! Бумажка — великая вещь в нашу эпоху!.. А что касается вашего обо мне беспокойства, Алексей Кириллович, так скажу прямо: премного благодарим, но только зря вы переживаете за чужую болячку… Была бы охота — найдем доброхота! Всего наилучшего!
Кривляясь, он помахал кепкой, спиной попятился к двери. Я посторонился, Мишка и мне по-шутовски поклонился:
— Пардон! Поехали, Курбатов, на пару, а? Вместе нам тесно, а врозь — скучно, так поехали лучше вместе! Пупком, что ли, прирос к этой, извиняюсь, дыре? Эх, и погуляли бы мы с тобой!.. Не хочешь? Ну, как хочешь, вольному воля! А то айда в "кусочную", проводишь сослуживца — на мои деньги, за твой счет? Тоже не желаешь? А, с таким толковать — зря время терять!.. Ну-с, покеда, приятно оставаться!
Еще раз помахав кепкой, Мишка скрылся за дверью. Алексей Кириллович проводил его сердитым взглядом и, когда за Мишкой закрылась дверь, сказал задумчиво:
— Мда… Обезьянничает он слишком, чтобы успокоиться. Шут гороховый! Не отпустил бы я его, руки у парня машину чувствуют. Однако жаден к деньгам, за копейку зимой в Каму бросится. Все и вся на свете ценит на рубли. И водкой балуется… Подался на Алтай, к целине поближе. Такие там тоже недолго уживаются. Ну, раз собрался человек, скатертью ему дорожка! Одна паршивая корова всю улицу может загадить!..
Алексей Кириллович тут же сообщил, что на заседании правления распределили механизаторов по участ-кам и что комбайн Мишки Симонова придется принять мне.
— Временно, на период уборки, — сказал Захаров.
* * *
Жара стоит нестерпимая, все живое спасается в мало-мальской тени. Климат в наших краях, как пишут в учебнике географии, резко континентальный: зимой сорок градусов холода по Цельсию, летом наоборот — сорок градусов выше нуля, тоже по Цельсию. Привыкай, как хочешь!
От жары мы с Генкой спасаемся на Чурайке. До боли в глазах щуримся от нестерпимого блеска речной глади, лениво переворачиваемся с боку на бок, а солнце поджаривает нас, покрывая коричневой корочкой загара. С писком носятся над водой белогрудые стрижи, гоняясь за мошками, оставляют на воде росчерки острых крылышек. Под кустами ивняка на противоположном берегу в сырой прохладе неподвижно сидят лягушки, пучеглазо таращатся на мир.
— Во, жизнь! — с силой сплевывает Генка, стараясь достать до другого берега. — Сидят день-деньской в прохладце, ни жарко, ни холодно! А ты спишь и во сне видишь клапаны, гусеницы, ломаешь голову, где бы выцарапать нужную железяку… А тут сиди себе и жди, когда к тебе подлетит муха или комаришко, тогда хоп! — и позавтракал. Снова сиди… Веселая жизнь!.. Лешка, дрыхнешь?
Генка сидит у самой воды в одних трусах, ноги спустил в воду, похлопывает себя по животу и лениво рассуждает. Я молчу — разморила жара. Не дождавшись ответа, Генка вздыхает и продолжает бормотать:
— Кукуруза нынче будет мощная… Не зря это дело поручили знатному в мире механизатору Геннадию Киселеву! Раз он сказал, значит, железно. Но… помучала она меня, королева полей! Тонкая работа — междурядья, квадраты… — Генка шлепает ногами по воде, после чего направление его мыслей круто меняется, — Алексей Кириллович говорит, что в этом году две-три сотни тысяч огребем. А может, и больше… Выходит, старыми деньгами — миллионы, и я — тоже миллионер! Да-а… Миллионер Геннадий Киселев! Звучит! Куда там какому-то Форду или Рокфеллеру с их добром… Скажем, приходишь и одни прекрасный день в клуб, и и центре внимания — ты. Народ волнуется, красавицы в панику: "Кто это в шикарном костюме, в шляпе экстра?" — "Ах, вы не знакомы? Это же известнейший миллионер, Киселев Геннадий, из колхоза "Вперед"…
Я не выдерживаю, вскакиваю на ноги.
— Охота же тебе трепаться, Генка!
Он блаженно улыбается:
— А что, не веришь? Вот увидишь, так оно будет. Жизнь к этому идет, это точно. Жаль только, тебя здесь не будет…
Ага, вон куда повернул хитрый "миллионер"! Я сажусь рядом с ним, погружаю ноги в теплую воду. Вздох ветра слегка рябит воду, затем снова тишина, блеск речной глади, черные метеоры стрижей.
— Кто его знает, Генка… Я еще сам не решил. Алексей Кириллович поступает в сельскохозяйственный, на заочное отделение. Ему-то заочно можно — у него опыт работы. А я что? Тырк, мырк, вот и весь опыт….
— Дело это наживное. Вот и поступайте вместе! Тебя на отделение механизации с руками-ногами примут, это точно! — Генка достает со дна круглый голыш, долго целится в большую лягушку, затем бросает коротким взмахом. Лягушка даже не сдвинулась с места. Генка восхищен. — Во, дает! Ноль внимания… Нет, я вполне серьезно: оставайся в Чураеве, Лешка. Никак не возьму в толк: с чего тебе приспичило обязательно очно учиться? Люди, смотрю, с места на место кочуют, в аккурат, как цыгане, ищут "хорошее место". А не понять им, что "хорошее место" не по-щучьему веленью стало хорошим, люди сделали его таким! Поверь мне, когда-нибудь и наше Чураево будет такими же "хорошим местом", только дружнее надо взяться. Ну, а если все соберутся кочевать, тогда, конечно, трудно… Не-е-т, Лешка, меня отсюда бульдозером не сдвинешь, я тут коренной, свойский, мне тут ого! сколько хозяйствовать! Я, брат, здесь как раз на месте. Знаешь, что это такое? Например, поставишь шестеренку не на свое место, она через минуту полетит к ядреной бабушке! Значит, есть у нее свое, законное место, там-то она послужит тебе, износу ей не будет. И с человеком точно так получается: без места он — ноль, фьюить!.. Грош ему цена, и то в базарный день!
Генка иногда любит перегибать через край. Вот и сейчас: сравнил человека с какой-то шестерней. Но в одном он, пожалуй, прав: и у шестерни, и у человека должно быть свое место.
…Солнце нещадно печет. Воздух над нами дрожит, точно расплавленное стекло. Где-то поет, заливается жаворонок, но самого его не видно — забрался куда-то на самую верхотуру. А еще выше летит реактивный самолет, оставляя за собой ровный, прямой, как стрела, белый след. На острие гигантской стрелы поблескивает серебряная капелька — самолет. Красиво!..
— Генка, а, Ген…
— Ну, чего? — откликается он, не поворачивая головы.
— Нет, ты послушай! Был у меня в школе… дружок один, мечтал стать летчиком. Только у него… не вышло это дело. Даже ни разу от земли не оторвался… Теперь, конечно, о полетах он и думать забыл, работает где-то… Говорят, в наше время все мечты сбываются, даже в песне об эхом поют. А на деле, видишь, не всегда получается. Что на это скажешь, миллионер?
Генка неторопливо поднялся, размахивая руками, принялся делать гимнастику.
— Что я скажу? Вот чудак, что я, предсказатель какой или гадалка? Я, может, сам когда-то мечтал стать капитаном, и обязательно — дальнего плавания. Плюс Героем!.. Но, как говорится, мечты ушли, осталось… Осталось то, что из капитана получился колхозный механизатор! Не жалею, не плачу… А кто, интересно, вбил в башку этому твоему другу, что ему обязательно надо летчиком? Сам выдумал? Ну, тогда молчу… Ты спроси у него: любит он свою теперешнюю работу?
— По-моему, она ему… нравится.
— Ах, так! Тогда передай ему, что летчик из него получился бы аховый. Значит, самолетами он просто так, от нечего делать увлекся, а душа его по-настоящему оставалась на земле! Разумеется, это мое личное мнение…
Не знаю, догадался ли Генка, о каком моем "дружке" шла речь. Но уверенность, с которой он высказал свое суждение, заставила меня задуматься. Неужели Генка снова прав?
В самом деле, откуда я взял, что мне во что бы то ни стало нужно быть летчиком или, по крайней мере, авиаинженером? Конечно, мое воображение глубоко затронул летчик со звездой Героя на груди, который однажды приходил в нашу школу. Мы гурьбой бегали за ним по коридору. Но скажите мне: кто из нас и школе не мечтал стать летчиком, моряком или, на худой конец, танкистом? Чересчур много писали о них в книгах, можно было подумать, что вся земля населена одними летчиками и героями-моряками!.. Учителя также рассказывали нам о героях-капитанах, бесстрашных полярниках, смелых подводниках. В течение десяти лет мы только и слышали о героях, но смутно представляли, что на земле живут и трудятся куда больше плотников, слесарей, трактористов и сталеваров. Жили и росли мы среди простых рабочих людей, по в мечтах витали в небесах, уносились в неведомые дали, досадливо отворачиваясь от земли: ведь на земле было не так чисто и устроенно, как в дальних далях наших мечтании… Почему мне прошлым летом так хотелось попасть в авиа-институт? Во-первых, нравилось это слово: инженер-авиаконструктор (на меньшее я не был согласен!): во-вторых, отец хотел меня видеть "инженером" (неважно, какой специальности…). Это звучало, как музыка: "инженер Алексей Курбатов". Му, а как, по-вашему, звучит вот это: "механик Алексей Курбатов"? Или, скажем, "электрик Курбатов"? Или просто: "Алеша-комбайнер"?..
— Ты чего там? — спросил Генка, кончив подпрыгивать, размахивать руками. Он сегодня благодушно настроен: вчера сдал последний экзамен, перешел в девятый класс. Вот он ложится на спину, бездумно смотрит в синеву неба, вздыхает. — Во, Лешка, всю бы дорогу так, а? Умирать не надо… Хотя нет, не согласен. Неинтересно так. Вон, говорят, черепахи по триста лет живут, а толку? На расчески, и только!.. Пошли, Лешка, окунемся еще разок и — нах хаузе, домой. Отдохнули… А вечером — в клуб, а?
— Ты что-то в последнее время подозрительно зачастил туда! Повадился кувшин по воду ходить!.. С кем-нибудь завел шуры-муры, Генка?
Он широко заулыбался, погрозил мне пальцем:
— На чужой двор вилами не указывай, Лешка! Я что? Я в этих делах темный. А вот кто прошлой ночью обнимался на бревнах возле дома старой Чочии? Ага, то-то!
— Ну уж и обнимался… Сидели просто так…
Чертов сын, и когда он успел приметить нас с Анной?! Верно, было такое дело, и получилось это как-то само собой. Возвращаясь с работы, я повстречался с Анной, не знаю, случайно или нарочно она поджидала. Сказала, что задержалась на ферме, поздно коров пригнали. Может, так оно и было. Встретились, остановились, слово за слово, потом я предложил ей присесть на бревна. А там, известно, раз сели, неудобно через минуту встать и попрощаться! Анна вначале смущалась, отвечала сдержанно, а потом разговорилась. Оказывается, она умеет очень интересно рассказывать! Например, когда она принялась передразнивать бригадира Васю, его манеру говорить, я от души хохотал. Вон ты, оказывается, какая, Аннушка! Пока сидели, совсем стемнело, стало прохладно, Анна была в одном легком платье, я почувствовал, как она дрожит. Тогда мне пришло в голову накинуть на ее плечи свой пиджак. Хотя он и был не совсем чистый, кое-где в пятнах автола, но ведь Анна тоже была в рабочем платье! Она с благодарностью взглянула на меня, тогда я осторожно обнял ее (просто так, чтобы пиджак не сполз с её плеч…), а она склонилась ниже и прижалась ко мне, шепотом сказала: "Алеша, ты не подумай ничего такого… Наверное, это не совсем удобно, только мне так нравится!" Я сказал ей, что мне тоже так нравится и готов сидеть с ней вот так хоть сто лет. Так что если и видел нас Генка, то уж во всяком случае не мог расслышать, о чем мы говорили с Анной. И как он заметил нас? Мы-то с Анной никого вокруг не замечали…
Мы еще раз выкупались, нырнули по нескольку раз и, одевшись, зашагали в село.
— Слышишь, Лешка, как хлеба пахнут? Еще неделю простоит такая погодка — подоспеет уборка. Ох, и достанется нынче: солома высокая, на барабан будет наматывать! Ну, ладно, это дело будущего, раньше смерти помирать не стоит… Будь здоров! Вечером зайду.
Дома меня дожидался Сергей. Почесав в затылке, он помялся, спросил будто между прочим:
— Ты завтра… где будешь?
— Не знаю. Должно быть, у комбайна. Ремонт кое-какой остался.
Сергей снова помялся, наконец просительно заговорил:
— Ты бы помог мне, братишка, с домом. Поднять его надо, а то начнется косовица — не до этого будет.
Помощь думаю завтра собрать, с десяток мужиков-плотников… Может, выберешь время?
— Ладно, — сказал я, — раз у тебя такое дело, приду. Надо помочь Сергею. Нешуточное дело: человек строит дом.
* * *
Ставить Сергею дом — "на помощь" — пришло много людей, к вечеру новенький сруб подвели под крышу. У нас в Чураеве все так строятся: задумав перекатать старый или поставить новый дом, созывают веме-помощь. И никто не отказывается: ведь случись самому строиться — тоже придется к людям, обратиться.
К вечеру дом был готов. Правда, в нем еще нет окон и печи, но с этим Сергей справится и сам. Вот женится, тогда вдвоем доведут дело до конца. А женится он, должно быть, очень скоро. Мать уже каким-то образом узнала, кто будет ее невесткой: оказывается, Сергей подолгу засиживается с Тоней, учетчицей из конторы. Как бы ни таила молодежь свои сердечные дела, все матери узнают о них…
Мать напекла блинов, и вечером к нам собрались все, кто работа, и на веме; пришли даже тс, которых Сергей не приглашал: ведь дом для человека — большая радость, и надо поделиться с ней! Сергей не поскупился, приготовил достаточно вина: без "горькой" — какая благодарность за помощь? "Люди устали, а с устатку чарочка требуется, — сказал отец. — Квас — не угощение!"
Мужчины сели вокруг стола, выпили по стаканчику, вскоре стало шумно, загудели голоса. Дядя Олексан поднялся с места, через весь стол протянул Сергею руку:
— Дай пожму твою руку, Серга. Счастлив будь в новом доме, семью хорошую заведи! Ты наш человек, в обиду тебя не дадим, в беде не оставим. Хоть ты и дал маху, уехав после армии из колхоза, но ошибку свою ты исправил честным трудом. Одно хочу сказать: работай честно, а народ тебя завсегда поддержит. Слышишь, Серга?.. А ты, Петр Семеныч, за старшего сына не беспокойся, теперь он свою дорожку нашел. Конешно, заведет семью — отделится от вас, уж такой обычай. Ничего, вас он не бросит, да и колхоз поможет. Скоро мы своих стариков, старух сможем полностью на иждивение колхоза взять, попомните мое слово. Хвастаться не люблю, как говорится, хотя ногами хром, а душою прям! И не пьян я пока: меня с двух чарок не возьмешь… Потому и говорю: все мы, Петр Семеныч, радуемся за твоего Сергу. Жить вам в мире да счастье.
Дядя Олексан оглянулся вокруг, ища кого-то глазами, заметив меня, поманил пальцем.
— Ближе подойди, Олексей. Гляди, Петр Семеныч, младший-то тебя перерос, а? Ничево-о, и этот хорош! Видали, какую ферму мы с ним отгрохали? Со звоном! Он у тебя, Петр Семеныч, теперь хоть с топором, хоть с лером. За твоих молодцов, хозяин, общее наше спасибо!
Отец сидит с краю стола, пригнув голову, слушает дядю Олексана. Он, видимо, испытывает большую неловкость: уж чересчур, как ему кажется, расхвалили его. Непривычен он к такому, и в ответ на слова дяди Олексана лишь слегка кивает головой и поддакивает:
— Верно, Олексан… это так. Мне что, они теперь сами себе хозяева. Выросли… И Олешка тоже…
А дядя Олексан продолжает свое, гости внимательно прислушиваются к его словам.
— Слышишь, Олеша, отец что говорит? А теперь ты нам скажи, что думаешь? Может, затаенное у тебя на душе есть? Скажи прямо, тут все свои, чужих никого. Кто тебя выучил? Может, скажешь, что сам выучился? Не-е-ет, Олеша, народ тебя выучил, мы выучили! А теперь в колхозе ты нужный человек, и отпустить тебя мы не согласны. Долг, как в пословице говорится, платежом красен! Учись дальше, хоть на инженера выучись, в этом мы всегда поможем. Да, поможем. Но если нечестным путем, воровски думаешь сбежать — это, брат, извини! Не жди тогда от нас ни добра, ни прощения!.. Правильно я говорю, Петр Семеныч? Не обижайся, что я сыну твоему такое говорю — он не одному тебе сын, а, и колхозу, пароду нашему принадлежит. Вот и скажи, Олеша, что у тебя на уме, как дальше жизнь свою думаешь строить?
Дядя Олексан замолчал, ожидая моего ответа. Ждали и другие. Что же мне ответить им?
До этой минуты вопрос: "Как дальше строить свою жизнь?" — я питался решить сам. Но вот теперь меня об этом спрашивают люди: "Что у тебя на сердце, Алексей Курбатов? Ты живешь с нами, и мы должны знать о тебе все!" Так я понял слова дяди Олексана, должно быть, и люди вокруг меня поняли это.
Они ждали.
— Да, — сказал я наконец, — вы должны знать, что я никуда от вас не уйду. Год назад я думал совсем иначе, но этот год научил меня многому. Теперь вижу: место мое — рядом с вами, среди вас. Здесь моя родина, и жить мне тоже здесь.
Дядя Олексан положил свою тяжелую руку мне на плечо, сказал с радостным волнением:
— Хорошее слово, Олексей! Я так и знал, что ты скажешь это. Молодец, сынок, спасибо! Петр Семеныч, ты слышал, что сын сказал? Ничево, Олексей, невелико наше Чураево, но и тут настоящий люди живут! Что ж, друзья, за это стоит чарку поднять!
Снова вес зашумели, задвигались. Мне стало жарко, я незаметно вышел во двор. Какая нынче ночь! Знакомые при свете дня предметы неузнаваемо изменились, приняли причудливые очертания, одни стали меньше, а другие, наоборот, будто раздались ввысь и вширь. Тополь, что стоит в огороде старой Чочии, кажется большой сказочной рыбой, она чуть трепещет своей серебряной чешуей — листьями; камень с дороги превратился в глыбу белого мрамора; плетень замаскировался под ажурную резную решетку. От строений падают резкие черные тени, а трава на земле соткана из лунного света. Луна неподвижно застыла среди густой листвы тополя, стоит, кажется, протянуть руку, и пальцы ощутят ее холодное, шероховатое лицо… Тишина над селом, все замерло в каком-то выжидательном молчании. Но если придержать дыхание и прислушаться, то можно уловить далекие звуки ночи: где-то во ржи тюкает перепел, с другого конца поля ему отвечает подружка; журчит, играет с мелкой галькой наша беспокойная речушка Чурайка… Временами чудится тихий глубокий вздох. Может, это дышит сама Земля? И вздох этот доносит до села волнующий, пьянящий запах спелой ржи. Эх, если б можно было взять в охапку всю эту красоту. Но куда я понесу ее? Нет, пусть все остается на своем месте — ведь и сам я остаюсь здесь, среди этой красоты, она всегда будет со мной…
Долго любовался я красотой ночи, не в силах уйти. Вдруг что-то другое, властное заставило меня вздрогнуть. Это была внезапная, как молния мысль: "А как Аня? Я должен видеть ее сейчас же!.."
Я шел очень быстро, шаги гулко отдавались в тишине улиц. Возле ее дома я остановился, прислушался. Там спали. Тогда, решившись, перемахнул через изгородь, не замечая, как царапают мои руки потревоженные кусты малины, пробрался к окошечку маленькою чулана. Я знал: теплыми ночами она спит там. Осторожно постучал по стеклу. Скрипнула за стенкой кропать, зашуршали по полу босые ноги, в окошке мелькнуло светлое пятно ее лица. Заметив меня, слабо вскрикнула:
— Ой! Кто тут?
Узнала, кивнула головой и растворилась в темноте. Снова тишина. Но вот поблизости тоненько скрипнула дверь, приглушенно звякнула железная щеколда. Кутаясь в платок, она легкими шагами приблизилась ко мне, ахнув, уткнулась лицом в грудь и замерла. Даже сквозь пиджак я почувствовал еще не утраченное тепло девического сна. Мы оба молчали, потому что все было ясно без слов. Наконец, не поднимая лица, она заговорила:
— А я ждала тебя. Думала, не придешь…
— Не сердись, задержался. Брату справили дом.
Она кивнула, а через минуту снова спросила:
— Но сейчас ты больше никуда не уйдешь?
Я ответил ей:
— Нет. Я буду всегда с тобой Анна.
* * *
Вам приходилось подниматься на мостик комбайна? Если нет, то попроситесь у комбайнера и обязательно побудьте хотя бы полчаса на мостике — не пожалеете!
Держась за железные поручни, точно по трапу, поднимаешься на мостик. Над головой — брезентовый тент от солнца; с правой стороны — штурвал, он здорово смахивает на штурвал корабля. А слева — опрокинутый конус бункера, в него бесконечной струей льется и льется прохладный ручей зерна.
Я нажимаю на сигнальный рычажок, над полем разносится пронзительный гудок. Генка Киселев машет мне рукой из кабины трактора: понял, дескать, зря не дуди! Дрогнули гусеницы, трактор двинулся вперед, за ним, грузно раскачиваясь многотонной громадиной, трогается комбайн. Медленно, будто нехотя, начинают вращаться лопасти хедера, и вот уже бежит бесконечная лента транспортера, подхватывая и унося к приемнику барабана золотистые валки пшеницы. Тем и нравится мне комбайн: здесь все подчинено единому ритму, человеку остается лишь следить за работой умной машины. Плавно движется комбайн вдоль кромки прокоса, гудят моторы; с высоты мостика видно, как ходят, перекатываются по хлебам зыбкие волны, и чудится порой, что плывешь по солнечному морю. Отсюда окружающий тебя мир кажется намного шире, и видно далеко, далеко окрест. И если вы хоть раз объедете на комбайне солнечное море хлебов — радостное воспоминание останется в вашей душе на всю жизнь!
— Эге-гей, Генка! Давай, газуй! — кричу я. Сквозь гул моторов он каким-то образом слышит меня, машет рукой, и трактор ускоряет свой бег, точно плицы парохода, сверкают на солнце его стальные гусеницы. В конце загона нас поджидает Сергей, он подгоняет свою машину под рукав, я запускаю шнек — и льется, льется в кузов золотой ручей зерна…
Прошлым летом мне пришлось работать на этом самом комбайне. Но тогда у штурвала стоял Мишка Симонов, а я был занят на соломокопнителе. Сейчас там управляется Петька — старший сын дяди Олексаиа. Весной Петька окончил восьмой класс, на лето попросился работать у комбайна. Знаю по себе: нелегко ему приходится внизу, среди тучи пыли и мелкой половы. Но Петька держится молодцом. Пожалуй, ему не придется искать вслепую дорогу в жизнь, он уже ясно видит ее сейчас; решил стать трактористом или комбайнером. Правильно, Петька, так держать!..
Вдали снова пылит машина Сергея. С высоты мостика видно: Сергей едет не один, рядом с ним в кабине сидит кто-то незнакомый. Должно быть, у полномоченный из района, они частенько наведываются сюда. Машина встала неподалеку, уполномоченный выскочил из кабины, двинулся было навстречу комбайну, но остановился, ждет, когда мы подъедем поближе. А, боится пыли… Ну, нет, останавливать агрегат я не буду, а если тебе нужна сводка, пожалуйста, лезь сюда. Но как раз в этот момент незнакомец сорвал с головы кепку и стал махать мне. Черт побери, да это же никакой не уполномоченный, а мой школьный друг, Юрка Черняев! Он, собственной персоной! Подав Генке сигнал остановки, я бегом кинулся по трапу вниз. Юрка стоит, широко улыбаясь, вертит в руках кепку.
— Юрка, здорово! Ух, черт, рад тебя видеть!
— Привет, привет, доблестный комбайнер! — со смехом протянул руку Юра, я крепко пожал ее. — Ну, как ты тут? Мне сказали, что ты в поле. Как видишь, пришел… Вкалываешь?
— Ну да, убираем вот. Урожай нынче мировой, барабан еле успевает намолачивать. Ну, а ты как? Рассказывай, у тебя, должно быть, куча новостей: ведь ты даже не писал мне…
Юрка ловко сплюнул сквозь зубы (это у него школьная привычка, он нимало не изменился, только вытянулся в длину), откинул со лба прядь волос.
— Чего там рассказывать? Приехал на каникулы, два месяца придется тут загорать… Не знаю, чем заняться. А вообще — мура! Глушь… У тебя, значит, с институтом не выгорело в прошлом году? Типичное явление современности. Нынче как; думаешь снова толкнуться?
— Это решено! Ты знаешь Захарова, бывшего секретаря райкома? Его у нас председателем избрали, так он тоже думает поступать. Мы с ним решили заочно учиться.
Черняев прищурил правый глаз (это у него тоже осталось со школы), с недоверием уставился на меня.
— Ты это серьезно или разыгрываешь?
— Вполне серьезно, Юра.
— Не узнаю Григория Грязного!.. Не понимаю, что хорошего ты находишь в этом? Боишься, что не продержишься на очном? Хо, ерунда, теперь и с тройками запросто стипешку дают! На трояка ты завсегда с закрытыми глазами сдашь, это надежно! Плюс у тебя… Ну, как бы сказать… практика работы на производстве, примут с потрохами. Во учудил, Лешка! На заочное идут одни старички да неудачники.
У меня на этот счет имелись свои соображения, и я промолчал. Пренебрежительный той Юрки неприятно кольнул меня. И эти словечки: "глушь", "придется загорать", "скука"… Когда это он успел соскучиться в родном селе?
— Юрка, не знаешь, где сейчас Семка Малков?
— Уехал на целину. Медали ему, видишь, захотелось, за освоение целины! Сейчас туда валом валят студенты, считается высшим шиком — побывать на целине. Романтика и прочие малосъедобные вещи!.. Чего так смотришь? Прикидываешь, почему я не поехал? А я там ничего своего не забыл. Лично мне медаль не требуется… Да, Лешка, говорят, здесь суд был какой-то, тебя чуть не попутали, правда? Ха-ха, представляю! Ты, я нижу, тут не дремал, а?
В следующую минуту, стараясь быть спокойным, я взял Юрку за плечо и легонько повернул его лицом к дороге.
— Знаешь, Юрка! — сказал я бывшему однокласснику. — Знаешь, если тебе не хочется нажить неприятностей, иди-ка отсюда!.. Можешь купаться, загорать, сколько тебе угодно, а здесь тебе нечего делать, только костюм свой вывозишь. У нас тут грязно и пыльно! Поговорил бы я с тобой, да спешить надо. Извини, и… проваливай к чертовой бабушке!
Я махнул Генке рукой: "Поехали дальше!" Окруженный тучей пыли и порхающей половы, снова двинулся агрегат. На повороте я оглянулся: Юрка стоял далеко позади, отсюда он казался грачом, одиноко сидящим на жнивье…
Что ж, так получилось. Были мы друзьями-товарищами, сидели за одной партой и думали, что дружба наша — на всю жизнь. Но вот прошел год, всего лишь один год… Встретились, и не нашлось у нас друг для друга хороших слов. Между нами лёг глубокий овраг. Видно, не настоящей была дружба, если за год мы перестали понимать друг друга. Да и с чего бы ей быть прочной, если она ничем не была скреплена? Нужен был, наверно, другой цемент, чем совместные игры, шалости, смутные мечты… Вот с Генкой мы тоже всего год, как сдружились, но я верю, что это надолго. Видно, год с годом не сходятся, Я спрашиваю себя: жалею ли о случившемся? И отвечаю: нет, не жалею.
В перерыве, когда мы остановили агрегат, для смазки, Генка спросил:
— Что за птица была у тебя?
Я не стал ему объяснять, а просто сказал:
— Так, знакомый один… Приехал отдыхать, решил прогуляться.
— A-а… Молодой, где же он это успел устать? Впрочем, всякое бывает… Поехали дальше!
И опять мой комбайн движется по полю, грузно переваливаясь с боку на бок, вздрагивая на рытвинах. Водопадом льется в бункер зерно, брызжет золотистым потоком. Где начало этого потока? Когда-то давно, мальчишкой, я принимался расспрашивать отца: "Откуда берется наша Чурайка?" Отец мне, бывало, объяснит, а затем спросит: "Понял?" — "Понял" — отвечаю. "А что понял-то?" — "Из земли Чурайка выбегает!.."
Как это было давно!
Подняв голову, я замечаю летящий высоко в небе самолет. Гула его не слыхать — гремят наши моторы. С такой высоты летчику, конечно, нас, ни за что не заметить, но я срываю с головы кепку и машу ему. Как знать, быть может, за штурвалом самолета сидит мой ровесник, такой же, — как я, парень. Я тоже стою за своим штурвалом. По-моему, у каждого в жизни имеется свой незримый штурвал, но все дело в том, в какую сторону его повернешь.
Я веду свой комбайн по бескрайнему морю хлебов, по широкой земной груди. Когда-то дядя. Олексан сказал: "Где положен твой труд, значит, там и есть твое место!" Еще очень мало сделано мной на этой земле, но не беда: впереди вся жизнь! Множество дел ожидают меня на родной земле, и, не выполнив их, разве имею я право отвернуться от нее?
Родная земля — вот она, раскинулась необъятной ширью, вся передо мной. В грохоте машин я шепчу ей:
— Всегда с тобой! Я остаюсь с тобой!
СЛОВО О РЯДОВОМ
В колхозной конторе, на аккуратных полочках, лежат сотни книжечек в сереньком переплете. Это — трудовые книжки. Одна из них — моя. Красивым почерком на ней выведено: "Алексей Курбатов. Колхозный механик".
Да, звание мое — колхозник. Не так-то просто получить это звание, скажу прямо!
Рядовой…
Ему приходится рано вставать, он поднимается вместе с рождающимся днем. Без шума, чтобы не разбудить спящую семью, он одевается, просто, но сытно завтракает, берет свой инструмент и отправляется на работу. Дети просыпаются и спрашивают у матери: "А где отец?" — "Отец давно ушел на работу… Спите…"
Зимой, в жгучие морозы, летом под палящим солнцем, осенью под холодным дождем он — колхозник — шагает на работу. Надо видеть, как он идет по улице — уверенной, спокойной походкой хозяина, знающего свою цену. Зря не намахнет рукой, лишнего слова не скажет, не обернется из-за пустяка. Не смотрите, что на нем небогатая одежда: зимой ему тепло в легонькой куртке, в летнюю пору он довольствуется одной рубахой. Нет, не судите его за скромность наряда — разве она красит рабочего человека?!
Шагает он по большой земле и нигде не чувствует себя чужим, повсюду он в родном своем доме, потому что все на земле делается его руками. Рядовой человек, он умеет делать все! Сегодня он пашет и сеет, завтра из-под его топора летит пахучая щепа; загораживает плотиной реку, мостит дороги, а если нужно, он встает за штурвал машины. Слава тебе, великий умелец, рядовой человек! На твоих сильных руках держится наша земля, твоими трудами множатся наши стада, ты воздвигаешь дворцы-дома, твоей воле послушны могучие машины!..
Разные есть специальности: у одного в трудовой книжке значится "инженер", у другого "слесарь", у третьего "учитель"… А в моей — "колхозник". Я горжусь своим званием: это слово роднит меня с великой семьей трудового народа, с этим именем я повсюду дома.
Вот она, моя трудовая книжка, лежит среди сотен других. Она для меня — самый ценный документ. Собираясь в дорогу, я беру ее с собой.
Иногда мне приходит мысль, что со временем не будет никаких паспортов. Вместо паспорта будет трудовая книжка: ведь по ней можно безошибочно определить, какое место занимает человек в жизни. Честное слово, мне очень хочется верить, что так оно и будет. И тогда я достану из грудного кармана свою трудовую книжку и скажу почти словами поэта:
Читайте, завидуйте, — Я — рядовой Человек труда!Олексан Кабышев (роман)
Парни подрастают, Парни уезжают, А за ними следом Новые растут…(Удмуртская песня)
1
Стаями проплывают над Акагуртом облака — летом со стороны Уральского хребта, а в зимние месяцы унылыми караванами тянутся они с холодного Карского моря. День приходит на смену дню, и люди незаметно старятся, на смену им подрастает молодежь. Какие-нибудь четыре или пять лет — срок, казалось бы, невеликий, все вокруг осталось по-прежнему: деревня стоит там, где она стояла пятьдесят — сто лет назад, речка Акашур бежит по привычному руслу, и люди в деревне живут те же самые. Но стоит вглядеться внимательнее, как невольно намечаешь: у одного на лицо опустилась осенняя паутина морщин, у другого в полосах проглянули пасмы серебристых нитей; зато вот этот парень, казалось, лишь вчера бегал босиком, а сегодня на гулянках, что устраиваются на холме Глейбамал, ломающимся баском заговаривает с девчатами, в месяц раз аккуратно наведывается в районный центр Акташ и стрижется "под полубокс"…
Когда-то смеялись, что акагуртский мужик, прежде чем срубить в лесу дерево, семь раз обойдет вокруг него, выкурит три трубки самосада и лишь потом возьмется за топор. Может, и было так когда-то, но за последние пять лет в Акагурте произошли большие перемены: появилось электричество, во всех домах радио, колхоз укрупнился, и, словно грибы-дождевики, поднялись новые дома: подросшие дети отделяются от родителей. За речкой ровным рядком уселись новые нарядные дома, — в них живут молодые семьи. Некогда стало акагуртцам по семи раз обводить вокруг дерева, и уж совсем недосуг раскуривать трубки. Жизнь нынче стала торопливой, и ой-ей как надо спешить, чтобы не отстать от нее!
Лишь в доме Кабышевых за последние четыре года, казалось, ничто не изменилось. После того как самого хозяина — Макара Кабышева задавило в лесу деревом, единственный сын Олексан уехал, в город учиться. Мать со слезами уговаривала его остаться, чуть в ногах не валялась, но сын зарубил на своем: "Поеду, и точка. Поздно отговаривать, я слово дал…" А мать не унималась: "Дурно-ой, ты чего задумал? Родную-то мать спросил? Кроме тебя, людей, что ли, не найдут? И как такое хозяйство бросишь, на кого? Как я одна справлюсь… Дурно-ой, Олексан!" Сын упрямо отмахивался: "Если не сейчас, все равно потом уехал бы! Не могу я больше здесь оставаться, понимаешь, не могу! Жить по-вашему не умею, да и не хочу! Ты пойми меня, мама! Может после поймешь…" С тем и уехал. Мать даже не вышла провожать сына, осталась сидеть в комнате, невидимая за ситцевой занавеской, побелевшими губами шептала: "Уехал, уехал… Ладно, езжай, коли хорошая жизнь тебе не нравится. Иди, хлебни горюшка-то! Осто[8], проклятые люди, сына от матери увели!.."
Оставшись одна, Зоя спервоначалу на все махнула рукой и, казалось, потеряла всякий интерес к своему хозяйству. Случалось, по два-три дня не топила печь, не варила, ела всухомятку или подогревала на таганке скисшие щи… Тишина стояла в доме, будто не жилой он. Зоя все-таки делала кое-что по хозяйству, но двигалась точно во сне: выйдет в чулан или раскроет дверь амбара, а у самой в голове неотступные думы о сыне: "Бросил, бросил родную мать, не вернется больше Олексан…" Очнувшись, всплескивала руками, бормотала вслух: "Дай-ка вспомнить, зачем это я пришла-то сюда? Э-э, муки немножечко хотела просеять, вот и сито в руках. Запамятовала начисто…"
Но проходили дни, и мало-помалу Зоя стала успокаиваться: нет, Олексан не забыл свою мать, в конце каждого месяца колхозный почтальон приносил ей переводы от сына. Хоть и небольшие, а все деньги! Главное же — живя в чужом, незнакомом городе, Олексан помнил о матери, заботился о ней. И подобно тому, как с наступлением первых теплых дней от корней сухого, прошлогоднего куста полыни отрастают новые побеги, в душе Зои росла, крепла уверенность, "Вернется Олексан! Бог даст, образумится. И впрямь, подумать только, как можно бросить этакое хозяйство! У Кабышевых дом — полная чаша, все в деревне завидуют… Не ворованное добро — своим горбом нажито!"
Долгими темными ночами, лежа на своей постели, не в силах уснуть, бесконечное множество дум передумала Зоя. Наконец про себя решила, что лучше ногам болеть, нежели голове, и отправилась в соседнюю деревню Бигру к знакомому старику. Старик этот, "весьма сведущий человек", гадал, предсказывал судьбу и указывал людям, где искать заблудившуюся скотину. Зою он по давнему знакомству принял хорошо, погадал на хлебной горбушке, и от слов его в груди у Зои будто теплое масло разлилось: старик уверил ее, что сын непременно вернется домой, а самой ей предстоит прожить долгую и хорошую жизнь, и будет у нее большая семья, полон двор скотины и прочего добра.
— Осто, осто, слава богу! — сказала на прощание Зоя, торопливо сунув в руку старика смятый червонец.
"Уж коли пришла в такую даль, зайду-ка к свату Гирою, давно не была у них, — решила Зоя. — Все-таки свои, не чужие". Сват и жена его Одотья встретили ее приветливо, угостили чайком, а заодно поделились своей радостью: ихняя дочка Глаша нынче закончила институт и получила учительское звание. Дело, конечно, хорошее, да вот беда: Глашу направляют работать в другой район.
— Хорошо бы устроить ее в школу поблизости, — вздыхал сват Гирой. — Кто знает, как оно обернется… Растишь-растишь их, а все заботы. Ах, беда, беда…
Слушала Зоя сетования свата, и тут ее словно осенило, даже блюдце с чаем торопливо отставила в сторону. "Вот оно, судьба-то сама навстречу идет: если Олексан приедет, надо свести его с дочкой свата Гироя! Никуда он больше не уедет, пустит корни в своем хозяйстве!"
Глаши дома не было. Зоя выпила почти полсамовара, когда наконец вернулась хозяйская дочь. Неприметно, но очень внимательно Зоя приглядывалась к ней и окончательно укрепилась в своем решении. Глаша оказалась очень приятной с лица и здоровой девушкой, держалась просто, на вопросы отвечала приветливо. А ведь не какая-нибудь там колхозная доярка, — учительница, с высшим образованием! Сразу видать: у хороших родителей не бывает плохих детей.
Перед тем как проститься, Зоя будто невзначай заметила:
— Конечно, сват Гирон, кому же охота услать родное дитя в чужие края! Дети — они как птенчики: отрастут крылышки, и поминай как звали… Бог даст, сыщется место поблизости, рядом с родительской крышей. Вот и Олексан мой вскорости должен вернуться, весной заканчивает свое учение…
Сват Гирой — человек сметливый, сразу догадался, куда метит гостья. Он тут же очень кстати вспомнил, что за ними имеется давнишний должок: сами они гостевали у Кабышевых, а к себе еще не приглашали. Давно собирались, да всякий раз по разным причинам откладывали. Теперь вроде уже неудобно дальше откладывать…
— Весной, как управятся в колхозе с севом, каждый год праздники устраивают. Вот и приезжай-ка вместе с сыном, сватья Зоя. Иначе друг друга можно совсем позабыть… В старину-то деды наши в большой дружбе жили… Так что весной на праздники в гости вас ожидаем!
По дороге домой Зоя готова была запеть от распиравшей ее радости, без конца удивлялась тому, как верно предсказал старик ведун: предсказания-то уже начинают сбываться…
"Осто, великий боже, дай такого счастья! Самой-то мне теперь немного надо, лишь бы своими глазами увидеть счастье сына!"
Весной, когда в Акагурте посевная горячка шла уже на убыль, в родную деревню вернулся Кабышев Олексан. Во внутреннем кармане пиджака, для верности аккуратно приколотом булавочкой, лежало новенькое удостоверение о том, что он, Кабышев Олексан Макарович, закончил трехгодичную школу механизации и ему присвоена квалификация механика по сельхозмашинам…
Едва Олексан приоткрыл калитку ворот, как навстречу ему метнулась серая лохматая овчарка. Цепь отбросила ее назад, и она хрипло зарычала на пришельца.
— О-о, Лусьтро, не признал? Свой ведь, свой!
Услышав полузабытый голос, пес перестал рычать и нерешительно замахал хвостом: "Не ошибся? Вроде бы и не чужой, но незнакомый?.." И лишь спустя минуту-другую окончательно признав так долго отсутствовавшего хозяина, он лёг на живот, жалобно и виновато повизгивая, пополз к Олексану. Поласкав собаку, Олексан поднялся на высокое крыльцо, потянул на себя дверную ручку, нарочито чужим голосом проговорил:
— Здорово живете! С дороги переночевать не пустите?
Из-за перегородки выглянула мать, увидев сына, схватилась за косяк.
— Осто, Олексан, неужто ты? Он, сердце мое…
Ткнувшись лицом в широкую грудь сына, она несколько раз всхлипнула; Олексан, отчего-то смущаясь, неловко обнял мать и тут же осторожно высвободился:
— Ну, зачем ты так, анай… Видишь ведь, вернулся… никуда больше не уеду.
Несколько дней Олексан отдыхал, возился по хозяйству: подшил новыми досками подгнившую крышу бани, починил изгородь в саду. За три года здесь все осталось на своем месте. Двор обнесен высоким — выше человеческого роста — забором без единого просвета: отец не любил, если во двор заглядывали чужие… Зайдя в хлев, Олексан с удивлением подумал: "Ого, мать одна жила, а скотины не убавилось! Корова с теленком, пять штук овец… А кур вроде бы даже прибавилось. Что она, собирается на базаре торговать?" В шутку сказал об этом матери. Та укоризненно посмотрела на него, строго поджала губы:
— Коль своего нет, чужим сыт не будешь, сынок! Вон, в деревне многие сдали своих коров на ферму, а теперь молока в глаза не видят. Поначалу обещали с три короба: мол, из колхоза будете получать дешевое молоко, самим не надо за коровой ходить. Обещанная-то шапка на голову не лезет!
После этого мать с сыном о скотине больше не заговаривали. А давняя мысль, угнездившаяся в Зоиной голове, продолжала беспокоить ее: "Ну вот, сын приехал, пора ему начать жить с людьми наравне… Надо, чтоб Олексан душой прирос к родительскому гнезду. Пора, пора ему свою семью заиметь! Упустишь срок — приведет в дом какую-нибудь телятницу-скотницу, вон сколько их на фермах, одна горластее другой. А посмотреть — у самой, может, одно-единственное платьишко, и то худое… Хоть Олексан супротив дочки свата Гироя поменьше учился, зато характером рассудителен и умом вышел, здоровьем тоже не обижен. Точно хорошее, без единой червоточинки, яблочко! Да и девушки нынче, хоть и с образованием, за любого зажмурившись идут. Невесте лишь бы к месту определиться…"
В один из дней Зоя, зорким глазом отметив, что у сына хорошее настроение, нарочито ласково сказала:
— Олексан, сынок, ты, должно быть, и по людям соскучился, а? Нас с тобой в Бигру к свату Гирою давно в гости приглашают. Мы им не чужие, по дедушке они нам родня. Съездим, может, сынок? Люди они хорошие…
Олексан до этого даже не слыхивал, что в Бигре у них имеется близкая родня, но сидеть дома ему наскучило, и он согласился. На другой день они собрались в Бигру.
Встретили их, как дорогих гостей, Олексана усадили в красном углу, под иконами. Мать пристроилась рядом, а по другую сторону оказалась хозяйская дочь. Вначале Олексан чувствовал себя рядом с незнакомой девушкой стесненно, смущался ее взгляда; пот градом катился по его лицу, а вытирать было неудобно. Хозяин, заметив смущение гостя, догадливо обратился к дочери:
— Глаша, принеси-ка Олексану Макаровичу чистое полотенце! Жарко в избе, печку чересчур натопили…
Глаша вытащила из-за рукавчика расшитый по краям платочек и, чуть улыбнувшись, положила на колени Олексану. Тут они впервые встретились взглядами, в глазах девушки мелькнуло задорное: "Ну, что ж ты… такой?" Выпив налитый до краев стакан крепкого самогона-первача, Олексан одолел свое смущение, заговорил о чем-то с хозяином. Глаша то и дело поглядывала на него. Олексану чудилось в её глазах что-то насмешливое: "Можешь придвинуться ко мне ближе, я не кусаюсь… Ты мне нравишься!"
После второго стакана Олексан разговорился с соседкой.
"А она ничего, красивая, — подумал он. — Педагог, с высшим образованием, и ничуть не форсит, не строит из себя… Имя у нее тоже хорошее, такое ласковое: Глаша…"
Заметив, что у молодых дело пошло на лад, Зоя, умилившись, проговорила:
— Осто, сват Гирой, сватья Одотья, как посмотрю на наших детушек, у самой от счастья голова кругом идет!
Будто помолодела на тридцать лет… Дай господи, чтоб нам с вами весь век в одной горсточке прожить!
— Золотые слова, сватья Зоя! — эхом отозвался сват Гирой.
Гостеванье затянулось допоздна, радушные хозяева уговорили Зою с Олексаном остаться переночевать. Олексану постелили в чулане, хозяин сам вышел проводить его. Под хмельком сват Гирой надумал показать гостю "свое житьишко". Сначала завел Олексана в амбар, ткнул носком сапога в стопудовый ларь, полный чистого зерна, затем повел по хлевам и, наконец, потащил в огород, к ульям.
— Грех обижаться на житьишко, Олсксан Макарович. Слава богу, без хлеба не живем, голыми тоже не ходим, сам видишь… Жаль вот, бог сына не дал, одна-единственная дочь — Глаша. Все, все ей останется! Для одной дочери ничего не пожалею, последнюю рубашку с себя отдам! Только хороший бы человек ей попался…
Укладываясь спать в темном чулане, Олексан с улыбкой подумал: "Расхвастался старик. А кому нужно его добро? Чудак… А Глаша — хорошая девушка…"
Уснул он не скоро, беспокойно ворочался на постели: голова слегка кружилась от выпитого первача. Сквозь полусон услышал, как осторожно скрипнула половица, потом чья-то рука коснулась его плеча.
— Он, Олексан, ты не спишь? А я… забыла в чулане свой платок…
В темноте смутно белела Глашина фигура, она была совсем близко. Олексан взял девушку за руку и тихонько притянул к себе. Она словно ждала этого, податливо шагнула к нему и, нагнувшись близко, горячо задышала ему в ухо: "Тише, в доме еще не спят…"
…Давно не помнили в Акагурте такой свадьбы, что была той осенью у Кабышева Олексана! Со стороны жениха к невесте приехали на шести упряжках, два дня и две ночи в Бигре дым стоял коромыслом. А потом веселье продолжалось в Акагурте. Зоя ради такого случая не поскупилась: два стола, поставленные впритык, ломились от угощений. Посмотреть на невесту пришла чуть не вся деревня, в дом не пробиться, толпились в просторных сенях, жадно вытягивая шеи, во все глаза смотрели в раскрытые настежь двери. Олексан пригласил на свадьбу своих давних друзей по тракторной бригаде, пришли все: Башаров Сабит с женой Дарьей, Мошков Андрей, Ушаков… Агроном Галина Степановна тоже пришла, но вскоре заторопилась, кивнула Олсксану: "Будьте счастливы!" и ушла. Олексан хотел было удержать ее, но Зоя оказалась настороже:
— Ладно, Олексан, раз человеку не хочется с нами сидеть, силком не удержишь! Нам и остатних хватит!..
Олексан уселся на свое место за столом, рядом с Глашей, незаметно обнял ее, но Глаша отстранилась от него, словно говоря взглядом: "Ну что ты? Люди заметят…"
Сват Гирой захмелел, пробившись к зятю, повис на нем и заплакал пьяными слезами:
— Олексан, зятек дорогой, послушай меня… Золотая она, моя Глаша, чистое золото отдаю тебе! Мотри, береги ее. В приданое за ней даю годовалую телку, двух ярочек и пару гусей, гусыню с гусаком, слышь! Для родной дочери Самсонов Григорий жизни не пожалеет… У Гла-шеньки одних только платьев полный сундук! Эх, Олек-са-а-ан, сынок, ты должен Глашу на руках носить, понял?
Долго длилось веселье в Акагурте, катались по улицам на упряжках, разукрашенных цветастыми полотенцами, ходили с гармошкой, плясали до боли в ногах: "Пой, веселись, молодость один раз в жизни дана!"
На новом месте Глаша прижилась быстро. Сразу же после свадьбы она старательно прибрала в доме, свекровкину кровать переставила за перегородку — в "женскую половину", а в горнице закрасовалась, заиграла никелированными шишечками ее собственная полутораспальная кровать. Зоя не противилась этому: она пожила на белом свете, пусть теперь молодые поживут в свое удовольствие, а сама она, бог даст, будет скоро бабушкой.
— Осто-кен[9], твои вещи так украсили наш дом, прямо не узнать! — радовалась она. — Раньше завидовала, глядя на квартиры служащих в Акташе, а теперь у самой ничуть не хуже! Бог дал на старости лет увидеть такое счастье. Живите с Олексаном в мире да согласии…
Глаша сняла с окон ситцевые занавески, вместо них повесила свои, из тонкого тюля; расстелила по полу дорожки, а на стену возле своей койки аккуратно укрепила большой ковер, на котором лихо мчалась тройка с седоками. Оставаясь дома одна, Зоя подолгу рассматривала и перебирала в руках эти дорогие и красивые вещи. В такие минуты сердце ее до краев переполнялось ликованием; "Богатая попалась невестка, слава богу!" Радуясь удачной женитьбе сына, Зоя чувствовала и другое: теперь ей придется посторониться, уступить место хозяйки Глаше. Так оно и случилось. Что бы ни решали в семье, — последнее слово за Глашей: как она скажет, значит, так тому и быть. Говорит она мягко, спокойно, но Олексан с матерью всегда соглашаются с ней. Зоя часто удивлялась про себя: "Смотри-ка, еще совсем молодая, а во всем порядок понимает. И где она успела научиться всему? Верно говорят: каково семя, таково и племя: о свате Гирое ничего плохого не скажешь. Не чужим — своим трудом скопил в дом. Макар тоже был старательный, а добра от сына так и не дождался, помер раньше времени…"
Олексан с Глашей между собой ладили, мало-помалу жизнь в семье Кабышевых вошла в прочное русло: утром Глаша уходит в школу, Олексан спешит в тракторную бригаду, Зоя остается домовничать. Казалось, ничего не могло нарушить это спокойное, размеренное течение. Даже окна кабышевского дома блестели на солнце довольством и благополучием.
2
Обычно покойники не трогают людей, но однажды в году они способны причинить немало бед. В одну из весенних ночей они встают из своих могил, принимаются куролесить, и если не уберечься заранее, то могут здорово напакостить. Например, им ничего не стоит напустить порчу на скотину и на малых ребят, нарушить мир и согласие в дружной семье; или возьмут да и насыплют соли в квашенку, сделают так, что вчерашнее молоко за ночь превратится в простоквашу. И не спасут от них в эту страшную ночь ни запоры, ни замки: мстительные умершие родственники все равно пролезут в дом через малейшую щелочку. Уберечься от них можно одним-единственным способом: стоит над каждой дверью, над каждым окошком в доме воткнуть зеленую веточку можжевельника, и тогда никакие привидения не смогут проникнуть в дом. Большую силу имеет против покойников обыкновенная веточка колючего можжевельника!
Расскажи об этом нынешней молодежи — не поверят, хуже того, тебя же на смех поднимут. Ни в бога, ни в черта, ни в покойников не верят! А спросить у акагуртских стариков — они с большим знанием дела расскажут, сколько и каких сортов всякой нечисти водилось в былые времена. К примеру, в каждом доме обязательно водился свой домовой, и если семья перебиралась в новый дом, то позади телеги на веревочке привязывали старый лапоть: в нем ехал домовой… В каждой конюшне жил свой "хозяин", это он вил и заплетал гривы лошадей в немыслимые узлы. Кроме того, в банях, амбарах также проживало множество всяких незримых, бесплотных хозяев. И вообще по соседству с добрыми людьми водилось множество нечисти: леших, шайтанов, колдунов, привидений, всех не перескажешь! Эге, легко сказать, а в старые времена от них людям житья не было, проходу человеку не давали. Нынче они что-то попритихли, не показываются в открытую, а то бывало… Э-э, да ведь молодежь все равно этому не поверит!
За два дня до той самой ночи, когда покойники примутся пакостить живым, Зоя сходила на холм Глейбамал, где росли корявые кусты можжевельника. В кровь царапая руки, наломала зеленых веточек, крадучись от людей, задами вернулась домой и принялась втыкать спасительные веточки в каждую щель над дверями и окнами. Над входной дверью воткнула самую большую ветку, и лишь тогда с облегчением вздохнула: "Осто, великий боже, не оставь нас своими милостями…"
Вскоре из школы вернулась Глаша. Заметив можжевеловые ветки, она улыбнулась свекрови:
— A-а, старого обычая держитесь, мама? У нас дома тоже так делают…
Зоя улыбнулась в ответ:
— Деды наши обычай берегли, не нам их забывать. Обычай-то, дочка, старше закона… Да вы на нас не смотрите, живите по-своему.
Втайне Зоя опасалась, что невестка рассердится и прикажет выбросить вон чудодейственные веточки: все-таки она учительница, образованная, не захочет из-за свекрови позориться перед людьми. А Глаша даже словом не попрекнула. Видно, научил ее сват Гирой уважать старых людей и старинные обычаи.
Олексан вернулся с работы поздно. Молча скинул с себя замасленную верхнюю одежду, долго возился за печкой возле умывальника, и, лишь взявшись за полотенце, коротко бросил:
— Поесть чего найдется?
Было непонятно, к которой из двух женщин обращался он. Зоя с Глашей молча переглянулись, затем Зоя суетливо заговорила:
— Найдется, как не найтись! Сегодня, Олексан, сварили твое любимое кушанье — тыкмач[10]. В печи он, должно быть, еще не успел остыть, собери на стол, кен…
Зоя, конечно, могла бы сама собрать сыну поесть, но нарочно удержалась: "Пусть-ка жена за ним походит… Олексан, кажется, сегодня не в духе, с чего бы? Должно быть, опять на работе не ладится. Осто, ничуть он себя не жалеет, готов пополам разломиться из-за этой своей бригады!"
Олексан молча хлебал из чашки. Глаша сидела поодаль на лавке, низко склонившись над шитьем. Время от времени она неприметно взглядывала на мужа, и горячая волна нежности заставляла биться ее сердце учащенно: "Подойти бы сейчас к нему, сесть рядышком и тихонечко поцеловать… И спросить его: отчего ты, Олексан, такой хмурый, неприветливый, или сердишься на кого? Не хмурься, милый, посмотри на меня и улыбнись! Вот я сижу рядом с тобой, ведь я люблю тебя…" Но как подойти к нему, как рассказать о своих чувствах? Временами Глашу одолевало желание обнять Олексана, обвить его загорелую шею руками и крепко-крепко поцеловать. Или прижаться бы лицом к его груди и слушать, как ровно и сильно бьется его сердце. И пусть бы Олексан мягко гладил ее волосы, шептал ей ласковые слова: "Глаша, от твоих волос идет удивительный запах. Даже не знаю, как передать словами… Этот запах ни с чем не сравнить!" Глаша постепенно привыкла к характеру Олексана и научилась ценить его редкие, скупые ласки; стоило Олек-сану мимоходом потрепать ее по плечу, и она была счастлива на весь день. Она ничуть не обижалась на мужа: конечно, одними ласками да обнимками на свете не проживешь. Но в последнее время Олексан как-то замкнулся, стал малоразговорчив и угрюм. Живут в одном доме, а словно чужие. Если б только он знал, как не хватало ей иногда его крепких, мужниных объятий!
Вначале Глаша была уверена, что их совместная жизнь с Олексаном пойдет ровно и гладко, точно по стеклышку, ничто не предвещало на их пути ямин и ухабов. Только, видать, кто-то из них не уберег, по неосторожности ударил по стеклышку, и оно дало трещинки. Уже несколько раз они ссорились, говорили друг другу тяжелые, обидные слова. После этих ссор им обоим становилось стыдно, и они поспешно заглаживали, замазывали трещинку, но спустя некоторое время злополучная трещинка появлялась на другом месте… Когда, из-за чего они не поладили впервые? Глаше хотелось бы навсегда вычеркнуть из памяти тот злосчастный день, но сердце упорно держало в себе эту болезненную занозу. Видно, так устроено сердце, что все хорошее быстро растворяется в нем, точно сахар в горячем чае, а вот плохое вонзается и застревает, словно острая заноза, и стоит сделать неосторожный шаг, как заноза впивается в живое, напоминая о прошлых болях…
Вот и Глаша — не хотела бы, а помнила о том дне. Однажды учителя из акагуртской школы вместе с ребятами направились на прополку колхозного льна. Глаша отпросилась у директора домой, сказав, что свекровке нездоровится. Ее отпустили, и она до вечера провозилась на своем огороде, окучивала молодую картошку. К вечеру она от усталости валилась с ног, зато с затаенной радостью думала: вот Олексан вернется с работы и удивится, что она одна успела сделать так много. Может, на радостях обнимет… Все-таки он должен понять, что не ради чужих, а для семьи старалась! Вышло совсем иначе. Олексан, придя с работы, исподлобья метнул на жену недовольный взгляд и обжег ее вопросом:
— Почему ты не была на прополке?
Глаша не успела рта раскрыть, — вмешалась свекровка:
— Помолчал бы ты, Олексан! Глаша, вон, одна во всем огороде управилась, не будь ее…
Олексан не дослушал, в запальчивости стал кричать на женщин:
— Вот-во-о-от, подавитесь вы своим огородом! Черта с два сделается с вашей картошкой, а люди в глаза мне тычут! Думаете, хорошее дело сделали, а кому оно в добро?!
Зоя снова попыталась было заступиться за невестку, но Олексан обрезал ее:
— Aнай[11], прошу тебя, не вмешивайся! Тебе, и знаю, вечно мало да мало! А Глаша… у нее своя голова на плечах, неужто не понимает!
— Он, Олексан, я ведь хотела, чтоб…
— Хотела, хотела! Мало ли чего хотела, а получилось что?
Не договорил, махнул рукой и выбежал из дома. Дня три после той ссоры ходил туча тучейн, слова по-доброму не вымолвит. Ой, лучше бы совсем не было того злосчастного дня! Ведь она для своей семьи старалась. А пошла бы она на прополку льна, много ли пользы принесла колхозу? Ничего же не изменится в колхозе! Ей было очень обидно, несколько раз выходила в чулан и тайком от Олексана плакала…
Время постепенно затянуло, заткало паутиной эту первую трещинку, оба избегали вспоминать о ней, и жизнь в доме Кабышевых снова вошла в привычное русло. Олексан утром спозаранку спешит на работу, порой не приходит даже на обед. Вечером возвращается поздно, торопливо хлебает чуть тепленький суп и подолгу засиживается с газетами, книжками. Глаша не раз замечала: сидит за книгой, будто читает, а сам смотрит в одну точку, думает о чем-то своем. Однажды, оторвавшись от книги, Олексан сказал:
— Ну, как это с девяти часов ложиться спать? Неужели тебя ничего не интересует? Почитала бы что-нибудь. Скоро забудешь все, чему училась…
Глаша в ответ жалобно улыбнулась:
— Ой, Олексан, я сегодня так устала! В школе от шума голова кругом идет, а дома еще твои рубахи выстирала. Никак не отмоешь, промаслились насквозь… Пальцы на руках до крови натерла. Я бы почитала, только не успеваю…
К этому разговору Олексан больше не возвращался, но про себя удивлялся: "И как это человек ничем не интересуется? Ведь у нее образование больше моего, а порой не знает даже простых вещей… Чему ее научили в институте? О чем она думает? Начнешь говорить о книге, о кино, а она в ответ одно: "Не читала", "Не смотрела". Разве она одна такая? Кроме еды и тряпок, на свете много интересных дел, неужели ей все равно?"
…Покончив с едой, Олексан встал из-за стола, подошел к жене, негромко проговорил:
— Глаша, послушай… Нам надо потолковать кое о чем…
Отложив шитье в сторону, Глаша подняла глаза на мужа: "Говори, я слушаю, Олексан".
— Завтра с утра я поеду на станцию. На базу поступили коленчатые валы для тракторов, надо обязательно получить, иначе провороним, в другие колхозы разберут. Из-за этого несчастного вала один наш трактор третий месяц на приколе стоит…
— Что ж, если надо, поезжай, Олексан. А на чем доберешься?
— Председатель свою машину дает. Да дело не в этом, Глаша… В колхозе сейчас дела идут неважно, счет в банке закрыт, в кассе ни копейки. А коленчатый вал надо получить во что бы то ни стало, он нам позарез нужен. Может, ты на время ссудишь своих денег? Понимаешь, я ребят обнадежил, что деньги будут. А, Глаша?
В первую минуту Глаша растерялась, — настолько неожиданной была просьба Олексана. Она молча отвела взгляд, а кто-то внутри принялся торопливо ехидно нашептывать ей: "Вот так, просто отдашь свои кровные деньги? Дурой будешь, после пожалеешь! Какое твое дело до ихнего коленчатого вала? Вспомни, как бережливо копила ты деньги, откладывала из каждой получки, чтобы купить в акташском раймаге давно приглянувшееся пальто! Неужели теперь откажешься? Ду-у-ра, коленчатый вал на себя не наденешь! Сейчас самое время, чтоб нарядно одеваться, а потом состаришься — и не нужно будет. А Олексан, разве он не хочет видеть свою жену красиво одетой? Совсем помешался на каком-то коленчатом вале… Должно быть, эта железная штука ему дороже, чем ты!"
Все эти мысли пронеслись в Глашиной голове торопливым и тревожным вихрем. Но вслух она сказала другое:
— А как же, Олексан… ведь нам тоже на что-то надо жить? Если отдать деньги, еще неизвестно, когда вернут. Отдашь руками, а искать придется ногами… Наверное, найдутся другие, у кого можно занять. Почему обязательно должны мы? И потом…
Олексан перебил жену, в голосе его послышались нетерпеливые нотки:
— Деньги в колхозе будут, может быть, завтра же будут! А мне они нужны сегодня, потому что завтра рано утром надо выезжать, понимаешь? И, кроме того, я пообещал ребятам!
Глаша снова отвела глаза, не в силах выдержать настойчивого взгляда мужа. "Да, да, понимаю, Олексан… Но как же так, с бухты-барахты я отдам неизвестно кому свои деньги?.. Во сне я уже видела себя в том нарядном, красиво сшитом пальто. Такого в Акагурте пока никто не носит. Представляю, как станут завидовать учительницы из нашей школы! Как ты не хочешь понять такой простой вещи, что каждая женщина хочет быть одетой лучше других! Ой, Олексан, ты душой болеешь за свою работу и не хочешь знать о моих мечтах?"
— Ну, так как же, Глаша? Пойми, ведь мы просим взаймы, и не для чужого дяди — для своего же колхоза! На днях поступят деньги за сданное мясо, и колхоз рассчитается с тобой. А сегодня, как нарочно, на счету нет ни рубля: все деньги списали РТС за ремонт…
Опустив голову и не глядя на Олексана, Глаша дрожащим голосом взмолилась:
— Ой, Олексан, зачем ты меня неволишь? Я хотела кое-что для семьи купить… Разве мы с тобой виноваты, что у вас там нет денег!
При последних словах Глаши Олексан вскочил и, с трудом сдерживаясь, сквозь зубы процедил:
— Значит, не дашь? Нет? Н-ну, говори сразу!
Готовая вот-вот заплакать, Глаша скривила губы, в отчаянии проговорила:
— Олекса-а-ан, пожалей меня! Не могу я, слышишь, не могу!
Олексан рывком шагнул к ней, взмахнул рукой, точно готовясь ударить. Глаша закрыла лицо руками и вся сжалась. Олексан сгреб в кучу Глашино шитье, швырнул на пол.
— Эх, ты… Не зря говорят, что отец твой из-за своего дерьма готов удавиться! И ты туда же!
Глаша жалобно вскрикнула. В этот момент из-за перегородки выбежала мать. Пока сын ужинал, Зоя задремала на широкой лавке и не слышала разговора сына с невесткой. Ее разбудил Глашин крик. Зоя бросилась к сыну.
Сын угрюмо покосился на ее искаженное гневом лицо, молча отвернулся и отошел к окну. Зоя подсела к невестке и, поглаживая ее по спине, принялась успокаивать:
— Осто, осто, и когда вы успели рассориться, чего не поделили? При нашем достатке жить да жить бы в добром согласии, душа в душу, а вы…
Почувствовав поддержку, Глаша осмелела. Глотая слезы, принялась торопливо выкладывать перед ней свою обиду:
— Олексан просит у меня денег… Колхозу, видишь ли, деньги понадобились… А я не для них копила! Ой, сердце мое, что же мне теперь делать?
Не оборачиваясь, Олексан через плечо зло бросил:
— Чего заскулила? Силком, что ли, отбирают!
Глаша поняла: теперь отступать поздно. Вкладывая в слова всю свою обиду и горечь, она со слезами в голосе стала выкрикивать в спину мужу:
— Деньги мои, что хочу, то и делаю! Небось без работы не сижу, сама зарабатываю! Тебе, конечно, легко: придешь с работы — еда на столе, одежда постирана. На готовом-то легко прокатываться! А спросил хоть раз, откуда все это берется? То-то, молчишь? Думаешь, нам все это само в руки идет? Не-ет, милый, ошибаешься глубоко!
О пальто она уже больше не заговаривала, а неожиданно даже для себя нашла теперь другое, "веское" объяснение:
— Мы, вон, собираемся купить пару поросят, иначе на зиму без мяса останемся. А как же ты думал? Да маме твоей обновка нужна, об этом ты хоть раз задумался? То-то, что нет! Да налогу двадцать рублей, да страховки… И тебе кое-что надо купить, вон, рубахи все износились. Посчитай-ка, сколько денег потребуется, а он… пристал, дай да дай!
Глаша снова принялась энергично всхлипыват Олексана так и подмывало обрезать жену: "Врешь, не одна ты в этом доме работаешь, зря ты прибедняешься!" Но он промолчал.
Видя, что сын не отвечает, Зоя тоже принялась вразумлять его:
— Э-э, сынок, сынок, люди завидуют нашей жизни, а ты своими руками рушишь свое счастье! Дом наш — полная чаша, чего же тебе надобно? Правду жена говорит: о доме, о хозяйстве ты и думать забыл, одно на уме, что колхоз да бригада, бригада да колхоз! Людям сделаешь добро, а сам, гляди, как бы с сумой не пошел! Колхоз большой, на него не напасешься…
Олексан не дал ей договорить:
— Отдадут, все до копейки отдадут, дай срок! Раз есть что получить, значит, отдадут сполна! К чему этот разговор? А тебе все мало, готова в дне глотки хватать!
— Осто, Олексан, это про родную-то мать! Господи, дожила, от сына такое слышу… Да ты и мальчишкой не очень-то о родителях заботился, готов был последнее чужим отдать… Делан, как знаешь, только от Глаши отступись, не требуй с нее!
Олексан молчал. Он понимал, что он, только он прав. Но как, как им доказать…
Около полуночи электролампа трижды мигнула: электрик на станции поторапливал акагуртцев, чтоб не очень засиживались, завтра рано на работу. Неслышно ступая, Глаша принялась готовить постель. Олексан искоса поглядывал в ее сторону. Его раздражало то, что она как-то особенно бережно и, казалось, даже с нежностью разбирает свою постель. С нежностью сняла с пышных, набитых отборным гусиным пухом (подарок матери к свадьбе) подушек кружевную накидку, аккуратно свернула и отложила в сторонку. Затем осторожно, точно боясь причинить боль, взялась за голубое шелковое покрывало, сложила его вчетверо и повесила на спинку стула. Потом наступила очередь кружевного подзора, затем еще и еще чего-то… Все вещи чистенькие, гладенькие, мягкие, к ним даже боязно притронуться, Олексану порой начинало казаться, что они исполнены к нему скрытой вражды. В первое время после женитьбы он с опаской и со смущением ложился на эту постель. К тому же и Глаша ревниво предупреждала его: "Олексан, не мни белье, оно недавно выглажено… Олексан, поправь занавесочку!" Его это бесило! Но, с другой стороны, и Глаша тоже права: кому не хочется жить в чистоте? Ей, конечно, очень приятно, когда акагуртские женщины, зайдя к Кабышевым по какому-нибудь пустячному поводу, восхищенно всплескивали руками: "Осто-о, к вам зайдешь и обратную дорогу забудешь! Ой, и кто это у вас мастерица вышивать такие наволочки?" Глаша рада похвале, на лице у нее от удовольствия вспыхивает румянец, но она не выказывает это и нарочито равнодушно объясняет: "Ах, эти… Эти я вышивала еще в девушках. Не особенно удачные узоры получились…"
Глаша бесшумно разделась и легла. Олексан про себя отметил: легла лицом к стене, значит, не прошла у нее обида. Ну вот, теперь неделю, а может, и больше они будут дуться друг на друга. Такое уже случалось, и Олексан хорошо знает, как это тяжело! А отчего все это бывает? Что мешает жить им дружно, или, как говорит мать, "в мире и согласии"? Всего второй год они вместе, а уже такого наговорили друг другу! Отчего? Ведь Глаша много училась, в Акагурте все ее знают, завидев на улице молодую учительницу, уважительно здороваются первыми. На людях она — учительница, уважаемый человек в деревне, а дома совсем другая, будто подменивают ее. Можно подумать, что в ней уживаются две души: одна для улицы, другая — для дома. А разве может такое быть? Однажды ее попросили прочитать для колхозников какую-то лекцию. Глаша долго рылась в книгах, газетах, что-то выписывала на бумажки. Лекцию она прочитала, но потом в сердцах пожаловалась свекровке: "На лешего нужна мне ихняя лекция! Сколько времени зря потратила. А не сделать тоже нельзя — в школе учителя волком начнут смотреть, а то даже и учебные часы сбавят…"
Олексан долго сидел один. Давно погасло электричество, он зажег керосиновую лампу. Мысли беспорядочно перескакивали с одного на другое. Но как бы там ни было, а завтра нужно ехать на станцию, а до этого любыми путями достать деньги. Вот только где? Может быть, попросить у дизелиста Сабита? Он собирался покупать мотоцикл, значит, деньги в запасе имеются. Этот даст! Парень он славный… И жена у Сабита тоже хорошая, живут они как-то легко, не прячутся от людей. И понимают друг друга с одного взгляда. А вот они с Глашей не могут так. Отчего? Ведь у Дарьи, жены Сабита, образования всего-то семь классов, с Глашей не сравнишь. Видимо, дело не в одном образовании? Бывает, что человеку образование дадут, а чтобы живую душу вложить — об этом забывают…
Перед тем как лечь спать, Олексан, осторожно ступая, вышел на крыльцо, выкурил подряд несколько папирос. В окошке соседнего дома — у тети Марьи — горел поздний свет, на белую ситцевую занавеску падала тень от чьей-то головы. Было видно, что человек читает. "Наверное, агрономка", — подумал Олексан. Невольно вспомнил недавнюю встречу в поле. Поговорили о делах, а потом Галя неожиданно спросила: "Как живешь, Олексан, с женой?" Он смутился и, глядя поверх Галиной головы, пожал плечами: "Живем — хлеб жуем. А если скажу плохо — поверите?" После он пожалел: не стоило открываться перед чужим человеком. Ведь она спросила просто из любопытства, ничем она ему помочь не может…
Олексан против воли неотрывно смотрел на светящееся окно, и внезапно быстрая, как молния, и острая, как боль от занозы, мысль промелькнула и его голове: "А если бы на месте Глаши… была Галя?" Но он тут же отмахнулся от этой мысли: слишком несбыточной была она. Что ж такого, если несколько лет тому назад он, Олексан, с затаенной влюбленностью посматривал на нового агронома и даже и школе механизации частенько вспоминал о ней… Конечно, об этом он никому ни слова, а самой Гале — тем более.
Тень на занавеске шевельнулась, ушла в сторону, спустя минуту-другую свет в окне погас. Олексан словно очнулся от дремоты: огонек от папиросы больно ужалил палец. Кинув окурок под ноги, он придавил его тяжелым каблуком…
В доме было тихо и душно. Можно было бы спать с раскрытыми окнами, но так уж принято в этом доме — спать, закрывшись наглухо. Зоя не раз предостерегала: "На ночь защелки на окнах проверить не вред: неровен час, ночью воры заберутся!"
Большие часы в резном черном футляре — память от деда Камая — мерно рубят время на секунды и минуты, за перегородкой посапывает Зоя. Олексан разделся, стараясь не разбудить жену, лёг и вскоре уснул под неторопливое шарканье старинных дедовских часов.
А Зоя не спала. Не шевелясь, лежала она на своей постели, в сотый раз беззвучно шепча: "Осто, великий светлый боже, не оставь нас своими милостями! Убереги сына от дурных людей! Может, злые люди из зависти напустили на него порчу, вселили в его сердце горечь и злобу? Если так, то пусть наговоры эти упадут на них самих. Сделай так, великий боже!"
Крепко верила Зоя, что можжевеловые веточки уберегут ее дом и семью от злых духов. Не сбылись ее надежды: как раз в ночь, когда души умерших творят всякие пакости живым, в семье Кабышевых вспыхнула ссора. Видно, отыскали-таки нечистые щелочку, не побоялись колючих веток можжевельника…
3
С шумом схлынули весенние воды, выпали первые теплые дожди, люди посеяли семена. Несколько дней лежит зернышко в мягкой земле, точно ребенок, уснувший на коленях матери, а затем, напитавшись живительных соков, просыпается. Солнце-отец будит его, ласково щекоча усами-лучами, жаворонки в небе поют для него свои самые радостные песни, а ветерок, пролетая над ним, шепчет: "Вставай, золотко наше, вставай, мы ждем тебя!" И крошечный богатырь-зернышко; сладко потянувшись, окончательно пробуждается, с любопытством проклевывает зеленой головкой корочку земли: "Ах, как хорошо, сколько солнца, ветра, простора! А я чуть не проспал такую красоту!" Теперь он начинает расти не по дням, а по часам, тянется к отцу-солнцу, а земля, точно заботливая мать, питает и оберегает сына-богатыря: "Ну, расти, золотой, становись на ножки, а я поддержу тебя, не дам упасть". Наверное, потому люди издавна сравнивали землю с матерью и слова "родимая мать" и "родимая земля" всегда неразлучны…
Олексан ехал рядом с шофером в тесной кабине председательского "газика"; опустив боковое стекло, он вглядывался в знакомые поля. По разным приметам узнавал: вот это поле засеял Баширов Сабит, а соседнее — Мошков Андрей. А во-он там, около круглой ольховой рощицы, Самаров Очей прямо на ходу потерял плуг. Не заметив потери, он на тракторе объехал вокруг загона, а наткнувшись на свой плуг, страшно удивился: дескать, чей плуг оказался на моей борозде?.. Ну, тип, другого такого поискать! Идет — шаги считает, спит на ходу…
Снова некстати вспоминалась вчерашняя ссора с Глашей. Утром они и словом не перекинулись. Олексан поспешно проглотил завтрак всухомятку и выскочил на улицу: под окнами нетерпеливо засигналила машина. Провожать его Глаша не вышла… Олексан прямиком поехал к Сабиту, тот, узнав в чем дело, без лишних слов выложил на стол пачку старательно сложенных бумажек: "Ай, Аликсан, зачем много говорить! Валла, когда наш колхоз миллионером станет, тогда обязательно мотоцикл с коляской куплю, Дарью буду катать. А пока потерплю, на своих двоих побегаю!" — "А Дарья как… не станет ругать тебя?" — "Валла, Аликсан, совсем удивил! Она похвалит меня, скажет, молодец, что отдал деньги, а то могли потеряться!" Хороший парень Сабит… А вот Глаша не захотела понять его, Олексана. Почему? Ведь теперь она должна была быть самым близким ему человеком! Должна была… Порой они грызутся, точно два медведя, угодившие в одну берлогу. Кто из них виноват в этом? Черт разберется!
Олексан выругался вслух, затем опомнился и искоса глянул на шофера. Тот сидел, как припаянный, цепко ухватившись за баранку и не сводя глаз с дороги. А дорога на этом участке самая что ни на есть поганая: прошлой осенью ее основательно разбили тяжелые грузовые машины, на которых возили хлеб на элеватор. Шоссейная дорога, когда-то засыпанная мелко битым щебнем, пришла в такое состояние, что шоферы за один сезон "гробили" новые машины.
Председательским "газиком" правил молодой парень по прозвищу Васька Лешак. Прозвище пристало к нему, точно сосновая смола к штанам, но сам Вася на это обращал "нуль внимания". Был он остер на язык, любил "учудить", одним словом, был из тех шоферов, которых председатели колхозов охотно берут на свои разъездные "газики". Если случалось ехать порожняком, Вася охотно сажал в машину попутных пассажиров и рассказывал в пути всякие истории из своей богатой приключениями жизни.
— Эх, мать-телега, отец-колесо! Жизнь-жестянка… — начинал он вздыхать, зорко вглядываясь в дорогу и в то же время чувствуя затылком, что пассажир прислушивается к нему. — Верно говорят: у счастливого петух несется, у несчастливого курица поет!
— А что случилось? — участливо спрашивает живо заинтересовавшийся пассажир.
— Э-э, чужому горю не помочь… Кому как повезет, вот что я скажу! — продолжает "крутить мозги" Васька. И неожиданно делает крутой разворот: — Сгубила меня людская темнота и недопонятие! Мне бы теперь, по бабушкиному предсказанию, не меньше как в академиках ходить, а тут нате — крути баранку! А что, скажешь, не вышел бы из меня академик? Да ты не смотри на мою фигуру, там я отъелся бы, а насчет соображения я… Гляди, фуражечка на мне пятьдесят девятого размера, а председатель райисполкома покупает на размер меньше…
Вася делает многозначительную паузу, тяжко вздыхает и некоторое время молчит. Видя, что пассажир заинтересован его словами, продолжает с горькой усмешкой:
— Еще в начальной школе никто не мог тягаться со мной в учебе. Прямо на лету схватывал, учитель еще рта не раскрыл, а я уже руку поднимаю. Кто знает, сколько похвальных грамот мог я нахватать, а вот на тебе! — не получил ни одной… Уж если не повезет, то и об соломинку можно ножку вывихнуть, правильно старики отметили. Как сейчас помню: учился я в четвертом классе, и вот в один распрекрасный день голова у меня так разболелась, ну просто невозможно! А мать говорит: потерпи, вот солнышко сядет, и боль сама пройдет. Я кое-как перетерпел, только на другой день стало хуже того, спасу нет. Мать возьми да и поведи меня к знахарке, хотя в ту пору в деревне уже свой фельдшер имелся: далась ей знахарка-лекарка! Известное дело, старая женщина, какой с нее спрос… Знахарка покрутила, повертела меня и говорит: "У тебя, парень, мозги рассыпались, придется обратно в кучу собирать". Ну ладно… Принесла она из чулана сито, которым муку просеивают, и сует мне: возьми, дескать, в зубы да крепче держи. Вцепился я зубами в сито, а старая ведьма в это время надо мной разные колдовские слова нашептывает, потом размахнулась да ка-ак вдарит по ситу! Мать честная, не поверите, у меня из глаз не то что искорки, а целые головешки посыпались. Тут я без памяти на лавку повалился, мать развязала руки (та старуха, будь ей неладно, заранее скрутила меня полотенцем) и вынесла на руках. Еле отдышался на чистом воздухе… После того случая мозги у меня, видать, совершенно рассыпались… В школе учительница спрашивает: "Сколько будет трижды три?", а я против своего желания чепуху несу вроде: трижды три — нос утри… Кое-как закончил семь классов, похвальную грамоту, понятно, не дали. Вот тебе и академик!.. Сколько времени уже прошло, а голова моя так и не пришла в нормальное состояние. По временам в беспамятство впадаю! За рулем со мною такое не раз случалось, машину перевертывал, ни в чем не повинных пассажиров калечил, а самому хоть бы хны! Ну, это понятно: при любой аварии шофер остается невредимым, потому как в порядке самосохранения машину он опрокидывает на пассажиров… Эти самые припадки преследуют меня в определенные дни, я себе даже расписание составил. По этому самому расписанию выходит, что сегодня опять меня скрутит… Ох, только бы успеть добраться до дома, не Дай бог, начнется в пути, безвинный человек зазря пострадать может… А коли не доверяешь, могу показать натуральные документы.
Притормозив машину, Вася и впрямь лезет за пазуху, чтоб достать "натуральные документы", но еще ни разу не было охотников поглядеть на них. Обычно пассажир с побледневшим лицом просит остановить машину и пулей выскакивает на дорогу. Бывает, что перетрусивший пассажир забудет захватить свой чемодан, тогда Вася ласково напоминает: "Чемоданчик заберите, как бы не разбился…" Оставшись в машине один, Вася хохочет до слез. Нынешней весной, в самую распутицу, Вася на полдороге ссадил уполномоченного, в неподходящее время собравшегося в Акагурт. Тот двенадцать верст хлебал киселя по невыразимой грязи, до Акагурта добрался в совершенно жалком виде. Узнав же о том, какую шутку сыграл с ним Лешак, грозился подать в народный суд, но дело кончилось "без последствиев".
Этот самый Васька Лешак и сидел за рулем верткого "газика", невозмутимо посвистывая сквозь зубы. Половину дороги Васька каким-то образом утерпел проехать молча. Но когда с грохотом проехали по бревенчатому настилу недавно отстроенного моста, он мотнул головой назад и в сердцах сплюнул в окошечко:
— Видал, дорожники зачесались? Тут весной для нашего брата самая хана была. Загорать однажды пришлось целую ночь, хоть караул кричи! Ладно, к утру трактор зашумел поблизости. Я к трактористу: выручай, братец, мы с тобой одним мазутом мазаны. А он, черт, уперся и ни в какую: ему, видите ли, норму надо выполнять. Денег давал — не берет. Тогда я его с другого фланга: мне, говорю, на станцию надо побыстрее, из Москвы едут кинооператоры хронику нашей жизни снимать, и тебя на весь Советский Союз прославят, неужто славы не хочешь, чудак? Клюнул парень, враз вытащил мою машину, а на прощанье я ему все-таки втолковал, что дураков на пленку не снимают.
Олексан словно не слышал Лешака. Вася покосился на него, помолчал, но, выбравшись на ровную, наезженную колею, снова заговорил:
— А ведь я, Олексан, собираюсь бросать эту сладкую жизнь. Перейду на грузовичок. А на этой чертяке ездить хватит с меня, пусть другие наслаждаются!
— Что так? — вяло поинтересовался Олексан. — Председателя катать — нехитрое дело…
— Ой, не скажи! — живо отозвался Вася. — Хе, в чужой руке краюха толще… А вот ты сам попробуй! Мать последнее время заладила: за тебя с такой твоей работой никакая девка не пойдет. Ну, это, конечно, сугубо мой личный вопрос… Подумай сам, Олексан: поедешь с председателем, так и знай — или он кому-нибудь пол-литра поставит, или его угощают. И уж обязательно угощают шофера, то есть меня: мол, какой ты будешь водитель, если водочки не употребляешь. И вообще: как это — стоять у воды и не замочиться?.. Ну, я-то еще туда-сюда, а вот на председателя нашего Василия Иваныча немало дивлюсь: какой выдерживает такую нагрузку? На той неделе ездили мы с ним на межрайонную базу "Сельэлектро", привезли два генератора, видел, должно быть? А ты спросил, как они нам достались? То-то! Мыто с ним, как заехали на базу, сразу приметили: есть генераторы, шеренгой стоят! И ты думаешь, мы тут же выправили документы и, пожалуйста, получайте генераторы? Хе, не говори гоп!.. Пошли мы с председателем в контору, а там сидит важный начальник — будку отъел такую, что тронь пальцем — кровь струйкой брызнет. Насчет генераторов он сразу обрезал, дескать, они уже занаряжены для другого района. А Василий Иванович тоже не первый год замужем, подмигнул мне и говорит: а что, Вася, время к обеду, может, тут поблизости заскочим в столовую? А вы, товарищ завбазой, не составите нам компанию? Тот сначала для вида поломался, а потом согласился. Одним словом, Василий Иванович влил в ту начальственную бочку пол-литра водки да в придачу три кружки "Жигулевского" — и генераторы в кармане! Во как делаются дела, Олексан…
— Случается… А ты тоже пил с ними?
— А то как же! Я ж говорю, не отвертеться! Тот барыга один ни в какую не пьет, жмется, точно стыдливая девка, которая питый раз замуж собирается… Давайте, говорит, все выпьем за компанию. Я понял так, что, если и его возьмут за жабры, он вескую причину выставит, мол, выпивал я не один, меня за компанию приглашали. А если пристальнее посмотреть, так голый калым получается!.. Василий Иваныч аж зубами скрипит: я, говорит, превратился в настоящего купца старой закалки, езжу по конторам и базам, меняю да достаю шурум-бурум, а на колхозные дела времени не остается. Это верно… Трудно приходится председателям, не у каждого нервы и здоровье выдержат. Сам посуди: он, бедный, мотается туда-сюда, не от хорошей жизни у спекулянтов дефицитные детали покупает, а прокурор тянет его к ответу: "А поди сюда, Василий сын Иванович, да ответь мне, почему это ты за запчасти расплачиваешься наличными деньгами, а государственный банк стороной обходишь?" Одного не поймет прокурор, что спекулянт — он банки и всякие документы не уважает, ему гони звонкую монету!.. Знаешь, поди, что на сегодняшнее число в нашем колхозе три автомашины стоят разутые — нет авторезины. А где достать эту самую авторезину? С семью овчарками ищи — не найдешь! А у спекулянтов она имеется, только они нынче тоже избалованные: сначала ты их угости в ресторане, а потом они с тебя втридорога сдерут. Как говорится, сначала ты меня повози, а потом я на тебе поезжу!.. Не-ет, баста, хватит с меня, йодам председателю устное заявление о переводе на грузовой транспорт. Согласен навоз возить на кривом мерине, лишь бы отвязаться от этой таратайки!
Чтобы как-то поддержать разговор, Олексан невпопад спросил:
— А жениться ты еще не надумал?
— Э-э, браток, это другой табачок! Девичье сердце — не сундук, туда не заглянешь. Бывает, пока она девушка — ну, просто ангел, только крыльев не видать, а как расписались в загсе — моментально в сатану преобразуется! Нет никакого взаимопонимания! Моли бога, Олексан, что жена тебе хорошая досталась: грамотешку имеет, приличную деньгу получает и меж собой живете, как голубок с голубкой!
Олексан промолчал. Снова шевельнулась под сердцем вчерашняя обида. "Не понимаем мы с Глашей друг друга. Разные люди… А со стороны вон, оказывается, как рассуждают: жена ученая, большие деньги получа-от, живете и любви. Какая уж там любовь! Одно верно: чужая душа — не сундук, не посмотришь, что таится в ней. Не знаю, у кого как, а у нас в доме не привыкли показывать на людях, ни горести, ни радости. Сундук и есть…"
Ваське очень хотелось поговорить еще, но Олексан угрюмо молчал. "Тоже мне, корчит из себя начальство! — раздраженно подумал Васька. — Сидит, надулся, будто изо рта масло выльется… Про его отца тоже говорили: как возьмется молчать — кочедычком зубы не разожмешь. Известное дело, кабышевская порода…"
На базе они управились довольно скоро. Погрузив коленчатый вал в машину, отправились в привокзальную столовую обедать. Олексан заказал себе порцию суча и котлет, а Васька Лешак долго вертел в руках закатанное меню.
— Понимаешь, люблю культурно поесть! Василия Иваныча, сам знаешь, частенько в город вызывают на всякие бюро, совещания и прочее, а я — прямым ходом в ресторан. Председателя мылят, разносят, стружку снимают, а я тем временем тружусь над антрекотом или седлом по-наполеоновски. А что, прикажешь за Василия Иваныча голодовку объявлять? Где-то читал я, будто у какого-то народа или племени есть обычай: баба рожает в шалаше, а мужик тем временем в сторонке корчится, по земле катается и криком кричит. От этого будто бабе рожать легче!
Васька захохотал на весь зал, Олексану стало неловко за товарища: люди за столиками оглядываются на них.
— Ты потише…
— А что, неправда? Не-ет, пока Василий Иваныч на бюро мычит да телится, из жалости кататься в пыли мне не с руки. Мое дело маленькое: знай, крути баранку да посматривай, чтоб на ухабах начальство не трясло…
Олексан, не слушая Васиной болтовни, посматривал вокруг. На вокзале малолюдно, перрон совершенно пуст. Станция небольшая, поезда стоят неподолгу, а скорые и вовсе не останавливаются. Акагуртские старики еще помнят и охотно рассказывают, как в годы первой германской войны тянули "чугунную дорогу". А до этого по здешним местам простирались непроходимые леса; даже в песнях про эти леса пели, что через них ни реке не пробиться, ни ворону не перелететь. Зато медведям жилось вольготно. Нынче вокруг станции вырос большой поселок, дымит заводишко, поодаль высится громада элеватора. Поговаривают, будто в самое ближайшее время по этой линии пойдут электропоезда. Ничего удивительного!
Где-то близко дважды ударили в колокол, на перрон вышел мужчина в красной фуражке — дежурный по станции. Послышался мягкий, низкий гудок, и вскоре, заслонив окна, на путях остановился зеленый запыленный состав. "Владивосток — Москва", — прочитал Олексан. — Издалека прибыли. Сесть бы сейчас в этот вагон и уехать куда-нибудь далеко-далеко… Отец, когда ссорился с матерью, бывало, грозился: "Уеду от вас!" Да так никуда и не собрался за всю жизнь. Неужто и я так? К чему было спешить? Матери, видишь ли, не терпелось: женись да женись, лучше Глаши в округе девушку не выберешь. А жить-то с Глашей не ей, а мне!"
Справился с обедом Василий, тронул Олексана за рукав: "Пошли, что ли?.."
Лешак завел машину, но отъехать они не успели: в в последнюю секунду подскочил незнакомый военный с офицерскими погонами. Задыхаясь от бега, прерывисто, по-русски спросил:
— Ребята, одну минутку. Куда машина?
Васька покосился на его погоны: манор, танкист. Ну, в армии ему приходилось видеть и генералов. Неохотно ответил:
— До Акагурта, а дальше не идет.
— О, порядок в танковых частях! Одну минуту…
Майор скрылся в дверях вокзала. Вася вопросительно посмотрел на Олексана: возьмем пассажира? Тот кивнул:
— Ладно, посади, места хватит.
— Трешку с него, не меньше. Офицеры — они народ деньжастый…
Через минуту, держа на весу два огромных чемодана, подоспел майор. Вася кинулся помогать ему, заговорщицки подмигнул Кабышеву: мол, подоим божью коровку! Олексан хотел уступить пассажиру свое место, но тот решительно отказался и примостился на жестком боковом сиденье. "А, шут с тобой, — подумал Олексан, — после небось пожалеешь. У нас здесь дороги асфальтом не выложены, как тряханет да вдаришься головой, сразу матушку вспомнишь… Интересно, куда он едет? Должно быть, отпускник. А лицо вроде знакомое. Где я мог видеть его? Вон на левой щеке, возле уха — темная родинка, точь-в-точь чечевичка. Знакомая отметинка… Или просто показалось?" Но, сколько ни пытался припомнить, это ему так и не удалось.
Как только машина тронулась, майор извлек из кармана блестящий никелированный портсигар и протянул Олексану:
— Куришь? А друг твой? — Прикурив от одной спички, майор внимательно оглядел обоих спутников и неожиданно спросил по-удмуртски: — А вы, ребята… не акагуртские?
Вася чуть не выпустил из рук баранку, Олексан удивленно посмотрел на майора.
— Нн-у, да, из Акагурта мы…
Довольный, майор от души расхохотался:
— Во-во, значит, в точку попал! Вначале сомневался, потом гляжу — вроде бы земляки! Меня вы, конечно, не узнаете? Так ведь я тоже акагуртский, Харитон Кудрин. Еду вот домой, уволился в запас.
Теперь Олексан отчетливо вспомнил этого офицера. И как он раньше не признал его! Ну, конечно же, это он, Харитон Кудрин, лет семь, а то и восемь назад приезжал домой в отпуск, тогда в Акагурте только и было разговоров, что "у Марьи Кудриной сын приехал, большим начальником стал, прямо не узнать человека! Двенадцатый годик, считай, служит. Такой у Марьи сын вырос, а она, сердешная, мается тут одна-одинешенька. Матери-то каково! Вот и расти детей, жди от них добра, помощи, эхма…" В тот приезд Кудрин был в чине капитана-танкиста, пожил у матери с месяц и уехал обратно, с тех пор в Акагурт больше не приезжал. Олексан в то время был еще мальчишкой, тайком посматривал через щелочку в заборе на соседский двор: там, заложив руки в карманы армейских брюк, взад-вперед расхаживал высокого роста офицер, мурлыкал про себя нездешнюю песенку. Немало времени прошло с тех пор, поди-ка, узнай теперь Харитона Кудрина!
Васька Лешак приуныл: "Вот оно как обернулось! Плакали три рубля. Это называется хватануть шилом масла! Э-э, да черт с ним, на чужие деньги не шибко разживешься. Ладно, пусть по крайней мере знает, какие шофера водятся в Акагурте!
С этой мыслью Вася включил третью скорость, мотор отчаянно завизжал на предельных оборотах, и "газик" понесся, не разбирая кочек и выбоин. Майор пригнулся вперед и весело прокричал шоферу в ухо:
— По принципу "больше газа — меньше ям", так, что ли?
Переждав, когда машина выберется на ровным участок дороги, Кудрин принялся жадно расспрашивать своих спутников:
— Вы, ребята, чьи будете в Лкагурте? Как там у нас вообще? Жить можно? Сколько на трудодень выдают?
Когда Олексан сказал, что они приходятся соседями, Кудрин изумленно сдвинул фуражку на затылок.
— Вот так здорово! Выходит, ты сын дяди Макара? Не скажи сам, ни за что бы не признал! Ты смотри, а? Силен, сосед, силен! Механиком, говоришь, в колхозе? Важная должность, да-а… Ну, а как отец, мать?
— Мать жива, а отца четыре года назад схоронили. Деревом в лесу задавило…
— A-а… Жаль, отца твоего я помню хорошо: мальчонкой был, он мне иногда игрушки мастерил, медом угощал. У вас, помнится, пчел много держали, жалили они меня беспощадно.
— Пропали до единой… Мор напал на них, американским гнильцом называют…
Некоторое время ехали молча. Но вот впереди показались акагуртские поля. Кудрин как приник к окошечку, так до самой деревни и не отрывался. Узнавая родные места, он по-ребячьи радовался и без конца переспрашивал:
— А вот тот холм с тремя липами — это Бектыш? О-о, мы там на лыжах катались, бывало, как приспустишь, аж в ушах посвистывает! Что-то вроде пониже стала горка? Хотя ничего удивительного: люди растут, становятся выше, а горы остаются прежними… А вон еще холм, как его… Глейбамал, не ошибся? Молодежь вечерами собирается там? О, вот и Акагурт наш показался! Приветствую тебя! Помните, в школе вас, должно быть, тоже учили: "Вот моя деревня, вот мой дом родной…" Да-a, приехали…
Вася остановил машину перед домом Кудриных. И не успел Харитон Кудрин сойти с машины, как в ту же самую минуту ворота широко распахнулись, выбежала мать Харитона (видимо, она незадолго перед этим пришла с работы, даже не успела скинуть с плеч старенький мужнин пиджак), и негромко ахнув, прижалась к сыну и заплакала.
— Ну, мама, зачем ты так? Радоваться надо, а ты в слезы…
— Ой, сынок, прости меня, глупую. От радости это я… — Отерев концом передника мокрое от слез лицо, она улыбнулась сыну. — Да что же это мы стоим посреди улицы, пойдемте в избу!
Кудрин взялся за чемоданы, шагнул вслед за матерью, но, вспомнив о своих попутчиках, задержался в воротах:
— Вы, ребята, вечерком загляните к нам. Как говорится, перекурим это дело: посидим, поговорим. Обещаете?
— Приходите, приходите, гостям будем рады! — поддержала сына тетя Марья. — А ты, Олексан, мать пригласи с собой и Глашу обязательно. Такая у нас радость, как не прийти соседям! Не зря говорят — поделенная радость вдвойне слаще!
Олексан не стал заходить домой, вдвоем с Васькой Лешаком напрямую проехали к колхозным мастерским и выгрузили привезенные детали. Поставив машину, зашагали домой. Олексан в шутку спросил:
— А калым-то с майора упустили, а?
Васька неожиданно зло огрызнулся:
— Ты меня с самим собой не равняй, понял! Если тебе нужно, ты и спроси с него, а мне кусочничать ни к чему!
Олексан даже не успел ответить. Вася круто свернул в проулок и, гулко топая сапогами, зашагал к своему дому.
Вечером к Кудриным привалило пол-Акагурта, в двери не пробиться; пожилые степенно сидят по лавкам, а молодежь толпится в сенях, приподнимаясь на цыпочки, стараются поверх голов заглянуть в избу. Будь Кудрин просто солдатом или даже сержантом — народ не столь бы любопытствовал, а тут приковыляли даже старики: шутка ли дело, как-никак, майоры в Акагурт приезжают не каждый день! И старикам не терпелось поговорить с бывалым человеком, потолковать о том, что да как делается на белом свете, а заодно узнать, не собираются ли нападать на нас иностранные державы. Конечно, по радио передают всякие новости, да только куда интереснее поговорить с живым человеком!
Зоя идти к соседке наотрез отказалась. Глаша тоже было заупрямилась (не прошла обида на Олексана за вчерашнюю ссору), но Зоя сама чуть не силком заставила невестку собираться в гости:
— Пойди, пойди, милая, сходите с Олексаном, давно вместе не гуляли. На людей хоть посмотрите! Да и Марья после будет обижаться, дескать, знали и не пришли. Мало ли как наплетут… Надень, Глаша, свое свадебное платье, больно к лицу оно тебе, чисто картинка!
Глаша несмело взглянула на Олексана, тот хмуро мотнул головой: "Делай, как знаешь…" Минут через десять Глаша вышла из-за перегородки, смущаясь, встала посреди избы. На ней было шелковое, цвета золотой купальницы платье, шею в два ряда обвивало ожерелье, на ногах еще не надеванные черные лаковые туфли. И снова она вопросительно посмотрела на мужа: "Тебе нравится?" Олексан мельком оглядел ее, и хотя Глаша в этом наряде была очень хороша и у него даже сердце забилось при мысли, что она такая красивая, он ничего не сказал ей, лишь, кивнув головой, сухо бросил:
— Готова, что ль? Ну, пошли…
Притаившись за занавеской, Зоя в щелочку смотрела, как сын с невесткой проходят через двор. Когда за ними звякнула щеколда калитки, она с легким сердцем вздохнула: "Слава богу, кажется, поладили…"
У Кудриных Олексана с Глашей сразу же усадили за стол. Харитон поинтересовался: "А где Зоя-апай?" Олексан смутился, невнятно пробормотал, что "матери неможется, малость приболела", и, кивнув в сторону Глаши, добавил:
— А это… жена моя, Глаша…
Кудрин протянул Глаше руку, внимательно взглянул на нее и весело сказал:
— О-о, мы с вами теперь соседи? Очень рад! Олексан, тебе выговор: ехали всю дорогу в одной машине, и не сказал, что у тебя такая жена. Ай-яй-яй, нехорошо, сосед! Не зря сказано: старые старятся, молодые растут. Ты еще цеплялся за подол матери, когда я уезжал в армию, а теперь посмотри на него: настоящий мужчина, колхозный механик, к тому же и женатый!
Бойкая на язык Параска Михайлова, подмигнув женщинам, со смехом обратилась к нему:
— На людей указываешь, Харитон, а ты скажи нам, когда сам женишься? Смотри, седые волосы пойдут, девки любить перестанут!
Харитон взмахом руки откинул со лба прядь волос, отшутился:
— Холостяком жить легче, тетка Параска! Успеется с этим делом, не горит…
Параска гнула свою линию:
— Так ведь на свадьбе погулять охота! Чай, не обнесешь чаркой, а?
— Ого, вам пить, мне жить? Потерпите малость, дайте оглядеться. Жену завести — не лапти плести, верно?
Все, кто прислушивался к разговору, широко заулыбались: майор-то, оказывается, очень даже простой, обходительный и веселый человек и ничуть не гордец.
Олексан неприметно огляделся вокруг. Люди собрались все знакомые: тетка Параска, Орина, бригадир тракторной бригады Ушаков, однорукий Тимофей Куликов, сильно постаревший дед Петр Беляев со своей старухой… А вот сквозь толпу в дверях протискиваются Сабит с женой, Очей, за ними, бережно держа гармошку над головой, пробирается Андрей Мошков. В доме сразу стало теснее, голоса слились в сплошной гул.
— С приездом вас, Харитон Андреевич.
— Хорошо ль доехал?
К Кудрину тянулись со всех сторон крепкие, задубевшие в работе руки, он пожимал их и успевал всем сказать приветливое слово, благодарил и не переставал улыбаться:
— Спасибо, спасибо, хорошо доехал! И здоровье хорошее. Садитесь, друзья, найдите себе местечко. На тесноту не обижайтесь. Мама, гости что-то загрустили, чем бы их развеселить? Найдется что у тебя?
— Да как не найтись, сынок! Специально к твоему приезду берегла! — Тетя Марья торопливо прошла за перегородку и через минуту вернулась к столу с запотевшей четвертной бутылью, по самое горлышко наполненной прозрачной кумышкой[12]. Поставила на стол, вытерла руки передником. — Три года держала закопанной в земле, дождалась-таки!
— Берекет[13], тетя Марья! Пусть ваш дом будет полной чашей! Счастья вам! — несколько рук протянулось к хозяйке с кусочками ржаного хлеба, тетя Марья откусила от каждого.
Мужчины разом опорожнили свои стаканы. А женщины понемножечку пригубили свои чарочки, при этом искоса поглядывая на своих соседок: как бы ненароком не опередить остальных, иначе после пойдут пересуды, мол, бесстыжая, будто впервой в гостях! Вскоре в доме стало еще шумнее, голоса слились в сплошной пчелиный перегуд. Но вот сквозь шум снова прорвался звонкий Параскин голос:
— Слышь, Харитон, мы все рады твоему приезду, за маму твою радуемся! Сколько времени ты ее одну держал, а ведь нынче не война, чтобы женщинам одним хозяйство вести! И то хорошо, что насовсем приехал, только нас другое беспокоит: уедешь снова от своих односельчан в Акташ или куда в иное место. Ведь уедешь, а? Нынче вон все молодые выучиваются и направляют лапти в город, неохота им в деревне оставаться. Из земли выходят, по земле ходят, а после, как грамотнее станут, от земли носы воротят! Ежели по правде сказать, обидно нам за такое отношение. Разве в деревне нелюди живут?
Шум в доме приутих, все стали прислушиваться к Параске, одобрительно закивали: верно, верно, правильные слова! И когда Параска кончила, опять-таки все лица повернулись к Харитону, ожидая его ответа. Даже молодежь у дверей и та притихла: интересно, как вывернется приезжий командир-майор?
— Как тебе сказать, Параска-апай… Конечно, каждому хочется жить лучше, красивее — в городе ли, в деревне ли. Все хотят жить хорошо, и это правильно, — народ наш это заслужил. А что касается меня, пока ничего неизвестно: я старый солдат, привык уважать дисциплину, куда пошлют, туда и пойду работать. Вот так вот…
Тетка Марья снова наполнила стаканы, сама первая подняла чарку:
— О работе успеете поговорить, а сейчас надо веселиться! Сегодня мой праздник, дорогие гости, уважьте хозяйку!
Выпив до дна, она опрокинула чарку над головой: пусть все видят, что хозяйка выпила до капельки. Гости последовали ее примеру. Старый Петр Беляев на негнущихся ногах пробрался к Кудрину, сунул ему свою заскорузлую, цвета дубовой коры, руку, дребезжащим голосом проговорил:
— Это хорошо, сынок, что ты приехал… А наш Гирой… он тебе ровесником приходился… без вести пропал. Один он был у нас, и тот…
Старик слабо махнул рукой, из выцветших глаз выжались две светлые слезинки, покатились по изрезанным морщинами скулам и затерялись в бороде…
Харитон легонько ухватил старика за плечи и бережно усадил на лавку, накрытую цветастым домотканым ковром. Старик вскинул на Харитона бороду, погладил его по руке.
— Спасибо, сынок… Слушаю я ваш разговор и думаю про себя, по-стариковски: человек полжизни прожил среди других наций, а язык родной помнит. Может, среди своих служил, оттого и не позабыл, а?
Харитон улыбнулся:
— Где там среди своих, дед, за всю службу хоть бы одного удмурта встретил! Просто не пришлось. А насчет родного языка… я даже во сне по-нашему разговаривал. Правда, кое-какие слова забылись, но не беда, припомню! Ну, разве можно забыть материнский язык, на котором тебе в люльке песни пели!
Марья, видать, давно готовилась к такой встрече, вина припасла много, гостей угощать не скупилась. Вот уже в одном углу женщины затянули песню, вначале несмело, вразнобой, а потом голоса выправились, окрепли: "Чем в гору подниматься, лучше б вниз спускаться, чем с милым расставаться, лучше б повстречаться…" Андрей Мошков отчаянным рывком растянул меха своей кировской "хромки", выпорхнула на середину избы пара плясунов, и пошли греметь и топать…
Олексан почувствовал, что хмелеет. Искоса глянул на сидевшую рядом жену; та тоже сидела с разомлевшим лицом.
— Может, нам домой пора? — несмело спросила она. — Что-то голова разболелась, тошнит. Курят много, должно быть, оттого.
— Неудобно первыми уходить. Подождем, пока народ не пойдет.
— Тогда я немножечко постою в сенцах. Душно у них здесь. Нехорошо мне…
Глаша поднялась и незаметно для хозяев выбралась в сени; Олексан остался сидеть за столом, вполуха прислушиваясь к невнятному рассказу старика Беляева. Через минуту он совершенно забыл про Глашу.
Женщины заметно захмелели, перебивая и не слушая друг друга, старались вставить свое:
— …Попробуй-ка, сватья, моих шанежек. Только не обессудь, тесто не удалось…
— И-и, да что ты, сватья! Век бы ела…
— Ткали, пряли, всю семью домотканым одевали, а нынче поди найти домотканину. Не шелк, так ситец…
— Не говори, кума! Глянь, и у самой платье прямо на загляденье!..
Харитон Кудрин на минутку сходил в чуланчик, вернулся с большим расчехленным чемоданом.
— Мама, иди сюда. Это тебе!
Развернув большой хрустящий целлофановый сверток, Марья растроганно прижалась щекой к рукаву сыновнего кителя:
— Ой, сынок, спасибо, родной!
Женщины принялись нарасхват ощупывать дорогие подарки — мягкую, почти невесомую белую шаль и новенькие, остро пахнущие кожей и лаком туфли. Кто-то завистливо пошутил:
— Осто, теперь нашу Марью не узнать будет! Смотри, молодые парни начнут заглядываться!
Вспомнив о чем-то, Марья ахнула, всплеснув руками, кинулась к двери. Вскоре она вернулась, ведя за руку смущенно упирающуюся квартирантку.
— Экая я дура, на радостях совсем забыла про свою Галюшу! Сидит, бедная, одна-одинешенька… Харитон, гляди-ка, пока тебя не было, какую я себе дочку сыскала! Господи, да она мне теперь все одно что своя, родная. Чай, не знакомы еще?
— Уже познакомились, мама…
Харитону отчего-то стало неловко. Он заметил, что и девушка тоже очень смущена. Из писем матери он знал, что дома у них уже третий год квартирует колхозный агроном, "умная, старательная и очень самостоятельная", и что мать души в ней не чает. Читая письма матери, он радовался про себя: очень хорошо, пусть живет, вдвоем с ней матери не так тоскливо.
Сегодня днем, бреясь перед большим, пожелтевшим зеркалом, Харитон мельком заметил, как через двор быстро прошла незнакомая девушка, и недовольно поморщился: "Ну вот, не успел отряхнуться с дороги — идут с визитами доброй воли…" Девушка легко взбежала по крутым, покосившимся ступенькам крыльца, открыв дверь, с порога поздоровалась: "Здравствуйте, Харитон Андреевич! С приездом! А ваша мама прямо заждалась вас". Она быстро скинула с себя жакетик, сунулась за печку к умывальнику. "Вот оно что — это и есть мамина квартирантка! Как ее зовут — Валя или Галя?" Девушка тем временем умылась и ушла в чулан, видно, она перебралась туда на лето. И теперь, встретившись с ней лицом к лицу, да еще в окружении множества любопытствующих глаз, Харитон отчего-то растерялся. Кое-как поборов неловкость, Харитон шутливо отозвался на слова матери:
— A-а, вот как… я и не подозревал, мама, что у меня имеется такая… "сестренка"! Ну что ж, в таком случае у "брата" найдется кое-что и для нее!
Порывшись в чемодане, Харитон, точно фокусник, вытянул легкую, похожую на радужную пену косынку с крупными и яркими цветами. Подойдя к Гале, он набросил косынку на ее плечи.
— Ой, да что вы… зачем… ой, спасибо! — пробормотала она и, круто повернувшись на каблуках, растолкав окруживших женщин, выбежала из комнаты.
Мало-помалу гости стали расходиться. Прежде чем уйти, каждый подходил к Харитону, долго пожимал ему руку и приглашал на перепечи[14] с мясом. Захмелев с двух рюмок, старик Беляев прикорнул за столом. Олексан оглянулся: "Где же Глаша?" Наскоро попрощавшись с хозяевами, он прошел в темные сени, несколько раз позвал: "Глаша! Глаша… Ушла, не дождалась. Ну, погоди…"
Зоя не спала, услышала, как сердито стукнула калитка, заскрипели ступеньки под тяжелыми шагами сына, затем в сенях загремело и покатилось порожнее ведро.
— Олексан, ты? — хриплым голосом позвала она. — Потише не можешь, что ли? Глаша спит…
Олексан не ответил. Не зажигая огня, скинул с себя пиджак, стянул сапоги, молча улегся. Глаша зашевелилась, молча отодвинулась к стене; тогда Олексан, пытаясь приласкать ее, потянулся, чтоб обнять, и, словно обжегшись, отдернул руку: лицо Глаши было мокрым от слез.
— Глаша, что с тобой? Слышишь, Глаш?.. Ты не обижайся на меня, задержался у Кудрина. Ну, виноват я, виноват перед тобой! Перестань, Глаша…
Глаша совсем по-детски, со всхлипом вздохнула, повернулась к Олексану и с болью в голосе заговорила прерывистым шепотом:
— Ой, зачем ты меня мучаешь, Олексан… в такое время! Мне сейчас так страшно, я так боюсь, а ты, ты… оставляешь меня одну… Если бы ты знал, как мне тяжело…
— О чем ты, Глаша? Что-то не пойму тебя.
Она снова судорожно, сотрясаясь всем телом, несколько раз всхлипнула, отыскав в темноте руку мужа, ладонью приложила к своему животу.
— Вот здесь. Не убирай руку, он уже… шевелится…
Вначале Олексан не понял, чего хочет от него Глаша, но в следующую секунду догадка, словно током, пронзила всего его, на минуту он задохнулся от нахлынувших чувств.
— Глаша… это правда?
— Вот, слушай сам…
Олексан и в самом деле почувствовал слабый, еле ощутимый толчок под рукой. Вот еще раз, еще… Жаркая волна каких-то новых, до сих пор не изведанных чувств охватила его. В какой-то миг Глаша стала для него самым дорогим и близким существом на свете; теперь он даже опасался слишком сильно обнять ее, причинить малейшую боль: ведь теперь он мог сделать больно и ему. Он все еще не мог свыкнуться с такой большой, новой мыслью: всего лишь несколько минут назад они были с Глашей вдвоем, и вдруг так неожиданно между ними появился третий. Да-да, он уже есть, он уже живет одной с ними жизнью, пусть его пока не видно, не слышно, но он уже властно дает о себе знать: скоро, очень скоро я приду к вам!
Переполненный радостью, Олексан тотчас же хотел разбудить мать: пусть она порадуется вместе с ними! — но Глаша удержала его:
— Ты совсем сдурел, Олексан! Будет время, узнает и она, а может, уже догадывается — ведь женщины очень скоро замечают такие вещи… От них не скроешь.
— Но почему, Глаша, ты не сказала об этом раньше?
Глаша совсем успокоилась, слезы у нее высохли.
Чуть жалобно, с легким упреком она объяснила:
— Боялась я, Олексан… Последнее время ты и без того ссорился со мной, а если бы я сказала тебе об я ом, то и вовсе не захотел бы со мной разговаривать… Я слышала, что мужчины не любят женщин… в таком положении.
— Глупенькая ты, Глаша! Какое же у тебя сердце: молчать о таком! Знаешь, сейчас ты рассказала, и я… мне стало как-то… Нет, просто не знаю, как сказать тебе. Подумать только — у нас будет сын!
— А вдруг — девочка?
— Все равно, Глаша, сын или дочь, мне будет дорог наш малыш! Ну, Глаша, ты у меня просто молодец!
Всю вину за прошлые ссоры и неурядицы он взял на себя. Да, он виноват и во вчерашней ссоре, теперь ему стыдно за свою глупость; да, он говорил Глаше тяжелые, обидные слова, пусть она простит его за все, все. И как он тогда не догадался, что Глаша готовит приданое будущему ребенку! А он, Олексан, в ярости швырнул это приданое себе под ноги!
Под несвязный и горячий шепот Олексана Глаша незаметно уснула. Голова ее лежала на руке мужа, ему было неудобно, но он не убирал руку. Глаша дышала ровно и глубоко, а в это время где-то в утробе ее жил и двигался маленький человек — тот, который будет носить его, Олексана, фамилию и продолжит род Кабышевых.
В соседнем доме — у Кудриных далеко за полночь слышались голоса: должно быть, тетя Марья с сыном встречали и провожали запоздалых гостей.
А Олексан лежал и думал, что вот в эту ночь в их дом вошел еще незнакомый, но такой желанный человек. Никто пока не знал и не видел его в лицо, но ему были рады, он уже жил среди них!
4
В конце мая с веселым громом прошумели теплые ливни, и буйно зазеленели, зацвели сады в Акагурте. Здесь любят сажать деревья вокруг своих жилищ: одни увлекаются яблонями, вишней, черемухой, а другой возьмет и обсадит свою усадьбу березками, молодыми липами да тополями: что ни говори, а живое дерево — оно красит улицу, есть на чем отдохнуть глазу. В середине лета, когда на тополях распускаются сережки, можно подумать, что над деревней бушует снежная пурга: крутится, пляшет на ветру бесчисленное множество белых пушинок, возле домов, в придорожных канавах лежат легкие ватные сугробики, стоит дунуть малейшему ветерку, как эти сугробы взлетают ввысь, а с тополей срываются все новые тысячи и тысячи невесомых пушинок-снежинок. Играет на акагуртских улицах безмолвная метель — цветут тополя!
Выждав свой срок, белой камской пеной расцветают черемухи, и по вечерам на холме Глейбамал, где бывают игрища молодежи, девушки чуть грустно поют:
Отцветает белый цвет, по ветру разносится. Скоро-скоро на ветвях ягодки покажутся…А вот уже повсюду — и в садах, и на лугах, сменяя друг друга, начинаю? цвести и другие деревья, кусты, травы. Даже малая былинка-травинка спешит оставить после себя на земле зернышко или семечко, чтоб на следующий год проросла из земли точно такая же былинка-травинка. И так из года в год, из года в год…
Акагуртскому председателю в этом году, пожалуй, было не до всеобщего цветения. Весной, в самую пору дружного таяния снега, на фермах кончились корма. Василий Иванович день-деньской разъезжал по соседним колхозам, выпрашивал взаймы то воз соломы, то машину-другую фуража. Но уж коли своего нет, чужим сыт не будешь. Председателя вначале за глаза, а потом и не таясь стали поругивать: мол, к чему было сдавать государству столько хлеба, — если заранее было известно, что сами останемся без фуража? Осенью в газетах расписывали, уж и не знали, как хвалить-нахваливать, что акагуртский колхоз по сдаче хлеба идет первым в районе-, берите пример с него! А толку что? Вот и вышло, что одной рукой сдавали, а другой подаяния просили! Кому нужна такая слава?
Председатель вначале пробовал оправдываться, дескать, он тут ни при чем, районное начальство скопом навалилось: сдавай хлеб, и баста, там видно будет! Но на фермах от этого кормов не прибавилось, председателя продолжали ругать, и он махнул рукой. Если раньше ему случалось выпивать по нужде или по случаю, то те-перь не проходило дня, чтобы был без "друзей в голове". А уж там известное дело: первую чарку человек выпивает сам, а вторая сама пьет его… Акагуртцы невесело шутили: "Наш председатель с вечера Пьян Иваныч, а с утра Похмель Иваныч…"
Дела в колхозе шли все хуже да хуже. Но в этом вина была не только Василия Ивановича. К тому моменту, когда его избрали председателем, акагуртский колхоз был небольшой, всего две бригады. Прошел год, и люди с облегчением вздохнули: кажется, на этот раз председателя выбрали удачно. На трудодень получили по полтора килограмма хлеба и по три рубля денег. На следующий год прикидывали выдать по полтиннику на трудодень. Колхоз до войны ходил в передовых, но в годы войны сильно захирел, и вот спустя немало лет про акагуртцев вновь стали писать в газетах, на каждом районном совещании поминали добрым словом. И кто знает, как бы оно пошло дальше, но в один прекрасный день вызвали Василия Ивановича в район. Приняли ласково, не забыли справиться о здоровье, а потом ошарашили: "Будем укрупнять ваш колхоз, Василий Иванович! Довольно вам жить пан-баронами, возьмите, а точнее, примите к вашему столу соседей! Укрупняйтесь!" — "С кем?" — "Примите в свою семью Бигру, Красный Яр, Ласточкино, Дроздовку, Поршур…" — "А не слишком ли много?" — осторожно спросил Василий Иванович, хватаясь за сердце. "Нет, в самый раз! — отрезало начальство. — Мы тут прикинули и решили именно в таком разрезе. Без всяких проволочек проведите общее собрание и проверните этот вопрос, но предупреждаем, чтоб все было в полном порядке, без этих самых… излишних дискуссий!" Василий Иванович заикнулся было о том, что чрезмерное укрупнение лишь повредит делу, но его сурово оборвали: "Ты что же, не признаешь указаний из центра? Раз сказано — укрупняйтесь, так оно и должно быть! Рассуждать и разводить антимонию мы вам не позволим, ясно?" Василий, Иванович понял, что, действительно, "разводить антимонию" с начальством бесполезно, должно быть, им сверху виднее, а если начнешь противиться… Нет, тут одним строгачом не обойдется.
Спустя несколько дней после этого разговора в районе появился укрупненный колхоз "Заря", куда влились семь колхозов. В четырех из них дела шли неплохо, могли бы потягаться с акагуртским колхозом, а вот остальные три в районных сводках прочно сидели в последней пятерке. Замыкал же эту пятерку бигринский колхоз.
От Акагурта до Бигры рукой подать, километра четыре, не больше. Деревня большая, дворов двести, вольготно расположилась она возле леса, на отшибе от большой проезжей дороги. За бигринцами издавна укрепилась слава отчаянных "торгашей". В районном центре каждое воскресенье собирается шумный базар, половина людей в нем — бигринские. И чем только не ухитряются они торговать: весной тащат на базар грабли, кадушки, топорища, летом бойко торгуют медом, калиной-малиной, яйцами, а осенью от базарной площади за версту слышен аромат бигринских яблок, на возах грудится всевозможная огородная благодать. Зимой, казалось бы, самое время отдохнуть бигринским "купцам" от трудов, да где там: тащат на рынок деревянные лопаты, березовые веники, масло, тот же мед, ребячьи саночки, отделанные под всамделишные кошевки… Приезжий человек при виде всего этого, конечно, умиляется: "Гляди-ка, живут люди! Должно быть, колхоз ваш богатый?" В ответ бигринцы прячут в бороды ехидные улыбочки: "Живем, слава богу, потихонечку да помаленечку. А колхоз что, колхоз тоже, кхм, само собой… Ничево-о…" Бигринцев хлебом не корми, только дай поторговать, допусти до базара, уж там-то они своего не упустят! Своего товара нет — походит, полюбуется, как другие торгуют, и тем доволен! На всякое рукодельное ремесло способны бигринцы, да вот беда: коснись дело до колхозной, общественной нужды — каждый норовит за спину соседа задвинуться. Сгори целый свет, лишь бы он был согрет! А повелось это баловство не сегодня и не вчера: еще деды и прадеды нынешних бигринцев научились промышлять кто чем может. Кормил, поил и одевал бигринцев издавна лес. До революции здешними лесами владел миллионер Ушков, сам он в своей вотчине показывался раз в три года, а то и того реже, зато лесничие верой и правдой служили своему хозяину, зорко берегли лесное добро. Земли в этих местах неважные, посеешь рожь, а из земли прет хвощ; нужда-то и научила бигринцев кормиться за счет леса. По ночам валили деревья, тайком вывозили, обделывали, все шло в работу, от корья до последнего сучка. В каждом хозяйстве своя мастерская: в одном выделывают лопаты да грабли, в другом гнут полозья, дуги, коромысла, в третьем бондарничают…
Везут все это на продажу, а поди узнай на базаре, как и откуда оно взялось! После революции бигринцы и вовсе прибрали лес к своим рукам: "Хо, теперь сами хозяева, руби, мужики, на наш век хватит, а не хватит, так останется!" Лес давал им и дрова, и деловой материал, и сено для скотинки. А коли корм даровой, отчего же не держать скотину? Если во дворе у мужика меньше десяти овечек, кто же виноват в этом? Выходит, сам хозяин нерастороплив, лень ему привезти лишний воз дарового сена… Через скотину многие бигринцы переключились на новое ремесло: выделывали шубную овчину, катали валенки. И уж совсем в редкость было хозяйство, в котором не держали бы пчел: в лесу липы пропасть, взятка богатая, с каждого улья выкачивали по три-четыре пуда душистого липового меда. Словом, как-то незаметно бигринцы отошли от землепашества: дело это ненадежное, урожай то ли будет, то ли нет, а лес — он не подведет, завсегда прокормит. Кое-как, с грехом пополам поковыряют свои поля, хуже того посеют, а после притворно плачутся: "Шабаш, ничего у нас не получается… Земля наша, видите ли, никудышная, одна маяча с ней…"
К моменту укрупнения бигринский колхоз должен был выплатить государству триста тысяч рублей всевозможных долгов и ссуд, и потому "купцы" очень даже охотно изъявили желание породниться с богатым акагуртским колхозом: мол, вы, братцы, помолотите, а мы поедим! Укрупненному колхозу пришлось расплатиться с долгами прежних маломощных артелей, и в конце года акагуртцы вместо рубля получили на трудодень по 30 копеек: сыпь всем поровну, чего там разбираться, не стоит старое ворошить, нынче все равны! Зато бигринцы были как нельзя довольны таким оборотом дела: раньше, бывало, что ни собрание, что ни совещание в районе — честили бигринский колхоз по всем статьям, — только и слышно было: "Бигра" да "Бигра", а нынче прямо на них пальцем не указывают, ругают колхоз "Заря"…
Вот тогда-то и обнаружил Василий Иванович, председатель укрупненного колхоза, что вино очень даже способствует забвению всяческих неурядиц и даже помогает обретать некое душевное равновесие.
Посмотреть со стороны — человек вроде бы старается, хлопочет о колхозных делах, на собраниях выступает, народ призывает трудиться не покладая рук, а в, глазах застыла тоска и полное равнодушие. Какая-то очень важная гайка ослабла в человеке, пропал всякий интерес к работе, и уже не радовали его успехи, не печалили просчеты. Случается, стоит в лесу дерево, одно слово — красавец, богатырь среди других, а подойдет к нему человек, постучит обухом по стволу и уходит прочь. На другой день глянь — лежит красавец на земле: хоть и не было бури, а его выворотило с корнями. Оказывается, одна видимость была богатырская, а сердцевина давно трухлявая…
В райкоме уже лежало несколько заявлений от Василия Ивановича: просил освободить от председательства по состоянию здоровья. Но в райкоме не спешили: всем было ясно, что Василию Ивановичу не по плечу укрупненный колхоз, но кем, скажите, пожалуйста, кем заменить его? Шутка сказать: рекомендовать колхозникам тринадцатого после войны председателя!
Дела же тем временем шли все хуже и хуже. В райотделении Госбанка текущий счет "Зари" закрыли, в ссудах — краткосрочных, долгосрочных и прочих — отказывают. Колхозный бухгалтер каждый день обивал пороги банка, но управляющий был неумолим, не поднимая головы, сердито бросал: "Ага, понимаю, деньги позарез нужны. Так за чем же остановка? Продавайте, реализуйте свою продукцию, вот вам и деньги! Ах, продукции не имеете? А уж это не наша печаль, дорогой!"
Конечно, управляющий был тысячу раз прав: для того чтобы на счету "зашевелилась копенка", надо было продавать государству мясо, молоко. Но управляющий не знал одной простой вещи, а именно того, что из-за нехватки кормов в колхозе "Заря" чуть ли не каждый день недосчитывалось по нескольку голов овец, свиней, телок. Их бы, как говорил управляющий, реализовать, но какой дурак развяжет свой кошелек, глядя на эти живые скелетины? Внутри пустой колхозной кассы проворные мохнатые паучки беспрепятственно развешивали свои тенета.
Больше недели Харитон Кудрин отдыхал. Неспешным шагом прохаживался по знакомым с детства тропкам по-над речкой, огибал дальние поля, подолгу засиживался в колхозной конторе, смоля вместе с мужиками терпкую моршанскую махорку.
Однажды в конторе к нему подсел Тимофей Куликов, по прозвищу Однорукий Тима. Доставая из Кудринского портсигара папиросу, он испытующе посмотрел на него, в невеселой улыбке скривил рот:
— Должно быть, диву даешься, глядя на нашу жизнь, Харитон Андреич?
— А чему удивляться?
Однорукий неопределенно мотнул головой, указывая в окно.
— Сам видишь, как у нас… Хвастаться пока нечем. Дисциплина прахом пошла: один работает, трое со стороны посматривают. Только и есть, что одни бабы на фермах работают, да еще трактористы. Целиком и полностью на машины положились: авось машина попашет, машина посеет, машина урожай соберет. А что машина? Она и будет работать, только успевай горючим заправлять! Без души она, машина-то… А земля требует к себе живого человека, чтоб с душой к ней относился.
Мужики, сидевшие в конторе, согласно закивали головами, трубки и самокрутки усиленно зачадили.
— Верно говоришь, Тимофей, недогляд у нас к земле.
— Все просим есть, а до нее, матушки, никому вроде и дела нет!
— Избаловался народ, вот что я скажу!
Тракторист Сабит Башаров, случившийся тут же, разгоряченно замахал руками:
— Валла, дядя Тимофей, зачем свои грехи на машину сваливать? Машина — она умная, только надо с головой ее направлять. И землю обязательно надо направлять, лечить ее надо! Вот ты, дорогой бабай, — Сабит пальцем ткнул в бородатого старика, невозмутимо посапывающего самодельной трубкой, — когда у тебя шибко живот болит, куда идешь? На медпункт, к фельдшеру бежишь! Земля тоже больна, очень больна, только словами сказать не может: "Дорогой бабай, пожалуйста, вылечи меня, привези много-много навоза, удобрений, сам будешь после доволен, спасибо скажешь!" Женщина долго не рожает — врачи ее лечат, на курорты направляют, а земля долго не рожает — никому она не нужна! Валла, может, неправильно сказал?
После таких разговоров Кудрин возвращался домой невеселый. Марья прилагала все свое умение и старание, чтоб приготовить сыну вкусный обед, а Харитон нехотя хлебнет ложку-другую, потычет вилкой в сковородку и вылезает из-за стола. Наконец, Марья не выдержала, с упреком сказала:
— Видно, отвык ты, сынок, от моих кушаний… Уж не обессудь ты меня, стряпаю, как могу.
— Ну что ты, мать! Ты всегда очень вкусно готовишь, только у меня что-то… аппетит нынче пропал. Должно быть, от безделья!
Отшутился, ласково обнял мать одной рукой и вышел. Глядя вслед сыну, Марья с тревогой вздохнула: "Видно, заботы у него какие-то. Молчит… Хоть бы матери сказал, чем так мучаться".
Как-то вечером Харитон допоздна засиделся во дворе. Солнце опустилось за Глейбамал, в воздухе посвежело, чуть заметный ветерок разносил тревожащий душу аромат черемухи: в соседнем саду, у Кабышевых, с кустов черемухи неслышно опадают последние белые лепесточки; несколько молодых ветвей, словно вихры любопытных ребятишек, просунулись через забор во двор к Кудриным. Деревьям все равно, в добром мире или давней ссоре живут соседи.
Такие тихие, напоенные ароматом отцветающей черемухи вечера воскрешают в памяти самые неожиданные воспоминания. Может, происходит это потому, что запах черемухи всегда и для всех одинаков. Деды любили вдыхать этот чудесный запах, через сто лет он останется точно таким же, и внуки будут дарить своим девушкам букеты черемухи.
Точно так же пьяняще цвели черемухи в Акагурте семнадцать лет назад, когда Харитона Кудрина призвали в армию. Вот ведь, надо же случиться такому: домой он вернулся тоже через семнадцать лет. Отца Харитона, Андрея Кудрина, колхозного бригадира, мобилизовали на втором месяце войны. А через год пришел черед сыну. Уже на фронте догнало его написанное чужой рукой и омытое слезами матери письмо: отца убили в Смоленской области, под городом с ласковым названием Ельня. В тот день Харитон раздавил гусеницами своего танка с десяток фашистов, — справил по отцу горькие "поминки", — и повзрослел на десять лет. Три года провоевал Кудрин, дважды подолгу валялся в госпиталях, штурмовал Кенигсберг. Потом наступил День Победы. Кудрина направили учиться, а затем капитан Кудрин сам учил молодых солдат водить стальные танки. Он любил свое подразделение, и оно стало для него родным. Но дом есть дом, и он незримо живет в сердце каждого, и сколько бы ни колесил человек по свету, он возвращается к родному дому. Вот и Харитон Кудрин, теперь уже майор, подал рапорт начальству, написав, что мать у него в деревне совершенно одна, и поэтому просит он уволить его в запас. Просьбу удовлетворили, устроили хорошие проводы: майора Кудрина в части любили. И вот теперь дома…
"А мать все-таки молодцом держалась, — подумал Харитон, — не сломило ее горе, устояла на ногах! Хозяйство у нее хоть и небольшое, но попробуй, управься с ним без мужских рук! Да, война по-разному обошлась с акагуртцами: из одного дома она вырвала всех мужчин, а в другой почему-то вовсе не заглядывала. Вот, к примеру, взять прежнего председателя колхоза Григория Нянькина: он даже винтовку в руки не брал, сидел где-то по брони, и пока другие были на фронте, за тыщи верст от дома, он успел отгрохать пятистенный домище под железной крышей. Жил да поживал, точно таракан в запечной щели… Или взять соседа Кудриных — Макара Кабышева: этот тоже на фронт не попал, спасла его давняя грыжа. А от своего не ушел: уж на что был осторожный мужик, но вот, говорят, в лесу деревом убило. Другой хозяин у них подрос — Олексан. Интересно, что он за человек? На вид вроде толковый, самостоятельный. Уже успел обзавестись семьей. А вот у него, Харитона, кроме матери, никого на свете родных… Хм, вчера она будто невзначай заметила, что ждала сына не одного. Ничего не поделаешь, мать, так получилось, что не повстречалась мне девушка по сердцу. Другие уезжают в армию — невесты по ним плачут, а у меня ее не было: какая может быть невеста у парня в семнадцать лет? Но все равно, акагуртские девушки — невесты других парней, — провожали меня тогда, семнадцать лет назад, грустной песней:
Прощаясь с отцом у родного порога, Я хотел бы быть золотой монетой, Чтоб закатиться в щель и остаться… У ворот на прощанье обнимая мать, Я хотел бы быть шелковым платком, Чтоб зацепиться и остаться…Пели девушки, провожая Харитона, а на уме, должно быть, были свои женихи: они уехали раньше. Уехали, и многие не вернулись. А какие были здоровые, крепкие парни! Не закатились в щель золотой монетой, не зацепились за ворота шелковым платком — сложили головы, чтоб жить другим…
Неслышно подкрались сумерки. Стало совсем прохладно: видно, верная эта стариковская примета — когда цветет черемуха, жди холода. А еще говорят: "Дуб силу пробует", потому что как раз в это время на дубах развертываются первые листочки. Харитон зябко поежился, притушил папиросу, и не успел подняться, как звонко звякнула щеколда, с улицы быстро вошла Галя. Завидев Харитона, она негромко поздоровалась: "Здравствуйте, Харитон Андреич", и заторопилась к крыльцу.
— Добрый вечер, Галя… Галина Степановна! Куда это вы так разбежались? Подышите свежим воздухом, в доме сейчас душно, мать печку сильно натопила.
— A-а, так ведь она… для вас… Вот и топит печь летом.
— Вот как! Значит, пока меня не было, вы обходились без печи?
— Ну, тогда было другое дело. Раз затопим и на неделю нажарим, наварны всего. Тетя Марья точно птичка — того-сего поклевала, и сыта. А я…
— А вы для сохранения фигуры сидите на голодной диете?
Оба засмеялись. Смущение у Гали прошло, но она все еще продолжала стоять на ступеньке. Со дня приезда Харитона они впервые разговаривали без посторонних.
— Галина Степановна, вы, наверное, устали, отдохните. Присядьте вот сюда, только осторожнее, тут смола, платье попортите.
Галя спустилась с крыльца, приблизилась к Харитону, опустилась на краешек сосновой чурки.
— Ой, сколько вы курили! И что хорошего находят мужчины в этом табаке? Иной раз в конторе так накурят, хоть топор вешай. Я ругаюсь, они для вида бросают свои цигарки, а чуть отвернешься — снова чадят напропалую… Ой, а воздух сегодня какой! Черемуха отцветает, как жаль… Пожалуйста, хоть сейчас не курите, выбросьте эту отраву!
Харитон затоптал окурок.
— Это приказ? Учтите, я майор запаса! А вы, я вижу, привыкли командовать?
Галя нахмурилась, опустила голову, упавшим голосом проговорила:
— У нас не армия, приказом ничего не сделаешь… Скажешь по-хорошему — не слушаются, а начнешь кричать — и того хуже. Вы, наверное, сами убедились, как обстоят дела в колхозе…
Пытаясь поймать взгляд девушки, Харитон спросил:
— Трудно работать?
Галя подняла голову, взгляды их, наконец, встретились.
— Очень, — просто призналась она. И со вздохом повторила. — Очень трудно, Харитон Андреич. Иногда я спрашиваю себя: зачем я здесь, чего жду?
Она видела, что Кудрин внимательно и сочувственно слушает ее. Ей давно хотелось, чтобы кто-нибудь вот так понимающе выслушал ее. В Кудрине что-то располагало к откровенности.
— Вы знаете, когда я приехала сюда, мне хотелось видеть в людях только хорошее. Может быть, в жизни так и нужно: не замечать мелких изъянов в людях… Не знаю. Приехала прямо после института, заранее прикидывала: вот начну работать, буду учить колхозников современной культуре земледелия, как на заводе инженеры помогают рабочим осваивать новую технологию. Сейчас вспоминаю об этом, и самой немножко смешно: какая же я была наивная! Знаете, у меня все было в ажуре, в мыслях, конечно: два-три года наладим правильный севооборот, поля удобрим по всем правилам агротехники, в срок будем сеять, в срок убирать. Ничего не получилось, план севооборота нарушили в первую же весну: пустили рожь по ржи, пшеницу по пшенице… Знаете, как у нас бывает на севе: наедут из райкома уполномоченные, стучат по столу кулаками: "В этом году вам надлежит посеять пятьсот гектаров ржи, а почему вы, позвольте спросить, наметили всего триста? Местничеством занимаетесь, против районного плана выступаете? Извольте сеять пятьсот гектаров ржи!" И такая история повторяется каждый год… Большинство председателей не обращает на нас, агрономов, никакого внимания, а заставить их придерживаться требований агротехники — у нас на это нет никаких прав, кроме просьб, уговоров и слез… Я часто сравниваю положение агронома с положением врача: в больнице слово врача для всех фельдшеров и сестер — это закон, все беспрекословно подчиняются ему, а у нас что! Никак не хотят понять, что агроном в колхозе — тот же врач, только он приставлен к земле. Обидно, Харитон Андреич, очень даже обидно! День ходишь, второй, упрашиваешь, умоляешь, а потом, бывает, махнешь на все рукой: "Что же это я, вроде нищей, хожу да вымаливаю? Разве мне одной нужно все это?.." Сегодня была в Бигре — кукуруза у них сплошь сорняками заросла, лебеды больше, чем кукурузы. Зашла к бригадиру — спит пьяный, помощник еле на ногах стоит, трактористы из дома в дом ходят, пируют. Спрашиваю, что у вас за праздник, а они смеются: у кого-то ребенок родился, зубок справляют…
Галя замолчала. В эту минуту она показалась Харитону маленькой, обиженной девчонкой, которая расставила на дороге своих глиняных кукол, а кто-то злой проехал по куклам и раздавил их тяжелым колесом.
— Только пусть они не воображают, что я промолчу, забуду! — сжав кулачки, неожиданно жестко проговорила она. — Завтра же буду говорить с комсомольцами, на партийном собрании выступлю, — не добьюсь своего — до райкома дойду! Как только им не совестно: затеяли пьянку в такое время!
"Ого, девчонка-то, оказывается, с характером! — чему-то радуясь, весело подумал Харитон. — Не-е-т, обижать своих кукол она так просто не даст! Молодчина, Галя, вот так и нужно в жизни!" Но вслух сказал другое:
— Галина Степановна, как по-вашему, в чем причина такой разболтанности? Почему дисциплина в колхозе слаба?
Галя сорвала с ближайшей ветки черемуховый цветок, повертела его перед лицом, задумчиво произнесла:
— Ой, как я люблю этот запах! Знаете, дома у нас этой черемухи пропасть, берега Камы сплошь в зарослях. А соловьев там сколько! Раскроешь ночью окно, и уже не до сна, слушаешь, слушаешь…
Она помолчала с минуту. Харитон близко видел ее серьезное и задумчивое лицо.
— Отчего в нашем колхозе дисциплина слаба? — повторила она вдруг вопрос Харитона. — Причин много, но самая главная, по-моему, самогоноварение и пьянка. Ой, все, все портит эта проклятая пьянка! У нас на родине гуляют только по праздникам, а здесь что ни день, то праздник. А в Бигре — там почти в каждом доме самогонный аппарат — в открытую гонят араку. У некоторых в подполье по нескольку четвертей припасено. И чуть что — начинается гульба: человек родится — пьют, старушка помрет — опять тащат на стол четверть… А почему, Харитон Андреич? Ведь старики говорят, что раньше этого не было!
— Откровенно говоря, не знаю, Галина Степановна. По сути дела, я здесь человек новый. Все вокруг здорово изменилось, и сама жизнь и люди.
— Мне один старик рассказывал, как они жили. Сам он вкус вина впервые узнал на своей свадьбе, когда ему было уже двадцать пять лет. Нас, говорит, попы в страхе держали: смотрите, не пейте вина, не курите табачного зелья, бог за это вас накажет. А сейчас что? Скажете, клуб? Толку-то что в этом клубе! Раз в неделю кино прокрутят — и то хорошо, а бывает, месяцами на замке… Это я, Харитон Андреич, дословно вам передаю. Рассказала об этом разговоре нашему парторгу, а он отмахнулся: ерунда, важно, говорит, чтобы хлеб был, а остальное само собой приложится! А по-моему, парторгу стоило задуматься над словами старика, правда?
Галя разволновалась, поминутно, без нужды поправляла косынку и не замечала, что Кудрин не сводит с нее восхищенного взгляда. Харитон почти уже не слушал ее. Какой-то внутренний, озорной и как бы чужой голос говорил ему: "Смотри, внимательно смотри, какая она! Красивая, правда?" — "Правда", — соглашался Харитон. — "Нравится тебе такая?" — "Да, очень". — "Посмотри, какие у нее глаза и брови, и эти руки, пальцы, в которых дрожит ветка черемухи… Но самое главное — глаза! Видишь, какие они большие и чистые, точно светлый родник посреди густой, сочной травы… Правда?" И снова Кудрин повторял самому себе: "Правда".
— Вы не согласны со мной, Харитон Андреич?
— А? В чем не согласен? Ах, да, да, вы о старике… Право, не знаю, Галина Степановна. Может быть…
— Почему "может быть"? Сколько ни говорим, а с культурой у нас все равно плохо. Где-то я вычитала, что в обществе, в котором не будет религии, за воспитание людей должно взяться искусство. А у нас… эту самую культуру сеют по заниженным нормам, да и та слабые всходы дает… Ой, Харитон Андреич, вам со мной, наверное, скучно, я все о деле да о деле, заладила одно и то же!
Она проворно вскочила на ноги, подошла к забору и отломила большую ветку черемухи. Белые лепестки осыпали ее плечи. Точно полоща лицо в воде, несколько раз окунулась в пахучий букет.
— Харитон Андреич, а вы… скоро от нас уедете? Ну, конечно, вы ведь непривычны к такой жизни. У нас только и слышно, что кукуруза, мясо, молоко и снова кукуруза… Вам здесь покажется скучно.
Она выжидательно смотрела на Харитона, держа черемуху перед лицом. Кудрин поднялся, по привычке большим пальцем загнал складки гимнастерки за спину, сказал чуть строго:
— Об этом уже поздно говорить, Галина Степановна. Сегодня меня вызывали в райком партии, рекомендуют председателем в… наш колхоз. Я дал согласие.
Галя подумала, что Кудрин шутит, но, взглянув на него, она встретила его серьезный взгляд. Нет, Кудрин не шутил. Тогда она, не скрывая своей радости, всплеснула руками, горячо и сбивчиво заговорила, словно убеждая его:
— Ой, правда, Харитон Андреич? Вы останетесь у нас? Вот и хорошо, оставайтесь, вот увидите, ничуть не пожалеете! Честное слово, все будет хорошо!
— А чему вы так радуетесь? — усмехнулся Харитон.
— Так ведь вы… с вами мне будет легче работать! — Она внезапно смутилась, думая, что сказала лишнее, круто повернулась и побежала к крыльцу. Взлетев на несколько ступенек, она обернулась к нему и звонко повторила: — Вот увидите все будет хорошо, Харитон Андреич!
Улыбаясь про себя, Харитон покачал головой: "Все будет хорошо… Мне тоже очень хотелось, чтобы твое пожелание исполнилось, милая агрономка. Поживем — увидим… Через неделю состоится общее собрание колхозников. Примут они меня? Меня в Акагурте многие уже и не помнят, особенно молодежь, а для других бригад я и вовсе "кот в мешке". Сегодня в райкоме партии без обиняков сказали: "Посмотрят, пощупают со всех сторон: людям надоело каждый год менять председателей. Учтите: вы будете там тринадцатым председателем после войны". Хм, тринадцатым… Чертова дюжина. Везет мне на это число: номер танка, на котором закончил войну, тоже был тринадцатый…"
Предваряя события, Кудрин уже думал о том, с чего он начнет свою работу в колхозе. "Да, да, надо начать с дисциплины, права агрономка. В армии насчет этого просто: "Выполняйте приказ! — и точка. Надо добиться того, чтобы люди снова поверили в свои силы, крепко поверили в то, что укрупненный колхоз может и должен подняться на ноги. Одному это не под силу, будь ты хоть трижды майором или даже генералом! А хорошие люди в колхозе есть, взять хотя бы того же Тимофея Куликова или Параску с Ориной. Подмять молодежь, сколотить крепкий актив…"
Кудрин вздрогнул от резкого скрежета железа, раздавшегося поблизости. Затем донесся сердитый окрик: "Пшел, поганый! У-у, лохматый шайтан…" Спустя минуту звякнула цепь: это в соседнем дворе у Кабышевых спустили на ночь с цепи собаку.
"Фу, черт — выругался про себя Кудрин. — Ночи теплые, люди при открытых окнах спят, а они с собакой… Кого боятся? Ворота будто в крепости, на железном запоре, и заборище такой, что комар не залетит…"
На востоке небо уже начинало бледнеть, а Кудрин все еще не шел спать. Выкурив последнюю папиросу, он скомкал пустую пачку и бросил в сторону. Постоял, помедлил, затем сделал несколько резких движений рукой, точно отряхиваясь от чего-то ненужного, лишнего, коротко выдохнул: "Все. Решено! Ладно, Галина Степановна, жалеть не будем!"
5
В начале лета, не дожидаясь отчетно-выборного собрания, в колхозе "Заря" сменили председателя и нескольких членов правления. В правление избрали Кудрина Харитона, Кабышева Олексана и Михайлову Прасковью.
На собрании Олексан сидел точно на живом муравейнике, на душе у него ворочалось смутное беспокойство. Он хорошо помнил, как несколько лет тому назад на таком же собрании Однорукий Тима бросил в лицо Макару Кабышеву гневные слова: "Нехорошо живешь, Макар-агай! Ты вроде "пчелиного волка": насекомое это сильно на пчел смахивает, только образ жизни ведет воровский, мед из ульев таскает. Вот и ты: вроде в колхозе числишься, а душой в стороне!" Хотя Олексан не совсем понял, за что упрекают его отца, но было стыдно до слез, он убежал с собрания. Лишь много позже он понял, что Однорукий Тима был прав.
Поэтому, когда Олексан услышал, что его выдвигают в правление колхоза, ему внезапно стало жарко, а ворот рубашки показался тесным. С мучительным напряжением ждал, что вот поднимется с места тот же Однорукий Тима или кто другой и скажет жесткие, колючие слова: "Ты, Олексаи Кабышев, не так живешь!" Нет, он не чувствовал за собой вины, но все равно на душе было неспокойно: а вдруг люди знают о нем то, чего он сам не знает?
Перед голосованием слова попросил Васька Лешак. Солидно откашлявшись и оглядев всех сидящих в тесном клубном зале, Васька обратился к председателю собрания:
— Прежде чем голосовать за Кабышева, я хотел бы познакомиться с его жизненной линией. Народ интересуется его автобиографией. Демократию надо соблюдать, так я понимаю!
Кругом заулыбались, кое-кто с завистью подумал: "Ну, Васька! Одно слово — Лешак! Ишь, загнул как: автобиография, демократия… Силен в науке, леший!"
Председатель собрания — бригадир трактористов Павел Ушаков — глазами отыскал в зале Олексана, кивнул ему, приглашая на сцену: дескать, демократия так демократия, народ просит. Олексан по тесному проходу пробрался на сцену, встал лицом к собранию. Не зная, куда девать руки, мял промасленную кепку, путался в словах:
— Не знаю, о чем рассказывать… Все знаете, родился здесь, в Акагурте, окончил семь классов… Работал трактористом, потом послали учиться на курсы механиков. Был там три года. А сейчас снова работаю. Имею семью — мать и жена, об этом вы сами знаете…
И умолк, не зная, о чем дальше рассказывать. Странное дело: бывает, что человек живет десятками лет, каждодневно о чем-то думает, беспокоитея, работает, с кем-то ругается, кого-то любит или ненавидит, но стоит попросить его рассказать автобиографию, как он теряется, говорит совсем не то. Бывает, человек прожил на земле полвека, а то и того больше, а вся его автобиография умещается на одной страничке школьной тетради…
Васька Лешак, выслушав сбивчивый рассказ Кабышева, снова вскочил со своего места, артистически поклонился:
— Спасибо, все ясно. В правлении Кабышев небось растраты не сделает, у него каждое слово на балансе! Что касается меня, то лично я не возражаю против кандидатуры товарища Кабышева. У меня все.
Сидящие позади Васи девушки сдержанно хихикают, прикрывая губы ладошками: "Ох, и болтун же этот Васька! Мелет и мелет языком. На людей указывает, а у самого давно надо бы зашить губы дратвой, чтоб не болтал зря!" Васька все это слышит, но оглядывается вокруг с явным гонорком: мол, видали, как надо! Я-то могу с любым человеком беседу вести на самом высоком уровне, а вы что? Эх, темный народ…
Когда голосовали за новых членов правления, Олек-сан сидел с опущенными глазами, словно через вату услышал далекий голос Ушакова: "Кто против? Против нет, единогласно… Далее голосуем за Михайлову Парасковью. Кто за то, чтобы…"
Приехавший из райкома представитель спросил из-за стола президиума:
— Эта самая и есть Парасковья Михайлова? Должен сказать вам, товарищи, что у нас имеется на нее жалоба. Думаю, что Михайлова сама догадывается, о чем идет речь. Расскажите народу, товарищ Михайлова, как это произошло, не стесняйтесь.
Параска вскочила, точно подброшенная пружиной, поправила на голове платок и затараторила звонко:
— А чего, спрашивается, стесняться? Знаю, Нянькин Григорий писал ту бумажку, наш бывший председатель, чтоб ему икнулось! Ишшо ладно, самого тут нет, дала бы я ему парку, век бы помнил! Спасибо пусть скажет мне, что скоро выпустила его, а коли знала, что по райкомам начнет ходить — паскудить, истинный бог, просидел бы он у меня все пятнадцать суток без суда и следствия.
Представитель из района движением руки остановил Параскино красноречие.
— Вы, товарищ Михайлова, не отвлекайтесь, расскажите прямо и откровенно, что у вас произошло с Нянькиным.
Параска снова поправила сбившийся платок, сверкая глазами, оглядела зал.
— А что могло быть между нами? Уж любви-то не было, об этом не беспокойтесь! Сохрани бог хоть подолом задеть такого человека! И как это начальство недоглядело: человек, можно сказать, до самого фундамента развалил колхоз, а его снова пригрели, налоговым агентом приставили! Ему бы нынче сидеть да старые грехи перед народом замаливать, а он туда же, зоб свои раздувает: "Давай деньги, плати налог, не то судить будем!" У-у, криволапый шайтан, чтоб молнией его сразило!.. Вот и ко мне он заявился и говорит: "Гони сию же минуту двести рублей, иначе конфискую скотину!" Погоди, говорю, маленько, обожди денька два, вот получу пенсию за погибшего мужа и уплачу без задержки. А он и слушать не хочет, свое долбит: никакой отсрочки, и баста! Э-э, думаю, у тебя в горлышке свербит! Нет, не дождешься ты от меня! Полюбезничали мы таким манером, под конец нервы у него не выдержали, слюной забрызгал и по столу начал стучать: "Записываю тебя, как злостную неплательщицу, а окромя того, конфискую одну овцематку!" Попробуй, говорю, покажу я тебе овцематку, нынче такого закона нет, чтобы скотину со двора за налоги уводить, не царский режим! И ведь что вы скажете, тот изверг и всамделе забухался в хлев и давай гоняться за овцами, норовит ухватить самую крупную! Ага, думаю, ты так? Коли так, то на осиновый клин завсегда найдется дубовый! Взяла да и подперла дверку хлева снаружи, для верности цепочку накинула. Он-то сгоряча не сразу понял, стал торкаться в дверь, открывай, говорит, овцу поймал. Держи, говорю, крепче, не выпускай, а я пока схожу на ферму, корон подою. С тем и ушла… Не мог он никуда без меня скрыться, хлев-то у меня надежный, с потолком, чисто сундук!
Параска остановилась, чтобы перевести дух, а зал покатывается от смеха, в президиуме тоже улыбаются. Сквозь смех вырываются восклицания:
— Хо-хо, как в сундуке! Ну и Параска, от так баба!..
— Нянькин-то, ха-ха, с овечкой там… обнимался!
Выждав, когда веселье поутихнет, Параска уже с улыбкой продолжала:
— Управилась я на ферме с коровами, запрягла на конном лошадь и поехала в Акташ, сняла со сберкнижки свои кровные рубли. Зашла к себе во двор, Нянькина кличу: "Живой ты там?" А он ровно медведь в капкане ревет, чуть не плачет и меня всякими словами обзывает. Пожалела я его, отомкнула хлев, а оттуда этакое страшилище выползло, не приведи господи ночью такому присниться! В волосах солома с мякиной, весь костюм в навозе вывожен! Ну, говорю, бери свои денежки да убирайся со двора: несет от тебя, точно от паршивого козла!
Последние слова Параски потонули в громовом хохоте! Напрасно Ушаков стучал карандашом по графину с водой, призывая успокоиться, — его никто не слушал. Видя безуспешность своих попыток, он приставил ладони трубочкой ко рту и что есть мочи объявил: "Перерыв на десять минут!.."
Нового председателя выбрали без особых придирок, а старого проводили без лишних упреков. Может быть, многие из сидевших в зале думали так: выбираем тринадцатого председателя, толкуй не толкуй — ничего от этого не изменится, как шло, так и пойдет…
6
В Бигре дома добротные, строили не "на базар", — для себя. Прохожие, приезжие засматриваются: "Погляди, у этого и наличники, и карниз так выделаны, что бабе кружева не сплести! А тот даже скворешню разукрасил, что твой кукольный домик!.. А вон те ворота, можно подумать, прямо в рай ведут, хошь не хошь, ноги сами потянут… Осто-о, до чего старательный народ живет в этой Бигре!"
Что верно, то верно, дома в Бигре прямо на загляденье. А сами бигринцы всей этой красоты будто вовсе не замечают. Стоит кому-нибудь завести у себя пустяковую новинку, как соседская жена принимается ночной кукушкой долбить мужа: "Видать, у Косого Ивана до лешего белил, даже потолки побелил. Люди вон где-то достают, находят, один ты сидишь пень пеньком… У Чернова Микальки дом совсем новый, года не прошло, как въехал, а нынче снова сруб рубит. Не иначе, как с лесником сошлись. Сходил бы тоже, новый лесник, говорят, вино не за ухо выливает…"
Строятся бигринцы, тюкают топориками, красят, строгают, вырастают новенькие срубы домов, клетей, амбаров и амбарчиков. В других деревнях над каждой тесиной трясутся, а здесь шутя торгуют готовыми срубами под дом, под баньку. Одно слово — умеючи живут! Лесников меняют в год по два раза, а все без толку: месяц-другой держится молодцом, а там, глядишь, бигринцы уламывают добра молодца, и храпит он богатырским сном под елочкой: мягка подушка у самогона…
А мужички тем временем тюкают топориками, валят на выбор деловой лес.
Правление колхоза тоже ничего не могло поделать с жуликоватыми бигринцами: вырабатывают минимум трудодней, поди, подступись к ним, попробуй заикнуться насчет исключения из колхоза или урезания приусадебного участка! Бигринцы моментально ощетиниваются: "Как, честных колхозников обижать! Хо-хо, шалите, нас голыми руками не возьмешь, в законах разбираемся! В таком разе мы сами пожалуемся в народный суд!" Да. Не пойманный — не вор!
За неделю Кудрин объездил все бригады. Оставалась последняя, бигринская. Харитон с вечера наказал Васе, чтоб тот утром пораньше пригнал машину к конторе. Васька Лешак решил, по-видимому, козырнуть своей пунктуальностью: ровно в семь утра под окнами конторы послышались резкие сигналы "газика". Предупредительно открывая дверцу, Васька с некоторым злорадством, как показалось Кудрину, сказал:
— Ну-с, Харитон Андреич, считайте, что до сих пор вы ездили по гостям. На сей раз доброй тещи не будет, блинов тоже!
— Пугаешь? И чего это вы все ополчились на Бигру, не понимаю? Люди же там живут, не медведи!
— Приедете — увидите, — неопределенно ухмыльнулся Вася. — На вид они, конечно, люди. Только болтают, будто на ладошках у них шерстка произрастает. Может, врут, сам я не видел: бигринцы перед чужими ладошки не разжимают, должно быть, им это ни к чему…
Было еще не жарко, воздух по-утреннему чист и свеж, Кудрин расстегнул ворот гимнастерки и с удовольствием вдыхал в себя запахи хлебов, настоенные на аромате разнотравья. Высунул руку в окошечко — тугой встречный ветер ударил в нее невидимой родниковой струей.
— Красивые у нас места, Василий. Или это тебя не трогает?
— Меня? Хм, с утра ничего, можно полюбоваться природой, а к вечеру так накрутишься с баранкой, что не до красот… Конечно, кто понимает это дело, того не выманишь отсюда никакими калачами. А дураки, Харитон Андреич, все равно водятся, и при коммунизме, я думаю, они будут. Их придется дустом травить, как сейчас вредителей садов травят… Ну, подумайте сами: человек с самого рождения жил здесь, кормился от земли, а потом, видите ли, вдруг его в город потянуло, ну просто спасу нет! Поживут в городе без году неделю, приедут в отпуск, ну просто пап-барон, нацепят галстук, намажутся одеколоном — слышно за три метра против ветра… Терпеть не могу подобную шпану!
Харитон весело рассмеялся. Его подмывало спросить у Васи, часто ли Галя ходит в клуб, но он сдержался, боясь, что Лешак раззвонит, что председатель интересуется агрономкой.
Дорога нырнула в кусты ольховника, завиляла между кочками, затем взобралась на сухой бугор. Здесь Вася приглушил мотор, плавно тормознул.
— Вот она, красота-то настоящая, Харитон Андреич! Полюбуйтесь на пейзаж: прямо хоть сейчас в Третьяковскую галерею. Между прочим, слух держится, что знаменитый художник Шишков…
— Шишкин, — поправил Кудрин. — Шишков — тот был писатель.
— Я и говорю, Шишкин. Так вот, болтают, будто своих медведей в лесу он с натуры рисовал в наших краях. Места, что надо!
Харитон восхищенно оглядывался вокруг. Мальчишкой ему приходилось бывать здесь, но в пятнадцать лет человеку свойственно не замечать той красоты, что лежит слишком близко. А вскоре началась война…
Вдоль опушки тянулся широкий, заросший по склонам кудрявым орешником овраг, а ниже — сплошные заросли черемухи. Цветут липы, сквозь густую листву с трудом пробиваются солнечные лучи, оттого кажется, что лес соткан из золота и зелени; лес нежно и безостановочно поет, будто на ветру звенят тончайшие серебряные струны: гудят пчелы, заготавливая душистый липовый мед, и сами словно хмельные от обильного медосбора. Где-то на дне оврага захлебывается, бормочет невидимый ручей, а в кустах над ним щебечут птицы, скрытые листвой.
— Да-а, замечательный уголок… — рассеянно протянул Кудрин. И вдруг оживился. — А неплохо было бы открыть здесь санаторий для колхозников! Честное слово, заведутся в кассе денежки, обязательно подумаем! Путевки в первую очередь дояркам: поезжай, отдохни, наберись сил, подлечись, и снова за работу. Всем колхозникам установим очередные отпуска. Вот если бы…
— Эх, кабы не "бы", Харитон Андреич! Пока трава растет, худая лошадь с голоду околеет! Видите, свежие пеньки торчат? Это бигринцы тут паскудили. Ночей не спят, наперегонки рубят. Кому санаторий, а кому рублики!
Кудрин нахмурился, застегнул пуговицы гимнастерки, молча кивнул Васе: "Поехали дальше".
На въезде в деревню им повстречалось стадо, пришлось остановить машину. Сытые, откормленные коровы с лоснящейся шерстью, кося огромными лиловыми глазами, шумно фыркали, словно хотели сказать: "Ездят тут всякие, мешаются на дороге! Уф, бензином навоняли…" Овцы шли впритирку, низко опустив морды; у каждой на ухе своя метка: случись, украдут лихие люди — можно по метке отыскать. Стадо ушло, оставив после себя густое, едкое облако пыли, пропитанное кислым запахом овечьей шерсти.
— Мм-да, скотинка тут имеется, — задумчиво проговорил Кудрин. — А стадо, видать, не колхозное?
— Точно, скотинка эта из личного пользования! В каждом хозяйстве по корове, телке да восемь-десять овец.
— А почему в этой бригаде нет ни одной фермы?
— Была ферма. Свиней разводили, только на второй год все свиньи передохли. Невыгодно бигринцам заниматься свиноводством.
"Из личного пользования… — мысленно повторил Кудрин. — Ничего себе "личное". Когда у человека двор ломится от собственной скотины, то наплевать ему с верхней полки на общественное! Взять хотя бы тех же бигринцев: называются колхозниками, пользуются всеми благами, которые им даются по примерному Уставу, а ведь в мыслях и делах половина из них единоличники! Придерживаются одной линии: как бы для себя кусок побольше да полакомее урвать! Везет, скажем, человек сено, сам на возу, а ногу понизу — это для скотного двора, по наряду бригадира. А через час-другой он же везет другой воз, лошадь мордой землю достает, сам плечом пособляет — это себе, для личной скотинки… А отчего все это происходит? Оттого, что мелкий собственник сидит в нем, точно раковая болезнь. Давняя, вековая болезнь в разные стороны пустила свои корни. Метастазы, как называют их врачи… Главную опухоль Советская власть вырезала, а корни остались, а они, проклятые, живучи. Чуть упустишь из внимания — начинают расти, сушат и точат живую душу. Говорим "пережитки", а они порой и самого человека переживают, мало того — к детям его переходят… Как же вырвать с корнем этот пережиток частного пользования? Выжигать, как говорится, каленым железом? А живому, живому-то телу при этом каково! Самое верное в нашем положении — это лишить зловредные корни источников питания. Конкретно? Сократить скот из личного пользования до уставных норм. И начать это дело с Бигры, тут самый главный корень затаился. Рискованно? Представляю, какой поднимется ералаш! Ну что ж, рано или поздно, а придется. Хочешь, чтобы росло и умножалось общественное, наступай, загоняй в рамки частное. Диалектика, черт побери, великая штука!.. А Бигра тоже, должно быть, не на один аршин, найдется и там немало таких, которые поддержат нас".
— Ах ты, стерва! — неожиданно в сердцах выругался Вася, направляя машину прямо на курицу, которая безмятежно купалась в пыли посреди дороги. Курица отчаянно закудахтала, захлопала крыльями и в последнюю секунду успела увернуться от верной погибели. Огромный огненно-рыжий петух, наблюдавший эту сцену, потряс малиновым гребешком и прокричал вслед машине что-то пронзительное, должно быть, тоже крепко ругнулся.
…Узнав о приезде нового председателя (весть эта каким-то образом за полчаса обошла всю Бигру), вся деревня от мала до велика собралась в помещении начальной школы, люди толпились даже в сенях. Пробираясь к дверям, Кудрин услышал чей-то насмешливый голос: "О-о, новое начальство заявилось, надо показаться, чтоб после не кусался!" Курившие в сенях мужики сдержанно засмеялись, ощупывая глазами "новое начальство". Кто-то невидимый в толпе с затаенным беспокойством в голосе добавил: "С этим надо поосторожнее, Видали, какой? Из майоров…" На приветствие Кудрина ответили неохотно, вразнобой.
Кудрин не намеревался проводить в Бигре собрание, но люди собрались, им хотелось поговорить с новым председателем. "Привыкли митинговать!" — невесело подумалось Харитону.
Первым выступил секретарь бригадной парторганизации — невзрачный, с белесыми бровями человек. Говорил он скучно, по-газетному, и едва кончил, как тут же попросил слова пожилой колхозник с кирпично-красным, обветренным лицом. "Кто такой?" — шепотом спросил Кудрин у секретаря. "Самсонов Григорий. Дочка у него в Акагурте — учительница".
Самсонова слушали с вниманием, не прерывали, а когда в сенях зашумели ребятишки, на них сердито цыкнули: "Тише, вы! А ну, марш отсюда, шпаненки!"
— Говоря по сучеству, — начал он, — я согласен с товарищем секретарем партийной организации: излишки личного скота вредят колхозному делу. Правильные слова, колхозу надо подсоблять, без колхоза мы не можем… Однако, товарищи, нельзя забывать человека, живого человека, трудящегося! Наша Советская власть что говорит? Советская власть прямо говорит: самое ценное для нас — это человек. Значит, товарищи, всячески надо подымать нашего советского человека, чтобы ему с каждым годом жилось легче, чтоб получал он по своей потребности и не знал ни в чем нужды и недостатка. Правильно я говорю, товарищ Кудрин?
— Ну, положим, так. Продолжай, Самсонов…
Вслушиваясь в гладкую речь Самсонова, Харитон с растущим беспокойством думал: "Вот он и есть, говоря "по сучеству", один из тех, с кем мне придется схватиться. Чисто брешет, дьявол! Вишь ты, куда загнул: человек, говорит, дороже всего. Верно, не подкопаешься! Только чересчур однобоко берет, насчет потребностей сказал, а о труде ни полслова. Ну, ну, послушаем…" Секретарь парторганизации тронул его за рукав, указал глазами на Самсонова: "У человека всего четыре класса, а здорово получается, верно? Самородок, культурный мужик…" Кудрин рассеянно кивнул: "Да, да, интересный тип…" Тем временем Самсонов продолжал:
— …Вот я и говорю: пора людям дать передышку, чтоб пожили они в свою охотку, то есть по своей возможности. Спрашивается, за что мы проливали свою кровь, насмерть воевали против немецкого фашизма? За хорошую жизнь народ воевал, так я понимаю?
Из дальних углов послышались возбужденные выкрики:
— Правильно, чего там!
— Немца свалили, пора самим пожить!
— В точку попал, Григорий Евсеич! Валяй дальше…
Чувствуя, что зал на его стороне, Самсонов развивал свое наступление:
— Теперь рассмотрим с другой точки. Вот, к примеру, кое-кто в правлении тычет мне в глаза тем фактором, что у меня якобы чересчур много скотины. Хм, интересно получается, товарищи! Как я понимаю, личная собственность колхозника покуда не запрещена законом, так? Так! Имею я, скажем, одну корову и восемь овцематок, и кому, спрашивается, до этого дело? Скотинка-то у меня не ворованная! И дело хозяйское, как я буду пользоваться своей животиной: хочу — продам, а не захочу — сам скушаю, с кашей или просто так!.. Ежели я в состоянии прокормить за зиму десять овечек — я и держу десять, а другой опять же смотрит по своим возможностям. Тут единой мерки быть не может, каждый живет на свой аршин…
Кудрин жестом остановил Самсонова.
— Стоп, стоп, минуточку! Мы тебя выслушали, Самсонов, а теперь запасись терпением, послушай других. Вот ты говоришь, что имеешь в личном хозяйстве корову, восемь овцематок, так? А известно тебе, сколько скота в нашем колхозе? Ага, не считал! Тогда, будь добр, объясни, почему ликвидировали свиноферму в вашей бригаде? Сколько голов пало, сколько на сторону растранжирили — это тебе тоже неизвестно?
— На это есть счетоводы, учетчики, — пробормотал Самсонов. — Мое дело сторона, мы рядовые колхозники…
— То-то, не считал, Самсонов! В том-то и беда, что нет тебе дела до общественного скота, цепляешься за хвост личной буренки! Позволительно спросить: кто же в таком случае в ответе за колхозное стадо? Скажете, правление колхоза? Да, в первую голову правление! Но ведь вы тоже являетесь частью одного колхоза, вы тоже держите свою долю ответственности! Или для вас законы не писаны, Устава сельхозартели не признаете? Отвечай же, Самсонов, собрание ждет.
Самсонов, криво улыбаясь, пожал плечами, ища поддержки, обвел глазами сидящих в зале. Большинство отворачивались, другие с деланным сочувствием подмигивали: дескать, давай, Григорий Евсеич, не тушуйся, режь правду-матку, чего там! В глазах его вспыхнули и потухли искорки злобы: "Та-ак, дорогие земляки… Пили вместе, а похмелье врозь? До собрания небось уговаривали: "Скажи слово за всех, ежели что, поддержим, а тут в кусты? Поддержка наша, что удавленнику веревка… Ну, погодите, дорогие односельчане!"
Оправившись от первой растерянности, Самсонов изменил свою тактику и вдруг поддержал председателя:
— Правильно, товарищ Кудрин, Устав сельхозартели для нас — наипервейший закон. Извините, товарищ Кудрин, вы меня прервали, я хотел сказать о другом… Каждый колхозник в ответе за общественное добро, это вы очень справедливо заметили. А у нас как получается? У нас в бригаде чересчур увлекаются личным хозяйством, к примеру, той же скотинкой. По-моему, это для колхоза есть прямой вред. Я предлагаю и голосую первым, чтобы в каждом хозяйстве держать минимум скота: одну корову, двух овец и для желающего — одну свинью!
Собрание ахнуло, услышав такое: Самсонов отомстил за себя, да еще как! Одним ударом не то что семерых, а и всю деревню заставил охнуть. Знал, куда бить!
Кудрину оставалось лишь мысленно развести руками: ловко вывернулся старый лис! И ему ничего другого уже не оставалось, как выступить в поддержку своего неожиданного "союзника": он поставил на голосование предложение Самсонова. В зале стоял невнятный говор, до сцены долетали отдельные слова: "Три дня в колхозе, а уже коготки выпускает… не краденая скотина… кто сколько может… Лебедой питались, а он в это время…" Постепенно шум улегся, в тишине явственно донесся чей-то запоздалый хохоток: "…проголосуем, пущай успокоится, а мы все равно свое, хо-хо!" Кудрин наблюдал за Самсоновым: к нему со всех сторон тянулись люди, о чем-то возбужденно говорили, доказывали, спрашивали, а он отвечал коротко, указывая бородкой в сторону президиума. Нет, хозяином положения все-таки оставался он, бигринцы хорошо поняли его маневр, и когда Кудрин повторил предложение сократить поголовье скота в личном пользовании, первым поднял руку Самсонов, а за ним потянулись и остальные. "Ну что ж, пусть покуражится новый председатель своей легкой победой. Пошумит и перестанет, как было, так и останется…"
Кудрин понимал, что это еще только начало, а впереди долгая и упорная работа, но первый шаг все-таки был удачным, и он повеселел:
— Переходим, товарищи, к обсуждению второго вопроса, — бодро объявил он, — ваша деревня пользуется дурной славой: чуть ли не в каждом хозяйстве гонят самогон. В самое неподходящее время вы устраиваете пирушку, а работа между тем стоит. Давайте на этот раз обойдемся без милиции, сами между собой договоримся по-хорошему: положить конец самогоноварению, а все аппараты сдать добровольно. Мне думается, тут и обсуждать нечего, вопрос ясен. Или будут другие предложения?
В глубине зала нетерпеливо взметнулась рука. Не дожидаясь, пока ему дадут слово, вперед протиснулся пожилой, с квадратным лицом колхозник. Правый его глаз был подернут бельмом, оттого он голову держал косо и этим здорово смахивал на петуха, нацелившегося на горошинку: "Клюнуть самому или подозвать курочку? Ого-го, а горошина отличная!"
— Насчет самогона, товарищ председатель, — начал он хрипловатым, прокуренным голосом, — это верно, это у нас есть. Хоть и не все, но варят помаленьку… А отчего? Вот в этом и есть заковырочка! Водка — она нам не по карману, больно кусачая, а от самогона польза вдвойне: дешево обходится, а главное — барду от нее получаем, то есть тем же хлебом скотину свою кормим… Вот ведь оно что, товарищи дорогие! Без барды нам вовсе невозможно, потому как колхоз нам кормов мало выделяет…
Пока "петух" сиплым голосом бормотал насчет пользы барды, Кудрин справился о нем у секретаря. "Кара-баев его фамилия, в настоящее время кладовщиком на зерноскладе. До этого был заведующим свиноводческой фермой…"
Карабаеву не дали кончить, в зале вспыхнул шум. Перебивая друг друга, разом закричали несколько женщин:
— Гоните оттуда кривого шайтана!
— Барда ему нужна, черту! Так и пил бы барду, а не самогонку! Небось сам-то он по ночам не сидит в дымной бане, жену заставляет!
Из задних рядов выскочила растрепанная толстуха, на ходу поправляя сбившийся платок, коршуном налетела на Карабаева, вцепилась в него и потащила за собой. При этом она успевала одной рукой сыпать на спину Карабаева увесистые тумаки, сопровождая их градом ругани:
— Уходи с людских-то глаз, идол! Ишшо зуда же лезет со своим бельмом, проклятый! Ишь, барды ему захотелось, лупоглазому!
В зале стоял хохот, женщину со всех сторон подбадривали: "Так его, Матрена, так, выколоти пыль-то! Нас они за людей считать перестали, им бы только самогонку трескать!.. Пусть-ка сами попробуют варить эту проклятую араку, чтоб подавились ею!.."
Секретарь успел шепнуть Кудрину: "Это Матрена, жена Карабаева, задаст она ему перчику! Шумная женщина, другой такой в Бигре нет. У нее и прозвище такое: Матрена-Ероплан… О, та еще баба!" Кудрин недовольно нахмурился, охладил восторги секретаря: "С помощью таких людей вы сами давно могли покончить с самогоном! А то сидите тут… партвзносы собираете!"
В зале стоял невообразимый шум, мужчины сидели съежившись, лишь некоторые неохотно огрызались, зато женщины — те совершенно осатанели: видно, самую наболевшую болячку ненароком царапнула Матрена!
Неприметно посмеиваясь и стараясь сохранить на лице серьезное выражение, Кудрин подвел итоги столь короткой, но бурной "дискуссии":
— Уважаемые товарищи женщины, картина вполне ясная. Мужики заставляют вас гнать самогон, сами не прочь пображничать, а у бражников, как известно, много всяких праздников, — они за семь верст слышат звон чарок! Поймите меня правильно: от самогона вам кругом один только вред. Я уж не говорю о всяких болезнях, ссорах, которые происходят через пьянку. Важно другое: тормозятся колхозные дела, сами себе в убыток работаем. Государство пока поддерживало вас, обеспечивало ссудами, но ведь придет время, и нам скажут: "Хорошие вы мои, до каких пор вы будете кормиться за чужой счет? Не пора ли своими ножками пойти, не стишком ли долго вы цепляетесь за материнский подол?" Одним словом, товарищи женщины, я обращаюсь к вам, потому что в этом вопросе за вами самый решительный перевес: кто за то, чтобы положить конец самогоноварению и добровольно сдать самогонные аппараты, прошу поднять руки.
Женщины дружно взметнули руки, мужчины вначале жались, пересмеивались, но щипки и разъяренное шипение женщин заставили их проголосовать "за": среди леса женских рук тут и там воровато, будто с опаской, выныривала крупная мужицкая лапища и быстро исчезала. Кудрин весело усмехнулся:
— Ну что ж, товарищи, будем считать, что "сухой закон" принят единогласно! Будем веселиться по праздникам вместе со всем народом, а не так, кому когда вздумается. Договорились? А теперь, товарищи, я прошу всех по своим рабочим местам…
Народ хлынул к выходу. Самсонов Григорий двинулся навстречу этому потоку к сцене. Приблизившись к председателю, он нагнулся и вполголоса спросил:
— Харитон Андреич, время к обеду, не посчитайте за труд отобедать у меня. Специально не готовился, старуха хлебом-супом угостит…
Первой мыслью Харитона было отказаться, но в следующую минуту он с каким-то внутренним азартом подумал: "А что, в самом деле? Хочешь изучить врага — осмотри его логово… Хоть он и не открытый мне враг, но друзьями тоже вряд ли будем. Набивается на доверие? Ну что ж, мы люди не гордые…"
— Далеко идти?
— Что вы, Харитон Андреич, шаг шагнете, и там! А ежели задами пройти, и того ближе…
— Поедем на машине!
"Газик" стоял во дворе школы, но шофера не оказалось. Пока собрание шло своим чередом, Васька Лешак спешил обделать свои дела: сманил на берег речушки двух бигринских девчат и "подбивал клинья" насчет встречи вечерком. Девушки вначале посмеивались, делая вид, будто Васькины горячие заверения их ничуть не трогают, но в конце концов обстановка приняла благоприятный для него оборот, оставалось лишь назначить время, и в этот момент со стороны школы донеслось: "Василий, поехали!" С досады он даже взрыл землю сапогом, сорвал кепку и убежал, оставив девчат тайком вздыхать о несостоявшемся счастье.
Кудрин пригласил с собой секретаря бригадной парторганизации. Тот согласился с явной неохотой: известное дело, разнесут, растреплют молву по деревне, что секретарь гостюет по домам колхозников… Но вспомнив, что в случае чего можно сослаться на председателя, успокоился. Свернув в узенький, заросший ярко-зеленой травкой проулочек, машина остановилась возле пятистенного дома с голубыми наличниками.
— Аккуратный у тебя домишко, Григорий Евсеич! — похвалил Кудрин.
— Слава богу, помаленьку живем, — отозвался Самсонов, с кряхтеньем выбираясь из машины. Заведя гостей в дом, крикнул: — Авдотья, ставь самовар, гости хорошие зашли!
Кашлянув в кулак, вкрадчиво спросил:
— С устатку, Харитон Андреич, по маленькой… не откажетесь? Водочки нет, извините, где-то завалялась бутылочка своей гонки. Давненько этим не занимаемся. С зимы бутылочка стоит, на поминанье стариков…
Не дожидаясь согласия, проворно выскочил куда-то, вскоре вернулся с запотевшим графином. Осторожно поставил посудину на стол. — Последняя, даже на развод не осталось. Для хороших гостей не жалко…
— Так-таки последняя, дядя Гирой? — с простоватым выражением на лице полюбопытствовал Васька Лешак. — А еще болтали, будто в Бигре без запаса не живут! Должно быть, четвертей десять на всякий пожарный случай захоронено?
Самсонов сверкнул на Ваську глазами и, обращаясь к Кудрину, развел руками:
— Скажет же, а? Люди послушают и поверят. Ей-ей, последняя…
Кудрин неприметно огляделся. "Крепкий, видать, хозяин: пол, потолок, заборка масляной краской покрашены. Все упрятано, ничего лишнего на виду, мухе некуда забиться…." Улучив минутку, когда хозяин куда-то вышел, секретарь подмигнул Кудрину: "Ладно живет, а? О-о, первый хозяин по всей Бигре, можно сказать, образцовый! Побольше бы нам таких! Только вот грешок одни за ним водится: скуповат… В райцентре пообедает в столовой, а косточки и яичную скорлупу в сумочке домой несет: своим "курочкам пригодится… Через свою хозяйственность уважением пользуется. Обратили внимание: половицы точно зеркальные, чем не паркет? Человек пристрастен к чистоте, можно сказать, болеет этим. Весной по ночам лужи еще ледком прихватывает, а они уже переселяются с хозяйкой в амбарчиу: ни к чему, дескать, в доме полы топтать. Аккуратный хозяин!.."
На столе появилось домашнее масло, сочная хрустящая капуста, мед, холодное мясо…
— Ну, дорогие гости, чтоб не первый и не последний раз… За наше с вами знакомство! Выпейте, пожалуйста, по стаканчику, с кисленьким горькое не поссорятся…
Кудрин пригубил из своего стакана и, зажмурившись, покрутил головой:
— Ого, Григорий Евсеич, не иначе, как трижды перегнал?
Самсонов ухмыльнулся, потрогал бородку:
— Кхе-кхе, для хороших людей добра не жалко.
Ваську Лешака тоже поневоле пришлось усадить за стол: ничего не поделаешь.
Васька подцепил ножом солидный, со средний кулак, ломоть янтарного масла и одним приемом запихал в рот, с минуту блаженно, по-кошачьи щурился и затем снисходительно похвалил:
— А маслице, дядя Гирой, можно прямо заявить, мировое! Пожалуй, попробую еще кусочек…
Видя, как масло убывает на глазах, Самсонов с ненавистью подумал: "Жри, жри, чертово отродье, чтоб тебя пронесло с этого масла! Те, кому оно поставлено, даже не притронулись, а этот лопает в два брюха!"
А Васька Лешак, не замечая злобного хозяйского взгляда, продолжал нахваливать:
— Не масло — одно объеденье! Вот если эту штуку с медком, тогда… за уши не оторвешь! Нет, что ни говори, а гостей встречать ты большой, оказывается, мастер, дядя Гирой! Крепко уважаю таких…
Свет померк в глазах у хозяина, внутри все клокотало от распиравшей его ярости: "A-а, сукин ты сын, мне твое уважение все равно что шуба летом! Цельный фунт масла как кошке под хвост… На базаре за него большие деньги можно было получить. Да чтоб тебе ослепнуть с моего масла!" Не в силах дальше видеть, как Васька управляется с его добром, Самсонов в сердцах сел к нему спиной. Но тот репьем вцепился в него, не переставая жевать.
— А что это, дядя Гирой, в народе всякое про тебя болтают? Будто и скупердяй ты, каких свет не видывал, и жену свою окончательно замордовал своим характером… Врут, поди? Да будь ты скупердяем, разве позволил бы этакую роскошь, верно? Во-во, я и говорю…
По шее и щекам Самсонова пошли багровые пятна. Он был готов сию же минуту вышвырнуть из-за стола этого нахала, но сдерживало присутствие Кудрина и секретаря. А те, как нарочно, прислушиваются к болтовне этого шута-голодранца и посмеиваются себе. Эхма, не получился нужный разговор, а все из-за этого щенка, чтоб его земля поглотила!
— А я вот что тебе скажу, дядя Гирой: плюнь на всех, залепи уши воском, чтоб не слышать всякую брехню. Язык, сам знаешь, без копей… Вот, к примеру, треплются люди меж собой, будто и какой-то праздник пригласил ты к себе гостей, кто-то позарился на масло, тырк-мырк вилкой, а там деревяшка, будто та деревяшка специально была выточена, а поверху для вида маслом обмазана. Ну, скажите, может быть такое? Ни в жизнь этому не поверю!
Веселый смех Кудрина переполнил чашу терпения хозяина. Он с грохотом отшвырнул из-под себя стул с узорчатой резьбой, не помня себя, закричал:
— Ты… с-сучий сын, в моем доме… меня же на смех! Пшел из-за стола, дармоед…
В этот момент за его спиной послышался слабый, умоляющий голос:
— Осто-о, Гирой, ты совсем спятил! Опомнись…
Пока хозяин потчевал гостей, жена по-мышиному тихо и незаметно хлопотала возле печки за перегородкой, в "женской половине". Муж строго предупредил, чтоб она не смела показываться перед гостями: женщина, известное дело, может испортить даже самую добрую беседу. К этому ей было не привыкать: всю свою жизнь она прожила в покорности, не смея ни в мельчайшей мелочи перечить мужу. Не один десяток лет прожила она с Григорием, вместе исходила долгие и тяжкие версты, но ни разу не приходилось ей шагать рядом с мужем: кроткомолчаливая, она неслышно семенила в двух-трех шагах поодаль… Лишь один раз в году он разрешал ей постоять рядом с собой: ранней весной, когда люди собираются на кладбище поминать родных и близких, они вдвоем направляются на кладбище. Отыскав небольшой поросший горькой полынью бугорок, долго стоят перед ним в молчании. Григорий молча мнет в руках свой картуз и хмуро поглядывает на жену, а та, боясь громко заплакать, судорожно глотает жгучие и горькие, словно настоенные на полыни, слезы. Под холмиком рыжей глины лежит единственный их сын, рано умерший от неизвестно какой болезни… Постояв положенное время, Григорий натягивает на голову картуз, выбирает место, где трава уже успела подняться на вершок, неспешно располагается, долга возится с потертой кожаной сумкой, наконец, извлекает из нее чекушку вина и нехитрую закуску. Авдотья молча стоит поодаль, не сводя невидящих глаз с рыжего бугорка. Народу в тот день на кладбище бывает много, у каждого здесь лежит кто-то близкий, и ей очень хочется подойти к другим женщинам, поделиться с ними горем, но она не смеет отойти от мужа. Григорий молча выпивает из чекушки, оставляя на донышке глоток-другой. Не глядя на жену, сует ей посудинку и половинку крутого яйца. Авдотья наливает в чарочку остатки вина, зажмурив глаза, выпивает и давится сухим яйцом… Посидев еще несколько времени, Григорий встает и через плечо хмуро бросает: "Ну, пошли!" Возвращаются они прежним порядком: Григорий впереди, поотстав от него шага на три, молчаливой тенью бредет Авдотья. Дойдя до опушки лесочка, Григорий отыскивает пенек и садится перекурить, Авдотью же отсылает наломать свежих пихтовых лап: чего ей зря стоять, в этакую даль ходили, и возвращаться с пустыми руками? Веники пригодятся в доме подметать. Пусть умерший сын покойно живет на том свете, а живому человеку немало забот на этом. В молодости Авдотью также не баловали лаской и вниманием. Самсоновы издавна жили крепко, и некрасивую Авдотью взяли за Григория заместо рабочей скотинки. Вскоре родился сын, а через два года помер. Деревенский знахарь сказал, что мальчик наглотался "дурного ветра", оттого и вспучило ему животик… После того Григорий спутался с молодой вдовой, Авдотья по ночам плакала от обиды. Деревенские бабы надсмехались над ней, и Авдотья, боясь злых языков, старалась меньше показываться на людях. Доведенная до отчаяния, она как-то раз несмело попрекнула мужа. Озверевший Григорий до изнеможения хлестал жену, в клочья исполосовав ей платье. Авдотья сутки пролежала в амбаре на холодном полу, на другой день пришел Григорий: "Ну, хватит прохлаждаться, собирайся в поле!" Лишь спустя десять лет у них родился второй ребенок. Григорий к тому времени отгулял свое, стал сдержаннее, сильно привязался к девочке. Но жену по-прежнему не замечал, на дню два слова скажет ей, и то много…
Вот почему, услышав за спиной дребезжащий голос жены, Самсонов пуще того взъярился:
— И ты-ы! Убирайся отсюда…
Прижав костлявые руки к плоской, высохшей груди, Авдотья не сводила с мужа скорбного, усталого взгляда.
— Людей бы постыдился, Гирой…
Самсонов схватил ее за плечо и толкнул. Авдотья неприметной тенью скрылась за дверью.
Гости заспешили, начали собираться. Самсонов посмотрел на них непонимающими глазами, стал совать им в руки недопитые стаканы.
— Погодите… как же так, Харитон Андреич? Я вас… со всем уважением… Из-за бабы все, не стоит внимания. Посидели бы еще.
— Что-то вино твое не по нас! — отводя дрожащую руку хозяина, резко сказал Кудрин. — До свиданья, Самсонов. Смотри, в другой раз как бы не рассориться нам с тобой!
Провожать гостей Самсонов все-таки вышел за ворота. Васька Лешак подмигнул ему из кабины, провел ребром ладони по горлу: дескать, пребольшое тебе спасибо, наелся во как! Самсонов по-бычьи покосился на него и сплюнул под ноги. Он простоял у ворот, пока не улегся бурый лисий хвост пыли, вздыбившийся вслед машине. Когда же машина скрылась в дальней лощине, в бессильной ярости сжал кулаки: "Хороши вы спиной, нежели передом! Скатертью дорожка! Сила ваша, иначе нога ваша не ступила бы в мой двор!.. Против воли приходится руки лизать… Эхма, собачья жизнь!"
Он вошел во двор, на глаза ему попался пестрый котенок, который, забыв обо всем на свете, подкрадывался к трепыхавшему на ветерке гусиному перышку. Свирепый пинок хозяйского сапога отбросил бедного охотника на несколько саженей… Войдя в дом, Самсонов потоптался возле стола, затем слил самогон из стаканов в графин. Остатки из Васькиного стакана вначале хотел выплеснуть в помойное ведро, но, раздумав, слил в тот же графин: кто знает, может, завтра зайдет нужный человек, а добро — оно всегда не лишнее, пригодится. У Авдотьи на этот раз кумышка удалась, настоена на табаке. А самогон на табачном настое приобретает удивительное свойство оглушать человека, он становится мягче воска, и лепи из него, что твоей душе угодно…
Съехав в лощину, Кудрин велел Васе остановить машину. Секретарь бригадной парторганизации, подавая руку на прощание, смущенно пробормотал: "Черт, этот Самсонов… А я представлял его вполне культурным…" Кудрин переглянулся с Васей, и оба безудержно расхохотались. Секретарь не выдержал, тоже засмеялся:
— Как говорится, хватанули шилом масла! Подарили топорище от потерянного топора! Ну, Самсонов, выкинул номер…
Вася состроил очень серьезное лицо и с чувством исполненного долга заметил:
— Кто как, а я заправился правильно! Непривычен уезжать из гостей с пустым баком… Мамаша меня с детства уму-разуму учила, мол, не обжирайся у чужих, а то, смотри, мать помрет. А мне что-то неохота за столом ложки считать!
Кудрин задумчиво протянул:
— Много еще у людей в умах всякой чертовщины. Пережитки всякие, поверья-суеверья… Со стороны посмотреть — вроде все как у людей, все в положенных рамках: газеты почитывают, радио слушают, о спутниках знают, а копни человека поглубже, о-го-го! сколько всяких нечистых сидит в нем! Старое с новым присоседилось, да так, что с кондачка не сразу разберешь, где одно, а где другое. Срослись пуповинами… Возьмите того же Самсонова. На собрании он, слышали, выступал почище какого-нибудь лектора, в доме у него, как в аптеке, кругом под лак! А довелись ненароком наступить ему на хвост, он тут же ощетинится, зубки покажет: не смей, дескать, не трожь, это мое! Формально он колхозник, не придерешься, а внутри у него прочно сидит единоличник, попробуй, вырви его оттуда клещами! Да-а, нешуточное это дело…
По пути домой Кудрин поинтересовался:
— Говоришь, дочка Самсонова замужем за Кабышевым?
— Точно, за Кабышевым. Два года, как поженились. Повезло человеку, все равно что слепому петуху подсыпали гороху: жена учительница, хорошую деньгу огребает… С такой жить можно: напоит, накормит да еще рядышком уложит!..
Васька Лешак еще некоторое время продолжал рассуждать, а Кудрин думал о своем: "Да-а, далеко пустил корни этот Самсонов, попробуй, выдерни их! Неизвестно, с какой стороны подступиться… Сам числится в колхозе, дочка учительствует, зять колхозный механик. Все законно… Да, он себе на уме, не станет палить из обреза, как в тридцатых годах кулаки… Конечно, будь его воля, съел бы нас со всеми потрохами. Интересно узнать, какие у них отношения с зятем?"
Почуяв чужого, лохматая овчарка пулей вылетела из конуры и кинулась навстречу непрошеному гостю. Проволока, к которой был прицеплен бегунок, с тугим звоном потянула собаку назад. Овчарка вздыбилась на задние ноги, задыхаясь в тугом ошейнике, глухо зарычала, оголив желтые клыки.
На лай собаки Зоя метнулась к окну, раздвинув занавеску, осторожно выглянула во двор. Двор был пуст, однако овчарка продолжала метаться по проволоке. "Кого носит шайтан? На своих не стала бы лаять… С тех пор как Олексана выбрали в правление, покоя нет, без конца ходят…"
Она второпях накинула платок и вышла на крыльцо. За воротами кто-то стоял, в подворотне виднелись запыленные сапоги.
— Лусьтро, пшел! — прикрикнула Зоя на собаку. Зверь притих, не спуская с чужого человека злобного взгляда, шерсть на загривке угрожающе щетинилась.
С опаской косясь на овчарку, к крыльцу пробрался Самсонов Григорий.
— Однако не собака, чистый волк, случись, сорвется — истинный бог, загрызет! — пробормотал он, пробравшись в безопасное место. — Все ли здоровы у вас, дорогая сватья?
При виде свата выражение на Зоином лице сделалось умильным, голос стал приторно-певучим:
— Э-э, вон кто пришел! А я, слепая ворона, сразу-то и не признала! Слава богу, все здоровы, сват Гирой. Проходи, проходи в дом, давно не бывали у нас, этак можно друг друга совсем забыть! Еще ладно, дорогу к нам не позабыли!
— Что ты, сватья, мы у вас частые гости. Того и гляди под порогом капкан для нас поставите!
Пройдя в дом впереди гостя, Зоя кинулась поправлять и без того аккуратно лежавшие половики, смахнула что-то тряпицей со стола и лишь после того присела на краешек стула.
— Осто, что же ты, сват, сел у самых дверей? Проходи ближе!
Пристроившись на скамейке возле печки, сват Гирой принялся крутить цигарку.
— Ничего, сватья, не беспокойся, здесь тоже не чужое. Покурю я…
— Осто, кури, кури, сват, не стесняйся! Когда в доме табаком пахнет, так и кажется, что хозяин жив… — Зоя скорбно вздохнула и после некоторого молчания продолжала: — Бедный Макар; бывало, тоже курил вот так, у порожка… А я, глупая башка, ворчала на него. Теперь жалею, да поздно. — В голосе ее послышались слезы, она и впрямь приложила к глазам краешек передника. — На этом свете всего раз живем и то не можем по-хорошему. Только и жить бы в любви да согласии…
— Истинная правда, сватьюшка! — отозвался Самсонов. — Да не дал господь знать людям, какую судьбу он им уготовил. Кому как на роду написано… Кабы знала, что со сватом Макаром такое случится, ты бы ему слова поперек не сказала, я думаю…
— Так, так, дорогой сват! — закивала Зоя. — Кабы знать, где упасть, постлала бы соломки… И зачем только я услала его тогда в лес! Показалось, что нижний ряд в конюшне изгнил, Макару говорю: сменить бы надо, пойди, заготовь бревен. Он и послушался меня, глупую. Готова бы душу свою отдать, лишь бы его воскресить, да где уж… не поднять его из могилки. Видно, судьба была человеку…
Внезапно, оборвав печальный разговор, она всплеснула руками:
— Господи, что же это я угощаю гостя сухими словами! Совсем памяти не стало… сейчас самовар поставлю!
— Не стоит, сватья, не беспокойся. На таких гостей, как я, не напасешься…
— Сиди, сиди, сват, последнее время редко стал захаживать. Чай мы недавно пили, остыл немножечко… Да он еще не совсем, чтобы холодный, тепленький пока… После скажешь, поди, что сватья холодным чаем напоила!
Она проворно водрузила на стол ослепительно сверкающий ведерный самовар, нарезала хлеба, слазила в подполье за медом. Сбегала в огород и принесла в подоле десяток свежих, прохладных — прямо с грядки — огурцов.
— Огурцов нынче мало, неурожай на них. Рано высадила, и цвели хорошо, а огурцов, поди ж ты, мало. Сплошь пустые цветы. При Макаре пчел восемь ульев держали, через них пустоцвета не бывало, а нынче вот… Присаживайся к столу, сват Гирой, попробуй нашего хлеба-соли. Не обессудь, что на столе ничего нет…
Зоя осведомилась о здоровье сватьи Авдотьи, на что сват Гирой ответил, что "слава богу, бегает помаленьку, по хозяйству справляется", и в свою очередь поинтересовался, отелилась ли нынче у них корова.
— Отелилась корова, сват, отелилась.
— Телочку или бычка принесла?
— Бычка принесла.
— A-а, значит, бычка?
— Бычка, бычка, сват. До осени думаем держать, а там, бог даст, на мясо прирежем. По нынешним временам долго кормить нет никакого расчету.
— Истинно говоришь, сватья. Раньше, бывало, полон двор скотины, и все равно корму хватало, а нынче, как говорится, курице нечего подсыпать…
Сват Гирой поставил свою чашку кверху дном, стал выбираться из-за стола. Зоя с сожалением сказала:
— Сидел бы еще, сват! Видно, брезгуешь, ничем не закусил.
— Спасибо, сватья, наелся досыта. Меду сколько поел…
Зоя принялась убирать со стола, между делом со скрытой тревогой думала: "Какая нужда привела свата Гироя? Не зря, должно быть, шел в такую даль… С самой весны не показывался, не иначе как по неотложной нужде пришел".
Сват Гирой снова примостился возле порога, задымил самокруткой. Будто между прочим спросил:
— Видно, по хозяйству забот хватает?
— Хватает, хватает. Известное дело: у женщины и после смерти на три дня работы остается… Олексан чуть свет бежит к своим тракторам, а Глаша — в школу. Недосуг им хозяйством заниматься.
— Оно верно, сватья: для работящих рук всегда дело найдется…
И без того скудное русло разговора на этот раз, казалось, совершенно пересохло, на некоторое время оба умолкли, занятые своими мыслями. Наконец сват Гирой, сдержанно кашлянув в кулак, спросил:
— Зять Олексан в правлении колхоза часто бывает… Он вам… ничего не говорил?
— О чем это, сват? — с изменившимся лицом спросила Зоя.
— Люди разное болтают… Новый председатель был у нас, выступал против тех, у кого лишняя скотина имеется. Прослышал я краем уха, будто не сегодня-завтра пойдут по дворам составлять списки, а заодно и самогон станут искать. Кто знает, может, и врут… Думал, вам лучше знать, раз Олексан в правлении сидит…
Зоя в сомнении покачала головой:
— Не знаю, Олексан ни слова об этом… Господи, неужто людей хотят совсем без скотины оставить?
— Новый председатель круто берет, как бы не перегнул палку… Сказывали на собрании, чтоб на каждую взрослую душу не больше двух овец держали. А что сверх этого, без всякой задержки продать в колхоз.
— Осто-о, до каких дней дожили, сват: своей же скотиной попрекают! Олексан ничего такого не говорил. Уведут со двора корову, он и пальцем не шевельнет, такой бесхозяйственный!
Почувствовав, что сказала лишнее и сват Гирой может плохо подумать про зятя, Зоя поспешила исправить свою оплошность:
— День-деньской на работе, где уж ему о доме… Не жалеет он себя нисколько, готов последнее с себя отдать…
Сват Гирой понимающе закивал и, понизив голос, просительно заговорил:
— Тут такое дело, сватья… можно сказать, семейное. Ежели, скажем, пойдут по дворам записывать, у кого сколько и какого скота, то к вам не станут заходить, потому как Олексан сам в правлении… Так вы, сватьюшка, не откажите по-родственному: я бы привел к вам прошлогоднюю телушку и парочку-другую овец, чтоб от списочка уберечь… А там, как сыр-бор пройдет, я их обратно заберу… Не чужие мы с вами, сватьюшка, не отвернитесь сердцем в нужде.
В первую минуту, услышав о просьбе свата, Зоя пришла в замешательство. Не дай бог, если Олексан узнает. Тогда и самой Зое не будет житья. И без того ворчит, что "зря лишнюю скотину содержим, куда столько". А тут еще чужие… Но с другой стороны, сват Гирой им как-никак свой человек, родня близкая, нельзя не помочь.
— Вези своих овец и телушку, сват… От лишних глаз поостерегись, сват, всякие люди есть…
— Верно, верно, сватья, завидущих много. А я как-нибудь ночью, в темноте-то оно вернее будет. Продержать бы до осени, а там и на базар… Не беспокойся, сватья, как есть в порядке обернется!
На душе у Самсонова стало легче. Сказать по правде, по дороге к сватье он опасался, как бы ему не отказали в просьбе, дело ведь не шуточное. Но Зоя, что ни говори, оказалась женщиной понятливой. Придя столь быстро и удачно к доброму согласию, сват засобирался в обратный путь: дело к вечеру, а дорога для стариковских ног не близкая. В этот момент торопливо стукнула калитка, Зоя по привычке выглянула в щелку.
— Э, сват Гирой, не торопись, вон и Глаша пришла!
Завидев отца, Глаша с порога радостно заулыбалась:
— Ой, это ты, отец? Давно не бывал у нас, соскучилась я!
— Пришел вот, дочка. Думаю, повидаться надо со всеми. Видно, пока сам не придешь, вы не покажетесь. Мать там тоже соскучилась…
Поставив стопку ученических тетрадей на комод, Глаша скинула легкий плащ, осталась в одном платье. Самсонов неприметно осмотрел дочку придирчивым глазом, остался доволен: "Дочке на здоровье грех обижаться. Мать даже в молодости смахивала на сухую щепку, а эта в меня пошла, гладенькая, вишь… Такую любой зажмурившись взял бы". Заметив ласково-пытливый взгляд отца, Глаша почему-то вдруг застеснялась, проворно накинула халатик и прошла за перегородку. Лишь когда Самсонов увидел туго налившиеся груди и округлый живот дочери, он обругал себя слепым мерином: "Тьфу, и как это я сразу не догадался! Видно, скоро дедом стану. Господи, дай такого счастья! А сватья, хитрая баба, ни слова об этом… Ну да ладно, чего теперь делить. Если мальчик родится, подарю ягненочка! А коли девочка, хватит и гуся…"
Глаша пошла провожать отца. Дойдя до проулка, Самсонов завернул за угол, воровато оглянулся вокруг и, поманив дочку близко к себе, шепотом сообщил ей о причине своего столь неожиданного посещения. В конце он осторожно справился у Глаши:
— Олексан твой… как посмотрит на это?
Глаша успокаивающе кивнула отцу.
— Он и знать ничего не будет, отец. Мы ему не скажем, а в хлев он никогда не заглядывает…
— Вот и ладно, дочка. Ты пойми, я для вас стараюсь. Нам с твоей матерью теперь немного надо, а вам добро не помешает. Может, скоро к вам с подарками придем…
Поняв намек, Глаша застыдилась и отвернулась в сторону. Отец ласково тронул ее за плечо:
— А ты не стесняйся, дочка, не ты первая, не ты последняя… Всем положено пройти через это. Дай бог, чтобы все по-хорошему обошлось. Ну, я пошел.
Проводив отца, Глаша накормила кур, задала корму поросенку. Вскоре пришел с работы Олексан. Завидев во дворе жену, он улыбнулся ей, заглядывая в глаза, спросил:
— Глаша, ты чем-то встревожена? Случилось что? Или… время подходит?
Глаша жалостно улыбнулась в ответ:
— Ой, Олексан, мне так страшно… Теперь, наверное, уже скоро… Боюсь я чего-то, Олексан, слышишь?
7
День выдался знойный, безветренный. На улице ни души, даже куры и собаки и те попрятались в прохладную тень под амбарами. Скворцы давно покинули свои дачки на шестах, вывели своих, пока еще серых птенцов на луга, суетливо подкармливают великовозрастных лентяев и заодно приучают летать. Опустевшие скворечники тут же заняли нахальные, крикливые воробьи, ероша перышки, звонко перекликаясь между собой: "Ну как, соседка, устроились? Слава богу, эти гордецы скворцы догадались освободить наши квартиры! Чик-чирик, теперь хозяева — мы!" Верно сказано: пока ветер не дунет, всякая пушинка мнит себя камушком.
Надвигалась страда, а комбайны все еще не были готовы — не хватало запасных деталей. Восстанавливали старые, списанные детали, кое-где удавалось "выцарапать" новые, но все это было латанием тришкиного кафтана. Колхозные механизаторы в один голос ругали РТС за качество ремонта, а те в свою очередь огрызались и… снимали с колхозных счетов в банке очередную дань за ремонт.
Олексан наскоро пообедал, мимоходом бросил: "Ужинайте без меня". "Господи, за всех он в ответе, — вздохнула вслед ему Зоя. — Будто и семьи у него нет…" Пришла с работы Глаша, нехотя похлебала суп и прилегла отдохнуть. Ей теперь тяжело ходить, но хозяйству приходится управляться одной Зое. Исподтишка наблюдая за невесткой, она с удовлетворением замечала: "Видно, недолго осталось ждать. А сама молчит и молчит, хоть бы словом поделилась. Стесняется, должно быть: с первым ребенком завсегда так…"
Зоя решила угостить невестку вкусным обедом. Пройдя в амбар, зачерпнула горсть овса и принялась звонко скликать кур. Откуда-то с улицы прибежал здоровенный голенастый петух, потряхивая свесившимся набок гребешком, стал жадно клевать. Тут-то и схватила его хозяйка. Она уже давно собиралась отрубить ему голову, но всякий раз откладывала. И все-таки наступил его последний час… Сказать по правде, петух сам ускорил свою погибель: перестал обращать внимание на своих кур, все больше пропадал в компании соседских хохлаток. Зоя подумала, что мясо у такого гулены будет жестким, зато лапша получится на славу.
Глаша по-прежнему лежала на кровати, лицом к стене. По улице с грохотом проехал гусеничный трактор, оконные стекла тонко и жалобно зазвенели. Глаша даже не шевельнулась: это не Олексан. Мать сказала, что он уехал в дальнюю бригаду. Вечно он в разъездах, то в РТС, то у тракторов. В те редкие часы, когда бывает дома, больше молчит. Раньше он рассказывал Глаше о своей работе, но Глаша при этом начинала украдкой зевать. В самом деле, что может быть интересного в этих культиваторах, генераторах? Она в них не разбирается, да и ни к чему ей это. Однажды Олексан, не по-обычному возбужденный, стал чертить на бумаге и показывать ей какое-то приспособление, которое придумал он сам. Глаша изо всех сил старалась понять и даже задавала вопросы, чтобы не обидеть его, то, случайно посмотрев в окно, вдруг опрометью кинулась во двор: калитку, ведущую в огород, кто-то оставил открытой, поросенок воспользовался этим и теперь вовсю хозяйничал на грядках. Глаша загнала беглеца обратно во двор и вернулась к Олексану, но тот хмурился и молчал, скомканная бумажка с чертежом сиротливо валялась на полу. А Глаша так и не поняла, отчего он обиделся. Ведь если бы не поросенок, она б терпеливо выслушала Олексана до конца! И часто он из-за подобных пустяков понапрасну сердится на нее…
Нет, не умеет Олексан быть ласковым. Припоминается Глаше случай: однажды она рано поднялась с постели, вышла на крыльцо, еще храня в себе тепло от сна. Солнце только что взошло, роса на траве сверкает разноцветными бусинами, а воздух точно родниковая вода. Во дворе хлопочут куры, в хлеву повизгивает поросенок, ожидая корма; нетерпеливо блеют овцы — просятся на луга. Олексан что-то старательно вытесывает топором под навесом. Глаша едва не засмеялась от охватившего ее огромного чувства счастья. Ой, до чего ж ты счастлива! Вот оно, твое счастье, целиком на виду, точно на ладони!
Как все удачно сложилось в жизни: твои сверстницы месят грязь на колхозных фермах, а у тебя диплом учительницы, ты сама себе завоевала место в жизни, и никто теперь не отнимет его у тебя; погляди, какой у тебя сильный и здоровый муж, он не даст тебя в обиду, всегда защитит. А хозяйство какое! В нем, как в сундуке богатой невесты, есть все для спокойной, безбедной жизни. И хозяйка всему этому добру теперь ты! Ой, Глаша, в счастливый час, видать, родилась ты у матери! Она босиком пробежала через двор, оставляя на росистой траве темную цепочку следов, неслышно подошла к мужу и, обхватив его обеими руками, до боли крепко поцеловала в загоревшую шею. Олексан удивленно обернулся: "Ты чего? Не успела глаза разлепить, уже целоваться…" — "Олексан, милый, соскучилась я по тебе!" Глаша порывалась снова обнять его, но Олексан осторожно и в то же время решительно отстранил ее от себя: "Тоже выдумала… Шла бы лучше, оделась, — люди могут увидеть". Глаша сникла, радостного чувства как не бывало. Словно вырвали у нее ковш чистой, прозрачной воды, не дав утолить жажду. Господи, кому какое дело до ее счастья! Пусть люди смотрят и завидуют ей! Счастье свое она не украла, она добилась его сама, и никому не должно быть дела до нее!
…Несколько раз неслышными шагами подходила Зоя, думая, что невестка спит, — будить не решилась. А Глаша не спала. Она думала о будущем, и неясный, беспричинный страх закрадывался в ее сердце. Словно сквозь дремоту она чувствовала частые, как бы недовольные толчки в бок. Теплая волна нежности охватывала Глашу: "Еще не родился, а уже характер показывает! Кто он — мальчик или девочка? А как Олексан — прирастет он сердцем к своему ребенку? У них в роду, он сам говорил, не привыкли выказывать на людях ласку… Может, через ребенка он крепче привяжется к жене, а может, наоборот…" Ведь бывает и так. Сейчас Олексан очень внимателен к ней, без лишних слов исполняет каждое ее желание. Да, такой он нравится Глаше. Ей очень хочется, чтобы он был рядом с ней, когда начнется это… А как они назовут ребенка? Олексан уже выбрал имя: "Если будет мальчик, назовем его Виктором, Витей". Он где-то вычитал, что Виктор — это значит "Победитель". Глаше даже смешно стало: победитель, на первых порах даже материнскую грудь не сможет сам взять! Ну что ж, если Олексан так хочет, пусть будет Виктор. Сначала его будут называть ласково — Витюша, Витя, а потом он станет Виктором, а когда-нибудь он для всех будет Виктором Александровичем. Ой, об этом лучше не думать… Ну, а если родится девочка? Глаше очень правятся имена: Наташа, Люба, Юлия. А Олексан до сих пор не подобрал имя для девочки. Должно быть, потому, что ему обязательно хочется мальчика. Говорят, все отцы хотят, чтобы первенец обязательно был мальчик: не успеют родители оглянуться, а помощник вот он, уже вырос…
Глаша уснула. Зоя осторожно укрыла ее одеялом и с сожалением подумала: "Такой вкусный суп приготовила, а есть некому. Мясо этого забияки оказалось жилистым, но навар получился хороший, с золотыми кружочками жира. И Олексан не идет, запропастился там! Подожду, может, вернется скоро".
Около полуночи электролампа трижды мигнула и погасла. Зоя хотела засветить керосиновую лампу, по в этот момент под окнами послышался неясный шум, затем кто-то негромко постучал по наличнику. Зоя сунулась к окну, и когда глаза привыкли к темноте, различила в темноте запряженную телегу и рядом с ней свата Гироя. В телеге лежит что-то накрытое брезентом, к задку привязана рослая телка. Собака остервенело лает на ночного гостя, гремит проволокой. Не зажигая огня, Зоя, нацепив старую фуфайку, выбежала навстречу свату.
Самсонов шепотом торопил ее: "Открой-ка, сватья, ворота, неровен час, заприметят на улице… Собаку бы тоже унять надо".
Пока сват заводил лошадь во двор, Зоя в сторонке украдкой обмахивалась мелкими крестиками: "Господи, прости нас, не приведи, чтоб увидал недобрый человек…" Самсонов сдернул с телеги брезент, под ним оказались четыре овцы, спутанные по ногам тугой бечевой. Бедные животные лежали на боку, словно в немой мольбе запрокинув головы на спину.
— Овечек, сватья, к вашим выпустим. Телочку к корове… не перебодались бы только… Ну вот, слава богу, в сохранности будут.
Перепуганные овцы тотчас забились в дальний угол хлева, в темноте зелеными огоньками вспыхивали их зрачки. Невдомек глупой скотине, для чего их везли сo связанными ногами, в тряской телеге, под жестким и душным брезентом в такую даль, к тому же в глухую полночь. Бессловесная тварь покорна людским помыслам…
Не заходя в дом, сват Гирой завернул лошадь и поехал восвояси.
Наутро Зоя вышла с ведрами к колодцу. Через невысокую изгородь заприметила Харитона Кудрина и поспешно отвернулась. Но Харитон сам окликнул ее:
— Здравствуй, тетя Зоя! Рано же вы поднимаетесь! Олексан приехал?
— Ждали всю ночь, с тем и спать легли. Куда это услали вы его?
— В Дроздовке трактор под мост провалился, Олексан с ребятами уехал на помощь. Ночью у вас собака сильно лаяла, я думал, Олексан вернулся. Голосистый у вас пес, тетя Зоя, мертвого поднимет!
От страха Зоя вся похолодела, руки мелко задрожали. Через силу растянула губы в подобие улыбки:
— A-а, вы про собаку… Кобель он у нас, гулять просится, вот и лает зря… Время у них как раз приспело!
Кудрин рассмеялся:
— А чего зря на цепи держать, он живо найдет себе невесту!
Страх медленно отпускал Зою, словно она выходила из студеной воды на согретый солнышком берег: нет, Кудрин не видел свата и ни о чем не подозревает. А если собака лает по ночам, что ж такого? Кому не известно, что собаки частенько брешут просто так, oт нечего делать…
В ближайший субботний день активисты — члены правления и комсомольцы — выехали в бригады. Кудрин сам напутствовал их:
— Перед вами, друзья, стоит очень простая и в то же время весьма важная задача: выяснить, у кого сколько и какого скота имеется в личном пользовании. Попутно выявляйте самогонщиков. Снова и еще раз повторяю: вам надо соблюдать максимум вежливости, то есть без всякого принуждения. И вообще, не отнимайте хлеб у милиции… Желаю нам удачи!
Кто-то в последнюю минуту усомнился:
— Со злостными можно не цацкаться! Такие добровольно аппараты на блюдечке не принесут…
— А вы делайте главную ставку на доверие! Стучать по столу кулаком — для этого невеликий ум требуется, к тому же довод этот малоубедительный… Старайтесь договориться с женщинами, они наш добрый союзник в этом деле. Словом, как говорят военные, важен подход и отход…
Смеясь и подшучивая друг над другом, метнули жребий. Ехать в Бигру выпало агроному Сомовой, Башарову Сабиту и Михайловой Параске. Председатель внимательно оглядел их, затем, отыскав глазами среди собравшихся Олексана Кабышева, коротко кивнул ему:
— Придется тебе поехать с ними, им втроем за день не управиться. Как, не против?
— Мне все равно, куда…
Сказал и пожалел: "Зря поспешил. В Бигре не миновать встречи с Глашиным отцом, неизвестно, как он отнесется к нашему набегу… А, черт с ним, поеду!"
В тарантас запрягли рослого жеребца, Сабит сразу же предупредил, что править будет он, потому что "татарина хлебом не корми, только допусти до коня". И действительно, за какой-то час он домчал их до Бигры, после чего жеребец долго отфыркивался и гневно косился на лихого кучера. Секретарь бригадной парторганизации ожидал их в конторе, тут же разделились на две группы и разошлись по своим участкам. Олексан вдвоем с Сабитом направились вдоль широкой, заросшей пыльной травой и загаженной гусями улицы. Из окон домов на них посматривали то с любопытством, то с откровенной неприязнью.
— Валла, Аликсан, можно подумать, что они не видали живых людей! — сердито сказал Сабит. — Пли принимают нас за больших начальников? Аликсан, покажи, пожалуйста, где твой тесть живет? Теща тебя обязательно блинами угостит!
— Успеешь к ним, — нехотя буркнул Олексан.
В крайней избе, куда они зашли, жил старик Зиновий с женой и тремя перезрелыми дочерьми. При виде гостей он бестолково засуетился, подставляя стулья и покрикивая на женщин:
— Акулина, Верка, Анна, Онисья, подметите пол! Господи боже мой, что скажут люди! Где вы там пропали? Ай-яй-яй, непорядок какой…
— Ладно, дядя Зиновий, не беспокойтесь, — сказал Олексан, присаживаясь к столу и разворачивая лист бумаги. — Скот переписываем, для учета. Корову имеете?
— А как же, как же, есть коровенка, есть, милый человек! Без коровы нам невозможно. Как говорится, корова во дворе — еда на столе! — Старик еще больше засуетился, принялся показывать какие-то пожелтевшие, стершиеся на изгибах бумажки. — Страховка уплочена, вот и квитанция имеется! Старовата уже коровенка, ну да что поделаешь…
Жена Зиновия подошла к столу и решительно оттерла старика в сторону, метнув на него уничтожающий взгляд:
— Да ты сядь, сядь, чего размахался, трясогузка! У-у, бестолковый…
Сабит подмигнул Олексану: вот кто настоящий хозяин в этом доме. Действительно, Зиновий сразу сник, забился в угол и принялся набивать свою трубку. Жена его степенно села на хозяйский стул.
— Корова, говорите? Имеем корову. Записал? Овец пять голов… Свинью не держим. Птицу домашнюю тоже на карандаш берете?
— Нет, птицу не учитываем… Все у вас?
— Все, все, окромя этого, другой живности не имеем. Лишнее нам ни к чему… — Зиновий порывался было вступить в разговор, но жена так на него посмотрела, что тот осекся на полуслове и снова присмирел.
Олексан хотел спросить хозяйку про самогон, но она опередила его.
— Угощать вас, миленькие, нечем, уж извиняйте нас. Лет десять, как последний раз варила. Самой мне и духу не надо, а этот, — она кивнула в сторону мужа, — как замочит горлышко, так и вовсе дурак дураком становится! Так что извините.
Выйдя на улицу, Сабит сокрушенно защелкал языком:
— Тц-тц, Аликсан, теперь понятно, почему бабай Зиновий такой худой! Когда в доме много женщин, там шайтан поселяется! Валла, бедный человек…
У соседей ворота оказались запертыми изнутри. Олексан долго стучался, но никто не открывал.
— Никого нет. А кто знает, может, нарочно закрылись… После проверим. Ну, что ж, спасибо этому дому, пойдем к другому, Сабит.
В следующем доме они застали семью за обедом. Трое мальчишек — один меньше другого — сосредоточенно орудовали ложками, а увидев вошедших, точно по команде застыли с ложками в руках. Мать пристроилась сбоку, держа на коленях четвертого. Хозяин дома, — жилистый мужик с изрытым оспой лицом и бесцветными, точно подернутыми пеплом глазами, — нехотя поднялся навстречу нежданным гостям, неприветливо бросил:
— Садитесь…
— Спасибо, мы недолго. Ваша фамилия Шахтин? Ага, так… Колхозник?
Хозяин мельком взглянул на жену, та вместе с малышами быстро скрылась в "женской половине", за столом остался сидеть самый старший мальчик, по виду лет двенадцати. С вызовом в голосе Шахтин ответил на вопрос Олексана:
— Хозяйство в колхозе. А что?
— Сам где работаешь?
Шахтин с треском отставил стул, запальчиво выкрикнул;
— Вы что, с допросом?!
Остро отточенное жало карандаша в руке Олексана отломилось, заметив это, хозяйский сын проворно полез в свою школьную сумку и с готовностью подал половинку лезвия от безопасной бритвы. Стараясь оставаться спокойным, Олексан переспросил:
— Сам, говорю, где работаешь?
— Плотничаю. Небось скажете, нельзя? А это мое дело, где хочу, там и работаю! Не ворую, ясно?
— Шабашничаешь? Ай-яй, в колхозе плотники тоже нужны, почему убежал? — Сабит с притворным удивлением развел руками. Шахтин угрюмо отвернулся к окну.
— Сколько овец держишь, Шахтин?
— Три головы…
Олексан не успел записать, как вдруг молчавший до этого мальчик звонко сказал:
— Отец, ты ошибся, у нас шесть овец, я знаю! А еще ягненочки…
Шахтин с перекосившимся лицом подскочил к сыну, вцепившись в ухо, выволок из-за стола и швырнул на пол. Мальчик вскрикнул от боли и закрыл лицо руками. Шахтин занес руку, чтобы ударить его, но подоспевший Сабит удержал его.
— Валла, не надо обижать маленьких, ты плохой человек! Голова у тебя совсем не работает, хуже собаки стал!
Побелев от злости, Шахтин что есть мочи рванулся и угодил локтем в переносицу Сабиту. Тот глухо замычал и отпустил Шахтина.
— Вон отсюда, чтоб ноги вашей здесь не было! Уйдите прочь!..
Шахтин размахнулся тяжелым стулом, но Олексан, сидевший сбоку от него, успел ухватиться за ножку и с силой дернул к себе. Стул с грохотом упал на пол.
— Ну, вот так… — задыхаясь, выговорил Олексан, с трудом удерживаясь от нестерпимого желания ударить по щучьему лицу Шахтина. — Вот так! А теперь пойдем, покажи нам свою скотинку.
Хозяина словно подменили. Он в минуту как-то обмяк, плечи опустились, глаза мертвенно потухли. Горбясь и не глядя на людей, он первым шагнул к двери, за ним Олексан. Последним вышел Сабит, прикрывая ладонью ушибленный глаз.
— Открой! — пропуская вперед хозяина, приказал Олексан. Шахтин просунул руку в прорезь дощатой дверцы, отомкнул замысловатый замок. Заглядывая в полумрак хлева, Олексан позвал товарища:
— Сабит, можешь считать одним глазом? Считай… Шесть овец? Ясно. А в той половине кто? Ага, корова и бычок. Два подсвинка, говоришь? Записал, записал. Все? Ну вот, Шахтин, так-то лучше будет!
Шагая через двор к воротам, Олексан чувствовал на своей спине ненавидящий взгляд хозяина. В воротах он обернулся, сурово пообещал:
— Сына не тронь, Шахтин. Все равно узнаем, хуже будет!
Поглаживая рукой вскочившую шишку над глазом, Сабит с ожесточением сплюнул под ноги:
— Валла, Аликсан, для плохого коня не жалко хорошего кнута! Надо было чуть-чуть проучить его, зачем пожалел?
— Нельзя, Сабит. Нам за это знаешь как нагорит! А Шахтину рано или поздно все равно крылышки подрежут. Сегодня на чем держится, завтра на том и провалится, понял? Пошли дальше…
К полудню они обошли почти всю свою улицу. Оставался небольшой проулочек, где в зелени рябин и черемух утопали пять-шесть домов. Подходя к нарядному пятистенному дому с голубыми наличниками, Олексан замедлил шаги, в нерешительности потоптался перед широкими воротами с узорчатым солнышком на полотне.
— Тесть мой тут проживает… Зайдем, что ли…
Однако дом оказался запертым, на двери висел старинный, кустарной работы замок. Внезапно, словно из-под земли, вырос перед ними Самсонов, с деланным радушием воскликнул:
— Э-э, кто пришел! Здравствуй, Олексан, сынок!
Присматриваясь к Олексану и Сабиту, Самсонов прикидывал: позвать их в дом или не стоит? Натопчут, наследят, после убирай за ними…
— По свому делу приехал, Олексан?
— Скотину у колхозников на учет берем. Всю улицу обошли, один ваш проулок остался…
Неприятный холодок пробежал по спине Самсонова: "Неужто знает?" Но Олексан держался спокойно, шутил с товарищем, и у Самсонова отлегло от сердца: "Слава богу, ни о чем не знает". Он пригласил гостей в дом, подставил им стулья. Сев за стол напротив, заискивающе обратился к зятю:
— На бригадном собрании толковали об этом деле, а у меня совсем из ума вон, хе-хе! Память стариковская, что сито… Пиши, пиши, сынок… Скотину лишнюю отродясь не держали и поныне согласно колхозному Уставу держим. Запиши, сынок: корова одна, овец четыре штучки да поросеночек на полпудика. Вот и вся наша живность…
Олексан посмотрел на тестя со смешанным чувством удивления и недоверия. Лицо Самсонова оставалось непроницаемым.
— Но ведь у вас… я хорошо помню, была еще прошлогодняя телка?
Глаза тестя сузились, он покачал головой и строго проговорил:
— Была, да сплыла, сынок. Со стороны, конешно, считать нетрудно, а ты попробуй-ка сам похозяйствуй… Продали мы ту телушку, в прошлое воскресенье на базар свели. А коли не верите, можете в хлеву посмотреть. Скотину нынче легче продать, нежели прокормить…
Олексан помедлил, затем против фамилии Самсонова записал: "Корова — 1". Самсонов краем глаза покосился на бумагу и, стараясь избежать взгляда зятя, стал торопливо извиняться:
— Олексан, сынок, ты уж и не взыщи строго, сам видишь, не прибрано у нас, Авдотья куда-то вышла… Эхма, жалость-то какая! В кои-то годы один раз приехал, и то не можем по-настоящему угостить. Ну, бог даст, не последний раз…
Сабит незаметно ткнул Олексана под бок: пойдем, дескать, отсюда, видишь, не ко двору пришлись! Олексан сунул свои бумаги в карман и молча направился к воротам.
— Сватье Зое и Глаше привет передай, Олексан! — крикнул вдогонку Самсонов. — В гости приезжайте…
"Приедем, жди! — со злостью подумал Олексан. — Не будь ты отцом Глаши, я б тебе сейчас такое сказал!" Проходя мимо дома, он заметил промелькнувшее в окне скорбное лицо Глашиной матери… Самсонов со злорадством поглядел им в спину: "От наших ворот вам поворот, милые гости! Хоть ты мне и зять, а поить-кормить я тебя не обязан. Кабы по доброму делу зашел — тогда другой разговор, а то за чужую пазуху заглядываешь. Не тобой нажито мое добро, и не тебе его проверять! Чужое считать вы быстрые…"
Подходя к конторе, они издали услышали неясный шум и крики.
— Аликсан, здесь тоже драка? — изумился Сабит. — Как ты думаешь, второй глаз у меня сегодня останется целый?
В конторе, кроме Михайловой Параски, агронома и секретаря бригадной парторганизации, толпилось с десяток мужчин и женщин. Шумела и кричала жена Карабаева Матрена-Ероплан. Вцепившись в мужа, она пыталась вырвать из его рук какую-то медную, позеленевшую трубку, не переставая при этом истошно выкрикивать:
— Да вы посмотрите на этого идола, люди добрые! Другие на войне кровь проливали, а он, паразит этакий, всякое дерьмо подбирал! Тьфу на тебя после этого, медно горлышко-невыпиваюшко!
Лицо у Карабаева багровое, он озирается кругом, ища поддержки, слабо огрызается на вопли жены, словно затравленный собаками серый:
— Не могу… дорогая намять, с фронта… военный трофей…
Матрена-Ероплан ярилась все больше. Отпустив наконец мужа, она уперла руки в бока, сверля его глазами, что есть силы грохнула сапожищем об пол:
— Отдай добром! На моих глазах отдай, сивушный шайтан!
Карабаев снова начал было бормотать что-то насчет трофея, но Матрена с таким бесконечным презрением сплюнула ему под ноги ("Вот тебе твой трокей!"), а лицо ее при этом дышало такой решимостью к немедленной и беспощадной расправе, что он оставил всякую мысль о дальнейшем сопротивлении. "Трофей" очутился на столе. Странная медная труба оказалась частью самогонного аппарата, которую Карабаев приспособил вместо обычной деревянной. Все с любопытством столпились вокруг. Галя брезгливо дотронулась до позеленевшей трубки, брови ее удивленно округлились:
— О-о, посмотрите сюда! Видите, заводская марка, она сделана в Германии, на заводах Круппа…
Секретарь со знанием дела объяснил:
— Точно, фашистская штучка! Гильзы от снарядов семидесятипятимиллиметровой пушки… Запаял концами две гильзы и, пожалуйста, приспособился гнать самогон! Ха-ха, черт…
Он тут же осекся, почувствовав неуместность веселья. Одна из женщин с укоризной посмотрела на него:
— А чего тут смешного? Люди на войне головы пооставляли, безногими да безрукими калеками вернулись, а он немецкие железки подбирал! Тьфу, чтоб глаза мои не видели!
Галя не могла опомниться от изумления. Разглядывая трубку, она переспросила секретаря:
— Неужели это правда? Он ее… в самом деле с войны привез?
— Выходит, так. Такую штучку через Посылторг не выпишешь! Сунул в солдатский вещмешок и привез.
Секретарь взял со стола карабаевский "трофей" и бросил в угол, где в беспорядке громоздились деревянные трубки, котлы, кадушки, кастрюли — средства производства бигринских самогонщиков. Сабит с любопытством приблизился к этой куче, поцокал языком:
— Валла, они свой шурум-бурум никогда не мыли! Свинья из такого корыта кушать не будет, а люди араку пьют!
— Шайтан придумал вино раньше людей! — засмеялся кто-то.
— Зачем шайтан, откуда шайтан? — загорячился Сабит. — Люди придумали, нехорошие люди! Надо закон написать против таких людей, чтобы немного башкой подумал: или араку варить, или корову на штраф продать! Когда у глупого человека карман пустеет, голова умом наполняется, валла!
Мало-помалу контора опустела. Перед тем как проводить акагуртских, секретарь попросил у Олексана список, мельком пробежал по нему глазами и вдруг оживился.
— Стоп, стоп, тут что-то не то! Самсонов Григорий: одна корова, четыре овцы, поросенок… Вы тут чего-то напутали, ребята. У Самсонова, помнится, скотины гораздо больше, сам видел однажды: утром в поле гнал целое стадо. Кабышев, ты, случаем… тестя не пожалел, а?
Олексан почувствовал, как кровь прилила к затылку, застучала в висках. Он в растерянности оглянулся на Сабита, тот, поняв состояние друга, замахал на секретаря руками:
— Глупые вопросы задаешь, дорогой! Мы с Аликсаном вместе были, если ему тестя жалко, мне зачем врать? Самсонов мне совсем не родня! Аликсан правильно записал, своим глазом хорошо видел!
— Ну, ладно, ладно, — примирительно сказал секретарь. — Я же просто так спросил.
— Телку он продал, — не глядя на товарищей, глухо выдавил из себя Олексан. — А потом… я за него не ответчик!
Он резко поднялся и вышел из конторы. Всем стало как-то неловко, с укоризной посматривали на секретаря: надо же так, ни за что обидеть человека! Потоптавшись возле стола, Сабит тряхнул головой:
— Айда, поехали! Если гость долго сидит, хозяин часто смотрит на дорогу…
Целый день Глаша не находила себе места, то и дело подходила к окну, с растущим раздражением думала об Олексане: "Поехал со своими дружками, словно его за руку тянули! Мог бы найти причину, отказаться… Если бы не поехал, никто бы его не попрекнул: ведь все знают, что жена в положении. Не думает он обо мне, вот и поехал!"
Зоя тоже сердилась на сына, вздрагивала при каждом звуке с улицы. Ругала себя, что так легко, не подумавши, согласилась укрыть скотину свата Гироя. Вторые сутки она жила в постоянном страхе, боясь, что люди каким-то образом узнают, выведают ее секрет. Господи, думала она, хоть бы скорее увел свою скотину сват Гирой, а впредь она будет осторожнее, не даст так просто провести себя, Добро бы за свое, а столько страху натерпелась за чужое!
Неожиданно во дворе протяжно и тоскливо завыл пес. Зоя быстро перекрестилась и кинулась на крыльцо, с руганью загнала собаку в конуру. Сердце сжалось в предчувствии чего-то недоброго. Вот так же выла собака в день смерти Макара, видно, чуяла, что хозяина подстерегает смерть, бродит вокруг дома…
— Надо другую собаку завести, эта уже старая, — заметила Глаша, когда Зоя вернулась со двора. — Толку от нее мало, а жрет в два горла.
Зоя промолчала. Конечно, пес состарился, часто лает без толку, но Зоя привыкла к его голосу. Лусьтро являлся как бы посредником между внешним миром и домом Кабышевых. Нет, пусть Лусьтро пока останется, вот уже десять лет он верно служит им, послужит еще.
Громко звякнула щеколда калитки, Зоя бросилась к окну и облегченно вздохнула: возвращался Олексан. Она торополиво начала собирать на стол, но Олексан почему-то не спешил войти. Мать снова заглянула в узенькую щелочку между занавесками. Олексан через забор о чем-то переговаривался с Кудриным. Зоя приоткрыла створку окна, прислушалась.
— …списки мы оставили в конторе, там все записано…
— Долго вы чего-то пропадали, а?
— Задержались в Бигре. Стали выезжать, а упряжь полетела к чертям, кто-то гужи ножом изрезал. Ребятишки, видно, баловались.
Кудрин с сомнением покачал головой:
— Как знать, Олексан… Может, тем "ребятишкам" лет по сорок? От таких, как Шахтин или Карабаев можно ожидать любую пакость…
Олексан промолчал. Зоя со злорадством подумала: "Вот и не суйтесь в чужой огород, так вам и надо! Умные-то люди по домам сидят, а они, вишь, по чужим задворкам шныряют. Или тебе больше других надо? Кто живет тихо, тот не увидит лиха…"
Она с треском распахнула обе створки и позвала Олексана:
— Где тебя леший носит, Олексан? Наговоритесь после, суп остыл…
— Ладно, иди, Олексан, — кивнул Кудрин. — Женщины, знаешь, не любят, когда наш брат опаздывает к столу. Будь здоров!
Пока Олексан ужинал, Зоя с тревогой всматривалась в его лицо: уж не прослышал ли он в Бигре про скотину свата Гироя? Но Олексан ел с аппетитом, рассказывая Глаше о своей поездке.
— Ох, в водятся же в вашей Бигре типы, Глаша! Из-за пустяковины готовы друг другу горло перегрызть. Такие жилы! Живут богато, а без души…
— Почему "в вашей Бигре"? — пробовала обидеться Глаша. — Ты ведь знаешь, я там теперь не живу.
— А, правильно, ты теперь акагуртская. Карабаева там знаешь?
— Он мой крестный…
— Что-о, твой крестный? Вот это номер! Так вот, оказывается, твой крестный приспособился гнать самогон с помощью немецкого снаряда. Жена его сдала эту штуковину в контору, а твой крестный чуть не плачет. Ну и тип!
У Зои на душе повеселело: Олексан ни о чем не догадывается.
— Со сватом Гироем виделся, Олексан? — спросила она, стараясь перевести разговор в другое русло. — Все ли у них хорошо?
Неясная тень прошла по лицу Олексана, не поднимая головы от миски, нехотя ответил:
— Заходил. Живут по-старому…
Заметив перемену в настроении сына, Зоя перестала расспрашивать. Она вышла с подойником к корове, оставив Олексана вдвоем с женой. Олексан подсел к Глаше, взял ее руку в свою.
— Глаш, ну как у тебя?
Она положила голову на его плечо, прикрыла глаза.
— Ой, скоро, немного осталось ждать. Боюсь я, Олексан…
— Глупая, не надо. — Он легонько обнял ее за плечи. — Слышишь, не надо. Вот увидишь, все будет хорошо. Только ты, как только начнется, скажи мне, я попрошу у председателя машину и сам отвезу тебя в Акташ, ладно?
Глаша кивнула и теснее прижалась к нему. В такие минуты ей начинало казаться, что она еще совсем маленькая, и точно во сне проваливается куда-то в бездонную глубину, но ей ничуть не страшно, потому что рядом с ней большой, и сильный Олексан. Она переставала ощущать себя, словно сливалась с Олексаном в одно, и вместо двух сердец билось одно, большое и нежное. Но такие минуты случались редко. Душа Олексана, словно цветок перед дождем, вновь закрывалась, он уходил в себя, становился прежним, замкнутым Олексаном. Вот и сейчас, осторожно, отведя Глашину руку, он поднялся:
— Хватит, Глаш… Ты ложись, а я пока полистаю один журнал.
Глаша вздохнула и принялась разбирать постель. Ей хотелось просто полежать под толстым, теплым одеялом и смотреть, как Олексан сидит за столом и, шевеля губами, читает какой-то журнал о комбайнах, косилках и еще о чем-то. Но вскоре от яркого света электролампы в глазах у нее защипало, голова упала на подушку и она заснула. Олексан, оторвавшись от журнала, посмотрел в сторону жены, с незнакомой прежде теплотой подумал: "Пусть спит, ей это сейчас полезно. Теперь она устает за двоих, и сил надо набираться тоже на двоих…" В доме было тихо, привычно шаркали большие настенные часы, за перегородкой негромко посапывал" во сне Зоя.
Без четверти двенадцать лампочка мигнула трижды подряд: это дежурный на электростанции дает знать, что пора гасить свет… Дизельную электростанцию достали с большим трудом, и гонять ее ночи напролет жалко, потому что вторую такую дадут не скоро. Вот почему ровно в двенадцать в окнах домов, на уличных столбах и на фермах враз гаснут огни, и Акагурт до новой зари погружается в темноту.
Перед тем как лечь, Олексан вышел во двор подышать: за целый день солнце, переходя из окна в окно, здорово нагревает дом, и спать в нем жарко. А ночи — теплые. Олексану очень хочется спать в сарае, но мать ворчит, что сено покрошится и скотина не будет его есть, нынче и без того с кормами туго. А Глаша говорит, что боится спать без Олексана. Смешная она, Глаша, порой точно маленькая, боится всего. Во время грозы укрывает тряпками самовар, закрывает задвижку в печной трубе, а сама забивается в чуланчик и вздрагивает при каждом ударе. Олексан, поддразнивая ее, нарочно стоит у окна и озорно смеется: "Ух ты, как грохнуло, даже дом присел! Глаша, подойди сюда, погляди, красота-то какая! Эх ты, трусишка…"
Ночь выдалась светлая. Луна в небе здорово смахивала на круглый медный поднос, когда Зоя, почисти" его речным песочком, вешала на гвоздь, и от подноса во все стороны разливалось праздничное сияние. Деревья в саду застыли в чутком молчании, на ветвях можно сосчитать каждый листик, а ствол березы, что растет за баней, будто весь обмотан белоснежным домотканым полотном. При виде ее у Олексана больно сжалось сердце: вспомнился отец. В детстве, бывало, Олексан еще только просыпается, а отец уже за ворота, за поясом у него неизменный топор. На нем старенький, неизвестно когда сшитый пиджак, подпоясанный ремнем, а на ногах белые онучи из грубой домотканины. Отец уже шагает в конце улицы, а Олексану все еще видно, как неторопливо мелькают его ноги в белых онучах. В чулане на полочке стояли его добротные сапоги и хорошие, на кожаной подошве, штиблеты, но отец продолжал ходить в лаптях: говорил, что в них ноги не потеют и не устают. Крепко сидела в отце бережливость, часто повторял он свою излюбленную поговорку: "Скупость — не глупость", и добавлял насчет запаса, который карман не дерет… Да, отец всегда старался, чтобы в хозяйстве всего было припасено впрок. Может быть, он ждал и боялся каких-то перемен, когда ему с семьей поневоле придется отсиживаться за своим забором и тогда эти запасы как раз пригодятся? Но нет, мир остался прежним, особых перемен не произошло, зато самого Макара знойным днем снесли на кладбище и зарыли и землю рядом о отцом, который научил сына этой "бережливой" жизни… Для чего жил человек? Вроде бы и жил, а жизни не видел. Нет, Олексан хотел жить иначе, он не собирается идти по протоптанной отцом стежке. Зоя тоже наставляла Олексана-школьника: "Возьми с собой еду, да не больно раздабривайся перед другими! Смотри, никому не давай, сам ешь. Знай себя, и ладно. Всем поровну не бывать, пальцы на руках — и то разные. Солнышко вон всем видно, а всякого по-разному обогревает… Отдавать легко, да просить тяжело, это ты запомни, Олексан! "Она и теперь часто ворчит с неудовольствием, что он, Олексан, не умеет вести хозяйство, слишком добр и доверчив к людям. Что ж, она прожила долгую жизнь, успела состариться вместе со своей верой в бога и неверием в людей. Поздно ее переучивать. Лишь бы не мешала ему, Олексану, строить жизнь по своему понятию. У него своя линия… А Глаша, как же с Глашей? Всем она взяла, и наружностью, и прилежанием, и образованием, а чего-то очень нужного ой не досталось. С матерью Олексана она ладит, живут в мире и понимании, а к другим Глаша оборачивается иной стороной, словно озлилась она на всех людей, подозревает их в чем-то нехорошем. Вспоминается Олексану случай, когда она пришла из школы сильно расстроенной, принялась за глаза поносить учителей-товарищей по работе. "Постон, Глаша, о ком ты?" Глаша распалилась пуще прежнего: "Есть у нас такие, первый год работают, тьфу на них совсем! Только и слышишь от них: "Товарищи, поможем колхозной самодеятельности, товарищи, выедем по бригадам с лекциями…" Им-то что, ни кола, ни двора, живут на школьной квартире, да еще другим указывают! Подходит ко мне сегодня эта вертихвостка и говорит: "Глафира Григорьевна, вы не подоге никакой общественной работы, это нехорошо". А я не стала ей в глазки заглядывать, прямо сказала: "Мне и без нашей общественной работы дома дел хватает, хорошо ли, плохо ли живу, мне об этом самой лучше знать!""Небось прикусила язычок-то… Нажаловалась директору, он меня вызвал и напал выговаривать, будто государство меня выучило, а я не хочу возвращать какой-то там долг. Чуть что, и сразу начинают попрекать дипломом, а я у государства не просила ни копейки, меня отец на свои деньги выучил!"
Олексан никогда до этого не видел Глашу в таком состоянии: глаза ее горели злобными огоньками, по лицу пошли пятна.
— Ну что ты, Глаша, брось волноваться… Тебе сейчас нельзя волноваться. А потом, мне кажется, ты не права. Подумай сама: будь у тебя даже мешок денег, но если государство не откроет школы, институты, где ты тогда будешь учиться?
Глаша презрительно посмотрела на Олексана и резко отвернулась от него:
— Еще и ты будешь меня учить! Были бы деньги, остальное само придет!
Деньги сами по себе ничего не могут сделать. Главное, Глаша, человек!
Глаша не ответила. Разговор этот оставил в душе Олексана неприятный след. Он словно увидел Глашу другими глазами, ему стало больно и неловко за нее. Мысленно он несколько раз возвращался к этому разговору, горячо возражал Глаше: "Нет, Глаша, ты не права! Ты много училась, разве тебе не говорили, ради чего живет человек на земле? А если ты сама этого не знаешь, то чему можешь научить ребят? Какую дорогу ты им укажешь? А ведь они верят тебе, ты для них — учительница!" Олексан не раз пытался снова поговорить с Глашей, но она лишь досадливо отмахивалась: "Нашел, о чем рассуждать, у меня вон белье замочено, стирки на целый день, в огороде не полото…"
Олексан выкурил третью папиросу, во рту жгло от крепкого табака. Тщательно затоптав окурок, он занес ногу, чтобы подняться на крыльцо, и остановился, услышав глухую возню в хлеву. Жалобно проблеяла овца, затем все затихло. "Мать, наверное, загнала овец к корове, а там такая духота, корова может насмерть забодать их. Пойти, отделить…"
Овцы испуганно шарахнулись от раскрытой двери, сгрудились в дальнем углу хлева. Олексан шагнул в темноту, чиркнул спичкой. Глухо топоча, овцы кинулись к выходу и выбежали во двор. "Что за черт, тут их целое стадо! — изумился Олексан. — Должно быть, чужие бараны затесались. Осенью, когда молодых барашков начинает неудержимо тянуть к ярочкам, они нахально лезут в чужой двор, и хозяева в эту пору не беспокоятся и не разыскивают их: небось отгуляют свое и вернутся восвояси…"
Олексан распахнул дверь коровника. Из темноты на него двинулась большая, неясная туша. Вполголоса ругнувшись, Олексан успел отскочить в сторону. Мимо него, с чавканьем, выволакивая ноги из густой грязи, грузно прошла чья-то незнакомая корова. Олексан снова чиркнул спичкой, — при неярком, дрожащем свете успел приметить белую залысину на лбу животного и косой надрез-метку на правом ухе. Метка эта показалась ему странно знакомой. "Постой, постой, да ведь это… где я ее видел? — забормотал он, торопливо нащупывая новую спичку. — Это же телка Глашиного отца, ихняя метка!" Спичка дрожала в его руках, когда он приблизился к телке. Сомнений не оставалось: это была телка тестя. В Акагурте, он это знал наверняка, ни у кого не было такой метки, а эту он запомнил. В прошлом году, когда тесть подарил им на день рождения Глаши месячного ягненка, у того на кончике розового ушка тоже красовалась самсоновская метка — косой надрез ножницами…
Его обожгла догадка: "Глашин отец скрыл свою скотину от переписи! Скрыл у своего зятя, уверенный что к нему никто не заглянет!" Олексан в ярости ткнул носком сапога в тугой, неподатливый бок равнодушно жующего животного, бросился к крыльцу, рванул что есть силы за дверную ручку.
— Мать, вставай!
Зоя спросонья испуганно вскочила с постели:
— Олексан, ты? Что случилось?
— Я, я! Встань, говорю, живо!..
Прислонясь спиной к дверному косяку, Олексан рванул ворот душившей его рубахи, с сухим треском посыпались на пол белые пуговки, точно горошины из лопнувшего перезрелого стручка.
— Осто, Олексан, ты с ума сошел! Или стряслась беда какая?
— Чья скотина… в хлеву? — Олексан тяжело двинулся к матери, точно слепой, придерживаясь рукой за дощатую заборку. Зоя ошалело опустилась на постель, от страха у нее зашелся язык. Олексан угрожающе повторил: — Чья скотина в хлеву?
— Олексан, сынок… господи боже, сглупила я, прости меня! Сват Гирой упросил, невиноватая я… Не чужой ведь он нам.
Проснулась Глаша, выпростав из-под одеяла голые плечи, приподнялась на кровати.
— Ой, напугалась я! Олексан, ты еще не спишь?
— Уснешь с вами!.. — Он с грохотом отшвырнул подвернувшийся под ноги стул и кинулся во двор. Выдернув дубовый запор на воротах, настежь распахнул их. В этот момент из-за тучки выглянула луна, и в ее холодном, равнодушном свете во дворе Кабышевых предстала странная картина: по двору мечется мужчина с дубовым колом в руках, дрожащие овцы шарахаются от него, а на цепи рвется, задыхается от собственного лая большая серая овчарка; на крыльце плачут и голосят женщины.
До самого утра по пустынным, тихим луцам Акагурта бродило небольшое стадо, в лунном свете печально и недоуменно поблескивали влажные овечьи глаза. И не понять было бедным животным, что, хотя люди умны и сильны, но очень часто они совершают большие глупости, не умеют пользоваться своей силой и умом…
К Петру Беляеву, где квартировали трактористы, Олексан пришел задолго до восхода солнца. Лицо у него было осунувшееся, серо-землистого цвета, в глазах сквозила смертельная усталость, одежда помята, к сапогам пристала неизвестно откуда взявшаяся в такую сушь бурая грязь. Было похоже, что он всю ночь прошатался неизвестно где, колесил по полям, словно убегая от неведомых преследователей. Стараясь не шуметь, он осторожно прикрыл за собой калитку, дошел до крыльца и медленно опустился на приступок. Уткнувшись головой в колени, просидел некоторое время, не шевельнувшись. Позади него тоненько скрипнула дверь, мягко шаркая валеными галошами, на крыльцо выбрался старик Беляев.
— Эге, Олексан, ты сегодня что-то рано? — сипло протянул старик. — Куда в такую рань? Самое время спать..? А мне вот никак не уснуть, сон бежит от старости. Ушаков с Андреем на сарае постелили, присуседься к ним.
Олексан покачал головой:
— Не до сна теперь, дед…
— Что так? — не унимался старик, с кряхтеньем устраиваясь на приступок возле Олексана. — Хм, тамаша какая… А меня в твои годы, помню, с семью колоколами не могли добудиться. К старости, слышь, самая главная сонная нерва иссыхает, отсюда и бессонница.
В аккурат к полночи начинает тянуть к горячему чайку, сам ставлю самовар, завариваю на мяте. Эко диво: в ночь-полуночь чаевничать, а!
Олексан, не отвечая на бормотание старика, по-прежнему сидел, не шевелясь. Не поворачивая головы, будто продолжая вслух мучившую его мысль, он ровным голосом проговорил:
— Как по-твоему, дед, для чего человек живет на земле?
Старик долго не откликался. Посматривая бледно-голубыми, выцветшими глазами на чуть заалевший восход, он, не глядя, привычными пальцами набивал самодельную трубку.
— А сегодня, по всему видать, будет вёдро, — задумчиво сказал он, словно не расслышав вопроса. — Ночь была лунная, росы — хоть умойся… Ты, видать, нехорошо спал эту ночь, со вчерашнего устатку голова не просвежилась… Для чего живет человек? А кто его знает. Живет, да и только.
— Нет, ты мне по правде ответь. Просто-так живет скотина, деревья. А ты прожил долгую жизнь, должен знать, дед…
Старик снова долго не отвечал, не сводя взора с бледнеющего с каждой минутой восхода.
— У кого как, сынок. Люди разные бывают. Спроси об этом у людей, ученых, они должны знать. И сами вы читаете книги, газеты…
— В книгах об этом каждый на свой лад пишет. А ты мне прямо скажи! — не унимался Олексан.
— Кхе-кхе, Олексан, сдается мне, ты с вечера малость выпил и спал неловко. Бывает, спит человек на левом боку и с утра, ходит вроде как шальной… Верой живет человек, если хочешь знать. И питается всю свою жизнь этой верой. Скажем, напала на тебя хворь какая… Коли крепко веришь в свое избавление, значит, должен обязательно выздороветь. Хоть и ее дано человеку знать про свою жизнь наперед, но его всегда выручает вера. Этим и живет человек!
Довольный удачно найденным объяснением столь запутанного вопроса, старик с хитроватой усмешкой покосился в сторону собеседника. Олексан нетерпеливо переламывал в пальцах сухую веточку.
— Нет, я о другом…
— А о другом я ничего не могу сказать, парень. Жизнь — она такая штука, одной голове не обмозговать. Всякие люди живут на земле, и каждый идет по своей стежке, один всю жизнь землю пашет, а другой в генералах ходит. Одно я скажу тебе: не завидуй богатству, потому что богатство лишает радости. Случалось тебе видеть, как танцуют пчелы, ежели медосбор хороший? А вот трутни никогда не танцуют. И у людей так… До революции, при царе Миколашке призвали меня в солдаты. Донимали нас словесностью, вроде как школьников, заставляли учить назубок: какой император сколько раз воевал, сколько народу положил и сколько городов порушил… А толку? Были императоры и сплыли, их теперь даже в школах, слышно, не проходят.
Старик помолчал, пососал трубку и неожиданно спросил:
— Возле Красивого лога мост через речку стоит, знаешь?
— Знаю. Ивашкин мост его называют…
— Во-во, Ивашкин мост! А с какой стати, знаешь? То-то, парень! Дед мой Ивашка ставил его. Теперь, известное дело, дедовы сваи все до единой погнили, мост заново построили, а название так и осталось: Ивашкин мост! Люди, парень, не забывают добро-то! А ежели для себя одного жить, — кому ты нужен такой? Может, вспомнят, дескать, жил да был такой-сякой, немазаный-сухой, в две глотки жрал, в три задницы… Человек — не навек, а пока ты жив, воспитай ребят, построй дом и вырасти хорошее дерево.
Из-за зубчатой кромки дальнего леса показался краешек солнца. Первые его лучи пронизали верхушки тополей, и по мере того как солнце поднималось все выше и выше, жаркое его золото стекало с тополей все ниже и ниже, к самой земле. Туман над речкой Акашур медленно, чуть приметно заколебался: словно пробуя силу, ветер спросонок дохнул в четверть силы…
— Погожий будет нынче день, по всему видать, — пробормотал старик, поднимаясь с места. — Случается, в это время дожди зарядят, ветер с гнилого угла дует, не дает убрать урожай. А нынче, вишь, погода установилась… Ты, Олексан, ложись на мое место в чулане, мухи там не мешают. Ребята не скоро поднимутся…
Только теперь Олексан почувствовал огромную усталость. Пожалуй, старик прав, надо соснуть хоть часок. А может, сходить домой? Нет, сейчас туда нельзя. Там сейчас… Ему не хотелось думать об этом, и он усилием воли отогнал от себя мысль о доме. Пьяной походкой поднявшись по ступенькам, он прошел в чуланчик и, не раздеваясь, повалился на свалявшийся, жесткий соломенный тюфяк. Заложив руки за голову, долго лежал с открытыми глазами, бездумно наблюдая за тем, как пляшут пылинки в лучах солнца, пробивавшихся сквозь щели ветхой крыши. Ему не хотелось ни о чем думать, незаконченные обрывки мыслей вяло цеплялись друг за друга: "Хороший день… в Бигре стоит трактор. Как в Бигре? А-а; да, да… Глашин отец… А она, Глаша, знала об этом? Не может быть… Надо спросить у нее самой, да, да, обязательно спросить…"
Проснулся он от громкого говора. Открыв глаза, не сразу понял, где находится. Потом из глубин памяти медленно всплыли картины вчерашней ночи; не разжимая рта, он глухо застонал и заставил себя подняться.
В горнице за столом сидели трое: Мошков Андрей, Сабит и председательский шофер Васька Лешак. Завидев Олексана, он приветственно помахал ложкой:
— Первые задних не ждут, товарищ механик! Свою долю, Олексан, получишь сухим пайком. Не люблю, когда за столом место пустует. Как говорила моя бабка, свято место не должно быть пусто.
Пока Сабит с Андреем подносят ложки ко рту, Васька успевает зачерпнуть дважды.
— Суворов был мужик что надо, правильно подметил старик, что путь к победе лежит через желудок солдата… Что верно, то верно. Эхма, этот кусочек так и смотрит на меня…
Нацелившись вилкой, Васька подцепил "кусочек" мяса с добрый кулак и принялся рвать крепкими зубами. Сидевший рядом с ним Сабит огорченно покрутил головой:
— Валла, Василий, тебя похоронить дешевле обойдется! В один курсак полбарана затолкал… Какой шайтан принес тебя сюда?
— Ничего, ничего, Сабит, на твою долю я оставил.
Зря ты паникуешь, это влияет на пищеварение. Видишь, мосол лежит, на нем еще до лешего мяса, при желании можно накормить целый взвод! Ты давай, заправляйся по-быстрому, председатель велел подбросить тебя в Бигру, подменить Очей. Скажи спасибо, бритая башка, что председатель машину тебе разрешил!
— Валла, Василий, ты как чушка: много визжишь, а шерсти совсем нету! — смеется Сабит, поглаживая удивительно круглую и выскобленную бритвой до синевы голову. Беззлобно подтрунивая друг над другом, они с непостижимой быстротой опорожнили большую миску, и когда хозяйка — жена Петра Беляева — вернулась к столу с кринкой молока, она изумленно всплеснула руками:
— Осто-о, дочиста вылизали! Чем же я теперь Олек-сана накормлю? Молочка хоть попей, Олексан. Или тебя дома сытно накормили?
— Спасибо, я поел, — соврал Олексан.
Васька Лешак наконец выбрался из-за стола, сыто жмурясь, сел рядом с Беляевым на порожек.
— После вкусного обеда, по закону Архимеда, нужно закурить! Угостишь табачком, дед?
Оторвав от газеты солидный лоскут, Васька полез всей пятерней в дедов кисет. Дед лукаво усмехнулся:
— Кури, Архимед, у меня табак не покупной, сам-трестовский.
— Хе, скажешь же, дед! — Васька ловко склеил самокрутку, чмокая губами, потянулся прикуривать. С первой же затяжки глаза у него полезли на лоб, он долго хватал ртом воздух и, отчаянно кашляя, вытирал кулаком выступившие слезы. — Ну, таба-ак! Будто натощак сто граммов купороса тяпнул! Случайно, куриного дерьма не подсыпал, дед? Говорят, для крепости пользуются…
— Что ты, милок! Табачок этот я специально для таких, как ты, стрелков берегу. Разок попробуют, другой раз не просят!
Васька сделал обиженное лицо:
— Вот это зря, дед! Я, например, при желании могу постоянно курить "Беломор", а стреляю, как ты говоришь, из голого принципа. Чужое — оно всегда заманчивее. Скажем, отчего мужики предпочитают чужих баб?
— От глупости да от безделья, — рассудительно пояснил старик Беляев. — К примеру, ежели жеребца долго не запрягать, то ему и овес нипочем, от лишнего жиру кормушку грызет зубами…
Крыть Васе было нечем, тогда он обрушился на Сабита за то, что тот чересчур долго копается, стал уличать в обжорстве и лени. Ему, Василию Пронькину, будучи на службе в армии, приходилось возить полковников и даже генерала, а теперь, видите ли, он зря теряет время из-за какого-то бочонка с салом… Продолжая лениво переругиваться, они вышли к машине. Олексан хмуро поглядел нм вслед, затем вдруг поспешил вдогонку. Отозвав Ваську Лешака в сторонку, не поднимая глаз, сумрачно спросил:
— Ты в Бигре знаешь… Самсонова Григория?
— Ого, еще бы! — хохотнул Васька. — Он же тесть твой? Мы с ним во какие друзья!
— Ладно, не трепись! Увидишь его, передай, чтоб пришел в Акагурт. Скотина его… приблудилась к нам, бродит без присмотра. Чтобы шел за ней…
— Хе, милый зять проявляет трогательную заботу о родственничке! Шут с вами, передам… За такую весточку он на меня молиться должен!
Резво подскакивая на рытвинах, "газик" запылил вдоль улицы, и вскоре кургузый задок его, мигнув красным сигнальным глазком, исчез за поворотом. Олексан постоял минуту-другую, затем, заложив руки глубоко в карманы, зашагал к мастерским.
Сват Гирой приехал к полудню. Привязав запряженного в громоздкую телегу мерина к столбу ворог, сам туча тучей переступил через порог, встал посреди избы, не поздоровавшись. Навстречу ему из-за перегородки — Глаша с опухшим от слез лицом. Следом за ней показалась Зоя, пряча руки под передником, прошла к столу, горестно всхлипнула:
— Не чаяли беды, сват… Господи боже мой…
Сват Гирой отрешенно махнул рукой.
— Задним умом не поправишь дела, сватья! Видно, не судьба… На старости лет не хочу такого позора на свою голову. Да и дочка моя не обсевок в поле, завсегда себе место подыщет. Кому охота через чужую дурость из людей в нелюди… — Подбородок у свата Гироя задрожал, он потоптался на месте и снова махнул рукой: — Собирайся, дочка. Вещи свои подбери, чтоб после не ворочаться…
Услышав такое, Зоя отшатнулась, лицо ее стало меловым, тонкие, бескровные губы запрыгали. С плачем она протянула руки к свату, запричитала ушибленной наседкой:
— Осто, сват, опомнись, что ты говоришь! Глашу от нас… уводишь? Господи, люди-то про нас что скажут! Да она мне все равно что родная, слова обидного не говорила. Глашенька, что же ты молчишь-то? Боже великий, смилуйся над нами…
— Наперед у сына своего спросила бы, сватья! — сурово оборвал ее Самсонов. Поджав губы, обернулся к плачущей дочери: — Айда, собирайся, Глафира.
Лицо у Глаши подурнело, в глазах плескалось глубокое отчаяние. Не в силах смотреть на горе дочери, Самсонов угрюмо насупился, в горле у него тоже пощипывало. За свой век ему пришлось резать немало овец, он привык равнодушно заглядывать в полные немого страха и покорности овечьи глаза: второпях пробормотав заученные слова "господи, прости нас, не нами заведено, отцы и деды жили таким обычием", он одним рассчитанным движением умел перерезать глотку своей жертвы до шейных позвонков… Теперь в глазах дочери ему почудилась та же бессловесная овечья покорность, она будто хотела сказать ему: "Воля твоя, отец, я не могу ослушаться тебя. Ты вскормил, вспоил и вырастил меня, и твое слово — самое большое. Я не пойду поперек твоей воли…" Но в глазах дочери он прочитал и другое, она словно бы молила его: "Отец, а как же Олексан? Ведь я люблю его, люблю, мы ждем ребенка… Как же я вот так просто уйду от него?"
Зоя воспользовалась заминкой, снова принялась униженно просить свата:
— Одумайся, сват Гирой, не держи зла на сердце! Люди над нами станут смеяться… Неужто не уладим промеж себя? О дочке подумай, сват, дочку пожалей…
Самсонов упрямо покачал головой:
— Поздно, сватья, передумывать, слова своего обратно не возьму. Тебе бы самой раньше о сыне подумать… Ославил меня сынок твой на всю округу, и не будет ему от меня прощения! И Глаше с ним не жить, вот мое последнее слово! А ты, Глафира, поторапливайся…
Он в минутной нерешительности постоял перед Глашиной кроватью, затем торопливо и неумело принялся свертывать покрывала, кружева, накидки… Глаша не выдержала, бросилась к отцу: "Запачкаешь! Я сама…" Кряхтя от натуги, Самсонов обеими руками обхватил огромную, туго набитую перину и грузно протиснулся в дверь, сгибаясь под своей ношей. Избегая взгляда свекрови, Глаша в каком-то исступлении принялась собирать вещи, запихивала их в большой, окованный блестящими полосами железа сундук. Отступать было поздно, и она спешила, судорожно, в каком-то беспамятстве срывала тюлевые занавески, ковер со скачущей тройкой, скатерть с кисточками, вышитые дорожки…
Совершенно убитая свалившимся на нее несчастьем, Зоя не показывалась из "женской половины", словно происходящее в доме не касалось ее. Громыхали шаги в сенях, хлопала и жалобно скрипела дверь, несколько раз возвращался сват Гирой, вынося Глашины вещи. Плакала Глаша, собирала свои пожитки, а Зоя оставалась безучастной ко всему. Тяжело опершись костлявыми руками, она сидела на широкой лавке за перегородкой, уставившись померкшим взором в одну точку, и беззвучно шевелила губами. Глаша что-то сказала ей, она даже не шевельнулась, расслышала лишь одно слово: "Олексан", но не поняла, что к чему. Глухой стук отъезжающей телеги показался ей ударами сухих комьев земли по крышке гроба. В доме стояла холодная гнетущая тишина. Окна, оголенные и пустые, равнодушно смотрели на окружающий мир тусклыми, пыльными стеклами-зрачками. Лишь одна мысль назойливо билась и стучалась в сознании Зои, ища выхода, точно одинокая и обессилевшая осенняя муха на оконном стекле: "Кончено, все кончено…" Тупая, ноющая боль заставила Зою выпрямиться; держась рукой за грудь, она обвела глазами голые стены. Там, где висел ковер с тройкой скачущих коней, теперь смутно желтело огромное квадратное пятно, на полу валялись забытые впопыхах Глашей старые, стоптанные войлочные тапочки, в углу сиротливо жались выходные сапоги Олексана. Глашина кровать, лишенная своего красивого наряда, стояла на месте: не хватило места на возу, сват Гирой решил приехать за ней после.
Волоча ноги, Зоя медленно выбралась на крыльцо и опустилась на ступеньку. Повязавшись старым, выцветшим кашемировым платком, давним подарком мужа, она долго сидела там, сгорбившись и не двигаясь. Боль в груди не проходила. Старая овчарка, положив морду на лапы лежала перед ней, слабо повиливая хвостом, но хозяйка не обращала на нее внимания.
Олексан шел домой в твердой уверенности, что его встретят укорами и плачем, и мрачнел с каждым шагом. Но встреча была неизбежной, и он внутренне готовился к этому, заранее угадывая, что будут говорить Глаша и мать, и как потом на несколько долгих дней между ними ляжет невидимая пропасть, и трое в одном доме, под одной матицей будут жить отчужденной, полной глухой неприязни друг к другу жизнью. Потом это пройдет, оставив корявые шрамы на душе и глухое чувство недовольства собой.
Решительно распахнув калитку, он шагнул во двор и сразу увидел мать. Она сидела на крыльце и на стук калитки медленно, будто с усилием повернула голову. Олексана поразили ее глаза. Он был не в силах сделать шага навстречу этому взгляду и остановился, поняв, что случилось что-то большое и непоправимое. Чужим, непослушным голосом спросил:
— Что у вас тут произошло? Почему молчишь, анай?!
Голос сына словно вернул Зою из забытья. Она зашевелилась, неловко перегнувшись, с трудом поднялась на ноги, долго не могла произнести ни слова, губы у нее странно дергались и кривились. Наконец она сиплым, похожим на сдавленный стон голосом проговорила:
— A-а, пришел… Глаша… от нас ушла.
8
Июль стоял жаркий, сухой, хлеба поспели дружно, и в конце месяца комбайны двинулись на поля.
Сабит Башаров помог своей жене завести мотор старого, потрепанного "Коммунара" и, уступая ей место за штурвалом, прокричал сквозь грохот: "Валла, большой сабантуй пришел, не подведи, пожалуйста!" Он гордился своей Дарьей: шуточное ли дело, сумела собрать списанный комбайн, не всякий мужчина решится на такое!
Вася Лешак возил от комбайнов намолоченное зерно, умудряясь опережать других, опытных шоферов: те два рейса, а он с третьим поспевает.
Добился-таки своего: с председательского "газика" пересел на грузовую автомашину. Кудрин не стал его удерживать: шоферов в колхозе не хватало, а для разъездов по бригадам он мог водить машину сам. Передавая машину председателю, Васька Лешак ревниво предупредил:
— Зря не газуйте, Харитон Андреич. Машинка отрегулирована будь-будь, работает, как часики. Чихнешь неосторожно, и то реагирует!
— Ладно, Василий, не беспокойся, — с улыбкой отозвался Кудрин. — Семнадцать лет с моторами возился, это что-нибудь да значит, а?
Лешак покрутил головой, презрительно хмыкнул:
— Бывает, иной двадцать лет шофером считается, а в машине сидит, точно курица в седле! Не водитель, а так, видимость одна… Ежели какая авария случится, свистните меня: помогу консультацией. Особенно начальству…
На щитке возле амбаров белел листок с зигзагообразной молнией, на котором броскими буквами было начертано: "Молния. Берите пример с передового шофера Василия Безбородова!" Проезжая мимо этого щитка, Лешак каждый раз сдвигал со лба кепку и размягчено откидывался на спинку сиденья. Девушки, работающие на складе, провожали его восхищенными взглядами. На третий день, сделав до обеда пять рейсов, Василий притормозил машину возле конторы, крикнул парторгу Куликову, голова которого виднелась в окошке:
— Привет от тружеников полей, дядя Тимофей! Прошу забронировать место на Доске почета! Насчет фотографа позаботьтесь.
— За нами не пропадет, Васек. А только не слишком рано возводишь себя в культ? Опасная, брат, штука…
— Попомните мое слово и засеките по часам: сорок пять минут — рейс готов! Ну, пока…
Однако прошли обещанные сорок пять минут, а Лешак все еще не возвращался. Приехал он только через час… чертыхаясь, взбежал на крыльцо конторы, рывком распахнул дверь председательского кабинета. Кудрина на месте не оказалось. Вася принялся метать по адресу начальства громы и молнии: "Когда не надо, они штаны протирают, а тут и с семью собаками не сыщешь!" Заслышав Васины комплименты, из своего "секретарского" кабинета показался Тимофей Куликов.
— Ого, Васек, ты уже с обратным рейсом? А я тебя не раньше вечера ждал. Ты уж извини: Доска почета пока не готова и фотограф чего-то замешкался…
Вася вроде бы не понял ехидного замечания секретаря, состроив страдальческую мину, в сердцах хлопнул кепкой по колену:
— А, с ними наработаешь! Собрались там…
— Да ты погоди, объясни толком, в чем дело! Что там у вас приключилось?
— Дарьин комбайн поломался. Ни в какую не заводится. На сцепе — Самаров Очей, так тому хоть земля пополам тресни, стоит себе в сторонке. А Дарья ровно осатанела, слова не дает сказать. Интересно, как Сабит с такой живет? Да на таких воду надо возить, а не то что детей рожать!
— Ладно, Василий, дискуссию на эту тему побереги на другой случай. Ты лучше подумай, как делу помочь. — Куликов озабоченно поскреб подбородок, по случаю уборки скучающий по бритве. — А ты сам в комбайнах не разбираешься?
— Нет, не мастак. Была бы автомашина, другое дело, а тут пасую… К тому же Дарья над душой стоит. Я пытался установить причину, а она квохчет: "Не тронь, не хватайся!"
— Так, так, Васек… Худо дело. За простой комбайна в такое время нам с тобой Доски почета не видать. Это же скандал, понимаешь! Ты вот что, — Куликов оживился, хлопнул Лешака по плечу, — ты давай, садись за руль и езжай за Кабышевым! Найди где хошь, хоть со дна Акашура подними, понял?
Куликов прямо-таки влюбленно обнял Васю и силком повел к двери. Тот недовольно ворчал:
— Не бывал женат, а корми ребят, так выходит? Где я буду искать вашего Кабышева? Если все бригады объехать, сорок пять, тютелька в тютельку набежит!.. Больше часа потеряю. А потом — кто мне спишет сожженный бензин?
— Ничего, Васек, ради хлеба все твои грехи наперед спишем! Ты сначала к нему домой завороти, потом в мастерские… Ну, словом, езжай, браток, время дорого! Мы на Доску почета твою увеличенную фотокарточку прилепим!
В конце концов Вася махнул рукой: дескать, нечего меня уговаривать, — сам не маленький. Он полез в кабину, завел мотор, выжал газ до конца, машина взревела рассерженным быком, и через минуту грузовик, угрожающе накренившись на крутом повороте, скрылся в густом облаке пыли. Возле дома Кабышевых Вася затормозил, подряд несколько раз просигналил. Окна равнодушно пялились на него из-под низко нависшего карниза, дом молчал, и лишь во дворе неистово заливалась собака. Вася неохотно вылез из кабины. Высмотрев валявшийся неподалеку обломок кирпича, подобрал его и сунул в карман. У ворот, опасливо нажал на щеколду и заглянул во двор. Сызмальства Васина жизнь была отравлена лютой ненавистью к собакам. Было ему еще лет восемь, когда он в чужом огороде срезал шляпки подсолнухов, а хозяйская собака почуяла и догнала его. При позорном бегстве Вася оставил полштанины в собачьих зубах. Спрятавшись в зарослях ивняка на берегу Акашура, дождался темноты и лишь тогда, прикрыв наготу лопушиками, задами пробрался домой…
Вот почему, заходя к Кабышевым, он запасся увесистым кирпичом и лишь тогда решительно отворил калитку. Завидев его, овчарка заметалась на цепи, норовя дотянуться до полы пиджака… Но кому, как не Васе, знать собачью натуру! Он замахнулся кирпичом, сделав страшное лицо, и старая овчарка трусливо бросилась в спасительную конуру.
— То-то! — удовлетворенно проговорил Вася. — На какого лешего держат такого уродца?
Едва ступив через порог, он гаркнул:
— Здорово живете!
Ему не ответили. В доме стояла тишина, нарушаемая лишь размеренным стуком маятника старинных часов. На окнах не было занавесок, возле двери стояла голая пружинная кровать без постели, и от всего этого дом казался заброшенным, нежилым. Воздух в нем был тяжелый, затхлый.
Вася постоял возле двери, несколько раз кашлянул.
— Тьфу, куда все провалились…
Сделав несколько шагов, он заглянул за перегородку. На широкой лавке, укрывшись старым зипуном, лежала хозяйка дома. Руки у нее были скрещены на груди, точно она собралась помирать, глубоко запавшие глаза неподвижно устремлены в потолок. Тонкие, бескровные губы ее растянуты в ниточку, из-под платка выбились пряди волос. Кожа на лице была желтоватобледной, такой цвет бывает у растения, выросшего в темном погребе. Чаще всего такое растение не дает цветов, у него не бывает семени, и оно пропадает на корню, не оставив на земле своего роду-племени…
— Зоя-апай… — пересохшим голосом позвал Вася. — Заболела, что ль?
Казалось, она не слышала его. Но вот она медленно повернула голову, невидяще посмотрела на него и сипло спросила:
— Что надо?
— Зоя-апай, Олексана ищу я, — с непривычной робостью пояснил Вася. — Его к комбайну требуют…
Она не отвечала.
— Зоя-апай, не знаешь, где Олексан? — переспросил Вася.
Будто очнувшись от забытья, Зоя вдруг резким движением сбросила с себя зипун, приподнялась на локте и уставилась на него какими-то безумными глазами.
— Кого ты ищешь здесь? Олексана? — облизав бескровные губы, закричала она. — Нет его здесь, вы сами украли, увели его отсюда! Кровопийцы, убирайтесь, уходите, чтоб глаза мои не видели вас! О-о, господи, готовы из живого тела душу вырвать! Вы погубили моего Олексана, зачем еще ходите сюда? Проклятые, из-за вас вся наша жизнь пропала! Тьфу, чтоб вас земля поглотила! Уходите-е-е…
Собрав остатки сил, она плюнула Васе под ноги и упала на лавку. Вася опешил от неожиданности, затем помянув всех нечистых, загремел сапогами к выходу.
— Совсем сдурела, старая!
Завидев его, овчарка глухо зарычала из конуры. Дойдя до калитки, Вася обернулся и метнул в ее сторону припасенный кирпич. Садясь в кабину, он погрозил в сторону кабышевского дома кулаком: "Что хозяева, что собака — одной породы! Живут же такие!.. Где мне теперь искать этого Олексана? Денек выдался, чтоб его не было вовсе!" Круто разворачивая машину, он задел кузовом за ворота, на столбе осталась рваная, занозистая отметина.
Олексан редко бывал дома, разъезжал по бригадам, иногда оставался там на ночевку. После ухода Глаши мать слегла. Олексан был в отчаянии: его ждут к машинам, а он должен сидеть возле больной. Спасибо, выручила тетя Марья: узнав о болезни Зои, она сама вызвалась помочь — присматривать за матерью и ходить за скотиной. Будь это раньше, Зоя близко не подпустила бы чужого человека к своему хозяйству, но теперь она ко всему оставалась равнодушной. Марья жалостливо посматривала на больную и вздыхала:
— Не повезло тебе, соседка… Ишь, даже с лица изменилась, краше в гроб кладут. Сказать Олексану, он тебя живо на лошади доставит в Акташ, врачам покажет. А так что толку лежать?
Зоя слабым голосом отвечала:
— Вроде и не болит нигде, только под сердцем колет и сил нисколько нет… В груди давит. В Акташ не поеду. Коли помирать, так в своем доме…
— Господи, не говорила б этих слов! Отступится хворь, снова на ноги встанешь. И Глаша вернется, вот увидишь. Чай, опомнится, не век ей бегать от живого-то мужа!
В ответ Зоя отрешенно махала рукой:
— Пусть живут, как сами знают….
Олексан пытался уговорить мать поехать в больницу, но она упрямо отвернулась лицом к стене:
— Спасибо, сынок, хоть теперь заботишься о матери. Поумнел ты… Пока была здорова, что-то не слыхивала от тебя добрых слов. После схватишься по матери, да поздно…
— Мама, зачем ты это говоришь? — проговорил Олексан. — Разве я обижаю тебя? А если когда ненароком и обидел, так ведь не со зла! Может, попрекаешь, что с Глашей у нас так получилось? Пойми, мама, больше-то она сама виновата!
— Своим умом начал жить, а оно и не вышло. Вкривь да вкось пошла она, твоя жизнь… Вот останешься один, и отцовский дом по ветру пустишь… Не хозяин ты…
Олексан отходил от матери подавленный, принимался бесцельно вышагивать из угла в угол. На глаза ему попадались то бутылочка из-под одеколона, то забытая впопыхах шпилька для волос. Вещи, словно живые, тоже способны наносить человеку невыносимую боль. Не в силах оставаться дома, Олексан уходил в огород, но и здесь все напоминало о Глаше: грядки, вскопанные ее руками, кустики помидоров, высаженные и аккуратно подвязанные ею… Тогда Олексан уходил к людям, к машинам. В работе он понемногу забывался, гнетущая тяжесть на душе проходила.
Несколько раз он порывался ехать в Бигру, но каждый раз его останавливала мысль: "Нет, она должна вернуться сама! Она должна сама понять свою ошибку!
Иначе она после может сказать: я не хотела возвращаться к тебе, ты сам силком вернул меня… Нет, пусть она сама решит, с кем ей жить, пусть решит своим сердцем, кто прав: Олексан или ее отец!"
Акагуртские женщины охочи молоть языками всякую ерунду. Теперь для их языков нашлось новое мелево. Собравшись у колодца, обсуждали новость: жена Олексана Кабышева, беременная, ушла от мужа, живет у отца. Гадали по-всякому: одна утверждала, что Глаша ушла сама, другая высказывала свое, будто Олексан сам выгнал жену из дома, а третья со знанием дела толковала, что Глаша с Зоей не поладили между собой… Наконец самая бойкая и языкастая из них — жена тракториста Самарова Очея — Сандра, под предлогом попросить закваски, побывала в доме Кабышевых и, вернувшись к колодцу, взахлеб рассказывала:
— Зашла я, значит, к ним, поздоровалась как надо, а там вроде никого. Прошла на женскую половину, а там — батюшки мои! — тетя Зоя Как есть мертвая лежит. Сама из виду страшная, худющая, в чем только душа теплится! Уж так мне страшно сделалось, хотела обратно выбежать, а она задвигалась, зашевелилась и говорит: "Глаша, ты вернулась? Осто, слава богу…" А я говорю: "Нет, тетя Зоя, это я, Сандра, хотела у вас закваски попросить". Господи, до смерти не забуду, как она на меня посмотрела, да как захрипит! Уходи, говорит, сию минуту, покоя от вас нет, шайтаново семя, чтоб вас нечистая сила трижды свернула… С места мне не сойти, если не слышала своими ушами! Не помню, как оттуда убежала.
Женщины ахают, всплескивают руками и придвигаются ближе к Сандре, высвобождая из-под платков уши: важно не пропустить новость и затем разнести по другим колодцам… А Сандра, видя такое к себе внимание, принялась выдумывать новые подробности. Никто не заметил, как к колодцу с ведрами подошла тетя Марья.
— Стыда у тебя нет, рассказываешь побасенки о чужом горе, — сердито оборвала она Сандру. — А вы, бабы, тоже уши развесили! Вам бы только языками трепаться!
Сандра с негодующим лицом повернулась к Марье:
— Еще скажешь, будто вру? Своими глазами видела, с места мне не сойти…
— А ты пошире открой глаза-то, коли плохо видят! Человек при смерти, а ты язык во рту полощешь. Помолчи-ка лучше! А вам, бабы, по домам, пора: печи небось давно протопились.
Женщины подхватили коромыслами свои ведра и одна по одной разошлись. Они, конечно, не прочь были бы огрызнуться на Марью, но побаивались: Марья умеет постоять за себя, к тому же сын у нее председатель…
Объехав несколько бригад, Васька Лешак разыскал Олексана в РТС, где тот был занят на газосварке. Злой на весь свет (шутка сказать, половина рабочего дня прошла впустую!), Васька накинулся на Олексана:
— Мать честная, Кабышев, можно подумать, что ты без пяти минут министр! С самого обеда тебя разыскиваю, будто Василису Прекрасную!
Олексан продолжал работать, не обращая внимания на бушующего Лешака. Из-под самых его пальцев с легким треском вылетали и рассыпались золотистым снопом ослепительные искры, даже глазам больно. Доварив до конца начатый шов, Кабышев устало распрямился и глухо спросил:
— Ну, что там у вас случилось?
Только теперь Вася обратил внимание, что у Олексана очень усталые глаза, веки покраснели, точно он не спал несколько ночей кряду. Лицо осунувшееся, с резко обозначившимися скулами, а большие, с многочисленными ссадинами и царапинами руки заметно подрагивают. "Должно быть, все-таки здорово переживает за жену и мать, только старается не показывать", — подумал Васька. От природы он не был жалостливым, но сейчас ему стало совестно, что зря накричал на человека, и поэтому он уже спокойнее и даже извинительно пояснил:
— Не мог, говорю, тебя доискаться. Там Дарьин комбайн стоит, не заводится. За тобой послали… Слушай, Олексан, а что с твоей матерью?
Олексан не ответил. Молча собрал разбросанные вокруг инструменты, отнес их в мастерскую, а когда вернулся к машине, на ходу вытирая руки ветошью, коротко кивнул шоферу:
— Ладно, поехали…
Уже в пути, когда отъехали несколько километров, Олексан, не поворачивая головы, сдержанно спросил:
— Там Самаров Очей со своим мотоциклом, послали бы его. Чего зря автомашину гонять?
Васька скорчил презрительную рожу, желая этим выразить, какого он мнения о Самарове. Затем объяснил на словах:
— Говорил я ему, так он, что думаешь? Заныл, дескать, в случае поломки колхоз все равно ему запасных деталей не даст, придется за свой счет ремонтировать… Чесались у меня руки заткнуть ему глотку грязной тряпочкой, да в последнюю минуту детей его жалко стало. Хотя таким не стоило бы разрешать обзаводиться ребятишками! Кого он из них воспитает? Ихний брат с виду тихий, смирный, а сунь ты ему в рог палец — обязательно по локоть ухватит! Вредная порода!
Вдали показался остановившийся посреди жнивья Дарьин комбайн. Машина пошла по полю. Проезжая мимо большого стога обмолоченной соломы, Васька Лешак едва не наехал на мотоциклиста. Из стога, отряхиваясь от соломы и ругая на чем свет Ваську, вылез Самаров.
— А ты помолчи! Скажи спасибо, что твой поганый драндулет цел остался, а то мог запросто превратиться в блин, ясно? Небось дрыхнул тут, а Дарья у комбайна старалась, а? — наступал на него Васька.
Очей испуганно пятился, сонливость с него сняло как рукой.
— Брось, Васька… Да я вовсе и не спал, просто так лежал…
Пока Васька Лешак вразумлял Очея, Олексан копался в комбайновом моторе. Дарья в слезах жаловалась:
— Уж я, Олексан, всяко пробовала, и ругала, и уговаривала, все равно не заводится. Такой противный!
— А земные поклоны класть не пробовала, — улыбнулся Олексан впервые за целый день. — Машины — они это любят. Замечала небось: шофер кряду раз десяток полазит под машину, и она как миленькая заводится…
— И зачем только я послушалась Сабита, согласилась сесть на старый комбайн! Ой, в такой день стоять посреди поля, подумать только!..
— Всем хочется на новую машину, Дарья. Только колхоз наш пока не такой богатый, чтобы всех новенькими комбайнами обеспечить. На этом тоже кому-то надо работать, не тебе, так другому. Хоть он и старенький, а на переплавку пока жалко пускать, он еще послужит нам. Ничего, ты не переживай, как-нибудь наладим твой степной корабль…
Олексан долго доискивался причины поломки. Несколько раз снимал и разбирал карбюратор, продувал бензопровод, отплевываясь ядовитым этилированным бензином.
— Ну-ка, Дарья, выверни все свечи, хорошенько промой их. А я еще раз проверю зажигание. Не может быть того, чтоб не завелся!
Между тем Ваське Лешаку, видимо, надоело молча смотреть со стороны на их работу, и он снова принялся донимать Очея. Поманив к себе, он согнутым пальцем постучал по лбу Очея.
— Скажи мне, будь добр, что у тебя в этом чугунке?
Очей пытался отстраниться от въедливого собеседника, но Васька не отставал:
— Нет, нет, ты погоди, не стесняйся, я ведь не собираюсь с тобой целоваться! Значит, не знаешь? Тогда я объясню тебе: у тебя в мозгах, Очей, завелся жировик. Ах, ты не знаешь, что это такое? Очень просто: поначалу в голове у человека заводится маленький червячок, не больше конопляного зернышка. А с течением времени этот вредный червячок весь мозг превращает в кусок самого обыкновенного жира.
Очей никак не возьмет в толк, попусту треплется Лешак или в самом деле у него столь обширные познания в медицине. А Лешак с невозмутимым видом продолжал:
— Ты, смотри, Очей, остерегайся, чтоб всю семью не заразить. С женой лучше всего спи врозь… Тебя, возможно, еще удастся вылечить, потому как ты не совсем пропащий. Бывает хуже! Мне довелось видеть одного такого. Так он уже не мог двинуть ни рукой, ни ногой. Целыми днями сидел на постели и жрать просил. И жадность — она тоже от этой болезни. Я замечаю, у тебя уже есть симптомы. К примеру, сегодня просил я тебя съездить за механиком, а ты мне что ответил? Дескать, ради колхозных интересов тебе не резон трепать личный мотоцикл, так? Во, ведь это он и есть! Жировик тебя мутит!
Лишь теперь до Очея дошло, куда гнул Лешак. Он вывернулся из Васькиных рук и слезливо стал оправдываться:
— Отстань от меня, нет во мне никакой болезни… И до мотоцикла тебе тоже нет никакого дела, я его для своих нужд купил…
Но Ваське уже надоело прорабатывать Очея, он улегся на кучу соломы и принялся насвистывать. Долго нежиться ему не пришлось: стреляя в небо серыми кольцами дыма, отчаянно затарахтел комбайновый мотор. Сквозь шум послышался голос Олексана "Очей, заводи трактор!". Дарья уже успела взобраться на мостик и, ожидая, когда двинется трактор, стояла, нетерпеливо вцепившись в рогатый штурвал и ругая про себя неповоротливого напарника. Спустя несколько минут ожил и гусеничный ДТ-54. Олексан махнул рукой и грузный, неповоротливый "Коммунар", подминая под себя четырехметровую полосу ржи, медленно двинулся за трактором.
Васька Лешак подошел к Олексану и покровительственно похвалил:
— Оказывается, в школе механиков ты не зря переводил казенный хлеб! Страсть как уважаю людей, понимающих толк в технике! Это я тебе говорю не в порядке культа твоей личности. Ну, я поехал за комбайном, на том углу загона они будут разгружаться. Пока!
Усаживаясь в кабину, он посмотрел в противоположную сторону и присвистнул:
— Фюить, вот мчится тройка почтовая! Олексан, видишь, там кто-то шпарит сюда на лошади? Не иначе, как опять за тобой, аварию где-нибудь устранять.
Олексан взглянул в ту сторону, куда указывал шофер. Нахлестывая лошадь вожжами, кто-то во весь опор направлялся к ним на запряженной телеге. Он был еще метрах в трехстах, а Васька Лешак своими острыми глазами уже распознал его:
— Эге, так это ж тесть твой! Я теперь его с завязанными глазами за три километра узнаю!
Глаша! Глаша! Олексан не мог сделать и шага навстречу. Тревога сковала тело.
Подъехав вплотную, Самсонов остановил взмыленную лошадь, кинув в сторону вожжи, соскочил с телеги. Дрожащими губами проговорил:
— Глаша помирает… До срока началось… За тобой послала…
Олексан рванулся к тестю, сгреб за ворот.
— Довел, до убийства довел, а?
Лицо у Самсонова стало красным, глаза выкатились. К Олексану подскочил Вася, повиснув на его руке, оттолкнул к машине.
— Брось, Олексан! Брось! С родней успеешь рассчитаться. Там человек помирает!..
Силком затолкав Олексана в кабину, Вася с места включил вторую, затем третью скорость, и, подскакивая на прошлогодних бороздах, машина прямиком через поле рванулась в сторону Бигры.
9
В самом конце больничного коридора отгорожена небольшая комнатушка, где родственники больных ожидают свидания со своими. Комнату так и называют — "ожидалка", в ней из мебели стоят всего-навсего две некрашеные деревянные скамейки со спинками и низенький столик. В "ожидалке" даже нет окна, свет сюда проникает через застекленную дверь, ведущую в коридор. Во всем больничном корпусе это, пожалуй, самый неуютный уголок. Воздух здесь тяжелый, пропитан запахами всевозможных лекарств, оттого даже здоровый человек, посидев в "ожидалке" час-другой, начинает чувствовать себя больным. К тому же через стеклянную дверь видно, как сестры торопливо снуют по коридору. Завидев белый халат, ожидающий всякий раз вздрагивает: "Наверно, ко мне! С худой или доброй вестью?" Но сестра проходит дальше, у нее свои дела. Прислушиваясь к голосам из коридора, человек с непривычки даже не верит своим ушам: собравшись в кучку, сестры смеются и болтают всякий вздор, в то время как в соседней палате женщина протяжно стонет: "Ой, господи-и, не могу-у…"
Олексан не помнил, сколько времени он провел в "ожидалке". Вместе с ним сидела пожилая женщина, время от времени она судорожно вздыхала и шептала что-то невнятное. Но Олексану было не до чужого горя. Заслышав стон из палат, он вздрагивал, точно подстегнутый плетью. К нему никто не выходил, его не звали, и он горбился на жесткой скамейке, стиснув голову обеими руками…
Шофера Васю он отпустил домой: чего ему тут зря торчать, да и машина понадобится в колхозе.
— Спасибо тебе, Василий…
— Ну-у, нашел о чем говорить! Лишь бы все обошлось… В случае чего звони в Акагурт, у них тут телефон имеется.
— Поезжай, Василий. Дома ты пока… не рассказывай, мать и без того больная. Харитону Андреичу передай, чтоб не искали меня.
Он остался сидеть в душной, полутемной комнате, где из умывальника с тихим звоном срывались капельки воды и мерно отсчитывали время, которому Олексан потерял счет после той получасовой бешеной гонки, когда они с Васей приехали в Бигру. Соскочив с машины, он бегом кинулся к дому тестя и еще во дворе услышал чьи-то громкие причитания. Кричала и причитала Глашина мать, а сама Глаша с закрытыми глазами, очень бледная, неподвижно лежала на кровати. Около нее хлопотала незнакомая старуха с морщинистым, точно печеная картошка, лицом. Завидев Олексана, она проворно юркнула за печку. Несколько женщин испуганно жались возле дверей.
Олексан бросился к Глаше, взял ее за руку.
— Глаша!.. Глаш, ты меня узнаешь? Это я, Олексан…
Неясная тень прошла по ее лицу, веки дрогнули и на мгновение поднялись.
Тугой петлей захлестнуло, перехватило горло позднее раскаяние: эх, если б на день раньше приехать к тебе, Глаша!
Тем временем Вася забрался в сарай и сбросил несколько охапок сена, заготовленного Самсоновым на зиму для скотины. Уложив сено в кузов машины, он постелил поверху старую одежду, которую высмотрел в сенцах.
Вдвоем с Олексаном они на руках вынесли Глашу и осторожно уложили в кузове.
— Вася, теперь жми в Акташ. Веди осторожнее…
— Знаю, чего там. Ты придерживай ее, чтоб не трясло.
Олексан сидел в кузове, придерживая Глашу за плечи. Временами ему начинало казаться, что Глаша умирает, он торопливо хватал ее за руку, с замирающим сердцем пытался уловить еле заметное биение пульса. Машину нещадно трясло, а загрубелая кожа на пальцах почти не ощущала нежных толчков крови.
Остановив машину во дворе больницы, Вася что-то крикнул Олексану и побежал к приземистому, длинному корпусу. Вскоре пришли санитарки с носилками, уложили на них Глашу и понесли в корпус. Олексан хотел пройти следом, но ему сказали, чтоб подождал. Он остался стоять на крыльце, подавленный горем. Толкнув, его дверью, на крыльцо вышел человек в очках и белом халате, на голове у него тоже была надета круглая белая шапочка, только ботинки на ногах выделялись ослепительной чернотой. Сорвав с переносицы очки, он из-под густых бровей просверлил Олексана колючими глазами и сердито закричал:
— Вы привезли больную? Варвары, куда смотрели, где были у вас глаза, я спрашиваю?! Довести человека до такого состояния! Судить вас за это, судить по всей строгости! Варвары!..
Накричав на Олексана, он повернулся и ушел, сильно хлопнув дверью. И вот теперь Олексан сидит здесь. Сколько же времени прошло? Час, два или десять?..
Неожиданно со звоном раскрылась стеклянная дверь, в "ожидалку" вошла сестра. Она почему-то строго посмотрела на Олексана и подошла к сидевшей на другой скамейке женщине.
— Вы к Петровой Марии?
Женщина засуетилась, торопливо поднялась со скамьи.
— К ней, милушка. Сноха она мне, сноха. Господи, не беда ли какая?
Сестра слабо улыбнулась:
— Да чего вы испугались, мамаша? Теперь уже все позади, радоваться надо: сына родила ваша сноха. Вот теперь вы и бабушка!
Женщина трижды перекрестилась и уголком платка стала вытирать слезы.
— Слава богу, значит, сын? Ну и хорошо… А я уже давно бабушка: у старшего и среднего сына по двое детей, а эта сноха — младшенькая. Первенький у нее… Так говоришь, сын, милушка?
— Сын, сын! — засмеялась сестра. — А вам кого хотелось?
— А мне все одно, хоть парень, хоть девка! Так и так мне придется нянчить, я для всех одинаково бабушка. Лишних не будет, все свои, родные! — Вспомнив о своем, она принялась суетливо развязывать узелок, приговаривая при этом. — Ах ты, боже мой, чуть не забыла! Про гостинцы, говорю, чуть не забыла. Здесь у меня домашние пирожочки, да в лавке купила конфет в бумажке. Передашь, поди, милушка?
Сестра замахала на нее руками:
— Что ты, что ты, бабушка, у нас этого делать нельзя, строго запрещено! Все, что потребуется, ей дадут здесь. А то, чего доброго, еще инфекцию занесете. Заразу, значит, какую-нибудь. Вы теперь не беспокойтесь, идите домой. А отец-то ребеночка где? С отцами мы просто не рады, прямо в окна лезут, лишь бы поглядеть на своих. Такой народец!
— А отцу, милушка, совсем некогда. Он у меня шофером работает, услали куда-то на три дня. Он-то сына ждал, помощничка, обрадуется, поди!
Сестра взялась за дверную ручку, чтобы уйти, Олек-сан несмело остановил ее:
— Скажите, как там Кабышева? Вы должны знать… Кабышева Глафира, ее сегодня на машине доставили.
Сестра оглядела Олексана с ног до головы и сухо на ходу бросила:
— Вы ее муж? Она сейчас в операционной…
Стеклянная дверь со звоном захлопнулась. Звон этот раздался в ушах Олексана оглушительным раскатом, грома. Он тяжело опустился на скамью. Старая женщина, не обращая на него внимания, аккуратно завязывала свой узелок и бормотала себе под нос: "Эк-кая беда, скажут же: заразу, говорит, занесешь! Какая зараза может быть в хлебе? Который год едим, и все ничего, слава богу, покуда здоровы, на болезни не жалуемся… Видно, придется обратно нести, коли не берут передачу. И то, дома внучат угощу, пирожки славненькие…" Не переставая рассуждать сама с собой, она ушла, с Олексаном они не обменялись ни словом. Счастье с несчастьем рядом ходят, да друг с дружкой не знаются…
Олексану теперь на месте не сиделось. Он вышел во двор больницы. Прохаживаясь взад-вперед, одну за другой курил папиросы; узнав у няни, где операционная, долго стоял под окнами, стараясь что-нибудь услышать. Но окна в хирургической даже летом были с двойными рамами, через плотно задвинутые занавески ничего не видно, мелькают лишь неясные тени.
За эти часы мучительного ожидания перед глазами Олексана прошла вся их совместная жизнь с Глашей. Он нещадно ругал себя за то, что ссорился с Глашей, был несправедлив к ней. Теперь причины этих ссор казались ему мелочными и ненужными. Все то, в чем он когда-то упрекал Глашу, сейчас отступило перед большим горем, в сердце у него осталось лишь одно: Глаша должна жить!
…Когда в больших окнах больничного корпуса зажглись огни, Олексана позвали к главному хирургу. Им оказался тот самый мужчина, который зло накричал на Олексана, только теперь он был без халата и белой шапочки на голове. Неслышно расхаживая по узкому, вытертому ковру, он теперь говорил спокойно и лаже с сочувствием:
— …Будет жить. Мы сделали все, что могли, Кабышев. Вы, я вижу, сильный человек, поэтому не собираюсь ничего скрывать. Ваша жена сейчас в тяжелом состоянии, но мы ее поставим на ноги. Она, я надеюсь, выздоровеет, у нее завидно крепкий организм. А ребенок…
Он движением руки остановил Олексана, порывавшегося что-то сказать. Понизив голос, хирург произнес:
— Ребенок родился мертвый. Медицина здесь бессильна.
— Почему? — сдавленно спросил Олексан, чувствуя, как голова наполняется гулом. Усилием волн он заставил себя прислушаться к доносившимся сквозь гул словам.
— Ребенок был очень крупный, она не могла разродиться. Он задохнулся еще в чреве матери. Асфиксия… Ее доставили слишком поздно. Вы здравомыслящий человек, как же не могли понять, что медлить нельзя?! Ни одной минуты! Тем более, вы ждали первого ребенка…
Олексан больше не слушал, что ему говорил главный хирург. В голове у него безостановочно гудел огромный колокол, он перестал слышать другие звуки. Он с трудом поднялся с дивана, пьяной походкой вышел из кабинета. На крыльце он постоял, держась рукой за столбик и озираясь вокруг, словно заблудившийся человек, затем сгорбился и нетвердыми шагами двинулся по дороге.
Спустя часа три после того как Глашу увезли в больницу, домой вернулся Гирой. Окинув двор привычным хозяйским глазом, он сразу заметил непорядки: тут и там валялись клочья сена. Догадавшись, в чем дело, он по лесенке взобрался на сенник и увидел следы "хозяйничанья" Васьки Лешака: аккуратная кладка с сеном была разворошена, разбросана по всему сеннику в беспорядке. При виде такой картины самовольного вторжения в его владения он рассвирепел. Выкрикивая бессвязные ругательства, принялся с ожесточением топтать и расшвыривать ногами сено. "Нате, жрите, подавитесь моим добром! Жрите, дьяволы!.." Со стороны можно было подумать, что всегда трезвый и рассудительный Самсонов напился вдрызг и пляшет у себя на сеновале в избытке пьяного задора.
— Не для вас оно было припасено, ироды! Последний кусок изо рта тянут, холеры!.. Чтоб вам руки скрючило, шайтаново семя! Ы-ы-ых…
Наконец он изнемог и, продолжая клокотать от бессильного гнева, с грохотом ввалился в дом. Увидев жену, которая беззвучно плакала возле печки, он распалился еще больше:
— Ты-ы, слепая ворона, куд-да смотришь?! У тебя из-под носа весь дом утащат, а ты и не заметишь! Вам бы только на готовом жить, а откуда что берется, вам на это наплевать!.. Из сенника полкладки сена увезли, ты хоть это узрила? Чего молчишь, ну?!
Авдотья от страха лишилась языка. И без того небольшая ростом, она вся сжалась в комочек и ждала побоев. А муж продолжал кричать и топать ногами, размахивая перед ней костистым кулаком. Авдотья еле осмелилась поднять голову, в глазах ее застыли слезы:
— Осто, Гирой, пожалел бы хоть родную дочь. В больницу ее отправили, чуть живую. Неужто можно на голых досках…
При упоминании о дочери Самсонов несколько смягчился, махнув на жену рукой, сварливым голосом передразнил ее:
— На голых досках! Не твоего ума дело. Э, да что тут с тобой рассусоливать…
Он потоптался на месте и вышел во двор. Бросились в глаза клочки сена, не утерпел, схватил грабли и принялся с ожесточением сгребать: зря добро пропадает. Хотел подбросить охапочку сена лошади, но раздумал: лошадь колхозная, потерпит.
Лишь к вечеру на некормленой лошади Самсонов выехал в Акташ — проведать свою дочь. Хоть и отвезли ее в больницу, но кто знает, как она там. Чужие люди, небось не станут болеть за нее душой. Отец — он всегда отец. От зятя теперь не приходится ждать хорошего: ишь, на тестя руку поднял, поганец! Эх, ошибся ты, Самсонов, большую промашку допустил, выдав Глашу за такого человека! Да ведь кто мог знать, что оно так получится? Кабы наперед тот ум, что приходит опосля…
Голодная лошадь, то и дело спотыкаясь, еле плелась. Самсонову надоело понукать ее: все равно без толку. Пока проехал половину дороги, стало совсем темно. Самсонов сидел в телеге, свесив ноги к отдавшись невеселому течению мыслей. Но тут лошадь и вовсе стала. Он поднял голову, чтобы прикрикнуть на нее, но окрик застрял в горле: уцепившись за узду, там, впереди на дороге, стоял Олексан. Самсонов стал торопливо выбираться из телеги. Олексан качнулся всем телом и медленно двинулся к нему.
— A-а, ты? — сквозь зубы процедил он, и от его голоса Самсонов почувствовал тупую тяжесть внизу живота.
— Я, Олексан, я… Еду вот в Акташ, узнать, как там с Глашей. A-а ты… от нее идешь, стало быть?..
Он не успел докончить; Олексан схватил длинный конец вожжей и, коротко размахнувшись, полоснул тестя поперек плеча. Самсонов порывался увернуться, но его настиг второй удар, затем третий…
— Кар-рау-у-ул, помогите! Убиваю-ю-ю…
Рука Олексана железными клещами сдавила ему грудь. Слабым, задыхающимся голосом выдавил;
— Душу оставь… Олексан…
Олексан разжал руки, и тесть рухнул на дорогу. Напоследок Олексан дважды перекрестил его вожжами, приговаривая звенящим шепотом:
— Это за Глашу!.. Это за сына!..
Отшвырнув вожжи, не оглядываясь, он шатающейся походкой направился в сторону Акагурта. Самсонов лежал на земле до тех пор, пока не стало слышно его шагов. Затем он с трудом поднялся на четвереньки и пополз к телеге. Выплевывая изо рта набившуюся землю, он завыл протяжно и страшно, в безысходной тоске и ненависти, точно матерый волк, схваченный за хребтину железными тисками капкана. Злые слезы выжимались из его глаз и скатывались по лицу, вывалянному в густой дорожной пыли, и было похоже, что человек плачет черными слезами.
Голодная лошадь, забредя в нескошенный овес, жадно хватала губами спелые метелки и звучно хрустела, чутко поводя ушами и позвякивая удилами…
10
Олексан навещал Глашу каждый день, добираясь до районного центра то пешком, то на попутной машине.
Лишь на третий день после операции ему удалось увидеть ее через окно палаты. Для нее, видимо, не нашлось отдельной палаты, и она лежала вместе с роженицами. Женщины с усталыми и счастливыми лицами сидели и лежали на койках, прижимая к груди туго спеленатые свертки. Глаша лежала бледная, очень похудевшая. Увидев в окно Олексана, она заплакала и отвернулась.
На восьмой день ей разрешили короткое свидание. Они встретились в знакомой Олексану душной, полутемной комнатке. Сквозь стеклянную дверь Олексан еще издали увидел Глашу: в длинном, до пят, сером больничном халате она медленно, придерживаясь рукой за стенку, приближалась к нему. Он раскрыл перед ней дверь, она сделала несколько шагов и, прижавшись к нему, затряслась в судорожном плаче:
— Ой, Олек…са-а-ан…
Больше она не могла произнести ни слова. Олексан обнял ее за плечи, у него щипало в глазах, но он пересилил себя и стал успокаивать жену:
— Не надо, Глаша… Не надо плакать. Все будет хорошо, вот увидишь. Самое главное, что ты живая, слышишь? Будет еще у нас ребенок, все будет. Только ты успокойся, Глаша.
Глаша судорожно вздохнула и подняла глаза на Олексана:
— Не буду больше, Олексан, не буду… Не сердись на меня. Думала, долгими ночами все слезы выплакала, а они все равно бегут… Ой, Олексан, за что меня так, в чем я провинилась?
— Не надо об этом, Глаша. Я тебя не виню… Главное, мы снова с тобой вместе!
Сжав в ладонях лицо жены, Олексан наклонился и поцеловал ее в мокрые глаза. Глаша вся подалась к нему и затихла.
— Присядем, Глаша, устанешь на ногах…
Обняв жену, Олексан довел ее до скамьи, бережно усадил.
— Похудела ты, Глаша…
Она с виноватым видом посмотрела на него и слабо улыбнулась:
— Ой, ты не можешь себе представить, как мне было тяжело. Думала, умру… Даже не помню, как меня сюда привезли.
— Ничего, быстрее поправляйся. Не скоро выпишут?
— Не знаю. Должно быть, еще неделю продержат. Кто с ребеночком, тех через десять дней выписывают… А мне врачи пока не разрешают много ходить. Груди у меня болят, Олексан… Молока у меня много, я выцеживаю, а они снова полные… С тобой мне легче, а когда остаюсь одна, хоть в петлю… Разве думала я, что так будет?
Глаша снова задрожала, на глаза ее навернулись слезы. Справившись с минутной слабостью, она спросила.!
— Олексан, а почему до сих пор отец ни разу не приезжал ко мне?
Она, будто о чем-то догадываясь, заглянула ему в глаза. Олексан нахмурился, жестко сказал:
— Ему здесь нечего делать! Без того довольно исковеркал нашу с тобой жизнь! На его месте я бы посовестился на глаза тебе показываться… А ты… очень ждешь его? Скажи, я могу передать… Только знай: тогда я больше не приду!
Вспомнив о тесте, Олексан стиснул зубы, резко обозначились скулы. Он даже отстранялся от Глаши, ненавидящим взглядом уставился в стену. Затем, взяв Глашину руку в свою, сжал ее так, что она чуть не вскрикнула от боли.
— Пойми, Глаша. Разные у нас с твоим отцом пути-дороги, не свести их вместе. С такими людьми, как твой отец, я не хочу сидеть за одним столом, дышать одним воздухом! И тебя я теперь тоже не отпущу к ним, слышишь? Я не отдам им тебя!
Глаша молчала, склонив голову на грудь Олексану. Некоторое время они сидели молча, каждый думая о своем. Резко звякнула стеклянная дверь, Глаша вздрогнула и выпрямилась. Перед ними стояла сестра в белом халате. Обращаясь к одной Глаше, она недовольно сказала:
— Кабышева, идите в палату. Вас отпустишь на пять минут, и уже готовы сидеть целый день! Здесь вам не посиделки, а больница.
Олексан что-то хотел ответить ей, но сестра была уже за дверью. Глаша поднялась:
— Пойду я, Олексан, а то, видишь, ругаются… Завтра придешь?
— Приду. Дома все равно не усидеть. Мать, сама знаешь, тоже лежит, не встает. Прямо не знаю, что делать с ней, в больницу не хочет, а дома какое лечение? Жалуется, что сердце болит, и все равно ворчит на меня. Всё не по ней, все ей не ладно…
— Я ведь понимаю, Олексан, как тебе достается. Маме привет передай, пусть выздоравливает. До свиданья…
Она посмотрела на него долгим, жалобным взглядом и вдруг, решившись, потянулась к нему обеими руками, встав на цыпочки, обняла за шею и поцеловала в губы. Затем, будто испугавшись своей смелости, отстранилась от него и быстро проскользнула в дверь. Олексан смотрел ей вслед, пока она не скрылась в палате.
…Накануне Глаша сообщила, что завтра ее наконец выпишут, и на другой день Олексан приехал за ней на тарантасе. Взбив сено руками, он усадил Глашу, заботливо укрыл ее большим шерстяным платком, хотя ветра не было и сентябрьское солнце еще ласково пригревало. Сам он пристроился на облучке, еще раз оглянулся на жену, сидевшую за его спиной, и легонько дернул вожжи. Сытый, застоявшийся в конюшне жеребец с места взял было рысью, но Олексан придержал его. Жеребец по-лебединому выгнул сильную шею, кося на седока глазом, пошел танцующей походкой, плавно перебирая ногами.
— Не трясет, Глаша? — через плечо спросил Олексан. — Дорога здесь…
Глаша в ответ благодарно улыбнулась:
— Нет, нет, Олексан, мне хорошо.
В трех километрах от Акагурта дорога сдваивается: одна ведет в Акагурт, другая в Бигру. Перед развилком Олексан нарочно ослабил вожжи: интересно, в какую сторону свернет лошадь? Жеребец, почуяв слабину, будто с удивлением покосился на седока и, круто свернув на акагуртскую дорогу, перешел на рысь. Олексан снова натянул вожжи и незаметно оглянулся на Глашу. Ему показалось, что она что-то хотела сказать, но, встретившись с ним взглядом, промолчала и прикрыла глаза. Дорога, ведущая в Бигру, осталась позади.
На улице было пустынно, лишь возле дома Тимофея Куликова на сваленных в кучу бревнах сидело несколько женщин. Завидев тарантас, они враз умолкли и уставились из-под ладоней на проезжавших. "Глаза не проглядите! — со злостью подумал Олексан. — Небось теперь вам будет о чем строчить, сороки бесхвостые!" Проехав мимо, Олексан услышал, как женщины оживленно затараторили. У Олексана жарко загорелись мочки ушей, он сгорбился на сиденье, чувствуя спиной жадные, любопытные взгляды женщин. Лишь бы Глаша не услышала их карканье! Обернувшись к жене, он увидел, что она, уронив голову на колени, плачет, стараясь прикрыть лицо пуховым платком… Олексан, скрипнув зубами, изо всех сил хлестнул коня ременными вожжами. Жеребец подпрыгнул от неожиданности, всхрапнул и бешено понесся вдоль улицы. На повороте к своему дому Олексан рывком осадил его, одним махом спрыгнул с тарантаса и побежал открывать ворота. Въезжая в просторный двор, жеребец дико вращал огромными глазами, ронял на землю мыльные хлопья пены.
Их никто не встретил, один лишь Лусьтро залаял и завилял хвостом при виде молодой хозяйки. Олексан помог Глаше сойти с тарантаса, подхватив под руку, повел по крутым ступенькам крыльца. Остановившись на верхней ступеньке, вполголоса сказал: "Не забыла, Глаша, о чем я тебе говорил?" Она молча кивнула. Да, да, она хорошо помнила, как Олексан еще там, в больнице, предупредил ее: "Ты извини, Глаша, но я до сих пор не сказал матери, что ты… что у нас нет ребенка. Успеет узнать, от дурных вестей стены не спасают".
Они вошли вместе, Глаша прошла к столу и села. Медленно, словно знакомясь впервые, обвела стены взглядом. Олексан со стороны неприметно наблюдал за ней. Встретившись с ним глазами, она улыбнулась смущенной и виноватой улыбкой, будто хотела сказать: "Прости, Олексан, что я так необдуманно ушла от тебя. Я вижу, как тебе здесь не хватало меня. Наверное, тебе было очень тяжело жить среди этих голых стен? Видишь, у тебя нет даже порядочной постели, спишь на чем попало. Не сердись на меня, Олексан, что я доставила тебе столько огорчений".
Будто поняв, о чем хотела сказать Глаша, Олексан подошел к ней и ласково потрепал по спине:
— Скучновато здесь, хуже, чем в больнице? Ничего, все станет на свое место, только не надо отчаиваться.
В этот момент из-за перегородки послышался слабый скрипучий голос Зои:
— Олексан, ты Глашу привез?
Олексан кинул быстрый взгляд на жену и направился за перегородку:
— Я думал, ты спишь, анай…
Зоя остановила на сыне неподвижный взгляд, словно пытаясь что-то угадать по его лицу. Олексан не выдержал этого взгляда, голос у него задрожал:
— Тебе нельзя много говорить, снова начнешь задыхаться…
Она недовольно поморщилась, сердясь на то, что ее отвлекают от самого нужного, чего она так давно и с нетерпением ждала. Она знала, что Олексан помирился с женой, Глаша лежит в родильном доме, значит, она кого-то родила, и вот теперь они приехали втроем. Наконец-то, слава богу!
— Где Глаша? Позови ее сюда, — потребовала она. При известии, что вернулась невестка, у нее даже как будто прибавилось сил, она попыталась сесть на постели.
— Глашенька, где ты там? Покажи мне маленького. Не бойся, я не сглажу… Глаша, пройди сюда, хоть краешком глаза погляжу на внучка…
Она высвободила из-под одеяла высохшие за время болезни руки, поправила выбившиеся из-под платка космы волос: Глаша не должна видеть ее в таком запущенном виде. Нет, нет, теперь снова все стало на прежнее место, скоро она поправится и станет на ноги. Ведь радостная весть для человека лучше самого дорогого лекарства!
Задыхаясь, Олексан шагнул к матери, удержал ее дрожащими руками:
— Анай, не надо, не надо вставать! У Глаши нет ребенка!
Зоя упала на спину, с минуту лежала, не в силах отдышаться. Не дрогнув ни единым мускулом на изможденном, восковом лице, она одними губами спросила:
— Где ребенок? Где? Вы его… прячете от меня? Он не ваш, он мой, моей крови! Покажите мне его…
Лишь бы не слышать этот слабый, но требовательный шепот! Олексан закричал, не в силах больше сопротивляться страшному напряжению:
— У Глаши нет ребенка, слышишь? Нет! Она родила неживого… Если б Глаша тогда не ушла к отцу, он бы родился живой, слышишь, анай? Поздно спрашивать внука, поздно!.. — Голос его оборвался, он отшатнулся, закрыл лицо руками и, глухо застонав, кинулся прочь. Точно слепой, натыкаясь на вещи, он добрался до кровати и бросился ничком, сотрясаясь от тяжелого, мужского плача.
11
Осень в этом году на редкость сухая. Дни стояли теплые, безветренные, пожелтевшие листья бесшумно срывались с веток и, медленно, плавно кружась, ложились к подножию родного дерева. Акагуртские школьники, возвращаясь с уроков, бегают по канавам, заполненным до краев шуршащими желтыми листьями. На рябинах покачиваются увесистые кисти с сочными ягодами, но их пока не убирают, ждут, чтобы схватило морозцем. Тогда рябина становится сладкой, медовой, во время праздников ее ставят на стол в больших мисках: для человека, знающего в этом толк, мороженая рябина — наипервейшая закуска.
По улицам неспешно бродят важные, грудастые гуси, перекликаются звонкими в осеннем воздухе голосами. Им уже лень даже перелетать за десять шагов, но хозяева до поры до времени не рубят им головы: тоже ждут, чтоб "хватили ледку", пуще заплыли жиром.
Харитон Кудрин, направляясь в колхозную контору, сердито косился на гусиные стада. "Черт, сколько их поразвели, проходу от них нет! В каждом хозяйстве голов по десять-пятнадцать, а то и больше. Говорят, двадцать пять штук гусей равноценно целой корове. Очень даже может быть, если взять в расчет мясо, жир, пух… Не было бы расчета, так и не стали бы держать. Птицу они своим хлебом не кормят, а на целое лето пускают гулять на вольных, колхозных хлебах. Во всех бригадах вокруг деревень по три-четыре гектара потравлено, хоть специального сторожа ставь! Гусь — она птица жадная, больше топчет, нежели жрет…"
Жирные, неповоротливые гуси, вздернув длинные шеи, настороженно, не мигая, поглядывают на идущего по дороге председателя красноватыми, похожими на волчьи ягоды, глазками. Они явно чувствовали себя хозяевами улицы.
В горячую пору уборки у Кудрина выработалась привычка спозаранок, до сбора людей спешить в контору.
С уборкой справились, а привычка осталась. В конторе в такую рань никого нет. Харитон открыл ключом свой кабинет, распахнул форточку: вчера допоздна засиделся с членами правления, крутой табачный дым не успел рассеяться за ночь. Не спеша стал просматривать вчерашние газеты: днем об этом даже некогда и думать, ежеминутно отрывают. Пожалуй, не вредно было бы установить для председателей "час самоподготовки"!
Вскоре один по одному к конторе стал подходить народ, в соседней комнате счетоводы, бухгалтеры шумно задвигали стульями, кто-то уже названивал по телефону, нетерпеливо звал и дул в трубку: "Алё, станция! Пфу — у… Алё, станция!.." Рабочий день, словно маховик большой машины, двинулся вначале медленно, будто нехотя, затем все убыстряя и убыстряя свой бег.
Вот уже кто-то постучался в дверь, Кудрин не успел ответить, — пыхтя и отдуваясь, ввалился Нянькин Григорий. По лицу его струился пот, он то и дело вытирал его мятым, несвежим платком.
— Приветик, Харитон Андреич! Уф-ф, не могу больше… Форменное преступление против своего здоровья! Но работа есть работа, несмотря на грозящий инфаркт. Ф-у-у…
Нянькин по-хозяйски водрузил на стол пузатый, набитый неизвестно чем желтый, истасканный портфель, сам грузно и с шумом опустился на диван.
— Здравствуйте, — суховато поздоровался Кудрин, прикидывая про себя, какая нужда могла привести к нему этого посетителя. А Нянькин продолжал отдуваться и жаловаться на здоровье:
— Нет, что ни говорите, а в мои годы пора подумать о покое. Врачи, в частности, категорически запретили мне-пешую ходьбу. Пожалейте, говорят, себя, иначе мы вам ничего не гарантируем, кроме инфаркта. Да-а… Но, поверьте, Харитон Андреич, совесть не позволяет оставить работу и со стороны наблюдать, как наш народ движется вперед, по пути построения коммунизма. Поскольку имеешь в кармане партийный билет, не имеешь никакого права оставлять свой пост! Скрутись в бараний рог, но держись. Такова наша историческая миссия! Ох, вот опять…
Нянькин схватился за то место, где должно быть сердце, и с минуту сидел неподвижно, с страдальческим выражением на лице. Затем стал исподволь поворачивать русло беседы в нужном ему направлении:
— Вам, я думаю, тоже не сладко приходится, Харитон Андреич: хозяйство обширное, а народец, ого! Уверенно говорю об этом потому, что сам работал здесь, довелось сидеть как раз за тем столом, за которым сейчас сидите вы. Давай то, давай другое, жмут сверху, подпирают снизу, поджимают с боков, успевай поворачиваться, хе-хе! Да-а… Тяжело нынче председателю. Между прочим, верно говорят, будто вас заслушивали на бюро райкома?
— Ну, было такое дело, — нахмурился Кудрин. — А вас, простите, с какой стороны это интересует?
— То есть как это "с какой стороны"? Вот те на! — деланно изумился Нянькин. — Да с самой что ни на есть практической стороны! Разве вы не в курсе? В данное время я состою в штате районной конторы "Заготскот", можно сказать, ваша продукция в буквальном смысле проходит через наши руки.
— По сдаче мяса у нас пока обстоит благополучно, — оборвал его Кудрин.
— Правильно, знаю, молодцы! За счет закупа и контрактации личного скота у колхозников по мясу вы идете в числе передовиков! Да, да, я знаю об этой инициативе и вполне одобряю. Необходимо всячески ограничивать частный сектор в пользу общественного, верно?
Нянькин с победоносным видом посмотрел на Кудрина: дескать, мы тоже вполне разбираемся в политэкономии! Не смотрите, что рядовой заготовитель, не щербатой ложкой кашу едим!
Кудрин с неприязнью подумал: "Сектор, сектор"! Для тебя же это дело, как говорится, ни шло, ни ехало! Хитришь что-то, Нянькин. Ну, — ну, подожду еще, пташечка летает, летает, да и где-то сядет!"
Нянькин сделал передышку, стрельнул в Кудрина маленькими, налимьими глазками и, потянувшись к портфелю, начал проворно рыться в бумагах.
— Да, да, с мясом у вас благополучно, а вот насчет яиц… Со скрипом идут у вас яйца, а, товарищ Кудрин? Какой процент на сегодняший день? Та-ак, сейчас мы установим. Ага, вот сводка за последнюю декаду. Колхоз "Заря", семьдесят две и шесть десятых процента. Не идет яйцо, а, Харитон Андреич? Понимаю и вполне сочувствую: не хватает концентратов, комбикормов и прочее, десятое… Так вот, товарищ Кудрин, — голос у Нянькина зазвучал почти торжественно, точно он собирался объявить об открытии новой планеты, — я вам помогу с выполнением плана по яйцу. Без всякого обмана или обхода законов и положений, все будет оформлено законно, документально! Да, да. Как вы на это реагируете?
Нянькин затолкал бумаги обратно в портфель и внимательно посмотрел на председателя. В глазах Кудрина промелькнули искорки и пропали.
— Ну, ну, очень любопытно! И давно стали нестись сданные в "Заготскот" телки и боровы?
Лицо у Нянькина скривилось, точно он хотел чихнуть. Но вместо этого он засмеялся, в горле у него забулькало. И тут же снова стал серьезным.
— Я понимаю шутки Харитон Андреич, понимаю и принимаю. Однако ближе к делу… Ситуация, значит, такого порядка: на сегодняшний день в "Заготскоте" числится триста голов гусей, проданных нам колхозниками. Но, к сожалению, вследствие большой скученности на малой площади, данные гуси… э-э, так сказать, теряют в весе, кроме того, есть случаи падежа… Мы, категорически не можем допустить, чтобы живпродукция, произведенная трудом наших людей, шла на списание, верно? Есть разумный выход: вы покупаете наших гусей для своего колхоза, но только на бумаге, в документальном оформлении! Затем вы перепродаете своих гусей — снова документально! — "Заготконторе", в счет сдачи яиц, за каждого гуся "Заготконтора" выписывает вам квитанцию как на десять сданных яиц. Эквивалент!.. А "Заготконтора", в свою очередь, продает тех же гусей нам, то есть" Заготскоту". Все очень просто, и при этом все вполне законно, документально оформлено! Вам остается получить квитанцию на три тысячи сданных яиц, с этой квитанцией вы идете в райисполком, и процент выполнения яйцепоставки в колхозе "Заря" возрастает до восьмидесяти! Кажется, все ясно и понятно, товарищ Кудрин? Я хочу помочь вам только лишь из сочувствия, так как в свое время работал в этом трудном колхозе. Уверяю вас, что другие председатели ухватились бы за это предложение руками и, как говорится, ногами, честное слово! Если согласны, можно без замедления оформить через бухгалтерию, так сказать, документально…
Кудрин почувствовал, как мелкой дрожью задрожала левая нога: на фронте ее задело осколком немецкого снаряда, нога зажила, но, по-видимому, был задет какой-то нерв, и в минуты сильного гнева икра начинала подергиваться мелкой неприятной дрожью. Запустив руку под стол, Харитон сильно сжал колено, но противная дрожь не проходила. Кудрин рывком поднялся из-за стола и всем корпусом подался к Нянькину:
— А себе… сколько?
— То есть как "сколько"? О чем вы, не понимаю…
— За "помощь", говорю, комиссионных сколько хапнешь?
Нянькин подался назад, быстро убрал со стола руки, издал булькающий звук:
— Кхр-хр, Харитон Андреич, все шутите, ей-богу… Я предлагаю вам свою помощь, так сказать, безвозмездно, из сочувствия…
Взглянув на Кудрина, он осекся на полуслове. Лицо председателя было пепельно-серым, не сводя с Нянькина тяжелого взгляда, он водил по столу руками, словно ища чего-то Нянькин встрепенулся, с лица его медленно стала сходить краска; пятясь назад, он испуганно забормотал:
— Тт-товарищ Кудрин, что вы, что вы? Я к вам, тт-ак сказать, из дд-ружеских чувств…
Харитон с грохотом отшвырнул пресс в угол и, указывая рукой на дверь, закричал:
— Убирайся отсюда, гад! Чтоб не воняло, ясно? Я тебя, сволочь такая, могу раздавить, как прошлогоднюю ракушку!
Нянькин непостижимо быстро очутился возле двери, но прежде чем захлопнуть ее за собой, тоненьким голоском прокричал:
— Эт-то оскорбление я не оставлю без последствиев! Я человек партийный и не позволю! Здесь тебе не казарма, Кудрин! За оскорбление человека при несении служебных обязанностей…
Словно подброшенный пружиной, Кудрин выскочил из-за стола, подбежав к Нянькину, сгреб его за ворот, притянул к себе.
— Вот что, Нянькин, — голос его казался спокойным, — вот что я тебе скажу: если сию же секунду не уберешься, я могу искалечить тебя, ясно? Уходи, поганый ты клоп! А насчет оскорбления ты зря сказал: клопов оскорбить невозможно! Ясно? А теперь убирайся!
Кудрин оттолкнул от себя Нянькина, и тот, очутившись за дверью, опрометью бросился бежать по лестнице, перепрыгивая через три ступеньки, по-видимому, начисто забыв о грозящем ему инфаркте…
Позорное бегство Нянькина произошло на глазах у Васьки Лешака, который в тот момент стоял на крыль-не с хорошенькой учетчицей из конторы, склоняя ее на совместный культпоход в кино. Увидев бегущего Нянькина, он привычным шоферским глазом определил: "В час тридцать километров выжимает!" Затем он сунул в рот два пальца и пронзительно засвистел, отчего Нянькин, вобрав голову в плечи, еще больше наддал ходу. Перед тем как круто завернуть за угол, он на бегу погрозил: "Не оставлю, до бюро доведу!.." Учетчица прыснула в ладонь, указывая Васе: "Гляди-ка, даже галошу потерял!" Васька Лешак моментально оценил обстановку: схватив галошу, он бросился вслед за Нянькиным. Тот еще не успел уйти далеко, и Вася быстро нагнал его. Не добежав до Нянькина метров десять, Лешак размахнулся и с силой метнул галошу. Увесистая резиновая галоша сорок второго размера, несколько раз перевернувшись на лету, опустилась на спину Нянькина пониже хлястика… Васька удовлетворенно похвалил себя: "Точно в десятку. Класс!" Нянькин отскочил в сторону, оглянувшись, хотел что-то прокричать, но раздумал. Вася приветливо помахал ему кепкой.
Конторские работники облепили окна, хохочут и о чем-то кричат Васе, но ему не до них: пока он "провожал" Нянькина, хорошенькая учетчица ушла с крыльца. "Эхма, — почесал он затылок, — придется занять наблюдательный пункт и все начинать сначала". Он устроился возле конторы на завалинке, спешить было некуда: после уборочной он снова работал на разъездном "газике".
Выпроводив из кабинета Нянькина, Кудрин долго не мог успокоиться, возбужденно прохаживался из угла в угол, присаживался за письменный стол и снова вскакивал. "Вот сволочь, а! И самое главное в том, что он, как и я, носит в кармане партийный билет! Конечно, рано или поздно все его махинации выплывут наружу, и ему дадут по всем статьям, законно и документально… Но ведь некоторые могут подумать, ага, дескать, коммунист, партийный человек, а смотри, какие Дела творил… Вот и выходит, что одна паршивая корова всю улицу гадит! Гуси у него там дохнут, а он… ходит, торгует дохлыми гусями. С-сукин сын, Чичиков районного масштаба!"
Выкурив подряд несколько папирос, он немного успокоился и, сев за стол, извлек из ящика толстую общую тетрадь, куда обычно записывал свои соображения или новые предложения колхозников. Помедлив, он торопливо стал записывать: "Поговорить с прокурором, поставить в известность райком партии, что в "Заготскоте" не все благополучно. Жулье!.. Михайлову Парасковью перевести обратно на птицеферму (побеседовать лично!). План по мясу на будущий год спустят увеличенный. Поголовье возрастет. Кукуруза! Сейчас на этом участке никакого порядка, работают кто попало и как попало… Необходимо создать специальное звено. Кого назначить?.."
Дружный хохот десятка людей прервал его размышления. Харитон отодвинул тетрадь и подошел к окну, распахнув еще обклеенные на зиму створки, выглянул наружу. На завалинке сидели его шофер Вася и несколько молодых парней, мужиков и женщин. Они с большим вниманием прислушивались к перебранке между трактористом Очеем Самаровым и его женой Сандрой. Размахивая руками, Сандра разгорячено наскакивала на мужа:
— Да вы поглядите на него, хомяка толстого! Дома дров наколоть, так у него и тут болит и там болит, а сам требует, чтоб и еда была на столе, и белье ему выстирай, и баню вовремя истопи… У-у, ленивый шайтан, хоть бы детей своих постыдился!
— Я, что ли, нарожал их… — словно в жаркий день от надоедливого слепня, отмахивался Очей.
Кругом хохочут, оттого Сандра приходит в еще большую ярость.
— Дурак, вот дурак-то где, тьфу! Заставить бы вас, мужиков, самих рожать!
Васька Лешак категорическим жестом останавливает Сандру:
— Стоп, стоп! Петуху незачем нестись, поскольку на это имеются курочки!.. А вот мужа своего ты зря упрекаешь, будто он ленивый и прочее. Зря! Ты знаешь, что если бы на свете не было лентяев, то вся жизнь пошла бы кувырком, и весь род человеческий до сих пор ходил бы, извиняюсь, с натуральными обезьяньими хвостами?
Слушатели заранее улыбаются, зная, что Лешак сейчас "отмочит" что-нибудь интересное. А сам Васька невозмутимо продолжает:
— Так вот, Сандра, разлепи свои уши и вникай в суть. Кто изобрел самую первую машину? Ну, не машину, а возьмем хотя бы самую обыкновенную телегу? Рядовой работяга — тот знай себе таскал бы все тяжести на своем трудовом горбу, а лентяй задумался: какой бы найти метод, чтобы самому себе облегчить труд? Взял и придумал тележку на колесах! Да возьми любую машину — все они придуманы для облегчения труда, верно? Мы должны за них в ноги поклониться матушке-лени, вот что, Сандра! И глядишь, Очей твой тоже…
— Дождешься от него, как от кошки лепешки! — презрительно отворачивается от мужа Сандра.
— Нет, ты погоди ругаться. Кто знает, может, пока вы тут меж собой мило переговариваетесь, у него тем временем в котелке заваривается какое-нибудь изобретение. Вдруг он придумает такую машину, что она сама будет печку топить и пацанов твоих в люльке качать!
Кудрин, улыбаясь, отошел от окна. Снова уселся за стол, придвинул заветную тетрадку, задумался: "Как-то на одном из заседаний Тимофей Куликов правильно заметил: надо, говорит, найти начало кольца. А колхозное производство — оно тоже вроде кольца, одно связано с другим: животноводство дает удобрение, навоз, а отсюда и урожайность, хлеб… Без кормовой базы о поднятии животноводства не стоит и заговаривать. Значит, опять-таки дело упирается в кукурузу, картофель, силос… Кого же поставить на этот главный участок? Надо, чтобы человек был знающий и с совестью. Такого, как Самаров Очей, ставить во главе звена бесполезно: у него ума, как сказал Василий, хватит лишь на то, чтобы окончательно загубить дело! В звене все работы должны быть механизированы, ведь ручной труд резко удорожает стоимость кормов. И не только кормов… Значит, надо подобрать хорошего механизатора. Кого? Башарова Сабита? А может, Андрея Мошкова? Придется поговорить с Кабышевым, он своих людей знает лучше…"
12
В течение месяца болезнь неузнаваемо изменила Зою. Она и раньше не была полной, но теперь на нее страшно было смотреть, от шустрой и подвижной когда-то женщины остался лишь жалкий скелет, обтянутый мелово-белой, с оттенком желтизны, кожей. Она почти ничего не ела, и было непонятно, как еще теплится в ней неприметный огонек жизни. Как-то однажды Олексан привез из Акташа дорогих конфет, плитку шоколада, фруктовых консервов, — Зоя даже не притронулась к ним. Глаша старалась готовить для нее вкусные кушанья, но Зоя, проглотив ложечку-другую, устало валилась на подушку. Вначале она говорила, что у нее болит грудь, "сердце будто камнем придавило, дохнуть нельзя", а в последнее время стала жаловаться, что "кругом болит, от рубашки и то больно". Было видно, что она действительно очень страдает, но ехать в больницу наотрез отказывалась: "Пусть лучше в своем доме умру…"
В Акагурте врача не было, Олексан несколько раз приглашал фельдшера из медпункта, тот подолгу и сосредоточенно осматривал больную и выписывал какие-то порошки, капли от сердца. Порошки и капли не помогали. Зое с каждым днем становилось все хуже и хуже.
Посоветовавшись с Глашей, Олексан запряг на конном дворе лошадь и поехал в Акташскую больницу. Прежний знакомый врач, узнав его, встретил неприветливо:
— Ну, что, снова к нам? Что у вас?
— Мать больна, уже с лета. Я за вами приехал, — угрюмо объяснил Олексан. Главный врач удивленно вздернул очки на лоб, развел руками:
— Но, дорогой, это невозможно! У меня трое врачей, и все они в разъезде, послать к вам некого, буквально некого.
— А вы?
— Что я? Хм, хм, до сих пор у нас не практиковались выезды главного врача к больным, да к тому же куда-то на край света!
— Там человек, может, помирает, — упрямо повторил Олексан. — Не на краю света, а за пятнадцать километров, в Акагурте…
Главный врач, казалось, задумался о чем-то, барабаня по столу длинными пальцами с донельзя коротко остриженными ногтями, затем неожиданно спросил:
— Ты на чем сюда приехал? Ага, на лошади. Хорошая, говоришь? Ну, это безотносительно, хотя… какое-то значение имеет. Так, так… Подожди здесь, пальто я должен все-таки взять, а?
В пути он сказал Олексану:
— Болезнь надо лечить тогда, когда человек здоров. Иначе говоря, нужно предупреждать болезнь, опережать ее. К нам же сплошь и рядом обращаются лишь в последний момент, когда недуг уже оседлал человека! К сожалению в деревне пока маловато культуры…
Олексан отозвался недружелюбно, слова врача задели его за живое;
— Культура! А вы знаете, что у нас в Акагурте школу открыли всего за два года до войны? Мои мать не умеет даже до конца вывести свою фамилию, расписывается тремя буквами: Каб… Вот и вся ее грамота и культура. А вы говорите!.. У нас еще многие женщины верят знахаркам, а вот я поехал за вами. Дайте срок, научимся!
Врач почувствовал в голосе Олексана обиду, примирительно сказал:
— Ого, оказывается, ты из породы "не тронь меня"! Я ведь не хотел тебя обидеть…
— Люди учатся по-новому жить! Не всему сразу научишься! Ребенок, когда ходить начинает, спотыкается, иногда падает — ему помощь требуется. Вам-то хорошо: наверное, росли в городе, на готовенькой культуре…
Олексан вдруг со злостью подстегнул лошадь, и тарантас запрыгал по тряским кочкам. До самого Акагурта они больше не заговаривали.
Пока врач осматривал больную, Олексан с Глашей стояли около, готовые помочь, если понадобиться. Врач попросил Глашу снять с больной платье и сделал знак рукой Олексану, чтобы он отошел в сторонку. Зоя, задыхаясь, отрывистыми словами отвечала на вопросы врача:
— Еда не идет… на одной воде живу… Ноги вот стали пухнуть… дышать тяжело. Осто, господи-и-и…
Осмотрев ее, врач молча посидел возле, потом долго мыл руки под носатым умывальником. Он ни слова не сказал о состоянии больной, и лишь когда Олексан, провожая его, вышел на крыльцо, остановился, пытливо и строго заглянув Олексану в глаза, задумчиво произнес:
— Вот что, дорогой… Конечно, все ждут от врача рецептов, каких-то лекарств. Если хочешь, я могу выписать… Но я вижу, ты самостоятельный мужчина, поэтому говорю напрямик: матери твоей жить осталось недолго. Я еще удивляюсь, как это она выдержала до сего времени. По-видимому, в свое время она была крепкой женщиной. Так вот, Кабышев, ты мужчина, поэтому должен знать всю правду до конца, без этих, хм… прикрас. Сердце у нее совершенно никудышное. Отсюда и отеки. Декомпенсированный порок. Вот так… Может, все-таки рецепт нужен?
— Не надо, — сказал Олексан. — Не надо. Теперь поздно…
— Вот именно, поздно. Мы пока не научились заменять человеку изношенное сердце. Нужно беречь то, что дается при рождении… А что касается нашего разговра о культуре, Кабышев, то я хотел бы сказать тебе вот что: не надо слишком громко кричать о том, что чуть ли не вчера ты был еще дикарем, а сегодня, видите ли, читаешь газеты. Однажды мне пришлось наблюдать, как пьяная баба на базарной площади отплясывала: "Ах, какая я была, да ох, какая стала я…" Впечатление неприятное. Самоуничижение всегда неприятно. А если хочешь знать, то меня мать родила в бане, и пуповину перегрызла зубами бабка-повитуха… Но зачем об этом кричать на площади? Вот так.
Олексан повез врача обратно в Акташ. Провожая их, Глаша шепнула: "Не задерживайся, Олексан, возвращайся скорее. Боюсь я одна…" После болезни она почему-то стала бояться оставаться в доме наедине со свекровью, с тишиной в доме. С Олексаном ей было спокойно: ведь он такой сильный, уверенный в себе…
Глаша подсела к столу, подперла голову руками. Невеселые думы одолевали ее. Как сложится её жизнь в будущем, по какому руслу пойдет? Давно ли она была уверена, что достигла своего счастья, а будущее рисовалось в радостных красках: вот у них родится ребенок, тогда Олексан еще сильнее привяжемся к ней; они будут работать, а за ребенком присмотрит бабушка. Опое хозяйство, свой дом, своя скотина, свой огород!.. Все, что требуется для безбедной жизни, у них есть. Но счастье это оказалось непрочным, оно развалилось, точно игрушечный домик, сложенный из лучинок и щепок. Теперь все нужно начинать сначала. А разве это просто, — начать строить новый дом на месте пожарища. И как его строить? Что нужно человеку для счастья?..
Во дворе залаяла собака, Глаша посмотрела в окно, сердце ее забилось радостно и вместе с тем обеспокоенно: перед воротами, боязливо поглядывая на собаку, стояла ее мать. В стареньком зипуне, с палкой в руке, она казалась жалкой и несчастной, точно нищенка… Глаша в одном платье выбежала навстречу матери, обняла ее: "Ой, мама, как давно я "не видела тебя!" Авдотья, словно засмущавшись перед родной дочерью, жалобно улыбнулась: "Не удивляйся, доченька… изболелась вся за вас, вот и пришла. Сами вы теперь у нас не бываете…" Глаша взяла мать за руку и повела в дом. Авдотья сначала ни за что не соглашалась пройти к столу, несмело топталась у порога: "Ноги у меня грязные, наслежу у вас, а потом убирать…" Глаше самой пришлось снять с нее зипун:
— Привыкла дома так жить, скоро шагу ступить забоишься… Проходи, мама, к столу, я сейчас самовар поставлю. Ты на чем приехала? Пешком? Ой, в такую даль!
— А я ничего, доченька, не устала. С полдороги председатель на своей машине подвез. Не хотела садиться, а он не отстает, уговорил меня…
Обе замолчали. И мать и дочь чувствовали, что им многое нужно сказать друг другу, но ни та, ни другая не решались.
— Сватья все еще хворает?
— Даже не встает… Сейчас уснула. Олексан привозил врача из Акташской больницы, дали ей для сна какого-то лекарства.
— Бедная сватья, долго мучается… Не удалась вам жизнь в последнее время, доченька, беда за бедой к вам стучится…
Глаша опустила глаза, низко наклонила голову: может, мать не хотела того, но ненароком задела самое больное место. Но поднимая лица, она медленно покачала головой:
— Не надо об этом, мама… У меня и без того сердце иссохло! Видно, таким счастьем наделила ты меня при рождении…
У Авдотьи на глаза навернулись слезы, украдкой смахнула их уголком платка, примирительно вздохнула:
— Что поделаешь, доченька, раз такая судьба выпала. Потерпи уж… Может, все уладится, бог даст, и ребенок еще будет. Не дай горю сложить себя, потерпи, доченька… А с Олексаном как у вас?
Глаша неприметно улыбнулась:
— Он очень добрый и ласковый со мной, мама. Хоть бы одно слово сказал в упрек! Он меня не обижает, жалеет…
— Слава богу… Он и раньше мене по сердцу был. Глядя на зятя, радовалась, что муж тебе достался хороший, самостоятельный. Только с твоим отцом они что-то не поладили. Отец-то твой, сама знаешь, характерный, хочет, чтоб все было по нему. Он и раньше трудный был, а нынче и вовсе с ума свихнулся, не подступиться к нему ни с какой стороны… Корит и бранит меня, будто еду я от него припрятываю. Господи, говорю, неужто думаешь, что я раздаю кому или торгую? Теперь всю еду под замком держит, зайдешь к нам домой, так даже сухой корочки на столе не увидишь… Приданое твое тоже под замок упрятал, пока, говорит, сама не вернется, ни единой тряпочки обратно не дам. Совсем ума лишился… Не отпускал меня к вам, я тайком пришла, потому и без гостинцев, с пустыми руками явилась, уж ты на меня, доченька, не обижайся за это…
Воцарилось долгое молчание. Авдотья теребила пальцами невидимую ниточку, вздыхала о чем-то своем. Наконец она украдкой взглянула на дочь и нерешительно проговорила:
— Как же вы спите-то без перины, доченька? От людей неудобно, да и самим ведь неловко так… Может, поговоришь с отцом по-хорошему, сердце у него и отойдет? Поругать он поругает, да ведь ругань-то можно снести, перетерпеть, а без вещей как жить?
Глаша покачала головой:
— Нет, мама, не хочу из-за пуховой перины становиться перед ним на колени. Олексану, если узнает об этом, очень не понравится… Не любит он унижаться перед другими. Пусть уж отец, если желает, спит на моей перине или держит взаперти под замком, а с поклоном к нему не пойду! Хватит, один раз ошиблась! — Голос Глаши стал жестче, она нервным движением поправила волосы. — Теперь ругаю себя, что послушалась его, словно овечка на привязи, пошла за ним. А приданное… что ж, мы с Олексаном не безрукие, как-нибудь наживем.
Авдотья вздохнула и закивала:
— Верно, доченька. Оно так, у грамотных людей и одежка и хозяйство — в голове. Как знаешь, тебе виднее… Пойду, доченька, время позднее. Хотелось и со сватьей поговорить…
Глаша просила мать остаться на ночь, но та испуганно замахала рукой: "Что ты, доченька, если отец узнает! Приду как-нибудь в другой раз…"
Проводив мать за ворота, Глаша вернулась в дом. Она не видела, как мать, опираясь на палку, уходила все дальше и дальше, часто оглядывалась на ходу.
Олексан вернулся поздно, когда в домах уже зажглись огни.
— В конторе малость задержался, с председателем был у нас кое-какой разговор, — пояснил он.
Поужинали в молчании, чтоб не разбудить спящую больную. Потом Глаша, стараясь не шуметь, принялась убирать со стола посуду.
— Смотри-ка, Глаша, оставила на столе ложку, жди гостя, — смеясь, заметил Олексан.
Глаша потупилась, негромко сказала:
— Гостья уже ушла. Без тебя мать приходила…
Олексан встревоженно спросил:
— Зачем она была?
— Она… просто так, приходила повидаться…
Олексан промолчал, глядя куда-то в сторону, потом сухо спросил:
— Она… не звала тебя домой?
— Нет, не звала, — эхом откликнулась Глаша.
Олексан облегченно вздохнул, точно сбросив с себя огромную тяжесть. Он похлопал ладонью по широкой деревянной лавке, приглашая Глашу присесть рядом. Глаша молча повиновалась.
— Тебе не холодно? Ну, ладно… А теперь, Глаша, я тебе расскажу свою новость.
— Какую? — насторожилась она.
— А ты не спеши. Станешь торопить, так толку не будет. — Олексан старался говорить нарочито весело, но в глазах его мелькала скрытая тревога. — Я тебе говорил, что малость подзадержался в конторе. С председателем у нас состоялась беседа… Знаешь, Глаша, он мне предлагает перейти на другую работу. И я… дал согласие.
Он выжидательно посмотрел на жену. Глаша ждала, что еще скажет Олексан.
— Что же ты не спросишь, куда, мол, и как? Или… это тебя ничуть не интересует?
— Тебе лучше знать, Олексан. — Голос ее был покорный, мягкий, несколько печальный. — Я ведь мало знакома с твоей работой. Тебе виднее…
Олексан взял Глашину руку, стал горячо втолковывать:
— Да нет, Глаша, ты просто не поняла меня! Перейти на другую работу — это пустячное дело…. Это я быстро освою. Только вот… на первых порах я стану меньше получать. Ведь сейчас у меня как? Идут дела в колхозе или не идут, стоят машины или все на ходу, — мне все равно зарплата идет, копейка в копейку. А вот теперь будет не так!
Боясь, что Глаша прервет его, он все больше горячился, стал даже размахивать рукой, будто стараясь этим придать словам большую убедительность.
— Конечно, потом все войдет в норму. Но вот в первые месяцы… Ну, ты сама понимаешь, Глаша! Новая работа, все придется начинать сначала.
— А что это за работа, Олексан? — спросила наконец Глаша.
— Кудрин говорит, что надо создать специальное звено по кукурузе и вообще — по кормам. Нас там будет три человека: Сабит с Дарьей и я. Меня назначают звеньевым. Техника будет в наших руках, надо сделать так, чтобы все работы выполнялись машинами, без ручного труда. Если взяться по-настоящему, так можно во как поставить работу! А сейчас мне как-то даже обидно: вроде и не сидишь без дела, с утра до вечера пропадаешь возле машин, а своей, ты понимаешь, своей работы я не вижу! Как в ребячьей загадке про петуха: рубит, рубит, а щепок не видать, кто таков? Вот и я тоже вроде того петуха. А мне, Глаша, хочется… ну как бы тебе сказать? Ну, чтобы потом можно было сказать: вот эту штуку сделал я сам, своими руками, понимаешь? Хочется выдумывать что-то, головой потрудиться! А то сейчас я вроде старой бабушки, которая только и знает, что чинит да латает рваное, а новое уже не шьет!.. Вот помню, когда я в тракторной бригаде работал еще первый год, мы с Сабитом придумали вроде металлического невода из стальных тросов, чтоб копны на лугу сгребать. Подцепишь такой невод с обоих концов тракторами, и, милое дело, за пять минут стог готов! Кажется, пустячок, ерундовское изобретение, а вот на тебе, помнится. Нас тогда здорово хвалили, а главное — люди были довольны: облегчение труда! Вот мне и хочется работать так, чтобы было где размахнуться, что ли… У нас с Сабитом должно получиться, у него знаешь как голова работает!
Глаша никогда еще не видела Олексана таким: рассказывая, он радовался, точно маленький, даже стучал кулаком по столу.
— Тише, Олексан, мать спит… — сдержанно остановила она его.
Олексан с минуту непонимающе смотрел на нее, затем как-то сразу сник, глаза его потухли. Глаша воспользовалась моментом, отошла от него и занялась чем-то на кухне. В душе она даже была довольна, что Олексан не стал больше добиваться от нее одобрения своего поступка. В самом деле, не может же она так сразу согласиться с чем-то непонятным для нее, ей надо подумать и все взвесить!
…В эту ночь Глаша долго не могла заснуть, вновь и вновь возвращаясь мыслями к сказанному Олексаном… "Почему ты, Олексан, вздумал переходить на эту новую работу как раз в такое время, когда наша жизнь так усложнилась?.. Ты запретил мне перевозить свои вещи от отца, ты сказал, что со временем сами обзаведемся всем нужным. Но если теперь ты будешь мало получать, значит, нам еще придется долго валяться на этом противном, жестком матраце? Мне врачи пока не разрешают работать, говорят, надо подлечиться. Свекровь лежит больная, и еще неизвестно, сколько она пролежит… Ой, Олексан, подумал ты об этом, когда давал Кудрину согласие? И почему на эту работу должен идти ты, обязательно ты? Разве мало других? Почему ты вырываешься вперед, Олексан? Конечно, Кудрину хорошо: он председатель, получает большую зарплату, а живут всего лишь вдвоем с матерью. А я вот возьму и пойду к твоему Кудрину и скажу ему в глаза: чем вам досадил Олексан, что переводите его на плохую, безденежную работу? Сам Олексан не понимает того, что он делает, а вы его, как ребенка, подговариваете. У него семья, дом, хозяйство, он должен был подумать об этом! Олексан говорит, что кто-то должен начать первым. Шел бы ты лучше, Олексан, за людьми, не вырываясь вперед. Знаешь, когда длинный обоз едет зимой по узкой дороге, то умная лошадь не вырывается вперед, потому что знает: на обгоне она по самое брюхо провалится в глубокий снег, а вдобавок ей достанется немало плетей… Я пойду и скажу обо всем этом Кудрину!.. Но если узнаешь ты, Олексан? О-о, как ты рассердишься тогда! Но что же мне делать? Ведь я не хочу зла ни тебе, ни себе, я желаю добра дому, семье. Кто же из нас прав? Ты радуешься, точно малое дитя, а мыслями уже весь там, на своей новой работе. Неужели ты прав? Если бы я знала наверняка! Ты такой большой и сильный, упрямый и горячий, сердитый, застенчивый и своенравный. Мне с тобой и легко и трудно, а порой страшно, Олексан! Я знаю, если встану поперек твоего пути, ты безжалостно отметешь меня и уйдешь вперед. И я не могу, не в силах мешать тебе, потому что люблю. Поступая, как хочешь, Олексан, может быть, ты видишь то, него не замечаю я. Делай, как знаешь, как лучше…"
От жалости к себе Глаша немного поплакала. Потом она вздохнула всей грудью и повернулась к Олексану, осторожно просунула руку под его голову и обняла спящего.
— Большой ты мой… и упрямый, — прошептала она. — Что же мне делать, если ты сильнее меня. Ты ведь все равно добьешься своего, сделаешь по-своему!..
13
Смерть по-разному приходит к людям. Иные умирают в глубокой старости, другие расстаются с жизнью на войне, с третьими случается несчастье… Всякое бывает в жизни. По разному является к людям мрачный эзель[15].
Всякая живность, дерево и даже малая травинка оставляют после себя семечко, потомство, корень, из которых затем снова вырастает такое же дерево, травника, тварь. Иначе на свете не стало бы жизни!
Зоя часто с горечью думала о том, что Олексан не пошел по её следам. Характером он выдался в отца: беспечный, упрямый, о своем хозяйстве не заботится, готов последнее спустить на сторону. Макар в молодости тоже был таким, не будь Зои, они, может быть, до сих пор жили бы в стареньком домике на краю деревни. Олексан пошел в отца, это видно сразу. Из корней ивы выросла ольха… Теперь уже поздно переучивать, его, он упрямый, сделает по-своему, но не все еще потеряно для Зои: будут у Олексана дети, и она выучит их жить так, как велит ее сердце. Тогда она может умереть с легкой душой: все-таки на земле остались люди, которые будут продолжать ее род, будут стараться жить так, как жила она.
Теперь, когда Глаша вернулась из больницы с пустыми руками, рухнула последняя надежда Зои, и она возненавидела невестку. Когда-то она похвалялась перед акагуртскими женщинами: "Невестка хоть и грамотная, да умом вся в меня!" Сейчас ей казалось, что Олексан с Глашей нарочно сделали так, чтобы лишить ее последней радости и надежды. Ради чего она жила на свете? Изо дня в день она стремилась к тому, чтобы дом был полной чашей и чтобы в нем было все, что нужно для сытой и безбедной жизни. Ради этого она не жалела своих сил, ради этого жила на свете. А что получилось? Олексан отмахивается: "Для чего мне такое хозяйство? Половину надо распродать!" Легко распродать нажитое другими, а как же он собирается жить дальше? Ой, Олексан, еще не раз ты вспомнишь, чему учила тебя мать…
Ночами Зою одолевали длинные, горькие раздумья. Скрестив на груди иссохшие, худые руки, она подолгу без движения лежала на своей постели, уставившись неподвижными глазами в потолок, словно искала там ответа на свои мучительные вопросы. Из-за перегородки доносилось ровное дыхание Олексана и Глаши, где-то в углу мышь грызла завалявшуюся хлебную корку; мерно и неторопливо шаркали большие старинные часы, с медными гирями. Часы достались Зое от ее отца, Камая. Сам Камай давно лежит в земле, а вот часы продолжают идти и показывать время. После смерти Макара часы отчего-то перестали ходить. Олексан разобрал их, почистил и снова пустил в ход. Бездушная вещь надолго пережила своих хозяев.
Зое начинало казаться, что навсегда опустилась ночь и никогда уже не наступит день. А думы тянулись и тянулись, разматывая серый клубок воспоминаний.
Однажды явственно послышался басовитый голос Матвея, отца первого ее ребенка, умершего от неизвестной болезни. Кто знает, как бы сложилась ее жизнь, выйди она за Матвея: когда в Акагурте создавался колхоз, Матвей пырнул ножом председателя, его засудили и отправили куда-то, с тех пор он пропал, о нем все забыли. И пришлось Зое, дочке первого в деревне богатея, выйти за Макара, в бедную семью. Уж куда как бедно жили Кабышевы, но Зоя своими стараниями подняла хозяйство на ноги. Акагуртские женщины завидовали ей: одна рука в муке, друга в меду… Как живой, встал Матвей перед ее глазами: в черном полушубке, отороченном по краям белым мехом, в разукрашенных валенках. Он стоял под окнами и звал ее: "Зоя, ты пойдешь сегодня на игрище? Приходи, буду ждать тебя за деревней, на холме Глейбамал!" Зоя ничего не успела ответить, как Матвей рассмеялся и куда-то исчез…
Зоя долго раздумывала: с чего ей привиделось такое? Потом вспомнила, как старики рассказывали: если к человеку являются тени умерших, это верный признак, что смерть бродит где-то близко… Матвей ведь давно умер и вот теперь зовет ее к себе.
В другой раз увидела себя на холме Глейбамал. По случаю какого-то праздника сюда пришли разнаряженные парни и девушки. Парни кучкой стоят поодаль, курят в рукава и поглядывают в сторону девушек. А девушки тоже стоят особняком, все они в легких женских зипунах с узкой талией, с оборочками, стоят и лузгают семечки, переглядываются с парнями, смеются. Девушки в новеньких лаптях, лишь у одной Зои на ногах щегольские резиновые галоши, и потому она стоит чуть в стороне от подруг: пусть все видят ее обновку. Камай не жалел денег для единственной дочери, каждый раз, возвращаясь с ярмарки, привозил ей что-нибудь новенькое. Но вот заиграла гармошка, девушки пошли плясать, а Зоя осталась стоять: ей было жаль новых галош…
Снова и снова в её затуманенном сознании возникали далекие образы молодости, но странное дело; ей ни разу не представилась ее долгая жизнь после замужества…
Зоя слабела с каждым днем, и Олексан хотел снова пригласить врача из Акташа, но, услышав об этом, она слабо махнула рукой:
— Не надо, не езди…
— Почему, анай? Он хороший врач, поможет тебе.
Зоя пожевала губами, ответила после долгого молчания:
— Теперь мне уже не выздороветь. Сама чувствую… Хоть бы смертушка пришла поскорее. Кому нужен больной человек…
— Анай, зачем ты об этом! — с упреком произнес Олексан. — Мы с Глашей хотим, чтобы ты выздоровела!
Зоя, словно удивленная словами сына, на секунду остановила потухший взор на его лице и отвернулась. Через некоторое время она вновь повернула к нему голову и с трудом заговорила:
— Олексан… без меня… береги отцовский дом. Ты больно беспечен, не болеешь за хозяйство… Мы с твоим отцом себя не жалели, строились. Старайся, чтоб у тебя все было свое, по чужим не ходи. — Она сделала передышку, откинулась на подушку, еле слышно добавила: — Меня… похороните рядом с отцом. Крест не забудьте поставить…
И умолкла. Олексан постоял возле нее и, видя, что она не открывает глаз, неслышно отошел. С горечью подумал: "Хоть бы теперь не думала о хозяйстве! Всю свою жизнь вложила в него, сердце на этом погубила… У вещей нет ни души, ни зубов, но они сосут и гложут душу. Они убивают человека…"
Спустя два дня, в канун Октябрьских праздников, погода неожиданно изменилась: с севера подул холодный, резкий ветер, густо повалил мокрый, тяжелый снег, а в ночь землю напрочно сковало морозом. Для акагуртцев мороз — гость долгожданный: пора резать нагулявшуюся за лето скотину и птицу. И уже с самого утра над деревней стоит истошный свинячий визг и разносятся пронзительные крики гусей и уток. Зато у акагуртцев праздничные столы будут богатые. Год выдался неплохой, трудодень — хлебный, да и деньгами получили немало.
Перемена погоды неожиданным образом повлияла и на здоровье Зои: впервые за много дней она сама попросила Глашу сварить для нее суп.
— Петушки теперь, должно быть, большие уже… Зря корм переводят, резать пора… Оставьте одного, который побольше, остальных под нож…
— Хорошо, анай, я сейчас. Олексан, пойдем вместе, помоги мне, я совсем не могу видеть крови…
Во дворе Олексана через забор окликнул Харитон Кудрин:
— Здорово, сосед! Ты это с топором на кого собрался?
Олексан чуть смутился, кивнул в сторону жены:
— A-а, Харитон, здравствуйте… Да вот Глаша попросила петуха жизни лишить.
— Правильно, женщинам надо помогать, больше будут любить! Как управишься, заходи ко мне, что-то скучно одному. Завтра праздник, сам понимаешь, — весело подмигнул Кудрин. Голова его исчезла за забором.
Когда Олексан вошел к Кудриным, тот уже сидел за столом, поджидая его. На столе стояла непочатая бутылка водки и нехитрая закуска.
— А, входи, входи, Олексан! — обрадовался Кудрин. — Я уж хотел начать в индивидуальном порядке. Наши куда-то ушли, а тут на носу праздники, давай загодя встретим!
Олексан скинул с себя верхнюю одежду и, немного смущаясь, подсел к столу: до сих нор не приходилось еще ему сидеть с председателем так запросто, с глазу на глаз, да еще с выпивкой. Кудрин откупорил бутылку, налил стопки до краев и кивнул:
— Давай, Олексан, согрешим по малой. Много выпьешь — пьяницей назовут, а совсем не выпьешь — в гордецы запишут. Так и так придется выпить. С наступающим!
Опрокинув стопку до дна, он с хрустом откусил пол-огурца, отчаянно покрутил головой:
— Фу, черт, гадость какая, а все равно пьют люди! Сучок проклятый, из опилок научились гнать… На фронте у танкистов спирта было хоть залейся, а я как-то не привык. Да-а, Олексан, пришлось повидать всякое, если рассказывать, длинная история… Что было, то прошло, белым снегом замело. Жаль вот, много хороших ребят не вернулось. Знаешь, есть такая песня, "Москвичи" называется, не могу без слез слушать. Ушли ребята на фронт и погибли, лежат в земле сырой, а дома их матери дожидаются, и девчата без них ходят в кино. Сильная песня… Живой все равно думает о живом, уж так устроен, видно, наш брат человек. — Кудрин снова наполнил стаканчики, но пить не стал, отставил в сторонку. — Был я сегодня в Бигре. Дай, думаю, съезжу, посмотрю, как они встречают праздники. Они ведь, сам знаешь, любой праздник начинали на три дня раньше и кончали гульбу позже всех. Ничего, пока держатся. Правда, кое-кто из мужиков ходит с постным выражением, но массовой пьянки не предвидится. Ничего, народ в Бигре неплохой. Эх, бригадира бы туда хорошего да другого секретаря партийного. Там есть такие, вроде больного зуба: от них всю челюсть набок воротит, того и гляди, здоровый зуб заразится… Сказать по правде, Олексан, народ нехорошие вещи о твоем тесте рассказывает. Жадничает не в меру, колхозное добро таскает по мелочи… Ты меня извини, что позвал в гости, а рассказываю не шибко приятные вещи.
Оттянув пальцем ворот рубахи, не глядя на Кудрина, Олексан глухо проговорил:
— Не знаю, как он там… Поругались мы с ним крепко, с тех пор не довелось встречаться. Да он и сам теперь не пожелает! Из-за Глаши у нас все вышло, он ведь хотел ее обратно к себе.
— A-а, слышал об этом. Ну что ж, правильно сделал, что отшил! Раз не сошлись путями, чего ему в рот заглядывать? В таком деле, если отрубил, так уж руби до конца… Ну, а жена как, Глаша?
Олексан мял в пальцах шарик из хлебного мякиша, упорно не смотрел на собеседника.
— Поправляется, скоро опять на работу. А пока заместо сиделки возле матери… — Неожиданно щелчком отбросил хлебный шарик, с угрозой в голосе сказал: — Я ей прямо заявил, пусть выбирает: или отец, или я. А с тестем у меня все кончено, не видать ему больше Глаши! Не отдам!
Кудрин сложил пальцы на затылке замком, с хрустом потянулся, затем сильно ударил ладонью по столу, из стопки выплеснулась водка.
— А, черт, не об этом я хотел с тобой. Давай о чем-нибудь другом. Знаешь, иногда полезно взглянуть на нашу жизнь с высокой каланчи… Клуб у нас поганенький, молодежь туда не заглядывает. Только и веселья, что на Глейбамале под гармошку каблуки треплют. Есть у меня намерение такое, — в будущем году заложить каменный клуб, под штукатурку, и чтоб с откидными сиденьями. А еще — хорошо бы пруд устроить и пустить туда карпа. Ты знаешь старый, заброшенный тракт, что проходит возле Бигры? Его екатерининским называют, хотя строила его, конечно, не императрица, а наши прадеды. Сама она лишь один раз проехала по тому тракту на Урал. Так вот, фундамент у него капитальный, на каменной основе, дело за малым: насыпать бульдозером плотину, и запруда готова! Хватит одним днем жить. Мы на этой земле надолго!.. Давай, Олексан, выпьем за исполнение желаний!
— A-а, Галя… Она скоро вернется?
Олексан заметил, как потеплел взгляд Кудрина при упоминании имени агрономии, а голос стал мягче. Кудрин улыбнулся своим мыслям и внезапно спросил:
— Хорошая она девушка, Олексан? Нравится тебе?
Кабышев на минуту растерялся, что-то похожее на зависть и сожаление шевельнулось в нем, с запинкой проговорил:
— Ничего, она… славная. — И окончательно уверившись в своей догадке, грубовато пошутил: — Харитон Андреич, на свадьбу пригласите, как-никак соседи?
Кудрин махнул рукой: дескать, пока ничего не известно… Поговорили еще немного, затем Олексан стал прощаться. Кудрин проводил его до порога и тут вспомнил:
— А, погоди, Олексан! Насчет кукурузного звена надумал?
— Решено, Харитон Андреич. Думаю, с Сабитом можно кашу сварить…
— Правильно, Сабит парень толковый. И вообще, я не вижу, чего тут осторожничать? Дело верное. А жена не заупрямится?
— Говорил я с ней. Она согласна…
— Значит, понимает? Молодчина! Другая на ее месте могла бы заартачиться, поднять великий шум, дескать, почему да по какому праву моего мужа переводите на невыгодную работу… Значит, не против? Ну, передай ей большое спасибо. Будь здоров, Олексан!
Вернувшись домой, Олексан справился у Глаши: "Как мать?"
— Жиденького супу немного похлебала. Вкусно ей показалось, теперь, говорит, может, на поправку пойду…
От выпитой водки у Олексана чуть кружилась голова. Он взял журнал, но читать не смог. Глаза слипались, и он словно провалился в какую-то бездонную глубину. Вдруг сквозь сон припомнил: "Значит, Кудрин надумал жениться на агрономке…" Ему приснилось, что он идет по дороге, а через дорогу разлился широкий ручей талой воды. Галя стоит растерянная, в туфельках. Ей никак не перебраться. Тогда Олексан подхватил ее на руки, бережно перенес через поток и осторожно опустил. Но когда он поднял на нее глаза, вместо Гали перед ним оказалась Глаша…
На улице телеграфные провода гудели точно десяток потревоженных пчелиных роев: мороз сковывал землю на долгие месяцы… Было около полуночи, когда Зоя почувствовала какой-то толчок изнутри и раскрыла глаза. Необычайное ощущение легкости и спокойствия охватило ее, она не чувствовала своего тела, словно кто-то невидимый бережно держал ее на весу. Ей показалось, что в доме очень жарко, будто в знойный летний день. Зоя прислушалась: да, и впрямь пришло лето, слышно, как гудят пчелы в садике за баней. Но почему они гудят так встревоженно, неужели приспело нм время роиться? Как нарочно, ни Макара, ни Олексана дома нет, с утра ушли на работу. Господи, не упустить бы рой, успеть вернуть! Надо побрызгать водой, тогда рой сядет где-нибудь поблизости, оттуда его можно собрать в лукошко. Слава богу, этой весной они с Макаром выставили восемь ульев, к осени ожидается прибавка, лишь бы не упустить отроившиеся семьи. А рой гудит все сильнее и тревожнее, того и гляди улетит, тогда его ни за что не догнать. "Осто, хоть бы Макар был дома! — в отчаянии подумала Зоя, хватаясь за сердце. Боясь упустить рой, она в одном платье выбежала за дверь, но сени почему-то оказались закрытыми. В отчаянии она шарила руками, тщетно пытаясь отыскать щеколду. Ей было душно, не хватало воздуха. Тогда она закричала тонко и протяжно: "Откройте-е… Рой уходи-и-и-т… Уходи-и-и-т!"
Олексан с Глашей спали крепко и не слышали, как Зоя в бреду поднялась со своей постели, хватаясь за стены, добралась до двери и очутилась в сенях. У нее еще хватило сил дойти до второй двери, холодеющими пальцами ухватиться за железную скобу, но тут силы покинули ее. И она медленно сползла на колени. Перед глазами поплыли и бешено запрыгали синие, зеленые, красные круги, затем все погрузилось в беспросветную темноту…
Телеграфные провода на улице гудели, словно разъяренные осы: мороз все глубже и глубже проникал в землю.
К утру тело Зои Кабышевой закоченело, стало чугунным. Правая ее рука застыла на железной скобе двери, будто она и после смерти продолжала цепко держаться за свой дом…
14
Рано утром к Самсонову постучался бригадир. Он не сел на предложенный хозяином стул, строго спросил:
— Ты что же, Григорий Евсеич, резину тянешь? Долго будешь держать свою овцеферму? Все продали свою лишнюю скотину, один ты упорствуешь! Или ждешь, чтоб для тебя вынесли специальное решение общего собрания?
— А у меня и нет ее, лишней скотины! — обрезал Самсонов.
— То есть как это нет? — удивился бригадир. — По списку ты должен снести на ферму четырех овец!
— Хе, мало что можно намарать на бумаге! Бумага все стерпит, напиши хоть четыре, хоть двадцать четыре…
Самсонов проткнул бригадира ехидными глазками: "Али не так? Знаем, все понимаем…"
— Ну, ладно, Самсонов, не время мне с тобой манежиться! Ответь в точности, когда овец сведешь на ферму? Или решение колхозного собрания для тебя не закон?
— Против закона я не стою, а только лишней скотины у меня нет. Коли словам не веришь, пойди погляди…
Пришлось бригадиру выйти вслед за хозяином. Самсонов с грохотом отбросил металлический, из шипового железа запор и широко распахнул дощатую дверь хлева. Теплый воздух, перемешанный с едким навозным духом, клубами вырвался из полутемной пасти просторного хлева. Белая с темными пятнами корова равнодушно повела на людей большими лиловыми глазами, шумно вздохнула, не переставая перемалывать жвачку. В углу пугливо жались четыре овцы.
Бригадир вопросительно посмотрел на Самсонова, тот развел руками:
— Как есть все на виду. Врать мне ни к чему, истинный бог…
— Где остальные? Припрятал небось? — не унимался дотошный бригадир. Самсонов вздохнул и печально покачал головой, словно жалея бригадира:
— Эх, парень, парень, зря нервы портишь… Мало ли в жизни случается? Вот ты сегодня жив и здоров, а назавтра глянь, и хворь к тебе прилипла… Вот и у меня приключилась такая беда. Только-только собрался везти ярочек на ферму, а они возьми да и заболей…
Бригадир потоптался на месте, затем ругнулся в адрес "гадов, готовых лопнуть от жадности", и ушел, с силой хлопнув воротами. Сэмсонов ухмыльнулся вслед ему и направился под навес. Здесь, укрытые от нескромного глаза, на хитроумно придуманных козлах сушились овечьи шкуры. Весело пересвистываясь, на них копошились желтогрудые синички, склевывали крошечные кусочки застывшего сала. Завидев их, Самсонов рассвирепел, сорвал с головы шапку и запустил в непрошенных нахлебников:
— Кыш, шайтаны! Того и гляди до дыр проклюют, проклятые!..
Он тщательно осмотрел, перещупал все четыре шкурки и остался доволен. Козлы для просушки шкур он придумал и смастерил сам, выгода получалась двойная: шкурки просыхали без единой морщинки, шли первым сортом, но главное было в том, что Самсонов натягивал на козлах лишние сантиметры. Агенты-заготовители при приемке шкур тщательно вымеривают квадратные сантиметры кожи. Невелика, казалось бы, выгода, но лишняя копейка в хозяйстве никогда не помеха: дождевая вода по капле падает, а бочку с верхом наполняет…
Хорошо, что бригадир не стал допытываться, куда Самсонов девал свою прошлогоднюю телку. Поздно, миленькие, поздно хватились: телка давно гуляет в загоне "Заготскота", хозяин сдал ее "живым весом". Перед тем как отвести животину, Самсонов вволю накормил ее сеном, пересыпанным солью. Вот и получилось, что заработал лишние рублики, хе-хе, на дерьме… Кроме того, он пошептался с приемщиком Нянькиным, и телку приняли по графе "выше средней упитанности".
У Григория Самсонова были все основания быть довольным собой. На здоровьишко пока не обижается, дом полная чаша, сам он мозгует и вершит все хозяйственные дела, а по дому управляется Авдотья, зимой ходит за скотиной, а летом ползает между грядками, полет да окучивает, поливает и убирает. Вначале Самсонов подумывал сшить из овечьих шкур жене шубу, но потом раздумал: не стоит, не раздетая ходит. Правда, шуба у Авдотьи уже старенькая, можно сказать, рвань, но он про себя рассудил, что ей некуда особо разгуливать, десять лет проходила и еще проходит. Небось не девушка на выданье.
Все бы было в порядке, если б не Глаша. Не повезло Глаше, эх не повезло! Единственную дочь растил, холил, нежил, а она угодила в чертово гнездо. Как же он раньше не разглядел, что это за птица — Олексан Кабышев. Теперь, как ни прикидывай, а кругом выходит так, что сам на своей груди пригрел змею. После того как зять исхлестал его вожжами, Самсонов целую неделю чувствовал в пояснице ноющую боль, не раз подумывал о том, что надо подать жалобу в народный суд, однако не решился: стало жаль Глашу. А кроме того, он с опаской подумал о том, что на суде станут докапываться, отчего да почему дочь разродилась мертвым ребенком, и наплетут на человека всякую напраслину.
Не удалось Глаше замужество, видно, не судьба. Теперь она снова живет в доме мужа, а к отцу даже носа не кажет, и сам он у них не бывает, так и живут, будто никогда не были родными. Осенью померла сватья Зоя. Самсонов на похороны не поехал, одной Авдотье разрешил сходить попрощаться с неудавшейся родней. Нет, не повезло Самсонову с дочерью. Уж лучше сидеть бы ей дома, не спешить с замужеством, а женихи… что ж, невесту с учительским дипломом, да еще из такого дома, любой бы взял зажмурившись! А теперь, поди ж ты, она же от родного отца отворачивается, живет по указке мужа, даже за своим приданым не едет. Видно, богатыми стали! Ничего-о-о, попробуйте холодненького да горяченького, слетит с вас гордыня, сами с поклоном придете к Самсонову.
После сильных морозов долго не было снега, оголенная земля пошла трещинами чуть не в ладонь шириной. Колхозники с беспокойством покачивали головами: "Недоброе это дело. Земля, вишь, трескается, рвет корчи у озими…" А спасительного снега нет как нет, стоят сухие, лютые холода, с севера беспрестанно дует обжигающий ветер, выжимает у встречного слезу, студит сквозь одежу, лижет смерзшуюся до звона землю, взвихривает на дороге холодную пыль. Лишь в конце ноября ветер переменился, наползли ватные тучи. Снег шел, не переставая, двое суток, сразу покрыл истосковавшуюся землю чистым, белым покрывалом чуть не в полметра толщиной. Люди вздохнули облегченно: "Ну, теперь озимым не страшно, будем с хлебом!"
Быстро установилась санная дорога. Работ в колхозе поубавилось, лишь на фермах по-прежнему дел по горло и даже больше, нежели летом, вся скотина стоит в стойлах, успевай только подавать воду, подбрасывать корм, к тому же приходится и ночами дежурить, принимать новорожденный приплод. Одним словом, кому зима матушка, а животноводы успевай поворачивайся!
Механизаторы тоже "шабашили": часть тракторов поставили на ремонт, толклись возле них, переругивались из-за деталей: у кого-то что-то "раскулачили", поди, найди теперь пропавшую деталь, на ней именной метки нет! Несколько тракторов продолжали по утрам будить акагуртцев грохотом дизелей: на них вывозили в поле накопившийся возле ферм навоз, ездили на станцию за горючим.
Олексан Кабышев со своим звеном вывозил на тракторе навоз под будущий посев кукурузы. Женщины, тяжело дыша, разворачивали вилами смерзшиеся комья навоза и кидали на тракторные сани. Промучившись целый час, кое-как накладывали воз, затем трактор оттаскивал груженые сани на участок, и тут снова пускались в ход вилы. Пока люди, в кровь раздирая ладони, копошились вокруг саней, трактор — пятьдесят четыре лошадиные силы! — мерно попыхивал кольцами дыма, словно посмеиваясь над несмышленой человеческой породой. Вконец измученные женщины ругались без стеснения:
— Языки мочалят, будто у нас везде машины, а тут кости трещат!
— Самих бы сюда, болтунов таких! Попотели бы, как мы!
— А мужики небось в конторе штаны протирают да потолок дымом подпирают!..
Олексан с Сабитом слушали этот разговор и поеживались под недобрыми взглядами женщин.
— Валла, Аликсан, они правильно говорят! — возбужденно сказал Сабит, когда Олексан сел рядом с ним в кабину трактора. — Разве они в тюрьме сидят, чтобы так работать? За такое дело нас надо в тюрьму салить!
— А чем мы можем помочь им? — нахмурился Олексан. — Вот если бы дали экскаватор…
— Зачем экскаватор? Ты своей башкой придумай такую машину, Аликсан!
На второй день после этого разговора Олексан как-то заглянул к Сабиту домой. Самого Сабита дома не оказалось, жена его Дарья неопределенно махнула рукой:
— Посмотри, может, в огороде. С самого обеда возится там, игрушками какими-то занялся. Гони его оттуда, Олексан, ужинать пора!
Олексан заглянул поверх низенькой калитки, ведущей в огород, и увидел Сабита. Тот и в самом деле сосредоточенно возился с какими-то дощечками, целиком отдавшись этому странному занятию.
— Эге, Сабит! Хорошую игру ты придумал!
— A-а, это ты, Аликсан! — Сабит смутился, смахнул со лба капельки пота. — Валла, совсем не заметил, когда ты пришел…
— Еще бы, вон у тебя какая занятая игра! С тобой это… часто случается?
Сабит смутился еще больше, неловко потоптался на месте и махнул рукой:
— Пожалуйста, не смейся, Аликсан! Я не хотел тебе раньше времени говорить, извини, пожалуйста… Как это говорят? Когда торопятся, слепые родятся, верно? Вот, смотри… — Сабит присел на корточки и принялся объяснять другу: — Представь, Аликсан, что этот снег — навоз, а эта доска — бульдозер. Теперь смотри: бульдозером толкаем навоз прямо на железный лист, потом подцепляем тросом и очень спокойно везем в поле. Там опять бульдозером разгружаем и, пожалуйста, едем обратно… Валла, Аликсан, я на бумажке считал: женщин теперь не надо, я с прицепщиком один справлюсь! Женщинам отдыхать надо, горячий чай с сахаром пить надо, честное слово!
Олексан понял, что приспособление сулит большую выгоду, однако, решив подзадорить Сабита, с сомнением покачал головой:
— Положим, ты прав, но скажи мне, где ты думаешь достать такой большой железный лист? Мобилизуешь противни, на которых тебе жена пироги выпекает, а?
Сабит загорячился, путая слова, стал объяснять:
— Ай-яй, Аликсан, если имеешь коня, за уздой дело не станет! Ты каждый день проходишь мимо старей цистерны, которая стоит возле кузницы, знаешь? Скажи, пожалуйста, какому шайтану нужна эта старая посуда? В дело надо пускать, валла! Мы ее, Аликсан, газосваркой разрежем и в один момент большой лист сделаем! Ай-яй, дорогой, в последнее время твой казан плохо варит…
Олексан оглядел Сабита с ног до головы, словно увидел его впервые, и уже не скрывая своего восхищения, с силой хлопнул друга по плечу:
— Оказывается, ты уже успел все высмотреть, вынюхать, где что можно подобрать! Молодец, прямо академик! Согласен, убедил, готов помочь тебе. А теперь бегу к Дарье, а то она живьем съест тебя, останемся без академика…
Олексан и сам загорелся выдумкой Сабита. Не откладывая, он вызвал из РТС машину-"летучку" со сварочным аппаратом. Разрезали старую цистерну на несколько листов, распрямили их и снова сварили в один большой. Один край загнули наподобие саней, приварили прицепные скобы. Получилось что-то вроде огромных саней без полозьев.
Сабит на этот раз вел трактор как-то особенно сосредоточенно и торжественно. Подъехав к развороченной груде навоза, он отцепил "сани", круто развернул бульдозер, в три захода загрузил площадку, вновь подцепил толстенным тросом, прибавил газу, и вся эта громадина плавно заскользила по снежной равнине. Через полчаса бульдозер вернулся с пустой площадкой: Сабит один, без всяких помощников разгрузил ее. Женщины, видя такое, с растерянными лицами обступили Олексана.
— Вот так тамаша, Олексан! Выходит, мы теперь лишние, без работы остались? Куда же нам?
Олексан кивнул на Сабита: мол, спросите у него, а сам принялся подсчитывать выгоду от нового приспособления. Выходило, что вместо пяти рейсов при ручной погрузке теперь за короткий зимний день можно сделать все десять. Другими словами, Сабит будет работать один за всю бригаду, в крайнем случае вдвоем с подсменщиком! Надо посоветоваться с Кудриным: возле других ферм также накопились целые горы навоза, в прежние годы его почти не вывозили. Если председатель выделит еще один трактор, то за неделю можно вывезти черт те сколько тонн! А ему ли не знать, что это значит для земли, для будущего урожая!..
Однако, услышав просьбу Кабышева о втором тракторе, Харитон Кудрин сделал страдальческое лицо:
— Ох, не могу, дорогой, пойми ты меня! Вот, читай телеграммы: на станцию прибыл цемент для нашего колхоза, будем вывозить. Без цемента нам хана, понимаешь? Так что выкручивайся как-нибудь…
…Наутро следующего дня под окна колхозной конторы с грохотом подкатил гусеничный трактор, волоча за собой неуклюжие сани, сколоченные из цельных бревен. Сквозь стекло кабины проглядывала сумрачная фигура Очея Самарова. Вскоре из конторы, поругиваясь с кем-то на ходу, выскочил Васька Лешак. Из-за бездорожья председательский "газик" поставили на прикол, и по воле бригадира Василий, по его же выражению, превратился в "мелкую затычку" — каждый день его посылали на разные работы. Сегодня снарядили ехать на станцию за цементом Настроение у него совсем испортилось, когда он узнал, что ехать придется с Очеем. Успокаивало лишь то, что документы на получение цемента доверили ему: как-никак, когда у тебя и кармане лежат бумаги с печатями, чувствуешь себя начальником.
Морозец пощипывал кончики ушей, но Василий принципиально не стал садиться в кабину к Очею, заявив, что при одном лишь виде его сонной физиономии у него начинаются рези в животе. Каково же было изумление Васьки, когда он, перевалившись через высокий дощатый борт тракторных саней, обнаружил там притулившегося в углу Григория Самсонова! Завернувшись в добротный овчинный тулуп, Самсонов сидел на груде сухого сена, рядом с ним угловато топорщились два мешка. Завидев Лешака, он обеспокоенно придвинул мешки ближе к себе. Но уже через секунду Васькино удивление столь неожиданной встречей сменилось неподдельным умилением:
— О-о, Григорий Евсеич, ты ли это? Сколько лет, сколько зим! Как поживаешь, Григорий Евсеич? Здоровьишко ничего, бегаем помаленьку, а? Дня не проходит, чтоб не вспоминал тебя, все думаю зайти, да времени никак не хватает. Ты мне даже во сне приснился, будто под одним солнышком портянки сушим!
Самсонов полоснул Лешака ненавидящим взглядом и спрятал лицо в воротник тулупа. Василий тем временем подобрался к ого мешкам и принялся деловито ощупывать их.
— Ого, Григорий Евсеич, никак мясо? Куда тебе столько, уж не на Северный ли полюс собрался зимовать? Подумать только, четыре тушки, обожраться можно! Так куда, говоришь, едем?
К счастью Самсонова, как раз в этот момент трактор тронулся с места. Он притворился, будто не расслышал Васькиных слов. Чтобы избавиться от дальнейших приставаний Лешака, плотнее завернулся в тулуп и прикрыл глаза, не переставая зорко следить за попутчиком. И какой только шайтан принес его сюда! До последней минуты все складывалось как нельзя лучше: прослышав накануне о том, что на станцию должен отправиться трактор, он зазвал к себе Очея. После второго стакана самогонки тот согласился подбросить его на станцию. Что ни говори, в городе народу много, каждый хочет наваристых щей с мясом, а в магазины, видать, не всегда успевают подбрасывать… Односельчане сдали лишних овец на колхозную ферму по государственной цене, а он. Самсонов, не будь дураком, взял и утаил четырех овечек. И вот теперь с барышом будет. Все шло так хорошо, но в последнюю минуту удача покинула его, леший принес этого пса!
Тем временем Васька Лешак придвинулся вплотную к Самсонову, прикрыл ноги чужим тулупом и, силясь перекричать шум трактора, принялся орать над самым ухом:
— Григорий Евсеич, тулупом своим пользуешься единолично, нехорошо! Не будь индивидуалистом, подумай о ближнем!.. Значит, нелегально едем в город, на базар? Будем торговать мясом, грабить доверчивых горожан, то есть спекулировать, а?
При этих словах Самсонов нервно задвигался, стрельнул в Лешака трусливым взглядом:
— Скажешь тоже… Шутник ты, хе-хе…
— Ладно, Григорий Евсеич, об этом я не стану распространяться. Могила, ясно? Я, к примеру, не телеграфный столб, который с одной стороны принимает, а с другой передает… Дорога нам предстоит долгая, а я, шут его дерн, забыл захватить из дому съестные продукты. Надеюсь, ты оказался дальновиднее? Ага, вижу, котомочка при тебе… Хвалю за сообразительность! Старики как нас воспитывали? Заповедь первая: раздели с ближним кусок стой! Ну и, кроме всего прочего, на первой остановке сбегаешь за четвертинкой, деньги я тоже оставил в пиджаке, на третьей вешалке от двери…
Всю половину пути Самсонов клял и ругал про себя неудачную дорогу, Ваську Лешака и весь белый свет. Но выразить свои мысли вслух он не решался, опасался, что Васька расскажет о нем в конторе, тогда греха не оберешься… Эх, не удалась дорога!
Говорят, от Акагурта до станции сорок километров. Но все зависит от того, на чем ехать. Если, скажем, лошадка резвая, то эти сорок километров сойдут за двадцать, а на заморенном мерине — все шестьдесят. Другое дело трактор: как ни старайся, а больше семи километров в час не выжмешь. Если выехать из Акагурта в двенадцать часов, то к семи вечера впереди замаячат огни городка. Дорога наезжена, лишь в ложках попадаются снежные заносы и сугробы, через них трактор переваливает с трудом, но дальше дорога снова ровная, как карта. Если почувствуешь, что ноги начинают коченеть, слезай с саней и пробегись до поту, все равно трактор далеко не уйдет — семь километров в час… Зимой по этой дороге автомашины не ходят, а если какой-нибудь отчаянный шофер отважится, то дело обычно кончается тем, что он бежит в ближайшую деревню и со слезами упрашивает механизаторов подкинуть на выручку дизелишко. В зимнюю пору самый надежный транспорт — трактор: медленно, зато верно…
На половине пути стоит небольшая деревушка. Здесь пришлось сделать остановку: из радиатора текло, мотор стал парить. Взяв ведро, Очей лениво поплелся искать колодец. Васька Лешак оживился, потирая руки, принялся тормошить Самсонова.
— Не кажется ли тебе, Григорий Евсеич, что время к обеду? Чтой-то в брюхе червячок зашевелился… Самое время развязать котомочку, а?
— Рано. До города немного осталось…
— О-о, в городе мы закусим по второму разу? Это от нас не убежит, ты не беспокойся. А сейчас самое время малость подзаправиться. Если тебе не хочется, я не неволю, а лично я соблюдаю режим, привык, понимаешь ли, принимать пищу в положенное время…
С величайшей неохотой Самсонов развязал объемистую котомку, порывшись в ней, сумрачно протянул Лешаку домашнюю шанежку. Васька принялся уписывать ее за обе щеки.
— Шанежка ничего себе, вполне съедобная. Сами такие выпекаете, Григорий Евсеич? Эх, жалость какая, что в этой деревеньке нет магазина, а то быстренько сообразили бы насчет четвертинки… Ничего, не расстраивайся, Григорий Евсеич, за четвертинкой я тебя командирую в городе, там этого добра хоть завались!
Управившись с шанежкой, Васька кивнул головой на котомку:
— Раздразнил ты мой аппетит, Григорий Евсеич. Конечно, шанежка — вещь хорошая, но в смысле плотности не то, не то…
Самсонов стал было противиться домоганиям Лешака, но тот как бы между прочим снова завел нудную речь про спекуляцию, не преминув при этом заметить, что в последнее время насчет спекулянтов пошли большие строгости. Проклиная в душе назойливого попутчика, "купец" снова развязал тугой узелок котомки. Пряча от жадного взора Лешака ее содержимое, Самсонов извлек кружок домашней колбасы и сунул, не глядя, Ваське. Тот впился в нее зубами с торопливостью человека, перенесшего недельную голодовку.
— М-м, вот это вещь! Сами готовили? Умеют же люди!.. — Не в силах дальше смотреть, как жирная, вкусно пахнущая колбаса с поразительной быстротой исчезает в ненасытной утробе Лешака, Самсонов отвернулся. К счастью, вскоре вернулся Очей, залил воду в радиатор, и трактор снова неторопливо двинулся вперед. Помедли, Очей еще четверть часа и от котомки осталось бы нечто, напоминающее сухое прошлогоднее тараканье яйцо…
Насытившись, Васька Лешак сгреб все сено под себя и расположился на отдых. Перед тем как вздремнуть, он озабоченно предупредил соседа:
— Я тут малость доберу, Григорий Евсеич, минут так сто двадцать. Режим у меня так построен, понимаешь… Ежели заметишь, что сон у меня тревожный, осторожно прикрой своим тулупом. Котомку укрой хорошенько, колбаса замерзнет. Ох, беда с этими спекулянтами…
На городском рынке торговля у Самсонова пошла бойко, и он повеселел. Правда, покупатели его ругали на чем свет стоит, но брань, как известно, на вороте не виснет, зато во внутреннем кармане у него приятно шелестели рубли и трешки, пачка денег пухла с каждой минутой и, казалось, согревала лучше всякого тулупа. Опасаясь карманных воришек, Григорий Евсеич поминутно хватался за карман, принимал деньги и дрожащими руками давал сдачу. Ему было радостно сознавать, что расчеты полностью оправдались: к нему выстроилась большая очередь, женщины кричали и ругались, но мясо расходилось быстро. Он пропускал мимо ушей злые, оскорбительные замечания покупателей:
— Ишь, старый хрыч, одни косточки отвесил! Подавись ты своими косточками!..
— Такие готовы из-за копейки удавиться! Из камня масло выжмут!
— Весы-то, весы не придерживай пальцами! Ух ты, жила!..
Скрюченными, непослушными пальцами Самсонов суетливо перебирал и клал на весы разрубленные куски мяса, орудовал гирьками. Не отвечая на ядовитые замечания покупателей, он со злорадством думал: "A-а, дорого, говорите, а все равно берете! Мясца, значит, захотелось? Ннчево-о, раскрывайте свои партманеты, дорогие граждане и гражданки, коли хотите мясцом побаловаться. В городе вы богатенькие, при деньгах живете…"
Распродав весь товар, Самсонов сдал взятые напрокат весы и отправился к знакомому мужику пить чай. По пути купил в хлебном магазине батончик белого хлеба, в другом магазине, на удивление продавцу, попросил отвесить пятьдесят граммов пиленого сахара. На квартире у знакомого мужика долго и обстоятельно пил горячий чай, чувствуя, как приятное тепло разливается по всему телу. Справившись с седьмым или восьмым стаканом, он воровато оглянулся и неприметно от хозяина сунул оставшийся кусок сахару в карман. "Эхма, чуть не весь изгрыз, этакий кусище! — укорил он себя. — Под старость лет сластеной сделался…" В далеком детстве, как сейчас помнится, отец часто кричал на свое семейство: "Сладкие горлышки, шайтан бы вас побрал, на вас не напасешься!" Случалось, отец покупал в лавке полфунта сахару, но в руки домочадцам не давал, опасаясь, что "сладкие горлышки" съедят весь сахар за один присест. Он подвешивал кусок сахару на нитке к потолку, как раз над серединой стола, и когда семья садилась пить чай, то все поочередно привставали за столом и доставали языком до сладкого белого комочка. Полфунта хватало надолго!
Поблагодарив хозяина квартиры, Григорий Евсеич стал прощаться. Возле стола вертелся хозяйский мальчик лет шести. Самсонов хотел было угостить его сбереженным куском, но потом раздумал: известное дело, разок угостишь, а в другой раз сам станет выпрашивать! Самсонов направился на товарную станцию, где стояли приземистые ряды складов. Выручка от проданного мяса была надежно упрятана, для пущей верности (долго ли до греха) Григорий Евсеич приколол карман стальной булавкой. Предстояло ехать верных семь часов, он нарочно не стал покупать в дорогу ничего съестного: этому поганцу Лешаку теперь не удастся поживиться за его счет! Лучше голодом перетерпеть, нежели подкармливать таких нахлебников.
Лешак издали приметил Самсонова и закричал на весь станционный двор:
— Привет, базарный король! Ну как, удалось тебе обжулить добрых людей?
Грузчики, работавшие на складе, стали оборачиваться на Самсонова, пересмеиваться между собой. Самсонов подскочил к хохочущему Лешаку, зашипел рассерженным гусаком:
— Ш-шайтанов сын, чего зря глотку дерешь? Люди и впрямь поверят…
— Ох ты, овечья душа, неужто совесть у тебя сохранилась? Застыдился, точно девка, гляди-ка! Ты меня извини на добром слове, но только вот что я скажу: натура у тебя совиная. Сова боится дневного света, а ты — людского глаза…
Начало смеркаться, когда, наконец, сани доверху были нагружены бумажными мешками с цементом. Васька Лешак с Очеем ушли в станционный буфет "подзаправиться" перед дорогой, сказав Самсонову, чтоб он никуда не отлучался. Быстро угас короткий зимний вечер, к ночи подул резкий, холодный ветер, через дорогу потянулись острые язычки поземки. Самсонов с беспокойством думал о предстоящем пути и в душе ругал Очея с Лешаком. Давно пора ехать, а они черт знает куда запропастились! Будь сейчас день, можно бы и подождать, но пускаться в далекую дорогу среди ночи, в метель — дело не шуточное… Когда в левом грудном кармане чувствуешь тяжесть тугой пачки, в голову лезут всякие тревожные мысли. Уж не сговариваются ли эти парни обокрасть его? Где-нибудь в лесу навалятся вдвоем, кричи не кричи, никто не услышит. А после скажут, мол, сам скатился с воза и попал под сани, не заметили, когда и как… При этой мысли Григорий Евсеич зябко поежился, почудилось даже, будто деньги в кармане зашевелились.
Ветер со свистом проносился по проулочкам, разбойно шел и раскачивал голые, обледенелые ветви тополей, взвихривал и мчал тучи сухого, колючего снега. Над всей этой кутерьмой холодно и равнодушно поблескивали неяркие звезды. Сохрани бог, очутиться в такую погоду среди голого поля, но людям не сидится в теплом углу, гонит их нелегкая туда и сюда, у каждого своя нужда, своя причина. В такие ночи вокруг колхозных ферм кружат волчьи стаи, со злобной тоской втягивая в ноздри запах овечьего пота…
Терпение Григория Евсеича окончательно иссякало, когда, наконец, появились Васька Лешак с трактористом. Оба были заметно навеселе: видать, перед дорогой пропустили по сто граммов.
— Григорий Евсеич, ты тут без нас не растранжирил цемент, — приветствовал Самсонова Васька Лешак и погрозил пальцем. — С тебя станется! Ну ладно, хромай от меня, лезь на мешки… Очей, полный вперед!
За городом на них сразу же навалился тугой встречный ветер вперемешку со снегом. Из-под тракторных гусениц тоже летел снег, ветер подхватывал его и с каким-то злорадным ожесточением кидал на сидящих в санях людей. Самсонов с головой укутался в тулуп, а Василию приходилось туго: полушубок у него был короткий, как ни натягивал его, а ноги все равно оставались на холоде. Тепло от выпитой водки быстро остудилось, у Лешака зуб на зуб не попадал, но он долго крепился. Наконец не выдержал:
— Вот что, Григорий Евсеич, ты давай мне свой тулуп, а сам валяй в кабину, там от мотора тепло и не дует. Иди, иди, троим там не уместиться, слышь?
Самсонов хотел было согласиться, но тут же передумал: жаль было отдавать тулуп. Известное дело, чужого добра никому не жалко, этот Лешак извозит новенький тулуп в цементной пыли или, хуже того, зацепит об гвоздь.
— Не холодно мне. Лезь в кабину сам…
— Черт, думаешь, мне тебя жалко? Старость твою пожалел! Ну, раз не желаешь, хрен с тобой.
Пробравшись к передку саней, Василий осторожно опустил ноги, достал до прицепной скобы, на ходу трактора ловко добрался до задней стенки кабины, загрохал по ней кулаком. Трактор на миг приостановился, Василий юркнул на сиденье рядом с Очеем, через минуту машина снова рванулась вперед, разрезая клокочущую тьму светом двух фар.
Скорчившись на тугих, продолговатых мешках, Самсонов лежал спиной к ветру. Осатаневший ветер выдувал, прямо-таки высасывал из него остатки тепла. Видно, правильно говорят, что старческая кровь не греет, завернись хоть во сто шуб… Григорий Евсеич стал невыносимо мерзнуть, под конец он уже не мог шевелить пальцами на ногах. С трудом поднявшись, он принялся подпрыгивать, стараясь движениями согреть себя, но потом сообразил, что так ему недолго слететь с саней, потому что их то и дело подбрасывало и кидало на заснеженных ухабах. Корчась на проклятых мешках, он пожалел, что не послушался Лешака, но жалеть об этом было поздно: на ходу ему все равно не добраться до кабины, нет у него Васькиной ловкости, кричать же бесполезно, за воем ветра и грохотом дизеля никто его не услышит…
Чувствуя, что окончательно коченеет, Самсонов с трудом дополз до заднего борта, перевалился через него, нащупал конец какой-то веревки и, не выпуская ее из рук, побежал за санями по следу широкого санного полоза. Ветра здесь было меньше, он свистел где-то над головой Самсонова. Пробежав метров двести, Григорий Евсеич согрелся и подумал, что пора и передохнуть. В этот момент кто-то неожиданно сильно тряхнул его за полу тулупа, он споткнулся, выпустил из рук веревку и с размаху ткнулся лицом в снег. Поднимаясь, он успел сообразить, что нечаянно наступил на полу собственного тулупа. Ему показалось, что поднялся он очень быстро, но за это время трактор успел отъехать шагов на двадцать. Теперь, когда его больше не спасал высокий борт саней, мстительный ветер набросился на него с утроенной силон, стараясь опрокинуть на спину. Согнувшись вдвое, Самсонов кинулся догонять трактор, а ветер сек, хлестал его, швырял в лицо и слепил глаза горстями снега, заметал санный след. Бежать по мягкому и сыпучему, как песок, снегу было тяжело, и Самсонов скоро начал задыхаться. Вначале он стал нагонять сани. Огороженный досками высокий борт уже маячил шагах в десяти, но ему тоже никак не удавалось сократить это расстояние. Не будь на плечах Самсонова тяжелого овчинного тулупа, он наверняка догнал бы трактор. Тулуп, казалось, мстил хозяину: полы его обвивались вокруг ног, мешали бежать, — в них запутывался ветер — он оттягивал плечи, прижимал к земле. Но Самсонов даже не думал о том, чтобы скинуть с себя тяжелую, почти пудовую тяжесть. Ослепленный и оглушенный свирепым бураном, задыхаясь от неимоверных усилий, Самсонов стал отставать, Сани неумолимо уходили от него. "Не догнать! Пропаду один…" И он стал кричать: "Сто-о-й, останови-тe-есь! Эге-ге-е-е…" Ветер подхватил и безжалостно швырнул его крик куда-то назад, в поле. Самсонов уже не мог бежать, но он продолжал идти вслед да машиной, качаясь, словно пьяный, и с хрипом втягивая в себя воздух. Потеряв санный след, он понял, что это конец. Из горла вырвался хриплый стон: "Помогите-е-е… Остано-вите-е-е…" Утопая по пояс в снегу, он еще пытался выбраться на дорогу и не заметил, как один валенок завяз в снегу. Через несколько шагов он совершенно обессилел и медленно повалился в снег. Все новые и новые метельные шквалы со свистом проносились над ним, с каждым разом наметая вокруг него холмик сугроба.
Доехав до деревушки на половине пути, Очей выключил сцепление и, не заглушив мотора, пошел к колодцу. Васька Лешак тоже соскочил из кабины, шагнув к саням, заглянул через борт.
— Эй, спекулянт, слезай, пока не превратился в мороженную треску!
Не получив ответа, Васька ругнулся, думая, что Самсонов уснул на мешках. Подтянувшись на руках, он перемахнул через борт и изумленно присвистнул: в углу валялась пустая котомка. Самого Григория Евсеича не было. "От черт, не иначе как отстал! — встревоженно подумал Лешак. — Вывалился, как коровий ошметок!" Сквозь метельную заваруху на свет фар выбрался Очей. Васька подскочил к нему:
— Пошевеливайся, рыбий глаз! Живо развертывай машину на сто восемьдесят градусов, спекулянт потерялся!
Отцепив тяжело груженные сани, на предельной скорости ринулись в обратный путь. Старый след успело замести, Очей вел машину по еле заметным дорожным знакам. Васька Лешак всматривался в дорогу, то и дело счищая свободной рукой слепящую наледь с ветрового стекла. Заметив подозрительный предмет, он дергал тракториста за плечо:
— Стоп, стоп! Что это там справа, на снегу? А, черт, пень старый… Двигай дальше, рыбий глаз!.. Беда с этими торгашами. Торговали — веселились, подсчитали — прослезились! Как в оперетте, мать его…
Он первым приметил Самсонова. Не самого его, а торчавший из-под снега воротник тулупа. Еще полчаса, и воротника тоже не стало бы видно… Вдвоем разгребли снег, на руках дотащили Самсонова до трактора и с трудом втиснули в кабину. Для третьего в кабине места не осталось, Васька кое-как протиснул одну ногу, уперся на нее, крепко ухватился руками за бортик кабины и крикнул Очею:
— Дуй, не стой, до деревеньки!
Словно осердясь за лишний перегон, трактор с ревом развернулся на небольшом "пятачке" и двинулся в обратный путь. На свет его фар почти горизонтально к земле летели тысячи снежинок, машина со звериным урчанием шла в сплошной метельной мгле.
Всю дорогу до деревушки Васька молчал, из последних сил цепляясь за кабину. Левая его рука, казалось, совершенно онемела, пальцам было больно, порой Ваське казалось, что он вот-вот рухнет на стальную ленту гусеницы, и прощай жизнь молодая… Наконец фары осветили полузанесенные снегом строения. Сильно оттолкнувшись ногой, Васька спрыгнул на ходу и побежал к ближайшему домику. Ему долго не открывали, видимо, опасаясь, что среди ночи ломятся пьяные. Наконец хозяин отодвинул засов на дверях, засветил висевший в сенцах фонарь. Глухо стонавшего Самсонова волоком втащили в избу, уложили на полу. Васька Лешак спросил у хозяина:
— В этой вашей дыре хотя бы фельдшер водится? Быстро его сюда! — Стянув с левой руки задубевшую варежку, сквозь зубы простонал: — М-м, пальцы…
15
Накануне Кудрину позвонили из райкома, чтоб приехал к десяти утра. Выехал он с рассветом — были в райцентре и другие дела.
Вороной жеребец-трехлеток шел, легко приплясывая, то и дело вытягивал шею, прося отпустить поводья. На широком, хорошо проторенном большаке Харитон ослабил вожжи. Почувствовав свободу, жеребец весь вытянулся и пошел шибкой рысью. Из-под копыт на Кудрина летели твердые комья снега. Он поднял воротник и отвернулся. Мелькали телеграфные столбы с монотонно гудящими проводами, по пояс занесенные снегом сосенки, на раскатах и ухабах легкая кошевка гулко ударялась о твердую, сбитую сотнями копыт и полозьев дорогу. На третьем километре жеребец начал всхрапывать, заметно убавил ход, бока глянцевато почернели от пота. Кудрин улыбнулся про себя: "Эге, браток, выдохся? Скоро ты, скоро… Молодой, глупый, не рассчитываешь своих возможностей. Среди людей тоже случается такое: иные берут на ура, годик-другой ходят в героях, а потом, глядишь, переходят на шаг. Штурмовщина, браток…
В нашем деле эта штука недопустима, больше того, она просто вредит. Хлеб растить — это тебе не на ипподроме скакать: чья, мол, возьмет… Труд землероба скорее смахивает на альпинизм: прежде чем ступить следующий шаг, надобно подготовить надежный упор для ноги, иначе загремишь вниз! А опору подготовить в нашем деле — это значит создать крепкую базу: для урожая землю удобряй, для скота корма запасай… Да, браток, жидковат ты пока, жидковат!" — снова обращаясь к жеребцу, вслух подумал Кудрин.
Всю оставшуюся дорогу жеребец шел размашистым шагом, роняя с удил на дорогу пузыристую пену. Отдавшись своим мыслям, Кудрин не погонял коня. Вдали на увале уже завиднелось красное, кирпичное здание райкома партии, резко выделявшееся среди приземистых деревянных строений, когда Кудрин поравнялся с пешим путником. Тот стоял в снегу на обочине дороги, равнодушно поглядывая на него слезящимися выцветшими глазами. Старик был одет довольно скудно, лицо его было иззябшее, бородка закуржавела от дыхания. Он молча проводил Кудрина взглядом и с трудом выбрался на твердое полотно дороги. Харитон натянул вожжи.
— Эй, дедка, тебе в Акташ? Садись, подвезу!
Старик суетливо пристроился рядом с Кудриным.
— Далеко путь держишь? — глянув на него искоса, поинтересовался Харитон.
— В район, сынок, в район… Пензию иду хлопотать, не дают никак пензию…
Лицо у старика худое, скуластое, заросшее редкой, давно не стриженной растительностью, глаза беспрестанно слезятся; оттого кажется, что старик молча плачет о чем-то. Он то и дело вынимает из обшитой варежки иззябшую руку и смахивает с переносья светлые капельки. Кудрин осторожно спросил:
— А почему отказывают в пенсии, дед?
— То-то и дело, — всякий раз отказ выходит. Второй год маюсь, бумажки собираю, а все говорят, не хватает. Немного и прошу, лишь бы на хлеб, махорку…
— Дети-то у тебя были?
— А? Э, ребят, говоришь? Были ребята, троих на ноги поставил, теперь сами зарабатывают, с семьями живут. Поразъехались все, кто куда. Слава богу, самостоятельно проживают…
— Очего ж они тебя на иждивение не возьмут?
Старик словно чего-то испугался, торопливо смахнул сочившиеся из глаз слезы.
— Они молодые, сами по себе… Старики, известное дело, в тягость молодым. Мы со старухой как-нибудь вдвоем перебьемся. Мне бы только пензию исхлопотать…
Жеребец идет шагом, позвякивая удилами и норовя вытолкнуть изо рта осточертевшее железо. Обитые шинами полозья тянут нескончаемую скрипучую перебранку с дорогой.
— Сам я из Хмелевки, слышал, поди? Хозяйство там небольшое имею, огород, скотинку кое-какую. Пока при силе был, по людям ходил: по плотницкому делу или по кузнечному. Только нигде подолгу не задерживался, гнало меня дальше, будто сухой лист по осени… Прослышу, что в соседней деревне кузнец требуется и оплата у них выше, вот я и туда. Вроде цыгана кочевал, и невдомек мне было в ту пору, что для пензии бумажки потребуются. В собесе мне говорят, дескать, раз нет у тебя нужных бумаг, то пензию назначить не имеем права. Говорю им, что весь век с топором да молотком управлялся, без дела не сидел, слава богу, спину погнул. А они мне другое, мол, слово к делу не пришьешь. Бумажек всяких у меня вон какая грудка набралась, а все без толку, какой-то главной не хватает… Мне теперь восьмой десяток пошел, всю жизнь, можно сказать, в упряжке, а пензию, вишь, не выписывают. Другие куда моложе моего, а как месяц к концу, почтальон им прямо в руки доставляет пензию… Ума не хватает, с какого конца теперь браться… Был бы сам пограмотнее, иное дело. Может, ждут они того, чтобы… поднести чего?
Старик с надеждой посмотрел на Кудрина. Харитону от его взгляда стало не по себе, он пробормотал, что в пенсионных законах мало разбирается, а про себя подумал: "Не так ты жил, старик! Не было, видать, своего места в жизни, мотало тебя туда-сюда за длинным рублем. Никто про тебя не скажет, что жизнь свою прожил захребетником. Труда своего ты положил немало, а только труд твой, как бы сказать… без адреса! Прожил на земле долгую жизнь, а своего места не сыскал. А жизнь — она такая: за молодые ошибки на старости лет взыскивает с большими процентами…"
У въезда на главную улицу райцентра старик вылез из кошевки, поблагодарил Кудрина и нетвердыми шагами направился в сторону райисполкома. Кудрин со смешанным чувством жалости и осуждения проводил глазами его жалкую фигуру и повернул жеребца на другую улицу.
До призыва в армию Харитону часто приходилось бывать в Акташе. Тогда село было небольшое: вдоль каменного тракта тянулась центральная улица, на ней располагались все учреждения. От главной улицы вбок уходило несколько улочек и проулков. Самым высоким зданием в селе в то время была церковь без купола. С того времени Акташ сильно разросся вширь. До войны здесь работал промкомбинат с обозным и кузнечным цехами, пошивочная артель, а самым крупным предприятием по праву считалась машинно-тракторная станция, на ней работало более двухсот человек. Правда, за семнадцать лет промыслов в Акташе не прибавилось, зато население стало гуще раз в десять. Большинство приезжих были из окрестных деревень, то есть вчерашние колхозники. Весь пришлый народ питался и проживал неизвестно на какие доходы. Впрочем, секрет жизненных источников был довольно прост: часть акташцев корпела над бумагами в различных учреждениях, иначе говоря, "служила", другие трудились в РТС, как теперь называли бывшую МТС, остальные кормились случайными заработками.
Проезжая вдоль улицы, Кудрин с раздражением посматривал на затейливо вырезанные наличники, высокие крашеные ограды. Чуть ли не из каждой подворотни проезжего злобным лаем провожали псы. "Мать честная, разжились они тут вроде червячков-короедов: сидят себе за занавесочками, жуют помаленьку, чужой хлеб перемалывают! Огородики у всех, коров и коз тоже редко кто не держит, а пасут на колхозных выгонах. Одним словом, мы не пашем и не сеем, лучше вашего живем… Как есть трутни: сами в общий улей не таскают, а мед жрать первые! Честный колхозник посмотрит на них со стороны и поневоле подумает: "Живут же люди! А я чем хуже? Мотаешься день-деньской, а получаешь куда меньше. Эхма, не податься ли из деревни?" Развращают они честный народ, вот в чем главная беда!
Районная больница, куда ехал Кудрин, стояла на отшибе от села, в небольшом лесочке: видно, проектировщики были с умом, решив построить больницу вдали от шума и пыли, среди лесной благодати. Кудрин привязал жеребца к обгрызенному лошадями столбику, направился в хирургическое отделение. Молоденькая, на удивление круглолицая дежурная сестра с нескрываемым кокетством спросила:
— А вам кого, гражданин? Вы на прием?
— Спасибо, пока нужды нет. Здесь у вас находятся двое из Акагурта, я к ним…
— Одну минуточку, сейчас выясню. Когда они поступили к нам? С каким заболеванием?
Сестра принялась перелистывать регистрационный журнал, но в этот момент в конце длинного коридора распахнулась дверь и показалась остриженная голова Васьки Лешака. Завидев Кудрина, он закричал на весь коридор:
— Харитон Андреич, привет! Давайте сюда, в девятую палату!
Лицо у медсестры стало пунцовым от гнева, но прежде чем она успела что-либо сказать, голова Лешака исчезла за дверью. Сестра с негодованием повернулась к Кудрину:
— Он самый и есть ваш больной? Господи, мы тут не дождемся дня, когда его наконец выпишут! С того времени, как его привезли сюда, наше хирургическое отделение стало походить на психолечебницу! Неужели в вашем Акагурте все такие хулиганы?
— Что вы, сестричка, какой же он хулиган? — рассмеялся повеселевший Кудрин. — Он у нас первейший герой, того и гляди получит Золотую Звезду!
Сестра с недоверием посмотрела на него: "Шутит или нет? Если в самом деле тот буйный больной без пяти минут. Герой труда, то придется держаться с ним обходительнее, иначе потом возьмет и черкнет куда надо жалобу, что в Акташской больнице с ним грубо обращались… Кто их знает, этих Героев, может, все они такие непоседливые!"
Накинув на плечи халат, Кудрин прошел в конец коридора и потянул на себя дверь девятой палаты.
— Заходи, заходи, Харитон Андреич, у нас палата чисто мужская! — встретил его Василий. — А с уважаемым соседом мы придерживаемся линии мирного сосуществования. Мы с ним теперь вроде кровных братьев: резали нас на одном столе!
Левая рука Василия по локоть укутана марлей, будто стыдясь, он то и дело прикрывает ее полой темно-синего больничного халата. Кудрин присел на краешек Васиной койки, указан глазами на лежащего спиной к ним Самсонова, сдержанно кашлянул в кулак:
— Спит человек, а мы шумим…
— Какое спит! Это он, красно солнышко, вашего посещения застеснялся! А то ноет и ноет, хуже всякой зубной боли: кому, дескать, я теперь нужен, да кто станет кормить-поить несчастного калеку… Честное слово, с его нытья хоть в форточку бросайся!
Заметив, что Кудрин смотрит на его повязанную руку, Василий посерьезнел, в голосе его послышалась грусть.
— Трех пальцев как не бывало, начисто оттяпали. Доктор сказал, отморожение третьей степени, медицина, говорит, в подобных случаях пока пасует. А мне от этого легче? Словом, прости-прощай, развеселая шоферская житуха, списали водителя первого класса в инвалидную команду…
По лицу Василия пробежала невеселая тень, и Кудрину на момент показалось, что неунывающий шутник и балагур Васька Лешак за две недели, проведенные в больнице, постарел на десяток лет. Но вот Василий встряхнул головой, провел рукой по стриженым волосам, и снова перед Харитоном предстал прежний Васька. Небрежно кивнув в угол, где на тумбочке высилась небольшая стопка книг, он скорчил гримасу и пояснил:
— А в общем-то раньше смерти умирать не положено. Видите, учебниками запасся? Воюю с формулами, квадрат суммы, куб суммы… Все эти премудрости я давно позабыл, позабросил за их практической ненадобностью… Надумал поступить в вечернюю школу. В общем, как сказал слепой, увидим.
Видя, что Васе этот разговор дается не без труда и веселость его вымученная, Кудрин предложил выйти покурить.
— Душновато у вас, лекарствами пахнет… А тебе, Василий, наверное, на улицу нельзя?
— Хо, послушаешь докторов, так лучше сразу в петлю! Они даже сны видеть запрещают.
Дежурная сестра сделала героическую попытку задержать Ваську у выходных дверей:
— Больной, вам нельзя на воздух, врач не предписал!
Вася изобразил на лице выражение крайнего нетерпения, схватился за живот и промычал что-то невнятмое, указывая на дверь. Ища сочувствия, сестра сокрушенно взглянула на Кудрина.
Прошли на солнечную сторону, уселись на пригретые камни фундамента. Кудрин угостил Василия папироской, некоторое время оба молча и сосредоточенно дымили "Севером".
— А Самсонов… он, что, так и лежит пластом? — спросил Кудрин.
— Лежит, куда ему… Левую ступню за здорово живешь оттяпали, теперь ему без костылей не обойтись. Бывает, целый день молчит, словно масла в рот набрал, а потом как прорвет, держись только! Уж если говорить по совести, так правление колхоза должно начислять мне трудодни за пребывание с Самсоновым в одной палате!
Васька яростно сплюнул и затоптал окурок в снег. Потом спокойнее добавил:
— Тут и взаправду можно переродиться в психа. Главный хирург обещается выписать через недельку, не раньше. Скучища…
— В колхозе у нас новости… — начал было Кудрин, но Василий с непонятной усмешкой прервал его.
— Знаю, в курсе. Тут ко мне ходят… Так сказать, информируют.
На крыльцо выскочила сестра и строго заявила, что, если больной сию же минуту не пройдет в свою палату, она будет жаловаться главному врачу. Вася нехотя поднялся, протянул председателю руку:
— Будь здоров, Харитон Андреич! Спасибо, что наведались.
— Выздоравливай, Василий! — кивнул ему Кудрин. Переждав, пока Вася не скрылся в дверях своего отделения, он направился к коновязи. Заслышав торопливые шаги, обернулся: перед ним стояла круглолицая медсестра. Проглатывая слова, она торопливо выпалила, как заученное:
— Ой, мы с вашим больным намучались. К нему каждый день — с передачей, и все женщины, то есть девушки, я уже семь насчитала. А больной разгуливает по палатам и раздает свои передачи. А еще он громко песни поет и нарушает покой. Очень прошу вас воздействовать…
— У будущего Героя семь невест? А что, неплохо! — рассмеялся Кудрин. — Совсем неплохо! Вы попробуйте подойти к нему с лаской… Ну, вы сами знаете, как…
Разве плохо, если у будущего Героя появится восьмая невеста?
Помахав рукой растерявшейся сестре, Кудрин сел в кошевку и подобрал вожжи. Застоявшийся жеребец с места взял рысью.
Всю дорогу в голове Харитона Кудрина неотвязно вертелся вопрос: для чего его вызывают в райком? "Не иначе, как по заготовкам сельхозпродуктов… Надои на ферме пошли на убыль, будут снимать стружку. Хм, и за что только не бьют нашего брата — председателя! В понедельник Савка-мельник, а во вторник Савка-шорник… Единственное, за что председатель не в ответе, — это за количество свадеб в колхозе, этот показатель идет помимо него…"
Но Кудрин не угадал. Секретарь райкома — худощавый начавший седеть мужчина в традиционном кителе и галифе — сразу позвал его в кабинет, поздоровался за руку:
— Садись, Харитон Андреич. На чем приехал? Завтракал? Впрочем, в нашу потребсоюзовскую столовую не советую, кормят там плохо, не умеют готовить. Питаются в ней одни горемыки холостяки да шоферы… Продукты у них есть, толковый повар мог бы делать чудеса кулинарии. Да вот беда, не можем найти такого, не идут к нам. Вот и жуем вместо бифштекса жареную подошву. У воды и без воды… Ну расскажи, как твои дела?
Узнав, что Кудрин был в больнице, навестил там своих, секретарь одобрительно покивал головой:
— Слышал об этой истории. Неприятный случай, м-да… Вы не дайте этому парню шоферу пасть духом, поддержите его. Ага, надумал учиться? Ну что ж, молодец!
Затем секретарь стал расспрашивать о колхозных делах, к случаю рассказал смешной анекдот. Кудрин недоумевал: "Для этого, что ли, он пригласил меня? Полчаса сидим, а о деле ни полслова…" Но тут, словно угадав его мысли, секретарь резко откинулся в кресле, лицо его сделалось суше, и уже совершенно другим тоном сказал:
— Ты, конечно, не догадываешься, для чего мы вызвали тебя? Нет, не по плану… — Секретарь неприметно усмехнулся, выдвинул ящик стола, положил перед собой исписанный лист бумаги и прикрыл большой ладонью. Испытующе посмотрев на Кудрина, в упор спросил. — Какую за собой вину чувствуешь?
Харитон почувствовал, как его бросило в жар, точно мальчишку, которого отец застал с папироской в зубах.
— У кого не бывает ошибок… Со стороны виднее. Может, и ошибся в чем…
— Это верно. — Секретарь почему-то вздохнул. — Не ошибается тот, кто ничего не делает. А в нашем деле тем более… Вот, читай.
Секретарь протянул Кудрину листок бумаги, старательно исписанный детской рукой. Смысл написанного не сразу дошел до сознания Харитона, он выхватил лишь урывками: "… потому что терпению нашему пришел конец. Правление колхоза без согласия колхозников устраивает обыски по домам, насильно принуждает сдавать личный скот на колхозную ферму… Председатель колхоза Кудрин самовольничает… устанавливает военную дисциплину… имеет близкую связь с агрономом колхоза Сомовой Галиной… Всячески прижимают честных колхозников, а у самих, если посмотреть, руки не чисты. Например, механик колхоза Кабышев Олексан является членом правления, но он скрыл от учета часть овец, принадлежащих его тестю Самсонову Григорию… Партия стремится к тому, чтобы поднять материальный уровень трудящегося народа, но в нашем колхозе делается наоборот, закрывают источник существования честных тружеников… Мы просим снять с должности тех людей, которые издеваются над тружениками, и сурово их наказать… Колхозники".
Дочитав до конца, Кудрин отложил в сторону письмо. Рука его заметно дрожала. С минуту длилось тягостное молчание. Кудрину показалось, будто на него со всех сторон надвинулось что-то мягкое и горячее, оно было неощутимо и в то же время теснило его, перехватывало дыхание. Словно издалека донесся до него голос секретаря:
— Что скажешь, Кудрин?
Усилием воли Харитон сбросил с себя оцепенение, с трудом заговорил, не узнавая своего голоса:
— Что я могу сказать?.. Факты эти были… за некоторым исключением. Члены правления и активисты выезжали в бригады, ходили по домам, собирали самогонные аппараты… И скотину, которая в личном пользовании, тоже брали на учет. — И вдруг в нем оборвалась какая-то струна, не выдержав напряжения, Харитон не заметил, как перешел на крик: — Было это! В бигринской бригаде если не каждый, то через одного держали по целому стаду! Мы их заставили по средней рыночной цене сдать лишнюю скотину на ферму. Было, не отказываюсь! А что касается…
Секретарь движением руки прервал его:
— А ты не горячись. На горячих, как известно, воду возят. Расскажи по порядку.
Кудрин понял, что сейчас он в глазах секретаря выглядел смешным. Конечно, глупо кричать, крик — не доказательство правоты. Он сделал несколько глубоких вздохов, чтобы подавить волнение, и уже как мог спокойнее рассказал секретарю о тех фактах, которые приводились в анонимном письме. Скрестив пальцы на столе, секретарь слушал его, не прерывая, лишь время от времени наклонял голову, и было не понять, то ли одобряет он Кудрина, то ли осуждает. К концу своего рассказа Кудрин успокоился окончательно и закончил вяло:
— Судите сами. Может, и перегнули мы где…
Секретарь, казалось, нарочно медлил. Он закурил, молча выбрался из-за стола, принялся расхаживать по ковровой дорожке. Кудрин сидел спиной к нему, машинально крутил в руках черную пластмассовую пепельницу. Но вот секретарь заговорил, голос у него был глухой, он как бы размышлял вслух:
— К анонимкам у меня предубеждение: их пишут клеветники или люди малодушные… В данном случае я мог послать к вам инструктора райкома и проверить факты на месте. И думаю, сделал бы плохо: во-первых, изменил бы своему принципу, а во-вторых… председатель колхоза товарищ Кудрин смертельно обиделся бы на секретаря райкома. Не так ли? Я решил, что двое коммунистов скорее поймут друг друга… Так пот, Харитон Андреевич, я верю тому, что ты мне сейчас рассказал. По постарайся правильно понять и то, что я тебе скажу… Видишь ли, дело в том, что сам факт появления такою письма говорит о многом. Со времени избрания тебя председателем колхоза прошло полгода, за это время люди изучали, присматривались к тебе. За полгода человека все-таки можно раскусить. Так вот те, кому ты пришелся по душе, пойдут теперь за тобой, а те, кому ты пришелся не ко двору, — они всячески будут выживать тебя, гадить и пакостить. Письмо это — первая ласточка… Порой мы любим всех людей подряд наделять ангельскими крылышками и скопом, чуть ли не всем колхозом, записываем в строители коммунизма. И несказанно удивляемся, когда в один прекрасный день приходит санкция от прокурора на арест: оказывается, тот или иной из наших распрекрасных "строителей коммунизма" таскал хлеб из колхозного амбара, или торговал самогоном, или спекулировал запасными частями… Конечно, говорить в наши дни о каком-то классовом враге было бы просто смешно. Сейчас люди разграничиваются по признаку… гм, притяжательного местоимения "мое" и "наше". Скажем, один говорит "мой огород", а другой — "наша земля". Так вот, Харитон Андреевич, ты, видно, довольно основательно наступил на хвост тем, кто назубок выучил склонение местоимения "мой" и весьма приблизительно представляет склонение его во множественном числе… (Кудрин про себя усмехнулся, вспомнив, что секретарь райкома когда-то учительствовал, преподавал детям грамматику русского языка.) Пока что твои противники пишут клеветнические письма и, надо полагать, следят за каждым твоим шагом, чтоб потом из мухи раздуть слона. Однако имей в виду, они могут насолить тебе покрупнее! Как говорится, сначала вонь, а потом и огонь. Голыми руками их не возьмешь: видел, как ловко маскируются под честных колхозников, якобы проявляют заботу об общественном благе! Вот, во-о-т… А копни поглубже, и увидишь остренькие зубки собственника. Мы часто, ох, как часто и бездумно повторяем со всевозможных трибун, что, мол, капитализм в нашей стране уничтожен окончательно и бесповоротно, остались лишь кое-какие пережитки, сущие пустяки… К сожалению, не пустяки, нет. Щука сдохла, а зубы оставила…
Секретарь через плечо Кудрина потянулся к пепельнице и притушил папиросу.
— Сколько коммунистов в вашей Бигре? Двенадцать человек? Мало, Харитон Андреевич, для такой большой бригады мало. Конечно, дело не в числе коммунистов, главное в том, как они работают. Если бы они были настоящими вожаками в своей бригаде, более чем уверен, что письма этого не существовало бы!
Кудрин неопределенно пожал плечами. Вспомнился, секретарь первичной парторганизации в Бигре: тусклый, безликий человек, прежде чем сказать свое слово, засматривает в глаза собеседника, боится ошибиться. Должно быть, по этой причине и держат его в секретарях: свой человек, удобный, куда хошь пойдет на поводу. Голова и руки-ноги вроде свои, а плясать заставляют чужие. Да, слаб он для Бигры.
…Было уже далеко за полдень, когда секретарь отпустил Кудрина. Он проводил его за порог своего кабинета, шутливо заметил:
— Есть такая примета: через порог не прощаются… Разговор наш тоже прошу оставить за порогом кабинета. Увидим, как дальше нам быть. Присматривайся к людям, что и как, дуги там не гни, держи свою линию. Линия твоя правильная, Кудрин! Вот так… Ну, будь здоров. Начинай готовиться к весенне-посевной. Имей в виду: если с верхов приедет комиссия по проверке готовности к севу, я их направлю прямо к тебе!
— Беда с этими комиссиями, председатели от них стонут…
— На то и комиссии, чтобы ваш брат-председатель не дремал!
Из райкома Кудрин вышел со смешанным чувством. Помимо незаслуженной, тяжкой обиды, которую нанесло ему письмо, оно заставило его и глубоко призадуматься. Пожалуй, секретарь прав: где-то они перегнули палку.
Вспомнил Кудрин строки из письма: "…председатель колхоза Кудрин самовольничает… имеет близкую связь с агрономом колхоза Сомовой…" Было обидно, что кто-то выведал его тайну, о которой, казалось, кроме него самого, никто не знал. Он хранил эту тайну до поры до времени в самом своем сердце, она была чистая, нежная и целомудренная, а тут вот кто-то злой и нахальный прикоснулся к ней липкими грязными пальцами… И вдруг в памяти всплыла картина далекого детства. Однажды Харитон в огороде среди картофельной ботвы нашел скворчонка. Должно быть, он выпал из гнездышка. Птенец еще не умел летать, Харитон бережно взял его в руки и осторожно сунул за пазуху, чтоб согреть. Он почувствовал, как неимоверно быстро бьется сердце в этом маленьком, живом комочке. Харитону до слез стало жалко бедного скворчонка: он был такой слабенький и беззащитный, а вокруг его подстерегало столько врагов… Харитон со своей находкой выбрался на улицу, и тут неведомо откуда на него налетел Рыжий Ларка — первый забияка и драчун среди акагуртских мальчишек. Ларка был года на два старше Харитона и на целую голову выше. Увидев под расстегнутой рубашкой Харитона живого скворчонка, Ларка хищно протянул руку: "Дай сюда!" Харитон хотел вырваться, но Ларка цепко ухватился за него, запустил руку за пазуху, и Харитон услышал, как слабо хрустнули косточки… После того случая Харитон на всю жизнь остро возненавидел Ларку, а тот, казалось, уже через минуту забыл о птенце.
Сделав еще кое-какие неотложные дела в райцентре, Харитон выехал домой. Было уже поздно, когда он приехал в Акагурт, В редких домах еще светились окна. Жеребец свернул в проулок, ведущий к конному двору, по Харитон вовремя спохватился: "Стоп, браток, после такой пробежки тебе надо дать остынуть!" Близко светились два окна Кабышевых. Харитон подъехал к воротам, привязал поводок к кольцу, накинул на спину жеребца свой тулуп. Во дворе с хриплым лаем металась на проволоке собака. Скрипнула дверь, навстречу вышел Олексан Кабышев. Узнав Кудрина, он сначала удивился, затем сдержанно произнес:
— A-а, Харитон Андреевич… Кто, думаю, идет… Проходите в дом.
— Не спите еще, не помешал? Еду из Акташа, лошадь вспотела, пусть постоит… Собака твоя чуть не съела меня. Ну и зверюга!
— Раньше она куда злее была. Как почует чужого, давай грызть зубами что попало. Злость некуда девать… Старая уже, теперь ей лет двенадцать, весь свой собачин век на цепи прожила. Убивать жалко, отец ее щенком взял…
— Да-а, шутка сказать, двенадцать лет с ремнем на шее… Ну что ж, уж раз потревожил я вас, пройдем в избу. Небось влетит нам от Глафиры Григорьевны, а? Скажет, шляются всякие по ночам.
— Спит она, рано легла… — Олексан прошел в дом впереди Кудрина, шагнул к кровати и прикрыл одеялом оголенное плечо жены. В душе Харитона шевельнулась зависть: "Любит жену… Черт, когда у меня самого будет такое? Четвертый десяток разматываю, а жизнь не устроена, живу, как кулик на болоте". Сняв шапку, прошел к столу, сел, усталым движением поправил волосы. Олексан продолжал стоять.
— Да ты садись, будь как дома, — негромко засмеялся Кудрин. — Стоишь, как солдатик перед генералом. Ты, кажется, в армии не служил?
— Не взяли. Отец умер, а в военкомате сказали, что единственного кормильца семьи не берут, а есть такой указ. Хотелось отслужить вместе с одногодками…
— Нашел о чем горевать! Надо будет — призовут…
Кудрин помолчал, неприметно приглядываясь к Олексану.
— Вот такое дело, Олексан. Ты член правления и поэтому должен быть в курсе: в райкоме есть на нас жалоба. Касается и тебя…
Брови у Олексана удивленно поднялись, он недоверчиво уставился на Харитона.
— Да, да. Написали из бигринской бригады, так я понял. Наворочено там много, а суть вот в чем…
Кудрин коротко пересказал Кабышеву содержанке письма, умолчав лишь о "близкой связи председателя с агрономом". Олексан слушал напряженно, хмуро уставившись в одну точку на узорчатой коленкоровой скатерти.
— Пишут еще, что ты скрыл от учета лишних овец своего тестя. С чего они взяли?
Олексан резко вскинул голову, яркий свет электрической лампочки усиливал бледность его лица. Тяжело скрипнул под ним стул с резной спинкой.
— Было дело, — глухо произнес он. — Хотел он овец своих припрятать у нас в хлеву. С матерью сговорились, она еще жива была… Меня они не спрашивали, а я, как узнал о таком деле, среди ночи выгнал его скотину на улицу… После того рассорились мы, он Глашу увез к себе. Ее-то я привез обратно, а ему сказал, чтоб дорогу к нам забыл. И ногу он тоже через свою жадность потерял, вы же знаете… Готов копейку надвое распилить, чтоб две стало! — Он оглянулся в сторону двери, где на кровати по-прежнему негромко всхрапывала Глаша, и, понизив голос, продолжал: — Жалко вот ее… Мы бы могли с ней хорошую жизнь наладить, а тут, точно вьюн собачий, тянется к тебе родня, того и гляди до горла доберутся. У них законы свои: если не согласен с нами, значит, плохой ты зятек, пропадет наша дочка за таким… Надоело все это, к чертовой матери! Глашу жалко, а то бросил бы все…
Склонив голову набок, Кудрин слушал Олексана, удивляясь про себя: "Бывает, из него клещами слова не выжмешь, а тут соскочил с предохранителя. А ведь все молчал, носил в себе…"
— От людей все равно никуда не скроешься, — вздохнул Харитон, застегиваясь на пуговицы. — Везде люди, и нам с тобой жить с ними. Выбор один: или ты на сторону своей родни перекинешься, или мы их научим жить по-нашему. Не могут, так научим, не хотят — тогда заставим. А третьего пути нет. Что толку, если будешь кружить на месте, точно сухая щепка в запруде? Рано или поздно паводком снесет…
— Это верно, — не сразу откликнулся Олексан. — На выучку к ним я не пойду. Только временами не по себе мне становится, опоры под собой не чую…
— В таких случаях ты с людьми советуйся. Плохого не посоветуют, хороших людей на земле больше.
Кудрин собрался уходить. Пожимая руку Олексана, стараясь как-то сгладить впечатление от трудного для обоих разговора, Кудрин дружески потрепал Олексана по плечу:
— Ну, ты не очень расклеивайся, что было, то сплыло. Мне сегодня один умный человек посоветовал держаться своей линии, вот и я тебе того же пожелаю. Да, чуть не забыл: заходил в больницу. Василий тебе привет передает. Скоро выпишется.
— Спасибо, — коротко кивнул Олексан. О тесте он не спросил, Кудрин тоже смекнул и промолчал.
— Разбередил я тебя, Олексан, своим разговором. Ну, извини, значит, так надо было. До свиданья!
Проводив председателя, Олексан вернулся в дом. Сквозь замерзшие окна донесся глухой звук удара, снаружи загудели провода: это Кудрин, разворачивая кошевку, в темноте задел за телеграфный столб. Затем все стихло. Олексан неслышно прошелся по одной половице взад-вперед, задержался возле Глаши. Она так и не проснулась. Сегодня, вернувшись из школы, она сообщила, что в сельмаг привезли очень красивый гардероб с зеркалом и выдвижным ящиком для белья. "Знаешь, Олексан, — сказала она, — я даже смерила его в магазине, он как раз поместится вот здесь, в простенке между окнами. Пока другие не забрали… И недорогой совсем…" Очексан понял: нужны деньги. После болезни она еще не успела получить зарплату, а на те деньги, что у нее были отложены на книжке, купила меховое пальто, тоже очень красивое, и ни у кого из акагуртских учителей такого еще не было. Но чем он мог помочь eft? Ведь она знает, он предупреждал ее, что перешел на другую работу и на первых порах будет зарабатывать мало. Вот если дела в комплексном звене пойдут на лад, тогда другое дело.
Провожая председателя, Олексан подумал о том, что можно попросить денег авансом, пожалуй, Кудрин ему сейчас не отказал бы. Ну да, Кудрин не отказал бы… Но у Олексана язык не повернулся просить об этом. Не стоит, решил он, беспокоить председателя по таким пустякам. Жили же они до сих пор без гардероба, обходились без него, потерпят еще. Сколько? А сколько нужно. Лишь бы Глаша поняла это!..
16
Подмечено издавна: год с годом не бывают схожи. Ака-гуртские старики рассказывают, что в их пору и погода стояла иная: летом жарища несказанная, а зимой трескучие морозы, на деревьях аж кора лопалась. Даже весной ударяли такие утренники, что по звонкому насту обучали жеребят стригунков ходить в упряжи. Кто их знает, стариков, может, и прибавляют малость, поди, проверь их…
Весна в этом году в Акагурт пришла необычайно рано. У стариков опять же свои приметы: "На Евдокию пора высевать семена огурцов на рассаду, а в день Благовещенья грешно даже полешко поднять, в этот день и птицы гнезда не вьют…" А у молодежи, поди ж ты, свои приметы времени: к концу марта надо справиться с ремонтом машин, а в апреле начнется культивация. Вот и поговори с нынешней молодежью! И деды и внуки в одной деревне живут, одну землю топчут, а на разных языках рассуждают. Парень сидит за рулем трактора, попробуй, спроси у него, кто была такая Евдокия, так он тебе в лицо рассмеется. Потому и горестно вздыхают порой акагуртские старики: "Охо-хо, мы помрем, и все стародавние праздники забудутся…"
Уже в конце марта солнце стало сильно пригревать, на взгорках зачернели проталины, а потом подул южный ветер-снегоед, лохматые тучи проносились низко" секли дома и деревья косыми струйками дождя. Речка Акашур летом почти пересыхает до дна, мальчишки, подвернув штаны, прямо руками ловят в обмелевших заводях скользких усачей. А тут смирная речонка взбунтовалась, вышла из берегов и залила окрестные низины и луга. С каждым часом вода прибывала, угрожая затопить колхозные постройки.
В одну из холодных темных ночей акагуртцев разбудили тревожные сигналы. Около конного двора, безостановочно били в кусок металлической балки. Тут и там в домах зажигались торопливые огни, люди на ходу одевались и выбегали на улицу, тревожно озирались, боясь увидеть зарево пожара. Но зарева не было, а со стороны конного двора продолжали нестись звонкие удары…
Харитона Кудрина разбудила мать:
— Харитон, проснись, кто-то в рельсу колотит! Никак, горит…
С трудом растолкала: вечером Харитон вернулся из дальней бригады усталый и расстроенный. Когда до его сознания дошли слова матери, он мигом вскочил, оделся, будто по армейской тревоге, и опрометью кинулся на улицу. Из-за ситцевой занавески показалась заспанная Галя, встревоженно спросила:
— Тетя Марья, что случилось?
— Кабы сама знала! Слышь, в рельсу колотят, значит, что-то неладное. Люди вон бегут… Осто-о, в такую ночь не приведи беду… Темно, хоть лучиной в глаз ткни.
Галя накинула теплый шерстяной платок и, подойдя к окну, стала всматриваться в темноту ночи. По улице мечутся красноватые огни фонарей, слышно, как по всему Акагурту остервенело лают собаки. Галя со страхов подумала, что в той стороне, куда бегут люди с фонарями, — склады. А там — семенное зерно! Как же она может оставаться дома, когда там… Сдернула с плеч платок, бросилась одеваться, а у самой пальцы дрожат, путаются в петельках.
— Осто, Галя, и ты туда же? Оставайся дома, без тебя управятся мужики!
— Побегу, Марья-апай, сердцу не терпится!
Пробегая мимо дома Кабышевых, она заметила женскую фигуру, жавшуюся в воротах. Галя узнала жену Олексана.
— Не знаете, что там такое случилось? Олексан убежал, долго не идет…
— Не знаю. А вы чего здесь стоите, идемте вместе!
— Ой, куда я пойду, дома никого, везде открыто! Одной сидеть боязно, стою здесь. Подожду, может, вернется скоро…
Галя побежала дальше, с неприязнью подумай: "Боится, добро растащут! Очень кому-то нужно! О муже беспокоится? Над барахлом трясется! Ну и стой себе, как собачка на привязи…"
Добежав до конторы, она узнала причину ночной тревоги. Где-то в верховьях разбушевавшаяся река прорвала запруды и начала бесноваться без удержу. Животноводческие фермы стояли в полуверсте от реки, но и к ним подобралась вода: размыв неширокую дамбу, устремилась к коровнику. Почуяв опасность, обеспокоенно мычали и рвались с привязей коровы. Часть коров была уже выведена. Люди кричали и размахивали фонарями. Близко шумела вода. Испуганные животные никак не хотели идти в темноту.
Олексан Кабышев, запыхавшись, подбежал к председателю:
— Харитон Андренч, на ферме вода уже на вершок поднялась. Если не загородим ей дорогу, совсем зальет!
В сильном возбуждении он не замечал, что громко кричит. Кудрин в ответ тоже крикнул:
— Как ты ее теперь задержишь, поздно! Надо было раньше об этом думать!
— Десять лет такого паводка не было!.. Попробуем бульдозером подтолкать землю, будем дамбу усиливать! По другому руслу пустим!
— Давай! Только осторожнее там…
Кабышев кивнул и нырнул в темноту. Кудрин вырвал из чьих-то рук зажженный фонарь и побежал внутрь фермы. В самом конце длинного и темного прохода мелькали огни, слышались голоса, высокий женский голос в отчаянии кричал: "Да иди ты, иди, бестолковая! Ой, сердце мое! Дурочка ты, Милка-а-а…" Молодая корова-первотелка, ошеломленная криком и шумом, бестолково металась из угла в угол, не понимая, чего от нее хотят. Дрожа всем телом, пригнув голову с большими острыми рогами, она тревожно всхрапывала и жалась к стенке. Человек пять-шесть мужчин, размахивая руками и крича наперебой, пытались направить ее к выходу, а Параска со слезами в голосе уговаривала свою любимицу: "Милка, Милка, сдурела совсем! Иди же, иди-и-и…" Кудрину оставалось сделать шагов десять, когда обезумевшая от страха корова, коротко промычав, вскинула голову и, напрягшись всем телом, бросилась вскачь по коридору. В сознании Харитона в какую-то долю секунды мелькнуло: "Фонарь! Здесь сухое сено…" Вытянув в сторону руку с горящим фонарем, метнулся вправо, и в этот момент что-то острое ударило его в левую часть груди, отбросило назад. Харитон упал, ударившись затылком о кирпичную стойку.
…Очнувшись, он медленно раскрыл глаза, стараясь понять, где он. С потолка ослепительно била в глаза электрическая лампочка, где-то сухо и четко отстукивали ходики. На белоснежных стенах — яркие плакаты. И тишина, странная тишина. Опершись на правый локоть, Кудрин хотел приподняться, но левый бок точно обожгло раскаленным железом. Застонав от боли, он повалился на спину. Спустя некоторое время он почувствовал, на лице прикосновение чьих-то пальцев. С трудом разлепив веки, он близко увидел Галино лицо. Она плакала… Харитон облизал языком пересохшие губы и, с трудом переводя дыхание, сказал:
— Галя… милая Галина… не надо плакать… Со мной ничего не случилось… все в порядке… Сейчас я встану…
Галя еще ниже склонилась к нему, горячо зашептала:
— Ой, не надо вам вставать, Харитон… Харитон Андреевич, не надо! Я сказала, чтоб сюда никто не заходил, а то будут мешать… Скоро должен прийти фельдшер, он сделает перевязку. Только не надо двигаться, снова пойдет кровь. Хорошо, что у доярок оказалась аптечка, я присыпала рану стрептоцидом…
Харитон усмехнулся:
— Не узнаешь, где тебя погибель ждет… На фронте фашистские "тигры" ни черта не сделали, а тут корова едва на тот свет не спровадила. Смешно…
— Ой, Харитон Андреевич, вам не надо много говорить, я боюсь. Лежите спокойно, возьмите под голову вот это… — Скинув с себя вязанную фуфайку, она приподняла его голову и с величайшей осторожностью подложила мягкую, еще с живым теплом фуфайку. Потом она неслышными шагами ушла за дощатую перегородку, вернулась с эмалированной кружкой, полной воды, поднесла к губам Харитона. Она повторяла шепотом одни и те же слова, словно заговаривала его. — Только не надо двигаться, лежите спокойно… Не надо двигаться…
— А как… там? — указав глазами в сторону завешенного окна, спросил Харитон.
— Уже сделали, все сделали. Всю скотину перевели в другое помещение, трактористы поднимают дамбу. Там Кабышев на бульдозере… Воду отвели… Все хорошо, не надо об этом думать.
Харитон долго смотрел на ее милое и озабоченное лицо, затем очень серьезно проговорил:
— Послушай, Галя… если бы ты разрешила мне сейчас подняться, я мог бы тебя поцеловать?
Она задышала часто-часто, будто собираясь расплакаться, и прошептала прерывисто и чуть слышно:
— Не надо подниматься… я сама… сама…
Тень от ее головы закрыла ослепительно-яркую электролампочку, волосы ее засветились, горячие, робкие губы прижались к губам Харитона.
Земля, освободившаяся от снега, просыхала с каждым часом. Река угомонилась после хмельного буйства. Лишь кое-где по берегам виднеются следы ее разбушевавшейся удали: неведомо откуда выхваченные бревна, занесенные песком сучья, а на ветвях прибрежных ив выгоревшими флажками колышутся пучки соломы.
По ту сторону реки строгими рядами выстроились трактора и прицепные машины: их осматривала комиссия, прибывшая из района. Проверяли готовность к севу. Харитон Кудрин сам водил членов комиссии, показывал хозяйство, объяснял и выслушивал замечания. После того как вернулись в контору, секретарь райкома обратился к нему:
— Ну, хорошо, будем считать, что техника у вас готова. А люди, дорогой товарищ председатель, как люди? Техника сама по себе ничего не делает, железо без человека мертво, просто груз металла!
— Люди тоже готовы. Хороших механизаторов подобрали, один к одному, орлы и соколы!
Секретарь кивнул головой, усмехнулся:
— Хм, орлы! Посмотрим, как они полетят, твои орлы! Самому главному орлу крыло перешибли, а? Ты не обижайся, Харитон Андреевич, но услышав о твоем увечье, я от души посмеялся: это же надо такое, корова подняла председателя! Вот, думаю, будешь разиней, так тебя и ягнята насмерть затопчут!
Заметив, что Кудрин смутился, секретарь примирительно добавил:
— Ничего, Харитон Андреевич, правильно в песне поется, что в нашей жизни всякое бывает. Ферму отстояли, вот что хорошо.
Подождав, когда в кабинете председателя они остались вдвоем, секретарь осведомился:
— Что-нибудь узнали по тому письму?
Кудрин нахмурился, нехотя стал рассказывать.
— Кое-что прояснилось… Пока я лежал с рукой, прибегал к Тимофею Куликову, нашему парторгу, парень из Бигры, сын Шахтина. Отец его от колхоза отбился, плотничает на стороне, шабашничает, одним словом… Так вот, прибежал к Куликову и рассказал все как было. Шахтин собрал к себе двух-трех таких же, как сам, мужиков-бегунков, и сообща сочинили письмо. А чтобы по почерку не признали, кто писал, заставили под диктовку писать мальчонку. Припугнули, конечно, чтоб молчал… А он возьми да и все передай Куликову. Я, говорит, пионер, хочу быть, как Павлик Морозов. Идейный пацан!
— Ох, молодец, eй-бoгy! — оживился секретарь и принялся возбужденно вышагивать по тесному кабинету. — Молодец! Как это говорят у нас в народе? Из корней ольхи, бывает, вырастает гибкая ива, так?.. Чем же ты так обидел этого Шахтина и его дружков?
— В письме же было прямо сказано, что я насаждаю в колхозе армейскую дисциплину, разве забыли? — усмехнулся Кудрин. Погасив улыбку, жестким голосом продолжал. — Мы у них с осени обрезали огороды. Решили так: раз вы к колхозу задом, так и колхоз к вам спиной. Сами колхозники попросили. Кроме того, запретили пользоваться колхозными пастбищами. Видят, что прижимают со всех сторон, ну и стали огрызаться, в наступление перешли…
— Правильно сделали! Я имею в виду вас… Черт возьми, прямо диву даешься, как всякая сорная трава до последней возможности цепляется за землю! Полезные человеку культуры приходится терпеливо насаждать, ухаживать, а всякая дрянь трава стихийно прет. Многовековое приспособление к условиям… Человек тоже в силу многовековой привычки держится за землю, но вот что самое интересное: пока в его распоряжении пять-десять соток, он ведет себя вполне нормально. Но стоит ему стать владельцем сорока-пятидесяти соток, и он теряет голову, в нем просыпается древний зверь — нахальнейший дух нажины. Конечно, в наших условиях крестьянину без личного огорода пока нельзя, без земли он не может, это у него в крови от рождения. Неистребимая тяга к земле живет в нем! Нам надо направить эту любовь, эту тягу к земле по правильному руслу, чтоб человек любил не свой поршивый клочок землицы, а всю нашу общую, народную землю!..
Секретарь райкома уезжал затемно. Усаживаясь в машину, с нарочитым сожалением вздохнул:
— Женился бы, что ли, поскорее, Харитон Андреевич. А то вон трехдневная борода объявилась, смотреть страшно. Небось жена тебя в таком виде на люди не выпустила бы!
Харитон здоровой рукой провел по колючей щеке, смущенно пояснил:
— Не научился бриться одной рукой… А насчет женитьбы… как в воду смотрели: решили после посевной. Позову — приедете?
— Ты это серьезно?! — удивленно и обрадованно воскликнул секретарь. — А я, грешным делом, стал было уже подумывать, что без помощи свахи у тебя ничего не получится. Старые холостяки насчет невест привередливые…
Секретарь весело взглянул на Кудрина и откинулся на спинку сиденья:
— Ох, Кудрин, Кудрин, развеселил ты меня!.. Какие дубы валятся, а? Кто же она такая, если не секрет? A-а, да, вспомнил! "Председатель колхоза Кудрин имеет близкую связь с агрономом Сомовой", угадал? Вот видишь, в том письме не все оказалось неправдой, тут-то они верно подметили. Ну что ж, коли пригласишь, обязательно приеду на свадьбу. Как ни говори, а событие: последний холостой председатель в районе вступает в законный брак! Не успели поставить этот вопрос на бюро райкома… Ну, будь здоров, жених! Привет мужественному агроному…
Заурчав мотором, темно-зеленый "газик" ринулся вперед, из-под его колес полетели фонтаны жидкой грязи и талой воды. Было похоже, что по улице Акагурта движется небольшой катер. Харитон смотрел вслед машине, пока она не скрылась за поворотом. Голова у него слегка кружилась, он отчего-то беспричинно улыбался.
Должно быть, от весеннего воздуха. Недаром акагуртские старики утверждают, что весной ветер пьянит без вина, и оттого люди ходят как хмельные.
Но такое состояние бывает и предчувствием большего счастья. Еще ничего не изменилось, но человек сердцем уже чует, где-то близко ходит счастье, рукой дотянуться…
Точно так же птицы чувствуют близкий восход солнца: еще земля укутана туманом, на востоке брезжит лишь слабый, еле заметный свет, травинки клонятся под тяжестью крупных росинок, а птицы в эти предрассветные часы распевают свои самые радостные песни.
Птицы задолго узнают о близком наступлении дня.
Сердце тоже наперед угадывает близкую радость.
Должно быть, это оттого, что сердце, птицы, солнце и радость издавна знают друг друга!
17
Земля на пригорках просохла, и порывы ветра поднимали легкие облачка пыли. Сквозь плотную, осевшую за зиму корочку земли пробиваются наружу крохотные зеленые язычки ростков. Прошумят теплые весенние дожди, напоят землю, и из зеленых светлячков разгорится буйное пламя молодой поросли, зашумят под ветром густые травы. Зацветет каждое растеньице на свой лад, примет каждый цветок плодотворную пылиночку, и глянь — уже наливается, зреет на солнышке ядреное семечко. Настанет срок, и с легким треском раскроется сумочка, лопнет стручок, и снова земля оплодотворится семенами. Из года в год, из века в век живет на земле живое, давая жизнь себе подобным!..
Смахнув ладонью со лба пот, Олексан прислонил лопату к стволу корявой сосны, присел на пригретый солнцем камень. Солнце уже опустилось за зубчатую гряду леса, а камень еще хранил в себе тепло его дневных лучей.
Здесь всегда стояла тишина. Казалось, даже ветер, пролетая над этим местом, старался не шуметь, и птицы пели не в полный голос. И люди здесь тоже разговаривают вполголоса, словно боясь кого-то потревожить, Такое место…
Олексан пришел сюда засветло и не заметил, как завечерело. На обеих могилах земля осела, он по-хозяйски, не спеша накидал на них земли, аккуратно разровнял. Потом лопатой нарезал прошлогоднего дерна и настлал на невысокие холмики: пройдет немного времени, и зацветет над мертвой глиной зеленая поросль травы.
Где-то среди ветвей печально посвистывала одинокая птичка. Посвистит и перестанет, будто ждет ответа. Потом снова раздается ее печальный голос, и не понять, то ли подружку зовет, то ли тоскует по потерянному другу.
Сгорбив плечи, Олексан долго сидел на камне. Словно во сне, вставали перед ним образы отца и матери…
…Вот отец, сунув топор за ремень, отправляется утром на работу. Он ступает неторопливо, широко расставляя ступни, шагает по земле походкой хозяина, знающего себе цену. Зря он не взмахнет рукой, лишнего слова не скажет, не обернется из-за пустяка. Он и дома, в своем хозяйстве, был нетороплив и расчетлив, знал цену каждой щепочке. Здесь все было сделано его руками, он сам обтесывал каждый колышек и клинышек, а потом хозяйство убило его, раздавило… Похоже, что лишенные души вещи убили живого человека!
…Мать, провожая маленького Олексана в школу, поучает его: "Не ходи с хлебом на улицу, чужие мальчишки попросят. Другим не давай, сам ешь! Знай себя, и ладно! Поди, эти твои товарищи только и ждут, чтобы у тебя из рук кусок вырвать!" И сама Зоя всю свою жизнь прожила, не любя людей, и люди тоже не любили ее. Наверное поэтому на ее похоронах было мало людей, да и те сплошь старушки…
…Лежат они под этими холмиками, его отец и мать. Что хорошего оставили они после себя на земле? Кто плачет по ним, кто скорбит по умершим? Не было между ними любви, и сына они вырастили без любви. Оттого и он, Олексан, их кровный сын, как ни старался отыскать в душе любовь к ним, не мог найти ее. И сейчас на душе не было большой скорби, одна лишь гнетущая жалость… Было жаль, что не так они прожили свою жизнь, но теперь уже слишком поздно. Олексан пытался сказать им об этом, но его никто не хотел слушать: ведь яйца кур не учат… И Зоя и Макар всю свою жизнь старались отгородиться от людей высокой стеной, обнесли свой дом глухим забором: мы вас не трогаем, и вы не мешайте нам жить по-своему. Вы сами по себе, мы сами по себе. А оказалось, что от жизни, от людей заборы не помогают. Человек не может без человека, без людей!
…Последние лучи невидимого солнца подожгли высокое облако в небе. Олексану стало холодно, он зябко повел плечами и поднял голову. Да, уже поздно, Глаша должно быть, заждалась его дома. Провожая его, она с жалобным видом попросила: "Возвращайся скорее, Олексан. Боюсь я дома одна!" Смешная ты, Глаша…
"Да, смешная ты, Глаша. Мы с тобой такие близкие и в то же время такие разные. Живем под одной крышей, садимся за один стол, спим на одной постели, а живем разной жизнью, почему? Ты меня порой обнимаешь и целуешь, я знаю, что ты любишь меня, и ты мне тоже дорога и нужна. И все-таки мы с тобой разные. Ты равнодушно провожаешь каждый свой день, будто ждешь чего-то. А чего? Разве не знаешь, что каждый родившийся день — это и есть наша жизнь. Ты печалишься без слез и радуешься без улыбки. Зато тебя не узнать, если у соседей горе… Почему? Ты хорошая хозяйка, в доме у нас всегда чисто прибрано, и никто не скажет, что в этом доме живет ленивая женщина. Да, в доме у нас и прежде всегда было чисто, мать строго следила за этим, я это хорошо помню. Только не было у нас тогда шелковых покрывал и тюлевых занавесок, это принесла с собой ты. А все остальное было так же, как и при тебе. Может быть, оттого мне порой кажется, будто ничего не изменилось в нашем доме и до сих пор живы мои отец и мать? Разве все осталось по-прежнему? Глаша, Глаша, как же мы будем жить с тобой дальше?.."
Нагретый солнцем камень медленно отдавал свое тепло. Олексан, очнувшись от дум, рывком поднялся, взяв лопату, неторопливо очистил каблуком приставшую к железу глину. Кинув последний взгляд на невысокие два хомика, широко зашагал к дороге. "Твинь-тень, твинь-тень", — проводила его не видимая в кустах птаха.
Подходя к Акагурту, он услышал песню. Пели на холме Глейбамал, в конце деревни, где весной земля просыхает рано. В низинах еще бугрился ноздреватый весенний снег, здесь уже оттоптаны "пятачки" для плясок и хороводов. С незапамятных времен акагуртская молодежь устраивает здесь свои игрища, оно и понятно: место тут высокое и видно далеко окрест. Под крутым обрывом неустанно шумит речка Акашур, играет мелкими камушками и ловит в свои волны свет полуночной луны, а если подойти к самому краю обрыва и раскинуть руки широко, то кажется, что легкий ветер подхватит тебя, и ты полетишь…
Олексан остановился и прислушался. Девичьи голоса выводили протяжно и чуть печально:
Парни подрастают, Парни уважают. А за ними следом Новые растут…Он стоял, пока там, на холме Глейбамал, не затихла песня. Потом на игрище завели другую песню, гармонь заиграла плясовую.
Казалось, это было совсем недавно, — Олексан тоже ходил на игрища, веселился вместе со всеми, а теперь пойди, попробуй — засмеют со всех сторон, а какая-нибудь бойкая девчонка окрестит "старым лаптем". Раз женатый, значит, уже "старый лапоть", не показывайся на гулянках… Что ж, молодежь — она всегда свысока посматривает на старших, потому что не считает своих дней. Им, молодым, кажется, что они всегда останутся молодыми, а до старости… кто знает, откуда берутся старики? Может, они и родились такими? А молодежь — она верит в свою молодость!
Олексан с грустью улыбнулся своим мыслям и, вскинув лопату на плечо, зашагал к своему дому. А песня с Глейбамала догоняла его, неотступно шла следом.
Примечания
1
Веме — помощь.
(обратно)2
Очень распространенное восклицание.
(обратно)3
Бишбармак — татарское национальное кушанье.
(обратно)4
Удмуртская поговорка о расторопном человеке.
(обратно)5
Дядя, обращение к старшим.
(обратно)6
Пери — волшебное существо, дух.
(обратно)7
Тетя, обращение к старой женщине.
(обратно)8
Осто — горестное или гневное восклицание у удмуртов.
(обратно)9
Обращение к невестке (удм.).
(обратно)10
Тыкмач — удмуртское кушанье, род лапши.
(обратно)11
Мать (удм.).
(обратно)12
Кумышка — удмуртское название самогона.
(обратно)13
Берекет — доброе пожелание.
(обратно)14
Перепечи — удмуртское кушанье, пресные ватрушки с яйцом и мясом.
(обратно)15
Эзель — дух смерти (удм.).
(обратно)
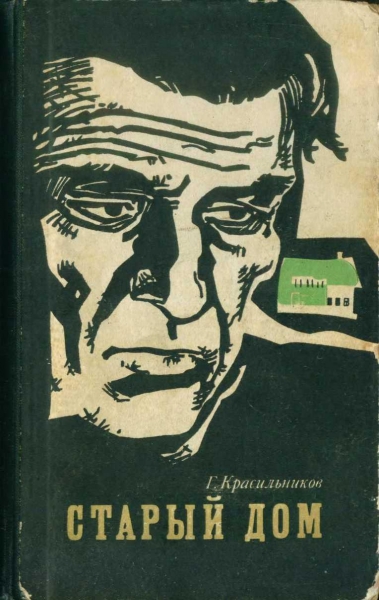


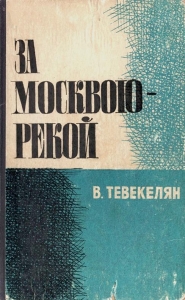
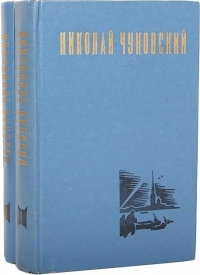

Комментарии к книге «Старый дом (сборник)», Геннадий Дмитриевич Красильников
Всего 0 комментариев