Нехитрые праздники
ПОВЕСТИ
ИСКЛЮЧЕНИЕ
Направо пойдешь — женату быть, налево пойдешь — богату быть, прямо пойдешь — убиту быть.
Из русских народных сказокПосле окончания одного почтенного театрального учебного заведения я, прибыв по распределению в областной город, стал по совместительству преподавать в местном институте искусств специальную дисциплину. Это был несколько странный институт: он объединял в своих стенах будущих музыкантов, артистов и режиссеров, но главное — просуществовал на ту пору всего лишь год! А потому, как и подобает младенцу, жил шумливо, неорганизованно. Состав преподавателей, что называется, утрясался, никак не могло установиться твердое расписание — четыре часа, отведенные моей дисциплине, «прыгали» по нему, как кузнечики. Словом, учебный процесс напоминал затор где-нибудь на перекате во время сплава леса, когда бегают люди с баграми и подталкивают бревна, лишь бы проплыли дальше, авось и прибьет куда надо. Во всем этом студенты-музыканты чувствовали себя более-менее спокойно — они с малых лет занимались музыкой и понимали, как это делается. А студенты-театралы не знали, не ведали подступов к своему искусству. Их учеба, жизнь была полна вольницы и сумятицы, но в них отчетливо проявлялись контуры какой-то подспудной неосознанной духовной ориентации, подвластность которой обнаруживал и я в себе.
1
— Лютаев! — окликнула вахтенная дежурная молодого человека в широкополой шляпе и длинном пальто с поднятым воротником. — Ты что устроил из своей комнаты притон?!
Когда Сергей уходил, в его комнате оставались друзья, все из общежития, только Борька Чибирев «домашний». Все было тихо, мирно, говорили, пели, потягивали сухое — отмечали День театра. Борьке, правда, не сиделось: исчезал, появлялся, ошалев от нашего раздолья и, как ему представлялось, бездны возможностей порадоваться жизни. Не успокоился, пока не привел приехавшую к кому-то в гости голубу с кофейно-молочной кожей, с гривой прекрасных смоляных волос и огромными томными глазами.
Дверь в комнату была взломана. Комната пуста.
Сергей толкнулся в дверь сокурсника Андрюши Фальина.
— Не стучи, — послышалось сбоку приглушенное и таинственное.
Из кухни выходил сам Андрюша. Был он нервно бледным и странно улыбался.
И все, собравшиеся на кухне товарищи, были какие-то запунцевелые, и все странно улыбались… Оказалось: в комнате Сергея члены студсовета застукали Борьку Чибирева с той самой темноокой красавицей. Профорг Леша Кузьмин проявил даже для него непривычную бдительность и оперативность. Следил, дождался, когда все из комнаты разошлись, вычислил, кто в ней остался, собрал членов студсовета — и нагрянули! Андрюша Фальин забавно и точно показывал, как Кузя, маленький, чуть припадающий на ногу, но прямой и негнущийся, словно накрахмаленный воротничок, подслушивал, заглядывал в замочную скважину, настырно лез в комнату, возглавляя толпу… А Борька, в свою очередь, по пояс голый и босой, насмерть встал перед дверью, отогнал любопытствующих метра на полтора в радиусе. И заявил, что без ведома хозяев пройти в комнату можно лишь через его, Бори Чибирева, труп!..
У Андрюши была великолепная выпуклая артикуляция, придыханный приветливый голос. Говорил он, мягко вращая ладонями в такт развитию фразы, как бы дирижируя себе; слушал, вытянув шею, выдвинув подбородок и немного щурясь; улыбался, щедро одаривая каждого белизной своих мелких ровных зубов. Изображал он все подчеркнуто, утрированно, поэтому рисовался совсем какой-то разбой и столпотворение. Как в любовных сценах из немого кино…
А Сергей все более погружался в себя. Упрямая слежка за Борькой, приходил он к выводу, есть не что иное, как попытка хоть в чем-то уличить его, Сергея Лютаева! Найти зацепочку. В последнее время Кузя что-то часто стал к нему наведываться. Наведался и сегодня, зубки еще по обыкновению поскалил, мол, кто это у вас так хорошо поет? — улыбку, похоже, он еще в постели заготавливает. А пела как раз та девчонка, Борькина… Андрюша Фальин сразу высказал предположение: «М-м, Сережа, чувачок, м-м, тебе не кажется, что Кузя пришел спецрейсом?..»
Полгода назад институтское руководство уволило, точнее вынудило уволиться Мастера — так называют художественного руководителя театрального курса. И причиной увольнения, как понимали дело Сергей и его сокурсники, было лишь то, что ненасытной заурядности хотелось съесть подлинную личность.
О театральных постановках Мастера много писали и говорили в городе. Еще бы! Даже обыкновенную сказку про Ивана-дурака он сумел так повернуть, что все ахнули — какое решение! Иван предстал зрителям не тем привычным, наивно верующим в людскую доброту и справедливость, а человеком, знающим свою цену, вынужденным, живя среди дураков, дураком прикидываться, чтобы достичь цели и сделать хоть немного разумнее беспросветную жизнь вокруг. К тому же все это было подано в жанре мюзикла!
А какую сценку поставил Мастер с участием Сергея и Андрюши Фальина! Ее показывали у себя в институте, во Дворцах культуры, в концертах рядом со зрелыми артистами, везде публика — в лежку от смеха! Эта сценка, пожалуй, стала бы событием поважнее спектаклей, если бы ее пошире обнародовать. Режиссерский прием прост, но потрясающе неожидан: действие разворачивается одновременно в комедийном и трагедийном варианте, выражая таким образом двуединство явлений. Причем для разнообразия авторов и произведения меняли, а характер исполнения оставался прежним:
Как молотком стучит в ушах упрек, И все тошнит, и голова кружится, И мальчики кровавые в глазах… —возносил руки к небесам трагик Сергей, а Фальин тотчас комически и точно его передразнивал:
Как молотком… …И мальчики кровавые в глазах…Андрюша все быстрее, быстрее подхватывал Сергея, как бы настигая его, темп взвинчивался, и в конце концов оба исполнителя в бешеном ритме совершенно одновременно произносили один и тот же текст на разные лады. Андрюша был прирожденным пародистом: кого угодно мог скопировать с ходу. Правда, Сережа с таким упоением рвал страсти в клочья, что его смешно передразнивать не составляло труда.
Не просто энергичный, а будто начиненный взрывной энергией, Мастер при первом же знакомстве сумел увлечь весь курс за собою! Вошел, в черном кожаном пиджаке, с бородкой пророка, и решительно, без всяких подступов провозгласил: «Я могу вам открыть секрет, как стать гениальными! — Помолчал, удостоверившись, что приковал внимание, продолжил: — А теперь представьте, я бы начал так: «Театр начинается с вешалки…» Разговор о театральной вешалке, конечно, не шел ни в какое сравнение с секретом гениальности. Все засмеялись. Говорил он, приподнимаясь на цыпочки, так рвалась вся его сущность вверх, к небесам, к тому, чтобы быть понятым, закинуть зерна иного знания в мозг учеников: «Истинный художник, как и любой талантливый человек, это разрушитель, ломающий устоявшиеся стереотипы… Традиция — это, в сущности, привычка, чаще всего дурная…» После общения с ним душа загоралась, верилось, что способен подивить мир, хотелось тотчас начинать спасать заблудшее человечество, отдавать всего себя людям, без остатка, бежать хоть сейчас на подмостки и кричать всю правду этим успокоившимся, этим зажравшимся!..
Сережа как-то не совсем осознавал, что успокоившиеся, которым он станет кричать правду в глаза, и есть те люди, которым надо отдавать себя. Но сердце его было полно самого искреннего порыва. Ведь именно Сережу, а скажем, не Андрюшу Фальина стал выделять Мастер из среды учеников. Да что там, по сути, у них установились товарищеские отношения!
Мастер даже семьи не завел, чтобы не погрязнуть в быте, всецело отдавал себя делу! И вот такого-то педагога — о, серость! о, ничтожество! — можно сказать, выпнули из института! Вот приходил бы какой-нибудь, бурчал чего-нибудь тихонечко под нос — и работал бы, наставлял!.. Где, спрашивается, справедливость?! Тем более, что новым руководителем курса был назначен старичок, который, прижав кулачки к груди, как на смех заговорил именно о том, что театр начинается с вешалки… Стал скрупулезно заниматься этюдами по программе, требуя от студентов органического существования на сцене в предлагаемых обстоятельствах. А какие были планы — «Бесов» хотели поставить! Задумка сокрушительная — сыграть весь спектакль на сцене, выстланной ликами русских святых! Каков символ! Все полетело…
Курс пытался отстоять своего педагога: ходили по инстанциям, писали коллективные письма… Приезжала и комиссия. Но мало что изменилось. Вместо одного проректора прибыл другой, который стал поочередно вызывать студентов к себе и нудно, затверженно читать мораль. Мастера не вернули. Правда, он к той поре уже уехал и работал в другом городе.
Теперь руководство подбиралось к любимому его ученику…
Не успели ребята дорисовать Сергею картину вечерних событий, появился на кухне и сам герой. Худощавый высокий юноша с правильными нежными чертами лица: с девичьими губами и светлыми вьющимися волосами. Был он радостен, как-то весь подпрыгивал и светился. Развел широко руки, улыбнулся, тряхнул чубом:
— Ну, Серега!.. — сказал. — Ну… — и захлопал извинительно глазами, блеснули в них искорки слез, не то раскаяния, не то ликования. — Вышло так, Серега!
И когда речь зашла о том, что Кузя был приставлен специально, чтоб следить за недовольными, Боря заключил тем по-старушечьи жалостливым всепрощающим тоном, какой в нем трудно было заподозрить и какой не раз удивлял Сергея:
— Калека он все же, как ни говори, обиженный…
2
В фойе института возле доски объявлений толпился народ.
— Что там такое? — спросил Сергей проходящего мимо Левку Фридмана с отделения фортепиано.
— Что там может быть, чуваки, приказ. Вас хильнули из института, — словно давно понятное констатировал тот.
В первое мгновение друзья даже не поверили: заулыбались, разыгрываешь, мол, парень, нас. Так же не исключают — без собраний, разбирательств. Да и уж больно расторопно… Хотя у Сергея сердце забилось тревожным чувством: неужто и впрямь исключили? Тогда выходит… Приблизились к доске объявлений — действительно, приказ об отчислении.
Сомнений у Сергея не оставалось: выходит, в самом деле, ждали, искали случая! Зацепочку! Это только лишний раз подтверждает, что сидят там, в руководстве, люди нечистые! Вот, дождались, показали свой оскал, явили в истинном виде свой… звериный облик! Сердце Сергея теперь заходилось в каком-то странном сладостном гневе. В гневе праведника — непонятого, гонимого! Лучших людей всегда травили, торжествовала в нем хорошо усвоенная мысль.
— Я знал, что так будет, — усмехнулся он в надменной сдержанности.
У Бориса же настроение заметно поупало. Представилось ему, как плачет мать и причитает, а отец, набычившись, надвигается всей огромной массой, и кулак его затмевает все живое пространство…
Но, как говорится, на миру и смерть красна. Друзей окружили, спрашивали, советовали, удивлялись. Подлетела сокурсница Олла в бессилии что-либо вымолвить от возмущения. Андрюша Фальин по обыкновению сжал руку Сергея повыше локтя и, уронив страдальчески голову, отчего рассекла чело прямая черная прядь, подрагивающим голосом, будто в горле застрял комок, проговорил: «Я все понимаю, м-м, чувачок». И по звонку, отставая от других, пошел, элегически скорбный.
Мощная пружина с шумом захлопнула двери института за спинами Сережи и Бори.
Наступила минута воли. Не надо было сидеть на лекциях, некуда было спешить, не от кого зависеть. И пока можно было не думать о будущем.
Сергей вдруг явственно открыл, что на дворе весна! Еще не сошла утренняя наледь, но солнце пригревало, и облака лежали на небе, как пышные, чуть подгорелые с краев оладьи на сковороде. А к обеду подтает, кругом поплывет, закапает…
Боря тем временем нашел забаву: протыкал каблуком тонкую ледяную корку на лужицах. В образовавшейся лунке с бульканьем вздымалась вода. Сергею это понравилось, тоже принялся дырявить узорчато лед. Работая каблуками азартно и увлеченно, вскоре друзья все лужи от входа до левого угла здания института превратили в ледяную кашу.
— А что, если все лужи, реки, моря и океаны собрать в одно большо-о-ое море, — сведя в точку до отупения сосредоточенный взгляд, разыгрывал Боря байку, — а все камни, глыбы собрать в одну большу-у-ую глыбу, все скалы в одну большу-у-ую скалу, всех людей в одного большо-о-ого человека. И вот взял бы этот огромный человек огромную глыбу, поднялся бы на огро-о-омную скалу, кинул бы глыбу в огромное море… Вот бы булькнуло.
— Булькнуло, ха-ха, булькнуло, — давился Сергей от хохота, будто в горле застряло это бульканье. Байку он знал, но теперь в ней углядел собственную жизнь минувшего года. Все о чем-то глобальном думали, городили огород, городили и… булькнуло!
Боря, чтоб не помер друг со смеху в одиночестве, тоже стал подхихикивать.
И вдруг оба разом увидели по ту сторону окон, перед которыми бесновались, молчаливые лица сокурсников. Да, в этой же, угловой аудитории сейчас по расписанию лекция! Притихшие вмиг друзья постояли, посмотрели, осознавая, что с сокурсниками разделяет их теперь нечто большее, чем оконное стекло. Прощально помахали. Из окна ответили десятками кивков. Кое-кто стал выводить в воздухе, дескать, бросьте вы, заходите. Боря и Сережа улыбнулись, пожали плечами и пошли.
— Хм, черт, — проговорил мрачнея Сергей. — Получилось, мы там специально выставлялись.
— Пусть кто как хочет, так и думает, — пытался Боря вернуть легкое настроение, зная, что для друга хуже всего выказать себя смешным.
«Отринутые, отторгнутые, изгои, — пульсировало под каждый шаг в сознании Сергея, — они еще увидят, кого посмели… Единственную, может, подлинную индивидуальность, личность!..»
— За что корю себя,- — зло и гордо проговорил Сергей, — за то, что сам не ушел! А дождался!.. Надо было самому! Вслед за Мастером, демонстративно!
Боря вздохнул и пожал плечами. Ему припомнилось, как летали они с Сергеем на каникулы в Москву — по театрам походить, по музеям. Когда самолет поднялся и он впервые взглянул на землю из-под облаков, пришла такая мысль: «А что, если самолет начнет падать?» Спросил Сергея, и пока тот вникал в ситуацию, сам ответил: «А-а, сказали бы, наверно, а-а-а, и пусть!» Так думалось. Хорошо было.
Слава богу, тогда не довелось проверить, смогли бы сказать «а-а», но сейчас это «а-а» уже выдыхалось. Сергею, по крайней мере, не сегодня со своими родными встречаться, а ему, Борису, уже под вечер!.. Не кулак отца, конечно, страшил. Просто стыдно. Всю жизнь отец жарился в кузнечном цехе, теперь бригадир грузчиков на базе. И хоть посмеивался он иногда, в душе ему нравилось, что сын будет артистом! О матери, сердобольной медсестре онкологического диспансера, и говорить не приходится — всех больных, пожалуй, замучила рассказом о сыне, таком славном и ласковом…
Несмотря на высокий пыл, Сергей вдруг открыл, что стипендию, которую должны выдавать завтра, он не получит. А на что жить? В наличии лишь мелочь. Перевод от матери будет только через полмесяца. А ведь еще на что-то надо уезжать… Уезжать же надо! А куда? Домой… Радость-то матери… Она там на почте — на полторы ставки, свиней держит, чтоб сынок учиться мог, одет был. Хотя он к тряпкам, как к любой внешней оболочке, равнодушен, но… шляпа одна, скажем, почти четверть ее зарплаты. Впрочем, стоит ли об этом… Все это бытовые, щенячьи заботы.
— Как дома сегодня появлюсь? — заговорил Боря.
— Да разве это сейчас главное, — даже как-то требовательно произнес Сергей.
Боря сконфуженно, в неловкости опустил голову.
Зашли в столовую: ноги сами собой принесли туда, просто проделали знакомый путь. Боря, сдвинув брови и часто мигая, принялся пуще прежнего клонить голову покаянно, мол, через меня ты, товарищ дорогой, пострадал… На что Сергей, глядя в тарелку с супом, как в бездну, заверил наивного друга, что если кому из них двоих и надлежит просить прощения, то без сомнения ему, Сергею. Его личность, не вписывающуюся, так сказать, в рамки, институтская косность решила нейтрализовать.
— Может, еще по половинке? — дождавшись паузы, поднялся с пустой тарелкой Боря.
— Не понимаю, как ты можешь столько есть! — как бы открещиваясь от низменного человеческого начала, сказал Сергей, хотя сам за значительным разговором щей уплел ровно столько же, сколько и Боря, а хлеба — так раза в два больше.
Когда вышли на улицу, Сергей, как это бывает с хорошо подкрепившимися, здоровыми по природе людьми, отдохновенно продолжил мысль. Суть ее заключалась в том, что вот кто-то расщепляет атом, а он, Сергей Лютаев, — сейчас он особенно четко это понял — п р и з в а н р а с щ е п л я т ь психологию серости!
Борис снова тяжело вздохнул. Спохватившись, потряс согласно головой. Неожиданно торопливо сунул Сергею руку, пообещал завтра утром приехать и побежал к останавливающемуся автобусу. Запрыгнул. На прощание успел состроить другу в заднее окошко веселую рожу — не то Арлекино, не то Буратино.
А Сергей, высокий и при этом словно подгибающийся под невидимой тяжестью, с широкими угловатыми плечами, с зачумленным взором светлых глаз из-под широкополой шляпы, с порослью на щеках, показался Боре как бы приклеенным к живой картине улицы. Если минутой раньше собственная участь на сегодняшний день виделась ему куда горше, то при взгляде на торчащую из толпы, какую-то необъяснимо одинокую, отдаляющуюся фигуру друга сердце у Бори сжалось.
3
Сергей великодушно прощал уличную толпу, внутренне усмехаясь над ее погруженностью в обыденные заботы, над ее мельтешней, полной житейского страха и слепоты. Ведь в сущности, если взглянуть чуть глубже, то он, Сергей, пострадал не только лишь за грехи одного института, но за грехи, касающиеся всех, толпы вот этой, отчасти, может быть, и всего рода людского… Сергей находил в себе схожесть с Иешуа из Назарета — так же, будучи непорочным, принимал страдания за общие грехи. Хотя в то же время чувствовал в себе что-то дьявольское… Он бы, наверное, задался вопросом, что именно, но столкнулся в задумчивости с прохожим. «Глаза завесят, дороги не видят!» — воскликнул тот. Сергею померещилось чуть ли не посягательство безликой людской массы на его уникальность. Спокойно и наполненно он произнес: «У меня своя дорога».
4
Состроив ладони шалашиком, Сергей прильнул к окну унылого двухэтажного здания. Перед швейными машинами в два ряда сидели девушки — малинник! Одна тотчас вскочила, словно только и ждала, чтобы кто-нибудь нарисовался в окне. Спросила беззвучными губами, кого? Сергей несколько раз прокричал: «Эльвину!» Трескотня в цехе, уличный шум его заглушали. Так же немо и четко проартикулировал, показал спадающие волосы, скрестил руки у пояса и подрыгал ногой, оттянув носок. Девушка радостно кивнула и убежала. Понятно, посиди-ка день-деньской в машинном перестуке, погляди на бегущую бесконечно строчку!.. Хоть какое-то разнообразие — сбегать позвать.
Сергей приметил Эльвину давно, когда та еще училась в хореографическом. При случае любовался: она походила на тот небесный облик, что рисовался иногда в воображении. Но знакомиться не старался — козлом-то прыгать вокруг нее не хотелось. Вдруг прослышал, что, окончив хореографическое училище, Эльвина пошла работать на швейную фабрику. Ну и подошел — как бы с психологическим интересом: все-таки сменить творчество на монотонный физический труд…
Пока он ждал, панически нарастала боязнь: сейчас выйдет Эльвина, глянет на него, как на что-то в своей жизни совершенно ненужное. Сергей даже представил, как и он в ответ ухмыльнется разочарованно и равнодушно… Или, не ухмыляясь, просто повернется и уйдет.
Эльвина появилась оживленная, разгоряченная, работой ли, разговором, а может, тем, что он пришел… Ладная фигурка ее промелькнула меж машин и занятых делом швей. Улыбнулась Сергею, глаза полыхнули изумлением.
Обрадовал собою — Сергею стало так хорошо и легко!
Она, словно бы по бумаге, поводила воображаемой ручкой, вероятно спрашивая, почему не на занятиях? Он приложил ладони к сердцу, а потом, сдвинув лодочкой, протянул их к ней. Она улыбнулась, недоверчиво покачала головой.
— Меня исключили из института, — тихо по слогам проговорил он.
Она не понимала.
— Выпнули меня.
Он легонько пнул воображаемого себя и, словно получив настоящий пинок, чуть пролетел вперед.
Она смеялась.
Он покрутил рукоять воображаемой швейной машинки:
— Теперь к вам приду, швеем.
Она опять помотала головой, не то не понимая, не то не соглашаясь принимать его на работу. Оглянулась, постучала по часам, показала на кого-то сзади, грозного, изобразила пальцами шагающие ноги…
Сергею снова открылась весна во всей здоровой захватывающей дух радости. Он сделал мощный рывок метров в триста, придерживая шляпу и путаясь в длинных полах пальто.
5
Из-за шкафа, стоящего перед дверьми, не было видно, но Сергей понял: Костя Лапин дома — пахнуло гуталином, а Костя, появляясь, регулярно промазывал свои единственные расквасившиеся обутки. Он с первого курса стал подрабатывать в оперном театре пожарником, особенно любил ночные дежурства — был рояль, необходимая тишина.
Когда, приехав на вступительные экзамены в институт, Сергей сдавал чемодан в камеру хранения, поймал на себе взгляд… Тяжело исподлобья косился на него бритый наголо и густо заросший щетиной широкогрудый мордоворот. Сергею тотчас припомнились рассказы и предостережения о том, как обирают нашего брата, приезжего, в больших городах. Он верил в надежность своих кулаков, но здесь был не тот случай, когда они могли что-нибудь значить. Мрачный тип убивал одним взглядом.
Сережа подсобрался, устрашающе втянул голову в плечи, сунул руку, в которой была крепко зажата бирка на чемодан, в карман и показно неторопливо направился к выходу.
Добрался до институтского здания, в котором, как гласила мемориальная доска, пел когда-то Шаляпин, вошел — бугай этот с вокзала по фойе идет с листом бумаги. Так же мрачно глянул и пробурчал брезгливо: «Так и думал, что ты сюда».
На диво Сергею угрюмый этот детина, Костя Лапин, поступал на отделение фортепиано. Нетрудно было представить, как Лапин тащит пианино на спине, но чтоб играть на нем…
В общежитие устраивались вместе, оказались в одной комнате.
В первый же день Костя лег спать, постелив на пол только лишь простыню. Лежал на спине, раскинув руки. А утром, обнаженный по пояс, стал прыгать по комнате, выбрасывая под свистящие выдохи руки-ноги в разные стороны. Каратистом его нельзя было назвать, он занимался стихийно, вернее, по собственному методу. Костя вообще строил свою жизнь по одному ему известному методу. Поэтому особо никого не удивило, когда после зимней сессии этот волевой, трудолюбивый, немногословный парень перевелся на заочное, мало того, пошел в военкомат и написал заявление, чтобы весной призвали в армию, хотя была отсрочка. «Шиза», «чудило», — объясняли его поступок собратья по учебе. Сам Костя Сергею так сказал: «Необходимо вырваться из круга понятий, в котором живу. Мозги сдавил». Но в глубине души Сергей считал, что ближе к истине Левка Фридман: «Закомплексовал, чувак. Работает, как никто, а четверка по специальности для него предел». Оценка, конечно, ни при чем, думал Сергей, но, видно, нашло на человека понимание: нет искры божьей, а потому, сколь ни раздувай, вспыхивать нечему. Неспроста же в Косте появилось что-то придавленное. Словно какая-то мысль тяготила. Как человек волевой, он продолжал себя совершенствовать, довольно регулярно оголялся по пояс и, пытаясь достать лампочку под потолком, прыгал по комнате, но без прежнего задора, как-то насильственно. Писал что-то подолгу, не обращая внимания ни на Сергея, ни на его гостей… Жили в комнате вдвоем.
В запале Сергей хотел предстать перед Костей бравым и разбитным. «Ты знаешь, с кем рядом живешь? С аморальным типом!» — заготовил он фразу. Сергей хоть и был всего двумя годами младше, все же чувствовал себя перед Костей мальчишкой и по-мальчишески приятно было выхвальнуться. Но, вывернув из-за шкафа, почти нос к носу столкнулся с Люсей — в своей дурацкой привычке вышагивать взад-вперед по комнате, она как раз двигалась навстречу. Сергей кивнул и отвел взгляд… Люся, хоть ее можно и не ждать и не вспоминать, все равно появится, принесет пирожки какие-нибудь или баночку варенья… Будет мерно, словно в спячке, ходить по комнате, а он, Сергей, сидя или лежа, может при этом исторгать вслух монологи — при ней на него всегда нападает говорун… Но ведь приходит, приносит… Отработает три дня, а потом три… у него вот толчется… Была и вчера на вечерушке, где он беспрестанно рассыпался в словесах, повторял не раз при Люсе говоренное, производил, так сказать, на другую впечатление. А Люся все смотрела — уставилась и смотрела, не осуждающе, недвижно как всегда, непонятно. А потом он суетно поспешил за этой другой… Теперь, как говорится, ее приход не в жилу.
— Почему-то так и думал, что ты здесь, — сказал Сергей, словно удивляясь этой своей необъяснимой способности — предчувствовать.
— Замок ты сломал? — хмуро зыркнул исподлобья Костя. Его всегда коробило, когда Сергей проявлял провидческие наклонности.
При постороннем человеке Сережа не мог позволить по отношению к себе подобный тон: будто с нерадивым юнцом, которому что ни толкуй — все не впрок.
— Не я, — буркнул он, как и Костя, тяжело нахмурясь и почти не разжимая губ. Интонация была тоже точно ухвачена. — Но можно сказать, что я.
Люся улыбалась: смеяться она, похоже, вообще не умела, но улыбалась от души. Костя был убит наповал — теперь, что бы он ни делал, все равно будет смешно. Еще бы! Сергей с Андрюшей Фальиным, показав сцену, когда один страсти рвал, другой передразнивал всех, весь институт заразили этим делом. Даже порой по телевизору выступает какой-нибудь оратор, а его тотчас кто-нибудь пародирует.
— Сделай, — все еще касательно двери проговорил мрачно Костя. И отправился в закуток за шкафом.
А Сережа прошелся по комнате Костиной тенью: приопустив и выдвинув вперед плечи, враскачку, косолапя и шаркая ногами по полу. «Замок сломали, — бормотал он утробно, вдвинув челюсть, — сломали замок…»
— У меня… — вернулся Лапин в плаще и вязанной блином шапке, — бумаги. — Это «бумаги» он совсем смазанно произнес, получилось «муваги».
— М-м, понимаю, чувачок, м-м, девочка, — всколыхнулся Сергей крайне участливо, как это делал Андрюша Фальин, и взял Костю повыше локтя. — М-м, понимаю, м-м, муваги…
Костя взглянул на Сережу, но так, невидяще. Потом сосредоточенно посмотрел перед собой. В задумчивости хмыкнул несколько раз, словно готовился к вокальной распевке. Вышел, ничего не сказав.
— Муваги, — рассмеялся теперь открыто Сергей и плюхнулся на кровать.
— Я заходила в институт, — сообщила Люся виновато.
— Я так и понял.
Люся стала ходить по комнате, сложив за спиной руки, отчего тонкий свитер натянулся, и ясно обозначилась крупная грудь. Сергей перевел взгляд на свой торчащий в дырке носка палец.
— Что случилось? — спросила она еще более виновато.
— В сущности, ничего. То, что естественно вытекало из обстоятельств. По крайней мере, это не та ситуация, когда рядом с рельсами лежит голова и говорит: «Ни фига себе, сходил в магазинчик», — закончил Сергей серьезнее, ядовито. — Я слишком упрямо мешал какой-то группе людей спокойно функционировать.
— Шел против течения, — сказала Люся приподнято и благоговейно.
— Можно это так назвать… Хотя какое течение может быть у болота? Скорее, быстрее течения. А теперь вот на берегу. И передо мной все тот же вопрос, что и перед известным принцем сотни лет назад, — говорун нападал, слушательница внимала. — Кстати, тоже недоучившимся студентом. Быть или не быть, а если быть, то куда тереть мыло. Ворошить эту жизнь, ввинчиваться в нее или, самое мудрое, вот так лежать и смотреть на все это… На весь этот клубок, этот муравейник, как выражался другой недоучившийся студент…
Сергей говорил самозабвенно, но не совсем свои слова. По крайней мере, о недоучившихся студентах. Он помнил, где слышал их: на Архангельской, 13. Это был дом, в котором собирались, точнее, похоже, дневали и ночевали, а еще точнее, пили по всей ночи чай и… Не то слово — говорили, ибо в одно и то же время кто-то мог рисовать, кто-то сочинять стихи, жили общением друг с другом совершенно необыкновенные какие-то люди. Образованные, с талантами, работали они сторожами, дворниками, истопниками… Почти все — недоучившиеся бывшие студенты. Были среди них и окончившие институт, но закинувшие диплом подальше. Сергею с непривычки особенно было удивительно, что любое стремление человека чего-то добиться, тем более получить общественное признание или, того хуже, занять пост, вызывало у них неприязнь, рассматривалось как душевная нечистоплотность. В тот дом Сергея, кстати, привела Люся в своей вечной жажде чему-то или кому-то послужить.
— Так или иначе я сейчас на обочине, — продолжал Сергей. — И отсюда, с обочины жизни, так отчетливо видится вся эта жуткая комедия. Ходят серьезные дяди, с серьезными лицами, говорят правильные вещи… И самим им, наверное, кажется, что они заняты серьезными важными делами — трясучка! Цепляние за обстоятельства! Просто так им удобнее! Напридумывали должностей, званий, степени разные, учреждения — и все вроде ради высоких целей. Пустоту свою прикрывают! Много мелкого страха и мало духа! Высокого духа!.. Равного… вершинам Памира!
— Теперь ты уедешь? — посмотрела она в упор исподлобья.
— Куда? А-а, не знаю. Наверно. Пока не думаю об этом и не хочу думать. Хочу просто смотреть и видеть!
— Ты был на Памире, да?
— При чем здесь!.. Это образ.
— А я была. С отцом, два года назад. Не на самом Памире, а там, в горах. Запомнила. Смотришь вниз с вершины, и такое чувство, что стоишь на волне, и вокруг все волны, волны с белой пеной наверху и темными провалами. Застывшие волны. Как у Айвазовского.
— Да, вероятно, красиво, — торопливо поморщился Сергей. — Но я о другом. Меня, видишь ли, люди интересуют, жизнь: куда этот наш клубок катится?!
— Ты бы мог пожить у нас, — ответила она. — Мама будет не против…
— Пожить у вас?
— У нас двухкомнатная. Мама на работе, брат в школе. Целый день никого, отец же не с нами… Ты мог бы заниматься.
— Чем?
— Ну… тебе же надо думать… создавать… что-нибудь…
— У вас в квартире?! Что-то ты, Люся, все не о том. Будет необходимость, так у Борьки Чибирева могу пожить. Ставишь меня перед какими-то житейскими, ненужными… Домой, наверно, поеду, чего здесь?
Взгляд ее ушел в точку, ему в переносицу. Он неуютно пошевелился, приподнялся, полусел.
— У тебя там осталась девушка?
— Да при чем здесь!.. Все с какими-то глупостями! Какое-то бытовое сознание! Я вопрос решаю! Я хочу понять это мироздание! А ты меня тычешь в житейские мелочи! Успею еще тыкнуться, а сейчас хочу простора! А создавать, делать что-то я могу и там, у себя. Хотя, конечно, не поймут, не те запросы… Впрочем, на понимание и сознательность рассчитывать нельзя: надо бить по мозгам, чтоб искры высекать… из серого вещества! Вторгаться в сознание! А девственная почва для этого — самая благодатная! Созерцание — это хорошо, я его приемлю. Но мое дело — взращивать в человеке ростки индивидуальности!
— Я вот и хотела: ты бы мог… имел возможность… А я бы работала.
Сергей посмотрел пристально на Люсю. Помолчал. Нежно и покровительственно улыбнулся.
— Женщине лучше связывать свою судьбу с тем, кто любит больше небо и землю, чем поиск смысла неба и земли, — сказал он печально и обреченно.
Лицо девушки исходило пятнами. Волновалась: с виду такое ровное безмятежное существо, а приглядишься — все волнуется.
— Мне не нужен, кто любит больше небо и землю…
Люся не успела договорить — вошел Костя Лапин. Он как-то сразу возник с пачкой сахара и батоном около шкафа, и было непонятно: только появился или давно стоял. По Сергею волной пробежал внутренний стыд, даже испарина выступила: он зачитывал Косте эти понравившиеся ему книжные строки, которые только что с печалью высказал Люсе как свои! Слышал ли Лапин конец разговора?
— Прости, Костя, я еще до сих пор замок не сделал, — вскочил Сергей, не давая тугодуму Лапину опомниться. — Но… «муваги» целы. Люся вон стерегла, костьми, говорит, лягу, лучше себя отдам, чем бумаги… — Обидеться на него невозможно: Сережа как бы любя подтрунивал. И взгляд его теплился умилением.
Все же Костя Лапин за минувший год сильно изменился: что-то с ним происходило, замечал Сергей. Раньше полинялый осенний плащ, в котором Лапин щеголял всю зиму в любые морозы, и грубой вязки серая шапочка выглядели на нем неким древним священным убранством, а весь облик казался неустрашимым, попирающим людские понятия. Теперь же старые его одежки — и выглядели старыми, заношенными. А самого Костю впору было принять за человека, давно проживающего без паспорта в теплотрассе.
— Заварку купил! — воскликнул Сергей почти восторженно, словно заварка была его давней несбыточной мечтой. В отношениях с Костей он знал меру насмешничанью.
Люся тотчас вызвалась поставить чайник, но Сережа в порыве великодушия сделал это сам.
Проходил по коридору, услышал — в фойе заиграл кто-то на пианино, запела девушка. Голос сразу потянул Сергея к себе, словно струя свежего воздуха в душный день. Он даже ступать стал мягче, боясь вспугнуть его, как наваждение. Заглянул в фойе, и довелось пережить миг изумления: пела та самая девушка, из-за которой вчера вечером Борька Чибирев немножечко свихнулся. Сергей узнал ее со спины, по смолянисто-черным волосам, рассыпавшимся по спинке стула. Ему говорили: обаятельна, хорошо поет, но он не ожидал, что настолько.
— Здорово, — проговорил, дослушав, Сережа. И забыв поведать о таком забавном факте, как исключение, в котором певунья сыграла не последнюю роль, добавил: — Надо, чтоб Костя Лапин послушал!
На Лапина задушевное пение, если оно действительно шло из души, без желания удивить, производило совершенно особенное впечатление: обычно хмурое, со сдвинутыми бровями лицо его все выглаживалось, вытягивалось, в нем проступало что-то такое, страдальческое и сладостное, казалось, какой-то предел, что даже смотреть на него становилось неловко.
Когда Сережа появился с Костей, девушка совершенно беззастенчиво и очарованно улыбнулась.
— А, снежный человек! Вы простите, мы вас так с сестрой называем. Его, говорим, где-то в Гималаях ищут, а он в институте искусств… Вы духовник, да?.. Жаль, вам была бы к лицу похоронная процессия. Вы не обижайтесь, я без худого умысла, болтунья страшная…
А Сергей вдруг шлепнул себя по темечку, вспомнив якобы про чайник, и, хитренько возбужденно улыбаясь, покинул фойе. Ему нравилась собственная сметливость. Он казался себе неким психотерапевтом или иной силою, способной ненароком помогать людям. Костю же необходимо сейчас растормошить, перенаправить взгляд, а то уставился… в свои комплексы. Правда, она с Борькой… Ну да это всё условности.
Так, пряча вроде бы улыбку, он вошел с чайником в комнату. Люся, конечно же, эту улыбку заметила, поинтересовалась.
— Одно доброе дело сделал, — ответил Сережа сдержанно, с тоской, будто великодушие ему стоило и жертвы немалой.
Скоро настало подтверждение тому, что деяние Сергея действительно было добрым. В оставленную приоткрытой дверь донеслось пение. Сергей, не веря ушам, вышел в коридор, а после вызвал и Люсю. Без сомнения: Костя подпевал девушке вторым голосом. Лапин частенько намурлыкивал что-нибудь себе под нос в полной забывчивости, но петь!.. Да еще довольно густым басом — в обиходной речи бас его назывался «проглоченным». Вот уж воистину — прорезался голос. А когда, спустя добрых полчаса, Сергей пошел проводить до остановки Люсю, чего никогда раньше не делал, Лапин с девушкой по-прежнему находились вдвоем в фойе. Что было более всего удивительным: говорил Лапин и, похоже, много!
— Для массы скрепляющая сила — всемирное тяготение. А для людей — тяготение друг к другу! — упоенно рассуждал по пути Сергей: он казался себе вершителем судеб. — Если вынуть из массы, как ниточку из бус, всемирное тяготение — можно раскатать вселенную. А человечество можно погубить, уничтожив тяготение людей друг к другу! Я так думаю.. Ты согласна?
Люся, конечно, была согласна.
— Впрочем, и бараны друг к другу тянутся, — впадал Сережа в неизменное противоречие. — Головы от солнца друг под дружку прячут. Все материальное — оковы! Когда-нибудь люди вообще откажутся от своей телесной оболочки. Экстрасенсы ее сейчас уже ни во что не ставят. Киберн-этап… В будущем мы, может, будем парить в пространстве в виде каких-нибудь бликов или лучей… Я иногда чувствую в себе что-то такое… щемящее, зов далеких звездных прародителей, может быть… — в лице Сережи появилось что-то от высокой скорби, от нездешнего назначения, словно это и был тот миг, когда он почувствовал в себе звездный зов.
Люся покраснела: она пристыженно показалась себе более заземленной, недостойной Сергея. Ей не хотелось лишаться телесной оболочки! Да и как это? Пожалуй, самому-то было не все равно, какая телесная оболочка у Эльвины, той девушки, за которой ушел со злосчастной вечерушки.
Она попрощалась и пошла к подходящему трамваю.
— А ты, Люся, оказывается, стройняшка! — крикнул он вдогонку.
А зачем? Она оглянулась и так тепло, влажно посмотрела… Теперь думать будет — накручивать себя… Она ведь такая… А для того и крикнул, чтоб думала…
6
Курс решил защищать Сергея и Бориса. Особенно много горячих голосов было за Сергея, потому как он получался вообще ни при чем.
Комсорг института, двадцатисемилетний парень, рыжий, грузный и очень сдержанный, из музыкантов, тем своим усталым тоном, который дает понять, что он вроде ни в чем не уверен и мало на что надеется, все-таки пообещал вступиться за исключенных. Хотя и крепко усомнился в успехе дела Бориса — Сергея по общежитию он хорошо знал, а Борю только так, с виду.
Сергей тем временем встретился с Эльвиной. В жутком трагедийном упадке, утыкаясь взглядом в пустоту и тяжело морща лоб, поведал он ей историю своего отчисления. Реакция Эльвины была неожиданной: не удивилась, не посочувствовала… Ровно так, отчужденно сказала:
— Видишь, я была права. Не надо было меня провожать. Не пошел бы, ничего не случилось.
Он же ей всю сложную подоплеку исключения выявил, все с самого начала, с увольнения Мастера!.. А она уловила только последнее, фактик этот мизерный, клубничку!..
— Не переживай, что исключили, — говорила она. — Поработаешь на производстве, узнаешь жизнь.
— Я не переживаю, что исключили! — выходил из себя Сережа. — Не о том переживаю! Несправедливость, лживость… и все под красивые слова!
— Так везде и всегда. Что из этого?
Он видел ее подвижные, готовые к тревоге и радости глаза, и мерещилось, будто они непременно и тотчас должны откликнуться на смятение в его душе. Гибкая, порывистая эта девушка должна почувствовать в нем способность к в е л и к о м у с т р а д а н и ю, к о д и н о к о м у п у т и спасителя рода людского и пойти за ним, без оглядки пойти, на муку любую… Однако чем дальше, тем ощутимее наталкивался на отчуждение.
— Я тебя раньше, — ухватился Сергей за одно подозрение, — с парнем частенько видел, таким… — Сергей изобразил насупленную тупую деловитость. — У вас с ним… что-нибудь серьезное?
Эльвина глянула мельком, без особого удивления: словно то, что, не будучи знаком, Сергей за ней наблюдал и запомнил парня, было в порядке вещей.
— Было серьезное, — ответила она убийственно прямо.
— Ха! — едко воскликнул Сергей. — По виду он тот самый, который нужен женщинам. Звезд с неба не хватает, но с потенцией на обеспеченную жизнь!
— Что в этом плохого?
— Я и говорю: прекрасно! Не пьет?
— Как все.
— Ну да, как все. Разве могло быть иначе! Как все! А в результате — положительное явление. Такого не погонят ниоткуда. Живет по принципу: «Не высовывайся!»
— Что ты завелся? Ты его знать не знаешь.
— А его и знать не надо. Его трудно не знать! Он как все, как все, как все! — на три стороны воскликнул Сергей. — Просто жалко, что у вас с ним чего-то… не получилось, как я понимаю. Это же такая удивительная перспектива жизни: квартира, машина, связи… Самое главное — связи. Ты знаешь, что сейчас уже для всех главное это?..
— А ты сам-то хватаешь звезды с неба?
— Я?!
Сергей умолк. Шагал, уронив в исступлении неоцененную миром голову.
Конечно, если просто взглянуть: для Эльвины тот парень не так себе и надо бы, что называется, сменить пластинку. К тому же, отторгая этот гнусный мир, отторгаешь вместе с ним и девушку…
Однако нота вселенской скорби была взята высоко.
— Стремятся многие, — подлила масла в огонь Эльвина. — Говорить, кстати, теперь умеют все, а машину может купить не каждый. Неизвестно еще, что получится.
— А надо обязательно знать наперед, что выйдет? Жетончик получить? — взорвался Сергей. — Да и что, по-вашему, должно получиться? Лауреат? Деятель? Признанный награжденный человек? А через некоторое время окажется, что все дела ныне почитаемого человека были не во благо, а во вред! А как оценить дела отшельников? — Сергею припомнились разговоры об отшельничестве в доме на Архангельской, 13: там об отшельничестве рассуждали много. — Их дела не взвесишь, они не материальны. Но люди к ним шли, несли горе свое. Был такой… выпало из головы… старец один. Так к нему и Толстой и Достоевский за словом ходили!
— Становись отшельником, кто мешает?
Мысль об отшельничестве Сергею давно нравилась, но… воображение подводило: тотчас подсовывало к нему в скит, полный разных мудрых книжек, девушку… и далее рисовалось все такое, весьма отдаленно связанное с иночеством.
— Я человек действия.
— Мнишь ты о себе…
— Ну и что, что мну… мню то есть. Думаешь, этот твой не мнит?! Если на то пошло, все лицо выражает лишь одно — самодовольство. Как им о себе не мнить! — нападал, сдерживая гнев, на какую-то незримую людскую массу Сергей. — Они же считают, что все в жизни поняли: иди — где короче, бери — что поближе!
Эльвина вдруг потупилась.
— Со мной, конечно, не легко, — проговорил Сергей. — Но ведь это потому, что мне самому трудно. Мне жить — трудно!
Исхудавшие Сережины плечи приопустились, видимо намучившись под непосильной ношей великих противоречий.
— Всем трудно, — вздохнула коротко Эльвина.
— Не знаю, что ты имеешь в виду, — пытался хоть как-то объясниться Сергей, — но меня сама Жизнь волнует! — Он горячо ткнул себя в сердце, так изболевшееся за человечество. — А милое большинство — собственная жизнь! Что покушаю, что надену: у кого-то есть, у меня нет…
— Надоели мне эти ваши разговоры…
— Какие это «ваши»? У меня только мои…
— Хочу просто нормально жить.
— И я хочу просто. Только просто и нормально…
— А я хочу просто и нормально! Прости, мне домой надо. Я на подготовительные хожу, хочу на вечернее в институт…
— На вечернее?! — искренне изумился Сергей. — Зачем тебе?! Пять лет сидеть все вечера на занятиях, жизни не видеть! Нет, если бы у тебя была цель, мечтала о чем-то — другое дело! Но ведь тебе же просто хочется стать женщиной с положением! Будет у тебя положение — ну и что?!
— Пусти, люди смотрят.
Он и не заметил, как схватил ее за руку.
— Будь проще, Эльвина, — прямо и насмешливо поглядел в глаза девушке Сергей, — стань собою!
Это были слова Мастера. «Будьте проще, будьте собою», — говорил тот назидательно и требовательно. Фальин первым подхватил их: «М-м, чувачок, стань самим собою», — посоветовал он как-то разгорячившемуся вдруг Косте Лапину. Костя вмиг стал кем угодно, только не собой: даже кожа на волосатых руках пошла пятнами.
— Поужинать перед занятиями я должна, как ты считаешь? Халат еще нужно дошить — на работе не в чем… — она тоже смотрела прямо, не пытаясь высвободить руку, держа локоток приподнято, почти на уровне кисти, как это делают в балете. По ее покатому плечу, изгибу руки, словно по голой ветви, могли бы скатываться капли…
— А как у вас с величием души?! — горько и хлестко влепил Сергей строку известного поэта. — Все остальное, кажется, в порядке. Но не играя в поддавки и прятки, а как у вас с величием души?
Она уходила, ставя выворотно ноги, чуть приподнимаясь на каждый шаг. Невысокая и в то же время длинненькая. Натянутая, как струна, прекрасная. Так и не оглянулась, сколь Сережа ни вперивал свой магнетический взгляд. Так и скрылась в подъезде.
А он остался, и по его неожиданному ощущению — в полных дураках! Сама мысль, что кто-то на кого обратил внимание, его совершенно не воспринял, казалась невероятной. Он ведь распахнул свой внутренний мир… Тот мир, с которым соприкоснуться, может быть, многие за счастье почитают! А она как шла себе, так и… Даже заглянуть в него не попыталась. Какая вопиющая глухота, хотя с виду натура тонкая — певучее что-то есть в облике ее, что-то от морского всплеска, от деревца с тонкими ветвями…
Забирала внутренняя ломота, хотелось что-нибудь сотворить. А не залезть ли, подумал Сергей, не постучать ли в ее окно на девятом этаже? Жалко, водосточной трубы нет. Лоджии без металлических решеток, бетон, не уцепишься. Он даже за угол завернул — голая стена. Пока прохаживался — поостыл, ясно представил, как падает с долгим криком… Успокоил душу тем, до чего в данной ситуации явно мало бы кто додумался: снял с головы шляпу и с силой пнул ее. Широкополая шляпа, описав дугу, спланировала в лужу. Поднял, отряхнул, приладил на прежнее место. Лоб неприятно обволокла волглость.
Не по-ни-ма-ют!.. — стучало в его висках. Только подлинно чуткая вибрирующая душа способна внять, соединиться с его душой… Хотя пониманием ли называется то, чего он добивался? Пониманием ли?.. НЕ ПО-НИ-МА-ЮТ!!!
7
Костю издергали: поминутно кто-нибудь заглядывал, спрашивал Сергея — на что он им всем? Костя способен отрешиться и работать при любом шуме, только бы лично к нему не приставали. Поймал себя на ненужном беспокойстве, сосредоточился на кончике носа.
Сергея на лестнице и в коридоре, пока шел до своей комнаты, человек десять остановили со словом добрым, советом. Комсорг института Роман окликнул: «Старина, я был у ректора…» В тусклом мягком голосе Романа, в рябоватом лице, грузной фигуре была та постоянная усталость, за которой всегда чувствуется и сила, и способность взорваться. Но сила эта, видимо, сознательно сдерживалась, береглась, чтобы не мешать другим, не цеплять ненароком, не давить. «По-моему, дела можно поправить». В полуулыбке Романа Сергей узрел какую-то смиренную ироничность по поводу необходимости собраний, разбирательств… И Сереже захотелось лишь одного: быть очень хорошим. Откуда-то взялся рядом профорг Леша Кузьмин. С белозубой кроличьей улыбкой, потирая руки, как-то чуть привскакивая, Кузя говорил: «Очень переживаю за тебя. Такая неожиданность, я просто ошеломлен! Это недоразумение. Мы принимаем активные меры». Из-за спины знакомо сжали руку повыше локтя пальцы Андрюши Фальина: «М-м, чувачок, надо выстоять!»
Когда-то, еще во времена вступительных экзаменов, Сергей увидел Андрюшин альбом с фотографиями. Фальин показывал альбом Косте Лапину. Крупная надпись на его титульном листе гласила: «Я БЫЛ ИХ КУМИРОМ». Сфотографировал Андрей и Костю, чтобы, вероятно, поместить его карточку среди прочих своих почитателей. Тогда было много впечатляющих людей. В фойе общежития, обнажив торс Аполлона, стоял постоянно у мольберта с кистью в руке красавец, который учиться собирался вовсе не живописи, а игре на альте. Когда его спрашивали: «Как дела, жизнь?» — неизменно и серьезно отвечал: «Очень доволен собой». По коридору общежития пробегал юноша с пылким и дерзким взглядом, с легкими разлетающимися кудрями и в куртке с разными по величине и цвету пуговицами — это был поэт! Левка Фридман, кося левым глазом, отчего его взгляд упирался собеседнику в живот, почти с порога заявил: «Я гений, чуваки». Причем устало, словно давно осточертело бремя гениальности. Был еще отрешенный полубог с лицом, будто бы скованным не доступной никому думой. Низкорослый, носатый Корник, которому стоило войти своей чаплинской походкой в комнату, как пространство вокруг наполнялось миражами десятков женщин, якобы совершенно пораженных его, Корника, чудовищными мужскими возможностями. Ну и конечно, Олла, пылкая, трепетная и очень умная… И всех их Андрюша скоро — сфотографировал.
Не взлохмаченный, без экстравагантности в одежде — все четко, подогнанно — Андрюша судил о чем угодно с убежденностью, что знает и понимает все. Он так постоянно и говорил, вдыхая в самое ухо, приблизив к своему животу чей-либо локоток: «Я тебя понимаю, м-м, чувачок», «Я тебя понимаю, м-м, девочка». Деловыми советами одаривал любого и каждого. «Девочка, — говорил он пианистке, судорожно переминающей пальцы перед творческим конкурсом, — девочка моя, даже если ты одним пальцем умеешь играть «Чижик-пыжик», к роялю ты должна выйти Ваней Клиберном». — «Да-да, конечно», — отвечала в трепете девочка. И через пару дней проваливалась на экзамене, потому как провела эти дни с раскрытым ртом перед Андрюшей, настраиваясь на сокрушительный выход к роялю. «Чувачок, — глубокомысленно оттягивая уголки губ, обращался он к Сергею, — ты собираешься читать Есенина?! Гоголя?! Это же хрестоматийно, банально…» Скоро музыканты Фальину играли, вокалисты пели, а театралы выделывали кто во что горазд. Хваленые мигом распускали хвост, а не отмеченные или, того хуже, охаянные погружались во внутреннюю смуту и терзания. Жили они тогда с Андрюшей в одной комнате. Сергею нечего было добавить, когда, словно пар в русской бане, в углу напротив клубились словеса о великих нашумевших творцах и творениях. Большинство упоминаемых имен Сергей просто слышал впервые, а известные ему открывались неожиданной стороной — все они, великие, как выяснялось, были со сдвигом, с психическим патологическим отклонением. И в этой повернутости, оказывается, и таилась их гениальность! Не обнаруживал в себе Сергей и хоть какой-либо облагораживающей родословной мешанины. В крови Андрюши, по его словам, с одной стороны, текла кровь польских шляхтичей, а с другой — греков. Вслед за Фальиным все поголовно оказались потомками аристократии, духовенства и непременно с приливом какой-нибудь иноземной крови. А смешение, как утверждали, порождает детей с особо богатыми задатками. Сергей, правда, впоследствии пришел к выводу, что в нем тоже есть какая-то инородная кровь — коренной сибиряк, а туда кого только не ссылали!.. Но тогда Сережу все упорнее стала тяготить мысль, что никто иной, а именно он и есть представитель «обыденной серой массы», которая никогда не способна понять истинного творца. Против воли он начал ходить и говорить иначе — расхлябанно, ступая широко и увесисто, без надобности пересыпая речь крепким словом. Бухался на кровать и подолгу лежал пластом, выражая тупое и беззаботное самодовольство. И во взорах молодых индивидуумов, сгрудившихся вокруг кумира, видел себя Сережа существом, которое вчера еще по веткам прыгало.
Но вот минуло чуть более полутора лет, и стало очевидным, в ком крылось подлинное личностное начало. В центре был Сергей.
Его обступили девочки-сокурсницы. Пытались внушить мысль, что повинную голову не секут, плетью обуха не перешибешь, стену лбом… Сергей в ответ лишь пожал плечами: «Тогда зачем вообще мы живем».
А вскоре на кухне велись совершенно безотносительные к происшедшему дебаты. Собрались-то как раз поговорить о деле — как завтра вести себя на собрании. Но конкретные четкие планы — занятие скучное. Да и понятно же, как вести дело: частично осудить, взять на поруки… В общем, слово за слово, разговору, главное, начаться, а дальше — лови его, ушел далеко-о в пространство.
Когда Костя Лапин вошел на кухню, Андрюша Фальин утверждал, что подлинная личность всегда поступает соразмерно своим убеждениям — на эшафот пойдет за убеждения. И тем не менее, ей, личности, ради достижения высшей цели приходится часто поступаться принципами, закрывать глаза на мелкую ложь… Нельзя тратить жизнь на борьбу с одним дрянным человеком, надо добиться такого положения дел, когда можно будет бороться с явлением «дрянной человек».
Одни поддержали, другие набросились — пока, мол, лавируешь, сам станешь дрянью. Тогда Андрюша, еще не так давно, как помнил Костя, называвший население быдлом, воззвал «м-м, чувачков, м-м, девочек — к народу, к корням…»
— Скажи еще Родина, патриотизм! — тотчас кинулся ниспровергать Сергей.
Костя Лапин с той поры, как посмотрел сценку, где Сережа и Фальин друг друга передразнивают, не мог отделаться от ощущения, что и здесь, на кухне, они продолжают свою забаву.
— Земля-м-матушка, выношенная веками нравственность — вот м-живительные соки… — говорил Фальин, задыхаясь от избытка чувств.
Костя подавленно недоумевал: почти те же самые слова, которые только что произнес Андрюша, он недавно записывал в свою тетрадь. Они казались ему если не открытием, то светом, незыблемым, вечным, указывающим путь… Но в устах Фальина слова эти прозвучали мало сказать пусто — отталкивающе!
У Сергея выходило куда увлекательнее. Мысль обнаруживала какой-то неожиданный зигзаг. Костя, правда, хорошо знал, откуда эта мысль. Сережа как-то вернулся после разговора с Мастером, которого уволили или сам уволился, пришел возбужденный, передал суть разговора. Но тогда он только передавал, а теперь высказывал как собственное убеждение: Сергей все пропускал через сердце и веру.
— Ха! — выскочил он дерзким пророком. — Мы считаем понятия «Родина», «патриотизм» проявлением самой высокой духовности! А между тем, это всего лишь стадное чувство! Пещерный человек чувствовал то же самое — необходимость держаться своего стада, своего племени, рода, чтоб его не скушали! А чтоб ему было совсем приятно и не страшно, он должен был чувствовать свое стадо, племя, род самым сильным, непобедимым, лучшим! Свою пещеру самой прочной и теплой! То есть должен был быть патриотом! Принимаю только личностную индивидуальность человека Вселенной!
В прошлом разговоре на этот предмет Костя ничего вразумительного сказать не смог — Сережа на все, в этой приобретенной своей странной манере, сдержанно и снисходительно улыбался.
— Я тебя понимаю, м-м, чувачок, — по обыкновению оттянув уголки губ, говорил с оттенком некоторого страдания Фальин, — но, скажем, Ваня Бунин м-не был бы Буниным, если не связь, м-духовная связь с родиной, с Россией…
— По этому поводу хорошо высказался один небезызвестный всем нам человек. Он был в Париже на кладбище, где русские эмигранты похоронены. Там на каждой могиле надписи о тоске по родине, о любви к России. Так вот этому человеку, возле этих могил, говорит он, пришла мысль: хорошо любить Россию, живя в Париже.
«Пришла мысль», — негодовал молча Костя. Да тысячу лет всем этим словечкам! Только кто их уже говорит!.. Лапин хорошо помнил рассказ Сергея об отце: тот был ветеринаром-самоучкой. С войны мальчишкой стал скотину лечить — призвание имел — так и остался. Но тоже, видно, с характером был: приехал куда-то на ферму делать быкам прививку, а помощник его не явился. Мог бы отложить дело, его отговаривали, мол, не справишься. Нет, раз приехал, взялся. Бугай племенной и поддел рогом. Теперь лежит не где-то в далеких землях, а у них там, в Лебяжьем. Неужели не понимает Сергей, что открещивается не от кого-нибудь, а от отца своего, от всех тех людей, среди которых вырос?
У самого Лапина кроме матери не было никого. Отца он не знал, не представлял фигуры, голоса, лица… Ладно бы, если тот погиб. Нет. Заезжий гастролер погулял с билетершей филармонии, появился человек — Константин Васильевич Лапин, отчество и фамилия по деду. И всю жизнь тычется мыслью туда, где должен быть отец — кто он, какой?.. Тычется в пустоту.
— Кто-нибудь хочет, чтоб у него были другие родители? — обратился Лапин ко всем, будто на понятия «род» и «родина» нападал не один только Сергей. — Связь с родителями, с родным…
Раздался дружный и громогласный хохот, так могут смеяться лишь над чудаком и недотепой.
— Костик, лапушка, ты о чем? Уже давно проехали… — красиво выпуская струйку дыма, улыбнулась дева Олла на подоконнике. — Мы уже о летающих тарелках. Есть предположение, что баба-яга на метле не что иное, как виденный древними гуманоид на мини-ракете.
При этом Олла, верная спутница Андрюши Фальина на его многотрудном жизненном пути, как-то уж очень признательно скосила взгляд на Сергея. Живой человек в подобной ситуации не мог не припомнить той давней, времен поступления, ночи, когда бедрастенькая дева с необычным именем Олла прибежала к Фальину. Ее подняли с постели, привели к Андрюше какие-то жуткие ночные противоречия, терзающие душу предчувствия, спасение от которых лишь небытие… если, конечно, и там, за чертой не еще безысходнее. В волнении она даже забыла накинуть халат, оборки ночной сорочки поблескивали в темноте… Они долго говорили о том, как тяжело им, натурам с высшим смыслом, нести ношу жизни и как легко, до завидного просто таким вот, как этот на кровати у окна семнадцатилетний эмбрион из Лебяжьего. Что для него? Прошел день, жив, сыт — посапывает себе — и доволен! Пошептавшись о пьесах абсурда, два трепетных создания, озябших в ночной стуже вселенского одиночества, спасительно бросились друг к другу, удалились во вневременное и внепространственное… Костя в который раз удивлялся столь простому исходу столь сложных душевных перипетий. Сергей же на сей счет со свойственной той поре грубостью высказался наутро более определенно: «Ну, мля, без Ионеско они и в постель не лягут!» И далее тем же тоном, полагая, что Костя спал и ничего не слышал, поведал, как мучился он всю ночь весьма определенным желанием и упрямо смотрел на перекошенный лик луны! И если не поступит, то перед отъездом обязательно набьет Фальину морду. Не из обиды и зависти, а чтобы восстановить справедливость! Среди прочих достоинств Андрюши были и такие: когда в благородных, понятно, целях, наказывая хамло, пускал он в ход кулаки, то неизменно сшибал всех наповал. Олла могла при этом наводнять глаза страхом и ужасом, но Сергею, глядевшему на пухленькие, как опарыши, Андрюшины руки, было просто неловко. Пусть в поселке Лебяжьем, где он вырос, не очень-то разбираются во всяких там тенденциях, но что такое мордобой, понимают! Так хотелось на своем «эмбриональном уровне» восстановить справедливость… Костя, к стыду своему, тогда разделял отчасти взгляд Оллы и Андрея на Сережу… Но теперь-то представлял, насколько Сергею сложно было жить простым человеком.
Олла по-прежнему пребывала в нескончаемых эйфорических импульсах неземного происхождения, но все заметнее делалась просто ладненькой, весьма смазливой, кокет-дивой, вздорной обаяшечкой с ямочками на щеках. С недавних пор она стала называть себя Машей — как выяснилось, и писалась по паспорту. В школе ее сначала звали Мариоллой, потом первая часть за ненадобностью отпала, осталась вторая, никакого отношения не имеющая к подлинному имени. Но вот оно восстановилось в первозданном виде. Это и понятно: Фальин теперь проповедовал народ и простоту! Впоследствии, предполагал Костя, такие становятся преуспевающими склочными дамами, замуж выходят за невзрачных, покорных, но работящих мужиков, которыми всю жизнь помыкают. А пока время хлопотать о замужестве не приспело, можно было жить минутой. И Олла-Мария, как истинное мерило сиюминутных ценностей, посматривала в сторону парня, которого когда-то называла «семнадцатилетним эмбрионом», поглядывала, чувствуя бабьей сутью, что сделала промашку!
— Чуваки, — вошел Левка Фридман с чайником, — в четыреста шестой куртку финскую предлагают…
— Женская или мужская?
Куртка Лапину была не нужна. А вопрос возможности связи с неземными цивилизациями волновал. Хотя он и противился внутренне всему тому, вокруг чего возникал ажиотаж, приходил к распространенному мнению: представители иных цивилизаций на земле должны были побывать. Иначе и нам нечего рыпаться, пытаться достичь иных пределов. В природе нет единичных экземпляров, рассуждал Костя, поэтому нельзя предположить, что мы, чаша цивилизация — исключение. Должны существовать цивилизации как несравнимо высшего, так и низшего уровня развития, нежели тот, на котором находимся мы. Но если их представители не смогли достичь пределов нашей планеты, выходит, расстояния, созданные природой, непреодолимы. Тогда нечего и нам мечтать… Однако в большей степени Лапина волновало происходящее на земле. И не только на земле вообще, а и в людях, которые его окружали, в самом себе. Для него все это было неразрывно. От неспособности выговориться вслух он ушел в комнату, высказываться на бумаге — так, он считал, мысль становилась более определенной.
«Вспомнилось после разговора на кухне, — записывал Лапин, — как театралы собирались играть спектакль на сцене, устланной ликами русских святых. Помню, как Сергей взахлеб объяснял, что это должно выражать отношение русского народа к своим святыням. На сегодняшний взгляд, мне кажется невероятным, но я точно помню, что тогда мне вся эта затея показалась небезынтересной. Действительно, думал я, не всегда мы были бережны со своими святынями, не берегли святое в себе. Дело в том, что Сережа и меня хотел причастить к их затее: не знаю, кому это пришло в голову — его учителю или ему самому. Сам он намеревался быть помощником постановки, как бы подручным режиссера. Не знаю, чей именно образ я там должен был воплотить, по-видимому, это было не важно. Важным было то, что у меня якобы дремучий медвежий облик, и вот если, как фантазировал Сергей, которому учитель его внушительно растолковал смысл, если меня, такого вот, одеть в косоворотку и начищенные дегтем сапоги и я буду топать будто бы в подпитии по иконам, то все само за себя будет сказано. И это мне тогда показалось небезынтересным, выразительным, талантливым. И только потом я подумал: при чем здесь автор «Бесов», свято веровавший в свой народ? При чем здесь сам я? Или мой дед, который как раз и ходил в сапогах, смазанных дегтем? Во имя чего все это?..»
8
К полуночи явилась Люся. На вахте ее не пропустили — вызвала Сергея через возвращавшихся в общежитие. Зашептала таинственно:
— Я познакомилась с одним человеком очень сложной судьбы… Вернее, я ее давно знаю. Тебе необходимо с ней встретиться. Она тебя сейчас ждет.
— Сейчас?! — Сергей не на шутку растерялся: больно много в Люсе непривычного возбуждения. Да и странно, среди ночи кто-то ждет… — А зачем?
— Она даст совет. Ей пришлось в жизни много бороться, отстаивать правду, терпеть лишения… Она просила, чтоб ты пришел с каким-нибудь другом.
Неожиданная Люсина решительность и мистическая таинственность передались Сергею. Позвал Лапина. Пошли. В темноте, дворами, закоулками. Шли быстро, молча, в некотором оцепенении.
Точно так, ночью, они ходили с Люсей на Архангельскую. Сергей сейчас ожидал увидеть такую же странную, словно отгороженную от общей, жизнь, таких же приветливых людей, держащихся друг друга… Только эти должны быть «много пережившими, перестрадавшими…»
Дверь открыла аккуратная вежливая старушка. Голосом тихим, чуть подрагивающим сказала:
— Проходите сюда, вас ждут.
У Лапина неестественно вытянулось широкое его лицо и запали щеки. Сергей чувствовал, как сама собой выгнулась спина. Переглянулись, вошли.
В пустой, голой почти комнате — женщина на инвалидной коляске. Темноволосая, с ровным пробором и гладкой укладкой. Скулы от худобы выпирали. Глаза смотрели прямо и жгуче — гвоздили.
— Садитесь, друзья мои, — указала она на скамеечку напротив.
Друзья присели. Воцарилось молчание. Ждали, глядя снизу вверх. Был слышен гул канализационной трубы.
— Мне пришлось много испытать и вынести, меня преследовали… Но я всегда добивалась своего! — прозвучал надтреснутый голос. — Подай! — женщина резко протянула в сторону Люси, сидящей в сторонке, руку.
Люся зачем-то подала ей веник.
— Возьми, — приказала женщина Сергею.
Сергей не ожидал такого поворота дела. Помедлил, взял веник.
— Попробуй сломать.
Сергей уже заподозрил, к чему все клонится. Покосился на Лапина. Стал пытаться веник переломать.
— Не можешь! — торжествующе выдохнула женщина. — А теперь попробуй ты, богатырь, — велела Лапину.
Лапин, спрятав глаза, с мукой на лице поусердствовал: ничего делать специально для виду он не умел. Положил веник перед собой.
— А теперь развяжите и увидите, как легко вы переломаете весь по прутику!
В темных впадинах, разделенных переносицей, глубоко в глазах загорелись две дужки маленьких электрических лампочек.
— Теперь понятно, как легко вас сломать поодиночке и невозможно всех вместе!
Сергей серьезно и насупленно покивал, торопливо пообещал руководствоваться, поблагодарил. Поднялся — в общежитие, мол, не пустят… Встал за ним и Костя, до того все сидел неподвижно и тяжело сопел.
На улице у подъезда Сергея словно прорвало — ударился в смех, в ненормальный какой-то надрывный гогот, чуть не валясь с ног, то и дело цепляя Лапина за плечо. Подступило чувство, что творится с ним жуткая нелепица.
9
Утром же все казалось Сергею еще более нелепым: весь вчерашний день. То одно выплывало, то другое выпрыгивало… чего-то дергался, говорил… Это свидание с Эльвиной!.. Метал бисер! Зачем? Добивался ответного чувства? Какого ответного? У него-то оно, чувство, разве есть? Разве ему действительно так уж нужна Эльвина? Нет же… Ну, милая, похожая внешне на ту, которая представлялась в мечтах. Но только лишь похожая, а не та. И это сразу было ясно. Хотя как сказать, что-то все-таки к ней потянуло… Если б она распахнула свои чувства… А может, дело в том, что только этого и надо было: стать нужным ей.
А день предстоял… непредсказуемый.
Влетел Борька Чибирев. С «дипломатом». Видно, для родителей — поехал на занятия. На шее, из-под рубашки, пурпурный шарфик. Русые кудри промыты — при движении головы красиво вздымаются. Юный Есенин, только нос поострее.
— Еще не встал? Говорят, собрание будет? В два? Может, и обойдется, а?
— Лежу, думаю, каково просыпаться человеку в камере-одиночке перед судом… или казнью? Надо ведь все равно вставать, рубашку надевать, пуговицы застегивать…
— Юмор у тебя… Вставай, я мясо принес! Сейчас нажарим, поедим хорошенько! А после пущ-щ-щай разбирают!
Сергей и Боря, напитавшись жареной говядиной, сидели справа на эстрадке, у стены. А посередине, за столом — новый проректор, декан и сравнительно недавно появившийся руководитель курса.
— Очередная несуразица, — шепнул Сергей другу, — нас собираются взять на поруки, а ведь у любого из них руки не сильнее, чем у тебя или у меня.
— Тише, — посоветовал Боря. — Давай молчать — быстрее кончат.
Запев дал проректор: «В то время, как весь… вдохновенно… есть еще отдельные элементы…» У него была выпирающая челюсть, неподвижные тонкие губы, причем верхняя уходила далеко за нижнюю. Рот раскрывался равномерно, по-рыбьи. И вылетающие изо рта звуки, казалось, сразу втягивались носом.
Поднялись на защиту сокурсники. Получалось у них, что Сергей вообще ни при чем, Борис виновен, конечно, оступился, но надо дать возможность исправиться — ручались. Только Сергея все это не успокаивало, а выводило из всякого понимания и терпения. Да, день назад он сам соглашался быть взятым на поруки, но никак не ожидал, что люди станут за него как бы оправдываться. Просить о пощаде! И сам он в конце концов вынужден будет униженно вымаливать прощение, а если простят, то благодарить, подгибая коленки! Он думал как раз наоборот: с руководства потребуют ответа! А сейчас они с Борей получаются каким-то наглядным отрицательным примером, которому надлежит послужить делу воспитания. Подобное мероприятие проводилось в институте с год назад. Так же справа сидел застенчивого вида паренек, уличенный в краже. Краснел, бледнел, объяснял, как дошел до жизни такой… Каялся. Его проступок обсуждали. Выступал тогда и Боря. Вскочил, пылающий, непримиримый: «Украсть у своего товарища, — вскричал, — да как ты?! После этого тебя!..» Он не договорил, но было ясно, что следовало бы сделать с этим пареньком. А Сергею отчего-то стало жаль воришку: слишком уж тщедушный, затравленный был у того вид, и слишком уж холеным и спокойным выглядел, выражаясь следственным языком, потерпевший. Виделось в этом проявление чего-то подспудного, нетипичного.
В дело вмешался главный блюститель порядка и нравственности — профорг Кузьмин. Сразу взял высоко, с цитат из основоположников. И с набранной высоты вдарил по злостной аморальности бывшего студента Чибирева. Маленький, задорный, с неизменным кроличьим оскалом — обличил, заклеймил, стер. Сергея осудил частично, в целом признал неокончательную растленность. А закончил, сменив тон, как бы с болью в сердце и теплотой, так:
— Извините, что я отвлекаюсь. Но когда еще представится случай поднять публично данный вопрос. Посмотрите, как у нас чисто убрано! Это работа технического персонала, уборщиц! Я полагаю, их труд причисляется к тяжелому физическому труду. И как на любом тяжелом производстве — им должны выдавать бесплатно молоко!
Даже проректор Фоменко пережил секунду недоумения. Потом задумчиво закивал:
— Мы постараемся решить этот вопрос.
Став профоргом, Кузьмин тем же заботливым тоном Однажды сказал Сергею: «Я знаю, у тебя тяжелое материальное положение, обязательно изыщу возможность помочь». Помог вот…
Неожиданно несколько человек выступили в духе Кузьмина. Спокойно, мотивированно — фактик щекотливый, только назови. Снова вскакивали защищающие, но кроме эмоционального «хорошие», «способные», «на поруки» — ничего, голо.
Комсорг Роман вступился вроде за обоих, упирал на юность, на горячность, на то, что нельзя перелагать ответственность. Ведь ребята уйдут не куда-нибудь, а все в нашу же страну… При этом добавил касательно Бори: за такие дела, мол, вообще-то положено бить, и крепко.
Лицо у Бори вытягивалось, чуб приподнимался, щеки проедала краснота. Незримая плита наваливалась, грозила прихлопнуть. Одного. Сергея из-под нее выхватывали.
Сереже при всем едва сдерживаемом гневе было много легче: за него тревожились, его признавали. За него болели — в зале сидела Люся. Узнала, видно, о собрании и пришла. Увидев ее, он обрадовался. Сергею было просто хорошо. Он чувствовал себя безвинно судимым, а потому бесконечно правым. Гнев душу не давил, а возносил ее чуть не до небес. Он шел с любовью, нес крест, а его распинали!
А собрание меж тем шло. Нынешний мастер, старичок мягкодушный, склонный к умилительности, отозвался о ребятах ласково: способные, дескать, хотя и немного со странностями, особенно Лютаев, ну да кто не без странностей… Произошло ЧП, всякое бывает, исключения ребята, может, и заслуживают, потому что должны бы готовить себя к делу святому, где не место пошлости и нечистоте, но… молодые ведь, да и способные… хотя и не без странностей… может, и заслуживают, чтобы исключили, но исключать не следовало бы… Старичок терялся: и ребят было жаль, но и высказать что-то конкретное не мог, тем более, что администрация уже все решила…
Красивая женщина декан была как раз наоборот — сурова и непреклонна. Она стояла на сцене, необычайно статная, в светлом костюме, с волнистыми, распущенными по плечам, светлыми волосами, очень напоминая ступенчатую ракету. И речь ее взвилась прямо-таки как ракета — патетическим голосом мировой нравственности, полным негодования, презрения, непонимания, наконец… Как это можно в наше время, когда вся молодежь ищет, созидает, творит, как это можно?! Низко, гадко, постыдно!
— А может, — поднялся, собиравшийся молчать, Борис: он как-то очень уж удивился, не мог смириться, что получался таким окончательно плохим, — у меня, может… у нас… настоящее… может, чувство…
По залу потекли улыбки. Зря он, конечно, вылез с этим чувством — Боря сам это понял. Того, что можно назвать настоящим, не было. А могло ли быть?
— Как не стыдно! Примешивать к вашей грязи высокое!.. — гневно и породисто вскинула голову декан.
Все! Сережу прорвало. Вопиющая несправедливость поднималась на глазах, навалилась своим неопрятным телом! Что они такое устроили?! Что они с таким удовольствием обсасывают?! О чем вообще речь! Зачем все это ему, уже исключенному?! Но коли на то пошло — хорошо! Получите и вы свое! Если уж повели речь не об общих делах, не о духовной жизни и учебном процессе, а стали слюнявить одно лишь интимное событие, о котором знают-то все не больше, чем об отношениях той же деканши с бывшим проректором! Слухи о них ходили… Левка Фридман, когда, помнится, театралы составляли письмо в управление культуры, советовал: «Кого колышут ваши сложности. Напишите про то, что проректор сделал деканом свою женщину». Прав он, видно, был. Потянули подноготину — давайте ее тянуть до конца! Вставала в сознании одна из заповедей Мастера. Ехали они как-то в переполненном трамвае. «К людям надо выходить с чистой совестью, — продолжил Мастер начатую мысль, — но нельзя уповать на их сознание. Вот сейчас мы можем сколько угодно просить посторониться и извиняться, все равно не услышат, будут толкать, отдавят ноги. В результате потеряем пуговицы, но так и не пробьемся к выходу. А стоит поднять любой предмет на уровень их глаз и двигать его перед собой, — демонстрировал он наглядно, — о н и с а м и будут отстраняться и давать дорогу. Подсознательно сработает древний инстинкт опасности перед занесенным мечом, палицей, дубиной, плетью…» Сергею было немного неловко — саквояжем-то вот как-то в морды… И понимал тогда все буквально, касательно поведения в трамвае. Теперь же углядел в этом совете более широкий смысл.
— Что вы?! Идеальные все?! — Сергей оказался на середине сцены. Он хотел вдарить сразу прямо по деканше, по все-таки не посмел. — Безгрешные?! Кузя! — Кузьмин на оклик привычно оголил белые зубы. — Кузя, это Борькина девчонка у тебя тоже в гостях бывала! Я сам видел. Днем раньше. Выбегала, прибегала!..
— Мы гренки жарили! Гренки! С чаем! — провопил истерически Кузя и заозирался.
— Они, может, тоже гренки жарили! — Сергей вдруг с изумлением впервые подумал: возможно, неспроста, не по причине одной натуры Кузя проявлял столь активную моральную бдительность. Все-таки он для нее гренки жарил, а она…
— Их видели! Есть протокол рейда! — опровергал Кузьмин.
— И вас видели! Только протокол не составили! В этом, что ли, разница?!
— Что вы себе позволяете? — поднялся проректор.
— А что я позволяю? Я как раз ни с кем гренки не жарил!
— Вам не давали слова!
— А мне вашего слова и не надо! — еще больше вспыхнул Сергей. — Мне своих слов хватает! Вы здесь человек новый, лучше бы послушали! Приехали порядок наводить, а ничегошеньки же не знаете! Тут до вас порядки наводили! Вы бы лучше разобрались, что у вас у самих творится! А то только и можете порядки наводить! Здесь были люди, которые для нас… Себя не жалели! А вы… Это я должен вас спрашивать, что вы себе позволяете?! По какому праву меня исключили?!
— Анатолий Фомич, — сделав руки по швам, обращался Кузя к проректору, — я заявляю: девушка у меня была, но мы слушали музыку. Роман был свидетелем, может подтвердить…
— Да, — возликовал Сергей. Его несло. Сам чувствовал, несет! Но уж больно хотелось разом выявить истину, посшибать эти лицемерные маски благообразия! И дело не в том, кто плохой, а кто хороший. А в том, что если не он, Сергей, то, по крайней мере, Борька, может, здесь один из самых лучших и чистых! Он такой — какой есть. — Да, Роман может подтвердить, эта девчонка и к нему забегала и выбегала!
Кроме всего прочего, Сергей физически явно чувствовал, как что-то подгоняет его, толкает. Ему только остается лететь — в темень куда-то, во мрак, к неистовству. Чего-то ему не хватало. Какого-то еще одного добавочного, перехлестывающего голоса…
— Была, — проговорил Роман, посмотрев на Сергея без укора, осуждения, с грустной усмешкой посмотрел. — Слушали музыку. Втроем. Мне было нужно уходить, Кузьмин взял проигрыватель…
— И пошел жарить гренки! — хлестко стеганул воздух своим резким голосом Сергей. «Ха-ха», — не то услышал он, не то засмеялся про себя… «Ха-ха». На этой сцене Сергей выступал только в паре с Фальиным, когда произносил душераздирающие монологи, а тот копировал. А после всегда был смех…
— Какие все! Все слушали музыку и жарили гренки! — Голос Сергея звучал так, словно он передразнивал самого себя. Ёрнически, въедливо, злобно. — Полэтажа жарило гренки, а один… Чибирев отдувайся! Давай его! Вы хоть понимаете, что это стадный инстинкт! Не нравственность никакая, а стадность, атавизм!
— Замолчите! Оставьте вашу желчь при себе! — вскричала декан и заткнула уши, не забыв красиво тряхнуть своими чудными волосами: гнев ей шел. — Какой поток грязи! Будто передо мной не молодые люди, студенты, а… а уголовники! И наконец, что это за девушка? Откуда она?!
— А вы собирались провести полезное мероприятие? У вас вся работа — мероприятия проводить! Хватит мероприятий, давайте говорить начистоту!.. — Сергей не унимался, надсадно, взвинченно воюя не только с руководством и залом, но и с самим собой. Главным образом, с собой — с той тенью, которая, чудилось, прыгает вокруг него и делает все его помыслы, желания, слова какими-то… перекошенными, перекореженными!
Но тени этой и всей его внутренней ломоты никто не видел. Худой, с чуть выпирающими прямыми, довольно широкими плечами, ясноглазый и жесткий в движениях, парень, казалось, не стоял на сцене, а выпрыгивал — так и напрашивалось сравнение — выпрыгивал, как чертенок из табакерки. Был поразительно нагл и дерзок. Хотя при этом рождалась у многих в зале, у самих педагогов даже, к нему и симпатия.
Старичок, теперешний мастер курса, все больше горюнился, не в силах понять ситуацию. С одной стороны, у него кровью сердце обливалось — какой взрывчатый темперамент, страсть, какая чувствительность у ребят, в дело бы все это, в дело! С другой — странно себя ведут. Одни претензии. А где чувство вины? Пусть малая — ведь виноваты же! Правда, если подумать, претензии не так уж безосновательны. Подход у руководящего состава во многом формальный: главное — соблюсти положенные правила. Все воспитание на уровне общеизвестных, затверженных формул. Мало живой мысли. Сам он… стар. Способен обучать ремеслу, может привить любовь к нему, но предложить, увлечь какой-то озаряющей, ведущей идеей… А тот, прежний их педагог — старичок немного был знаком с ним, — тот мог, хотя и… не без странностей, но с направлением. И все-таки уж очень удивительно, что ребята совсем не чувствуют стыда. Правы они, потому что молоды. Но ведь как бы там ни было, виноваты. Должно же быть стыдно, просто само по себе вот так стоять перед людьми — стыдно же!..
— Я должен сделать заявление, — Кузя вытягивался, выставлял грудку. — Я признаю, что проявил беспринципное мягкосердечие. Чувство долга повелевает мне заявить: у Сергея Лютаева постоянно собираются люди, бывают и чужие, не институтские. Не обходится без выпивок. А из наших студентов к нему ходят…
— Мы, между прочим, — подал голос со своего места Боря, — оба даже не курим!
Проректор постучал по графину, поднялся — в каждом его движении была неторопливая сосредоточенность. С первых дней пребывания в институте он, Анатолий Фомич Фоменко, понял: в учебном заведении царит разболтанность. Необходимо закручивать гайки.
— Мне… — потерянно, словно обессилев, постарался опередить его старичок-мастер, — думается, несмотря ни на что, нужно дать ребятам возможность…
— Вы очень добрый человек, — прервал его корректно проректор Фоменко, — вы их жалеете, но они вас не жалеют. Я совершенно уверен, что если у Лютаева в руках сейчас бы оказался автомат, то он нас всех не задумываясь бы расстрелял! Мы же для него стадо. Ты, я, он, она, вместе дружная семья… — поэтично и гундляво стали раскачиваться звуки. — …Один студент заботится о молоке для старушек уборщиц, а другие — не хотят заботиться ни о ком, даже о себе. Их, видите ли, никто и ничто не устраивает. Для них все плохие: педагоги, студенты, проректор плохой, все плохие, одни они хорошие…
За окном на карнизе чистили перышки непородистые клювастые голуби. Шпоты, так их, кажется, называли мальчишки-голубятники в детстве. Шпоты…
— …Блудливая овца все стадо… отбросы… отпетые…
Лицо Люси выражало одно лишь смятение. Сергей теперь отчетливо понимал: вышло из его слов совсем иное, нежели хотел. Скандальное что-то, скверное. Мучило его и другое: если уж взялся он выводить всех на чистую воду, начинать надо было с Мастера — ходил по институту слух, что ему предложили уйти не из каких-то соображений по поводу силы его личности, а потому, что обнаружился один… не грешок, а как бы это… одна склонность, которая по-своему объясняла его поразительное равнодушие к женщинам.
— …Я знаю, город будет, я знаю, саду цвесть! Но пока есть среди нас такие, как Лютаев и Чибирев, не цвесть нашему саду…
Вдруг еще одна душа недоуменно поднялась. Люся. Сама не заметив, встала. Округлое ее лицо пылало.
— Но Сережи ведь в общежитии совсем же не было.
Фоменко приподнял очки на лоб и поглядел с прищуром.
— Как ваша фамилия? — спросил. — Вы что, разделяете взгляды Лютаева и Чибирева?
— Да… То есть… какие взгляды? Никаких же таких взглядов…
— Вас тоже не устраивают педагоги, институт?
— Почему?
— А вот Лютаеву Питера Брука подавай.
— Я этого не говорил! — воинственность Сергея угасала.
— Мы слышали, что вы говорили. Послушайте, что говорим мы. — И снова Люсе: — Так вас устраивает институт? Что же тогда может быть общего в ваших взглядах?
— Она не учится у нас, — нетерпеливо осведомил Кузьмин. — Это не наша студентка. Одна из приходящих к Лютаеву.
— Вы не наша?! — изумился Фоменко. — Вы с улицы?
— Почему с улицы?.. — Люсин светлый лунный лик пошел эрозией. — Я работаю.
— А что вы здесь делаете?
— Просто… Несправедливо же… Его же не было!..
И тут раздался общий хохот. Подступал, казалось, подступал — и вот прорвался. Дружный, и даже как бы благодушный хохот.
И только Люся заплакала. Боря, глядя на нее, тоже часто заморгал. Склонил голову и Сергей… Что-то ему перед ней, перед Люсей, стало вдруг стыдно. Жалко ее стало. И себя вместе с ней, и друга. И все крутилась недоуменная мысль, что вот странность — столько народу собралось, пришли, сидят, с какой, собственно, целью? И ни у кого не спрашивают: что вы здесь делаете? Никто не смешон. А Люся, может, единственная, для кого все это имело смысл — случайна здесь и смешна! Впоследствии, Сергей был уверен, собрание в пересказах присутствующих превратится в хохму, в которой самое большое место будет отведено именно тому, как поднялась заступница… А может, это и верно, так и должно быть, что она одна останется в памяти?
И тут Сергей, как ему почудилось, уловил мысль нужную, важную, которую не высказать не мог.
— А что бы там ни говорили, — вновь поднялся он, — уверен, окажись сейчас наша Родина в опасности, не Кузьмин, не кто иной, а именно мой друг Борис Чибирев первый пойдет! Надо будет — за Родину, за всех, кто здесь, с гранатой под танк кинется! Не пропустит.
Сел и спокойно, уверенно посмотрел.
10
Боря не поднимал глаз на отца и мать. Стоял, потупившись, поглаживая морду Эфе, черной домашней овчарке. Эфа, поскуливая, ластилась, лизала хозяину руки.
— …Почему не хочешь, чтоб сходили мы с отцом? Как же это так, все экзамены без троек сдал, не пьет, не курит, как же исключили? — напевными всхлипами тянула душу мать. Она сидела напротив, на диване. Боря видел лишь ее полные, сомкнутые по-девичьи колени да краешек свисающего на них кухонного полотенца. — Я к депутату пойду. Мы не где-нибудь живем! То им учитель ваш не угодил… А так он тебя, когда мы ходили, нахваливал! Ты помнишь, Коленька?
Коленька, Борин отец, стоял в двери, заполняя собой весь дверной проем. Боря глаз на него не поднимал, но видел: стоит в майке, руки, как два кривых бревешка — они всегда у отца полусогнуты и чуть вперед. Смотрит не то чтоб тяжело, но серьезно. Одно слово — молотобоец.
— Завтра, отец, отпрашивайся с работы — и пойдем. Только ты, Боря, не таи, прямо скажи, если там чего еще было.
Эфа виновато, часто мигая, тянула морду. В зрачках ее Боря видел свое отражение.
— Остался на ночь в этом общежитии и сразу… Может, тебя Сережа в какую историю втянул?
Крохотное человеческое лицо то пряталось, то выглядывало из глубины собачьей тоски.
Кругом получался он, Боря, виноват: перед родителями, Сергеем, перед самим собой, мечтой своей — через какие-то два года уже стал бы актером, играл на сцене… А теперь что? Снова поступать? Лотерея…
— Ладно, — проговорил отец. — Исключили и исключили, нечего ходить. Не заслужил бы — не исключили. — Голос у него не громкий, не басовитый, скорее высокий. Но скажет — и кончено. — Сразу же в этом институте нечего было делать. Вон нефтяной рядом.
— Ага, чтобы в тридцать лет кровью харкать?! Собирался в морское, сама отговорила, хотела, чтоб дома был… Посмотри, отец, глянь на Эфу — все понимает! Борюшка ты, думает, Борюшка наш… — И мать снова протяжно заплакала, только жалобнее, словно собственное горе вместило в себя и переживание собаки.
— Ничего. Не в тюрьму сажают…
— Типун тебе…
— Жив, здоров, пусть понюхает, почем она… Иди лучше стол накрой. Горе не горе, есть-то надо.
— Лишь бы брюхо набить… — проворчала мать, послушно поднимаясь. — Эх, Боренька, сынок… Думали с отцом, станет сын артистом, оденемся, в театр пойдем…
Отец прикрыл за матерью дверь, приблизился. Взял лежащую на столе телепрограмму, посмотрел. Бросил.
— Выгуливал? — указал взглядом на Эфу.
— Я же только пришел.
— С какой ты там, в общежитии этом, змеюкой спутался?
Боря вскинул в изумлении глаза.
— Поди, подрались из-за нее?
Неожиданно для себя согласно кивнул.
— За учителя их… — протянул отец. — Как же… — Замахнулся от плеча. — По губам-то… Тут их, змеюк, мало, надо еще и там… Вчера как пришел, чую от рубахи-то!.. Как бы еще заразу какую… Боролись они за справедливость!.. Завтра пойдешь, направление возьмешь на медкомиссию — и ко мне в бригаду. — Отработав положенный стаж в горячем цехе, отец перешел на более легкий труд: бригадиром грузчиков на базу. — Вот тебе и весь театр.
Повернулся было идти…
— Матери уж не рассказывай, — добавил, — пускай думает, что… — махнул, уронил тяжело руку, пошел.
— Что сказал отец-то? — сразу появилась мать.
— Ничего. Чтоб в бригаду к нему шел.
— Боря… Я уж при отце не стала говорить. Я ведь вчера на свитере у тебя женский волос нашла, длинный такой да толстый. У Сережи, наверное, там какие-нибудь простигосподи были?
— Его там и не было… — Борька признался в грехе и покаялся.
У матери, хоть и вытирала все глаза полотенцем, отлегло от сердца: оказывается, не так страшно, как туману напустил.
— Ну, уж это они там специально караулили, причину найти, — сказала она. — Отцу пока ничего не говори. Он хоть и молчит, а больше нашего переживает. Сильно ему нравилось, что сын артистом станет. Он ведь и сам-то раньше на гармони, и плясать… И зачем отпустила я тебя в это проклятое общежитие!.. Иди, прогуляй Эфу, мой руки да за стол… Голодный ходишь целый день. Отец, за стол…
Легко сошло — не ожидал Боря. Готовился к такому разговору, а в конце концов его же и пожалели.
Выходил с собакой, в щелку приоткрытой двери родительской спальни увидел отца — отраженный в трюмо, размноженный тремя зеркалами, оттого еще более массивный, он сидел неподвижно и… Боря сначала и не понял, в чем дело, уловил лишь неестественную сдвинутость в лице — отец изо всех сил старался сдержать слезы… Эфа прыгала и нетерпеливо скулила. Боря еще раз мимолетно заметил свое крошечное лицо в собачьих глазах, выпустил ее и побежал следом вниз по лестнице.
11
А Сергей все жил собранием: пока шел с Люсей в общежитие — шли не по прямому пути, а долго кружили по улицам — подавленно молчал. В комнате у него прорвалась наружу досада, он чуть не скрежетал зубами, что не так все было на собрании, мало высказал правды, лишь самый поверхностный ее слой, помешало какое-то закостенелое представление о морали: дескать, люди постарше, нехорошо, а коли уж начал, так надо бы до конца, с корневищами им выкинуть всю правду, пусть бы откушали все хлёбова, которого заслужили!..
Люся всей душой понимала и разделяла его чувства, только казалось ей, вел он себя от начала до конца просто героически! И если что-то осталось недосказанным, если и нужно было им еще что-то дать понять, так это то, какого человека они потеряли! Ее пробирали благоговейные слезы, это не он, а она, она должна была сказать и м, прокричать: какого человека теряете! Самим им потом стыдно будет!.. Но она еще скажет, пойдет и скажет, она письмо напишет…
Сергей вдруг посмотрел на нее ласково, улыбнулся с горечью и теплотой, взяв ее за плечо, мол, товарищ ты мой верный и единственный… Присел в отстраненной задумчивости. Все было так — как было, приходил он к довольно туманному, но значительному для самоощущения выводу, значит, нужно было, чтобы было именно так.
Люся сомнамбулически поволокла за собой стул — ножки о пол царапали; он голову приподнял, посмотрел, — остановилась посередине комнаты, присела на спинку стула.
— Я не хочу т а к остаться, — вымолвила.
— В каком смысле? — механически выскочил накатанный в разговорах вопрос. Даже брови сошлись у переносицы, выражая внимание.
А уж после втекло в сознание, внял этому тихому, словно капля упала, девичьему «я не хочу т а к остаться…»
Она смотрела в упор, требовательно и покорно. Толстоватые пухлые губы чуть приоткрылись. Остановилась жизнь, выпала из нее долька и обнажила сердцевину — как долька зрелого арбуза, вырезанная для пробы и выставленная напоказ, сочная и кровянисто-красная.
— Люся, — сглотив слюну, пробормотал он, — ты еще полюбишь человека, который больше любит небо и землю…
— Мы тебе не помешаем, — сказала она.
— Кто это «мы»?
— Я и… ребенок…
— Погоди, какой ребенок?
— Я хочу, чтоб ребенок был… Я его сама воспитаю. Мы не помешаем тебе…
— Господи, Люся! — выдохнул он. Пронимало умиление, какое все же искреннее, доброе сердце, какая привязанность, какая способность к самоотречению! Любить бы такую да любить… Какая бы отличная пара были они с Костей Лапиным!
Губы девушки все так же были приоткрыты. Словно в солнцепек обозначилась на них тонкая сухая пленка. Глаза потеряли симметрию и, казалось, плавали по лицу.
— Сама ты еще ребенок, Люся, — объяснял он мягко, наставительно. — Надумала ты себе это… Тебе не ребенка хочется, а поступок какой-то особенный совершить хочется. Хочется пожертвовать… От мечтательности все это, — радовался он своей проницательности.
И только в глубине души, на самом ее донышке становилось кисло, сворачивалась там душа…
Ведь сам же он упрямо пробуждал у Люси чувство, выманивал душу ее, податливую и непорочную. Как-то, помнится, серьезно убеждал Люсю, что если человеку необходимо для духовного взлета пройти через грех, страдание и раскаяние — а для женщины этот грех прежде всего в падении, растлении — подводил ее к мысли о необходимости греха. И не без определенного умысла! Зачем нужна была ее любовь, сердце ее мягкое, доброе, готовое биться ради другого, а может, и умереть?.. Зачем, когда у самого к ней нет чувств?
— Надумы все это! — заходил Сережа из угла в угол, бичуя вместе с Люсей еще кого-то незримого. — Романтика бредней! Мозговая закрученность! Не чувства, а патетика чувств! Надо быть проще! Проще!
— А как это? — улыбнулась она.
— Самим собой! Самой собою!
— А какая я?
«Да проще-то вроде некуда, — оторопело подумал Сергей. — Другая бы сейчас в слезы, в истерику, бегом отсюда… Стал бы, глядишь, удерживать, утешать… А эта зарделась вся и даже как будто счастлива. Что же, выходит, все верно. По крайней мере хорошо, что ничего не случилось, мы в ответе за тех, кого приручили…»
— Какая бы вы отличная пара были с Костей Лапиным! — закончил он неожиданно.
Влетел Йоська Корник, парень из соседней комнаты, скрипач, не без гордости сообщил: его вызывали на беседу, как члена «группировки» Лютаева.
Сергея это крепко посмешило — маразм, как он выразился, бил фонтаном! Видно, Кузя сделал дополнение к своему рапорту. Удушить, подлеца, мало! Как земля таких носит! Не утерпел, отправился к Кузе — не удушить, конечно, в глаза посмотреть да спросить: зачем тебе это нужно?
Кузи нигде не было. Сергей лишь в комнату комсорга Романа не заглядывал — неловко стало за свои выпады против него, всегда же по-доброму друг к другу относились. Толкнулся в двери и к Андрюше Фальину. Тем более, что было интересно на того взглянуть: на собрании Андрюша, как говорится, молчал в тряпочку, а прежде ратовал за бой.
— Сережа, чувачок, очень хорошо, что зашел. Я как раз к тебе собирался. Есть о чем поговорить, — откликнулся приветливый до содрогания бархатный голос. — Я на этом грязном мероприятии не стал вмешивать свой голос в вой людской. Ты меня понимаешь… По-моему, никто из преданных Мастеру людей не участвовал в этой клоаке…
— Кроме меня и Бориса, — спокойно заметил Сергей.
— М-м, дело вот в чем, — Андрюша выглядел чем-то очень пораженным, пытающимся понять что-то непостижимое. — М-м, Маша, скажи…
Маша, недавняя Олла, еще более выгнула спину, отчего поднялась и набрякла грудь ее, затянулась сигаретой, выпустила дым, запрокинув голову так, что нежная белизна красивой шеи не могла не броситься в глаза.
Оказывается, когда Сергей стоял перед всеми на собрании и говорил, в какой-то момент, довольно продолжительный, она, а затем и Андрюша ясно увидели вокруг его головы… золотое свечение. Нимб! За Оллой давно признавалась способность к провидению и предвидению. Правда, вокруг Андрюшиной головы она видела свечение еще во время вступительных экзаменов. Но у Сергея свечение было удивительно ярким, какое возможно только у святых или экстрасенсов! Ее охватило оцепенение, она ожидала, что в зале все онемеют или… упадут на колени, но… Вероятно, чтобы видеть э т о, нужно отстраниться от мелочного и мимолетного.
Вот оно, подтвердилось, шевельнулся в глубине его холодный змееныш: Сережа давно уже чего-то такого ожидал, жил в уверенности, что что-то в этом роде у него должно быть. Он даже стал головой водить осторожнее, бережнее, вероятно боясь, как бы ненароком не слетел нимб! Хотя ведь и преотлично понимал, что называется, печенками чувствовал — загибают Фальин и Олла, теперешняя Маша. Больно, уж удобно для себя они увидели это его свечение! И почему-то вместо того, чтобы вдохновить, поднять на защиту лучезарного Сережи, оно отняло дар речи! В результате Андрюша и его Маша остались в глазах руководства очень милыми и порядочными молодыми людьми и в общежитской житухе, отвергающей все официозное, своими ребятами. Мало того, оказались на высоте, а те, кто подавал голос на собрании, выходит, просто не могли освободиться от мелочного и мимолетного, не увидели более важного — э т о г о.
Олла, известная в институте предсказательница судеб, взяла руку Сергея, долго водила своими мягкими теплыми пальцами по его ладони — она гадала не по линиям, а через касания, как объясняла, сливаясь, вбирая в себя сущность другого человека.
Было сухое вино. Пригубили за Сережу, за светлый отмеченный путь его. Олла напротив Сергея под каждую затяжку как-то чересчур расширяла глаза, вероятно таким образом продолжая свои парапсихологические опыты, и, похоже, небезуспешно: Сергей никак не мог отделаться от ощущения прикосновений подушечек ее пальцев на своей ладони. Начинала припоминаться та ночь, когда он упорно играл в переглядки с луной, а в углу напротив Олла и Андрюша с безмерности своих запросов съезжали на земную нехитрую утеху.
Разговор меж тем под сухое вино и нашептывающие томные ритмы магнитофона растекался в привычную неопределенность — от материй неосязаемых до новых сплетен о знаменитых людях. Те, по слухам, по-прежнему жили непотребно и были извращенными. Словом, шло обычное так называемое расслабление.
В Сережину голову, которую он все держал вдохновенно запрокинутой, сейчас не приходило и мысли попытаться выявить ложь и лицемерие. Но, в общем-то, позволял он себя дурачить не только потому, что не хотел добровольно расставаться с нимбом, так ловко примостившимся на голове. В большей степени потому, что испытывал трепет перед всем тем, что свидетельствовало о наличии запредельных, потусторонних, невидимых глазу сил. Их признание, проявление в человеке по сложившемуся в нем понятию и означало духовную сложность, одаренность натуры. Он, готовый ниспровергать что угодно, резкий и, казалось бы, охочий до правды, совершенно пасовал, когда дело касалось явлений, так сказать, непостижимых, не был способен даже косвенно усомниться в самой возможности свечения, тронуть «святая святых» — ибо не только в мнении окружающих, но и в собственном ощущении сразу падала на него тень человека плоского, ординарного, которому не дано э т о понять.
Он поддерживал разговор, хотя все более им овладевало тихое смятение. Он не забывал, что в его комнате осталась Люся. Ясно представлял, как она ждет, ходит маятно туда-сюда, заложив руки за спину. Слишком ясно… Оттого и не торопился в свою комнату. В отстраненности пронзило недоумение, что через какие-то день-другой он уже навсегда расстанется с этой, ставшей привычной жизнью, в которую вкрутился, вплелся душою своей. Ждет другая жизнь, называемая родной, но теперь далекая. Оторопь брала — какая другая и далекая? Виделась поселковая улица в весеннем бездорожье, дом с обвисшими, как вороньи крылья, ставнями, потемнелые тесовые ворота, перепоясанные крест-накрест проволокой, выбегающий навстречу из конуры Тарзан, мать на пороге, повязанная платком — она и дома почему-то все в платке… Щемило сердце, и находило чувство отдаленности своей… И от дома, и от Фальина с Оллой… Ото всего вроде. Цепенящее чувство оторванности…
А с каким чувством приехал он в этот город менее двух лет назад! Лихо соскочил с подножки вагона, с легким чемоданчиком, в приталенном по ушедшей моде пиджаке, в облегающих, как водилось, брюках. Пружинисто и прочно встал на перрон, махнул на прощание девушке с неожиданным именем Дуся, уверенный, впрочем, что здесь, в большом городе, их море будет, таких дусь, ему встретится девушка с именем… Эльвина. Огляделся, радуясь многолюдью, чувствуя во всем теле ликующий перепляс — там и страх ножкой выбивал, и надежда, и предвкушение новой жизни! Глотнул прогорклого привокзального воздуха и пошагал, поцокивая набойками на каблуках, в эту новую необыкновенную самостоятельную жизнь…
Люся ушла, У стола с утюгом стоял Костя Лапин. Когда он пришел, ее уже в комнате не было. Неожиданно Сергею стало до досады жалко, что она ушла. Нуждался он в ней сейчас — чувство неприкаянности, оторванности не покидало. Задело что-то, видно, ее в их разговоре, хотя и улыбалась почти счастливо, обидело. Едет, наверное, в трамвае, представлял теперь Сергей, стоит на задней площадке, смотрит неподвижно в окно, сдерживает слезы… Приедет домой… Нет, не упадет, не зарыдает, а присядет в своей комнате на кровать и тихо заплачет…
— Костя, я, по-твоему, пустоцвет или нет? — спросил Сережа. Это было Костино выражение: пустоцвет. Он говорил, что сейчас много пустоцветов, Фальина так называл. Сергей сразу, как услышал, хотел про себя спросить, но поостерегся.
— Ты… — Костя замялся. Подумал. Смущенно ответил: — Пока неясно. Может быть, и нет.
Вообще-то у Кости это звучало чуть ли не похвалой. Но Сергея все-таки задело: он очень хотел услышать: нет, не пустоцвет. Твердо — нет!
— А ты? — спросил он Костю. Приметил, что Лапин наутюживал полу пиджака. Брюки уже висели отглаженные. Костюм надевал Костя лишь по великим праздникам или когда приходилось музицировать на людях. Сергей затаенно усмехнулся: он понял, почему наглаживается Костя.
— Про себя… — пожал мощными плечами Лапин, вдруг улыбнулся. — Во мне цвета нет…
— Тебе надо бы и шнурки погладить, — проговорил Сергей очень серьезно и участливо. — Вид портят.
Шнурки в коричневых, старательно начищенных Костей полуботинках, похожих на коровьи лепехи, были главным образом крепкие: толстые и скрученные.
— Думаешь? — посмотрел Лапин: его ничего не стоило подкупить участливостью, и стал расшнуровывать свои коричневые лепехи.
Сергей чуть не в корчах выкатился в коридор. Вызвал Фальина. Тот тоже, посмотрев, как Костя гладит шнурки, вышел, показно давясь смехом. Потом они наперебой рассказывали об этом событии — «Костя и шнурки!» — Олле-Марии. Сергей изображал в лицах предшествующий разговор, вместе с мимолетной потехой вытрясая из себя проблески того, только что пережитого, полнящего тоской и тягой к собственному естеству чувства — все поедала хохма!
12
От яркого света Мила зажмурилась и прикрыла лицо рукой — Костя включил все верхние и боковое софиты. Ему очень хотелось, чтобы она видела не просто пустой театральный зал и голую сцену с черным роялем посередине, а почувствовала то незримое, неосязаемое, но куда более реальное, чем эти стены и обшарпанные кресла, тот трепет, когда душа сливается с пространством и пробуждается понимание собственной единственности и принадлежности миру необъятному… Правда, он ощущал здесь подобное один на один с гулкой тишиной, а сейчас они вдвоем. Чувства двоих заняты друг другом. Так или иначе, должна явиться магия театра.
Она медленно убрала руку, улыбнулась, слепо глядя широко раскрытыми глазами. Зубы и белки глаз сияли под лучами.
— Ты где? — сказала Мила тихо, во мрак. И мрак наполнился ее голосом.
Костя стоял в осветительной ложе — он только что обежал весь театр, проверил, заперты ли входы-выходы, отключил вентиляцию. Поднялся в осветительную и неожиданно дал на сцену свет.
— Здесь, — отозвался он и услышал себя в противоположной стороне.
— Где здесь?
— Здесь, здесь, — сделав руки рупором, гудел Костя в разные углы. — Я везде-е…
— Ты, что ли, господь бог? — волной прокатился ее шепот.
— Име-е-ющи-ий уши-и да слы-ыши-ит, — на самых низах тянул Костя.
— Господи, спаси и помилуй меня, грешную, — отвечала она ему порхающим шепотом в той же тональности двумя октавами выше.
— Я являюсь только святым и праведникам, отроковица Мила.
— Ошибка вышла, боже, я грешница… А откуда берутся святые и праведники, ведь люди же все не без греха?
— Покаявшиеся и принявшие на себя муку за род людской!
— Господи! — взмолилась она, упав на колени и сомкнув на груди руки. — Прости меня, грешную, покаяться — я хоть сейчас каюсь! Но ни за кого никакую муку принимать не хочу!
Господу богу Лапину сразу сложно было найти достойный божий ответ. Его разбирало умиление. Перед красотой, не женской, любой красотой — природы, искусства — он всегда робел. Боялся вспугнуть, нарушить ее неуклюжим движением и жаждал оберечь, послужить ей. Себя-то он считал созданием, предельно неудавшимся — не только внешне, это еще куда ни шло, главное, внутренне. Лишенным душевной пластичности, сколько-нибудь яркого ума да и вообще каких-либо талантов. Даже о своей физической силе ему было всегда неловко слышать — какая сила, когда штангисты вон по скольку поднимают.
— А потом, как это покаяться?.. — вопрошала Мила. — Грешить-то, господи, не очень стыдно, а вот каяться и признаваться… если уж до конца откровенно, это как-то… господи… Да и скушно совсем без греха… Да и не грешно это, мне кажется, немножко согрешить.
Лапин видел — девушка чуть-чуть рисуется. Но это не отталкивало его, а навевало еще больше умиления, так, хоть слезу пускай. Она не скрывала того, что рисуется! Она ничего о себе не желала скрывать, упрямо не хотела казаться, выглядеть лучше, чем есть, скорее, склонна была низводить себя. В ней Костя углядывал то, без чего красота невозможна — открытость, доверительность, простоту. Редкую ныне способность не только очаровывать, но и очаровываться.
— Не гневайся, господи, не гневайся, каюсь! — она широко разметала руки с длинными пальцами, напомнив Лапину взлетающего лебедя — взлет, которого он никогда воочию не видел.
— Тебе надо в театральный, — сказал он горячо и серьезно. — У тебя настоящий талант.
— Я кривляюсь, да? Прости, я не виновата. Это вот… эти прожектора… огни рампы, сцена… Господи, какая она пыльная, а я по ней на коленях… Ее что, не моют? Мне тут хочется и говорить вот та-ак, и двигаться… — она поднялась и медленно пошла, оттягивая носки, плавно водя руками. — Наверное, поэтому артистки воображулистые…
— Нет, ты действительно, по-моему, можешь стать… — ему хотелось сказать «великой», но не рискнул, — большой актрисой. Ты очень пластична… внутренне.
— Когда я была маленькой, я играла в школе Золушку… Даже забывала, что играю, казалось, на самом деле. А теперь… ничего не могу специально. — Лицо ее вытянулось на секунду в легкой грусти. — И не хочу, — оживилось вновь. — Давай я тебе лучше покаюсь, господи! Вот сейчас исповедуюсь, покаюсь! — прижала она руки к груди. — Отзовись.
— Я внемлю тебе, отроковица грешница Мила.
— У меня нет никакой цели, господи. Я не хочу никуда устремляться, не хочу ничем серьезным заниматься. Чтобы серьезным заниматься — надо напрягаться, чему-то там служить, а я не хочу напрягаться и чему-то служить. Мне интересно заниматься всем и ничем. В школе учитель физики — я его, бедного, извела — почти каждый урок вызывал меня к доске и говорил мне: «Ахметова», — у меня фамилия Ахметова, пишусь я русская, а вообще во мне шесть национальностей, известных мне, может, и больше… Есть вроде и цыганская кровь, наверно в ней все и дело. Так, физик говорил: «Ахметова, как ты собираешься жить, когда у тебя не хватает воли выучить элементарный закон сохранения массы!» А я ему отвечала: «Петр Тимофеевич, ну не все ли вам равно, знает ваша жена этот закон или не знает!» Он меня оставил в покое, смирился, что «одна из его учениц за долгие годы преподавательской работы не будет на должном уровне знать физику». Он уж очень у нас был ответственный и хотел, чтоб все знали предмет назубок! И мне стало отчего-то скучно. Я вымазала гуашью подошвы старых туфель и наставила следы на всех стенах в кабинете физики перед уроком. Физик зашел, увидел, спросил, кто это сделал? И наверное, ждал, что все будут молчать и не признаются. Я встала и сказала: «Я». — «Зачем?» — «Чтоб хоть один урок вы занимались не физикой, а мной». Господи, ты бы видел в этот момент его лицо! А что, говорю, Петр Тимофеевич, ваши биномы Ньютона через десять лет два-три человека из класса помнить будут, а меня, может, с этими следами на стенах запомнят все на всю жизнь, и вы в том числе.
Господь бог ходил по балкону и ухал тяжелым, сотрясающим воздух, смехом.
Грешница внизу на сцене вторила ему восторженно светло — ей нравился этот неслыханный, чудовищный, воистину божий смех!
— Учителя мне говорили, что несерьезно отношусь к жизни, — успокаиваясь, продолжала Мила. — А по-моему, очень серьезно. Это они несерьезно относятся, занимаются чем-то, когда жизнь и без того интересна. Мы писали сочинение «Кем быть?». Я написала, что хочу быть женой космонавта или капитана дальнего плавания. Потому что, пока он в полете или в плавании, его надо только ждать, тосковать по нему, но не надо готовить суп, стирать… И я бы ждала, выходила бы на берег и смотрела бы в морскую даль или небесную высь… Писала бы ему любовные письма и складывала в стопочку на столе. Других забот бы я никаких не знала и не работала — мой капитан или космонавт оставлял бы мне достаточно денег, много мне и не надо. Когда бы он возвращался, я бы ноги ему мыла, а он бы читал мои письма, и у нас не было бы никаких скандалов. Он бы улетал или уплывал, спокойный, делать свои большие дела… Господи, я не хочу только, чтоб мой капитан или космонавт погиб, продли дни его! Пусть люди делают что угодно: воруют, спекулируют, греховодничают, только не убивают друг друга, не гибнут! Продли наши дни, господи!.. — воскликнула она щемяще, и на глазах сверкнули слезы.
Костя спустился вниз совершенно растроганный такой невиданной им доселе непосредственностью, каким-то чисто женским, как он понимал, чувственным восприятием мира! Да и мышление девушки он находил весьма и весьма своеобразным. Она ведь не только не старается выглядеть лучше, она всеми речами своими к истине стремится, к правде о себе… Не о себе даже, о многих сверстницах…
Потом она пела. Начала с любимого «Утро туманное» — несравненная Образцова померкла в его восприятии. Голоса, понятно, того не было — слабый голос, не поставленный. Но проникновение в утро, туман и туманное позабытое былое… — глубочайшее! Пронзительно спела! Костя не переставал поражаться ее беспредельной талантливости: со школьным музыкальным образованием она с листа читала и импровизировала лучше его. Чем-то они с Сергеем Лютаевым схожи: тот о нотах знает, что их семь, и все, а стоило ему немного показать, тут же смог аккомпанировать. Если бы ей поработать над собой! Промять, организовать свой дар! И как она этого не хочет?.. Впрочем, в ее нехотении, может быть, есть свое, более мудрое, понимаемое подсознанием: творчество лишает женщину подлинно женской сути.
Не настраиваясь как обычно, не пытаясь вжиться в тему, предварительно пропустить в сознании, а словно невзначай, Костя сел за рояль и, едва поняв что, заиграл. И не старался погрузиться, раствориться в музыке, вслушивался, в боязни нарушить, в каждый звук, шествуя по нотам, как альпинист с тяжелым рюкзаком по склону, придавленный желанием раскрыть всю сложность содержания. Сразу погрузился и слушал не звуки рояля, а себя, в котором сама собой оживала музыка.
Одним из первых осознанных ощущений маленького Костика — было ощущение какой-то неосязаемой прозрачной стены вокруг. Мать в повседневной жизни была молчаливой, подавленной, раздражительной. И Костя держался от нее подальше, стараясь не мозолить глаза. При гостях она оживала, становилась то разговорчивой, то безудержно веселой, то злой и резкой. Гости с бессменной бутылкой наведывались все чаще и чаще; в основном незадавшиеся или бывшие творческие люди. Трепали Костика по чубу, спрашивали про учебу, иногда дарили конфетку и скоро про него дружно и надолго забывали. Переставали существовать и они для мальчика, разве так, в форме отдаленных теней. Он сидел себе где-нибудь в углу и спокойно, самозабвенно двигал машинку под собственное вжиканье.
На улице маленький Костик часто подолгу смотрел, как другие дети возятся в песочной яме, строят замки, перевозят в кузовах машин груз, но сам в игру никогда не вступал. Не мог. Даже если звали, качал головой в ответ. И всегда голова эта была занята обдумыванием — чего именно, трудно сказать. Всего на свете: будущих великих дел, школьной задачки… Математика до поры, пока не пришла музыка, Костю просто мучила — цифры, условия задачи впивались в сознание, дни напролет он считал, ища собственные новые варианты. После таким же наваждением стала музыка. Услышанные мелодии постоянно в голове крутились и воспроизводились…
Когда Костя учился в четвертом классе, в их городской маленькой квартире появился человек, показавшийся очень большим и словно бы из другого времени, похожий на Герасима из «Муму». Большой человек доставал из вещмешка продукты, выкладывал их на стол, покрытый вышарканной, перемазанной чернилами клеенкой. При этом у него тряслись руки, а в глубоко посаженных глазах, под густыми выгоревшими бровями наплывали слезы. Он, как и Герасим, что-то невнятно мычал и стыдливо, часто мигал и вытирал тыльной стороной ладони, которая Косте напоминала черепаший панцирь, глаза. Это был родной Костин дед.
Косте всегда было нестерпимо слышать, как легкомысленно, ради красного словца воспевается подчас одиночество. Может, его путают с уединением, приятным и полезным человеку. Но одиночество… Благодаря деду Костя понял, что такое быть кому-то нужным: дед мог сколько угодно просиживать рядом, когда он неумело выводил на пианино скучные гаммы — тогда Костя и полюбил ненавистные прежде занятия музыкой. Из школы он стал быстрее спешить домой, потому что его ждали. Старался лучше учиться, чтобы порадовать деда. Оба они одинаково боялись матери, дед, почитая дочь образованной, совсем при ней замолкал, по квартире ходил горбясь, как-то боком, стараясь занимать собой как можно меньше места. Когда дед скончался, тринадцатилетний мальчик записал в своем дневнике: «Одиночество — это когда умереть легче, чем жить». Правда, позднее пришел к выводу, что то подростковое его состояние не было одиночеством, ибо одиночество — это разрыв всех человеческих связей, тупик, где душа кричит и стонет, обреченная на гибель, это смерть заживо.
Глаза Милы влажно и вдохновенно искрились в отблесках прожекторов, вобрав в себя, казалось ему, всю его тоску и надежду. Синеватая полоска белка между зрачком и нижним веком делала взгляд бездонным и неземным. Своды театра, по его ощущению, давно уже оторвавшись от Земли, плыли в звездном пространстве самостоятельной светящейся точкой.
— Ты правда бог… — рука ее потянулась к его волосам, но на полпути замерла и в неловкости опустилась на крышку рояля.
Косте хотелось заговорить о скорой разлуке, о том, что если бы она ждала, то он бы стал тем космонавтом или капитаном, свершающим большие дела. Лапин знал, она бы пообещала ждать. Но не мог пользоваться моментом, чувственной приподнятостью. Нельзя. Все должно естественно созревать, налиться соками, настояться, набрать крепость. Должна накопиться на жизнь энергия.
13
Утром Сергей пошел забирать документы. Шел неторопливо — куда спешить? Думал. Не думал, вернее, а так… Самоуглубленно вел диалог с проректором. Представлял, как войдет к нему в кабинет и спросит: «Ну, что? Довольны? Определили двух юнцов, которым нет еще и девятнадцати, в отбросы общества — и довольны?! Считаете, сделали доброе дело?» Именно на это «нет девятнадцати» и «на отбросы» хотелось нажать. Ну в самом деле, как так — нет девятнадцати — и уже отбросы! Шалите, товарищ Фоменко! Перегибаете! Что он, сам не понимает — взрослый человек? Посмотрит Сергей ему в глаза и спросит. Шевельнется совесть у человека — нет? Кузю вчера он так и не нашел, а к проректору сейчас зайдет…
Сережа так «заговорился», что прошагал мимо института. Повернул обратно… И словно на две длинные стальные спицы, напоролся на вопиюще сосредоточенный, полнящийся непонятным торжеством, взгляд. Навстречу двигалась инвалидная коляска с той самой женщиной, к которой водила их с Лапиным Люся. Сережа поздоровался, но в ответ тихо и смиренно кивнула лишь старушка, толкавшая коляску. А женщина-инвалидка окинула взором, и в зрачках ее победоносно вспыхнули уже знакомые ему электрические дужки. Здесь, на улице, среди людей она была вся охвачена, обособлена ото всего вокруг этим ощущением своего торжества, как бы даже озарена изнутри вдохновенным знанием только ей ведомой правоты…
Он не враз и опомнился, постоял, посмотрел вослед, потом перед собой, не в силах понять и совладать с поселившимся в нем страхом.
Мальчишки пускали по ручью у обочины маленькие белые кораблики из пенопласта. Он в детстве пускал по весне кораблики из коры…
С проректором Сергей столкнулся прямо у входа в институт. Замешкался: здороваться, нет, открыть дверь, пропустить вперед или пройти первым?..
Фоменко тоже поглядел на Сергея с замешательством — так поглядел, будто увидел лицо знакомое, памятное чем-то, а чем — выпало из головы. Вблизи проректор не выглядел таким уж надменным палачом или инквизитором, а… словно бы охваченным своим каким-то торжеством. Может быть, ответственностью возложенной на него миссии…
— Здрасте! — само вырвалось у Сергея. Он открыл двери и придержал.
Проректор учтиво поклонился и прошел.
— Вы ко мне? — заговорил он по ту сторону входа, старательно шаркая подошвами ботинок о щетку.
— За документами.
— Куда думаете? На производство?
— Посмотрим.
— А в армию?
— Наверно, осенью.
— Документы в ректорате. Подпишите обходной лист и… искренне желаю найти свою судьбу.
Фоменко пошел, чуть склонив вперед малоподвижное, широкобедрое туловище, деревянно переставляя ноги. Все так же, как говорил или шаркал ногами, — неторопливо и значительно.
Сергей не впал в гнев и досаду, что оплошал так, почти замельтешил. А проводил проректора взглядом, как и женщину в коляске, в том полном оторопелом ощущении, что все происходящее — происходит не с ним. А если с ним, то он должен быть сейчас круто заломленным и зависшим в пространстве — таким он виделся себе.
14
Лапин спал после ночного дежурства. Сережа бросил на тумбочку обходной, так и не подписанный ни в одном пункте. Тоже нацелился ткнуться лицом в подушку, вдруг раздался голос Кости. Сергей даже вздрогнул — обычно Лапин если уж ложился, то засыпал сразу, почти в тот момент, когда голова касалась подушки, в него, казалось, можно было гвозди заколачивать — не проснется. Богатырский сон!
— Студент Лютаев, — сказал Костя, — а почему вы не на занятиях?
В другое время Сережа бы со смеху упал и по полу катался, но сейчас лишь слабо улыбнулся.
— Исключили меня, Костя. Три дня весь институт только об этом и говорит. Меня и Чибирева.
Лапин, привыкший к розыгрышу и насмешкам, в первый миг посмотрел недоверчиво.
— Вас с Борькой исключили?! — в его голосе прозвучало то подбадривающее недоумение, которое как бы говорило: уж кого-кого, а вас бы не следовало исключать.
Он сел, делаясь суровым и задумчивым. А Сережа прилег, медленно и бессильно вытянулся на постели, словно малокровный болезненный человек. Все не отпускал душу тот взгляд женщины на коляске, его упоительное отторжение всего сущего и все затмевающее торжество… Что-то знакомое привязчиво чудилось теперь в нем, давно живущее в душе его, только доведенное до предела… до безумия.
Тихо, без дерготни и страстей, поведал он Косте о причине исключения — все это уже отдаленно волновало его. И не то чтобы отболело, а… важнее стало то, что произошло с ним самим. Заломлена душа — в отторжении и торжестве заломлена, не до предела, конечно, как у женщины, но отклонена. А если снять ее с крючка-то, с заломленности, так что останется?.. Чем жить?
— Пить… не начни, — проговорил Костя до робости осторожно, зная, как такой вот банальный совет может задеть Сережу за живое.
Подвигал чемодан под своей кроватью, протянул Сергею общую тетрадь.
— Вот. Прочти… Тут… Ну, прочтешь… Не сейчас, потом.
Сергей как-то заглядывал в Костины записи: оно и писано-то неразборчиво и ничего особенного не нашел в них. Но в разбереженности душевной и подавленности, когда более всего внимание человеческое дорого, был тронут: Лапин никому не давал свои тетради. Открыл, стал читать:
«Я люблю музыку, но исполнитель весьма посредственный. Встречал людей, не любящих музыку, однако хороших исполнителей (далее почти треть страницы зачеркнута). Моя мать хотела стать певицей, и я думаю, могла бы стать, если бы не растратила силы и творческий запал на успех в собственном окружении, в компаниях, где всегда ею восторгались, а заодно и собой, ругая и понося всячески жизнь и обстоятельства, при которых такие вот, как они, люди оказываются в стороне, а холеные бездари, не имеющие сердца, но делающие все как положено… (несколько неразборчивых слов). …При этом мало винили себя! И хотя у матери сохранилась внешняя уверенность, что все у нее в жизни хорошо, ее судьба — это ее судьба, по крайней мере, не сделалась бабой, у которых вечно, как к колодцу наклоняться, то все исподни торчат. Она почему-то всегда эти исподни у колодца помнила. Я бы сказал так: она самообворожающе застыла, обмерла в своем неприятии того, среди чего выросла. Но я помню приступы той тоски и чувства безысходности, которые порой ее охватывали. Пока был жив дед, она накидывалась на него, выговаривая, что родиться от него или от медведя — одно и то же, что ни образования не смог дать, ни средств! Могла за пустяк, а то и просто куража застольного ради, отхлестать меня, поставить в угол; стою, стою, запрошусь по нужде, а она мне скажет: «Ты в ладошки, Костик, в ладошки…»
Сережа взглянул на Лапина, не ожидая такого, пусть и письменного откровения. Было удивительно еще и то, что у Кости такая мать. На Сережу мать и голос-то редко повышала, налетела как-то однажды с полотенцем, так ему только смешно стало. Лапин, видимо, специально старался не смотреть на Сережу, рылся чего-то в шкафу.
«Мне было тогда страшно обидно. Тогда я думал, что у меня просто такая мама. Не мог я тогда оценить, что при всех скудных средствах и желании жить широко она все же купила мне пианино, платила за обучение. Забрала из деревни престарелого отца, хотя тот был ей только в обузу. Не мог понять, что значило для девушки с гордыней, настроившейся на большие свершения, оказаться одной в городе, быть брошенной мужчиной, остаться с ребенком… (Далее опять много зачеркнуто, потом неразборчиво, что называется, черт ногу сломит.) …Дед, словно солнечный луч, проникнувший в щель темного сарая, дал понять, что существует, должно существовать единое для всех большое светило. К большому целому… через любовь к близким людям старшего поколения, сохранившим народное зерно…»
— Костя, может, ты сам вслух почитаешь, а то пока твои закорючки разберу, впечатление пропадает…
— Я вроде старался понятно… Не это! Не здесь! — конфузливо сморщился Костя, подал тетрадь другой стороной. — Там… Я и забыл. Вот.
Открытые страницы были заполнены ровненькими, без помарок выведенными печатными буквами, строками. Но Сережа успел прочитать лишь заголовок, который показался ему очень странным: «Русский дух».
— Привет! — будто мультипликационный юноша с вечно распахнутыми объятиями, изгибающийся и припрыгивающий под каждое слово, нарисовался живой и радостный Борька Чибирев. — Я к тебе пришел, да вот человека надо проводить!
«Человек» тоже словно из красочного мультфильма выплывал переливчатыми движениями восточной принцессы следом — Мила. Красивые они были рядом. «Эти волосы взял я у ржи…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…» — глядя на них, вспоминались строки. Напрашивалось сравнение с белым днем и черной ночью, с дивными птицами, запорхнувшими нечаянно в форточку, для того и рожденными, чтобы одним присутствием одаривать других радостью… Боря бросил ей руку на плечо, по-товарищески прихлопнув. Мила, не пытаясь высвободиться, склонив голову набочок, отчего половину лица закрыли наискось черные волосы, улыбнулась Косте видимым краешком губы печально и нежно:
— Уезжаю…
Сережа знал уже, что Мила гостила здесь и жила в общежитии у сестры-студентки.
— Ты же собиралась завтра… — проговорил Лапин без обычной бормотливости, неожиданно чистым мягким низким голосом.
— Выгоня-я-ют, — протянула она, убирая плавным жестом волосы назад. И, мельком глянув на Борю, чья рука по-хозяйски покоилась на ее плече, посмотрела на Костю куда с большим обожанием и влюбленностью. — Ты чудо! Сам не знаешь, какое ты чудо!
Лапин, как ни странно, не отводил в смущении взгляд, не мрачнел и не набычивался, а, видно перестав в благоговейной оторопи помнить о своей неуклюжести, как-то освободился весь, распрямился, расправились плечи его — хорош он был в эту минуту!
Сережино воображение так и дорисовывало ему кольчугу, шлем, меч у пояса — получался настоящий былинный богатырь!
— Ну ты чего, в натуре как умирающий Некрасов?! — пытался Борька вдохнуть в Сережу свое весеннее чувство.
Тот полулежал, приподнявшись на подушке, с Костиной тетрадью в руке. Все трое на него посмотрели. Ему только этого и надо было.
— Вот любопытно, — нахмурил он в обдумывании взор, — Наташа Ростова во многих влюблялась… В Болконского, Курагина, Бориса… В кого еще?.. Во француза этого, танцора… Стала женой Пьера. Так, по-моему, современная Наташа не только во всех бы влюблялась, но и принадлежала бы каждому… Курагину бы уж точно! А замуж вышла опять-таки, пожалуй, за Пьера… Если бы, конечно, вообще вышла…
Мила глядела исключительно с интересом и в полном согласии немножечко кивала. Боря, смекнув на свой лад, к чему это друг клонит, улыбнулся извинительно и вздохнул, заведя глаза под лоб, мол, обязательно тебе надо всю обедню испортить.
Но Сережа говорил в основном для Кости. Обидно за него стало! Раскрыть хоть как-то ему глаза на жизнь хотелось, что ли! А то пребывает в каких-то отвлеченных идеях, в армию вон из-за них собрался, а самых элементарных вещей не видит. Ну, разве можно в двадцать лет с такой вот святостью и робостью, ей-богу, относиться к женщине?
— Если надо что-нибудь нести, я могу помочь. — Лапин, похоже, не услышал Сергея.
— Да ты что, Костя! — захлопал удивленно и растроганно глазами Боря, не ожидая от вечно насупленного и дичливого Лапина такого участия.
И утянул свою подругу, которая и уходя все пыталась сказать Косте что-то ласковое, прощальное и руки к нему, словно крылышки лебединые, простирала.
А Костя… впал в забытье и несколько обескровел, совсем не по-богатырски, а будто хрупкое безжизненное создание.
Вот уж в самом деле, думал Сергей, пара были бы они с Люсей…
— А ты в ладошки, Костя, в ладошки… — сказал он тихо, без едкости, а если и была едкость, то в равной степени и к себе, так, словно бы им вместе надлежало постичь смысл этого материного совета.
Костя вздрогнул.
— Неужели тебе сразу было что-то непонятно? — усмехнулся участливо Сережа. — А все-таки любопытно, — продолжал он с грустью, — известная нам Наташа Ростова нарожала детей и весь свой интерес нашла в семье… Нас еще, помнится, в школе учили, что тут Толстой чего-то недопонял, она должна была найти его в общественной жизни… Так вот наши-то современные Наташи, которые и с тем, кого любили… и кого не любили, сумеют ли они найти интерес в семье? Привычка — вторая натура…
— Пойду, ополоснусь, — ответил Лапин, укладывая в пакет полотенце и спортивное трико.
Сереже тоже захотелось ополоснуться, похлестать себя веничком, смыть с себя все склоки…
— Я с тобой! — вскочил он.
— А это… приду прочту. — Сунул тетрадь под подушку. Пошли.
— Тебе, наверно, холодно будет, — в задумчивости пробурчал Лапин.
Сергей посмотрел недоуменно.
— Почему это, Костя, мне должно холодно быть?
— С непривычки.
Сергей терялся: что-то Костя не того…
— А почему холодно-то?! Там что, сегодня горячей воды нет?
— Я же на реку, — приостановился Костя.
— Ну, Лапин!.. — изумленно выдохнул Сергей. — С тобой можно… Ты что, моржеванием занимаешься?
— Да нет. Хожу купаюсь.
— Ну-у!.. — В самом деле, уму непостижимо: о другом бы весь институт говорил, мол, это наш морж. И сам морж много бы говорил о своем занятии. А Костя… — Даешь ты стране угля! Я думал, он в баню. Почему, думаю, в бане холодно?.. Тогда я один в баню.
Лапин стоял на высоком берегу. Шла шуга. Едино и мерно двигались большие и серые льдины. Солнце ярким разорванным эллипсом отражалось в темной воде. Наплывали новые льдины, и золотое пятно, словно живое фантастическое тело, меняло свои очертания, напоминая игру сияющих женских глаз. Костя спустился вниз. Людей у реки было много. Смотрели. Мальчик кидал камешки. Камешки льдины не пробивали, отскакивали, прыгали, улетали в воду. Девочка разбила поданный мальчиком большой кусок льда — он рассыпался на продолговатые хрустальные брусочки. Костя отошел в сторонку, разделся. Вздохнув полной грудью, спрыгнул с наледи у берега. Прикрякивая, приседал и вскакивал, проплыл немного, сколь позволяло пространство. Потом выскочил, горячо растер себя полотенцем, залез в тренировочный костюм и побежал вверх по крутому склону берега.
Сережа был еще в бане, когда туда явился Лапин. И скоро так наподдавал в парилке, что не только Сергей, считавший себя гораздым попариться, но некоторые завзятые парильщики в шапках, колпаках и рукавицах стали спускаться с верхнего полка пониже. А Лапин, мясистый и волосатый, прикрыв руками оное место, как футболист в стенке перед штрафным мячом — не то оно не сдюживало, не то от веника оберегая, — хлестал себя, рыча и подпрыгивая, как молодой питекантроп.
15
После учебы сходился в комнате Сергея народ — устраивались проводины. Несли кто что может — на столе появилась литровая банка красной икры, которую прислали Йосе Корнику, прозванному «половым гигантом», откуда-то из дальних краев. На институтской доске объявлений сегодня вывесили ему официальный выговор, поэтому Йоська воспарил, держался гордо, высоко задрав свой громадный нос. При всем своем негаснущем старании низкорослому Йоське так и не удалось найти подругу хоть на часок. Свою безудержную, вечно обсмеиваемую энергию он выплескивал, припадая к скрипке, в таких смятенных, надрывно плачущих звуках, что подругу, как заметил Левка Фридман, хотелось подарить ему на день рождения. О минутах былого успеха он продолжал рассказывать как о чуде, которое хоть и давно, хоть и недолго, но все же с ним было. Говорили, что он талантлив. О Левке Фридмане, представившемся некогда «гением», ничего не говорили. Но это его не волновало — «Солистом я все равно буду, остальное меня не колышет». Икру попробовал Сергей и, никогда ее не евший, объявил, что испорченная, тухлая. Но скоро заглянул Левка Фридман. «Чувак, — сказал, — я тебе ничего не стану говорить. За что боролся, на то и напоролся». Косящий его глаз смотрел на Сергея, но видел икру. Левка съел ложку, причмокивая, прошелся привычно по гигантским возможностям Корника, вот, мол, откуда икру банками кушаешь, и унес «тухлятину» с собой.
Костю всегда удивляли тот общий ажиотаж и возбуждение, с каким люди предвкушают выпивку. Он любил посидеть в компании по ту пору, пока все душевно и слаженно поют. Сам готов был выпить граммов пятьдесят сухого: пригублял и пробовал на язык, предвкушая букет. Но пьянку запредельную, с потерей человеческой и просто физической ориентации — не терпел. Одно предощущение и людская к ней готовность были противны. Тем более, пьяные, каждый отдельно и все вместе, считали своим долгом уговорить его приложиться покрепче, на худой конец начинали приставать с уважением… Но дело даже не в том, он считал, что пьянство — это подмена творческого начала в человеке. Выпил человек, и ему кажется, что с душой что-то произошло, ожила она, раскрепостилась — дала выплеск… Замечал он и еще одно любопытное, связанное с пьянкой обстоятельство. Вот не так давно, лет пять-шесть назад, доводилось ему встречать — у матери собирались, в поездах видел пьяниц — притягивающих к себе, интересных по-своему людей. Страдающих, с неугасшей мыслью: чувствовалось, и в умопомрачении у такого искорка мысли не гаснет совсем, непременно сопротивляется. И словцо у него припасено острое, и энергии полон. А теперь, сколь ни сталкивался с пьяницами — у той же матери — или же бессвязно орут, а больше наливаются и оседают, оседают… Бабы, те еще верткие, балаболят, а мужики — как мухи сонные. Или уж выпито столько, что залита уставшая сопротивляться искорка-то? Или инертность общая и тут сказывается? Так или иначе, творческое начало поубито. Ко всему прочему, выросший среди частой разгульной выпивки, Костя в глубине души боялся поддаться этому одурманивающему зелью.
Из закусок он попробовал только принесенную Йоськой вместо икры рыбу — чир. Поразился вкусу. Почудился в нем запах степей, в которых никогда не бывал. Досадливо поморщился, глядя, как другие рвут эту благородную рыбу и едят словно ставриду из магазина. Как-то все промахивается, все мимо!..
Был билет в кино, даже два. Купленные утром в мечтательных чувствах. Надел костюм — сам не понял зачем? Пошел. Сидел рядом с пустующим местом. На экране светловолосая девушка в раздувающемся свадебном уборе, пронзая окрестность вибрирующим смехом, бежала по черной пахоте. Появлялся высокий стройный смуглый красавец, который, вероятно, в соответствии со своими обычаями должен был невесту украсть, и не иначе, как из-под венца. Трудов это особых ему не стоило — она сама с разлету прыгала ему на руки! Какой уж там: «Но я другому отдана и буду век ему верна». А бедный жених, малорослый, курносый и кривоногий, которого девица, видно, для того и охмурила, чтоб было у кого ее украсть, бежал следом, смешно косолапя, потрясая зачесанными на лоб волосами цвета соломы, лопотал что-то бессвязное, чуть не хныкал… Полипов ему только в носу не хватало до полной ничтожности.
Странное, однако, понимание братства и единства между нашими народами предлагал отечественный кинематограф. Смуглый красавец был, впрочем, непонятно какой национальности, но жених-то, от которого по первому кличу уметнулась из-под венца невеста, совершенно определенной… У Кости даже осталось чувство, что авторы специально делали упор, мол, вот современный русский мужичок… Что это, вжимался Лапин в кресло, словно собирался броситься на экран, известная российская самоуничижительность? Или в погоне за успехом творцы этого важнейшего из искусств призабыли, хуже последних проституток, о чести и национальном достоинстве? Костя со стыдом вспомнил, как он был согласен надеть косоворотку и пойти топать, пьяно покачиваясь и икая, сапогами по святым ликам… По Георгию Победоносцу, по Михаилу Воеводе… которые изображены восседающими на коне и прокалывающими копьем змея или дьявола. Лапин о них имел смутное представление, когда Сергей предлагал роль; пошел в библиотеку, просмотрел книги по русской иконографии и поразился распространенности этого сюжета. Неспроста же, подумал. Почему русские люди встарь боялись, постоянно напоминали себе о необходимости беречься ползучего змея или дьявола, которого изображали часто двуликим: одно лицо там, где и положено ему быть, а другое на животе. Что это за животоликое всепоедающее существо? Нельзя же все объяснить лишь наложением христианской идеологии на языческие традиции или даже тем, что святой на коне с копьем был мил глазу казака… Должна была быть и более жизненная основа. Может, сейчас как раз оно, усмехался про себя невесело Костя, существо это, вырядившись в приятную на вид личинку, а подлинную свою упрятав в живот, выползает к нам с экрана, и откуда еще только не выползает, и подъедает, незаметно подъедает… Его бы копьем, копьем, а мы… Девушка, почти девочка, рядом с ним аж вздрагивала и припрыгивала от восторга — ух, того и гляди, сорвется с места и прыг! кому-нибудь на руки. А иначе, без прыжка, так и замуж не соберется. Женщина по другую сторону — опустила скептически голову набок, преотлично, видимо, понимая, чем бы кончилась в жизни вся эта киношная кутерьма. Сзади за спиной переговаривались и похохатывали парни. Костя прислушался, полагая, что они недовольны происходящим на экране — нимало; ребята, так сказать, безотносительно балдели.
«Спросят с нас, — как всегда запоздало нашел Лапин, что ответить Сереже Лютаеву на рассуждения о «современных Наташах», хотя, понятно, тот в большей степени имел в виду конкретно Милу. — Спросят с нас, с мужчин, как сейчас спрашиваем мы, так последующее поколение спросит с нас. Нужна духовная надежность. И в семнадцатом веке за протопопом Аввакумом никуда бы не пошла его Марковна, не обладай он силой духа, — представлял Костя, как скажет все это Сереже: он в последнее время часто вел с ним мысленный диалог. — Почерпнуть силы мы можем только в чувстве единого древа, в осознании нашей всеобщной целостности…»
— Эй ты, шапку сними, — толкнули Лапина в затылок.
Вязаный блин плотно облегал голову и если кому мешал, то самому Косте — он его по забывчивости не снял. И пока Лапин тугодумно соображал, как быть дальше, на затылок ему шлепнулась чья-то пятерня и стянула шапку.
— Отдай, — повернулся Костя.
— Чего?
— Шапку.
— Какую шапку?
Понятно…
Люди смотрели кино, какое оно ни есть. Костя поднялся, осторожно, стараясь не мешать, но то и дело кому-нибудь угадывая на ноги, протиснулся меж рядов к выходу. До конца сеанса оставалось еще более получаса. Направился в общежитие.
После темноты кинозала, словно продолжение фильма, унылые голые стены домов в весенней оттепели, казалось, жаловались на свою безликость. В малых республиках стены хоть национальным орнаментом украшают, а у русских будто орнамента своего не существует! Летом Косте довелось поездить с концертной бригадой по селам, ни на одном новом доме не увидел резных наличников или узорчатых бровок по карнизу. Опять же унылые, безликие двухквартирники, построенные заезжими шабашниками, потому что свои, как объяснил один из сельских начальников, пить, мол, только мастера… А кто же это, интересно, церквей наставил по всей Руси, которые динамитом взорвать не могли?!
— Костя! — вскинул руки Сережа, сидевший за столом царьком или скорее атаманом.
И все биндюжники вставали, Когда в пивную он входил…— Садись! Ты слышал про невидимые миру слезы? Вот они! — поднял он отрезанную на треть палку копченой колбасы. — Иде токо таку берут?! — Сергей разыгрывал человека из народа. — Я таку отродясь не видывал! У нас в сельпе вооще никакой не было. Нет, у кого-то она, конечно, была…
Костя приостановился: пришла ему на ум мысль… Давно он заметил, что Сережа к колбасе относится с жадностью и словно бы злобой. И сейчас подумал о Сережиной податливости на отторжение родного — только ли здесь, как полагал раньше, в институтских стенах, в городском новом общении она приобретена? Дело, конечно, не в колбасе. И даже не в том, что ее не было. А в том, что у кого-то она была! И была она, как следовало из рассказа Сережи, в их поселке у того, кто более других говорил о народе и справедливости. Дело в вере.
Лапин взял спортивный костюм и кеды и пошел за шкаф переодеваться.
— Бегать? — крикнул вдогонку Сергей. — Я уеду, тоже начну…
Обидчиков своих Лапин скоро разглядел в толпе. Много было уготовано слов, которые хотелось им сказать… Первое, что лезло в голову, — отдайте шапку. Но это не то. Хотелось внушить — никому не позволено унижать другого! «Справили свое торжество, похохотали, пора, ребята, и честь знать», — мысленно произносил он ровным голосом.
И вдруг почувствовал, как сравнивается с землей. Поздно! Все у него с опозданием! Парни шли не распоясавшись, не лезли напролом, а вполне нормально и мирно шагали себе в уличной толпе. Точно так же выглядели бы в толпе Сергей, Борька и Андрей. Та же раскованность в движениях и обаятельная, располагающая к себе детская уверенность на лицах, перерастающая в принцип жизни: «Это прекрасно, потому что это делаю я!» По таким физиономиям, однако, не враз и заедешь — не поднимется рука. Тем более что Костя их, к своему удивлению, в глубине души простил уже: подумаешь, в самом деле, рассудил, шапчонку дерьмовую сдернули, они, может, пошутить хотели, а он взял да и ушел… Хотя какие там шутки! Но лезть с кулаками было теперь просто по-человечески неловко — получалось вроде ни с того, ни с сего.
Пошел следом. Шел, ждал предлога. Не могли эти милые ребятки что-нибудь да не выкинуть… Они не жлобы, не знающие, куда от пьяной одури кулаки деть, выискивал и копил Лапин в душе своей гнев, не хорошо знакомая по кино фиксатая шпана, непременно мнущая в губах окурок; наверняка где-то учатся или работают, поднатасканы в диско-музыке и имеют понятие о каратэ. Просто обыкновенные ребята с завышенным самомнением. В кинозале они не шалили, не баловались, и уж ни в коем случае не хулиганили, по их представлению, а вели себя так, как считали нужным и верным, в определенном смысле самовыражались. Им мешала или не нравилась, что для них одно и то же, голова впереди — было б можно, они бы вообще ее убрали, как кочан капусты, не по злобе, а чтоб экран не заслоняла, ну и так, ради интереса, подумаешь, чья-то голова.
Шел Лапин, сжимал кулаки, дарованные природой — веками наработанные предками — такие, что впору на медведя ходить, а сознание не переставало видеть и то, как шествует за обидчиками здоровенный увалень, более центнера живого веса, и не хватает у него духа подойти и с ходу врезать! Без слов и объяснений. Какие еще нужны объяснения и мотивировки, когда унизили!
В классе восьмом Костя заподозрил себя в трусоватости. Стал специально ходить вечерами по закоулкам, снискавшим грозную славу. И ни шагу назад перед наглыми и хамоватыми. Но на то в большей степени и хватало, чтоб не сделать назад ни шагу, — ударить самому хладнокровно и жестко, как в тренировочном бою с тенью, не получалось. Оно, правда, и пальцы боялся выбить — им и без того не хватало мягкости. Но главное, всегда мешало чувство бессмысленности и постыдности происходящего, не мог зажить конкретностью момента, преодолеть отстраненного на себя взгляда.
Какая-то въевшаяся в самую сердцевину души застенчивость! Тоже, видимо, как и кулаки, наработанная веками. Приниженность, пристыженность, стеснение самого себя! Хотя и этих парней, за которыми топает он, все более отдаляясь мыслями от непосредственной цели, не ветром занесло, а на той же почве выросли…
Костя остановился — парни вязались к девушке!.. Затаив дыхание выжидал, когда начнется грубость, перебор. Странный был момент — желал хамства!
Девушка пыталась пройти, один из парней, тот самый, который сказал «какую шапку?», схватил ее за руку, держал крепко и улыбался, небрежно, показывая силенку, — все в этом мире для него!
— Оставь ее, — начал Костя твердо. Смотрел в упор, тяжело, исподлобья. Заметил, что здесь на улице, видимый во весь рост и ширь, одетый в спортивный костюм, при непримиримом своем настроении, он произвел на парней иное впечатление, нежели в кинозале. Они уже не улыбались, а насторожились, цепко и всполошенно переглянулись, зыркнули воровато по сторонам, не то поддержку ища, не то опасаясь, что в сторонке еще пятеро стоят.
— Твоя, что ли? — брал парень свойский тон. Руку девушки он не отпустил, но поослабил запястье и двинул ее к Лапину, мол, твоя, так возьми. Но при этом напружинился, чуть перенес вес тяжести на правую ногу — он слева от Кости стоял, вполоборота, поэтому и бить ему было удобнее с левой.
Лапин был наготове. Уверен был, что сомнет троих. Должен он был наказать их, дать понять, что никому не дозволено унижать другого, должен выбить из них животоликого!
— Я его впервые вижу! — произнесла девушка. Она как бы извинялась перед парнями! И на Костю смотрела, будто это не парни, а он только что цапал ее за руки!
Ничем более нелепым, нежели этот взгляд, не могли закончиться долгие его приготовления, когда для того, чтобы ответить обидчикам, потребовалось сходить в общежитие, переодеться, ждать у выхода из кинотеатра, выслеживать, искать повод, хотя он имелся… Костю проняло ощущение никчемности и, что того больнее, инфантильности всех собственных действий и помыслов: желание поучить Сережу духовной надежности, игра перед Милой в бога, которая увиделась совсем уж какой-то крайней постыдностью, и упование на ее любовь…
Парень что-то у него спрашивал, но Костя лишь втягивал голову в плечи и тяжело морщился, забыв про обиду и снятую шапку, желая одного: уйти и никогда больше не ввязываться в отношения с людьми. Ничего он в них не понимает, не понимал и понять не сможет! И в армию напрасно собрался… Учился бы пока, талантлив — неталантлив, но не хуже многих, а там видно б стало… Думалось, необходимо, воздуха свежего хотелось, жизни, не вырванной из почвы идеей избранности, пусть не сладкой, но здоровой и развивающейся в своей основе! Да, видно, не способен зажить ею! Слишком впитал дух среды, дитя, точнее, побочный продукт идей исключительной личности, чуждой толпе. Побочный, потому что он себя никому не противопоставляет, но жизнь сама его отставляет! Н е п р и н и м а е т! Везде он сторонний.
И Костя, понуро опустив голову, пошел было, как по этой головушке, полной смятения и противоречий, без особых раздумий вдарили! Да крепко! Лапин по природной своей задумчивости и доверчивости как-то упустил из виду возможность такого исхода. И только через секунду опомнился, осознал, что его бьют. А он, согнувшись, мотается как боксерский мешок и никак не может твердо встать, потому что ноги в резиновых кедах разъезжаются по хляби. И попытавшись махнуть в ответ, тотчас подскользнулся и хряснулся затылком об асфальт, успев ругнуть себя, что даже в этом поступил по-дурацки, зачем надо было надевать кеды?! В бездонном мраке собственного позора, не чувствуя никакой боли, увидел презрительные девичьи глаза, которые каким-то чудом были одновременно и другими, изумленными и очарованными… И понял, если сейчас он не поднимется, не отомстит, то дальше останется лишь пойти удавиться!
Костя взрывчато перекатился на живот, вскочил и на вставании хладнокровно, по науке вытолкнул кулак бедром с резким выдохом.
Набегавший парень, как бы переломившись, взметнулся в воздухе и издал вопль, который не назовешь иначе, как душераздирающим. Двое других как-то сразу отпрянули. Встали оторопело.
Лапин метнулся к тому, который сказал «Какую шапку?». Парень попятился, ростом он был не ниже Кости, но гораздо уже, с тонкой выпирающей челюстью. Вдруг остановился, принял подобие каратистской стойки, потом сжался, закрывшись руками и выставив ногу.
— Отдай шапку! — сказал Костя.
Парень тотчас отдал — сдернул с головы, протянул и опрометью в сторону. Лапин взял, посмотрел туда, где сбил кулаком человека — отлегло от сердца, место было пустое. Только тогда дошло — парень-то ему свою шапку отдал! Он, может, так дело и понял, будто привязался на улице жлоб в спортивном костюме, чтобы отобрать модную шапочку! И никак не соотнес его с тем чудаком в плаще, с которого стянули в кинотеатре какой-то вшивый блин! Косте стало смешно. Особенно смешно, когда представил себя в синей шапочке с английскими надписями и кисточкой.
16
Эх, кони, кони, кони, Не выдайте меня!.. —неслось из комнаты. И славно пелось, без ора и горлопанства, но взвинченно, на нерве, под баян, гитару и скрипку. Удало! Видно, уж много перепели разных и добрались до этих коней, да ну понукать, будто и в самом деле вцепились в вожжи горячей тройки! Мчались куда-то, куда больше жизни надо было поспеть, и поспеют, только бы заветные не подвели, не выдали!
Эх, кони, кони, кони… Я вновь забросил плеть!..И плетью этой бешеной, над натянувшимися, как спины коней, голосами, взвивалась скрипка.
Не гнуться мне в поклоне, Дай бог, не умереть!..Не гнуться! Не согнут, не настигнут силы злые, ненастные, словно копыта выбивали в широкой Костиной груди. Домчится он туда, вперед, куда хоть убей, надо — иначе и жить зачем?! Не выдаду-у-ут!!!
— Эх, кони, кони, кони!.. — прогремел Лапин тем запрятанным голосом, который иногда в нем прорывался.
И тотчас откликнулась гитара угарным аккордом, взвыла скрипка. Сергей выложил собранные и одолженные на билет деньги. И так ребята погнали коней, без удержу, без света, в неминучий разнос погнали!..
— Давайте вашу коронку! — словно подхлестывая события, предложила звонко Олла.
Фальин и Сергей вскочили, освободили место для сцены.
Кто ни умрет, я всех убийца тайный… —начал Сергей и сам удивился: так у него от сердца вышло. Не слова он произнес, а тайную, наболевшую обиду: как же это в самом деле, почему он-то во всем, кругом он оказался виноватым?!
Я ускорил Феодора кончину, Я отравил свою сестрицу, Монахиню смиренную… все я!Вместе с пушкинским царем Борисом пытался Сережа постичь, втиснуть в голову понимание той силы, которая оклеветала, выставила перед людьми не таким, каков есть! И каялся!.. Чувствуя вне всякого понимания, что все равно виноват! Один как есть во всем и виноват!.. Он даже как-то забыл, что Фальин будет ему вторить.
Кто ни умрет, я всех убийца тайный… Я ускорил Феодора кончину, Я отравил…Андрюша точно ухватил его интонацию, только чуть утрировал, доводил недоумение до радужного идиотизма. И когда раздалось обычное в таких случаях «ха-ха», Сережа обмер, ровно под набежавшей по грудь холодной волной.
Ах! Чувствую: ничто не может Нас среди мирских печалей успокоить… —обратился он ко всем, как к заблудшим собратьям своим, разделял участь и взывал не мириться, вместе искать избавления от этой бесплодной, изнуряющей душу маеты…
Андрюша вторил на той же проникновенной ноте, с той же доверительностью, но намекая на сексуальность:
Ах! Чувствую: ничто не может Нас среди мирских печалей успокоить…Сереже показалось, что комнату от хохота передернуло и он из нее выпал. Даже Костя Лапин посмеивался!
Ничто, ничто… едина разве совесть! —вскричал Сережа яростно, с надсадной верой. Все больше понимая, что никто его не услышит! Невозможно услышать! Потому что сущность его, как пропущенный через призму луч, принимает иную окраску и направление! Сущность его только для того и служит, чтобы быть съеденной! И нет здесь никакого двуединства, а есть одно лишь насмешничанье! У него отнята сущность!
Ничто, ничто… едина разве совесть! Так, здравая, она восторжествует Над злобою, над темной клеветой… —закрыв глаза, как на последнем издыхании продолжил он. Подкатывали слезы. Сжавшись, не поднимая головы, юркнул меж спиной Фальина и шкафом, устремляясь к выходу. «Тебе плохо?» — успела подняться к нему Олла. «Сейчас я», — ответил Сережа, не глянув. Вышел, прикрыл за собой тихонько дверь и, как был в тонком свитере, со всех ног рванул из общежития! «И рад бежать, да некуда… Ужасно! И рад бежать, да некуда… Ужасно!» — приговаривал он мысленно в такт дыханию недочитанные строки монолога, направляясь в сторону знакомой девятиэтажки.
Дверь открыла сама Эльвина. Он схватил ее за руку и вытянул. Полез целоваться. Она вырвалась. Держал силой, грубо. Тащил наверх, куда-то во тьму, куда за лифт уводила лестница. Лифт загудел. Она перестала сопротивляться и первая скользнула наверх. У Сережи даже захолодало в коленях. На площадке за лифтом стояла кушетка. По тому, как Эльвина в полутьме ее сразу обнаружила, села, Сергей понял, что не с ним одним она здесь бывала. Стал целовать, нащупывать какие-то пуговицы… Каждым своим нетерпеливым движением словно говоря: мне плохо, плохо, ты должна утешить меня, должна, должна…
— Тебе только это от меня и надо… — усмехнулась она слабо.
— Не только…
— А говорил — «я»… Ты такой же, как все. — Удар был точен. Она даже не подозревала, насколько точен.
— Эльвина, не будь такой, — потряс он ее. Тело казалось веревочным.
— Мне все равно… Делай, что хочешь. Если тебе только это…
— Нет, — вскочил он. Сейчас докажет, не такой, как все, не такой! — Не только. Мы с тобой поженимся.
Он почувствовал, как она подобралась.
— Через пять лет, — он хоть был на взводе, но понял, что вышло обидно для нее. А может, ему того и хотелось: чуть наказать, чтоб много о себе не думала, напомнить о дистанции. Наконец, пять-то лет она должна согласиться подождать! Сказал бы он это Люсе!..
— Лучше через восемь, — ответила она.
— Почему через восемь?
— А почему через пять?
— Выучимся.
— А через восемь денег успеем скопить.
— Я серьезно!
— И я серьезно.
— Эльвина! — опять грубо схватил он ее за плечи. Должна же понять она, как ему плохо!
— При чем здесь я, если ты не знаешь, куда деться! — вырвалось у нее. И сдержаннее, но жестко добавила: — Если ты серьезно, уйди сейчас.
Он помедлил. И пошел! Спустился на один этаж, другой… А зачем же уходить-то? Хотела ли она на самом деле, чтоб ушел?.. Остановился. Ее шагов не было слышно. Стал подниматься обратно. Дошел уже до девятого, как она стремительно сбежала навстречу, проскочила мимо и скрылась за шумно щелкнувшей дверью. Он только успел увидеть метнувшийся взгляд да цветастый подол халата.
Можно было еще раз позвонить, вызвать, попробовать все сначала. Но с хлопком двери словно что-то обрубило в его душе. Ничего в ней не осталось, кроме неистребимой жалости к себе. Такой жалости, что аж впору было зарыдать.
Сергей шел в ознобе, мелко перебирая ногами, пьяно всхлипывая. «И рад бежать, да некуда… — преследовали его строки, пронимая чувством затерянности и еще большей к себе жалости. — Ужасно!» Сворачивая, скрежетал о рельсы трамвай. Шумел залитый светом ресторан… И вдруг, до тепла в теле, как просветление, подумалось о Люсе. К ней ему надо! Зачем он и приходил к этой… К той надо! Если бы знал, где она живет, к ней сразу и пошел. Только где она живет? Он же не знает, где она живет! Хоть вой теперь… Не знает!
Но отказываться от своих помыслов Сергей не умел — только дай цель! До́ смерти захотелось увидеть Люсю! Потому что ему одному… невмочь ему, такое чувство, будто руками и зубами хватается за пустоту! Не знает, перестал понимать — какой он, когда один! Потерялся! Человека нужно рядом близкого, пусть все будут против, но чтоб хоть один — понимал, любил, сострадал! Хоть бы одному ты был необходим — как воздух, как жизнь!
Сергей мысленно прикинул: адрес Люси может быть у той женщины-инвалидки, к которой ходили вместе на днях… Но где живет эта женщина, Сергей уже помнил смутно — шел тогда, не присматривался, другим был занят. Да и вряд ли у нее адрес… На Архангельскую, 13 надо срочно! В тот особняк с запущенным приусадебным участком, куда привела его Люся год назад, в котором: обитают люди, сумевшие отстраниться от вечной тряски за существование, сохранить, как думалось теперь, души от перетирания общественной жизнью! Причем, не выставляют этого своего отстранения, не противопоставляют себя большинству — пусть каждый развивается как хочет! Всеприемлемость! Даже огород не засаживают, чтоб земля на участке могла родить то, что ей хочется. Пусть Мастер и назвал их инертными, — Сергей как-то уговорил его сходить вместе в этот дом, — с такими, мол, небезынтересно пообщаться, но погрузиться в их жизнь — то же самое, что начать курить гашиш. Ничто так не затягивает, как безделье! Собственно, после его слов Сергей и перестал бывать на Архангельской, хотя и вспоминал часто, тянуло.
Теперь же захотелось побывать в этом доме не меньше, чем увидеть Люсю. Пусть отчасти Мастер и прав: Сергей при всем желании в глубине души никак не мог смириться с заросшим крапивой и полынью огородом, руки так и чесались вскопать. Но это, наконец, никому не мешает, люди живут, радуя себя и друг друга. Друг для друга и живут! А Мастер вот уехал — и дела ему до него, Сергея, никакого. Он ведь писал, получил открытку в ответ, мол, учитесь, при первой возможности постараюсь помочь… Чему помочь?..
Поймут, примут, никакой платы с его души не потребовав! Отправился на такси, дотрачивая остатки занятых на билет домой денег. По дороге подсел попутчик, невысокий, упитанный дядька. Стал ухать тяжелым смехом и произносить, любуясь, одну и ту же фразу:
— Было бы здоровье, остальное купим!
У Сергея все там, внутри него, зудело, так и хотелось заткнуть эту, как ему виделось, самодовольнейшую глотку! Но терпел. Долго терпел. Потом все-таки выговорил с заднего сиденья как можно сдержаннее:
— А что для вас вот это остальное, что вы можете купить?
— Что? — не понял попутчик: он, скорее всего, и был-то не такой уж богатей. Богатей выпячиваться с этим не станет. Так, услышал где-то словцо навеселе, показалось оно ему остроумным, потому что деньги-то, наверное, все-таки водились. И давай им играться!
— Ну вот вы только здоровье не можете купить, а все остальное можете, так? Так что остальное-то?
Мужчина повернулся и пристально посмотрел на Сергея.
— Ну, что, что?! — вскричал тот в нетерпении. — Машину, дачу, девочек, выпивку, что еще?!
— Это мое дело — что, — сказал мужчина уже без тени веселости, напористо сказал.
— Продать! — с хрипом процедил Сергей. — Не купить, а продать ты все можешь! Кроме здоровья, все остальное — продать!
— Будешь шуметь — высажу, — пригрозил водитель.
— Разговорчивые они нынче пошли, — произнес мужчина известную в подобных случаях фразу.
— Наивные вы, ребята, — усмехнулся Сережа в затылки сорокалетних мужчин, откинувшись на спинку сиденья. — Верите, что можете что-то купить!.. Я тоже когда-то верил, молодой был, глупый был.
Дальше ему пришлось идти пешком.
17
Навстречу выскочила из конуры громадная собака — год назад ее не было! Сергей вытянулся весь, понимая, что обратно, за калитку ему уже не успеть. Но тут же увидел — лохматая черная громадина ластится и виляет хвостом. Разве могла быть в этом доме злая собака! Он потрепал ее по загривку, по удивительно мягкой и гладкой шерсти, прижался к ее морде лицом. Вошел вместе с собакой в сени, где светила слабая лампочка, вероятно для того предусмотрительно включенная, чтобы пришедший не тыкался впотьмах в поисках дверной ручки. Где еще, в какой общественной инстанции так могут ждать человека и позаботиться о нем заранее?! Хо-хо-о!.. За дверью, ведущей в сам дом, пели. Здесь всегда много пели. И хорошо, как-то особенно — иначе, нежели профессионалы, иначе, чем сегодня он с друзьями в общежитии. Без желания преподать, без нарочитого задора или надрыва — просто, наслаждаясь пением. И песни были совсем иные, свои какие-то. У них и поэты свои, и художники. Собственно, здесь все и поэты, и художники, и певцы. Даже если у кого-то что-либо и вовсе не получается, все равно делает — можно же выразить себя и неуменьем. Лишь бы от чистого сердца!
И ото всего этого — от собачьей ласки, она, радостно поскуливая, то подбегала к двери, ведущей в дом, то тыкалась мордой ему в ноги; от песни, от возникшего чувства своей сродненности с бревенчатым домом, где ты вроде уже и в доме, но еще и не вошел, проникаешься его духом, — Сергея отпустило. Притихла душа, даже до робости, до послушания.
Собака скребла двери и поглядывала на него, словно бы удивляясь, чего, мол, медлишь, там так хорошо!
Сергей открыл дверь и переступил порог. Напротив, прямо по коридору, в комнате сидела хозяйка. В приятном ее лице проступило тихое ровное изумление и радость. Она, держа на весу далеко от себя сигарету в длинном мундштуке, и не меж двух пальцев, а словно кисть или крест для благословения, медленно повернулась и посмотрела в глубь комнаты, собираясь, видимо, что-то сказать. Но оттуда, из-за угла послышался голос Владислава, хозяина:
— Проходи, Сережа.
Владислав не мог его видеть! Когда Сережа прошел в комнату, в этом убедился. Владислав сидел за угловой стеной на кровати, поджав ноги калачиком. В комнате были еще две девушки — одна из них курила, как и жена Владислава; другая, вся перепачканная краской, в платье из лоскутиков, чего-то рисовала. И молодой человек, которого можно было назвать и юношей, не будь у него ребенка на руках — Сергей успел мельком удивиться, почему же ребенок не спит. Девушку с сигаретой и юного отца он видел постоянно здесь и прежде.
Владислав поднялся, крепко пожал руку. Небольшие голубые глаза его залучились. В то же время Сергей заметил, как успели они оценить, что без пальто он, что чуть выпил и не в себе… Был Владислав невысок, неширок в кости, но ладен. Голову, стягивая светлые длинные волосы, облегала повязка (что не имело никакой связи с аэробикой). Высокий прямой лоб с прямыми бровями чуть нависал над некрупным, очень прямым носом. Губы были толстыми, но четко очерченными. Под негустой бородой чувствовался выпуклый основательный подбородок. В лице нельзя было углядеть линий резких, жестких, даже какой-нибудь складочки у переносицы или в уголках рта, как нельзя — и линий размытых, незавершенных. Благородством, покоем веяло от этого лица. Мастер сказал о нем: «Славянский тип в чистом виде».
— А как ты догадался, что это я? — спросил Сергей.
— Догадался, — улыбнулся Владислав, и лучиков в его глазах прибавилось. Они грели и подбадривали, как бы говоря: ничего, все преходяще, незыблем лишь этот миг, когда ты, чувствуя и живя одним, а я иным, зачем-то понадобились друг другу. Именно друг другу, а не я, Владислав, тебе, Сереже, — мы два мира, две вселенных, мы встретились! Что может быть важнее?
— Выпей-ка для начала чаю, — сказал заботливо Владислав. Чайник, чашки, тарелка с сухарями стояла на столе. — Не знаю почему, но я в последнее время часто вспоминал тебя.
Спрашивать Люсин адрес стало просто неловко. О нем здесь не забывали, ждали, предчувствовали появление, а он, получалось бы, заскочил мимоходом адрес узнать. Да и не из-за адреса, по большому-то счету, он сюда пришел!
— Так меня… Может, Люся говорила. Меня исключили, — умиленно и немножко заискивающе сообщил Сергей.
И далее в том же духе поведал, как профорг Кузя по указанию свыше, конечно, специально выслеживал, повод нужен был, чтоб придраться, словом, как вокруг него, борца за справедливость, плели козни и стягивали узелок.
Его слушали! Где бы могли его еще так выслушать?! С таким приятием и вниманием! У всех же дела! Костя вон бумаги свои какие-то подсунул — разве сейчас ему до этих бумаг! Мастер бы все на разговор о своих спектаклях перевел. Нет, неправ он был, назвав этих людей бездельниками. Хотя рассуждал о личностной безынициативности русских вообще, отсюда, дескать, и «лишние люди» у русских: сознание, вырываясь из обыденности, оказывается неспособным к духовному взлету, зависает меж небом и землей. Нет, они не лишние, у них есть дело — вот сейчас до Сережи есть дело!
Владислав глядел на Сережу пристально, потом опустил глаза в задумчивости, усмехнулся чему-то своему. А когда снова посмотрел, то с такой теплотой и грустью, словно увидел в Сергее что-то знакомое, родное, себя, может быть, в юности… Сергей знал о Владиславе, что тот ушел с пятого курса университета, потому как не хотел получать, а в определенном смысле и обременять себя дипломом, коли не собирался работать по специальности, не видел в этом смысла.
— Я все это мог рассказать тебе при нашей первой встрече, — улыбнулся он все в той же грустной и теплой задумчивости.
— Где-то комета Галлея приближается к земле, — произнесла девушка с сигаретой.
Сергей мог бы ее слова отнести на свой счет, мол, есть события поважнее его исключения. Но они были сказаны таким расслабленным, тающим голосом, удивительным при довольно крупной стати девушки, так непритязательно, словно для себя одной, что ему лишь показалось, будто комета где-то рядом, чуть выше крыши. Да и приближается она исключительно к дому на Архангельской.
Владислав тем временем, покопавшись в папке с бумагами, протянул Сергею альбомный лист. Сергей взял — его портрет! Год назад Владислав рисовал. Точно ухвачено: тогда он был несколько скованный, смотрел исподлобья. Владислав протянул еще лист. На нем оказался рисунок, сделанный им, Сергеем. Владислава он пытался изобразить… Надо же, удивлялся Сергей и впадал в благостный какой-то трепет, хранил же человек! Да и взглянуть было приятно — память…
Владислав тихо, раздумчиво запел под гитару:
Ручку шарманки крутил шарманщик, Старая шарманка скрип, скрип… Скрипнуло сердце, бескрылый гадальщик На перепутье толпы прилип…Голос у него был высокий, глуховатый и как бы пропадающий — как пропадал, вероятно, иногда и звук старой шарманки… Но пел он привораживающе спокойно, обнаруживал, казалось, полное отсутствие какого-либо подобострастничества или стеснения чего-то в себе. Сергей еще при первой встрече подумал, что не может представить этого человека охваченным неловкостью, потерявшимся и приниженным в какой-то ситуации. Даже Мастер, перед которым, Сергей замечал, люди всегда несколько притихали, попадали в зависимость, рядом с Владиславом как-то нехорошо забеспокоился, стал делать глупости. Правда, он находился в доме Владислава. Был сразу тем уж выбит из себя, что здесь никто не ахал по поводу его спектаклей, не интересовался планами и вообще образом мышления. Здесь ко всем так: пришел — садись, хочешь сказать — говори. Не нравится — вон порог, живи иначе. Что ты там делал — не важно, выяви себя здесь, в человеческом общении. Но Мастер привык, чтоб все плясали от него. А при ученике Сергее он не мог позволить кому-то не заметить себя, оказаться сбоку припека. С разговором не получилось — отсел в сторонку, выключил себя из общения. Через некоторое время послышался странный ноющий гул, протяжное такое: «у-у-у». Сергей сначала и сам не понял, откуда это идет. Гул продолжался, присутствующие стали прислушиваться недоуменно, поглядывать друг на друга… И как-то все разом заметили: Мастер отрешенно водил пальцем по краю бокала с сухим красным вином. Бокал пел, а вино вращалось вслед за пальцем… И только было достигнуто желаемое: люди уже повернулись, а в следующую минуту обязательно придвинулись бы к Мастеру, спрашивая, пробуя сделать то же самое, особенно женщины. Но тотчас в другом углу послышался еще более пронзительный, завывающий звук «у-и — у-и…». Владислав так же заставлял петь бокал, но при этом с таким уничтожающим спокойным пониманием смотрел на Мастера, что тот оказывался даже и в смешном положении.
Тек век — рекою натруженной, Лес лет — в толпе маета…Владислав иногда закрывал глаза, и в лице его проступало что-то беззащитное, вдохновенно мученическое, словно пропускал через свою душу это натруженное движение века, вечности, сам становился созерцателем-шарманщиком.
…В скрип-склеп уходят года…И Сергей с недоумением обнаруживал в себе, что институтские проблемы, вся история исключения вместе с проректором Фоменко и фискалом Кузей улетучились куда-то в небытие… Совсем ничего не значат, песчинка, тлен… Где-то комета приближается к земле… Где-то в пещере сидит буддийский монах — в прошлом году много говорили об этих монахах, — а дух его достигает самых конечных точек вселенной. Ребенок вот играет с собакой, а та громадина, как щенок, перекатывается на спине… Девушка, вся в краске, рисует… Хм, похоже, его, Сергея, и рисует… Вот истинно, насущно. Все остальное, все то, что т а м, где есть учреждения, собрания, где твердят о повышении производительности труда или творческих проблемах, показалось иллюзорной, затяжной игрой взрослых, именуемой серьезными делами… Другая девушка так же размягченно и плавно, как говорила о комете, вошла в комнату с чашкой… У Сергея даже дыхание перехватило от аромата вареного мяса — не ел же толком целый день! Понял дело так, что сейчас все усядутся вокруг стола и станут есть, как племя дикое, мясо из чашки руками… Но девушка, отрешенно и возвышенно на него глянув, сказала: «Это для собачки мясо». «Собачка» — медведь сущий — запрыгала. И девушка легко выманила ее в сенки. Сергей пережил миг оторопелости, если не сказать, потрясения: в чашке-то были не какие-нибудь кости обглоданные, а куски доброго мяса, мякоти! Тем более, богатства в доме не водилось, и сами-то хозяева, насколько он заметил, обходились концентратами или сухариками… А где же они мясо берут? Мясо-то в городе по предварительным заказам. Неужто все предназначенное им самим отдают собаке? В возбужденном острым чувством голода Сережином сознании мелькнула вовсе абсурдная мысль: вот бы мать целый год свинью выращивала, выращивала, осенью закололи и давай Тарзану скармливать… Выяснять вопрос Сергей не стал. Далось ему это мясо? Из-за какого-то мяса приземлять общение? Житейская, обывательная природа сказалась — кусок пожалел. Инерция психики. Здесь же совсем иные мерки… Минимум житейских потребностей. Воплощенное царствие духа! По возможности незаметнее Сергей прокатил по горлу скопившуюся слюну.
Девушка, перепачканная краской, протянула ему рисунок. Изображен он был интересно: черты переданы точно, но им придано благостное, если не сказать, блаженное выражение, полное трепета и поклонения. А шея переходила в маленькие бегущие жеребячьи ноги, от головы, словно на ветру, развевалась грива.
— А по-моему, Сережа — олень, — сказала жена Владислава.
— По гороскопу я — лев, — заметил Сергей.
Владислав взял рисунок, продолжительно пристально посмотрел, улыбнулся со смешком, как бы изумляясь прозорливости художницы, поставил рисунок на видное место, на полку с книгами, рядом с графическим портретом какого-то японца.
Сережа в свою очередь женщин, после того, как те произвели его в парнокопытные, определил в бабочек-цыганочек и мотылька. Они и правда, может, тем, как хлопали ресницами, говорили и двигались, напоминали ему порханье бабочек. Владислава же назвал степным волком: никакого зверя он в нем не видел — слишком человечье лицо, — но казался похожим на героя романа «Степной волк». Однако юный молчавший доселе отец с впалыми от чрезмерной худобы щеками — вот уж точно дятел — убежденно сказал: «Нет, Владислав — белка».
Мастер же, как попутно припомнили бабочки-цыганочки — жена Владислава и крупная девушка с тающим голосом, был спрут. Более того, вампир. Даже место, где он сидел, долгое время после его ухода вытягивало энергию. Было замечено: люди, ничего не подозревая, не зная, кто сидел на этом месте, не хотели, сами не понимая почему, на него садиться.
Отчасти Сергей не мог не согласиться: одутловатое, как бы осклизлое, густобородое лицо Мастера действительно напоминало осьминога. Но насчет вампирства… Кто его, конечно, знает…
— Я замечал, он вроде как раз наоборот, заряжал других энергией, — смотрел Сергей на Владислава.
— Каждый проявляет себя, как может, и отвечает сам за себя, — отчеканил отец ребенка.
А Владислав, все внимательно выслушав, поднялся и сочувственно сказал Сергею: «Устал ты, поспи». Им с молодым отцом — звали его Лешей — было пора на работу, не надолго, часа на два, троллейбусы из шланга в парке помыть. Сергей засобирался с ними, помочь, но Владислав отвел его в соседнюю комнату, сам и раскладушку поставил, матрас раскинул, заставил лечь и одеялом накрыл.
Как все просто, сонливо и размягченно думал Сережа, оставшись один. Ни денег не надо, ни славы, ни почета!.. Люди, общение — вот главное! И не вообще люди, а люди конкретные… Какое-то глубочайшее человеческое взаимопроникновение! А потому можно и предугадать, кто придет, кто в этом нуждается!.. Не по хлопку двери, не по звуку шагов, а именно потому, что есть сопереживание — есть и предчувствие… Сергею представилось, как дома, в Лебяжьем, вокруг него соберутся люди и он будет сидеть, поджав под себя ноги, с повязкой на голове и гитарой в руках… Правда, тут же поморщился — очень уж попахивало подражательством. Ну, без повязки, какая разница! Не в этом же суть! Суть в общении, во внимании друг к другу — это же и есть жизнь!
…Он проснулся. Тьма и спазмовый животный вопль за стеной! Какое-то поросячье горловое скрежетание, только целенаправленное, истерически непримиримое: «А-р-г-х-х!!! А-р-г-х-х!!!» Потом: «Шлеп-шлеп-шлеп! Шлеп-шлеп-шлеп!» У Сергея было полное ощущение, что от двери комнаты, в которой он находился, метнулось шестипалое существо. Но самое чудовищное: фоном шло тихое, на поднебесных нотах, ангельское пение: «Ля-ля, ля-ли, ля-лю, ля-ля…» Вот оно, оказывается, что, мелькнула ошарашивающая догадка, вот что это за дом!.. Немало в последнее время говорил он про всевозможное запределье, да ведь не верил до конца. А выходит, на самом деле есть! Бесовщина! «Шлеп-шлеп-шлеп!!! Шлеп-шлеп-шлеп!!!», «А-р-г-х-х! А-р-г-х-х!!!», «Ля-ля, ля-ли, ля-лю…» Сережа затаился, боясь пошевелиться на скрипучей раскладушке, выдать себя.. Главное, смекал он, виду не показывать, что узнал их тайну!.. А завтра чуть свет отсюда, и уж больше ни ногой… Если они еще отпустят, они и не отпустят, они нарочно и заманили… «Ля-ля, ля-ли…» — справляли ведьмы свой шабаш. «Шлеп-шлеп-шлеп!..» — бегал шестипалый оборотень, на котором, знать, какая-то из них сюда и прилетела. «А-р-г-х-х! А-р-г-х-х!» — почудилось, будто это не кто иной, как проректор Фоменко… Голос был его! Только надорванный. Да и Мастер, почудилось, там же. И Владислав с гитарой, и Андрюша Фальин… И они, оказывается, тоже, и они… Все с рожками, сгрудились в комнате. А во главе, в центре, заправляет всеми та самая женщина на коляске с торжествующими алчными дужками электролампочек в темных провалах глазниц… Возле ее ног Мастер и примостился, поблескивая стеклами роговых очков. И все про него всё знают, через стенку видят, как лежит он тут в страхе, улыбаются глумливо и со слюнками, потому что поздно уже ему думать и бояться, попался… Намаслились чревоугодно и сейчас начнут его разделывать… Не в силах сносить этот тянущий из души жилы вопль, эту нависшую парализующую таинственность, Сергей вскочил: будь что будет, не станет он перед ними, дьяволами, малодушничать!
К любым ужасам он был готов, но не к тому, что увидел! По полу, не щадя колен, захлебываясь криком и соплями, носился на четвереньках ребенок. А за столом, посреди которого стояла початая бутылочка бальзама, все те же девушки и жена Владислава, держа на весу далеко от себя сигареты в длинных мундштуках, умиротворяюще, полнясь светом беспредельной любви и смирения, пели. И пели на этот раз песню известную:
Под музыку Вивальди, Вивальди, Вивальди, Печалится давайте, давайте, давайте…Все трое тонко заулыбались Сергею, неземно хлопая ресницами, — мотылек и бабочки-цыганочки! А печалился один из всех глазастый мальчуган на полу: «А-х-х-х…» Голос у него пропал совсем… на щеках коросты насохли!.. Сергей инстинктивно подхватил ребенка на руки, и тот сразу затих! Лишь вздрагивал от судорожных всхлипов.
Под завыванье вьюги…Да что же это такое, не укладывалось в Сережиной голове, что же это?!
— Нервы у Тимки оказались крепче, чем у Сережи, — протянул напевно перепачканный краской мотылек в том духе, что, ой, какой у нас необыкновенный и удивительный Тимка, ой, какой у нас необыкновенный и удивительный Сережа, ой, какие все мы необыкновенные-необыкновенные… Если б сейчас речь зашла о пылесосе, то это был бы, конечно, необыкновеннейший удивительнейший пылесос… Ну да, каждый проявляет себя как может и отвечает сам за себя… Ребенок, по этой логике, видно, просто своеобразно себя проявлял. И сам, наверное, должен был прийти к пониманию, что орать ему не следует…
Под старый клавесин…Не зря, похоже, торжествовала та больная женщина и среди уличной толпы царственно восседала на коляске. Есть, есть ей отчего торжествовать! К ней стремимся, к сдвигу, к сумасшествию! Потоками с разных сторон стекаемся!
Печалиться давайте, давайте…— Ну вы тут печалились… под Вивальди, — оскалился в улыбке, ёрничая, Сергей. — А Тимка, наверно, у вас немножечко так нервничал под Достоевского. Под Достоевского немножечко так Тимочка в уголочке нервничал…
18
Час был поздний, вахтершу тревожить не хотелось — надоели они с расспросами. А главное — хотелось чего-то эдакого, чего-то… Сил много, гнев в душе жарящий! Взгляд выхватил водосточную трубу. Форточка у светящегося окна на четвертом этаже рядом с трубой была открыта, из нее свисала сетка с продуктами. Чье же это окно? Никак не мог вычислить Сергей. Какая, впрочем, разница? Полез по трубе, подтягиваясь на штырях.
Стал твердо ногой на оконный карниз, схватился за раму. Ликуя, — пока лез, обмерла душа, — предощущая, как сейчас напугает кого-то и поразит, сполз вниз головой через форточку по подоконнику на пол.
За столом, в свете настольной лампы, с ручкой перед листом бумаги сидел… Кузя. Один. Сергей, к своему удивлению, обрадовался ему: пусть он и доносы строчит, козни строит, но… все-таки знакомое, чуть ли не родное лицо! Обыкновенное, без поволоки. Доносы — так доносы, всем ясно, никому мозги не пудрит!
— Кузя! — воскликнул Сергей весело. — Вот так встреча!
Но Кузя неожиданно резко вскочил. Отпрянул. По стене прыгнула большая тень. Маленьким он совсем казался, Кузя, на фоне собственной тени. Маленьким, жалким, молоденьким старикашечкой. Лицо зашлось конвульсивными морщинами. Сережа в желании успокоить шагнул к Кузе — ему чего-то так радостно стало, не до обид! В конце концов, у Кузи хоть и гаденькая, но во всем была цель. А вот чего он добивался, зачем сейчас носился по городу, какой во всем этом смысл — головушкой же понять не может! Разве вот одно: хоть и больно, хоть и рвет душу на части, но ведь нравится он себе! До сего мига нравится! С чувством примирения Сергей к Кузе шагнул. Но тот вдруг снова шарахнулся в сторону и так по-бабьи закричал, что Сергей растерялся. Кузя наскочил на шкаф, и шкаф накренился, а с него посыпались книжки, посуда… Загрохотало.
— Убиваю-ю-ют! Спаси-и-ите! — пуще того испугался Кузя и, натыкаясь то на одно, то на другое, метался, как крыса в бочке. Подлетел к двери и стал дергать, но запертая на ключ дверь не поддавалась. Тогда он так рванул, что выломал косяк!
— Убиваю-ю-ют! — вопил Кузя уже в коридоре.
Сбегался народ.
— Я же, паразита, пальцем не тронул! — свирепо кричал Сергей.
Его начинали удерживать, закручивать руки. Как же не тронул… В комнате такой погром! Сергей вырывался. Теперь ему очень хотелось тронуть Кузю. Сильно жалел, что не тронул! Все равно быть виноватым!..
— Что вы меня-то держите! Я же его пальцем!.. Что вы мне-то руки крутите?! Вы ему крутите!.. Не знаю чего крутите — язык, душу!.. Его держите, он вам еще даст жизни! Еще погнобит! Попомните меня!..
Обида нашла на всех! Нестерпимая! Дернулся, пнул кого-то, ударил, вырвался и понесся по коридору. На вокзал! На товарняке, на крыше вагона, на чем угодно — домой! Внизу, на первом этаже под лестницей висел пожарный щит. Схватил топор с красным топорищем.
— Всех порешу! — влетел с топором в коридор четвертого этажа, где около комнаты Кузи все толпились люди.
Доводилось Сергею видеть: вот так же, с топором или колом, после какой-нибудь гулянки носился по переулку мужик… И пока жил в Лебяжьем, дома, не поверил бы, если сказали, что и сам будет так носиться, да еще по студенческому общежитию. Не одобрял, не нравились ему никогда эти прорвавшиеся в людях очумелость и беснование. И пожалуй, у себя дома по Лебяжьему не побежал бы так… Там и без него нашлось бы кому, покруче и пошальнее. Но здесь в общих глазах и собственном ощущении он оставался представителем дикой природы, сил дремучих, в которых периодически должно просыпаться буйство. Безрассудное, при топоре!.. Ибо азиат — с кинжалом, а русский лесной человек — все с топором. А потому, даже в эти горькие, безысходные для него минуты, он не переставал думать, что проявляет свою индивидуальность.
— Р-р-разойди-и-ись! Па-арешу-у-у! — и все мерещилось, будто опять его передразнивает кто-то, прицепился сзади и мотается, как на привязи, какой-то громадный Фальин или собственный двойник, потрясает так же топором, фиглярничает и глумится, и вот-вот кругом расхохочутся…
У мужика, бегущего с топором по Лебяжьинскому переулку, и в мыслях не было убивать кого-то. Собираются убивать без показухи и кликушества. Был кураж и перехлест чувств. Ему давали подурить — отвести душу. Потом наваливались, а чаще — сам он бросал топор, хватался за веревку, и уже не от топора, а от петли оттаскивали, сердешного. Уводил бедолагу добрый человек — жена ли, если завелся горемычный мужичок не дома, не из-за нее; сестра ли, мать или просто женщина какая-нибудь. Уводила, утешая, а мужик, обессиленно упав на женское плечо, в поступи тоски и вечных вопросов, вопрошал с подвывом у небес: зачем?! Зачем?! Эх, жизнь!..
Так же рядом с Сергеем оказалась женщина.
— Дурашка, — говорила Олла и гладила как маленького по голове. — Дурашка…
И буян, приникнув к женскому плечу, уходил, безутешно восклицая:
— Я потерялся!.. Я один!..
— Ты гордый, независимый, — шептала Олла совсем как простая Маша.
— Я зависимый! Я думал, что независимый! А я зависимый! Я оторванный лист, я зависим от любого ветра!..
— Дурашка!..
И хоть Сергею никогда не нравились эти «дурашки», «душечки», «лапушки», сейчас было приятно. Хотелось, чтоб жалели. Хотелось быть маленьким и послушным.
19
Дурной угар прошел, голова стала ясной и легкой, а тело сильным. Красивая, ладная, близкая женщина породному благодарно жалась щекой к его плечу. Никакая не Олла, а просто Маша. С природным бабьим чутьем к боли в душе мужицкой, с инстинктивным стремлением боль эту вытеснить собой. Потому как, по женскому разумению, вся мука у мужика оттого и проистекает, что нет рядом ее; потому как именно для такой души, болящей, она, женщина, и может стать незаменимой, единственной…
— Ты меня простишь? — прошептала она.
— Да вроде не за что… — удивился он в голос.
— Тише.
— Ему хоть в ухо кричи.
— Можешь не прощать… Подлая я…
Сергей подумал, сейчас начнутся показные муки совести, дескать, Андрей меня любит, а я… Но последовало иное:
— Это я сказала Кузе, что Борька закрылся с этой черной.
Помолчали.
— Обещай, что ничего не станешь выяснять, не пойдешь морду бить после того, что я тебе еще скажу.
— Ну, обещаю.
— Меня об этом Андрей просил. Он сказал, что ты вернешься и может быть скандал, надо Борьку выпроводить. Я хотела Романа попросить, но Андрей сказал, лучше Кузю. «М-м-девочка моя, л-лучше Кузю», — изобразила она. — Я же не знала, что Кузя тоже на нее виды имел… Гренки жарил…
Долго молчали. Сергей сейчас и без всяких обещаний никуда бы не побежал, ничего не стал выяснять. Все и без того ясно. Делалось даже ровнее на душе, понятнее: пласты жизни с разрозненными событиями, людскими поступками и отношениями, словно узоры трафарета, налагались в сознании один на другой, и начинала проступать общая картина. Казалось, был в центре, и действительно был в центре, точно так же, как во время футбольного матча в центре — мяч…
— Я бы не пошла к Кузе, но меня тоже задело… А тебя бы не задело, если бы я вдруг притащила в компанию какого-то парня… Он давай петь, петь… А потом бы я с ним закрылась? Только ты меня не выдавай. Ты понимаешь, о чем я…
Она закурила. Сидела, опустив голову. Подобранные обычно волосы были распущены. Свесились, закрывали лицо. И уже опять не Маша, а Олла. Ни слез, ни растерянности. Волосы в полутьме и огонек сигареты…
20
Светало. Серело остался один. Не спалось. Бодрость шальная и единственная мысль: обманут! Мать в детстве, чтоб далеко в лес не ходил, лешим пугала: он, говорила, нашептывает, нашептывает на ушко: туда иди, сюда, вон ягодка, глянь, какая веселая полянка, а когда заведет на болото, рассмеется и убежит… Повернулся на живот, закрылся от света подушкой — тетрадь… Костина писанина. «Русский дух» или как его там…
«Направо пойдешь — богату быть, налево пойдешь — женату быть, прямо пойдешь — убиту быть». Польстись богатырь на посулы — одним тем уже поддался бы нечисти, купился бы, вышло, соблазнился иль струсил. Но всего дороже были для него славушка молодецкая да мать родна-земля. Шел смело богатырь в ту сторонушку, что предвещала смерть. И вот уже вскрикивала во страхе нечисть: «Русским духом пахнет!»
Куда же отправляются нынешние добрые молодцы, дойдя до росстаней, до трех дорог, где лежит плита-камень? Немало их сворачивает на ту дороженьку, что манит богатством. Самые, пожалуй, сметливые ребята из тех, с кем учился в школе, кинулись в торговлю и торговые учебные заведения. И влекло их туда, сколь доводилось слышать разговоры, отнюдь не желание восстановить доброе имя этого древнего занятия. Наконец то, что, скажем, слово «спекулянт» звучало оскорбительно, а «фарцовщик» ныне звучит даже престижно, говорит само за себя.
В ту сторонушку, где женату быть… Как-то больше бросается в глаза не количество молодцов, которое отправилось в эту сторону, а то, которое бежит обратно…
Но меня в данном разговоре занимает третья дорога. Ибо по ней, как явствует из сказок, уходит младший брат, не щадящий жизни своей духа ради! Устоит ли только дух его перед нечистью?!
Я вырос в среде, которую сам называю «прихудожественной», «приэлитарной». Понятие элитарности у нас подрастеклось: к элите причисляем не какую-то социально привилегированную прослойку общества, а, собственно, любую группу людей, как-то выделяющую себя из основной массы, считающую, что их внутренняя жизнь проходит по более сложным, интересным, словом, каким-то своим особенным законам. Так что, полагаю, чувство элитарности у нас, как, скажем, среднее образование, скоро можно называть всеобщим. Пожалуй, не будет чрезмерным, если скажу, что вырос в атмосфере духовной гибельности, массовой, стремительной и добровольной, как выбрасывание китов. И что самое страшное, в обольстительном ощущении открытия своего единственного пути, до поры до времени не замечаемого человеком. А когда такая пора наступает, человеку сложно зажить проблемами обычной жизни. Это я хорошо знаю по себе, потому что мысль о собственной исключительности, странности, некоторой даже инородности заполучил с первыми проблесками сознания. Уникальность же мою взрослые видели в моей природной молчаливости: поэтому уже в раннем возрасте я довел в себе это качество до болезненности, до нелюдимости. Речь не обо мне — о себе я для примера.
Мирским человеком называл себя русский. А в понятие «мир» для него входило — и собственная душа, и деревня, община, в которой жил, и добрые отношения с соседом, и все человечество. Приметливое, индивидуальное видели в большей степени не в отличии, а в наличии духовной связи, в унаследовании лучшего из того, на что способны были люди, среди которых человек жил. Лучшим охотником, полагаю, считался тот, кто лучше других знал охотничьи тропы, повадки зверей и метко стрелял. Мнится мне, что сегодня мы скорее назовем индивидуальностью того, кто стреляет куда ни попадя, но зато ружье держит прикладом вперед. Мы до психоза печемся о необходимости быть личностью, иметь свое лицо и позицию. Хотя за «свое лицо» чаще всего принимаем непохожее на свое. «Это ни на что не похоже!» — восклицаем мы, выражая как самую высшую похвалу, так и хулу, уже не столь крайнюю. Понятие «индивидуальность» подменяем, отождествляем с понятием «исключительность». Что касается позиции, то, во-первых, здесь тоже много путаницы с позой, а во-вторых, слово это военное, боевое, человеку в мирной жизни больше пристало бы заботиться не о позиции, а о совести.
Русское искусство произросло из мирского чувства, поэтому полно покаяния, вины перед ближним, перед идеалом — жизнью по совести. Вдруг в героях оказывается некая личность, наделенная автором внутренним правом бесконечно предъявлять окружающим претензии. Герой этот может быть мускульно-правильным, берущимся все менять и переустраивать, или приятно неудачливым, но неизменно преподносится как положительный. И даже тип другого героя, имеющего, на мой взгляд, под собой более реальную основу: тонкого духовного склада и, казалось бы, пристального к окружающим… — все-таки склонен воспринимать этих окружающих в большей степени как явление эстетическое. Та или иная ситуация порождает в его рефлексирующем сознании массу ассоциаций, поток небезынтересных мыслей; но прикасаясь к тайнам бытия, скажем, рядом с постелью умирающего отца, он занят, в сущности, лишь своими чувствованиями и лишен подлинного сострадания. Ибо нет в нем чувства сродненности. А если и мучается, то не проблемами жизни, а собственной неспособностью зажить этими проблемами.
Ребенку говорили: посмотри на людей, делай как люди. Хотя было и предостерегающее: «На других смотри, да себя не забывай». Нынче чуть ли не с пеленок требуют необыкновенности. «Необыкновенный ребенок!» — самая частая и восторженная характеристика. Показательна в этом плане и детская литературно-кино-музыкальная продукция. Скажем, существует андерсеновская сказка «Гадкий утенок», в которой утенку приходится туго из-за своего нетипичного облика. Появляется сказка «Голубой щенок», где так же «голубого» не принимают поначалу из-за нетипичности. Но, как известно, «утенок» оказался самым обыкновенным лебедем и занял свое место в стае лебедей. «Голубому» никогда не найти места среди себе подобных, таких просто в природе нет, он и с к л ю ч е н и е, у него должно быть о с о б о е место. И место это определено: в конце концов, окружающие ему поют такие дифирамбы, что псам всех иных мастей впору завыть от комплекса неполноценности!
Психология исключительности, а с нею и презрение к некоему абстрактному большинству все более отвоевывает места в душе русского человека. История о том, как возгордившийся человек продал душу дьяволу, принимает обиходный повседневный характер. Наше общение заполонили недомолвки, неопределенность, полумистицизм, полутайна и полумрак. Мы с готовностью призываем нечистую силу, невидаль или используем глумливый шепоток, дабы подтвердить собственную неординарность, наличие в себе высших сил и тайного знания. Хотя, видимо, изначально наблюдаемая во всем мире вспышка обращения к подсознанию, ко всему мало объяснимому, явилась как реакция на технократию, на натиск рационального мышления. Но стала поветрием: для одних — заполнением пустоты, для других — возможностью наводить тень на плетень, а для третьих — верой. Надо заметить, мы много говорим об одиночестве, при этом активно общаемся. И глумление, низвержение играют в общении далеко не последнюю роль. В этом смысле, думается, пародия во всех ее проявлениях завоевала наши сердца не только потому, что увеселительна, легка для восприятия и не требует особых духовных затрат, а еще и потому, что близка по сути нашему общению. Может быть, мир накопил столько противоречивых идей, пережил поклонение стольким кумирам, что пришла пора и поглумиться? Но во имя чего?! Сиюсекундного самоутверждения? Однако куда более чудовищным по глумливости выглядит, скажем, следующее обстоятельство: если в психологических опытах девять сговорившихся называют белое черным, а десятый, несведущий, за ними повторяет, то всего-навсего один глумливый шепоток повторят сотни, тысячи людей… По плодотворности идеологического воздействия он превзойдет такой феномен как телевидение, которое, обеспечивая спрос, тоже невольно окажется на его удочке. И сколько бы мы ни тешили свое самолюбие, ни пускали на каждом углу струю собственной неординарности, все это обнаруживает страшную духовную зависимость, обезличивание! Ведет к духовной подмене, саморазрушению. Идея исключительной личности, чуждой толпе, крепко поработала на нашей ниве. Скажите ныне человеку, что у него здоровая психика — так ведь он и обидится! Обиделся бы и я. Ибо здоровье подразумевало бы узость натуры. С другой стороны, психика и в самом деле нездоровая: переживаем духовную ломоту. Заговорите в обществе с признаками элитарности (а в большей или меньшей степени это распространяется или может распространиться на любое общество) с гордостью о русском народе. В лучшем случае на вас посмотрят, как на дегенерата. Тотчас обвинят в русофильстве, в славянофильстве, как в смертных грехах. Но не принимайте, топчите лик своего народа, трижды за одно тысячелетие с помощью других братских народов спасшего мир от порабощения, можно сойти не то что за умника, а за пророка! Даже в самом малом, невинном и, казалось бы, сердечном сказывается закравшийся в нас индивидуализм. Помню, с каким трепетом я повторял в юности прозвучавшую с экрана фразу: «Счастье — это когда тебя понимают». У нас в классе многие повторили ее в своих сочинениях. И никого не смутило, что для счастья нам довольно одностороннего понимания — чтоб понимали нас! И ничем не обязываем себя! Всегда вроде, если судить по русской литературе, было наоборот: говорили, пойми ты другого. Мы жаждали, требовали понимания, уже одним этим обрекая себя на непонятость и разобщенность.
Не вызывает сомнений, что юкагиров, самую маленькую народность нашей страны, надо спасать от вымирания. Их осталось всего четыреста человек! Но в спасении нуждается и самый большой народ нашей страны. А может, и все от мала до велика. Ибо духовные подмены влекут за собой и подмену национального характера.
Отправляется богатырь в ту сторону, где «нет пути ни прохожему, ни проезжему, ни пролетному», где «себя потерять» предвещено. Вернется ли он со славою, одолев нечисть, иль сбудется реченное на камне?..»
Ниже Костя писал уже иным почерком, обычным, без особой старательности.
«Ознакомилось с моими соображениями официальное лицо. Были отмечены определенные литературные достоинства и полемический запал… Но выяснилось, что то, о чем я заводил разговор, для нашей жизни несущественно. Не без доброжелательности, заботясь о моем будущем, мне посоветовали оставить своих «исключительных», возиться в их болоте, выходить на магистральные пути, браться за важные животрепещущие проблемы современности… И я не мог с этим не согласиться, есть куда более важные проблемы и магистральные пути, но… Дело в том, что, когда я еще писал статью… или как там ее назвать, постоянно представлялось некое уверенное и приятное лицо, которое отправляет меня к магистральным путям. И у меня не было уверенности, что его действительно волнуют магистральные пути, и не пытается он этими путями от меня заслониться, потому что ему так удобнее. Его заботит собственное служебное положение, а вовсе никакие не пути! Жизнь, наконец, как река, с основным руслом и рукавами, или как кровеносные сосуды — не важно, в каком произошло заражение. Я заранее чувствовал на себе давление бюрократического взгляда. Но что самое страшное: я невольно принимал его за государственный! И теперь думаю, как немудрено человеку отождествить в своем восприятии государство, чаяния народные с чаяниями бюрократа, всегда действующего, присваивающего себе имя народа и государства. На душу-то, видимо, давят с двух сторон, как на пасту в тюбике, бюрократический подход и подспудное поветрие…
Надорван дух наш в пробах и испытаниях, издерган. Мы цепляемся, торопимся подменить его поветрием. Время крепить дух, собирать. И опять я тотчас представляю некое лицо, которое немного усмехнется, узрев в моих словах схожесть с известным библейским выражением. Да, именно оно у меня просилось на бумагу: «Время собирать камни». Но я не хотел его употреблять по причине затертости и той претенциозности, которая ныне сопутствует библейским выражениям. «Время собирать душу».
Сергей закрыл тетрадь. Посмотрел на Лапина. Тот спал, укрывшись, как всегда, одной лишь простыней, без матраса, на досках, застланных байковым одеялом. Странно, думал Сережа, не прочти записей, уехал бы, считал: ну, Лапин, ну, здоровяк, на досках спал, в проруби купался, словом, йог, чудило!.. Но если бы несколько дней назад прочитал, мнение мало изменилось бы. Костя ведь пытался говорить о многом из того, о чем написал. Не слушал, не принимал всерьез. Почему-то за ним вообще не признавали личностной особенности, даже по-настоящему чудаком-то не считали! Так себе, смуряга. Хотя уж он-то, коли на то пошло, был точно ни на кого не похож и вел себя, — взять те же доски на кровати, молчаливость, кучу исписанных тетрадей, заявление в армию — совершенно индивидуально! Но просто. Стыдливо…
21
Простой русский человек быстро отходчив: Борькины родители уже не гневались на сына, а появившегося в доме его друга радушно приняли. Мать еще сначала подонимала Сережу, с разных подходов пытаясь выведать, — все ж таки почему?.. Но видя, оба вроде не юлят, а главное, не шастают где-то, не пьянствуют, не безобразничают, сходят в кино — и домой, стала лишь стараться откормить «заморенного в этом институте», да потчевала друзей тайно от мужа старыми запасами настойки.
Борька прошел медкомиссию. И в конце недели, в пятницу, успел даже смену отработать. Вернулся в приливе сил от ощущения себя молодым рабочим классом и все рассказывал, как запросто таскал мешки и свиные туши, стараясь брать побольше, чтоб «качаться». Отец помалкивал, намазывая на ломоть хлеба сырой мясной фарш — стряпали пельмени — поглядывал на сына и улыбался. Он знал цену рабочему романтизму — назавтра у Борьки болели руки-ноги и совсем не гнулась спина.
На родине у Сергея, в Сибири, пельмени стряпают маленькие, аккуратненькие — один к одному. Защипывают сочень с мясом и сворачивают, как шапку-ушанку на затылке, ушками друг к другу. Здесь же уральские пельмени делались большими, почти в пол-ладони, как бурятские позы. Защипывались как бы чепчиком и не сворачивались. Сергей так и не смог освоить этой технологии, стряпал по-своему, только большие. Но как там, на Сережиной родине, так и здесь приготовление пельменей сопровождалось состоянием приподнятым и торжественным. И не только потому, что сибиряки и уральцы любят пельмени, а потому еще, что собирается к столу вся семья, и в этом общем залепливании кусочков перерубленного мяса таится некий обряд единения. «Налей-ка нам, мать, по маленькой», — сворачивая белый сочень ручищами, которым под стать из листового железа пельмени крутить, говорил Борькин отец.
И дома у Сергея кто-нибудь из мужиков обязательно заводил эту «песню». И не столь нужна эта «маленькая» — господи, что такому мужику «маленькая», — сколь требовалось поддержать дух церемонии. А женщина ворчала в ответ что-нибудь вроде: этому бы побыстрее набраться, сядем исть, тада и налью. И доставала бутылку.
Так же сделала и Борина мать. Проворчав, может, чуть побольше, показно и беззлобно, как это бывает часто у женщин уверенных, что нужны, любимы, да каким мужиком, не сморчком дохленьким, а таким — хоть на погляденье! И сумела удержать, а уж уводили-и-и… Да и такой он, впрочем, потому что с ней, а с другой бы, вот с той, с какой по молодости… давно бы уж где-нибудь под забором!..
Для Сережи, росшего без отца, среди женщин, полноценный семейный уклад был непривычен и притягателен. Казалось, жизнь этих двух людей, Борькиных родителей, строилась по редким ныне законам основательности и безмятежности, и не было в ней размолвок, скандалов, разводов…
— Я ведь сама по рождению ленинградская, — рассказывала Сергею Борькина мать, — девчонкой сюда в войну привезли, эвакуировали. В одну деревню, потом в другую… Там я его и увидела. Высокий, волосы вьются, глаза голубые… Его бы тогда в артисты, так… Куда Борьке до него молодого! Все девки вокруг хороводом! Ну я тоже была девчонка видная, да ленинградская, вокруг меня тоже… Ну и… дохороводились. А я и думать не думала, что ему всего шестнадцать-то! Знала бы, никогда не связывалась — на два года младше меня! Поженились, ребенок родился, первенец… А у отца-то еще дым в голове — на лыжах давай бегать по соревнованиям! В армию забрали — он и там на лыжах! Три года просидела в его доме с маленьким ребенком, а он в армии остался — и вот десять лет по всем городам на этих лыжах! А где и без лыж… Я уехала в Липецк… И ведь нашел! Через десять лет нашел! Я на него и смотреть не хотела, так он за мной по пятам… полгода, наверно. Потому у нас и разница между старший сыном и Борей такая большая! — повернулась к мужу и приподнято закончила: — Это ведь сколько ездил, всю страну объехал, а все равно лучше меня никого не нашел!
Отец Бори, зная за женой слабость рассказывать о том, какие она через него, кобеля молодого, муки приняла! — терпеливо улыбался. Любил он жену. В самом деле, объехал страну, а лучше не нашел. До сих пор была она для него самой желанной.
Пельмени дома у Сергея ели обычно с капустным рассолом. Здесь же — с жидким перечным томатным соусом и уксусом. Сережа, однако, спросил квашеной капусты, нацедил в кружку рассола, все попробовали — понравилось.
Привольно, с печалью и светом запели «Степь да степь…». Последний куплет спели так: «А еще скажи, что в степи замерз, и любовь свою он с собой унес». Сережа заметил, что вернее будет петь иначе. Ему об этом один знаток говорил, Борис его хорошо знает — Костя Лапин. Три поклона, дескать, должно быть: миру, отцу с матушкой, жене и детям. «Ты, товарищ мой, не попомни зла», «…а коней сведи отцу-батюшке, передай поклон родной матушке…» и вдруг «любовь свою он с собой унес». Нарушается поэтический лад: нет третьего поклона, а если есть, то себе! А ведь про ямщика потому и песню сложили, что, умирая где-то в степи, вдали от дома, не жалится он на судьбу, никого не винит, не о себе думает, а полон любви и заботы о родных. Просит передать жене:
А еще скажи, пусть не печалится И с другим она обвенчается…Борин отец подумал и согласился. «Да, так вернее, правильно твой товарищ говорил. Так оно и было».
В эти дни Сергей не видел ни Эльвины, ни Люси. Об одной старался не вспоминать, выкинуть ее из головы: дело не в том, что она его… не поняла, — мельчил много, трясся, слабым был перед ней. К Люсе тянуло, не то слово… Вот если бы она оказалась рядом, страшно обрадовался бы! Легко с ней, мозги становятся удивительно ясными, мысли… Ну, сказать фонтанируют, это чересчур — Сережа придерживал свое самообольщение, — оживают мысли. Слушать умеет она, что ли… Или в самом деле так верит в него, что придает силы… Думал о Люсе, сознавая, что есть человек, который примет его любым. До отъезда обязательно собирался разыскать ее, встретиться, но отправляться на розыски, встретиться сию минуту или хотя бы сей же день — нужды не видел. Неожиданно часто и остро влекло к Олле — Маше, не к той, которую знал по учебе, а к той, с какою оказался рядом в угарную ночь… И однажды, не выдержав, как бы случайно встретил ее после занятий около института. Она так изумленно вскинула подкрашенные ресницы, спросила: «Ты разве не уехал?» — будто и не та, которую знал, и не та, с которой учился, а далекая полузабытая знакомая. Человек из другой жизни, не минувшей даже, а жизни, к которой Сергей никогда не был причастен.
В воскресенье отправился с Борькой на барахолку — кое-что продать, нужны были деньги на дорогу. Торганули лихо: в отличие от кучки молодых людей с фирменными тряпками, дерущих втридорога, отдавали втридешево. Продали даже подаренную Костей модную шапочку и оставленный в шкафу кем-то из абитуриентов плохенький плащ. Его купил старик с изувеченным у виска лицом и орденом на полинялом кителе под пальто — друзья видели, когда старик переодевался.
— Эти ребята мне могли и так плащ этот подарить, но я его куплю! — объявил он окружающим чрезмерно весело и благодушно.
Плащ, было очевидно, старику не подходил — молодежный, тугой, с висюльками и замочками. И купил он его, вероятно, благодаря этой не вполне здоровой возбужденности, с пенсии. Заплатил лишнее.
У выхода с базара стояла старуха с маленькими котятами в шапке.
— Почем, старая? — орал здоровый немолодой переросток. — Проси больше!
— Чего только не продают… — ворчала проходящая мимо полная дама.
Бабку с котятами окружали.
— Так почем все же? — праздно любопытствовали.
— На тебе, старая, рубь — и иди, отдыхай! — протягивал переросток бумажку.
Старуха улыбалась смущенно, поблескивала извинительно глазками.
— В подъезде вот окотилась… Можеть… думаю, кто и возьмет…
— Так ты их даром, что ли?
— Я ить и говорю, собрала, можеть, кому надо… Мать-то у их хорошенькая, пушистенькая.
— Вы их просто отдаете, бесплатно?
— Они же не мои — какая плата… Они навроде сирот. В подъезде окотилась… Мать-то у их пушистенькая…
— Мам, возьмем, а? Давай возьмем!..
Сергей и Боря постояли, посмотрели. Пошли в благодушии, передавшемся от бабки. Ехали в троллейбусе, в задумчивости молчали.
— Надо было отдать плащ старику, — заговорил Сергей. — Задаром. Все равно так достался.
— Надо было, — ответил Боря. — Не знаю, чего ты…
Сергей взглянул удивленно: выходит, там, когда дед примерял плащ, Боря думал так же, стыдно было продавать. Смолчал… Понимал, другу нужны деньги.
— Надо же: старуха эта, может, и живет где-нибудь далеко, а принесла котят специально, чтоб раздать. А ее же на смех… — сердобольно захлопал Боря глазами. — И ей же за себя стыдно…
Сергей посмотрел из своих дум на друга еще более изумленно: умел тот почувствовать самое важное. Да, делая добро, старуха не гордилась, а стыдилась. Стыдилась, что занимает собой людей, навязывает… Хотя «навязывает» звучит здесь грубо, уместнее будет сказать, как говорят на родине Сергея: «навяливает». Стыдится, что навяливает котят людям. Ничего нового в этом вроде не было для Сергея, но сердце откликнулось сродненностью, необходимостью оберечь беззащитную эту стыдливость. Новым было открытие, что это не только старухи, но и его, естественное чувство. Чувство изначальной перед людьми вины. И жить ему с ним, дышать вольнее, просторнее на душе! Открывалось, что виноват он не только перед стариком, которому всучил малопригодный плащ, но и перед этой старухой с котятами в шапке, перед собственной матерью и даже перед ненавистным проректором Фоменко… И именно это начинало для него означать: перед собой.
В день отъезда Сергей вместе с Борей заглянули в общежитие — забрать чемодан и проститься. У выхода Сергея окружили, жали руки, желали добра. Олла вдруг обвила его шею, до неловкости долго держала на плечах руки и смотрела значительно. Сергей даже стрельнул глазами в сторону Андрюши Фальина. Тот, выражая торжественность момента, привычно оттянул уголки губ, вслед за Оллой длинно возложил на плечо Сергея руку: «Я верю в тебя, м-м-Сергей, чувачок». Сергей, поглядев ему в глаза, сдержанно снял его руку, промолчал.
По привычке просмотрел конверты на полке для писем. Нашел конверт, подписанный Лютаеву, без обратного адреса и почтового штемпеля. Письмо было от Люси. Сергей торопливо пробежал его глазами и сунул в карман. Все дальнейшее воспринималось отстраненно и не имело значения. Он улыбался, старался выглядеть веселым и счастливым, отправляясь в новую или, наоборот, в старую, в другую, словом, жизнь. Он отвечал на рукопожатия, говорил… а перед глазами стояла полногрудая крупная русая Люся. С чистыми глазами, доверчивым добрым сердцем, но замороченная до предела!
Если бы она написала ему с обидой, отчаяньем, желая уязвить его или поплакаться — больно бы стало, земля бы, наверно, под ногами пошатнулась. Но она в ряду слов «ресторан», «у него дочь старше меня» свято и несколько торжественно, горделиво р а с с у ж д а л а о самопостижении, о самовыявлении. Об обретении через грех духовной сложности. Она писала ему, как единственному человеку, способному верно понять и наконец-то оценить ее. Она проста, но она не проста! Она жаловалась на непонимание матерью, для которой постыдное может быть только лишь постыдным… Физически ощутимо хотелось что-то с себя снять, счистить, будто нацеплял паучиных тенет, когда вроде и стряхнешь их, а все кажется, что нет… Как быть, что делать, он не знал. И понять не мог: как ни поверни, все не имело смысла. Поздно, свершилось, не сейчас, в эти дни, а давно, постепенно свершалось. Лишь понималось, что она на его совести. Что это единственное реальное из содеянного здесь, как укор и запоздалое раскаяние будились в душе строки:
Я отравил свою сестрицу, Монахиню смиренную… все я!Борька провожал Сергея до аэропорта. Не ведая, что в письме, зная лишь, что оно от Люси, по-житейски рассудительно высказался: «Да все будет нормально. Выйдет замуж, нарожает детей. Мужик добрый попадется, все в норму войдет». А когда прощались, расчувствовались и клялись в вечной дружбе, вдруг совершенно неестественно для себя, словно специально желая наполнить ощущением замороченности и подменности друга до верху, под завязку, неожиданно патетично выдал: «Будет и на нашей улице праздник!»
Самолет встал на взлетную полосу. Тяжело, напряженно загудел. Затрясся мелко. Сергею показалось, будто бы где-то впереди, в бессилии перед земным притяжением, самолет стиснул незримые зубы. Но вот чуть сдвинулся, покатился и через мгновение уже стремительно мчался. Оторвался и стал набирать высоту. Спокойно, легко и привольно.
Внизу четкими прямыми линиями светились огни города. С самолета, как осенний сухой лист, медленно упал миражный облик длинноволосого юнца и остался навсегда бродить — миражно печальный и недоуменный — по ночным улочкам.
Скоро светящиеся контуры города — этой все удаляющейся, все уменьшающейся части необъятного — исчезали. И только мгла была за иллюминатором, мгла непроглядная да мерцающий огонек впереди на крыле…
Костя выписывал из книги понравившиеся ему строки.
«Собрались перед окном тысячи… Вошли старики, бороды седыя, лица угрюмыя, теснятся друг к другу, тяжело вздыхают, вздрагивают; Степан Столобов, бледный-бледный, придвинулся к кровати. «Собирайся… отец Яков… мир требует… Ты, попадья… с нами не ходи… — заикаясь, глухо говорил Столобов, — сиди с ребятами… мир… не оставит».
Костю поразило, что так о народном бунте рассказывала сама попадья, жена казненного миром священника — в людях, чинящих расправу, ничего не было оголтелого, дикого, виделся срыв весьма отлаженной жизни племени гордого и сильного! «Мир требует, — говорит бледный-бледный старец, — мир не оставит».
Лапин распрямился, привстал и сделал то, чего давно хотелось, даже зимой — распахнул настежь окно. Хлынул свежий запашистый весенний воздух. По сизому небу с тусклыми звездами самолет, мигая огнями, совершал виток над горизонтом.
ДВОЕ НА ГОЛОЙ ЗЕМЛЕ
Карнавальной выглядела бойкая улица южного города — проплывали яркие национальные платья, мелькали кофточки с фотографиями и надписями, неторопливые стеганые халаты и вездесущие джинсы… На повышенной скорости неслись легковые автомобили, а ближе к обочине мерно поцокивали ослы. Радио на столбе заходилось в такт общему движению, звуками комузов. Пахло тополем в цвету, аппетитно потягивало жарящимися шашлыками…
Из радостно-возбужденного людского потока на тротуаре отделился — выпал тенью — патлатый нахмуренный парень. Приостановился возле старухи, которая раскладывала на широком гладком пне пучки редиски.
— Почем одна? Мне пучок много…
— Чего? Одна головка, че ли?
Парень поглядел на старуху: была она по-азиатски загорелая и по-сибирски широкая в кости.
— Попробовать просто, я из Сибири только…
— Да Господь с тобой, одну-то так возьми… А откуль из Сибири?.. — прищурилась старуха любопытно и жалостливо: молоденький вовсе парнишка, годков двадцать разве, а в глазах ровно порча какая-то. — Мы сами тожить не коренные, переселенцы…
Парень не видел, как порывисто шагнул с тротуара и наклонился к пню, потрогал редиску ладный чернявый мужик. Он, парень, только заметил краем глаза клетчатую рубашку и немного посторонился, инстинктивно почувствовав, что этому, в рубашке, надо много места.
— А откуда, не с Алтая, случаем?! — бодряцки грохмыхнул мужик, обращаясь к старухе. — То-то, я гляжу, с физиономии и костью наша! Не с Барды?..
Парень вдруг замер, затаился весь, бездыханно вовсе. Скосил глаза на мужика — и метнулся в сторону!
— Витька?! — ахнул за спиной оклик. — Витька!
Парень остановился, нехотя, в муке будто, повернулся.
— Сын!!!
И таким жарким было восклицание, так стремительно и широко взмахнул мужик руками, что в глазах парня улица со всем ее многолюдьем, деревьями, машинами уменьшилась, откатилась куда-то к линии горизонта, и осталась, разрастаясь, одна лишь эта энергичная фигура — отец родной!
Замерли на миг друг перед другом два человека. Глаза — в глаза, ожидание — в ожидание…
И Витька ощутил себя хлипким и маленьким. Тем самым маленьким мальчиком, который когда-то давно, упираясь ручонками в потемнелую деревянную полку, сидел в купе старого прокопченного вагона. Рядом с ним сидела его мать: лицо ее несколько изъедено оспой; толстоватые губы, какие бывают обычно у людей добрых, слабо улыбаются; большие темно-карие глаза внимательны и умны — такие редко бывают веселыми, но не выдают они и горя, в них полнота, сила, какое-то внутреннее нежелание выплескивать душу по пустякам — они с вами и без вас. Мать для столь маленького сына старовата. Открыл бутылку лимонада, налил в кружку и подал Витьке. Сам сделал несколько глотков из горлышка.
В поезде лимонад вкуснее: сын причмокивал, глазенки поверх кружки с интересом оглядывали купе.
«Что, Севастьян, не узнал своих крестьян, со мной охота?»
Сын улыбнулся, не ответил.
«Сейчас нельзя. Вот поеду, осмотрюсь в теплых краях, тогда вы с матерью приедете».
Мать как-то сконфуженно опустила глаза, торопливо поправила сыну треугольный чубик. Отец это отметил, суетно зашевелился, глянул недобро на жену, отвернулся, уставился в окно.
«Нигде, собаки, без пьянки обойтись не могут!» — возмутило что-то за окном отца.
Сын тоже посмотрел в окно, но увидел лишь ветки деревьев да небо, посеревшее от грязного стекла. Мальчик все держал пустую кружку в руках — почему-то боялся ее поставить, пошевелиться.
Отец вдруг круто повернулся и выпалил:
«Что, думаешь, совсем хочу уехать?! Сказано: огляжусь — вызову! — Так и пробуравил он жену глазами. — Что молчишь?»
Мать ответила просто и спокойно:
«Что говорить, Леша? Вызовешь — приедем».
«Нет, ты, сволочь, думаешь, не вызову, и этого балбеса научила! Сидит, воду дует, слова не дождешься!»
Мать привычно молчала. Сын поставил кружку на стол. Посидели так.
«Нам, наверное, пора», — несмело проговорила мать.
И как бы в подтверждение слов поезд дрогнул…
Мать и сын постояли еще на перроне у вагона. В пыльном окне торчало лицо отца. Женщина посматривала то на мужа, то вдоль вагона, то куда-то вниз: время шло для нее мучительно медленно.
Поезд фыркнул, тяжело задышал. Витька смотрел на шевелящиеся немо губы отца, улыбнулся смешно сплющенному о стекло носу.
Поезд уходил…
— Ну, здравствуй, сын, здравствуй! — нажимая на это «сын», неловко тискал отец парня, сына, так внезапно встреченного на людной улице. — Вот так номер! А я гляжу, Витька вроде пошел! еще бы чуть — и просмотрел! Ты-то как меня не заметил, рядом же стояли? Давно здесь? На каникулы? Досрочно экзамены сдал? — заваливал отец вопросами в своей привычке не слушать, а говорить только. — А на Алтай-то заезжал к матери?..
Витька дрогнул при упоминании о матери, мелко, всем телом. Взгляд его заострился, длинно, с прищуром уперся в отца.
— Н-нет, — выдавил он. И снова потупился.
— Больше года, как у нас с матерью связь пропала… — вздохнул горестно и отец. — Перестала отвечать… Я ей из Ташкента писал, сюда приехал… На одно письмо ответа нет, на другое… И ты молчишь, хотя бы открытку отцу прислал: то-то со мной, то-то, жив-здоров… Адрес — до востребования, знаешь, — вовсе в сердцах проговорил он. Помолчал, встрепенулся: — А здесь ты у кого остановился? Теперь ко мне пойдешь! У меня ягоды консервированной полно! Настойка вишневая есть — пить-то случайно не начал?
— А ты у кого?.. Где ты живешь? — спросил сын, запинаясь.
— Разве не знаешь, как я живу?! — отец извинительно и озорно хохотнул. — Подженился. До осени. — Вдруг посерьезнел, тон сделался уважительным: — Она бывшая партизанка, участница войны. Правда, к выпивке маленько тянется. А я этого дела, сам знаешь, на дух не терплю. Поживу до осени, урожай с огорода поделю и на Кубань думаю махнуть. Или в Ленинград. Если, конечно, мать нашу сюда не удастся вызвать… — закончил он переживательно. — Ну пошли.
— Да… — замялся сын, — я тут хотел… мне надо… — осекся, потускнел. Устало, но твердо проговорил: — Не пойду я. Не хочу.
— Почему? — недоумевал искренне отец. — Если чужого человека стесняешься, то это и мой дом. Он у ней заваливался, я фундамент подвел, подштукатурил, печку переложил: вековую сделал, с пятью задвижками, одним поленом протопить можно. Сад в порядок привел: у ней вся вишня ржавчиной была поедена. Я такой же хозяин, как и она. Ты мой сын! Сколько, три… четыре года не виделись. Или ты что, меня совсем за отца не считаешь?
— Ну… — тягостно поморщился Витька, — может, после… Завтра.
— Не хочешь — как хочешь, — смилостивился отец. — Пройдемся хоть тогда, посидим где-нибудь, поговорим. Не виделись столько!..
Старуха с пучками редиски провожала отца и сына, земляков своих, лучистым взглядом, и тихое свечение в глазах ее переплавлялось в глубокую печаль.
Двое, размашистый горячий мужик и напряженный, потупленный парень, оба плечистые, скуластые, лобастые. Они шли рядом по оживленной весенней улице, и не было им дела ни до весны, ни до ее красот.
— …Родня много виновата, крепко мать с панталыку сбивала, — торопился отец разом объяснить все былое. — Привыкли, что она для них — все! В лепешку готова разбиться! Чуть что — к ней, «нянька Ариша», «тетка Ариша». Сколько их, племянников, двадцать-тридцать, все приезжали из деревни, жили, учился кто, работал, кормила она их, обувала, одевала, женила, замуж выдавала… Они и привыкли, сели на шею! Уже своей семьей заживут, а все с Иры тянут! А мы с ней сошлись — родне, конечно, не нравится! Понятно, трех детей сразу приняла, хлопот с ними много, не до родни! Вот меня и в штыки! Давай наговаривать на меня всякую чепуху: и оберет, мол, он тебя и бросит, и нужна ты ему, чтоб, дескать, детей поднять, и женщина у него в каждой деревне — ездил я, таежничал. А подопьют, Семен особенно, к нам первым делом, буянить: ты нашу тетку Аришу не обижай. Его в шею вытолкаешь, ворота запрешь — через ворота, паразит, лезет! Так ладно, что я могу вытолкать!..
Витька внимательно слушал, искоса поглядывал на отца — до притягательности хотелось смотреть, вот так вот, незаметно, украдкой. И до нелепости, до немоты под сердцем удивляла мысль: вот рядом отец, от плоти и крови которого он, Виктор Томашов, и произошел!.. Витька как-то этого не чувствовал. Лицо рядом было знакомым, но… каким-то не таким, не родным, что ли?..
— Иру я как человека всегда уважал, — не умолкал отец. — Я же ее задолго до того, как сойтись нам, знал. Я с ранением в сорок третьем вернулся, она с моей первой женой в столовой вместе работала. Ни единого класса образования у человека, а все по имени-отчеству звали. Да и посмотришь на нее — так-то она больше угрюмая, а улыбнется — и добрая, видно сразу, мягкая… Когда жена-то у меня умерла, я с тремя детьми остался. Ну, женщину не сложно найти, по тем временам одиночек было — пруд пруди! Но нужна же такая, чтобы матерью могла чужим детям стать! Кто? Ира! Сошлись…
«У нас уже тогда с одним человеком из Березовской экспедиции все было сговорено, — помнил Виктор, как сквозь потаенную свою улыбку рассказывала мать. — Незаметненький хотя, против отца, но человек, видать, хороший. Одиночка. Стеснительный, за руку боялся взять, а мужику за сорок. Вот мы с ним, два сапога пара, наподобие школьников и дружили. В кино сходим, в горсад. А тут как-то иду — в город пошла, в трест, — к мосту подхожу — Леша навстречу на велике едет. И рулем-то вильнул, чуть не упал было. Останавливается, разговорились. Он меня о том, о сем расспрашивает, как живешь, где… У меня и мысли нет, к чему это он. Говорю и дивлюсь — мы с ним знакомы-то шапочно были, в лицо только. И вдруг раз, обухом по голове, — давай, говорит, сойдемся! Я пока искала, как лучше сказать, что другой-то есть, — прямо отказать вроде нехорошо, трое детей у мужика, не шутка дело, — он уж на велик да покатил. Сходила в трест, возвращаюсь, а я как раз только избушку купила по Краснооктябрьской. Прихожу домой, а у меня дым коромыслом! Он уж и детей, и вещи перевез! Нашел ключ, открыл, давай перестановку делать, прибираться, картошка на примусе жарится… А меньшая, Ленка, девятый ей тогда шел, да хорошенькая такая, прямо на шею мне кинулась: «Мама, мама наша пришла!..» Господи… Стали жить. Ну, это он, Алексей, конечно, тогда девчонку маленько подучил… Хитрый-Митрий…»
Выходит, он, Витька Томашов, появился на свет благодаря житейским неуладицам, благодаря сумятице послевоенного десятилетия…
— Все было бы у нас с Ирой хорошо: я таежничал, деньгу немалую зашибал, она с детьми оставалась, работала, ты родился… Да вот родня!.. — сокрушался между тем отец. — И ехать со мной ее отговорили! У них же понятия, будто только там от Кажи до Бийска люди живут. А дальше — конец света. А по уму-то как: куда иголка, туда и нитка! Нет, родня дороже была. Сколько писал, звал, жилье тут присматривал…
Витька мелко заморгал, ссутулился. Помнил он многие отцовские послания: едва научился читать, стал заглядывать, разбирать их по слогам. Были они в основном на почтовых открытках, красивым размашистым почерком, грубые обычно и ругательные. Костерил отец мать за все подряд, с бухты-барахты. Но особый пункт — думы ее о нем якобы скверные. За свои же домыслы бичевал! Мать его худым словом не поминала — хотя бы с чего поминать добрым? Прислал фото как-то свое на фоне морских безбрежных вод!.. То деньги телеграммой просил, остался где-то без копейки (это странно, видно, впрямь приперло: он умел зарабатывать). Родственники потом долго разводили руками: дескать, вовсе уж сивой кобылы бред, от него — шиш на масле, а она же ему… И однажды, во втором классе, подогреваемый чувствами родных, конечно, Витька сам написал отцу. Услышал в кино слово «ничтожество», и так оно его, знавшего уже наворотистые матюги, поразило, показалось самым обидным, какое есть на свете. Сердце заходилось, когда он его повторял. Вырвал тетрадный лист в косую линейку и крупно вывел: «Здравствуй, папа. Ты ничтожество». Успокоился, спрятал письмо за зеркало на стене и лег спать. Но мать утром заметила уголок бумажки, вытащила, прочитала. Дала нагоняй…
— Стоп! — резанул отец и круто свернул, оборвав на полуслове свою речь о виноватой родне. — Это надо постоять! — Витька, еще не понимая, куда и зачем, побежал следом. — Крышки! Нынче хочу побольше варенья закрыть, — вынимал отец сетку из нагрудного кармана.
Встали в хвост длинной очереди вдоль витрины магазина.
— Они так-то люди неплохие, — доканчивал-таки отец мысль, имея в виду злосчастную родню, — но неверно меня понимали, считали, что я на чужом горбу хочу в рай въехать. А тут еще одно к другому: дети старшие подросли, разбежались кто куда, и я засобирался… В глазах родни как получалось: будто только и ждал, когда дети подрастут. А я жить хотел!.. И поехал с мыслью, что мать с тобой приедет сразу, как только место присмотрю… Племянники продержали… Может, я им шумливым казался? Бывало, по своей торопливости и нашумлю. Так у меня голос такой: говорю, а люди думают — кричу, прибегут: «Ты чего тут командуешь?! А ты чего, тетка Ира, перед ним робеешь?!» А Ира все, бывало, скажет: «Он будет кричать да я буду — это что же у нас получится?..»
Передохнул, осмотрелся по-хозяйски, вперев руки в бока. Возмутился недостатком такого дерьма, как крышки. Очередь сразу откликнулась, заговорили. И отец уже, будто знакомым, близким, поведал горделиво, что вот приехал к нему, пенсионеру, сын, студент физкультурного института. Боксер! Даст в челюсть — в трех местах лопнет! Словом, парень хоть куда! Только больно уж веселый. Балагур! Рот клещами не разожмешь!
На Витьку с любопытством смотрели и улыбались. И он тоже в ответ улыбался всем, улыбался. И отец вздрагивал редкими смешками, по-детски выпятив язык. Узрел газетный стенд, смахнул ладошкой слезинки в уголке глаза:
— Международное положение таково, что зевать нельзя. Постой пока, — и пошел читать газету.
И шумная улица без отцова голоса показалась Витьке тихой, будто самолет после посадки заглушил моторы. И в душе стало тихо, просторно.
Уже долговязым тринадцатилетним подростком ехал Витька через знойные казахские степи к какому-то непонятному, полузабытому отцу. Тогда многие уезжали из Сибири на юг. Подтолкнул поток и их, мать с сыном. Правда, они подались не за теплом, а к мужу, отцу. Он стал настойчиво звать. Сначала решили окончательно с места не срываться, съездить, посмотреть. Тем паче нигде мать за свою жизнь не была.
Весь путь она была непривычно улыбчива, но вдруг задумывалась, и проступала в лице неуверенность, мука даже. Спохватывалась, снова любовно и улыбчиво поглядывала на сына, хотя что-то горькое у губ все равно оставалось. А Витька неотрывно торчал у окна — там, за вагонным окном, было много удивительного! Бесконечные желтые волны барханов, палящее солнце, ослы, верблюды, будто погустевшее небо, стоймя разлившееся по горизонту, синева Балхаша, смоляно-загорелые пацанята со связками вяленых и копченых сазанов; на станциях горы арбузов, а вокруг вырезанных для пробы зернисто-красных пирамидок роем жужжали пчелы. А самое невероятное — яблоки ведрами, как картошка!
Наконец, в недвижно клубящемся вихре зелени предвечерний город. Тот самый, где на одной из окраинных улочек живет отец. Привокзальная площадь с огромной клумбой посередине и упирающимся в нее широким бульваром; запах медунок, еще какой-то резкий — отдает нашатырем, но приятный — запах роз, как выяснилось; раскаленный асфальт; теплый, без единого дуновения воздух, разномастный народ в ярких одеждах. И захватывающее дух чудо — горы, три гряды призрачными исполинами вздымающиеся над городом.
В Доме колхозника переночевали, с утра пораньше отправились искать отца. На матери было лучшее ее платье кофейного цвета, с рифлеными сборочками на груди. Правда, шерстяное, не по местной погоде. Мать немного смущалась, но Витьке очень нравилось, когда она надевала это платье; и он с твердостью заверил: «Ничего, зато красивое. И не такое уж теплое, люди вон в стеганых халатах ходят!»
Зашли в столовую, именуемую «Ашхана». Взяли блюдо с незнакомым названием «лагман». Еда обоих развеселила: смешили собственные попытки подцепить и донести до рта соскальзывающие с ложки длинные макаронины. Мать была, как обычно, спокойна и благодушна. Только кончик потемнелой алюминиевой ложки мелко подрагивал в ее руке. И вдруг — сорвалась с него жирная капля на рубчик светло-кофейного платья!.. Мать пошла к крану, замыла крохотное пятнышко. Витька, без дураков, в самом деле ничего заметить не мог, ну, может, если уж очень приглядываться, есть какая-то точечка, так подумаешь, важность! Но мать страшно переживала, не давало ей пятнышко покоя. Пока ехали в автобусе, то и дело трогала рубчик, приваливала его туда-сюда. Нашла наконец выход: повязала на шею косыночку, прикрыла рубчик. Вроде успокоилась. Щурясь от солнца, долго смотрела в окно на белую полоску воды широкого арыка. Вздохнула, сняла косынку, небрежно сунула обратно в сумочку.
Мать осталась на перекрестке, а Витька пошел по адресу. Беленый домик с залезшими на крышу ветками вишен, дощатые воротики. Рука не поднималась, не хватало ей сил постучать или повернуть железное кольцо. Витька еще и еще прикидывал в уме, твердил слова, какие станет говорить. Какие — если выйдет он, отец; какие — если она, женщина, жена его или кто там. Но в голове пульсировала пустота, стук сердца отдавался в коленях. И так подзуживало убежать, повернуться, и со всех ног отсюда, на вокзал, сесть с матерью в поезд — и домой, ну их к дьяволу, все эти яблоки, арбузы, и отца туда же!.. Домой! К друзьям, к родне, к теткам, браткам многочисленным, няням, которые души все не чают в матери, любят и холят его, Витьку, единственного в большой материнской родне сиротинушку… Зачем он здесь?! Что ему надо? Но ведь сам же, сам рвался в неведомые «теплые края», сам хотел к отцу!
Витька открыл воротики, прошел по двору. За домом, в саду, в густых ветках деревьев, кто-то шебаршил. С лестницы-стремянки, в майке, галифе, с ведром, привязанным к поясу, наполненным черными ягодками, со стогом, спускался… отец. Витька остановился в молчании…
Отец быстро взял все в толк, крикнул тогдашнюю жену свою, велел кормить сына и угощать, а сам умчался к его матери…
От газетного стенда отец возвратился озабоченный, негромкий:
— На пороховой бочке сидят и спичками играют… Ты газеты смотрел сегодня?
— Да… — отмахнулся сын.
— Как это «да»?! Газеты не читаешь? Как же так жить?! Молодому человеку! — возмущался недоуменно отец. — Я уже пожилой, а последние известия не послушаю, газеты не просмотрю, будто не поел! Как жить, если не знаешь, что происходит в мире?! Надо быть в курсе международной политики, знать внутригосударственные дела!..
— Знаю я, что мне надо… — сын покривился.
— Откуда знаешь, если не читаешь? Разве «Голос» слушаешь? Этого мало. Они же, собаки, большей частью брешут! Ты смотри, сейчас надо держать ухо востро! Всякой сволочи развелось! Болтают, что не надо, — поддаются вредительской агитации! А буржуазному лагерю на руку, чтоб у наших граждан вера расшатывалась. Надо это четко понимать! Ты думаешь, для чего они затеяли эту волокиту с правами человека? Помни: твой дед был одним из основных руководителей рабоче-крестьянского движения на Алтае! Простой, неграмотный мужик! А зачем, думаешь, я в Ленинград собираюсь? Увидел в газете снимок коллектива рабочих. И одного узнал. Мы с ним вместе призывались, в одну роту попали, и в первых же боях он дезертировал. Потом вроде полицаем был. По шраму на губе его узнал. Шрам от левой ноздри. Хочу поехать разобраться!
— Зачем?..
— Как это «зачем»?! — В голосе отца зазвучал металл. — Враг где-то живет, пристроился, а мы будем рот разевать?! Кто знает, с кем он связан? Так рассуждать — «зачем», — мы быстро в трубу вылетим! Никто не забыт, ничто не забыто! Осенью с сада кое-что соберу, продам и поеду, — отвердел он в своем решении.
— По газетному снимку человека узнать… — Сын пожал плечами. — Может, ошибся…
— Я о-чень редко когда о-шибаюсь! — выдолбил отец. — И почти всех, кого в жизни встречал, все, что видел, помню! Самую малость разве забыл.
Умолк, задумался. Будто сдерживая зевок, чуть ощерился, поглядел вдаль. Но тотчас острое ухо его уловило что-то любопытное, заинтересовался, прислушался. И через три-четыре головы встрял в степенный разговор двух стоявших в очереди пожилых женщин:
— И считаете, густое варенье — это хорошо? Наварят, понимаете, ложкой не повернешь! Витамины же перевариваются! Надо закрывать, пастеризовать ягоду в собственном соку или перекручивать с сахаром. А как пастеризовать? Банку с ягодой в собственном соку ставим в бак с водой…
— Извините, как вы говорите?..
— А сок откуда?..
— Так! Чтоб я каждому по отдельности сто раз не рассказывал, слушайте все! — гаркнул отец на всю очередь. Вышел, попутно прихватив у кого-то банку, встал по центру. — Внимание!..
Витьке сначала было неловко, думал, сейчас народ или погрузится в глубокое недоумение, или сразу расхохочется. Нет, ничего, будто так и надо. Все повернулись и слушали. А отец, подняв банку над головой, вещал зычным голосом, как лучше консервировать ягоду!
И, может быть, так, наверное, так Витькин дед, его отец, герой гражданской войны, по рассказам такой же речистый и ярый, с саблей наголо, горячо и напористо взывал к своим бойцам перед боем?.. И плохо вооруженные крестьяне, именуемые партизанским полком, поднимались в атаку, били, гнали к монгольской границе банды есаула Кайгородова!
Отец закончил насчет варенья, с налету, уже всей очереди, поведал о приезде сына, способном при случае, несмотря на внешнюю худосочность, крошить кулаками челюсти. И под общее одобрение внеочередно сделал покупку.
Побрякивая крышками в сетке, распаленный, еще раз позвал сына: «Айда ко мне, чего без дела слоняться, хоть поешь…» Тот опять несогласно мотнул головой, отвел глаза. Замолчал и отец. И насела на обоих тягость. Людная улица смазалась, потекла серой массой. Остались напряженные, неспешные шаги, два плеча рядом, будто сцепленные, набухающие от непроходящего утомительного ощущения друг друга. Два звучных неспокойных дыхания…
Впереди шагала семья: темноволосые родители вели за ручки белокурых мальчика и девочку — чудеса Азии! В пылкой своей беседе — эмоциональные, видно, люди, — подкрепляя слово жестом, ручки детские поочередно бросали. Малышам это явно не нравилось, они ловили и старались не выпускать родительские руки.
Витька чувствовал, в отце закипает раздражение. Когда-то он боялся внезапной отцовской ярости, старался улизнуть. Теперь желал ее, прорвавшуюся, оголтелую. Ему есть что сказать отцу, что спросить. Есть!
Белокурый мальчик нашел-таки способ удержать руки родителей — крепче сжал папину, поймал мамину — и тотчас же поджал ноги! Молодчина!
Да, незачем ему, Витьке, ломать комедию, делать вид, будто бы прошлое забыто, отброшено или, по крайней мере, кто его вспомнит, тому глаз вон — черт с ним, с глазом, если в памяти занозой, пнем с корневищами сидят «эпизодики из жизни», обида за себя, а больше за мать. Если даже фамилией отца Витьку в детстве попросту дразнили — он носит фамилию матери. Родственники в шутку его называли: «Ладов», а он злился всерьез, до слез доказывал: «Томашов!» Скоро и гораздая до кличек пацанва стала подразнивать: «Ладов-оладов», не понимая вовсе, отчего заводится дружок…
Темноволосые родители после сынишки вынуждены были пронести и девочку, теперь шли молча, без жестов.
Нет, пожалуй, сопеть и раздражаться отцу не стоит… Только он, Витька, имеет сейчас право злиться, только он!
— Это у вас на соплях работа, дорогие товарищи! — приостановился отец напротив строящегося особняка.
И вид у него был такой, словно не пережила душа его тягостной минутки, а шел человек, наслаждался беседой и вдруг узрел лично его касающийся непорядок.
— Вашу кладку ничего не стоит по кирпичику разобрать. А ведь можно из того же кирпича и на том же растворе делать так — ломом не разворотишь!
— Можешь — делай, — угораздило хмыкнуть одного из каменщиков.
Отец стал засучивать рукава. Предложил спор. И трое каменщиков бросили работу, в каком-то глубочайшем серьезе принялись сооружать стопочки из пяти кирпичей — каждый свою, чья выйдет крепче!
Отец подождал, пока они начали, предупредил, чтоб за ним не следили. Сына заставил нести за собой ведро с раствором, сам с кирпичами направился за угол постройки. Бухнул ношу в арык. Повременил малость и единым порывом, сноровисто и отточенно орудуя мастерком, вырастил свою стопочку. Витьке затея со спором казалась сумасбродной. Но наблюдал он за работой отца, и сухой комочек в его груди поневоле мягчал, рассасывался. Золотые руки у человека! Он клал дома, печи, но никогда профессиональным каменщиком не был. А впечатление — будто всю жизнь только этим и занимался! Какое-то природное умение хватать любое дело на лету, осваивать мгновенно, причем в совершенстве, на высоком уровне мастерства. Он был отличным, редким штукатуром, плотником, маляром, столяром — словом, владел любой строительной специальностью, знал толк в слесарном деле, умел искать воду под землей и копать колодцы. Витька просто не представлял себе какой-либо ручной труд, который отцу был бы неподвластен. А кем и где только он не работал! Сын, правда, захватил лишь пору, когда отец занимался промыслом. До того заведовал лесхозом, но нашел однажды в лесу маленьких волчат, получил за них хорошее вознаграждение, заделался охотником. После стал добывать лекарственные корни, бил кедровые орехи, малевал ковры: Аленушку с братцем Иванушкой, Ивана-царевича на сером волке… — была на такое когда-то мода и спрос. А главным образом, бесконечно путешествовал!…
— Секрет прост, ерундовый, — заговорщицки шептал Витьке отец. — Намочить надо кирпич. Сухой кирпич из раствора сразу влагу впитает, раствор высох — ногтем можно отколупнуть. А тут еще юг, солнце. Они этого не понимают! А так сохнет медленно, сцепка прочная. — Усмехнулся довольно, и на нижнюю губу по-детски забавно вылез кончик языка.
Сначала отец пообещал строителям зайти на следующее утро — разрешить спор, проверить прочность кладки, — но по ходу передумал, оставил адрес: кому надо, кто себя и свое дело уважает, заинтересуется, сам придет.
У Витьки губы невольно ползли набок: ну чего ради было заваривать такую кашу? Какой смысл? Взбаламутил людей, оторвал от дела, ничего толком так и не объяснил, какой-нибудь бедолага попрется теперь еще за «секретом»… Что за человек?!
— Спорить они будут, — остывая, проговорил отец, когда вышли на улицу. — Не таким мозги ввинчивал. А все просто. Просто, а понимать не хотят. Вот скажи я им сразу: так, мол, и так, лучше кирпич мочить — мимо ушей пропустят! Потому что просто. А замути воду, наизнанку выверни да через задницу покажи — глаза на лоб — как?! Знаешь эту историю, как народ заставили картошку выращивать? При Петре в Россию картошку завезли. Привезли, стали народу раздавать — садите. Не берут! Не хотят. Тогда какой-то человек, видно, высокоумный, смикитил охрану поставить, сделать вид, что стерегут. Тут же разворовали! Дурак народ. Выгоды своей понимать не умеет.
— А какая тебе разница: поймут — не поймут, будут мочить — не будут? — усмехнулся сын.
— Странно ты рассуждаешь! Я как-то с одним режиссером ехал. Он мне рассказывал, как спектакли ставят. Если разобраться — зачем мне это надо? Ну раз не знаю — слушал. Интересно. Мотал на ус. Все может сгодиться в жизни.
— Ты помнишь наш первый приезд сюда с мамой? Платье какое было на маме, помнишь? — вдруг спросил сын.
— В первый? Это когда она пристреляться приезжала? Коричневое было платье. — Ответ отца не затруднил. — А чего ты спрашиваешь?
Помнит. Сын убедился. Действительно, все помнит. Мотает на ус. Только как-то… «пристреляться»… — и все.
— Тоже вот, — продолжал отец, — сколько лет резину тянула, собралась наконец, нет и тут — сначала надо было примериться! Что да как? Не доверяла…
Витьке попалась на глаза пробка, он стал ее попинывать.
В тот приезд, когда, по отцовскому выражению, мать «пристреливалась», не очень-то он звал ее. Так, для острастки. И мать твердо тогда решила не перебираться, не сходиться с мужем. Дня через два она уехала, а сын пробыл у отца еще с месяц. За это время произошло событие, повернувшее многое в жизни: он попал на соревнования по боксу, впервые увидел поединки статных мускулистых мужчин в кожаных перчатках. И когда вернулся домой, только и рассказывал дружкам, что о боксе. В их городке секции не оказалось, стал говорить матери о переезде — так хотелось стать боксером! А тут, кстати, словно по сговору, посыпались одно за другим от отца зазывные ласковые письма с серьезными планами совместной жизни, полетели телеграммы. Но сколь легко было срываться с места отцу, столь непросто матери.
Ариша уезжает! Ариша… — не уразуметь!
Чуть ли не вся большая родня, на редкость прочная по своим устоям кровной близости, на перроне, тут же соседи, знакомые. Провожают, рвут из рук в руки Витьку и мать, говорят наперебой что-то самое важное, последнее, пьяно дышат, всхлипывают, кто-то причитает. Нянька Ариша, тетка Ариша! Уезжает! Беда — шли к ней, нужен совет, помощь — к Арише, не оставит. Самых отъявленных буянов умела усмирять она, найти горемыкам тихое теплое словцо — стыдились ее, кляли себя, обещая и веря, хоть на день, на час, что заживут ох как, покажут еще всем кузькину мать! Узелком связующим была она, опорой, совестью даже как бы общей, что ли. Уезжает. Горько! Конечно, пусть, слава богу, если все будет хорошо, слава богу…
А когда поезд тронулся, большая шумная ватага сорвалась разом с места и побежала за вагоном. Бежали, потрясали кулаками, что-то все кричали, кричали, навзрыд, вдогонку…
Мать, стоя в тамбуре, впилась взглядом в родных. Крепилась, глотала воздух ртом, словно пыталась за него зацепиться, закусывала губы, сдерживая ответный крик, стон, слезы. Что творилось, боролось, рвалось в душе ее с этим нарастающим перестуком колес? На какое счастье рассчитывала пятидесятилетняя женщина, весь век прожившая в родных краях, заботами, делами близких своих? А может, ни на что и не рассчитывала, ехала к мужу, отцу ее сына, пытала судьбу и лишь немножечко надеялась.
На небольшой узловой станции Алтайка была пересадка. Взмыленные после полудневной толкучки у кассы, закомпостировали билет, дали отцу телеграмму. И пока шли на посадку со своей громоздкой ношей, состав, прямо на глазах, дернулся и покатился. Поехал, и все тут. Понеслись за ним во всю прыть мать с двумя чемоданами, сын, вперебежку, то с чемоданом и фотоувеличителем, то с полкулем муки. Такой нелепый груз! Долго собирались мать с сыном, а сорвались ехать в день. Поспешно, сумбурно. Будто гнал кто. Утром мать наготовила угощенья для проводов, к обеду упаковали, вернее, набили как попало и отправили контейнер, посидели за столом с родственниками, а к вечеру поехали. Понятно, в суматохе забыли многое уложить. Увеличитель — жалко вроде бросать — повезли с собой, а муку тем более. Туговато было тогда с хлебом: кто знает — каково на новом месте придется, помочь некому.
И вот эти-то полмешка муки Витька успел закинуть в тамбур последнего вагона. Вернулся за оставленными по ходу вещами, схватил было, бросил, побежал налегке, но квадратик последнего вагона покачивался впереди и удалялся. Увозил драгоценную, бесхозную уже муку. Хоть плачь, хоть реви! И было в этом что-то непостижимое, невероятное, мерещилась чья-то всесильная насмешка.
Тут же нашелся добрый человек, подсказал: на следующей станции поезд стоит долго, а от вокзальчика как раз туда отправляется автобус. Втиснулись со своей поклажей в маленький «пазик», всю дорогу мысленно подгоняли едва ползущий автобус, теряя всякую надежду. Но приехали, выскочили на перрон — на первом пути, как диво великое, стоит нужный состав. Правда, два последних вагона — как выяснилось — были отцеплены и отбуксированы куда-то в тупик. А с ними, выходит, и полмешка муки. Но мать с сыном уже не расстроились, а с легкими, счастливыми вздохами великодушно подарили свои полмешка работникам железнодорожного транспорта. Пусть кто-то радуется!
И снова двухсуточный путь, знойные степи, Балхаш, солончаки… и, как год назад, утопающий в зелени город теплым, тихим, сумеречным вечером. Народ вывалил из вагонов, встречаются, обнимаются, снуют. А мать с сыном стоят, стиснутые толпой, среди своих чемоданов, стоят потерянные, робеющие. Нет отца! Куда они? Зачем здесь? Что будет? Вдруг общий гвалт перекрыл голос, вовсе пригвоздил подростка и женщину: «Ты что, дура, не могла номер вагона указать?! Из конца в конец ношусь!..» Разметая людскую массу, надвигалась знакомая распаленная фигура. А когда уже в троллейбусе мать непривычно шебутливо поведала историю с мукой, отец рубанул: «Дурака валяешь! На что мне твоя мука — здесь в магазинах ее полно!» И даже четырнадцатилетнему Витьке стало ясно: что-то, видно, пока они собирались и ехали, изменилось в отцовском настрое, что-то успел он передумать. Впрочем, у него всегда было семь пятниц на неделе.
Отец рядом размахивал руками и что-то говорил, рассуждал. Виктор не слушал, улавливая лишь общее.
— Ты наш дом не ходил не смотрел?! — Сменился, вспыхнул вдруг отцовский тон. — Бывший, конечно, наш!
— Дом?.. — не сразу включился Витька, сообразил, затряс головой. — А-а, нет. Не заходил.
— Ты какой-то стал дурной… Притюкнутый. На ленивца похож. Обезьяна есть такая, ленивец. Висит на ветке и часами смо-о-отрит и смо-о-отрит… Идешь — глаза в колени. О чем думаешь?.. Как же так, не сходить? Там твой труд тоже есть. Посмотрел бы. Правда, дома совсем не видно, вишня сильно разрослась. Ну, сказал бы, объяснил: жил тут я, пустили бы. Меня-то хозяева нынешние хорошо знают. Я осенью заходил. От ворот мы виноград насадили, помнишь, такие грозди теперь висят! — Отец взвесил на ладони тяжесть невидимых гроздей. — А, ты же не захватил: я торцевую стену и эту, боковую, во двор, расписал. По углам бисером, будто вышивка, а на самих стенах — ветки еловые, а по ним белки прыгают. А какой сад стал! Очистили его мы, обиходили — он и пышет! — Отец сожалеючи причмокнул. — Не собралась бы Ира ехать — жили бы и по сей день… Фруктовые, витаминные места, что ей, больному человеку, еще надо? Нет, подалась в свою драную Сибирь! К родне своей ненаглядной, в родные, видите ли, края. Что, мол, случится, так там… Предрассудки.
Сын коротко глянул на отца, опустил голову, набычился.
— Что ты все морду-то воротишь? — прорвало отца. — Я плохого, по-моему, ничего не сказал. Сказал, что дом зря прохлопали, что условия для больного человека здесь более благоприятные. Да и для здорового — тоже. Конечно, в Крыму или на Кубани еще лучше, не так жарко, хотя как кому, там влажность повышенная. По крайней мере с Сибирью ни то, ни другое не сравнишь. Морозов нет, и то хорошо. Разве не верно? Что тебе не нравится?!
— Лучше, хуже, — пробухтел сын. — Заболела мама здесь…
— Не пори чепухи! Ты просто забыл или не знаешь: она еще, когда тебе было года три, в тяжелом состоянии в больнице лежала.
Прошло в Витьке, перегорело всякое желание что-либо выяснять, сил нет, усталость. Да и всего, всех вопросов к отцу, что душу тискают, не выложишь, не растолкуешь…
Затомила жажда, направился к летнему открытому кафе на углу, стеклянному павильончику с выносными столиками, или, проще, к забегаловке. Пока он с парой кружек и сеткой с крышками устраивался за столик, под грибком, отец у прилавка задал легкий нагоняй, пригрозив для убедительности жалобой в трест, толстенькому волосатому буфетчику за наличие пьянства в заведении. Тот хамовато фыркнул, но взялся за тряпку. Витька настраивался тихо, мирно попить кумыс, закусить мантами и уселся подальше от всех, а отец снова привлекал общее внимание! Сколько можно быть волоском на лысине?!
— Кто тут базар поднимает? — не понравилось отцовское вмешательство здоровенному детине из подвыпившей компании за столиком рядом со стойкой. — Где тут пьяные? Ну, покажи? Я что-то не вижу. Или грамотный сильно, все знаешь?
— Да твоего побольше, — бросил отец через плечо.
— А если я тебе натру мусало?.. — спокойно проговорил детина.
— Выражайся по-человечески, — все еще через плечо, довольно спокойно сказал отец. И вдруг влепил: — С-собаки кусок!
— Чего?.. — скрывая замешательство, детина нарочито засмеялся, глянул на дружков, приглашая как бы всех повеселиться. — Смотри-ка, люди отдыхают, а он нарисовался… Аппетит портит!
Он и без того сидел, вытянув поперек прохода длинные ноги, — Витька не то их обошел, не то перешагнул, не заметил. А теперь детина показно развалился, ноги проход почти перекрыли.
Что называется, отец напросился. Виктор готов был сам его поколотить — ну нельзя же лезть в каждую дырку затычкой! Поднимался с намерением как-то все уладить. А мордовороты за столом добрые, как на подбор, попробуй с такими поговори.
Дальнейший ход событий Витькой воспринимался кадрами, как в кино.
Отец идет: в руке манты в тарелочке из фольги. Вся компания с довольнейшими улыбками смотрит на него. Длинные ноги поперек прохода. И с ходу отец лупит со всего маху по этим ногам, по лодыжке! Детина сжался. Компания ничего понять не успела, ни один не шелохнулся, лишь улыбки застыли. Отец цепко схватил детину повыше локтя, двинул вперед:
— Пройдемте, товарищ! — прострелил уши его голос.
— Куда? — заупирался тот.
— Куда следует! Порядки в общественном заведении надо соблюдать! — В сумятице отец уже изловчился поставить тарелочку на стол, вывернув запястье, заломил детине руки за спину и решительно толкал вперед.
— Ты чего?.. Куда… — упрямился парнина.
— Товарищ… Товарищ… извините, не знаю, как вас… Он же ничего… Он пошутил… — не оставляла дружка в беде компания.
«Товарищ» дал себя еще поупрашивать, потом зло, но официально, будто имеет какие-то полномочия, скомандовал немедленно всем разойтись. Детина не сразу послушался, стоял, пучил глаза, раздувал ноздри. Дружки притишенно, осторожно успокаивали его, уводили, объясняя больше жестами, постукивая пальцами по плечам, обозначая так, видно, погоны со звездочками.
— Тебе бы землю пахать или на стройке работать, а ты сидишь, надуваешься!.. — нравоучительствовал отец, — Руки не знаешь куда деть! — И тут ему пришла в голову, наверное, какая-то забавная мысль, потому как он спокойно, заботливо даже окликнул: — Подожди.
Достал из кармана складной ножичек, открыл, подошел к парню, сунул лезвие в гульфик брюк и резко срезал все пуговицы: брюки поползли вниз, детина за них схватился.
— Раз некуда тебе руки девать — держи штаны! — сказал отец. И пошел к сыну.
В кафе до сего момента все молчали, теперь раздавались смешки. Чернявый буфетчик и женщина в замусоленном белом фартуке поблагодарили «товарища из органов», что очистил заведение от хулиганья. Принялись тщательно протирать столы.
Витька крепко облил манты уксусом, посыпал красным перцем. Ел, во рту горело, присасывался к кружке, с удовольствием тянул прохладную, кисловатую, пощипывающую нёбо жидкость. Но, пожалуй, больше нравилась ему сама мысль, что вот пьет нечто такое редкое, непривычное, кобылье молоко с градусами, кумыс! И было неловко теперь ему, что не встрял, не вступился за отца… С другой стороны, разберись, за кого тут надо было вступаться?
— Падаль! — поругивался отец. — Думают, хари наели, так управы на них нет! Зальют глаза и сидят. Зря двум-трем не насовали, чтоб неповадно было другим!
— А если бы они… не растерялись. Шестеро все-таки.
— Меня побить нельзя. Меня можно убить, а побить нельзя. Все равно достану одного, вцеплюсь в горло.
Отец попробовал манты, надкусил, бросил, отплюнулся. (Они действительно были не ахти: манты лук любят, но и мясо в них должно быть!) Пригубил кумыс, поперхнулся.
— Как тебе такая дрянь в рот лезет?! Думаешь, настоящий кумыс тебе налили? Бурду разбавленную. Неохота связываться, в другое время выяснил бы, насколько это чистый продукт. Желудок себе испортишь и перцу без меры валишь — ты по коренным азиатам не равняйся, они привычные, вековое это у них. Я тоже раньше не разбирал, все подрубал. А теперь чуть что поем тяжелое — так сопрет!.. Молодость — дело проходящее.
— Выглядишь ты отлично, ничуть не постарел. Тебе же шестьдесят один, а пятидесяти не дашь ни за что.
— Ну, во-первых, я всю жизнь не пью, не курю. Старался верно питаться — желудок от природы у меня неважнецкий. Сам знаешь, парнишкой был, а понимал. Пододвинешь мне, бывало, что получше: «У папы желудок плохой, ему надо пищу помягче…» Как ни говори, голод пережил, войну… — Руки отца не умели бездействовать, сновали, переставляли бесконечно предметы на столе. — А во-вторых, порода наша моложавая! Дед твой, смотри, прошел германскую, вернулся с ранением, без руки — рука была, но перебитая, неработающая. В гражданскую командовал полком, снова был тяжело ранен. В известные годы подвергался репрессии, сидел. Что и на меня малость… Падлюка одна славу всю хотела себе присвоить, будто бы он один революцию на Алтае совершал. Пограмотней, правда, других был, книжечку написал, где обвинил деда в левом эсерстве. Дед, пожалуй, знать не знал про таких. Написал этот гад книжечку, пришел к деду, стал читать. Первой мать не выдержала: ты что же, говорит, растакой-то, тут понаписал, твоей еще вони в этих краях не было, а Ладова уж имя во всех селах знали. А дед еще послушал, послушал, схватил пистолет с именной надписью товарища Калинина, да и без долгих рассуждений — в писателя! Мать едва успела руку отбить, пуля повыше головы прошла. Долго потом еще дырку в стене так и не замазывали. А деда ночью забрали. Ну, друзья дедовы тоже в долгу не остались — написали куда следует. Паразит этот в тридцать седьмом без следа канул. Хе… А встретились мы с отцом, когда ему уже было под семьдесят, незадолго до смерти, но выглядел… статный, внушительный, породистый мужчина. Говорил гладко, красиво. И по линии матери моей народ крепкий. Она, грешным делом, выпить любила, правда. В мои годы уже выпьет литр, напляшется, напоется. А потом еще за другим литром пойдет в Шипуново за семь верст. И ты будешь моложавый — порода!
— Я?! — удивленно оторвался от кружки сын. — Ты считаешь, что я… в твою породу?
— А в чью еще! Со лбом, бровями, скулами — вылитый дед. Ты разве не заходил в музей, не видел его фотографию, где он молодой в папахе? Сильно вы там схожи. Наша порода прочная, редкая. Все предки были люди высокомастеровые. Сама фамилия произошла от слова «лад», ладить — Ладов. И с головой были. Встречались даже высокоумные. Взять того же деда. Он с братом церкви ставил без единого гвоздя. С германской пришел — одного креста только не хватало до Георгиевского кавалера. Неграмотный мужик, а сумел верно понять исторический момент. Собрал, возглавил людей, стал одним из руководителей партизанского движения. А ведь многие высокообразованные люди не поняли: Репин, скажем, Шаляпин, Бунин… Учитывай еще, что дед был без руки, а в то время сила много значила для командира. Надо было лучше, чем другие, править конем, владеть саблей. Дед отличался ловкостью и одной своей здоровой левой укладывал любого. — Отец садился на конька по поводу породы, расходился. — Я неглупый человек, но у меня лишь половина отцовского ума: я, бывало, только подумаю, а он уж говорит. Дальше пойдем по родословной ветке. Прадед мой, — загнул он палец, — Тимофей Иванович, был сослан на реку Лену за бунтарские действия. Тоже, выходит, причастен к революции, не принимал царский режим. А прапрапрадед Степан Афанасьевич бежал с демидовских заводов на вольные алтайские земли. Мы древние выходцы с Урала…
— Так я, значит, твоей породы? — повторил сын, будто ничего не слышал. Замельтешил, задергался на месте. — А помню раньше… ты все говорил, «он» — то есть я — в томашовскую породу. Толку ждать нечего, не сопьется, так хорошо… И кормить не стоит.
— Ерунду мелешь! Когда это я такое говорил?! Что, не кормили тебя?! Сейчас похудел, а тогда жеребец был, будь здоров. Не заботились мы, выходит, о тебе с матерью?! Самый лучший кусок отдавали. Школьник, два костюма имел по моде! Туфли дорогие! А я, между прочим, за жизнь и одного доброго костюма не сносил. А на мать тебе и вовсе грех пенять!..
— Да при чем здесь мама? — Витька давился словами, обжигался словно. — О тебе я!.. Потом — да, заботился. А сначала, когда приехали… Сначала, первые полтора-два года, за человека же не считал: «Болван, дурак томашовский…» Другого имени не было. Это же не я тебе еду получше отдавал, а ты мне похуже подвигал: «Желудок молодой, переработает».
— Что ты… — задохнулся отец. — Что ты городишь! По триста литров варенья наваривал — для кого?! Боксом захотел заниматься — иди! Спортивный костюм купил, грушу сделал. Повесил! Чем ты недоволен? Что тебе не хватало?! — Он возмущенно засопел, отвернулся. Не выдержал: — Или тебе разносолы из Парижа надо было?
Витька понял, что перебрал, не надо было уж так-то. Само как-то вылетело. Глянул по сторонам: теперь они с отцом точно были как на сцене.
— Правильно все, — пошел он на мировую. — Я просто к чему, что после, когда я республику по юношам выиграл, в газетенке маленько прописали, ты ко мне стал лучше относиться. Хорошо. В свою породу переписал…
— Никогда никакой разницы не делал, всегда к тебе относился одинаково, как к сыну! — обрубил отец. — Да не пей, говорят тебе, эту мочу! — Остановил сына, который опять присосался к кружке. — Знаешь что, чем всякой дрянью травиться, раз не хочешь ко мне, давай доскочим до нашего дома. Хозяева меня знают, уважают — как дорогих гостей нас примут. И дом посмотришь!
Знакомый дощатый мостик через арык, коричневая, перетянутая по диагонали витой проволокой калитка, сбоку груда камней, приваленных к изгороди, — сколько поездили они на Витьке! Сад достался неухоженным, был завален камнями. Витька отовсюду собирал их и стаскивал в кучу. Но куча то и дело в недобрый час попадала отцу под ноги — ругался, заставлял перенести, указывал куда. Но, куда ни кинь — все клин. Скоро опять натыкался или просто куча начинала мозолить глаза ему — и сын пер камни на новое место. Теперь слежались, поросли травой. От калитки, меж сводами виноградных лоз, цементированная дорожка, переходящая в цементированный двор с колодцем посередке. И, словно детский картонный кубик, дом с летящими по стенам полинялыми белками. Все дело рук отца и сына.
Оказалось: дом недавно был перепродан. У него новые владельцы. И узкоплечая, широкобедрая хозяйка, похожая на удлиненный кувшин, приняла непрошеных гостей если не в штыки, то несколько враждебно. Понятно: сидела женщина в затемненной комнате, смотрела телевизор, ввалились два странных типа; один, мужчина в возрасте, с порога начал размахивать руками, орать, будто она глухая, другой, мрачный лохматый парень, заворочал глазищами, принялся что-то выглядывать, выглядывать. Хозяйка вытянулась, как гусыня, мягко заводила руками, перепуганно, но с достоинством, сдержанно стала твердить, что дом уже продан, а муж и сын у ней в саду, а она знать ничего не знает. На что отец четко и вразумительно отбил, что покупать никто ничего не собирается, пришли посмотреть, потому как жили в этом доме, построили его, а потом продали. Женщина вняла, но смотрела настороженно. Отец поинтересовался, откуда она, выяснилось: из Чебоксар. И он сразу заговорил о великом ее земляке Чапаеве, перескочил на космонавта Андрияна Николаева, попутно поведал, что они тоже земляки космонавта Германа Титова, обращаясь уже больше к сыну, не забыл боксеров — чебоксарцев Соколова и Львова. И окончательно расположил к себе хозяйку, подыскал, так сказать, ключик, когда показал на экран, где певица, взяв высокую ноту, сильно раскрыла рот: «Вот бы сейчас ей туда помидорку вставить». И сам расхохотался первый. Женщина, видно, тоже обладала пылким воображением, представила, как заткнется певица с помидоркой во рту, и воспитанно, прикрыв зубы губами, зашлась в любезном балалаечном смехе.
У Витьки было вообще туго с юмором. Хмыкнул за компанию и с чистой совестью пошел по комнатам. Чужая красивая мебель, гладкие, отсвечивающие голубизной белые стены, хорошо подогнанный крашеный пол. Чисто, сухо, свежо, уютно. Сын захватил дом таким, довелось немного пожить в таком. Но помнил другим: без пола, с неоштукатуренным потолком и стенами — дом, где провели они с матерью ту лютую зиму, о которой говорили, что не было подобной в этих краях семьдесят лет!
Мать в третий год жизни на юге тяжело заболела, осложнились старые недуги, больше двух месяцев, почти всю осень, пролежала в онкологическом диспансере. И с ее болезнью как-то захирело развернувшееся было за лето строительство, приостановилось. После сложной операции вернулась мать в голые саманные стены с крышей. Отца же угораздило смотаться на недельку-другую в еще более южные земли, в район Ленинабада, присмотреться, прицениться — слух прошел, дома там дешевле, а ясно же, как день, скоро подорожают. Ну и, ко всему прочему, условия жизни лучше, скажем, гранаты растут, а здесь, ни в Киргизии, ни в Казахстане, не родятся. Виноград, дыни там слаще! Словом, причины, чтоб съездить, нашлись. И душа, видно, давно настроилась, поэтому и работа не шла. Одна беда: уехал и снова что-то загляделся. До весны там чего-то высматривал! И чего бы в самом деле?..
А больная жена и школьник-сын зимовали в недостроенном доме и тихо замерзали. Пришла беда, говорят, отворяй ворота. Так это или нет, но холода вдарили сибирские! Только в Сибири тридцать градусов — не мороз, бежит человек, раскраснеется! А в Средней Азии в минус пятнадцать невмочь, коченеет до синевы, загибается. Жилье не приспособлено — глина! С топливом худо, особенно с дровами. А у матери с сыном и жилье аховое, и топливо — стружки! Раньше, в обычную зиму, стружки вполне обогревали старую, тогда еще низенькую мазанку. Но отопить сущий амбар, когда нет пола и от земли под лагами постоянно тянет сыростью и стужей, несет стылостью от стен с торчащими боками саманов, напоминающих древние руины!.. Целый день ваннами засыпали в печку эти древесные завитушки — пыхали стружки ярко, красиво, но тепла давали мало.
Иными утрами красный столбик в термометре, специально Витькой приобретенном, падал до минус одиннадцати. Спали мать и сын в пальто, сложив на себя всю имеющуюся лопотину. И прямо дома, лежа в постели, можно было любоваться серебристым инеем, особенно густым на маленьких щепочках, оставшихся на земле от стройки. Большие угодили в печь.
Мать не расставалась с грелкой, в упорной борьбе с морозом не отходила от топки, держалась. Ее больной, но закаленный, привыкший за жизнь к трудностям организм сопротивлялся, выстаивал. А у сына пошли по телу и лицу фурункулы, стали кровоточить десны. Как-то с неделю не был он в школе, вдруг явилась одноклассница, строгая надменная активистка. Пришла, видно, сделать внушение этому нерадивому Томашову, показать его истинное лицо родителям — наверняка, думала, не подозревают, что сын прогульщик. Пришла и, вот уж в самом деле, остолбенела. В глазах ее Витька и увидел всю убогость быта своего — привык уже, казалось, ничего, нормально. А девушка шага от дверей сделать не смогла в растерянности, улыбнуться не догадалась. Кровати стоят на опрокинутых трехлитровых банках (выше теплее), а те в свою очередь упираются в настеленные по лагам доски. Ходят тоже по тропинкам из досок… Витька тогда застыдился жутко, одноклассницу возненавидел — лезет в чужой огород!.. Потом все ждал со страхом, вот-вот в школе заговорят, будут коситься на него, спрашивать… Не дай бог, еще и помочь решат, собрание соберут! Но вокруг молчали, активистка ему улыбалась, а в следующий пропуск занятий пришла уже по-дружески, просто…
Тяжко было, изводил паскуда холод. Но было и хорошо. Вечерами. В дни помягче, раскочегарив печку добела, удавалось накопить в доме к вечеру тепло. Разомлевшие, раскрасневшиеся, пускались мать с сыном в длинные разговоры. Строили планы насчет Витькиного будущего, перебирали былое, вспоминали поочередно родственников, гадали: как они там сейчас?.. И никто не мешал, не дергал отец, не кричал. Смотрели телевизор — невероятно, можно сказать, в пещере телевизор! Как-то в концерте по заявкам показали отрывок из фильма, где актер в больничном халате, стоя перед окном, проникновенно пел:
Караваны птиц надо мной летят, Пролетают в небе мимо. Надо мной летят, будто взять хотят В сторону родную, край любимый.На словах:
Полетел бы я в дом, где жил, где рос, Если б в небо мог подняться. Разве может с тем, что любил до слез, Человек душой своей расстаться?.. —зашмыгали оба, расплакались. (Нет, не может, нет.) Или был фильм про парня, который за два месяца до конца срока сбежал из тюрьмы, лишь бы хоть денек побывать в родной деревне — так тянуло! А родня, односельчане решили, что его раньше отпустили. Гулянку устроили, встречу. И вот когда гулянка-то разыгралась на экране, мать аж вся туда, в телевизор ушла: «Ах ты, говорит, боже мой, смотри, смотри, ну прямо настоящая гулянка! И дед притопывает, надо же, смотри что!..» И облегченно так, вольно вздыхает. А на родину обоим охота, Господи, до чего охота с журавлями, с парнем этим непутевым… Разве могли они тогда предположить, что через какие-то два-три года уже на родине, в Сибири, будут с тоской вспоминать этот южный край, дом свой, сад. «Войдешь — яблоки, вишни, виноград — в глазах рябит. И запах, вот скажи, будто всю тебя поднимает. Не верится — было это или приснилось?..» — пригорюнится мать. Все надо объять человеку! Уместить, сжать хоть в сердце своем пространство, охватить, удержать время. Вечный журавль в небе!..
Подошла весна, минули холода, а с ними и невзгоды. И, как это бывает, когда трудности перенесены, все позади, кончилось, внутри поселяется какое-то постоянное порхание, вибрация, белый свет, вся жизнь воспринимается радужно, и через край хлещет восторг. Это потом пережитое вернется, нагрянет в горе, в радость ли, закопошится в голове. А пока — просто хорошо!
В один из таких ясных, погожих, светлых дней пришел Витька после учебы домой. На окне навалом лежали гранаты, те самые, которые родятся в более южных землях. Некоторые были разломаны, и в прозрачно-красных зернышках переливчато играло солнце. На спинке кровати висели джинсы с широким офицерским ремнем, только входившие тогда в моду, и клетчатая рубашка. А рядом стояло ружье, тульская подержанная одностволка. Приехал отец!
Мать выжидательно-настороженно поглядывала на сына — как-то он среагирует, в речах не очень-то родителя жаловал… Но в юном весеннем подъеме Витька был лишь искренне рад отцу: «Где он?.. Уже насчет досок пошел?.. Конечно, до лета замастачим. А где он хоть был-то?.. Это мне?..» Сыграли роль, понятно, и подарки. Он приоделся, с ружьем в руках повертелся перед зеркалом, прицелился, брал наперевес — бедра в джинсах стянуты, плечи в новой большеватой рубахе квадратом, одностволка. Сил нет, как себе нравился! Самый что ни есть ковбой! Жалко, нельзя вот так, с ружьем, по улице ходить и охотиться негде. В огороде на ворон разве? Словом, что называется, здоровый был, а без гармошки!..
Нет, не тот дом, чужой, понимал отчетливо Виктор. Все вроде бы знакомо, три комнаты в ряд, боковушка… Но нет к нему чувств. Милота, что ли, какая-то мешает, приглаженность, запах парфюмерный? А может, обида некоторая: вкалывали, потели, горе хлебали, жизнь здесь у Витьки как-то скособочилась, а теперь на тебе, пришли другие люди, заняли, кошек на стену повесили, живут себе…
Отец шагал, тыкал в углы пальцем, вычерчивал что-то в воздухе, запросто, по-свойски делился соображениями на предмет, как и что можно тут еще наворотить и размахнуться. А хозяйка гусыней следовала за ним, выглядывала из-за спины, тоже водила пальчиком, с любопытством переспрашивала, уточняла, будто только и ждала, кто бы явился и подсказал: как можно размахнуться!
Внезапно отец утих, насторожился, словно поймал на себе недобрый взгляд. Повернулся к телевизору. «Должен и сын героем стать, если отец герой…» — пыжась, повторял певец. Отец пристально, с каким-то гадливым выражением, точно кислотой сводило желваки, поглядел на экран.
— Сочиняют глупость… — заговорил он впервые вяло, пробормотал: — А если отец бандит, что же, по-ихнему, и сын бандитом должен стать?
Женщина было покатилась с горки своим любезным балалаечным смехом, но въехала, знать, куда-то в сугроб, захлебнулась: напарник ее предал, подтолкнул сверху и оставил. Напрочь выключил из внимания, глубоко вздохнул, тиранул пальцем по кончику носа и позвал сына смотреть огород.
Мужа и сына, которыми женщина припугивала непрошеных гостей, в саду, конечно, не оказалось. Никто о них, впрочем, не вспомнил и не удивился. Отец шел впереди, похвалил деловито хозяйку за чистоту, за аккуратно подвязанный виноград, за добротную взрыхленную землю вокруг яблоневых стволов, за ровненько подстриженный малинник. Попутно поведал, каким дрянным сад был раньше, не разобрать, где что растет, сплошной сорняк; навели в нем порядок, угорели они с сыном. Пришлось, ясно, поворочать, а как иначе? Сына он даже как-то особо выделил, погордился. Вообще получалась картина просто невероятно благостной семейной жизни. Жена, Ира, все больше по хозяйству, на кухне, готовить она мастерица; они, мужики, вот в огороде, по строительству. Взаимопонимание полное, забота, теплота. Попутно отец вертел, рассматривал листочек — нет ли коррозии, выуживал, обламывал сухую ветку в малиннике…
Витька оглядывал сад, вдыхал полной грудью воздух, желая почувствовать, слиться, что ли, с памятным этим местом, но ничего этого, ожидаемого, сладкого и щемящего, не находил в себе. Погружался только пуще в некую мякинистую досаду и тоску. Тягучую, муторную. Где же она, забери ее леший, затерялась его молодая жизнерадостная душа?.. Перед глазами то и дело мелькал округлый затылок с завихрениями, по ушам била несусветная, нещадная, как ему казалось, отцовская околесица, спину просверливали женские очарованные ахи да восклицания. Хотелось тыкнуться куда-нибудь в прохладную траву и никого не видеть, не слышать! Но вместо этого он пару раз поймал себя на том, что виновато и благодушно оборачивается к хозяйке: да, дескать, такие мы удивительно хорошие люди. Невыразимо хорошие, особенно этот гусь, впереди. Позарез что-то опротивела Витьке эта идиллия!
— А забор я городил, помнишь? — не зная, как назвать отца, сын нажимал на голос, покачал изгородь. — Дважды, кстати, переделывал. Рука была правая в гипсе, молоток держать не могу! А ты мне говоришь: «Художник Репин в семьдесят лет научился левой рисовать. Неужто в семнадцать левой нельзя научиться гвозди вбивать?!» Деваться некуда, стал колотить. Левой, правда, не получилось, приноровился правой, в гипсе. Загородил, а ты пришел и штакетины мои все повыпинывал…
— Что ты мне рассказываешь, помню я! Работать не хотел, вот и придуривался! — махнула перед Витькиным носом пятерня отца. — Оболдуйства тоже хватало. Сделал на соплях, понимаешь, кому это надо?! После же сумел, сбил, стоит! Значит, отлынивал.
— Молодежь нынче к работе не приучена, — подзудила Витьке в спину женщина. — Им вынь да положь…
— До сих пор кулак вот так согну, — Витька вытянул наглядно согнутый набок кулак правой руки, — и больно. Может, как раз из-за забора…
— Да ну, мелешь! А как раньше? Люди вообще никаких гипсов не знали. А попробуй не потрудись в летний день! Он год кормит. Трещина на молодой кости сама зарастет, лечить не надо.
— По-ранешному их равнять!.. Нынче они пошли сильно изнеженные…
Витька прикусил язык: чтобы он еще рот раскрыл, да пропади они пропадом, пусть их мухи обоих поедом съедят!
Хозяйка вовремя успела скрыться: засуетилась, извинилась и раздавшимся вширь лебедем поплыла по тропинке. Не миновать бы ей выговора. С холмистых рядков клубники змеиными язычками сползали на проходики маленькие беленькие усики. Когда-то их регулярно с удовольствием обрубал Витька — работенка не волокитная, ходишь, тыкаешь лопатой. Отец не выдержал, склонился, отщипнул несколько наиболее нахальных усиков, отогнул листик и показал сыну кисточку завязи.
— Скоро клубника пойдет. Черешня вот-вот должна. А чего там, скажи, в Сибири? Редиску еще когда дождешься! Жить бы здесь да поживать…
На том месте, где он присел, была застрелена Витькой собака. Редчайшей красоты желто-белый вислоухий пес. А может, потому и кажется редчайшей, что убил ее. (Первый раз живое существо, если не считать насекомых, лягушек да воробьев в раннем детстве.) Вышел он в огород. Из-под виноградника пулей выскакивает собака. В нее летит огромный земляной ком и, не попав, взрывом разбивается о столбик ограды. А собака, отскочив, дальше почему-то бежит трусцой. «Быстро! Ружье! Бей гадину, уйдет!» — кричит отец. И команда Витьку вздрючивает. Опрометью, с единственной мыслью «быстрей, уйдет», он сносился в дом за ружьем. Уже на ходу переломил, сунул в ствол патрон, щелкнул затвором. Желтый хвост мелькнул за малиной. «Скорей, клубнику потопчет, гадина!» Босиком, с замирающим сердцем Витька проскочил по тропинке до малинника, вскинул ружье и, не целясь, нажал на курок. Не почувствовал, как отдало в плечо. Бело-желтый, лопоухий добродушнейший пес вздрогнул и пошел по пурпурно-зеленым листьям, закачался, будто пьяный, споткнулся, упал, опять поднялся… И кровь большим проступающим пятном по белой шее… «Ничего, распускать не будут», — обронил подбадривающе отец. И то верно, собаки постоянно забегали, топтали огород. А днем позже пацан-сосед, живущий через три дома, поделился: «Джека нашего убили. Первый раз с цепи спустили и… Главное, домой пришел. В огороде, прямо у калитки нашли вечером…» Витька смолчал, не признался, не смог.
— А ружье мое как, цело?
— Ружье? — Отец смущенно, как-то покаянно заулыбался, почесал темечко, видно прикидывая, говорить — нет. — Видишь, какая штука вышла. Я в охрану устроился. Ходить на работу надо вечерами, затемно. А хулиганья разве мало? Не ко мне пристанут, так, глядишь, какую-нибудь девчонку зажали. Взял, сделал из ружья обрез. У куртки, здесь вот под мышкой, петельки устроил и носил. А от нас недалеко лесосклад. Иду как-то, смотрю: люди! Что-то там около досок копошатся. Рабочим быть — поздно, ночь. Кто такие? Ясно: ворье! Машина стоит, ворота открыты. Ага, думаю, сторожа усыпили или еще что-нибудь — там совсем ветхий дед сторожил. Я через забор — раз! — перемахнул, пошел к воротам. Ворота спиной задвигаю — и на них фонарем. Помнишь, у меня трехбатареечный был. Ну, а для страха разок вверх трахнул из обреза. А фонарь-то навел, гляжу под лучом: люди-то в форме, ха-ха. Мать честная, милиция! Да врассыпную, кто упал, кто за доски… И в меня из пистолетов. Стреляют. Фонарь в сторону, сам в другую, залег, начал кричать, объяснять — не слушают. Окружают. Что делать? Вспомнил фронт, по-пластунски да перебежками… В палисаднике чьем-то отсиделся, да между роз попал, ободрался весь, а как уж обрез бросил — не заметил. Ходил после, искал, смотрел — нету, подобрал кто-то.
Сын впервые за встречу расхохотался. От всей души. Сразу отлегло от сердца, мир сделался повеселее. Верно, однако, мать говорила об отце: «Такой человек — что с ним сделаешь?». Действительно, хоть кол на голове теши.
Но не такими ли решительными и неожиданными до безрассудства действиями, отчаянными бросками, натиском приводил врага в замешательство и панику дед со своим полком?..
В доме хозяйка пригласила гостей к столу. Вся излучала радушие, получив выговор за клубнику, покаянно заулыбалась, бесконечно извинялась, не ждала, мол, Алексей Григорьевич, не готовила, ну, чем уж богаты, откушайте, выпейте с сыночком за знакомство, и сама стопочку не прочь. Но Алексей Григорьевич от супа отказался — жирный, съел тефтелинку, один пластик колбасы, приналег на яичницу, попросил что-нибудь молочное, осушил бутылку кефира. А вина лишь отхлебнул глоточек: «Сам делать — делаю, а пить — не пью». Женщина вовсе впала в умиление, хлопнула в ладоши, сцепила на груди в замок: «Ой, ой, — завздыхала, — какие вы, Алексей Григорьевич, молодцы, а у меня муж пьяница был распоследний, шоферюга, намучилась с ним. Разошлись, слава богу, уехала с дочерью от него подальше, сюда, к сыну, у них здесь с женой государственная квартира; все теперь хорошо, дом, сад, дети выросли, грамотные, но одной тоже… несладко: поговорить не с кем, тяжело управляться, да где нынче доброго человека найдешь, непьющего, хозяйственного…»
«Бабы — дуры», — не раз слышал Витька. Правда, однако, так. Ну, чего заегозила? И ничем ведь ее Алексей Григорьевич не прельщал, никаких там улыбочек, взглядов, намеков. Наоборот — в упор не замечал! А говорил, вел себя точно бы так же с любым другим человеком, с мужчиной: хотел — и рассказывал, невзирая, уместно ли, желают ли его слушать или нет. Сын всегда удивлялся и не понимал, каким образом отец, только приехав в совершенно незнакомое место, тут же находит одинокую женщину и поселяется у нее на правах хозяина. Не он — они его, видно, находят. Касательно женщин сыну довелось слышать об отце немало занятных историй, почти невероятных, если бы не был известен герой.
В ту пору, когда мать и сын оттаивали после холодов в своих глиняных стенах, отогревались на первом весеннем солнышке, отец, постранствовав, завернул к старшему сыну погостить. Пробыл с месяц, пока жил — постоянно обращались к снохе пожилые женщины, соседки. В подъезде останавливали, в магазине, в очереди: «А что это у вас, простите, за интересный мужчина поселился?..» Стали наведываться за каким-нибудь ножом для мясорубки, топориком. А уехал, прошло с недельку — появилась на пороге невысокая, худенькая такая женщина с чемоданом и хозяйственной сумкой, в теплом пальто не по сезону.
«Здравствуйте, — говорит. — Это квартира Ладовых?» — «Да», — сноха отвечает. И теряется, такой тревожный светлый взгляд у женщины. «Туда, значит, попала, — улыбается та. — А я Соня… Тетя Соня, или как там звать будете. Алеша, наверно, про меня говорил. Самого-то нет его? А вы-то, видать, сноха будете, сына жена?» Входит, раздевается, открывает сумку, сальце, грибочки соленые, орешки достает, конфетки: деткам гостинцы.
Сноха недоумевает, ну, полагает, родня какая-то мужнина. Кладет все в холодильник. А женщина прошла по комнатам, осмотрела: «Мы-то, — говорит, — с Алешей в которой комнате жить будем?» — «А почему, собственно, вы с Алексеем Григорьевичем жить собираетесь?» — опешила сноха. Теперь приезжая растерялась. «Так он не говорил разве? — удивляется. — Он же письмом меня вызвал: старость вместе встречать, внуков нянчить». — «Так у него, во-первых, жена есть…»
Нашла пора обоюдной растерянности. Стоят друг перед дружкой, руками разводят. «А во-вторых, он уехал уже». — «Как уехал?.. — достает женщина конверт, руки трясутся, письмо развернуть не могут. — Вот же, вот… зовет… жить вместе, никогда я тебя, пишет, не забывал… Я дом продала, приехала…»
Выясняется: семнадцать лет назад видела она в последний раз своего Алешу — он тогда занимался добычей корня, бил орехи, ездил продавал, останавливался у ней на постой, сошлись. Семнадцать лет ни слухом, ни духом не давал о себе знать, и вот получила письмо, помчалась к нему, радешенька, за две тысячи километров! Приехала, а Алеши уже след простыл…
Алексей Ладов в это время увлеченно и шумно разворачивался со стройкой дома, давно выкинув из головы маленькую, худенькую Соню с небольшой алтайской станции, у которой семнадцать лет назад останавливался на постой. Того самого дома, где сейчас сидел с сыном и пил чай из большой пиалы.
К жалостливым излияниям хозяйки отец, по виду, относился с вниманием, слушал, переспрашивал, но на лице не было и тени сочувствия, хотя бы деланного сострадания. А интересовали его, находили отклик лишь фактики, поворотики истории. По поводу вставлял свои рассказы: заходит речь о другом городе — конечно, он там был, помнит достопримечательности; о болезни — знает рецепт… И у женщины оставалось впечатление понятости, пожалуй, даже какого-то единодушия. Улучив момент, полюбопытствовала скромненько насчет семьи Алексея Григорьевича и постоянного места жительства — где же все-таки, на Алтае или здесь? И тот без зазрения совести коротко и сухо ответил: «Мы с Витей здесь, а жена временно в Сибири». Хозяйка длинно кивнула, словно перекатила по горлу шарик ртути, улыбнулась и стихла.
Если все-таки бабы дуры, рассуждал Витька, то жалко: в дураках оказываются обычно добрые, сердечные, доверчивые. Впрочем, точно так же дело обстоит и с мужиками. Удивительно одно: почему эти дураки крайне редко кладут глаз друг на друга. Но еще, пожалуй, жальче тех, кто подобной дуростью не наделен. А обманывался ли, мучился тяжкими сладкими думами, ревностью, надеждою, любил ли кого-нибудь отец? Мог ли любить?..
Хозяйка проводила гостей до калитки. Те еще постояли перед домом, вперев обе руки в бока, поглазели, сами того не замечая, покивали враз головой.
— Да, Витя… — протянул Алексей Григорьевич, — не прохлопали бы дом, отучился бы, вернулся, женился, да жил бы!.. К огороду я бы тебя не привязывал, сам бы управлялся. А ты бы своими делами занимался. Да…
Вздохнул и сын. Усмехнулся чему-то. И подались они неспешно.
Витьке стало жалко дом. Странно: никогда уж не будет жить он в нем, даже, может, никогда не зайдет больше или, по крайней мере, зайдет не скоро. Память. Недалеко вроде ушел из этого прошлого, а уже зовет оно, тянет.
— А что, сын, — заговорил отец, — дом можно и новый купить! Не здесь, подальше, в километрах двадцати от города — там дешевле и участки больше. Разбили бы сад, можно было б с яблоками, вишнями, с виноградом в Сибирь ездить… А и с садом связываться бы не стали! Фрукты тут всегда купить можно, а весь участок — под цветы! Год — и на машине бы ездил! Теплиц бы понаделали, чтоб и зимой выращивать, а? Я бы со всеми делами возился. А ты бы мог ездить, продавать. Куда-нибудь в Норильск бы летал. Можно даже как делать — художественный букет! Я такие видел. Там цветов-то — один-два, для запаха. А остальное трава разукрашенная. Красками. Хо-хо, я бы так разрисовал, будь здоров! Еще лучше цветов была бы! И оттуда, с Севера, чего-то можно прихватывать. Меха! — расходился отец. — Или закупить в сибирских деревнях кур, с вагон, ну, зимой, понятно, — и на Кавказ! Там куры дорогие. С ездки бы тысяч… по десять имели! Да и здесь любое мясо дорогое. Баранина особенно. Если дом подальше к горам купить — можно скотину держать. Овец. Загон построить, развести стадо, пастухами заделаться. Я пенсионер, участник войны, имею право. А? Жалко, ты еще учишься, а то бы!..
Улочка выходила к каналу с карагачевой рощей на противоположном берегу. Отец и сын прошли до середины шаткого подвесного мостика через канал, облокотились на железные перильца. Снизу приятно потягивало влагой, а затылок пекло. Прямые, как стрелы, берега сужались по перспективе и вдали пересекались широким мостом. Вода неслась мутно-белой, глинисто-клубящейся массой. И, как любое водное течение, притягивала взгляды, завораживала, навевала смутные думы.
— А какая, собственно, разница… — будто в полусне прозвучал голос. И одна из двух теней на водной глади, пошире и покороче, шевельнулась. — Найдем сейчас домик подходящий. Ты пока учись, а я его буду до ума доводить. Закончишь — приедешь. — И больше бодрясь, поддавая жару, нежели вспыхнув, тень взмахнула. — Мать вызовем оттуда! И будем жить! Прямо сейчас пошли, дадим телеграмму матери!..
Сын дрогнул, медленно повернулся, уставился на отца, поползли вверх плечи.
— Ты что, в самом деле, что ли? Я же тебе… Умерла мама. Год назад умерла.
Отец зацепил зубами воздух, да так и остался с широко раскрытым ртом, не в силах выдохнуть.
— Ира?! Да ты что?! Умерла?! — не разумел он. Закачал головой, будто в забытьи, опять склонился над водой, запричитал, подвывая: — Ах ты Ира, Ира… Горе-то какое… И не знал ничего… Не похоронил тебя. Как померла-то? — повернулся он к сыну. — Почему не нашел способ сообщить? Адрес мой знаешь — до востребования…
— Я давал телеграмму. В Ташкент еще. Ты же в Ташкенте вроде жил. Открытку к Новому году оттуда присылал…
— А когда она? Я оттуда в феврале смотался.
— А-а, ну, значит, не застала…
— Расскажи хоть, как, что?
На мостик зашла ватага пареньков и девчонок, с шумом, с визгами принялись раскачивать его.
— Да перестаньте вы! — крикнул отец, но на этот раз не проявил настойчивости. — Пошли отсюда куда-нибудь. Вон в парк, на скамейку сядем, расскажешь. Что же ты молчал до сих пор?! Вот человек — зеленое ухо…
Отец летел, мерил землю своими аршинными шагами, все повторял: «Видишь, что случилось… А я ничего не знаю…» Спрашивал: «А на каком кладбище похоронили? Здесь, на Зареченском?..»
Витька отвечал и едва поспевал за ним. Было что-то ненормальное, неестественное в их быстрой ходьбе — куда бегут? Куда торопятся? Чего теперь-то уж!.. И как это они сейчас сядут и Витька станет рассказывать?.. Ни с того, ни с сего. О чем?! О смерти, о последних днях жизни матери, о муках ее! Разве можно об этом рассказать?! Это вот, вот где, в нем, в крови, в голове, в сердце у него. Он весь из этого рассказа!
— Она… — сын начал и умолк. Застрял глазами в смятой коробке «Беломора» на траве перед скамейкой, насилу отвел взгляд. — Почти год не вставала она. Исхудала, иссушило ее так… Не знаю, как и выразить. Рак. Врачи, когда из больницы выписывали, говорили, самое большое с месяц протянет. Она еще… семь. Сердце… хорошее… — выжал Витька из себя. Скривился, стиснул челюсти, опустил низко голову, обхватил, сдавил виски пальцами. Напрягся весь, но, как ни крепился, прошлась по телу, покорежила ломота. Много накопилось, наболело в душе за год тот проклятый, много. А не выкладывал никому, не делился, в себе носил.
Витьку охватывала частая в последнее время обида — обида незнамо на кого, на отца вроде, но нет, на жизнь всю с ее всесилием, на судьбу, что ли, на слабость свою и мизерность. Он даже понимал, что сознание его начинает закупориваться на этой обиде! И ощущение такое рождается, будто сорвался с краешка земли и полетел в бездну… Зацепиться не за что. В такие минуты бежать куда-то, к кому-то хотелось — человек необходим был близкий!
Потянуло к отцу, человеку, по крови близкому, с которым природой предписано держаться вместе, бок о бок, выживать.
— Только учебный год начался, недели три прошло, телеграмму получил: «Срочно вылетай. Мать безнадежна». В голове не вяжется, только из дому, провожала меня… — Витьке хотелось рассказать все обстоятельно, чтоб знал отец, чтоб понял… Хотя что должен был отец понять, Витька бы не объяснил. — Телеграмма оказалась пятидневной давности — на почту не заходил. И в аэропорту еще сутки проторчал — телеграмма врачом не заверена, говорят: недействильна! Кому там ее было заверять-то?!
— Надо было к начальнику аэропорта, шарахнуть по столу!..
— Не умею я по столу. По морде еще могу, а по столу… Словом, полетел. Счастливый после всей этой нервотрепки…
Витька замолчал. На словах что-то не то получалось, что внутри. Ведь он хотел поведать, как это было мучительно: двадцать четыре часа ходить по аэропорту и каждую секунду осознавать, что за тысячи километров мать… безнадежна… То есть н е т н а д е ж д ы. И ничего не сделать, не преодолеть это земное расстояние, пока не будет билета! И что значило получить этот билет!..
Потом он шел ранним утром по родному своему городу — теплым, погожим осенним утром, — по знакомой до кустика улочке, и отказывали ноги! Быстрее хотел, бегом, а ноги не слушаются. И все. Немеют, чужие — ходули, не ноги! Дошел, наконец, до дома, с дороги в окна стал заглядывать — а в окнах занавесок-то почему-то нет!.. Голые окна… И вовсе как-то худо стало. Тревожно вовсе. Глядит — воротики-то у них низкие — по огороду идет Катя Затеева, сестра сродная. Огород уже убран, и только капустные вилки, серебристым инеем подернутые, торчат, будто головы в стальных шлемах. Идет она по огороду и шарит глазами по земле, туда посмотрит, сюда, чего-то будто ищет. Подняла голову, долго всматривалась, кто это там на дороге, медленно вперед стала подаваться, руки протягивать, а потом разом всплеснет ими, как закричит! Ах! Витька едва поймать ее успел, схватил под руки, обнял. Ни слез, ни плача — пустота и далекий какой-то звук. И вдруг услышал он, не услышал, откуда-то из бездны дошло до сознания: «Мама-то наша совсем пло-ха…» Жива-а… Жива, значит! Жива-а-а!!! Залетел в дом — прямо в кухне, напротив двери. На кровати у стенки сидела мать, постаревшая, измучившаяся. Ахнула: «Дождалась…»
— Прилетел, — продолжал сын. — А у нее живот такой… Раздулся! Неделю, оказывается, уже сиднем сидит, ни встать, ни лечь. Спит так. Вернее, не спит совсем почти…
— Водянка? Надо было воду откачивать!
— Пошел в тот же день в больницу. Выяснилось: врач должен был регулярно ходить, осматривать. А ее выписали и забыли. Карточку куда-то там не переложили. Другой бы человек лежал, кричал, требовал — никогда бы про такого не забыли. А она же молчком все, все снесет, лишь бы людям не досаждать, не мешать. Вот и забыли… Повез ее в больницу, выкачали воду. Ложиться хоть смогла, спать стала. Да моему-то приезду, видно, обрадовалась — поднялась маленько. По дому ходить начала. И… шапку еще взялась шить. Представляешь! Не мне шапку-то, на продажу. Долгов накопилось много за дом, а тут еще с перелетами моими прибавилось: пришлось за вещами съездить, академ взять. Летом она начала эти шапки шить, научилась — расплачиваться надо! А в августе еще на работу пошла — окна ходила мыть в интернате. А я тоже… Говорил, правда, зачем, обойдемся. Но она мне: там, мол, делать нечего, а пять рублей за день платят. Не настоял. Не понимал… Мыла на сквозняках, видно, и простудилась. Обострилась болезнь. Ради меня, конечно, все старалась, чтоб учился, одет был не хуже других… Сидит, помню, шьет эту… последнюю шапку, а руки-то, руки худенькие, слабые совсем, как только шапку иголкой протыкают?.. Успевала, лишь бы Вите было полегче… А я в ресторан устроился, официантом. Дружок там один работал, позвал, сорок, полста, говорит, за день всегда имеешь! Я прикинул — за зиму со всеми долгами рассчитаюсь…
С частью долгов Витьке действительно удалось рассчитаться. Но прошелся ресторан по душе его, как электропила вдоль бревна, если дозволительно такое сравнение. Попал он совсем в другую плоскость жизни — учеба, спорт улетучились куда-то в небытие, казалось, существуют где-то в другом мире, на иной планете. А на этой он должен был уходить от прикованной к постели матери в развеселый кабак. Крутиться, обсчитывать — делать деньги. А кого обсчитывать?! Да тех, кто позастенчивее, попроще — на простоте вечно воду возят и три шкуры с нее дерут! Тех, кто в радости большой или в горе! С бирюка же какого-нибудь, пусть кошелек у него тугой, много не возьмешь: где сядешь, там и слезешь, как говорится. Разве девчонку молоденькую приведет! Тогда тяни с этого кавалера, богом положено. Но видит официант Витька: девчоночка опять же из простых, деревенская пожалуй, зарделась в провинциальном своем комплексе, в преклонении вечном перед шиком и лоском, рада, дура, что в ресторане сидит и коньяк дует, корчит из себя цивилизованную!.. И начинает официант встревать некстати, ухмыляться, интересоваться: дочка это с отцом или внучка с дедом?.. Кавалер задергается, заскандалит, заугрожает — выясняется, ответственное он лицо, высокое начальство, сыпет магическими фамилиями, которые «поставят на место», «сделают»… Впрочем, Витька отлично знал — «ответственные» и «высокие» обслуживаются не здесь, во второразрядном кабаке, не здесь и не так. Но больше всего Виктора поразила схожесть этих почти «высоких» и «ответственных» с блатными. Те и другие — запанибрата сначала, с подмигиванием, но свысока, небрежно. А чуть что не по ним — сквозь зубы: «Смотри, сделают»… Блатные, похоже, о своей щедрости и великодушии больше слухи распускают. В первый же день самостоятельного обслуживания села за Витькин столик компания, человек восемь-девять. Видно сразу, кто такие. Давай, мол, парень, быстро, четко, — отвалим, не обидим! И в детском, еще романтическом восприятии «лихих» людей, заискивая даже несколько, Витька постарался. Единственный, может быть, раз удалось ему выглядеть заправским официантом. Потом отошел чего-то, замешкался у раздачи, глянь — нету, убежали лихие! Витька за ними, на улицу. Темно уже. Лишь от больших ресторанных окон свет. Догнал — хлопает вся компания невинно глазами: «Ты что, — говорят, — парень, обнаглел, по второму разу взять хочешь, мы же заплатили, смотри, работу поздно заканчиваешь…» С ними бабенка одна. Размалеванная и помятая, особенно старается, удивление изображает, наигрывает, собака, как в плохом театре, но со смаком, улыбается и грудью вертит. Витьку тихо затрясло — мать у него лежит, каждый вечер копейки эти поганые считает, из-за которых вынужден графинчики да шницеля паршивцам всяким таскать! Остервенение нашло, ринулся на компанию: платите! Успел вспомнить, на крайний случай, за рестораном куча кирпичей лежит. И главный из компании, высокий, поджарый, с желчным оскалом, то ли настрой Витькин почувствовал, то ли еще что — хлесть своему корешу, маленькому самому, по морде! «Почему, — говорит, — соврал мне, сказал, расплатился?» Тот сразу деньги достает, сует Витьке судорожно, скомканные, не считая. Официант взял, улыбнулся по-свойски длинному: дескать, бывают ошибки… И тут как шарахнуло чем-то сзади, с ходу и спереди, и сбоку!.. Витька не сразу еще упал, помотался, как в тумане, сумел достать двух-трех, а может, ему только так казалось. Но первой четкой мыслью было удивление: почему никак не получается подняться, распрямиться? И уж потом осознал, что дружная компания катает его ногами по земле, и среди прочих особо отчетливо бросился в глаза тыкающий жестко, по взвизгу, узкий носочек женского сапожка! Но деньги Витька все-таки не выпустил, остались в кулаке…
— Не получилось у меня калымного заработка в кабаке, — говорил, тяжело дыша, Витька, — не по мне. А пить каждый день стал: кругом пьют, угощают. А по пьянке и драка чуть не через день. Бросил. Ушел на котельный завод слесарем. Трубы в емкости котла сидел вальцевал. Отработаю, иду домой — страшно, боюсь заходить. Мама опять совсем слегла, есть перестала. Попьет — рвота сразу, рвать-то нечем! Боли адовые. Сначала на пенталгине, потом на кодеине жила. Сам ей уколы ставил. Оттяну кожу, она тоненькая такая, просвечивает. И тут случилось… Штука странная вышла. Хотя, может быть, естественная вполне штука. Девчонкой одной увлекся. Влюбился. Бойкая такая девчонка, веселая, здоровьем дышит. Зима, сколько, она на горке жила, провожаю ее — обязательно упадет! Я поднимать стану, тоже шлепнусь. Лежим смеемся… Ночами всеми шлялись. Мать при смерти, а я ухожу… тянет, не могу! Потом сижу в котле, работаю, машина визжит, вспоминаю, стыдно, корю себя, виновачу, думаю, все… А вечером снова! Да что говорить, — Витька рывком расстегнул рубаху до пояса, — у нас дома порой ночевали!.. Мать в комнате, а мы на кухне. — Трудно было это сказать, но сказать это он был должен: пусть знает отец. Пусть знает и то, что мучит сына вина. Хотя мать и словом не обмолвилась, вздохом не осудила. А намекни она — не ослушался бы. Вряд ли ослушался бы. Скрепя сердце сделал бы как сказано. Молчала.
И не жаловалась, на судьбу ни разу не возроптала. Великое было терпение у человека. Ослабла совсем, головы поднять не могла, глаза одни остались: огромные, утомленные, а все спокойные, внимательные. Вспоминает их Витька — и какую-то внутреннюю суетность свою чувствует в жизни. И когда говорят: «глаза вечности» — материны ему глаза видятся.
— А перед самой кончиной ее, дней за пять, гляжу, она смотрит на меня и тихо так улыбается. Таит как бы улыбку. — Витька и сам тихо улыбнулся, засветился благоговейно взгляд его. «Смотри-ка, говорит, и показывает глазами на стул у кровати. А на стуле на попа стоит карандаш. Загадала она: сумеет поставить карандаш — будет жить, не сумеет… И надо же — сумела! Потом несколько раз пробовала ставить — не получилось. Я пытался — падал карандаш! Ну, может, не очень-то мы старались. Но она как-то поверила в этот карандаш, просветлела: «Неужели, — говорит, — поживу еще, Витя? Тогда уж от тебя не отстану, поеду с тобой. И Любку твою с собой возьмем…» А на саму-то посмотришь — какой там жилец! Но и я немного поверил. Раньше она, намучившись, впадала в тяжелую дрему, а на этот раз соснула легко. Просыпается, снова улыбается и стыдливо как-то говорит: «Сейчас сон видела. Площадь какая-то большая, и много-много всякого народа на ней. А посередке стоит отец в клетчатом костюме и с тросточкой. Ты не знаешь, он когда-то, задолго еще до того, как сойтись нам, с тросточкой ходил. И вот стоит он среди народа — и выше всех! Намного прямо выше…» Вот тут уж меня чуть слезы не разобрали. Обида. Понял вдруг, что она тебя… Она к тебе не так, как мне казалось, относится. Я всегда думал, ну, сошлись, жили, меня родили… Любить, короче, не довелось. Нет, ошибка… Любила…
Сын замолчал, покосился на отца: как реагирует, слушает ли, переживает ли? Он выговаривал важное для себя, мучившее долго. Отец смотрел внимательно, сомкнув плотно губы, с прищуром, а слушал ли, горевал ли, о своем ли о чем-то думал — непонятно. Витька глянул и тут же забыл о нем.
— А дальше приступы уже не отпускали. Болезнь, видно, дала последний вздох. Глаза потухли, сделались какие-то безразличные. И смерть запросила: «Где ж ты, смертушка моя, заблудилась?»
Часто Виктор думал, и теперь возник тот же вопрос: почему природа так несправедлива? За что она так наказывала верную свою, безропотную труженицу?! Кто тот злой мучитель, который на протяжении всей жизни посылал ей одну беду за другой? Не выпускал из горя, будто испытывал ее! Она терпела, старалась, смиренно трудилась, взваливала на себя еще и чужие несчастья. Если каждому да воздастся, то где же, в чем ей воздалось? На том свете если… а на этом мало что жизнь воздает такому, как она, человеку, доброму, совестливому. Страдание и невзгоды — его спутники. И смерть таких раньше забирает. Не жалеют себя они, не берегут, тратят! Они и есть, по Витькиному разумению, истинные герои, созидатели жизни — незаметные, тихие труженики, сердечные, простые люди. Не совершают они искрометных подвигов, великих мировых благодеяний, польза которых на поверку чаще всего оказывается сомнительной. Не вклиниваются в историю, а двигают ж и т и е. Вокруг себя, в маленьком своем мирке. Не по идее, не по долгу, а добровольно, невзначай. Потому как иначе не умеют. Нет им воздаяния! Память только людская добрая. Сама жизнь, благодаря им наполненная, одухотворенная…
— Через несколько дней утром мама захотела перелечь на диван. Я перенес ее — тело маленькое, невесомое. Полежала чуть, обратно запросилась. Потом — снова на диван. Мне сразу вспомнилось, закрутилось в голове поверье, что человек перед смертью места себе не находит. И нос, гляжу, точно, заострился. Хоть вроде и привык к мысли, знал, что не подняться ей, а все равно испугался. На работу не пошел. Затихнет она немножко, я ее тормошу. Смеркаться начало, родственники стали после смены заходить. Из деревни как раз многие приехали, из Маймы, из Кажи. Словно почувствовали. Полная изба народу собралась. Допытываются: «Ариша, скажи нам что-нибудь…» — «Что говорить… Сами все знаете. Витьку не оставляйте», — вовсе уж немощно она отвечает. «У тебя документы на дом где? Приготовлены? Ему же теперича надо будет переводить на себя», — позаботился кто-то. «В шкафу, кажется», — мама ответила. «Погляди, Витя», — мне говорят.
И я полез в шкаф! Стал искать! Рыться в бумагах! Оторопь какая-то нашла!.. Перебираю, перебираю — да долго! И вдруг слышу: «Пот-том найдешь…» — Тихо так, но с такой горечью мама это сказала. Не осудила, а с какой-то великой досадой, будто подвела черту чему-то давно понятному, но душа с чем всю жизнь не мирилась! Вовек себе этих бумаг не прощу.
Она снова на кровать захотела лечь. Перину только просила убрать.
И я тут, и все начали: «Да что ты, Ариша, говоришь… Ты еще выздоровеешь, поднимешься…»
Нет, чтоб по-людски проститься, исполнить последнее желание — достойно, почтительно. Привыкли представление устраивать. В какой-то лжи, в комедии так и прощаемся с человеком! Житейская все наша суетная мудрость… Перенес ее на кровать. И тут же кто-то: «Вите-то что-нибудь скажи напоследок…» — «Жизнь подскажет…» — все, что она сказала.
Я отошел, сел на диван. Взгляд ее меня проводил, а глаза уж под поволокой, изнуренные, и смотрят на меня, смотрят чего-то… И вдруг понимаю: не на меня смотрит! А чуточку рядом, поверх уха. Я еще не верю, не могу поверить, голову двинул — а глаза ни с места… Мама, зову, мама… Закричал… Кто-то уже веки ей закрывает, руки на груди укладывает, свечку вставляет. А кто-то еще, подвыпивши, не верит, вырывает свечку, тянется за плечи трясти: «Нянька Ариша, нянька Ариша!..» Плач, причитание.
— Да-а, Ира-а… — протянул было отец, но сын остановил его, вцепился в плечо.
— Вся родня, знакомые, чуть ли не пол-Заречья хоронили. Как раз в праздник, в женский день.
Тот день выдался мозглый, дул холодный, пронизывающий ветер. Пешим ходом шли люди почти до самого кладбища, до базара, до столовой, где мать тридцать лет проработала. Гроб несли на руках. Воздавали. Не была кончина неожиданной, все знали, что неминуема. А сильно плакали, жалели — и родные и чужие. Легче так, когда кругом плачут, причитают. После довелось Витьке как-то быть на молчаливых похоронах, когда зачем-то все крепились, изображали мужественность, соболезновали. Страшно.
Обед справили, люди намерзлись, выпили по стакашку, щи аппетитно хлебали, наваристые были щи. Потом бабы стали убирать со столов, посуду мыть, бойко, споро. А сын ходит по дому — нет матери. Н е т. И никогда больше н е б у д е т. Не укладывается в голове. Витьку послали за дровами, он вышел на улицу — темно, небо беззвездное, снег какой-то рваный идет. Завывает. По дороге машина движется, размытый свет фар. Девчонка в соседском окошке примеряет что-то. Спустился Витька с крыльца, несколько шагов по тропе сделал — взгляд в спину. Мать с крыльца смотрит. Оглянулся — никого. В сарай вошел, дрова на ощупь стал накладывать — снова в спину взгляд! И такой, какого в жизни ни разу не было. С укором. С жалостью и укором…
— Памятник поставили из литого мрамора, небольшой. Теперь уж год… И, знаешь ли, часто мне взгляд ее мерещится…
Сын уронил низко голову, опустил расслабленные плечи, измочаленные, взмокшие волосы иглами свесились на лицо. Рубаха по пояс нараспашку, грудь часто вздымается, чуть заметно пульсирует сердце.
— Тяжелая смерть нашей матери досталась, — медленно проговорил отец. Продолжил спокойно, наставительно, как мудрый, всепонимающий родитель: — И жизнь, конечно, нелегкая была. От работы она не бегала, с тобой в положении ходила, прямо с производства в роддом увезли. Все боялась, как бы урод не родился — бочки в столовой ворочала до последа! Надо было тебе, Витя, повнимательнее быть с мамой. Потерпеть с девчонками — девчонки никуда не делись бы. А вот мать… Шапки какие-то позволил шить — зачем они нужны? Ну, теперь уж ничем не поможешь, не вернешь… — Не умел он быть степенным. Рявкнул бы — душевней вышло. А так лживо получалось, нарочито. Помолчал и уже нормально, самим собой, спросил: — Дом-то продал?
— Нет. — Витька еще не пришел в себя, все переживалось рассказанное. Он не сразу и сообразил, о каком доме идет речь. А когда покачал головой, ответил, сам с изумлением открыл, что у него есть дом, свой дом, есть куда прийти!
— Надо продать, на черта он тебе? Или, пока учишься, квартирантов пустить.
Сын подтянулся, засмотрелся вдоль аллеи, где на дальней скамейке стайка пареньков и девчонок весело бренчала на гитарах.
— Эх, японский городовой! — ударил себя по колену отец. — Последние известия зевнули! Надо бы дойти до озера, там на пляже было радио. Ну-ка прислушайся, у тебя ухо поострее. Слышно?
Слова отца воспринялись надвигающимся эхом: громче! громче! громче!!! Напрочь сын не понимал этого человека! Он ведь раскаяния отцова ждал: в своем покаянии нуждался и от отца ждал. Но округлое, добротное лицо рядом было непроницаемо. Уголками нависающие веки придавали ему хмурое выражение, но глаза смотрели ясно, даже с искоркой. Крутой, высокий лоб не морщинился, овалистая крепкая челюсть немного отвисла, и на зубы по-детски забавно наполз язык. Господи, да есть ли что под всем этим, под этим массивным, ладно сбитым покрытием? Может, и нет там ничего, истукан перед ним, подделка? Каким образом этот всегда много говорящий человек умудряется ничего не сказать о себе?! Что он в самом-то деле думает, чувствует, что для него сокровенное? А может, правда, ничего и не чувствует? Или таит, прячет, хитрит вечно? Тогда почему он так недоверчив? Что вынудило его к этой пожизненной маскировке? Разбить бы оболочку эту, заглянуть хоть на секунду внутрь — что там делается?
— А зачем слушать? Чему быть — тому не миновать. Ахнет, и все, — заерничал сын. — Вся разгадка бытия человеческого! Не зря же у человечества мысль о конце света зародилась. Библия это дело рисует в том духе, что камня на камне не останется, будет повсеместное землетрясение, а до того люди будут издыхать от страха и ждать бедствий грядущих на вселенную.
— Что будет — неизвестно, а пока живем, жить надо. И не смей даже шутить с таким понятием, как война! Легко жизнь досталась, посмотрел бы — знал. Кривляться он будет!.. Человечество не дурнее нас, всем жить охота. Не допустят…
— Ну да, это я так… Знаешь, ты иди, слушай радио, — Витька вскочил, — а я… пошел я. Поеду. Все. Счастливо.
— Куда?
— Домой. На родину. На вокзал сейчас. Вещи заберу схожу — и на вокзал. — Сын выстреливал словами, дерганно, резко говорил и пятился.
— Не пори горячку! — останавливал недоуменно отец. — Куда ты поедешь? К кому? К родне? Они, конечно, примут, но тут у тебя человек роднее — отец. Матери не стало, я тоже не вечен. Обидеться тебе вроде не на что было. На замечания разве. Так верно, надо было лучше заботиться…
— Что ты!.. — Сын подскочил, затряс перед отцом растопыренными пальцами. — Правда, что ли, ничего не понимаешь?! Или притворяешься? «Надо было лучше…» Какой ангел! Куда с добром! А ты не думаешь, что ты тоже должен был быть там, со мной вместе, около нее?! А? Обязан был! А ты на югах в это время яблоки жрал! Хоть бы одно прислал больной жене! У каких-то баб фундаменты подводил! Почему она вообще там оказалась?! Я уезжал — она здесь была! «Затрастила к родне…» Ты отправил! Заболела — и спихнул! Легко жить охота! Никогда заботушки на своих плечах не любил. — А ты вспомни, вспомни, в каком доме здесь после операции оставил — сырость, мразь, холод! Я, совершенно здоровый, сроду не болел, просыпаюсь однажды, а у меня морда вот такая — четырнадцать чирьев на лице! А мне в школу надо идти на секцию. Уксусом со злости их пожег — физиономия-то была! А каково ей, маме?! Ты же все понимал, ездил, видел, какая зима! Знал: жена больная, в доме пола нет, топить нечем! Ты хоть про себя понимаешь вину свою неискупимую?!
Сын не дождался ответа, махнул, не махнул даже, а как-то вывернул рукой и полетел без дороги в чащу деревьев.
— Иди, не держу, нужен ты мне!.. — крикнул было отец, но сорвался с места, догнал, схватил Витьку за плечо. — Я по делу ездил, зарабатывал. А ты, маленький мальчик, с ней оставался, да?! Семнадцать лет долбаку! Я в эти годы уже в школе директорствовал! Холодно — не мог топлива достать?! Я же уехал, на тебя надеясь!
— Ловко у тебя!.. Ты же знаешь, как тут с дровами! Да и на какие шиши?! Деньги ты забрал, на мамину пенсию, на пятьдесят рублей, вдвоем жили!
— Подработать мог, если б захотел! Оболтусом рос! Лодыря гонять — мастер! А как до дела… Где же нам дрова достать — не можем! А вот всеми ночами гулять, когда мать при смерти лежит, девок в дом водить — на это ума хватает!..
— Ну… конечно… — сбился, замямлил сын. — Мог бы, наверно, с дровами… Понятно, мог. Работать хотел пойти, но ведь она меня слезьми в школу гнала. Пацан был. Это сейчас понимаю всю сложность, последствия. А тогда мало об этом думал. Жить хотел, радоваться. У друзей все нормально, благополучно — и я с ними. Да я-то ведь корю себя, ненавижу! Что ты, собственно, на меня-то напираешь?! Ты о себе подумай, о себе!..
Двое петляли по роще, кружили друг перед другом, преграждали путь. Один яростно размахивал сеткой с крышками и, казалось, разметал, рубил ею, сшибал наповал какие-то невидимые толпища. Свободные руки другого всверливались, вкручивались, вцеплялись, казалось, в самые кишки, тянули наружу.
— Обвинять он меня будет! Дерьмо собачье! Нос не дорос! — защищался отец.
— Да мне тебя, если разобраться, надо к той ветке ногами вверх привязать, да так и оставить! — наступал сын.
— Иди, иди куда пошел! Пока я тебе башку об эту ветку не разбил! Тысячу лет тебя видеть не хочу! Вся ваша порода томашовская такая дурная!..
— Дослушай ты хоть!.. Не обвиняю я тебя! Не обвиняю, в том и беда! Хочу, а не могу! Думаю: ну жизнь, судьба, характер такой, мама такого любила… Ну, жилы-то потянул ты с нее! Ты это понимаешь?! Или тебе сейчас удобнее не понимать?! Я не обвиняю, я удивляюсь, что ты вины своей не чувствуешь! Из-за тебя, может быть, мама раньше времени…
— Ира давно больной человек была, — утробно выдохнул отец. — Что, по-твоему, я ее нарочно раком заразил, что ли? Нынче он через одного да у каждого. Если уж из-за кого и заболела, то из-за тебя. Мыла окна на сквозняках! Конечно, я не отрицаю, и с моей стороны могли быть допущены ошибки. Все люди не без греха…
— Ну что ты!.. Что вы все!.. Все ваше поколение так любите за общие фразы прятаться?! Чуть что — так готовую фразу или цитату! Слушаю часто ваши общепринятые положительные речи, смотрю на человека, и все кажется, сам-то этот человек про жизнь что-то совсем другое думает, что-то особое понимает! И дай ему жить заново, по-другому бы жил. А молодому, самому близкому говорит общеизвестное, избитое! У того уже уши от слов этих набухли! Поэтому и нет старшему веры! Уважение есть, а веры нет. Ты сам-то жил вообще бог знает как, а талдычишь…
— Ты наше поколение не трожь! Наше-то поколение прожило! Золотыми буквами себе славу в историю вписало! Есть чем гордиться. Мы ровесники, строители первого в мире великого социалистического государства! Выиграли войну, страну из разрухи восстановили, целину подняли! Это у вас сегодня черт ногу сломит: один, смотришь, почти на два с половиной метра в высоту прыгает, а другой, рядом жил, так же воспитывался, в те же восемнадцать все уже познал и спился! Ты тогда будешь иметь право меня судить, когда с мое проживешь!
— Это ты с мое поживи! — огрызнулся сын. — Ты! Я не сужу, я разобраться хочу! На меня после смерти мамы такая, бывает, тоска находит, кажется, помереть легче, чем перенести. Сожмет всего, стиснет! Затерянность чувствуешь свою в этой жизненной громаде. Мимолетность, никому ненужность. Одиночество это, что ли? И в такие минуты остро понимаешь: чтобы жить, тебе надо в принципе чью-то теплую руку рядом! Людям, по-моему, только кажется, что они живут в большом, необъятном мире. Мир узок, мир замыкается в трех-четырех связях с близкими людьми! По ним и течет кровь жизни. А уже через эти связи мы выходим в большой мир. А у меня они, связи эти, запутаны, изранены! Понимаешь?! Что мне делать, если в моем маленьком мирке торчит ржавый гвоздь?!
— Обалдуй, — смиреннее ухмыльнулся отец. — Я, выходит, по-твоему, ржавый гвоздь? Чепухой себе мозги забиваешь. Лучше бы о чем-нибудь полезном подумал. Для себя и для общества. Чему только вас в институте учат? Поди, выперли тебя к чертям собачьим, обалдуя такого. Все студенты занимаются еще, а он, видите ли, умнее других — сдал…
— Точно, — заострились Витькины глаза. — Выперли. Почти. Сам бросил.
— Вон что-о!.. — Отец даже присел от удивления. Он наобум ляпнул — и в точку! Заметно помягчел. — А чего тогда воду мутил? Не учишься, значит, ушел? А почему? Средств не хватало? Дом продал бы. Или что?
— Нет. Как сказать? — притих, пригорюнился сызнова сын. — Интерес пропал. Форму за год потерял, но не в этом дело. Отошел. Смысл перестал улавливать. Начал тренировки, вышел на бой, а безразлично — выиграю, нет… А как еще других тренировать?! Растекся как-то весь в мыслях. До ручки дошел. Иду утром в институт, так задумаюсь, что мимо пройду и не замечу. Носки разные надевал… Шиза! А народ кругом целенаправленный, устремленный…
— С другой стороны, — уже без сожаления, бодро заговорил отец. — Что тебе этот институт даст? Высокоруководящий работник, пусть даже в вашей сфере, из тебя все равно не получится. Ты изъясняешься путано, голос жидкий. А мелкой сошкой быть, на подхвате, и без диплома можно. Нынче время такое: больше всего рабочий класс в почете! И у газет он в центре внимания, и у телевидения. И заработки сейчас имеет. Если не пить, жить можно вполне обеспеченно. Брат твой выучился, что имеет? Шиш на постном масле. А встретил дружка его, вечно сопли на кулак мотал, — машина, одет, дача, тако-ой бурзюк! Мясо в лавке рубит. — Отец хохотнул, круто повернулся: — А что, Витя, раз такое дело, не учишься, давай вместе в Сибирь махнем! К осени. Сейчас там делать нечего. Орехи поедем бить, корень добывать!..
— Ты же говорил: не климат, — остановился сын.
— В тайге-то? В горах Алтая? Это целебница! Самый здоровый воздух! Травы, корень, мумие!.. Домик можно купить, пасеку завести. Можно как: летом там, а на зиму сюда. Как птицы перелетные! Причем здесь на Иссык-Куле можно поселиться. В курортном местечке. Самим на дом не тратиться, к попам подрядиться. Я знаю случаи, они подыскивают верного человека, покупают на его имя у моря домишко. Зимой этот человек один живет, полным хозяином, а на лето они наезжают. Им в государственных пансионатах мест не выделяют, вот и придумали.
— Какие еще попы!.. — Витьку изумляли зигзаги отцовских планов. Есть все-таки в нем при всей видимой практичности какая-то глубочайшая непрактичность. Фантазии избыток! И неспроста же он при своей хваткости за век свой ничего не нажил: на лето сандалии, на зиму сапоги, простецкая и необходимая только верхняя одежда (хотя, по рассказу матери, было время, пижонил) да разнообразный слесарно-столярный инструмент. И никаких там, насколько Витька знал, сбережений особых на книжке. Может, поэтому, несмотря ни на что, тянет сына к отцу.
И мысль отцова: жить в горах Алтая промыслом и трудом на земле — нравилась Витьке.
— Если ехать, то там постоянно и жить, — проговорил сын. — Поглубже где-нибудь в тайге поселиться, выше туда по тракту, на берегу реки… И жить.
Мало сказать, нравилось, как озарение открылось: тайга, река, охота, пасека — это и есть то, чего он искал, чего желала душа его. Мучился, бился, гадал. А вот оно — просто! Жизнь природная, естественная, первозданная, тихим каждодневным размеренным трудом, промыслом. Его мало заботило, что ничего толком не знает, не умеет хозяйствовать, не привык к крестьянской работе, хоть вроде и вырос на земле, в постоянном обихаживании своего огорода. На участке, не на земле. Но в городской тесноте ему и вовсе было не по себе, казалось, заперт, сдавлен со всех сторон, смят в массе людской, обезличен. И сейчас он все больше загорался, утверждался в уверенности: в городе ему особо терять нечего, а там, в таежной деревушке, он найдет многое.
— Там ты секцию можешь создать, — строил планы отец, — навстречу пойдут! Там еще лучше продвинешься!
— Да нет… Это…
— Как это нет?! Организуешь! Умеешь — должен использовать.
— Посмотрим… Я вот о чем. Если уж оседать там, то прочно. Обзаводиться хозяйством, скотиной, лошадью…
— Да на что нам лошадь?! Дом твой — по шапке, у меня маленько на книжке — машину купим! Мотоцикл, на худой конец. И со скотиной связываться ни к чему. Охотой проживем, корень будем добывать, орехи. Разве женишься, дети пойдут, без коровы, конечно, не обойтись, придется держать…
— Машина машиной, но лошадь бы надо, — перебивал отца Витька. Веских доводов за лошадь он не находил, но без нее как-то рушились его представления о жизни в тайге. По грязи осенью, по снегу…
Двое вышли к озеру, по другую сторону пустого еще пляжа. Направились берегом. Шли неторопливо, склоняясь друг к другу, приостанавливаясь. Теперь руки отца двигались плавно, упруго, будто месили тугое тесто. А руки сына — порывисто и легко, словно плескались водой.
— Дом сами срубим. По своей архитектуре, с терраской на крыше. Женишься… На примете-то есть кто? А ну их городских! Деревенскую найдем, ядреную, работящую! Можно русскую, можно алтайку. Мы эти национальные разницы не разбираем. Был бы человек! Или казашку — там в верховье казахов много. Да красивые, стройные есть казашки!..
И к прочим достоинствам будущей жизни прибавилась в Витькином воображении дивная голенастая девка с тяжелыми косами, в полотняном рубище на тугом теле! Вообще у него на примете была девчонка, даже две. К одной он и пожаловал сюда на юг. А другая жила на родине, Любка. С ней они очень сблизились, расстались — закидывали друг друга письмами, а встретились, и его, преломленного внутренней маетой, стал тяготить ее бесхребетный нрав, бесконечные «выкрутасы», как бы, пожалуй, выразился отец. Вспомнилась давняя, первая юношеская привязанность, девчоночка тихая, ровная. Затосковал. Прикатил, провели вместе пару вечеров — никаких, пресных. Опять потянуло к той, что на родине. Но теперь появилась на горизонте неведомая третья, и эта последняя, дитя природы с нетронутыми чувствами, взяла верх!
Станут жить вместе, в доме, на земле, отец-старик, он, Виктор, жена его, дети. Жить в совместном постоянном труде, плата за который — урожай по осени. Спорт с его экспрессивными самоцельными нагрузками не дает телу успокоения. Его, Витькино, крепкое от природы тело тоскует по размеренному разнородному осмысленному труду. Он хочет ворочать лопатой, махать топором, идти, черт возьми, за плугом, извиваясь всем телом, косить по росе!.. Пропотеть за день на семь рядов, потом протопить баньку, пропариться, разогнать ломоту… Всей семьей сесть за стол, полный яств труда твоего, — не перекусить, не пожрать — насытиться. Лечь в постель с женою после дневных забот, с недомолвками, переглядками — с той же дневной обстоятельностью два сильных тела соединятся в любви… И грянет новый день… В своем доме, на родной земле, среди близких своих — все вместе, привязанные к дому, друг к другу. Перестанет тогда мытарствовать и являться осиротело к сыну ночами дух покойной матери, найдет приют… И так жить, неразрывно, до старости, до правнуков, пока живешь…
— А почему надо до осени ждать? — не терпелось Витьке начать новую жизнь. — Дела какие-то? Сейчас поехали!
— Дел нет. Нищему собраться — только подпоясаться. Думал огород у старухи до ума довести да урожай собрать…
Песчаный смерч взвился перед ногами, покружил в злодейском танце, поиграл юлой, разогнался, выскочил на водную гладь и растворился. И будто кто живой, зрячий и гадливый, крутнулся в этом смерче, хихикнул и исчез. А потом разросся, воплотился в рощу и каждым деревом загоготал! Давним знакомым гоготом.
Витьке лет шесть. Идут они с матерью лесом по просеке. Ночь. Поздняя осень, зябко. Темно — хоть глаз коли. Тихо, только наледь под ногами похрустывает. Молчат. Лучше бы, кажется, говорить, веселее, забыться можно, да страх не дает, язык не шевелится. Все мерещится за кустом кто-то. Думаешь: заговори, не услышишь, как тот, который там притаился, подкрадется! Витька просто боится — не разбойников, а неведомых темных сил, лесных таинственных обитателей, хоть и знает, что все сказки это. А у матери полный карман денег. Столовская выручка — почему-то работали в тот день без кассира, сами повара плату брали. А оставить в столовой — тоже боязно, на старика-сторожа надежда плохая. Идут они, мать сына за ручонку держит, и видят… Впереди, неподалеку совсем, огонек папиросы. Мелькнул и пропал. Сначала непонятно, может, померещилось? Нет, снова появился. Полетел вниз. Мать сжимает руку сына, замедляет шаг. Но деваться некуда, назад бежать — догонят. Надо идти. И слышит Витька — ушам не верит — мать какую-то песенку замурлыкала… Сроду не пела! И на ходу давай пальто с себя снимать, вывернула быстренько наизнанку, опять надела. Завязала на животе полушалок, волосы разлохматила. Чулки на боты опустила. С Витьки шапчонку за пазуху сунула, чуб ему растеребила. Сама не перестает напевать. Ни живы ни мертвы доходят примерно до того места, где огонек папиросы был. Отделяется от кустов темный силуэт, человек. Встал у дороги, смотрит. Жутко. И материно пение не стихает, не сбивается. Прошли мимо, рядом, человек не сдвинулся. Но через некоторое время послышались за спиной шаги. Догнали двое, пошли с обеих сторон. «Мальчик», — позвал один. Витька не отзывался. «Ты что, немой?» Витька молчал. А мать продолжала свое беззаботное мурлыканье. Люди чуть поотстали. Шагали следом. Переговаривались, похихикивали. Проводили так до выхода из леса. А когда мать с сыном, миновав пустынную опушку, подходили к домам — хохот ударил в спину. Покатилось по лесу очумелое, дикое гоготание…
Витька, сам того не замечая, стал напевать, как-то странно возбудился, засветился восторгом. Подобрался весь, заводил едва заметно плечами, будто пританцовывая. Пальцы перебирали, пощипывали все что-то, пощипывали. Его пронзило и полным бессловесием застряло в голове жуткое подозрение…
— Слушай, а правду говорят, что в прошлом году в Ташкенте на Восьмое марта снег по пояс выпал? — поймал он нужную мысль и спросил как бы между прочим: — Народу, говорят, много померзло!
— Кто тебе такую чепуху спорол?! На женский день в пиджаках уже ходили. Жара стояла, хоть загор-р-р… — Слово с рыпом застряло в горле отца, он уставился, поедал сына глазами.
— Зна-ал! Знал все-е! Получал телеграмму! Не приехал, а теперь прикинулся!.. Ха-ха! — взвился тот, улыбка скалила, раздирала рот. — А я-то, дурак, рассказываю! Иду, болван, рот разинул! Тайга! Вдвоем! С бугорка! Подумал хотя бы, дурак: чтоб ты уехал да почту не перевел?! — Витька постучал себя кулаками по голове. — Смотри-ка, распереживался еще, артист! Ну, ловко я купил тебя со снегом-то, за три копейки! Ха-ха! — Он задергался смешками, захлебнулся, полез из груди стон. — А-а! Больно!.. Обидно! Так, знаешь ли, обидно, что вот разбежаться бы да головой об ствол! Так-то уж зачем? Снести-то как? — Витька стискивал зубы. Но не удержал, вырвался вопль. — Сил где взять?! Ах!..
Его перегнуло, повело в сторону, и он побежал мелкими шажками, боком. Полусогнутый. Ухватился за дерево, с силой оттолкнулся, засеменил по ходу и полетел на землю, проехался лицом, забился клубком по пожухшей влажной листве.
— Истерику он будет закатывать, — придавливал Витьку вовсе к земле ухмылистый басок. — Фон барон какой! Институтка! Много сильно о себе воображаешь! Дед, бывало, говорил: все в молодые годы думают, что у них нимб вокруг головы. А поживут, поглядят — оказывается, обруч. Ну, знал! Знал — и что?! Понимай, почему смолчал. Из-за тебя! Ты же иначе бы сразу хвостом вильнул, а мне тебя тоже терять неохота. — Отец присел, заговорил сыну в затылок: — Посуди, зачем бы я туда поехал? Что бы это дало? Иру не воротишь, ей уже все равно. Родню только дразнить?! Они же, как собаки, на меня бы накинулись, съели бы, с дерьмом смешали…
— Родни боялся?! — вскинул голову Витька, сжал в горстях листву. — Выходит, понимаешь. Есть из-за чего! Есть! Все-е ты понимаешь…
— Плевать я на них хотел! Да какая разница: был я там или нет! Что горло драть?! По мне так: помру — пусть хоть за ноги меня да на свалку! А пока живой, одно пойми: я тебе отец — ты мне сын. Никакая родня тебе меня не заменит. Матери нет, самые родные люди мы остались…
— Неужто хоть на свалку?! — вскочил на колени сын. — А вдруг есть загробная жизнь? Какой-нибудь тот свет?! Каково душе-то будет, со свалки?! Интересно, если там маму доведется встретить, как тебе, ничего, не совестно будет? — перешел Витька на шепот. — Неужели без стыда в глаза посмотришь?
— Ты чего мелешь?.. — отстранился отец. — У меня бабка уже в эту чепуху не верила! С Алтая в Киев пешком молиться ходила, а вернулась атеисткой! Она, пока шла, по пути в церкви заходила, везде крест целовала — будто бы из того креста сделан, на котором Христос был распят. А баба умная была, приметила: пока по Сибири шла — крест из лиственниц был, а за Урал перевалила — дубовый пошел! Спрашивает у одного священнослужителя: «Как так?» Тот лоб почесал, да, поди, говорит, в Святом Иерусалиме ни дуба нашего, ни лиственницы нет, а другое дерево растет. А ты мне…
— Да нет! Нет! Я тоже не верю! — взвизгивал нетерпеливо Витька. — Точнее, не думаю об этом, не знаю. Но ты представь! — Его увлек, понравился собственный поворот к загробной жизни: тут уж отцу не ускользнуть! — Всякое же может быть! Мы многое постичь не в силах! Мне вот, скажем, часто мир представляется какой-то глобальной реакцией какой-то глобальной мысли… Невозможно представить бесконечность — так, может, и бессмертие души просто нельзя представить?! А вдруг что-нибудь такое есть! Представь! Каково будет, если с мамой там придется встретиться?! Да еще с первой женой? Да еще, может, какие-нибудь души соберутся?!
— Что ты ко мне присосался?! С глупостью какой-то! Вот кровопийца! Чего ты добиваешься?! — взревел отец. — На то пошло, я жил не хуже других! Лучше многих! За всю жизнь ни разу под судом не был и даже не допрашивался! Чем и горжусь! — Отец распрямился. Выпятил грудь, стучал кулаком по невидимому столу. — Люди что творят! Воруют, убивают, пьют! Друг друга продают! А я ни государство, ни человека ни на копейку не обворовал! Если жил у кого: строил, делал — никаких денег не брал! Скажем, ковры рисовал, продавал — мой труд! Орехи бил, корень добывал — большую часть государству сдавал! Другие тот же корень когда попало копали, летом, весной — весной-то его легче копать. А народ не понимает, одинаково берет. Что помидоры должны созреть — понимает, а про корень — нет. Я только в положенное время копал, в конце августа, в начале сентября. Не считано, скольким людям помог вылечиться, жизнь, может, спас! А теперь давай считать прямую пользу, заслуги, которые, может, ордена стоят! Начинал с сельского учителя — мои ученики даже в составе правительства есть! Голод был, жрать людям нечего, в верховье Бии, в деревне одной, наткнулся на табун ненужных хозяйству старых лошадей. Поднял книги, освоил производство колбасы, развернул колбасный завод: сколько ртов накормлено! Пошло дело — сдал другому человеку. Организовал рыбартель! Ансамбля нет, людям танцевать не под что — ладно, на балалайке умел, на гитаре научился, собрал ансамбль! Один из участников, Ваня Уткин, так и пошел вверх, в консерватории преподает! Давай по детям судить, по потомству. Возьми любого из своих дядьев для сравнения — лучше их дети моих? Лучше воспитаны? Те трое у меня — умные, дельные работники, отличные семьянины! Ты вроде не окончательный дурак, в институте учился…
— Какое мне дело до твоих колбас?! Что мне твои заслуги! Когда ты мне лично сделал плохо! — вырвал из себя сын, выворотил самую кровную подспудную свою правду. — Какое мне дело, если я из двух половин состою — одна сторона у меня здоровая, сильная, она живет, все помнит: мать, душу ее, коня Мухторку, которого она в детстве любила, род весь ее!.. А другая… в язвах вся, болит! Ансамблями какими-то тычешь! Да какое дело мне, если ты мать мою в гроб загнал! Слова доброго от тебя за жизнь не слышала — все «дура неграмотная». А сын ее «дебил» да «собаки кусок»… А теперь чистым хочешь быть? Не выйдет! Ты не жил, скользил! Чего ж тогда, если жизнь твоя хорошая, тебе песня эта в тягость: «Должен и сын героем стать…»
— Ах, вон оно что!.. Тебе обидно, что отец не министр? Мог бы! Я ведь в двадцать с небольшим уже секретарем райкома был! Да! Не знал? Был! Но вот с отцом тут у меня… Когда его… Кое-кто из сынков друзей отца ой-ей-ей куда поднялся! После — война, ранение тяжелое, семья, с тремя детьми один остался… — Отца мелко трясло. — И молчать! Молча-ать! Чтоб голоса не слышал! Тебя не было бы, если б не я! Мать твою до тридцати шести лет никто замуж не брал! Думаешь, она святая? Почему из деревни-то убежала! С каким-то кержаком ее там разлучили! Она мирская. Он кержак — не дали сойтись! Если б не я, может, вообще в жизни ничего хорошего бы не увидела! Так без детей бы и дожила! Кто бы ее взял — разве какой-нибудь такой же корявый!..
— Сволочь…
Двое замерли друг против друга, затерянные где-то в дебрях карагачевой рощи, в далеком от их родной земли городе, от той земли, где покоится родной им человек. Отец и сын. Исчезли в этот миг для них деревья вокруг, город, исчезло все для них в этот миг на земле. Остались двое. Лицом к лицу на голой земле. Самые ненавистные друг другу! Самые близкие друг другу! Жизнь — в жизнь.
Первым дрогнул отец, ринулся вперед. Полетела сетка с крышками сыну в голову. Тот едва успел уклониться, сработало за него машинально умение, тренированная реакция. Следом прошуршал кулак над ухом — сын опять увернулся, нырнул под руку. И взорвался! Понес отца на кулаках. Бил не мощно, не сильно, а в каком-то крайне взвинченном бессилии. Отец мотнул вразнобой руками и мешком ухнул на землю. Приподнялся, вывернул помутневшие глаза на сына. Снова растянулся по листве, ткнулся лицом в скрещенные руки. Спина и затылок тряслись. Отец плакал. Никогда сын не видел, не предполагал, что отец умеет плакать. Плакать и, совсем как мальчишка, тереться в обиде о свои ладони. Витька стоял и подавленно смотрел сверху.
Когда-то отец, тогда сорокапятилетний, еще более подвижный, энергичный, затеял на базаре борцовские схватки. С чего-то возник меж людьми спор о вреде курения и пьянства. Курево мужики еще туда-сюда, хаяли, а выпивку в основном отстаивали — ну, понятно, если употреблять умеренно, не набираться до чертиков. Доктора, мол, на то пошло, агитируют, а сами больше нашего хлещут. Отец с маленьким сыном только что оптом, по дешевке, быстро сбыл корень, освободился. Всегда горой за науку, он на примере решил доказать преимущество непьющего, пообещав любого пьющего перебороть и обежать. Ну, бегать охотников не нашлось, а бороться вызвались. Образовался круг. Выходили мужики на середку, и, верный слову, отец одного за другим припечатывал на лопатки. Может, не самый сильный, брал он натиском, верткостью, сметливостью. После каждой победы запальчиво объявлял: «Это потому, что я не пью и не курю!» А сын стоял в толпе и лопался от гордости и счастья! После трех-четырех схваток мужики замялись, подталкивали друг друга, а сами бороться не решались. Откуда-то появился здоровый молодой парень: кто-то, видно, сбегал, позвал. Парень уверенно, чувствуя свое преимущество в массе и возрасте, вразвалку вышел в круг, небрежно протянул руки — и тотчас со звоном шмякнулся на землю. Встали. Парню не верилось, казалось, нечаянно оступился. Начали еще раз. Повозились дольше, но опять отец был сверху, придавливал плечо, а парень вошкался под ним, извивался. И вдруг, отчаявшись, схватил противника за ухо и принялся закручивать. Витька пробежал глазами по толпе, ожидая общего возмущения — несправедливо же за ухо-то, да и больно! Но все молчали. А парень крутил и крутил своей лапищей, совсем уж отцу голову выворачивал! И маленький сын бросился, вцепился обеими ручонками парню в ухо и тоже изо всех силенок стал закручивать! Вокруг расхохотались. Борцы поднялись. Отец, посмеиваясь, подкинул сынишку, потрепал по загривку, сказал во всеуслышание: «С таким помощником и черта одолеешь!»
А теперь отец корчился у ног сына, медленно поднимался, сел. Лицо в грязных подтеках, руки свесились плетьми на колени.
— Отца. Боксом? Молоде-ец. Научился, герой. Уходи. Знать тебя не желаю. Уйди.
Сын помялся, нерешительно повернулся, шагнул и… Он даже не понял, что произошло — лежит навзничь, горит затылок. Отец держит его за волосы и опускается всей массой, втыкает колено в живот. И еще раз. Вскочил, стал наяривать пинками.
— Меня… можно… убить… но побить… меня… нельзя…
Сын поджал ноги. Свернулся калачиком. Не двигался. Не пытался. Терпел. Во зло. Терпел. Пусть забьет, пусть…
С базара тогда они зашли с отцом в магазин. На деревянном прилавке, словно присевшая на мгновение гордая птица, стоял велосипед. Рама обмотана промасленной бумагой, руль, втулки, обода, спицы лоснятся жидким солидолом. «Нравится?» — услышал мальчик знакомый басок откуда-то сзади. «Нравится», — тихо, почти бездыханно ответил он. Из-за спины его, сверху, потянулись руки в клетчатых, закатанных до локтей рукавах. Крепкие пальцы обхватили сиденье и руль. Велосипед оттолкнулся от прилавка двумя своими колесами и опустился перед сыном. «Придется купить. Именинник сегодня он у нас, четыре года! За отца уж вовсю заступается!..»
Женщина-продавец смотрела, улыбалась, проникаясь счастьем покупателей.
На улице, прямо у входа, у деревянного крыльца, отец содрал бумагу с рамы, скомкал, обтер покрытые смазкой части велосипеда, бросил ком мазутный в урну. Поискал глазами вокруг, достал носовой платок из кармана и еще раз тщательно протер велосипед. Сынишка стоял рядом и, выпучив глазенки, неотрывно следил за работой. Отец закончил. Туда же, в урну, кинул платок, вышел с велосипедом на асфальтированную дорогу, поставил его и приказал неотступно следовавшему сыну: «Садись». — Мальчонка мигом забрался куда следует. — «Держи руль крепче».
Отец покатил сына, подталкивая велосипед под сиденье. Сын сидел уверенно, с усердием давил на педали. Отец ускорил шаг, пробежал и вдруг с силой толкнул велосипед. Витька восторженно вскрикнул, вильнул рулем, но не упал. Он, видно, даже не заметил, что остался один. Дорога шла на спуск, велосипед катился все быстрее, педали мелькали, их уж не нужно было крутить — они сами поднимали ноги! Витька сжался, напряженно вцепился в руль: он только понял, что едет без помощи. В испуге заплакал.
Отец, смеясь, легко догнал мчащийся велосипед, на бегу повернулся вполоборота к сыну, не обращая внимания на его плач, радостно закричал: «Молодец, Витька, молодец! Сам едешь, сам!»
Почувствовав опору, застыдившись своего малодушия, сын старался замолчать, но это получилось не сразу. Он всхлипывал через нахлынувший восторг. Все еще испуганные глаза светились победой: сам едет, сам!
Ноги работали задорно. Приближался перекресток. Отец на всем ходу схватил велосипед с сыном, пробежал по инерции несколько шагов, остановился. Глядел на Витьку и на всю улицу говорил: «Вот это по-нашему! Раз — и поехали. Вот сейчас мать удивим! Велик купили и ездить умеем!»
Пинки прекратились. Витьку подташнивало. Виски давило. Но дышалось легко, воздух казался свежим и сладким. Обрадовался — обошлось, выдюжил.
— Вот так, понял? — Ноги рядом топтались неуверенно. С надавом, но неуверенно звучал и голос: — Вставай, не симулируй…
— Встану, прибью, — утробно выдавил сын. А сам насторожился, рассчитал: если нога снова взмахнет, то теперь он успеет опередить ее.
— Давай, давай!.. Прибивай отца родного! Ну! — Отец схватил, дернул сына за шкирку. Тот отбросил руку, поднялся. Глубоко, отрывисто дыша, посмотрел в упор на отца. Хотел что-то сказать, но лишь почмокал пересохшими губами, сглотил слюну. И, пошатываясь, устало и расслабленно побрел к озеру. Охолонул себя водой, плеснул на грудь, за шиворот, отфыркнулся. Пригладил мокрыми пальцами волосы, поморщился, прикоснувшись к затылку.
Поверхность была ровной, незыблемой. Умиротворяла. Надежной охраной стояли вокруг коряжистые деревья и любовно тянули ветки свои к воде. Странно, как могло видеться в них что-то уродливое, изгибающееся в злорадном смехе? Тихо и спокойно. Красиво. Все, конечно, правильно выговорил он, Витька, отцу. Правду. А выяснил ли что-нибудь? Вырвал ли вместе со словами, с побоями его из души? Или примирился? Понял ли что про себя? Есть ведь еще и такая маленькая правденка. Вот бросил он институт, дело, которому отдано немало сил и времени. Чего-то хочется другого. Что-то иное мерещится впереди. О ком-то мечтается: сблизился вроде с одной девчонкой, а тосковал по другой, но еще и третья грезится на горизонте. Не может выбрать, страшно остановиться. Все куда-то тянет его, зовет. Сколько всяких «чего-то», «куда-то», «что-то»… А так все это понятно в себе и необъяснимо в другом… Витька напрягся: неожиданно ясно и колко он почувствовал взгляд в спину, откуда-то поверх деревьев, с небес смотрели на него большие, спокойные, внимательные, грустные глаза…
Отец собрал крышки в сетку, связывал разорвавшиеся ячейки. Сын понаблюдал издали, подошел ближе. Что-то хотелось все-таки сказать, да так и не знал что.
— Пошел я, — проговорил он.
Отец долго смотрел, собирался с мыслями.
— Поедешь, что ли?
Сын дернул плечами.
— Это… Я там сказал… — пробормотал неловко отец. — Мать я всегда… всегда уважал. Всегда.
Сын постоял еще, двинулся было к отцу, рука потянулась вперед, но как-то замельтешила, будто ненужная, лишняя. Стыдливо, коротко махнул и торопливо, твердо зашагал побыстрее с глаз отцовых.
Сын скрылся за ближайшими густыми зарослями. Отец довязал последний порыв на сетке, поднялся, пошел берегом, свернул на аллею. Перед ним открылся длинный пустынный зеленый сквозной проем. Ноги сами понесли его, быстрее, быстрее, побежали. Скоро оказался на широкой улице среди людей. Но и это не помогло. Люди сновали вокруг, обтекали, а ноги не хотели замедлять шаг. Он шел напролом и злился, когда кто-то мешался на пути. Нетерпеливо вышагивал взад-вперед на автобусной остановке. Не выдержал, отмерил пролет до следующей остановки. Как раз его догнал автобус. Лязгнули за спиной дверцы. Присел, тотчас вскочил, вцепился в поручни. Не замечал, как люди косились на его перепачканное, со ссадиной поперек челюсти лицо. Автобус, казалось, ехал вечность. Он вконец измаялся, пока дождался своей остановки. По возможности неторопливо спустился со ступенек. Направился сдержанно узкой улочкой. Ноги сами опять удлиняли, ускоряли шаг. Ступни с неприятным ощущением пробуксовывали по булыжнику. Смеркалось. Резко, на глазах, как всегда на юге, белый день сменялся ночью. И так же, как южная темень, враз нагнало его все-таки это тягостное, жуткое, незнакомое… Сцепило тело. Алексей Ладов встал посередь дороги. Куда он? К кому? Кто ждет его? Упади, помри сейчас тут — никому нет дела! Нет, неохота, не согласен, чтоб за ноги да на свалку! Сжалось сердце в комочек, расширилась, разошлась, распирала грудь пустота. Бьется крохотным воробушком сердце в бесконечной этой пустоте, тонет, кричит одно — нет никого! Тоска, неведомая доселе, скопившаяся за жизнь, смертная тоска… Нагнала, накинулась разом. Он повернулся и понуро зашагал прочь…
По ночному городу метался пожилой человек. Был он на вокзале, в аэропорту. Долго петлял по карагачевой роще. Кричал, сотрясая тьму жутким своим голосом, звал: «Витя, сын, ответь, если слышишь?..» Присаживался на скамейки, недвижно и сосредоточенно смотрел перед собой, покачивался бездумно из стороны в сторону, стискивал голову руками… Сетку с крышками он где-то оставил. И когда обнаружил, что в руках чего-то не хватает, не сразу сообразил чего. И очень удивился, когда не смог вспомнить, где он забыл сетку, не смог установить, где вообще побывал за ночь. Зато на одной из скамеек он нашел старую форменную фуражку. Он имел странное обыкновение подбирать старые вещи — как-то было жалко, что годная еще вещь пропадает. Отстирывал, перешивал, перелицовывал, если надо, и носил. А к форменной военной одежде старого образца у него до сей поры сохранилась мальчишеская страсть. Примерил фуражку, подошла, нацепил и некоторое время ходил очень довольный, пока не забыл о ее существовании на голове.
Рассвет захватил Алексея Ладова сидящим на широком гладком пне у обочины тротуара, неподалеку от ветвистого карагача. Его обычно гладко выбритые щеки покрылись за сутки густой черной с проседью щетиной.
Дворники метлами зашаркали по асфальту, заспешил с повозками, с лукошками, мешками базарный люд…
А пожилой, заросший щетиной человек все сидел на пне. Солнце пригревало. Он снял теплую фуражку, положил перед собой. Из людской спешащей череды тут же отделилась перекошенная, сердобольного вида женщина, подошла к небритому, разбитому какому-то, растерзанному, хотя и здоровому с виду, старику, бросила в картуз перед ним денежку. За ней еще свернул человек, кинул монетку. Алексей хотел было крикнуть, остановить, задать трепку, но не открыл рта. Посмотрел на медяки, медленно, осторожно, боязливо как-то перевернул фуражку. Посидел, схватил, нацепил на голову. Опять снял, помял в руках, поглядел по сторонам, поискал, куда бы ее отшвырнуть… Тротуар уже заполнился людьми, неслись, сновали вовсю по дороге машины… И сквозь мельтешащую толпу, сквозь поток машин человек на пне, с зажатой в руках поношенной форменной фуражкой увидел, физически почувствовал взгляд двух припухших, пожелтевших от бессонной ночи глаз. Изможденный взгляд родных, сыновьих глаз…
Солнце светило такое… Смотреть нельзя — слезы! Обычное, впрочем, южное утреннее солнце. Бойко сновала, жила, словно муравейник, людная улица. Радио на столбе передавало последние известия, которые сулили миру мало хорошего. А под карагачом с растопыренными ветвями стояла старуха в цветастом переднике, по-сибирски тяжелоскулая и по-азиатски загорелая. Протягивала она пучки налитой от спелости редиски и то и дело косилась на странного мужика, который занял пень ее законный и теперь напружинился и уставился куда-то через дорогу, на другую сторону улицы, где маячила устало склоненная набок длинненькая фигурка патлатого паренька.
Двое напротив, небритый, расхристанный мужик и неухоженный, измочаленный какой-то парень, оба плечистые, лобастые, отец и сын, напряженно, неподвижно вглядывались друг в друга. Одиночество — в одиночество, надежда — в надежду…
НЕХИТРЫЕ ПРАЗДНИКИ
1
Он бил ее смертным боем: безжалостно, остервенело, наворачивал со всего маху справа налево, словно желал изуродовать, растерзать, уничтожить. Она, с видом независимым и правым, выкрикивала, бесстыдно бросала ему в лицо сквозь сатанинскую усмешку: да, да, было, и тогда, и тогда, и даже тогда!.. В бессилии, в плаче и стоне души своей, вымещая всю пожизненную обиду, он бросился со страшным, надрывным, последним ударом… И проснулся — как бы вырвался из чумного сна. Обнаружил себя лежащим на верхней боковой полке плацкартного вагона.
Тотчас почудилось, будто и в вагоне происходит что-то ненормальное, жутковатое. Парни какие-то стремительно прошагали вдоль прохода, каждый задел плечом сбившийся под ним матрас — Михаил приподнялся на месте и подтянул его. Люди, похоже, проснулись уже давно, чинно сидели внизу, готовые к выходу, хотя до прибытия поезда — он торопливо глянул на часы — оставалось еще два с половиной часа. Из соседнего купе, со стороны головы, доносился очень резвый молодой голос.
— Очень простая игра, ребята… — кто-то кого-то с утра пораньше учил играть в карты. Есть такие: везде им легко, везде они свои. Уверены по простодушию, будто все, что знают и умеют, интересно каждому. И этот, видно, из таких: только появился в вагоне — иначе его бы с вечера слышно было — сбил компашку, учит какой-то редкой игре, бодро, радостно: самому хорошо и люди время коротают. Заводила.
Михаил поуспокоился — ничего на самом деле особенного не происходило — так, со сна показалось. Все тело поламывало, словно его напинали изнутри, мышцы были напряжены, конвульсивно сжаты, до усталости. Он вытянулся свободнее, насколько позволяла длина полки меж перегородками, закрыл в расслабленности глаза.
Сон этот — как бьет Лариску — преследовал его давно. Три года назад развелись, а все снится, хоть расколи ее, головушку. Первое время так чуть ли не каждую ночь колотил свою бывшую суженую — проснется, темень, рядом Татьяна лежит, законная теперь жена, а он вылупит глаза, словно пытаясь заглянуть за увиденное, за кадр, понять — было или наговаривает на себя в его сне Лариска?! В жизни-то такого не было — ни она ему ничего подобного не выкрикивала, ни он… Нет, случалось, не сдерживался, пускал руки в ход, но не так, не во всю силу, а для острастки только, чтоб прекратить балаган. У нее же характер-то — пока не допросится, не успокоится! Мозг его чего-то самопроизвольно скомбинировал и… выдает образ. В конце концов Михаил даже до теории додумался, что в те ночи, когда он бьет во сне Лариску, она бывает с мужиком. С новым. Сейчас вроде почти перестал видеть этот сон (что, конечно, не означает, будто у нее мужиков не стало…). Отлегло немного от сердца, оклемался: говорят, бьешь во сне — душа твоя бьется. Но вот побывал на родине, где на сто рядов пришлось объяснять: почему развелся, оставил сына Степку, мальчугана такого славного… Завел другую семью, да еще с ребенком взял, хотя с новой женой успели уже и совместного ребенка нажить… Это же все люди, как тетка Поля выразилась, не чужие, родненькие, не шибко ли путано?.. А как объяснишь? Отмалчивался, отделывался отговорками, шуточками… И так все выходило в глазах у родни, что затаскался Мишка, пьет, видать. Выпить-то на родине пришлось, действительно, много: встречи каждый день, тут по маленькой, здесь чуть-чуть, а оно еще по чуть-чуть да по маленькой как-то не получается… Теперь чувство: будто в какой-то бетономешалке покрутили… Из родни же кто-то шуткой как бы, а едко поддел: Лариска, мол, баба с головой, выгнала, поди, его, непутевого, а вдовушка, известно, любому рада… Лариска родне нравилась. Разворотливая, обходительная. Компанейская, как это говорят. Вот наподобие этого, в соседнем купе.
— Ну ты фартовый парень! — звонко и беспечно воскликнул все тот же заводила. — Он нас всех без штанов оставит — прет масть!
По проходу снова стремглав прошли чередой парни. Каждый теперь задел плечом край подушки. И каждый заглянул в лицо.
Михаил натянул под одеялом джинсы и стал спускаться.
— Рубашку помяли, — подсевший на краешек нижней полки широколицый добротно сбитый мужик улыбнулся ему, как родному.
С ним частенько заговаривали незнакомые или начинали присматриваться, пытаясь вспомнить, где видели — на такси работал, теперь автобус водит междугородный, всегда на людях.
— Да… есть малость, — в неловкости пробормотал Михаил. Он вообще-то в поезде или где-либо спал без рубахи, а тут чего-то не снял.
— Из командировки? — просиял мордастый с тем радостным намеком, что в этих командировках не только рубаху помнешь… Был он, видно, из той породы попутчиков, которым все равно, хоть про ежа, лишь бы поговорить.
— Ну… — соврал Михаил. Не объяснять же в самом деле, что ездил к родственникам. И оказался в их глазах непутевым.
Он обулся, достал из сумки целлофановый пакетик с зубной пастой, щеткой и мылом. Взял было электробритву, но сунул обратно — неловко надолго занимать туалет.
Проходя мимо, отыскал в компании картежников заводилу — повернулся на его голос: «Игра есть игра!»
И очень удивился, хоть и была голова занята совсем иным. Ничего ухарского, шального и греховного не было в лице парня, как рисовалось. Он увидел очень красивого молодого человека. Похожего на студенческого вожака, какими их показывают в кино или по телевизору, — располагающий к себе, благородный, уверенный, явно положительный облик.
И опять тревога, смуть неясная в чувствах пробежала по телу Михаила. Может, оттого просто, что дума его была полна Лариской, а та бы наверняка перед этим гладким красавчиком заегозила!.. Пошатываясь в такт колебанию вагона, Михаил продвигался медленно по проходу, а мысленно обращался к родне, к Лариске, к себе или просто незнамо к кому, высказывал наболевшее, то, чего никому не мог открыть, как бы о нем ни думали худо. О, если бы кто знал, хоть сотую часть!.. Это же надо!.. — взывал он с едкостью к справедливости и пониманию. Считай — только поженились. Полгода как отслужил, устроился на работу, поступил в политехнический институт на вечернее — настрой на жизнь был тогда совсем другой, в перспективе уже видел себя не на водительском, а на каком-нибудь директорском кресле… И вот возвращался с занятий — с последней пары дал деру, к жене любимой спешил! — проходил мимо ресторана, глянь чего-то в окно между шторок-то. Самому некогда, так хоть посмотреть, как люди веселятся. И просветик этот — между штор — словно нарочно вырезал кадр: его молодая жена танцует с военно-морским офицером. Откуда он только взялся здесь, вдали от морей?.. Волосы у нее накручены, хотя обычно она их распущенными носит. Волны все на голове-то, волны. Специально, видно, в парикмахерской прическу сделала. Танцует и головку с кудрями запрокидывает, плечиками водит и говорит чего-то, говорит, ну прямо как кобылка молодая — озорничает! Сейчас, возможно, спокойнее бы отнесся, хотя доведись, может, того тошнее будет… А тогда мальчишка же совсем был. Главное — верил! Вот уж действительно: земля пошла под ногами. Разверзаться стала, разверзаться… И единственная мысль, за которую мог уцепиться: убью! Непонятно только: ее или себя? Думаешь, что ее, а хочется-то себя!.. Обида! Потом — нет, он будет где-то в земле гнить, а она опять же — в кабак, горе заливать! И ее убить — мало! Вот если бы она могла на себя мертвую всю жизнь смотреть!.. Надо зайти, спокойно, культурненько сесть за столик, кого-то пригласить на танец…
Тем временем Лариска оттанцевала и пошла, сопровождаемая офицером. Он потерял ее из виду, метнулся к следующему окну и уже в другой просветик между штор выследил: с нею за столом сидели две девушки, а офицера не было. А как музыка вдарила — офицер ее снова пригласил…
Он постоял еще, посмотрел. Показалось, все прохожие догадываются, почему он здесь стоит… Перешел на другую сторону улицы. Решил ждать. Наблюдать за входом в ресторан. Дело рисовалось так: они, Ларка и офицер этот, выйдут и сразу такси станут ловить. Дверцу-то откроют, садиться, а он тут и подскочит!.. Был декабрь, морозец! Скоро продрог весь, разминался, припрыгивал, но не сводил глаз со входа. А чем ближе к закрытию, к одиннадцати часам, тем сильнее озноб пробирал — и от холода, и от нервов! Пришел на ум еще один вариант: тоже поймать такси и до конца уж выследить, до краю дойти!.. Денег только в кармане — мелочь. Снова перешел улицу, на сторону ресторана. Лариска выпивала вместе с двумя девушками, чокались. И бутылка стояла перед ними едва початая… Он бросился со всех ног домой — полтора квартала от ресторана. Денег не нашел: в шкафу под бельем шарил, карманы всей одежды вывернул — не было. Зато прихватил с собой выдергу: высыпал книги и тетради из дипломата и положил туда, по диагонали. И помчался обратно, ясно представляя, как будет ломать кости этой выдергой ей и ему. Убедился, что Лариска продолжает веселиться, занял прежнюю позицию — напротив входа в ресторан.
И все-таки проглядел! Без пятнадцати одиннадцать как-то разом толпа образовалась, обычная, послересторанная: приостанавливались довыяснить отношения, происходил последний на сегодняшний день расклад на пары, просто говорили и прощались…
Он увидел жену — вроде ее — уже возле такси. И узнал лишь потому, как она резко вертанулась на месте и юркнула в открытую дверцу. Следом с той же стремительностью скрылся в такси и мужчина. В форме или нет, Михаил не заметил. Машина, словно жену воровали и водитель заранее знал, куда ехать, ни секунды не медля, рванулась с места и… Он не только шагу не успел шагнуть, он даже подумать об этом не успел! Как стоял, так остался стоять — в полной ошарашенности, не веря, не желая верить свершившемуся! В то, что очень уж все просто: раз, прыг — и жизнь-то… жизнь-то распалась! А как дальше жить?.. И поплелся от ресторана, едва волоча ноги, хоть и был совершенно трезв. С выдергой в дипломате, которой оставалось лишь самому себе башку размозжить! Что же она наделала-то, все думал, что же она?! И набираясь сил, чтоб дожить до утра, твердил мысленно, что завтра в их большом промышленном городе произойдет маленькая трагедия. Чуть-чуть, совсем немного уменьшится его население. На два человека. Он будет кончать ее долго… А потом завершит и свои дела — на ее угасающих глазах… Так добрел Михаил до двери своей квартиры и, открывая еще, услышал женские громкие голоса… Лариска была дома! И те две девки из ресторана — с нею! Три бутылки вина с ресторанными штемпелями — на столе! «Не ругайся, — Лариска бросилась обнимать, — женушка твоя маленько загуляла!..» И с обескураживающей открытостью, не подозревая о том, что Михаил все видел, призналась, как в ресторане ее охмурял один офицер, подъезжал с разных сторон, в гости звал, а она ему ответила, заплатишь, мол, за наш столик, все к тебе поедем — тот зажался, денег с собой мало, заюлил, в следующий раз, говорит, ха-ха-ха… «А если бы он заплатил?» — столбенел Михаил. «Не заплатил бы», — твердила Лариска. «А если бы?!» — «Что я, дура, что ли, не вижу! Не ругайся же при людях». А он хоть и супил брови, сдерживался: внутри все таяло, радовался! Как щенок, как последний щенок — радовался,! И выпивал из принесенных бутылок, танцевал, а как уж потом целовал, как счастливо целовал жену!.. Как щенок.
И все бы оно ничего: ну, любила выпить. Початую бутылку в холодильнике нельзя было оставить — глянь, уже нет! А начни спрашивать — «Я вылила, в раковину вылила…» Не запивалась же, как некоторые. Но после подобных историй приходит наутро одна мысль: это лишь то, что увидел своими глазами, а каково же то, чего не видел?
Михаил, все обращаясь мысленно к незнакомому собеседнику, перебирая засевшие в мозгу, обидные эпизоды из жизни с Лариской, стал умываться. Охолонул лицо водой, просвеженно отфыркнулся… И распрямился, невидяще уставился в зеркало над краном. Еще несколько раз торопливо плеснул в лицо и вышел из туалета, по пути вытираясь полотенцем.
В купе, где недавно стоял картежный гвалт, уже не было ни заводилы, ни иных игроков. А в своем купе Михаил застал странную обстановку: люди сидели потупленные, притаившиеся, словно ночные зверьки под светом фар. Мордастого мужика, охочего до разговоров, не было. Зато появился некрупный рыжеватый паренек: придвинувшись к самому окну, он упорно смотрел в оконное стекло.
— Что такое? — тихо спросил Михаил, присев напротив пожилого человека, которому вчера вечером уступил нижнюю поперечную полку.
— Проиграл, — кивнул тот в сторону рыженького. Без тени укора или усмешки — виновато как бы, подавленно.
— Это вот играли-то, — указал Михаил большим пальцем на соседнее купе.
Пожилой человек в знак согласия закрыл глаза, скорбно, как на похоронах.
— И много?
Собеседник неторопливо пожал плечами и посмотрел исподволь в сторону рыжего парня. Михаил тоже поглядел на парня.
— Ты хоть раньше-то когда-нибудь играл? — спросил он, вспомнив, как заводила обучал игре.
Парень молча мотнул в ответ головой.
— И не умел? Только научили?!
Теперь парень согласно кивнул.
— И сразу давай на деньги играть! — Не мог вслух не изумиться Михаил. — Сколько проиграл-то?
— Все, — выдавил парень. Был он не так уж и молод, как показался сразу. Морщины у глаз, ввалившиеся щеки, чуть выдававшаяся вперед, пришамкивающая челюсть.
— А сколько это, все-то?
— Все, — повторил тот.
Выходит, верно, не ошибся Михаил в своем внезапном подозрении. Заводила был профессиональным шулером. И встречать его доводилось Михаилу не где-нибудь, а в собственной квартире — бывшей, понятно. Да при ситуации, надо сказать, пикантнейшей — в гробу не забудешь. Вернулся он тогда из ночного рейса. Вошел в квартиру… А из спальни — шорохи, звуки характерные, не спутаешь… Тихонечко, на цыпочках подкрался, резко открыл дверь и одновременно включил свет. А на постели вовсе не Лариска, как ожидал, а Маринка, подруга ее, с красавцем писаным. Маринка прикрылась с головой одеялом, а красавец — намеренно спокойно, прямо посмотрел на ворвавшегося хозяина. Михаил лицо его запомнил смутно, а взгляд этот — открытый, светлый, улыбающийся — четко. И сейчас, когда он умывался, на догадку навел именно взгляд. Михаил знал мужа Маринки, но вместо того, чтобы выгнать ее из квартиры вместе с хахалем, выключил свет, закрыл дверь и вышел. А когда вышел, буквально ожгла мысль — Маринка-то беременна! Живот такой, кажется, в декретном отпуске уже! И муж ее, Валерка, здоровый мужик, машинист тепловоза, где-то, наверное, в пути, рад едет, ребенка ждет!.. А на дите его, не рожденное, но живое уже, кто-то тут извергает… Потом был крупный разговор с Ларисой — она спала в другой комнате. «Марина любит его, — твердила жена. — Давно. До Валерки она его еще любила». — «Чего же тогда, если этого любит, за того замуж пошла?!» Валерка служил во флоте и носил до сих пор тельняшку, причем так, чтоб из-под рубахи был виден уголок с полосками. Маринка смеялась над его пристрастием к тельняшке, называла колхозником и умственно отсталым. «Чего человеку мозги морочить?! Идиота из него заранее делать?! Или этому не нужна, так хоть за кого-нибудь!.. Тогда дорожи!..» — «Нужна и этому, — объяснила Лариса. — Он ее тоже любит. Только у него такая жизнь, что…» Сильной, давней любви, как оказалось, мешало то, что красавец — шулер. Катается по стране, подсаживается в поездах к пассажирам, заводит игру, деньгу зашибает — дай нам бог столько!..
Что удивительно, Михаил тогда как-то сразу успокоился. Понравилось даже, что человек — странствует, шулер!.. Жизнь, судьбу ставит на карту!.. Теперь же, когда видел перед собой жертву — не какого-нибудь пресыщенного толстосума, а тщедушного, в поношенном невзрачном пиджаке, наверняка и без того неудачливого, потому убитого досадой паренька, — становилось не по себе. Собственная постыдность виделась. Понималось: это таксистом поработал, пообтесался, осмотрительнее сделался, думаешь вроде о чем-то, да ухо настороже, а раньше — как пить дать сам попался бы на удочку! Мордастый-то неспроста заговаривал и улыбался ему, будто девочка. Не ответь Михаил, мол, да, из командировки, тот бы, тертый волчара, так просто не отвязался — коли из командировки, значит, денег нет!
В проходе опять показались парни. Вторым шел этот, Заводила, как Михаил его про себя окрестил. Он смотрел все так же распахнуто, с веселой, как бы зазывающей наглецой. Сомнений у Михаила не осталось: тот, Маринкин. Парень, идущий первым, приостановился было, но Заводила, коротко глянув на Михаила, стрельнул глазами на рыжего паренька и подтолкнул в спину своего товарища. Буквально через мгновение послышался звонкий его голос; но что не укладывалось в уме — в купе, рядом с тем, где только что, как говорится, на глазах у изумленной публики красавчик вытянул деньги у нескольких человек, кто-то снова соглашался играть.
— Может, сказать проводнику, раз много проиграл, — обратился Михаил к рыженькому. — Пусть сообщит начальнику поезда. Их на станции возьмут — и вернут тебе…
— Разве проводник всего этого не видит? — приглушенно проговорил пожилой человек. — Его сейчас и в вагоне нет, вот в чем дело. Получил свое и…
— Ну тогда прямо к начальнику пойти!.. — Михаил хоть и восклицал, но тоже негромко.
— Вы что, шутите? Они же следят за тем, кто много проиграл… Вагон у нас головной, проход один, прикончат и выкинут… Ключи вагонные у них свои…
После этих слов Михаилу впору было вызваться самому идти к начальнику, коль завел речь. Прикончить, конечно, не прикончат, думал он. Это в крайнем случае. Но встретить, пригрозить могут. Михаила подзуживало — попробовать. Не ради этого паренька или кого-то других, кто, развесив уши, садится добровольно отдавать деньги, а так — судьбу попытать. Уж больно они уверены, черти! В какой-нибудь час, а то и меньше, если считать, что на некоторое время исчезали, прошерстили весь вагон! Без пистолетов и ножей ограбили! Безнаказанно. Это подавляло. Но… понимал Михаил, если ему действительно преградят путь, то дальше уже против воли и здравого смысла он попрет напролом! Так-то в жизни характер у него вроде покладистый, но доведись до крайности, до конкретного унижения или насилия — мозги отшибает, душу рвет!.. Из-за этого и с такси ушел — из-за непримиримости, в какие только переделки не попадал! А может, оправдывает сейчас себя он, успокаивает самолюбие, а на самом деле просто кишка тонка?..
Он склонился вбок и посмотрел вдоль прохода назад-вперед. Позади, а если считать по движению поезда, то наоборот, впереди красавчик заводила играл с мужичком один на один за боковым столиком. В другой стороне Михаил увидел сидящего вполоборота к проходу мордастого, который заговаривал с ним о помятой рубашке. Там же, где-то ближе к купе проводника, разворачивалась более шумная групповая картежная игра. Мордастый, словно того и ждал, повернулся на взгляд Михаила и улыбнулся шире прежнего, подмигнув обеими глазами, мол, умылся уже, рубашку одернул и заправил в штаны, все чин чинарем, как же, надо, подъезжаем! И Михаил ответил тем же, улыбнулся, да, дескать, умылся…
Мордастый как бы принимал его в свою компанию, в сговор. И жалостливое чувство Михаила смешалось с презрением даже к рыженькому: сидит, не чешется! А Михаилу что, больше всех надо? Мало ли их, рыжих!.. Да и как это он, не игравший вообще, пойдет, станет говорить? Получится — закладывает, доносит!
— В тамбуре у них обычно человек дежурит, — размеренно нашептывая, продолжал нагонять страх на окружающих пожилой человек. — Карты — такое дело…
— Да чего вы?! — резко повернулся рыженький от окна. — Никто меня силой играть не заставлял… Проиграл так проиграл, чего теперь!..
— Проиграл… У них система…
Михаил поднялся и стал собирать постельные принадлежности. А когда, бросив простыни и наволочку с полотенцем на смятую груду белья действительно в пустом купе проводника, возвращался обратно, увидел впереди невысокую фигурку рыжеватого. Пошел следом. Парни-шулера, раскормленные все под стать мордастому паха́ну, энергичные, на два раза прошерстив вагон, уже работали на дурачка. Открыто, с картами в руке шастали туда-сюда, шарили глазами, будто выискивали должника, приставали, хуже цыганок на базаре, чуть не к каждому. Без долгих подходов, без каких-нибудь там «рубашку помяли», протягивали колоду и предлагали сыграть. И находились, снова находились желающие! То ли под наглостью откровенной люди выпускают дух, теряются? Лучше, думают, часть денег отдать, пока все не отняли?.. То ли действительно надеются выиграть? Вот уже — как кролики в пасть удава, иначе не скажешь! Гипноз какой-то. Непостижимо! Но к Михаилу, однако, ни один не подошел, если не считать мордастого… Глянут — и мимо… Поднаторели!
Рыженький стоял в тамбуре, смотрел, как и в купе, задумчиво в окно. Не курил. Значит, не покурить вышел, а решил побыть один. Спрятаться от глаз людских.
— Подъезжаем, — сказал Михаил, тоже поглядев в окно. Неподалеку от железнодорожного полотна простиралась водная гладь с разбросанными на ней поплавками рыбацких лодок.
— Шершни, — добавил он и не без сладости вздохнул: дом близится, как же…
— Озеро так называется? — заговорил парень.
— А? Нет, это водохранилище. Но здесь и озер много. А ты не местный, что ли?
— К дружку еду. Вместе служили.
— В отпуск?
— Не знаю. Посмотреть. Понравится, останусь.
— П-понятно… Как же тебя угораздило, с деньгами-то?..
— Д-а-а… — смутился парень, вновь отвернулся к окну. — Бог с ними, с деньгами. Не жалко.
— Это… На хоть трешку, — полез в карман Михаил. — А то, поди, до друга добраться не на что…
— Не надо, не надо, — покривился парень.
— Возьми. Чего стесняться — со всеми может быть. Больше не могу дать, сам из отпуска, не проиграл, а все равно… все в трубу… Бери.
— У меня есть. Есть. Заначка. Двадцать рублей. На обратную дорогу…. На всякий пожарный… заныкал.
— А-а, — удивился Михаил: сказывалась все-таки в пареньке крестьянская жилка. Двести, триста, может, рублей продул, а заначку, последние двадцать, не тронул. — Ну, смотри. А то — стесняться нечего.
— Деньги не жалко, — снова повторил паренек, все глядя сквозь сильный прищур в окно. — Деньги тоже жалко, ну… заработаю. Зло берет… Вечно… На себя — зло, — мелко заморгал он. — Использовали, как…
Лицо паренька наморщилось, и сам он весь съежился, сделался вдруг стареньким. «Использовали, как…» — невольно напрашивалось у Михаила известное пакостное сравнение. Он еще собирался порасспрашивать насчет профессии парня, но говорить расхотелось. Уничижительность, с которой рыженький сказал о себе «использовали», передалась ему, что ли? Смрадом дыхнуло, наполнило, будто его тоже… использовали! Хотя и непонятно было, какое он к нему-то имеет отношение?
Михаил постоял еще для приличия. Поезд вздрогнул, стал тормозить — вечно они перед самой станцией по полчаса стоят — и он вышел. Но от слова этого, этого чувства — использовали — отделаться скоро не мог. Шулеров в вагоне не было.
На перроне Михаил заметил группу людей в штатском, но… с выправкой. А поодаль, у входа в здание вокзала — двух милиционеров. И хотя не терпелось домой, любопытство взяло верх. Задержался. Не шустряков ли вагонных поджидают, подумал, не доигрались ли ребятки?.. Встал на углу здания вокзала: выйти в город можно было или через само здание, где у входа дежурили милиционеры, или огибая его слева.
В чинных мужчинах с выправкой он, однако, ошибся, или же те выполняли иное задание: встретили двух почтенных старцев, тоже с выправкой, и все они вместе удалились. Но Михаил, не уходил. Захотелось проверить еще одно подозрение. Дождался, когда схлынул весь народ. Шулеров не было. Проглядеть их, шесть или семь здоровых лбов, Михаил вряд ли мог. Он тоже довольно рослый — выше основной массы, увидел бы. Выходит, останавливали поезд за десять минут до прибытия не случайно. Сорвали стоп-кран и выпрыгнули. Предусмотрительные!..
Поругивая себя, что простоял неизвестно зачем, а теперь в трамвай не втиснешься, Михаил заспешил к остановке. Жена, прикидывал он по времени, должна еще быть дома. Соскучился, оказывается! Ну и… как ни говори, больше двух недель постился… Дочка, жалко, уже в яслях, а то бы сейчас так обрадовалась, так сладостно взвизгнула… Эх, а Степка как бы обрадовался, явись отец сейчас… Да что об этом?.. Пересекая привокзальную площадь, Михаил посмотрел туда, где стояли междугородные автобусы — с торца здания железнодорожного вокзала находился автовокзал. Оканчивался отпуск, через день уже ему на работу, за баранку… Тоже, оказывается, соскучился!..
Прибывший после дорог дальних и ближних люд, надеясь с ходу ухватить удачу, оседлать судьбу, толпился вокруг лотка с билетами лотереи «Спринт». Старый торговец счастьем, в берете, с длинными седыми волосами, с лицом неподвижным, как бы ощерившимся и так застывшим, монотонно и гортанно шаманил, хотя и без того не было отбоя от покупателей: «Не жалейте рубля. Рубль — не деньги… За рубль — машину…» Михаил тоже взял три билета на трешку, которую предлагал рыженькому. Все три — проигрышные.
2
Худо ли, бедно ли, не хуже других жил Михаил. Нормально. Было ясно: жена, дочь, падчерица — это его вторая семья. Первая — распалась, остался сын, Степка. По сыну тосковал, мучился, но не он, Михаил Луд, первый, не он последний разводится.
Жизнь катилась — как катилась!
И вдруг — вкатилась в большую лужу….
Михаил вошел в подъезд своего дома, вбежал на лестничную площадку, — настроение, понятно, было приподнятое — заглянул в почтовый ящик попутно. Письмо. Обыкновенный такой конвертик, с местным обратным адресом, но незнакомым. Открыл — бланк, повестка — срочный грозный вызов в кожвендиспансер.
Михаил не перепугался особо, не запаниковал: изумился больше. С той поры, как женат он на Татьяне, три года уж, слава богу, никаких таких особых грехов за ним не водилось. На родине возникал вариант, но… ничего не произошло — как теперь думалось, к счастью. Постоял, погадал и решил: скорее всего, Лариска во что-нибудь вляпалась, а на него свалила. И пошагал по ступенькам вверх, благодарный судьбе, что вовремя подоспел, а так попался бы этот конвертик Татьяне!.. Хотя чувство неспокойное в глубине где-то поселилось…
Не сказать чтобы днем очень уж перенервничал. Пива с другом Сашкой попили, о поездке рассказывал вполне весело… Но ночью приснился Михаилу странный сон. Бывало, снились кошмары, например, будто попал в аварию — шофер все-таки, понятно. А тут… Чепуха какая-то.
Приснилось, будто вцепилась ему в пятки пегая здоровая кошка. Он схватил ее, отбросил… Глядь, а вцепилась-то не кошка вовсе, а мышь. А кошка лишь ее в своих зубах держала. Проснулся Михаил, схватился за пятку — ничего, нормальная… Пошарил под одеялом, по простыне — пусто. А все кажется, была мышь…
С утра пораньше отправился в диспансер. И тут огорошили. Симпатичная, молодая женщина-врач — на руке колечко обручальное, как муж на такую работу отпускает?! — сухо спросила:
— Когда был у вас контакт с Верой Кулешовой?
Михаил даже зажмурился, и во тьме одно на уме завертелось: «Ни ф-фи-ига себе…» — такое охватило недоумение! Вера! Уверен был, если и есть безгрешный на свете человек, так это она, Вера! Застенчивая до потери речи, в мечтах вся… Да быть не может!
— Она указала вас…
Чушь полная! Он, Михаил, голову под топор готов положить, что у него ничего ни с кем, единственно — с Верой. В жене, Татьяне, уверен, да она и в абортарии недавно лежала, обнаружили бы. А с Верой у него совершенно случайно получилось! Как вышло… Черт его знает, как и вышло. Она работала библиотекаршей в автопарке. На вид девочка совсем — потом выяснилось, двадцать шесть ей уже было. Худышка, в очках. Михаил частенько заходил — книжку взять, журнал «За рулем» полистать. А в ту пору так его стала заедать тоска по сыну, который хоть и в том же городе живет, да не с ним. Тоска ест, а поделиться не с кем. Жене не будешь об этом говорить! Сашке разве, другу. У того своих забот по горло. Зашел как-то в библиотеку, Вера спросила, отчего, мол, хмурый. Всю печаль свою ей и выложил. А после разговоры о жизни его и тревогах всегдашними стали. Умела она слушать. И скоро Михаиловы горести, кажется, волновали ее больше, чем самого Михаила. Степку, не видя, полюбила: какой-нибудь пистолетик купит, передать просит, книжку… Оказался Михаил в гостях у Веры, в общежитии: комнатка на двоих, ветки кленовые подсохшие на столе, из-за шкафа и зеркала торчат, кукла на подоконнике… Праздник, что ли, какой-то был? А, институт она окончила заочный…
Да, история приключилась…
Впрочем, рано за голову хвататься. Кровь взяли, наказали строго-настрого явиться через четыре дня, там видно будет. Выпадут кресты — как Михаилу мужики в очереди объяснили, кресты какие-то должны выпасть, если болен, — тогда и… Неохота и думать, что тогда.
А пока жить. К детям своим почему-то остро потянуло — выходил из диспансера и прямо вот до щемоты, до нетерпения захотелось что-то для детей сделать! И для Степки, и для Настеньки, и для Маши, пусть не родная, все равно своя, ребенок… На озеро, что ли, всех свозить? В цирк сводить? В цирк! Давно Степке обещал. Обязательно — в цирк!
Жизнь пошла юзом, такими вот пробуксовками…
3
Обшарпанный темный подъезд, узкая чистая лестница — поднимался по ней Михаил, и снова пробирал его знакомый холодок и слабость. По этой лестнице нес на руках молодую жену в подвенечном уборе, потом кулек из одеяла с первенцем своим… А теперь подъезд, лестница, квартира — чужое! Должны стать чужими. А как станут, когда та самая жена, сын-первенец остались, живут здесь…
Позвонил. Как обычно, ждал, пока откроют, в волнении, с боязнью смутной: слишком непредсказуемый человек Лариса…
Дверь открыла не Лариса. Открыло какое-то молочно-белое пятно с лиловым лепестком губ. И скривились эти губы, как бы ухмыляясь, раздумывая, пускать его, Михаила, нет. Марина, Ларискина подруга… В памяти сразу мелькнула та ситуация, когда Михаил застал беременную замужнюю Маринку с любовником на собственной брачной постели. Теперь она вызывала у Михаила прямо-таки физически ощутимую брезгливость. Он считал, ее уж и в природе не существует, по крайней мере, исчезла из Ларкиной жизни, нет, здесь! Сколько раз Михаила трясло, когда он заставал жену в компании этой Марины и подобных ей — пьянющими!.. Сколько потом слов выговаривал Михаил жене: вразумительных, бестолковых, вкрадчивых, всяких!.. И та уж поймет вроде, застыдится, поклянется всеми святыми — опять эта Маринка откуда-нибудь явится! Сам, конечно, виноват, надо было сразу разогнать их шайку-лейку, да чего греха таить, поначалу нравилось посидеть в веселой беспечной компании, выпить… Стоит, скривила губы…
— Позови Ларису, — попросил Михаил.
— Зачем она тебе?
— Какое твое дело!..
Смотрит на Михаила — глазом не моргнет. И ни с места.
— Позови. Или пусти — войду. — Михаил старался спокойно говорить.
Подумал, сказать, может, что видел ее шулера при деле… Да больно уж с души воротило… Муж, наверное, все на тепловозе… Неужто он ничего не замечает, не понимает, что жена его не из тех женщин, которые терпеливо ждут мужей из долгих командировок?! Ее в соседней комнате оставить опасно. Хоть какой доверчивый будь — мыслишки ревнивые должны шевелиться. Что она говорит в свое оправдание? Наверное, то, что говорят в таких случаях все: «Как ты можешь обо мне такое думать?!» Самое невероятное — она на шесть лет моложе Лариски!
— Ларочка, к тебе гость, — смилостивилась Маринка.
Лариса наконец появилась, лениво, будто нехотя. Встала в двери. Тоже губы чуть скосила. Бровки подняла: кто, мол, такой и откуда взялся? Голову набок, бедро в сторону, огненные волосы по плечам. «Красивая все-таки, зараза, — Михаил подумал. — Даже нет, не то чтоб красивая — соблазнительная».
— Может, впустишь? — заговорил Михаил.
— Нечего. Говори здесь, чего надо?
— Веселитесь все, празднуете?! — не сдержался Михаил. Он не хотел этого говорить, обвинять, да больно уж его зарядила раздражением Маринка.
— Не твое дело! Я не хожу, не смотрю, что вы там делаете!
— И эта… Помойка здесь!
— Твоя Таня одна хорошая, и иди к ней. Чего приперся? — Лариса была, конечно, много спокойнее Михаила.
— Доведет она тебя. Она же нормальную человеческую жизнь прямо ненавидит. Между прочим, я тебе раньше не говорил, но она мне вон там, на кухне, почти открытым текстом кое-что предлагала…
— Ты чего хочешь? Я тебе друзей не выбираю. Говори и убирайся. Нечего тут распоряжаться!
— Здесь мой сын!
— Твои дети у тебя дома с красавицей твоей бессловесной, с грустными глазами.
— Где Степка? — Михаил все же взял себя в руки, посуровел.
— Зачем он тебе?
— В цирк хочу сводить.
— В цирк?! — в голос расхохоталась Лариса. — Цирк! Повернутое ты, Миша, создание! А я гляжу в окно — бежит! Как жеребец! Куда он, думаю, так, а он в цирк! Тебя бы самого туда, в цирк — по кругу этому скакать. А мне бы кнут в руки!..
— Перестань!.. Где сын, спрашиваю?
— В деревне он, в деревне. Успокойся.
Михаил поглядел Ларисе через плечо, наискосок, в приоткрытую чуть дверь комнаты.
— Чего высматриваешь? — уловила тотчас Лариса его взгляд. — Завертел глазищами! Нюхом прямо чуешь: как только люди придут, так и он тут! Ждут его!..
— Ладно, веселитесь. Довеселишься…
— Довеселюсь, ыгы. Иди к своей невеселой — и радуйся…
Лариса на прощание улыбнулась — состроила благодушную улыбочку, — и прикрыла дверь.
Задержалась на секунду, чувствуя, как по ту сторону двери и Михаил постоял чуть, повернулся резко и побежал вниз. За ее спиной, в комнате звучала музыка, слышался Маринкин голос. И еще там двое каких-то мужиков. Понятно, зачем явились… Чужие все люди.
Лариса взяла на кухне пачку сигарет, прошла в ванную. Включила воду, понапористее струю сделала, чтоб шумела громче. Закурила. Закусила губу. Хотелось поплакать, да кто пожалеет… Какой-то рок: больше года она этой Маринки в глаза не видела, стоило той явиться — и, пожалуйста, как по заказу, Мишка! Снова на поверку она, Лариса, получается… А знал бы он, Мишка, сколько вечеров и ночей провела она одна! Сколько!.. Их гораздо больше, неисчислимо больше. Перед телевизором или с книжечкой в руках. А без Степки и вовсе худо. Пока дома он, вроде и в тягость кажется, руки связаны, а отвезет его в деревню — тоска заедает! Одиноко. Кто бы знал, как бывает одиноко! Каково любой женщине одной?! Днем-то ничего еще; протолкаешься, просуетишься, дела все вроде, заботы. А вечером… Такая, бывает, жуть находит!.. Ляжешь, натянешь на себя одеяло… И пустота. Зачем были дневные эти заботы, хлопоты?.. Или просто сведет истомой колени, сожмет всю… Так себя, господи, жалко станет! Разве виновата она, что родилась влекомой, чувственной?! Хоронить себя в тридцать лет! Чего ради? Да лети она прахом, вся эта положительная, благообразная жизнь!.. Лети она, Миша, вот так…
Лариса затушила сигарету, бросила в ведро окурок. Поправила волосы перед зеркалом, попробовала улыбчивое, пренебрежительное чуть выражение лица. Выключила воду. Если бывшему мужу угодно считать, что живет она в непреходящем веселии — надо соответствовать! Мужиков, правда, Маринка привела не ахти. Этот, который явно для нее, Ларисы, предназначался — здоровый, морда желудем — тупость сразу выказал, работником КГБ представился! Что у них за мода нынче, с кем ни познакомишься — из КГБ или ОБХСС. Другое выдумать ума не хватает! Но, видно, и не работяга. Или начальничек небольшой, или из торговли. Олегом, кажется, зовут…
Лариса вся из себя «легко и непринужденно» вышла к гостям. Поставила на стол рюмочки.
— Вы, кажется, из КГБ? — обратилась она улыбчиво к «желудю» с усиками. — А я, кстати, из ЦРУ. За это и выпьем!
Отметила: а все-таки ничего он мужик, в теле, имя приятное. И, видно, денежный.
Олег степенно, как человек глубоко понимающий юмор, улыбнулся. Другой, чернявый, грузинистый, стал откупоривать бутылку. Маринка пританцовывая подходила к столу, хохотнула.
Чужие, далекие друг другу, далекие ей, Ларисе. Умри завтра любой — другие и не взгрустнут, повод разве найдется выпить.
Лариса знала, что после трех-четырех рюмок на нее «найдет». Что найдет — сказать трудно. Скорее всего, подзаведет этого Олега, припрет его, положим, таким простым вопросом — кто ты есть в этой жизни и чего из себя строишь? А может, наоборот, возьмет да и пылкую страсть к нему разыграет… Или взбаламутит, потащит за собой всех куда-нибудь… Кто знает, что получится?.. Тоска ведь все. И не того вовсе желается. Надежности как раз желается, уверенности, что тебя любят, ты нужна, ты, и никто другой. Кто знает, что получится?..
4
Михаил вел автобус. Обычный рейс из одного города в другой, из Европы, между прочим, в Азию. В зеркальце над стеклом маячило девичье лицо. Михаил без умысла особого, больше так, по привычке, подстроил зеркальце, чтоб девушку эту видно было. Раньше обычно, от скуки и шутки ради, заводил игру с какой-нибудь девчонкой в переглядки. Кончались подобные истории чаще всего невинно, вздохом его горьким, такой примерно мыслью: «Она уже никогда не будет моей… Но еще могла бы!» Собственно, эта именно мысль, начав преследовать, крепко повлияла на его жизнь, далеко завела. Поначалу оформилась в твердое ощущение упущенности жизни: «Годы уходят, а было ли у тебя, Миша, что-нибудь настоящее? Была ли та любовь, о которой мечталось в юности ранней? Любовь, когда очарован, преклоняешься?.. Господи, до дома-то почти никого не провожал! Школа, армия, женитьба. Все заслонила Лариса, и черная какая-то к ней страсть. И все чего-то воспитывал ее, тянул в нормальную жизнь. Никак себя к этому не готовил, гулять бы бездумно да бедокурить, не из последних мужик, пусть бы наоборот — тебя остепеняли, прощали… Вовсе не по тебе доля какого-то правильного, вечно морализующего мужа! Ты тоже хочешь просто жить, путаться — жить, как понесет»… Так мыслилось. И понесло…
И сейчас нечаянные эти встречные взгляды в зеркальце с девушкой Михаила тревожили. Сначала вроде и повлекут, а следом и напомнят, что у него, может быть, там, в венах, бегают эти, кресты какие-то, черные, наверное, плавают, дьявол их побери… А дальше чередой мысли всякие, от которых, как от комаров, не отмахнешься.
И в минуты эти неладные опять-таки за детей цеплялась смятенная душа. Стало важным до необходимости, чтобы дети, подрастая, помнили и любили его, отца. Особенно тянулось сердце к Степке — наверное, оттого, что все-таки мальчик, сын, корневое Михаилово продолжение. И не просто сын, а, как ни крути, сын, им брошенный, который с годами может вообще отвыкнуть и воспринимать отца человеком почти чужим. Даже подозревать не будет, как мучило отца это разъединение, как любил он сына!
Степку Михаил, бывало, брал с собой в рейс. Удобное кресло для пассажиров парня не устраивало, облюбовал он откидное сиденье у входа — хотелось смотреть и вперед, в лобовое стекло, и по сторонам. Дорогой его, как обычно детей, не укачивало. Весь путь сидел и упорно, внимательно смотрел вокруг. Это пристальное вглядывание в окружающее давно поражало Михаила — годика в два еще, выйдя на улицу, вместо того, чтобы бегать, резвиться, сын встанет, замрет на месте, вытянется весь в непонятном изумлении и смотрит, вопьется прямо глазами в какое-нибудь мало примечательное людское движение на тротуаре, в подростков на игровой площадке… Окликнешь — не сразу и оглянется, а оглянется — глаза будто в поволоке каких-то своих дум. Каких, казалось бы?..
Сын в дороге почти ни о чем не спрашивал, не заговаривал. Лишь изредка просил: «Папа, быстрее можно?» Михаил обычно чуть придавливал гашетку газа: трудно ему было в чем-то отказать сыну. Быстрая езда выказывала таящийся в сыне азарт: он подавался вперед, тело натягивалось, разгорались глаза, будто не машина, а сам он мчится, летит над землей… Ах ты, сын!..
Михаил и теперь прибавил газу: километрах в шести поворот на Сафроново, где живет бывшая теща — Степкина бабушка. Конечно, пассажиры не обрадуются, поднимут шум, а носатый старик на первом сиденье, в очках и с газетой — явно возмутится, угрозы посыпятся, но… Смерть как хочется, необходимо просто увидеть сына! Разве это объяснишь? А почему, собственно, нет? Все же люди-человеки.
— Товарищи пассажиры, остановка на двадцать минут. Погуляйте, подышите воздухом. Кстати, вон, налево, на холме тренируются дельтапланеристы — посмотрите, интересно. А я пока съезжу тут, неподалеку, сына, понимаете ли, надо забрать… Кто не желает — может не выходить… Как ни странно, но предложение принялось почти без перепалок. Носастый и вовсе смолчал, глянул строго, поморщился — и вышел. И другие пассажиры вышли. Поняли!..
Михаил ехал по Сафроново, смотрел по сторонам, надеясь увидеть Степку. Посадил бы его в автобус — и «по газам!» А то ведь теща может и не отпустить — заартачится, хоть кол на голове теши!
Старуха с характером. Не таким, положим, как у дочери, но тоже будь здоров: Михаил просто был поражен, увидев однажды в матери точно такую же, как в дочери, ярость остервенелую, невразумительность полную — дурь какая-то прет, что ни говори! Хотя вовсе в давние времена, когда приезжали нормально, семьей, теща в лепешку разбивалась, зятьку угождала. И молочко парное утречком, и стопку к обеду, и баньку сама истопит — чего-чего, а разворотливости и у Лариски, и у матери не отнять! И хорошо, бывало, отдыхали у тещи в гостях. Озеро неподалеку, лес… Купались, загорали — никакого Черного моря не надо! По грибы ходили, по ягоды… Вместе, втроем: он, жена, сын… Бывало хорошо…
Так и не представляя, с чего начать и как объяснить, приоткрыл воротики. Полкан, несмотря на пресловутую собачью память, бросился, захрипел на цепи. Прошелся Михаил вдоль окон. Посигналил.
— Нету их, — вышла из соседнего дома старуха, — по ягоды с утра ушли. Ты это, что ли, Михаил?.. Что же ты, Миша, сыночка бросил? Какой мальчонка-то хороший, рассудительный! Совести в вас, мужиках, нынче нет! Уж что за баба така попалась, что дороже дитя родного?!
Что называется, нечем крыть. Ругнулся мысленно, втянул голову в плечи, вскочил в машину, круто вывернул баранку.
Быстро ехать было нельзя, приходилось объезжать рытвины на дороге, притормаживать. Видно удивляясь междугородному автобусу на маленькой сельской улице, встала на обочине как вкопанная молодая женщина с ведрами. Глядела как-то странно на него, Михаила — успевала глядеть. И красивая на редкость, отметил он, баба — статная, белолицая, русоволосая, да коса прямо как в сказке!.. Не вывелись, оказывается, в деревнях еще бабы с чисто природной, безыскусной красотой! Возликовала было Михайлова душа, да вдруг крутнулось что-то в голове, проступило в только что увиденном женском простом лице — другое, несопоставимое, но крайне похожее. Надька! Надька же это! Одна из разухабистых Ларискиных подруг! В прошлом официантка центрального в городе ресторана, шикарная современная особа! Да, слышал он что-то, будто уехали они с мужем куда-то, квартиру в городе бросили, купили частный дом…
— Ты же Генку, мужа моего, помнишь? — улыбаясь смущенно, отчего на щеках образовались ямочки, мигая в застенчивости, рассказывала о себе Надя. — Решил, поехали, и все. В деревню… Здесь-то мы недавно, третий месяц, до этого в Увельском районе жили — не понравилось, хозяйство плохое, водоема рядом не было. А здесь — красота!..
— А работаешь где? — спрашивал Михаил.
— Не работаю. Генка на комбайне, а я по хозяйству. Хозяйство большое — корову держим, бычок, свиньи, гуси… Да и детей у нас теперь трое — какая тут работа.
— Трехкомнатную квартиру бросить в городе! Странно…
— Что же?.. Мы же оба деревенские, привычные. Мужу захотелось — а я, как он… А вы с Ларисой как?.. Не сошлись?..
— Нет… Ну, бывай. Мужу привет. Я в рейсе, ехать надо.
— Счастливо. Заезжай — мы вот живем, четвертый дом, под шифером…
После встречи этой повеселело отчего-то у Михаила на душе. Ехал, крутил баранку и надивиться не мог Надежде с ее Генкой. Уехали! Поселились в деревне. И живут, видимо, хорошо, крепко. Мягкостью, теплом женским повеяло от той самой Надьки, которая, надо сказать, успела хлебнуть разгула. Правда, не долго шумела она во всей этой развеселой эмансипированной бабьей своре. Взял муж да увез. Неспроста, конечно, увез, неспроста захотелось ему в деревню. Было, наверное, что-нибудь конкретное — было что-то, из-за чего увез? Узнал, помучился, стерпел… А может, просто почуял неминучий в будущем крах. Слабость сказалась в мужике? Или сила?.. Михаил знал лишь отдаленно Надеждиного мужа: рослый, крепкий, с простым туговатым выражением лица. Так или иначе, но выход этот — зная худое о жене, взять и просто увезти ее, — не по нему, Михаилу. Извелся бы, хуже не простил. Но то, что напомаженная, налакированная, в золотых серьгах и кольцах, ресторанная дама превратилась в русоволосую деревенскую красавицу — поражало! Засела в мозгу несопоставимость этих двух разных лиц одного и того же человека…
5
Татьяна уже около часа маялась в очереди за полукопченой колбасой. В другой раз бы махнула рукой — обойдутся! — но сегодня день особый: трехлетие совместной жизни с Михаилом, вспомнит он, нет… Во втором супружестве все эти даты как-то обесценились… Татьяна, конечно, прекрасно видела, как перед ней втерлась в очередь упитанная тетка, с потными кругами под мышками. Подошла, вздохнула: хватит, мол, нам-то, нет, и пристроилась. А скоро стала и порядок наводить, покрикивать, чтобы не лезли без очереди. Что делать, завидовать лишь Татьяне приходится таким вот бойким, нагловатым бабенкам. Им и очередь, похоже, в удовольствие — оживают! А ее, Татьяну, — мутит. Впадает она в уныние, отключается как-то вся… Впрочем, задумчивость эта, отрешенность у нее, видно, с рождения, по крайней мере, со школы. А первое замужество с такой бесхлопотной, устроенной жизнью и вовсе способность эту укрепило — склонность к безмятежной задумчивости. Тогда, в первом замужестве, не знала Татьяна очередей, не ведала о дефиците. Все было. Володя, муж первый, доставал, привозил. Мотался вечно на своих «Жигулях», проворачивал бесконечно какие-то дельца… Холодильник был всегда полон, будто сам собой, деньги смятые кучкой лежали в серванте — муж к деньгам относился небрежно, говорил, пришли-ушли, будет день, будет пища… Жизнь, дела первого мужа оставались для нее далекими, знала твердо про него одно: с Володькой, как дружки его считали, не пропадешь, Володька — хват… А как разбился… Пьяненький, с дружком и девочками, на «Жигулях» врезался за городом в самосвал. Выяснилось, не только по деловым встречам летал он беспрестанно. Добром ли теперь поминать его, худом ли?.. Жили все-таки хорошо, дай бог каждому, дочка осталась… Без него круто жизнь изменилась, пришлось хлебнуть — не было привычки к заботам, к нормированному рабочему дню…
На Михаила тоже грех жаловаться: и человек неплохой, и не пьянствует, и зарабатывает прилично. Но кучкой, конечно, не лежат деньги. Правда, и детей стало двое, и цены выросли…
Объявили, полукопченая колбаса кончается, осталась вареная. Очередь дрогнула, подалась. Всем хочется ту, которая кончается. Татьяне бы надо тоже полукопченую — Михаил любит, день особенный, приятно угодить. Хотя он, наработавшийся, на аппетит не жалующийся, съест половину разом, по два килограмма всего дают, и не подумает, каких нервов стоило ее достать! Татьяна теперь уже досадовала на свое малодушие: зря позволила встать этой, с кругами под мышками, по закону подлости, как раз на ней колбаса может и кончиться.
— Ой, здравствуй, — тронула Таню за руку пожилая женщина, кажется, соседка с первого этажа, — давно что-то тебя не видала, уезжала, что ли, куда?
— Нет, дома я… — терялась Татьяна, догадывалась, для чего соседка заводит разговор.
— А то гляжу, ребятишечко играет, муж ходит, а самой вроде нет, думаю, уехала или болеет?.. А у меня-то какое горе: сношенница в больнице, колбаски бы вот взять ей с полкило. Я уж перед тобой встану…
Татьяна лишь плечами пожала и постаралась как-то подвинуться. За спиной возмутились.
— Вы что, девушка, в самом деле?! — вопрошал мужчина. — Одну пустили, другую! Может, всех знакомых соберете?!
— Обнаглели, совести нет, будто тут не люди стоят, — раздавались громкие, злобные голоса.
Женщина-соседка принялась убеждать, что занимала, отходила просто, нажимала на больную «сношенницу». Ну а та, первая, упитанная тетя, пустилась в крик, в ругань. Одну кикиморой обозвала, другого лысым дураком. И на свою голову — очередь приналегла, вытеснили нагловатых женщин. И Татьяну вместе с ними чуть не вытолкнули, мужчина сзади, спасибо ему, придержал. Татьяна еще успела извинительно улыбнуться соседке, хотя в душе-то рада была — справедливо ведь, нехорошо это, без очереди! И надо же — Татьяна именно взяла последние остатки полукопченой. Так что, не вмешайся мужчина — не досталось бы! Неловко перед ним даже: воевал, воевал — и остался с носом. А когда Татьяне взвешивали колбасу, он так смотрел, так стрелял глазищами, будто ждал, что она уступит половину. Надо же, сейчас странно и представить, что было когда-то такое время, не подозревала об очередях, сутолоке, нехватке… Терпеть не могла разговор об этом. Удивительно… А все-таки в этом что-то есть — именно на ней кончилась, на Татьяне, именно на ней!..
6
Михаил, не включая свет, стянул тихонечко туфли, снял, повесил на ощупь куртку. Жена, видно, уже спала, и это было хорошо. Он и задержался специально, после рейса зашел в пивбар, чтоб меньше видеться с Татьяной, не томиться весь вечер недомолвками. В пивной Михаил думу свою тревожную «растворил», а домой принес бутылку водки, собираясь выпить стакан — «заблокировать сознание» — и в постель. Он пошел было с бутылкой уже на кухню, но неожиданно для себя остановился. Не стакан водки в одиночестве нужен ему сейчас, а как раз обратного хочется — человека рядом, близкого человека, жену увидеть, голос ее услышать…
— Тань, ты спишь?.. Чего так рано? — приоткрыл Михаил дверь в комнату. — Вставай — давай, будем праздновать!
— А я думала, ты забыл… Не сплю, только легла. Подождала, подождала… А ты чего поздно?..
Михаил не понял, чего он мог «забыть», но уточнять не стал. Не забыл, выходит, — и ладно.
Хотелось укромности, и Михаил придумал устроить маленький праздник, расположившись на паласе, в углу комнаты, под торшером.
— За тебя, — поднимал муж рюмочку.
— За тебя, — улыбалась жена в ответ.
— За нас…
Странно: с первой женой у Михаила были сложные всегда отношения, нервные подчас, но до сих пор при встрече завязывается у них разговор долгий, витиеватый. А со второй, с Таней, жизнь проще, безоблачнее, но разговоры получаются малоречивые. Взглядами больше, улыбками…
— Удивительно, три года уже прошло… — покачала умиленно головой жена. — Я сильно изменилась?
— Три года! — припрыгнул даже на месте Михаил. Но себя не выдал, тоже впал в умиление. — Три… Ничуть не изменилась, разве немножко… помолодела. Цветы надо бы!.. Схожу принесу, подожди, а?..
— Нет, нет, не хочу одна. Завтра, завтра принесешь.
— Давай на руках хоть тебя поношу…
— Какой-то ты сегодня… Тяжело, наверное?
— А я мужик здоровый! Милая моя. Надежда и любовь…
— Тебе идет быть пьяненьким. Другим женам — беда, а мне нравится. Ласковый делаешься, слова начинаешь такие говорить…
— Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке!
— Поить, что ли, тебя чаще?
— Пои! Я тогда вообще буду… стихами говорить!
— Хитрый какой! Хорошо, что в меру.
— Давай танцевать!
— Детей разбудим.
— А мы такое ме-едленное что-нибудь и тихое поставим…
И он целовал ее, бережно, неспешно. И она отвечала, как бы чуть придерживая, не допуская…
Правда, в сомкнутых объятьях, в теплоте и близости женского тела он чего-то не находил. Немножко так, отдаленно, но не хватало чего-то. И в который раз подспудно понялось, в чем кроется это неуловимое что-то! Независимое от него, Михаила, чувство ждало то, давно знакомое, крепкое, податливое тело, те, жгучие, цепкие, торопящие объятия, наконец, что уж вовсе бред, — запах сигаретный!.. Привык: благодаря курящей первой жене горьковатый привкус губ и запах сигаретный слился в сознании с запахом женщины вообще!
Ощущение это нелепое было лишь мимолетным. Михаил обнял жену крепче, уткнулся в шею… И в момент сей, словно рука невидимая чья-то коснулась, — проскочила мысль, так упорно избегаемая им весь вечер…
— Ой, Танюша, что-то захмелел сегодня… Пойду, голову под кран суну…
7
Три дня долго тянулись, — дольше, чем перед дембелем в армии. А подошел срок — и не торопился Михаил. Душ утром принял, выбрился старательно, приоделся, перед зеркалом постоял. Пошел. Надо было идти. Прикрыл осторожно за собой дверь, услышав, как щелкнул язычок замка.
Внизу, одна из старух, которые вечно на скамеечке сидят у выхода и всех и обо всем знают, заговорила с Михаилом:
— Сыночек-то дождался вчера тебя?
— Сыночек? — не понял Михаил.
— Ждал вчера, долго тут ходил… Глазастенький такой, папу, говорит, жду… Я еще думала, откуда недалеко пришел, а он из деревни, говорит, приехал, друг какой-то твой, что ли, его привез…
— Он один совсем был?
— Мальчишка? Один. Долго тут ходил. Я уж вижу, мается мальчонка, спрашивать стала. Он прямо как взрослый отвечает… У меня внучек одногодок ему, а ничего еще в голове. А этот… К папе, говорит, приехал…
Ну и дела, час от часу не легче! Помчался тотчас Михаил на квартиру к бывшей жене. Не дозвонился, не достучался. Никого, видно. Оставил записку — и дальше. Куда только? Лариса до недавнего времени работала в парикмахерской, на кассе, уволилась, насколько Михаил знал. Сообразил добежать до ресторана, в котором Маринка трудилась — точно, в десятку.
— Нет, не было его… — терялась Лариса, поникшая вся, совсем другой человек вроде. — А как он около твоего дома оказался?
— Как, как… Приехал! Ты сама-то дома была?!
— Не твое дело.
— Заладила!.. Черт! Не отсудил тогда Степку, дурак!.. Где он, где?!
— Он же около твоего дома был! — Вспыхнули активные ее глаза.
— При чем здесь… Мать тоже!
— Ты отец!.. Наверное, ездил туда, к матери? А, ездил?!
— Не твое дело.
— Конечно, ездил, раз в цирк собрался! Тебе же в голову что втемяшится!.. Ездил? Взбаламутил мальчишку!!!
— При чем здесь!.. Действовать надо, искать. Пошли в милицию. Или так: я в милицию… Или сначала, может, к матери съездишь, вдруг он обратно вернулся? А я тут порыскаю…
— Не знаю. Давай так… Мать и сама, наверно, приедет, если потерялся…
— Ну, ладно. Ну, хорошо. Подожди до вечера, а я пойду. К вечеру заскочу.
Лариса кивнула, он пошел.
— Мишка, — окликнула она, — может, выпьешь немного? Бледный ты какой-то…
— Ничего не хочу…
Михаил решил сначала увидеть Сашку: он, видно, Степку привез, больше некому. Разузнать подробности. Сашка должен был через часика полтора из рейса вернуться, и Михаил рассчитывал его прямо на автовокзале встретить. А чтоб времени даром не терять, решил все-таки заскочить в диспансер, узнать насчет этой дурацкой крови — думается как-то…
В нетерпении прошел мимо очереди, заглянул в кабинет.
— А, Луд, заходи.
Врач стала рыться в бумажках, протянула одну:
— Поедешь в стационар. Машина как раз оттуда ждет.
— Как?..
— Лечиться надо, Луд, лечиться…
Михаил путано и крикливо стал объяснять, что жена не оповещена, сын, от первого брака, потерялся. Но милая женщина-врач качала головой, будто бы даже соглашаясь, понимая, говорила:
— Оповестим… Найдется… Кто же виноват, такая болезнь… Надо госпитализировать…
И Луд сел, умолк. Жизнь залетела в кювет и опрокинулась.
Но в больнице, когда провели их, вновь прибывших, через охранный пункт милиции, а за спиной остался высокий бетонированный забор с рядами колючей проволоки, когда, войдя в больничный корпус, взглянул он на белый свет сквозь решетчатые окна, снова ломотно заколотило сердце. Куда попал?! За что?! Почему милиция, ограды, сторожевые собаки?! «Больница строгого режима!» Есть подобные больницы с обычным режимом, нет, привезли в БСР, куда помещают больных, не соблюдающих режим! В обычной мест, говорят, не было. Закрутилась житуха! Там, по другую сторону забора, на воле — теперь уже так — на воле, жена, там сын!.. Маленький сын, приехавший самостоятельно к нему, к отцу, из деревни, затерянный сын! Где он, что делает, каково ему?! Никак не место Михаилу сейчас здесь, надо искать, найти…
И он стал уже более логично, напористо выкладывать свои сложности доктору в приемном покое. Тот глянул мутно, невидяще, привычно не желая слушать и разбираться во всех бесконечных этих проблемах личных и несуразицах, он не психиатр, наконец.
Пробурчал:
— Надо было там, откуда вас направили, говорить. Отсюда… не выпускаем.
И Михаил отступился, осознав, что и та женщина-врач, в диспансере, и этот вовсе не бездушны, а представители определенной системы, с определенным отношением. И как бы под углом их профессионального перекоса Михаил увидел себя — увидел себя человечески ущербным, бесправным, лишенным слова. И когда облачился в зеленую пижаму, терпимее уже и смиреннее относился к грубому, одергивающему тону смазливой вредной девчонки — дознавателю в сержантских погонах. И хотя внутренне еще возмущался, — почему с ним обходятся как с преступником? — понимал: видно, в этом есть правда, видно, заслужил…
Четыре стены вокруг, ломотная маета. И недлинный узкий коридор — туда, сюда, туда, сюда… Не вы́ходишь. И единственно целесообразное — ожидание.
— Что, парень, места найти себе не можешь? — улыбнулся навстречу перекошенный старик, с пританцовывающей походкой и одесскими усиками.
— Не могу, — признался Михаил.
И поразился: сколько раз всуе слышал и говорил эти слова, а оказывается, вот оно как — места себе не находишь. Нет его, места такого! А там, за стенами, сын, кроха — н е н а х о д и т с е б е м е с т а.
Всегда-то, при совместной еще жизни, глядя на сына, охватывала Михаила тревога. Больно не по-детски грустно смотрели его большие, широко расставленные глаза. Порой даже с поволокой, как бы с застывшей сдержанной слезинкой в уголке. Сын, казалось, родился с этой грустью, со скорбным предвидением будущего родительского разлада, собственного одиночества. И Михаил никогда даже прикрикнуть на сына не мог. Да и видел в нем не только сына, но и друга. А для сына, знать, и подавно отец являл собой идеал.
— Вырастешь, Степка, большим — высоким будешь, выше меня, — как-то сказал ему Михаил.
— Не хочу выше — хочу, как ты, — ответил сын.
— Нет, ты и выше будешь, и сильнее. И поумнее.
— Не хочу. Хочу, как ты, — твердо сказал мальчик.
Что он думал, что чувствовало его сердце, когда разлад матери и отца стал явным? Что понимал, что поймет?.. Замкнулся больше, вовсе пугающая взрослость проскальзывала в глазах. «Папа, почему я в садике один и один, грустный и грустный», — поделился однажды четырехлетний ребенок. Что мог ответить ему отец? Что?..
Уже в разлуке, листая в библиотеке подшивку журнала, наткнулся Михаил на репродукцию картины Нестерова «Видение отроку Варфоломею». Увидел — и обомлел: Степка! Не лицом, а другим… Хрупким обликом, небесным очарованием… Вырвал тогда листок с репродукцией. Фото сына он никогда не выставлял — тяжко смотреть. А вот отрока Варфоломея можно бы: и он вроде, Степка, и не он. Долго искал дома где повесить, нашел место, но дня через два снял репродукцию. Не смог. Изредка лишь, как и фото, доставал, смотрел…
Где же он сейчас, сын, куда толкает судьба, что видится и кто является отроку Степану?..
8
Мальчик чувствовал на себе взгляд. Когда он был в воде, взрослые на берегу обычно на него засматривались — удивлялись, маленький, дескать, а ныряет, плавает, как настоящий спортсмен, как рыба в воде… А что удивительного? Просто он, Степка, с папой ходил в бассейн с трех лет, занимался. Научился.
Но глаза, следившие за ним сейчас, были иные, не любопытные, не настороженные, а восторженные. Да, смотрела та беленькая девочка, какую, раздеваясь, заметил он на берегу с родителями.
Мальчик плыл. Вперед, вперед. Кролем, брассом, на спинке. Родители девочки забеспокоились. Дремавший отец приподнялся, мать отложила сигарету, надела очки.
Мальчик глотнул побольше воздуха и нырнул. Потаенно озоруя и усмехаясь над белесыми этими людьми на берегу, греб, медленно выпуская воздух, погружался глубже и глубже. Даже папа его, отлично знающий, сколько он, Степка, может пробыть под водой, пугался и поругивал за такие фокусы. И уже не только перед следящими за ним людьми, а в схватке с силой, которая зовет и тянет быстрее наружу, погреб, когда воздух кончился. До спертости в груди. На последнем издыхании пошел кверху. Вынырнул, глотая воздух, нахлебался. Забултыхался.
— Мальчик, что с тобой?! Чей это ребенок?! — донеслось с берега.
И Степке сразу удалось вдохнуть, улечься на спину. В голове немного кружилось. По ясному небу носились чайки. Мальчик успокоился, усмехнулся над собой: чуть не довыпендривался.
С ленцой, будто и не устал вовсе, вышел на берег. Хрупкий, удивительно пряменький.
— Разве можно так далеко заплывать? — забеспокоилась женщина. — Сколько же тебе лет?
Мальчик улыбнулся, ничего не ответил. Пробирала дрожь. Встал, прижав руки к груди, лицом к солнцу. Щурясь, оцепенел в задумчивости. Дрогнул, опять поймав на себе взгляд — взгляд девочки.
— Как ты плаваешь! А я не умею… — подходила она.
Девочка была чуть выше ростом, видимо, немного и постарше. И красивая совсем.
— Не купаешься — как научишься? — смутившись, ответил мальчик.
— Не разрешают одной… Тебя как зовут?
— Степка.
— А меня Оля.
Чтоб не выдать дрожи, Степка стал натягивать майку.
— Ты уходишь?
— Да… — он вовсе не собирался.
— А ты что, один пришел?
— Ну конечно.
— Меня бы никогда не пустили… А ты можешь по этому дереву пройти, большие мальчишки проходили. — Из крутого бережка рос вкось тополь и нависал над водой.
Мальчик пробовал уже по нему взбираться; сделал шажка четыре и… спрыгнул. Дальше ствол круто изгибался и начинал ходить под ногами. А внизу из воды торчали столбики, оставшиеся от разрушенного помоста. Брякнешься — радости мало!
Вразвалку направился к дереву. Ступил на гладкий ствол. Дремотный девочкин папа наблюдал. Мальчику бросился в глаза его розоватый, в складках живот. Тоже — отец! Плавать и то, наверно, не умеет. Вот у него, у Степки, отец!..
Осторожными шажками Степка поднялся до крутого сгиба. Внизу, кольями, столбики. В груди немота. Девочка смотрела. Ствол качнулся. Сбалансировал, разведя руки. Представил себя канатоходцем и налился уверенностью.
— Куда лезет, убьется ведь, — проворчала женщина.
Людское в нем сомнение всегда придавало Степке решимости.
Вмиг, в несколько точных шажков проскочил по шаткому стволу, схватился за ветви. Повернулся к девочке. Та засмеялась. Раскачался. Нижние ветви захлопали оводу. Легко — канатоходец! — сбежал обратно. Девочка, смеясь, запрыгала. Его и самого распирала радость, он силился, сдерживался, но улыбка все-таки выползла. А за ней и смешок.
— Ты смелый!
Мальчик снова, с разбега, стремительно влетел на дерево — а не так и страшно, если не бояться! Попробовала то же сделать и девочка, но на нее сразу зашикали родители. Да она и хотела лишь попробовать.
Мальчик стянул майку, повернулся опять к солнцу. И снова тотчас впал в полузабытье. В лице проступило уныние.
— А ты в каком классе учишься? — спросила девочка.
Мальчику вовсе не хотелось говорить, что он только еще пойдет в первый.
— А ты?
— Во второй перешла.
— Хочешь мороженое?
— Хочу. А где оно здесь?
— Я схожу, к магазину.
— А у тебя есть деньги?
— Как без денег…
— Я с тобой. Мама, можно я со Степой схожу за мороженым?
— Какое еще мороженое?! — удивленно посмотрела женщина.
— К магазину, там есть.
— К какому еще магазину?! Не выдумывай. Пойдут они к магазину!.. Пойдем обратно и купим. Нечего выдумывать.
— Я один схожу, — сказал Степка девочке.
— Степа же может. Он и пришел один. Что сделается — сходим…
В девочке заговорил каприз, слезы мигом подкатили.
Отец девочки недовольно поморщился, перевернулся на живот. Мальчик понял: не хочет вмешиваться.
И мужчина уловил взгляд мальчика. Прищуренный взгляд детских внимательных глаз. Неуютно пошевелился, похмыкал, забормотал:
— Что в самом деле тут страшного? Ходит же в школу одна. Воспитываем… Вон парень, гляди, какой самостоятельный.
— Сколько говорить?.. — зашептала-зашипела женщина. — Разве можно при ребенке… Какой я потом авторитет?!
— Ну, конечно! У меня прав нет…
— При чем здесь!.. Ну, хорошо, сходите. Возьми деньги, — обрадовало женщину собственное великодушие.
— Я куплю, — оживился мальчик: ему самому хотелось угостить девочку.
— Хм… Куплю! Богач нашелся. Возьмите и нам принесете, — вовсе женщина просветлела.
Мальчик и девочка перешли по подвесному мостику с острова на большой берег.
— А почему папа твой не купается? Сопрел совсем, — поинтересовался Степка.
— Не любит… Он бы и не пошел, он очень занят всегда. И мама не пошла бы. Из-за меня пошли. Я просилась… Они боятся, что я потом к ним не захочу…
— Как не захочешь?!
— Я живу то у них, то у папы. А это не папа… Я его раньше, когда маленькая была, тоже звала папой. И того, настоящего, звала папой, и этого. И жену папину звала мамой: папа сначала один жил, а потом тоже женился. Было два папы и две мамы. Из садика забирали то одни, то другие. Надо мной ребята стали смеяться. Я поняла тогда: бывают только — один папа и одна мама. Перестала звать этого папой, а ту — мамой… Ты понимаешь, что я говорю?
— Понимаю… Бывает один папа и одна мама.
— Мне сначала очень нравилось, что у меня два папы и две мамы — мне те и другие куклы покупали и игрушки. Ни у кого из девочек столько кукол нет! А потом поняла… Мама родить ребенка этому… не может, и у папы новая жена не может. Я одна. Папа, тот, настоящий, хороший. И жена его хорошая. Эти хуже. Скучные такие… Ужас! Но что сделаешь, мама же… А у тебя, наверное, хорошие папа с мамой? Пускают тебя одного!
— Хорошие, — согласился мальчик, — но тоже вместе не живут. По отдельности хорошие, а вместе не могут.
— Разлюбили друг друга?
— Не знаю. Мама говорит, что папа разлюбил. Папа ничего не говорит, переживает только…
— Что сделаешь…
Дети купили мороженое, два брикетика распаковали, стали есть. Другие два — понесли взрослым.
— Больше всего люблю мороженое! — говорила девочка. — Мороженое и землянику.
— А я еще арбузы и пельмени.
— И я арбузы и… пельмени не так. А еще виноград, клубнику, малину… ананасы!.. А ты, — зашептала она, — курить пробовал?
— Пробовал. Не понравилось.
— Мне тоже…
Мальчик издали еще заметил и, приближаясь, то и дело поглядывал на стайку пацанов постарше около подвесного моста. Он догадывался, зачем они там стоят. И не ошибся.
— Жених с невестой поехали за тестом, — поддразнил один, самый малый, но Степки покрупнее, постарше.
Мальчик напрягся, сделал вид, что ничего не слышал. Шел с девочкой мимо, нес мороженое.
— Дань! Куда? Дань за проход, — перекрыл путь другой.
Мальчик знал все заранее, весь ход событий.
— Мы мороженое несем папе с мамой, — сказал он с тоской, по возможности спокойно.
— Обойдутся. Дань: или мороженое, или по десятику с рыла.
Как он, Степка, ненавидел драку! Люди — и друг друга бьют! Неужто самим не противно?! Пусть победил, пусть даже нехорошего поколотил, но ведь само же по себе — противно!
— Пусти.
— Дань! Давай или сам возьму.
Девочка жалась к нему, Степке. Искала защиты. В Степке из маленького цепенеющего комочка в груди разрастался зудящий шар. Жег. Что же делать, когда унижают, издеваются? Бить в ответ? Бить или поддаться. Неужто только это?..
— Ой!.. — вскрикнула девочка: кто-то сбоку дернул ее за кудряшку. И одновременно потянулись руки к мороженому.
— Бабий пастух!
Шар лопнул. Все померкло. Осталось только лицо, от которого потянулись руки… Резкий, взрывчатый, Степка бил и бил, наступая. И ошарашенный мальчишка, явно старше и крепче его, свалился под напором. Но тотчас кто-то из компании сбил Степку подножкой. Противник, упавший первым, вскочил, уселся верхом, стал молотить Степку кулаками.
И девочка все видела!.. Как его, как он внизу, в пыли!.. Степка пытался встать, изворачивался, приподнимался, но руку, которой он упирался, то и дело подсекали ногой.
В пылу он не сразу расслышал истошный девочкин крик, зов на помощь. А как-то враз, словно сдуло компанию, рядом взрослые, тоже кричат, мать Оли, а за ней и отчим.
— Что, сходили за мороженым?! — дергала за руку девочку мать, повернулась к мужу: — Говорила, нет, куда там — он больше знает! Обязательно надо на своем настоять! Обязательно на своем. Что за человек?! Лишь бы по его! Чуть девчонку не зашибли!..
Девочку уводили! Как на привязи тащилась она за матерью, оборачивалась, растерянная, не знала что сказать… Уходила! Давно Степке не было ни с кем так хорошо. Хотелось крикнуть, спросить, придет ли она еще сюда, когда придет?! Но молчал. Смотрел. Разве знает она: когда и придет ли… Стоял, не отряхивался, не вытирался. Скорее всего никогда — никогда они не встретятся больше…
Какое-то сплошное невезение!
Днем раньше мальчик проделал большой и интересный путь. Узнав, что заезжал отец, Степка решил — неспроста. Представил «Икарус» возле бабушкиного дома: посадил бы его папа рядом с собой, и поехали бы!.. Ждал целый день — вдруг он снова приедет! Даже далеко от дома не отлучался. Ждал, ждал да и отправился сам. Сначала все складывалось хорошо. Доехал на пригородном автобусе до пересечения с той дорогой, по которой отец водит свой «Икарус»: всего лишь две остановки, а в толкучке и дела нет никому, что маленький да один.
Встал у перекрестка, заглядывал в лобовые стекла всем проходящим «Икарусам». Считал, сколько с одной стороны прошло, с другой, сколько остановилось. Потом сбился: с холма неподалеку взлетел дельтаплан — засмотрелся. Не заметил, как проскочил мимо автобус: может быть, его-то как раз и вел папа! Мальчик подосадовал на свое ротозейство, но недолго: на холме брал разгон еще один дельтапланерист. И Степка мысленно разбежался с тем крылатым человеком, взмыл ввысь и стал парить над землей. Видел внизу скрещивающиеся полоски дорог, ползущие по ним жуки-машины, игрушечные будто деревья, деревню вдали… Себя на бугорке, до мокроты в глазах от солнца смотрящего на дельтаплан в небе.
Ждать было не надоедливо. Дельтапланы поднимались на холм и опять взлетали. Степке хотелось дойти, посмотреть, потрогать. Но в это время мог проехать папа!
И вдруг вместо папы Степка увидел дядю Сашу: остановился очередной автобус, подбежал ближе — дядя Саша за рулем, папин друг.
Дядя Саша поудивлялся, расспросил, похмыкал, взял с собой. Довез прямо до самого дома, где папа живет.
А после все пошло наперекос. Позвонил — никого. Подождал в подъезде, послонялся по двору — без толку. Проголодался. Отправился на трамвае домой, к маме. Отворяя своим ключом дверь, услыхал противные эти, горластые разговоры. Маме станет неловко, сорвалась опять… Не надо бы ее оставлять одну. Да ведь не спрашивает она, отправляет к бабушке…
Повернулся Степка, прикрыл за собой тихонечко дверь.
Купил в кулинарии два кекса, съел: денежек было накоплено больше рубля, бабушка сдачу не брала, когда он в магазин сам ходил, говорила: «Не баловной мальчонка, зря не потратит». Дотемна пробыл на детской площадке. Когда вернулся домой, никого уже не было, мамы тоже.
Утром пожевал хлеб с сыром и редиской, отправился на реку. И вот встретил девочку хорошую, только подружился — драка!.. Опять один.
Степка отряхнулся, вымыл в реке руки, купаться больше не стал, пошел домой. Мамы все еще не было. На столе не прибрано, бутылки пустые. Степка представил мать: когда у них бывают гости, а потом уходят, становится она грустной, молчаливой, ляжет, ничего делать не хочет, смотрит куда-то перед собой… Степка и сам прилег на диван: а то от всей этой сумятицы голова пухнет, как бабушка говорит. Но бабушка еще и говорит, что под лежачий камень вода не течет. Надо что-то делать. Есть захотелось. Картошки бы горячей с молоком! Встал, попил из крана холодной водички. Можно бы еще раз съездить к папе, но далеко это, и дома, пожалуй, его нет, в рейсе.
Степка вытащил из кармана оставшуюся мелочь, посчитал: мало на обед. Подумал, достал из шкафа полотняную сумку и стал складывать в нее пустые бутылки.
И та тетенька, за которой Степка встал в очередь, и другая, которой отдают в окошечко бутылки, приставали с расспросами. Но он придумал ответ заранее.
— Мама лежит, болеет, а денежки у нас кончились. Послала меня.
Тетя-бутылочница выдала Степке большой круглый рубль. А когда он, размахивая пустой сумкой, пошел, появилась откуда-то та тетя, из очереди, сунула ему в руку денежку. Добрая, видно: целых двадцать копеек дала!
В столовой, куда он иногда ходил с мамой, съел тарелку пельменей! На вид, правда, они были не очень — мясо и тесто отдельно, — но такая вкуснятина! Насытился, даже спать захотелось.
Снова было пошел к реке, но звякнул на повороте трамвай, «восьмой», который ходит на вокзал. «Папа!» — осенило Степку. Папа сейчас мог быть там, на вокзале! Отправляться в рейс. Представил: папа как раз садится за руль, поправляет зеркальце над головой — и вдруг раз, он, Степка, входит… Побежал к остановке.
Автобусы стояли рядком. Много. Подъезжали, заполнялись людьми, отъезжали. Но папы не было. Не было и дяди Саши. Внезапно Степка наткнулся на взгляд дяди-милиционера. Как бы между прочим, зашел за автобус, притаился. Давно, когда папа только ушел от них, Степка с мамой поехали к бабушке. Мама была немножко выпивши, и два милиционера взяли ее под руки да куда-то повели. Степка тогда перепугался, заплакал, побежал вслед, стал умолять дяденек, чтоб маму отпустили…
Степка только хотел глянуть одним глазком из-за угла — милиционер появился с другой стороны автобуса.
— Ты, мальчик, что, потерялся?
— Нет…
— А с кем ты?
— С папой. Он там… — кивнул Степка в сторону здания объединенного автожелезнодорожного вокзала.
— Поезд ждете?.. А тебя отец не потерял? Иди-ка к нему. Найдешь?
— Найду, конечно.
В здании вокзала тесным-тесно. Очереди: у касс, у буфетов, у автоматов газводы… Заполнены скамейки, лежат люди прямо на полу, на рюкзаках. Толпится народ вокруг фонтана. Смеются. Степка залюбопытствовал, протиснулся — цыганята, босые, бродят в воде под струйками, собирают со дна монетки. Люди вокруг, взрослые, бросают. Цыганята стараются поймать на лету, достают из воды, один изловчился, взял монетку со дна зубами. Старается то же сделать и другой. Не получилось, нахлебался, закашлялся. Взрослые смеются. Степка тоже засмеялся и снова увидел милиционера. Напротив. Не того, другого, этот пока на него и не смотрел. Но Степка попятился, побежал, лавируя меж людьми. Мальчика охватил страх. Он и в самом деле ощутил себя потерянным. Столько народу — и он один, совсем один! Никому не нужен. Выскочил на перрон — перед ним поезд. Красные одинаковые вагоны. И запах… Как от крашеной бочки с водой, которая у бабушки на огороде. На поезде Степке ездить доводилось и нравилось: сидишь у окошка, смотришь, надоело, пройдешься, послушаешь разговоры, по проходам носят корзины с конфетами, лимонадом, а колеса стучат, едешь…
На поезде можно доехать до той станции, откуда пригородный автобус ходит в бабушкину деревню. А бабушка, конечно, волнуется, хотя и оставил он записку: «Поехал к папе».
Около одного из вагонов не было ни дяди, ни тети, проверяющих билеты. Не долго размышляя, в порыве, мальчик шмыгнул в тамбур, проскочил вдоль прохода и залез на третью полку в пустом пока еще купе. Забился в угол.
Под перестук колес укачивало. Мальчик лежал, боясь пошевельнуться, дыхнуть. Внизу одна тетенька хвалила другой своего послушного сына, который учится в какой-то специальной школе, в музыкальной, и еще посещает секцию фигурного катания. И все сетовала, что не достались билеты в купированный вагон.
Мальчик слушал, думал о папе, о маме, о бабушке… Хорошо что есть бабушка. Бабушка-то обязательно будет дома. Когда он, Степка, приедет, как раз пригонят коров. Бабушка, конечно, поругает его, но потом простит и нальет до краев банку парного молока…
Незаметно мальчик задремал. Девочка смеялась ему во сне, прыгала, а он шел навстречу по стволу. И когда лицо ее перекосилось, раздался крик… Степка вскочил. Темнота. Перестук колес. Чей-то храп внизу… Он все понял. Сердце стучало чуть громче колес. Но страха не было. Хотелось ехать. Куда-то ехать, куда-нибудь…
9
Михаил осаждал кабинет врача, пункт милиции — слезно выпрашивал разрешения позвонить. Звонил в магазин жене, пытался объясниться, умолял узнать про Степку. Та упрямо молчала, лишь вздыхала в трубку. Понимал сумасшествие своих просьб и слов. Но важнее всего был Степка! Злился: казалось, там, на другом конце провода, должны бы учитывать момент, пока Степка не найдется, приглушить личные счеты. Конечно, ошарашена, ну так что же?! Наконец, еще неизвестно, откуда эта зараза взялась. У него, у Михаила, всего лишь одна связь была — что это для современного-то мужчины! Скажи — не поверят! Михаил, естественно, и не думал в грешке этом признаваться. Кто знает, может, все наоборот, она, жена, виновата. В тихом омуте… Хотя как-то не вязалось в голове — Таня, с ее непроходящей притомленностью, аморфностью даже — и измена… С ее брезгливой неприязнью к любой житейской человеческой грязи?! И представить трудно. С другой стороны, как говорится, все мы люди живые…
И все-таки чаще Михаил был склонен обвинить Веру. Неземную, не от мира сего! Надуманную книжницу! Общежитская комнатка… Ломкий голосок… Поиграли в душевность и понимание! А дальше все как в жизни. Михаила еще в первые дни близости поразил быстро проснувшийся в ней бесененок. Понятно, Верочка больше навоображала, сделав обычный первый шажок в отношениях с мужчинами, представила себя разбитной да лихой. А в общежитии ухарей всяких полно, бог знает, что потом она себе позволяла… И не зря, видно, молчком, внезапно уехала. Узнала. Испугалась. Хороша-а… Женщина!
Долго ловил по телефону и Сашку — звонил в автопарк, в диспетчерскую автовокзала. И когда услыхал в трубке знакомый обыденный голос, заговорил в ответ бодряцки, поведал забавную в общем-то историю, как повязали его, упекли в БСР, и живет он теперь под охраной. Друг — есть друг! Всему внял, все услышал. И сломя голову станет Степку искать, и к нему, Михаилу, в больницу придет… Друг.
Вздохнула душа, полегчало чуть. Жизнь сдвинулась вроде с мертвой точки. Посидел с мужиками в курилке — то ведь не слышал, не видел никого. В волейбол на прогулке постучал: утром и вечером выпускали на часовую прогулку во двор.
После обеда вызвал доктор на очередную беседу — все разнообразие. Михаил стоял на своем: никаких там сторонних контактов, кроме известного. В минуты эти пришло ощущение невероятности чьей-либо конкретно вины, а, скорее всего, виноват случай. В самом деле, послушать: что люди творят! А тут… Злая нелепость.
Врач скучающе выслушал Михаила, побарабанил пальцами по столу, достал из шкафа стопку толстых альбомов.
— Посмотри.
В альбомах были фотографии женщин. Старых и юных, красивых и страшных, ухоженных и опустившихся… Есть чему дивиться! Общее одно — какая-то размытость в глазах. И еще — странная, необъяснимая притягательность. Будто они, женщины эти, даже с фотографии предлагают что-то, манят…
Один альбом, другой, однообразно, поднадоело, листал небрежно, с ухмылкой. Третий… И замер, впился глазами:
— Жена… — издал расползшийся звук, — б-бывшая.
Доктор взял альбом.
— Как же?.. — Михаилу казалось, будто и сам он весь расползается. — Мы же… три года…
— А ребенку от второго брака сколько?
— Два.
— Так… — врач снова постучал пальцами и стал что-то записывать.
— Что, может?..
— А как ты думаешь? — поднял врач голову. — За ошибки родителей расплачиваются дети.
Михаил видел на прогулке во дворе маленьких детей — находились дети с матерями в женском корпусе, но на время прогулки отцы их забирали.
— Нет, наверно, не должно… Я не сказал, неловко было, — лепетал Михаил. — Не три, около двух лет, меньше… С первой-то женой. Пришел как-то… Что говорить, к ложке одной и то человек привыкает, а…
Михаил даже себе не признавался, отгонял мысль, что отсюда, с этой стороны беда-то может идти. А теперь жена, Татьяна, если узнает!.. Ладно бы просто изменил, понять как-то можно, а тут… — себе и то не объяснишь!
Пришел он, Михаил, тогда поговорить с Ларисой насчет Степки. Решил отсудить сына. Нужны были свидетельства соседей, справка из районо о том, что она, Лариска, не может, не имеет права воспитывать ребенка, ведет себя непристойно. Но кто из соседей потащится в суд, кому охота портить отношения, тем паче Лариска так-то, с людьми, не плохая, простая. Вот и надумал поговорить с ней по душам, упросить, чтоб сама отдала сына, хотя в успех верил мало, предвидел скандал, счеты… Пришел, открыла Лариска перед ним дверь и тотчас захлопнула. Но успел Михаил заметить парня за ее спиной: холеную такую, самодовольную морду. Что нашло? Какое затмение?.. Как ни говори, в квартире этой прошла его, Михаилова, юность, мать здесь умерла… И вдруг — этот, сытый, смотрит нагло! Выбил Михаил с разбега дверь, давай гонять этого кавалера по квартире, потом по подъезду, с этажа на этаж, пока тот с перепугу в чью-то квартиру не заскочил. Вернулся, распаленный, Лариска кричит: «Какое ты имеешь право?! Ты же мне никто! Понимаешь — никто!» Кричит, а самой — чувствует Михаил — даже нравится, что забегал он, разнес в пух и прах парня того. Нравится — и в характере это ее, и что муж был не какой-нибудь хлюст, а… мужик! И коль заело, задергался, выходит, не остыл, не ушла она из его сердца… А Михаил смотрит в сумасшедшие ее глаза и… сам тихо сходит с ума… А после разговор тек иным путем. «Не можешь без меня-то, — посмеивалась она. И просила: — Не отнимай, Миша, Степку, подумай, как я одна буду? Зачем? Как жить?.. Погоди, я приду в себя, оклемаюсь, заживем хорошо со Степой…» Михаил увидел тогда в женщине, с которой прожил семь лет, считал порой эгоистичной, хваткой, — одну лишь бесконечную незащищенность. Углядел рок, нависший над ней, всю несуразную путаницу судьбы и времени. И вину свою — ибо виноват сильный…
Действительно, после этого жизнь Ларисы вроде наладилась, вошла в относительно здравое русло…
— Вряд ли… — доканчивал Михаил с трудом мысль, — дочка не может, раньше родилась.
— Посмотрим, без анализов все равно не обойтись.
— Это… Жена вторая… она недавно из гинекологии — ничего… Могли не заметить?
— Посмотрим.
Михаил согласно покивал.
— Можно идти?..
Потом он шел по коридору — пошатываясь, в бездумье. Машинально свернул в палату. Осторожно, медленно, боясь словно растрясти эту гулкую пустоту внутри, лег на кровать. Втерся в постель. Пустота существовала и вокруг. Тягучая, беспредельная. И он, Михаил, ноющий комочек в бесконечном пространстве. А где-то и вовсе крохотным комочком Степка… Татьяна… Лариса… Парни рядом…
Перевернулся на живот, уткнулся лицом в подушку. Нашло неприятное понимание того, что во всем навороте скрутивших его бед особо гнетет тот именно фактик, что виной-то всему оказалась Лариса. Будь то Татьяна, Вера, было б легче. Возненавидел бы, отверг. А на Лариску такая злоба!.. Убил бы, змеюку, кажется, развеял прах, чтобы духу не было. А все равно — больно! Вечная она боль его и мука.
Познакомились они в ресторане. Михаил пришел на побывку из армии. Сидел в «гражданке» за столиком с друзьями. Глядит, идет по проходу девица — он сначала воспринял ее огненным пятном на сером ресторанном фоне, такие волосы. Идет и большими остановившимися будто глазищами смотрит на него. Точнее, куда-то сквозь него. Собирается присесть за соседний столик, к пьяному в стельку, красивому, но крепко подержанному молодому человеку. Вскочил Михаил, подлетел кочетом:
— Посиди, красивая, с нами!
— Я не одна.
— Хм-м, важность… Раньше из-за таких, как ты, мужчины друг друга острыми ножами резали и из больших пистолетов стреляли. А твоему кавалеру, по-моему, пора бай-бай. Ради тебя я могу проводить его до выхода.
Ах, герой! Смешно сейчас. И нелепо. Впрочем, с е й ч а с нелепо все, чего ни коснись.
После ресторана пошел он Ларису провожать. Она быстро в тот вечер сбила его гонор, поставила на место: поведала между прочим о бесчисленных знакомых и ухажерах с положением и деньгами, не под стать ему, служивому. Но и Михаил в свою очередь не оплошал, схитрил. Не стал трепыхаться, тянуть ее на свободную квартиру к дружку, а горделиво, с достоинством проводил девушку до дома, улыбнулся грустно на прощание, пожелал всего доброго и собрался было уйти. Но перед сдержанным, внимательным этим парнем, который ничего от нее не потребовал, Лариса вдруг сломалась. Куда подевалось все ее беспечное высокомерие.
— Надоело все, стыдно, — заплакала она, — ты вот считаешь, что я балованное дитя, а я деревенская! У меня мать одна там, старая, в деревне… Приехала после школы в институт поступать, по конкурсу не прошла. Были бы знакомые — училась бы. Сейчас, правда, есть, могли бы устроить, да неохота… Поступила в строительное училище на маляра-штукатура. С парнем одним, студентом, закрутила. У него у родителей дача, машина — ездили. Для меня смешно все это — дача! На природе! Я в своем дому выросла, с огородом, лес вокруг! А скажут: дача… и в этом что-то такое… Ездили с ним… Потом физкультурник был, женатый… Потом артист один! Настоящий. Таксист… Научный сотрудник. В НИИ меня пристроил, секретаршей, чего, говорит, ты будешь на стройке? В мороз, в комбинезоне… А секретарша в интеллигентном обществе — не женщина, а компания… Странно, да?.. Говорю тебе все сама про себя… Надо бы все наоборот, а я… Ты не слушай, не так много было, да все равно. Недавно замуж чуть не вышла. Заявление подали, он маленький, толстый, с машиной… А, думаю, какая разница!.. Пришла к нему, он полез, а сам сопит, сопит… Иди-ка ты, говорю… Сон мне снится один часто: бегу я куда-то в гору, лезу-лезу и никак, падаю, плачу… А, все равно, знаешь, кто я?.. Тоже надо кому-то, а то как же!..
И слезы. Михаил стал целовать в эти слезы, вытирать их своей щекой.
— Ты хорошая.
И усматривал в девушке, только что казавшейся ему верхом бабьей удали, существо слабое, потерявшееся… Может быть, в тысячу раз лучше других, потому хотя бы что плачет, корит себя. Сколько их, врут да не печалятся!..
Вернувшись в часть, Михаил просто изводил себя ревностью и домыслами. Не получив от Ларисы день-другой письма, подумывал сбежать со службы, нагрянуть внезапно — и если она там с кем-то!.. Когда срок службы закончился, командир предложил Михаилу остаться на сверхсрочную, обещал жилье в Москве — он в Москве служил. Куда там — к Ларисе, немедля!..
10
…Среди ночи Михаил проснулся в страхе. Много в последнее время снилось жутких снов: отрубленные головы петушиные летали, норовили ткнуть клювом, какие-то насекомые, похожие на тараканов, только блекло-зеленые, с топорщащимися крыльями, выползали из-под набухших пальцев и разлетались… Но этот сон был чудовищнее… Приснился ему Степка… плешивым и морщинистым. Маленьким таким старичком…
Ночь была лунная, светлая. Впрочем, в окнах, скорее всего, лишь отсвет прожекторов, что по углам двора. Выла собака: Джули, сторожевая овчарка. Собственно, кобель это, Джульбарс, но называют его все почему-то Джули, и кажется, сучка. Воет всеми ночами. Чего не спится? Что беспокоит? Там их три пса, другие молчат, а этот… Беду чует, как в народе говорят?.. Что же, беды тут, рядом, много. В других, видно, собачье это чутье на беду уже притупилось, а в Джули живет. Вот работенка-то псу досталась!
Михаил встал, подошел к открытому окну, вцепился, ткнулся лицом в железные прутья. И так захотелось завыть в ответ Джули. В тон, подвыть, «…при луне на тихую, бесшумную погоду…» Вот уж человеку, знать, тяжко было, коль такие слова изрекла душа. Коль попросил у пса лапу на счастье, ибо такой лапы — на счастье — не видал сроду!
Ну, ничего, Джули, не надо, обращался сердцем к псу и Михаил. Будет он, Михаил, жить. Степку заберет. Пусть как угодно суд решает — заберет! Пусть его, Михаила, не простит жена, к черту их, всех на свете женщин. Станут жить вдвоем с сыном. С мальчуганом этим, с душою чуткою. В деревне. Купит он домишко, где-нибудь недалеко от реки. Оставит свой фирменный автобус, сядет за грузовик. Вставать будут со Степкой рано. Делать зарядку, бегать купаться. Или собираться на рыбалку. Еще туман не осел. Они копают червей у парников, где назем. Идут, с удочками. Тишь. Шаркают о траву ноги. С болотца, где осока, лягушки кричат. В поле, едва различимые в тумане, кони. Они со Степкой на реке, замерли над удочками. Тихо, делово переговариваются. Птицы защебетали. А с солнцем ясным — уже и улов. Уха… Потом он, Михаил, — на работе. Степка играет с ребятишками деревенскими или в школе. Михаил будет вечерами с ним заниматься, читать, писать. За свое образование возьмется. Будут жить! Буду-ут!..
И не то от тоски, не то от жажды веры в план свой, от тепла к сыну, держась за решетку, Михаил и в самом деле тонко так, сжав зубы, заскулил. Подвыл Джули. И отпрянул. Господи, с ума ведь так можно сойти. Так, поди, и сходят! А как еще? Никто же специально не свихивается. Не думают, не гадают, а найдет такое — и все… Нервы-то не вымотаны даже, а, кажется, перекрутили их, положили на чурку да потюкали топориком…
— Ты что? — приподнялся на кровати Дед. — Не спится? Мне тоже эта псина не дает, чтоб ее… Пошли покурим.
— …Брось ты. Дело житейское, — говорил Дед в курилке. — Чего зря себя мучить? Все притерпится. Я перевидел ох сколько в жизни. Знаешь, в чем главная сила? В терпении. — Дед был перекореженный, сморщенный, как изношенный сапог, но в глазах живая, колкая острота. — Да и печалиться, прямо скажу тебе, не с чего. Будешь правильно лечиться — вылечишься. Выпивать долгое время нельзя, так лучше — не запьешь. Сынишка пропал — беда, сказать. Найдется. Куда он денется. Сект этих разных, которые детей воруют, нынче нету. У меня вон худо: ни детей, ни жены. Как по молодости залетел, оттянул пятнадчик, так и… Эх, отвяжись — худая жись, привяжись — хорошая! Давай лучше тихонько споем. Знаешь эту… «И зарезал сам себя… Веселый-д разговор!..» А? Вся расейская душа тут. Зарезали себя — веселый разговор!.. Хе! Так и живем. Души, понимаешь, через край… А ты голову себе и людям не морочь: детки есть, квартира есть, работа путняя… Отваляешься тут два-три месяца, смотри-ка, семьсот — тыща по бюллетеню! Государство о вас, подлецах, заботится. А с деньгами тебя любого баба примет!.. Давай: «Как задумал парень жениться…» Не знаешь, мычи, подтягивай…
С утром к Михаилу пришло хмурое ощущение покоя. Покоя и страдальческой трезвости. Никого не винил. Ни на кого не было зла. И малой обиды не находил в сердце своем на Ларису. Как в тот миг, после греха, который привел его сюда, на больничную постель, — видел всю ее нескладную человеческую и бабью участь. Виноват лишь он — перед ней, перед Татьяной, перед другими, перед собой. Мог, должен был поступать иначе, быть иным.
Была своя правда в том простоватого вида мужике, который взял за шкирку свою жену, ресторанную эмансипированную даму, ошалевшую от бесчисленных пьяных поклонников, да и увез в деревню, к землице поближе. Навесил на нее хозяйство, повязал заботами домашними. Близ коровушки, гусей да поросят, когда дергаться и сходить с ума не перед кем, дурь-то из бабы и вышла. И сердце отмякло…
Не выход это по-прежнему для Михаила. Странно и думать. Но правда за мужиком тем своя стоит. Строить семью надо, заботиться вовремя, вязать узелки. Быть терпимым. Иначе за одним разрывом следуют бесконечные прорывы в этой житейской цепи. Распад.
Михаил поднялся, первым делом направился в пункт милиции, звонить.
— А, Луд, — заговорил навстречу сержант, — звонил друг твой, сына твоего нашли, аж в Куйбышеве с поезда сняли. Мать за ним вылетела…
11
Татьяна собралась навестить мужа лишь через месяц, как положили его в больницу. Накупила много продуктов, курицу отварила, разложила все аккуратно по целлофановым мешочкам, упаковала в сетку. Сунула и записку: «Спасибо за то, что ты для нас сделал. Хотя ничего не обнаружили, но нас с Настенькой все равно колют». Это было первое послание мужу на звонки его и письма.
Нечего было ответить. Просто нечего. Уныние. Ей двадцать семь, говорят, весьма не дурна собой, моложава, до сих пор пристают юнцы, принимая ее, мать двоих детей, за девушку. Оглянуться назад — руками развести — что за жизнь?.. Выскочила замуж первый раз, не было и девятнадцати, родила. Муж, что называется, носил на руках, но оставался — как поняла с годами — добрым веселым дядей для нее. Мелькнули три беспечные года, а дальше словно заело. Была бы хоть беда — бедой, как у людей, а то ведь сдвиг какой-то. Погиб первый муж: поплакать даже, помянуть чисто, без лишней мысли нельзя! Выбила его загульная смерть из себя Татьяну. Верила же, не думала никак, что он, такой ласковый, влюбленный, на машине своей, с девочками… Ненавистны стали мужики! Потянулись одинокие деньки, вечера вдвоем с дочерью… Встретился Миша, пошла жизнь вроде, не хуже других. Новая беда — и опять не рассказать, не поделиться. Не знаешь куда глаза от людей прятать. А дальше как?..
Двое детей — не шутка. Михаил, он неплохой. Неспокойный, правда, издерганный. Все бы ему куда-то бежать, к кому-то. От нее, Татьяны, все чего-то надо. Того, пожалуй, что от первой жены в избытке получал, от чего и сбежал… Эта, его шальная, про сына, Степку, узнать, когда тот потерялся и Михаил не показывался — приходила. Довертелась. Ребенок не вынес! Пришла. Думала, может, отец сына уже и нашел, да не пускает. И услыхала новость. Угораздило же сболтнуть — она-то, Татьяна, по простоте, по бесхитростности. А та и оскалилась: «А ты что думала, я тебе добро отдала! Обрадовалась! Хотела на моем несчастье — счастье себе построить? Живи теперь… А, вы же, наверное, оба?… Вот и живите!» — так слова ее и пригвоздили. Стояла перед ней, как школьница. Правда, как с такой Миша жил? Видеться с мужем, говорить охота пропала напрочь. Замкнутый круг. Не выбраться! За что? Перед богом поклясться может, никому она за жизнь и слова худого не сказала.
Татьяна передала милиционеру на проходной авоську. Свидания, оказалось, запрещены. Милиционер посоветовал крикнуть перед окнами — мужа подзовут. Отойти на пригорок, чтоб видна была из-за забора, и… Татьяна отродясь, наверное, громко не кричала.
Но только встала перед окнами, высунулись сквозь решетки с десяток лиц, стали спрашивать.
Михаила она в первый миг не узнала. Вернее, узнала, но так, будто не он это, а кто-то похожий. Глаза ввалились, скулы выпирают. Зеленая застиранная пижама на голом теле. Да за решеткой!.. Улыбается, кивает, заговорить не в силах. И у нее губы повело, дрогнули… Не то его, не то себя жалко. Обоих! Бедолаги, кутята беспомощные.
— Ну, как ты? — спрашивает он.
— Ничего, перебиваюсь.
— Дети как?
— Бегают. Чего им?.. Ждут отца.
— Месяц еще продержат…
Помолчали, покивали. И сказать-то, получается, друг другу нечего. А что и говорить?
— А ты как?
— Нормально. Народ у нас хороший.
— Похудел…
— Ничего. Были бы кости…
— Я тебе там принесла…
— Не надо ничего… Спасибо.
Поговорили.
Постояла, махнула прощально, пошла.
А он смотрит в спину, смотрит. Уже без улыбки, грустно смотрит. Кажется, видит все, что внутри там у нее. Вовсе не потому молчала в телефон, что отвергала, как предполагал он. А просто боялась. Это уже после, когда выяснилось, здорова, волнение улеглось, появилась неприязнь к мужу. А вначале был один панический страх. Нелепо: два года жила совершенно одна, никого близко к себе не подпускала, а вышла замуж — и случилось…
Подошел трамвай. Поехала. Смотрела на больничное окно: муж, просунув руки в квадратики решетки, отчаянно махал, потрясал кулаками. Тоже помахала. Села. Привычно достала пудреницу. Припудрилась. Дольше обычного задержался взгляд на себе в зеркальце. Нет, не способна она выстаивать, мужественно переносить невзгоды. Она, Татьяна, хочет жить — нормально, спокойно. Ни больше, ни меньше. Хочет, чтобы была устойчивая семья, росли здоровыми и небалованными дети, чтоб был твердым достаток — не роскошь, но без перебоев. Чтобы муж после работы был дома, пусть уткнется в газету, в телевизор, но дома. Управится она с хозяйством, не расторопно, не между прочим, но потихоньку все сделает. Торгует она шляпками в магазине — не сказать чтобы уж очень нравилась работа, но неплохая. Не изматывает, коль в семье порядок. И жить бы… Ничего больше и не надо.
Гладкое, красивое, с мягким овалом лицо ее было уставшим. Стойко утомленным. Кончики губ чуть вниз, уголки глаз… И складочка меж бровей. Хмурая. Морщинка…
12
Михаил, проводив взглядом трамвай, постоял еще на подоконнике. Удивительна все-таки отсюда, из-за решетки, жизнь! Удивителен обычный трамвай, люди… Едут куда-то, идут — могут идти и ехать!.. А лица большей частью почему-то озабочены, одинаково тусклые. Так и хочется крикнуть: «Да скиньте вы этот щиток перед глазами! Привинтили его вам от виска к виску — склоки, важные беседы, собрания, отношения — и шагаете. Клонит, гнет груз головушку-то! Бросьте, гляньте — день-то какой, солнце-то!..» Он вот, Михаил Луд, по-нынешнему, по-больничному Миха Блуд, в окне торчит, человек тоже, не пугало… И он, Миха, там, за стенами этими, скуки, хмури попусту теперь не допустит. Жизнь, дорогие единственные свои мгновения убивать собственной кручиной — закрученностью, вернее?! Да лети она к лешему! Вас бы сюда на месяцок, в неволюшку, да на перловую кашу, да поколоть лекарства, от которых температура под сорок… Тоже бы, пожалуй, все это вполне поняли… Ходить свободно, смотреть, дышать, работать, любить, заботиться о родных — каждой секунде радоваться! Жить!
Михаил спрыгнул на пол, забыв, что ноги одеревенели от уколов. Пошел морщась, переваливаясь с боку на бок. В палате на его кровати уже лежала сетка с продуктами. Хлопнул, потер горячо ладоши.
— Сегодня будем потчеваться.
В дни передач, вечерами сдвигали имеющиеся в палате стулья, выкладывали на них продукты, ели, говорили. Потом курили, ложились спать. Но сразу не засыпали. При потушенном свете, под завывание Джули вели долгие разговоры.
— Я вот тут классика прочитал, — негромко переговариваются в палате мужики. — Роман «Воскресение». Как-то все равно не верится, чтоб эта Катерина не напилась потом ни разу… ну, когда этого революционера полюбила. Если уж было — пила!
— А пьяная баба себе не хозяйка…
— Всяко бывает, — подает голос Дед, — но когда дворовая собака становится бродяжкой, обратно на цепь не возвращается.
— А может, нынче надо, чтоб все… лет до двадцати трех нагулялись в доску, а потом уж, когда все это осточертеет, замуж, детей рожать…
— Ученые что говорят: законы в природе одинаковы, — опять вступает знатоком Дед. — А теперь я скажу: если породистая кобыла побыла первый раз с непородистым жеребцом — просто побыла, даже жеребенка от него не поимела, — то потом и от породистого жеребца породистых жеребят не приносит!
Посылает свой неземной бирюзовый свет в зарешеченное окно прекрасная Венера. Завывает потихонечку кобель Джули…
13
…Если Михаил и казался себе когда-нибудь блистательным, обнаруживал с таким упоением легкость и подтянутость своего тела, то именно в эти мгновенья. В мгновения, когда, сбросив вислую больничную пижаму, облачился в свои джинсы и тугую рубашку, надел туфли на каблуке. Когда шел по коридору и улыбался, кивал, пожимал руки, стремительный и недосягаемый… Садился в трамвай, который два месяца видел только через решетку. Ехал… — куда хотел! Влюбленный во всех и все, в людей, в трамвай этот, дома, деревья, завод, коптящий в двенадцать труб, в небо — движущееся над головой небо! И все вокруг — движущееся в разнообразии своем. А то, что было там, за высокими бетонными стенами, воспринималось уже далеким, давним, тягучим и муторным. Впрочем, все-то последние годы кажутся единой путаной ночью — ни сон, ни явь…
Трамвай проезжал мимо пивного ларька. Михаил ощутил вкус пива на губах, во рту мигом пересохло. На остановке вышел. Взял у мужиков, выпивающих за ларьком, литровую банку. Подал в окошечко продавщице, та поставила банку под кран, по дну забила напористая струя. Запенилась… Михаил отошел в сторонку, сдул пену, прильнул к краю банки губами. Пил неторопливо, мелкими глоточками, тянул. Вздохнул, прочувствовал поджаристый хлебный вкус, расходящуюся по телу прохладу и легкую слабость. Допил, утолил жажду.
Жены дома не было. Отправился к ней в магазин.
Постояли при людях, возле прилавка. Могла бы увести в складской отсек, не стала. Не укоряла, не выказывала обиды, была сдержанна и несколько отчужденна. Не то чтоб простила, скорее примирилась. И отвыкла.
Побежал дальше, на свою работу: получить по бюллетеню — надумал в больнице, сразу по выходе, купить жене подарок. И все хотелось сделать разом. Еще надо было, по Михаилову плану, купить Степке портфель, пенал, тетради — об этом измечтался там, в больнице! Повезло — выписали за два дня до первого сентября! В первый класс идет парень, не шутка! Потом заскочить к Лариске — повидать сына, отдать ему школьные принадлежности. Заодно договориться, чтоб она отпустила его завтра: давняя, дозревшая затея — сводить детей в цирк! Встреча, конечно, предстоит с бывшей женой… И думать неохота: так и всплывает перед глазами ее фотография в больничном альбоме. Михаил даже невольно отворачивался, словно альбом этот в самом деле кто-то под нос подсовывал. И бежал, спешил, не поддавался безрадостным чувствам, уверенный в том, что успеет, сделает — как задумал, что вообще теперь вся жизнь пойдет на лад!
И все у Михаила в этот день шло удивительно гладко: бухгалтер быстро сделал свои подсчеты, на месте был кассир. Правда, никак не мог натолкнуться в магазинах на что-нибудь путное для Татьяны, хотя вроде конец месяца, должны бы выкидывать… Но Степке все необходимое на школьном базаре купил.
Сына Михаил встретил во дворе. Степка первым увидел его и побежал навстречу:
— Папа!
Отец поднял его с ходу над головой, подбросил, прижал. Посадил, как малого, на руку. Понес.
— Подрос! Тяжелю-ющий! Как вы тут с мамой?
— Хорошо. В школу послезавтра…
— А вот, тебе… Портфель, ручки там, тетради…
— У меня есть, мама купила. Ты, что ли, уезжал далеко?
— Уезжал… А мама дома?
— Дома. Вяжет кофту тете, денежек нет, от тебя давно не получала. Нам бабушка, правда, привезла картошку, масло…
— А ты почему от бабушки тогда у… уехал?
— Я не от бабушки… Я не хотел, нечаянно.
Пошли рука в руку. Похожие очень. Только один как бы увеличенный, а другой — уменьшенный. А так одинаковые.
Лариса встретила мягкой косой улыбкой. Придуманной заранее улыбкой. Михаил намеревался сказать: счеты, мол, сводить незачем, зла на тебя не держу, оба хороши, запутались, жизнь расставила точки. Но вышло все иначе:
— Явился, — невинно смотрела Лариса. — На порог бы тебя не пускать после всего!
— После чего?..
— Оказывается, это я благодаря тебе…
— Ты — благодаря мне!.. — Михаил был ошарашен. — Имей совесть! Мало того, что ничего мне не сказала… Ты-то сколько там пробыла, дней двадцать? А я два месяца! Так еще и… Молчи хоть!
— Совесть?! Кто бы о совести говорил? Поворачивается язык у человека! Имел он совесть ребенка бросать! По бабам шляться хотелось!
Степка был рядом. Михаил смолчал — надо было сдержаться. Прошелся, стиснув челюсти. И забыл про все на свете, все затмила обида.
— А ты, ты не хотела?! — заглядывал Михаил бывшей жене в глаза. — Всю жизнь, всю жизнь тянул тебя за волосы от этого вашего паскудного веселья! От подруг с их жалобами, от бутылочки! Я ли, я ли не хотел нормальной доброй жизни!
— Ха! Смотри-ка, нашел пьяницу! Чего же я тогда без тебя совсем не спилась? А? От тоски по такому хорошему положительному мужу! Одна воспитываю ребенка, мальчишка до школы уже вовсю читает, пишет… Ты думаешь, это все само собой делается?! А посмотри в квартире — разве так у пьяниц бывает? Хороший выискался! По крайней мере, я по мужикам не бегала. Хотя всегда перед тобой виноватой выходила — чуть что — сразу: а, ты такая-то… Будто до двадцати одного года я должна была Мишу Луда ждать, прекрасного принца!
Степка потихонечку ушел на кухню, прикрыв за собой дверь.
— А нет? Не должна, по-твоему?! — осел Михаил. — Почему же? Я не достоин? Или время такое, что не стоит ждать никого?.. А побыстрее брать от нее, от жизни, что дает?.. Но потом почему-то все равно требуем от жизни этого принца! С меня-то ты потом, как от принца, требовала! Так, чтобы иметь право требовать от меня, надо сначала — от себя!
— Тогда чего женился?! А если уж и женился, то нечего было потом попрекать прошлым! Дура была, все тебе рассказала! Другие что только не вытворяют, а все шито-крыто. Был один, не получилось, а ты второй… И все дела. Я же для тебя готова была на все… Под поезд сказали бы броситься ради тебя — не раздумывая бы, бросилась. А ты все чего-то ковырялся. На самом деле просто хотелось тебе по бабам гулять, вот и находил себе оправдания!
— С кем я гулял?! А было что, так… Постыдно, противно, от боли. Видел, что тебя все прежняя жизнь-то потягивает… Вдумаешься, обидно! Вот и я от обиды… Понимаешь?! От обиды только. Чтоб в себе эту болячку заглушить, замарать себя тоже, что ли… И неприятно было всегда… Могла бы как-то понять… А ты же… в десять раз меня потом перекрыла.
— Дурак ты, Мишка. Ничего ты во мне не понял. И никто так, как я, тебя не полюбит и никто такой верной тебе не будет. Да что теперь об этом…
— Ты много во мне поняла…
Михаил взглянул на Ларису и умолк. Чего он, собственно, доказывает? Чего пытается вдолбить? Она же, Лариса, как струна натянута. Звенит внутри. Лопнет вот-вот эта струна. Вот он сейчас выйдет — и лопнет. Казалось, помудрела душа его, терпимее стала, пристальнее, ан нет — ковырнули больное, и прорвало, ошалел.
— Прости, Лариса, — помолчав, заговорил Михаил покаянно. — Прости… Давай хоть сейчас как-то по-разумному.
— Давай по-разумному. Как только? — притихла и Лариса. — Любила тебя, Миша, ревновала, хотела, чтоб только мой был, чтоб другие завидовали… До сих пор, Миша, душою с тобою не рассталась. Как ни поступала, а все казалось, рано или поздно вместе будем. А сегодня пришел — вижу, конец. Ошибка какая-то, Миша, над нами сотворилась. Страшная ошибка. Характер у меня дурной, знаю, все себе во вред… Давай попробуем по-разумному. Сложнее, Миша, это, чем раньше, но давай…
Договорились, что за Степкой Михаил зайдет на следующий день — забрал бы сейчас, хотелось побыть с сыном, но Татьяна тоже ведь не каменная, заденет ее: после случившегося сразу же помчался к Ларисе.
Побежал опять по магазинам: хотелось все-таки что-то жене подарить. И возле обувного магазина наткнулся на очередь — «давали» женские импортные сапожки. Редко когда Михаил пренебрегал очередью, не хватало наглости кого-то отталкивать, но при сегодняшнем внутреннем заряде не мог просто стоять, бездейственно. Да и времени, каждой минутки жалко. Хотя рвали за рукав, кричали, Михаил пролез в дверь, к началу очереди, приговаривая: «Жена там у меня, жена, товарищи… Я за деньгами бегал…» А дальше возбужденное чутье, желание заполучить сапожки эти на тонком высоком каблуке подсказало ход: сунул пареньку с пронырливой физиономией хорька червонец — и втиснулся, встал впереди.
А уж добравшись до коробок с сапогами, взял сразу две. Неожиданно пришла такая мысль — подарить сапоги и Лариске. Никогда же ничегошеньки при совместной их жизни красивого и добротного у нее не было. Как-то все собирался он, Михаил, приодеть жену, но не получалось. Концы с концами едва сводили: он уж и туда устраивался, и сюда, и на такси… А не хватало. Правда, Лариса почти не работала: то в положении была, то со Степкой, в садик его никак не могли определить. Ну, на шубенку из искусственного меха, на платьишки недорогие выкраивали, и уж дубленку, конечно, джинсы эти поганые — не видала. Знакомств оба заводить не умели, копеечку не берегли, продукты — с базара: есть — живем, нет — хлеб жуем. С Татьяной вот, хотя заработки у Михаила вроде особо не прибавились, получается так, что живут в достатке. Но справедливости ради сказать, Татьяна все-таки в магазине работает, кой-какие связи имеет, да и в квартире у нее вся обстановка была. Татьяна — не прижимистая вовсе, но и не расточительная, умеет приберечь. А у Ларисы — все сквозь пальцы… Так что пусть запоздало хоть подарит он ей, жене своей бывшей, сапожки эти — на барахолке, говорят, за две сотни такие с руками оторвут…
Сапоги — одну пару — занес к Сашке.
Вечером посидели с женой за бутылочкой вина. Сапожки Татьяну растрогали — женщина! Разговор пошел душа в душу: как станут хорошо жить. Про обиды, понятно, ни слова — забыто. Будут растить детей, заниматься ими больше, настраивать на серьезную трудовую жизнь — не как их, Татьяну с Михаилом, настраивали на какие-то неопределенные радужные ожидания от этого мира, а на мысль, что жить будет сложно, надо присматриваться, учиться жить… Степку Михаил чаще станет приводить: пусть девочки чувствуют его братом, а он их сестрами. Заживут. Сумеют…
А вечером следующего дня удался и поход в цирк. Накупил Михаил детям в буфете пирожных, конфет. Места, правда, достались неудобные, высоко и сбоку — да не важно. Важно — все вместе! Младшая дочка, Настенька, на коленях у него, справа Степка и Маша. За ними — Татьяна.
После цирка жена поехала с девочками домой. А Михаил повез Степку — завтра мальчишке в школу. Надо же, его, Михаила, сын — и уже в школу!
Попутно заскочил и за сапогами для Ларисы, к Сашке. Друг был дома, повидались наконец, обнялись, нашлось выпить по маленькой, разговор оставили до другого раза, чтобы — с толком и расстановкой.
Лариса притихла вся, растерялась, взяв подарок. Примерила.
— С чего это вдруг?..
— Так… — сиял Михаил, — увидел, подумал, хорошо на тебе будут.
— Хм, спасибо, — млела Лариса, вертела ножкой, — правда, хорошо. Хорошо?
— Отлично.
Лариса прошлась, встала чуть откинувшись назад, упираясь рукой в бедро, как манекенщица.
— Отлично, — еще раз оценил Михаил, возбужденно потоптался, вздохнул: — Ну… я пошел.
— Пошел?.. — обмякла Лариса. — А… Конечно. Счастливо добраться.
Он помялся, покивал, шагнул к сыну, потрепал по волосам:
— Ну, до завтра. Завтра утром к школе подойду.
И направился к двери.
— Погоди! — нагнал резкий оклик.
Лариса судорожно расстегивала молнии и стягивала сапоги.
— Забери!
— Почему?
— Пусть она носит… твоя бессловесная, хорошая.
— Лариса… Зачем?.. Я же просто… На тебе хорошо…
— На ней будут тоже хорошо — длинноногая!
— Перестань. Носи.
— Не надо мне!.. Или ты, может, и ей тоже купил?..
— Купил, есть… — понял, не надо было этого говорить.
— Обеим?! Ха-ха, — Лариса взорвалась, понесло в истерику. — Вот молодец, хороший муж, ничего не скажешь! Обо всех заботится! И ей, и мне купил!.. Ха-ха!.. Возьми! Возьми! И давай отсюда со своими сапогами! Пусть у Танечки сменная пара будет! Или сразу на ноги и на руки их оденет и ходит как корова!.. — швырнула она в Михаила сапоги. — Забери и катись!
Он посверлил ее взглядом. Потряс головой, будто что-то сказать хотел, слово подыскивал, да так и не нашел. Повернулся, пнул ногой сапоги, хлопнул с силой дверью, побежал вниз по лестнице. Но дверь за спиной раскрылась, и снова полетели в него сапоги. Мелькнула в проеме огненная грива, дверь захлопнулась, и щелкнул замок на два оборота. Михаил постоял, подобрал сапоги. Позвонил. Постучал.
— К тебе как к человеку, а ты!.. — проговорил напоследок. И пошел с сапогами.
Степка уже спал. Что на душе и в мыслях этого маленького человека? Не скажет, не допросишься. «Папа хороший», «Ты тоже хорошая». Все молчком. Мужчина! — один настоящий мужчина из всех знакомых и есть. Лариса прилегла рядышком с сыном. Жалость охватывала к нему и к себе. И слабость — знакомое, непреодолимое бессилие… Михаил все считает ее больно разворотливой, хваткой — что она интересно сумела ухватить?! Одинокие всхлипы в подушку? А Таня, выходит, не хваткая: одного мужа похоронила, другого у живой жены и ребенка отняла… Тихая, бессловесная! Была разворотливая, была энергия, когда любила, в Москву, в армию к нему летала через каждый месяц — в одежде, в еде отказывала себе, на дорогу берегла! Была, да вся вышла… Слишком бесперспективна жизнь! Слишком все обесценилось в душе! Ну да, можно себя утешить тем, что вырастет сын, женится, пойдут внуки… Да, собственно, тем и утешается…
Перестукивало сердце в городской ночной тишине с далекими глухими ударами заводского пресса. «М-бах — м-бах» — бьет ритмично и четко молот. «Ба-бах-бах» — успевает дважды под каждый его удар сердце. Лифт загудел в подъезде.
Лариса поймала себя на том, что мгновенно подобралось все внутри в ожидании… В ожидании кого?! Михаила?.. Нет. Нет! Он ушел, предал, с ним кончено, лучше одной сдохнуть от тоски! Да и не пользуется почти никогда Михаил лифтом…
Лифт пошел вниз. И опять у нее в силах угасание… Если перед собой честно, что ждет она — кого угодно. Лишь бы отвлечься, уйти от мыслей — от одиночества.
Было ведь: на колени перед Мишкой вставала, не уходи, умоляла, подумай о сыне — перешагнул и пошел!
Лариса поднялась. Закурила сигарету на кухне. Проглотила таблетку элениума. Достала с антресолей коробку со старыми письмами. Взяла первое попавшее. В армию Мишке писала:
«Мишенька, милый мой, почему я не знаю, любишь ты меня искренне, на всю жизнь и я для тебя единственная? Не мучай меня, родной мой. Я вся исхудала, подурнела, потому что каждый день только и делаю, что жду тебя, жду… Мне кажется, я скоро умру. Может, я с ума схожу? Я боюсь жизни. Надо увидеть тебя. Закажи переговоры…»
А вот другое:
«…как хорошо, что мы встретились, я тебя полюбила, и ты ответил мне взаимностью. Какое это счастье!»
А это уже позднее, Михаила посылали в колхоз, на уборочную:
«…Миша, Степка уже улыбается. Только не мне. Я читала, что ребенок начинает улыбаться матери, отличая ее голос от других. А тут я с ним одна да одна, так он мне не улыбается, а соседка зашла, чужому голосу заулыбался… Мне мать ничего про меня не рассказывала, вот Степка вырастет, я ему буду рассказывать, я все-все постараюсь запомнить…»
А это от Михаила, его писем гораздо меньше:
«…Ты три дня как уехала, а мне кажется, что это было давно. Как во сне. Я уже начинаю ждать письма. Хотя его еще не может быть…»
«Мишка, Мишка, где твоя улыбка? — вспомнились Ларисе слова старой песни. — Полная задора и огня…» Элениум ей не помогал…
14
Михаил подходил к дому друга. На душе не то чтоб легчало, но становилось веселее от мысли, что вот сейчас возьмет и подарит Сашкиной жене модные импортные сапожки на высоком каблучке. Просто так, подарит! Хоть кого-то в этой жизни, может быть, обрадует! Уже за угол дома сворачивал — вынырнул из темноты на свет парень с огромной овчаркой.
— Стой! — преградил путь. — Откуда сапоги?
Молоденький паренек, ушастый, угрястый, в пиджачке сереньком — чего ему?..
— Твое какое дело? — приостановился Михаил.
— Документы!
Михаилу сразу очень захотелось врезать ему и пойти дальше — терпеть не мог этих вездесуйных. Да псина с ним больно грозная.
А тем временем этот, в сереньком, достал красные корочки.
— Тебя только не хватало на мою голову, — вздохнул Михаил. Деваться некуда, стал объяснять молоденькому милиционеру, что да почему, говорил правду. Но тот в ответ лишь узил недоверчиво глаза. Скомандовал:
— Пошли в отделение.
— Да говорю же тебе: жене купил сапоги. Бывшей жене. Она не взяла…
— А почему без документов ходишь? Ночью?
— Ну, вот так, без документов… Ты что, всегда документы с собой носишь?
— Обязательно. А может, у тебя их просто нет?
— Слушай, друг, я же тебе человеческим языком все объяснил. К жене бывшей приходил, она меня без документов знает.
— Она — знает, а я — нет. И не пудри мне мозги: зачем бы ты бывшей жене сапоги покупал?! Пройдем. Там разберутся.
— Чего разбираться-то?! — у Михаила зудела рука, едва сдерживался. — Ты же видишь, я трезвый. А ты, между прочим, выпивший малость…
— Я не на дежурстве, выходной. Имею право, как все люди.
— А не на дежурстве — так чего нос совать?
— Отставить разговоры, следуй за мной!
— Хочешь говорить — говори по-людски. Я тебе не нарушитель. Говорю же еще раз. Вот дом, там живет мой друг. С семьей. У них есть документы. Подтвердят, кто я. Запишешь данные.
— А вдруг там у вас банда? А я без оружия.
— У тебя же собака!
— Не пойду же я с собакой ночью в квартиру. Там, может, дети.
— Что в лоб, что по лбу!..
— Пройдем. Разберутся. Не виноват — отпустят.
— Да какой тебе прок? Тащиться куда-то среди ночи!
— Я все равно Рольфа прогуливаю. А ты чего боишься?.. Бои-ишься… Чего, а?
— Знаешь, если тебе охота из себя сыщика разыгрывать — давай. А я пошел.
— Рольф!
Рольф зарычал.
— У, псина… — Михаил постоял, вздохнул. — Ну что ж, может, ты и прав… Пошли.
Ночь была хорошая, теплая. Утихал транспорт…
— В такую погоду самое время прогуляться в хорошей компании, с Рольфом… В милицию.
— А чем тебе Рольф не нравится? — парень заговорил улыбчиво, с легкой издевочкой. — Лучшая служебная собака в отделении. Медалист.
— Очень приятно, очень… — отвечал тоже улыбчиво Михаил, — какого рожна ты с ней возишься только, если она служебная?.. Делать больше нечего?
— А мне за него, между прочим, тридцать рублей платят, да на мясном довольствии он состоит.
— Поня-ятно…
— И, между прочим, если ты сапоги эти украл, мне тридцать рублей премии дадут… Понятно?
— Чего ж тут не понять…
Некоторое время шли молча, Рольф бежал впереди.
— Слушай, ты женат? — Михаил заговорил.
— Женат, — с теплотой вздохнул парень. — Два месяца уже. — Но тотчас тон его посуровел: — Только в отличие от тебя жена из дому не выгоняет.
— Это хорошо! На сапоги, — подаришь жене! Бери, не бойся, не ворованные…
И парень сапоги взял. И злобно прищурился, насквозь как бы видя падлюку эту перед собой, Михаила то есть.
— А ну, иди впереди! Таких, как ты… Не думай, что в милиции вороны работают. Иди, иди!
В отделении Михаил написал на листочке бумаги, который выдал ему дежурный милиционер, что он, Михаил Александрович Луд, пятьдесят второго года рождения, водитель первого класса первого автопарка…
— Садитесь, ждите, — взяв писанину, сказал дежурный.
Группа задержанного люда на скамеечке дружно потеснилась. Михаил сел с краешку. Стал ждать.
Дежурный с каждым задержанным разбирался отдельно, расспрашивал, наводил справки… Время шло.
А дома ждала Татьяна! У нее по поводу его продолжительной задержки наверняка возникла своя версия. Михаил стал подумывать: что бы предпринять? Бежать — глупо! Вспомнил: один известный в городе человек, которому он помогал ремонтировать машину, давал ему визитку. С виньеточками такая, с каллиграфической надписью.
Михаил запустил пальцы в потайной отсек бумажника, куда обычно клал листочки с номерами телефонов, адресами, заначку. И выудил фотографию. Правильно: эту фотографию Михаил забрал у родственников в свой последний приезд, сунул в бумажник и забыл.
На фотографии отец, его друг дядя Коля и он, лет девяти. Дядя Коля в фуфайке и кирзовых сапогах — снимались около его дома. Отец в добротной шинели, в каракулевой шапке и получесанках — модная тогда была обувь. Он в тряпичной шапке-ушанке, в зимнем пальто и кирзовых сапогах. Михаил не помнил, что носил кирзовые сапоги. Вот резиновые, материны, на себе помнит хорошо. Стыдился этих сапог — женских — и запомнил! И не помнил он сейчас, когда и зачем приходили с отцом к дяде Коле, в какое точно время фотографировались — сколько ему здесь лет? Лишь смотрел и удивлялся простой и тоскливой мысли: «Неужто это было? Неужто это я?» Мальчик на фотографии очень напоминал сына, Степку. Он даже воспринимался именно Степкой: так же выставил ногу, чуть склонился на правый бок, улыбался… Улыбался похоже, но иначе. Мальчишка с фотографии был, по всей видимости, радостным, открытым, озорным! Степка так не улыбался. Хотя, сколь помнил Михаил, он в детстве никогда не казался себе особенно веселым и счастливым.
Фотографировала дяди Колина дочь, Надя. Она на отлично училась в школе, была высокой, хрупкой, бледнолицей. Всегда очень доброй и безупречно опрятной. Почему такие люди часто умирают в юности? После ее смерти фотоаппарат «Любитель» и все фотопринадлежности дядя Коля отдал тогда двенадцатилетнему Мишке. Он, конечно, был очень рад.
Теперь уже давно нет и отца — после его смерти скоро и переехали они с матерью из маленького своего родного городка в крупный, где жил престарелый одинокий брат отца. Жив ли дядя Коля? Михаил не зашел к нему в последний свой приезд на родину, даже не спросил о нем родственников. Все некогда. В ресторанишко успел наведаться, на шашлыки со своим школьным другом выезжал. Блаженствовали! Что ты!.. Товарищ теперь снабженец, большая фигура, все начальство в друзьях! Приехали — на берегу реки уже сухие дрова для костра уложены, ребята, прибывшие пораньше, шоферы начальников, только что зарезанного барана разделывают! Правда, покалывало иногда самолюбие и, как это говорят, классовое чувство, когда сели одним кругом начальники, друг Михаила и Михаил, а другим, в сторонке — шоферы. Михаил-то по своему положению должен быть там, в сторонке. Но… Хоть раз побарствовал!
Не зашел к дяде Коле. Не зашел и… к отцу. Ехал, рассчитывал памятник, оградку на его могилке покрасить. Были мысли и добрый памятник поставить. Да вроде с деньгами туго. Хотя того, что прогулял за отпуск, с остатком хватило бы на памятник из литого мраморного щебня! Гулять любим, праздновать! Вот истина! — как воскликнул бы философ. И институт Михаил поэтому не окончил, а не потому что семья, ребенок, как не раз говорил и даже Лариску укорял. Гулять хотелось! Балдеть! Это слово вошло в обиход во время его юности. Тогда много возникало модных словечек…
15
Лейтенант с интересом рассмотрел поданную Михаилом чужую визитную карточку, но звонить по указанному в ней телефону не стал. Позвонил куда-то в другое место: проверил данные Михаила — прописку и место рождения. Прочитал Михаилову писанину, расспросил. Вздохнул тяжко.
— Надоели эти семейные истории… Кто тебя задержал?
— Такой… молодой, угрястый. С собакой… Рольфом.
— А-а… — заулыбался милиционер, — Селезнев, ха!.. Артист. Можешь идти, свободен. Еще раз остановят, скажешь — уже был.
Михаил подумал было сказать, что неплохо было бы и увезти, коль зря привели, да не стал уж. Надоело все. Остро хотелось выпить. «Отвяжись — худая жизнь, привяжись — хорошая…» — звучало в голове на разные лады.
К Сашке ехать было поздно. Отправился домой на такси. Водка у таксиста нашлась. Прямо тут же, в машине, отпил из горлышка. И сразу, после всей нервотрепки, перемятости душевной, захмелел крепко.
Так домой и ввалился — с сапогами и початой бутылкой в руках.
— Задержался маненько!.. — растопырил он руки перед встретившей его женой. — Отвяжись — худая жись, привяжись — хорошая!.. А ты чего не спишь?
— Налакался. В первый же день! Спасибо. — Недвижно стояла Татьяна. — А это что?.. Зачем ты их брал?.. — потянулась она к сапогам.
— Да нет… это не твои… Это… Я две пары брал. Понимаешь! Две пары, — закричал Михаил. — Можешь понять?! Человек тоже ведь она. Виноват перед ней…
— А-а-ах!.. — задрожала Татьяна. — Он перед ней виноват!.. А я как же?.. Что же вы со мной делаете!.. Маша, что они со мной делают!.. — повернулась она к вышедшей на ее стоны подруге. — Я жду, с ума схожу, а он у нее!.. Сапоги ей купил!.. После всего!.. Да как к ней прикоснуться-то!.. Ночь пробыл! Что они со мной делают?!
— Ничего, ничего, Татьянка, успокойся, найдем управу, найде-ем! — говорила низенькая пышечка Маша и вся при этом как-то лоснилась, будто в радости большой.
— Пойми ты, Танька, ну пойми, ради бога, — по-хорошему хотел! По-хорошему!.. Что ты ее-то слушаешь, она же своего мужика довела!..
— Не кричи, не кричи. Нечего кричать. Никто тебя не боится. — Закрывала собой Татьяну подруга. — Обнаглел!..
— Катитесь вы!..
Михаил прошел на кухню, шарахнув по ходу с размаха бутылку о косяк. Лег на пол, положив сапоги под голову.
…Вдруг чувствует, кто-то его тормошит. Милиционер. Опять милиционер, в погонах, не во сне, наяву, на кухне, стоит перед ним.
— Вставай, пойдем.
— Куда?
— В отделение — куда! Быстро, некогда мне с тобой!
Что за напасть такая снова в отделение, из своей кухни.
— Зачем?.. — никак не разумел Михаил.
— За все надо в жизни, Миша, отвечать. За все. Хватит, — стояла за милиционером Татьяна.
До Михаила, наконец, дошло — его забирают, забирают как семейного дебошира… Машенька, видно, удружила — она своего бывшего мужа не раз сдавала. И Танька, дура, туда же, под ее дудочку. Правда, поняла уже, что перегнула — старается держаться, уверенной казаться, а саму всю сводит, в глаза смотреть не может.
— Парень, это не ты сейчас с этими сапогами в отделении был? — указал милиционер на сапоги на полу.
— Я…
Михаил пригляделся, точно — тот самый лейтенант, который отпустил из милиции.
— …Ввалился, устроил дебош, стал бутылкой размахивать, разбил, вот осколки!.. — успевала наговаривать милиционеру Маша: — Всячески третирует жену!..
— Ясно-ясно! — кивнул сдержанно лейтенант. — Пошли, — кивком тоже указал он на дверь Михаилу.
В лифте молчали, а когда вышли, лейтенант с пониманием так приостановил Михаила:
— Слушай, тебе есть где до утра пробыть сегодня?
— Есть. У друга могу. По улице могу просто погулять, светает уже.
— Нет, давай-ка лучше к другу. Только чтоб честно — обратно, домой, ни шагу до утра. Вызов был: мы обязаны забрать.
— Что, вот так любая женщина позвонит с бухты-барахты — заберите мужика, буянит — и вы забираете, что ли?
— Забираем. Три привода — можно заводить судебное дело. От года до трех… И вы так же, мужики, позвонить можете, если баба скандалит — заберем.
— Ну уж это… Как же… Женщину-то.
— А так же! Чем кулаками, как вы, дураки. Потом сидите!..
— Ну уж это… звонить!..
— Ну, ладно. Дело твое… Смотри, ты мне обещал. А в другой раз — заберу! — пригрозил милиционер напоследок.
— Спасибо. Нормально все будет…
День близился чудный! Ночь была звездная, а теперь на западе четко обозначилась в небе светлая полоса. В день этот, после долгого перерыва, предстояло Михаилу выйти в рейс, и сыну его, Степке, сегодня первый раз в школу!
16
Степка с букетом цветов одним из первых стоял в строю на школьной линейке. Из группы родителей смотрели на него радостные папа и мама — только Степка постоянно терял их из виду, потому как стояли они далеко друг от друга, и ему трудно было смотреть на них обоих сразу. Большой лысоватый дядя в очках — говорил, что у них, у детей, появился теперь второй дом, школа, где они будут учиться и узнают много интересного… Потом перед линейкой прошла большая девочка в белом фартуке и позвенела колокольчиком. И молодая совсем тетенька-учительница повела их в школу. Папа и мама, как и все родители, махали вслед руками. Он, Степка, в одной руке неся букет, в другой портфель, поднялся вместе с другими ребятами по ступенькам, вошел в класс с тремя рядами белых парт. Началась новая трудовая жизнь…
17
Автобус Михаила стоял у стелы с надписью «Европа — Азия». Пассажиры выходили. Михаил остался за рулем. Сидел отдаленный, погруженный в думы свои.
Перед рейсом заглянул в библиотеку, и ему передали письмо — адресованное Михаилу, оно пришло на библиотеку автопарка. Михаил достал письмо из кармана, в который раз стал перечитывать:
«Когда узнала я, что беременна, решила ничего тебе не говорить. Собралась и уехала. Хотела родить, вырастить ребенка, тогда и сообщить. Но жизнь с нашими хотениями не всегда считается. Оказалось, что я больна, ребенок родился неживым… Как я все это пережила, не знаю. Поэтому очень понимаю, как сейчас не сладко тебе. Немало я передумала и тебя не обвиняю. А если обвиняю, то гораздо меньше, чем себя. По крайней мере, у меня было больше оснований устоять перед распространившимся пониманием жизни. Но я долго жила в общежитии и сначала с недоумением, а потом с интересом смотрела изо дня в день на то, каким трепетом и восторгом сопровождается у девчонок преддверие вечеринок с необязывающими ни к чему отношениями с молодыми людьми. Было время, когда люди верили, что истинность жизни в созидании будущего, еще раньше видели ее в смирении, в жертвенности… А мы, для которых и строился рай земной, видим ценность жизни в усладе, которую получать хотим самым нехитрым путем. Смешно, но отсюда все наши беды — по крайней мере, наши с тобой. Мы поддались соблазну.
Догадываюсь, что отношения с женой у тебя сейчас, должно быть, неважные. Если бы она меня послушала, я посоветовала бы ей смирить гордыню, стерпеть, не обижаться и понять: ты всего-навсего человек, живущий в своем времени, остальное — воля случая. Наконец, полагаю, что если муж тянется к другой, то в этом есть вина и жены. И наоборот.
Должна сказать тебе и следующее. На этом месте я не раз запиналась, комкала листок… Но сказать должна. Зачем же иначе пишу?.. Если у вас с женой после всего этого… не ладится, если тебе некуда прийти и ты одинок, знай, я тоже одна. Но лучше, если у вас все будет хорошо. Буду лишь рада.
Всего тебе (и твоим семьям) доброго. Вера».
Михаил сложил листок, сунул опять в карман. Поднялся. Дошел до колодца с родниковой водой, который устроил кто-то давно на редком месте. Зачерпнул ковшом, напился студеной воды. Плеснул на ладонь, омыл лицо, к вискам приложил. Освежило чуть, но тягость общая не проходила. Направился обратно к автобусу. Нет, видно, не бывать больше его чувству безоблачным, не вздыхать легко. До тридцати трех еще два года. А он уже оказался распятым — на двух семьях! И ноги пробиты — третьей связью!
Посигналил. Пассажиры не торопились, докуривали, едва волочились при входе.
— Я, кажется, объявлял — стоянка десять минут. Кому не к спеху, может идти пешком, — проговорил он резко в микрофон.
Пассажиры зашевелились, стали входить, рассаживаться, поглядывали мельком на водителя: хмурый какой-то, сердитый попался.
Привычно скользнув левой рукой по баранке, правой — механически двинул ручку скоростей. Надо ехать. Везти пассажиров. Знакомой изъезженной дорогой, из одного города в другой, из Азии, между прочим, в Европу. И обратно.
Краем глаза Михаил вырывал из жизни пролетающей мимо деревни то старика на скамеечке, то бабу, загоняющую корову, то столб уносимого дыма в огороде — сжигали ботву…
Скорость, шарканье резины по бетонке, мерное гудение мотора, думы постепенно выравнивали, уводили в мечту.
…Утро. Туман. Сельский дворик, возле которого стоит грузовичок. Озеро вдали поблескивает. Жеребенок тонконогий вышел из тумана. Осока на болоте шелестит. Босиком по траве, они со Степкой, в закатанных до колен штанах, с удочками…
Сладко и томительно делалось на сердце. Но из-за поворота выглянула реальность: шесть совершенно одинаковых домов из потемнелого бруса стояли ровно в две шеренги — по три дома в каждой. Если бы они находились где-то на окраине города, то, наверное, ничего. Отчужденность города от природы привычна и в некоторой степени естественна. Город преподносит и много своего разнообразия. Но шесть одинаковых мрачных двухквартирников, как бараки концлагеря, стояли на берегу огромного сверкающего озера. Рядом раскинулась березовая роща, за ней шел смешанный лес… Возле крайнего из домов всегда играл ребенок — Михаил давно его приметил. Он был какой-то несуразный, с крупными руками и головой, с тяжелым взрослым остановившимся взглядом — такими часто нарисованы младенцы на иконах. Всегда грязный, но не той, не обычной детской чумазостью, а кажется, непроходящей, врожденной. Что должен он чувствовать, как научится понимать жизнь, видя свое жилище столь кричаще, будто наколка на теле, неестественным среди окружающей природы.
На обочине голосовала подвыпившая разухабистая компания: человек шесть мужиков и две бабенки — и всегда здесь кто-нибудь под балдой! Салон был полон. Михаил уже проезжал мимо, когда заметил здорового мордастого мужика, который погрозил ему мясистым кулаком. И тотчас узнал его! Узнал всю компашку, орудовавшую в поезде, когда он возвращался с родины. Но что более всего, страшно резануло — двумя бабенками оказались Лариса и Маринка! Михаил нажал на тормоз, автобус немного занесло, и он встал носом к обочине. Послышались возмущенные восклицания пассажиров.
Михаил еще не знал, что будет делать, зачем остановился. У него только завертелось все в мозгу: рыженький паренек с его жалким «использовали как…», отцовская могила, до которой он так и не добрался во время последнего приезда, и опять это «использовали…». Пользуются! Вот она, в зеркальце, Лариска! Бежит, волосами трясет! Сколько он страдал из-за нее, сколько она места в душе занимает, а эти… пользуются! А где-то и сам он… черпал ложкой из живой души! Кто-то живет, а кто-то пользуется! Но он жить хотел! Жить!..
Шофер резко выпрыгнул из автобуса и захлопнул за собой дверь. Далее пассажиры, сидящие с правой стороны салона, видели, как он что-то резкое сказал женщине с распущенными светлыми волосами, несколько вычурно одетой. И как-то разом клубком вокруг него завертелась драка: все шестеро подвыпивших мужчин накинулись на шофера. Но то, что произошло в следующий миг, было ошеломляющим. Длинноволосая женщина с каким-то диким воплем, скинув туфли, нанесла каблуками несколько молниеносных ударов по головам своих дружков, так что один из них рухнул, а все остальные отпрянули. И так шофер и женщина, прижавшись друг к другу плечами, встали, словно вросли, с такой решительностью и готовностью, что никто из подвыпившей компании не смел к ним подступить.
18
«…Несмотря на хорошую успеваемость, Степа Луд вызывает опасения. Крайне необщительный и неактивный. Даже в играх держится в стороне от ребят. За учебный год он ни разу не поднял руки, хотя, как правило, материал знал. Степа — мальчик легкоранимый и самолюбивый. Поэтому часты конфликты с мальчиками старших классов.
Степа — мальчик, несомненно, способный. На уроках внимателен, вдумчив…»
РАССКАЗЫ
«МАЛЕНЬКИЙ СЮР»
Нас ведь четверо в комнате было, когда этот парень, сосед по коммуналке, Славиком его звали, вошел и, выставив поблескивающее лезвие финки, двинулся почему-то именно на меня…
В этой коммуналке мы прожили уже около месяца — студенты-дворники. По истечении месяца ЖЭК должен был предоставить каждому из нас по отдельной комнате, как договаривались с начальником, если, конечно, его устроит наша работа. Мы только что поступили и начали учиться в институте. Да еще в каком, куда огромный конкурс! Выдержали, без чьей-либо помощи, сами, приехав в этот прекраснейший город на Неве издалека, из Тмутаракани, как говорится, имея за душой лишь все ту же душу, которая, ясное дело, необъятных размеров и нараспашку!.. Мы были горды собой, полны ощущения собственной значительности и близости грядущих великих дел! Внутри словно бы вращался какой-то маховик и передавал энергию всему телу: утрами торопливые прохожие не могли пройти без улыбки, видя ошалелого дворника, у которого метла снует, как челнок, счастливо разгоняя и вспенивая непросохшие лужи на асфальте. Над сокурсниками, поселившимися в общежитии, мы посмеивались: путь до института занимал у них немногим меньше времени, чем наша работа. А нам — рукой подать! Так мы еще деньги получаем, и скоро у каждого будет своя комната! В Ленинграде! С детских лет на открытках, спичечных этикетках, в учебниках я видел Зимний дворец, Петропавловскую крепость, крейсер «Аврора»… Слышал о чугунных львах, о мостах, которые ночью разводят… Все это существовало в мальчишечьем сознании величавым чудом, равным, пожалуй, лишь звездному сиянию. И вот на тебе — шагаешь запросто по Невскому, вот шпиль Адмиралтейства, направо Александрийский столп, а вот надпись: «Эта сторона при артобстреле наиболее опасна». Живешь здесь! Напротив дом, кстати, в котором жил великий человек. Одними тропами ходим…
Дом, в котором жили мы, не был примечателен: на задворках, с унылыми блекло-пепельными, словно обшарпанные стороны спичечного коробка, стенами. Но с улицы мы попадали к нему через портал просторного знатного подъезда с атлантами при входе. И миновав этих атлантов, полнясь чувством причастности к ним, было особенно изумительным оказаться в своем жилище. Не сказать, чтоб убогом, но… Я вырос в собственном доме, всегда ухоженном, сухом, чистом, и не подозревал, что люди в наше время могут жить в такой запущенности, тесноте… Углы комнат проедала сырость, стоял запах гнили и клопов… У нас в оштукатуренных беленых избах клопов никогда не водилось. Даже когда у нас с мамой еще не было дома, мы только строили его, то жили вместе с многочисленной семьей двоюродной сестры в крохотной засыпушке из опилок вперемешку с битым стеклом, чтоб стены не проедали крысы. И эту каморку старались содержать опрятной, чистой. Спали в ней, расстелив матрасы по всему полу, для кроватей не хватало места. Но зато у нас был двор, огород, улица… — мы обитали на большом пространстве!
В квартире, куда мы поселились, как раз места для ночлега вполне хватало всем: три комнаты занимала, в сущности, одна семья — пожилые отец и мать и две их взрослые дочери с мужьями. Правда, нас вот в четвертую комнату въехало много. Прежде в ней жила одинокая дворничиха, найденная месяц назад убитой в подвале, где хранились метлы и лопаты…
Казалось бы, чего проще, родственники же, обихаживайте свое жилище, живите в чистоте! Но они, как и углы квартиры, были словно проедены изнутри, обессиленно-квелые.
Мое периферийное чувство, приучившее смотреть на жителей центров с поклонением, даже с приниженностью, наивно недоумевало: наши соседи совершенно не посещали театров, Эрмитажа, прочих достопримечательностей… Какой тогда смысл, думал я, жить им в этом клетушнике? У нас в Сибири культурных ценностей мало, так хоть лес, река, простор!.. А здесь им чего? Сготовить на газовой плите женщины никогда не смогут так, как моя мать или тетки на голландке или русской печи. Тут даже спеть, сплясать как следует нельзя! От стены до стены. И ведь что удивительно, узнавая, откуда я, они снисходительно поглядывали, сочувственно подбадривали: ничего, мол, пока учишься, как-нибудь зацепишься, только надо думать об этом сразу… Выходит, своя доля им казалась лучше, чем доля тех, кто где-то там!
Не квартира была тесной, а замкнутое в ней, отторгнутое жизни пространство. Кухня им служила двором, а улицей — коридор.
…Славик приближался ко мне — за несмолкающими в ту пору нашими разговорами я и друзья мои не заметили, как он вошел, а увидели его как бы вдруг возникшим, наступающим с ножом в руке. Вмиг умолкли, замерли. Я мог бы опередить Славика, ударить его первым. Он был на полголовы ниже меня, с заторможенными расслабленными движениями, хлипким и тщедушным: в свои двадцать три выглядел подростком. Но для того чтобы ударить, нужно было, по крайней мере, по-настоящему испугаться. Я же просто не знал, как отнестись к такой странной «шутке». Так и дождался, пока он подошел почти вплотную и приставил колкое острие финки к моему животу.
— Пробил твой час. Хочу тебя зарезать, — сказал Славик чуть ли не стихами, как всегда через губу и нарочито бесстрастно. «Р» и «л» он не выговаривал, получалось «пгхобив», «загхезать» и не внушало страха.
— Зачем тебе меня резать?
Я стоял, прижавшись спиной к стене и втянув живот, все еще улыбаясь, все еще ожидая, что сейчас Славик улыбнется.
— Хочу, на фиг, — ответил Славик просто. И чуть вперед подал нож.
Теперь уже сложно было перехватить его руку, пошевелиться. От впившегося острия разбегались по телу колкие, цепенящие лучики. Я не глазами, всем затаившимся существом, сжавшимся внутри цепким зверем, внимал малейшему движению Славика, надеясь в последний момент успеть ударить его по руке, дернуться в сторону, вправо — царапнет, так не по печени; нет, лучше влево — удобнее… Хотя ему требовался миг…
— Славик, да ты что? — опомнился Мишка Якжен. Он не так давно снял флотскую форму, говорил напористо, как бы вдавливая, впечатывая слова. Распаляясь. Черты лица имел резкие, и вся жесткая фигура его являла собой исступленную целеустремленность.
— Д-давай лучше прис-сядем! Дружно! В-вместе! Может, несколько в-выпьем!..
Я чувствовал запах тела Славика, обыкновенный, только чужой. Сквозь жидкие волосы на выпуклом узком темечке просвечивали слюдяные полоски кожи. Глаза исподлобья смотрели без злобы и гнева, а скорее, с какой-то загнанностью, обреченностью. Чьей только? Чьей?! Что я ему плохого сделал? Мне казалось, если я против человека зла и в мыслях не держал, так он и мне худого не желает! Отношения между нами были приятельские. Он заходил к нам, ко всем троим. Сидел, молчал обычно, смотрел прищурившись, с поволокой размытости в глазах, как у анашиста, с деланной какой-то значительностью, как бы пронзая взглядом насквозь, изредка чему-то ухмыляясь. Приносил несколько своих рисунков. «Маленький сюр», — молвил он через губу. Мы тогда, как истинно периферийные молодые люди, крепко пасовали перед любым мудреным искусством и до прыгучести в глазах, до сдвига в сознании проявляли к нему интерес. А потому в набросках Славика открыли много смысла. «Что-то есть», — кивали проникновенно, глядя на изображения висящих на ниточках зрачков… А один рисунок, наиболее реалистичный, меня и в самом деле изумил: пень, в него воткнут топор, а рядом валяется отрубленная часть мужского тела. Я пережил нечто вроде шока, а потом все принял за шутку, садистскую, но не без изюминки. Рассмеялся, мол, как это, с натуры? Но чтобы не попасть впросак, тотчас, как и товарищи мои, нашел в рисунке «двойное дно», символичность, некую социальность. Славик лишь молча ухмылялся, подчеркивая, вероятно, свое безразличие к восторгам толпы, которые для него не новы. Иначе быть не могло, если уж «я» сотворил… Через несколько дней Славик, видимо подмасленный и подогретый нашими похвалами, принес новое творение: на щеки Джоконды из журнальной репродукции были налеплены… — мы сначала не поняли, а когда разобрались, аж повело всех… — маленькие, красненькие, донимающие нас ночами зверюги, черт бы их побрал. «Мадонна конопатая» — называлась. Мы смолчали. После восхваления прежних художеств хаять было неловко. Я тогда ничего не знал об экспериментах в этом плане Сальвадора Дали, но подобное уже видел — муху, приклеенную к щеке Моны Лизы. «Мадонна с мушкой». Сказал об этом Славику. Но не в том смысле, что у Славика плагиат, а дескать, кто-то смог почти до такого же додуматься… Мы даже немного поулыбались. Хотя и тогда, в случае «с мушкой», и на этот раз больше всего меня поразило то, что ведь это надо было поймать, наклеить, лаком покрыть! Что заставило? Жуткое ёрничество? Необычайное желание любыми путями выделиться, произвести впечатление? Ошарашить? Своеобразное чувство вседозволенности, когда мерило всему бесценное «я»?
— Ты, может, обиделся на что-то, Слава, — говорил душевный по природе своей Сергей Морозов. Славику очень нравилось, как Сергей поет, поэтому тот брал дружелюбный и утешающий тон. — Скажи, может, мы все были в чем-то неправы…
— Ты же не его, себя погубишь! — продолжал, доходя до фальцета, восклицать Мишка. Обычно на всевозможных обсуждениях он вскакивал в приливе чувств, как бы от необходимости поддержать, выразить с говорившим прежде согласие, и начинал нести что-то вовсе отдаленное, книжное. При этом растопыренные жесткие пятерни орудовали в воздухе, словно сбивали свой маленький земной шарик. — Л-лучше сесть! Н-несколько выпить! И жить! Рука в р-руку!..
И четвертый наш товарищ, который жил не с нами, в общежитии, зашел на чай, поговорить, тоже пытался найти Славику какие-то ласковые убедительные слова.
— Насквозь проткнет, — позволив всем высказаться, рассуждал вслух Славик, словно вопрос только в том и состоял — проткнет ли меня нож насквозь.
Я в который раз представлял, как, улучив момент, резко отстраняюсь влево, одновременно перехватываю его руку и наношу удар… Возможность такая была: от сладких для него минут торжества и произведенного впечатления не мог он не отвлекать внимания на других. Но если бы хоть на секунду я до конца поверил в то, что он действительно способен за здорово живешь ткнуть человека ножом! Мы все были уверены — куражится. Любит он себя безотчетно. Ведь даже свои пять-шесть рисунков показал нам так, будто это, по меньшей мере, наброски Сикстинской мадонны! А как по коридору ходит — нарочито вразвалку, расслабленно, словно таит в себе избыточной силы взрыв… Демоническая личность!
— По тебе давно могила плачет.
Голову Славик держал запрокинутой, подбородок выдвинул вперед, — так, видимо, он представлял себя более грозным и надменным. Но на длинноватом хрупком подбородке этого двадцатитрехлетнего мужчины только еще начинали пробиваться волосы. И все надуманное высокомерие лишь выдавало убогость, ущербность.
В глубине души, как мне казалось, он все-таки чувствовал, что нет в нем ничего такого, подтверждающего собственные претензии. На работе он нигде подолгу не задерживался, специальности никакой не имел. Тесть его частенько захаживал к нам, сутулый, натруженный, мол, учитесь, работаете, молодцы, и дальше — основное, к чему и вел, вздыхал, прокуренно закашливаясь и клоня голову, — а мне вот бог послал… зятя, работать не хочет, сидит у жены на шее, хоть бы сказать, что за воротник здорово льет, того нет, так, не человек, а недоразумение… Раза два я слышал, как он, уже на взводе, выскакивал из комнаты и, не дойдя до кухни, где обычно восседал за куревом и детективом Славик, начинал выговаривать зятю правду. Получалось — в пространство. Жена была, как говорится, не чета Славику, приятной внешности, она не только на мужа не шумела, но еще и защищала его перед родителями. Знать, что-то по юности лет в нем видела. Мне же всегда Славика немного было жаль. Почему жаль, я не задумывался, но, наверное, как раз из-за этой несоразмерности облика его со значительными манерами. Понимал, что он всего-навсего хлипкий, ранимый взрослый мальчик. Намеренно увлеченно советовал ему учиться. Поддержать, видимо, хотел, стронуть к действительной жизни, что ли… И стоя под ножом, неосознанно, может, подспудно я продолжал жалеть Славика.. Считал, что вся его ломота происходит от обостренного чувства ущемленности. Ибо и сам я, несмотря на всю радость от поступления в желанный институт, от встречи с великим городом, среди непривычных каменных стен уже начинал ощущать неприютность. На мою неотесанность и простоватость наступал институт, в среде многих собратьев по учебе с замашками на элитарность меня начинала порабощать невольная обида, заседала пробкой в груди, сжималась в комочек. И все чаще казался я себе неуместным здесь, проскакивали мыслишки, а не дать деру, пока не надорвала душу новая жизнь? Тем более, что на родине, в доме покойной моей матери оставалась молодая жена, с которой еще и пожить-то вместе не успели, тосковал по ней; в окошке «До востребования» в почтовом отделении меня уже узнавали, и если день-другой не получал писем, тоска сцепляла душу, выкручивала мозги, город теснил, давил, я посылал «молнии», решал, сжимая зубы и кулаки: все, жду до завтра и вылетаю. Но на следующий день мне выдавали сразу три письма, и трижды по три прибавлялось сил, чтобы жить, набираться ума, чужого не занимая, противостоять неприятностям.
Отношение Славика ко мне было понятно: в его глазах я выглядел баловнем судьбы, которому все легко дается… Когда я вбегал в квартиру и, сворачивая в свою комнату, здоровался в запале с сидящим на кухне Славиком, пытаясь как-то передать ему свое настроение, поднять его тонус, то ответный его медленный небрежный кивок, взгляд с ухмылкой как бы говорил: болван жизнерадостный. Меня это немножко выбивало из себя, но не из-за обиды — сам себя болваном чувствовал! Если Славик бывал у нас, то выходило так, что я больше других молол языком и чересчур размахивал руками — только что вприсядку не шел! Впоследствии я заметил за многими сибиряками эту склонность к крайностям: или замыкаться при чужих людях до угрюмости — медведь медведем, или такого подпускать жару, какого дома отродясь не было — карась на сковородке! Особенно когда среди собравшихся чувствуется натянутость в отношениях, неестественность. Славику я вполне мог казаться человеком, которому всегда все плыло в руки, жизнь только ласкала, а душа не знала горечи. Его взгляд, пока он сидел у нас, неизменно наливался мутью, как бы уходя в тяжесть минувших лет. Я не знаю, какими они были, его минувшие годы; он родился и вырос на той же, где теперь жил, улочке, в другом доме. Но мою-то душу для тогдашних двадцати успело помять — я рос без отца, похоронил мать… Однако, скажем, на долю моих дядьев выпала куда более горькая доля. Но никому и в голову не приходило требовать за это к себе уважения, как-то выставлять напоказ сложность натуры своей.
Я невольно своим душевным здоровьем, охочестью до жизни давил на Славика. А мой совет ему пойти учиться, думаю, воспринимался им просто как уничижающий. Он, вообще, отвергал всю жизнь за пределами своей квартиры, где никто его не замечал, не признавал. Я же был в его глазах представителем этой жизни, и он пришел меня убивать. А я и сейчас сочувствовал ему и не мог не ущемить его больное самолюбие. И не то что я следовал какой-нибудь мысли о всепрощении, нет… я просто видел, что человеку, как бы там ни было, плохо! А мне… мне все-таки хорошо. На моей родине тоже немало встречалось гораздых до ножей, но так те же — или бандюги, или, понятно — со зла, в ссоре… А здесь… Без того человека ломает, чего добивать-то! Пусть уж хоть сейчас почувствует себя сильным, способным внушать страх и уважение…
— Значит, по-вашему, нельзя человека убивать? — спрашивал Славик моих друзей.
— Конечно, как же, — отвечали они.
— Фашистов же в войну убивали?
— Так ведь они враги. Они приходили нас убивать.
— Подчинитесь, они не будут вас убивать.
— Они же нас порабощали.
— Значит, если порабощают — можно убивать. А так просто — нельзя. Странно. А если в душу плюют? — ставил в тупик моих друзей Славик.
— Но… он же… может, показалось, конечно, надо разобраться.
— Ну, разобрались. П-плевал. Тогда можно?
— Нет, нельзя.
— Странно. Если порабощают — можно, в душу плюют — нельзя.
— Славик, — заговорил я, — поверь… Я не думал… Чем же?.. Прости, если так, если обидел…
— Ты? Меня? Обидел? Ты бы давно в могиле лежал, если обидел. А быка убить можно? — опять обратился к друзьям Славик.
— Бык… Ну, бык — не человек.
— А почему быка можно, а человека нет?
— Ну… Бык — животное.
— А человек, может быть, хуже животного?
Друзья принялись теперь доказывать Славику, что я не хуже животного. И вообще, мол, сбегаем сейчас в магазин…
— Дураки… — сказал Славик покладисто. Нож он приопустил. — Посмотрели бы, как человека убивают…
Славик великодушно смилостивился. Это прозвучало примерно так же, как: «Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо».
Я следил за ножом, слушал Славика и как-то выпустил из внимания его лицо. А когда взглянул, поразился — обычно онемелое, с тусклым взглядом, оно было сейчас отдохновенным, просветленным.
Сели за стол, стали говорить с подъемом, чересчур возбужденно весело, все обращались к Славику. И нельзя сказать, чтобы заискивали. Нет, высказывали уважение. Признавали. Вину свою заглаживали перед ним — в самом деле, придет к нам, сядет, а мы заняты своими проблемами. Унижали невниманием. А много ли ранимому человеку, болезненно чувствующему свою ущербность, надо для обиды? Только по-разному эта обида выплескивается.
Мы всеми силами утверждали в Славике личность. И он, по обыкновению свысока, но все же без прежнего прищура, более открыто, как бы шутейно говорил:
— А зря вы за него… Увидели бы, как убивают… Стишата бы написали. — Сергей и Мишка пробовали себя в этом деле. — Вот это было бы да! Маленький сюр!..
По поводу вина Славик сказал, что вообще-то это плебейство. Но полстакана сухого выпил, вернее, запил им дюжину таблеток. Тогда стало ясно, почему он постоянно выглядит хмельным, хотя вроде и не часто пьет, как замечал тесть Славика. Неспроста, оказалось, напоминал мне всегда его взгляд — взгляд анашиста. За год до описываемых событий мне довелось побывать в Средней Азии. В центре одной из среднеазиатских столиц, прямо на улице подошел ко мне парнишка моих лет и попросил: «Дай в зубы». Я на миг опешил, подумал, может, мазохист какой передо мной — я слышал, что есть такие, мазохисты. И уж нацелился было ему в зубы, как парнишка, заметив мое замешательство, спросил: «План или дрянь есть?» Что такое «план» и «дрянь» — я знал. Взгляд у Славика был точно, как у того парнишки, — плавающим.
Мое воображение по инерции все рисовало, как бью Славика по хрупкой челюсти, и я радовался, что этого не случилось. Чего там бить-то? Все равно что ребенка. Самому было бы противно…
Скоро ЖЭК предоставил каждому из нас по отдельной комнате. Я перебрался в дом с атлантами при входе, в квартиру из семи комнат, с высокими потолками, ухоженную, с устоявшимся запахом нафталина. Жили в ней, в основном, одинокие старушки, как мне, молодому человеку, казалось, страшно ветхие. Иные здесь и блокаду перенесли. Как-то одна из соседок, взглянув мельком на меня, спросила: «Ты очень голоден?» Я смутился, пораженный ее проницательностью — действительно, так вышло, не ел день, остро посасывало в желудке. Забормотала нет, мол, что вы, сыт… Но было интересно, как могла она догадаться, спросил. «Глаза блестят», — ответила женщина. «Да они у меня сами по себе блестят», — пытался взять веселый тон. «Нет, по-другому…» — улыбнулась она. И сквозь улыбку в ее лице проступила давняя скорбь. Рассказала: «Когда папа умирал, он сажал меня рядом с собой, гладил по волосам и говорил: «Вот кончится война, мы разведем с тобой много-много кошек… И каждый день будем съедать по кошке…» Немало я вроде слышал и читал о блокаде, но ее воспоминание об отце, который, видно, от ослабления забыл, чем питались люди в мирное время, — особенно чудовищно рисовало голод.
Все старушки, принявшие меня сначала настороженно — знать, всякие жильцы оказывались в служебной комнате ЖЭКа, — узнав, что новый сосед не только работает, но еще и учится, такой молодой и уже женатый, относились ко мне подчеркнуто любезно. Даже в график дежурства по уборке мест общего пользования в квартире не включили. Впрочем, может быть, они просто привыкли не связываться с жильцами служебной комнаты.
Так в наслаивании впечатлений, эпизоду со Славиком быть бы забытым или остаться в памяти случаем незначительным, но… Подметал я ранним утром, невыспавшийся как всегда, уже не радуясь, а досадуя на свою долю — от энтузиазма по поводу дворницкой работы не осталось и следа. Нагрузка в институте увеличивалась, занятия наш руководитель курса строил так, что оканчивались они за полночь. А нужно еще и книги почитать, и письмо написать… Только притулишься, будильник уже «бз-з-з» — вставай, мети. И так изо дня в день! Глаза толком не разлепив, чумной от недосыпания, скребешь метлой по асфальту, и какой-нибудь пенсионер с собакой обязательно бодренько выкрикнет: «Вахту несем? Отличная физзарядка!» А рядом пес его, вокруг прыг, прыг и… А двор-то весь заасфальтирован, наземлить нечего! Мне убирать! Веничком в совок, потом в ведро, в совок — в ведро… Еще надо бачки с пищевыми отходами из подъезда вынести, перекусить успеть да бежать на занятия… Я скреб метлой по асфальту, вдруг мимо на невероятно высокой для маленького двора скорости пролетел милицейский уазик. Остановился резко у подъезда, где жил я раньше с друзьями. И скоро, не прошло, кажется, и минуты, милиционеры вывели из подъезда Славика.
Ночью Славик убил тестя, отца жены. Вошел в комнату — и прямо в кровати, кухонным топориком…
Вот тогда меня проняло! В животе, в том месте, куда Славик утыкал острие ножа, крутнулся мохнатым зверем страх! И родилось страстное желание выбить этот нож и хватить что есть силы Славика кулаком! А подымется, так еще раз и еще!
Месяц ровно прошел, как стоял я перед ним у стенки. Но самое чудовищное, скоро выяснилось, что за месяц до этого, до случая со мной, он тоже совершил убийство — убил ту самую одинокую женщину-дворницу, в комнату которой нас поселили! На нем уже была кровь! А мы-то к нему с гуманностью, находили его поступку человеческое оправдание! Жалели! Щадили! Душу углядывали! В его убогих попытках самовыявления, в навязчивости, требующей внимания лишь к нему, в презрительности умудрялись находить что-то небезынтересное, особенное, признаки личности необычной. И далась она нам, эта необычность! Стесняемся и сникаем перед выламливанием и претензией! В те минуты, когда, узнав о преступлении, шел в свою комнату, потом на занятия, а перед глазами стоял надвигающийся с ножом Славик, все существо мое, все натянувшиеся, собравшиеся для запоздалого удара мышцы корили, что позволил торжествовать человеконенавистнику, убийце! Позволил ему убедиться в своем праве на презрение и на любой безнаказанный поступок! Показать ему надо было, где его место, чтоб пикнуть боялся, а не мнил из себя деспота своего маленького коммунального мира! Как запала в этого недалекого паренька из рабочей среды мысль об исключительности, которую ничем, кроме крайнего презрения к людям, подтвердить он не мог. И ощущение вседозволенности настолько глубоко укоренилось в нем, что стало уже не идеей, а психологией. Не знаю, как поступил бы я сейчас в подобной ситуации… Я рос среди людей доверчивых. Мужики, дядья мои были крупны телом, но жалостливы. Боль физическую, работу ломовую, это все сносили безропотно, будто иначе и не бывает, а вот помянут кого — покойного ли, горемыку ли непутевого — и в слезы. В родных, отдаленных от центра краях моих, пришлый человек, переступив порог, входил в дом сразу другом. Потом уже мог стать и врагом. В жизни по большим городам не раз пришлось убедиться, да и больно напороться, сразу влетев с открытой душой, что принимают нового человека — как потенциального врага. А уже потом человек может стать и другом…
Но дело не в том, как поступил бы, а в том — как бы надо поступить? Бить его? Но бить его нужно было тогда каждый день, иначе он все равно пришел бы ночью с топором. Как входишь в квартиру, поглядел он на тебя с ухмылкой — сразу ему в лоб! Именно так поступали бы с ним в той среде, в которую он очень стремился — в преступной среде. Блатные били бы его и били за эти ухмылочки и пренебрежение и, по-своему, воспитали бы: затюкали. Или все-таки была своя правда за теми двадцатилетними парнями, которые верили, что люди не могут принести им зла, если они сами его не делали и другим не желали? И не одно только утешенное тщеславие успокоило Славика, а еще и наша упрямая вера в его человеческое доброе начало?
Не знаю. Единственное, что видится разумным: Славика нужно было хватать за руку не тогда, когда в ней оказался нож, не тогда даже, когда пригоршнями он стал заглатывать таблетки, а много раньше, когда начали в нем взращиваться претензии ко всем и ко всему, кроме себя, когда появилась пренебрежительность.
Удивительным было для меня и то, что старушки из квартиры, где жил я, совершенно не судачили о чудовищном происшествии в доме по соседству. Они просто об этом ничего не знали. В Ленинграде, по крайней мере, в центральной его части, немного встретишь пожилых людей, беседующих на скамеечках возле подъездов — как, впрочем, редки и сами скамеечки в заасфальтированных двориках.
ПЕРЕСТРАДАТЬ…
Она сидела в тускло освещенном подъезде на ступеньках пятого этажа, прижимала к своему уже заметно выдававшемуся животу большого мишку, утыкалась лицом в его лохматый ворс, спохватывалась — он же белый, а ресницы у нее давно потекли, — поднимала голову. Из отсвечивающего оконного стекла глядело собственное всклокоченное отражение, дальше, в окне дома напротив, через тюлевую занавеску расплывчато виделась украшенная игрушками елка, праздничный стол, оживленно мелькали люди. Новый год!
Она вставала, подходила к двери е г о квартиры, тянулась к звонку. Думала: выйдет он — подарит ему мишку, поздравит и уйдет. Гордо так, с достоинством. Но у самой кнопки палец замирал, подрагивал, слабел и падал.
Она опускалась на прежнее место, снова припадала к мишкиным почему-то пахнущим рогожкой колечкам — какой уж там гордо, когда заплаканная вся и живот такой!.. Покачиваясь, бормотала: «Господи, голова ты моя, голова, зачем так ясно все представляешь, как они там… Как он… Боже ты мой, тяжко как! С ума ведь сойду…» Она сдавливала эту неразумную голову руками, стыдно было, противно, но ничего не могла с собой поделать. И почему она такая? Слабая! Росла в детдоме, вроде с малых лет самостоятельная, за себя умела постоять. Ну почему не может решиться хотя бы позвонить? Не было же у них окончательного разрыва. Спросить: зачем соврал, сказал, в Новый год смена, хлеб-то, мол, и в праздник надо развозить. Да что спрашивать? Понимает она все, но сердце не мирится: как так, столько лет вместе, чувствовала — любит, нуждается в ней. Ждала из армии, писала, ездила к нему: полгода деньги копит, возьмет у подружек одежду, что помоднее, — и к нему… Было решено: поженятся. Все откладывали: до армии — Люся, сестра его родная, уговорила обоих, подождите, мол, молодые еще, успеете, пусть отслужит; приезжала к нему в армию, заявление подали, но сама потом раздумала, не хотелось в суете, торопливости; отслужил — опять Люся встряла: куда спешить, денег надо подзаработать, приодеться… Вообще сестра его и сбила с толку. Прямо в их отношения никогда не ввязывалась, а потихоньку, ненароком, шуткой будто, капала: «Ой, Галя, замухрышка ты совсем… Испортит она, Борька, нашу породу… Смотрю на тебя, Галька, и жалко, вроде на мордашку ничего, а сама, как кнопка, и образования нет, куда это — девчонке на стройке работать! Руки-то, как наждак будут скоро, обнимешь мужа и поцарапаешь… Замуж пойдешь, свадьбу некому справить… И родители так рано умерли, они что, больные какие были?..» А она, Галя, характер никогда не показывала, обидно порой, конечно, бывало, но улыбнется в ответ, посмеется: дескать, да, такая я уж есть, со всех сторон неудавшаяся. Дружили они с Люсей. Особенно после того, как у Люси распалась семья. Вместе отдыхали, не раз ездили в лес по ягоды, по грибы. И Галя радовалась, когда могла чем-то помочь Люсе: с удовольствием гуляла с Санечкой, ее сынишкой, вязала шарфики, шапочки… И Люся, в свою очередь, проявляла о ней заботу: брала у Гали с получки на сохранение часть денег, скапливала, покупала какую-нибудь дорогую хорошую вещь. Правда, Гале обычно покупки не нравились, но она молчала. Иногда Люся и вовсе сердечно заговаривала: «Хорошая ты девчонка, Галя, душевная, открытая, характер золотой, но ехала б ты в деревню, к тетке своей — на Урале у Гали жила двоюродная тетка, — там тебе легче будет. Здесь город, не какой-нибудь, а Ленинград, жизнь тут такой, как ты, устроить очень сложно…»
Трудно сказать, какое отношение к тому имела Люся, но у Бори появилась другая — крупная, дородная Наташа, похожая, кстати, на саму Люсю и еще больше на резиновую куклу. Все трое работали на одном предприятии, на хлебокомбинате. Наташа — диспетчер, от нее во многом зависела Борина зарплата; не раз, бывало, он Гале жаловался: «Сидит, зануда, не подступишься, кому хочет, тому выписывает. По самым окраинам сегодня послала». У Наташи было все в порядке с родословной, более того, была, по слухам, и жилплощадь, полуторка. И у Борьки комната. Объединятся — двухкомнатная квартира. Для молодоженов роскошно! А все это немаловажно.
Может, он сейчас один? До немоты в теле Гале захотелось в это поверить, но тут же родилась усмешка: в новогоднюю ночь, чего ради? Она поднялась, вяло, в маете душевной, стала спускаться вниз. Вышла во двор. Уставилась в окно на пятом этаже. Оно светилось желто, под цвет штор, вырисовывался контур алоэ в горшочке. Больше ничего. Забралась на снежный, обледенелый холмик, провалилась, ноги неприятно обметала холодная влажность — Галя была в туфельках: сапожки у нее грубоваты, при ее невысоком росте смотрятся колодами. Не обращая внимания на нытье в щиколотках, она долго стояла, задрав голову, смотрела, что там за шторами? Заметила под окном пятого этажа выступик: прокладочка такая между этажами. Мелькнула шальная мысль: пробраться бы по этому выступику и заглянуть в окно… нет, разбить, залезть, нахлестать по щекам, по бесстыжим глазам. В воображении Галя даже проделала этот путь: от окна на лестничной площадке до водосточной трубы, дальше — до окна на кухне, мимо комнаты одинокой бабки, потом двух студентов, наконец, Борькино окно; потянулась к карнизику… оступилась и сорвалась. Даже в коленках захолодало. Не пройти, узенькая полоска, а жаль.
Галя выбралась из снежной кучи, одна туфля, левая, увязла — достала ее, вытряхнула снег, надела, присела на холмик. И вдруг как-то отстраненно увидела себя, сидящую посередине темного двора, беременную, с медведем в руках… Высокие мрачные стены с четырех сторон стали сдавливать, словно бы наступать, падать. Чудовищным, нелепицей высшей показалось, что сейчас за этими самыми стенами люди веселятся, радуются, разбились по клеткам и все враз радуются… Чему?! Празднику? Что такое праздник? Обман какой-то, все обман. И снова подкатились, замутили глаза слезы. Охватил страх, жуткое ощущение ненужности всего, никчемности, отдаленности людей друг от друга. Жалко всех, жалко себя! Зачем родилась? Для чего живет? И еще собирается кого-то произвести на свет, сразу обделенного, безотцовщину! Зачем? Никто никому не нужен, никому она не нужна! Одна! Но как он мог, — разум не постигал, казалось бы, самого простого, — Боря, тот самый человек, который говорил! «Люблю, жить без тебя не могу…» — бросить, предать?! Она же, Галя, для него все: «Да, Боря», «Хорошо, Боря», «Я — как ты». Всю себя отдавала. А может, в том и беда? Чересчур старалась, открытой была, выкладывалась — вот она я, бери. А надо бы наоборот: заставить потрудиться, добыть? Хитрить, на чувствах играть. Не бегать самой, а не являться неделю-другую, пусть затоскует, а потом еще и равнодушие выказать. Глядишь, разгорятся страсти! Да что вздыхать-то — не могла без него. Не могла, и все тут! Бывало, пойдет с подругами на танцы, в кино, парни пристают — познакомься, погуляй немножко, ну хоть чтоб ревность в любимом растревожить — нет же! Противно, на дух никто не нужен. Есть в бригаде парень, которому нравится, замуж зовет. И жилплощадь, между прочим, имеется у него. Нет, чужой. А Боря — свой, родной. И все в нем приятно, даже покрякивающий смех или шутливое «маруха моя». Уперлась в него душа, все помыслы с ним. И ничего особенного нет, внешность самая обыкновенная, правда, высокий, кучерявый. Хватит, надо уйти, порвать эти путы!
Галя решительно встала. Направилась к длинному узкому проходу в глубине двора. Остановилась. А куда она? В общежитие, где вовсю гуляет праздник? Опять глянула вверх на окно — по-прежнему светится ровненько, безмятежно. Резко зашагала обратно, в подъезд.
Да был же с ней Боря счастлив! Было же им хорошо вместе! Стыдно и сладко вспомнить. Даже как-то на работу оба не вышли — не могли расстаться. Тогда за прогул и не влетело: труженица отменная. Она сроду на работу хваткая, разворотливая, а в ту пору все в руках кипело, спорилось: затирает, красит, белит ли — душа вечерним живет, стремится, летит… И с ним то же самое творилось. Не повторится больше такого восторга, праздника ни у нее, ни у него!
Каблучки звонко цокали в тишине по ступенькам, за одной из дверей грянуло дружное «ур-ра!». Бешено, простукивая тело с головы до пят, колотилось сердце. Снова пятый, последний этаж, знакомая массивная, с литой узорчатой ручкой дверь, звонок… и опять в бессилии опустилась на ступеньку. В окне дома напротив люди сидели за столом. Окно на лестничной площадке было створчатым, на шпингалетах. Галя достала пудреницу из кармана, припудрилась, пригладила волосы. Мягко, кошкой сбежала вниз, отдернула шпингалеты, открыла створки, перегнулась через подоконник, скользнула взглядом вдоль стены.
Скинула туфли, пальто, подтянулась, села на подоконник, перекинула ноги по ту сторону, потихоньку, опираясь на руки, нашарила выступ. Немножко мешал живот, повернулась вполоборота. Ясность была, легкость в голове и во всем теле. Первый шажок, щупающий полушажок — не сорвалась. Второй легче…
Как шла — непостижимо! По мановению, безотчетно.
Шторы не просматривались, в просветик сбоку виделась лишь узкая полоска голубоватых обоев да угол телевизора со светящимся экраном. Слышалась песня: «Вы не верьте, что живу я, как в раю…» Галя постучала. Никто не подходил. Постучала еще раз, сильнее. Борькино лицо. Вытянулось. Открыл окно, помог влезть. Попятился, убавил до отказа звук телевизора, как-то приглушенно спросил:
— Ты откуда? Оттуда?
— Ага.
В комнате с ним была совсем не Наташа. Все правильно, Наташа для нормальной благополучной жизни в приличной квартире, а для праздника другая. За столом сидела девушка, точнее сказать женщина, не молоденькая — нога на ногу, платье до пола, на руке колечки блестят, — смотрит с интересом, не то улыбается, не то усмехается. Собой ничего, симпатичная.
— Здесь прошла, что ли? — Борька подошел, выглянул в окно.
— Ага, — опять слабо кивнула Галя. Она почувствовала: дрожь берет и слабость. Присела на стул, напротив женщины.
— С самой лестницы, что ли, шла? — все недоумевал Борька.
— С лестницы.
— Выверты, — ухмыльнулся Борька, закрыл окно, сел на подоконник.- — Ну, что скажешь?
Правой ногой, постукивая по полу, стал отмерять длинные, тягостные секунды. По экрану ходила нарядная певица, крутила на палец длинные бумажные стружки, немо раскрывала большой чувственный рот, резко поворачивала голову, смотрела в упор томными кошачьими глазами. И в напряженную тишину неожиданно втиснулся странный сдавленный смешок. Девушка, женщина эта самая, пыталась рот зажать руками, спряталась в ладошки, не выдержала и откровенно рассмеялась: просто, добродушно даже, заговорила:
— Не обращайте внимания. Господи, что только в голову не придет… Знаете, подумалось, сейчас раз — тук-тук! — и мой орел ненаглядный в окно влетает, — женщина расправила руки, изобразила орла. Потом наполнила фужер вином, протянула Гале:
— Выпейте. — Галя отпила глоточек. Женщина мигнула подбадривающе: — Вот и хорошо, а я пойду.
— Нет, оставайся! — вскочил Борька. — Что я… Она мне… Муж я ей, что ли?! Прилипла, сил никаких нет…
Гале показалось, что ее тут, в комнате, будто бы и нет, а видит и слышит она все издали откуда-то: сидит так незаметненько и видит.
…— А при чем здесь я? — тыкал в грудь пальцем Боря. — Она вот родить собралась, меня хочет заарканить! А что я должен?! В одном считаю виноват: не надо было затягивать! Сеструха давно говорила…
— Нет, Боренька, ты не прав, — прервала его женщина. — Я людей повидала, смотрю сейчас и говорю: попомни меня — пожалеешь ты о ней, покусаешь локоточки…
— Я?! Локоточки?!
Галю не обидело, больше удивило, что Боря чужой женщине про нее говорит так зло. А женщина возрастает, заступается, жалеет ее, но больно уж чересчур, и при этом белозубо, чуть косо улыбается, покачивает головой, отчего дрожат в ушах сережки…
— А где одежда ваша? — обратилась женщина к Гале. — Не в подъезде?
— В подъезде, — подтвердила Галя. Встала, пошла.
На лестничной площадке подобрала мишку, надела пальто, туфли. Глянула на дверь и заскользила неторопливо рукой по перилам вниз.
Потом она шла по праздничному городу, не зная куда; выходила на освещенные, нарядно украшенные улицы; приятно было видеть веселящиеся компании, оживленные лица, разноцветно мигающую елку на площади, шумную ватагу на ледяной горке… Хорошо же все, люди вокруг, — теплилась у нее внутри радость, — хорошо жить, родить мальчика или девочку… Надо, что ли, было все это перенести, перестрадать, чтобы вдруг удивиться жизни и ясно почувствовать — живу!
МЫ ДРУГ ДРУГА ПОНЯЛИ
Поезд наполнялся пассажирами. Среди прочих, заметно выделяясь из людской массы своими внушительными габаритами, вошел молодой мужчина. Обосновался согласно билету в последнем купе вагона, заняв в сидячем положении чуть ли не всю полку. Молодой мужчина только что откушал в привокзальном кафе четыре порции пельменей, сдобрил их рюмочкой коньячку и чувствовал себя прекрасно. Был он, так сказать, в умильно-благодушном расположении духа, к тому же в его толстом кожаном портфеле кое-что лежало. Он возвращался из командировки, цель которой — трата командировочного фонда. Не пришлось нервничать, выпрашивать, вытребовать, рассказан новый столичный анекдот да презентовано одной милой даме полтора килограмма «Сервелата» — сгодится, не последний раз приезжает — вот и все дела. Декабрьская история: за текущий год командировочный фонд полностью не использован, чтоб в следующем не скостили, начальство и разослало гонцов в разные стороны — расходуйте командировочные.
Поезд тронулся. Попутчик напротив, волосатый парень, в обтягивающей потрепанной одежонке, сразу стал читать. Молодой мужчина попытался с ним заговорить, заметив, сколь свободно в их купе. Но парень кивнул в ответ и снова уткнулся в книгу — лохмы свесились, бороденка жидкая торчит, очки, согнулся как стручок. Командированный привык в зимних поездах встречать народ больше деревенский, удивленный, несколько ошарашенный скопищем незнакомых людей, все еще ждущий от городских центров каких-то чудес, и в радости своей склонный шикануть — знай наших! Молодой мужчина поглядел немного в окно, подвинулся, скользнул глазами по купе, кашлянул. Ему все-таки очень хотелось поговорить, рассказать о себе — как хорошо живет! Сразу после окончания финансового института его направили за границу, в Индию. По возвращении он закончил заочно аспирантуру, купил машину, имеет отличную квартиру в Москве, достойных знакомых, объездил почти всю страну, по профессии экономист, а должность такая, что от него все зависят, а он — всего от одного начальника, с которым живет душа в душу. Это всегда впечатляло, и у людей, особенно простецких, менялись глаза, делались уважительнее, и сам он наливался полнокровным ощущением своего счастья, своей удачливости в жизни. Но парень на него не реагировал, читал. Такой попался книголюб! Впрочем, экономист особо не огорчился, вспомнил кое о чем, открыл портфель и, радуясь своей предусмотрительности, достал бутылочку «Экстры» и полиэтиленовый стаканчик. Выпил немножко, налил еще, предложил лохматому. Парень поднял голову, долго и слепо глядел на мужчину — видно, возвращался из высокого нетленного мира поэзии в этот бренный и прозаический, с такими вот толстоздоровыми субъектами. Наконец возвратился, осознал ситуацию и покачал головой. Молодой мужчина взял угодливый философский тон:
— А вот старик Эпикур говаривал: «Нельзя жить приятно, не живя разумно»… Э-э… ну, там что-то еще… и наоборот: «Нельзя жить разумно… не живя приятно». — Фраза произносилась часто, но на этот раз экономист усомнился в ее правильности и несколько сбился.
Художник — молодой мужчина назвал про себя парня так — улыбнулся, согласился с ним и Эпикуром, выпить отказался. И экономист уверенно справился один, опрокинул стаканчик, не крякнул, не скривился, а только вытер губы и чуть запунцовел. Зачем-то счел нужным оправдаться:
— Перед посадкой в кафе у вокзала заходил, три порции пельменей съел, а вина там не продают, — он немного убавил свой рацион. — Хорошие пельмени, ручной работы, намного лучше фабричных. Фабричные хоть как вари — развариваются. А эти все целехонькие. Взять восточные блюда, очень вкусные, но лучше русских пельменей ничего нет. Когда я был в Индии…
И экономист теперь легко, разом выложил всю свою благополучную жизнь. Парень выслушал, в свою очередь вяло, будто нехотя, поведал о себе. Выяснилось: он и не художник вовсе, а театральный бутафор, делает, понимаете ли, пистолеты ненастоящие, фрукты какие-нибудь, корзинки… Такая чудная у человека профессия! Но в самом деле помышляет о поприще художника. И экономист с жаром заговорил о театре, как он недавно был на спектакле и с десятого ряда усмотрел, что яблоки в вазе, кроме одного, которое съел артист, были ненастоящие. Заводил речь и о живописи — об отношении бутафора к Рубенсу. Одна знакомая говорила экономисту, мол, Рубенс сошел бы с ума от восторга, узрев его телеса, и обязательно написал бы его. Удовлетворенный, лег спать. Бутафор, звали его Игорь, хотел еще почитать, но экономист выключил свет. Ночью сильно храпел. Но когда утром старик из соседнего купе заметил ему: «Ну ты, парень, и даешь храпака! Всему вагону спать не давал, громче паровоза», он спокойно ответил: «Неправда, я никогда не храплю».
Бутафор Игорь уже читал. Просто удивительный книголюб! Экономист Сергей даже не выдержал:
— Игорь, ну что ты все читаешь и читаешь?
— А что делать? — пробурчал книголюб.
— По-моему, жизнь надо познавать непосредственно, через общение с окружающей средой.
— Может быть. Но интересно же узнать, как и другие жизнь познали.
— Хорошо. Станешь ты художником, тебе все это пригодится. Интервью дать, туда-сюда, книжку оформить… А если останешься… хе… бутафором?
Игорь пожал плечами и опять закрылся книгой. Сергей тоже полежал с журнальчиком, ближе к обеду отправился в ресторан. Пробыл там долго. Вернувшись, подремал, потом постоял в тамбуре, снова прилег с журнальчиком. Без компанейского общения подступала дорожная маета, утомляло мерное покачивание, перестук колес… Скукота!
И вдруг на одной из станций влетел, даже и не влетел, а сразу завертелся меж полок длинненький, худенький, остроносенький, с маленьким, как бы смятым подбородком парнишка.
— Свободна-а, — звонко, с захлестом резанул он воздух.
Бросил рюкзачок на полку, с ходу выкинул руку:
— Сашка.
— Игорь, — привстал бутафор.
— Сергей, — степенно кивнул экономист.
— Серега, значит. Серега, Игореха, — Сашка лихо взмахнул рукой, — па-а-ашли в ресторан!
Наметанный глаз экономиста прищурился:
— Угощаешь?
— О чем разгово-ор! — Он сильно и звонко растягивал окончание в словах: местный выговор.
— А деньги есть? — улыбался экономист Сергей.
— Деньги-и? Знаешь анекдот? Стоит грузин около слона, подходит к нему интеллигентная такая дамочка, спрашивает: «Вы не подскажете: это мужчина или женщина?» Грузин отвечает. — Сашка выпятил грудь и крутнул над головой ладошкой. — «Это самец!» Дамочка не понимает: «То есть мужчина, да?» — Сашка возмущенно выдвинул правое плечо вперед и снова вскинул руку: — «Ка-акой он мужчина, если у нэго дэнег нэт!»
— Тогда пошли, — засмеялся Сергей.
Бутафор тоже поднялся.
По пути Сашка пояснял:
— Я из дома еду. У меня здесь, в Ирзе, мать с отцом живут. Оба, — он присвистнул, указательный палец по спирали полез вверх, — занимают посты! Дене-ег!.. Счас батя говорит: «Сколько надо: тысяча, две — бери!» А мне зачем? Один живу. В Москве. Счас приеду, отпускных двести получу и получку сто — мне во как хватит!
Около купе проводников он приостановился, заглянул:
— О! Красавица-а!!
— Дурак! — почему-то решила проводница. За поездку она, видно, крепко подустала от ухажеров. — Билет давай сюда!
— Ну что же вы, девушка, — мягко протянул Игорь, — он же от всей души. Вы в самом деле очень красивая.
И девушка смущенно заулыбалась.
— Колхо-оз. Темнота, — С достоинством повернулся Сашка к бутафору. Вытащил билет, отдал проводнице, вздохнул: — Вот за границей едешь, на тебя все проводники смотрят и улыбаются, улыбаются… а которые прямо и расхохочутся. — Сашка вытянул из кармана десятку, — Мы идем поужинать в ресторан, вернусь — чтоб была постель. Последнее купе. Верхняя полка.
Сдачи у проводницы не нашлось, сказала, после отдаст.
В вагоне-ресторане Сашка небрежно, но внимательно просмотрел замусоленное меню, подозвал официантку и повел широким жестом:
— Всем по бутылке и закусь!
В отличие от проводницы официантка о Сашке оказалась иного мнения:
— Какой умник выискался! У нас не больше двухсот грамм вина на человека полагается.
— Смотря кому. Ты меня знаешь, — многозначительно погрозил Сашка пальцем. — Ладно, неси пока по двести. Одна нога здесь, другая там. Мы друг друга поняли.
Официантка не огрызнулась, а игриво царапнула пальчиком по длинненькому Сашкиному носу, ушла и обслужила действительно очень быстро, мало того, принесла больше нормы, две бутылки — у нее тоже был глаз наметан. Тут же подскочила другая, пристала с лотерейными билетами. Экономист Сергей отказался:
— Мы в азартные игры не играем.
— Мы сами москвичи, зачем нам «Москвич»! Выпьем, земеля, — потянулся Сашка к Сергею. — Мы друг друга поняли.
— Поняли, земеля, — Сергей украдкой подмигнул Игорю, — давно в столице?
— Давно. Год. С дембеля ехал, к другу завернул и тормознулся.
— Так ты отслужил уже?
— Все законно. Думал, молодой я? Мне двадцать три. Сохранился просто. Еще призывался не со своим годом. А в Москве — во живу! Общага, каждую неделю простыни меняют, зарплата — сто восемьдесят. Колбасы купил — сыт по горло! Столовка внизу дешевая. Работа у меня ночная, в типографии, все газеты первым читаю! А день свободен! Хожу… по музеям, выставкам, паркам культуры и отдыха… Сначала не знал куда-чего, выйдешь — и как не пришей кобыле хвост. Вконец затуркают. Это как баба одна, ирзянская. Приехала в Москву, шастала по магазинам, шастала, закружилась вся, глядит — столовая. Думает: хоть спокойно поем. Зашла, а там очередища. Ну, подумала баба, буду голодать. Голодовки вроде для желудка полезны.
Сашка говорил громко, и вокруг дружно рассмеялись.
— У меня был случай в командировке…
И потекли витиеватые, полупьяные разговоры, даже Игорь встревал, пытался что-то сказать глобальное о России, но его заглушали тут же два горластых «земляка». Сашка, впрочем, и неторопливого Сергея дослушивать не мог, перебивал, звенел на все лады, не сиделось ему на месте, стол был тесен, лез к соседям, то и дело дергал официантку, требовал дорогих сигарет или вдруг понадобился ему чайник.
— Красивая! — кричал он. — У вас чайник есть?
— Зачем тебе?
— Есть, спрашиваю?
— Есть, но большой, пятилитровый!
— Неси сюда!
— Да зачем тебе?
— Пу-у-ускай стоит! — выпаливал Сашка.
— Орел! — подхваливал его Сергей.
— А ты думал! — ухарил Сашка. — Молодой, а по стенкам хожу!
— Приедем, парни, в Москву, обязательно сходим в ресторан «Прибой». Там цыгане удивительно поют! Истратим три червонца — того стоит!
— Я отпускных двести… семьдесят получу, и зарплату…
Наконец друзья, уже перед самым закрытием, поднялись из-за стола. Бутафор Игорь хотел заплатить за себя отдельно, но Сашка, широкая натура, возмущенно отмахнулся от его денег. В проходе наткнулись на официантку с «лотерейками».
— Измором берет! — тряхнул головой Сашка. — Выдай, красивая, всем присутствующим по билетику! На счастье! — повернулся к Сергею. — От нас, от москвичей!
Вернулись в свой вагон, вышли в тамбур, и тут Сашку стало ломать:
— Что, нормально, да? Порядок! — посмеивался он, похихикивал, подмигивал то одному, то другому. — Вы умные, я дурак! У меня и уши лопухом! Но я вас, между прочим, сразу вычислил!..
— Сашка, ты что? Сашка? — стали унимать его друзья.
— Вы умные, я дурак, — уже взвизгивал Сашка. — Не топила бабка печку, и не шел из трубы дым, затопила бабка печку, и пошел из трубы дым! Вы городские, я деревенский и уши лопухом! — Он с силой хлестнул себя по действительно большим ушам, озлился, дергался, выстреливал словами. — Мы друг друга поняли. Все правильно, морду обухом и вперед! Подлюки! Сколько вас кругом! Я вас сразу вычислил, сидите! Ох-ох, как неприятно пахнет! Жены-девочки, фикельки-микельки, маникюр-педикюр, а у меня мать всю жизнь в сапогах, не в кирзовых, в яловых, в яловых! А почему не уважаем?! Ты че жрешь-то? Уважать надо, уважать! А то сразу — дурак!..
— Что ты развыступался? — не понимал Сергей, пытаясь все перевести в шутку. — Артист нашелся. Комик-самородок. Сейчас скручу и уложу.
— А если каратэ! А? Если каратэ?!
Сергей несколько отступил: черт его знает, маленький, маленький, а вдруг правда «каратэ».
Игорь взял Сашку за плечи, стал удерживать:
— Саша, что ты обиделся? Ну деревенский и деревенский… И хорошо. Никто тебя дураком не считает.
— Кстати, Саша, я жил в Индии и каратэ знаю, — не к месту влез Сергей.
Сашка рванулся и попал в его объятья. Сергей просто хотел удержать, но в возбуждении, видно, перестарался — Сашка крякнул и повис плетью на его руках. Экономист испуганно потряс Сашку. Тот пришел в себя, отскочил:
— Здоровый, да! Бугай! А если бы я каратэ! Если вот так бы — и хлесть головой в окно. Стекло не треснуло, а голова в кровь.
Его отвели в купе, уложили на полку. Сергей намочил полотенце, прикладывал к Сашкиной голове, утешал:
— Вот дурачок, зачем ты так? Как бы ты со мной справился? У нас разные весовые категории. И каратэ я знаю отлично. Приедем в Москву, прямо завтра пойдем в «Прибой». Я угощаю, в долгу не останусь. Там цыгане…
Игорь тоже вставлял какие-то добрые слова и собирался в «Прибой». Сашка плакал, обнимал друзей:
— Братцы, простите… Я… Ну… Мы друг друга поняли!
Поезд прибывал в столицу рано. Пассажиры торопливо сдавали постельное белье, приводили себя в порядок. Сергей позаботился о себе вовремя. У туалета толпилась очередь, а он, уже гладко выбритый, причесанный, сидел и смотрел в окно. Игорь не читал, заметил — Сашка за боковым столиком, таясь, шарится по карманам. Подсел к нему:
— Да, Саш, возьми, — протянул он пятерку. — Чего я буду за твой счет…
— Нет-нет. У меня есть деньги, — торопливо заверил Сашка. — Я пропуск искал. Вот, пропуск.
— Ты не забыл, проводница тебе должна.
Сашка оживился, вскочил, убежал.
Из вагона вышли вразнобой. Первым экономист Сергей, он раньше других отправился в тамбур. Высокий, широкий Сергей сразу выделялся из толпы, и долго не терялась из виду его пыжиковая шапка. Игоря догнал Сашка, заговорил смущенно:
— Это… может, вместе… Мне семь рублей отдала она, два рубля замылила, собака. Ладно. Может… пиво попьем.
— Не могу. Я сюда по делу.
Сашка приостановился, потоптался, кивнул, пожал Игорю руку. Юркнул и сразу затерялся в массе шагающих. Игорь только успел заметить, что курточка на нем не по сезону, маломерка, видно, еще доармейская, а шапчонка солдатская, со следиком от звезды на козырьке. Понравился ему чем-то этот парень, и он пожалел: надо было адрес спросить, что ли… Но тут же успокоил себя: а зачем? И пошел своей дорогой.
Поезд опустел, осиротел. В вагонах копошились одинокие проводники, конечно же, облегченно вздыхали, хотя перед их глазами все стояли, плыли бесконечные лица пассажиров, билеты, простыни, проносились в голове чьи-то требования, недовольства… И лишь вмятые, мягкие, обтянутые дерматином полки еще хранили человеческое тепло.
ФЕДИНА ИСТОРИЯ
По переулку кандыбает Федя-милиционер. Идет, склонившись на правый бок, ковыряет землю черным набалдашником протеза. Попыхивает «Беломором», не торопится, с достоинством, и чуть пренебрежительно кивает встречным.
Живет Федя хорошо: огромный кирпичный дом, полированная мебель, огород с кустами малины, смородины, крыжовника… И все ухожено, уделано, устроено.
Трое маленьких детей в деревне у сестер. «Подрастут — заберу», — рассуждает отец.
«Разжился» Федя, как поговаривают всезнающие соседи, работая в вытрезвителе, когда еще был на обеих ногах; мол, кое-что от пьяниц ему перепало. Кто знает — не проверишь, может, и свои сбережения были. Только появился в переулке невесть откуда крепкий, лысоватый с затылка мужик, работать пошел в милицию, и в одно лето вырастил доми́но. А вскоре вошла в новое жилье молодая хозяйка: юная черноокая красавица из осевших цыган.
Федя злостно устраивал свой быт: возводил постройки, накупал вещи. Тамара, жена его, бесцельно бродила по улицам, часами просиживала у соседей и лузгала семечки. Мужики смотрели как примагниченные и пускали слюну. В ленивой вольной походке, в покачивающихся бедрах, в масленых глазах, крепких белых зубах, пухлых губах, статных ногах была какая-то истома, нега. Как говорится, каждая жилочка в ней играла, жила, как-то тупо и животно манила.
— Не родня она Феде, не родня, — говорили мудрые бабки. — Ей такого жеребчика надо, ой-е-ей! А у ентого уж затылок светится.
Но жили они с Федей, жили, и никто про нее ничего «такого» не слышал. Заметили за Тамарой лишь страсть к мелкому воровству. Однако Федя приложился пару раз и блажь эту выбил: по крайней мере, вещи после ее прихода пропадать перестали. Вообще, помаленьку, потихоньку сумел-таки взять в руки, обуздать безалаберную и распущенную с вида женщину. Стала она и себя носить скромнее и неряшливости поубавилось. Оно и понятно: за Федей Тамара как за каменной стеной. Мужик разобьется в лепешку, а полным достатком обеспечит; сам по себе человек прочный, надежный, пьет умеренно — что еще нужно? Как таким мужиком не дорожить? Не ценить его? Хочешь мягко спать — мягко стели, а гонор свой можно попридержать. И Тамарка старалась…
Принялась рожать одного за другим. Правда, за детьми никак не смотрела и не следила: бегали они как настоящие таборные цыганята — босые и рваные. И тут, как ни бился Федя, как ни заставлял вовремя стирать да штопать, ничего не добился.
Время шло, примелькались Тамаркины прелести, да они как будто и поистерлись. За Федей признали силу, и к милиционеровой семье остыл интерес, живут люди, особо не лаются, обеспечены — нормально живут.
Но… глас народный — глас божий…
Будучи на дежурстве завернул как-то под вечерок, но засветло, Федя домой (к той поре он перешел в автоинспекцию). Подъезжает — у ворот самосвал стоит. А днем еще Федя просил шофера этой самой машины глины завезти. Шевельнулась жутковатая мыслишка, в висках застучала. Проскочил Федя по двору, дернул дверь — заперта! Глянул в окошко — мать моя родная! — почивает его распрекрасная сладким сном на груди у смуглого красавца. Выломал Федя осторожно топориком дверь. Вошел. Взял стул, сел напротив. Закурил. Не просыпаются: притомились, видно, бедняги. А хорошая парочка: молодые, пышнотелые — любо-дорого смотреть. Вдруг Федина ненаглядная, слегка простонав во сне, плечо своего дружка погладила. Этого душа Федина не вынесла, и приставил он папироску к пухленькому ее пальчику. Жена вскрикнула, вскочила. Обмерла. Смотрит, молчит: с мыслями собирается.
— Как спалось? — поинтересовался Федя.
Крик, ор, слезы…
Парень полежал молча, глядя перед собой, проговорил с акцентом:
— Слушай, подай брюки, а?
Федор подал.
Парень под одеялом принялся их натягивать. Женка все надрывалась, орала благим матом: сам он приставать начал, она ничего сделать не смогла, распили магарыч, он уехал, она спать легла, а он вернулся и полез…
В Тамариных словах прослеживалась некоторая несуразица: скажем, удивляло полное отсутствие детей. Но Федя разбираться не стал, затянулся пару раз, стряхнул пепелок, выдавил:
— Приду, чтоб духу твоего не было.
Затушил папиросу, вышел. Сел на мотоцикл, дал газ «на всю катушку», юзанул по куче глины у ворот и умчался.
— Что же ты, гад такой, сказать ему ничего не мог! — налетела Тамара на полюбовника.
— А что я скажу? — резонно заметил тот.
— Сказал бы, не виновата она, силой взял.
— Хе… хе… Он же милиционер. Знаешь сколько за изнасилование дают?
— Уж прямо, судить бы тебя кто стал.
Тамара слезы лить перестала, разлила оставшуюся водку по стаканам.
— А, катись все… — махнула рукой и позвала: — Иди сюда.
Старшина службы ГАИ Федор Иванович Шапошников в это время как угорелый рассекал пространство на мотоцикле «Урал». Обида гоняла его по дорогам, он убегал от нее, срывал ветром, а она, поганая, вцепилась клешнями и тискала сердце.
Проводив милого дружка, Тамарка вздумала было в комнате убраться — передвинула стул, но тут же дело это ей надоело, бросила. «Выжала» последнее из бутылок — набралось с глоток, — выпила. Постояла в задумчивости, пропела: «Е-если бы па-арни всей зе-ем-ли»… — сладко, разнеженно потянулась и легла спать.
Дух Тамаркин к той поре, когда должен был прийти Федя, никуда не исчез, а вот сам Федя отчего-то не появлялся. Утром на пороге вырос его начальник. Тамарка несколько сконфузилась строгого и официального его вида. Зло брало на мужа: разнес уже. Начальник почему-то ей предложил присесть, стараясь быть деликатным, заговорил:
— Вы только не волнуйтесь, ничего страшного не произошло: Федор Иванович в больнице. Ничего опасного, с ногой что-то… Ночью попал в аварию…
Видеть жену Федор в больнице не захотел. Та особо-то не рвалась к нему, не переживала. Распустив свою роскошную черную гриву, шастала, как в прежние времена, по улице, глаза от людей не прятала. Снова поигрывала бедрами, и сметливый Боря Матвеев, известный ходок, унюхав лакомое, помогал ей вечерами поливать огород.
Федя лежал, опоясанный бинтами на больничной койке, вялый и подавленный. Мозг его, словно неисправный насос-поршень, сотни раз прогнал вхолостую одну и ту же картину: его законная жена, на его собственной деревянной кровати… — мозг его выдохся, вымотал силы. Иногда Федор трогал ногу, вернее, то, что от нее осталось. И снова клокотало в голове и — чудовищно, жестоко, несправедливо! — мучительно, как никогда раньше, хотелось обладать женой.
Дни напролет Федя созерцал молча потолок. Лишь однажды не выдержал, пожаловался сестре: «Забелили бы хоть, — показал он глазами вверх, — а то лежи, смотри тут эти круги. Весной, наверное, протекло еще, и дела нет никому».
На весть о приключившейся с братом беде приехали Федины сестры. Они дружно оттаскали Тамарку за волосы. Та собрала вещи, оставила на попечение теток детей, послала из ворот всех Шапошниковых подальше, бросила прощальное: «Живите сами с вашим старым инвалидом!» — и, разъяренная, прекрасная, пошла с чемоданчиком куда глаза глядят.
И заговорили старухи на скамеечках:
— Слышь, Тамарку видела, с представительным таким мужчиной, а сама идет носом клюет — пьянущая-а!
— Полетела под гору, теперича до конца кубарем-кувырком докатится.
— Не диво, что кукушка по чужим гнездам летает, а диво было бы, кабы свое завела.
Старух, стоя кружком, куря и поплевывая в середку, поддерживали мужики.
— Эту… шалаболку вчерась Федину встретил. Идет… с пацанами лет по шестнадцать!
— Теперь скурвится. Кровь-то у ней цыганская, бурная. Это как пиво: забродило, нет газам выхода, оно пробку выбьет и брызгами в разные стороны.
— Хрен ли там говорить! Ее, паскуду, надо за ноги взять, раскрутить да об угол…
Федя зажил один. Ездит иногда в деревню попроведать ребятишек. Так-то о случившемся у него слова не вытянешь. Спрашивают — или отшутится, или просто мимо ушей пропустит. Выпьет, сам бывает, заговорит:
— Как вспомню — так жизни нет… И как я тогда ничего с ними не сделал? Оторопь взяла. Бога мне надо благодарить, а то сыграл бы шутку и сам бы угодил… А так лучше. Жизнь сама расплатится…
И как наворожил. Весной пронесся слух: Тамарке «головенку отрубили». Однако через пару месяцев она объявилась. И в короткий срок Тамару смогло узреть все Заречье — ибо она, специально как на погляденье, устроилась работать кондуктором в автобусе. Сидит на положенном месте, неизменные семечки пощелкивает: черная, припухшая, с запекшимися красными пятнами в левом глазу. Приподнимет голову — алый шрам змейкой по шее ползет.
Оставил метку один странный мужичок: диковатый молчун, худенький, как мальчик. Вырвал он Тамару из разгула и увез в свою деревню. Нрава мужик оказался мнительного и страстного. Узнав худое о жене, припер он ее к стенке, полез в самом буквальном смысле с ножом к горлу, точнее, с опасной бритвой, вытягивая признание в грехе. Тамара, осатанев, выплеснула в лицо всю правду, даже наговорила на себя лишнего. Не сдержался мужичок, остановил желчный поток слов, полоснув бритвой по горлу своей голубе.
Тамарка есть Тамарка — не унывает. Покрикивает, требуя платы, сыплет шуточками. Какой-нибудь мужик наклонится, на ушко, но так, чтоб товарищи его слышали, какую-нибудь присказку выложит. Раскатится кондуктор дурноватым трескучим смехом. Посмеиваются, переглядываясь с ухмылкой, мужики…
Стали, видно, ее тревожить дети. Встретит кого из угреневских, где сестры Федины живут — расспрашивает, всплакнет даже.
И снова бойко летят шаловливые словечки, шуточки. И каждый день одни и те же…
Федя пробовал приводить домой новых хозяек, неизменно через неделю-другую отправлял их восвояси.
— Гнилые, что ли, попадаются, — допекали соседи.
— Ну их к лешему. Одному лучше, — объяснял Федя опять же, когда был нетрезв. — Зачем? Надо так — я на стороне себе найду. У меня же так-то покой, тишина. А она придет — лезет куда не просят. Может, и хорошего желает, а не по мне. Злюсь, как пес.
— За Тамарку отыграться охота, — заметил Егоров, военный в отставке.
— Да ну… Я об ней думать забыл. Может, только счас жизнь хорошую узнал. А то грязь везде, все как попало… Уйдешь на дежурство и издумаешься весь: что там? Как? А теперь заботы нету. И знаю, ребятишки там будут сытые и одетые всегда. Нормально все, хорошо.
Управится Федор за день с хозяйством, а к вечеру идет на работу сторожить столовую на базаре. Заработок какой ни на есть, плюс пенсия по инвалидности. До базара три остановки, но Федя на автобус не садится, неторопливо идет пешком.
А там, у столовой, как на грех, вечно околачиваются цыгане, которые под стать своей кочующей душе нашли работу в «Скот-импорт»: пригоняют из Монголии скот. Отправляются в Монголию ранней весной и приходят с табунами лошадей, отарами овец лишь к осени. Получают неплохие деньги. Однако бабы-цыганки в больших, не по размеру, плиссированных юбках, все равно ловят «погадать» прохожих. Тут же потягивают пиво, блестя зубами из желтого металла, их мужья. А рядом бегают маленькие, оборванные, чумазые дети. Дергаются у Феди уголки губ; очень уж похожи эти бесенята на его детей.
ДЕНЬ И НОЧЬ — СУТКИ ПРОЧЬ
Ох, собаки враз залаяли, подняли гвалт. Знать, ранний прохожий или кошка какая заблудшая. Тяжко как, тревожно как открывать глаза… Горе ты горькое, думушка вечная… Новый день начинается…
У Марии болит голова. Вступает в виски, давит в темечко, простреливает от затылка ко лбу. Толька, муж, до трех часов ночи шумел, бегал, кричал. А встает Мария в полшестого: до работы еще два часа, но надо приготовить завтрак Мишке, сыну. Можно варить и с вечера, но муж повадился скармливать все собакам. Стоит, скажем, суп на плите, вытащит мясо и бросит — пусть жрут, они, дескать, тоже живые. А собак развел целую свору: была сука Найда, приблудился кобель Джек, плодятся! Щенят девать некуда, да и руки не доходят их сбывать. Раньше хоть кроликов держал, так же сами собой плодились на крыше сарая — с тех прок был! А что с собак? Хоть бы сторожили, а то так, все из дома вынеси — не тявкнут, а попусту лают. Жрут да во дворе гадят. «Друг человека!» — кричит муж. Да пусть живут, Мария их даже любит, доведись — жалко было бы и отдать…
Мария умывается, долго мочит, трет виски. Который год уже нет нормального сна. А работы, заботушки-то сколько! Муж не приносит ни копейки, один расход, все хозяйство на ней. А за стеной, в другой половине дома, живут старик-отец с братом, тоже женские руки нужны.
Мария не то чтобы устает, ходит, целый день работает, а в мозгу все проносятся, ворошатся бесконечные, как и в жизни, Толькины крики, шебутня. Голова не сдюживает. Она даже несколько раз пробовала подсыпать мужу в вино «сонного порошка». Подмешивала положенную дозу, потом двойную, тройную — хуже еще, однако, бегает, орет! Что для него это зелье? Толька берет в руки проводки с напряжением в двести двадцать вольт — и ничего, улыбается. На свадьбе у Марииной сестры набил стекла, плясал на нем босой и кричал: «Я ёг!» И в самом деле — ни одного пореза. Босиком же, в одних носках, он может забежать зимой к соседям или после скандала, разгоряченный, голый по пояс, проскакивает вдоль переулка до колодца, добывает ведро ледяной воды и окатывает себя — освежается. Прикрякнет — и обратно! Пацаны в переулке — в лежку от смеха. Или явился с выбитым глазом — знатки глаза нет, кровавый рубец, она ему: «Иди в больницу». Соседи все: «Сходи, Толька, в больницу, останешься косой». А он: «Ну и хрен с ним. Не слепой и ладно, все рулем!» Но через пару дней глаз появился, лишь у самой переносицы оставалось несколько крапинок, а спустя неделю очистился вовсе.
Мария поставила жарить картошку, расчесывает перед зеркалом длинные, тяжелые волосы, заплетает, укладывает венчиком вокруг головы. И удивляется, глядя на себя: на лице нет особой утомленности, оно спокойно, благодушно. Кожа гладкая, чистая, лишь под глазами темные полудужки, не очень заметные. Вообще вид у нее — пышущая здоровьем женщина: в меру полная, с мягкими движениями, розовощекая. Мария немного стыдится того приятного чувства, которое не перестает замечать, пробегает радостью и откликается тоской: она выглядит гораздо моложе своих сорока шести.
За стеной, в отцовской половине дома, громко заиграло радио. Скоро звук приглушается — проснулся Николай, брат.
…Николай с утра ощущает себя кусочком помойки или размазанным по пепельнице окурком. Бывает такое. И часто. Мучает презрение к себе, вчерашнему, брезгливость. Он морщится, стискивает челюсти, утыкается взглядом в пустоту, мысленно повторяет: «Хватит, надо начинать новую жизнь. Что-то надо делать». И тут же вырастает стена: «Что делать? Какую такую новую? Семьи нет, нет и любимого дела…» В свое время долго искал его: закончил одно профтехучилище, другое, техникум, стал работать преподавателем сварочного дела. Старался, отдавал все, что в силах, и потихоньку доходило: не его это занятие. Он многое мог сам, один, но с людьми часто замыкался. С болью отмечал: не всегда умеет точно высказать свои мысли. Порой и сам в них путается. А иногда казалось: доходчиво говорит, верно — а все равно никому не интересно. Не находилось общего языка и с коллегами-преподавателями, удивляло и злило: люди, взявшиеся воспитывать ребят, занимаются склоками, озабочены в основном деньгами, вещами, не гнушаются блатом… Ушел на производство рядовым сварщиком. Здесь было лучше, легче. И заработок больше. Но копилось другое: чувство пустоты, неполноценности затрачиваемого времени. Он и работал как-то отстранение: руки трудятся, а голова живет отдельно. Понималось: и это не его. Иного хотелось. А чего? Чего?! И, притупляя разъедающую душу тоску и боль, постепенно научился оставаться один на один с бутылкой…
Николай потрясает головой, одевается, пьет крепкий чай — рука «варилы» должна быть тверда, — наскоро перекусывает, идет на работу.
На остановке трамвая Николай и Мария часто встречаются, перебрасываются двумя-тремя фразами.
— Что там Майоров-то вчера шумел?
— Не знаешь разве, чего он шумит. Шумит, да и все. К вам-то разве не прибегал?
— Был. Со старика рубль вытягивал.
— Паразит проклятый, никому покоя не дает. Конечно, сам-то он выспится…
Тольке можно спать долго. Спешить некуда. Работает посменно кочегаром, бывает, и вовсе по два-три месяца нигде не работает. Но, видно, сказывается давняя привычка вставать рано или просто неугомонность. Вскакивает. Он не рассуждает, не вспоминает вчерашний день. С похмелья не болеет. Но внутри у него зудит, жжет, куда-то гонит — Тольке надо действовать. Пьет холодную воду, про собак не забывает — бросает что ни попадя съестное — и пулей вылетает из дома, отправляется «мышковать» — искать где что перепадет.
Понаведался к тестю, обежал соседей — без проку. От образовавшейся полной пустоты во времени и пространстве подсел к бабке Горошихе, старухе скупой, богатой, живущей от огорода. Горошиха грелась на утреннем солнышке и шелушила пальцами семечки.
— Слыхала?.. — начал Толька издалека.
— Кого? — выдохнула она басом, и под платком, кажется, дыбором встали уши.
— Зинка-то Перегудова убежала от Петьки.
— Подь она к лешему! У их вить мальчонка большой! Да, када успела-то? Вот как-то видала ее! А вот скажи, ишо вить подумала: неспроста ты, девонька, идешь, задницей крутишь.
— Так там же у ней вона какая! — широко развел руками Толька и загоготал. — БАМ уехала строить!
— Бан? Ишь ты!.. Ухажер оттеля явился, чё ли?
— А кто ее разберет. Петька говорит: «Строить поехала». И капут делов, не будь ослом! — лихо тараторил Толька. — Ты по радио слыхала про БАМ: «Веселей, ребята, выпала нам…»
— К энтим веселым ребятам, чё ли, умахнула? — Закатилась и бабка. — Совсем народ с ума сходит.
— Не говори, — передернул плечами Толька и схватился за голову. — Что делается: пьют-то как! И смотришь — голимая молодежь! Девки, хуже парней, курят, смолят, ой-й-й! Мурысь берет. А в больницу зайди — очере-едь! Все болеют! Кого ни ткни. Химия же кругом, дышать-то нечем. Я так погляжу и думаю: без войны все передохнут!
— Передохнут, передохнут, — закивала старуха. — Уж с молодых-то и взять нечего. А старые-то вон ноне дуреют! Слыхал, старики Дайбовы развелись — уж правнуки у самих! Правда, она, Дайбовых-то, смолоду кака-то гнила была. Но худо-бедно — жизнь-то прожили! Хотя, опять же, эту взял, Степаниху, — придурковата кака-то.
— И нашто мужики баб меняют?! Как будто другая лучше будет. Так хоть привык к одной — шумит, да своя! Всякие, конечно, кобры попадаются. Вот у меня Машка — человек! Простая, как я же.
— Машка-то твоя… Вот мне бог сноху послал…
Толька понял, что у них с бабкой найдется еще много удивительно родственных мыслей, перебил:
— А ты чего ногтями семечки шелушишь?
— Так чем я их?.. — Бабка обнажила одиноко торчащий впереди зуб.
— Вставила бы — и капут делов! Золотые! Они прочные, не портятся! И красивые — блестят!
— Хе-хе, сказанул! На вши, чё ли, я золото возьму?
— Да вон у моей Машки полно в шкафу валяется… эти, монетки царские. С работы придет — сходи, спроси. Крупные такие монеты, побольше нашего рубля. Тяжелые!
— Золотые?!
— Ну, золотые. Червонное золото.
— У Мареи в шкафу?!
— В шкафу, в выдвижном ящичке. С одной стороны — орел, с другой — царь, Николашка. Сверкаю-ут.
— А даст? — Глаза у старухи сделались, как те самые монеты.
— Почему не дать? Все равно без пользы лежат. А тебе перельют их, сделают зубы — щелкай семечки сколь хошь! Все рулем. Я Машке-то скажу, чё их жалеть?
— Ты уж поговори, Натолий, поговори, — запыхиваясь, старается спокойно и жалостливо говорить старуха. — А я тя отблагодарю, в долгу не останусь. Литру-то уж поставлю.
— Да ну, литру-то куда? Там золота-то — тридцать грамм. Ничего не надо. Я ж по-соседски. Ну, когда забегу, стакашек нальешь, и спасибо. Капут делов. Пойду я… Это, у тебя трешки до вечера не найдется? Чего-то хвораю…
Горошиха сносилась в дом.
— На, Натолий, на. Сходи, поправься, — любовно протянула она три рубля. — С Мареей-то не запамятуй…
Хорошо начался у Тольки день! Он шел, и весело было на душе. Не проскакивало и тени горечи за свою жизнь, за утраты.
Когда-то он шоферил. И слыл классным водителем. Говорили: «Если б шоферам, как военным, давали звания, то Майоров бы генерал был». За двадцать лет, несмотря на редкое лихачество, не сделал ни одной аварии. А сел на машину в пятнадцать лет. В классе пятом-шестом учился: убежит, бывало, с занятий, сядет на пригорке и целый день смотрит, как по тракту идут машины. Мать в школу вызывали. Та плакала, всплескивала руками: «Ничем оттель не вытащишь, с ума посходил по этим машинам». А кто такой в ту пору был шофер на Чуйском тракте?! Это сейчас, когда разрослась промышленность, шоферская профессия затерялась среди других. А тогда шофер был то же самое, что моряк в портовом городе. Мечта мальчишек! Толька ударился в эту мечту неистово. Вынудил мать: стала хлопотать, война была, мужиков не хватало, упросила директора кирпичного завода — посадил тот малолетнего Тольку на машину. Больше полгода ездил стажером, видят, парень проворный, хваткий — доверили самому. И уже лет тринадцать, как Толька расстался с машиной. Судьба строила свои уловки. Матерый водитель попал в автомобильную катастрофу, когда сам не был за рулем. Ехал с дружком. Выпили они крепко. Толька и раньше — начнет бузить, не остановишь. Но ему стакан-другой, что слону дробина. Как сейчас хлещет, и то никто не видел, чтобы он хотя бы качался. А дружок старался быть под стать Майорову: пил вровень, не уступил и руль, дескать, мы и сами с усами. И угодил в овраг. Вытащили их обоих едва живых. Дружок в больнице умер, а Толька поднялся на ноги благодаря своему на редкость могучему организму и неуемной бодрости духа. С той поры пьет без меры, без прохода, будто решил посостязаться с природой, доконать, расхлестать вдрызг свое необыкновенное здоровье.
В веселой круговерти проскочили у Тольки два-три часика, и снова образовывался проем. А когда пить было нечего, Толька злился; начинало казаться, что зря упускает в жизни драгоценное время. Он даже немного потаскал уголь с улицы в стайку: давно уже привезли, а переносить все некогда. Вдруг в глубине переулка замаячила рыжая грива Николая.
Николай шел неторопливо, сдержанно. Весь был наполнен происшедшим: он только что подал заявление об увольнении. Сразу с утра Николай получил распоряжение разрезать листовое железо. Дефицитное листовое железо! Разрезать, сделать металлоломом — горит, видите ли, план по утильсырью! Николай, конечно, простой работяга — не суй нос, исполняй, что велят. Но как рука поднимется?! Кому-то оно, это железо, позарез нужно! Николай отказался. Мало того, настоял, чтоб никто не трогал. Но с начальником переругался насмерть. Бесило: как это человек может занимать место руководителя, когда ничем не озабочен, — только бы галочку поставить, спихнуть, отмазаться! А гонору при этом — не подойти, важная персона. Жлоб. И работать с ним, особенно после слов: «Ценил тебя, отмечал, а ты гнидой оказался. Не зря говорят, в тихом омуте черти водятся», — Николай больше не мог.
Дома, в своей комнате, Николай сел на диван, закрыв глаза, откинулся на спинку.
— А ты чего сегодня рано? — тут как тут появился Майоров.
— Да-а… Отработал.
— В «стекляшку» вино привезли «яблочное», светлое. Хватаю-ют!
— Идти неохота, — поморщился Николай: ему не нужна Толькина компания.
— Давай я сбегаю, капут делов, — наседает Майоров. — «Яблочное», не какая-нибудь черноплодка вонючая!
Николай подумал. Полез в карман.
— Давай уж три рубля. Кого одной мараться! — успел вставить Толька. — Две возьму.
— У меня десятка.
— Так разменяю, разменяю. Семь рублей сдачи принесу, и капут делов!
Николай не хотел пить, не собирался. Зачем связался с Майоровым? Просто опять полизывала сердце своим коровьим языком жуткая тоска. И пустота. Сделал шаг, совершил вроде полезное дело — и что? Ну что толку, если он не знает куда себя деть, к чему пристегнуть! Жить, чтобы зарабатывать деньги, вкусно жрать, красиво одеваться или, сделав руки клешнями, побольше грести к себе? Грести — не по нему. А как тогда?! Жениться на первой попавшейся бабешке? Муторно, себя не обманешь, душа слишком долго ждала красивую, влюбленную, удивительную и понимающую женщину. Так что надо ему, для чего рожден?.. Что? Для чего?..
— Вдруг, откуда ни возьмись, появился зашибись! — Влетел чертиком в комнату Толька. Раскинул руки — в каждой по две бутылки. — Все по уму, в расчете? — подает он Николаю тройку. — Капут делов. Все без обмана. Четыре бутылки — три рубля сдачи и пачка сигарет. Дураков нет. Сигареты с фильтром! — В его губах с небрежным достоинством прыгала длинненькая сигаретка.
Булькает вино в стаканы. Пьют. Тольке не сидится, постоянно вскакивает, мечется, бьет себя ладошкой в грудь.
— Жизнь люблю! Машку люблю! Подохну, пусть хоть собакам скормят! Плевать. Пока живой — живу да и все!..
Николай не пытается вслушиваться в Толькины рваные крики. Он почти неподвижен, его забирают свои мысли: текут, бурлят, озаряют. Возбужденная алкоголем голова как бы отыгрывается за бездарно растраченную жизнь, упорно ведет дознание, докапывается до корней. Ты рос болезненным и мечтательным, — говорит она. Ужасно гордым и самолюбивым. Здоровая бурная деревенская жизнь тебя не влекла. Может, отторжение в душу закралось тогда, в шесть лет, когда впервые сел на коня. Ты ехал верхом по деревне и думал: как красив и важен на этом красивом животном, но оказалось, что смешон и нелеп — мерин под тобой выпустил свою плоть. И пацаны у сельпо тыкали в тебя пальцами и гоготали. А один, мордастый и здоровый, схватил прут и хлестнул мерина по самому кончику. Конь взвился, и ты улетел в канаву. Разодрал лицо, ушиб руку. Не плакал. Дошел до дома, убежал на зады, только тогда дал волю слезам. Мелочи всегда имели для тебя большое значение. Не манила и обычная перспектива жениться, наплодить детей, обзавестись хозяйством. Хотелось другого, каких-то свершений, больших дел, высокого служения… Да, Родине, людям!
Но в чем осечка, беда, — продолжала голова свое. Ты не имел понятия, с какой стороны подойти к этому «высокому». Просто грезилось, желалось, думалось: выучишься, повзрослеешь, уедешь в город… А там уж, казалось, и наступит настоящая, истинная жизнь, найдется применение силам. Подсказать, подтолкнуть было некому. Необщительный по природе, ты, лелея тайные мысли, еще пуще замыкался. За все детство был у тебя, пожалуй, всего один друг. Тезка, Колька Мишарин. Почти весь пятый класс вы вместе собирали радиоприемник на аккумуляторном питании. И не собрали. Распалась дружба из-за пустяка. Был сибирский морозный день, вы возвращались из школы. «Понеси мою сумку, — попросил Колька, руки мерзнут, не могу». Ты взял и понес. Теперь нельзя было менять руки, греть поочередно в кармане, обе были заняты. Дошли до мишаринского дома. «Ну, как руки, задубели? — спросил он. И громко рассмеялся. — А у меня вот они, тепленькие». Он вытащил руки из карманов и наглядно пошевелил пальцами в варежках. Ты от обиды не сказал ему ни слова, повернулся и ушел. И потом Колька Мишарин как ни пытался с тобой заговорить, наладить отношения, ты отвечал коротко, сухо и отворачивался — не мог простить, точнее, не мог просто смотреть ему в глаза. Наконец закончил семилетку, приехал в долгожданный город. Но и тут, в городе, люди были заняты теми же заботами, что и в деревне: добыванием средств, бытом… И ты опять оказался в стороне. Бросался в общественные дела, выполнял поручения. Но что-то внутри постоянно одергивало: не важно это для тебя, не нужно, и живешь так согласно давно сложившимся представлениям — это хорошо, положительно.
— …Раньше работал, счас гуляю, как ни живи — все равно! — четко донеслись слова Майорова. — Жизнь, она как шла, так и будет идти, сколько б ни кричали, ни говорили. Все помрем. Никто не знает, как жить! Сколько книг прочел — никто не знает! Все по-своему с ума сходят! Бабами себя дурманят, наркотиками всякими! Машины покупают, золото, хрустали — на хрена это надо! Ум-то, он в наказание, в наказание! Вот его и туманят всякими путями. Испокон веку все только и стремятся одуреть. А лучше по-простому — поднимай!.. Пей, и капут делов.
…Да, прав Майоров, замер стакан в руке у Николая. Куда ни направляй свою жизнь, энергию — вверх, вниз — все равно природа распорядится по-своему. Майоров всю жизнь отшибал себе ум, а ты старался его высветлить — теперь вместе. Впрочем, не лги себе, Николай. Если направленность человеческой жизни не имеет значения, что же тогда тебя мучает, гнетет? Живи куда несет, но тебе такая жизнь тягостна. А если бы раньше ты четко понял хотя бы это — ты одиночка. У тебя есть, есть настоящий, довольно редкий талант: способность к уединенной работе. Ты же действительно рожден для высокого служения делу, но не нашел его. И где-то, может, плачет по тебе большое свершение, крупное открытие. Ты проморгал себя! Но неужто все, поздно?!
— …Слушай стихи мои, мои стихи! — тенью прыгал Толька. — Чуйский тракт я изъездил до дыр… Ых! — деранул он свой чуб. — А теперь отъездил! Отъездил! И хрен с ним! Все рулем. «А мы с милашечкой сидели-и да возле нашего пруда-а…» Ну что, капут делов, кончилось? — Толька вылил последнее в стаканы. — Ну что, слава богу, грех жаловаться, все путем, посидели, поговорили…
Майоров, прижимая локтем припрятанную под мышкой бутылку, убежал в свою половину дома. Сунул бутылку под матрас — припас на вечер. Во внезапном порыве тоски и ясно вспыхнувшей памяти схватил тетрадный лист, пробуровил карандашом по бумаге: «Стихла жара. Кони в поле пасутся». Сломался грифель. Толька скомкал лист, бросил, вскочил — и снова вперед, к дверям. Навстречу с тяжелой сумкой шагнула Мария. А за ней, тыкаясь в сумку мордами, собачья свора.
— У, Маша! Я сегодня уголь маленько потаскал, — невинно развел руками Майоров. — Счас собрался огород поливать. Все по уму.
— Хоть бы уж помолчал. Да пошли вы, пошли… — выгнала Мария собак, прикрывая дверь. — Уголь он таскал. Мужик! От людей уж стыдно. Сколько у ворот ему лежать? Другие хоть пьют, да дело делают.
— Что ты людей слушаешь, Маша! — взвился Толька. — У тебя свои мозги есть, вот и думай! Сама!
Он вдруг замер перед окном: к нему, отмеряя метровые шаги, сворачивала бабка Горошиха.
— Слушай, Маш, ты не знаешь, чё с Горошихой? — соскочил Майоров с крика на шибко недоуменный тон. — Она вроде того, завернулась на своем богатстве. Про золото какое-то ходит баламутит. — Толька попятился, вышел в дверь спиной, понял: разминуться со старухой не удастся, — юркнул в кладовку.
— Ох! — вздохнула бабка Горошиха и присела на сундучок у двери. — Запыхалась чё-то. Здорово, Мария. Ты Натолия-то не видала?
— Видела, — махнула рукой Мария. — Первый раз, что ли? Каждый день, каждый день такой.
— Ничё он тебе не говорил нащет золота?
— Говорил… — пожала Мария неопределенно плечами.
— Ну дак и чё думаешь?
— Не знаю. — Мария остолбенела.
— А че не знать-то? Я не бесплатно, говори цену. А то вить измучилась я совсем, Мария, без зубов. Хлеб исть и то мякиш выковыриваю.
— Мучение, конечно, без зубов. У меня тоже коренной болит, все вырвать собираюсь, да некогда. Так вставить надо зубы. Счас протезы хорошие делают. У нас на работе одна…
— Об чем и речь, девонька. Монетки-то энти продай, если так не хочешь отдать. Кого вам имя делать, все равно валяются. Я бы зубы вставила. Золото, оно, говорят, луче всего для зубов.
Мария как-то потерянно поводила глазами по комнате.
— Ты какие монетки продать просишь?
— Царские, золотые.
Марии стало совсем не по себе — глаза у бабки выкатились, точно как у сумасшедшей.
— Чё мешкаешь? Называй цену — сговоримся, — не терпелось старухе.
— Ты почему их, тетка Лиза, у меня-то просишь? — тихо, ласково проговорила Мария. — Я их, монетки эти, отродясь не видала, какие они есть.
— Как не видала? В шкапчике у вас валяются. Натолий мне сказал.
— Толька тебе говорил?!
— Но. Про Зинку Перегудову ишо сказывал, што от мужика на бан махнула.
— Куда махнула? Сейчас только вместе с работы ехали.
— Трешку дала ему… Одманул, чё ли?!
Мария рассмеялась до слез.
— Подумала бы, подумала: откуда у нас золото? Пальто справить доброе не могу. Ну, паразит проклятый!
Горошиха еще не верила до конца Марии — не хотела верить. А когда уразумела, как-то осела вся, обрыхлела, стала жалко клянчить свои три рубля.
— Ты уж, Марея, верни. Откуль у старухи лишняя копеечка?
Мария помялась немного, отдала. Проводила старуху со двора, прицыкнув на собак: они вообще-то ни на кого не бросаются, лают только. Шла обратно, в сенках пахнуло денатуратом. Открыла кладовку — Толька сидел с бутылкой в руке, на этикетке которой нарисованы череп, крест-накрест и написано: «Осторожно — яд».
— Натакался, паразит! Прятала-прятала! Ноги чем буду натирать?
— У-у, какая гадость, Маша! — брезгливо вытянув лицо, пропел Толька. — Как только алкаши его пьют. Есть же — пьют всегда!
— Глаза твои бесстыжие, старуху обманул! Тройку выманил, а я возвращай! Работаешь, работаешь… — Мария выхватила бутылку, заплакала. — И ведь ничего, не доспивается! Добрый человек перепил маленько, слышишь — умер, а этому…
— Ты отдала, что ли, тройку? Ты почему, Маша, такая дура-то?!
— Уходи с моих глаз, видеть тебя не могу.
— Ты мне, Маша, не указывай! Не указывай. Мужик есть мужик, капут делов! — Толька еще немного покричал в подобном духе и убежал.
Мария сготовила ужин, убиралась в комнате. Подобрала с пола клочок бумаги, развернула, прочла: «Стихла жара. Кони в поле пасутся». Остановилась на миг, и будто с околицы родной, уже полузабытой деревни увидела поле тихим вечером, коней на берегу реки. Вольно, покойно. Давно уж почти вся их большая родня, один за одним, перебрались в город. Поселились на окраине — свой огород, хозяйство, — а все жизнь не та. Хуже ли, лучше ли — кто разберет. Она вздохнула, разгладила, согнула бумажку пополам, положила на этажерку: может, нужная какая запись. Продолжила дела дальше. Пришел их четырнадцатилетний сын Миша; вместе они полили огород, потаскали уголь, пока не стемнело. Умылись, поужинали. Явился Толька, воткнул на полную мощность телевизор, стал носиться от экрана к Марии, пояснять: это, мол, тот-то, а эта такая-то, снималась там-то, получили премии… У Марии слипались глаза, и все артисты казались ей одинаковыми. Удивлялась мужу; столько пьет человек, а все запоминает.
— Маш, Маш, смотри, — дергал за плечо Толька. — Баба корову с левой стороны доит. А глаза-то намазала, итеемать! Быку, наверно, понравиться хочет. Счас, видишь, про деревню все кажут! Про деревню. Про жизнь! Вру-ут!.. На ихнем языке: художественный вымысел. Пять процентов правды нет, все художественный вымысел. — Умолкал на минутку, снова привязывался: — О-о, вот этому Государственную премию дали. А мне опять, видать, не дадут. А то бы уж я побегал в «стекляшку».
— Машка, ты спи. Я тебе не мешаю! — Толька раскупорил принесенную бутылку. — Жизнь люблю, тебя люблю! — захлебывался он. — Сын отличник! Все рулем! Живу — никто не указ! Пил и пить буду. «Пришел солдат в широко по-оле…»
— Да замолчи ты! Можешь замолчать? Выпей быстрее да ложись спать!
— Спать! Спать! Зачем тогда пить? Деньги платить — и спать! Выспаться я бесплатно могу. Ты меня тоже пойми, Маша-а…
Мария ворочается с боку на бок. Зажимает ладонями уши. Она, конечно, притерпелась, привыкла. Раньше могла засыпать и при шуме, а теперь крики мужа, будто удары молотом, отдаются в голове. И в ней самой что-то стало ломаться: всегда была спокойной, ровной. Теперь часто выходит из себя. Бывают минуты, такая ненависть охватывает к Тольке — убила бы. Однажды не сдержалась: ударила его поленом. Муж ринулся на нее, она — к дверям, хотела выскочить. Вдруг разобрала: он не бить ее собирается, а протягивает это полено и подставляет голову: «Еще, Маша, еще». Как-то гладила белье, Толька мельтешил рядом, выпрашивал тройку. Мария замахнулась на него утюгом. Он вырвал утюг, глянул на нее в упор и поставил себе на руку. Она смотрит — молчит муж, улыбается — и недоумевает: когда же успел утюг остыть? А Толька носом втягивает воздух и морщится: «А вонь, Машка, одна, что у свиньи паленой, что у человечины». Маша спохватилась, сдернула утюг и аж замутило — до кости выжжено. Еще пуще зло взяло, но и досада и горечь. Бросилась искать облепиховое масло, перевязывать рану. Он не дался, замотал платком: «На мне все, как на кошке, как на кошке…» Что с таким человеком делать? За что бог ее наказал? Сколько парней ухлестывало, степенных, уважительных: жизнь бы с ними строить да радоваться. Сейчас то про одного слышно, то про другого: семья хорошая, дом — полная чаша. А появился в деревне крепкий чубатый парень в бостоновом костюме, белой рубашке, тут же в этой рубашке полез возиться в моторе, извазюкал всю. Кто-то осудил, посмеялся, а ей отчего-то понравилось. Еще и знакомы не были, увидел — сразу позвал замуж. Люди отговаривали ее: намаешься с ним, шебутной больно. Но Толька же не просто руку предложил — дневал и ночевал у ворот, проходу не давал, записки писал стихами. Отвадить его хотели парни: встретили втроем — всех измолотил, ребро одному сломал. Согласилась, пошла…
— Заходи, Сашка, заходи. Маша, Сашка Катюхин пришел, — уже сквозь дрему слышит голос мужа Мария. И ее прошибает жуть: Саша Катюхин умер полгода назад. — Ну, садись, садись, рассказывай. Пить-то будешь?
Булькает жидкость, слышны чоканья.
— А там вам не подают, что ли? Тогда не пойду туда и не зови. Давай лучше споем. «А мы с милашечкой сидели-и…» Молодец, что зашел.
Мария не знает, что думать: то ли ему мерещится, то ли специально ее пугает. Ей хочется приподняться, заглянуть на кухню, но не может насмелиться; лежит бездыханно, тело онемело..
— Ты чё молчишь-то? Маш, Катюхин-то пришел и молчит. Иди сюда, может, с тобою будет говорить. А выпить — выпил. А, интересуешься, баба твоя как?.. Кому она, паршивка, нужна? Ты… не обидься, я человек прямой. А мы живем… сам видишь. Все рулем. Пошел, что ли? Ну, давай, давай. Будь здоров. Время будет — заходи. Смотри там в оба, не будь ослом…
Марию будоражит, знобит. Стреляет в виски, давит в темечко. Постепенно всю голову сцепляет тугая пелена, кажется, внутри там что-то взбухает, надбровья сводит боль. А когда сон все-таки берет свое, ее снова начинает носить по прошедшему дню: то выныривает искаженное лицо мужа, то снует перед глазами челнок швейной машины, то уже к ней приходит Сашка Катюхин, садится напротив и молчит… А завтра снова на работу, с тяжелющей головой восемь часов будет строчить матрасы, трудиться так, а за ней вся ее бригада, что в конце месяца показатели перепрыгнут, как обычно, за цифру сто. В перерыве кто-нибудь из женщин поделится с ней сокровенным — с ней всегда делятся. Она, может, ничего и не скажет, просто выслушает, если это горе. Улыбнется, если радость, отчего на ее круглых щеках до сих пор образуются ямочки. И мало кто заметит, что Мария часто трогает, потирает виски. После смены пойдет домой и даже не взглянет на свой портрет, который уже несколько лет подряд висит у проходной под надписью «Наши передовики». На следующий день Тольке в ночь на работу. Вечер будет непривычно тихим, спокойным.
Мария вовремя ляжет спать. Но заснуть сразу опять же вряд ли удастся: найдут сами собой привычные думы о семье, о сыне. Для любой матери дитя дорого. Но Миша ребенок долгожданный: родился на девятом году замужества. Единственный. Вся утеха, радость и смысл жизни. И, конечно, самая страшная мысль для Марии: как бы он не ударился в пьянку, когда подрастет, — ничего же с детских лет кроме пьянки не видел. И замкнутый не по годам… Отец, что ли, за него все слова выговорил? Или в дядю? Николай всю жизнь молчун. И что вышло? Не женат до сих пор. Подыскать бы ему невесту хорошую — да к нему разве подступишься! И пьянке тоже поддался. А какой парень был, умница из умниц! Все думали, большим человеком станет. В сердцах она тихонько окликнет лежавшего в той же комнате на диване сына:
— Миша, ты спишь?
— Нет.
— А чего не спишь?
— А ты чего?
— Я-то… Лежу, Миша, думаю: восьмой класс у тебя впереди, экзамены. Учись, старайся. Не дай бог, вырастешь да в бутылочку будешь заглядывать. Самое последнее дело. Смотри на отца — сам не живет и нам не дает.
Марии хочется посоветовать что-то очень нужное, сказать убедительно и веско, но на ум приходят только привычные слова:
— Старайся, пока я на ногах. А то иногда так голова заболит — страшные боли бывают. Вдруг слягу.
— Болит, — бурчит сын, — а сама в больницу не идешь.
— Некогда все. Схожу как-нибудь. Надо сходить, — улыбается она. И боли на время отпускают голову.
Мария вздыхает, счастливо смотрит в полумрак и верит: у сына все будет хорошо. Должно быть хорошо. Ах, собаки вдруг разом грянули. В голове отдалось, заныло как, господи… Ох ты, горе горькое, думушка вечная…
ПОТЕМКИ
Было солнечно, приветливо. У входа на кладбище — на могилки, как здесь говорят, заменяя слово более мягким и как бы любовным — выстроились у входа рядком старухи с аляповатыми бумажными цветочками, калеки, убогенькие с сумками, мешочками, кепками на земле — ждут подаяния. Людно на могилках — родительский день.
Миша приехал накануне. Жил он в областном центре, работал в театре актером, но родной свой город не забывал, может, отвыкнуть просто не успел — наведывался часто. В первый день — радость, веселье. А на второй — на могилки, к матери. Этот второй совпал на сей раз с поминальным праздником. Пошли с ним на могилки, как всегда, отец и дед.
Как водится, подали милостыню, купили немного цветочков у входа, направились широким сквозным проходом дальше. Кладбище — в сосновом бору, земля здесь еще не везде успела просохнуть. Прохладно, потягивает сырой гнилью.
При входе — кресты, памятники, оградки на могилках деревянные, обветшалые, невзрачные; а глубже все железное, мраморное, более замысловатое, броское.
У сосны со скворечником свернули, витиеватыми коридорчиками меж оградок дошли до своей родной могилки с невысоким памятником из литого мрамора, с глубокой узорчатой оградой из металлических прутьев.
Отец Михаила, Анатолий, — он с утра маленько опохмелился — с ходу зашел в оградку, поцеловал портретик на памятнике, выдохнул слезно:
— Здравствуй, Маша!.. Пришли мы…
Дед Макар негромко запричитал:
— Ой, да Марея ты Марея, пошто же ране меня, отца свово, в землю сыру легла?.. Не видишь, что сыночек к тебе твой пришел, не встанешь да не порадуешься…
Мать на фотографии сидела вполоборота, но смотрела прямо, получалось — на сына. Смотрела живо и распахнуто, радуясь будто бы встрече. Лицо вовсе не пятидесятилетней женщины, гладкое, округлое, с ямочками на щеках. Миша знал: фото сделано лет за десять до ее кончины для фабричной Доски почета. Но в том-то и дело, что он всегда помнил мать именно такой — она не менялась. Да и после кончины лежала она со скрещенными на груди руками — «чисто невеста», как старухи говорили. Поэтому, видно, ни он, ни родственники — никто не брал всерьез при жизни жалобы ее на боли в голове. Да и жаловалась она несерьезно как-то, с улыбкой, как на хворь легкую. Щеки, что булочки, в глазах покой бесконечный, на лбу ни морщинки. Кто бы мог затревожиться, заподозрить в человеке тяжкую болезнь? Все тянула, все думала, пройдет, все было неловко обращаться к врачу… Понятно же, почему болит: муж пьет, ночами буянит, а она на работе отбарабанит да домой придет… Как же не болеть ей, голове-то?! А когда пошла-таки к врачу, попросила бюллетень, чтоб маленько отдохнуть, отлежаться дома, недоверчиво отнесся к ней врач. Показалось, цветущая эта женщина хочет заполучить свободные денечки — не дал… Конечно, не мог врач знать, что цветущая женщина, пожалуй, единственный раз за всю жизнь просила бюллетень! А уж о домах отдыха и лечебницах разных и речи не было. Предлагали, конечно, — передовая работница — но как, когда, на что? Дом, хозяйство, ребенок, он то есть, Миша… не оставишь. У мужа забота лишь как бы водку без него всю не вылакали!..
А теперь и он, муж, отец Михаила, стоит перед памятником с фотографией, сжав в руках кепку, с мокротой в желчных испитых глазах… Куда девалась былая ширь в груди и размах?! Осунулся, усох. Люди ждали, поговаривали, мол, всё, сопьется Толька вконец, до пузырей и сына приучит. Но как ни странно, меньше стал отец пить после смерти матери. И в доме у него довольно чисто убрано. Пьет, конечно, все равно крепко, но без прежней удали, лихости. Унывно. Угас как-то… Будто только для нее, жены, и устраивал он еженочные загульные концерты, носился по соседям, углядывая выпивку… Утих. Тоскует…
Что с него спрашивать теперь, какого ответа требовать? Что они оба могут сделать?.. Даже то, что здесь, по сути бессмысленно: «не встанет, не порадуется…» И не услышит, какую радость, печаль принес в душе сын… Хоть что тут делай, не докричишься. Оградка, столбик из литого мрамора, фотография.
Отец жулькнул ладошкой лицо, резко вздохнул, добыл припрятанный меж сосной и памятником веник.
Прибрали могилку, положили на холмик бумажные цветы. Сели втроем на скамеечку. Помолчали. Слева одиноко как-то затерянно гудел Чуйский тракт, откуда-то доносились причитание и плач. Отец достал бутылочку красненькой — раньше, говорят, обходились без этого, но теперь не получается, потому как если не выпить, так что делать? Помолчать остается и уйти. Что-то же должно совершиться! Выпили, помянули. Дед Макар положил на могилку конфеток, печенье, яйцо. Отец хотел немножко и вина полить, дед остановил — не пила покойница.
И вдруг сзади, рядом совсем, зазвучал, словно из земли пророс, высокий жалостливый голос. Запел за упокой. Миша не столь услышал его — почувствовал физически: невидимые будто бы пальцы по спине проехались. Страдание жило в голосе и великое смирение, в забытьи ровно человек о своем давнем и неутешном горе запел.
У шоферской могилки — памятник из трех карданов, врытых в землю так, что средний повыше и к нему приварен руль — у могилки этой стояли две старухи в черном монашеском одеянии. Пела — отпевала, — держа перед собой раскрытую книгу, крупная, осанистая, непохожая вовсе на привычных жалких старушек-богомолок. Товарка же ее была самая обычная для кладбища, худая, скрюченная, с большой торбой в руках.
— Это же, эта, как ее… — как бы спохватываясь, поднялся, опираясь на прутья оградки, дед. — Позвать надо, пускай почитает. Она хорошо читает.
— На черта нужна?! Пусть другим лапшу вешает. Религия — опиум для народа! — влепил тотчас рьяно, перевирая вместе с многочисленными плакатами мудрую мысль великого человека, отец, ярый безбожник. — И не будь ослом!
— Ты тут черта не поминай, ты… грех тут, — затряс руками дед Макар. — Опиум не опиум, а пускай, хуже от того не сделается…
Тем временем старуха закончила, перекрестилась, отбила поклоны. Голос при пении был хрупким, жалобным, а в фигуре ее, в движениях чувствовалась уверенность и просто физическая крепость.
Дед Макар позвал старух. Миша ожидал увидеть в лице отпевальщицы фанатическое исступление, воспаленный взор, но ничего подобного. Упитанное, гладкое, о крупными правильными чертами. Будто прожила эта женщина жизнь не в служении богу, не в отказе от благ мирских, а за добрым, заслуженным мужем.
По-хозяйски, уверенно зашла отпевальщица в оградку, смиренно и мягко спросила имя покойной, встала у изголовья, открыла книгу, наклонив чуть голову, подождала миг, словно к чему-то прислушиваясь. И как бы что-то вспугнуть боясь, начала: «Господи, упокой души рабы твоя…»
Отпевальщица молила, и казалось, ведома ей душа покойной, видит ее и слышит, страдает вместе с ней.
Отец Михаила, шебутной и непоседливый, оторопело глядел перед собой. Дед Макар вовсе ушел весь в себя, лоб собрался в складочки, приоткрылся рот. Скрюченная старуха поначалу вся озиралась настороженно и с неприязнью, видно, не доверяла этим мирским, подвоха боялась, тугости на ухо к божьим словам. Теперь же заледенела словно, даже вроде немного выпрямилась — вот у нее проступило в лице исступление, воспалялся взор. Отпевальщица была для нее, конечно, святой, творила в момент сей божье чудо.
И чудо та действительно творила! Миша замечал, все прочнее поселяется в нем тревога, цепенеет тело. Дивился: что за сила такая в старухе? Что же такое сидит в человеке, способном так привораживать, какая тайна? Добротное, умное, приятное лицо. Но смотреть на него было почему-то неловко. Причем смотреть хотелось, но неловко было. Не по себе делалось: что-то в нем, в лице ее, казалось не так… А что? — непонятно.
Отпевальщица, видно, почувствовала это его особенное внимание. И, как бывает с талантливыми артистами, всколыхнулась, и заговорила в ней самая глубинная печаль. Натянулся голос, стал тонюсеньким, но не надрывался, парил.
И скорбящее это парение расходилось, пронизывало, вкрадывалось в душу, зазывало, утягивало туда, сквозь толщу земли или еще сквозь какую неведомую толщу, к родному человеку, который тут вот, рядом…
И Мише не то представлялась, не то вспоминалась — виделась, словом, мать. Сидела она, улыбаясь, покачивала головой, всё, мол, знаю, работаешь в театре, вот уж, конечно, не думала, не гадала ни петь вроде, ни плясать не горазд был, молчаливый такой, застенчивый, что ж, трудись, раз поглянулось, старайся… И Миша твердил, клялся матери, что сумеет прожить достойно, сделать что-нибудь хорошее на земле, настоящее, иначе зачем же она, мать, тогда и жила, тяжело так жила…
Спало с людей, ушло все житейское, обыденное, остались они перед лицом Души.
Закончила отпевальщица. Дед Макар, просветленный какой-то, оживший, принялся благодарить, слов не находилось, больше кивками, протянул рублевочку, делая руками жесты, дескать, извиняй, что мало. Старуха взяла рубль и сунула его небрежно в кармашек. Прояснились глаза и у отца. Хлопнул он досадливо себя по бокам:
— Эх, бутылку-то уж распили, подать бы вам хоть по маленькой! — Ему искренне хотелось отблагодарить.
Старухи было пошли.
Мише казалось невозможным так просто отпустить отпевальщицу. Слова бы хоть какие добрые ей сказать напоследок, да вечная эта застенчивость — застревали они в горле. А ему бы, актеру, следовало не только здесь, а в толпе огромной догнать ее, пробраться, расспросить. Незнамо о чем и расспросить, но есть же в этом человеке нечто такое, тайна, правда, какая-то своя, непонятная, которая способна пробирать насквозь, вызволять из тлена, из небытия души покойного!
— Извините, это у вас псалтырь? — спросил Миша первое, что на ум пришло.
— Это требник, милый. На разные случаи жизни, когда что потребуется — требник.
— А по-церковнославянски вы в детстве научились читать или уже после?
— Никогда не училась, и никто не учил. Богом дадено.
Лицо старухи было совсем рядом, и Миша уловил, в чем его странность, почему было неловко смотреть — глаза! Спрятавшиеся какие-то глаза, будто с чужого лица.
— Тебе это в интерес, вижу, — говорила отпевальщица сдержанно, но просто. — Расскажу. Двадцать пять лет я умершим служу. А до этого я, милый, шоферкой работала.
Миша невольно глянул на ту, шоферскую, могилку, возле которой он и увидел старух-богомолок.
— Да, мимо шоферов никогда не прохожу, — уловила отпевальщица его взгляд, — всегда остановлюсь, почитаю. Родные они мне. Сама не раз в аварию попадала, и под откос летела, едва жива осталась. Знаю… Дак вот, работала я шоферкой, замужем была, детей уже имела, и вот сделала аборт. А до того уж три аборта было. И приди мне в голову, что я детишек убила. И стала у меня голова болеть — мучилась, а выкинуть детишек из мысли не могла. Положили меня в больницу. Полечили меня, значит, никаких уже вроде болей. И вот назавтра выписываться — и ночью во сне приказ пришел. Кто говорит — не вижу, голос только слышу: иди, говорит, по такому-то адресу, к тебе выйдет человек, спросишь у него книгу, он тебе даст, и ты ходи с ней — мертвым служи. И вот утром встала, пошла — а не идти не могу, тянет. И все было, как сказано. Нашла адрес, вынес человек мне книгу. Открыла — сразу читать стала. С той поры хожу, умершим служу.
В историю с головой и книгой Мише верилось мало. Хотя подкупал этот рассказ про аборты. Ну, может, какие-нибудь невольные хитросплетения фантазии и реальности или еще что-то в этом роде — верующий все-таки человек иного пошиба.
— Ты пенсию-то какую получаешь, нет? — поинтересовался дед Макар.
— Есть пенсия, как же. Да я ее не получаю, на детей перевела. И дом им отдала. У меня ничего нет. Езжу, как цыганка. Сейчас вот к этой старушке, — указала она на стоявшую в сторонке товарку, — поеду в Турочак. На самолете полетим. Поживу у нее маленько, после еще куда… Птички небесные не сеют, не жнут, и бог их питает.
— А муж твой где? Сашка-то? Ты ведь с Сашкой жила?
Про себя старуха говорила с охотой, про мужа, Сашку, ответила коротко и сухо:
— Где — не знаю. Люди в Горном видели. Спился совсем…
— Он и здесь-то, глядишь, всё пьяненький.
— Это который Сашка-то, — встрял отец. — Ненормальненький-то? Который на могилках все время побирался?
— Он, — смиренно кивнула старуха.
— Так ты от него детей родила?
— Дети от первого мужа… — опустила голову отпевальщица, прекращая не туда поехавший разговор.
Судьба старухи Мишу поразила: шоферка, служение мертвым, муж дурачок-пьяница… А сама — теперь он вовсе хорошо рассмотрел, — была не просто хорошенькой в молодости, а красавицей редкой! Да еще горделивая, и с умом… Она и сейчас старуха видная, ее старит-то монашеский обряд, оденься по-другому — в пожилые только можно будет определить!
— Поете вы хорошо, трогает, — проговорил смущенно Миша; ему хотелось сказать теплее, признательнее.
И тут старуху стал покидать покой. Встрепенулась вся, как ни сдерживалась. Глаза!.. Глаза ее словно выпрыгнули из заперти, забегали, заискрились огоньками-цветиками! И слова начали вылетать порывисто, суетливо:
— С малых лет пою. И когда шоферкой работала, в самодеятельности пела. Всякие песни люблю. «Бьется в тесной печурке огонь…» — попыталась вывести она, но получилось плохо, дрожал голос. Снова начала и опять сбилась. Лицо захлопотало. И не в силах подавить волнение, судорожно улыбаясь, старуха вдруг пошла, пошла как-то стыдливо, бочком. И все повторяла:
— Всякие песни люблю, всякие… Пойду, старушка меня заждалась. Сейчас на самолете полетим, я ездить люблю… Птички небесные…
Старуха с торбой смотрела недоуменно, опешив — больно возбужденная, расхристанная шла к ней товарка.
— Птичка, птичка, а от рубля не отказалась, — засмеялся отец. — Подать бы им по маленькой ради праздника, все бы веселей старухам было. Говорил — две бутылки брать!
— Они, наверно, не пьют, — заметил Миша.
— Ха-ха, нынче только столб не пьет — наклониться не может, не здесь об этом будет сказано.
— Чего об ем, об рубле, говорить, — проворчал негромко дед, — сколь попусту тратим, так…
Родственники уходили с кладбища. Миша уносил в себе ощущение встречи с матерью. Но не выходила из головы и старуха-отпевальщица. Чувство такое обсасывало и, как камень в ботинке при ходьбе, мешало, будто сделал он чего-то непристойное. Внезапное это смятение отпевальщицы не давало покоя. Не ждал он его, не хотел! Неужто то, что признали талант, преклонились — выбило отпевальщицу из себя?! Восторженные глаза старух — дело привычное. А тут молодой, нездешний по виду, откуда-то о т т у д а парень повержен! Конечно, наверняка жило в ней ощущение — для чего-то большего предназначена, которое где-то т а м… Или что-то другое вовсе задело? Может, это всего лишь его, человека из театральной среды, где желание понравиться нередко у людей отшибает мозги, — всего лишь его рассужденья? А есть нечто такое, чего он и в расчет взять сейчас не способен? Почему случился тот странный слом в жизни — шоферка стала монашенкой? По рассказу выходит, грех душу отяготил, замолить его надо было. Но если так, вряд ли в четырех абортах вся греховность! Шофер Чуйского тракта, красавица, певунья, сильная и со страстью, среди мужиков всегда находилась — да каких мужиков! Лихих, крутых — шоферов Чуйского тракта! Из-за нее же тут бог знает что творилось — и дрались, и резались! И не здесь ли собака зарыта? Двадцать пять лет назад, по словам старухи, бросилась она в религию. Привыкла легко покорять, быть в центре, и вдруг на тебе — неумолимые годы, возраст. И стала чаще и чаще замечать — не бросается уже за ней какой-нибудь парень-орел сломя голову! Другая в королевах. А нет орла — пусть будет убогенький!.. И ломанула себя, судьбу свою. И не сдерживаемая ли годами молодость, жажда жизни только что дала о себе знать?!
— Дед! — Мишу обожгла новая догадка, да такая, что вздрогнул и остановился. — А как ее зовут?
— Кого?
— Ну старуху эту, отпевальщицу?
— Не вспомню счас… Памяти ниче не стало.
Пришла Мише мысль — а не та ли она и есть, старуха эта, шоферка Рая, из-за которой и погиб в известной песне «самый отчаянный парень Колька Снегирев»? Не так уж много было на Чуйском тракте шоферов-девушек, тем паче красивых!.. Только у кого бы про это узнать, кто помнит?
— А ты разве ране ее не видал? — продолжал дед. — Она, однако, и на похоронах у Марии была… Или не была? Но мужика-то ее должен знать. Он-то был. Он ко всем на поминки ходит, не пропускает. Такой черный, лохматый.
Мише припомнилось землистое лицо с конвульсивным оскалом, с шапкой черных волос, не то кудрявых, не то нечесаных и скатавшихся за годы. Когда Миша впервые увидел этюд Иванова «Голова раба», поразило именно это сходство раба со знакомым убогим, с Сашкой то есть.
— Бать, ты же должен знать, шоферил тоже…
— Так я тогда где жил — в Майме. А она, видать, здесь… В войну-то много баб по Чуйскому ездило… Она же старая, была бы помоложе, я еще, может, и приметил где!
— Я тоже знаю ее токо, когда она стала читать ходить. Но Сашка-то, помню, сказывал, что шоферила она, муж у ней был как вроде начальник…
Мелькнула судьба и ошарашила неохватностью!.. Чем ее измерить и как понять?..
— Ну, а что случилось-то с ней, со старухой? — пытался услышать хоть какой-то ответ старших Миша. — Шоферкой работала и вдруг по могилкам стала ходить?
— Кто жа ее… — вздохнул дед. — Чужая душа, говорят, потемки.
«Потемки» — согласился мысленно внук, но не успокаивался. И в темной судьбе старухи-отпевальщицы открывалась великая ясность и свет. В том правда, что служит она мертвым во истину, что после ее плача там, на могиле матери — на месте, которое никак вроде не располагает к жизни — захотелось жить, дела делать добрые, большие, лучше быть! Жить!..
— А ходит, сынка, и пускай ходит! — проговорил легко отец. — Почитала, рубль отдали — ей хорошо, и мы мать помянули. Все по уму. Поет хорошо — и спасибо ей.
ВЕСНОЮ
Не работалось. В голове квелость, мысли шарятся редкие, короткие, не ухватишь, ускользают, зато желания, мечты неопределенные сами лезут, раздуваются, полонят ум. Весна, видно, виной: бередит, навевает смуту, притупляет охоту к делам-занятиям. И проступает усталость, скука собственной повседневности. Четвертый год учится Иван, считается на курсе перспективным, а это что-то требует от человека, сил, напряжения… Поступил в институт сразу после армии, помощи почти никакой, подрабатывает, грузит хлеб ночами. Поначалу вывески писал, плакаты, витрины оформлял, потом бросил — лучше грузить.
Вот решил в конкурсе на проект Дома быта поучаствовать. Себя попробовать: была уверенность, что уже сегодня не только готовый архитектор, но и может заткнуть за пояс кое-кого из маститых. Ну, и не худо бы, конечно, отхватить восемьсот рублей — столько сулит первая премия. К морю бы летом съездил, приоделся бы — крепко пообносился, хиппарь поневоле. Но мечты, мечты… а дело ни с места, ничего путного в голову не лезет.
Иван положил фломастер, взял, в надежде чтением настроиться на трудовой лад, журнал с рассказом известного писателя. Рассказ был о девочке, которая полюбила довольно взрослого человека, женатого. Она даже не полюбила, может быть, а прильнула душой, нафантазировала, что ли, этого человека, любовь свою. Так или иначе, девочка выходила очень симпатичной, обворожительной в своей юной импульсивности и даже, если так можно выразиться, женско-детском эгоизме. Эта история с первой же страницы показалась Ивану нарочитой. Ну что это такое?! Сколько вот он, Иван, живет, парень вроде не из последних, а никто к нему не являлся с небес, не влюблялся с бухты-барахты. А как откроешь книгу, так вот оно, юное окрыленное создание, хлопает огромными глазами, которые так и источают пылкие чувства! У Хемингуэя, кстати, таких полно. Нет, у Ивана тоже бывало: привяжется какая-нибудь — или сразу видно, дура, или смотреть не на что, или… окажется, она со всеми такая. А в целом рассказ все-таки тронул, как ни противился Иван, а затосковал по свежим весенним чувствам, по любви, которая грезилась какими-то киношными кадрами на берегу моря, среди цветов… Да, шестнадцатилетняя еще способна к чистым открытым искренним чувствам. А дальше? Нынешние акселератки быстро понимают что к чему.
Иван снова взялся было за работу, вдруг щелкнула и погасла лампочка. Он посидел в полумраке, прикинул: как быть? Настольная лампа давно без лампочки. Спросить у соседей? (Иван снимал комнату в коммунальной квартире.) Лучше сходить и купить, пока универмаг не закрыт — хоть по улице прогуляется!
Было начало марта, тепло пришло раннее, днем вовсю капало с крыш, но не отжившая еще зима улучала момент, наведывалась с темнотой, сыпала большие белые хлопья, которые падали и смешивались на тротуарах с водянистой снежной кашицей.
Иван пошел по проезжей дороге — меньше слякоти. После захламленной комнаты и утомительных попыток работы свежий воздух бодрил, радовал, и Иван рассуждал про себя, что по природе он лодырь и больше всяких дел ему нравится, скажем, болтаться по городу, думать о чем попало… И странно это — живет он достаточно целенаправленно и немало трудится.
— Простите, держитесь, ради бога, поближе к обочине, — обращаясь вроде к нему, пропорхал — именно так воспринялось — голосок. Заботливая девушка, почти девочка, была невысокой, худенькой, в руке сумочка и большое сотворенное из дюралюминиевого ободка сердечко. И снова где-то под высоким куполом зазвенел колокольчик:
— Тут поворот, машины выносятся, как угорелые. А сейчас скользко!
— Уговорили, пойду ближе к обочине, — заулыбался Иван.
— А вы студент? Да? И еще немного подрабатываете, да?
— Да, — Иван вгляделся: не знакомая ли? Кажется, нет.
— А сами не местный? Не отсюда?
— Это что, все так сразу по мне заметно?
— Я угадала, да? — В глазах сплошной интерес.
— Да, но… Не понял. В чем фокус?
— Никакого фокуса, — рассмеялась она: колокольчиков под куполом добавилось, — я всегда про всех угадываю. И могу сразу характер человека определить и чего он хочет в жизни.
— Даже чего хочет! Вот мне бы как раз не мешало определить — чего я хочу?.. — Ивана уже крепко удивляла эта «чуда», как он про себя ее назвал.
— Вы? — Она пристально посмотрела, чуть задрала голову, продолжала: — Вы прежде всего человек бодрого духа, веселый — это хотя бы видно уже потому, что походка у вас пружинистая, энергичная.
Иван усмехнулся: знала бы, какая у него иногда бывает походка.
— Правда, вы грустите часто: просто вы человек чувствительный и все близко принимаете к сердцу, — тогда вы бываете ужасно вялым. Но это временно. Вы уверены в себе, независимы — недаром у вас такие размашистые, вольные движения. Но раньше, в детстве, вы таким не были. Вы были застенчивым, стеснительным, но вы самолюбивы, горды и сами себя сделали таким, какой есть… Я правильно говорю?
— Вроде…
— А вам интересно?
— А как вы думаете?
— Конечно. Всем про себя интересно слушать. Для вас мало имеет значения быт, условия, в которых вы живете. Главное — дело. Вы можете многого добиться, но мешает, что вы хорошо делаете лишь интересное вам. К тому же вы непоседливый, горячий и, кажется, не всегда считаетесь с окружающими… Верно я угадала?
— Просто сбит с толку. — Он и в самом деле был озадачен.
Надо же, только встретились, познакомиться не успели, давай характеризовать. И в общем точно. Какая открытость и непосредственность! Прямо живой родничок льется. Правда, все-таки чересчур легко и запросто входит в контакт.
— Вы, наверное, в конторе ясновидящих работаете? — попытался шутить Иван. Показал на дюралюминиевое сердечко. — А это что, оракул?
— Это мне мальчишка из моей бригады сделал и подарил.
— Из вашей бригады?!
— Да. Вы, наверное, думали, что я маленькая еще. Сколько подумали мне лет?
— Шестнадцать, семнадцать.
— Хм. Не-ет. Мне осенью уже девятнадцать будет, — вздохнула она.
— Ну! Вы в расцвете сил. Я по сравнению дед, четвертную отмотал. Двадцать пять, — зачем-то набавил Иван себе год.
— Так это же мало! Для мужчины ерунда. Вы даже не в расцвете сил.
— Для мужчины, может быть. Но для человека… Добрые люди уже успевали дел понаворотить.
— И вы успеете. Сейчас время другое, информации много, надо ее переработать. Двадцать пять лет… Раньше солдаты только в армии столько служили, а потом еще семьи заводили. Вы обязательно что-нибудь сделаете, добьетесь, надо только неустанно работать.
— Хорошо, — рассмеялся Иван. — Буду неустанно работать. — Он хоть и смеялся, но в глубине что-то подспудное шевельнулось, отнеслось серьезно к ее словам.
Незаметно подошли к универмагу.
— Мне сюда, — остановился Иван. — Лампочка в комнате перегорела, а без света как-то скучно. Но… — Иван засуетился. — Может, вам тоже нужна лампочка?
— Нет. Я подожду здесь.
— Правда?
— Конечно. Только мы до сих пор не познакомились.
— Иван. — Он не мог без гордости называть свое имя. — Можно Ваня, Ванька. И переходим на «ты». Идет?
— Ива-ан! Как здорово!.. Хм. А меня зовут противно. Если имя мое вам… тебе не понравится, я не разонравлюсь?..
Это «не разонравлюсь» жаром в его теле отдалось. Странно как-то, он ведь ничего такого…
— Нет, ни капли.
— Валя.
— Красивое имя!
— Тебе нравится? Ну пусть.
Он нырнул в магазинную сутолоку — праздник на носу. Закрутился в толпе, спеша найти нужный отдел. У кассы очередь. Не стоялось. Чудеса какие-то, первый раз такое, распирает всего, в голове кавардак — это же… слов нет, прямо материализация его мечты! Вот он здесь, в очереди, а всей душой, руками, ногами там, с ней: стоит она сейчас, немножечко расстроенная, ежится, отчего погончики на клетчатом пальто топорщатся коромыселками, ее тоже одолевает радостный непокой, удивление, в волнении она даже причмокивает губами, вся живет встречей с ним… Впереди стоящую цепочку людей словно застопорило, и Иван испытывал сильное желание давануть ее грудью. Не выдержал, предупредив очередных, что вернется, помчался к выходу, кого-то зацепил по пути, крутнулся на ходу юлой, прижал руку к сердцу, склонился: извините — и дальше! Увидел ее еще через стеклянные, шаркающие туда-сюда двери. Она стояла почти так, как он и представлял: плечики поджаты, на сомкнутых руках висит сумочка и сердечко… Только спокойней. И скучала, кажется… Он сдержанно пошел обратно. Снова с кем-то столкнулся, на него закричали, бросил походя: «Берегите нервы». Это самое, вспыхнувшее, переполнявшее его, уменьшилось в размерах, поугасло. А чего, собственно, распрыгался? Ну, милая, обаятельная девочка, подкупает хрупкостью, открытостью, естеством видимым. С интуицией. Хотя, если вдуматься, никакой особой проницательности в ней нет — действуют простота и наивность. А еще весна и настроение. Да разве он не встречал подобных — сколько угодно! И красивей и задорней! И если постараться отбросить собственные надумы — всегда он что-то этакое в людях видеть хочет, усложняет все — ситуация такова: девушка идет одна, кто-то ей подарил сердечко металлическое, собственное сердце расшевелено, уже чего-то хочется, а тут весна, первое тепло, вечер, предпраздничный ажиотаж, может, праздник провести не с кем, в компании с новым кавалером появиться приятно, вдруг парень топает рядом, видок терпимый — отчего бы не познакомиться! На то пошло, внешность ее не каждого растревожит, лишь, так сказать, душу романтическую, впечатлительную или такого мозгодуя, как он — тут она верно угадала человека. Самое смешное, она теперь и дальше, против своей воли даже, будет пытаться остаться такой, какой он ее увидел. Ничего. Легкую, блуждающую улыбку (загадочную), грусть в глазах (след жизненных испытаний), грудь колесом, вальяжная разболтанность — и вперед. Ну, Валюша, Валя, Валентина!
Иван уже с покупкой, склонив голову набок, ловко спрыгнул со ступенек.
— Что, заскучала тут? Прости, лампочки во всем виноваты и очередь, — легко выпорхнула у него фраза.
— Нет, — смущенно улыбнулась Валя. — Мне одной редко бывает скучно. Я думала.
— Даже так! Тогда все прекрасно. Пошли. А о чем думала, если не секрет?
— Обо всем и ни о чем. Так… Лезет в голову. Ты когда пошел, я заметила шрам у тебя, — с переносицы на щеку у Ивана сползал легкий шрам, след падения в детстве, — представила, как ты дрался, а потом я рядом оказалась… Тебя это ножом?
— У, какие страсти! — Ему очень не хотелось разбивать ее иллюзии: драка, нож, он немножко герой. — Так, пустяки…
— А тебе идет. Делает лицо мужественным.
— Так я специально себя украсил, ну, вроде я индеец.
— Я серьезно. А куда мы идем?
— Куда глаза глядят. А глядят они… на гастроном.
— Тебе надо купить покушать?
— Как тебе сказать, — засмеялся Иван, прищурив левый глаз. — Вот что я думаю, зачем нам дожидаться праздника, к чему условности? Три дня туда, три дня сюда, какая разница. Тем паче, на праздник я собираюсь домой, матери обещал, — получалось у него довольно бойко, улыбчиво, но все-таки натужно. — Предлагаю: давай праздновать прямо сейчас.
— Прямо сейчас? Давай.
Иван внезапно умолк. Одно из двух: или она идиотка, или… Если сам он не спятил.
По дороге домой он непрестанно балабонил, занимал спутницу. Крепко подустал от своей веселости. Тяготила невнятица всего этого мероприятия — к чему оно движется. Казалось бы: на ночь глядя девушка идет к незнакомому парню, в руках у него бутылка — что тут непонятного? Но он видел перед собой такие ясные глаза, трогающие ямочки на щеках, слышал детский заливистый смех — и терялся.
Наконец, все пытаясь выглядеть обаятельным, особенным или каким там еще, он проговорил: «Вот и моя келья». И дальше, вкручивая лампочку в настольную лампу, плел: «Живу затворником, человеческая нога тут ступает редко, поэтому беспорядок страшный… Прости уж… Но, на мой взгляд, это все оболочка, содержание в другом, главное, чтоб не было хаоса внутри…» Суетясь, помог ей снять пальто, не без удовольствия отметил, при всей хрупкости она вовсе не угловата, наоборот, как говорится, все на месте, по-девичьи округлено, ладно скроено.
Иван собрал со стола бумаги, закинул на шкаф, схватил стаканы и полетел мыть. Вернулся — Валя составляла на полку лежавшие грудой на окне книги. Заметил: вечно скомканное покрывало на кровати аккуратно натянуто. Это ему понравилось. Валя закончила с книгами, попросила веник. Потом она подметала, а он стоял и смотрел. И залюбовался очертаниями ее тела, чуть вытянутыми, с долей той редкой одухотворяющей неправильности. И вдруг понял: все-таки такого не бывало, родной она кажется! Представил себя, грубоватого, жесткого, чернявого, и ее рядом, легкую, светлую, в белом свадебном уборе. И губы поплыли в глуповатой улыбке! «Жена… Хозяйка… Я женюсь на ней!» Он шагнул, тронул, провел рукой по ее плечу, осторожно потянул к себе, поцеловал. Она подалась, прильнула, потом уткнулась лицом ему в грудь, проговорила: «Я совсем не умею целоваться». И будто что хлестануло его, больно, наперекос всему телу — она же умеет, умеет! Он все может понять, ему бы все равно, ему плевать на это! Но зачем же врать-то?! Зачем ломать комедию?! Он же о ней совсем другое думает! А-а… Ладно. Какая, впрочем, разница. Он поцеловал ее еще раз. Умеет!
Потом был полумрак — настольная лампа за шторой, вино; она, правда, почти не пила, пригубляла. Были шелестящие разговоры непонятно о чем, вовремя выпрыгнули пара анекдотиков, начались даже фантазии вслух о будущем, построенном по его проекту Доме быта, несомненно, уникальнейшем сооружении. Перескочила беседа на литературу, подвернулся, кстати, на ум Гессе — хотя при чем тут Гессе! И Иван, конечно, внутренне морщился, чувствуя себя отчасти тем типом, каких терпеть не мог. Но дело надо вести в нужное русло. Наконец была гитара, умел маленько бренчать. Валя слушала хорошо, живо, сущий камертон — то замрет, глаза округлятся, то задрожит вся бисерным смехом, зрачки запотеют от восторга. Подхватывала вовремя:
— А мне песни, певцы наши, даже самые хорошие, не очень нравятся. Есть в них какая-то скованность, ненужная правильность. Как они ни стараются быть свободными, непосредственными — не то. Люблю негритянских певцов или, скажем, кубинских. Они раскрепощены полностью. Живут песней. Вообще мне хочется на Кубу. Смотрю по телевизору — здорово там, люди бодрые все, энергичные, каждому вздоху радуются…
Валя положила голову ему на колени.
— Почему мне так хорошо с тобой?
Иван склонился к ней, сжал в ладонях ее лицо, поцеловал…
— Неужели я скоро буду жена, выйду замуж… Так рано… — прошептала она.
Иван замер. Разве он сказал ей что… Только думал. Припомнилось столь же странное: «Я тебе не разонравлюсь…» Чертовщина какая-то! Может, она в самом деле невинна, принимает все за чистую монету, живет в другом измерении? Тогда… он женится. Конечно. Все в порядке.
— Ты же меня не обманешь? — Она как будто подслушала его мысли. — Нет, что я… Нет, я знаю, милый.
Его обдало теплом и тут же передернуло, отозвалось неприязнью. С ним же подобное было!.. Этот светлый, ломкий, бьющийся на грани смеха и плача голосок… И словно кто-то одернул его, мелькнула та, почему-то въевшаяся в память женщина, девочка на вид. Дело было еще на первом курсе. У дружка на квартире собралась праздничная компания. Выпили, завязались разговоры об архитектуре, литературе, искусстве. Последнее слово всегда оставалось за одним холеным красавцем, ироничным, с написанным на лице сознанием, что он знает в этой жизни истину, суть которой на поверку не мудрена: все вокруг дешевка, варвары, быдло, а он один бог страдания и мысли. Впоследствии Иван таких полно встречал, кроме улыбки, они уже ничего не вызывали. Но тогда он только пришел из армии, родом из деревни, заело: что этот хлюст знает, видел, нюхал? И не то чтоб по простоте душевной, с умыслом, прицепился к парню, взял за грудки. Ну и с того — а телом красавец дородный, с раскаченными бицепсами — величавый дух быстро слетел. Вступилась жена. Отвела Ивана в сторонку, стала говорить о муже, какой он необыкновенный, хороший, а если иногда показушный и высокомерный, то это внешне, виной тому, мол, ранимость, закомплексованность. Поведала, как он нежен с матерью, с ней самой. И чувствовалось: больно человеку, что не поняли любимого, не так истолковали, обидели… Вся она дышала любовью к мужу, была полна обожания. Иван слушал и чуть не плакал от раскаяния, хотелось упасть на колени — перед ее сильной необъятной любовью свои чувства казались мелочными и ничтожными! А утром выяснилось, что это и есть та самая «замужненькая», с которой давно уже встречался дружок…
Теперь Ивану захотелось смеяться над собой — что он опять выдумывает, фантазирует?! Ну какая, к лешему, любовь! Трепология, которую он разводил, а она слушала. Не она, а он наивный! Дурак попросту!
— Хм, — усмехнулась Валя. Иван подумал: над ним. И сейчас скажет: «Разыграла я тебя», — но услышал иное:
— Знаешь, я хоть работаю и вся семья на мне — папа и два старших брата, мамы у нас нет, — все меня считают совсем маленькой.
Иван вдруг устал, повернулся, лег на спину. До тусклости в мозгу устал. Что-то лопнуло в нем, как мыльный пузырь: раз! — и нету. Пустота. Бесконечная пустота. Вот куда завел этот весенний вечер. И тоска такая — не продыхнуть. Тоска…
— Валя, — позвал он тихо и спокойно. — Скажи, ты в самом деле веришь в серьезность всего этого, в искренность?
— Чего этого?
— Ну… наших отношений.
Она коснулась щекой его плеча.
— Не знаю… Не совсем. А иногда совсем.
Долго молчали.
— Пойду я… — едва слышно проговорила она.
— Останься.
— Пойду. Дома ждут.
Снова тишина, лишь далекий гул машин за окном.
— Останься.
— Н-нет, — голос ее вовсе ослаб, — проводи меня…
Падал редкий снег. Мерно хрустели под ногами подстывшие хрупья наледи. Они шли пустынной ночной улочкой. Шли и напряженно искали слова, запропастившиеся куда-то, исчезнувшие слова, искали простые нормальные слова…
На праздник Иван приехал домой, говорил матери, что встретил, кажется, нужную девушку. А вернулся и не пошел к ней. Закрутили учеба, дела, конкурсная работа… Но главное, пожалуй, все-таки не в этом. Как-то не тянуло. Думалось иногда, с тоской даже, грустью, но не тянуло. Что-то, видно, изжило себя.
НЕ ХУЖЕ ЛЮДЕЙ
Слава богу, прошел дождь: дорогу размыло, и теперь ни машин, ни людей… Вон и мост показался. Ефим протопает по нему, пройдет вдоль села, а там и дом. Обойти бы деревню задами, незаметно, огородами, чтоб никто не попался на пути и не пристал бы с расспросами, запереться бы в бане, лечь на полок лицом к стенке и уснуть… «Чавк… Чавк…» — отдается в голове. Ботинки новые, а насквозь промокли. Хорошо бы сейчас в сапогах-то, да оставил их Ефим в городе, в уборной за унитазом.
Ездил Ефим к дочери: летом на каникулы она не приезжала — куда-то на картошку посылали, зимой тоже не была — в соревнованиях каких-то участвовала. Вот и решил Ефим съездить, попроведать, отвезти грибочков солененьких, маслица, медку, варенья из клубники. Добрался до училищного общежития, а там словно обушком по голове тюкнули: больше года, говорят, как Трофимова не учится, бросила, где теперь — неизвестно. Не то чтоб белый свет перевернулся или жить Ефиму после этого расхотелось, просто шарахнуло как-то, придавило. Куда идти? Где искать ее в большом городе? Тут в одном-то доме людей живет больше, чем у них во всей деревне. Пошел в училище: там тоже ничего не знали, посоветовали обратиться в справочное. Отправился на вокзал — справочное было там. В затею верилось мало. Однако — на удивление — добрая женщина в окошечке через час, как обещала, вручила бумажку с адресом. Оставил Ефим сумку в камере хранения и поехал к дочери. Плутал часа два, наконец разыскал нужный дом, квартиру, позвонил. Вышла оплывшая старуха и, узнав в чем дело, понесла на него:
— Два месяца, как ушла и не выписалась, а тут плати за нее. Было б здоровье, к начальнику ихнему пошла б…
Ефим все-таки выяснил: работает дочь в ресторане «Центральный», официанткой. Доехать туда можно, как он понял, на этом, который с рогами ходит.
В ресторан Ефим сразу не решился войти. Во-первых, могут не пустить, во-вторых, он знал: туда карман широкий нужен да и одежда культурная. А тут — здрасте, приперся Ваня в кирзухах. И дочери неудобно, и самому посмешищем быть неохота. Поотирался в толпе у двери, на которой висела табличка «Мест нет», осмотрелся малость. Один волосатый парень в тесных не по размеру штанах совал этому, который за дверьми стоит, две пятерки. Тот, по всему видать — начальник, не брал. Обтянутый добавил еще рублишко. Начальник взял, ушел куда-то внутрь, вернулся и подал вроде незаметно что-то завернутое в газетку. Ефим сообразил — водка, и подсчитал про себя: ну, пусть пол-литра стоит восемь, ладно девять рублей, и то пару рублей лишку. Живут, однако…
В нерешительности и ожидании прошелся вдоль огромных стеклянных окон. В узкие просветы между шторами видно было плохо: мелькнет погон, часть лица, рука с бокалом, женские волосы… Решил в ресторан не заходить, дождаться закрытия. Потом взволновался: вдруг еще дверь есть? Или не одна дочь выйдет, а то, может, и не работает здесь вовсе — зря простоишь.
Тут Ефим и совершил поступок, от которого потом коробило: пошел в обувной магазин и купил черные ботинки за двенадцать рублей. В общественном туалете переобулся, брюки водой огладил, подчистил пиджачок, зализал ладошкой волосы и чин чинарем двинулся к дочери. Как ни жалко было сапог, деваться некуда — не переться же в ресторан с кирзой в руках.
Несмотря на обновленный вид, начальник у двери, ответив на просьбу Ефима, что «после семи у всех дочери в ресторане работают», не впускал. Тогда Ефим догадался назвать фамилию и имя дочери. И тот, подозрительно выспросив откуда, зачем, разрешил пройти, но при этом заметил для чего-то: «Смотри, чтоб без фокусов».
Стоял несусветный шум. Дочь шла навстречу, будто по воде. Она и не она. Городская вся, чужая… Подошла, губами шевелит, улыбнуться силится… Ефим даже взмок.
— Ты, что ли?.. Людка?..
И потом, когда ехали вместе на вокзал за сумкой и шли на ее квартиру, Ефим отделаться не мог от ощущения: чужая, и все тут.
В прихожей Люда попросила отца подождать. Ефим стоял, привыкая к обстановке, собирался с мыслями. За дверью что-то стукнуло, зазвенела посуда. Видно, дочь наводила порядок. Когда вошел, в комнате все-таки было неприбрано: пол грязный, кровать едва прикрыта одеялом, на тумбочке пудра, еще какие-то штуковины и почему-то электробритва.
— Сменщица заболела, работаю каждый день, без выходных, прибраться некогда, — объясняла Люда.
Ефим сел на стул.
— Ты, наверно, голодный?
— Сытее некуда…
Она принялась собирать на стол: мельтешила, нервничала, отцу в глаза не глядела.
Ефим сидел, смотрел на пустые бутылки под кроватью: целая батарея разных размеров, одна, с краю, недопитая, и рядом с ней несколько стопочек, видно, они-то и зазвенели, когда Ефим в прихожей стоял. У самой стены валялся мужской носок. Этот носок особенно покоробил Ефима.
…Когда Людке было уже пять лет, пришли они с бабкой Настасьей на покос, принесли Ефиму молока, лепешек. Тогда еще колхоз был, косили все вместе, вручную. Закончили ряд, присели перекусить. Откуда-то взялась газета, хлеб, что ли, у кого был завернут. И Люда попросила эту газету почитать. Все засмеялись, а бабка Настасья говорит: «Дайте, дайте». Люда — ну, клоп еще — взяла газету и вслух прочла все заголовки. Подивила деревню, а больше других Ефима. Когда научилась? С тех пор и шла слава о Люде, как о девочке умной и способной. Она эту славу оправдывала: училась хорошо, в медучилище сразу поступила, другие по нескольку раз ездят…
— Вот что, значит, вышло… — заговорил Ефим из своих дум.
— Что вышло?
— То и вышло… — Ефим помолчал. — В гулянку, значит, ударилась. Та-а-ак… Ну и… сладкая она, гулянка-то? Учиться-то, конечно, тяжельше…
— Да я тут в пять раз больше зарабатываю.
— Видел, как вы зарабатываете… Не в деньгах дело! Не в деньгах!
Ефим не мог найти нужных слов, они вертелись на языке и ускользали, и он заговорил обо всем сразу:
— Ро́стили, ро́стили!.. Думали!.. А ты… Надеялись, приедешь домой, работать будешь! Там мать убивается: «Как доченька родная, да что с ней?» А ты… сидишь, расфуфырилась, как Фекла-дурочка. Стыд смотреть! — Вдруг неуютно стало в ботинках, хоть вроде и не жмут — шевельнул, пальцами, убрал ноги под стул, но и там неловко. Тоже «культурный!» На зиму глядя обнову справил! Тьфу, да и только! — Эх, Людка, Людка, — вздохнул Ефим, потушив гнев. — И че мы такие? Все себя стесняемся. Изо всех сил пыхтим, лишь бы не подумали, что мы лапти. На что это? Какая ж ты ладная-то была! Косички, платье как платье — любо-дорого смотреть. Что, думаешь, лучше с чужими волосьями-то?
— Какая разница, с какими человек волосами?
— А та, что узнать тебя не могу! Старая какая-то стала. Ты о матери подумай! Что я ей скажу! На всю деревню трезвоним: Люда, Люда! Учится она! Умница! Нагордиться не можем!
— Так ты что, переживаешь: хвастаться нечем будет? — Люда уже не прятала лица.
Ефим на секунду растерялся.
— У меня и без тебя есть чем похвастать! Вот за это переживаю. — Он ткнул пальцем под кровать. — Носки хоть бы убрала. Бутылок-то на трех мужиков напито! Для этого мы тебя ро́стили, последнюю копейку отрывали?!
— Это ты последнюю копейку отрывал?! — неожиданно зло перебила дочь. — Да я хуже всех в училище одевалась! Пошлешь двадцать рублей в месяц и сидишь там, нагордиться не можешь! Ты попробуй, проживи на них… Одни сапоги семьдесят рублей стоят! А приехала сюда — в обносках! Последняя копейка!.. Чем я хуже людей?!
— Спасибо, доченька, на добром слове. Вот не ожидал… Что ты по городским равняешься? У них один-два, а вас пятеро. Всем надо. Чем могли, тем и помогали. Голодная не была. Продукты слали…
— На них не оденешься!
— Дались тебе эти одежды.
— Есть же у вас деньги. Чего прибедняться? Сама книжку видела.
— Книжку… За тобой еще двое, тоже учиться хотят. Старшие еще на ноги не встали. Левка строиться затеял. Надо помочь? Надо! А ты форсить! Не о форсе время думать, об учебе. Выучись, тогда и…
Люда стояла у окна, смотрела на отца. Жалкий. Далекий и жалкий. Ничегошеньки не знает, ничего не видел, думает, все просто: трудись, расти детей. Как жук, весь век в земле проковырялся…
— Выучись! Вот я и выучилась… Сам-то чего не учился? Был бы сейчас профессором, так и я бы училась. Не здесь, а в Москве где-нибудь!
— Мне не до учения было…
— Другим тоже, наверное, было нелегко.
Все правильно. Стал же Федя Томашов полковником, хоть без отца и матери рос. Иван Брагин — директор завода. А он кто такой, Ефим? В селе, правда, с ним считаются, уважают, грамот много, и благодарности объявляют. Да кто их нынче ценит, грамоты и благодарности… Но если… Если Ефиму больше всего нравилось дома, в родной деревне, знал он там все и всех! Жизнь целую хлебу отдал. Дед и прадед жили на этой же земле!
— Что за времена пошли… Ну неграмотный я, плохой, но отец же?.. Мать дома, сестры, братья… А ты не спросишь, как они там? Думаем же мы о тебе, худо-бедно — вырастили…
Люда молчала. Ефим не злился на нее. Было горько.
— Так ты меня считаешь виноватым? — спросил наконец Ефим.
— В чем?
— В том, что… Ты как думаешь-то… Правильная твоя жизнь?
— Ничего я не думаю… давай спать.
…Люда считалась в деревне красивой, в городе же почувствовала себя неуклюжей. Там она была в центре, тут оказалась на обочине. И оттого ее угнетало какое-то непроходящее чувство скованности и неполноценности. Девочки вечерами на танцах, а она… Другое дело — одеться бы по-городскому, да так, чтобы пройтись по «броду» и все бы оглядывались! Ей ведь есть на что надеть-то. Тогда и душа раскрепостится, и себя покажет. Мальчики нынче простоватых-то не жалуют. Один раз, правда, худенький конопатый парнишка сказал ей, что она красивая, засветился при этом всеми своими конопушками и больше не подходил. А ей хотелось любить! Не такого, конечно, — красивого, сильного, умного, городского, — какого, может, и рядом-то нет, он где-то там, далеко, но он обязательно придет, иначе быть не может, иначе несправедливо! И дождалась: джинсовый костюм, гуцульские усы, длинные черные волосы. Люда увидела его в коридоре — высокого, стройного, с сумкой через плечо. Он руководил эстрадным ансамблем училища.
…Приближался праздник. Люда купила голубое платье, подкоротила, сколь было возможно, — ноги стройные, есть что показать. Примерила перед зеркалом — красота; распустила волосы, подвела ресницы — хоть в кино показывай. Туфли бы на платформе, беленькие. А цены кусаются. Выход нашелся внезапно — на стадионе, во время соревнований, в раздевалке. Там и увидела, там и мысль пришла, там и решилась. Нет, никогда бы Люда этого не сделала! Нет! Но… Надо! У н и х много, о н и еще купят…
А потом был праздник, ее праздник! Слишком долго она ждала, чтобы отдать его кому-то, слишком много перенесла! Конечно, ОН не мог ее не заметить!
После вечера пошли они с Андреем — так звали руководителя ансамбля — к Мишке, у которого собралась целая компания. За столом Люда выдала себя с головой: предложили раков к пиву, а она отказалась: «Моргую». От волнения, что ли, родное слово выскочило. Кто-то засмеялся: «Моргую — это брезгую, да?» Андрей вступился: «Милое слово, очень милое». Потом они сидели у окна, Андрей потянул ее к себе за локоточек и поцеловал… не поцеловал даже, губами коснулся. «Я люблю тебя», — едва не вырвалось у Люды, но она вовремя сдержалась, поняла: еще рано, а душа заходилась в трепетном восторге. Потом… Что же было потом? Много пили… Мишка готовил коктейли, Андрей играл на гитаре… Что еще?.. Как в тумане. Никогда в жизни Люда так много не пила, никогда не была столь счастлива.
Ночью она проснулась: от выпитого разламывалась голова… Чужой дом, чужая постель, рядом… Мишка… Почему-то Мишка?!
С Мишкой они встречались еще полгода. Парнем он оказался в общем-то неплохим: предлагал зарегистрироваться, Люда не захотела. Может, зря… Когда бросила учиться, Мишка пристроил ее в ресторан.
И пошло-поехало…
Отец проснулся рано, посидел безмолвно на кровати, поднялся, стараясь не шуметь, оделся, осторожно толкнул Люду в плечо:
— Поехал я.
— Чего?
— Поехал, говорю.
— Совсем, что ли?
— Ну.
Говорили шепотом, будто в комнате спал еще кто-то.
— Пожил бы.
— Домой надо. Чё тут?..
— Передавай привет… Как-нибудь там уж объясни…
— Ты… Это… От старухи-то выпишись.
— От какой стару… А-а. Выпишусь.
— Ну ладно, пошел я. Это… Может, домой приедешь… Пиши… Ну, пошел я.
Люда достает из тумбочки альбом с фотографиями. Вот ей лет шесть, она сидит на траве, платьице ровненько расстилается полукругом, а в ручонке букетик с ромашками… Здесь постарше, стоит у школьной калитки, ножка выдвинута вперед, руки в карманах пальто, а из рукава беспомощно свисают варежки на тесемочках… «Господи», — шепчет Люда, и чувства ее будоражатся новым воспоминанием.
…Мишкин брат сидит на кухне, тычет вилкой в макароны на столе и внимательно, жуткими своими глазами смотрит на нее. «Влюбился, что ли?» — спрашивает Люда. «Нет, — отвечает он. — Просто подумалось, что когда-то ты была маленьким, хорошеньким ребенком и тебя мать купала, а отец, сам еще не мытый после работы, стоял за спиной и смотрел через ее плечо». Отчего эти слова засели в памяти? Как же это так? Она уже плачет, не сдерживаясь, навзрыд, тянется к пачке сигарет…
А вечером ничего. Вечером хорошо. Поддадут с Ленкой, та возьмет гитару и споет:
А потом идешь по улице шатаешься, И от слез ты на прохожих натыкаешься, Ах, какое дело вам, что творится в сердце дам, Все равно себя я дешево продам…Конечно, какой-нибудь Андрей назовет песенку «жлобской». Но заскребет от нее на сердце, опьянит тоской, захочется встать, развести руками и крикнуть: «А лети все к черту!» Ленок кончит петь, подольет в стаканы и скажет: «Один раз живем, Людка! Один и помирать!» Голос у нее низкий, хриплый, что-то страстное есть во всем ее облике, удалое! И красиво у нее все это получается! Безбоязненно, вольно, широко!
Ефим открыл калитку, прошел вдоль двора и, проворчав: «Плашку не могут положить», — тщательно оскреб о скобу у приступка ботинки, поднялся на крыльцо и, будто о чем-то вспомнив, остановился. Уткнулся взглядом в низ двери: «Ишь чё, ногами открывают…» Постоял так, оглядел двор, скользнул взглядом по дороге, вздохнул и вошел в дом.
ТРЕХДНЕВКИ
Макар покрякивает, покашливает — укладывается в постель. Старая, с высокими литыми спинками кровать отвечает ему в тон поскрипыванием.
— Видать, уж конец недалеко, ломота во всем теле. К весне дело-то. Растительность всякую она оживляет, а старых телег, навроде меня, прибирает к рукам.
— Ну чё ж, весной-то помирать лучше, — рассуждает Клавдия, которая моет посуду после вечернего чая. — Все людям копать легче, а зимой-то подолби ее!..
— Энто так, — соглашается Макар. — Тут артиста вчерась ли, позавчерась ли показывали, семьдесят пять годов ему сполнилось — мне ровня, а вот скажи — по виду он мне токо в сыновья годный.
— Так чё же, он тама-ка изработался за жисть-то? Шибко-то, поди, не горбатился. Это ты всю жизнь за лошадями ходил, топтанный имя перетоптанный. Хозяйство какое было, детей сколь вырастил, войну прошел, а теперича ишо тутока, в этой кочегарке, сколь сажи наглотался?!
Клавдия присаживается на табуретку, кладет маленькие желтоватые руки на колени.
— Тебе-то, Макар, чё говорить… Хоть на могилку есть кому прийти. А я-то ить одна буду лежать, и попроведовать некому. Если Женька када приедет, может, придет.
— Женька придет, — подхватывает Макар. — Мать у ей, царство ей небесное, золото была, и она девка хорошая. Умная. Не забудет. А моих-то, однако, не дождесся. Вот если бы я им бутылку оттеля подавал, тада бы спасу не было: и дневали, и ночевали бы на могиле.
Через каждые три дня Клавдия приходит к Макару. Живет она в доме-интернате для престарелых. Как старухе здоровой, полагается ей там работать. Моет Клавдия посуду на кухне, и смена ее длится три дня. Отдых — тоже три, и на эти дни Клавдия отпрашивается и идет к Макару, своему зятю, мужу покойной сестры. Состирнет чего надо, помоет полы и снова возвращается к себе в «богадельню». Своей семьи у нее нет. Был, правда, муж когда-то, но так давно и так недолго, что она и помнит его смутно: сразу после свадьбы сгорел на тракторе. Нянчилась с ребятишками братьев и сестер, потом племянников — так и прожила жизнь по родне, своего угла не завела и детей своих, кормильцев, не заимела. Вот и пришлось на старости лет искать приюта у государства.
С устройством еще сколь канители вышло: хлопотать ходить, документы оформлять некому — сама-то она знать не знала, ведать не ведала, в какие двери ткнуться. В собесе насчет пенсии сунулась было, так извелась вся и ушла ни с чем — по кабинетам туркали-туркали, а потом говорят: платят только тем, кто нянькой в чужих людях работал, а свои — сами должны заботиться. Должны, да спрос с них гладок — с рук спихнуть, в дом престарелых определить и то никто не хочет. Спасибо, бог послал Женю, племянницу, — приехала девчонка на каникулы. Ей бы отдохнуть, на речке покупаться, по лесу походить, а она бумажки бегает собирает. Одно слово — грамотный человек, добилась, пристроили Клавдию к месту.
Когда умерла сестра Лиза и Макар с Николаем, сыном-бобылем, остались одни в доме, Клавдия стала приходить и помогать им по хозяйству. В ту пору жила она в няньках у чужих люден и впервые получала за это деньги. Макар предложил ей перебраться: «Чё мотаться, живи здесь, места хватит».
Клавдия обошла товарок, поделилась:
— Зовет зять, прямо не знаю, чё делать. В няньках и кормят, и поят, и десять рублей платят…
— Иди к Макару и не думай, — советовали старухи. — Оно хоть нонче на своих надежи нету, а на чужих подавно. Все одно ходишь стряпаешь да обстирываешь.
Клавдии чего перебираться: манатки — пара платьев, кофтишка да пальтишко, подарки — обноски родственников — всегда у сестры лежали. Нечего и перебираться — встала да пошла.
Но дети Макара взбеленились. Николай сразу же отделился: поставил в комнате электроплитку и сам себе готовил. Пьяный, понятное дело, ни за что не брался, жил голодом. Он и раньше угнетал отца угрюмостью — молчит, будто обиду на сердце носит, а теперь и вовсе смотреть на него перестал: чужак чужаком жил в родительском доме.
Старшая дочь Дарья, тихая, спокойная, хоть внаружу недовольство не выказывала, тоже, видно, против была: забегать к отцу стала совсем редко, а когда речь ненароком заходила о Клавдии, глаза прятала и слова побыстрей пробрасывала.
А младшая, Надька, та напрямик высказалась:
— Жениться, что ли, на родной материной сестре хочешь? Чего с ума сходить?!
Макар пробовал объяснить:
— Какой там жениться? А кто рубаху состирнет, исть сготовит?! Иль мне на старости лет в грязи зарастать и голодным ходить? От вас-то, однако, не шибко дождесся подмоги. Как мать померла, ни разу ишо никто из вас не пришел пол помыть или постирать. Опеть же она, старуха. Пущай живет, хватит тоже по чужим людям-то шляться. Не объест, поди?
— Не смеши людей! — упирала на свое Надька.
— Уж как вы смешите, однако, не пересмешишь! Пьете каждый день, деретесь… — Макар тоже было разошелся, но дочь налетела на Клавдию:
— А ты что? Смерти сестры обрадовалась?! Место ее быстрей занять хочешь?!
— Пошто мне радоваться? — недоумевала Клавдия. — Ниче она мне, покойница, плохого не сделала. Не ндравится, чё ли, што я тутока живу? Уйду, чё ж.
— Вот и давай.
Плакала Клавдия редко, только когда умирали или уезжали родные, — не впускала ругань и обиду ее душа, а тут словно нарушилось что-то внутри нее, и она едва сдержала слезы на Надькиных словах, однако смолчала.
Сердцем отошла у старой подруги Натальи — посудачили с ней о Надьке с Николаем, заодно и Макару досталось: не может в отцовские руки непутевых взять. Наталья посоветовала уйти в недавно открывшийся дом престарелых. Не в первый раз и не от одной Натальи слышала Клавдия этот совет, но все не принимала его всерьез, казалось, обойдется как-нибудь, найдутся люди — пригреют. И вдруг стало ясно: пришло время.
А выплакалась Клавдия через месяц, когда приехала Женя.
— Жила-жила, ро́стила-ро́стила, а теперича не нужна никому — в обузу всем. Как же енто так, а? Доча?..
Три дня без Клавдии тянутся долго. Нестерпимо долго. Одиноко больно. Особенно зимой. И на лавке не посидишь, и на улку не поглядишь, а в замерзшее окно ничего не видно. Да смотреть не на что — на затеевские зеленые ворота, что ли? Пенсию Макар заработал в колхозе, а потом, переехав в город, еще лет двенадцать трудился в кочегарке при гараже. Трудно стало ночами не спать, да и ходить туда, до гаража, не ближний свет — оставил работу. Но каждую зиму зовут его на помощь. На Новый ли год, в февральский ли праздник кто-нибудь да забывает про топку, и трубы размораживает. Виновника увольняют, а кочегар не инженер, не обойдешься — бегут к Макару, человеку надежному. Неделю-другую Макар работает, всего-то и развлечение — уголек маленько побросать, с шоферами словом обмолвиться, а приятно, что помнят, нужен. Однако ночью тяжело: глаза сами собой слипаются и ноги стынут.
…Посидит старик на сундучке, потянет неторопливо самокрутку, полежит на кровати, сходит в уборную без всякой нужды. И валенки подшиты… Была бы скотина какая — все уход бы требовался. Думал боровка купить, да пораскинул мозгами — чем кормить? Картошку нынче не садили. Говорил Николаю, чтоб землю под пашню у себя в организации взял, но тот не пошевелился. Комбикорм не достанешь, а хлебом — пенсии не хватит.
Тысячу дум за день передумает, а попробуй найти конец или начало, иль середину сыскать — не получится. Хотя так-то, как ни крути, как ни верти, об одном они — о родных детях, о нескладной их жизни, будь они неладны.
Минула трехдневка, и раненько утром появилась Клавдия. Вошла, как всегда, неслышно — больно уж легка на ногу — и, не снимая плюшевой великоватой дохи, сразу к нему, Макару, в боковушку за камельком. Дыхнула холодом, сунула руку за полу, вытащила конверт, подала старику.
— Читай-ка, от Жени получила, зовет меня…
Мало чем была Клавдия одарена от природы: ни собой не взяла, ни рукодельем, ни расторопностью не вышла. Но один дар, редкий, но мало ценимый дар у нее был: она умела любить и служить ближним. И вот, может, впервые ей ответили тем же, и на обыденном, привычном ко всему лице ее ожили, светясь тихими лучиками, глаза.
Макар, в нательном белье и в валенках, подсел к окну, отставил письмо на вытянутую руку, щурясь, долго смотрел на листок и шевелил губами.
— Ну и как думаешь?
— А чё думать-то? Зовет ить. Держит меня, что ли, кто здесь-ка? Семеро по лавкам у меня? Хватит, нажилась я в этой тюрьме. Лопоть, какая есть, соберу в узелок да поеду. А ты-то чё думаешь?
— А то думаю, что и думать нечего, — рубанул Макар. — У самой то болит, это болит, ну и как сляжешь, и будет она, девчонка, разрываться: за дитем смотри и за тобой ходи. Мужика ее ишо не знаем, как он на это дело глянет. Людей изведешь и сама изведешься! И живи по-тома-ка там — раньше времени-то все равно не помрешь. И могила на чужбине будет.
Клавдия сидела на кровати неподвижно, поджав губы.
— Чё мне могилка-то, — заговорила она после некоторого молчания, — земля везде одинаковая. А здесе-ка оставаться… тожить… Кому я шибко нужна? За инвалидами убирать антиресу мало.
— Но, как хочешь. Токо мое слово такое: неча людям жисть портить! Переработалась ты там, чё ли? Перемыла посуденку — и гуляй себе. Кино кажут, сыта, обута, при месте — чего ишо надо?! На том скажи спасибо!
Клавдия сидела, крутила каемку полушалка. Макар, покрякивая, побрел на кухню.
— Не знаешь, где у меня табак? — спросил он оттуда. — В пачках я брал.
— Эвона! А на голанку в тот раз кого клал сушиться! Пошарь-ка сверху-то…
И Макар в который раз удивился Клавдии: ум вроде небольшой, а памятливость крепкая.
Старуха накинула на голову скатившийся полушалок, поднялась.
— К Наталье пойду схожу…
Товарка угостила чаем с облепиховым вареньем и рассудила:
— И неча их слушать — ехай! Ты на их всю жизню горбатилась, теперича в престарелый дом заперли. От негру-то нашли! Там работаешь-работаешь, сюды придешь — грязь за имя выворачиваешь, ехай! И не ходи к им боле, не унижайся. От так-от! Ты еще варенье-то ешь, — пододвинула она розовенькую вазочку, — где еще поешь, окромя как у меня… Это ить облепиха! Витамин це, чтоб не было морщин на лице, — рассмеялась Наталья.
Клавдия послушалась товарку, к Макару не пошла, сразу направилась к себе, в интернат. Решила: перед отъездом забежит, простится — и все.
Макар в тот день намаялся, прислушиваясь к шороху в сенях. Не дождался он Клавдии и на следующий день. «Теперь не явится, — понял старик. — Наталья, видно, подсобила. Значит, так, — прикинул он, — туто-ка два дня остается, тама-ка — три, всего — пять. Пять ден теперича одному быть. Эх-хе-хе». Зла на Клавдину товарку не было и на саму Клавдию тоже, было иное: досада какая-то, недовольство, что все так бестолково в жизни получается.
Макар вышел на улицу. Солнышко стало поласковее. Посидел на лавке — лицу тепло, а зад мерзнет. Опять в дом воротился. Телевизор включил: показывали хоккей. Пользы от этого занятия старик не понимал и интереса в нем не видел. Выключил. Послонялся-послонялся, сходил в магазин, купил с тоски бутылочку «красненькой». Ну, какая выпивка в одиночестве?! Стопку едва осилил.
Вечером ввалился пьяный Николай и вылакал оставшееся вино. Ничего, пошло и в одиночку. А отцу не предложил, будто его и нет. Выпил и затих, закемарил на табуретке. Макар приподнялся в постели, поглядел на сына, спросил:
— Пошто так делаешь-то, Колька?
Николай поднял голову и снова опустил, как-то потерянно, жалостливо пропел себе под нос:
— Пошто-о, пошто-о, пошто-о?.. — Встал и, спотыкаясь, шаря по стенкам, поплелся в свою комнату.
Через минуту-другую Макар заглянул туда свет выключить. Сын спал в своей обычной позе: голова на диване, а сам на полу.
И что случилось с парнем? До тридцати не пил, не курил, а потом как нашло. На учебе, что ли, надорвался? Вовремя никто не подтолкнул, стал копошиться уж после армии: вечернюю школу закончил, училище, техникум и работать не переставал — вот и силенки-то, видать, и поиздержались. В институт собирался, да запил. А может, зазноба какая довела… Скоро сорок, а не женат до сих пор… Скрытный сын больно, не поймешь его…
Старик щелкнул выключателем, вернулся на кухню. Убрал пустую бутылку под стол, сел на край сундука, закурил. И в голове снова пошло, поехало — крутились, цепляясь одна за другую, привычные мысли.
Николай хоть мужик, а Надька-то почти девка, а что вытворяет! В прошлую субботу приезжали они с Василием. Николай дома был. Макар им, как людям, баньку затопил, а они как взялись — ради выходного не грех бутылочку выпить, — но Макар и счет бутылкам потерял! К обеду уже набрались, а к вечеру передрались: неизвестно с чего Надька своего мужика по щекам стала охаживать, а тот, вислоухий, отпору дать не может, стоит: «Надюшенька» да «Надюшенька». А Надюшенька только успевает разворачиваться. Не нравится ей, что муж маленький — будто он после свадьбы укоротился. А сама-то, прости господи, от горшка два вершка. Утром Макар заглянул в комнату: Надька в постели нежится, а Васька у стола ей юбку гладит. Не выдержал Макар, заругался, даже ногой притопнул, да вместо крика сип какой-то вышел. И дочь ответила: «Не лезь не в свое дело». Опохмелились они, и Надька, пьяненькая, к отцу в боковушку зашла. Тихо так, горестно плачет: прости, говорит, за все… Ох-хо-хо… Дарье бы с Васькиным характером мужика, в согласии бы жили. Нет же, тихой девке хулиган попался, языкастый да рукастый, так всю жизнь с ним и мается.
Есть у Макара еще одна дочь, Катя. Она давно и далеко уехала, но дум у отца о ней немного. Приезжали они с мужем позапрошлым летом, сами веселые и дружные, и дети у них гладкие да звонкие — спокойно за нее. Правда, пишет Катя редко, забывает отца.
Макар бросил окурок в ведро под умывальником, вышел в сенки, закрыл дверь на заложку.
Четверо детей у Макара, а слов приветливых мало от кого слышал. У Клавдии нет никого, а гляди-ко, нашлась душа, подумала о ней, позаботилась…
Вернулся, выключил свет, нашарил в темноте кровать, лег. Николая не слышно — бывает, стонет во сне… Почки у него отбиты: привязался к парням в автобусе, чего, мол, материтесь в общественном месте. Ну, те вышли с ним на одной остановке и объяснили «чего».
Морок, лишь окно тускло светится; тишина, только свое дыхание слышно… И чудится, будто кто-то рядом стоит, стоит сбоку, у изголовья, смотрит. Давно уж приходит, то сбоку встанет, то весь дом собой займет. Предчувствие, может, какое? Заберут сейчас Макара отсюда, и больше никогда не будет его на земле. Пошевелиться страшно, и грудь теснит, к постели давит, будто кто сверху ступил.
Макар собрался духом, встал. Снова в доме вспыхнул свет. В тумбочке, где валялись в беспорядке Николаевы старые бумаги, разыскал ручку, тетрадь, сел за кухонный стол и стал писать. По листу поползли хромые, пляшущие буквы. Поздоровавшись, раскланявшись, он писал:
«…шибко оне непутево живут да ты сама знаешь. Ты ба Женя имя написала пристыдила ты хоть млаже их а вумней. Меня оне в грош не ставят шибко мне за их неспокойно с чижолым серцем помирать придетца. А Клавдию правильно забирай. Спасибо тибе за ето все жи не мать она тибе а тетка токо. Она ишо ниче покрякивает. На етом писать кончаю жилаю вам всяково добра. Летом приезжайте в гости. С поклоном дядя Макар».
Макар разогнул спину, испарина выступила от непосильной работы. И на сердце полегчало — пусть едет, пусть живет…
Утром пошел на почту, купил конверт, запечатал письмо, попросил, чтоб написали адрес, бросил в ящик. Подождал немного на стуле, пока ноги «разойдутся», и направился к дому престарелых: скуку развеять и сказать, чтоб собиралась старуха, чего время-то тянуть.
Трехэтажное кирпичное здание с большими стеклянными окнами пугало Макара солидностью. А когда входил, пробирала жуть от другого: коридоры заполнены древними — против них Клавдия молодуха — стариками, с отвислой кожей на скулах, ввалившимися глазами, и просто калеками на колясках, на костылях…
В колхозе, помнил Макар, долгое время конюшил Венька Емельянов, мужик, потерявший на войне руки и ноги. Конь у него стоял дома; запрягал, распрягал сын, а ездил Венька сам: подойдет на культях ног, всунутых в обтянутые бечевкой самоделки из толстой кожи, к телеге обопрется о край обрубками рук, вожжи опять же на культи намотает и правит. Тельняшку со своего большого тела не снимал, всегда полосатый уголок торчал из-под рубахи. Сам чубатый, глазастый… Тяжело было на него смотреть, но тяжесть была не отталкивающая, не угнетающая — просто горечь давила. А тут глаз некуда отвести, страшно становится — будто уж и не на этом свете.
— Ты кого там потерял? — услышал Макар знакомый, всегда излишне громковатый голос.
Клавдия спускалась по лестнице в дохе, в полушалке — ладная, ядреная старушка.
— А я к тебе собралась.
— Ну так пошли.
— Меня Лия Даниловна просила остаться: некому, говорит, работать. А я отвечаю: позавчерась с обеда работала, вчерась цельный день работала — все не в свою очередь, а у старика тама-ка тожить воз не вывезен. Чё ж, у Клавдии семь рук, чё ли?
Вышли на улицу.
— Ты как… совсем отседа иль вернесся ишо? — поинтересовался Макар.
— Куды вернесся?
— Куды, куды? Сюды.
— А какжеть я не вернусь, — опешила Клавдия, — мне работать завтре надо.
— А-а. То я думаю, манатки, може, сразу забрать, какие есть у тебя туто-ка, унести.
— На што их забирать-то? — Клавдия остановилась.
— Собираться-то надо, укладываться: не ближняя ить дорога! К Женьке-то поедешь?
— Подь ты к чомору! — всплеснула старуха руками. — Я думаю, куды он меня посылает. Чё ж я туды поеду, Макар, — заговорила она, склонив голову набок, как-то особо рассудительно, как говорят ребятишки, играя во взрослых. — Здоровья уж нету, захворай я, сам посуди, — будет она тама-ка со мной шипериться, намотается, клясть ишо станет, и схоронят незнамо где. Так я ей и отписала: «Спасибо тебе, доченька, чё не забываешь тетку Клаву, но в тягость я тебе быть не желаю».
— Письмо, чё ли, послала?
— Но.
— Наталья писала-то?
— Пошто Наталья? Тут, бухгалтерша одна. Я ей говорю, от так-от и от так-от — зовут меня. Она тожить посоветовала: Клавдия, никуда не ехай. Я и сама думаю, чё с места срываться. Теперича уж немного осталось, как-нибудь доживу…
Они шли вдоль кромки леса по изъезженной дороге: тихие, неторопливые. Снег посерел, осел, покрылся тонкой ледяной коркой, и яркое солнце уже не находило себя в каждом хрусталике льда, а размазывалось по нему уныло и словно бы принужденно. На обочине лениво топталась большая и грузная ворона. Ворона-старуха, прожившая гораздо больше стариков, она и выглядела уверенней и умудренней: и не отбежала, и не улетела, когда те проходили мимо, лишь устало и пренебрежительно глянула на них. Дорогу размежевал пополам рядок конских котяхов, еще неподсохших, коричневатых, с торчащими ворсинками непереваренного сена. От их вида и запаха Макару всегда делалось теплее, уютнее.
— Не знаю, на кого мне деньги на книжке записать. Дарья хотела, чтоб на Мишку записала. А я думаю, на Женю, однако, надо, — не в первый раз заводила такой разговор Клавдия.
Макар, обычно пропускавший его мимо ушей, сейчас отозвался:
— Сколь там у тебя?
— Восемьдесят рублей.
— Хых. Им сейчас эти деньги — плюнуть да растереть. Лучше на похороны оставь.
Клавдия обиженно помолчала.
— Чё ж, меня, поди, государство схоронит, — выговорила она с расстановкой. — Крестик какой плохенький ты, поди, сколотишь.
— Кто ж нонче с деревянным-то хоронит? Чё ж, ты хуже людей, чё ли?! А памятники железные за сорок рублей делают.
— Да, поди, под ним шибка чижало лежать-то…
…Они придут домой, Макар сходит в сарай, принесет дров, угля, затопит камелек и отправится за «красненькой». Клавдия начистит картошки, нарежет ее длинными брусочками, рассыплет по шипящей сковородке. Когда Макар вернется, дом обогреется до каждого угла. Сковорода, накрытая тарелкой, будет ожидать на краю плиты, а Клавдия будет домывать пол на кухне. Макар возьмет в охапку лежащие кучей в сенях половики, выйдет во двор, выхлопает их, занесет, настуженные, свежие. Клавдия, протерев порог, выжмет тряпку и любовно, аккуратно расстелет половики.
Старики сядут за стол, Макар раскупорит бутылку, Клавдия поставит сковороду на стол, снимет тарелку, картошка запарится.
— Чё-то не могу я, голова чё-то болит, боюсь, — скажет старуха, поглядев на стопку.
— Вот и полечишься маненько, — ответит старик.
Потом Макар будет курить, как всегда неторопливо, задумчиво. Клавдия уберет со стола, сядет чинить прохудившуюся одежонку, попутно поведает о новостях в доме престарелых: о том, как одна там у них приревновала другую к третьему; о вновь прибывших… Перескажет кино, которое показывали, следующую главу из книги, которую им читают. Макар, попыхивая сигаретой, изредка усмехаясь, внимательно выслушает ее и вряд ли что скажет. Посидит, подумает и заговорит о своих делах. Речь, хочешь того или нет, пойдет о детях.
Вечером они посмотрят телевизор. Придет Николай. Если будет трезв, то приляжет на диван и тоже посмотрит передачу. Потом старики, попив чаю и потолковав о смерти, станут располагаться на ночлег. Макар в боковушке, а Клавдия на кухне, на окованном сундуке.
Когда погаснет свет, тьма Макару не надавит на грудь, не заставит прислушиваться к каждому шороху и бояться собственного дыхания, наоборот, его будто кто отпустит, разомнет суставы, обмахнет в легкой баньке распаренным веничком. Макар даже почувствует, как потечет кровь по жилочкам.
Старики заснут. Прошедшая трехдневка, хоть и памятного в ней много, вышла комом. Но через три дня наступит новая, и еще будет много трехдневок, Только б ноги Клавдию слушались да весна не покуражилась… Что ни говори, годы…
НОША
Разом как-то все перекосилось. Зима на дворе, декабрь, снег лежал, вдруг распогодилось, потеплело, дождь прошел, развезло, размесило землю, будто осенью. Дня три еще так постоит, мясо солить придется — вкус уже не тот и цены никакой. И на душе от этой слякотности, мозглости — тоскливо, маетно. А тут еще кобель начал выть ночами. Прокопий даже просыпался, выходил во двор, цыкал на пса, швырял в него что попадалось под руку. Вулкан утихал, но потом снова принимался за свое. Нюра уж тревожиться начала: не с детьми ли что? Но старик отмахнулся: «С непогоды дуреет». С непогоды же и ноги у старухи разнылись, опять намазала их какой-то вонючей дрянью. Прокопию самому пришлось идти за хлебом, заодно и бутылки прихватил — давно уж из кладовки просились. Пришел в магазин, а там об одном только разговор: ночью сперли свиную тушу. Да у кого? У директора школы! «К тому все и шло», — почему-то подумалось Прокопию.
Не первый уже случай. Что-то стали баловать. Внук Прокопия, Васька, рассказывал: рыбачил он, зашел в кусты по нужде, а впереди, у дороги, коза пасется. Глядит, останавливается легковушка — и только копыта у козы мелькнули, поминай как звали. А разве узнаешь, кто пакостил — машин по тракту за день тьма-тьмущая проезжает, да и со своих, местных, взятки гладки — рядом с городом село разрастается, народ друг друга толком не знает. Цены базарные на мясо подпрыгнули, вот ворюги, видно, и смекнули: чем на рисковое дело идти, в магазин лезть, где кругом сигнализация, проще утянуть козу за рога.
Прокопий сдал бутылки, купил хлеба. Вышел из магазина, равнодушно заметил, как незнакомые люди на остановке засмотрелись на него: привык к этому; знал почему — здоров, широк, поступь твердая не по годам, вот и пялятся. В голове все текли неспокойные мысли, понять никак не мог: ладно, голод был, крали — другое дело. Теперь просто все больше как-то на шармачка, на дармовщинку жить норовят! Жрать любят сладко, а потеть не нравится! Плюнул старик в сердцах и увидел у этой, как ее, у урны… хлеб! Белая надкусанная булочка. По краям надкуса замаралась, а середка чистая, пористая. Не в первый раз Прокопий такое видел, но тут как-то особенно обидно стало: бросил кто-то, не надо, сыт!
Поднял Прокопий булочку, хотел хоть в урну кинуть, что ли, да больно уж смрадно в этом ящике, не посмела рука. Стряхнул грязные комочки, пододвинул хлеб в сумке, только собрался с краешку положить, вдруг услышал:
— Тятя…
Старик вздрогнул даже: тихий такой, напуганный был голос. Обернулся — дочь стоит, Лида.
— Ты чего тут? — робея, спросила дочь.
— Чего? — не понял Прокопий.
— На что это… подбираешь-то?
— А чё? Запрет, что ли, вышел?
— Люди же смотрят, — почти шепотом проговорила Лида, осеклась под отцовским взглядом, но все-таки докончила: — Сыновья — директора, машины имеют, а отец объедки собирает…
Прокопий помолчал. Когда он собирался в магазин, складывал бутылки, старуха, которая всю жизнь тише воды ниже травы, ту же песню завела: «Поди, не носил бы уж, а то чё люди подумают. Дети начальники, партийные, а отец полмешка бутылок понес. Срам. Пусть стоят, места, поди, не простоят». А зачем добру пропадать? Попробуй-ка их, бутылки эти, сделай, немало труда, наверное, уйдет, материалов сколько затратится, а так — помыл, другую бумажку наклеил — снова разливай. И для себя, опять же, копейка. Ну, куда ни шло, бутылки, а тут ведь хлеб! Хлеб поднять с земли — тоже стыдно! Дожили!
— Ты в магазин шла? — сдержанно выговорил Прокопий. — Вот и иди.
— Тятя, ты не подумай чего, но люди-то…
— Наклал я на всех три кучи с коробом…
Прокопий сунул булочку в сумку и пошел себе.
«Скажут…», «Подумают…» — екало у него внутри. Не мог старик взять в толк этой заботы жены и дочери. Конечно, не нуждается он в этой булочке, но валяется же! Ногами топчем, пока лиха нет! Ну, сыновья, ну, уважаемые люди, начальники: двое в городе, один в исполкоме сидит, другой гаражом заведует, а третий в районе всей техникой командует. Хорошо, конечно, что говорить. А если пораскинуть мозгами маленько, нечему особо-то радоваться. Летом съехались все, затеяли баню новую ставить, как все теперь делают, по-белому, рядом с домом. Снохи, внуки, сыновья сами, копотно, говорят, в бане по-черному, дымом пахнет. Взялись за топоры. Глядит Прокопий, и работники-то из сыновей — поту больше. Пузатые, толстозадые, скинули рубашки — стыд смотреть. А здоровенные были парняги, верткие, задорные, шоферами все трое работали. Смотрел тогда отец на сыновей и больше, чем теперь, радовался: его, Прокопия Каргина, порода. Потом учиться стали заочно, пошли на повышение. Продвинулись. Разъехались. С чего ради пыжиться? Шибко напоказ привыкаем жить, друг перед дружкой, как гусаки.
Пришел старик домой — Никита его дожидается, сосед. Прокопий еще из сенок услышал, как тот орал глуховатой Нюре:
— От оборзели, от оборзели! Поймал бы, руки-ноги бы повыворачивал! Ни один бы белый свет боле не увидал!
Прокопий усмехнулся про себя. «Выворачиватель» был одноногий и сам из себя — соплей перешибешь. Открыл дверь.
— Слыхал новость? — дернулся к нему взбалмошный Никита. И на кивок Прокопия продолжал: — От оборзели, а! Мы уж тут с кумой сидим, говорим, переловить бы их, паскудников, и руки-ноги открутить… — Чуть помолчал, начал иное: — Это… я чё пришел-то. У меня боров-то в стайке еще висит. Я так думаю, судьбу пытать нечего! Пока не поздно, надо перетащить к у́ху поближе, в кладовку. К Кольке Кайгородову зашел, нету дома. А помоложе кто — на работе все. Поди, вдвоем-то перетащим, а?
Пошли к Никите.
Жил Никита, как и Прокопий, вдвоем с женой, хотя детей было целый табор, но тоже все разбежались, последнего месяц назад в армию проводили. Без помощников да на одной ноге трудно, конечно, с хозяйством управляться, но по мере сил старался держать скот — надо детям помочь, городским особенно.
Прокопий взвалил тушу на спину, Никита подсоблял сзади. Понесли. Старик дышал редко, глубоко, тело налилось. Туша с каждым шагом становилась тяжелее, придавливала. А тут еще ноги разъезжаются, присасываются вязкой мешаниной.
— Ай, твою мать! — вскрикнул сзади Никита.
Туша хрястнула по пояснице, что-то порвалось и стрельнуло вдоль позвоночника. Прокопий прохрипел, его повело назад, но мышцы успели сработать, подобраться. Он отступил шажок, наклонился ниже, так, что туша уперлась в затылок, — удержал. Стиснув зубы, напрягся, раскорячился, но устоял: негоже добро в грязи валять.
— Да растуды ж ее в грязюку!.. — визгливо матерился Никита. — Брось ее, брось, не кажилься!..
Упал, видно, одноногий. Обложил бы его Прокопий крепким словом сейчас — с земли бы подняло, к туше приставило, да не мог: дыхание перехватило.
— От паскудство! Деревяга вывернулась! Слышь, бросай, говорю! Всю жизнь хожу…
Прокопий все понял. И шагнул вперед. Нога поехала и вперлась в твердый бугорок. Потянул другую. «Чва» — лопнула грязь под сапогом. Пошел. Дышать было трудно, горло перехватило. Старик втягивал воздух носом, распирал им ребра, старался подольше удержать внутри, как бы устраивая из себя воздушный домкрат. Спину стянуло, ноги сделались чужими, в голове стоял какой-то напористый звук. Прокопий упирался подбородком в грудь, свирепел под тяжестью, но нес: нет, добро он в грязь не бросит, грешно. Донесет. Крыльцо уже рядом. Быть не может, чтоб не донес. Бывало, привезет зерно на мельницу, просто так, потехи ради, взвалит куль на себя, сверху посадит девку потолще и, веселя народ, затащит до самого ковша, куда зерно засыпают.
Прокопий ухватился за перила крыльца. Оперся, вздохнул маленько. Мозг сам собой отметил, подсобрал и рассчитал силы на четыре приставных шажка вверх. Старик поставил ногу на первую ступеньку, перехватил рукой по перильцам, подтянулся, поставил другую ногу. Не останавливаясь, снова сделал шажок, скользнул рукой по перильцам… Никита все что-то кричал, слов Прокопий не различал, слышал отдаленно. В голове, во рту ссохлось, тело дрожало, но и разгорячилось, забирало его пылом, извечным упрямством или еще чем-то влекло — ни под чем Прокопий Картин не сгибался, не сдавался, привык любое дело доводить до конца. Себя не жалел в работе, другим поблажку не давал. Две семьи тянул — каких семьи! Только женился, своим хозяйством еще не зажил, тятя помер. Поехали они в город, масло повезли. День был жаркий, отец по дороге напился из ручейка, до города еще не добрались, давай его рвать. Болезней он до того не знал, думал, ну, мало ли чего; в городе два дня были, а вернулись домой — скончался. После лихорадка эта самая по всем деревням прошлась, многих скосила. Прокопия тоже крутила, но с ней бороться уже научились: дегтем выкуривали, чесноком убивали, в бане гнали. Да и нельзя было Прокопию помирать: двенадцать ртов от тяти остались на его шее, и своего первенца ждал. Чуть оклемался, впрягся в работу; в коллективизацию считался крепким середняком. Еще четверых детей народил, одного только смерть взяла, остальные выросли, поднялись. Всегда жил он прочно, был хозяином, умел хозяйствовать. Сыновья теперь часто разговор заводят: «Тятя, зачем вам двоим такое хозяйство? Отдыхайте, мы вас всем обеспечим». А как это «отдыхать» — непонятно старику. Кверху брюхом лежать — измаешься, в гулянку удариться — сопьешься. А без хозяйства — вроде как полчеловека ты. Конечно, нынче корову и ту многие держать не хотят. Заработок кормит. Да и кому молоко-то пить? Детишек-то: раз-два, и обчелся. Раньше глядишь утром: стаями в школу бегут, что пчелы перед дождем. А теперь ходят, нет ли, не заметишь. А детишек нет — не нужна, стало быть, и коровенка — хлопоты одни. Стареет народ в селе, из маленьких деревень приезжают тоже в основном люди в возрасте, а работа новая, механизированная; прежней, когда всем миром выходили, нету, оттого, наверное, и гулянки, разудалого широкого веселья не получается. Всей родней собираются только на свадьбы да на похороны. А Прокопий всегда так понимал: жить — это натрудиться, наломать тело, а потом дать душе встряску, погулять на славу. Попеть, поплясать до упаду — и снова за работу.
…Не останавливаться. Одна, всего одна, последняя ступенька. Поднять чуть ногу, совсем немного, ступня уже шарит, шаркает по кромке, но никак не может твердо встать. «Не можешь, а ты смоги», — любил говаривать Прокопий своим детям. И все крутнулось, матюгнулось в старике черной злобой. Установил прочно ногу, скрежетом, уж вроде не тушу поднимал, а силе какой-то неведомой сопротивлялся, которая давно, видно, мощь свою копила и вдруг насела, обрушилась сразу, силищу эту проклятую одолевая, разогнул колено. Проняла старика мгновенная радость: нате вам, выкусите, не уступит Прокопий Каргин! И он, по ходу, в порыве пошел. Занес ногу над порогом, зацепился носком и полетел, забарабанил сапогами вдоль сенок. Туша поехала на голову — придавит, расшибет башку в лепешку! Опусти плечо немного — и нет груза, разгибайся, если сможешь. И грязи нет, пол под ногами, но Прокопий удержал равновесие, бочком, ничего не видя, не разбирая, каким-то чудом угадав точно в двери, пронес тушу в кладовку и лишь там опустил на пол. И сам улегся рядом.
Под полом шарился ветер, задувал в щели, приятно холодил спину и затылок. В голове было тускло, размягченно, в паху, в пояснице, меж лопаток настойчиво, тупо ныло. Холки дергались. «Думал, сносу не будет, а, однако, все, подкосило…»
— Ну, ты даешь стране угля! Такую оказию… — зашумел голос Никиты и утих. — Прокопий, слышь? Надорвался, что ли? — спросил голос растерянно. — Вовсе не можешь? — Склонился над стариком Никита. Подергал бечевку, которой на скорую руку была примотана деревяга к культе. — Ре́мень подтерся! Сколько?.. Двадцать, пятнадцать лет… Пронь, слышь? Проня! Остудишься лежать-то, пошли в избу.
Никита попытался просунуть руку Прокопию под спину. Старик начал было подниматься, но его передернуло всего. Он схватил Никиту за плечо и отпихнул от себя.
— От устосался так устосался, — забормотал одноногий. Вскочил, метнулся из кладовки. Вернулся обратно. — Не видать никого, гадский потрох! И эта, старая, где-то запропастилась! — взвизгивал он в бессилии. — И на што было тяжесть таку переть, чё бы ей доспелось! Прокопий, слышь, погоди!.. — затряс он над стариком руками. — Погоди, я счас, слышь, маленько!.. — И снова выскочил из кладовки.
Прокопий остался один, лежал, прикованный к полу. Казалось, вдоль спины будто кто лом продернул и ворошил концом внутри, руки слабли; и все надеялся: сейчас, еще немного и должно затихнуть, встанет он и пойдет. И вдруг его прошиб страх: не полегчает, не отлежится. В голове единым комом забились мысли. И из всех он выхватил одну: домой, пусть дома. Старик прислушался к ногам, рукам, собрал силы, приказал послужить, даже сказал: «Последний раз». Стараясь не бередить боль, осторожно вдохнул, стал подниматься — поднимать свое туловище. Медленно повернулся на бок, встал на четвереньки, потихонечку, с передыхом, перебирая руками по лестнице, приставленной к стенке, разогнулся. Пошел. Чуть откинувшись назад, скособоченно, на полусогнутых ногах, маленькими шажками, мерно, будто нес внутри какую-то очень хрупкую вещь. Вдоль стенки, вдоль стенки, нога к ноге… По топкой грязи дошел до открытых ворот, — видно, Никита в спешке не закрыл. Только успел схватиться за угол, началась рвота, выворачивало со слизью и кровью. Никогда Прокопий больным людям особо не верил, считал, напускают больше на себя. Теперь самого скрутило — спасу нет.
В глазах померкло. Боль внутри разорвалась, сцепила все тело, голову. Неужто все, За что его так? Работал весь век, детей вырастил и вдруг под забором!.. За гордость, что ли, наказание? Сломать его хотят? И правда, зачем надо было свинью тащить? Бросил бы, и все. Ничего бы этого не было. А что было бы?.. Душе-то как?.. Тятя еще туда, в город ехали, захворал. Как уж ломало бедного да выворачивало, а не повернул обратно. Доехали до города, уладили дела, только тогда назад отправились. А у самого ни кровиночки, белый весь, ни есть, ни пить не может! И все торопил Прокопия дорогой, торопил. А домой-то приехали, лег — батюшку, говорит, зовите…
Старик переломал, перемолол упрямой злобой в себе боль, зажал меж зубов, сдавил в груди — одолеет, дойдет. Вдоль забора, помаленьку, от штакетины к штакетине до своих ворот, а там деревянный настил до крыльца. Там уж дом. Жена. Там ладно… А глядишь, истопит старуха баньку, попарит спину — и разойдется боль. Лучше, конечно, было бы в старой баньке, по-черному, она и не выстывает, снизу холодом не тянет, теплый пол; камни — не железная печка, жар потихоньку отдают, он и не шпарит поверху, насквозь тело прогревает… Вдоль забора, от штакетины к штакетине…
Рука уже коснулась столба своих ворот, другая потянулась к рукояти, дверь сама отошла, и Прокопий увидел Нюру, жену свою. Старуха отшатнулась, прошептала: «Господи помилуй». За ней рвался, крутился на цепи Вулкан, старый лохматый пес. Сзади послышались голоса. Подхватили под руки, повели. Вулкан скулил. Другую, однако, беду пес чуял, ночами-то выл.
Прокопия с ходу хотели положить на кровать, но он задержался, вцепился в спинку. Заговорил, но челюсть не работала, немощно отвалилась, губы не сомкнулись, получилось урчание. Повторил, снова ничего не вышло. Только еще пуще пугал всегда боявшуюся ослушаться Нюру. И он сказал в третий раз. Выдыхом, раздельно, тихо:
— У-бе-ри пе-ри-ну. Грех.
— Кого ты, господь… — замахала было Нюра, но руки ее замерли и сдернули перину.
Прокопий уже клонился к кровати, вокруг него шебутились, поддерживали, поворачивали на спину, поднимали свисающие плетьми ноги, укладывали.
Большое, мясистое, но всегда подобранное тело старика распласталось по новым, не пользованным еще половикам, покрывающим деревянный настил на панцирной сетке (спать прямо на сетке Прокопий не любил, говорил, как в яме), и сразу сникло, обрыхлело. Обмякли бугристые, словно из комков земли, руки; лицо, тоже комкастое, растеклось, обвисло; вывернутые белками глаза вернулись на свои места, вяло, но хватко прошлись по комнате, остановились на жене, глянули тепло, а губы вроде как даже улыбнулись…
И по посиневшим его щекам из уголков рта поползли красные струйки.
Хоронили Прокопия на третий день. Народу на похоронах было много. Сразу же, в день смерти, к ночи, приехали сыновья. Потом стала собираться родня из города, из деревень, местные пришли, знакомые. Люди проходили к покойному, плакали у гроба, ревели, причитали или просто потупленно кивали головой. Нюра почти неотступно была при муже, сидела, ритмично покачиваясь, не то очень задумчивая, не то вовсе бездумная, и каждому плачу, причитанию как-то тихо, жутко подвывала. И, жалея мать, старший сын, посоветовавшись с братьями, с сестрой, всем плакать запретил. Вид у него был солидный, внушительный; костюм, галстук, живот, голос тягучий, басистый, в глазах тяжесть. И никто не посмел ослушаться. Замолчали. Лида, трепетно любящая образованных братьев, строго следила, предупреждала людей, чтоб не плакали. Сама иногда не выдерживала, хлюпала где-нибудь потихонечку украдкой. Мать старались отводить от покойного, и все время кто-нибудь из сыновей около нее находился, утешал. Люди сидели вокруг гроба, одни сменялись другими, а над Прокопьевым изголовьем в полной тишине только потрескивали восковые тонкие свечи да от тяжелых вздохов трепыхался огонек на свече, вставленной в скрещенные на груди его руки. Лишь на улице люди давали себе роздых, вполголоса, но говорили, обсуждали внезапную, такую нелепую смерть. Никита был какой-то непривычно сдержанный, аккуратный, прилизанный, очень торопливо откликался на вопросы, рассказывал, как все случилось. Родня, знакомые жалели старика, а с ним и себя немножко в том духе, что надо же было ее переть, дурость все наша, привыкли над всем трястись, стараемся все, стараемся, себя гробим. Кто-то живет — лишний раз не наклонится, а мы, известно, вечно горб гнем… И как это бывает, разговоры уходили далеко, и уж получалось, что и чуть ли не весь мир на мозолистом русском горбу едет. Речи совершали круг и снова утыкались в простую мысль: а вот теперь лежит человек, и ничего не надо. Но потом Лида как-то поделилась с братьями: дескать, отец, однако, с утра еще был не в себе, около магазина объедки собирал, и пошло — шепотом, оттого таинственно и страшно. «Объедки собирал…», «Надо же, никто ничего не замечал…», «А у самого на книжке…», «Бросьте вы городить…», «А все же старость не радость…», «Всякое бывает…»
Так, без слез, притихшие, проводили Прокопия в последний путь. Лишь, поднимаясь по склону к кладбищу, заунывно гудели машины: грузовые, автобусы, легковые. У могилы гроб поставили на табуретки. Шел редкий снег, и мелкие, словно искрошенные, струпья попадали Прокопию на лицо и не таяли. Родные, знакомые обошли покойного, простились. Стали накрывать гроб крышкой. И тут Нюра, которая, казалось, давно уже перестала понимать, что происходит, вышла из оцепенения, рванулась к мужу и заголосила. Лида хотела было остановить, унять мать — как-то уж засело в мозгу, что нельзя плакать-то, — но увидела лицо матери, потерянное, горестное, родное, платок черный, и зарыдала, по-простому, по-бабьи, с причитаниями. И словно прорвало — заголосили люди разом, будто не три дня назад, а только что горе случилось. Не только бабы, но и мужики не сдерживались, прикусывали губы, сжимали челюсти, утыкались в шапки, рукава. Плач поднялся на кладбище, и единый этот голос, казалось, кается, продирается через наросли, тянется изо всех сил, хочет удержать, вернуть эту навсегда ушедшую человеческую жизнь.

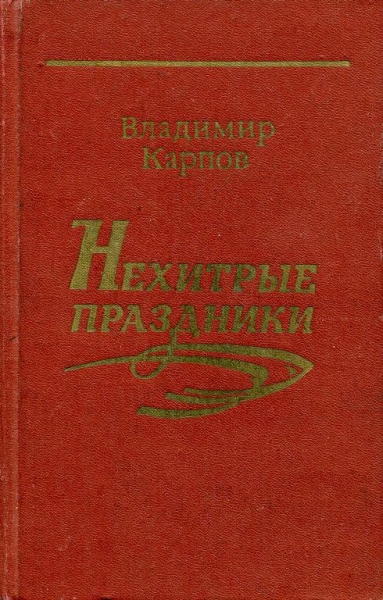


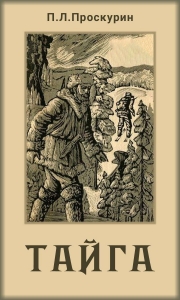
Комментарии к книге «Нехитрые праздники», Владимир Александрович Карпов
Всего 0 комментариев