Ельянов Алексей Михайлович Заботы Леонида Ефремова
Я должен был стать капитаном дальнего плавания — с детства мечтал об этом; мог бы стать пастухом — я был им, как был я и слесарем, и преподавателем труда в школе, и редактором в издательстве. Но получилось так, что стал литератором. Мне всегда важно было объясниться, признаться... или восстановить, соединить что-то в себе и в людях, разрушенное после ссор, размолвок, непонимания. И еще — стремление общаться и, конечно же, литературно-творческий кружок «Голос юности» способствовали тому, что я стал писателем.
«Заботы Леонида Ефремова» — третья часть во многом автобиографического романа. Первая книга — «Чур, мой дым!» — рассказывает о трудном детстве во время войны, о жизни в детском доме; вторая — «Утро пятого дня» — о времени, когда мой герой учится в ремесленном училище и начинает осознавать себя. В третьей — он уже взрослый человек, мастер ПТУ, наставник.
Чему же научила его жизнь? Чему он учит своих воспитанников? Обо всем этом я хотел рассказать искренне, в форме признаний, как бывает в хорошем разговоре — глядя собеседнику в глаза, всей душой стараясь понять не только самого себя. Может быть, кому-то станет на время легче жить с моим соучастием.
А. Ельянов
Часть первая Воспоминания о любви
Глава первая
Вальс, вальс! Танцуем вальс! И взмахнул бы дирижер палочкой, и грянул бы оркестр, и вспыхнули бы хрустальные люстры, и закружились на скользком полу легкие пары. Раз-два-три, раз-два-три. Все-таки вальс!
Но вместо оркестра — аккордеонист. Он привстал повыше на ступени, поправил ремень на плече, коснулся быстрыми пальцами перламутровых клавиш — и бал начался.
В центре зала пока никого. Стоят лишь квадратные приземистые четыре колонны, поблескивает гладкий камень пола, отражая неоновый белесый свет. Все как всегда в нашем Доме культуры.
И, как всегда, выходит в центр старичок затейник. Голова его чуть-чуть вперед и набок, быстро и мягко ступают ноги, с неожиданной легкостью передвигая его располневшее тело, энергично покачиваются руки. Сейчас они хлопнут в ладоши, и Николай Захарович обведет всех удивленным взглядом и спросит: «Ну что же вы, молодые люди?»
А молодые люди, тоже как всегда, стоят вдоль стен, стараясь спрятаться друг за друга, скрыться в уголке, в тени, но все вытягивают шеи, поворачивают головы, переступают с ноги на ногу: каждому непременно нужно видеть, что же происходит там, в центре зала.
А в центре зала все еще пока один Николай Захарович Булавин.
Мне было шестнадцать, когда я увидел его впервые. А теперь мне уже под тридцать. Сколько ему — не знаю. И какое это имеет значение? Сколько бы ему ни было лет, он молод, и он начинает вальс: раз-два-три, раз-два-три. Николай Захарович покружился, приседая, — вот как нужно, как это легко и красиво. Смотрите, я, старик, и то танцую, а вы?
А мальчишки и девчонки все еще робеют, не решаются оказаться в центре круга при ярком свете, перед множеством придирчивых глаз своих сверстников. И тогда Николай Захарович сам подходит к девушкам. Я сначала подумал, что он направляется к Майе Васильевне, к Майке, она тоненькая и юная, и вид у нее такой восторженный, будто пришла на свой первый бал. Но Николай Захарович поклонился не ей, а Татьяне. Майка не огорчилась, она рада, она влюблена в свою Таню, единственную девчонку на всю ее мужскую группу токарей.
И откуда только берутся такие? Высокая, ладная, точеные руки с узкой маленькой ладошкой и длинными пальцами, не для станка. А какая гибкость, какая свободная, врожденная грация движений, сколько достоинства в лице, каким глубоким светом полны глаза, почему-то по-восточному очерченные черными бровями. Что и говорить, Таня, кажется, самая красивая девушка из всех, что я видел. Николай Захарович знает, кого пригласить.
И вот он уже кружится с ней, кружится легко, как бы летая, так что этот грузный, на целую голову ниже Тани старик оказался самым юным и умелым и самым удачливым кавалером из всех нас.
А Танька-то, Татьяна! Танцует, как будто всю жизнь только этим и занималась. Разрумянились щеки, не сходит улыбка с губ, и волосы, роскошные длинные волосы, перетянутые чем-то около затылка, покачиваются туда-сюда. Ну, кто сможет с ней танцевать, кроме самого Николая Захаровича?!
Стоят мои парни, завидуют и смущаются. Какое, оказывается, глупенькое и беспомощное лицо у здоровяка Лобова, как замкнут и недоступен мой староста Андреев, — танцевать с девчонками, оказывается, куда труднее, чем драться на ринге или командовать группой; а вон и Коля Игнатов, мой франт, такой, казалось бы, удачливый красавец, кумир девушек, присмирел, некстати засунул руки в карманы брюк. Ну что же вы, отважные драчуны и кавалеры? Просто хоть сам иди и приглашай.
И вдруг остановился Николай Захарович как раз напротив Бородулина. Татьяне поклон, а Глеба почти силой вытащил на середину зала, соединив его руки с руками Тани. «Танцуйте, дети мои, — сказал он. — Я уверен, молодой человек, что у вас это получится лучше, чем у меня». Это было сказано сердечно, просто — все увидели, что так и есть: Глеб и Таня в самом деле будто созданы друг для друга — ростом, обликом и чистым глубоким светом глаз, и чем-то еще, чего не передать словами.
Глеб не испугался, начал танцевать. Его длинные ноги напряглись, в них была сила и легкость, высоко поднялась голова на тонкой шее. И его лицо, удлиненное, с едва приметными усиками, стало торжественным и доверчивым.
Это не просто обычный танец. Глеб и Татьяна танцуют радость своей встречи; они уже не смотрят ни на кого, и друг на друга они, кажется, не смотрят, но это лишь кажется, они все видят.
И вот уже несколько других пар закружилось в вальсе. Я решился пригласить Майку. Нам было легко, свободно, хорошо, но мы ни на секунду почему-то не забывали, что ее Таня и мой Глеб танцуют вместе, и в этом есть что-то особенное, и это особенное происходит на наших глазах. Нам было немного грустно, что чудо случилось не с нами.
Кружатся, кружатся пары, я смотрю то на улыбающуюся Майку, то по сторонам — не столкнуться бы, и вижу, что много девчонок танцует с девчонками, тоже, как бывало, когда я был ремесленником, а парни стоят, выжидают, не могут набраться смелости, или уж слишком несовременным кажется им старинный вальс. Скорее бы ритмы, «завод», попрыгать бы, подергаться, на это у них достанет и отваги и умения. Тогда уж мне придется постоять в сторонке. Почему-то неудобно перед ребятами, хоть и учили они меня всем премудростям современных па. Смотрят на меня, улыбаются, мол, все в порядке, Леонид Михайлович, неплохо у вас получается. А что ж вы думаете, ваш мастер только с напильником умеет управляться?
— Ой, голова закружилась.
— Маечка, потерпи. Нельзя уходить раньше времени. Смотри, как зыркают на нас со всех сторон. И муж твой поглядывает с интересом.
— Пусть смотрит, хоть позавидует. Его учи не учи, с места не сдвинешь.
— И директор вон стоит улыбается.
— Этот может. У него все как надо. Он и «року» учил меня когда-то...
— Когда ухаживал за тобой?
— А ты откуда знаешь?
— Чего там, все об этом знают.
— Он и замуж меня тянул.
— Почему не пошла?
— Да так, не пригодился. Я невеста была разборчивая.
— А сейчас, я смотрю, от своего ни на шаг.
— А зачем? Он только танцевать не может, а так — лучше всех.
— Ну уж прямо лучше всех. И лучше меня, что ли?
— Ой, заболтал ты меня, закружил. Вон кто тут лучше всех. Твой Глеб и моя Танюша. Они уже давно любят друг друга. Пусть любят, и не мешай ты им: такая пара! Подрастут, и женим.
— Я похож на изверга?
— Еще бы. Ноги не держат. Вот-вот упаду.
— Не стыдно? Ты тут моложе всех. Хоть снова замуж.
— А ты что не женишься?
— Выбираю. Я тоже разборчивый жених.
— Уж слишком. А вообще-то я видела. Есть у тебя какая-то тоненькая, рыжая. Кто она?
— Зоя. Не знаю еще, кто она мне. Трудно сказать. Не спрашивай. Откуда узнала?
— Да видела как-то вас вдвоем. Идете воркуете.
— Ну уж и воркуем.
— А что, не любишь?
— Не знаю. Вот и вальсу конец. Спасибо.
— И тебе, Ленечка, спасибо. Смотри женись поскорее, а то отобью.
Я подвел Майку к ее мужу. Тот похлопал, улыбаясь нам:
— Молодцы, браво. Только ты не очень-то, Ленька.
Я церемонно поклонился, как это делает Николай Захарович, и отошел в сторонку, думая о Майке.
Что-то есть в ней особенное. По-моему, ее любят в училище все. Даже те, кого она не любит. Не держит она камня за пазухой, фиги в кармане, не помнит зла. Все, что есть на душе, — выскажет. Когда кому-нибудь плохо, она первая это заметит и поможет. Когда нужно сделать что-то сверхобязательное, и тут она первая.
А как любит она веселье! Умеет петь и плясать, и выпить за компанию, и очаровывает всех доверчивостью и безыскусственностью. Все знают — Майка любит своего мужа. Он тоже мастер в нашем училище. Многие еще помнят, как он был нерешителен, а она смела, многие потом были на их свадьбе, я тоже был, и все теперь видят, что Петр, Майка и маленькая Верочка — счастливая семья.
В Майю Васильевну, по-моему, влюблены все ее ученики. Между собой — я это хорошо знаю, не раз сам слышал, — они никогда не зовут ее по имени-отчеству, она им ближе, чем просто мастер. Они гордятся ею, оберегают ее. Она с ними строга и справедлива, и есть что-то еще. Вот в этом «еще», может быть, и все дело. С нею не просто делятся плохим и хорошим, ей исповедуются. Она намного раньше меня узнала, что Глеб и Татьяна любят друг друга. Где они?
Что-то будет с ними? Станет ли Таня его женой? Они еще, может, и не думают об этом. Я в свои семнадцать верил, что все еще далеко, а теперь чувствую, что затянул, уже родительское что-то появилось во мне. Смотрю на Глеба и как будто вижу сына, волнуюсь, ревную его чуть-чуть к Татьяне и вглядываюсь в нее: кто же она на самом-то деле, так ли она хороша характером, душой, как обликом? Черты ее лица еще девчоночьи, неопределенные, и все же заметны холодок, скрытность и жесткость в губах. «Ох, приберет она тебя, Глеб, к рукам. Ты еще мальчишка рядом с ней».
Нельзя смотреть так долго. Таня и Глеб увидели меня, переглянулись, и сразу их лица потускнели, Глеб даже насупился. Ладно-ладно, танцуйте, мне хватит и вальса, пойду покурю.
Не так-то просто пробраться в фойе. В маленьком зале тесно. Вдоль стенки не пройдешь незаметно, теперь тут низкие диванчики, а на них, плотно прижавшись друг к другу, сидят, как ласточки на проводах, девчонки, отважно выставив свои круглые крепенькие коленки. «Здравствуйте, Леонид Михайлович. Вы не хотите танцевать? Садитесь с нами». Глаза у всех быстрые, жгучие, улыбаются, кто простодушно, а кто и лукаво, таинственно. На вечере, в нарядных платьях, они повзрослели. Тут не мы, педагоги, над ними, а они над нами куда больше имеют власти. «Леонид Михайлович, потанцуйте со мной... И со мной тоже...» Нет уж, спасибо, я пойду покурить.
И вот снова заиграл аккордеон. Ритмы, ритмы твиста разлетелись по залу, и все, кто прятался в самом дальнем углу, даже те, кто, казалось бы, никогда не сможет сдвинуться с места, вышли в центр зала, в толчею, в сумятицу, и вприпрыжку, азартно, размахивая руками, вихляя ногами и бедрами, запрокидывая голову и не жалея сил, стали трудиться. Вот уж работают так работают, позавидуешь, поудивляешься. Сам бы бросился в пляс, да совестно, не сумею как надо.
Перед фойе — небольшая комнатка, здесь когда-то на стене висели плакаты, а теперь все по-современному: огромное зеркало, перед ним экзотические цветы в горшочках, камешки, ракушки — этакий философический японский садик. Взглянул на себя в зеркало, поправил галстук, махнул пятерней по волосам, улыбнулся сам себе; куда там, франт в новеньком костюме, не то что цыпленок в ремесленной форме, в гимнастерке с ремнем, теперь уже мастер, мастер-пепка. Иди кури, хватит прилизываться, еще высмеют! Особенно вот этот, наш старший мастер. Вон стоит, расставив ноги, как статуя Командора, и дымит, благодушествует. Тут он мягкий, шутник, а в училище — не подступись. И Акоп, физрук, покуривает, и Петр, муж Майки, и чуть ли не все тут собрались наши мастера. Посматривают издалека на веселье. Как будто впервые видят, какие же они на самом-то деле, их парни и девушки, когда никто на них не «давит авторитетом», не покрикивает, ничего не требует.
— Вот дают лихача! — невольно вырвалось у старшего мастера. И мне показалось, что он это сказал с восторгом. Но вдруг он добавил:
— Дикари.
Он уже остановил однажды такой «дикарский» танец моих мальчишек, когда мы были в деревне на картошке. Парни танцевали на поляне под транзистор. «Неудобно, — сказал мне старший мастер. — Что местные люди о нас подумают?»
А что они могли о таком подумать? Тут по крайней мере все натурально. Деревенские люди разве не видели никогда, как прыгают телята или жеребята от избытка сил? По-моему, одно удовольствие поскакать вместе со всеми в этом дикарском танце. Еще бы копье в руку, да ночь в джунглях, да костер посредине, да вой шакалов и рычание тигра за спиной. Старик он еще до старости, этот старший мастер, ему бы только нотации читать. Вон Николай Захарович прыгает и хоть бы что.
— Хорошо танцуют, — сказал Акоп. — Как у нас в горах. Такую бы музыку по утрам, — никакой физзарядки не надо.
А Петр помалкивает. Я знаю, он тайно разрешает своим ребятам побеситься в мастерской во время перерыва. Закрывается на ключ и командует: «А теперь — чехарда!» И правильно делает, ребятам нужна разрядка.
— А ты что, Юра, не танцуешь?
Ходит мой староста, Юра Андреев, печальный, делает вид, что ему все равно, а на самом-то деле, наверно, не нашел себе девушки, всех разобрали у него из-под носа. Он гордый. Или, быть может, робкий? Может, и боксом он стал заниматься, чтобы победить в себе эту робость. Кто знает, что кроется за этой мужественной внешностью, за обликом светловолосого, сдержанного викинга. Глаза у Юрки мягкие, добрые. В движениях нетороплив, даже медлителен. Правда, когда увлечен делом, его не узнать. И на ринге я видел его — быстр, и ловок, и упорен, как будто совсем другой человек. Надежный он парень, красивый, а вот с девушками у него не клеится. Что-то тут не то.
— Юра, Майю Васильевну пригласи. Она умеет.
— Да ну, вот еще, Леонид Михайлович, — застеснялся Юра и стал оправдываться: — Она-то умеет, да я не умею.
— А что тут уметь? Главное — ритм, и раскрепоститься, и делать руками, как будто изображаешь бокс понарошку.
— Понарошку я тоже не умею. Как это — понарошку?
— Ладно, тогда погуляй. Скоро начнется фильм. Наши ребята все тут?
— Штифтика не видел, а так все.
— Я, может быть, Юра, уйду пораньше, я этот фильм уже видел много раз. Вы тут сами разберетесь. И проследи, чтобы в туалете не дымили, а когда пойдете на улицу, не устраивайте давки у дверей. В Доме культуры с этим делом строго, не подведите.
Хорошо бы встретиться здесь с моими ребятами через много лет, подумал я, уходя.
И не только с ними, со всеми, кто был в их и моей юности. И со всеми, кто был и будет в нашей зрелости, и со всеми, кто наш навсегда. И вальс, вальс! Снова был бы вальс. Раз-два-три, раз-два-три. Вальс под оркестр. Пусть мои тут повеселятся без меня. У них своя юность, свой вальс.
Я незаметно вышел из Дома культуры к весенним тополям на улице Софьи Перовской, к каналу Грибоедова, как раз к мостику с четырьмя старинными фонарями. А потом пошел дальше, дальше, к Невскому, за него, еще дальше, к тишине, чтобы не растерять ни капли своего чувства.
Глава вторая
Редко мне бывает так хорошо и так странно. Хочется идти куда-нибудь туда, где можно встретиться с удачей или случайностью, которую, кажется, ждешь давно и все-таки не знаешь, на что она похожа. Остановись. Здесь лучше, чем всюду. Пооглядывайся.
До чего же легко после зимы без пальто и шапки, без перчаток. Воздух пьянит, дурманит, он колеблется. Колеблются дома в розовом свете, колеблется мостик в воде, словно всплывает он из глубины канала и лень ему выбираться на поверхность; молчаливые львы полощут свои странные позолоченные крылышки, и даже могучие колонны собора улеглись в темную густую воду и подрагивают, переломившись под собственной тяжестью, а всего отчетливее покачиваются, как веер, полукруглые решетки в каменной стене старинной ограды, она и тут, передо мной напротив, и там — в воде, рядом с опрокинувшимися деревьями. Нет устойчивости и в перспективе, как будто вечерний воздух стал водой: дрожат ограды набережной, плывет куда-то и подрагивает, переплетенный, как глобус, черными параллелями и меридианами, стеклянный шар над Домом книги, а вдалеке рябит и сияет какой-то ярмарочной, пряничной красой, всеми своими витиеватыми мозаичными куполами Спас-на-крови. А тут, на Невском, покачиваются прохожие, они сегодня неторопливы. Суббота. Лучший день недели. Суббота как будто вне времени, как будто на отдыхе сама связь времен. И может быть, потому мне так странно и хорошо, во мне какая-то невесомость, бесплотность и беспредельность. И ясность во мне, и чистая совесть, и правда, как будто я никогда никому ни в чем не соврал. Я жил миллионы лет до... и буду еще миллионы после... Я единый, цельный, все есть во мне, и я есть во всем.
Удивительное чувство быть и не быть в одно и то же время, находиться тут и где-то там... стоять на крошечном клочке земли и догадываться, что под тобою огромный шар, планета; качаться, прыгать, нестись во времени и пространстве и все же стоять двумя ступнями на земле. И даже думать о том, что неплохо бы пустить корни в плотную и влажную землю, а потом поднять руки и дождаться, когда они станут первыми ветвями, на которых созреют и лопнут почки, выбросив к свету свои отважные зеленые флажки, такие же, как вон у тех остриженных тополей. Весенние соки, должно быть, распирают их стволы, может быть, даже журчат под корою; то кипит земная кровь. Она, наверно, и во мне. И вот уже хочется побежать, или прыгнуть, или заорать что есть мочи — ни для чего, просто так, чтобы оглохнуть от этого крика, а потом дождаться эха, обежавшего вокруг всей земли. Мне хорошо, мне лучше, чем всем.
Им лучше, чем всем. Вот им — жениху и невесте. Белая фата, белое платье. Идет, как Снегурочка. Медленно, чинно, под руку со своим принцем. Подружки, друзья, родители, родственники — все свидетели счастья, как разноцветный шлейф, позади, за молодыми. А вот и свадебные машины. «Волга» в ленточках, в цветах. Глуповато-восторженная кукла с русыми косичками вразлет примостилась посредине лобового стекла. Расселась свадьба по машинам, и покатили всех куда-то кольца колес. Горько! Горько, молодые!
А когда наконец ты сам, Леонид Михайлович, станешь суженым, супругом? Майка правильно спросила. Что-то затянул. Скоро тридцать, а все еще на выданье. И уже горький опыт чему-то мешает.
...Может, все-так позвонить? Ей? Ему? Будущему или прошлому?
Может, Володьке? Нет, он, конечно, на рыбалке... А может быть, Катюше? Скажу: «Здравствуй, это я, ты еще меня помнишь?» А дальше что? А вдруг ее нет в Ленинграде? Или вышла замуж? Сколько времени прошло...
Позвоню лучше Зое. Не был давно. Все дела, все никак. Ну что ты оправдываешься? Она хоть раз требовала от тебя отчета? Она-то не требовала. А ты? Кто ты ей?
Стой и смотри. И не думай ни о чем еще хоть немножко. Просто смотри и дыши. Вон трава, а вон небо. Вон люди, а вон птицы. А вон мама и дочка едят мороженое из одного стаканчика. А вон дворник метет улицу.
А не позвонить ли мне... Стой! Смотри! Ты на земле, ты дожил еще до одной весны, ты можешь пойти влево, вправо, ты тут и везде...
Но вот уже шагнул, и телефонная книжка сама просится в руки, как будто на потершихся ее страницах ожили не номера телефонов, а голоса, лица, жесты — вся память прошлого. Она все отдаленнее, нас разделяет молчание. Как давно я не слышал многие из этих голосов. Вот с этим расстались, и как будто навсегда, и нет нужды встречаться, а вот сюда звонить нет смысла. Переменился телефон? Все переменилось. Все дела, случаи, не те орбиты, — грустно. А вот с этим поссорились. И все же позвоню. А вдруг мы ошиблись, погорячились, как это часто бывает в юности? Или не стоит? Натуру не переменишь. И все же, Леонид, ты давно не виделся с этим своим прошлым — позвони на счастье, хоть просто так, на полслова, а вдруг...
— Алло, можно Мишу?
— Это я. А кто спрашивает?
— Миха, привет! Как живешь? Это Ленька Ефремов. Не узнал? Да ты что! Теперь узнал? Сто лет не виделись. Ну как ты там? Да не кричи, спокойнее.
— Свадьба, Лирик! Свадьба! Гудим вторые сутки!
— Чья свадьба, твоя, что ли?
— А чья же еще?
— Поздравляю, Мишка! Кто жена? Светка или, может быть...
— Сюрприз, Лирик, большой сюрприз. Увидишь — упадешь. Бери такси и гони. Мы недалеко от общаги, у моих родственников. Ты знаешь. У меня тут большой сбор. Гони!
Вот это номер — Мишка женится. Интересно, кто она?
Я купил белые гвоздики, завернул в газету, пошел пешком. Цветы держал то в правой руке, то в левой, то слишком высоко, то чересчур низко, — нелепый, должно быть, был у меня вид: вышагивает этакий растерянный кавалер в новеньком костюме и, как веник в баню, тащит роскошные цветы. Кажется, все мужчины не умеют их носить. Нет, не все. Вот, скажем, Мишка. Уж он-то знает, как носят цветы, преподносят подарки, и вообще...
Мишка знал о жизни, кажется, все, по крайней мере в те годы, когда мы вместе учились в Индустриальном техникуме. И друг о друге тогда мы знали как будто бы все. В общежитии наши койки стояли рядом, мы были соединены общностью тайн, перемигиваний, вечернего полушепота, мы были вроде земляков, мы всегда были неразлучны. И где только нам не приходилось бывать вместе: на танцах, в театре, на вечеринках и чинных семейных торжествах. Я видел Мишку и на ковре для борцов, ползающим на четвереньках и привставшим на «задние лапы», готовым вот-вот броситься на врага разъяренным медведем. Ковер для борцов мне много рассказал о Мишке. Я слышал, как он кряхтит и стонет, освобождаясь от жестких объятий своего разгоряченного противника, видел, как швыряют его через голову и как швыряет он сам кого-нибудь, как горит от нелегкой схватки и поражения его осунувшееся лицо, как растягивает он тонкие губы в улыбке, когда судья поднимает его руку вверх.
Мишка любил победы. Боролся за них азартно и удачливо. Он, кажется, всегда, с детства, считал себя удачливым человеком. Не повезло сейчас — повезет потом, обязательно повезет, верил он. Так оно, в общем, и получалось. Легко учился в школе, незаметно окончил ремесленное училище, почти без поражений добился первого разряда по борьбе, спортивное звание помогло вне конкурса поступить в техникум, в наш особый Индустриально-педагогический, где присваивалось воинское звание, как в институте. Удачи сами охотно шли Мишке навстречу, а может быть, это все-таки он умело шел навстречу удачам, приятным приключениям, нужным людям.
Ему, кажется, не были знакомы ни отчаяние, ни уныние. «Отмахаемся», — говорил он, если ему бывало худо, и действительно махал рукой. Только не на девушек. Он любил, кажется, всех сразу: рыженьких, беленьких, худеньких, полненьких. Какова же теперь она, та, которую он выбрал? Можно не сомневаться: уж он-то не промахнется. Он и свадьбу устроил, должно быть, такую, чтобы запомнилась всем, как обещал когда-то. Гулять так гулять. Интересно, есть ли там сейчас кто-нибудь из нашего общежития? Все-таки свадьба! И день сегодня подходящий. А какой вечер!
Что-то есть в этих весенних вечерах щемящее, наверно от пробуждения всего — души и тела, света и воды, желаний и предчувствий. Вот-вот должно случиться что-то невероятное и такое необходимое. Обнять бы кого-то, и вот уже руки нараспашку. И глаза. Мои и чужие. Они как будто просматриваются до самой глубины, оттаяли и расцветают. Смотрите, девчонки, вот я. Весна оживает во мне, мальчишество, хоть я уже не мальчишка. И я буду идти и идти, буду со всеми и ни с кем. Я улыбаюсь, мне хорошо, я иду на свадьбу. Привет вам, девчонки, привет вам, все, все люди, привет вам, дома с такими на редкость отмытыми окнами, привет вам, такси и троллейбусы. Мне уже близко. Вот пересеку площадь перед Техноложкой, а там уже рукой подать до «Семи красавиц» — наших улиц с женскими названиями: Верейская, Рузовская, Можайская — это моя улица. По ней я ходил много зим и весен; там, на берегу Обводного канала, на седьмом этаже, у самого неба, жили не боги, а мы — парни из техникума, все как один мечтавшие встретить когда-нибудь по весне самую любимую и красивую из всех девушек на свете.
Глава третья
Любовь, единственная и самая счастливая встреча, — кажется, не было когда-то и дня, чтобы в нашей комнате не говорили об этом. И мечты и самые невыносимые мучения — все было связано с девушками. Порой мне казалось, что вообще нам всем хочется по-настоящему только одного — любить и быть любимыми.
А разве не так? Разве семья — не главное? У меня есть товарищи, работа, к которой я стремился, есть у меня и жилье, комната, пусть чужая, напрокат, но она мой дом, и разве я не испытал уже не раз, как бывает в ней пусто и одиноко, потому что я все еще «одинокий бизон», как называл себя когда-то Мишка.
Он-то бывал одиноким лишь на время, не хотел ни с кем связываться надолго, считал это не модным и лишней обузой, высмеивал всех, кто, по его словам, «влип в затяжную историю». Таким был Федор.
Да уж, Федя был женихом, можно сказать, старомодным, или, лучше, традиционным. Он мечтал жениться сразу после окончания техникума. Уехать в деревню к невесте и там отпраздновать свадьбу.
В Фединой натуре чувствовалась деревенская основательность. Мишка, посмеиваясь над Федором, все не мог понять, как это его полюбили — такого неуклюжего, косолапого, медведеподобного парня. Ему было легче разгрузить вагон угля, чем решить самую несложную задачу по математике. Он и говорить-то не умел, как все: шепелявил, неправильно делал ударения, любил всякие вспомогательные словечки. Все казалось в нашем Феде грубым, неотесанным, прямолинейным, и парни потешались над целой дюжиной его пластикатовых галстуков, над фетровой шляпой. Федя помалкивал или добродушно отшучивался. Но однажды Мишка хихикнул, разглядывая фотографию Фединой невесты. Фотокарточка всегда стояла на тумбочке. В картонке с подставкой, — она была в виде сердца, с голубком и голубкой в двух верхних углах замысловатой виньетки. Деревенский фотограф к тому же еще подмалевал губы и щеки девушки, приятной, милой, с добродушной улыбкой на лице и с косой через плечо. Тут уж Федя ощетинился. Он поднес к Мишкиному носу свой здоровенный кулак и прошептал: «Ты хоть и самбист, а рожу я тебе расквашу, понял?!» И Мишка понял.
Федор высылал посылочки матери и невесте. Он это делал аккуратно, каждый месяц, готовился заранее. Днем учился, а вечером ходил на Московский вокзал разгружать вагоны, там за это неплохо платили. Ящик для посылки Федя загружал при всех нас — это были торжественные и веселые минуты. Федя показывал каждую вещь, которую он собирался отправить, говорил, кому она предназначалась: матери, сестре или невесте, а потом вспоминал, где он купил свой подарок, как стоял в очереди и как трудно было успеть сбегать за деньгами. Федя наполнял фанерный ящичек платками, косынками, конфетами и всем прочим так бережно и любовно, что, как бы ни относились мы к этому, у каждого, должно быть, появлялось уважение к Фединой верности и какой-то особой надежности его чувств и правил жизни. В такие минуты даже наш Славка Греков, не жалевший ради красного словца ничего на свете, шутил с осторожностью.
В нашей комнате хорошо была известна каждому печальная история обманутой любви Сереги, сержанта, уже отслужившего армию.
Сергей родом из небольшого районного центра. Уходил в армию, как все, с шумной отвальной, и, прощаясь со своей любимой, поручил опекать ее самому лучшему своему другу. Были и клятвы, и обещания, и все-все, что происходит в таких случаях, а потом... Потом Сергей узнал, что два самых близких ему человека — он и она — полюбили друг друга. Что делать в таких случаях, никто не знает, каждому приходит в голову свое. Приехать, набить другу морду — вот что не терпелось сделать Сергею. Но кто отпустит его домой по такому поводу?..
И вот конец службы. Сергей идет по знакомой улице с чемоданчиком, с шинелью через руку и встречает их — ее и его. Они уже муж и жена, его друг детства и первая в жизни любовь.
Кажется, давно это было, пора бы уже и забыть, но не получалось. В глазах его всегда была грусть. Часто он брал в руки гитару, подходил к окну, ставил ногу на стул, запевал безголосо и задушевно: «Я по тебе соскучилась, Сережа», и мы понимали, что он скучает о ней...
— Она меня переменила, перекорежила, — признался мне однажды Серега, когда мы с ним ходили по весенним улицам, вот в такое же время, как сейчас. Просвечивали на солнце первые листья, еще с ноготок. И все казалось омытым, очищенным.
— Она ведь не просто обманула — из-за спины, с подковыром, с ножом, — убеждал меня Сергей. Я понимал его боль и все-таки не хотел полностью соглашаться с ним, я всем сердцем желал ему вылечиться как можно скорее от его «болезни», а себе желал, чтобы миновала меня его беда.
— Уж лучше действовать, как Мишка, — поставил тогда точку Сергей.
«Не то, не то он говорит. Все не то...» — думал я тогда и пытался разубедить приятеля. И мое предчувствие «не то...» подтвердилось вскоре.
Однажды Мишке удалось незаметно провести в нашу комнату какую-то свою очередную «деву» и оставить ее до утра. Рано-рано незнакомка поднялась с постели, повернулась ко всем спиной и начала заправлять койку, разглаживать одеяла, простыни, пока Мишка курил и ждал, позевывая, — скорее бы все кончилось.
Утро застало незнакомку врасплох. То утро и нас всех тоже застало врасплох, и, кажется, не только тех, кто был в комнате, а как будто во всем мире всех мужчин и женщин застал, «застукал» рассвет, и мы оказались виноватыми и беззащитными друг перед другом.
Большая душная комната была жильем мужчин и только мужчин: высовывались из-под одеял волосатые ноги, коротко остриженные головы, вовсю сопели носы, висели на спинках стульев и кроватей брюки, и даже краска на стенах была сурового цвета. Скорее бы незнакомка покинула комнату! Она уходила на цыпочках. Как вздох облегчения был скрип закрываемой двери.
Желание, зависть, ужас, стыд и отвращение — все перемешалось тогда во мне. Но самым сильным было чувство надежды, что у меня все будет не так, иначе, чище и лучше. Я был уверен, что не только я один так думаю и жду чего-то иного, а и другие ребята, и даже сам Мишка.
Не забыть мне одного раннего осеннего утра, когда все в комнате еще спали, а я открыл глаза и сразу почувствовал себя бодрым и увидел белую люстру на потолке и переплетенные, как паутинные сети, трещинки на штукатурке. Вот возьму и подойду к ней и скажу: «Здравствуйте, не удивляйтесь, я давно вас люблю...» Нет, не так: «Катюша, мы должны быть мужем и женой. Мне кажется, я знаю вас давным-давно, я люблю вас. А вы?» Я встал, подошел к окну. Увидел пасмурное небо, прокопченный апрельский снег, раннюю электричку, похожую на гусеницу, — она переползала через черный железнодорожный мост над Обводным каналом, хорошо было слышно, как постукивают колеса; увидел я на берегу канала старые дома, косые, унылые крыши, озябшие, чахлые деревья и огромного черного пса, — он бегал, тыкался мордой в снег, а невдалеке от него стоял хозяин, подняв воротник пальто и спрятав руки в карманы. Ему, наверно, было холодно и неуютно. Я даже попробовал мысленно влезть в пальто незнакомца, нет, в его кожу, а этого не стоило делать. Я так был переполнен собой, своими радостными чувствами, что столкнулся с холодом и неуютом, как сталкивается с водой прыгающий с вышки.
Виляя хвостом, собака подбежала к мужчине, ткнулась мордой в его колени, привстала на задние лапы и быстро лизнула в лицо своего повелителя и друга. Мужчина не оттолкнул собаку, он потрепал ее уши, погладил по спине, а потом обхватил, обнял собачью морду и припал к ней головой, и замер так, и черная большущая псина не вырвалась, даже не попыталась освободиться от объятий, она все поняла. И я как будто что-то понял.
Вдруг все стало иным: и снег, и дома, и небо, и крыши, и люстра под потолком, и двенадцать коек, тесно прижавшихся одна к другой.
Вот лежит на тумбочке Мишкина электробритва, новинка, которую он долго никому не хотел давать, а теперь ею бреются все.
А вон спит Матвей Захаров, горбун. Долго мы все думали, что он сумрачный человек. Матвей копил деньги, отказывал себе во всем, не покупал даже хлеба с колбасой, как делали все после несытного ужина в техникуме. «На что же он так упорно копит деньги?» — думали мы и не могли догадаться, и не догадались бы никогда, потому что никому не могло прийти в голову, что Матвей собирается купить на свои сбережения проигрыватель и набор пластинок, чтобы в нашей комнате было не хуже, чем у других, чтобы и у нас вальсировало, фокстротило, твистовало вовсю.
А вот скрючился на своей кровати худущий и непоседливый Игорек Николаев. Он как-то накормил меня сочным репчатым луком и домашней ветчиной. Накормил с улыбкой, с удовольствием.
А подальше спит Ваня Никифоров. Он просидел однажды со мной всю ночь, выправляя мои чертежи.
Я стоял у окна, разглядывая товарищей по комнате, будто впервые их видел, и думал о том, что когда-нибудь, когда мы станем совсем взрослыми, и устроится наша жизнь, и каждый найдет свою любимую, и свой дом, и свое дело по душе, мы, быть может, встретимся вновь. И тогда обязательно бросимся друг другу навстречу и обнимемся, не сможем не обняться, потому что мы четыре года жили в этой комнате, дышали одним воздухом, зубрили по одним учебникам и набирались жизненного опыта для себя и для своих будущих учеников.
Многое у нас было общим и одинаковым, но только не характеры. И все же, мне кажется, мы успели передать друг другу нечто такое, что осталось в каждом из нас на всю жизнь...
Вот бы встретиться нам всем на Мишкиной свадьбе. Поговорить, повспоминать. А может быть, я что-то преувеличиваю, чересчур расчувствовался: весна, белый букет в руке и ждет меня сюрприз, вроде того, что устроил мне Мишка когда-то...
И вовсе, может, не стоило бы мне идти к нему, уж сколько раз мы сходились и расходились, — мы разные. Даже очень разные. Но, может быть, именно эта непохожесть влекла нас, бывало, друг к другу, а теперь... у нас есть общее прошлое, и, как говорится, старый друг лучше новых двух.
Глава четвертая
Орет радиола. Окна настежь, пусть слышит вся улица, весь город: Мишка женится!
А на лестнице тихо. Дверь обита дерматином — крест-накрест утоплены в мягкое рыжие шляпки еще новеньких обивочных гвоздей.
Я не успел нажать кнопку, как дверь распахнулась сама собой и вышел он, жених. В черном костюме, в белой рубашке с галстуком, волосы на пробор, лицо потное, глаза торжествующие и чуть-чуть обалдевшие.
— О-о! Приффет! Ты с букетом! — Мишка полез обниматься.
— Будь, — сказал я.
— Буду, — сказал он.
— Чтоб любовь до гроба, — сказал я.
— До белых тапочек, — подтвердил Мишка, все еще обхлопывая меня. — Ты входи, входи, я сейчас.
— А куда ты?
— Водочки, боюсь, маловато, я быстро.
— Давай лучше я. Жениху не положено.
— Сегодня очереди. У меня тут свои.
— Тогда вместе. Пробежимся хоть напоследок вместе.
— Зачем бежать? У меня мотоцикл.
— Какой мотоцикл?!
— Ерунда, женихи пьют только шампанское, не бойся, на моем мотоцикле никто не спросит.
— Стал начальством?
— Ну, не очень, но все-таки. Устроился в ГАИ. Вон тачка. Там, во дворе, у сарая.
Казалось бы, мотоцикл как мотоцикл — два цилиндра, три колеса и три большие буквы: ГАИ.
Мишка подошел к мотоциклу, стал зачем-то копаться в зажигании, — должно быть, его мотор с секретом, чтоб не угнали.
— Мишка! Как же так?
— Ты о чем?
— Да вот удивляюсь, что ты стал гаишником.
— А что тут удивляться? Зарплата, положение. Все, что надо.
— Так-то оно так, но ты ведь... — я не договорил. Зачем же было столько учиться на механика и педагога, а потом так круто изменить своей профессии, да и своей натуре, — Мишке, по-моему, больше было свойственно нарушать всякие правила и обязанности, а тут на тебе — король дорог, страж порядка.
— Не удивляйся, Ленька, ты еще, я смотрю, так и не раскусил жизнь. Многие из наших пошли кто куда. «Рыба ищет, где глубже, а человек, где... рыба» — так ведь говорится?
Я промолчал. Смотрел на приятеля, и росло во мне чувство дистанции — он и я, прошлое и настоящее, наши бывшие мечты и реальность. Наверно, я напрасно удивляюсь, Мишка всегда хотел быть на коне...
— Ну, вот и поехали, — сказал он. Два раза качнул кигстартером вхолостую, а потом еще разок, — мотор глухо и мощно заурчал.
— Работает как часы, — сказал Мишка.
— Еще бы, — подтвердил я. — Уж кто-кто, а мы с тобой в моторах поковырялись.
— Ты думаешь, я сам ремонтирую? Вот еще! Теперь мне любая мастерская, любой гараж сделает все — только намекни.
— Ну и лафа у тебя теперь, — сказал я радостным и даже восторженным голосом. Слишком радостным и восторженным.
— И вообще, Ленька, теперь у меня все немного по-другому. Командовать — не подчиняться, сам знаешь. Я хоть и небольшой, но офицер, куда ни войду — почет и уважение. — Мишка сказал это с полуулыбкой, мол, знаю, что хвастаюсь.
— У тебя то же звание, какое нам присвоили в техникуме? — поинтересовался я.
— На звездочку побольше. Для симметрии, — опять улыбнулся он. — Я сейчас, — он вошел в гараж и вскоре появился в плаще с погонами. — Без формы на этом мотоцикле не положено, — объяснил Мишка. — Застукают, влепят выговор. А я тут после дежурства оставил свою одежду.
В милицейской форме Мишка стал внушительным и грозным. Правая бровь, рассеченная когда-то в драке, придавала его лицу даже некоторую свирепость — уж такой не отпустит...
Мишка положил руки на руль, прибавил газу, мотор взревел и затих, и снова его заставили завыть и зачихать на высоких оборотах.
— Не нравится мне, как он работает на малых, — в сердцах сказал Мишка. — Не люблю грубой работы. Тут надо, чтобы все было тик в тик. Гаишнику стыдно на плохом моторе...
Я улыбнулся, мне показалось, что Мишка нарочно привередничает. Он заметил улыбку.
— Поездил бы с мое, и ты бы стал разборчивым.
Что-то все больше раздражало меня в Мишке. Он был и прежним и новым. В его обычном, в общем-то свойском тоне появились нотки развязности и какого-то особого кокетства, как будто он разговаривал не с товарищем, а с обласканным подчиненным или, вернее, с каким-нибудь водителем автомашины, который хоть еще ничем не проштрафился, но все впереди, а наказание или помилование будет зависеть от Мишки. Он и смотрел на меня так, словно думал о другом или чего-то не договаривал. Ни он, ни я теперь не знали, что делается в наших душах, когда мы произносим слова, в чем же мы одинаково твердо уверены.
— Я сейчас, я быстро, — сказал Мишка и резким движением открыл багажник, достал сумку с инструментами. Сумка была из добротной коричневой кожи, с большими застежками, с удобными клапанами для ключей, напильников и отверток. Такую сумку я видел впервые, взял ее в руки:
— Хороша. Всем выдают?
— Досталась случайно. Подобрал. Разбился один «Москвичок», а багажник вывернуло. Смотрю, лежит эта штука. Ну и взял. Все равно бесхозная.
— А водитель?
— Насмерть.
Я представил себе развороченную машину, погибшего водителя, распахнутый багажник и Мишку. Он догадался, что мне все это и страшно и противно.
— Все мы рискуем, — сказал он. — Нас тоже судьба не жалеет. Почти каждый день какие-нибудь приключения. Ездить надо, сам понимаешь, с ветерком, дело требует.
Я положил сумку на землю. Мишка отрегулировал работу мотора, и мы поехали.
Мотоцикл рванулся с места, словно захотел подняться на дыбы. Поворот вправо, влево, меня швыряет то в одну, то в другую сторону, это мы обогнули сквер, и вот уже подкатили к проспекту. Мне показалось, что Мишке стоило только взглянуть на бегущие машины, как они притормаживали.
Да уж, так может ездить только хозяин дороги: свободно, нетерпеливо обгоняя всех, соблюдая и в то же время пренебрегая строгостью правил. Больше всего Мишке не нравилось пережидать желтый свет. Он нервно поигрывал газом и выползал на пешеходную дорожку или перекресток несколькими мгновениями раньше, чем успевал загореться зеленый свет светофора. Там, где стояли регулировщики, Мишка был еще более нетерпеливым, проезжая, он кивал милиционерам, а те козыряли в ответ и улыбались ему.
Когда мне было лет семнадцать, помню, взял меня на прогулку один парень. Он считался самым авторитетным на нашей улице. Все пацаны первыми с ним здоровались, протягивали руки, а он их едва-едва пожимал, бросая небрежно обо мне: «Это мой кореш!» И я, хотя в общем-то и понимал несолидность своего положения пристяжного, все-таки был горд, даже важничал, невольно принимая чужую власть за свою. Так и теперь, когда я ехал с Мишкой, я сам как будто становился инспектором ГАИ.
Мимо нас на большой скорости промчалась «Победа».
— Ну и нахал! — крикнул Мишка. И ветер засвистел у меня в ушах. Мы даже выскочили на трамвайные пути левой стороны улицы. По булыжнику мотоцикл затрясся, как в ознобе. «Победа» уходит. Нет, мы нагоняем ее. Мишка еще наддал, и теперь уже страшно стало сидеть в бешеной колеснице.
— Оставь его. Скользко! — закричал я.
— Мы ему сейчас сделаем! — крикнул Мишка.
И мы ему «сделали». Еще несколько минут бешеной гонки, и вот мы уже на хвосте у «Победы». Мишка пошел на обгон. Мы бросаемся машине наперерез. Скрип тормозов, нас протащило юзом, слегка развернуло. Мишка сидит, как сидел, и не оглядывается на машину; она здесь, он знает, что она теперь прилипла, засохла, увяла. Мишка лениво стаскивает с рук краги.
Водитель «Победы» — немолодой, лысый толстяк, и не подумаешь, что такой любит отчаянную езду.
— В чем дело, товарищ лейтенант? — В голосе недоумение и почтительность. А Мишка помалкивает, важничает, неохотно слезает с мотоцикла. Ну и выдержка!
— Под каким вы проехали знаком триста метров назад? — спросил Мишка тоном хитроумного экзаменатора и при этом смотрел на меня, а не на растерянного водителя.
— Триста метров назад, говорите?
— Да, именно триста, а не пятьсот и не тысячу, — строго сказал Мишка, все еще не глядя на водителя — смотрел на пешеходов, на пробегающие машины, себе под ноги.
— Триста метров... это, что ли, там разве где-то... может быть, я чего не заметил, только навряд ли, а в общем, не знаю...
— Ваши права, — простодушно и даже как будто ласково сказал Мишка.
— Товарищ лейтенант, ну черт его знает, ей-богу не заметил. Оштрафуйте уж лучше.
— Ваши права, — еще простодушнее и более ласково повторил Мишка, впервые удостоив водителя взглядом.
Тот насупился, начал шарить по карманам. Медленно забирался то в один, то в другой. Наконец вытащил небольшую книжечку. Мишка взял права, не спеша раскрыл их, прочитал слева страницу, справа, проверил талон:
— Две дырки уже есть, будет третья, — сказал Мишка.
— Товарищ лейтенант, — взмолился водитель. — Да уж лучше штраф какой угодно. Там в книжечке лежит, возьмите.
— Это что, взятка? — строго спросил Мишка.
Водитель молчал, не зная, что ответить. Он только переминался с ноги на ногу.
— Я спрашиваю, взятка?
— Товарищ лейтенант. От чистого сердца. — Он сложил руки на широченной своей груди.
— Все ясно, гражданин. Я с чистым сердцем забираю у вас права. Вы превысили скорость и предлагаете взятку инспектору. Будем разбираться в ГАИ.
— Товарищ лейтенант! — чуть не закричал толстяк. Голос его, и без того тонкий, срывался теперь на писк. — У моей дочки свадьба! Спешил, понимаешь, подарки ей привезти. Что же я теперь буду делать без прав?
Мы с Мишкой переглянулись. А толстяк продолжал:
— Пятнадцать лет за рулем, и все с одними правами. А тут вот, дурак два уха, не заметил, ну ей-богу не заметил я этот знак, будь он неладен. С этой свадьбой не то что знак, голову проглядишь. Вот станете, молодой человек, папашей, поймете мое самочувствие.
Мишка помолчал.
— Свадьба — дело уважительное, — дружески сказал он, возвращая права.
— Скоро он поймет ваши чувства, — заметил я обрадованному водителю. — Сегодня как раз женится.
— Да ну! — театрально растопырил руки толстяк. — Поздравляю, от чистого сердца поздравляю. И чтоб всякие у вас были: и серенькие, и беленькие, и в полоску. С детишками трудно, а без детишек еще труднее. Подождите-ка, я сейчас. — Водитель торопливо подошел к своей «Победе», порылся там и понес к нам, сияя от благодарности и удачи, бутылку вина.
— Товарищ лейтенант, не побрезгуйте. От чистого сердца. Я это сам делал. Из вишни. Настойка как раз для молодоженов. Берите, у меня еще есть. Я к свадьбе готовился основательно. Берите, берите.
Мишка взял бутылку. Взболтнул ее, постоял, подумал, передал мне.
— Спасибо, — сказал он. — Но все-таки нарушать правила не советую. А то по дороге все бутылки раздарите.
— Что вы! Я уж теперь поползу черепахой, — заверил водитель, влезая в машину. Упитанное его лицо благоговейно улыбалось, но в глазах было еще и такое, что появляется, когда упадешь и нужно отряхиваться на людях.
Мишка подошел к мотоциклу, тот все еще подрагивал на малых оборотах.
— Видишь, какая у меня работа? Перегнешь палку — плохо. Недогнешь — тоже плохо.
— А взятки часто предлагают?
— Да когда как. Только это ни к чему. Уж если по-человечески, вроде как сейчас. Тут ведь не возьмешь — обидится. Зачем старику настроение портить? Так я говорю?
— Да вроде так.
— Сам пойми, закон законом, а жизнь жизнью, тут как повернешь. Мне ведь ничего не стоило его наказать. — Мишка проводил взглядом медленно уезжающую «Победу». Шофер кивал и улыбался. — Но я думаю, лучше человека сначала припугнуть, а потом помиловать. Он и урок этот запомнит, и сердце у него на месте. Он теперь знаешь как будет обо мне вспоминать? Ему теперь все гаишники покажутся братьями.
— А может быть, лопухами? — не удержался я.
— Ну, знаешь! Мы хоть и проходили с тобой педагогику, но ты, я смотрю, не педагог. Вспомни-ка Скрип-скрипа.
— Павла Ивановича?
Я хорошо его помнил. Сухой, высокий, сумрачный с виду, он долго ходил перед черной доской, не обращая внимания на нас, первокурсников. Он припадал на правую ногу, и при каждом шаге был слышен скрип протеза. Что-то пугающее было в этом. Павел Иванович подходил к окну, минуты три разглядывал стайку воробьев, а потом слышали мы голос, чем-то тоже похожий на скрип протеза:
— Ну что, будущие педагоги, воспитывать людей, учить их честности, добру и порядочности — это вам не станки собирать. Это самая трудная наука на свете, так что от меня пощады не ждите. Имейте это в виду.
«Ого-го! — подумали мы все. — Запугивает!»
Прошло четыре года, и снова ходил перед нами, припадая на правую ногу, изможденный старик. И долго молчал и смотрел в окно на воробьев, а потом улыбнулся нам доброй отцовской улыбкой и сказал:
— Ну вот и закончился ваш курс наук. Это еще были цветочки — впереди жизнь. Теперь придется потрудиться. Всякие вам встретятся ученики — будут среди них и мерзавцы, и негодяи, и хулиганы, а вам нужно будет превратить их в порядочных и честных людей. Учтите, трудная предстоит борьба, пощады в ней не ждите, не будет ее никому и никогда.
«Ерунда, — подумали мы, — запугивает, как в первый день».
Странно, что мы стоим тут на улице, рядом с мотоциклом, и все собираемся сесть да поехать, а не получается, как будто удерживает нас недоговоренность, из-за которой мы не знаем, отправляться нам дальше вместе или нет.
— А что, Скрип-скрип был мудрец, — сказал я. — Главное — не врать самому себе. Не станешь обманывать себя — не захочешь вкручивать и другим, чтобы все по совести, так ведь он говорил.
— Все это, Ленька, лирика, полива, — почему-то вскипел Мишка. — Не нами сказано: «Хочешь жить, умей вертеться». Все бежит, все катит на тебя, а ты на перекрестке. Тут уж, знаешь ли, место не для лунатиков. Чуть что — авария. А ты, кстати, где работаешь? — спросил Мишка.
— В училище, мастером.
— Представляю, как тебе тошно.
— Да нет, все нормально. Сначала было тошно, а сейчас...
— Врешь ты все. Что я, не был ремесленником? Не знаю, в чем там дело? Да и зарплата не ах.
— Зарплата и в самом деле не ах. Но вот в чем там дело, ты, Мишка, все-таки не знаешь. Быть ремесленником — это не то же самое, что быть их учителем.
— Ладно, мастачок, не хвастай. Попадались мне нынешние ремесленнички. Между прочим, я кое-что и о тебе знаю. Что-то я не заметил, чтобы твои воспитанники поумнели.
Что это он обо мне знает? От кого, откуда? Но спрашивать было трудно.
— Педагоги, видишь ли, Мишка, разные. Есть и такие, вроде тебя, — сказал я. — У одного винишко возьмут, у другого инструментик, третьему дырку в талоне делают за просто так.
Я смотрел на Мишкино самодовольное, властное лицо, и ярость пробуждалась во мне. В нем тоже.
— Ты это брось, Лирик. Не кусайся понапрасну, ты меня знаешь. — У Мишки даже голос сел.
— А ты меня не кусаешь понапрасну? Или мой перекресток не слишком видный? Или тебе уже теперь все одно, что машины, что люди? Почему этот улыбчивый сразу тебе взятку предложил?
— Что это значит?
— А то значит, что берет кто-то один, а предложить водитель уже готов любому. Ты вот взял бутылочку от чистого сердца. А было ли чистое у того — не знаю. Он ведь расскажет соседу, как ловко отделался. Это твоя педагогика? Ты знаешь, на чем это все замешано и чем пахнет?
— А ты что, святой? — спросил Мишка язвительно.
— Святой не святой, но пацаны мне верят. Понимаешь, верят. И я этим горжусь. — Неприятно мне стало, что расхвастался, и все-таки продолжал: — Я знаю, что учу их не только работать. Жить я их учу. По правде и по совести. Но пока они у меня — это одно. А вот выедут на мотоциклах к тебе на перекресток — могут оказаться совсем другими.
— Да что ты на меня прешь?! — развел руками Мишка. — Кончай ты, все-таки у меня свадьба, — улыбнулся он.
— Прости, — сказал я. — Завелись мы, как два дурачка. Поехали, а то еще подумают, что ты убежал из-под венца.
Я далек был от высокомерия или пренебрежения к Мишкиной работе, я понимал, что дело не в том, как называется работа, а в том, как живется со своим делом. Понимал еще, что на Мишкином перекрестке слишком много безоговорочной власти.
Снова ветер в лицо, мы обгоняем кого-то, и нас обгоняют.
— Ты в том же училище, куда хотел?! — крикнул Мишка на ходу.
— В том же! — крикнул и я в самое ухо.
— На Петроградской?!
— Там же, в моем бывшем! А что? Устроить кого надо?
— Нет! Просто мир тесен!
— Что имеешь в виду?
— Да так просто!
О чем он, елки-палки?!
Повороты, машины, ветер, тряска, надо бы помолчать. При такой скорости охнуть не успеешь. Что и говорить, Мишкина работа не из простых. Тут нужен характер, и сила, и уверенность в себе. Водителей тысячи, и каждый не прост.
А в чем моя сила? В моей группе двадцать семь учеников. Пока я главный в их жизни.
Да уж, мастак, ученички твои народ ой-ой. Какими отчаянными они бывают, когда дело касается их самолюбия, какими изворотливыми, хитроумными, когда что-то им не на руку, невыгодно, против шерсти. Что же делать тебе, мастер, какими способностями и талантами нужно обладать, чтобы властвовать над бузливой оравой? Рукоприкладство — нельзя, срываться на крик тоже никуда не годится. Жаловаться начальству — недостойно. Развлекать трепотней, занимательными историями? Нет, загубишь дело.
Педагогических запретов и ограничений — не счесть. Так в чем же, мастер, твое главное — то, на что ты рассчитываешь?
Если ты хороший специалист, ребята это поймут и станут тебя уважать. Но одного только знания дела мало. Ты должен красивее всех других мастеров одеться, когда идешь на училищный вечер отдыха; должен быть умнее и лучше всех на собраниях; ты должен быть и спортсменом, и затейником, и радиоконструктором, и мечтателем, и философом, и футбольным болельщиком, и боксером, иначе тоже можешь потерять уважение. А когда тебя отчитывает начальство при всей группе, ты должен так держаться и так отвечать, чтобы никто не назвал тебя трусом или подхалимом, — иначе все, крышка! И если кто-то кого-то поколотит, постарайся разобраться как сам царь Соломон. Никто не должен усомниться в твоей справедливости.
Не задавайся, Ленька, каждому свое, и всякий по-своему мастер.
Глава пятая
Свадьба! Длинный коридор загроможден мебелью: шкафы, трельяж, телевизор на массивной тумбе и даже полосатый матрац, его поставили «на попа». Какой-то плотный смазливый мужчина с веселыми глазами навыкате прислонился к нему, рядом с ним девушка, оба курят взахлеб и толкуют о чем-то забавном.
— Лучшие люди, — сказал Мишка. — Знакомьтесь.
— Виктория, — пропела девушка и сунула мне свои безвольные пальчики.
— Владимир Самохлебов, — сочным баритоном представился мужчина, не жалея сил на рукопожатие. «Какая сытная фамилия у этого крепыша», — подумал я, шагая дальше вслед за Мишкой.
Дым, как туман, клубится в коридоре. Душно тут, шумно, пьяно. Гремит радиола. Уж конечно, полгорода собралось к Мишке на свадьбу. Есть ли тут хоть кто знакомый?
А вон Серега-сержант выползает из ванной: челочка на глаза, а глаза уже на давнем веселе, едва приоткрываются, и все же увидел меня:
— Привет, Ленька. Здорово, друг!
И он стал меня мять, обхлопывать и расхваливать всем, кто был поблизости или проходил мимо. Я был смущен, и рад, и не знал, куда же мне скрыться от шумного внимания, которое, наверно, всегда в таких случаях в избытке достается новенькому и еще трезвому гостю.
— Все прекрасно! — шумел Сергей. — Все, как бывало на фронте, верно, Леньчик? Ах ты, корешочек ты мой ненаглядный, и как это надумал сюда прийти? Вы же с Мишкой вроде того... как в море корабли, я помню...
— Случайно, Серега. Затосковал что-то по нашим прошлым временам, вот и звякнул-брякнул. Я как чувствовал, что и тебя тут встречу.
— А как твое ничего?
— Да ничего себе мое ничего.
— Женился?
— Нет пока.
— Я тоже. Все счастья не найду с тех пор. И как это он тебя пригласил?.. — Сергей посмотрел на меня с каким-то пьяным жалостливым сочувствием.
— Ты о чем, Серега? О том, что было у нас с Мишкой? Не такой уж он злопамятный.
— Да не о том я. Худо будет тебе, Ленька, если не прошло.
— Что-то не пойму я тебя, Серега, надо бы выпить для ясности, а то конный пешему не товарищ, сам знаешь.
— Давай-давай, штрафничок, идем в комнату, — и снова он заглянул мне в глаза, снова пьяно и сочувственно собрались уже отчетливые морщины на его лице: повзрослел Сергей, даже можно сказать — постарел, это только кажется, что время идет незаметно.
— Значит, ты ничего не знаешь? Или знаешь? Тут есть одна штучка-дрючка-заковычка. Мишка ничего тебе не говорил?
— А что такое он должен был мне сказать? — с недоумением уставился я на Сергея, но так он и не ответил мне, нас кто-то подтолкнул в спину, и мы разом очутились в комнате.
Квадратная, неузнаваемая без мебели, она показалась мне огромной. Открыты настежь все три окна, самые мощные лампочки ввинчены в люстру, слишком яркий свет слепит и смущает.
Тарелки, блюда, графины, цветы — всего полно на столе. И гостей полно, и даже, вон, кажется, Федька с женой, наверно с той самой, из деревни, — похожа. А вон и Матвей, наш молчаливый горбун, заводит радиолу — все те же вальсы, вальсы. И вот уже кто-то танцует, а кто-то кричит: «Горько!» Но кому это? Кто же тут женится?
За длинным столом вдоль окон в самом центре — старик со старухой. Он прямой, бородатый, с большими немигающими глазами. А она в платочке домиком, умильная, словно бы девушка-простушка, сморщила лицо от счастья. Будто это она выходит замуж за своего старика, и ради них шумный сбор, и будто им кто-то кричит: «Горько!!» И возбужденное, осоловелое застолье подхватывает: «Горько! Горько!»
Эх, разве так нужно было бы кричать: ни то ни се, без подъема. Может, смущает всех старинный этот клич, а может, просто-напросто все устали. Еще бы: вторые сутки «гудят». Бедняги. Вот уж работа так работа! Есть, пить, орать, веселиться.
И я бы, конечно, потрудился сейчас со свежими силами: все-таки Мишка женится, один из наших, из тех еще, из могикан, и день-то какой — суббота! И весна, и случайность встречи, и Серега мне рад, и Матвей помахивает рукой, и уже какие-то девушки улыбаются, и все бы ничего, да вот не выходит из головы и сверлит, пробирается к сердцу Мишкин намек на сюрприз и Серегины жалостливые глаза, знаю ли я...
Ладно, посмотрим, что будет дальше. Все, глядишь, обойдется, разойдется на людях. Гостей тут много.
Вон, сразу видно, из деревни: крепкие, румяные, свежие лица. А глаза разомлевшие и усталые, озабоченные, наверно оставленным дома хозяйством и ожиданием еще одного действия спектакля — вот сейчас молодые будут целоваться: «Горько! Горько!»
Горожане тоже устали. И все же с упорством кричат: «Горько! Горько!»
Один лишь парень не кричит. На нем модная вельветовая куртка без ворота. Длинные волосы почти спадают на плечи. Да ведь это же Славка Греков, наш Иностранец! Он ведь не пьет и не курит принципиально. Ему тут скучно, должно быть. О, каким он стал модняцким парнем. Он, как всегда, ничему не удивляется, наш философ и всезнайка.
И откуда ему только было известно, что, скажем, поросенка подают обязательно с хреном, а рыбу едят двумя вилками, а вот дичь можно разрывать руками.
Мы называли его Иностранцем, потому что он изучал английский и немецкий языки. И когда он вдруг вставлял какую-нибудь иностранную фразу, это означало, что Славка что-то осуждает.
Как он постарел, наш принципиальный трезвенник! И все-таки похож на себя прежнего даже с этой модной прической.
Мишка разводит руками, он один перед столом посреди комнаты. Стоит и оглядывается: где же невеста? А и в самом деле, где, ну где же она, его избранница, та, перед которой я должен упасть от удивления? Может быть, в коридоре?
Мишка туда и пошел. Что-то долго его не было. Сержант уже заставил меня выпить штрафную, уже мы разговаривали на «ты» с какой-то незнакомкой; мне подмигивают со всех сторон, как своему; увидел меня и Славка и тоже подмигнул: «Ну, поехали, за молодых!» И я, как по приказу, опрокидываю вторую стопку.
Но вот появились они, самые главные тут люди: Она и Он. Мишка вернулся в обнимку с женой. Она закрывает лицо руками и упирается. А Мишка подталкивает, подтаскивает ее поближе к столу, и разжимает руки, и сияет, и покачивает головой: мол, сейчас, сейчас все будет, смотрите.
Фата съехала на затылок невесты, волосы рассыпались по лицу и плечам, руки сжимаются, как два крыла, заслоняясь от всех. И тут вдруг я понял, кто она. Неужели?!
Мишка разнял руки невесты и ткнулся губами в ее лицо, в ее губы. Катя!
Как будто мне дали по морде, как будто меня обокрали, ограбили, забрали все самое лучшее и дорогое, что у меня было. Такое появилось во мне чувство.
Катя и Мишка! Катя и Мишка — муж и жена!
Где и что болело во мне, уж не знаю. Что-то душило меня, стали дрожать руки, я выпил рюмку водки, сразу вслед за нею еще и еще, но не пьянел.
Два кресла стояли напротив меня. Для молодых. Два бокала на длинных ножках были наполнены доверху шампанским цвета свежего меда. Белые гвоздики склонили головы над граненой хрустальной вазой. Она и Он садятся во главе застолья. Белое и черное. Бледное и румяное. Измученное и полное сил.
Мишка сейчас был особенно хорош собой и свеж на удивление. И, как всегда, свой парень. Вот если бы еще снять пиджак, сдернуть галстук и вздохнуть с облегчением. Но пока надо посидеть, как положено, нужно покрасоваться, раз этого требует традиция, — вон сколько народу, родственников, друзей, приятелей. Пейте, ешьте на здоровье, а я посижу с вами, мне нельзя много есть и пить, не положено, мне положено быть счастливым! Смотрите, я и есть счастливый, вон какая у меня жена! Расстроилась она немного, переволновалась, но это ерунда. Все-таки свадьба!
А Катя бледна, глаза потускнели, на лице слишком много пудры, и ресницы она накрасила зря, только волосы, как прежде, — шелковистые, до пояса. Уж такой невеселый у нее вид, как будто не по своей воле она выходит замуж. А по чьей же тогда воле?
Но Мишка сияет, радуется, что я обалдел от неожиданности: «Вот он сюрприз, не ожидал?»
И вдруг Катя увидела меня. Не сразу поняла, что я перед ней, на секунду смутилась, потом едва заметно улыбнулась.
— Будь счастлива, Катя, — говорю я одними губами. Услышит ли?
Услышала. Рука потянулась к бокалу, медленно подняла его, как что-то тяжелое и опасное, приподнялись веки и брови, а губы стали строже, и вот уже совсем исчезли следы мгновенной улыбки, и передо мной предстала женщина, которой я, оказывается, никогда не знал.
Все вернулось. Все! И я снова становлюсь глуповато-восторженным и в то же время стеснительным и робким, как мальчишка, и вдруг пропадают у меня все слова, какими я мог бы рассказать о ней, о Кате, и обо мне, о нас.
Еще когда-то в техникуме один приятель спросил меня: «Какая она?» Я задумался. Она обыкновенная. Нет, это неверно. Ее лицо всегда живое, энергичное, наполненное каким-то порывом, желанием чего-то очень важного и необычного. Я часто видел в ее лице соединенность обликов: вместе оказывались север и юг. И вся она такая вот — надвое. То мается, мечется, места себе не находит, и тогда всем, кто рядом с ней, бесприютно; но уж если она обрадуется — на всех людей в мире хватит ее счастья. А вот все-таки — какая же она? Приятелю я ответил коротко: «Она мне самый близкий человек».
Теперь она совсем иная: усталая, подавленная, вся в себе. «Будь счастлив, Ленька», — говорят мне ее глаза. И она выпила свой бокал.
Всем это почему-то так понравилось, что снова послышалось: «Горько!» Теперь уж и в самом деле горько, только не кому-то, а мне.
Все же сволочь Мишка! Как он мог позвать меня, когда все знал? В запале, по пьянке? От счастья? Какое там счастье, я же вижу.
— Тост! Тост! Ленька, давай тост! — стал тормошить меня Сергей.
— Отстань, отстань, Серега. Не будет никакого тоста!
— Почему это не будет? Тогда я скажу. — Мишка поднял руку.
Боже мой, как он чинно поднимается, как уверенно держит бокал, как доволен собой, как распрямляются плечи, выпячивается грудь, как он кокетливо поигрывает голосом, ну просто душка, и говорит о дружбе прежних дней, о том, что мы никогда и ни за что...
— Мы все тут старые друзья. И, как говорится, старый друг лучше новых двух. Так вот, я обещаю перед друзьями, перед родителями и родственниками, перед всеми, что все сделаю, чтобы моя Катюша была счастлива...
— Ты, главное, почаще ведро выноси, — успел вклиниться Серега под общий смех.
— Принято, — сказал Мишка. — В общем, чтобы во всем она была довольна. Каждый день ей буду говорить о любви... Жизнь прекрасна и удивительна, так ведь? И все женщины прекрасны и удивительны, правильно я говорю? Но моя жена самая прекрасная из всех. Дай я тебя поцелую, Катюха!
Он начал целовать ее под аплодисменты. И целовались они не для виду, нет. Я ошибался, что Кате плохо. Все прекрасно у нее и удивительно, как сказал Мишка.
— А я еще хочу сказать, — снова заговорил он, довольный всеобщим вниманием и успехом, — есть случайности на свете. Случайно позвонил мне Ленька Ефремов, мой старый друг, случайно мы с ним встретились на улице, случайно обогнали одного чудака, и случайно оказалось, что у того тоже свадьба, и самая большая случайность — что у него в багажнике нашлась бутылка свадебного вина.
И еще — «мир тесен», — вспомнил я. Что же такое он знает обо мне?
— А может, это яд для гаишников? — не утерпел Сергей.
— Тогда пусть криминалист района взболтнет, понюхает и распознает, а врач порекомендует нам, — у нас тут за столом все профессии, от врачей до педагогов, но прежде всего мы — пешеходы. И я предлагаю выпить за всех идущих и едущих, за тех, кто в пути, короче говоря.
— Хороший тост для гаишника, — услышал я голос Грекова.
Мне тоже понравился тост, я взял в руки нашу трофейную бутылку, протянул какому-то мужчине в очках с тонкой позолоченной оправой, тот понюхал пробочку, сморщился комично, отколупнул пробку пальцем, влил густую бордовую жидкость в свою рюмку, поднес к губам:
— Ну, не поминайте лихом, — сказал он, когда замолкли шуточки, и все вдруг на секунду поверили, что в бутылке может быть яд. Криминалист района пригубил слегка, зажмурился, втянул и без того впалые щеки, глотнул.
— Потрясающая мальвазия! — восторженно выдохнул он. И сейчас же плотный молодой мужчина с вьющимися черными волосами, тот, кто мне назвал в коридоре свою сытную фамилию, Самохлебов, схватил руку криминалиста и стал громко, точно рефери на ринге, отсчитывать удары пульса.
— Ну вот, как всегда, врач появляется только для того, чтобы констатировать аут, — язвительно заметил Иностранец.
— Не умер, он жив! — крикнул Сергей. — Дайте мне сюда бутылку!
— Леньке, Леньке отдайте, — посоветовал Мишка. Он хотел, наверно, хоть как-то сгладить мое впечатление от взятки, а может, он заметил мою вытянувшуюся морду и понял, что слишком жестоко поступил, не раскрыв тайну своего сюрприза.
Я обошел вокруг стола, разливая всем густое самодельное вино торопливого шофера. «За счастливые случайности, за идущих и едущих, за всех, кто в пути...» Налил я и Мишке, и Кате. Рука моя подрагивала, и я капнул на белую скатерть, и даже одна капля попала на белое платье. Я покраснел, обозлился на себя, стал извиняться.
— Ерунда, и солнце не бывает без пятен, — утешил меня Мишка. А Катя улыбнулась как-то странно.
— Ну, пешеходы! — прокричал Мишка. — Землепроходцы!
— Землепроходимцы, — снова язвительно добавил Греков.
— Я желаю вам счастья, удачи в пути, — закончил Мишка.
— Тогда уж надо пить за Николая-угодника, — пробасил седобородый дед. — Это он перед богом в ответе за всех идущих и едущих. Ну да уж ладно, как говорится: «Бог не выдаст, так и свинья не съест». Да будет вам, молодые, мир, согласие и удача в придачу, — заключил дед.
Тост затянулся, всем хотелось что-то сказать, добавить, не удержался и я, строчки стиха появились тут же, сами собой:
Не изменяй движениям души, Не изменяйте чувству своему. Лишь только те поступки хороши, В которых честь — и чувствам и уму.— Годится, Ленька, принято, спасибо, — сказал Мишка, встав из-за стола.
— В общем, желаю вам счастья. И еще желаю, чтобы и через несколько лет вам хотелось, как в первый раз, признаться друг другу в любви.
— Слишком долго ждать, — заметил Слава Греков.
Они, в общем, поняли, что я имел в виду.
— Годится тост, — поддержал Сергей. — На золотую свадьбу набивается.
— Все ясно, — сказал Мишка, — спасибо. — Он подошел ко мне и обнял. Катя не благодарила и не поверила мне, и я начал краснеть. Все неправда. На кой черт я желаю того, чего нет в моем сердце? А может быть, я все не так понимаю, запутался? Где она — недавняя моя ясность, возвышенность, чистота? Слова! Все мы что-то говорим и говорим, а где же оно, то искреннее, чистое, прекрасное, чего мы ждали? Или я ничего не понимаю, или все тут вранье, посиделки, винные пары: скучает Греков, тоскует и напивается все больше Сергей, молчит и чавкает Федя. Уж ему-то что тут делать? Мишка всегда потешался над ним. А Матвей-горбун? Принес вальсы, самую главную свою радость, а на лице ни улыбки, оно замкнуто и отчужденно.
А старики, гости из деревни? На их лицах усталость и покорность: надо праздновать — вот и празднуем.
И вдруг слышу сбоку, справа, почти за спиной ехидный голос:
— Это она такая бледная, потому что вазочку разбила.
— Какую вазочку?
— Которая еще от прабабушки досталась. Какая-то особенная, будто бы счастье приносит, что-то вроде талисмана.
— Я верю в талисманы, — сказал другой голос. Он был густой, энергичный. — Вот у меня в коллекции есть один нож.
— Оригинально, у врача-психиатра — коллекция холодного оружия, — услышал я.
— Ничего тут странного, с детства любил. У меня всякое оружие: и палаш, и крис, и ятаган, и даже стилет. Серебряная кобура, серебряная рукоять; на узком лезвии написано: «Да поможет ему бог». Прекрасное оружие, — восторженно сказал рассказчик.
Я повернул голову. Увидел широкое лицо, вьющиеся черные волосы и большие глаза, горячие от увлеченного рассказа. Это был Владимир Самохлебов. Он рассказывал своему щуплому соседу.
— Мы все повернуты немножко, — говорил он. — Привычки, суеверия, обычаи, динамические стереотипы — всем этим люди обрастают, как ракушками корабль. Но без всех этих ракушек — нарушится психическая норма человека.
— Ну, положим, без кровной мести жить можно. Без всяких там уркаганских законов. Без криков «горько» тоже жить можно, и без прародительской вазочки, облепленной приметами. Не было бы ее, и не было бы этих слез, — возразил ему щуплый собеседник, нервно поправляя очки.
— Без кровной мести — согласен. А вот без свадеб, без дней рождения, без «до свидания» и «здравствуйте», без этих, порой самых обычных, примет и ориентиров — жить нельзя. Вот вы криминалист...
О, как солидно и многозначительно сидят очки на носу криминалиста.
— ...К вам попадают люди, казалось бы, самые обычные: руки, ноги, речь, правила вежливости — все, кажется, на месте, как у всех. Но только вот один почему-то взял и зарезал другого. И когда начинаешь копать поглубже, часто оказывается, что убийце не хватало какой-то ерунды, какой-то пустячной психологической детали, которая оказалась бы надежным предохранителем во всей сложной цепи его правил и привычек. Может быть, вот этой вазочки, которая передавалась бы из рода в род с неизменными заповедями и приметами, как передается от отца к сыну биологическая наследственность. Была бы вазочка у этого убийцы, может быть, он был бы способен и заплакать, как плачет Катюша, и, может быть, не поднялась бы у него рука на человеческую жизнь. Это ведь тоже, если хотите, вазочка с приметами. Тут надо психологам подумать насчет тонкого и точного воспитания.
— Может быть, и так, — сказал криминалист. — Но я бы все-таки время от времени счищал ракушки безжалостно.
— Каким образом?
— А очень просто. Чуть что — и к стенке.
— О, так вы далеко пойдете. Тогда я должен был бы всех моих больных отправить к праотцам.
— Да уж, насчет ваших больных — было бы просто даже гуманнее отправлять их к праотцам.
— Ну знаете ли, ваши рассуждения насчет «к стенке» — просто патология. Так же как война — разве это не патология, не массовый психоз? А поклонения культам? Да боже ты мой, ну что мы знаем о самих себе? Нет, я за эти вазочки и за эти слезы.
Врач все-таки — человек, подумал я. Согласен и насчет вазочки. Катя разбила. Я тоже. У всех она есть — эта вазочка. Только вот криминалисту подавай стенку за малейшую провинность. Ох, сколько бы мне пришлось ставить к стенке моих пацанов, да и всех пацанов мира! Надо бы познакомиться с психиатром поближе. Может быть, даже пригласить в группу, разобрались бы вместе кое в чем, а в награду я бы подарил ему самодельные финочки, которые иногда делает кто-нибудь из моих учеников. Это ведь тоже психические дебри: финочки-самоделки...
— Простите, можно спросить у вас? — обратился я к Самохлебову.
Он быстро повернулся ко мне. Смотрел он внимательно, умно и непринужденно. И не было в нем ничего «врачебного»: «я знаю, в общем, столько же, сколько и все знают о болячках, о внутренностях и психических тайнах человека, ну разве чуть-чуть больше», — говорили мне его глаза.
— Понимаете, я работаю мастером в профтехучилище. Возраст от четырнадцати до восемнадцати...
— Самое время для срывов, — сразу понял меня Самохлебов. — Если нужно кого осмотреть, посоветовать — пожалуйста. Запишите мой телефон, буду рад, или вот я вам сам напишу на спичечном коробке, дайте мне свой.
— У меня есть один ученик, он со странностями, — решил все-таки дорассказать я.
— Мы все со странностями, — снова перебил меня Владимир, — абсолютно здоровый человек — это, скорее всего, полный идиот, дебил.
— У моего парня особые странности, он уже побывал там... но туда его поместили, кажется, случайно, а душевный срыв у него остался.
— Это, конечно, разговор не наскоро. Позвоните мне, приходите, потолкуем.
Здоровье, бодрость, оптимизм были в его голосе, в лице и взгляде, и во всей крепкой, плотной фигуре. Душа успокаивалась сама собой рядом с ним. Я бы многое ему доверил.
Вдруг зафырчала, заорала радиола, все пошли в пляс, радостно привскочил и Владимир. Мне не хотелось танцевать, душно стало в комнате, шумно. Я пошел на кухню покурить.
Там, к счастью, никого, только посуда, кастрюли, еда где попало, бутылки. Выключил свет, встал у окна, закурил сигарету, прислонился лбом к стеклу. На небе еще тлела заря. Не вечер и не утро. Розовая ночь. Покой, даже не вздрагивают ветви деревьев. Только пролетают вдоль канала неяркие огни машин, ныряют под черный мост и пропадают для меня навсегда. А вон «циклоп» таращит белый глаз и наползает, накатывается на железнодорожный мост. А вот уже и последний вагон показал свою спину с тремя красными огнями. Люди-странники, вы еще, должно быть, не спите в своих зеленых вагонах. Куда везет вас поезд? Далеко, близко, а может быть, к звездам или к заре?
Зачем я здесь? Кому я нужен? И почему именно сюда я решил позвонить? А теперь — чужие лица, чужие голоса, и даже Мишкино лицо как память издалека. Нужно уметь отказываться от того, что уже не мое: я в новой жизни... Уйти бы, но почему-то не могу, кажется, что нельзя. И какая-то неправда во мне, и не сказать об этом, и не поступить иначе. Лучшие мои слова остались где-то там, за дверью, они были еще до мотоцикла, еще тогда, когда я покупал букет... Буду жениться, никого не позову: выпьем один на один и поедем на перекладных: на мотоцикле или на поезде с тремя красными огнями на последнем вагоне; укатим за поворот — и вправо, влево, на все четыре... или лучше самолетом: ярко будет заходить солнце, и я спрошу: «Кто ты?» И увижу: Она — фея в белом сиянии.
Шорох за спиной. Шаги.
Она.
— Ты что тут делаешь в темноте?
— Курю. А разве темно?
— Это мне показалось, что темно, а теперь вижу, что нет. Дай закурить. Не зажигай спичку, я прикурю от твоей сигареты. Тьфу, как горько. Никогда не думала, что так противно курить. Зачем вы только это делаете?
— Клин клином вышибаем.
— И получается?
Только теперь голос ее стал оживать, появились в нем какие-то оттенки, наш сдержанный, непрямой разговор помягчел, потеплел, но от этого стал еще более тихим и напряженным.
Катя стояла ко мне в профиль, чертила что-то пальцем на стекле, прижимаясь животом к подоконнику. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что Катя ждет ребенка. Я не сразу ответил на ее вопрос насчет курения.
— Иногда получается. Но сначала нужно отравить себя как следует этой гадостью. Вот тогда и бывает вдруг, что затягиваешься, как счастьем.
— Ты уже отравлен? — спросила Катя.
— Еще не совсем.
— А я вот совсем.
— Неужели так уж было тебе все это нужно?
— Было нужно. Был нужен. Хотела... думала. надеялась... В общем, не стоит об этом. Это только женщина может понять.
— А друг?
— Нет. Только женщина.
— Я, кажется, тебя понимал.
— Нет, нет, не нужно об этом. Я сама себя не понимаю. Скажи мне лучше, ты все один?
— Один.
— А Зойка? — спросила Катя.
— Что Зойка?! — огорчился я оттого, что она вспомнила о Зойке.
— Да так, ничего. Все ерунда. Пью вот и не пьянею. Никак.
— Невеста и не должна быть пьяной.
— Не надо, Ленька. Не надо.
— Чего не надо?
— А вот этого, всех этих «должна», «не должна». Знаю сама. Знаю, что, если хочешь жить, умей вертеться, что жена да убоится мужа, что в темноте все кошки серы, что где тонко, там и рвется, что свобода — это осознанная необходимость, что честь нужно беречь смолоду, что в огороде бузина, а в Киеве — дядька. Все знаю. А вот знаешь, чего я не знаю?
— Что ты фея.
— Я? Фея? Это что-то из сказок. Как говорится, из прекрасного далека.
— Да нет, так и есть. Вот сейчас, без электричества, при этом свете, вижу, что так и есть, ты — фея.
— А крылышки где?
— А крылышек у фей, по-моему, не бывает. Крылышки только у ангелов.
— Тогда почему я не ангел? Хочу быть ангелом.
— Нет уж, ты фея — и все. Не огорчайся, феи тоже летают. Как-то по-другому, но летают.
— Раз — и появилась, раз — и пропала, так?
— Вот-вот, именно так и было с тобой. Помнишь общежитие?
— А ты разве помнишь?
— Еще бы, я и пионерлагерь помню, и встречу зимой, и все, что потом, все я помню.
— Да, я тогда была моложе, и лучше, кажется, была.
— Фея как фея. Не хуже, не лучше.
— Была феей Сирени, а теперь — Карабос. Пусть замрет вся эта свадьба на сто, на тысячу лет — все покроется пылью и паутиной, повиснут летучие мыши на потолке, а потом явится тот...
Щелкнул выключатель, как выстрел. И сразу будто вспыхнуло белое платье и фата, и мы с Катей невольно отшатнулись друг от друга. Кухня внезапно наполнилась гостями. Стало шумно. Я стоял, делая вид, что и мне весело, а сам думал: «Зачем я здесь, в этой чужой квартире, на чужой свадьбе! Зачем я здесь?» Тревожное чувство, предчувствие беды, росло во мне. «Уходи отсюда. Сейчас самое время уйти, — думал я. — Уходи, пока не поздно». Все теперь казалось слишком шумным, фальшивым, отвратительным.
Пошел в ванную, мыл руки, лицо, а сам все думал о нашем разговоре с Катей, о нашем с ней прошлом, о том, что было когда-то возможным. И еще я думал о вечерах, вечеринках и всех шумных сборищах, на какие я только попадал, — до чего же редко бывали праздники радостными, чаще вынужденное, вымученное веселье. И вспомнил я своих мальчишек в Доме культуры сегодня на вечере и танцы под аккордеон в светлом зале. Сначала мои парни были нерешительны — вальс для них слишком «взрослый» танец, а вот когда послышались модные ритмы и можно было дать волю рукам и ногам, все такое стали вытворять... «Как обезьяны», — сказал старший мастер. Что ж, внешне, может быть, и похоже, что мальчишки кривляются по-обезьяньи, но это у них получалось так естественно и самозабвенно, что я позавидовал: как жалко, что я не умею танцевать современные танцы. Я сожалел и думал: нет, ты достаточно хорошо танцуешь, ты почти как шаман, когда перестаешь «изображать» лишь заученные движения и полностью доверяешься счастливому веселью твоих рук и ног. Вот как он, твой ученик, легкий Олег Севастьянов, и как она, знакомая незнакомка, его партнерша, застенчивая худенькая девочка и в то же время уже кокетливая женщина, знающая силу своей красоты. Он... и Она...
То был не только танец ритмов, а еще и танец чувств, танец-рассказ, признание. Она была маленькой птичкой с белыми и голубыми перьями, и ей очень нравились гладкие нежные перья, она оглаживала себя и сзади и спереди, быстро-быстро переступая веселыми ногами. Она перепрыгивала с места на место, покачивала головой. Она не знала, для чего это делает, почему ее качнуло вправо, влево, отчего она не смотрит на того, с кем танцует. Она оказывалась будто бы совсем одна.
А ему, резкому, длинноволосому, хотелось бодаться, растопырив руки. Или, быть может, сердито разгребать воздух, или изображать неуклюжий бокс. Ему, кажется, больше всего хотелось быть неуклюжим и грозным и даже немножко страшилищем. Но все равно получалось так, что она хорошо знала, какой он не страшный и не сердитый.
Он и Она — их было много в зале. Этот зал мог напоминать шабаш, или огромную сковороду, на которой извиваются грешники, или весеннюю поляну счастливых влюбленных. Это уж кто как захотел бы увидеть.
Как бы так сделать, чтобы мои ребята навсегда остались естественными, самозабвенно доверчивыми, как в танце? У них что в жестах — то и в эмоциях, что в глазах — то и в душе. Жалко, что я не остался с ними, а ведь как настойчиво клянчили: «Леонид Михайлович, пойдемте вместе, ну пойдемте хоть раз, что вам стоит сходить с нами в «лягушатник». Сидел бы сейчас в кафе и ел мороженое...
«Тюх-тюх-тюх-тюх, разгорелся наш утюх», — запричитал какой-то полнотелый дядька возле ванной комнаты и пошел наступать на пожилую бойкую женщину. Свадебное веселье, оказывается, было еще в силе. «Уходить, уходить, немедленно уходить», — говорил я себе, незаметно открывая дверь на лестничную площадку. Но вслед за мной туда сразу же выбежал Мишка, а за ним и Катя.
Глава шестая
— Ты куда? — спросила Катя.
— Да вот, прогуляться немного.
— Мишка, пройдемся тоже, подышим.
— Это как же, со своей свадьбы сбежать? Неудобно.
— А никто и не заметит. Не хочешь — я с Ленькой пройдусь.
— Да брось ты, — недовольно сказал Мишка. — Давайте тогда возьмем три-четыре такси и всей свадьбой, с ветерком...
— Не хочу, чтобы все. Или мы втроем, или я с Ленькой. Выбирай.
Катя смотрит на Мишку, Мишка смотрит на меня.
— Тогда уж на мотоцикле, — начал было Мишка и вдруг воодушевился: — А что? Поехали! Только не по улицам, по набережной. Там поменьше движение.
Вышли во двор. Мотоцикл словно бы ждал нас. Катя села в коляску, я на заднее седло. Мишка завел мотор.
— Эх, прокачу, — ухарски сказал он и увеличил обороты. Мы погнали мимо домов, мимо фонарей. Ветер хлестал в лицо. Так можно ездить только со зла. Галстук Мишки перелетал через плечо и трепыхался за спиной.
Мы мчались, обгоняя машины, под мостом чуть было не задели за металлические опоры. Ночь была теплой, безветренной, ехать было хорошо и странно. Свадьба на милицейском мотоцикле. Мишка что-то кричал, но я не слышал: ветер относил его слова. Катя оборачивалась и тоже что-то кричала непонятное. Слева, по другую сторону Обводного канала, черной скалой поднимался к небу семиэтажный дом с башенкой на крыше. На последнем этаже, там, где округляется угол дома, бледно горели три окна. Это комната нашего бывшего общежития. Кто-то живет в ней теперь? Кто спит у окна? И почему так долго не гаснет свет: «режутся» ли парни в домино, поют ли песни, справляют ли день рождения, готовятся ли к зачетам?
— Стой! — закричала Катя. — Стой, больше не хочу!
Но Мишка все гнал и гнал вдоль темной и неказистой набережной.
— Стой, Мишка! Стой! Выпрыгну.
Остановились.
— В чем дело? — спросил Мишка.
— Пойду пешком, мне плохо.
— Не выдумывай, давай вернемся.
— Не могу, поезжайте одни. Я сама.
— Не дури. Тут далеко.
— Все равно не могу.
— Садись, я потихоньку, — сказал Мишка.
— Нет, поезжайте, я пойду одна.
— Вот еще, — сказал Мишка. — Садись и поехали.
— Не командуй, — сказала Катя. — Пусть вон Ленька меня проводит. А ты поезжай.
— А ну вас, как хотите! — Мотоцикл взревел, рванулся, и только красные огни долго еще плыли по набережной канала.
— Что с тобой, Катя? Зачем ты так?
— Давай-ка и ты уходи домой. Никто мне не нужен. Иди-иди.
— Нельзя так. Что ты?
— Помолчал бы ты, Ленька.
— Ладно, не сердись, а то возьму и оставлю, — пошутил я.
— Впервые тебе, что ли? — как-то странно ответила Катя.
Я порылся в карманах. Не оказалось ни сигарет, ни спичек, забыл в кухне.
Придется стрельнуть. Но пока никого не вижу.
Я стал отыскивать какого-нибудь прохожего с огоньком. Сам даже не знаю почему, не мог я смотреть в глаза Кате, и она тоже не хотела встретиться со мной взглядом, я это чувствовал. Мы остались одни и теперь не знали, что нам делать, что можно, а что нельзя. Какое счастье, что вынырнул из-под черного моста зеленый огонек такси.
— Эй, такси! — крикнула Катя и выбежала на дорогу, как будто хотела броситься под машину. Заскрипели колеса, высунулся шофер:
— Куда?
— Угостите, пожалуйста, сигареткой.
Шофер качнул головой, улыбнулся:
— И чего только не встретишь. На, держи, молодуха. Со свадьбы удрали? Может, покатать?
Катя поколебалась недолго, взглянула на меня.
— Поехали, — сказала она. — Это будет моим свадебным путешествием.
В машине похрустывало сиденье. Спинка кресла рядом с водителем была перетянута брезентовым ремнем, рессоры шумно, с бряканьем вздрагивали на выбоинах.
— Куда?
— Говори, — сказала Катя.
— Куда хотите, — сказал я. — Может быть, к центру, к Неве? А может, не стоит? — спросил я Катю. — Ты представляешь, что там будет?
— Боишься? — спросила Катя.
— За тебя.
— А ты не бойся. Выходить замуж пострашнее...
— Что, сердитый он у тебя? — спросил шофер.
Мы промолчали.
— А мое свадебное путешествие было по льду, — сказал шофер. — Немец бомбил, а мы ехали. В кузове детишки детдомовские, человек тридцать, а в кабине жена с малышом. Тогда она еще была воспитательницей, не жена мне, и малыши были не нашими. Тогда мы еще и не знали, что да как будет. Везли детей, вывозили их из ада. Немец молотит по Ладоге, а мы по льду шпарим. Дети орут, мотор ревет, воспитательница голову малышу закрыла и зажмурилась сама. Ничего, проскочили. Даже не верилось. А когда поверили, стали обниматься. С детишками и с ней. Обнялись, целуемся на радостях, я и говорю:
— Как звать?
— Нюрой.
— А меня Иваном. Может, еще встретимся.
— Может, встретимся, — говорит она. И так мне ее не захотелось отпускать, что я говорю ей:
— Может, поженимся, когда кончится война?
— Может, и поженимся, — улыбается она.
— Что, не верите? — спрашиваю ее.
— Да как-то странно, — говорит она.
— А что, говорю, странного, чего только в жизни не бывает! Вот если мы выживем — это будет странным. А уж если выживем, никого мне другого не нужно в жены. Мы хоть и знаем друг друга час-другой, зато вон как, — говорю я. — Это не на танцах знакомиться. Вы уж поверьте.
И дал я ей свой адрес. Ей-то ведь некуда было писать. Еще не ясно, что да как устроится. И что вы думаете? Поверила. Мой дом разбомбили, адреса не стало. Сам я пошел мотаться по фронтам да госпиталям. И все думал о ней и все ждал, когда кончится война. Война кончилась, я снова в Питере. У меня новый адрес. Общежитие. Ну уж, думаю, все, не найдет она меня. Да и времени сколько прошло. И вдруг приходит ко мне письмо. От нее. Через розыск! Что было со мной, и не расскажешь. В общем, через две недели мы уже встретились. Глянули друг другу в глаза — все чисто, все ясно, как тогда, на Ладоге. Теперь уже у нас своих трое. Внуки скоро пойдут. Нет, доверие — это что и говорить, — заключил шофер. — Доверие и правда. Мужу и жене врать нельзя, все поломается. И еще, конечно, нужно терпением запастись, уступать научиться, а иначе только треск пойдет. Теперь, я смотрю, часто разводятся. А чего, спрашивается? Да ничего, просто так. Каждому нужна власть. Жене над мужем, мужу над женой. А спроси у них, для чего им эта власть? И сами не знают. Так, лишь бы покуражиться один над другим. А вместе жить — это не забава, и даже не любовь, какая в юности, это что-то совсем другое, это и дружба, и обязанность, сто плюсов и сто минусов заодно. Не важно, как это все называется, важно прожить хорошо. Честно и красиво. Я вижу, вы пара хорошая. У вас получится.
Машина затряслась на булыжнике, что-то внизу под нами забрякало, захрустело.
— Старушка, пора на слом, — сказал шофер, — пятьсот тысяч прошла, — и он замурлыкал какую-то песенку.
Бежит еще себе и бежит, подумал я. Влево руля, вправо, прямо, на все четыре стороны. А вот мы куда?.. Молчим. Боимся. «Хорошая пара. У нас получится...» Всем так казалось. Всех обманули. Себя тоже.
Катя. Катя! Что мы делаем?! Я опять как дурак, как безвольный мальчишка. Ты самая большая моя радость и беда. И как это все случилось? С чего началось?
Не бомбы рвались и не снаряды в нашу первую встречу — орала радиола. В нашем общежитии танцевальные ритмы разлетались по всему этажу. Я не сразу сообразил, что звуки доносятся из нашей комнаты. Открыл дверь. В полумраке, рядом с радиолой, сидела спиной ко мне девушка, и больше никого не было. Девушка сидела так, что мне показалось, будто она не слушает музыку, а прислушивается к каким-то шорохам, к шагам в коридоре, ко всей этой чуждой для нее атмосфере мужского жилища с плохо заправленными койками, с галстуками на гвоздиках и всяким барахлом, перекинутым через спинки стульев и кроватей...
Лишь в первые мгновения я не узнал светловолосую незнакомку. Но вдруг понял: ведь это ты, Катя!
Каждый день мы встречались с тобой в коридорах техникума. Я боялся заговорить, стеснялся. Но когда проходил мимо, радость, даже восторг пробуждались во мне. И я думал, что ты догадываешься об этом. И верил, что рано или поздно мы познакомимся. И вот ты здесь сама! В своем черном облегающем платье с белым воротником. Ослепительно белым. В нашей комнате, среди этих неприбранных тумбочек, разбросанных вещей, окурков на полу, в нашей прокуренной берлоге, — неправдоподобная фея. К кому пришла?
— Здрасте, — сказал я.
— Здравствуйте, — ответила ты просто.
Я не знал, что сказать. Ни одного слова, соответствующего моим чувствам, я не мог произнести и сказал первое, что подвернулось.
— Скучно одной? — спросил я, наверно с глупейшим видом.
— Нет, не очень, — ответила ты, не обращая внимания на мой растерянный и нелепый вид. — Вот музыка. Развлекаюсь... — улыбнулась ты.
Что бы еще спросить? Что сказать? Не упустить бы мгновения, пока мы одни.
Я предложил тебе хлеб, лук, сигареты — все богатство, которым располагал. Ты от всего отказалась.
— Потанцуем? — предложил тогда я.
— Потанцуем, — согласилась ты.
Я повел тебя осторожно, напряженно, стараясь не смотреть в глаза, и все же видел краску на длинных ресницах, зеленоватые кольца вокруг зрачков и все твое удлиненное, смуглое лицо, немного усталое, но все равно подвижное, живое. Передо мной была вовсе не красавица, которую я всегда видел издали: я разглядел, что у тебя вздернутый нос, слишком острый подбородок, родимое пятнышко возле уха; и все же теперь ты стала мне еще дороже. Тебе можно довериться. Меня страшило совершенство, оно казалось недосягаемым и отчужденным. А недостатки, пусть самые маленькие, должны были помочь понять тебя.
Ты, Катя, танцевала мягко и свободно, и вскоре я тоже разошелся, и вот пришло ко мне легкое головокружение от покачиваний, едва заметных остановок, приближения друг к другу. Но опять я спросил себя: «А все-таки, к кому она пришла?» И уже открыл было рот, как вдруг кто-то шлепнул меня по плечу. Я обернулся и увидел Мишку. Он держал в руках бутылку с вином. Потом поставил ее на стол, положил сверток с закуской и, как-то незаметно отстранив тебя от меня, зашептал:
— Слушай, Лирик, погуляй где-нибудь с полчасика.
И так он подмигнул мне, так был горд и нетерпелив, что лучше бы ударил, перебросил через себя, лучше бы разлетелось все тут к черту, только не это: на полчасика. Ты — и на полчасика!
Я бросился на улицу, но и там было мне тошно, и что-то звало, тянуло вернуться, взбежать на седьмой этаж, рвануть дверь комнаты и закричать, выгнать обоих. Но я не сделал этого. Я тихо вернулся в общежитие. Зашел в умывалку, плеснул себе в лицо водой, вышел, и в коридоре увидел тебя, Катя! У тебя пылали щеки, а глаза были холодные, холодные и ожесточенные.
Мишка шел за тобой с такой мордой, будто проиграл все схватки сразу, он воровато озирался по сторонам и, увидев меня, подмигнул, но это вышло у него вымученно и кисло. Невероятно — Мишка и поражение! Да еще какое — на обе лопатки! Ты и мне тогда надавала по щекам холодным быстрым взглядом издалека. Ты уходила, казалось, навечно.
Хлопнула дверь, Мишка вернулся, шутя и кривляясь.
— Дура! — сказал он. — Подумаешь!..
Я промолчал. Я ненавидел в тот миг и его и тебя. «Если бы ты еще дала ему по морде! — думал я. — А может быть, и дала, очень уж он гусарит передо мной». Обе Мишкины щеки были красными. То ли и в самом деле от пощечин, то ли от досады и стыда.
Я ненавидел тебя, еще не зная, что ненависть моя и есть любовь...
Какое счастье, что между нами песенка веселого таксиста.
— Только, если есть возможность, не живите с родителями, — вдруг снова заговорил он.
Спасибо, добрый человек. Согласен с тобой, что и говорить... Спасибо, что думаешь о нас.
— Сегодня поссоритесь, завтра помиритесь, никто вам не указ. Где живешь? — спросил шофер.
— Это вы у меня?
— А то у кого же, ты ведь хозяин теперь...
— В общежитии, — сам не знаю почему, соврал или, пожалуй, оговорился я.
— Это плохо. Ну ничего, молодым быстро дают площадь. Особенно если малыша заимеете. Как там, в проекте, а? — Шофер повернулся к Кате.
— Дайте мне еще сигаретку, пожалуйста, — попросила она.
— А вот это зря, — сказал шофер. — Женщине не идет, да и вредно. Ребенок, и все такое. Теперь женщины во всем хотят мужиков обогнать, а зачем? Зачем? Женщина есть женщина, мужчина есть мужчина. И все тут.
— В огороде бузина, а в Киеве дядька, — со вздохом произнесла Катя. Шофер, конечно же, не понял, о чем это она, и весело мне посоветовал:
— Ты жену не балуй. Держи крепко. Кем работаешь?
— Мастером.
— На каком заводе?
— Не на заводе, в училище.
— Пацанов, значит, обучаешь?
— Обучаю понемножку.
— Ух и народ, — покачал головой шофер. — Это же головорезы. Кого из школы выгнали, кто в институт не попал, в общем — сплошная ерунда, отбросы. Ничего путного от них не дождешься. Туго тебе приходится, понимаю.
«Ну и ну», — подумал я.
— Вы когда-нибудь дрались?
— О, еще как, — обрадовался шофер. — А ты это к чему?
— А курить вы когда начали? — спросил я.
— Да уж не помню, когда еще под стол пешком ходил. У отца, помню, вытаскивал из пачки по одной папиросине. Ловко так, незаметно. Тогда «Звездочка» была в моде. Я понимаю, к чему ты клонишь, — сказал шофер.
— Ну, а сколько классов вы окончили?
— Мне хотелось работать, понимаешь, — начал горячиться шофер. — Учеба была не по мне. Да и время было такое. А впрочем, чего врать, не хотелось мне учиться, любил работать. И чтобы деньги были, и вообще любил самостоятельность.
— Вот если бы ваша молодость начиналась сегодня, вполне могло бы случиться так, что вы попали бы в мою группу. У меня как раз такие. Головорезы, как вы говорите.
— Ловко поддел, — хохотнул шофер. — Значит, любишь пацанов — это хорошо. Если бы все любили свое дело — у-у, что тогда было бы у нас... Куда теперь поедем-то?
— Обратно, — сказала Катя.
— Хозяин барин. — Шофер круто развернулся посреди улицы.
Заря теперь была сбоку. Если раньше дома были повернуты к нам своей черной, затененной стороной, то теперь отсветы зари и ночного блеклого неба были почти в каждом окне. Казалось, что никто не спит, все смотрят зарю. Не спит весь город.
Шофер теперь молчал, и мы молчали. Все, что я мог бы сейчас сказать, было бы неправдой. Все казалось странным и нереальным. Белая ночь, такси, Катя в белом свадебном платье.
Мы едем куда-то, не зная куда, мы ждем чего-то, не зная чего. Пока молчим, мы не врем, но стоит сказать хоть слово, начнутся неточности: другого нам не дано.
Эй, шофер, зачем так круто поворачиваешь? Или ты удивился нашему молчанию, или заподозрил что-то неладное? Мы сидим по углам — невеста прижалась к левой дверце, жених к правой. Молодые супруги еще не начали жизнь, а уже надоели друг другу. Знал бы ты, шофер, кто мы, и почему мы вместе, и почему молчим, и почему не можем даже коснуться друг друга. Не гони, шофер, и не крути туда-сюда свою торопливую развалюху. Если мы едем туда, где я должен буду все же сказать мою правду, то я еще не знаю, какая она. Я ее только чувствую — в сердце, оно мается и стучит, и я слышу этот стук, он даже в висках и в кончиках пальцев. Мне нужно будет что-то разрушить и что-то создать заново, как в сказке про джиннов. И если быть справедливым, как в доброй сказке, я должен каждому дать то, чего он хочет, но чего же хочет каждый из нас?
Мишка знает, чего хочет. Эта грустная женщина — его жена. И теперь, что бы ни было, золотое колечко на пальце вернет ее в дом, в Мишкин дом. «Только женщина может понять, только женщина...» Что это за тайна такая? Только женская. Мишкин рост, Мишкины плечи, Мишкины манеры уверенного в себе мужчины, его смелость, и никаких тебе самоанализов — вот она, тайна. Неужели так все просто, до отчаянья просто? Нет, что-то есть еще, непонятное мне.
Я спрашиваю:
— Ты еще хочешь закурить?
— Нет, не хочу.
Голоса не узнать, ни ее, ни моего.
— Тебе холодно? Может, поднять стекло?
— Подними, если хочешь.
— Возьми мой пиджак.
— Не нужно, скоро приедем.
— На, возьми. Мне тепло.
— Нет, не нужно, я так.
И снова поворот, он прижимает нас друг к другу, и я слышу, как у самого моего уха дрожит ее дыхание, и что-то горячее касается моей щеки, и шепот громче крика:
— Не приходи больше к нам никогда!
— Ну, прощай. Будь счастлива. Остановитесь тут, пожалуйста!
— Да вы что, сдурели?! — крикнул шофер и все же остановился.
Бегом назад, в сторону, в переулок, лишь бы поскорее не слышать больше и не видеть... «Прощай навсегда».
Опять бегу, опять проваливается земля под ногами. То к ней, то от нее... И так всю жизнь?
Остановись. Разве есть еще надежда? Она простилась, и ты простись, но почему такая досада?
Мальчишка. Наверное, я всегда был для нее мальчишкой, и мог быть другом, братом, но не мужем. «Если хочешь знать, я все в жизни только сама себе выбираю...» Так и есть, ты права, я помню, как ты это сказала в нашей техникумовской столовке.
Я снова иду по Можайской, вот булочная на углу, газетный киоск, а вон общежитие, будто кружу... Вокруг себя самого? Я был, и меня уже нет. Был радостным, ясным, наполненным, все было во мне, и я был во всем. А может быть, то был не я? А может быть, не я — вот этот?..
— Эй, жених, иди сюда! Кончай дурить!
Догоняют. Не захотела оставить.
— Ленька, садись, поехали, нас ждут.
— Ждут тебя. Поезжай.
— Без тебя не поеду. Хочешь, выйду, пойдем пешком? Не сердись, ну пожалуйста.
Я не мог справиться со своей болью.
— Тебя ждут, поезжай.
— Без тебя не могу.
Я резко захлопнул дверцу.
— Поехали, и побыстрее.
— Прости меня, прости. Это не я, это совсем другая тебя мучила, я и не знала себя такой, не думала, я недавно поняла... — И притихла. — Ты переменился, Ленька. Только поздно... Все поздно, вон уж и дом впереди, приехали.
И все стало иным в ней опять: тон, жесты, выражение глаз, — мы приближались к ее дому, и все наше с ней уходило, отлетало далеко в прошлое или, вернее, в невозможное, которое нужно поскорее забыть.
— Послушай, а где ты все-таки работаешь? — спросила она с веселой непринужденностью.
— Я же сказал — мастером в училище.
— И ты доволен?
— В общем, да. С ребятами мне хорошо.
— А ты бы не смог Мишку туда устроить?
Мишку устроить?!
— Что делать Мишке в ПТУ? Не пойдет он туда. Зарплата не ах, и на коне не поскачешь.
— Уговорю. Не нравится мне его работа. Каждый день друзья-приятели, и носится как ошалелый. Ты сам видел.
Когда-то мне казалось, что Мишка прирожденный мастер. Во всяком случае, на педагогической практике ребята не отходили от него ни на шаг. Мишка умел занять мальчишек и какой-нибудь веселой историей, и показом приемов самбо. И слесарное умение, навыки передавал он играючи, непринужденно и основательно. Но теперь я бы не хотел и близко подпускать к ребятам этого удачливого и бесцеремонного самбиста. Чему он будет учить? Побеждать жизнь бицепсами? Перекидывать через себя?..
— Сейчас, Катя, рано об этом говорить. Весна, конец года. И вообще...
— Дай мне свой телефон, если есть. Мало ли что? Скажи, я запомню.
— Семьдесят семь — двадцать один — тринадцать. Коммунальный. Можно звонить в любое время, я засыпаю поздно.
— Подловили вы меня, голубчики молодожены, — сказал шофер, притормаживая невдалеке от Катиного дома.
— Не сердитесь. Все непросто. Спасибо за советы, — сказал я, подавая деньги и не скупясь на чаевые, чтобы хоть в этом не разочаровать так искренне раскрывшегося нам человека.
Деньги он сунул в карман не глядя и, ни слова не говоря, рванул с места. Больно задел меня этот жест. И прав шофер, и не прав, и не оправдаешься перед ним. Так и будет он теперь возить по городу нашу историю и рассказывать ее всем. Все непросто. Даже то, что я дал ему чаевые. Пойди разберись тут, где от всего сердца, где обычай, «динамические стереотипы», а где — против совести, чести и закона.
Катя опередила меня. Торопилась к дому, едва сдерживая шаг. Нас не было минут сорок. Что подумали они там? Где Мишка?
Кто-то стоит у дверей парадной. А вон и Мишка. Ноги расставлены, руки на груди. Все молчат, ждут. Что-то зловещее в этом молчании. Я опередил Катю, подбежал к Мишке:
— Прости, это я виноват. Решили вернуться в такси, да вот дали крюка.
Мишка набычился, молчит, не смотрит и не слушает. Глаза мутные от водки и злости.
— Ты что же это... — шипит он и внезапно дергается от сильного удара по щеке. Катя замахнулась еще раз, но этот тощий, в очках, отстранил ее:
— Уйди, ты не права. А этого надо проучить, — говорит он, косясь на меня.
— Вы что, с ума сошли?! — закричала Катя. — А ну, убирайтесь отсюда! — Она толкнула Мишку, тот дернул ее за платье, и звук разрывающейся материи был таким отчетливым и страшным, что Мишка потерянно опустил руки. Теперь уже все стояли виноватые и потерянные вокруг Кати.
И в тишине я услышал всхлип. Катя закрыла лицо руками и побежала в дом, вверх по лестнице. «Не приходи больше к нам никогда!»
Никому ничего я не сказал, повернулся, пошел, и никто меня не окликнул, ни для того, чтобы отомстить, ни для того, чтобы извиниться.
Чужие фонари, чужой булыжник под ногами, и даже небо кажется чужим. И зачем я пришел сюда? Это, конечно, очкарик настроил Мишку. «Недоглядел, теперь ищи, мало ли куда уехали. Это же надо же — из-под венца увез!» А в Мишке ярость закипела: «Мою Катьку увез, мою бабу». Моя! Твоя! Мое! Твое! Свадьба! Кольцо! Печать в паспорте! Законная жена! Законная жизнь! Все по закону. Это законно, а вот это нет, и все тут, хоть умри.
А ну вас всех! Живите как хотите! Все здесь не так, не по мне, не хочу больше и думать об этом. И зачем только дернуло меня позвонить, пошел бы лучше с ребятами...
Почему не пошел? Ведь хотелось. Вспомнились в одно мгновение старые рассказы о мастерах и подмастерьях: с первой получки обязательно выпивка, и тут же как будто зажегся красный знак светофора, педагогическое «нельзя!». Дурак ты, дурак! Опять: законно, незаконно. А сейчас вот и нужно быть с пацанами вместе. Всюду и во всем. Почему ты не слушаешься своего сердца? Ведь на сердце печать не поставишь.
Еще как поставишь! Она сама ложится, эта печать, эта печаль.
Глава седьмая
Уехали бы, увез бы тебя, только согласилась бы, захотела, как тогда: «Увези меня, Ленька, куда-нибудь во дворец, в свое родовое имение или просто в нору, в берлогу, лишь бы в родимые твои места». С тех пор прошла, кажется, целая жизнь. И наши с тобой отношения, Катя, для меня — целая жизнь. Я все помню, я часто вспоминаю, ищу причины разлада и многое нахожу в нашем прошлом.
Каким я был все-таки мальчишкой тогда. Это был еще третий курс техникума, и говорил я с тобой, Катя, то на «вы», то вдруг на «ты», и все было впервые, и еще оттого ошеломляющим было твое предложение уехать, увезти, что я услышал его сразу же после встречи в общежитии.
На следующий день мы увиделись в нашей шумной столовке. На алюминиевом подносе ты несла суп, макароны и три кусочка хлеба. На моем подносе было то же самое, мы оба искали свободный столик и чуть было не столкнулись. Я буркнул что-то невразумительное, покраснел и шагнул в сторону, вспомнив вчерашнее.
— Что это с тобой? — спросила ты как ни в чем не бывало.
— Да так, — ответил я с наигранной бодростью, — ничего, место ищу.
— Вон тот столик у окна свободен, — сказала ты и пропустила меня вперед, так что я оказался приглашенным тобою и уже не мог выбирать себе другое место. Я поспешил к окну, стараясь успеть раньше других. На счастье стол был прислонен к стене и возле него стояло всего лишь три стула. Я поставил поднос на край стола и постарался незаметно отодвинуть в сторону один из стульев: ни к чему мне, чтобы сейчас кто-то подсел к нам.
Ты это заметила и улыбнулась мне, когда мы сели друг против друга.
— Много видела всяких нахалов, но такого, как твой Мишка, — впервые, — сказала ты без всякого перехода.
Я не знал, что отвечать, и только мотнул головой, шумно хлебнув ложку супа.
— Горчицы хочешь? — спросил я. — Давно не было, а эта вкусная, утром еще пробовал. Ты любишь горчицу с солью?
— А ведь сознайся, вы с Мишкой не такие уж друзья.
Я молчал и даже не смотрел на тебя. Ты ела не спеша, маленькими глотками.
— Ну, что молчишь? — спросила ты. — Говори, не бойся. Трусливых я тоже не люблю. Если хочешь знать, я все в жизни только сама себе выбираю. — Помолчала и добавила: — Твой Мишка уж слишком уверен в себе, а это скучно, не правда ли?
— Не знаю, — ответил я. — Кому как.
Ты посмотрела на меня. Во взгляде были сила и уверенность.
— А ты уверен в себе?
— Нет, — сказал я. — Не всегда.
Это вырвалось у меня само собой и с такой горячностью, что ты снова улыбнулась, тряхнула своими золотистыми волосами, и я заметил в глазах: «Не слишком ли быстро ты отказываешься от веры в себя?» И я поспешил смягчить свое «не всегда».
— У Мишки, в общем, свое, — сказал я. — А у меня свое. Мы разные. И я бы не хотел оказаться на его месте, но я бы очень хотел, чтобы...
Ты даже перестала есть, ждала, что я скажу, как выпутаюсь из своего оправдания.
— В общем, чтобы... — продолжал я, — ну, чтобы это все получилось само собой, и не так, как было у Мишки, а чтобы все как-то иначе, без этого... В общем, вы сами понимаете.
«Вы» слетело внезапно и оказалось какой-то особой преградой между тобой и мной, и в то же время оно получилось мягким и ласковым. Ты поняла меня, простила и даже, кажется, особо отметила мою оговорку.
— А я, между прочим, всегда знала, что ты такой...
— Какой такой?
— Да уж такой вот... А что ты делаешь сегодня после занятий? — спросила вдруг ты.
— Ничего у меня нет сегодня, — сказал я. — И завтра ничего, — выпалил я, дурея от счастья.
— Тогда до семи. У кинотеатра «Смена», хорошо?
— Хорошо, — сказал я, давясь макаронами. Второе ты есть не стала. Кивнула мне и ушла. «Ну как это все случается, что далекое, недоступное, чье-то становится вдруг родным тебе и только твоим?» — подумал я.
Мальчишка. Я очень ошибался в этом чувстве: «только моя». Ты привлекала, кажется, всех парней нашего техникума. Нравилась и обликом, и веселостью, и непосредственностью, и умом, — каждый жест, каждое движение обращали на себя внимание, привораживали.
Сначала все было хорошо. Я купил два билета в «Смену». Шел фильм «Ночи Кабирии». Он поразил тебя. Ты плакала, я это видел, я и сам едва сдерживался, когда этот смазливый негодяй Оскар хотел из-за денег убить Кабирию, сбросить с обрыва в реку. «Убей меня! Убей меня, я больше не хочу жить!» — кричала доверчивая и всеми обманутая женщина и каталась по земле, зарывалась в сухие листья, билась в судорогах от отчаянья, выла и ненавидела весь мир. За что ей такое? Неужели так страшно жить на этом свете?! И холод, обман, бездушие правят нами?!
Вдруг загорелся свет, и нужно было выходить на улицу. Никто не бежал к выходу, никто не шутил, не разговаривал даже; понятно нам всем было наше молчание, в нем были и наш стыд и боль, мы выходили как родня, которой стало многое известно друг о друге.
Потом мы бродили по тихим уединенным набережным вдоль каналов и рек. Мы говорили, кажется, обо всем сразу. И я удивлялся, какая ты умная, непохожая на всех других девчонок, которых я знал. А как ты слушала — никто на свете так не слушал моих стихов. Казалось, ты понимала даже то, что я только хотел, но не сумел выразить. И я все думал, как же теперь смогу прожить без тебя хотя бы день?
Ты, наверно, почувствовала это, догадалась и сама взяла меня за руку, и сказала, именно тогда ты мне и сказала, и вот именно там, у мостика с крылатыми львами, я услышал: «Увези меня, Ленька, куда-нибудь во дворец, в свое родовое имение, или просто в нору, в берлогу, лишь бы в родимые твои места».
Ты хотела увидеть, каков я там, где меня все знают и где я знаю всех.
Это было в Невском лесопарке, на берегу Невы, невдалеке от Ленинграда. Я прожил там пять лет в отроческие мои годы. Там есть деревья и кусты, которые я посадил, там есть поляны и перелески, на которых я пас коров, там у причалов до сих пор еще покачивается на легких волнах лодка, на которой я перевозил отдыхающих, и там, среди деревьев, стоит еще довольно прочный старенький мой дом.
— Поедем, — сказал я тебе. — Только, пожалуйста, не скрывай, если станет скучно. Мы сразу вернемся.
— Мне скучно не будет, я знаю. Поедем.
Сначала нас вез автобус, потом трамвай, а потом теплоход по Неве. И вот уже за крутым поворотом мой лесопарк. Старые деревья сбежались к обрывистому берегу, голубая пристань, широкие каменные ступени, а дальше — аллея. Березы, и клены, и ели — высоченные, размашистые. Это все мое, знакомое до мелочей. И кусты сирени, и дом из березовых бревен, и скворечник на лиственнице, и корни поперек тропы — все волнует меня. А ты как? Нравится ли все это тебе? Не скучно ли?
Тебе было хорошо. Пока — хорошо. Я видел, ты шла, как будто приплясывая на каблучках, вертела во все стороны головой, перекатывался по спине туда-сюда твой «конский хвостик», а ты спрашивала: «Это что? А вот это кто идет? А куда ведет эта тропинка? А что это за пруд такой заросший? А где ты жил?»
— Где я жил? Вот где я жил. Вон, видишь, сараи, а за сараями садик: малина, черная смородина, две елочки, три березки; а дальше еще сарай, он как будто врос в землю по самую крышу, это погреб, и вот над ним есть маленькое окошечко в доме напротив, видишь? В нем как раз отражается солнце. Окошечко маленькое, узкое, но я видел оттуда многое: широкую Неву с пароходами и баржами, веселые толпы экскурсантов, — я тогда завидовал им, горожанам; видел я и дорогу, по которой ходил в школу, и солнце видел, и закаты, каких мне никогда, наверно, не увидеть больше, и звезды ночью, и луну. У нас такая тут луна была — лунища...
— Покажи мне, Ленька! — потребовала ты, и загорелись твои зеленоватые глаза, и расширились ноздри, взлетели брови, и чистый твой гладкий лоб пересекли морщинки. — Я хочу увидеть все, что видел оттуда ты. Покажи.
— Только туда нужно подниматься по крутой лестнице.
— Ну и что!
— И пробираться тихо, чтобы нас не заметили. Моя комнатка на чердаке теперь, наверно, заколочена. Придется кое-что отломать.
— Это же просто здорово, Ленька! А привидения там будут?
— Что-то скрипело у меня за стеной каждую ночь.
— Ой, мамочка, я остаюсь здесь до утра! Я навсегда тут хочу остаться. Не выгонишь?
Боже мой, она еще спрашивает! Но о чем она спрашивает? Неужели она...
— На всю ночь не получится, нас прогонят. Внизу скандальные жильцы. И вообще там дверь забита накрепко, — сказал я. А ты вытаращила глаза от удивления, ты все поняла и рассмеялась, а я неудержимо краснел, мучительно чувствуя, как горит мое лицо.
— С тобой легко, — сказала ты, выручая меня. — У тебя что в глазах — то и на языке. Я не боюсь тебя ничуть. А ты вот меня побаиваешься. Все-таки жаль, что мы не увидим луны из твоего окошка.
— Увидим. Я вышибу все двери. Иди со мной! — приказал я, взял тебя за руку, тянул, а ты упиралась.
— Нет уж, Ленька. Теперь пойдем куда-нибудь в другое место, где нет гвоздей и соседей.
— В лес, в глубь парка, — сказал я.
— Нет уж, Ленька. Теперь давай-ка поближе к воде, к солнышку. Узнаем, когда очередной теплоход, и пройдемся пока по берегу.
Но высокий крутой берег Невы был не в удовольствие: и медленные баржи, как плывущие деревни, с бельем на веревках, и закат с малиновыми перьями в полнеба, и все, что видели мы и слышали, о чем говорили и даже думали, — все это было теперь с примесью той моей слишком поспешной и трусливой догадки.
А может быть, только я так думал. Ты шла, как и прежде, пританцовывая на каблучках, покачивая сумочкой. Ты попросила меня идти первым по тропе и выбрать место, чтобы можно было сесть, свесив ноги над водой.
— Давай вот здесь посидим, — сказал я и остановился на излучине; слева были бакены, справа еще виднелась пристань, деревья над обрывом и заря, от которой захватывало дух.
Мы не свесили ноги над водой, не получилось, — слишком сыпучим оказался краешек берега. Сели на траву. Молчали, наконец я решился:
— Хочешь, я тебе прочту стихотворение?
Ты легла на спину, закрыла глаза и сказала шепотом:
— Прочти, если хочешь.
Тихо стало после этих слов, я думал, вспоминал, что же мне лучше прочесть, а ты все не открывала глаз и не шевелилась. Ты была близкой и недосягаемой. Я был с тобой и в то же время в моем прошлом; вспомнил тесную комнатку на чердаке, маленький столик, полки для книг, вспомнил моих дядю Никиту и тетю Матрену, с которыми жил; вспомнились мне и мои друзья, наши игры — футбол на полянах с кочками и мои каждодневные дела по хозяйству — корова, огород, садик возле дома, который я сам посадил на месте свалки; и мечты вспомнились мне — в счастливые и грустные мои детские и отроческие времена.
— Прочти что-нибудь о природе, — попросила ты.
— Есть у меня о лесопарке, давно написал:
Что-то буйно краснеет рябина, урожайная в этом году. Что-то поздно цветут георгины в лесопарке, в моем саду. Что-то дом запахнулся дверями и заснул, как большая сова. И давно уж забит горбылями у дороги большой сеновал. Рыжеватую бороду гладя, возле дома садясь на скамью, огорчается осенью дядя, что в саду пропадает уют, что настало мученье с дождями и что с пчелами просто беда... А напротив — береза ветвями задевала слегка провода. Оторвался и в воздухе плавал сентябрем перекушенный лист. Как мне жаль тебя, шумная слава, кувырком полетевшая вниз. Пусть подольше краснеет рябина, урожайная в этом году. Пусть подольше цветут георгины в лесопарке, в моем саду.И снова тишина, только шелест травы, листьев на кустах, вскрики чаек над рекой. Странное пришло ко мне чувство: возвышенное и самое земное, реальное и нереальное, надежное и зыбкое вперемежку. Наверно, не стоило читать стихи, нужно было о чем-нибудь поговорить, и тогда все стало бы проще, естественнее, не было бы такого молчания, — после стихов вообще не знаешь, о чем говорить. А тут еще сдуру я начал новое, потом прочел еще и еще, и надо было бы остановиться вовремя, снять какой-нибудь шуткой уж слишком торжественное настроение, — не сообразил, не смог, и мне вдруг показалось, что ты, Катя, заснула под монотонное мое чтение.
Я замолчал на полуслове, не зная, что же делать. Я не обиделся, я был раздосадован на себя, но тоже недолго, я смотрел, любовался тобой — ты не открывала глаз. А мне бы отважиться, наклониться над тобой, над твоим лицом, припасть к тебе, и чтобы покачнулась земля, и чтоб нежность моя была осторожнее дыхания — на это на все не хватило у меня мужества. Я только еле слышно спросил:
— Можно, я тебя поцелую?
Эти слова оглушили меня самого как взрыв. И снова тишина, звенящая, мучительная.
— Пусть подольше краснеет рябина, — едва слышно прошептала ты.
И потом я услышал то, что и следовало ожидать:
— Дурачок, разве об этом спрашивают.
Ну хорошо, в первую нашу встречу я был мальчишкой, дураком. Но не случайно ведь пришла ко мне боль?
Ведь вот с чего началось: ты стала работать в пионерском лагере вожатой. Ты звала меня, говорила, что не сможешь без меня. Но там был и Мишка — физкультурник, борец, и пловец, и на дуде игрец, кумир озорных пацанов и романтически настроенных девчонок...
Я поехал к тебе в субботу. Сто километров на велосипеде тогда не были для меня расстоянием. Я гнал на своем любимом велике как ошалелый. Торопясь, шлепнулся на вираже, поплевал на ушибы и ссадины — и снова ходу, лишь бы успеть дотемна, до отбоя, до того, как ты уснешь.
А ты и не думала спать, готовилась к вечеринке, к танцам. Ты не ждала меня в тот вечер, и вообще не ждала, чтобы я вот так прикатил на велосипеде, обалдевший и грязный. Я сразу это понял, когда поглядел в глаза, хоть и старалась ты быть со мной побережнее, понежнее. Но я видел, чувствовал: ты растеряна, спешишь, и мы идем к речке для того только, чтобы проститься помягче. И я сказал, что заехал просто по пути. Мне показалось, так будет легче нам обоим.
Земля проваливалась подо мной, когда ты ушла. Душным и огненным казался воздух, которым я дышал. «Неужели ты не видишь, какой он?! — думал я, остервенело крутя педалями. — Ты прощаешь ему все...»
Да, ты прощала ему все... Ну что это за мужчина, если он не выпивает, не дерется, не ухаживает за девчонками направо и налево, не ввязывается во всякие истории? Мужчина должен быть мужчиной. Ты ведь не раз говорила мне об этом, а я не придавал этому такого уж большого значения, веря, что ты на самом-то деле обо всем думаешь сложнее.
«Говори мне всю правду, — обычно просила ты. — Я хочу знать, какая я на самом деле. И только ты можешь мне это сказать. От тебя мне будет не так больно услышать что-нибудь о себе нелестное». И я, как наивный болван, выкладывал все, что думал.
А мне нужна была полная правда. Больше всего на свете я хотел знать, любишь ли ты меня так же, как люблю тебя я. Мне казалось, что так и есть. И я готов был забыть наши ссоры, простить все обиды, я любил тебя, не задумываясь, что хорошо в тебе, а что плохо, я не хотел знать ни о чем, кроме того, что ты нужна мне какая есть и — навсегда.
Я хотел, чтобы ты узнала об этом как можно быстрее, немедленно. Но только осенью я написал тебе письмо, назначил свидание.
И сразу же появилось во мне столько нетерпения, горячности, что хотелось все время двигаться, куда-то бежать, спешить, а я — вот странно — все лежал и лежал на койке с открытыми глазами, глядя в потолок на четыре белых плафона, и думал о тебе, представлял, как мы встретимся, что скажем друг другу. Ты должна была сразу поверить, что я люблю тебя, и это навсегда, и ничто не страшно мне будет с тобой. Ради тебя, которая мне дороже всех, я многое могу сделать!
В тот день я пораньше сорвался с занятий и поехал на рынок искать цветы. Я купил гвоздики на Кузнечном у пожилого грузина. Он сказал, что таких цветов, как у него, нигде больше не найти, и я отдал ему все мои деньги. Я охотно расстался с ними, я еще никогда не был таким щедрым. Мне даже казалось, что, чем щедрее я буду, чем более свежими и красивыми будут мои цветы, тем скорее придут ко мне удача и счастье.
Я долго ходил с цветами по малолюдным улицам. Ждал свидания, досадовал, что сам назначил время слишком позднее. Я боялся, как бы не завяли мои цветы на холодном ветру. Их было так много, что я не мог их укутать в газету. На цветы обращали внимание все прохожие, особенно женщины и девушки, многие даже улыбались мне, как будто понимали, что я несу мой букет не просто так, не кому-нибудь в день рождения, а иду на самое важное свое свидание.
Ты опоздала всего на несколько минут. И не вошла — вбежала в сквер, раскрасневшаяся, нетерпеливая. Увидела цветы и спросила: «Это кому такое чудо?» — «Это тебе...» — сказал я. «Господи, Ленька, ты сошел с ума! Это же две стипендии сразу!» — «Нет, больше», — сказал я сердито.
Я в ту же минуту понял, что это не встреча, а прощание, что снова я наивный дурак: все придумал, все насочинял... Ты не знала, что делать с цветами, как быть со мной и с нашим свиданием, ты поглядывала за решетку сада, где кто-то прогуливался взад-вперед. «Ах, вот в чем дело! Ты забежала на всякий случай. Ты с другим! Не Мишка ли это?! Да не все ли равно кто!»
— Он тебя ждет, — сказал я, подняв воротник шинели, повернулся и пошел прочь, а потом побежал...
Давно это было, но помню со всеми подробностями, как будто все это происходит сейчас. Правда, нет во мне теперь той боли, того отчаяния и холода в душе. Я не хотел жить, но выжил, я переменился, ты правильно это подметила. И что-то новое во мне началось как раз тогда, в тот вечер. Я так хотел, я готов был сделать что угодно, лишь бы освободиться от себя — от прежнего.
Странно, и горько, и стыдно теперь это все вспоминать, но ведь и сейчас, Катя, я меняюсь. Что происходит со мной — еще не знаю, кажется, я становлюсь осторожнее, рассудительнее, уравновешеннее, кажется, я влезаю в раковину, и со стороны меня, пожалуй, можно сравнить вот с этими домами на берегу канала: я вижу их тени, я различаю даже окна, я знаю, что это жилые дома, но слишком мало светится окон, и слишком тусклый у них свет, и тайна, настороженность, запустение во всем их облике.
Это называется «излечиться от себя», приобрести, так сказать, жизненный опыт. Горький это опыт.
Я ушел, подняв воротник шинели, и шагал, шагал, как автомат, ничего не слыша и не видя. Кружил по каким-то улицам, петлял, и сам не знаю, как приволокся в общежитие. Я не раздеваясь упал на кровать, и, если бы не Матвей-горбун, я бы, наверно, заснул, уткнувшись в подушку, и проспал всю ночь. Но я вдруг услышал какое-то шипение, потом потрескивание, и зазвучала музыка — любимые вальсы Матвея.
Я сразу вспомнил, как мы танцевали, вспомнил тебя и Мишку, но не это было главным, — когда я лежал закрыв глаза и уткнувшись в подушку, я видел белое пятно, белый круг от самодельной моей настольной лампы, и видел, как моя рука выводит буквы, слова, и слышал вместе с музыкой вальса гудение трансформатора — это я опять писал тебе письмо в пустом огромном кабинете электротехники, в безлюдном огромном здании — только два окна светились в тот поздний вечер: в дежурке и мое на четвертом этаже.
Трансформатор гудел за спиной особым своим утробным гудом, он рождал ясность, свет, белое пятно, белый круг, который казался мне магическим, таким же, какой, говорят, очерчивали когда-то в ночь гаданий на перекрестке дорог. Я тоже хотел знать, что было, что есть и что будет. Кто я? Кто она? Кто он? Кто они?
В первые минуты, когда я садился за стол, слышал гудение трансформатора, видел провода, бумагу, приборы, свои руки, — мне казалось, что я совсем один. Зябко было от этого одиночества. Но потом, когда перо выводило крючочки, нолики, палочки, загогулины, а буквы рождали слова, а из слов составлялись понятия, мысли, воспоминания, — в это время я был, как никогда, соединен со всем, что было в мире. Я переживал свою жизнь заново, хотел подправить то, что было неудачным, учесть это на будущее, наше с тобой будущее, Катя.
Трансформатор гудел и гудел за спиной, и голова моя гудела, все глубже и глубже я погружался в себя, в людей, в отношения, в чувства; мир звучал во мне то смутно и тревожно, то озаряясь ясностью, то снова погружаясь в хаос и мрак. Я был в магическом круге — вокруг меня были сотни дорог, вокруг меня летали ангелы и бесновались черти. Я был заодно и с теми и с другими. Но это было ненадолго. Я писал тебе письмо, оно было моим светом, моим будущим, судьбой.
Но оказалось, что все решено было только мною. И ничего мне уже теперь не оставалось делать, как лежать лицом вниз и не шевелиться.
Пришли в комнату Сергей, Федор и Славка Греков — они решили отпраздновать день рождения Фединой невесты. Ну надо же, какое совпадение, просто смех и грех. А мне что праздновать?
Я не знаю, как очутился за столом, как растормошили меня парни, помню только, как вошел Мишка, шумно ввалился в комнату со своим обычным: «О, приффет!» Счастливой была его толстая морда, сияли его прищуренные глазки, и, как только он хлопнул меня по спине — просто так хлопнул, как обычно хлопнул, — я врезал ему наотмашь по пузу. Но он самбист. Я потом летал и кувыркался, как котенок, и развалился на полу. И так мне стало хорошо, легко и бездумно, что я и не собирался вставать — лежал себе и лежал, закрыв глаза и раскинув руки. Мишка даже испугался. Наклонился:
— Ленька, Ленька, прости, я не хотел.
— Хотел не хотел, а убил, — сказал я, легко поднялся на ноги и отправился на улицу, чтобы не видеть мне больше никого, хоть я и был уже спокоен.
На улице меня догнал Мишка. Обнял за плечи, стал извиняться, а я слушал и не слышал, пока не влетела в уши одна фразочка, брошенная вскользь:
— Надо бы достать полбанки. Есть у меня две девочки. Годится?
— Годится, — сказал я.
Да, Катя, я так и сказал и сейчас об этом вспоминаю со стыдом. Тебя вот нет сейчас рядом, и Зойки рядом нет, но как будто я снова предаю: то одну, то другую. Вы обе во мне. Ты снова оттолкнула меня (это понятно) и все-таки еще любишь, а я вот опять иду и решаю, куда мне — домой или к Зойке. Я не был у нее много дней. Мы встречаемся как-то странно, иногда не видимся по нескольку месяцев, мы и нужны и не нужны друг другу, встретимся и молчим или разговариваем о пустяках, — мы разные, мы очень с ней разные люди. Когда я сказал «годится», мне было все равно, куда и к кому идти.
Мишкины «девочки» жили невдалеке от Витебского вокзала, в старом доме, в глубине двора. Темно было и странно. Шли мы будто крадучись. Черные коты выпрыгнули наперерез из мусорных бачков, стая голубей, наверно с испугу, вспорхнула и перелетела с карниза на карниз. Мы пересекли двор. Мишка постучал в темное окошко полуподвального этажа. Стук был громкий, бухающий, кажется, на весь двор, во все квартиры сразу: вот мы! Открывайте поскорее! Мы пришли!
И тут вдруг я испугался: так страшно и стыдно было идти к незнакомым девчонкам. Это же не с цветами и с коробкой конфет на день рождения, не какая-нибудь романтическая встреча под часами, это ничем не прикрытое и громкое бух-бух-бух в окно.
«Не думай, не вспоминай ни о чем, одурей», — приказал я себе. Но твое имя, Катя, как обжигающий свет вдруг вспыхнуло во мне, и сразу же, в то же мгновение явился мой двойник — негодяй с усиками: я вспомнил фильм «Ночи Кабирии».
— Да ну их, пойдем отсюда, — сказал я. — Как-нибудь в другой раз.
— Должны быть дома, — сказал Мишка. — Зачем это — в другой раз? Пришли, и все тут, — и Мишка снова постучал.
Отдернулась занавеска, выглянула какая-то молоденькая, позыркала, погрозила кулаком.
— Это Люська, все в порядке, — сказал Мишка. — У нее еще сеструха, Зойка, кондуктором на автобусе работает. Красивая, между прочим, баба, хоть и рыжая.
Мы поднялись по ступеням, их было всего пять или шесть, свернули влево, уткнулись в дверь, стали ждать. Вскоре что-то хрустнуло в глубине — это отдернули крюк, и снова в приоткрытую дверь высунулась мордочка — маленькая, лисья.
— Люська, привет, — выдавил шепотом Мишка. — Ты уж извини, я тут с приятелем.
Дверь открылась пошире. Люська стояла в халате, тоненькая, остроносая. Смотрела больше на меня, а не на Мишку.
— Уж ладно, входите. Только тихо. Соседи, — предупредила она устало и без всякого выражения на лице.
Мы с Мишкой пошли за ней на цыпочках по коридору, мимо кухни с множеством перевернутых кастрюль на полках и оказались в довольно просторной комнате, перегороженной шкафом. По обе стороны от него стояли кровати. Одна из них, новая, деревянная, была аккуратно прибрана, а другая, железная, походила на свалку белья. В комнате была еще и детская кроватка, она стояла в углу, в отдалении.
Большой круглый стол под старинным матерчатым абажуром с висюльками располагался таким образом, будто он вместе со шкафом был как бы границей двух условных половинок комнаты, двух государств.
Мишка сразу прошел на середину комнаты, по-хозяйски сел за стол.
— А где Зойка? — спросил он.
— На работе. Скоро придет.
— А где мальчишка?
— У родни.
Люська забралась на кровать с разбросанным бельем, села спиной к стене, поджала ноги, оказалась совсем маленькой. Лицо ее было по-прежнему безучастным, но я заметил, что она все чаще поглядывает на меня и, кажется, отходит от своего сна и безразличия.
— Ну дак что, Миха, — сказал я тоже по-свойски, — доставай, что прихватил.
— Успеется, — сказал Мишка, но все-таки полез в карман брюк и вытащил пол-литра водки. Люська даже не повернула голову. Только спросила:
— Курить есть?
— А как же, — сказал я и достал пачку сигарет. Я протянул ее Люське, а сам присел на кровать, чтобы зажечь спичку. Коробок взял у Мишки. Руки у меня дрожали. Люська щелчком выбила сигаретку, палец у нее был тоненький, с крашеным ногтем, сигарета выскочила не сразу. Люська размяла ее, понюхала, произнесла: «Не фонтан» — и склонилась над зажженной спичкой, втянув щеки. Закурили и мы с Мишкой. Делать было нечего, говорить тоже было не о чем.
Странно и совестно было мне смотреть на моего приятеля, и незнакомую девчонку, и на самого себя, отраженного в осколке зеркала. Никогда не думал, что будет так вот скучно, буднично.
Послышался стук в окно. Негромкий, но отчетливый. Три раза.
— Это она, — сказала Люська, влезла в тапки и пошла открывать дверь.
— Ну что скис? — подмигнул Мишка. — Все будет тип-топ. Ты разнарядку понял? — спросил он. — Зойка тоже баба в порядке. Даже лучше, чем Люська. — И вдруг он словно спохватился, сделал вид, что обиделся: — А ты смотри-ка, Люська на тебя с ходу глаза пялит. Ах ты тихоня!
Морда у Мишки была шальная, глаза маленькие-маленькие, — значит, и я выглядел не лучше.
Вошла Люська и сразу же села на кровать. И вот появилась Зоя: высокая, тоненькая, нервная. Через плечо кондукторская сумка.
— О-о, приффет, — протяжным, дурашливым возгласом встретил ее Мишка.
— Давненько тебя не было, — сказала Зоя равнодушно, давая понять, что мы ей не нужны. Она с работы. Отдохнуть бы, а мы тут приперлись.
— Простите, мы вам, наверно, помешали, — сказал я и дернулся, чтобы встать.
Мишка зыркнул на меня — мол, ты что, дурак, сиди где сидел. Люська удивленно фыркнула. А Зоя впервые посмотрела на меня внимательно чуть-чуть раскосыми глазами, отвернулась, сняла сумку и бросила:
— Не смотрите, халат надену.
Каким долгим и мучительным был шорох за моей спиной.
— Так вот и оставайся, — сказал Мишка. — Тебе идет.
— Без комментариев, — строго попросила Зоя. — Или иди отсюда.
— Ого-го, — сказал Мишка игриво. — А раньше ты была повежливее.
— Раньше и ты был не таким нахалом, — обрезала Зоя.
— Всегда вы ссоритесь, — сказала Люська. — Надоело.
Появились граненые стаканы, кусок хлеба, несколько долек колбасы. Мишка и Люська сели рядом, как раз под абажуром, а я примостился на табурете. Зоя подошла к столу, устало опустила руки, одним глазом посмотрела на бутылку, сказала с тяжелым вздохом:
— Шли бы вы, мальчики, домой.
Мы помолчали, переглянувшись с Мишкой. Вроде бы надо было уходить, и вроде бы не надо. Даже опытный Мишка растерялся от простых и трезвых Зоиных слов.
А меня вдруг обожгло стыдом. Кровь бросилась в лицо. Я отвернулся. Увидел на шкафу пол-литровую байку с бумажными цветами. Красные гвоздики торчали во все стороны. Мне показалось, что с меня вдруг слетела одежда и сижу я перед всеми обнаженный. Ну как я мог прийти, ввалиться... Не по-людски все это, и, если Зоя сейчас ударит, отхлещет меня по щекам, она будет права.
Я медленно начал подниматься со стула и залепетал что-то несусветное, стал извиняться. И увидел Зоины зеленоватые глаза, они сначала были усталыми и строгими, а потом помягчали, улыбнулись мне.
— Ладно уж, сидите, раз пришли, — сказала она.
— Да чего уж, дернем, а там видно будет, — вышел из положения Мишка и в один миг набулькал в стаканы. — Ну, поехали! За прекрасных дам! — сказал он и поднял свой стакан.
И мы подняли свои стаканы. Зоя выпила, отвернувшись от всех. А потом вдруг подсела ко мне на табурет.
— Ну-ка, подвинься, расселся тут, — сказала она грубовато и ласково. Я быстро подвинулся на самый край табуретки. Зойка обняла меня за талию. — Вот и порядок, — сказала она, — тесно, как в автобусе.
И с этого мгновения все завертелось, закружилось, стало получаться само собой: сдавленный смех, нетерпение, нежность, и — будь что будет.
И тут вот снова садануло меня что-то по сердцу. Оно было не Зойкиным — твоим оно было, Катя, только твоим. А тут вдруг — женский голос, женский облик, и это не ты. И вот тогда я впервые стал делиться надвое, разрываться, расползаться. Слова, жесты и даже чувства, которые я предназначал только тебе, оказались отданными другой женщине. Ей я не мог уже быть чужим, а тебя не было рядом. Но, однажды уже разделившись, я не мог остановиться. А особенно после того, что случилось. Так вот и начались наши отношения с Зоей. Я все помню. Какое-то обостренное чувство живет во мне до сих пор, как будто я все сильнее, все яростнее хочу остановить себя, но продолжаю делиться, раздваиваться, раздираться.
Я помню даже запах стеганого одеяла, он и сейчас остался таким же, теперь я привык, но тогда он душил меня. И странным, даже чем-то ужасным показался мне ее вопрос:
— А девушка у тебя есть?
— Есть, — сказал я.
Зойка помолчала.
— А чего это ты мне не врешь? — спросила она удивленно.
— Зачем мне врать?
— Да так, все врут. — И вдруг: — Красивая твоя девушка?
— Красивая.
— Любишь?
— Да, люблю.
— А чего же пошел ко мне?
«Со злости, — хотел я сказать, — от обиды, от неудачи и ревности». Но ни к чему говорить все это, и я ответил коротко:
— Не знаю, само вышло.
И вдруг мне стало противно. Что нужно мне здесь? Ничтожество! Уж молчал бы, что есть у тебя девушка. Хорошо, что хоть имени ее не назвал. Я отодвинулся от Зойки, отвернулся.
Кто-то прошелся по коридору, скрипнули половицы. Въехала во двор машина, взревел мотор и замер, хлопнула дверца. На миг мне показалось, что я залез в чужой дом, как вор.
— И ты такой же, — услышал я тихий Зойкин голос.
— Какой такой?
— Как все, — сказала Зойка.
Я обиделся. Почему это я как все?
— Кто это мы все?
— Мужики, парни. Все! — холодно отрезала Зойка.
— А чем мы тебе не угодили?
— Угождать вы мастера, а вот если что...
— Что же?
— А хотя бы просто быть людьми.
— Мы и так люди. — Я знал, что Зойка имеет в виду, но решил не забираться в дебри. Сигарета моя погасла, одеяло я отбросил подальше — было жарко.
— А нужно, чтобы вы разлетелись все к черту. И не мучили. Мы уж сами как-нибудь, без вас.
Зойка сказала это резко. Я огорчился.
— Ты меня не знаешь, — сказал я. — Если хочешь, я и в самом деле сейчас уйду. Я мог бы уйти и тогда еще, ты сама оставила. Я не знаю, какой я, — может быть, как все, может быть — даже хуже. Прости, если тебе плохо. Ты слишком доверчивая.
— Откуда ты знаешь?
— Я это понял, когда ты подсела ко мне.
— Подумаешь, — сказала Зойка, — это ерунда. Я тебя тоже разглядела сразу. Уж стольких людей встречаю каждый день, не проведешь.
— А может, я прикинулся другим? Ты же сама сказала, что я — как все.
— Обиделся? — сочувственно спросила Зойка. И придвинулась ко мне, медленно провела пальцами по моему лицу.
— Конечно, — сказал я.
— Я тоже обидчивая, — едва слышно призналась она. — Бывает — жить не хочется, так все противно. Пореву, пореву, а потом подумаю, махну рукой: не так уж все плохо.
— У меня тоже так бывало, особенно в детстве, когда был пастухом.
— Ты был пастухом? — удивилась Зоя.
— Да, был. А что тут такого?
— Ничего, — сказала Зоя. — Только как-то странно в наше время.
— Ничего тут нет странного. Со мной много чего было в наше время. Детдом, беспризорничество, один раз я даже в чужой карман забрался, когда убежал из детдома.
— Расскажи.
— Ничего интересного.
— Понимаю. Воровать страшно и противно. И когда подозревают тебя. Или когда у тебя воруют, а ты случайно заметила... Я просто тогда сама не своя. Болею потом.
Зоя сказала это совсем тихо, и мне показалось, что она скосила глаза в сторону Люськиной кровати.
— А все-таки, наверно, очень трудно жить вдвоем в такой комнате, — сказал я.
— Надоело, — сказала Зоя. — Темно. Даже уроки не сделать.
— Ты учишься?
— Кончаю восьмой класс вечерней школы, — сказала она. И сразу же добавила кисло: — Двоек нахватала целый вагон. Когда тут позанимаешься по-человечески? То да се. Приходят — уходят. Люська тут устроила проходной двор, — обозлилась вдруг Зоя.
— А ты всех гони, — сказал я.
— И тебя тоже?
— И меня тоже, — подтвердил я. — Когда хочешь чего-то добиться, нужно собраться вот так, — и я сжал кулак.
— А я слабая, — вдруг сказала Зоя. Помолчала и добавила: — Женщина. — И опять помолчала и вновь сказала коротко: — Плохо одной с сыном.
— Это у тебя сын? — спросил я. — Ты замужем?
— И да и нет, — вздохнула Зойка. — Он в тюрьме. Влип за воровство. Да ну его, не хочу вспоминать. Расскажи лучше про себя.
— Нет уж, лучше ты мне расскажи о себе.
Зойка прижалась ко мне:
— А что рассказывать? Люблю своего малышку, учусь, работаю, мечтаю попасть в институт на журналистику, жду, когда переедем в новую квартиру, стоим на очереди — вот и все. Ничего у меня нет пока такого... Все жду и жду... чего-то.
Что это? Просто желание поплакаться, которое приходит время от времени ко всем? Или, может быть, я вызываю чем-то такое желание? Или в каждой женщине скрыто до поры какое-то особое, тревожное чувство? Или просто-напросто не так уж много в мире сильных, крепких, стойких людей, умеющих молчать о своих бедах и видеть жизнь в основном с радостной стороны? Или, быть может, мне по каким-то особым, неведомым причинам суждено быть близко знакомым именно с теми женщинами, у которых все не просто?
Я прикоснулся к Зойкиным волосам, они были густыми и мягкими.
— Ерунда, все у меня хорошо, все прекрасно, это я просто так пожаловалась, — заспешила Зоя, словно оправдываясь. — Дурачок ты мой необученный, — прошептала она, прижимаясь ко мне все теснее. — Приходи ко мне, когда захочешь. Ну, повернись же, повернись ко мне, дурачок, я тебя поцелую.
Выбрались мы с Мишкой на улицу, как и пришли, — на цыпочках. Провожала Люська. За нами щелкнул крючок, и снова мы оказались во дворе, и черные кошки бросились из-под ног. На душе было муторно: усталость, разочарование, и стыд, и опустошенность, и ощущение — теперь я уже не тот, и все женщины не те, и это уже навсегда. К самому себе, еще недавнему, я никогда уже не возвращусь. И ни за что не хотелось бы мне уходить вот так от той, чье имя я не смог произнести.
Молча мы шли по темным улицам, потом дворами, потом через пустырь невдалеке от привокзальной площади, потом по берегу Обводного канала к мосту, за которым было общежитие. Темно и неуютно было вокруг. Осень. Зябко. Все казалось неприветливым, холодным, а может быть, это только для меня все было таким безрадостным.
Долго тянулся высокий забор, и вдруг вырос дом на углу — наше общежитие.
— А ты хороший парень, Ленька. Свой в доску, — сказал Мишка и слегка шлепнул меня по спине.
Я ничего ему не ответил. Неправда была в его словах, неправда была между нами, неправда была в темном воздухе ночи, и Катя была неправдашной — все было случайным, временным, зыбким.
Медленно, тяжело поднимались мы по лестнице. Мишка шел впереди, я сзади. Шаг, еще шаг, еще ступенька вверх, и может быть — все к лучшему, все еще будет по-иному. Я не знал, что самое трудное испытание, оказывается, было еще впереди.
Конечно, все можно пережить, кроме собственной смерти, и почти всему можно найти оправдание. Но есть в каждом из нас какой-то сложный прибор, совсем особая часть души, и провести ее невозможно, об этом знают все, и я об этом знал, но понял по-настоящему, что это именно так, лишь когда снова увидел тебя, Катя.
Я предал тебя. Ты этого не знала, и я бы мог делать вид, что все по-прежнему, но я ведь знал про себя все и ничего не мог с собой поделать, я не мог смотреть на тебя и отворачивался при встрече.
И вот тогда Мишка (снова Мишка!) помог мне вернуть надежду, что все у нас будет хорошо, — он уговорил меня поехать в Лесопарк повеселиться на природе, пока еще не опали все листья. Я решился пригласить тебя, Катя. Ты согласилась, намекнув, что уже была приглашена кем-то из нашей компании, — за город собрались и Слава Греков, и Сергей, и их девушки.
В Лесопарк, снова в Лесопарк, в мои края, к нашему первому свиданию, — а вдруг все сбудется теперь?
Сначала все было хорошо. На верхней палубе Сергей бренчал на гитаре, а мы пели. Я громче всех. Я разошелся, вспомнил, что у моего отца был неплохой голос, и вот решил проверить «наследственность», а больше всего хотелось понравиться тебе, вернуть прежнее.
Ты сидела рядышком, защищаясь от ветра полой моего кителя, и подтягивала мне тоненько и задушевно.
Мишка сидел напротив, в окружении девушек, которых пригласили Сержант и Славка Греков. Мишка съехал на самый край скамьи, рубашку расстегнул почти до пояса, подставив ветру и солнцу загорелую крепкую грудь. Мишка не пел, он лениво щурил глаза, он был, кажется, не с нами и не с песней и лишь принимал наши взгляды, лишь терпел нашу хоровую грусть: он был красив сейчас, этот донжуан.
Вдруг он быстро поднялся и подсел к тебе, Катя.
— Что-то стало холодать! — прокричал он, обнимая тебя и меня заодно. Мы даже повалились набок от неожиданности и перестали петь.
— Не мешай, — сказала ты довольно строго, но руку его не убрала, только села прямо, поправила юбку.
Я снова предложил полу своего кителя, ты отказалась:
— Спасибо, мне уже стало тепло.
— Еще бы, — сказал Мишка, осклабившись. — Тут есть кое-что погорячее. — И он погладил твое плечо, стараясь оттеснить мою руку. Так мы и продолжали сидеть в обнимку — ты, Мишка и я.
— Ловко устроились, — заметил Иностранец.
— Как в раю, — сказал Мишка.
Я ничего не ответил, продолжая песню. Уже негромко, уже просто так, чтобы не молчать, чтобы заглушить чувство досады, тревоги, тоски. И вот пришло другое чувство — бесправие. Как я могу чего-то ждать, требовать, разрешать или запрещать — даже в мыслях, — если знаю, что сам виноват. Хоть и не был я больше ни разу у Зойки, но вот сидит рядом свидетель моего падения и бесправия.
Ты была рядом, совсем рядом, и все-таки ты была уже другая — напряженнее, строже. Ты тоже делала вид, что ничего не произошло, что Мишкина рука обнимает твои плечи просто так, по-дружески — ведь мы все тут свои люди, и вообще, противно, глупо быть недотрогой, когда нам всем так хорошо. Я это понимал и все же ничего не мог с собой поделать, никак не мог успокоиться.
Я попробовал прижать тебя к себе покрепче, но ты отстранилась. Не сразу, не резко, и все же села прямо, между мной и Мишкой. И я почувствовал, что ты наклоняешься к Мишке все ближе и ближе. И не только по его воле — ты сама так хочешь.
Он сильнее меня, думал я, решительнее, а она любит «настоящих мужчин», она охотно готова подчиниться их воле, Мишкиной воле. Но в моем Лесопарке я стану другим, и все вернется. Осенний, он стал еще красивее, я так гордился им, как будто сам посадил и вырастил все эти деревья вдоль берега и даже этот осенний, пышный их багрянец рожден моими заботами. И я начал рассказывать о Лесопарке сразу же, как только мы сошли на берег. Я вспоминал свое прошлое, водил друзей по аллеям и тропам, я хотел, чтобы ты все вспомнила...
И чтобы совсем тебя завоевать и победить Мишку, я прочел свои стихи:
Обычно в поздних числах октября я в Лесопарк являюсь за рябиной — к моей заветной, огненной, любимой всегда влечет в конце календаря. Сажусь я в теплоход и по Неве везу неторопливую свободу, гляжу на рассекаемую воду, и солнечное что-то в голове. Я свой, я не приезжий, я вернулся. Здесь навсегда мои горячие следы. Здесь столько невской выпито воды, что просто чудо, как не захлебнулся. Вон дом мой. Вон мое окно. Двустворчатые ставни смотрят косо. Ну что вы так встречаете непросто, — не виноват, хоть не был я давно. Не нужно так смотреть издалека, насупленно оценивать одежки. Мое окно, мой свет из уголка, к тебе мои дороги и дорожки.Я не одержал над Мишкой никакой победы. Когда я кончил читать, он без всякого перехода сказал:
— А не пора ли нам пора насчет картошки дров поджарить?
— Неплохо бы, — согласился Слава Греков.
— В самый раз, — сказал Сержант.
А потом мы сидели на поляне у оврага. Тонкие березы с позолоченными листьями стояли вокруг, пахло грибами, было тихо. А нам хорошо. Солнце пятнами освещало землю и нас — четверых парней и троих девчонок, самой красивой из которых была ты, Катя.
Твой «конский хвостик» был под цвет осени, цвет листьев — не кленовых и не осиновых, ярких, а таких, как у березы, — бледной, мягкой желтизны. И даже ворсистый джемпер был палевого цвета, и даже твои обычно зеленоватые глаза напоминали мне теперь больше цвет осеннего неба — густой синевы. Ты знала, что нравишься всем, что тебя любят, и, наверное, от этого у тебя все получалось с легкостью, само собой, весело. Ты была хозяйкой, заботилась о нашем столе, ты шутила и угощала всех и направляла наши разговоры в ту сторону, какая тебе нравилась. И уж не знаю, спроста или нет, ты завела разговор о чувствах, о том, что они одни не меняются вот уже тысячелетия и что только женщина может знать их силу и тайну в полной мере. И что, если бы не женщины, мужчины огрубели бы за несколько лет настолько, что превратились бы снова в пещерных жителей.
Мишка захохотал, вскочил на ноги, растопырил руки:
— Иду это я, Петя Кантропов, весь в волосах, в шкурах, а навстречу мне ты, ангел, без волос и без шкур. Хвать я тебя, — Мишка и в самом деле схватил, облапил Катю, — а ты мне и говоришь: «Фу, нахал невоспитанный».
— Отстань, отпусти, ты и вправду нахал невоспитанный, — сказала ты, оттолкнув Мишку. Он упал на спину и снова захохотал.
Сергей начал что-то негромко наигрывать на гитаре, а Славка Греков неожиданно предложил послушать такую историю:
— Представьте себе такое: кончается двадцатый век, начинается двадцать первый. На рубеже двух веков вы оказываетесь в лесу, вам хорошо. И вдруг вас потянула к себе какая-то сила. Все тянет и тянет, и уже нельзя сопротивляться ей, и вот вы рядом с каким-то странным огромным сооружением. Что это? Вдруг вспоминаете: вы слышали уже от кого-то, что человечество создало машину, такой биологический супермозг, такой сверхфеномен, что он знает все и обо всем и все может, и создан для того, чтобы все человечество прошло в двадцать первый век только через этот КПП, да-да, контрольно-пропускной пункт. И вот вы входите внутрь, в огромное помещение, а может быть, это малюсенькая комната, и слышите голос, как в сказке про аленький цветочек: «Послушайте, живое существо. Если вы хотите жить в прекрасном двадцать первом веке, докажите, что вы человек, а не докажете...» И вспыхивает телеэкран, а на нем дороги, тропы, и со всего земного шара стекаются к супермозгу люди всех рас, а после по другим дорогам и тропам от КПП уходят шакалы, лошади, ползут крокодилы, змеи, в общем, всякие земные твари и только маленькая струйка людей — нового человечества.
— Уж конечно, среди них и Вячеслав Александрович Греков, — сказала ты, Катя.
— Быть может, — согласился Греков.
— Красиво же ты думаешь о человечестве, — обиделся за всех Сержант.
— Красиво, некрасиво, а ты вот попробуй докажи просто и убедительно, что ты человек, — сказал Греков.
— А не верблюд, — хмыкнул Мишка.
— Я бы послал подальше твой супермозг, — неожиданно обозлился Сержант.
— Один ноль, — сказал Мишка.
— А я бы расплакалась, — сказала ты, Катя.
— А я бы прочитал стихи, — сказал я.
— Хорошенькая, смотрю, жизнь намечается у вас в двадцать первом веке, — саркастически заметил Мишка.
— А ты, значит, туда не собираешься? — спросил Греков.
— А что мне там делать, дураку? Вот если бы с поллитрой пустили, — пошутил Мишка.
— Убогие мы люди, — сказал Греков. Он не был сердит, он сказал это, как про что-то само собой разумеющееся.
— Кончай ты разводить тут философию, — разозлился Мишка. — Не затем приехали, черт возьми. И ведь никуда не скроешься от болтовни!
Греков был спокоен по-прежнему и все тем же тоном продолжал:
— Ты сердишься, значит, ты не прав. Думать никогда не рано, и не поздно, и не излишне. Мы учились в школе, учились в ремесленном, кончаем техникум, а толку что? Прошел год, что-то произошло, а что именно, мы не знаем, не вдумались. Хоккей, футбол в нашей башке. И так еще год, и еще, пока не умрем. Разве это по-людски? Вот вы, будущие учителя, педагоги, мастера, вы можете мне объяснить, что такое «думать»?
— Это и дурак знает: ворочать мозгами. Только не теперь, — сказал Мишка.
— Куда, зачем, в какую сторону ворочать — вот в чем вопрос.
— Ну конечно, Иностранец. Ты еще спросишь сейчас: «Быть или не быть?..»
— И спрошу. Ты кстати это вспомнил. Быть или не быть нам людьми? Быть или не быть... Это, прежде всего, вопрос, который может задать только человек. Вот один философ сказал, что думание — это преследование разумной цели разумно мыслящим человеком. А какую цель преследуешь ты, Мишка?
— Слишком много тут слов «разумно». А вот я безумствовать хочу. Жить, в общем, так, чтобы все у меня было, все подряд. А ты какую преследуешь цель? Уж ты какую-нибудь, конечно, сногсшибательную.
— Мне хоть и противно разговаривать в таком тоне, — сказал Греков, — но я отвечу.
— Что же надо тебе, интересно бы знать? — Мишка прислонился спиной к березе.
— Мальчишки, может, не стоит так далеко уходить в лес, может, помолчим в тишине...
— Да нет уж, пусть выступит, — возразил Мишка. — Послушаем...
— Я не боюсь ваших улыбочек. Раз уж обещал — скажу.
Все ждали Славкиного признания как откровения. Он был уверен в себе, он как будто говорил больше сам с собою, чем с нами. Он казался парнем вовсе не из нашей компании: студент, философ, проповедник, но никак не будущий мастер ПТУ. Он и раздражал меня этим немного, и вызывал уважение. Он стоял на коленях перед нашим «столом» на поляне.
— Я хочу совершенства, — сказал он.
Мишка тоненько свистнул.
— Да, я хочу совершенства во всем.
— Не фига себе заявленьице. Славка — Шекспир, Карл Маркс, Диоген в бочке, — и Мишка заухал, захохотал ненатурально.
Славка не обращал никакого внимания на Мишкину болтовню.
— Я хочу познать самого себя... А тебе все ясно? — вдруг спросил он у Мишки.
— А у тебя все туман? — быстро ответил тот.
— А ты, значит, всем доволен?
— А ты считаешь, что все плохо?
— А ты, Ленька, всем доволен? И ты, Сергей, и вы, девушки?
Мы от внезапности свалили в кучу много всяких междометий, но услышать отдельно каждого было невозможно.
— Суду все ясно, — сказал Мишка. — А теперь к делу.
— Помолчал бы ты, Мишка, надоело, — взорвалась ты, Катя. — Слава, не обращай внимания, говори.
— Меня не нужно выручать. Вот пусть лучше он мне ответит, что является самым страшным в наше время? Ну?!
Сержант неожиданно для нас всех оглянулся с опаской по сторонам. Греков засмеялся.
— Угроза войны!
— Верно. А пострашнее? Для мирного, конечно, времени?
— Безденежье бедного студента, — сказал Мишка.
— Тоже верно, — улыбнулся Славка. — Ты уже, Мишка, близок к цели. Бездеятельность, пассивность мысли — вот что самое страшное. Мы привыкаем думать, видеть себя отсель досель. Так проще, понятнее. Солдат, слесарь, мастер ПТУ — и только. А если вдуматься — человек разносторонен беспредельно, он может и должен быть таким, поскольку в нем есть все и он есть во всем. И когда мы рвемся за пределы понятий, норм — нам трудно, больно, давят перегрузки, и все-таки только это и есть человеческая жизнь. Совершенствуются даже цветок, муха, червь. И кто знает, быть может, эти совершенные в своем роде деревья молчат не просто так, и солнце светит не просто так, и небо над нами не просто, — природа ждет от людей чего-то великого...
— А все равно помрешь дураком, — сказал Сергей с искренним сожалением.
— Вот-вот, скепсис — тоже страшно. В себя не веришь — поверь, что другой будет жить лучше, умнее тебя. У природы есть какая-то копилка для всех, на всех... я это чувствую. В природе ничего не должно исчезать бесследно, даже вот эта тишина и эта... прана! Мы летим в бесконечное... И все бесконечно...
Славка прошептал эти слова. Сухой, бледный, с лицом аскета, он заворожил себя и нас. Даже Мишка не решился острить. Я будто бы не на поляне. Земной шарик стал вроде сивки-бурки, и я лечу... и мы летим, космический ветер колышет мои волосы. Бесконечность...
Тихо было вокруг. Чистым и голубым было небо. Деревья стояли и, кажется, тоже вдумывались в слова странного и страстного молодого человека. Вершины берез покачивались. Падали листья, кружились, с легким стуком ударяясь о ветки.
Когда-то, еще когда пас коров, я часто лежал тут на земле вверх лицом. Надо мной было огромное небо, а подо мной вся земля. Великого хотелось мне. Великой радости, великих дел и великой любви. Славка Греков вернул мне эти просторы, этот размах. И все, кажется, сейчас ощутили особые масштабы своих чувств и ожиданий. Довольно долго помалкивали, пока ты, Катя, не предложила — волейбол.
Нашли полянку попросторнее, начали играть, стало жарко. Все разделись. Девчонки остались в нарядных купальниках, в этой одежде они преобразились, особенно ты, Катя.
Но тут я должен признаться, что и Мишка был очень хорош. Широкие плечи, узкие бедра, тугие рельефы мышц, стройные сильные ноги — все было в Мишке на зависть, даже плавки у него оказались какие-то японские, с карманчиком и эмблемой.
Худой, бледный Славка Греков был просто смешон рядом с Мишкой. Да и Сержант казался нескладным. Я понимал, что рядом с Мишкой и я должен казаться тебе, Катя, хлюпиком.
Начали играть. Мишка прыгал, как молодой бог, и бил и резал профессионально. Девчонки только повизгивали от его ударов. Мишка все норовил попасть в тебя: «Ложись! — орал он. — Прибью!» Ты вся съеживалась, замирала в забавной и милой оборонительной позе, а потом выпрямлялась и кричала в ответ: «Ну, смотри, ты у меня получишь».
Я видел, тебе нравится эта игра, и Мишке тоже. Это было видно по шутливым и кокетливым твоим возгласам и по тому, с каким нескрываемым удовольствием ты следила за каждым Мишкиным движением. Это понимал и он. Был щедр на свои хохмы, выкидывал всякие штучки, и какая-то непонятная связь между вами все крепла и крепла.
Заметив это, я потерял интерес ко всему: к игре, к поляне, к березам, к солнцу. И вдруг со зла я зафитилил мяч ногой подальше в кусты. Все набросились на меня с криками, мол, совсем я сдурел. Один Мишка остался безучастным. Он повалился на траву вверх лицом и вытянул ноги. Я долго не хотел идти за мячом, сам даже не знаю почему, уперся — и все тут. Но когда к кустам побежала ты, Катя, я догнал тебя, взял тебя за руку, и тогда само по себе вырвалось у меня:
— Убежим отсюда!
— Куда?!
— Куда-нибудь в берлогу или во дворец — все равно куда, лишь бы насовсем.
— Дворцы гвоздями заколочены. — Мне показалось, что ты все знаешь о Зое. — А в берлоге в мяч не поиграешь, — улыбнулась ты.
И снова у меня сорвалось само собой:
— Всегда будешь подыгрывать Мишке?
— Это уж как придется, может быть, и всегда, — ответила ты. — А что это ты за нами так следишь? — спросила ты удивленно.
— А то, что ничего в нем не видишь, кроме...
— Послушай, Ленька, это уж мое дело. Ты, кажется, забыл, что я все выбираю сама.
— Что ж, выбирай, — зло сказал я, отошел и полез в кусты за мячом. Он застрял в колючем шиповнике, и я ободрал себе руки и ноги, но боли почти не чувствовал, лез напролом.
Ты ушла. Я возвращался один и снова ударил по мячу ногой, подбросил его вверх. Мяч бухнулся на землю посреди поляны и, подпрыгнув, упал Мишке на живот. Все засмеялись, когда Мишка ошалело привскочил с земли.
— Ты у меня схватишь! — закричал он всем сразу, и погнался за мячом, и пнул его снова в кусты, в шиповник.
А я стоял на месте и не собирался убегать, Мишка бросился ко мне и в шутку — пока в шутку, я это видел, — повалил меня на землю. Мы стали бороться, тоже пока в шутку, но чем дальше, тем больнее заламывали друг другу руки, пока я не вынужден был сдаться.
Игра расклеилась окончательно. Никому не хотелось идти за мячом, все приуныли. И тогда Мишка предложил поискать в лесу КПП. Бросили на морского, кому из парней оставаться с вещами. Выпало мне. Когда все расходились, ты, Катя, сказала:
— Не скучай, скоро вернемся.
Я долго ждал всех. Спрятал вещи под старыми ветвями и листьями и пошел тоже бродить по лесу. Но лучше бы мне не делать этого. Я увидел в лесу Мишку и тебя... Был потрясен, побежал сам не знаю куда, а потом решил взять свои вещи и удрать в Ленинград.
У пристани еще не было теплохода. Его не было так долго, что я сначала решил пойти по берегу пешком к Пятой ГЭС, а потом вернулся. Искать перевозчика тоже раздумал, не хотелось ни с кем разговаривать. Стал ходить рядом с пристанью по берегу туда-сюда, где мы уже ходили когда-то с тобой, Катя.
И как тогда, буксиры вели свои караваны, мчались моторки, заняв почти половину Невы, медленно поднимался против течения озерный белый трехпалубник.
Вода утешала, успокаивала, но я знал, что теперь долго не смогу излечиться от своей жгучей, мучительной болезни. Ну, где же он, этот «москвичок»? Идет! Наконец-то вывернулся из-за поворота. Замедлил ход. Матрос вышел на палубу, держит канат, чалку. А потом будет трап, а потом — спасение хоть на время.
Пошел на палубу, сел на жесткий полукруглый диван. Рядом курят какие-то парни. Стрельнул сигарету. Затянулся. Скорее бы винты вспенили воду. Привычно здесь, на корме.
Наконец-то дрожь под ногами. Отлегло от сердца. Как же ты подвел меня, мой Лесопарк. Прощай!
И вдруг я увидел тебя! Ты бежала по ступенькам пристани, и махала рукой, и кричала, чтобы капитан остановился. Но моторы увеличили обороты.
Ты все-таки выбрала Мишку. Или он тебя выбрал, уж не знаю. После экзаменов в техникуме ты уезжала в другой город, но вернулась... У вас скоро будет ребенок. Живите и прощайте. Я снова от вас убегаю. Вот все и закончилось, нужно успокоиться. В полутьме весна чем-то похожа на осень. Оголенными кажутся деревья, прохладно, сыро, острый запах земли. Или это запах канала? Или, может быть, дыма?
А куда я, собственно, иду? А никуда! К Зойке? Или уже поздно? Она простит. Зойка, Зоенька, почему я вспоминаю о тебе, только когда мне плохо? Это, наверно, свинство. Надо объясниться, расстаться, так честнее. Но я вспоминаю о тебе снова и снова и не могу забыть тебя совсем. Странные у нас с тобой отношения. Я часто спрашиваю себя: кто ты мне, Зойка? Что тянет меня к тебе и что отталкивает от тебя? Неужели только руки твои, твое всегдашнее прощение, неужели только это связывает нас с тобой? Муж я тебе? Друг? Уже в который раз я слышу в себе какой-то зов, требовательный и непреодолимый. Это ты зовешь меня.
Холодно стало на улице, поднялся ветер. Надо было надеть плащ. Забыл. Откуда мне было знать, что уйду на всю ночь?
Крутые травянистые откосы Обводного канала, недвижная вода внизу, а впереди черное переплетение конструкций — железнодорожный мост, давний мой знакомый. Идти дальше — там есть еще и пешеходный деревянный мост — или?.. Кружу чего-то.
Скорей, скорей отсюда, от этих мест. Завтра начнется новый день и все будет иначе. А послезавтра увижу мальчишек, расскажут, как было в «лягушатнике», как отпраздновали, посидим в мастерской, потолкуем, посмеемся, они никак не могут без смеха. И все станет по-другому. Хорошо, что они у меня есть. Ну что я делал бы без моих учеников? Да и они без меня? Они мне, а я им. Никогда не старей, Ленька.
Над головой светились звезды. Там где-то была стратосфера, ионосфера и сфера высшего разума, как сказал Греков. Чей я преемник и кто будет за мной?..
А вот и мост. Под ним темно, тихо.
— Эй, сколько времени?
Ну и хам. Не подойдет, не спросит, а так вот: «Эй!» Видят, что я один. Что за парни около забора? Трое их или четверо? Разговаривают, смеются.
— Ты что, оглох? — Это кричит маленький, совсем клоп. Идет мне навстречу. Смотрит нахально. Такие всегда бывают нахалюгами, если у них есть надежная защита.
— Ну, что тебе нужно? Время? Спроси по-человечески.
— А пошел ты... «по-человечески». Как еще тебя надо спрашивать?
Наглец! Ну и наглец!
— Мотай отсюда, нет у меня часов.
— А это мы проверим!
— Катись отсюда!
— Проверим! Эй, пацаны!
Бегут! Четверо на одного! И этот уже замахивается и шипит:
— Мы тебе щас устроим.
— А это еще посмотрим!.. Ах, гады!.. Глеб?! Это ты?! Бородулин! Стой! Куда? Стой!
Разбежались, трусливые твари. И ты с ними, Бородулин?! Неужели это ты?! Меня? Камнем по башке! За что? Или не узнал? Ну, Бородулин, спасибо тебе. Спасибо, дружище.
Часть вторая Смятение души
Глава первая
Спать, спать и только спать. Заснуть хотя бы на час. Завтра уже сегодня, отвернись от окна и спи. Какое тебе дело, что покачиваются тонкие, длинные, как сосульки, стекляшки на люстре, они всегда так покачивались — кто-то, может быть, ходит там, наверху, топает. Дрожит потолок. Тебе потолок, а ему пол. Ему потолок, а кому-то пол. Пол-потолок — полпотолка. Спи.
Кап. Кап. Кап. Где она капает? Удары как будто по голому черепу. Говорят, это самая ужасная пытка, можно сойти с ума. Это правда. Спи.
Или ты все еще хочешь кому-то что-то сказать? Ты зол на всех и на все и даже, может, решился бы ударить кого-нибудь. Кого? Нет уж, только не это. Но ты знаешь, о ком ты думаешь. Тебе не верится. Ты знал его совсем другим. Тебе казалось... Мало ли что тебе казалось!
Ведь он детдомовец, и ты детдомовец. Он работает за тем же самым верстаком, за которым раньше работал и ты. Закрой глаза и спи. Мишка, Катя... тебе тоже казалось... Случайность?..
Спи, спи и спи! Нет, сначала встань, пойди в ванную, оботрись еще раз, только не холодной, а теплой водой, закрой потуже этот дурацкий кран, и тогда легче будет уснуть.
А вот ей хоть бы что. Моя добродетельница, домодательница спит сладко. Ее храп за стеной разгоняет всякую чертовщину. Подошла бы, накричала бы в шутку, как бывало, за позднее возвращение домой, легче бы стало.
Болит голова, и вывихнутый палец тоже. Что все-таки произошло с тобой, Ленька, Леонид Михайлович? Как же так? Неужели это действительно был Глеб Бородулин? Как посмел? Уж лучше бы не узнавать мне тебя, Глеб!
Доверчивый, умный. Глаза незащищенные, мягкие. Такому невольно хочется поверить и довериться. А кожа на лице какая-то особенная, тонкая, что ли! Холод, тепло, освещение настолько меняют ее оттенок, что иной раз и не узнаешь его. Такой он разный — то добрый, доверчивый, то как волчонок. И это не двуличность, я никогда не замечал в Глебе такого. Это многоликость. Как будто в одном человеке соединились самые разные свойства людей. Он ведь так умеет, например, копировать и передразнивать других, что просто поражаешься, насколько верно и точно он это делает.
Что же случилось? Или это я в чем-то виноват? Обидел? Но чем? Когда?
Он меня, можно сказать, от смерти спас, когда я тонул. Задохнулся. Спазма в глотке. Ни выдохнуть, ни вдохнуть. Попробовал стать на ноги — глубоко. Или, может быть, с перепугу так показалось? Речка быстрая, мутная. И кричать — стыдно перед ребятами. Да и не могу крикнуть, горло сдавило. И вот тут кто-то: «Не дышите, спокойно». Бородулин. Он один знал, что я плохо держусь на воде. Я ему много о себе рассказывал. Мы ведь с ним почти побратимы: он из интерната, а я из детдома. Позвоню-ка я в общежитие, там ли он?
Встал, прошел через комнату хозяйки в коридор.
Стук-шлеп, стук-шлеп.
— Кузьма Георгиевич, это вы?
— Кто же тут может прогуливаться по ночам?
Голос густой, молодого сильного мужчины, а дыхание надсадное, с посвистом.
— Кузьма Георгиевич, помочь вам?
Стоит в конце коридора на одной ноге и на двух костылях. Плечи вверх, голова между ними так низко, будто птица выглядывает из гнезда. Седые волосы только узкой полоской вокруг лысого темени, как венчик. Тесемки халата развязались, белеет нижняя рубашка. Так ходили, наверное, раненые в госпитале во время войны.
— Не нужно, Леня, теперь уж один бог мне поможет. А ты чего так поздно?
Стук-шлеп, стук-шлеп. Подошел поближе, заглянул мне в глаза:
— Свидание?
— Вроде того, — вздохнул я.
— Не спится?
— Никак.
— Посидим на кухне? Самое место для ночных свиданий. Идем.
На длинных полках перевернутые кастрюли, на столах — посуда ждет нового дня. Урчит и постукивает вода в медном кране.
Возле окна табуретка. Я сел на подоконник. Кузьма Георгиевич опустился рядом, откашлялся. Все болело в нем, каждому мускулу, каждой косточке, каждому нерву хотелось покоя, глубокого, может быть, даже вечного сна. И все же радостно было видеть его глаза: в них и сострадание, и надежда. «Я-то знаю, — как будто говорили они, — что такое больно и трудно, и все-таки живите, не поддавайтесь плохому!»
— Ты какой-то не такой сегодня, Леня. Когда старики не спят — это понятно, обидно проспать остаток жизни. А вот уж когда не заснуть молодому, тут или пришла любовь, или что-то не так. По работе или с друзьями?
— И по работе, и с друзьями, — сказал я.
— Какая-нибудь ерунда, ссора или принципиально?
— Не пойму. Никогда у меня такого не было.
— Расскажи.
— Не знаю, с чего и начать, Кузьма Георгиевич. Напали на меня пацаны, дали по башке. Я отбился. Один из них мой ученик, я узнал его. Он-то мне и врезал камнем по затылку.
— Дела-а, ну и дела! Такого и у меня не бывало. А уж почти сорок лет с такими сорванцами, вроде твоих. Дела! Ничего не скажешь! А может, не твой, обознался?
— Мой, точно мой. Бородулин его фамилия.
— Может, ты обидел его?
— Да ничем я его не обижал. Ну, было однажды, смазал разок по шее. Да ведь в шутку смазал, хотя следовало бы и не в шутку.
— Ну и ну, ну и случай! Ну и детки пошли. Чего им делать-то ночью?
— Обычная хулиганка. Ночное фраерство. Пошли себе хозяйничать по городу, молодчики. А тут я. Другой бы, может, вежливо с ними обошелся, и ничего бы не было. Позубоскалили бы, покуражились и отпустили. А я-то их не боюсь, я таких ухарей вижу каждый день, и не простил грубости.
Один мне: «Эй ты, сколько времени?» Я его оборвал. А он ко мне с угрозой. Я ему и врезал. Прибежали остальные, я еще кому-то врезал. А этот мой, Бородулин (я, между прочим, сразу его приметил, но не поверил), когда он сзади меня треснул, я обернулся, тут он и признал меня, и деру. И все драпанули.
— Не знаю, что тебе и сказать, Леня.
— И вообще, сплошные неудачи у меня весь вечер. Как будто случайности не случайны.
— Думаешь, преднамеренное нападение?
— Нет, не в этом даже дело. Они точно так же могли напасть и на другого. А если бы женщина... Подлость это, когда ночью, в темноте, на человека наваливаются вчетвером.
— Этакое ухарство, ложная романтика, это мне знакомо, Леня.
— Мне тоже знакомо, понимаете, тоже знакомо. Я еще не забыл свои пацанские годы. И знаю по себе, что так напасть, как они напали, пошлость и подлость. А этот Бородулин... Так смотреть на меня, так прикидываться честнягой... Вот уж не прощу.
— Как ты его думаешь наказать?
— Черт его знает! Не в тюрьму же его!
— Та школа — крайний случай. Это уж ты мне поверь.
— А мастера по башке — не крайний случай?!
— Ну, может быть, попал в дурную компанию или ты что-то сам сделал не так. Могло такое быть?
— Почему вы защищаете их?
— Потому что все мы любим пай-мальчиков. А ведь из тех, кто позаковыристее, большей частью получаются смелые, выносливые, изобретательные люди. Буяны что-то всегда ищут, с чем-то не согласны. Тут надо разобраться. Теперь уж не горячись, теперь бой не на кулаках...
Спокойный тон Кузьмы Георгиевича утихомирил и меня, и, как это обычно бывало, я стал невольно подстраиваться, подлаживаться к нему. Он трудно, прерывисто дышит, и я начинаю дышать так же, усиленно стараюсь помочь вдоху и выдоху. Он покашливает, и я покашливаю. Он пространен и рассудителен, и я говорю почти так же.
Уж сколько раз я разговаривал по ночам со своим соседом — о работе, о политике, о любви, о путешествиях, о книгах. Кузьме Георгиевичу не спится по ночам. Нет таких снотворных, которые могли бы приостановить бег его мысли.
О чем может думать каждую ночь старый, умный человек, учитель географии, в окружении газовых плиток, полочек, пустых кастрюль?
О суетности жизни? О земле, о пространстве, о логичном и не логичном ходе вещей, о путях, которые выбирает человек и которые сами выбирают человека, о поиске, о неизведанности, о переходах живого в мертвое, о бесконечности вселенной, о своих обидах?
Когда-то Кузьма Георгиевич был изыскателем-геодезистом, его ноги прошли по земле тысячи километров, его глаза видели и знают лицо земли, как я вот знаю его лицо. Может быть, потому мне и кажется, что крутой, смуглый, оголенный лоб Кузьмы Георгиевича пересекают не морщины старости, а приметы особой его страннической жизни. Его лоб — карта его судьбы. Я читаю ее, и она мне кажется такой же удивительной, неисследованной и огромной, как та, моя, во всю стену, географическая карта, которую подарил мне Кузьма Георгиевич ко дню рождения.
Он подарил мне и глобус, огромный школьный глобус на тяжелой подставке, и еще он отдал мне насовсем старый полевой бинокль на тонком ремешке. Бинокль был помят, поцарапан, он знавал, должно быть, окопы, песок и грязь, и тем он был мне особенно дорог. Кузьма Георгиевич еще при жизни решил раздать свое имущество.
— Обычно наследство завещают детям. У меня их, к несчастью, нет. Много у меня учеников и друзей, вот им пусть и останется все. Пусть пользуются моими книгами, моими вещами сейчас, а не потом. Потом, может быть, и не нужно будет ничего этого, — сказал мне как-то Кузьма Георгиевич.
Его комната уже опустела, а раньше была полна книг, картин, географических карт, образцов породы.
— Я вот лишь древесные корни оставлю себе. Сам собирал, сам придумывал, видел в них всякие чудища. Пусть поживут со мной.
Корни в комнате и в самом деле напоминали какие-то фантастические существа, на время только явившиеся сюда из дремучих лесов: они разместились на окне, на письменном столе, на стенах, по углам. И сам Кузьма Георгиевич был чем-то похож на старое корневище.
Он всегда говорит, что у него много друзей и учеников и от этого ему хорошо. А вот уж который месяц я тут живу и почти не вижу у него гостей, ни старых, ни молодых. И чуть ли не на каждый звонок в дверь он выходит на своих костылях первым. Когда обгонишь его — делает вид, что просто прогуливается по коридору. А однажды не выдержал, пожаловался, что его начали забывать, и тут же стал оправдывать друзей, как будто своей жалобой он мог оттолкнуть их от себя насовсем. Неужели и я так поступлю когда-нибудь?! Клянусь!.. Не клянись, остановил я себя. Лучше просто запомни. И я вспомнил тогда о своих друзьях, и о Глебе Бородулине тоже. Я был уверен в нем, как в себе. А вот что вышло. Тоже мне, разведчик нового. Быть хулиганом или бандитом с большой дороги — старо, как мир. Я извинился перед Кузьмой Георгиевичем и пошел звонить.
Долго я звонил в общежитие. Сонный голос лениво ответил:
— Что нужно? Уже ночь. — Это была ночная дежурная. Бородулина она сегодня не видела.
— А что случилось? Что такое? — заволновалась она.
Я не стал объяснять. Вернулся на кухню.
— Ну что? — спросил сразу же Кузьма Георгиевич.
Я пожал плечами.
— Может быть, он у родителей? У него есть родители?
— И есть, и нет. Он из специнтерната. Отец сам отказался от прав на сына, а у матери отняли право судом. Она пьет. Горько пьет, я видел эту женщину. Сколько лет ей — не поймешь. Я встретил Глеба однажды с матерью. Случайно. Недалеко от Витебского вокзала, возле пригородных касс. Народу было порядочно. Он меня не заметил, а может быть, только сделал вид, что не заметил. Он держал мать под руку, вел ее. Она была пьяная. Одета неопрятно, по-старушечьи, Глеб, по-видимому, стеснялся ее. Ни на кого не глядел. И такое в нем было напряжение, такое что-то горькое, что я подумал: не дай бог, если он заметит меня!
Кузьма Георгиевич покачал головой.
— Ох уж эти родители, — сказал он со вздохом. — Ты привел бы ко мне своего Бородулина. Хотелось бы мне потолковать с этим парнем. Я, знаешь ли, научился за мою долгую жизнь распознавать здоровье и нездоровье в людях. Главное, мне удавалось подлечить кое-кого. А что это за специнтернат, почему он там оказался?
— Угнал с приятелями машину.
— Ничего себе мальчик, с фантазией. А ты, значит, был доволен им? Он и учился у тебя неплохо, и работал? Как он в деле-то?
— Тут, знаете ли, не скажешь одним словом, хорошо или плохо. Я вот часто вспоминаю самый первый день практики, когда ребята начали работать напильниками. Вы знаете, в этих первых движениях во время работы можно многое разглядеть. Природные жесты. Тут все наружу, об этом еще мой мастер говорил когда-то. В тот день мне хотелось вглядеться в каждую пару рук, и особенно мне понравились руки Бородулина — талантливые, умные руки, с чутьем. В слесарном деле руки — это, знаете ли, продолжение души. Вы не устали, Кузьма Георгиевич? Может, не стоит? Уже поздно.
— Поздно, говоришь? А ты взгляни в окно. Это называется рано. Говори, говори. Я ведь слесарем не был, мне все это интересно. Ты верно сказал насчет первых жестов. Это ведь как раз то, о чем я думаю, о начале начал в человеке. Жест руки или жест души — ох как много все это значит. Я завидую тебе. Ты учишь точным, самым важным и нужным жестам. Человек и его дело — не в этом ли суть всей жизни? Рассказывай, рассказывай о руках твоих учеников.
— Мне иногда кажется, — продолжал я, — что помню руки моих мальчишек больше, чем их голоса и лица. Я, как гадалка, мог бы многое рассказать, глядя на их руки. Я с закрытыми глазами узнал бы каждого по рукопожатию. Один это делает вяло, другой жестко, третий подхалимски, четвертому не справиться никак со своей силой, — в общем, получается полный набор человеческих характеров только в одном этом жесте.
Послышались мягкие, неторопливые шаги в коридоре. Кажется, шла на кухню жена Кузьмы Георгиевича: высокая, статная женщина с белыми, не седыми, а именно белыми, чуть-чуть оттененными желтизной волосами. «Кузьма, Леня, как так можно?» — сейчас скажет она, поправляя свою пышную, расплетенную на ночь косу. И я снова увижу не пожилую женщину, а девочку с румянцем на щеках, с голубыми глазами, наивными и чистыми, ничего еще не знающими о мире, кроме того, что все вокруг сказочно и прекрасно. И даже не верится, что эта старая женщина с девчоночьими глазами перенесла и войну, и смерть сына, и операцию мужа, и долгие годы ухода за калекой.
Вот еще несколько шагов, и появится на кухне Светлана Александровна. Как жаль, что она идет именно сейчас.
Я как бы видел в эту минуту всех моих ребят, всю группу сразу, я мог бы теперь о каждом сказать нечто самое главное. Я не раз думал, что же напишу перед выпуском в характеристике каждого из моих учеников, а теперь вот многое прояснилось. Может, поговори мы с Кузьмой Георгиевичем еще полчаса, я понял бы и то, что случилось сегодня ночью. Эх, зачем идет к нам на кухню эта добрая женщина, мы и сами знаем, что по ночам нужно спать. Ну вот, конечно же надо прощаться.
— Иду, дорогая, иду, не сердись, — виновато говорит Кузьма Георгиевич, подымаясь с табурета и обвисая над костылями. — Мы еще с тобой, Леня, обязательно поговорим на эту тему. Иди к ребятам с открытым забралом — вот мой совет. И ничего не бойся.
И Кузьма Георгиевич качнулся на костылях, пошел, и снова по длинному коридору раздалось: стук-шлеп, стук-шлеп, стук-шлеп.
Я вернулся в свою комнату, лег на скрипучий матрац, и началось все заново. Стал уговаривать себя.
Ты закрываешь глаза, вытягиваешься, уплываешь в ту сторону, в ту страну... и ты уже не ты, не здесь, не там, не туда, не тогда, раз, два, три, раз, два, три, ты уже спишь... ты уже маленький мальчик, и мама тебя гладит по голове, и ты сосешь леденец и несешь голубой шарик. Демонстрация! Первое мая. Бородулечка впереди. Бородуля, Бородульщик. Шагает и бьет в барабан. Трам-там-там, трам-там-там, трам-там-там, там-там, там-там-там. Палочки отбросил, бьет молотками, барабан отбросил, бьет по верстаку. Трам-трам, трам-там-там. Шарики, шарики, голубые шарики улетают в небо.
Какая демонстрация?! Какие голубые шарики? Будильник стрекочет, как трактор, хозяйка сопит, в ванной плещутся и болтают сестры-близнецы, как... Никак! И никогда не стучал на барабане твой Бородулечка.
Орала труба. Визжала, и сипела, и выла, задрав свой сверкающий раструб в потолок. Что надо ей было, что выдувал Бородулин тогда из своих легких, из медной глотки трубы? Зов?
И странно, что я пришел на этот зов в этот именно час. Интернат, специнтернат, где трудновоспитуемые, где строгий режим, где все за высокой каменной оградой. «Там есть у детей все. Разве что не хватает птичьего молока», — сказала старшая воспитательница специнтерната. И я поверил ей. Конечно, теперь не война. Теперь должно быть все, не то что у нас в детдоме. У детей интерната должно быть все самое лучшее, потому что у них нет самого главного — триединства: мама, папа и я. «Они хорошие ребята, но трудные, — сказала воспитательница. — Культ силы у них развит больше всего. Чуть что — в драку».
Помню, обошел тогда все помещения: мастерские, классы, актовый зал, столовую. Вошел в спортзал. Глеб Бородулин играл на трубе. Он стоял посредине спортивного зала, один, в лучах солнца. Турник, баскетбольный щит, черный конь с двумя ручками, окна во всю стену, солнце и трубач. Один. И труба вверх. А потом резко вниз, когда увидел меня. И вот уже передо мной недоверчивые, настороженные глаза, и стойка боком, и холодное нетерпение на лице: скорей бы ты ушел. Что тебе нужно? Хочешь знать, как мы тут живем? Да никак. Живем, и все. Как нас кормят? Обыкновенно. Чем заняты в свободное время? Да ничем. Вот играю на трубе. Сколько мне лет? А какое тебе дело? Как меня звать? Ладно уж, скажу, только отстань. Глеб Бородулин, вот кто я. А ты кто? Кто ты будешь? Комиссия, ревизия? Проверяй. Ты, может, воспитателем сюда или начальником? Уйди, мы не из пай-мальчиков. Лучше беги от нас, пока не поздно. Потом хуже будет! Ты нас еще не знаешь.
Это ведь ты меня не знал. В ваш специнтернат я пошел нарочно. Сам попросился, когда наше училище взяло над вами шефство. Я-то как раз хорошо знал, кто вы, и сразу понял тебя. В руках труба, пустой зал, а ты дудишь, орешь о себе на весь свет. Ты самый голосистый, самый-самый, и вдруг входит кто-то чужой в синем кителе (я еще ходил в техникумовской форме), вроде железнодорожник, и спрашивает о том о сем, хочет познакомиться с тобой.
И особенно, когда прибежали пацаны тоже со всякими трубами и начали дудеть на все голоса и поглядывать на меня, как волчата, ты уж, Бородуля, совсем осмелел. Спрашиваю тебя, а ты дудишь вместо ответа, и всем нравится твоя независимость, ты вроде бы у своих «в авторитете». Ну и ладно. Дуди. Мы еще встретимся. Не на узенькой дорожке, нет. На празднике. Первого мая. Мы все будем готовиться к параду. А потом будет Девятое мая. День Победы. Для тебя это праздник как праздник, а для меня...
Теперь-то ты знаешь, что я был пять лет в детдоме, а тогда... Ты смотрел на меня, на благополучненького, — так тебе казалось, — как будто я был по одну сторону жизни, а ты по другую. Мы враги. Какие же мы враги, когда я видел твои глаза, незащищенные твои глаза? А ты смотрел и не знал, что я думаю о тебе. И о себе тоже...
Ты и сейчас не знаешь, что я думаю о тебе. Думаешь ли ты обо мне? Интересно бы знать — что? Что ты вспоминаешь: нашу первую встречу в интернате, или, может быть, наши загородные прогулки на велосипедах, или как я устроил тебе практику в экспериментальном цехе, или мой шуточный удар по шее, когда ты закурил в мастерской, или эту ночь, когда ты замахнулся на меня камнем? Или как мы шли вместе на демонстрации и несли голубые шарики и ты улыбался и шептал мне, что отец хочет снова усыновить тебя и «спасибо вам, Леонид Михайлович, что вы поговорили с ним». На ветру вырывались и терлись тогда друг о друга наши голубые шары.
А может быть, ты вспоминаешь наш разговор на обочине дороги? Наши велосипеды стояли, прислонившись друг к другу, а ты говорил мне: «Вам что, у вас теперь все есть: и деньги, и работа, и все что захотите, а у нас?..»
«Что же у вас?» — хотел я не просто спросить, а крикнуть. Меня раздражало это твое «а у нас?». И ты увидел мои глаза и сказал, конечно же невпопад: «Свой детдом вы уж давно забыли, и вообще, в войну все, говорят, было по-другому...» И осекся, замолчал. А я не стал тебе тогда рассказывать, как было и что я помню. Ни к чему, раз ты сам не понял чего-то главного.
А я-то сам понял, что главное?
Ничего я не придумаю и не пойму, пока не окажусь там, в мастерской, среди ребят, пока не увижу лицо Бородулина.
Сегодня? Сегодня же воскресенье. Как медленно тянется время. Или как быстро?
Пойду и добуду его хоть из-под земли. Поеду к матери, к отцу, в интернат, в общежитие, все равно я найду его! Только поспать бы хоть немного. Ну как я сяду за руль с такой башкой? Сегодня еще у меня днем занятия. Вождение автомобиля. Первый же гаишник меня... или еще врежусь... или Мишка... или Катя... счастливые случайности... мотор работает как часы. Тик-так, тик-так, тик-так, работают часы...
Глава вторая
Тик-так, тик-так. На будильнике уже два часа. Не врет ли? Нет, все нормально, все правильно. Только вот вождение проспал. А вдруг еще ждут? Давай бегом. Стакан чаю на ходу.
Не так уж все плохо, подумал я, оказавшись на улице. Солнце светит, люди идут, кошка перебегает дорогу, красная поливалка, как сивка-бурка, пышет радугой из ноздрей, прожорливые голуби слетелись в кучу — кто проворнее, тот и сыт. А вон девочка, милый детеныш, торопится, поспешает за мамой. Не так уж все плохо. Садись в трамвай, давай-ка гони к училищу.
В училище никого, только дежурная.
— Никого нет, Леонид Михайлович. Ждали вас, да уехали.
— Кто уехал? С кем?
— Был тут Акоп, посадил всех ребят в машину.
— Физрук? Давно?
— Да как вам сказать, не очень.
— Куда поехали, не сказал?
— Нет, ничего не сказал. Завел машину, закрыл гараж и укатил со двора.
— Спасибо. Пойду поищу, может, повезет.
Где тут их найдешь? Перед сдачей экзаменов вряд ли они станут крутиться возле училища, пожалуй, поехали на Конюшенную.
Сел в трамвай, поехал на Конюшенную площадь. Прошел пешком через Михайловский сад, со стороны Садовой влез между створами чугунных ворот, а выбрался у Спаса-на-крови в том месте, где ограду — кованые цветы, листья, проржавевшие от времени, — сняли для реставрации. И вот я уже на площади, на которую когда-то из прекрасных белоколонных конюшен выбегали белогривые лошади, выкатывались царские кареты. А теперь тут государственная автоинспекция.
За бензоколонками дверь, в которую ломятся все — видные и невидные люди, современные кучеры, жаждущие как можно скорее взнуздать сорок, семьдесят, сто, триста, шестьсот и более того лошадиных сил.
Все нетерпеливо ждут своей очереди: кому сдать документы, кому получить водительские «корочки», кому нужна справка, кто к начальству, кто просто так толкается, для проверки — как да что, на будущее. Не протолкнуться, душно, тесно. Но кажется, сами стены в ГАИ — за тебя, водитель. Не спеши, помайся, попотей тут в очереди, потолкуй с шоферами об авариях, взвесь, вдумайся в свои обязанности, — другая цена будет водительским правам.
Сдавать на право вождения трудно, а пересдавать еще труднее. Не случайно взмолился перед Мишкой водитель, мчавшийся на свадьбу, — любой штраф, что угодно, только не на пересдачу. Экзаменаторы впиваются в каждую оговорку, заминку, неточность... и покажут на дверь, а потом еще раз на дверь, и так, пока не будешь знать правила уличного движения как любимые стихи, или вернее, как приказ, который ты должен выполнить или умереть.
А на площади, где, как на арене цирка, обычно крутят свои бесконечные восьмерки мотоциклисты и стоят машины «на сдачу», нет никого. Только из таксомоторного парка напротив ГАИ выезжают «Волги» на линию, в рейс. Направо, еще раз направо, вокруг площади, и покатил к своей удаче. Может, и тот шофер, что вез нас с Катей, из этого гаража?
Попросить, может быть, Мишку помочь ребятам сдать? Нет уж, не стоит, только не его. Обойдемся сами. Акоп, наверно, крутит где-нибудь тут, натаскивает. Весной сдавать легко. Это не в гололед, как выпало мне... Ждать их, не ждать? Где тут найдешь. В училище вернуться? А может быть, они уже там и прощаются.
Нужно съездить в общежитие и все разузнать. До Черной речки отсюда порядочно, а все равно нужно ехать.
Долго тащил меня трамвай, кружил, петлял: позади уже Нева, Невка, Карповка, снова Невка, по солнечной воде, как маленькие быстрые акулы, скользили байдарки вдоль зеленых берегов. Ну и денек! Сейчас бы просто побродить по Островам, уйти к заливу, взять лодку, а тут поиски, как у Шерлока Холмса.
В общежитии пустынно. В комнате Глеба аккуратно заправлены все койки — и никого. Бывало, я не раз проверял, в порядке ли учебники, тетради, не захламлены ли тумбочки моих парней. Проверки всегда были при них, а тут — никого. Трудно мне было подойти к тумбочке Глеба, открыть, проверить, — какое я имею право на обыск? Но случай, который привел меня сюда, был особым, и я решился.
В тумбочке были огрызки хлеба, толстые тетради в клеточку, пустая пачка из-под сигарет, учебники, и все, никаких особых примет, хоть немного объясняющих ночное происшествие. На все мои вопросы дежурный отвечает «нет» или уклончиво «не знаю».
Перед уходом заглянул еще раз в тумбочку, вытащил толстую общую тетрадь, полистал: все предметы собрались тут воедино — математика, спецтехнология, русский, обществоведение и даже записи по эстетическому воспитанию. Почерк резко переменчивый: то аккуратный, то ничего не поймешь, каракули, рисунки. Тут же какие-то стихи. Песня Окуджавы про Ваньку Морозова и циркачку. И еще «Дежурный по апрелю». А вот целая страница «морского боя». Тоже забавляется на занятиях, как и мы, бывало. Тетрадь в клеточку — очень удобно для такого занятия. А это что такое?!
«Михаил Васильевич Фетисов. Занятия по борьбе — среда, суббота. Купить борцовки». Запись через всю страницу, наискосок. Ну и ну! Мишка и тут оказался моим соперником.
Это он, точно он, Михаил Васильевич Фетисов, борец, тренер моего Глеба, я даже понял теперь, где они могли встретиться, заниматься, — на той же Конюшенной площади в помещении ДСО «Трудовые резервы», там и Мишка когда-то учился и я недолго похаживал в секцию бокса. Я Глебу и посоветовал... Но там занятия по средам и субботам. Как же Глеб оказался вчера под мостом? Поздно. А вообще-то, все ясно: один наставник празднует свадьбу, другой наставник справляет тризну, а ученик тем временем крадется... Детектив. В жизни так не бывает, сказали бы многие. Мир тесен, говорю я. Он слишком тесен, не повернуться. Ну до чего же просто — случайно задеть человека, толкнуть локтем, наступить на ногу и даже... ударить камнем. Мишка не зря пил за случайности и намекал, что многое ему известно про меня... Надо бы съездить к Мишке и развеять весь этот туман. Но как теперь поедешь к нему после вчерашнего? Надо бы и про то поговорить, и про это. Хуже нет, когда хоть с одним человеком в мире неясные, резкие отношения, отчасти от неизбежного, отчасти по недоразумению, а теперь еще больше что-то запутывается, закручивается, и разом надо было бы разрубить узел.
К Мишке ехать все-таки нельзя, трудно будет всем, и особенно Кате. А если отправиться снова на Конюшенную, в ДСО? Там и по воскресеньям занимаются многие секции. Конечно, вряд ли может так случиться, чтобы Мишка пришел на тренировку сразу после свадьбы, но обычно тренирует команду не один человек, и, может быть, именно сейчас Мишкин напарник занимается с Глебом. Лень было возвращаться, но что поделаешь, еще много предстоит возвращений, кругов, поворотов...
И я вернулся на Конюшенную площадь, сначала подошел к бочке с квасом, — она, как всегда, стояла невдалеке от улицы Желябова, — взял кружечку терпкого шипучего напитка, выпил с удовольствием и направился к старинному дому охристого цвета, к массивным дверям парадного входа в спортивное общество «Трудовые резервы».
Поднялся по широкой лестнице, прошел мимо гардероба, свернул направо — все тут мне было знакомо: помещения, повороты, переходы, даже скрип паркета остался прежним, даже незначительный подъем, горушка в узком коридорчике не изменилась; надо подняться, спуститься, свернуть налево, и там, в глубине помещения, залы для баскетбола, для спортивной гимнастики, для бокса и борьбы.
В спортивном помещении, где на каждом шагу встречаются рослые, стройные парни и девушки, чувствуешь себя нескладным, неловким, мешковатым и невольно «собираешься», распрямляешь плечи, шагаешь тверже и легче, и сожалеешь, что, бывало, находил время для поддержания тела в хорошей форме, а теперь, когда это особенно нужно, не хватает времени или воли даже на утреннюю зарядку.
Еще за дверью я услышал тяжелое кряхтение борцов и гулкое падение тел на войлочные маты. Осторожно приоткрыл дверь, она скрипнула слегка, и тогда я ее распахнул, вошел в просторное светлое помещение.
Невдалеке от высоких окон боролись сразу две пары, а еще пятеро крепких парней сидели на низких скамьях, опершись широкими спинами о шведскую стенку. Два тренера в синих спортивных костюмах ходили вокруг да около своих подопечных, советовали что-то, покрикивали, подбадривали, радовались удачной подножке или броску через голову. Не было тут ни Глеба, ни Мишки, расспрашивать о них не хотелось, и я собрался уходить, но вдруг увидел знакомое лицо: большие глаза навыкате, черная густая шевелюра... На полусогнутых сильных ногах стоял в боевой позе на ковре свирепый широкоплечий мужчина. Он слегка расставил руки и вот-вот бросится на врага. Самохлебов?! Вроде он. Только совсем неузнаваем в борцовском своем наряде и в этой страшной позе. Вот он сцепился с противником, схватил его за пояс, покружился приседая, крякнул и со всего маху полетел навзничь, увлекая за собой соперника, и тут же выгнул спину, изловчился, вывернулся, сплелись руки и ноги двух крепких мужиков так, будто они срослись друг с другом, или извиваются в смертельной агонии, или обезумели от вражды и ярости. Ай да врач! Ай да психиатр!
Тренер хлопнул в ладоши, и все затихло на ковре, и два противника с заботливостью нежных братьев уже помогают друг другу подняться на ноги. Самохлебов выслушал замечания тренера и пошел по залу вразвалочку, отдуваясь и помахивая расслабленными руками.
— Что нужно? — сердито спросил меня тренер.
— Да так, ничего, извините.
Самохлебов обернулся, увидел, узнал:
— Привет, постой-ка. Входи!
Владимир облапил меня, приподнял, покружил.
— И ты хочешь на ковер? — спросил он. — Раздевайся, помнем, потискаем, помягче станешь.
— Нет уж, спасибо, я и так помят и потискан. А если еще в твои руки попадусь, конец.
— А что, грозен я, страшен? — спросил Самохлебов, нарочно надувая щеки, выпячивая живот и по-бармалейски растопыривая руки.
— Страшен, что и говорить. Но ты же врач, я верю в твое милосердие.
— Милосердия не жди. Раздевайся и на ковер — это лучшее лекарство от всех болезней.
— Нет уж, оно не для меня. С пацанских лет не боролся.
— А теперь поборешься. Жизнь — борьба?
— Борьба.
— Вот и раздевайся.
— Да ты меня одной левой, ты как слон!
— Трус! Сдаешься без боя? Схвати меня, дерни хоть разок, а вдруг я только с виду такой.
— Мишка тут бывает? — спросил я без перехода.
— А как же, он тут главный. Сегодня, сам понимаешь, медовый день, — вот его и нет.
— Как там вчера, обошлось? — спросил я.
— Не сразу, но обошлось. А что там произошло, я так и не понял, объясни ты мне...
— Не сейчас, Володя, как-нибудь потом. Именно с тобой мне и надо было бы поговорить насчет всего со всеми подробностями, тут такое колесо...
— В чем же дело? Приходи сегодня, завтра, когда хочешь. А то подожди, я скоро освобожусь.
Теперь уже смотрел на меня не устрашающего вида борец, Бармалей, — внимательные, умные, горячие глаза вглядывались в меня, располагали к себе. «Вот именно этот человек и знает, что такое в здоровом теле здоровый дух», — подумал я и решил, что хорошо бы привести Самохлебова к моим ученикам для разговора, а еще лучше прийти бы к нему с Бородулиным да потолковать.
— Ты Глеба Бородулина случайно не знаешь? — спросил я.
— Бородулина? Глеба? Какой он из себя?
— Высокий, черненький, семнадцать лет. Часто подергивает головой, подбрасывает волосы.
— С кем-то таким боролся, может и он, но врать не стану, тут много разных, а я бываю не часто, ты у Мишки спроси.
— Эй, Володя, на ковер, а то остынешь! — крикнул тренер.
— Ну как? Будешь меня ждать или придешь попозже?
— Сейчас, Володя, не могу. У меня есть твой телефон, жди звонка.
— И не стесняйся, в любое время. Ты, кажется, еще хотел привести своего ученика? Пожалуйста. Можно сюда, или домой, или в больницу, куда сочтешь нужным. Жду, до встречи.
И снова по знакомым коридорам вернулся я к выходу на Конюшенную. Я выбежал легко, как бывало когда-то. Вспомнились мне приятная усталость и одновременно легкость во всем теле после тренировок и прохладного душа. И зашагал я по старой привычке направо, к тому перекрестку, где никогда не бывает скучно глазам, где куда ни взгляни — диковинка: мозаичный, пряничный Спас-на-крови, а рядом прямой, длинный канал Грибоедова, и кусочек торопливого Невского впереди, и приметный, с шаром вверху, как с помпоном над шапочкой, Дом книги, а дальше колонны, лишь небольшая часть крыла Казанского собора высовывается из-за «резиденции» бывшего короля швейных машинок Зингера. А еще повернул голову — и вот они, задумчивые старые деревья Михайловского сада, свесились ветви над массивной кованой решеткой, а вот и кривой переулочек — трамвайные пути уходят влево, а вот на углу часовенка, она построена из тех же кирпичей, покрытых глазурью, что и Спас; еще взгляд — и перекресток мостов, канал Грибоедова сливается, соединяется с Мойкой, — старинные фонари на чугунных столбах, серый гранит, решетки, краешек просторного, кажется, вечнозеленого Марсова поля и всегда освеженное светлой краской здание с высокими окнами между колонн — дом Ленэнерго.
Я перешел через Мойку, свернул налево, решил, что лучше всего идти к Зимней канавке, потом к Дворцовой площади и дальше куда-нибудь к Исаакию или на Невский, — хватит пока искать Глеба, похожу тут в покое и красоте.
Зашагал я по старым, потрескавшимся каменным плитам, время от времени касался рукой гладкой и прохладной чугунной ограды набережной. Не было тут ни прохожих, ни машин — тишина, покой и настоящий старый Петербург: слева за недвижной Мойкой белые колонны бывших царских конюшен, справа окна над самой мостовой, низкие подворотни, балкончики во втором этаже, дом прижимается к дому, и в каждом основательная добротность, даже тяжеловесность, и необъяснимая, близкая сердцу грусть, и таинственность — все дышит здесь стариной, ощущается время, которое прошло и все-таки живо: тех людей уже нет, и все же — вот они, я, кажется, слышу их голоса, вижу тени за стеклами, а вон их следы на стершихся от подошв камнях, а вот и цокот лошадиных подков — сразу за булочной от набережной кони сворачивают к мосту — это увозят Александра Сергеевича.
Часто теперь поют песенку про Д’Артаньянов: «Есть Д’Артаньяны, есть...» Они, конечно, рождаются снова и снова. Не шпагой — приемами бокса или самбо отстаивают свою и чужую честь или как придется — вроде моего случая под мостом.
Честь! Старинное слово, и вечно молодое, горячее чувство. Как и чем отстаивать ее, а лучше — как оберегать в себе и в любом другом человеке?
В стене труба, а из трубы бьет, расплескиваясь, вода, а рядом лужа, а в луже кораблик, верткое суденышко из плотной бумаги — страница школьной тетрадки, — как и прежде бывало, опять отправился в кругосветное плавание, в кругосветку через всю огромную лужу-лужищу. Какое там, попробуй скажи мальчишкам, что это лужа, — рассердятся или улыбнутся криво: это море, это океан, и океанское судно пошло к берегам Африки, или Австралии, или Америки, или по другим каким-нибудь путям, где бывали капитан Кук, или Колумб, или...
Но разве может понять это взрослый дяденька? Это я, значит, взрослый дяденька? Что ж, конечно, я взрослый дяденька, пришлось согласиться мне с этой мыслью. И все-таки подошел к луже и не постеснялся попросить у мальчишек листок бумаги из школьной тетрадки, чтобы смастерить новое судно — кораблик своего детства.
И сразу же почувствовал себя самым настоящим мальчишкой, когда, присев на корточки, начал сооружать суденышко, а пареньки смотрели на мои руки, оказывается давно отвыкшие сгибать бумагу так, чтобы получился устойчивый, широкобрюхий однотрубник — популярнейшая модель моих детских лет.
— Дяденька, это нужно делать не так, — стали учить мальчишки. — Вы не туда загибаете этот край, кораблик утонет, дайте покажу.
— Ладно уж, я сам как-нибудь, я сейчас, потерпите, — стал оправдываться я, сгибая, сминая плотный лист бумаги.
Кособоконький получился кораблик. Да что делать, плыви. Кособокость мальчишки простят, а вот если начну переделывать — засмеют.
И поплыл кораблик: «Сам свой боцман, сам свой лоцман, матрос, капитан...» Прилетел ветер, подул на него, и все дальше, дальше стал отходить он от берега, к флотилии других его кособоких собратьев, и тесно стало в луже, в море-океане. Плыви, плыви, кораблик, плывите все, вон впереди вам Босфор и Дарданеллы. Сейчас самое время — в путь. Весна. Детство природы. Кажется, всюду, на всем земном шаре — солнце и тепло. Весна!
Мальчишки шмыгают носами, смотрят то на меня, то на лужу. Один в курточке из синтетического материала, одежка замусолена, дырки на рукавах и под карманами; другой в зеленом пальто навырост; третий в красной вязаной шапочке, конопатый, самый веселый и опрятный из всех.
Мальчишки занялись игрой, своим самым главным делом, а я пошел дальше к своему самому главному... делу? Заботам? Даже не назовешь определенно то, чем я сейчас занят. Как говорится, дела не делаю и от дела не бегаю, хожу вот и маюсь.
— До свиданья, мальчишки. Счастливого плаванья!
Что запомнится им на будущее из этих времен, что станет не шуткой, не баловством — характером, натурой, судьбой? С чего же все начинается? Это, быть может, знает он — врач, с которым я непременно должен встретиться еще не раз.
Глава третья
Я обязательно приведу тебя, Глеб, к Владимиру Самохлебову. Пусть вглядится в твои глаза, поговорит, поищет в тебе тайны души — пятна, островки, маяки твоей совести, пусть он поглубже заберется в твое прошлое и вытащит на свет божий лучшего и худшего Бородулина, чтобы хоть тебе самому стало яснее, кто же ты есть на самом-то деле. А вдруг это поможет избежать новых бед: срывов, обвалов совести или принципов, которым ты изменил или которые тебя подвели. Казнишься ли ты за измену себе? Казнишься, я чувствую твою боль, и это примиряет меня с тобой, тут мы заодно. Мне кажется, нам неспроста досталось на двоих одно испытание. Что станет с нами? К чему придем? Не думать бы, отказаться от всего: прошло — и ладно, и сразу легче станет, но я не могу, это не в моей власти, да и не в твоей, Глеб, насколько я тебя знаю. Оба мы сейчас бродим, как среди руин, да и себя разбираем на части, придирчиво разглядываем детали, — многое нужно почистить, промыть, переделать, чтобы все сошлось при сборке как надо. Что ты делаешь обычно, каким образом ищешь в себе «горячо», «холодно», — пересматриваешь настоящее, заглядываешь в будущее или возвращаешься в прошлое? Как, каким образом оно живет в тебе?
Я помню все, что было у меня в прошлом, часто возвращаюсь в него. Порой я нахожусь в моей сегодняшней жизни только, я бы сказал, телом своим, а все, что я осознаю, чем мучаюсь или радуюсь, — память прошлого. «К чему это мне? — спрашиваю я себя иногда. — Достаточно и того, что есть». И того, что было. Памяти дано помнить, а сердцу — горевать и радоваться, а мозгу — думать о прошлом. И я думаю, что, может быть, единственное, что у меня есть по-настоящему мое, — это прошлое. Кем я оказался бы, забудь все, что пережито? Кем я оказался бы в каждом моем новом шаге, не будь всего, что позади? Чем подробнее я помню свое прошлое, чем больше думаю о нем, тем, может быть, полнее, значительнее и человечнее мое настоящее. И никогда не сможет забыться давно прошедшее — детдом и то, как мы, мальчишки и девчонки, съехавшиеся отовсюду в одно место, пережидали, переживали войну. Теперь-то я понимаю: война не только убивала людей, рушила дома, жизнь, — она еще разрушала особую связь детей и родителей именно в ту пору, когда ребенок начинает говорить, думать, чувствовать, запоминать, и нам, детдомовцам, порой трудно было понять, что хорошо, а что плохо, и нередко детская, юношеская наша слепота или жестокость устанавливала свои законы... Трудно было выбираться из этих испытаний — тогда и потом.
Вот я иду сейчас и свободно помахиваю руками: левой, правой. И пока я в рубашке, в пиджаке, мне нечего стыдиться, никто ничего не знает, не видит, но мне-то известно, что на правой моей руке, как клеймо, отпечаталось сердце, пронзенное кинжалом и стрелой.
Сколько раз я хотел его выжечь огнем. Было страшно. Сколько раз хотел вытравить кислотой — не смог. Да и что вытравлять? Разве дело в надписи? Чем выжжешь и вытравишь то, что было на самом деле и будет помниться до смерти? «За измену!» Что я имел в виду? Или что хотели этим сказать те, кто выкалывал мне эту надпись? Не изменяй любимой своей, а иначе настигнет месть — кинжал или стрела в сердце? Или это ей, изменившей мне, должен был я так отомстить? До чего же это наивно, по-детски или невероятно жестоко, как в каком-нибудь первобытном племени или в неправдоподобно буйных страстях, знакомых мне только из книг. А может быть, я должен понимать эту надпись так: не изменяй самым заветным своим принципам, а иначе тебя неизбежно настигнет строгая кара?
Да что я понимал тогда? Мне, наверно, хотелось просто-напросто быть похожим на товарищей, не отстать от них ни в чем.
С утра до вечера бродили мы компанией по пыльным улицам небольшого шахтерского городка в Кузбассе. Высоченные черные терриконы, горы пустой породы, как пирамиды, возвышались над домами, они манили своими крутыми боками и остроконечными вершинами, но игры мы устраивали не возле шахт, а во дворах, подальше от взрослых, чтобы никто не заметил, как мы играем в «орлянку», или в «секу», или еще какую-нибудь «выгодную» игру. Всем хотелось разбогатеть разом. Стать такими богачами, чтобы можно было скупить все, что продается в магазинах съестного. Голод нас мучил всегда — и днем, и даже ночью. С едой было у всех плохо после войны. В поисках удачи, или богатства, или хоть какой-нибудь еды мы, устав от наших однообразных копеечных игр, бродили туда-сюда: к пекарне, чтобы надышаться запахом хлеба, к Дворцу культуры, чтобы проскользнуть незаметно на очередной сеанс, или шли к магазину в надежде раздобыть «на зубок». Мы метались, как стайка воробьев, мы знали и не знали, куда незачем идти. Любое предложение кого-нибудь из компании принималось быстро и охотно: что бы ни делать, лишь бы делать, куда бы ни идти, лишь бы шагать к чему-то новому, манящему.
Много у меня было тогда корешков. Как-то особенно вольно, безнадзорно мы жили в те дни. Никто из взрослых не присматривал за нами. У кого-то была только мать, у кого отец, как у меня. Родители работали с утра до вечера, им было не до нас. А нам было не до них, мы жили своей жизнью. Замкнуто, своей компанией. Пока мы вместе, нам казалось, что мы все можем и от всего защитимся. Но на самом-то деле, конечно же, нам только казалось, что мы всесильны и что правила, по которым мы жили, — самые справедливые. Любые, даже очень «загибонистые» фантазии, какие только приходили в наши детские головы, принимались нами как истинное. И без помощи взрослых мы не могли защититься прежде всего от самих себя, от собственной глупости и жестокости. Мы не понимали, что такое жестокость, только сердцем чувствовали обиду, но скрывали ее, ведь стыдно «нюнить». Не защититься нам было и от влияния распространенной у мальчишек в те времена моды: в одежде — надо было брюки носить заправленными в носки, а кепочку — надвинув на глаза; в манере держаться — ходить и стоять положено было боком, слегка приседая и сутулясь, а говорить полушепотом, цедить сквозь зубы, а смотреть на все и всех с прищуром, с пристальной нахалинкой. А то, как жестоки мы были друг к другу, я понял много позднее.
Кто же были они, мои товарищи, двенадцати-, четырнадцатилетние мои кореши, помнится очень смутно. Зато как принимали в компанию «на новенького», никогда не забыть.
Мы шли в полуразрушенную старую церковь, она стояла на пустыре, на отшибе, рядом с кладбищем. Оставляли на улице кого-нибудь «на атасе», а сами забирались в темный сырой подвал через узкий лаз, зажигали коптилку — маленький пузырек с фитильком, рассаживались на соломе в кружок так, чтобы новенький оказывался посредине. И начинались расспросы. Кто и откуда? Что знаешь, что умеешь? Кто родители? Рассказывать о себе надо было со всеми подробностями, чем длиннее, тем лучше.
Потом начинались испытания. Сначала легкие, хоть и загадочные. Кто-нибудь из «старичков» компании протягивал перед новеньким правую руку сначала ладонью вниз и дул на пальцы. «Что это значит?» — спрашивал он строго. «Я умею молчать», — должен был ответить тот, кто знал правила. Потом рука поворачивалась ладонью вверх, и снова экзаменующий дул на пальцы. «Я не сексот», — должен был ответить посвященный. Потом у новенького просили волосок с головы, и он давал каждому из нас по волоску, если хотел стать другом «на все века». А потом новичок должен был подержать свою руку над огнем коптилки «до первой боли». А потом начиналась борьба, новичок «волохался» с каждым из нашей компании, выясняя, на каком же он месте по силе и ловкости. Потом ему еще предстояло сыграть в «орлянку», в «секу», в «очко» — тоже для выяснения своего места среди нас. И наконец приходило самое трудное испытание — наколка.
Это уже я помню по себе. Обязательное для всех «клеймение» устраивалось все в том же сыром и сумрачном подвале заброшенной церкви. Для меня это место тогда было еще особенно таинственным и суровым. Помню, все расселись на полу, на соломе, а я и татуировщик оказались в центре круга.
— У нас нет черной туши, — сказал он. — Будем жечь галошу. А пока я нарисую тебе на руке карандашом.
И тощий фиксатый парень стал рисовать мне чуть повыше запястья сердце, пронзенное кинжалом и стрелой. Боли я пока не чувствовал, но мурашки бежали по телу от страха и таинственности.
Запахло жженой резиной. В консервной банке горел толстый, кривой кусок шахтерской галоши. Черная сажа, разведенная в воде, вскоре должна была войти в мое тело, под кожу, и остаться там на всю жизнь, чтобы я никогда не забывал, что со мной может случиться «за измену».
Правая моя рука, почему-то очень тоненькая, безвольно лежала на колене татуировщика. Резина догорала, рисунок и слова были уже полностью выведены карандашом; бледные, странные, какие-то колдовские лица мальчишек, едва освещенные крошечным пламенем коптилки, неподвижно вырисовывались в полутьме, влажным загадочным блеском светились глаза — все смотрели на мою руку и на пальцы «накольщика». Белой ниткой он связывал воедино три иглы, оставляя только самые кончики, острые и уже прокаленные в огне.
— Не мандражируешь? — спрашивал он меня время от времени.
— Нет, что ты, — отвечал я бодро, едва сдерживая себя, чтобы не вскочить и не удрать куда-нибудь подальше из темного зловещего подвала.
И вот началось. Одной рукой татуировщик стянул мне кожу, а другой стал покалывать часто-часто, с подковыром, как раз по узкой карандашной полоске. Кровь выступила наружу, маленькие черные капельки. Слезы выкатились из моих глаз, но никто этого не увидел.
— Ты не бойся. Все будет как надо. Только не дергайся, — успокаивали меня пацаны. Им-то что, они уже прошли свое испытание.
Долго, целую вечность впивались иглы в мое тело, я слышал легкое потрескивание — это лопалась кожа, когда ее подергивали снизу вверх. Боль притупилась, все заметнее начинала ныть спина от неудобной позы, — несколько раз устраивал передышку и татуировщик. Он улыбался, курил, разглядывал свое художество, любовался им, давал советы:
— Потом замотаешь тряпкой, скажешь отцу, что обжегся. Рука распухнет, но ты не дрейфь, ничем ее не лечи и не сдирай коросту, а то пропадет вся наколка. Дней через пять все будет в ажуре.
И снова иглы в тело, пятнышки крови, а потом началось все заново, и на этот раз кончики иголок уже обмакивались в черную влажную сажу.
— Эх, жалко, нет настоящей туши, — приговаривал мой мучитель, — а то я бы тебе такое нарисовал! Могу орла на груди, могу крест и могилу, могу имя на пальцах, могу даже змею и женщину на ноге. Ты терпеливый, хочешь, сделаю? Я тушь где-нибудь достану.
Я был горд своей терпеливостью, мне тоже нравилась моя наколка, я бы хотел, конечно, орла на грудь, с распростертыми крыльями, — это шикарно, но лучше не надо, хватит с меня и того, что есть. «За измену!» Это же такие слова... Можно сказать, кровью написанные. Теперь все будут знать, какой я решительный и принципиальный в любви и дружбе. Увидят мою руку и сразу поймут, что я за человек.
Первым увидел мою наколку отец.
— Зачем это тебе? — спросил он, как мне показалось, без всякой строгости, даже равнодушно, как будто я не кровью, а простым карандашом намалевал себе никчемный рисунок и пустые слова. Я даже обиделся и запальчиво произнес:
— Пусть все знают, что бывает за измену.
— А ты сам-то знаешь, что за это бывает?
— Конечно, смерть, — ответил я.
Отец вздохнул, покачал головой, он, должно быть, поразился решительности, с которой я приговаривал к смерти. Он посадил меня перед собой и сказал:
— Вот, говоришь, за измену смерть. Я много видел смертей, как умирали от пули, от ран, от болезней, от старости, оттого, что человеку больше не хотелось жить и он убивал себя сам. Ты молодой, и ты еще не знаешь по-настоящему ценности жизни, ее правил. Смерть — это страшно всегда.
Я это уже знал, я видел, как умирали люди в блокадном Ленинграде, и потом во время эвакуации, на Ладожском озере, когда рвались бомбы и снаряды, и потом, когда мы долго ехали с матерью в холодных товарных вагонах, а как только закончился путь из Ленинграда в Башкирию, я увидел и смерть моей матери.
Утро. Рано-рано. Яркое солнце в морозные окна. Около меня рядом с кроватью стоит сутулый, растерянный отец и пожилая, строгая хозяйка дома, у которой мы остановились на время. На широкой кровати, высохшая от голода так, что видна каждая косточка на лице, моя мать. Разметались ее волосы по белой подушке, а тоненькие прозрачные руки почему-то сжимают горло, как будто душат, а на самом-то деле хотят помочь. Вдох, еще вдох, а выдоха нет, и вот еще вдох — мучительный, быстрый, резкий, жадный, отчаянный, последний — и тишина. И такая тишина, что нет ничего ее тише и страшнее.
— Господи ты боже мой, отмаялась, конец, — сказала со вздохом хозяйка и перекрестилась. Подошла к матери, сложила ей руки на груди, а на глаза положила монеты.
Что это она делает? Зачем? Чему конец? А я как же?! А мы с отцом? Лицо его побледнело, покрылось каплями пота, дрожат руки, натягивая простыню, все больше и больше закрывающую от меня мою мать. Она лежит неподвижно. Вот отец наклонился и целует мать в губы, вот он встал на колени около кровати. И в это время случайно мой взгляд поймал странный веселый блеск, как солнечный зайчик. Он прилетел оттуда, от кровати, от жуткой тишины, от полуоткрытого рта — сверкало золото. И вдруг я все понял. И только теперь я заплакал, убежал, забился в какой-то угол.
Все кончено! И зачем только мы приехали сюда? Так долго мы ехали сюда в товарных вагонах из Ленинграда к отцу «есть пироги», как он писал нам в письмах. Что мне делать теперь здесь, в этом незнакомом городе, в этой далекой Башкирии? Что будет теперь со мной?
Пять с половиной лет я был в детском доме, а потом приехал отец, забрал меня, и теперь вот мы вместе, и он говорит со мной о том, о чем еще никто со мной не говорил:
— За измену ты однажды уже убил своего товарища. Ну, не ты один — вы все вместе. Помнишь, ты рассказывал мне о Дульщике?
Я кивнул. Я даже задохнулся. Нужно было хоть слово сказать в свое оправдание, но я не мог. Я убил Дульщика?! Я?
— Я часто вспоминаю о Дульщике, — сказал отец. — Он погиб из-за вас. Вы все виноваты. И жестокие главари вашей группы, и безмозглые, трусливые подчиненные. Вы Дульщика унизили. Да еще все навалились на одного. Били лежачего. Разве это законы? Принципы? Что толку выкалывать их на руке. Ты будешь стыдиться этой наколки всю жизнь, вот увидишь. Все эти обеты, зароки на теле — ерунда, вранье. Правда и настоящие правила жизни — в душе и в сердце. Ложь все запутывает, все делает фальшивым. Прислушивайся к своему сердцу как можно чаще. Ты понял меня?
Отец впервые говорил со мной так по-взрослому. Я видел, он боится за меня. И его небритое, усталое лицо полно тревоги. «Наверно, ему очень тяжело пришлось в жизни», — думал я, вглядываясь в его морщины. Я молча клялся ему быть таким, чтобы никогда он не стыдился за меня, и навсегда обещал запомнить его слова.
— Вы унизили Дульщика. Он хотел стать равным с вами со всеми. Вспомни, что было тогда...
Чем дольше я живу, тем чаще вспоминаю тот случай — единственный такой в моей жизни, и самый постыдный, и самый страшный, будто совесть моя все настойчивее требует меня к ответу. Я вспоминаю про это, когда порой оказываюсь в многолюдной давке, где малейшая неосторожность может стать бедой для кого-то; вспоминаю и в минуты уж слишком развеселых игрищ, когда распаляется моя и еще чья-то удаль, переходя все границы. И подтрунивания, неожиданно переходящие в насмешки, заставляют вспомнить тот случай, и чрезмерная уверенность в своей правоте, и ограниченность, и наглость, и жестокость, и равнодушие к чужой беде, и власть силы, и рабская, жалкая трусость именно тогда, когда нужно, хоть умри, постоять за себя и за друга. Тот случай будет помниться мне до самой смерти.
Медленно-медленно идет по косогору, припадая на одну ногу, большой сутулый старик, детдомовский сторож, и несет на руках маленького, худенького Дульщика. Безжизненно покачиваются его руки и ноги, они как будто тянутся к шелковистому, мягко стелющемуся под ветром ковылю, к распаренной земле, чтобы лечь, как бывало, чтобы долго-долго смотреть в небо, слушать стрекот кузнечиков и песню жаворонка. Но все кончено: вот он, Дульщик, и его нет. Больше никогда ничего не увидит он и не услышит. Уже не для него старая казачья крепость — наш детдом на горе, — банька на склоне радом с родником, и татарский аул под горой, и речка, где так много рыбы попадалось Дульщику на крючок...
Вон лежит под горой в яме страшное огромное колесо от сенокосилки, которое убило Дульщика.
Он не знал...
Была такая игра. Бросались под колесо от сенокосилки в тот момент, когда оно перепрыгивало через валун, — всем хотелось стать героями. Героев качали, им прощалось все. Дульщик не знал, когда именно можно бросаться под зубчатое колесо, чтобы оно подпрыгнуло и полетело по высокой дуге. Но он тоже хотел стать героем. И хотел, чтобы ему простили все.
В тот страшный день он решился. Во время игры он стоял в отдалении, ему, как всегда, не разрешили быть вместе со всеми, и он прыгнул к валуну, подбежав с другой стороны косогора. Колесо не направили как следует, и оно не перепрыгнуло, а только скользнуло по камню...
Дульщик поторопился. Нет, не случайно он торопился, ему побыстрее хотелось стать героем, чтобы простили ему все, как другим, кто выдерживал испытание. Он-то выдержал свое испытание, а мы нет — мы не смогли поддержать его, когда он так в этом нуждался. Самое главное испытание — на человечность — не выдержали мы.
Неужели тогда это был я? Да, я. И кажется, что я еще до сих пор живу в детдоме, в старой казачьей крепости, на высокой горе с высоченными домами, с высоченными людьми — воспитателями и старшими ребятами, — на все и на всех я смотрел снизу вверх; кто сильнее меня, тот и был прав. Я делал все, как мне велели.
И вот я живу и живу на высоченной горе, и весь мир, вся планета — на одном пятачке, на горушке, в старой казачьей крепости Абсалямово, где посреди двора бегают и орут одинаково одетые мои дружки. Они бегают, орут, толкаются, и со стороны может показаться, что всем очень весело, а на самом-то деле никто ни на минуту не забывает, что идет война, там отцы и матери, там происходит что-то такое, что должно обязательно закончиться, чтобы восстановилась полная справедливость во всем. А пока...
Все началось, еще когда Дульщик караулил склад с продуктами. Старшие, ребята утащили бочонок с медом. Есть-то охота, это понятно. Только мед был в те времена не едой и не лакомством — лекарством. От голода и холода болели все, и чем только не болели, и от всех наших болячек — мед с чаем, мед с молоком считался самым верным средством. А его вот и украли.
По всем законам Клешни и его дружков Дульщик должен был молчать намертво. А он сказал, «выдал», «продул». Он долго молчал, он и слова не сказал бы ни за что, если бы ему не объяснили взрослые, что мед — это лекарство и то, что случилось, не просто воровство — подлость. Одних отправили в колонию, других в карцер. А на лбу Дульщика появилась синяя мушка — знак изгоя и предателя. Кличка Дульщик прилипла к нему сразу же, и сразу же переменилась вся его жизнь. Играть нельзя ни с кем. Сидеть за партой, за обеденным столом, возле одной теплой печки в зимние времена тоже нельзя ни с кем. Можно только стерпеть: когда бьют ни за что, когда наговаривают напраслину, когда отнимают что-нибудь нужное и любимое, например цветное стеклышко, или гвоздь, или кнут из мочала.
«Но как же так можно?» — скажет кто-нибудь. Где были взрослые люди, воспитатели, почему они не восстановили справедливость?
Шла война, и детей разных возрастов и характеров в детдоме было больше двухсот. Много детей — всяких, а воспитателей в детдоме мало. К тому же они часто заняты неотложными делами по хозяйству: надо баню истопить, нужно на кухне помочь, или школу оборудовать, или дрова привезти. На все не хватает ни рук, ни глаз. Наша молодая воспитательница, Антонина Акимовна, делала все, чтобы облегчить ему жизнь, — следила, убеждала, уговаривала, устрашала, наказывала обидчика, но только на время отставали от Дулы, а потом, словно бы вспомнив, или уже по привычке, или даже просто от скуки, придумывали что-нибудь жестокое. Попробуй-ка Дульщик потом пожаловаться — будет еще хуже, и он это знает. Так что надо Дульщику терпеть и боль, и насмешки. А если он еще будет улыбаться при этом, пусть жалкой, подобострастной улыбкой, лишь бы улыбался, ему могут за такую потеху разрешить что-нибудь, чего раньше не разрешали. Ну, хотя бы попробовать подтянуться на турнике посреди двора.
Турник для всех, каждый, кому вздумается, свободно проделывает на турнике все, что может. Но Дульщик — это не все. Ему разрешили, и вот он тоже взобрался на перекладину, повис на руках, дергается, корчит рожи. Все хохочут — вона! Дульщик на турнике!
Маленький, кривоногий Дульщик пытается сделать «солнышко», что удавалось только Клешне. Все хохочут, Клешня тоже. Это же еще как смешно, что Дула хочет его «обставить». А Дульщик подергался-подергался и сделал «солнышко» не хуже Клешни. А вот еще раз, и еще, а вот он как-то необычно перекувырнулся и снова взлетел над перекладиной. Как это у него получилось, как это он сумел? Такое ни у кого еще не выходило. Вот так Дульщик!
— Ну-ка, сдерни с него штаны, — говорит мне Клешня.
А я не понимаю, зачем это. Штаны у Дульщика и так едва-едва держатся на какой-то жалкой веревочке из мочала. Нет, в том-то все и дело, что я понимал, чего хочет от меня Клешня. Он хотел моими руками, моей совестью унизить и опозорить другого человека. В каком-то смысле мы тогда оказались с Дульщиком на равных. А может быть, я не понимал своей подлости и думал, что так все и должно быть, или почти так. Нет, все-таки сердцем чувствовал худое, раз я это запомнил и не могу забыть. А что же чувствовало сердце Клешни? Неужели ничего?.. Только удовольствие, наслаждение от нашей униженной покорности и трусости? Да, пожалуй. Чужую боль, физическую или душевную, он не умел чувствовать, как свою. Он и свою-то, кажется, не чувствовал... Или нет. Когда от него отвернулись все после смерти Дульщика, он взмолился... Надолго ли? На всю ли свою жизнь?.. Но, впрочем, это пробуждение его души было потом, а пока еще Клешня стоит в окружении своих дружков и требует, и подталкивает:
— Иди-иди. Тебе что говорят, не слышишь?! — и делает мне смазь — проводит пятерней по лицу.
Я отплевываюсь от грязных пальцев, которые попали мне в рот, а Клешня смотрит на меня исподлобья.
— Пенделя захотел? Или вместе с ним?..
Нет, я не хочу «пенделя», и вместе с ним — тем более. Я знаю, я вижу, что такое вместе с ним, а не вместе со всеми. Я медленно иду к турнику, так медленно, чтобы Дульщик успел спрыгнуть. Но ему весело, приятно показывать всем свою ловкость и силу, он разошелся вовсю. Он снова повис на руках и строит рожицы, чтобы все смеялись. А Клешня подмигивает мне издали, мол, давай, самое время. И я дергаю Дульщика за штаны, не очень сильно, и все же они сваливаются чуть-чуть. Дульщик сначала не понимает, в чем дело, он кричит на меня и пробует отпихнуть ногой. И голос в это время у Дульщика звонкий, сильный, не тот, которым он жалостливо клянчит что-нибудь.
— Ты что на него тянешь? — кричит Клешня Дульщику. — Я за него тебе знаешь что сделаю...
Я не представляю, что за меня может сделать Клешня, но мне приятно это слышать, противно и приятно.
А вот Дульщик все еще висит на турнике, пока один пацан из нашей комнаты, тоже подосланный Клешней, не подбегает сзади и не сдергивает с Дульщика штаны. Все гогочут, а Дульщик уже на земле, поддергивает свою одежку, и трудно понять, улыбается он или плачет...
И тебя мне было трудно понять, Бородулин, улыбался ты или плакал, когда..
Это был первый учебный год. Только что выпал мягкий первый снег, он чистый и легкий, и так хочется набрать его побольше в руки и смять в комок.
— Бородульку бить! Бородулю! Лупи его! — это орут пока что четверо.
Но вот выскакивают из нашего училища еще десять-двенадцать парней:
— Бородулю лупи, Бородульку!
И еще выбежали пацаны, вся группа, и орут что есть мочи:
— Бородульку! Бородулю бить!
За что? Почему? Да ни за что и нипочему. Просто так. Мальчишки играют. И нечего тебе, мастер, ввязываться. У пацанов свои законы. Это не детдом популяют снежками друг в друга и успокоятся, легче будет сидеть в душных комнатах. Стой и смотри.
Бородулина еще нет. Его ждут. Все готовятся к бою. Почему только все на одного, на него? Что случилось?.. Да мало ли что? Стой и смотри.
Открывается дверь, и вот он, улыбающийся, ничего не подозревающий Глеб Бородулин.
— А-а-а! — завопили все, и белые крупные комья полетели, обгоняя друг друга. — Бей его! Бей его! Бей Бородулю!
В плечо, в руку, в ногу, в живот шлепнулись снежные ядра. Ерунда это! Не больно. Бородуля даже не отворачивается. Он удивлен. Он только увертывается от снежков. Они гулко шлепаются в стенку, в дверь, разлетаясь на брызги и оставляя белые холмики. Не так-то просто, оказывается, попасть в цель.
— Бей его! Бей! А-а-а! — вопят все. Но так себе вопят, заодно, лишь бы орать и швыряться. Только вот носатый и чернявый, это Лобов, сосед по верстаку и, можно сказать, дружок Бородулина, только он один орет не как все и швыряется не как все, он зашелся, в азарте он скалит зубы, и лепит снежок покрепче, и швыряет его посильнее, и метит точно в цель.
И вот она, цель. Белый плотный комок разлетается в клочья. Лицо Бородули в снегу. И не понять, улыбается он или плачет.
Кончайте! Что вы делаете, дурачье! Но уже поздно, мастер! Уже Бородулин закрыл лицо руками и ни за что не хочет раскрыть его, сколько ни проси. Он ждет, когда все оставят его в покое. Все-все. И даже тот, кто сидит с ним рядом за партой и за обеденным столом, и те, кто извиняется, и те, кто сочувствует, и те, кто виновато молчит. А ты, мастер, иди отсюда. И вдруг яростный, как удар хлыста, взгляд и крик:
— А ну вас всех! Уйдите!
И кажется, еще чуть-чуть помедли, начнется драка. Один против всех, и еще неясно, кто кого победит.
Что произошло в тот раз? Неужели Глеба хотели за что-то наказать, унизить?..
Дульщик улыбался, поддергивая штаны. Все хохотали, хихикали, кто-то подставил ножку, и Дульщик брякнулся на землю боком и щекой, его руки все еще были заняты поддергиванием штанов. Дульщик шмякнулся, и затих, и долго лежал в неудобной странной позе, лицом в пыли.
— Ну ты, вставай, — толкнул его своей грязной босой ногой Клешня. — Воспитка идет. Вставай, хуже будет.
Дульщик встал на четвереньки, потом на ноги, и снова было не понять — улыбается он или плачет.
...Нет, Глеб — не Дульщик, и не мог он допустить, чтобы так унижали его... А я не мог пожалеть Глеба, как пожалел Дульщика.
...Мне было и жалко Дульщика и противно. Я пошел к своему тайнику в бурьяне, где прятал самую большую свою драгоценность — деревянное колесо на палочке. Я взял его в правую руку и сначала задворками, чтобы никто не увидел, а потом по главной дороге от детдома в город пошел за моим колесом, и мне казалось, что мое колесо укатит меня далеко-далеко, куда бы могла уехать машина, если бы я был шофером, или паровоз, если бы я был машинистом.
Крутилось, вертелось передо мной колесико, перепрыгивало через камешки, которые казались мне большими, как горы, торопилось мимо весеннего, еще тоненького ковыля, который был не ковыль вовсе, а высоченные деревья; и кузнечики были не кузнечиками, и цветы не просто цветами, и я был совсем не я, а великан в стране лилипутов, и нужно было сейчас спешить, чтобы спасти кого-то, кто очень ждет меня с моим грозным, как танк, колесом. Тогда я не понимал, что нужно было поспешить на выручку не к кому-нибудь вообще, а к Дульщику.
Катилось, катилось колесо и вот уже, кажется, прикатилось. Споткнулось. Застряло. Не объехать и не обойти мне теперь Бородулина. И вовсе не объезжать, не обходить мне его теперь нужно, а спешить на выручку. Неясно осталось мне только, почему тогда все на одного... Глеб, кажется, всегда был уважаем и в интернате, и в училище. А может быть, я так же плохо знаю, что происходит в группе, как плохо знали в детдоме у нас воспитатели? Внешне все в порядке, а внутри... свои законы. А вдруг возник в группе конфликт и Глеб, самолюбивый парень, бросил вызов?.. И снежки все на одного были неспроста? Что отстаивал он, а что предал? А может, оказался в безвыходном положении, как в игре «ищи пятый угол»?
А может, в то время он уже был внутренне с теми, кто под мостом, и вся группа знала об этом, только я один ничего не знал? Теперь узнал, но поздно, теперь осталось выяснить, как попал он туда, как все получилось. Цепь ли это случайностей или неслучайностей, или крайний случай? Пожалуй, все тут взаимосвязано. Не пойди я на свадьбу, не увези я Катю, не поссорься со всеми, я не стал бы, может быть, придираться к словам: «Эй, сколько времени?» И не было бы ничего.
Это со мной не было бы ничего, а с кем-то другим... Такие парни рады любому приключению, и особенно когда в темноте можно без свидетелей кинуться всем на одного. А если бы еще у кого-нибудь оказался нож?! И вот он — крайний случай. Последний. Всему конец! Случайность, равнодушие, безволие, ухарство, жестокость — и конец! Смерть. А она страшна всегда. Я знаю это и помню, как говорил мне отец. Теперь вот нет уже и его в живых, лишь голос звучит во мне:
«Ты, сын, береги свою честь и свободу, дорожи ею. Не унижай и не унижайся. И никому не угрожай смертью, даже запрети себе замахиваться. Человеку, наоборот, надо помогать выжить. Это самое трудное и самое нужное из всего, что я знаю. Не забывай это и потом, когда меня не будет, а ты, может быть, станешь генералом и тебе придется распоряжаться жизнью тысяч людей».
Мой дорогой отец, я не стал генералом и уже теперь не стану им никогда. Я командую всего лишь двадцатью семью моими учениками, еще совсем мальчишками, а вообще-то уже и мужчинами — не поймешь, что за возраст такой, от четырнадцати до восемнадцати. Казалось, что все знаю о них, а вот нет же. Надо снова и снова мне забираться в прошлого себя...и в настоящего, и в будущего.
За что, за какую такую провинность, подлость или измену меня шлепнули по башке? Чему я изменил? Или кому? Когда? В нынешнем времени или в прошлом?
Одному не справиться мне с этими вопросами, нужны книги, нужны мне знающие люди, поговорить бы, разобраться поглубже.
Многому сейчас учат всех. Тот же мой Глеб изучает спецтехнологию, обществоведение, литературу, высшую математику, и т. д. и т. п. А еще, ко всему прочему, учат его борьбе и правилам уличного движения. Знаний, казалось бы, целый короб, и скоро экзамены на аттестат зрелости, а вот в самом главном, оказывается, очень многие еще не созрели, потому что вовсе не из простой суммы знаний складывается эта зрелость, настоящая, глубокая образованность. Вот, скажем, сдавал бы еще каждый молодой человек экзамен на право общения с другими людьми. И так же, как делают это, предположим, инспектора ГАИ, въедливо, терпеливо заставлять бы всех учить... устав?.. кодекс?.. Нет, человеческое поведение не уложишь в краткий свод правил. Вот, скажем, ввели теперь в ПТУ курс эстетического воспитания, и хорошо сделали. Но рассуждения о прекрасном совсем неплохо бы сочетать с преподаванием этики или социальной психологии. Поговорить насчет этикета не забывает, пожалуй, ни один из педагогов: «как стоишь, да как сидишь, да почему не здороваешься», а вот чтобы углубиться в суть поступка, потолковать о нормах поведения, о морали, нравственности, чтобы убедительно, со знанием дела, да еще истово, как проповедники говорили о боге, чтобы дошло до самого сердца, — такого нет, некогда или не умеем. От случая к случаю на общих собраниях ничего не достигнешь. А ведь как было бы полезно, если бы специалисты почаще и при всех — на уроках, по радио, в газетах, всюду, где возможно, — анализировали бы, ничего не скрывая, сложные жизненные случаи, как изучают в ГАИ случаи аварий или как исследуют врачи историю болезни, — тогда бы...
Вот, скажем, мой случай... Если бы, предположим, для пользы дела я рассказал его всем с подробностями и ничего не скрывая... А собственно, о чем рассказывать? Я знаю только то, что знаю, а вот в чем причина, мотивы поступка — это для меня тайна. Это, может, вообще самая главная тайна в любом случае. Ведь есть такое понятие у следователей или юристов: «презумпция невиновности» — это значит, что любой подсудимый невиновен, пока не доказано, что он преступник.
Ладно, пусть пока Глеб никакой не преступник по отношению ко мне, но по отношению к собственной совести он должен себя считать преступником? А если у него нет совести?
Встреча! Позарез нужна мне встреча, чтобы глаза в глаза... И когда мы встретимся, я все ему припомню: его трудное детство, интернат, нашу дружбу, а потом нападение ночью — все это должно объяснить ему... и обязательно я должен рассказать еще одну историю, которая меня самого многому научила.
Был школьный учительский вечер. Он на редкость удался. Не хотелось расставаться. Говорили о воспитании детей, о трудной учительской работе, о любимых и нелюбимых учениках, вспоминали свою юность, сравнивали ее с юностью нынешних дней. Что-то изменилось, а что-то осталось прежним. Да, дети стали умнее, начитаннее, требовательнее к себе и к жизни, и кто-то сказал — «человечнее».
Один из учителей не согласился: «Стали бесчеловечнее», — поправил он. И разгорелся спор, древний спор о том, чье поколение лучше, что формирует сознание людей, что же такое воспитанность и невоспитанность сердца и что означает само слово «человечность». В его глубине, наверно, заключено бесконечно многое: доброта, расположенность к людям, бережность, стремление дойти до самой сути и понять не только самого себя, готовность к взаимной выручке и многое, многое еще.
Думал об этом со всеми и мой друг, умный, искренний, горячий человек, учитель не по диплому, а по призванию. Он преподавал зоологию. Ему всегда хотелось рассказать детям как можно больше обо всем, что единит все живое на земле, людей и природу, и, конечно же, самое главное, о том, что объединяет или должно объединять землян друг с другом. Он говорил об их культуре, об их духе, об их главных человеческих качествах, — я не раз бывал на его уроках.
Большая домашняя библиотека, самая большая, какую я только знаю, помогала моему другу в работе. Он не жалел ни сил, ни времени, чтобы прийти на урок не просто наполненным, а переполненным знаниями, мыслями, чувствами.
Дети любили своего учителя, раскрывались перед ним, подражали ему, часто бывали у него дома.
Худенький, всегда опрятно одетый, подтянутый, готовый в любой момент к дружеской услуге, — романтически, рыцарски настроенный человек — таким вот и я всегда знал его, и учителя, с которыми он работал.
Когда закончился школьный вечер, — а было поздно, около двенадцати ночи, — мой друг пошел провожать двух молодых женщин. Трое учителей шли медленно, не хотелось расставаться, мой друг читал стихи, он много их помнил. На улице пригородного поселка было тихо, безлюдно, стихи звучали как самое большое чудо, какое только может быть у людей. И казалось, что мир прекрасен, добр, талантлив и человечен.
А потом, проводив своих спутниц, друг пошел на станцию поселка, чтобы уехать в Ленинград, домой.
Издалека послышался голос электрички, долетел свет ее прожектора. Жалко было, что пришла она так скоро.
Но вот откуда-то из темноты вынырнули четверо парней, пробежали по перрону, толкнули моего друга так, что он упал, и даже будто не заметили этого, шутили, смеялись, покуривали в ожидании электрички.
Ночь, пустынный перрон, мгновенная остановка поезда и один против четырех — какие тут могут быть разговоры, объяснения? В таких случаях разумнее всего бежать, отступиться, каким бы ни был позор. Но ведь бывает, что не можешь простить себе ни трусости, ни позора. И неосторожный, отважный мой друг потребовал извинения. И получил удар в живот.
Его стали бить все четверо. Били руками и ногами, били зверски, насмерть, приговаривая именно это слово: «насмерть». Друг защищался зонтиком (не шпагой) сколько мог. Потом его повалили, стали топтать, и он потерял сознание.
Очнулся он в больнице. Я с трудом узнал его, перебинтованного и в кровоподтеках. Друг лежал на кровати без движения и все-таки старался шутить. Я поддерживал шутки, чтобы как-то разрядить обстановку. А самому хотелось найти тех четверых и растоптать их, хоть я и знал, что злобой злобу ничему не научишь. Что и говорить, это не выход, когда отмщение видится только в одном — стенка на стенку, кулаки на кулаки с криком: «Наших бьют!» Конечно, если бы я оказался с другом в те ночные минуты, не струсил бы, но это уже другой вопрос. А вообще-то ненавижу я даже самую мысль о побоище.
Я подавил свою ярость и стал думать, как же все-таки осуществить возмездие. Чувство чести возмущается, восстает, требует найти способ самозащиты для тех, кто не владеет приехмами самбо или бокса и не может постоять за себя в темном переулке в крайнем случае. Противно смиряться с участью слабого, с тем, что грубая сила — безнаказанна. И хоть тот, кого обидели, все равно не может быть отмщенным в полной мере, он должен быть уверен, что негодяям воздастся.
Но вот где они, те четверо? Ищи ветра в поле. Они уехали на той же электричке, что подходила к перрону. Они, должно быть, стояли в тамбуре, весело обсуждали случившееся, гордились своими кулаками и тем, что «проучили одного на всю жизнь».
Где они?! С кем они теперь? В чьей компании слывут за порядочных людей? Какие девушки любят их? А ведь кто-то их любит. Ведь матери родили их для человеческой жизни.
Ходят, бродят эти негодяи сейчас по земле, о которой так много и хорошо знает мой друг учитель, и не горит под ними земля, и улыбаются им какие-то люди, которых они потом могут изувечить, унизить, оскорбить.
Мой друг так и не смог окончательно поправиться — его стали мучить головные боли. Пришлось отказаться от преподавания.
А преступники так и остались ненаказанными.
Что же делать?
Кого это я спрашиваю так строго? Работников газеты, милиции, юристов, социологов? «Поймать и к стенке», — сказал бы тот криминалист в очках. А что сказал бы Мишка? Что-нибудь вроде «хочешь жить — умей вертеться»? А Самохлебов? Наверно, стал бы думать о том, какими путями лучше подобраться к сознанию человека, к его воле, чтобы убедить и научить...
А что, если четверо, избившие моего друга, и есть те самые, кто напал на меня?! «Поймать бы и к стенке!..» Нет, это уж слишком. А кто знает, что слишком, что не слишком в этом случае? И никто не даст мне никакого ответа, пока я сам все не узнаю и сам себе не отвечу, — ведь это я воспитываю те или иные качества в моих учениках. И я сам должен восстановить справедливость. А главное, надо попытаться понять, каким же образом воспитывать в каждом ученике прочное чувство чести и совести, чтобы оно само всегда срабатывало, как надежный предохранитель, в момент, когда кому-то вздумается — только еще вздумается — совершить бесчеловечный поступок.
Нужна мне встреча, позарез нужна встреча с Глебом. А пока хватит бродить по городу, устал.
Хотелось покоя хоть на время, но я не мог остановиться — все думал и думал, искал, бросался во все стороны. Что-то обваливалось, рушилось, и заново нужно было выкарабкиваться, строить, — голова уже начинала трещать. Простоты хотелось, ясности, улыбки, здоровья, и еще хотелось хорошо поесть, и не в столовке, а дома, где тебе всегда рады.
Дверь открыл Кузьма Георгиевич. Он смотрел на меня так, будто я был вовсе не я и не меня тут ждали. А я и сам недоумевал, почему позвонил, ведь у меня есть ключ, и почему именно Кузьма Георгиевич открыл мне дверь, а не любой другой жилец нашей квартиры.
— Мне послышалось, что звонок был ко мне, — наконец заговорил Кузьма Георгиевич не без смущения.
Я тоже смутился. С чего это вдруг позвонил старику, он и так всегда кого-то ждет и мается своим ожиданием, скрывая его. Я, наверно, задумался, и рука сама собой нажала на звонок.
— Простите, я забыл ключ. А моя хозяйка не услышала бы, она уже, верно, спит.
— Не извиняйся, Леня. Все правильно. Для меня в мире так мало осталось событий, что и звонок в дверь — приятная неожиданность. Ты встретил своего ученика?
— Еще нет. Завтра практика.
— Тогда иди поскорее спать. Тебе надо отдохнуть, собраться с мыслями. Ты должен прийти к ним во всеоружии.
Глава четвертая
Еще рановато, но парни уже толпятся возле училища, как всегда. И толкаются, как всегда, и покуривают втихаря, тоже как всегда, и косточки перемывают всем и каждому, кто проходит мимо: кто как одет, кто как пострижен, кто как держится. «Здравствуйте». «Здрасте», — отвечают нестройным хором. Вежливые, почтительные, но так улыбаются, что не поймешь — приветливость ли это, смущение или готовность осмеять тебя «мелким смехом», когда ты скроешься в дверях.
Вон стоит дружок Бородулина из токарной группы. Сердце забилось сильнее. Спрашиваю с подчеркнутым равнодушием:
— Ты Глеба видел?
— А чего, я за ним бегаю, что ли?
— Тебя спрашивают, видел ты его или нет? — сержусь я.
— Ну, не видел.
— А без «ну» можно?
— Ну, можно.
Не заводись, Ленька, не заводись, Леонид Михайлович, тебе еще пригодятся сегодня твои нервы. Тебе отвечают вполне в духе пацанских законов. Чтобы и друга случайно не подвести, и ответить достойно. А по глазам тебе и так видно, что не знает он, где его друг Бородуля. Сам поищи. А к чему, собственно, искать? Придет он и встанет к верстаку. И не выслеживай ты его заранее, пусть все идет как обычно.
В коридорах шумок. Возле гардероба тишина: уже тепло, май, — нечего сдавать. Из широкого окна выглядывают девчонки. Дежурные. Им скучно, они строят глазки ребятам. Румяные, светлые у девчонок лица. И Таня с ними. Сидит молчаливая, сдержанная, просто-напросто дежурная по гардеробу. Как будто не было субботы, не было никакого вальса. Удивительные вы, девчонки, никак вас не понять. Переодень вас — и вы королевы или инфанты.
— Татьяна, ты Глеба сегодня видела?
— Вот еще. Что я, бегаю за ним?
— Ладно, не сердись, он мне очень нужен.
На лестнице — как на муравьином тракте: все спешат. И всем хватает места на широких ступенях, все как будто разогреваются перед началом дня — не ходят, а бегают вверх и вниз. Парней и девушек почти пятьсот человек, а знаешь, кажется, всех. И тебя все знают: «Здравствуйте, Леонид Михайлович». «Здравствуйте». «Здравствуйте». «С добрым утром».
Утро и в самом деле доброе. Для них для всех. На какое-то время забывается и моя беда. Я шагаю по широким ступеням, уже, как обычно, думая о предстоящем дне, о делах, о встрече с группой. Солнце светит в лицо. Я отворачиваюсь от лучей, вижу бледно-розовые стены, чистенькие, без царапин, — на миг вспоминаются прежние, еще до перестройки здания, когда учился здесь я: наши стены были зеленовато-грязными, с полосами и шелушением. Теперь все по-другому. И кажется странным, что такая орава мальчишек бережет всю эту чистоту, — никто не осмелился оставить здесь, на стенах парадной лестницы, даже царапину. Никто не обломал ни листочка на пальмах в деревянных кадушках. Парадная лестница светится, сияет в лучах солнца, и все легче мне шагать, спокойнее у меня на душе, и все, что было под мостом, кажется мне каким-то недоразумением.
— Здравствуйте, Ирочка.
— Здравствуйте, Леонид Михайлович. Что вас давно не было в библиотеке? И ваши ребята не появляются, один только Глеб Бородулин аккуратен.
И смотрит своими огромными печальными глазищами. А я не знаю, что и ответить. Взял читать Голсуорси, кстати по рекомендации Бородулина, «Сагу о Форсайтах», и вот увяз: уж такая длинная книжища — не для моего терпения. А Ирине обязательно расскажи, как читалось, что думалось да что понял. Ей мало сказать «хорошо» или «плохо». Смотрит вот как сейчас, в упор, и ждет, будто скажешь ты самую великую истину.
Ирочка всегда смотрит такими глазами, что становится не по себе. Стыдно. Особенно когда приходишь к ней в библиотеку, а она показывает новые книги и спрашивает: «А это вы читали? А вот эту? Ну, а вот эту книжку вы уж обязательно должны прочесть». И вот эту обязательно бы, думаешь ты со стыдом. И вот эту еще не читал. И вон сколько стоит на полочках книг. И все они смотрят на тебя глазами Ирочки. Стыдят, требуют, просятся в руки — только возьми, не оторвешься. Суток тебе не хватает, думаешь ты. Всей жизни тебе не хватит, чтобы прочесть все хорошие книги. И все же бери, не отказывайся, читай, приходи на читательские конференции, которые Ирочка устраивает чуть ли не каждый месяц, — а вдруг да поумнеешь. А производственный план? А ремонт станка? А приспособление, которое Лобов мусолит уже целый месяц, и надо бы помочь? А собрания, совещания? Да что там говорить. Уж простите, Ирочка, я, конечно, постараюсь... Стыдно, конечно, когда ребята начинают толковать с тобой о книжных новинках, а ты ни бельмеса. Они теперь знают все. Десятилетка. Английский язык. Общественные науки, эстетика. Чего только нет в нашем новейшем ПТУ. Вот скоро отпуск, наберу книг и умотаю куда-нибудь в деревню, подальше, чтобы никто не мешал догонять цивилизацию.
— Эй, Леонид, подожди, дорогой, я тебе кое-что хочу сказать.
Так только Акопян растягивает слова и смакует букву «х».
— Ты как раз мне и нужен. Как раз именно ты: аккуратный, исполнительный, сообразительный, сильный, неженатый, любимец красивых женщин. Я же видел! Что ты мне делаешь рукой так? Я же видел.
— Видел! Ничего ты не видел.
— Я все вижу, Леонид, все знаю. Вот ты вчера выпил, а сегодня тебе тяжело. Не то пил, дорогой. От армянского коньяка — солнце в голове. Привезу, попробуешь. А еще лучше — вместе поедем, только пожелай.
— Пожелаю, Акоп, пожелаю, только попозже.
— Э, нет. Выслушай меня до конца. Ты молодец, я молодец, но ты лучше. Я так и вижу тебя на картине, как это у вас там: Илья Муромец, Алеша Попович и ты. Богатырская застава.
— Что-то ты разговорился, Акоп. Что нужно, выкладывай.
— Твоя очередь, Леня. Понимаешь, нет никого. Ты один за всех. Особое тебе доверие.
— Ну, что там, что?
— Дежурить в милиции, дружина, вот что. Любимый город должен спать спокойно, так я говорю?
— Ладно, уговорил. Когда?
— На той неделе. В субботу, уж извини.
Акоп улыбнулся. И столько чистосердечной мягкости было в его улыбке, столько прямоты, мужества и южной горячности в его лице.
Ох уж эта лестница. Всего два пролета, каких-нибудь шестьдесят ступеней, а все сто дел соберешь на плечи в один мешок, пока поднимаешься наверх. И так вот каждый день.
— Привет, Ленька. Ты что такой желтый?
— С тобой встретишься — и позеленеть недолго.
Игорь Федоров — мой соперник. Мужик пробивной, дельный. Должно быть, считает себя неотразимым красавцем: делает укладочку, щурится, как барышня, фасонит в дамском обществе. И на мотоцикле своем, на «Яве», держится, как джигит на коне.
Я его знаю давно, еще с техникума, учились в параллельных группах. Он всегда был такой. Мы теперь и коллеги и соперники. То я его обойду со своими ребятами, то он возьмет верх. То я на собрании будто невзначай поддену его, то он мне влепит пару горячих. Все как у настоящих соперников. Надо признаться, голова у него работает неплохо. Учеников Игоря заманивают к себе предприятия заранее, Федоров — это фирма. В деле разбирается до тонкостей. Вот и насчет тренажеров он прав. Новинка. Надо внедрять как можно шире. А что получается? Обучаем мы своих слесарей рубить металл, как рубили его наши отцы и деды — колотить молотком с размаху, не глядя на боёк и на руку, чтобы видеть только острие зубила. Такая рубка не глядя достается долгой практикой, опытом. Пока научишься, синяков и ссадин на руке — не счесть. Тут ведь нужно приучить мозг помнить точность удара. Тренажер помогает избавиться от травм. Надеваешь резинку вокруг бойка и пошел, колоти сколько влезет. Промахнешься — не беда, не по руке. Вроде бы все человечно и разумно. А вот Игорь заявил всем на собрании мастеров: «Ерунда. После тренажера мне целый месяц опять надо ребят переучивать. С резинкой все получается запросто, не страшно, а без нее — опять двадцать пять. Слесарь не белоручка. Ударит разок по пальцу, сразу все поймет, я так считаю». И все согласились с ним. Я нет. Поспорили. А теперь думаю, что он прав.
— А вообще-то зря ты на меня тогда попер, — говорит Игорь, прищурившись по своему обыкновению.
— Ладно тебе, зубило, ты прав.
— Да я не об этом, это и ежам понятно. Ты зря уж так пацанов своих защищаешь. Я сам видел, какая у них дисциплинка. Такому нахалюге, как твой Лобов, совсем не вредно дать разок по шее. Да и любимчику твоему, Бородулину, тоже следовало сделать хорошее вливание. Ты слишком мягкий, с ними надо покруче, и тогда все пойдет тип-топ.
— Ладно, тип-топай, — резко обрываю я.
— Ну что ж, будь, — небрежно подбрасывает он свою щегольскую руку с аккуратными ноготочками.
Игорю легко рассуждать. Ему отобрали учеников из первого потока, кто пришел сам по себе да пораньше, а мне, потому что болел, достались никуда не поступившие, никому не нужные и даже кое-кто особо рекомендованный милицией. Держать таких в узде — покувыркаешься. Мои пацаны известны всему училищу. А кое-кто просто популярен — не слесарь, а киноактер.
Вон мой Лобов вминает кого-то в угол. «Масло жмет».
— Лобов, кончай!
Смылся, не угонишься. Что-то такая поспешность на него непохожа. Даже не пробурчал свое обычное: «А чего? Я ничего... Нельзя, что ли?» Иди, мастер, иди. Сегодня у тебя много еще будет ступенек.
Нет, никак мне сегодня не подняться. Вон и преподавателю эстетики я зачем-то потребовался. Бежит, догоняет. Какой он легкий, прыгучий, похож на мальчишку, хоть и с бородкой. И на собраниях выступает, как мальчишка: горячится, мнет руки, говорит быстро, как будто не уверен, что его захотят выслушать до конца или понять.
А его и в самом деле не так-то просто понять, уследить за его мыслью. Он знает, кажется, все на свете, цитаты великих помнит наизусть, как все помнят таблицу умножения. Романтик. Дон-Кихот. Мушкетер. На десятерых энергии в его субтильном теле. Ребята говорят, что на стенах у него висят две шпаги и в тесной комнатке, забитой книгами, он с удовольствием показывает любому приемы фехтования. Ребята в нем души не чают. Только и слышишь: «Валентин Петрович сказал, что такого не бывает», «А вот Валентин Петрович считает...» Валентин Петрович да Валентин Петрович. Чудаковатым он кажется многим, особенно когда выступает на каком-нибудь деловом собрании с призывами возвышенными и пока еще несбыточными. А ведь это прекрасно. Мне это нравится. Его слова разогревают душу, и отступает будничное, повседневное, пусть нужное, и все-таки настолько привычное, что порой вся жизнь кажется въедливым занудством, мелким дождичком, ступеньками давным-давно знакомой лестницы.
— Валентин Петрович, здравствуйте. Как там мои ребята?
— Бородулин у вас? — Глаза внимательны, голову склонил набок. Вопрос задал вежливо и нервно, как всегда. Как будто сжалась какая-то пружина и выбрасывает слово за словом.
— У меня. А что? Натворил что-нибудь?
— Обратите на него особое внимание. Таких одаренных ребят мало, даже очень мало. Это личность. В институт его или в наш Индустриально-педагогический техникум.
— А почему это, собственно, только так, а не иначе?
— Талантливыми людьми нужно дорожить. Нужно помочь личности, не сужать ее возможности, а расширять их.
«Подвиг. Нужен человеку подвиг! — вспомнил я сразу его недавнее выступление. — Нужно вырваться из будней. Отойти от конвейера, понимаете? Конвейер — гениальное изобретение века. Но личность — антиконвейерна. Так вот как же нам быть, чтобы одно и то же дело, исполненное тысячекратно, не убило в нас стремления совершить каждый следующий шаг, как подобает человеку: свободно, творчески, с возвышенным стремлением к подвигу?» — спрашивал он нас тогда строгим и требовательным тоном, как будто вот сейчас же должен был решиться этот вопрос.
«Есть правила, а есть исключение из правил, — говорил он с пафосом. — По правилам живут многие, и эго хорошо, это нужно, а иначе бы все распалось, стало хаосом. Соблюдение правил — тоже в каком-то смысле конвейер, повторяемость одного и того же многократно, даже одни и те же мысли, — стереотипность, конвейер. Но что же тогда движет прогрессом? — спросил он. — Да вот что: исключение из правил. Все летчики летают так, и только так, как им предписано. А вот Нестеров взял и рискнул сделать в небе невероятную загогулину, и появилась еще одна фигура высшего пилотажа. Вот в чем почерк антиконвейерного человека-творца. И это нельзя забывать. Это нужно отличать и воспитывать».
Много мыслей возникло тогда у меня, но высказаться я не решился.
— Но почему вы считаете, — спросил я у него теперь, на лестнице, — что хороший слесарь не может проявить всех возможностей своей личности? Один проявляет себя в одном, другой в другом.
— Есть пределы возможностей, — ответил мне Валентин Петрович. — Бородулину будет скучно делать одно и то же, он или сбежит с завода, или потускнеет как личность. Ему свойственно анализировать, обобщать. А вот Лобов — самый заурядный хулиган. Высокомерный к тому же. Он чуть было не схватил у меня подзатыльник! С трудом удержался.
Опять этот Лобов. Я представил, как смог бы Валентин Петрович дать подзатыльник моему Лобову. Этому угрюмому, широкоплечему богатырю, который мог бы одним пальцем опрокинуть своего тщедушного учителя. И поспорить бы он с ним мог. Лобов парень с головой — чуть ли не каждый месяц придумывает какое-нибудь новое приспособление. Это ведь тоже — высший пилотаж.
— Завтра у нас, Валентин Петрович, родительское собрание. Мы как раз будем говорить о поведении Лобова. Приходите.
— Постараюсь. Обязательно постараюсь. — И церемонно поклонился, мол, честь имею. Не у всякого так получается.
Бородулин, значит, пай-мальчик, личность, а Лобов, значит, бяка. А мне вот что-то в Лобове нравится, черт возьми. Если работает, так работает. А вот что касается личности — это нужно еще посмотреть. Может быть, за личностью — хорошенькая такая физиономия и все?
— Да, Леонид Михайлович, простите, еще секунду, — хорошо, что вспомнил. Может быть, это даже самое главное.
Валентин Петрович в два прыжка оказался снова возле меня.
— Все, конечно, не так просто. Два или три дня назад мы поговорили с Бородулиным один на один. В его голове происходит что-то такое... И радуюсь я, и боюсь. Он ведь, знаете, с виду угрюмый, молчит, а думает о многом и копает не мелко. Только юность в нем, молодость, завихрения... Это и хорошо и плохо, и как бы помочь ему...
— Вы мне хоть немножко расскажите, о чем вы говорили. Я пока не понимаю, о чем вы. «Ах ты, Бородулин, у всех ты в печенках».
— Пока в двух словах. Вот в чем суть. Ему многое не нравится. Можно сказать — все...
— Что значит «все»? И пить и есть ему не нравится?
— Представьте себе, и пить и есть. Он даже решил стать вегетарианцем.
— Это зачем?
— Хочет стать йогом.
Я понимал, что все это неспроста, но спросил в сердцах:
— Это что? Стоять на голове вверх ногами? То-то у него перевернулось все в башке.
— Не шутите. Это серьезно. Йоги тысячелетиями вырабатывали свою систему жизни — там и философия, и воспитание тела. Вы, наверное, знаете. Специальными тренировками они добиваются чудес: невредимыми могут лежать на битом стекле, закапывать себя в землю, но главное не в этом. Все подчинено у них высшему — духовной жизни, свободе духа. Нравственной чистоте.
— Так-то оно так, но, как говорится, чем журавль в небе — лучше синицу в руки, — научился бы он скачала соблюдать самые обычные принципы жизни. Ох, чувствую я, закопает себя в землю этот Бородулин.
— Поймите, ничего ненормального нет в его поиске. Он ищет себя. Это всем свойственно, особенно в молодости. Ему не нравится свой характер. Он считает, что слишком приспосабливается ко всем. Ему многое не нравится и в училище, и в том, как живут люди вообще. И я ему не нравлюсь. И вы тоже.
Ах вот в чем дело!
— Так что же он мне врал тогда?..
— Не врал он. К вам он относится очень хорошо. Только есть у него особые счеты с каждым. Он считает, что все мы на него давим, изменяем его жизнь, как хотим именно мы. А ему хочется все самому, все с нуля.
— Вот он у меня и начнет с нуля, — жестко ответил я, все более раздражаясь. Меня сердила таинственность жизни Глеба, непростота, скрытность. Тоже мне йог. Пижон, модник. К чему человеку перенимать то, что ему никак не свойственно? И то, что веками воспитывалось в Индии, разве можно механически перенести в Россию?
Жиденькая аккуратная бородка Валентина Петровича вызывающе торчала передо мной:
— Вы присмотритесь к нему. Это сложный человек. Современный. Все тут непросто.
Сам знаю, что непросто.
— Простите, Валентин Петрович. Мы еще поговорим. А сейчас мне надо наверх. Юра! Андреев! Иди-ка сюда.
— Здравствуйте, Леонид Михайлович.
— Здравствуй, как у нас там дела? Все пришли?
— Не знаю, может, и все.
— Какой же ты староста, если не знаешь? Бородулина видел?
— Да вроде бы видел. А может, и нет. Точно не помню.
— Что ж. Вразумительно. Короче говоря, сразу после общей линейки построишь всех в мастерской. Иди.
Вот кто личность. Все в нем натурально. Не заносится и не прибедняется. Есть и сила, и воля, и уверенность во всем, что делает и говорит.
А вот и лестнице конец. Но впереди еще коридоры, длинные наши коридоры, покрашенные яркой масляной краской. А вот и кабинет старшего мастера. Мастера «довести до сознания» — так его у нас называют, потому что своими нравоучениями он мог довести ученика — взрослого парня — до слез. Заплакал — значит, понял, а не заплакал — значит, не понял. У него все на контрастах. То говорит тихо-тихо и смотрит с этаким свойским прищуром, то орет, вытаращив глаза. То он свой парень, что называется, душа нараспашку, то не подступись: командир, начальник и никакого тебе панибратства. Он и одет обычно в соответствии со своим характером. Черный костюм, черная рубашка и белый галстук, «гаврилка». На резиночке. Завязывать не нужно. Как же, начальник и без галстука — не положено. При таком галстуке легче сказать: «Вы, Леонид Михайлович, не подведите училище. Заказ особой важности. На экспорт! Плохая работа — позор!»
Побыстрее бы пройти мимо его кабинета с такой сердито-солидной дверью. То ли дело наша дверь в комнату мастеров: толкнешь плечом — распахнется, завибрирует. И сразу все три солнечных окна перед тобой. И в лучах солнца, как в дымке, стулья, столики, пепельницы, вешалка, сваренная наспех из тонких труб. И сидят в расслабленных позах бледнолицые, недоспавшие, усталые трудяги педагогического фронта, мои братья и сестры.
— Привет, Майка! Ты опять что-то шьешь?
— Приходится. Трифонову карман оторвали.
В комнате мастеров уже накурено. Майка терпит. Она, кажется, умеет вытерпеть все, и понять все, и сказать все, когда надо, — не побоится ни колкой правды, ни гнева начальства, ни упреков друзей. Майка, Майя Васильевна, Маечка. Никто не может ей сказать: а ты сама-то... Нет у нее ничего такого, в чем можно было бы ее упрекнуть. Я не знаю по крайней мере. Только ей, а не родителям и даже не друзьям открывают парни все свои тайны, только ей они могут принести вот так рваный пиджак: «Майя Васильевна, карман оторвался, пришейте, пожалуйста». «Я бы тебе пришил по шее», — говорит кто-то из мастеров, а Майка вот сидит с иглой (она у нее всегда под рукой), делает стежок за стежком ловко, быстро, умело, — ни металл, ни ручки станка не смогли огрубить ее руки. Майка шьет с наперстком, быстро, почти не глядя, и разговаривает со мной.
— Чучело ты чучело, разве так можно обманывать?
— Не обманывал, Майка, честное слово.
— Ну вот, а тебя ждали. Часа полтора, не меньше. Заболел? Ты и вправду, может, заболел? Желтый, измученный, что с тобой?
— Так, ерунда. Плохо спал.
— Всем обманщикам плохо спится.
Майка смотрит внимательно, в самые глаза, и еще куда-то туда, внутрь, где болит. А глаза мои, чувствую, мутные, тяжелые. Я растерян и обозлен чуть-чуть. И руки вздрагивают. Я вспомнил: ребята из Майкиной группы попросили меня поднатаскать их на «разводке», — вот-вот экзамен в ГАИ.
— А ты знаешь, — вдруг негромко и таинственно спрашивает Майка, — что твой Бородулин поссорился с Таней? На вечере я видела, как она плакала.
Опять Бородулин! Как будто иду я по заколдованному кругу. «А ты знаешь Бородулина? А ты видел Бородулина? Сбереги Бородулина! Твой Бородулин — личность. А ты знаешь, что он поссорился с Таней?» А то, что он ударил меня камнем по башке, вы знаете?
Но спросил я о другом. Известие о Татьяне и Глебе и в самом деле было удивительным, ошеломляющим. Невероятно, такого просто не должно быть, чтобы Глеб и Таня поссорились.
— Неужели? — только и смог я спросить Майку.
— Вот и неужели, — грустно ответила она, оставив свое шитье. По ее голосу, по взгляду и повороту головы я догадался, что она хотела бы сказать: «Эх вы, мужчины...»
Все острее, нетерпеливее вырастало во мне желание увидеть наконец Глеба, услышать, понять: что же случилось не только недавней ночью, а вообще, что же случилось с ним?
— Майка, прошу тебя, приди завтра ко мне на собрание, — сказал я и, не дожидаясь ответа, вышел из комнаты.
«Леонид Михайлович, а вы верите в любовь с первого взгляда?» Об этом он спросил меня вот здесь, вот в этом коридорчике. А я ему сказал... Нет, не помню, что же я сказал ему. Только помню, что он тогда подошел ко мне как бы по самому скучному делу, и трудно было предположить, о чем он собирался спросить меня.
Кто-то прервал нас, и мы разошлись, а я потом не вспомнил, не вернулся к этому разговору, а ведь это, может быть, тогда было очень важно для него.
Ну да, у Лобова тоже было что-то в том же роде. Вспомни-ка: был парень как парень, драчливый, вредный, старательный в мастерской и скучающий на уроках, — одни неприятности от него. Но это бы полбеды — Лобов как Лобов. И вдруг что-то пренебрежительно-мрачное появилось в его лице, какая-то гримаса скуки и отвращения. Как будто Лобов узнал про целый мир такое, что превращает отношения людей и всю жизнь в глупую, никчемную затею, в фальшивую игру. С парнями он стал разговаривать свысока, с девчонками пренебрежительно, а Ирину — нашу тихую библиотекаршу и преподавательницу английского языка, эту очаровательную девушку — чем-то довел до слез. Что-то такое сказал ей, что она выбежала из класса, распахнула дверь в комнату мастеров и расплакалась как девчонка:
— Я больше не могу! Не могу!
— Что он сделал? Что сказал?
В ответ только слезы.
И откуда у меня тогда взялась сила, — ворвался в класс, схватил Лобова за воротник, вытащил его в коридор, прижал в угол и заорал на него страшным голосом, уже не как мастер, а как обыкновенный мужик в драке:
— Что же ты сделал, скотина? — и тряхнул хорошенько.
А когда прошла первая ярость, увидел, что стоит передо мной здоровенный, круглощекий мальчишка, самый обыкновенный пацан, детеныш, а на него вдруг обрушилось такое, с чем он не в силах справиться: не справиться ему ни с самим собой, ни с моей яростью, ни с тем, что было и еще будет в его жизни.
— Что же ты наделал, дурак? — уже не злобно, а горько спросил я, сам не зная, как мне теперь быть с Лобовым и что за разрушающая энергия вселилась в него.
Все сегодня, и даже этот случай, возвращало меня к мысли о Глебе. Все-таки очень странно, что ты, Глеб, поссорился с Таней, непонятно мне это. Так же непонятно и загадочно, как и то, что ты ударил меня.
Глава пятая
Куда ты идешь, Ленька? Здесь кладовка и старый хлам. Здесь ты, бывало, прятался, опоздав на линейку, когда еще сам был ремесленником. И снова ты прячешься. От кого? От своих учеников. Не хочешь, чтобы видели твое зеленое и растерянное, должно быть, лицо. Ладно, не торопись на общую линейку, а вот уж в мастерскую тебе войти придется вовремя.
И сразу вспомнилось, как я входил в мастерскую впервые, в самый первый день. Уже не ремесленником, а мастером. Сколько раз я прежде дергал никелированную ручку знакомой двери, дергал и хоть бы что, а тут — как будто подключили электрический ток или как будто я укротитель тигров и вот впервые мне нужно войти в клетку. Уж я-то знал, что такое двадцать семь парней в возрасте от четырнадцати до восемнадцати, сплоченные ленью, круговой порукой, обидчивой памятью, готовностью в любой момент подкусить. Двадцать семь разных и единых.
Сегодня снова, как в первый день, никелированная ручка двери под током. Иди и дерни ее, пока никого нет. «Пощады не будет...» — вспомнились мне вдруг слова Скрип-скрипа.
Я не решился. Повело, понесло меня по училищу, из двери в дверь, от мастерской к мастерской. Станки таращились на меня и как бы спрашивали: «Что надо? Что ты маешься? Мы ждем!» Фрезерные, токарные, сверлильные, строгальные, старые и совсем новенькие, только что купленные или подаренные заводом, который вот он, рядом, за мощными кирпичными стенами. Мы приросли друг к другу, срослись — родитель и ребенок.
Кто же вы и что же вы такое, мои ученики? Что сидит и разрастается там, в ваших головах, какие тайны и загадки? А руки ваши? На что они способны?.. А сердца? Двадцать семь гавриков, попробуй-ка тут разобраться. А надо. Остынь, Леонид Михайлович, хватит тебе бродить по училищу, возвращайся-ка ты в свою «клетку». Дерни эту самую страшную никелированную ручку. Иди.
Во дворе на скамеечке под старым тополем увидел нашего физрука, Акопа. Широкоплечий, в спортивной форме, на коленях баскетбольный мяч — два щита перед ним, справа и слева. Что-то невесел Акоп.
— Ты что не бегаешь, не прыгаешь, Акоп? Размялся бы.
— Я уже допрыгался, Леонид.
— А что такое?
— A-а, не спрашивай, — Акоп внезапно вскочил, подпрыгнул раза два и с ходу бросил мяч в кольцо.
Шарик подергался над дугой, и некуда было ему деться от точного броска — упал на землю через сетку.
— Значит, все будет очко в очко, — сказал Акоп, улыбаясь. Его прыжок и бросок были великолепными. Я и сам сейчас не прочь бы побегать да покидать мяч в нашем уютном зеленом дворике, — отошла бы вся хворь и маета.
Окна моей мастерской как раз выходят сюда, на спортивную площадку училища, — все уроки физкультуры на наших глазах. Сколько раз я наблюдал за ходом игры! С завистью смотрели и мои парни. Баскетбол — их страсть. У меня неожиданно подобрались хорошие игроки, я понял это в первый же раз, когда они разделились и начали игру. Кажется, впервые увидел я, до чего же красивы легкие юношеские тела и, вообще, до чего же удивительно устроен человек, как быстро и ловко двигается: пробежки, остановки, прыжки, внезапные повороты, наклоны. Как складно, понятливо работает все тело! Мальчишки неутомимы, не то что за верстаками, где нужно монотонно шаркать и шаркать напильником. В мастерской или в цехе мышцы устают скорее не от работы, а от недостатка нагрузок.
Баскетбол! Никакая другая игра так не радует меня, не восхищает, как эта. В хоккее, по-моему, много грубости, в футболе — тяжелой работы, волейбол недостаточно подвижен, а мой любимый баскет и труден, и стремителен, и грациозен. Снайперам, умельцам в этой игре я прощаю многое. Лобову прощаю его дурацкие шуточки, его грубость, которая, мне кажется, должна пройти, обломаться с возрастом. Бородулину прощаю его вспыльчивость, его непонятную порой подозрительность, внезапный враждебный взгляд исподлобья. Но Бородулин мне не враг, во всяком случае, не был им. И еще он знает, что я ему многое прощаю не только за хорошую игру в баскетбол. И другим тоже... Эх, мяч бы в руки, и пошла бы игра.
— Акоп, дай-ка и мне попробовать...
— Попробуй, дорогой. Лови.
Мяч как будто прилип к моим пальцам, и сразу же, с ходу, сама собой включилась во мне уже знакомая двигательная система, азарт подхлестнул меня, я пробежался и прыгнул под самым щитом, уверенный, что мяч в сетке, но промахнулся, хоть это и был мой «коронный» бросок.
— При таком броске мазать нехорошо, — сказал Акоп. — Толчок должен быть вот отсюда. Смотри!
— Хорошо, Акоп, я попробую.
Значит, так: побежал, прыгаю, хоп!
— Опять не положил. Ты, Леонид, торопишься. Сделал пробежку, нехорошо. Вот смотри, как надо. Раз-два-три. Ха! Мяч в сетке.
— Тебе хорошо: «Раз-два-три. Ха!» Ты налегке, и ты мастер спорта.
— А ты тоже мастер, Леонид. Ты должен быть мастером на все руки.
— Елки-палки! Совсем забыл. Меня ребята ждут. Линейка кончилась. Слышишь, топают?
— Это ко мне. Первый урок — баскетбол. Приводи своих, сразимся.
— У меня сегодня сражение потруднее. Мой Глеб Бородулин у тебя на занятиях вчера был? На вождении?
— Черненький такой? Нет, не был. Этот толстый твой, Лобов, явился. А Бородулина не было, точно помню.
— Ладно, Акоп. Я пошел. Твои вон уже в дверях.
А мои двери еще впереди. По коридору налево и еще раз налево. Дернул ручку.
Какая тишина!
Так тихо бывает только в лесу, среди притаившихся деревьев. Звучит лишь сам воздух, пронизанный солнечными лучами, и кажется, вот-вот услышишь голоса птиц, они примутся петь внезапно на все лады и во все горло, с трудом переждав вынужденную паузу. Как будто еще длится эта пауза, а вот сейчас кто-то взмахнет палочкой и...
Только ты здесь хозяин, твоя рука и взмахнет, и услышишь ты шарканье, и скрежет, и сопение, и возгласы, и кто-то кого-то толкнет, кто-то кому-то что-то скажет, кто-то замахнется в сердцах, и тут уж, мастер, не зевай.
Первым врывается в мастерскую Лобов. Что это он сегодня так торопится на работу? «Здравствуйте». — «Здравствуйте». Вторым — Андреев: «Строиться надо, Леонид Михайлович?» — «Подожди, посмотрим». Кажется, Андреев ничего не знает о вчерашнем, взгляд спокойный, открытый, как всегда. «Здравствуйте, Леонид Михайлович». — «Здрасте». — «Здрасте». Это уже не поодиночке, а, сомкнуто и толкаясь, идут все, я смотрю на их лица, здороваюсь, успеваю встретиться глазами с каждым, — я уже привык догадываться о многом после одного лишь краткого касания взглядом: хитри не хитри, скрывай не скрывай, ни одному не спрятать истинного себя, они еще все настолько молоды, что все нараспашку. И я не замечаю особых взглядов, не слышу затаенных голосов. Значит, Бородулин еще не успел или не решился... Его еще нет.
Все собрались перед моим столом. Вот они, знакомые глаза, уши, носы, рты, плечи, руки, — вот они все тут передо мной. Что-то необычайное есть в их молчании, ждут чего-то.
— Здравствуйте, ребята. За верстаки, за работу. Нечего ждать и глазеть. И ты, Лобов, и ты, Андреев. Сегодня инструктаж проводить не будем. Работу пора заканчивать. Идите, идите, а я посмотрю, как у вас получается. Напильники к бою — и начали, поехали.
Я нарочно ни о чем не спрашиваю, ни с кем не хочу разговаривать, я не останавливаю даже возню, конечно, это Лобов подставил кому-то ножку, теперь разбираются. Я иду к своему столу и с высоты помоста приказываю:
— Начинайте работу. Сегодня буду принимать. Ну, чего, чего загудели? Времени у вас было достаточно. За дело, и никаких разговоров.
Солнечные лучи бьют мне в глаза, я отгораживаюсь от них ладонью.
— Леонид Михайлович, а жалко, что вы не пошли с нами в кино. — Это говорит Андреев.
— И потом в «лягушатник». Было как надо, — замечает Савельев-старший, торопливо зажимая в тиски половинку плоскогубцев.
— Недурненько, — подтверждает Лобов.
— Ладно-ладно, — говорю я. — Начинайте!
Трудно начинать день, входить в ритм, особенно в понедельник. Я знаю, не скоро еще ребята разгорячатся, почувствуют радость движений и азарт соревнования друг с другом. Вот они погалдят-погалдят, повспоминают вчерашнее, поспорят о чем-нибудь своем, и уж тогда дело пойдет само собой.
Чуют они, что я сегодня какой-то другой, необычный. Посматривают на меня. Быстро прекратились разговоры, возня и шутки.
И вот уже знакомый ровный шум, знакомые позы, знакомые жесты. Вперед-назад, вперед-назад. Назад — побыстрее да посвободнее, а вперед — поэнергичнее и помощнее. Сколько раз говорил я, что движения должны быть без спешки, но в хорошем ритме, почти как вдох и выдох. Вот старт — началась работа, руки с усилием продвигают напильники вперед, срезая металл острыми насечками. Руки пашут. Но вот пришла пора вернуться назад, снова к старту, и это нужно сделать мягким быстрым движением, за краткий миг дав отдых мышцам, чтобы вновь руки налились силой, чутьем и властью, и опять вперед — новые борозды по тугому металлу. Помните, вы должны приучить свои руки к разумным и точным движениям.
Что самое надежное? Что объединяет нас всех? Дело! Конечно же, дело. Ради него мы собираемся каждый день вместе и шаркаем здесь напильниками, выравнивая плоскости по угольнику и линейке. Все кажется элементарно простым, а в этой простоте и заключена порой вся сложность, в доводке, в притирке, в каждом маленьком «чуть-чуть». Не оно ли, это «чуть-чуть», приносит нам самую большую радость и самое большое горе?
Коля Игнатов, ты, конечно, пустился взапуски, ты хочешь обставить всех, и ты будешь впереди, я знаю, ты не пожалеешь себя и оторвешься от всех, и, увидев это, остановишься, расслабишь мышцы и волю и начнешь думать о чем-нибудь таком, что в стороне от работы, в стороне от всего, что здесь; ты приподнимешь голову, как будто вскинешь трубу, и умчишься куда-нибудь за ее голосом, а дело забудется, остынет металл, и ты с удивлением поймешь, что победа оказалась поражением, что ты позади всех. И придут к тебе скука, потом раздражение, потом отчаяние. И только я один знаю, чем тебе помочь. «Хорошие у тебя руки, Коля», — скажу я как будто невзначай, и тем убедительнее у меня это выйдет, и ты снова помчишься вскачь, как бывало когда-то со мной тоже.
Мой мастер иногда тоже хвалил мои руки. Я бывал этим горд и удивлен, смотрел на свои пальцы с черными ногтями, на четкое переплетение вен под грязной кожей, на ладошку в мозолях: чем же они хорошие? Я сжимал пальцы в кулак, потом разжимал их, и странным вдруг казался мне сам механизм движения. Я начинал поигрывать пальцами, шевелить ими то так, то этак, и получалось, что вот я играю на скрипке, а вот на фортепиано, а вот заворачиваю гайку, а вот беру щепотку соли или обхватываю стакан или ручку напильника. Ведь это, оказывается, очень здорово, когда у тебя хорошие руки. И ничуть мне бывало не стыдно ходить по городу с немытыми руками. Рабочая грязь надолго остается в порах. Ну и что? Ну и пусть! Любой поймет, в чем тут дело. Я работал, вот мои мозоли на ладонях, с гордостью думал я.
А Николай — чистюля. После работы долго стоит с мылом перед раковиной. Оттирает руки опилками, ветошью, старается вовсю. Он трет и скоблит свои нервные длинные пальцы, всматривается в них, выискивая, где же осталось еще хоть пятнышко, сплетает их и раздергивает, и массирует, и окутывает мыльной пеной; он, как пианист, дорожит своими руками, это даже слегка раздражает меня. Он и в работе аккуратен до чрезвычайности, и в игре делает броски так, что хочется сказать: «Хорошо положил, аккуратненько».
Работай, работай, Никола, не посматривай на меня. Я еще пока ни о чем тебя не спрашиваю, я хочу посмотреть на вас всех.
А вот и вы, два брата-акробата, близнецы Савельевы. Как два галчонка из одного гнезда. Просто удивительно, как сходны ваши лица: два щекастых, два курносых, два толстогубика с простодушным и чуть-чуть дурашливым выражением одинаково пуговичных глаз. Только один толстенький — его иногда зовут «пивным королем», — а другой худышка. И движения ваши различны, как будто весь темперамент, предназначенный двоим, достался лишь одному, старшему. Он мельтешит, нервически дергает напильник взад-вперед, насечка скользит по металлу, но не работает. Неужели не чуют его руки всю глупость никчемных жестов? Это, должно быть, в крови, — это, оказывается, необъяснимо. Сколько ни учи, не научишь бесталанного тому, что руки могут думать, горевать, передавать нежность, могут даже видеть, могут соединить ласку и силу, как и подобает мужским рукам. А металл многое может воспринять и многому подчиняться.
Савельева-младшего, толстячка, несмышленым не назовешь, он изобретательный, когда ему нужно что-нибудь для самого себя. А тут вон обхватил толстыми пальцами напильник таким макаром, будто собрался отжать его, как мокрую тряпку. И какая же инертность, лень, тоска в каждом движении, — мне хочется подойти, отобрать инструмент и, молча показав на дверь, негромко, но навсегда шепнуть: «Иди, дорогой, отсюда на все четыре».
Но ведь нельзя! И хуже всего, что он знает об этом «нельзя». Возись с ним до последнего дня в ПТУ. А мама с папой? Уж сколько они умоляли меня потерпеть. И терпишь. И странно, чем больше терпишь, тем труднее расстаться. Какой ни есть, да свой!
А вон беловолосый нетерпеливый Олег Севастьянов. Никак ему не сосредоточиться, не заставить глаза смотреть, куда требует дело, и оказываются руки сами по себе, а голова сама по себе, веселая, симпатичная голова, в которой еще полным-полно озорства и детства. Во всем еще он видит игру, все еще ему понарошку, ненадолго, ну никак он не может поверить, что изо дня в день он должен стоять за верстаком перед тисками и делать дело — от начала до конца, даже если не хочется, даже если устал, даже если все кипит внутри и просится на улицу, к иным движениям, в которых нет такого обязательного смысла, какой непременно живет во всяком деле.
Олег впереди во всех играх. Он распасовщик, нападающий, юркий и отважный, он все время подзаводит тот тайный механизм, ту пружинку, которая и дает игре скорость, ритм, вдохновение. Олег с мячом — это сама неуловимость, веселый кузнечик в самозабвенной игре, бегает и прыгает каждая его еще тоненькая косточка, каждая мышца. Так и кажется, что вон там он, за окном, летит к сетке, к кольцу, к победе. Ох и завидую я ему! Просто все дрожит во мне, когда он играет. Олег вполне мог бы пронести крылатый олимпийский огонь от древних Афин к любому нашему дню. Играть! Играть! На уроках обществоведения, на уроках спецтехнологии, на всех уроках, даже перед глазами самых грозных преподавателей, Олег ухитряется сыграть в «морской бой», или в подкидного дурака, или еще во что-нибудь занимательное. А кто поставил к дверям швабру так, что она грохнулась на старосту, как только он вошел в мастерскую? Олег Севастьянов. А кто потащил пацанов на крышу, чтобы посмотреть на город с высоты? Тоже Олег. А кто устроил чехарду в мастерской в тот самый день, когда явилась комиссия из городского управления? Олегу бы только играть и играть. А не хватит ли? Сколько можно? Или — сколько влезет? Не случайно же говорят, что из детских игр рождается потом что-то совсем не игрушечное. Это и есть изначальное, первый шаг. Вспомни себя. Лапта тебя научила бегать, увертываться от мяча, от удара и попадать в цель. Футбол научил выносливости, умению видеть и понимать игру других и быть с ними заодно в поиске общей победы. Баскетбол — реакции, вспышке энергии...
Что это у них там, за окном?! А за окном — бросок в кольцо. Или два очка кому-то. Нет! Свисток Акопа. Разыгрывается спорный мяч. Двое в прыжке, руки вверх, тела в струночку с прогибом. Рослые ребята.
— Работать! Работать! Хватит заглядываться. Завтра поиграем.
Неохота моим отрываться от окон, от игры. Я и сам бы сейчас не прочь бросить мяч в кольцо. Но столько еще дела впереди, нужно закончить сборку токарного станка, и не только...
А где же мои умельцы, асы, моя гордость? Вот он, Никаноров, по прозвищу Штифт. «Чуть чего — и штифтик вставим» — его любимая присказка. Работает вдумчиво, экономно, расходует силы разумно, с расчетом на долгий путь своего новенького въедливого напильника. Там, впереди, ждет не просто окончание работы — результат дела. Каждая подробность тогда имеет смысл — прочность, верно соблюденные размеры, идеальное округление, ровный блеск поверхности, элегантная отделочная фасочка.
А фасочка у моего Штифта — залюбуешься. И вообще залюбуешься, когда Никаноров работает. Работать так работать! Его даже снимала кинохроника. Был яркий свет софитов, режиссер, оператор, помощники. Советы сыпались на Штифта со всех сторон. Трудно быть естественным, когда столько народу перед тобой, и еще сколько будут смотреть потом, и еще такой яркий, мощный свет направлен тебе в лицо, — он, кажется, даже раздевает и обжигает всего тебя, — попробуй тут поработай, как всегда. А Штифтик мой как только взял напильник в руки, сразу же забыл о киносъемках, как забывался он всегда в минуты дела, и вскоре все его жесты, повороты головы, поглядывания на деталь, придирчивые и внимательные измерения, капли пота на лбу были старательно засняты медленно стрекочущим киноаппаратом. Ушастенький, большеротый мой Штифт стал киноактером.
Штифт талантлив. Конечно же, никакой он не киноактер — он слесарь.
И это правильно, что именно он занимается доделкой, доводкой до блеска макета вертикально-фрезерного станка. Штифтик никого не подпускает к работе — все сам. Мелкой шкуркой наводит блеск на корпусе станка. Чтобы все сияло, как зеркало. Чтобы можно было залюбоваться. И чтобы ни одной царапины даже в тех местах, которые не видны. И это тоже черта характера. Мне люба эта настойчивость, и нежность, и честность его рук, его души и воли. Я много видел работающих с азартом и на совесть, но такого вот непрерывного усердия, такой борьбы с металлом, желания проявить все его возможности получше, покраше, такого счастливого, безоглядного стремления, бега к совершенству — не было ни у кого, кроме Алеши Никанорова, моего маленького, русоволосого, никогда не унывающего Штифтика. Он слесарь по наследству, по призванию. Он не подведет никакое дело, и думаю, что дело его тоже не подведет.
А вот Лобова нельзя понять по его работе. Смотришь здесь, в мастерской, на Лобова, и трудно поверить, что этот собранный, внимательный, по-хорошему честолюбивый парень — главарь уличной компании и самый непокорный, самый дерзкий во всей моей группе, а может быть, и во всем училище. Ему ничего не стоит ляпнуть что-нибудь преподавателю, как он ляпнул что-то хамское и пошлое Ирочке. Он даже директора не постеснялся. Тот ему: «Ты почему это опаздываешь?» А он в ответ: «Так, нипочему. Вы тоже опаздываете». Не знаю, что было в подробностях, но, значит, что-то было такое, уж такое, что не выдержал директор, настаивает, чтобы завтра на родительском собрании был поставлен вопрос об исключении. За Лобовым много грехов, а вот хамство с директором — последняя капля. Ох уж эта последняя капля! Знали бы только насчет последней капельки, какая досталась мне. Чего стоит одна только объяснительная записка Лобова! Сначала я разозлился, а потом решил, что все у него получилось от глупости и наглости, и только нечаянно в разговоре понял: такой характер. Записку эту я сохранил на память. Половина ее почему-то написана черными, а половина — красными чернилами.
«Директору ПТУ Пономареву Н. И.
от ученика 18-й группы Лобова Н. Е.
Объяснительная записка
1 сентября я поступил в училище, так как хотел получить специальность слесаря-механика. Потом мы уехали в колхоз на уборку картофеля. Там я работал нормально, только в свободное от работы время у меня иногда было несерьезное поведение. На тему о моем несерьезном поведении мы с Леонидом Михайловичем говорили не один раз. Но я продолжал халатно относиться к работе. Потом, кажется в марте, мы стали работать на заводе «Вибратор», а Леонид Михайлович заболел. Я пропустил много дней. Я не находился ни в вечерней школе, ни в училище. Школу я бросил еще в феврале. Несколько дней я ездил в мастерскую по ремонту гитар. А остальные дни я ездил по Ленинграду. В начале апреля мой заводской пропуск испортила мама. Она постирала пиджак, а в пиджаке оказался мой пропуск. Примерно через неделю я сказал Леониду Михайловичу, что у меня испортился пропуск, а он мне сказал, чтобы я приехал на завод пораньше и он мне выдаст новый пропуск. Но я проспал и на завод не поехал вообще. У меня с мастером был разговор и на тему прогулов, и Леонид Михайлович сказал мне, чтобы я привел родителей. Но родителям я ничего не сказал, так как боялся. Я знал, что Леонид Михайлович видел только мою мать, а отца нет. Однажды утром на Московском вокзале я подошел к мужчине, он стоял возле стенки, и попросил его съездить со мной в училище. Он сначала не соглашался, а потом попросил у меня на пиво, и мы поехали в училище. Здесь он поговорил со старшим мастером и с Леонидом Михайловичем. Все думали, что это мой отец. Кто этот мужчина, я не знаю. Меня решили оставить работать, дали срок исправления. Но я его не отработал, я получил стипендию и уехал в город Днепродзержинск. Из Днепродзержинска я приехал скоро. На занятия я пришел и обманул Леонида Михайловича, сказав, что ухаживал за больной мамой. А потом снова не ходил на занятия и пошел к зубному врачу. Думал, что мне дадут справку. Но справки мне не дали, так как я зуб не лечил. Приехав в училище, я опять обманул мастера, сказав, что у меня снова заболела мама. Потом я пропустил еще несколько дней, так как готовился к праздничному вечеру. Больше я не пропустил ни одного дня. Я принес также записку, якобы от родителей, которую написал сам. А урока я не срывал, честное слово.
Я прошу извинения за все, и за грубость тоже, я не хотел, само вышло. Я прошу меня оставить в училище. Даю последний раз слово, что больше ничего подобного не повторится. Делая все это и обманывая преподавателей, я не задумывался о последствиях. Я просто не подумал, что все это принесет вам такие неприятности.
Лобов Н.»
Вот говорят: Бородулин — личность, антиконвейерный человек. Не напильник ему в руки, а карандаш — стихи писать. А что, может быть, он и пишет стихи. Конвейерный, антиконвейерный. Все они у меня такие, антиконвейерные! Да нет. Вон Гриша Новиков, что ему скажешь, то и будет делать — ни больше ни меньше. Скажи: снимай, Гриша, заусеницы каждый день — будет снимать их безропотно, пока не дашь новое задание. Это хорошо, что есть такие характеры. Кто бы так безропотно снимал заусеницы или сверлил одни и те же отверстия каждый день? Это ведь тоже конвейер. А разве без конвейера теперь можно? Машины, станки, хлеб — все конвейер.
Но кому нужны конвейерные мысли и чувства? Гриша вот весь на ладошке, его только по головке остается погладить, хорошенький такой, щупленький, свой, понятный, а Бородуля — личность. То так поступит, то этак. Трахнул по башке, а вот почему — никто не знает. Знает ли он сам, почему? Хорошо еще, что не очень сильно, а то я оказался бы там, где был мой Саня Сидоров, — вот уж не дай бог, не приведи судьба туда попасть.
Однажды он бухнулся на пол. Думали, просто обморок. Вызвал я «скорую». Саню увезли, и вдруг он оказался в больнице, где мучаются люди от самой трудной, непонятной болезни.
Когда я узнал, где Саня, ужас охватил меня. Купил апельсинов, взял такси и поехал.
Подвезли меня к старинному неприветливому зданию на берегу узкого канала. В проходной я сказал, что к такому-то, что я его мастер. Меня пропустили. Перешел дворик, открыл дверь, оказался в длинных сводчатых коридорах. Стены в трещинах, каменный пол, черные железные решетки на окнах, а на дверях нет ручек. Спросил номер палаты. Поднялся на третий этаж. Открыл дверь. Сразу же у входа сидит полная пожилая женщина в халате. А за нею справа в полосатых халатах стоят они... Глаза их смотрят на меня: одни — затравленно, другие — слезливо, третьи — горько и вызывающе, четвертые — блаженно. В этих глазах — беззащитность, горесть, все иллюзии и обманы — чего-чего только там не намешано.
А где же Саня?! Вон он! Большеухий. С чубчиком набок, курносый. Он тоже, как все, в полосатом халате, непомерно большом, непомерно полосатом. Как стебель одуванчика, высовывается из ворота напряженная Санина шея. Голова поворачивается туда-сюда, туда-сюда. Ему не видно из-за других, кто же пришел.
— Это я пришел, Саня. Здравствуй.
— Ой, Леонид Михайлович, здравствуйте. Это вы?
Речь медленная, невероятно медленная, а глаза невероятно большие — одни сплошные зрачки во все глазное яблоко.
— Пойдем, Саня, сядем вон за тот столик. Вот возьми апельсины.
— Спасибо, Леонид Михайлович. А я боялся, что вы не придете.
Какой у него тихий голос, какая странная заторможенность и напряжение в этом парне, как будто там, за этими непомерно расширенными зрачками, под черепом, в глубину сознания загнана в угол молодая и здоровая энергия и ясность и вот напряженная воля ждет только какого-то счастливого мгновения, чтобы рвануться и отбросить к черту мутную пелену, отпустить тормоза...
— Меня тут чем-то колют, мне больно, Леонид Михайлович. Мне было очень больно, я кричал, когда мне делали пункцию. Я так кричал и плакал, что они думали, будто я сошел с ума.
— Потерпи, Саня. Это какая-то ерунда. Все пройдет, вот увидишь. К тебе скоро придут ребята. А я поговорю с врачами. Ты не бойся, потерпи, дорогой, еще немного.
— Я терплю, Леонид Михайлович. Только бы не узнала мама. Она этого не переживет. У нее одиннадцать детей, и все здоровы. Она меня очень любит.
— Тебя все любят, Саня. И все ждут тебя.
Я не врал. Саня ни разу никого не обидел, не сказал никому худого слова, всем, чем мог, старался обрадовать. Он единственный из группы помнил дни рождения чуть ли не каждого и дарил или книгу, или цветок, или билет в театр. Его мягкость и расположенность ко всем были так удивительны и непривычны, что сначала над ним подшучивали, считали подхалимом, бесхарактерным человеком, а потом поняли, что Саня искренне добрый и щедрый человек. «Откуда только такие берутся?» — сказала о нем однажды Ирочка. Саня любил подолгу бывать в библиотеке, просматривать книги, рассказывать Ирочке о своей жизни, о прошлом, о доме. Саня уж очень домашний, ему трудно без женской ласки. Его семья далеко на Урале. Саня сюда приехал поступать в институт, не сдал экзамены, оказался у нас в училище. Отец и мать разрешили. Отец работает кузнецом, а мать — уборщицей в школе. В семье всегда была дружба. Все беды на всех, и все радости — тоже на всех. Вечерами садились за один стол. Отец — во главе. Он любил рассказывать о том, что пишут в газетах, любил вспоминать своих фронтовых друзей, любил шутить и рассуждать о человеческой жизни. Самые важные советы давал он. Мать наделяла всех лаской, готовила еду, обшивала, и обстирывала, и выхаживала, вытаскивала из болезней всех одиннадцать девчонок и мальчишек. Уж лучше бы она и в самом деле не узнала, что ее Саня здесь.
— Я долго здесь буду, Леонид Михайлович?
— Не знаю, Саня. Думаю, что недолго.
— Здесь очень плохо, Леонид Михайлович. Много народу. Есть больные на самом деле. Я их боюсь.
— Потерпи, Санечка. Я поговорю с врачом.
— Я плачу, Леонид Михайлович, когда мне очень грустно. Или читаю стихи, какие помню. Меня услышали однажды, сказали — не надо, а то еще и вправду подумают, что ты больной. Я перестал.
— А ты, Саня, читай не вслух, про себя. Стихи помогают, это верно. Я тоже читал, когда тяжело болел.
Дежурная возле дверей уже подает знаки, что пора заканчивать свидание, а Саня только теперь, кажется, разошелся, справился с оцепенением и может вспомнить многое и рассказать мне, чтобы освободиться, чтобы я унес отсюда навсегда такое, о чем за стенами больницы никто и никогда, пожалуй, не слышал и не думал, и не желал об этом подумать, разве только видел иногда в кошмарном сне.
— Санечка, до встречи. Я приду к тебе, и ребята придут, и с врачом я поговорю. Всего тебе доброго.
Трудно отвернуться от Саниных глаз, и невозможно в них долго смотреть, кажется, что и твои глаза начинают видеть то же самое, что и Санины. А они видят. О, боже мой, что они видят, а главное, что отражается в их глубине, что рождается в их внутреннем взоре, — этого никому не передать и не осмыслить. Нужно просто-напросто набраться сил и отвернуться. И уйти. И медленно спуститься по ступеням. А вот какой-то мужчина в белом халате идет навстречу.
— Простите, не вы случайно лечите Сидорова? Я его мастер в училище.
— Здравствуйте, да, это я его лечу.
— Скажите, с ним что-то серьезное?
— Еще не знаем. Идет обследование.
Он говорит, как человек, которому нельзя охать и ахать по каждому поводу, и у него профессионально отстраненный от беды ровный голос.
— Вы разве ничего странного не замечали? — спрашивает он.
— А что вы называете странным? — в свою очередь спрашиваю я, раздраженный холодным взглядом врача и той скрытой его пристальностью, с которой он рассматривает мое лицо и мои глаза, как будто видит что-то опасное и во мне.
— Ну, какие-то особенности в поведении, в словах... — начинает объяснять доктор, но я прерываю его:
— Саня, например, никогда ни с кем не ссорился. Он вообще не умеет этого делать. В среде моих мальчишек это может показаться странным. Саня приносил цветы в мастерскую, гвоздики и тюльпаны, ставил их мне на стол и перед собой на верстак, а однажды он пришел раньше всех и в каждые тиски воткнул по ромашке. Кому-то это показалось странным, а кому-то — прекрасным. И таких случаев с ним бывало много.
Врач, я смотрю, тоже немножко раздражен, он ждал чего-то другого. Ему нужно было подтвердить какие-то свои догадки. А какие могут быть у врача догадки? Только те, которые относятся к болезни. А если Саня здоров?
Саня долго болел, но врачи помогли ему.
Личность. Что мы знаем о личности? Кто личность, а кто нет? «Личность нужно ценить», — советует преподаватель эстетики, имея в виду только Бородулина. Ах, личность ты, личность. А Саня не личность?
Теперь, после больницы, он неотступно следует за мной и смотрит на меня, ждет хотя бы просто встречи глазами. Ему обязательно теперь нужно коснуться чего-то знакомого и приветливого. Только тогда он, кажется, забывает о том, что с ним случилось, и верит, что действительно выздоровел.
— Саня, ты что-то слишком долго нарезаешь резьбу.
— Боюсь, Леонид Михайлович. Метчики слишком хрупкие, перекалили.
— Ты уже сломал их?
— Нет еще, но боюсь.
— А ты с керосинчиком. Сначала нежно, мягко, а потом решительно. Второй метчик всегда идет туговато. И не ладонью надо, а пальцами. Они все чуют. Понял?
— Понял, Леонид Михайлович. Я упустил про керосин. У меня стружкой все забило. — И улыбается.
Глава шестая
Теперь все сосредоточенно работают, можно и уйти. Я сошел с помоста, приоткрыл дверь, оглянулся: длинная мастерская в лучах солнца, и в солнечной дымке старательно трудятся мои ученики. Я знаю, что это старание еще кое у кого искусственное, напоказ, пока я не ушел, но все равно радостно видеть двадцать пять мальчишек, повторяющих движения, которым я их научил. Лишь заболевшего Никиты Славина да Бородулина не было вместе со всеми, их тиски так и стояли одиноко, с раздвинутой пастью.
В коридоре необычно тихо. Никого. Может быть, удастся встретить Глеба у входа, один на один? Ладно, не бегай за ним, как мальчишка. Куда собрался идти? К старшему мастеру? Узнать насчет технической выставки? Вот и топай, узнавай. Топай-топай, нечего караулить.
Ступенька — раз, ступенька — два, ступенька — три. Тяжеловато. Ступенька — четыре, ступенька — пять. И почему это все мои друзья живут на шестых или пятых этажах? Кроме Зои.
Ступенька — шесть, ступенька — семь, ступенька — восемь. И всего-то ничего прошло с того вечера, а что еще будет, кто знает. Поднимайся вот со ступеньки на ступеньку, пока снова не полетишь кубарем вниз. Вот здесь, в этом углу, прижал меня тогда «старичок»: «А ну, сымай ремень, шмакодявка». И это было в тот день, когда я только-только пришел учиться. И ведь пришлось бы мне отдать тогда свой новенький ремень со сверкающей пряжкой, если бы я не испугался и не запыхтел изо всех сил, ухватившись за пряжку, и если бы не подбежал вовремя мой дружок Володька. Хорошо он тогда крутанул «старикана» сверху вниз. Думали, тот голову разобьет. Нет, ничего, встал, отряхнулся и пошел. Даже не пригрозил, как обычно. Ошалел, должно быть, от ступенек, которые на этот раз сосчитал не ногами.
Куда это Майка так спешит? На себя не похожа.
— Майка, ты куда?
— А туда вот! К нему! Вот к этому! — Майка шлепнула ладонью по директорской двери. — Пойдем вместе, — приказала она. — Ты тоже понадобишься.
Майка схватила меня за рукав. Я не успел даже узнать, в чем дело, как оказался в кабинете директора.
Николай Иванович, а попросту Коля, потому что ему почти столько же лет, сколько Майке и мне, сидел в своем директорском современном и удобном кресле, курил не спеша, читал какие-то бумаги и как не ожидал нашего появления.
Майка с вызовом, с нескрываемым раздражением спрашивает ошарашенного директора:
— Вы мне скажите, вы думаете когда-нибудь?
— А в чем дело? — не понимает Николай Иванович. Его глаза за стеклами очков еще не дрогнули. Очки — надежная защита, я знаю по себе: несколько раз напяливал для солидности.
Но Майка разошлась. Я еще, как и директор, не понимаю, в чем дело, меня пока интересует новая мебель в его кабинете, она совсем еще свежая — недавно привезли из магазина, и, вместо добротной тяжеловесной обстановки прежних лет, все теперь здесь легкое, самый модерн, эффекта хоть отбавляй, а вот уюта ни капли.
Да и наш директор похож на свой кабинет: одет элегантно, одежда ему к лицу, но так и хочется помять его немножко, пожамкать, чтобы стал он чуть-чуть попроще. Лицо у Коли мужественное, волевое — супермен, так сказать! И как будто все на свете ясно этому человеку, все предопределено и в его поступках, и в словах, и в чувствах.
— А ты не знаешь, в чем дело? — горячится Майка, уже переходя на более прямой разговор. — Выгнал человека с работы и забыл? Что с тобой, Коля? Человек ты или администратор?
— Ты это о чем? — спросил он. — Об Акопе? Так на, читай, — и он протянул ей лист бумаги.
— Не нужна мне твоя бумага, оставь ее при себе, — отмахнулась Майка. — Я верю Акопу больше, чем всем этим бумажкам.
О неприятностях Акопа я уже знал. Он сам рассказал мне о конфликте, который произошел в гостинице какого-то города в Прибалтике. Его там обвинили в хулиганстве, хотя в действительности он, со свойственным ему чувством справедливости, заступился за незнакомого ему постояльца, которому нагрубили администратор и директор гостиницы. Потому мне было интересно, что за документ протягивает директор Майке.
Я взял листок из его руки. Это было письмо в наше управление от директора гостиницы. В левом углу письма, наискосок, размашистым почерком была начертана резолюция начальника управления: «Директору училища. Разобраться и принять меры».
— Мало ли какие приходят бумаги! — горячилась Майка. — Ты говорил с Акопом?
— Попробуй с ним поговори, — развел руками директор. — Я его не гнал. Он сам раскричался, бросил на стол заявление. Я у него спрашиваю: «Что ты там наделал?» А он говорит: «Надо было им всем морду набить, жалею, что не набил». Он так разошелся, что я думал — и мне смажет.
— Эх вы! Да как вам не стыдно, мужчины! — сказала Майка, обращаясь теперь не только к Николаю, но и ко мне. — Неужели вам в голову не приходит, что если уж наш Акоп хотел кому-то морду набить, так, значит, было за что. Сидите тут! Думаете!.. — резко оборвала Майка, повернулась и ушла, хлопнув дверью.
Мы с директором переглянулись. Закурили.
— Ну и характер, — сказал он. — Я ее боюсь больше всякой комиссии. У Акопа тоже темперамент, сам знаешь! Я с ним как с человеком хочу поговорить, а он мне вот это заявление в нос.
В заявлении Акопа было написано: «В связи с тем, что я не согласен с мнением о моем моральном облике, прошу уволить меня по собственному желанию».
— Ну вот, что бы ты стал делать на моем месте? — спросил директор. Не тот уже был Николай, который пять минут назад выглядел спокойным, волевым и всезнающим суперменом. Глаза и руки выдавали его. Как я не знал, что мне делать с Бородулиным, так и он не мог разобраться, как поступить с Акопом. Николаю и вправду нужен был мой совет. И я, кажется, впервые подумал о директоре не отстраненно — он, мол, где-то там, наверху, приказывает, распоряжается, делает разносы, и все это, так сказать, с высоты и свысока, — а вот оказывается, на самом-то деле все его приказы и разносы требуют тех же самых нервов, таких же, может быть, бессонных ночей, что и у меня.
— Слушай, Коля, — сказал я ему, — пошли ты все это подальше. Ты что, в гостиницах не бывал? Или Акопа не знаешь?
— Как не знать, — улыбнулся Николай.
— Тем более. Возьми-ка ты его заявление и ту писулю из гостиницы, рвани на четыре части и в корзину. Пройдет два дня, дело и поостынет, я уговорю Акопа, он принесет объяснительную записку, вот и все пироги. Ты согласен со мной?
— Пожалуй, что и так, — сказал Николай и тут же порвал оба листка — и письмо из гостиницы, и заявление Акопа.
— Пока. Завтра у меня собрание, может, придешь? — спросил я.
— Прости, Леонид, не уверен. Завтра у меня дел выше крыши.
— Ну и ладно, пока.
— А Майка правильно нам врезала, — сказал он, когда я уже выходил из директорского кабинета.
Возвращаясь в мастерскую, я спросил себя: а я бы мог быть директором? Приказывать, решать, распоряжаться всем училищем? И тут же посмеялся над собой: конечно, гигант мысли, тоже супермен, так сказать, в век технической революции. Ох уж эта техническая революция. Если бы не Майкино сердце да не ее смелость, никто и ничто не помогло бы Акопу. Как мне никто не сможет сейчас помочь, кроме меня самого.
Когда я вернулся в мастерскую, Бородулина там еще не было. Его тиски по-прежнему были раскрыты. А парни уже работали вовсю, — кажется, никто даже не посмотрел на меня, все увлечены делом. Раскраснелись лица, покачиваются чубчики, — люблю я это напряжение, эту радость мышц, этот энергичный деловой шум и азарт мальчишек.
А чем это увлечен Лобов? Не видит и не слышит ничего. Даже язык высунул. Хочет реабилитироваться перед завтрашним собранием?.. Что за ерунда такая зажата в его тиски? Не может быть, чтобы он так увлекся плоскогубцами! Ну, так и есть! Это же финка! Самый настоящий финский нож! Финяга!
Я рванулся к Лобову, но что-то остановило меня. Я даже нарочно вернулся к своему столу. Шел и думал: как поступить? Проще всего, конечно, подойти и отобрать, как я отбираю, бывает, игральные карты. Колоду отберешь, а сам знаешь, видишь по глазам, что бесполезно. Отобрал одну, купят другую. Отобрать — это вовсе не значит переубедить. Для чего он делает финочку? Неужели для драки? Лобов все может. И все наши ребята наверняка знают, что он делает финочку. Может быть, еще кто-нибудь занят таким же делом? Эта зараза заманчива. Помню по себе. Вот именно — по себе.
Как только поступили мы в ремесленное, как стали к верстакам, взяли напильники, сразу же я принялся за свое тайное производство. Старался изо всех сил, скрывал, прятался от мастера и даже от друзей, таким страшным и преступным казалось мне мое дело. Для чего нужен был мне нож, почему я с него начал свою слесарную учебу, даже и не знаю. Извечный ли мужской интерес к войне, к оружию, к забиячеству, или просто острота ощущений?
В общем, не помню, с чего все началось. Но помню, чем кончилось. Мастер как-то сказал: «Я удивлюсь, если окажется, что никто из вас не сделал за эти две недели хотя бы по одному финскому ножу. Сам начинал с финочки. А теперь всю вашу подпольную продукцию прошу ко мне на стол, буду ставить оценки».
Случилось чудо. Пятнадцать кривых, косых, длинных и коротких финяг, «перышек», ножей были выложены на стол мастера. Он долго рассматривал каждый, оценивал форму, отделку. Одних ругал, других хвалил и всем пожелал работать всегда так же усердно, изобретательно, как в часы изготовления наших «месарей».
Как же теперь должен поступить я, став мастером? Я недолго раздумываю. Не пропусти время! Иди и смотри Лобову в глаза — по лицу увидишь, что тебе делать. Иди. Ну быстрей же. Вот так. Он еще в запале, ему еще не до тебя. Иди.
Громко шепчут парни: «Лоб, кончай! Мастер! Мастак идет!»
Прядь волос упала, закрывает ему глаза, руки с наслаждением шлифуют длинный «месарь». Так можно увлечься только сосанием конфеток, когда тебе пять лет.
— Молодец, Лобов, — говорю я. — Хорошо работаешь.
Голова вверх. Взлетели волосы. Ошалелые глаза смотрят на меня, не осознавая, что же произошло. И вот рука дернулась к ручке тисков. Освободить, спрятать, побыстрее с глаз долой — вот смысл жеста. Но уже поздно. Я отодвигаю потного, раскрасневшегося Лобова, он не противится мне, он теперь наконец понял, чем грозит ему ротозейство, не нож, нет, а вот именно то, что вовремя не доглядел меня, вот в чем видится ему главная его беда. Теперь он полностью в моей власти. Захочу — выгоню из училища, да еще с каким треском, с какой справкой! А не захочу, тогда... Лобов еще не знает, что будет тогда. И я этого не знаю, как не знаю сейчас, что же мне делать. Я как испорченный граммофон: что-то шипит, гудит во мне. «Я должен наказать его при всех. Люто, крайне. Он делал оружие, которое может кого-нибудь убить. Ерунда! Ведь я же сам делал финку. Я знал, что никого не убью. А он? Посмотрите, как он растерян».
Все эти соображения промелькнули мгновенно. Одновременно руки мои взяли напильник из рук Лобова, потом отжали финку из тисков. Брякнулись на пол мягкие губки, кусочки алюминия. Лобов моментально поднял их, подал мне, я похвалил его за аккуратность в работе и стал рассматривать нож так же внимательно, как это делал много лет назад мой мастер. Вся группа столпилась вокруг меня. Кто-то сопел у самого уха.
— Слушай, Лобов, а не проще ли вмазать кулаком, если что? У тебя ведь лапы — будь здоров.
Усмехнулся, доволен. Чует, что опасность прошла. Защищается:
— Я просто так сделал.
— Хочется верить, что просто так. А ведь на такой «месарь» напорешься — конец.
— Я просто посмотреть, как получится, — тянет свою песенку Лобов.
А я будто не слышу его, говорю сдержанно:
— Чем только не убивают человека: стрелами, копьями, саблями, пулями, бомбами, микробами, ядом и вот этой штучкой тоже. Р-р-раз — и по рукоятку.
Я смотрел на Лобова, на ребят, окруживших меня со всех сторон, и не знал, что сказать им еще. Не хотелось занудствовать, быть «педагогом». Что толку в длинной лекции, когда у тебя в руках финка. Я разглядывал ее. Так себе финочка. Сработана без вкуса и чутья.
— А вообще-то, Лобов, стыдно тебе должно быть за такую халтуру. Разве это финка? Ты загнул ей нос, как будто выставил фигу. Тупорылая. А фасочка? Разве такой должна быть тут фаска? Или канавка? Ну скажите мне, слесари, на такой финочке вы поставили бы свое клеймо? Подарили бы ее какому-нибудь разведчику? Что ты говоришь, Андреев? Лажа? Вот и я так считаю. Если уж человек взялся за дело, выложись полностью. А это что за нож — толстобокий, канавки кривые.
— Еще только прикидка, — смущенно сказал Лобов.
— Хорошенькая прикидка. Уже ручку приготовился делать. Ты даже отшлифовать лезвие как следует не сумел: полосы во все стороны, и царапины, задиры. Вот как надо, смотри. Ну-ка, подвиньтесь немножко все. Сейчас мы ее зажмем аккуратненько. Обязательно в губки, совершенно верно, Савельев, чтобы не помять, а теперь высунем над тисками самую малость, чтобы не скрипело и не дрожало. А теперь сделаем ей носик поэлегантнее и погрознее. Лобов, каким посоветуешь напильником? Круглым? Можно и круглым, а я бы взял квадратный, как ни странно. Если умело им орудовать, он поточнее сделает нужный скос, это от круглого у тебя такая курносость. Видишь, все идет как по маслу. Тут надо не спешить, аккуратненько, а в этом месте и давануть не жалко. Сначала нужно придать форму, а уж потом шлифануть.
Со всех сторон окружали меня ученики. Я только мельком видел их внимательные глаза и лица. Знал, что сейчас нравлюсь мальчишкам. Я как будто сдавал экзамен. Я знал, что делаю напоказ, что отберу потом финочку и спрячу подальше, или, может, сломаю ее при всех. Не дай бог, узнает кто-нибудь из начальства о моем педагогическом запале. Но уж если честно признаться, мне по-настоящему захотелось показать ребятам класс работы слесаря, вспомнился прежний опыт и азарт. Все стояли, смотрели, а я работал так, что вскоре прошиб меня пот.
Вдруг хлопнула дверь. Я вздрогнул, испугался, как мальчишка. Ударил по ручке тисков, выхватил нож и попытался спрятать его за спину. Ребята рассмеялись.
— Да это же Бородуля пришел, — благодушно сказал Андреев.
Это и в самом деле пришел Глеб. Открыл дверь и остановился на виду у всех. Высокий, стройный, будто молодой олень сделал первый свой настороженный шаг на лесную поляну. Входи же, входи! Или ты не ожидал увидеть меня здесь, или тебя удивила необычная тишина в мастерской, или не решаешься шагнуть ко мне первым?
В руках и ногах, во всем теле я почувствовал легкую дрожь и знал, что не в силах с ней справиться. И все же я спросил довольно спокойно:
— В чем дело? Почему опоздал?
— Извините. Так вышло.
— И это все? Больше никаких объяснений?
Пожал плечами. Смотрит. Не лицо, а какая-то маска. Не разглядеть и полуприщуренных от солнца глаз. Стоит у дверей, не подходит. Так стоят все опоздавшие, так и сам я стоял когда-то.
— Ладно, проходи, — говорю я. — Потом разберемся.
И он пошел. Идет мне навстречу. Смотрит и, кажется, не видит меня, не желает видеть. Шагает легкой, неслышной походкой через мастерскую, мимо верстаков. Покачиваются тонкие руки, острые плечи и аккуратная красивая голова на вытянутой, еще юношеской шее. Не стоит больше смотреть на него, пусть потолкается вместе со всеми, посмотрит, как работают, а там видно будет.
Я снова стал разглядывать финку, нарочно поднял ее высоко вверх, чтобы видели все. И в это мгновение опять открылась дверь и вошел старший мастер.
Рука моя не дернулась вниз, она сама собой застыла в воздухе, показывая самодельный «месарь». И если бы сейчас вошел не старший мастер, а целая комиссия, я бы все равно не смог опустить руку: не захотел бы второй раз оказаться трусом перед учениками.
— Явился опоздавший? — громко и властно спросил старший мастер и, не дожидаясь ответа, пояснил: — Околачивается тут, понимаешь ли, без дела, ходит рядом с училищем, а чего, спрашивается, ходит, сам не знает. Все давно на своих рабочих местах, а он, видите ли, на солнышке греется. Где он?
— Вот он, перед вами.
— Этот самый. Бородулин твоя фамилия? Так вот знай, что со мной шутки плохи. Попадешься еще раз, накажу как следует. Как это можно, понимаете ли? Это же самое настоящее воровство. Воруете время у государства. Леонид Михайлович, вы присмотрите за ним.
— Хорошо, присмотрю.
— А что это у вас такое в руках? Никак финка?
— Совершенно верно. Финский нож. Показываю, как нужно его делать.
Ого, как вытаращил глаза.
— Показываете, как нужно делать финский нож?! Это же черт знает, это же вы способствуете бандитизму, это же ни в какие рамки... Да вы что?
Ну, лопнет мастак. Таким багровым и надутым я еще его не видел. Хоть бы капелька у него юмора, хоть бы самая малость интуиции. А может быть, ты слишком далеко зашел, Леонид Михайлович? Из этого такой костерчик разгорится, только держись. Может быть, как-нибудь вывернуться, пока он еще не поднял шум на все училище? Ребята не продадут. Уж они-то знают, что к чему.
— Этот финский нож был найден в походе, где шли тяжелые бои, — не моргнув глазом, говорю я. — Мы решили почистить эту боевую реликвию и подарить местному музею боевой славы.
— Фу, до чего же вы меня напугали, честное слово. Я уж подумал, у вас тут целая бандитская шайка развелась с мастером во главе. А вы вон что. Это вы молодцы. Это я уважаю. Никто, так сказать, не забыт, ничто не забыто. Молодцы. Дайте-ка посмотреть на реликвию.
— Тут ручка сгнила и вообще пришлось кое-что переделать, — сказал я, подавая нож.
Мальчишки смотрели во все глаза. Сдержанное лукавство, великолепное, восторженное притворство было на всех моськах.
Старший мастер взял нож двумя пальцами, повертел его и так и сяк, умильно покачал головой:
— Надо же, сколько пролежал в земле. А ведь кому-то помог бороться с врагами! По-моему, сталь — сорок, — заключил мастер свой осмотр и возвратил мне теперь уже, можно считать, музейный экспонат. — Кто нашел?
— Вот он нашел, Лобов, — сказал я.
— Где? — поинтересовался старший мастер.
Лобов и секунды не промедлил:
— В районе Морозовских озер.
— A-а, ну как же. Знаю, знаю, — закивал старший мастер, и все поняли, что он никогда не бывал в тех местах. — Вот видишь. Тут ведь ты проявил сознательность, — вдруг заговорил он уже совсем о другом. Он вспомнил, что Лобов — это и есть тот самый Лобов, о котором завтра будут говорить на собрании. — А вот если бы ты подумал, сколько крови пролито ради того, чтобы ты хорошо учился, чтобы жил нормально, ты бы постыдился своего поведения. Неужели ты не понимаешь, Лобов, добрых слов? Уж сколько с тобой нянчатся, и все без толку. А ведь в твоем возрасте многие Родину уже защищали. Вот, может быть, и тот, кто этот нож держал.
«Эх, напрасно он сейчас говорит об этом», — с досадой подумал я. Неловко было сейчас слышать эти, в общем-то правильные, привычные, весьма педагогичные слова. Нужно переменить поскорее тему разговора, отвлечь старшего мастера.
— Скажите, а насчет технической выставки как у нас? Стенд готов? — спросил я.
Переход был довольно крутым.
— Выставка? Какая выставка? A-а, выставка технического творчества? Все в порядке. Стенд уже почти готов, принесите ваши изделия. Плоскогубцы делаете или тиски?
— Тиски, молоток, плоскогубцы — все принесем, — я радуюсь, что увел начальство от опасной темы.
— А фрезерный станок? — напомнил разобиженный моей забывчивостью Штифтик.
— А спутник? — напомнил Саня Сидоров. Про спутник я не стал вспоминать нарочно, и про станок тоже не забыл, я ждал, когда старший мастер сам вспомнит о нем — это была его идея заказать нам для всесоюзной выставки действующую модель вертикально-фрезерного станка. Именно мы, обычная учебная группа, а не кружок технического творчества, должны были выполнить эту работу.
— Да-да. Как он, кстати, поживает? — обрадовался старший мастер.
— Принеси-ка, — говорю я Штифтику, заранее предвкушая эффект, который произведет наш маленький и всеми любимый детеныш. Работы было много. Корпус было решено делать латунным (чтобы он сиял, как начищенный самовар), но мороки с этим плотным, вязким металлом хватало всем.
В разное время этим занималась почти вся группа. Охотно, можно даже сказать — с наслаждением. Кроме Бородулина. Он обиделся на меня. Сначала ему показалось, что он один справится со всей работой. Я поостудил его пыл и сказал, что есть все-таки пределы разумного и возможного для каждого человека, и это надо понимать. Но Глеб понять меня не захотел, обиделся, надулся, и лишь когда я разрешил ему одному делать крошечную модель спутника Земли, — отошел.
В другое время я непременно похвастался бы этой изящной, с любовью сделанной работой — маленьким отполированным шариком, летящим над планетой. Очень отчетливо получились контуры границ Советского Союза на отшлифованной подставке. Спутник, с длинными усиками-антеннами, приподнят над землей тщательно выпиленным надфильками словом «мир».
В полном сборе модель фрезерного станка под плексигласовым колпаком, на деревянной подставке. Штифтик несет ее бережно, как ребенка. Аккуратно опускает на верстак. Старший мастер давно знает об этом станке, видел его не раз в деталях и почти собранным, но вот в окончательном виде разглядывает впервые.
— Хороша машина, — восхищенно говорит он. — За такое надо бы всех к награде. Когда завершили?
— Недавно.
— Молодцы. И лампочку не забыли, и столик с инструментами, и мотор.
— Он еще пока не подключен, — говорю я. — Но это уже дело электриков.
— Немедленно отнесите и поставьте его в наш новый выставочный шкаф. На такую вещь должны смотреть все. Это же залюбуешься! На всесоюзной выставке получите премию, убежден.
— Навряд ли, — сомневаюсь я вполголоса. — Там умельцев много. — А сам думаю, что, конечно, неплохо бы получить премию. Станок только с виду игрушечный, а делать его надо было, как настоящий, и еще сложнее: все заново, почти все вручную — работы и заботы было для всех через край. А теперь смотришь и удивляешься: сколько было дела, а станочек-то, станочек — в четыре или в пять коробков высотой, не больше.
— А вы отправьте и нас всех в Москву на выставку, — неожиданно предлагает мой комсогруппорг.
Вот молодчина! Я бы с удовольствием поехал с ребятами, как это сделала Майка.
— За такое положено, — охотно соглашается старший мастер. Но тут же быстро сворачивает разговор, поскольку мои ребята, кажется, намертво ухватились за идею комсогруппорга — вопросы со всех сторон, предложения, требования, всем хочется знать конкретно, да или нет. А вот насчет конкретности у нашего старшего мастера обычно все «по скользящему графику», как выразилась однажды Майка.
— Ладно, работайте, желаю успеха. Я поговорю с начальством обязательно, — обещает мастер. И, уже уходя, он все-таки не выдерживает и говорит Лобову: — А ты смотри, готовься к завтрашнему собранию. Я приду. Жалеть не стану. Порядок есть порядок.
А вы, Леонид Михайлович, зайдите потом ко мне на минутку.
Захлопнулась дверь, и мы с ребятами остались одни.
— Кино окончено, — сказал я. — Расходитесь по местам. А ты, Лобов, вымоешь после работы пол в мастерской. — И, не дожидаясь ответа, направился к своему столу на возвышении, прихватив финку.
Солнце уже освещало черную доску, на которой я обычно чертил мелом рабочий эскиз, очередное задание моим ученикам. За окном все еще бегали и прыгали с мячом баскетболисты.
Нехотя начали возвращаться к рабочим местам мои ученики. Ребята посматривают на меня с полуулыбками на лице, с готовностью улыбнуться во весь рот, как только я подольше погляжу на кого-нибудь. Еще бы, мы теперь в общем заговоре, так ловко провели старшего мастера. Думается, самое время теперь поговорить с Бородулиным. Нет у меня сейчас против него злобы, нет даже раздражения, я готов услышать правду, какой бы она ни была. Это хорошо, что он даже не заикнулся насчет своего спутника.
Глеб достал инструмент, начал работу. Все как обычно. Вот он в стойке, склонился над тисками, работает, и все-таки я вижу, что он весь напряжен, ждет, когда я его окликну. А вот возьму нарочно и промолчу пока. Пойду к старшему, а Глеб пусть помается.
И я ушел. Ненадолго. Вернулся в том же настроении, и ребята еще, кажется, не забыли происшедшего, но уже не смотрят на меня. Понятно, увлеклись работой. А вот большеглазый мой Саня сделает несколько движений и поднимет голову, и взгляд его расширенных глаз так и тянется ко мне, мучается чем-то. А Глеб работает сосредоточенно, и все мальчишки старательно шваркают напильниками. Неплохие у меня мальчишки, даже Лобов ничего себе парень, как я погляжу. Он нисколько не обижен, что я отобрал у него нож и заставил мыть пол в огромной мастерской. Работает охотно вместе с другими, увлеченно, не обращая внимания ни на что вокруг. Но вот я почувствовал, что и он, и Андреев, и братья Савельевы, да и все чего-то ждут от меня. Я же хорошо вижу. Они-то думают, что поглядывают на меня незаметно, поодиночке, а я-то один перед всеми. Только вот Бородулин весь в себе.
— А ну-ка, Глеб, иди сюда! — я позвал его громко, холодно, даже сердито.
Отложил напильник, идет. Все той же походочкой. Все с теми же непроницаемыми глазами, готовый ко всему. Здесь его спросить? Или в коридоре? Лучше все-таки здесь. Только негромко. И тайна соблюдена будет, и при всех, и я на своем месте.
Подошел. Встал передо мной, внешне расслабленный, а внутри напряженный. Каждый мускул лица его мне знаком. И весь он как на ладони, и все же непонятен.
— Ты ничего не хочешь мне сказать? — спрашиваю я. Что-то сдавливает мне горло, а я не хочу показать вида. — Глеб, ты что молчишь? Я тебя спрашиваю...
— О чем вы спрашиваете?
Боже мой, как твердо, отчетливо и уверенно он говорит, как холодно и теперь уже с вызовом смотрят его глаза. Да как он смеет так держаться и еще переспрашивать меня?!
— Где ты был в субботу вечером?
Я еще должен его спрашивать, деликатничать, выведывать? Глеб! Да ты ли это?!
— Был с ребятами, — отвечает Бородулин.
— Ну, а позже где ты был? Ночью?
— С ребятами болтался, — холодно настаивает он.
И тут у меня не хватает больше выдержки. Мое удивление разрастается в ненависть, я поражен наглостью, с которой может так разговаривать со мной ученик, да что там ученик — мой недавний друг. Он виноват, и еще оказывается сильнее меня, он держится так, будто это я его ударил по голове, а не он меня. Нет больше во мне педагога, нет возраста, разделяющего нас благоразумием, ничего больше нет такого, что не позволило бы мне заорать или даже ударить его.
— Иди отсюда, — процедил я сквозь зубы, как будто толкнул Глеба. Он промолчал. Сглотнул слюну, отвернулся и ушел. Отправился к себе. И все смотрели на него, они, кажется, что-то почуяли, опустили головы и принялись работать что есть силы. А потом все, должно быть как и я, вздрогнули оттого, что зазвенел звонок на перемену, и еще оттого, что уже в третий раз внезапно открылась дверь в мастерскую.
Евдокия Семеновна, тетя Дуся, любознательнейшая из женщин, просунула в дверь свое круглое лицо.
— Леонид Михайлович, простите, вас тут ждут.
— Пусть подождут, не могу, — сказал я резко.
— Да вот говорят, что прямо очень вы нужны.
— Кому это я вдруг потребовался?
— Жена вызывает. Она у входа. Дальше не идет. Звала — не идет.
— Жена? Чья жена?!
— Ваша, говорит.
Разыгрывает она меня, что ли, эта тетя Дуся? Уж очень глупая шутка — при всех, да еще в такой момент, что и не отшутишься как следует, не до шуток. Мальчишки притихли. Не смотрят, но, знаю, видят меня все.
— Отдохните, потом за работу. Андреев, проследи, — говорю я. — Скоро приду.
Шагаю к выходу и не могу понять, кто же из моих знакомых решился устроить мне розыгрыш.
Еще издали в нашем просторном холле у входных дверей вижу девушку с длинными рыжими волосами до плеч. Черный пояс перетягивает осиную талию. Зойка?! Какое напряженное у нее лицо. Тонкое, прекрасное и трагическое. Моя жена?!
— Зойка, что случилось, в чем дело? Здравствуй.
— Не сердись на меня. Это получилось неожиданно. Ваша тетка спрашивает: вы кто такая будете ему, жена? А я сразу как-то и не смогла ответить, кто же я тебе, кивнула головой, а она побежала, и уже глупо мне было кричать вдогонку, что я тебе не жена.
— Ерунда это, сказала и сказала, подумаешь...
Зойка была чем-то взволнована, руки невольно все время поправляли пояс.
— Ерунда, не стоит об этом. Ты зачем ко мне? Я тебе нужен?
— Так, ни за чем, хотела тебя увидеть. А что, нельзя?
— Почему же нельзя, можно.
Боже мой, что я говорю, как я говорю, какой у меня равнодушный и противный тон! Какое, должно быть, отчужденное и деловое лицо, если Зойка смотрит так удивленно и грустно. И еще в ее глазах лихорадка, упрек, беда. Но спрашивают они куда больше, чем говорят. О чем они? Я ничего не понимаю и даже не догадываюсь.
— Идем, Зоенька, идем отсюда на улицу, я могу минут на пять. Идем поговорим, уж сколько мы не виделись.
— Восемнадцать дней, — сказала Зойка и отвернулась, пошла к дверям, быстро, нетерпеливо, почти побежала.
Какая узкая у нее спина. Прямая, гордая и беззащитная. Так защити, что ж ты смотришь так долго вслед? Деловой человек, мастер-ломастер. И хоть в себе-то разберись чуть-чуть. Ты ведь не знал и не думал, что она считает, сколько дней ты у нее не был. Оказывается, считает, каждый день отсчитывает!
Мы шли и молчали. Долго молчали. Когда-то во время наших встреч с Зойкой меня не страшило молчание, оно было даже полнее и необходимее всего, что мы произносили вслух. А теперь? Молчание становилось немотой, хотя у меня было такое чувство, что Зойка вот-вот крикнет мне о чем-то. А она сказала, сдерживая себя:
— А ты, я смотрю, не рад. Знала бы — не пришла.
— Что ты, Зоенька! Я рад, честное слово, рад. Просто замотался ужасно. Все-таки двадцать семь пацанов, сама понимаешь...
— Все учишь, как жить? — с едва уловимой иронией спросила Зойка. С чего бы это она так?
— Да какое там учу! Самому бы разобраться. Голова кругом.
— Какое совпадение. У меня тоже, — сказала Зойка все еще так, что можно было подумать — она смеется надо мной и винит в чем-то, а вот по лицу и глазам я увидел, что дело тут не в словах, просто не знает она, с чего начать. И так вот и начала прямо с главного, стоя на перекрестке, почти на трамвайных путях, почти перед самым носом автомобиля:
— Письмо пришло. Он приезжает.
И тут я понял сразу, кто этот «он». И что это такое — «он приезжает». Ее муж, отец ее сына.
«Ни за что, ну никак я больше не могу с ним». Я хорошо помню это мучительное Зойкино признание: «Он мне совсем чужой. Я была глупой девчонкой, когда у нас родился сын. Я с ним жила как взаперти, я всегда боялась, мне казалось, что больше никогда не будет у меня ничего хорошего. Он все вечера проводил со своими дружками, я слова от него не слышала, чтобы без мата, он даже бил меня. А я терпела ради сына, ради семьи. А какая это семья? Он всегда мне был чужим. Я не могла его пожалеть, даже когда он сел в тюрьму. Уж лучше быть одной, совсем одной, чем так вот с ним, как было».
И заплакала, и прижалась ко мне, словно хотела спрятаться от всего и всех, а потом так же внезапно отвернулась, отодвинулась, осталась одна, совсем одна, чтобы и она никому, и ей никто.
Я понял все тогда, но никак не мог преодолеть странную, ужаснувшую меня самого скованность: будто я был вовсе не я, и Зойка вовсе не Зойка, а мне ведь нужно было сказать хоть слово, хотя бы коснуться ее руки, ну хоть что-нибудь сделать, пусть даже солгать. Да вот нет же, в этом-то все и дело. Была эта минута не для лжи. И не нужны нам были сейчас дебри слов. Слово должно было быть только одно, простое и безграничное — люблю. А я не в силах был его сказать. Мне вспомнилось это с такой отчетливостью, будто происходило совсем недавно.
И вот сейчас, на трамвайных путях, перед тупой мордой грузовика, услышав от Зойки негромкое: «Он приезжает», я оцепенел от той же прежней невозможности ни солгать, ни сказать правду, как и тогда.
И вот мы идем, мы уже на противоположной стороне перекрестка, я держу Зойку за локоть и страшусь, чтобы она не поняла моего состояния. А чего же, собственно говоря, я страшусь? Того, что я ее не люблю? Мы привыкли друг к другу. А любовь?.. Она осталась с Катей. Или нет? Может быть, она впереди еще, моя любовь?
— Ну что ты молчишь, Ленька? Я больше так не могу. Ты один у меня на свете. Ты и сын.
Ее голос задрожал, и она заплакала.
— Не надо, Зоенька. Не плачь. Я приду к тебе сегодня вечером. Ладно?
Работа, перерывы на отдых, снова работа, потом обед, потом опять напильники в руки — и за дело, и так шесть уроков. Ко всем я подходил, помогал, подсказывал, сердился, хвалил, растолковывал — все как обычно, а вот к Бородулину не мог сделать ни шагу.
Педагогически, наверно, было бы правильнее устроить разговор в открытую, вместе со всей группой. А мне хотелось схватить его за воротник и встряхнуть хорошенько, хоть он и обучен Мишкой приемам самбо.
Но почему-то не мог я сделать ни того ни другого, я вел себя так же, как вел себя в таких случаях Глеб, если он бывал на меня в обиде: сосредоточенно работал и все же старался быть непринужденным, но именно старался, и все замечали, что улыбаюсь, шучу я и разговариваю напряженно, натянуто, во всем есть какой-то «перебор».
Теперь Глеб сдержан. Он боится меня. А я боюсь... Чего же боюсь я? Кажется, я теряю Глеба навсегда. Невольно, хочу того или не хочу, мое сердце против него. Он ведь не просто ударил меня, — предал. И мучаюсь я теперь каким-то мальчишеским чувством обиды, досады, обманутой дружбы.
Вальс! Вальс! Какой был вальс еще в субботу! Уж лучше бы не приходил сегодня Глеб. Я не могу ни дышать с ним вместе, ни работать. Только одно, может быть, еще вернет мне Глеба. Признание. А Глеб как будто прирос к верстаку. «Он все же подойдет в конце работы, не сможет не подойти», — думал я. После звонка и общей уборки я медлил. Если он решил — подойдет. А я пока прослежу, как будет мыть пол в мастерской Лобов, и еще я схожу к старшему мастеру, поговорю с ним насчет поездки в Москву, пока не забыл он своего обещания.
Но к мастеру не пошел. Когда я попрощался с ребятами, Глеб покинул мастерскую последним. Мне показалось, что он нехотя и очень осторожно закрыл дверь. «Будет все-таки ждать», — обрадовался я.
Как только Лобов притащил швабру и ведро с водой, я ушел из училища, направился своей обычной дорогой. Я подумал, что Глеб не станет ждать меня где-нибудь тут, поблизости, он знает почти все мои любимые места и маршруты. И он постарается встретить меня или в садике с детской песочницей и домиком на курьих ножках, или в кафе, где я обычно после работы выпиваю чашку кофе с пирожком, или подойдет ко мне в парке Ленина, где-нибудь невдалеке от теннисного корта.
Кировский проспект. Кажется, не обращая внимания на гаишников с мотоциклами, как сумасшедшие мчатся машины и, совсем не страшась опасности, бегут, перебегают дорогу прохожие перед самым носом автомобилей. Что и говорить, нужны хорошие, Мишкины нервы на такой работе. Даже старикам и старушкам, едва переставляющим ноги, не терпится обогнать транспорт. Движение кажется бесконечным. «Москвичи», «Волги», «Победы», «Чайки», а вот и рейсовый автобус, грузно приседая, скособочившись, натужно тянет свою ношу, а вон мчится, плывет по асфальту, сверкая лаком, фарами, никелем и стеклами, великолепный дорожный лайнер, интуристовский автобус. Это, наверное, едут финны, им тут рядышком. Все к нам в гости, в «Северную Пальмиру», скоро какая-то делегация прибудет и в наше училище. Мы на виду, примерные.
Необычайное и все-таки возможное вдруг представилось мне: колонну автобусов, делегацию эскортирует Мишка на своем мотоцикле, и мы встречаемся, и как ни в чем не бывало приветствуем друг друга, даже, быть может, раскланиваемся церемонно: Мишка всегда любил даже из ерунды разыгрывать спектакль. Кто он? Комик? Трагик? Или обыкновенный пройдоха? Ему, кажется, может подойти любая должность, любая роль, любое обличье. Он всегда выглядел эффектно. Даже обыкновенную ремесленную форму, бывало, ухитрялся носить так, словно надел ее для киносъемки. А если бы ему цилиндр и смокинг? Или нет, бараний тулуп и валенки... тоже не то. Ему бы черный свитер, узкие брюки, лакированные штиблеты и гитару в руки, или... ему бы тюрбан и халат с блестками и парочку кобр или удава в руки, или... черт его знает, что ему впору и к лицу — да все, все, что ни представь. Форму инспектора ГАИ тоже может носить не всякий.
Я вышел к табачному магазину между Кировским проспектом и улицей Горького, посмотрел вдаль, в сторону моста. Перекресток за перекрестком, один сложнее другого, увиделись мне, я вспомнил наш разговор с Мишкой в день свадьбы, наш спор о легких и трудных перекрестках, о педагогике, о работе, о выгодных и невыгодных местах. Удивительное дело — вот снова произошла встреча, хоть я и один... У нас даже ученик оказался общим. Видно, никуда нам не уйти друг от друга, какими бы мы ни были разными, — объединяет нас целая жизнь от встречи в ремесленном училище.
И до чего же далеко то время, когда мы сидели в мастерской на верстаке, как петухи на насесте, помалкивали, покуривали с фасоном, позволив себе эту вольность в последний день, — мы ждали распределения, кому какой достанется завод, кому какая дорога на будущее. Далеким оно казалось, это будущее, и туманным. К жизни относились мы тогда все-таки очень по-школярски, самостоятельность свою чувствовали относительно, были как бы на подхвате у каждого дяди, кому к тридцати и выше. А теперь вот — сами с усами, теперь вот мы и есть реально действующие дяди, или, как говорили когда-то, мужи. И каковы же наши итоги? Какие там итоги! Я весь закопался в своем деле — изо дня в день, из недели в неделю, из года в год одно и то же... Польза? Пока помолчать надо о пользе. А вот он, Мишка? Уж не знаю, как насчет пользы, но насчет широты, размаха — у него все-таки не отнимешь. Хозяин дорог, перекрестков, авторитет для всех шоферов города. И напрасно я над ним иронизировал, молодец он, черт побери! Он страшится преснятины, его оскорбляет скука размеренной жизни. Он каждый день гоняет, мчится на своем мотоцикле, желая испытать свои возможности. Он честолюбив. И в нем так высоко развито чувство собственного достоинства, что нипочем ему мнение прохожих по поводу того, как он выглядит: в обычном он костюме или в форме инспектора ГАИ. Он может поступить как хочет, как считает нужным, он внутренне свободен, куда свободнее, по крайней мере, чем я. Держусь, говорю и думаю — все как полагается, одеваюсь лишь в то, что прилично, по общему мнению, в моем училище, любая новинка вызывает суды-пересуды, а я, педагог, этого не должен допускать, я даже стричься должен по всеобщему стандарту — а как же? — иначе я не смогу одернуть моего длинноволосого ученика. Вот и получается, что Мишка намного ближе, понятнее, интереснее молодым, чем я, обремененный всяческими стандартами наставник. Получается, что я старик даже по отношению к Мишке, а уж что говорить о Глебе Бородулине. В Глебе много всякого, а я давил, выпрямлял, высмеивал... Вот и довысмеивался.
Разве только такие, как Мишка? Да, именно такие, ироничные, смелые, раскрепощенные, спортивные, как он, часто бывают кумирами семнадцатилетних. И я вспомнил, как Мишка однажды взорвался — это было в техникуме, в дни педагогической практики, когда мы обсуждали достоинства и недостатки уроков каждого. Мишка послушал мою критику и вдруг стал меня разносить...
Вот уже и садик, и проспект, и улица Горького позади, я верчу головой во все стороны, а Глеба все нет и нет, и вряд ли я разыщу его в парке. Ожидание, досада сменились раздражением — раздражали взгляды встречных. Я стал смотреть теперь только в землю, видел дорожку, ноги, корни и стволы деревьев, еще прошлогоднюю, жухлую траву и лежалые листья, как монеты старинного клада.
А может быть, он придет ко мне домой?
Придет — не придет! Догонит — не догонит, соизволит — не соизволит! Хватит! У этой тонкой личности, по-моему, нет души. А его свобода — мальчишеский эгоизм, эгоцентризм или попросту беспардонность, наглость. И в этот момент мне казалось, что изучай не изучай хоть десятками институтов сразу эти личности, вроде Глеба, делай хоть какие тонкие или толстые умозаключения, — все «лабуда», ничто их не изменит, никто их не научит. И вспомнил, как Мишка разносил меня:
— А ты правильный, прямой, как палка. Ты, конечно, учишь всех своих по моральному кодексу: беречь честь смолоду, комсомольцы всегда впереди, не уверен — не обгоняй, чистота — залог здоровья, ум хорошо, а два лучше, и тэ-дэ и тэ-пэ. А я учу всему наоборот или, может, поперек, а может, и вдоль, или вообще как придется. Так, видишь ли, смешнее выходит. Меня тошнит от кислых умных рож. Все равно все не так, как хочется...
Я теперь вспомнил это и был поражен. Но больше не тем, что Мишка меня обругал так обидно, а тем, как он это сделал. Так сердилась Катя, когда мы стояли одни на кухне. Я даже услышал ее голос, ее интонации: «Знаю, знаю, все знаю, что можно, а чего нельзя. Если хочешь жить — умей вертеться. Жена да убоится мужа... В огороде бузина, а в Киеве дядька». Это все ее? Или его? Какое это сейчас имеет значение? Мое ли то, в чем обвинял меня Мишка? И да и нет. Я сержусь, а значит, он прав. Обидно. Я прав, а он крив, и все же в чем-то он правильнее меня. Я прям, как палка? Чист как стеклышко? Рассудителен, как Соломон? И тэ-дэ и тэ-пэ? И за это, должно быть, схватил по башке от любимца. Так что же тогда не «лабуда», если честь, совесть и правда — все становится вдруг ерундой?
Не нужно смотреть вниз. Все прояснится само собой, не сегодня, так завтра. Я поднял голову. И сразу же передо мной вознеслась золотистая игла с ангелом над Петропавловской крепостью. Неважно, что много миллионов глаз уже больше двухсот лет смотрят и смотрят на это великолепное чудо. Каждый считает его своим, и я тоже, и хоть много раз я видел его со всех сторон, при различном освещении, на фоне розовых зорь и грозовых туч, перед восходом и перед заходом солнца, и в полдень, и ночью, и во сне, — но каждый раз оно поражает меня, и я думаю: спасибо тебе, что ты есть, что отрываешь мой взгляд от земли и возносишь его туда, где птицы, солнце и небо. Так и пошел я дальше, подняв голову.
Ветви старых деревьев покачнулись надо мной, и полетели вниз зеленые капли дождя. Это листья, первые листья! На солнце, на просвет, под голубым небом они кажутся и зеленой дымкой, и паутиной, и легким пухом, пронизанным лучами солнца. А вот уже и лучи стали зелеными, и сразу же голубыми, нет — оранжевыми, они палят глаза огнем. И больно и радостно. Грудь распирает от каждого нового вздоха. Весна! Прохлада! Жизнь! Прана! Совершенство! Я согласен с тобой, Греков!
Под ногами дорожка, посыпанная песком. Стоптанные мои ботинки легко вминают песок, как вминают, втаптывают его ботинки, туфельки, сапоги прохожих. Шагают, шагают между землей и небом мои сограждане, соземляне: то в небо посмотрят, то на деревья, то под ноги, то друг на друга — видят, догадываются, понимают, ищут; и высота нужна им, и заземленность, и что-то колобродит в них вместе с весенними этими соками — и любовь, и ненависть, ясность и туман, и у каждого, наверно, был или будет свой удар по голове... В сущности, это даже кстати: убаюкала, укачала меня размеренная жизнь, а тут... и восторг, и тоска, и правда, и кривда.
Глава седьмая
Ты — надвое. И не знаешь, где ты, в чем наверняка. Кому ты врешь, а с кем по правде. Нет ничего хуже, когда надвое, натрое. Вдребезги.
Спрыгнул с трамвая и, как всегда, пошел к Зое напрямик, дворами, от сквера к скверу, мимо сараек для мусорных бачков... Шел и думал: «Он приезжает. Ее муж, законный отец ее сына».
Снова всплыло это слово — «законно». Когда-то в детдоме я часто пользовался им, оно означало что-нибудь прочное, надежное, очень хорошее. «Законно сделано», — говорили мы о самодельных ножичках. «Законный фильм», — говорили мы о понравившемся фильме. А вот сказать теперь: «законный» отец или муж — это уже что-то другое. Опять закон и сердце. В общем, он приезжает: супруг по закону, отец Веньки.
Венькин расплющенный нос, быстрые хитрющие глаза, растопыренные уши — все отцовское. И коренастый он, как отец. И упрямый, должно быть, и скрытный, и только густой рыжий чубчик, кофейный цвет зрачков, редкие остренькие зубы, пронзительный, сильный голос — в мать, и еще от нее — внезапная нежность. Подойдет и прижмется, вроде бы ни с того ни с сего. Обнимет ноги, уткнется в живот и сопит, поглядывая снизу вверх доверчиво и беззащитно. И вопросы у Веньки внезапные.
— Дядя Леня, что такое горький опыт? Это когда луку поешь?
— Это когда нос разобьешь, — ответил я, поглаживая царапину на Венькином носу. Мы сидели тогда на скамье, вот в этом сквере, где всего восемь тоненьких тополей, крошечная деревянная песочница и какие-то непонятные цепкие кусты, вроде акаций. Венька сидел на скамейке со всеми удобствами, покачивал ногами, сосал свое любимое монпансье и спрашивал меня тоном человека, которому, в общем, не так уж и охота вести беседу:
— Дядя Леня, а кто ты моей маме?
Маленький, рыженький человечек сидел рядом со мной, причмокивая от удовольствия. Все еще покачивались, как два маятника, коротенькие ножки, им было хорошо и безразлично. Так могло показаться издали сонным старушкам, сидевшим напротив. Но вот остановились ножки, Венька замер, взглянул на меня быстро, как будто невзначай, и взгляд его был взглядом взрослого и печального человека.
Кто же я такой его маме и ему самому? Он знает все. Давным-давно все знает и во всем разобрался, и теперь ему нужны мои слова лишь для подтверждения, для полной ясности. Должно быть, много раз уже спрашивали во дворе Венькины друзья и подружки: «А кто этот дядя, который приходит к твоей маме?» Что же ответить? Кто я Зое и Веньке? Я возил его в саночках. Я помню, как он болел воспалением легких, метался в жару. Я учил его в Сестрорецке плавать. А сколько раз я гулял с Венькой по городу, рассказывал о себе, о мальчишках из своей группы всякие смешные и грустные истории. Веньке все было интересно, и во всем ему хотелось сравняться со мной. Он даже привык париться со мной в бане, бесстрашно обхлопывая себя ладошками и березовым веником на средней ступеньке парилки; ему хотелось, чтобы я хлестал себя покрепче, чтобы дух в парилке был пожарче и чтобы я оказался самым выносливым из всех молодых и старых распаренных мужиков. Венька гордился мной, а я гордился им. Порой даже казалось мне, что и оттопыренные уши, и кривоватенькие ноги, и расплющенный Венькин нос — все мое. Так вот, кто же я? Венька ждет. Я прижал его к себе. Только с виду он кажется плотным, а на самом деле худенький, прощупываются ребра и острые плечи. Я не смотрю на Веньку, но знаю, какие у него глаза.
— Я друг твоей мамы, Венечка. И тебе я друг. Мы ведь друзья, правда же? Ты хочешь быть всегда моим другом?
Неожиданно я услышал тихое-тихое:
— Я хочу, чтобы ты был моим папой.
Я тогда ничего не смог ответить, а теперь решено, пусть так и будет. Пусть так и будет, как хочет Венька.
Зойка, Зоенька, я не волновался так даже в самый первый раз, когда мы шли с Мишкой к тебе. Я тогда не знал еще, что мое жадное, горячечное предчувствие встречи, можно сказать, ничто в сравнении с тем, что кипит, и жалуется, и страшится во мне теперь. И все теперь не так и не то. И двор другой. Тогда он показался мрачным, ободранным, где только кошкам хорошо, а теперь вижу: двор как двор. Даже есть в нем что-то уютное. И новая краска на стенах, не белая, не желтая, а вот именно уютная, теплая, домашняя. Цвет и свет этой краски проник даже внутрь дома, в комнаты. Помнится, как только дом начали красить снаружи, чуть ли не всем жильцам сразу захотелось отремонтировать свои жилища, подновить их, выбросить рухлядь. Зойка тоже тогда взялась за ремонт. Мы вместе с ней занимались обновлением жилья, и через двое суток комнату было не узнать, как будто приподнялся потолок, раздвинулись стены, как будто солнце заглянуло в окно. Даже странно, что много лет такая вместительная комната знала лишь один мрак и запустение. Должно быть, это было оттого, что две такие разные женщины жили вместе, у каждой была своя койка, свой мир, свои слишком спорные требования и желания. Люська теперь замужем, уехала в Мурманск, и Зойка с Венькой стали здесь полными хозяевами.
Нет, скоро хозяином здесь по закону должен стать другой человек — он возвращается в свой дом. А куда же еще ему возвращаться? Вон его сын.
— Эй, с дороги, куриные ноги!
Венька несется сломя голову на стареньком двухколесничке, который мы вместе купили. Угодил парню больше, чем всякими другими игрушками. С утра до позднего вечера Венька на верном своем коне выделывает на асфальте всякие замысловатые кренделя.
— Эй, с дороги!
Голуби шарахаются в разные стороны, кричат и ругаются девчонки, а рыжему джигиту только это и нужно. Он издали кричит мне с восторгом:
— Дядя Леня, смотри! — И ноги задираются вверх, педали крутятся сами, а Венькина мордочка сияет от счастья и гордости. И вдруг — бух-тарах-бах. Велосипед в сторону, а Венька быстро встает, потирая ногу.
— Да ты что, дурачок! Разве так можно лихачить, права отберу, — выговариваю я не сердито, а испуганно.
У Веньки на лице гримаса, но он терпит, потирая колено, и быстро-быстро, слегка даже заикаясь (это что-то новенькое у него), говорит мне:
— Ерунда, дядя Леня, не больно. Тебя мама ждет. Она тоже ананас купила.
Я тоже принес ему ананас. Их, наверное, сегодня продавали всюду.
— Тогда на-ка вот, возьми мой себе и съешь его тут с дружками. На, держи. Перочинный ножичек у тебя есть, сам и разрежешь.
Я смотрю на ананас, похожий на кактус, в детских руках он кажется огромным. Я смотрю на Венькину мордочку, уже забывшую о боли, вглядываюсь в его кофейные глаза и вспоминаю, как мы с Зойкой провожали его в детский оздоровительный лагерь. Я смотрю на малыша, как смотрел в тот раз, когда Венька прилип к стеклу автобуса, медленно тронувшегося в путь.
Венька забыл свой велосипед, пошел с ананасом через двор туда, где за углом дома был еще один дворик и маленький сквер, — там, должно быть, играли мальчишки, его сверстники. «Я хочу, чтобы ты был моим папой...» Пусть так и будет.
Я поднял велосипед и пошел к знакомым ступенькам с железными перильцами — шесть ступенек и перильца были расположены таким образом, что, поднимаясь к Зойкиной двери, я видел слева ее окно и даже мог дотянуться до стекла, постучать, как стучал когда-то Мишка. В правой руке я держал велосипед, а левая была свободна, и вот я уже было потянулся, перегибаясь через перильца, но что-то остановило меня, какое-то новое чувство. Захотелось позвонить, подождать, когда откроется дверь, или громко постучать. Не было уже ни тревоги, ни какой-то мучительной неясности, все вдруг стало простым, отчетливым, радостным: вот я иду в свой дом, несу велосипед моего сына, и вот сейчас, прежде чем открыть дверь, отдернет, распахнет новенькие тюлевые шторы моя жена. И шторы распахнулись, — Зоя ждала меня.
Нетерпеливо открывалась дверь, я опустил велосипед на пол, прислонив к стене, чтобы он не помешал мне обнять Зою. Я хотел расцеловать ее еще здесь, на площадке лестницы, до того, как мы войдем в комнату, прокравшись по старой привычке на цыпочках мимо чутких дверей соседей.
Я жду, когда Зойка отдернет дверной крючок; он тугой, его нужно выбивать двумя-тремя ударами или отдергивать с силой. Зоя всегда что-то шепчет в сердцах, а я вспоминаю, что так и не сделал крюк посвободней, и стою, переминаясь, жду.
Нужно обо всем поговорить как следует. Но к чему разговоры, я ведь уже решил. А она?
И вот она передо мной. В мягком халате, который я люблю, а на затылке тугой пучок длинных огненных волос. Зойка смотрит в глаза мне: с чем, какой я пришел, — и падает ко мне на руки.
— Идем, оставь велосипед в прихожей. Идем скорее, — шепчет она и берет меня за руку, и тянет за собой по коридору, осторожно ступая по скрипучему полу жесткими шлепанцами «ни шагу назад».
Как в тумане, мельком я вижу чистую белую скатерть на столе, цветы в вазочке, ананас и бутылку вина, и диван-кровать, и подушку на диване, и раскрытую книгу на полу.
— Зойка, Зоенька, Зоюшка, — шепчу я. — Как долго мы с тобой не виделись.
И слышу в ответ то около одного моего уха, то около другого теплое дыхание:
— Так чего же ты не приходил? Так чего же ты!..
— Прости, прости меня.
Я не могу больше справиться с собой, ничего мне больше не надо в этом мире, она рядом.
— Ну, что ты, что ты, дурачок мой, — опьяненно бормочет Зойка. — Дай хоть я закрою дверь.
А потом был потолок, знакомый до мельчайших трещинок, и Зойкин шепот. Она рассказывала о том, что случилось с ней за все восемнадцать дней, пока я не приходил. О том, что она поссорилась с начальством в автобусном парке и ушла в парикмахерскую ученицей, и как ей нравится теперь новая работа: чистая, денежная, очень нужная, и опять же, как и прежде, все время на людях, без чего Зойка никак не может обойтись. Рассказывала о новой подруге, такой шикарной и модной, что парни пялят на нее глаза, даже забегают вперед или останавливаются, когда она идет по улице. Зойка не верила в свою привлекательность, она гордилась чужими достоинствами. Потом я услышал историю ее ссоры с соседями. Как они оскорбляли Зойку, говорили, что Зойка будто бы жульничает и что это у них семейное, мол, отец воровал и мать такая же, да и сын не лучше. Наплели на Веньку черт те что. А Венька болел в те дни: в ухе стреляло. Зойка не спала по ночам и была на таком взводе, что «чуть было не разнесла все кастрюли на кухне».
— Особенно старалась меня унизить эта черненькая тварь с высшим музыкальным образованием, — обиженно сказала Зойка. — Она думает, что у нее диплом, так ей все можно, она одна человек, а мы все клопы... Эх, закончить бы мне университет да отхлестать бы ее по роже дипломом, — сказала Зойка со злостью. Ее почему-то особенно унижало неравенство в образовании. Сколько я ни убеждал ее, что дураки остаются дураками, сколько бы они ни учились, Зойка не могла этим утешиться.
Обычно ее мало успокаивали мои рассуждения о том или о сем, она жила какой-то своей внутренней жизнью, своими правилами; она верила и не верила мне, хоть и старалась иногда изо всех сил оказаться в моем мире как в своем.
Вот и сегодня Зойка слушает мои рассуждения, а сама ждет, как никогда раньше, что же скажу я ей о том, что ее больше всего сейчас волнует.
Но чувствую, что говорю хоть и я, да не совсем я, который мог бы всем сердцем, всей своей правдой, всей раскрытостью сказать то, чего ждет Зоя. Я — надвое.
Она приподняла голову, смотрит на меня тревожно, с болью и надеждой.
Еще совсем недавно, перед дверью, мне показалось, что все решилось само собой, навсегда... я мог, я хотел, спроси только, скажи мне, что... Но теперь я понимаю, что то был обман и я опять не знаю, что мне сказать. Мечусь от одного решения к другому, прислушиваюсь к себе, жду, что вот-вот какой-то тайный голос скажет...
Я спрашиваю свое сердце — оно молчит. Я смотрю на Зойку, в ее доверчивые глаза, на ее густые распущенные по плечам волосы, на ее тонкие руки и хрупкие плечи и думаю: что же мне сказать ей? Какую правду? И только руки мои оказались человечнее, умнее, сердечнее меня самого, они поглаживают шелковистое Зойкино запястье.
— Ты не представляешь, как я устала, милый.
Я молчу.
— Когда ты долго не приходишь ко мне, я совсем одинока. Я всем кажусь веселой, но мне хочется плакать.
Я молчу.
— Когда-нибудь мы уедем с тобой далеко-далеко, где никого нет. Хоть бы на месяц, правда же, милый?
Я молчу. Мне больно и трудно, и только руки мои говорят ей что-то такое, отчего она светлеет и шепчет мне:
— Ты сегодня никуда от меня не уйдешь?
— Не уйду. Никуда не уйду, — повторяю я, и нежность, очень похожая на горечь, начинает заполнять меня, переполнять. Еще никто меня так не любил, думаю я. Никогда и никто в целом мире. И никому еще я не был так нужен. Никто не прощал меня так и не ждал каждый день, каждый час. Только она одна знает по-настоящему, какой я. Она одна, кажется, знает обо мне все и любит меня.
Что же я могу дать ей взамен любви? И что вообще можно дать взамен любви, кроме самой любви?
Может быть, дружбу? Заботу и участие? Но разве это нужно ей, и мне тоже? И разве хватит меня надолго, чтобы жить только этим? Зоя, Зоенька, кто я тебе? Я не хочу врать. Но как мне выговорить правду?
— Леня, ты что молчишь? О чем думаешь?
— О тебе и о себе, Зоенька.
— А мне показалось, что ты сейчас встанешь и уйдешь навсегда.
— Нет, Зойка. Мне хорошо с тобой.
— Это правда?
— Почему ты не веришь мне вдруг?
— Не вдруг. Тебя не было давно. Кто знает, какой ты теперь? Я все думала про тебя, думала. Чего только не приходило в голову.
— Я тоже о тебе думал.
— Помолчи, Ленька. Не нужно врать. Ты — не думал.
Откуда она знает? И каким образом ей почти всегда удается проникнуть в такие дебри и тайны, которые и самому-то мне не ясны до конца?
И все же Зойка не совсем права, я вспоминал ее, — она так сказала сгоряча, со зла за то, что я молчу.
— Ты, Зойка, всегда возьмешь и скажешь что-нибудь такое, что... — не договорил я.
— Ну а если вспоминал, — обрадовалась Зойка, — расскажи мне, как ты вспоминал, где?
— Хорошо вспоминал. По-разному и в разных местах. Дома, на работе, в лес ездил с пацанами — и там тоже, и когда по улицам ходил, — всюду, Зоенька. Я знаю, что ты мой самый надежный человек. И что я могу признаться тебе во всем, и прийти к тебе, когда захочу, даже приползти, если мне будет очень худо...
Это было на самом деле так, и мне не стыдно было все это ей говорить.
Я опять видел потолок, иссеченный извилистыми трещинами, и, как всегда, мои глаза успевали заметить, не знаю даже, каким образом, и то, что было на окне, и на старом шкафу, — там, как и прежде, стояли бумажные цветы в пол-литровой банке; и то, что было возле шкафа — Венькин гараж: цистерны, автопогрузчики, колесные тракторы, легковушки стояли, тесно прижавшись друг к другу. «Как-то он там расправляется со своим ананасом», — подумал я.
Я опустил руку, коснулся пола, пальцы натолкнулись на книгу. Я поднял ее, прочел название: «Кукла госпожи Барк».
— Мура какая-нибудь или ничего? — спросил я.
Зойка засмущалась:
— Повышаю свой культурный уровень.
Подумала и добавила:
— Вообще-то ничего, захватывающе. — И начала сбивчиво, до смешного серьезно, как на уроке, пересказывать несложный сюжет книги.
И я сразу вспомнил про Зойкины занятия в школе по вечерам, срывы на экзаменах, слезы, отчаяние, долгие перерывы в учебе и какое-то фантастическое упрямство: «Все равно окончу, все равно поступлю в институт». Но вот уже все меньше и меньше остается надежды, что она действительно закончит школу, и все-таки Зойка, кажется, только этим и живет: выбраться, вырваться, доказать соседке или еще кому-то, что и она не просто кондуктор или теперь вот уже парикмахер. Я не верю в Зойкин институт, считаю даже, что он ей ни к чему — измается, попробуй-ка учиться и работать, когда на руках ребенок. Но я молчу, не разубеждаю. Раньше, бывало, когда я советовал что-нибудь на этот счет, Зойка смотрела на меня так, будто я хочу лишить ее самого дорогого.
— А знаешь, милый, — неожиданно сказала Зоя, — у меня новое платье. Хочешь, покажу?
И соскочила с дивана, подошла к шкафу. Какая она стройная, гибкая, красивая.
— Джерси, — сказала Зойка, натянув свою обнову. — Между прочим, очень модно сейчас. Нравится?
— Очень, — сказал я. — Ты в нем такая эффектная, хоть выходи на сцену.
Зойка повращалась, поизгибалась, как манекенщица. Она делала это охотно и весело.
— А вот если бы еще сумочку, да туфельки, — приговаривала Зойка, приподнимаясь на носки, — да еще с тобой под ручку — шик-блеск, закачаешься, — и она засмеялась, а потом присела на край дивана, вздохнула:
— Только вот носить некогда. Замоталась ужасно. Не замечу, как и старухой стану, а там уж куда мне все эти наряды.
Она досадовала так искренне, с таким сожалением вешала платье в шкаф, что я рассмеялся:
— Тоже мне старуха!
Улыбнулась и она:
— А кто же я? Кто, по-твоему?
— Ты? Ты самая обыкновенная...
И вдруг я вспомнил разговор с Катей на кухне и мои слова: «Ты самая обыкновенная фея, не хуже и не лучше». Эти слова уже были мной сказаны. И мне показалось, что я совершаю предательство.
— Кто же я «самая обыкновенная», продолжай, раз уж замахнулся, — услышал я теперь уже холодный, резкий Зоин голос. И это ужаснуло меня еще больше.
— Ты? — переспросил я. — Да чего ты так рассердилась? Ты самая обыкновенная красавица. И никакого тебе не нужно наряда, кроме вот этого...
— Выкрутился. Я уже знаю, ты это можешь, — сказала она. И вдруг взгляд ее помрачнел, и я понял, что она сейчас скажет то, ради чего мы сегодня встретились и о чем избегали говорить.
— Ленька, тебе хорошо со мной? — тихо спросила она, не глядя на меня.
— Да, хорошо.
— Тогда переезжай ко мне, — и, словно желая опередить мой ответ, начала объяснять мне горячо, даже зло: — Я его все равно не пущу. Пусть живет, где хочет. Это площадь моя, и все тут мое. Его только сын, да и то — сам знаешь, какой он отец.
Зойка теперь уже смотрела мне в глаза, и взгляд ее был прямым, требовательным — да или нет. Я тоже смотрел в упор, но не отвечал ни да ни нет.
— И Венька очень любит тебя, — сказала Зойка. — Тоскует, когда ты долго не приходишь. Он как-то спросил меня: «Мама, а кто нам дядя Леня?» А я сразу растерялась, не знала даже, что ответить.
Потупилась, опустила голову и вдруг заплакала громко, навзрыд, обнимая меня.
— Ну почему ты молчишь?! Скажи мне, ради бога, кто я тебе? Почему мы не можем жить вместе? Чем я тебе не нравлюсь? Я поступлю в институт. У тебя всегда будет дом. Твой дом! Ну скажи ты мне что-нибудь, Ленька!
Все похолодело во мне. Потом бросило в жар. Что-то стало гореть, яриться и корчиться внутри. И как нарочно, назло или в отместку за что-то, или в насмешку, какие-то злые силы именно теперь напомнили мне, как я признался Кате в любви, как писал ей письмо ночью в кабинете электротехники, как шел с букетом гвоздик на свидание и как потом, мучаясь ревностью и стыдом, пришел сюда.
— Успокойся, Зоенька. Зачем так? Не нужно. Я тебе сейчас объясню...
Она перестала плакать. Оттолкнула меня, надела халат.
— Что тут объяснять? Ну что ты хочешь мне объяснить? Что я, дура? Кто я тебе? Все вы такие! Все! Вам только бабу подавай! А кто она, что она — вам все равно. Да зачем ты мне нужен? Ничего ты мне не сделал хорошего. Ничего. Можешь уходить от меня. Не держу.
Я медленно поднялся.
Зоя ходила по комнате от стола к окну и снова к столу с белой скатертью, с бутылкой вина и нетронутым ананасом; его кожура, похожая на панцирь черепахи, лоснилась и отражала (а может быть, это проступал спелый желтый сок изнутри) свет яркой лампочки под оранжевым абажуром. Я подумал о том, что все повторяется: мой первый приход и последний... Зоя еще тогда говорила, что мы, мужики, все похожи друг на друга... Она правильно делает, что гонит меня.
На площадке за дверью кто-то истошно заорал. Так может плакать только ребенок. Венька!
— Веньчик, что с тобой? Почему ты такой грязный?! Ссадина на лбу!
— Ананас! Они мой ананас! Мальчишки! Они убежали! — кричал Венька, размазывая по лицу грязь.
— Подумаешь, ерунда! Пойдем вымоемся. Дома у тебя есть еще целый ананас. Давай-ка возьму тебя на руки. Вот так. Пойдем к маме.
Какой же я все-таки дурак и подлец: Зойка гонит меня так потому, что любит! А как же Венька?!
— Оставь его! Не бери на руки!
Зоя вырывает из моих рук сына и несет его в ванную. Я слышу шумный водопад и Венькино фырканье. Обычно Зойка ворчит, а сейчас молчание. Тяжело, тяжело мне от этого молчания.
Умытый и вытертый Венька идет в комнату, мать за ним, сзади. Малыш увидел ананас, обрадовался.
— Вот он, мам! Дядя Леня — вот он! — Венька радостно обнял ананас.
— Ты о колобке знаешь? Помнишь, мы читали, как он катился-катился...
— Вот-вот, он от дедушки ушел и от бабушки ушел... — тяжело вздохнула Зойка.
Я подошел, обнял ее за плечи. В этот момент я готов был на все, лишь бы не видеть ее такой. Ладно. Будь что будет.
— Зойка, Зоенька. Я решил, я хочу, я все понял, Зойка.
— Не приходи! Так будет лучше. Не приходи больше.
— Зоя! О чем ты говоришь! Прости мое дурацкое... я все понял, я решил. Я еще раньше...
— Не нужно ничего решать. Мне снисходительность не нужна. Не любишь, вот и все. И прощай.
Ее глаза, эти зеленые Зойкины близнецы, два зеленых мира, два омута, смотрели на меня с мукой и болью. Она любила меня и, мучаясь, карала за нелюбовь к ней.
Это наказание за нерешительность, за раздвоенность, за «будь что будет», за весь мой обман. Это мне по морде. Сначала Бородулин, теперь она. Вот как жизнь учит тебя, величайший педагог всех времен и народов, душевед, мастер-ломастер.
Часть третья И правда, и кривда
Глава первая
Скоро восемь, а солнце уже высоко, остро ощутим запах распаренного асфальта и липкая свежесть молодых тополиных листьев; и, как обычно в безветрие, — дымка. Она успела подняться над домами, давно проснувшимися и вроде бы всполошенными скрежетанием тормозов, поскрипыванием шин автомобилей. Все, весь город уже куда-то несется, не жалея ни ног, ни колес, ни моторов. Даже едва оперившиеся тополя наклонились в сторону бега и вот-вот сорвутся с места.
И я мчусь, хотя мне сегодня не к спеху. Быть может, все еще убегаю от вчерашнего. Прощай, Зойка. Хватит моих «ни то ни се».
Работа, работа. Уже в который раз спасающая меня от всех неприятностей работа нужна мне сегодня позарез. Спал я немного, а в мышцах скопилась сила, я ее чувствую. А главное, я знаю теперь, что не отвертеться сегодня от меня Бородулину и Лобову, всех возьму в руки и еще до начала занятий, на десятиминутке в мастерской, дам понять, что никому не будет снисхождения: не в детском садике — взрослая жизнь, завод на носу!
Шагаю и невольно поворачиваю голову влево. Куда бы я ни шел, ни ехал, стоит мне оказаться здесь, в этом районе, на углу незаметной улицы и широкого проспекта, не могу я не посмотреть на высоченные окна и на аккуратную парадную дверь. Тут я работал. Сюда, на завод, изготовляющий точные приборы для морских судов, направил меня мастер сразу после ремесленного училища. Как первая любовь, говорят, бывает чаще всего неудачной, так и эта первая работа шарахнула меня, что называется, по мозгам, сбила спесь, щелкнула по носу. Но я не обижен ни на что и ни на кого. Хорошая это была для меня школа. Хорошее это место для настоящего слесаря-механика. Неплохо бы пристроить сюда Андреева, Штифтика, Саню. А почему бы и нет? Попробую.
Радостно было найти на прежнем месте хорошо знакомого человека с его прежней бодростью, энергией, с прежним желанием смотреть открыто в глаза.
— Здравствуйте, Федор Васильевич! Узнаете? — спросил я.
— Тебя-то?! Да ты входи, входи. Вот уж сказанул. Или ты забыл, как пришел ко мне шкетом, как ты тут с двумя дружками покрикивал на меня и требовал: «Что мы, зря учились три года? Давайте настоящее дело». Было такое?
— Было, Федор Васильевич.
— То-то же, Ленька. Как тебя теперь по батюшке?..
— Да ну, вот еще. А у вас, я смотрю, все по-прежнему, и выглядите вы как тогда...
— Все как тогда... Только волос поменьше да брюхо потолще, а так ничего, никаких перемен. А вот уж ты, Леня, изменился. Стал посолиднее, в плечах раздался, и ростом вроде повыше, и под глазами трещинки появились. Пьешь? Куришь?
— Как все.
— Где работаешь?
— Окончил техникум. Теперь мастером в ПТУ.
— Солидно, ничего не скажешь. Одобряю. Молодняк нужно учить людям, знающим дело. А тебе и карты в руки. Кого готовишь-то?
— Слесарей, конечно.
— А ко мне зачем пожаловал? Подожди, не отвечай, кажется угадываю. Пристроить кого-то надо. Выпуск.
— Точно. Хотя бы человек пять.
— Пять многовато. Рук не хватает, да с жильем у нас трудно.
— А если так, то хотя бы троих ленинградских. Парни хорошие. И работают неплохо, и с головой. Не пожалеете.
— С каким разрядом ты их выпускаешь?
— С третьим.
— Немало, совсем немало. Им ведь сразу подавай заработок, а вот что они делать могут? Ты меня, конечно, прости, Леня, я против тебя ничего не имею, но скажу: ремесленные учат людей в отрыве от производства. Вот фабзавучи были — дело конкретное. Несколько месяцев — и человек вошел в ритм завода и цеха. А вы долго учите, год, два, а то и три, вот и получается — академия. Он оттуда-отсюда верхушек поднабрался, и не подступись к нему, а придет работать — всему заново надо переучивать. Тут в нашей системе надо что-то додумать. Много вы делаете вхолостую.
— Вы, Федор Васильевич, рассуждаете по-своему справедливо. Вам нужно делать дело, выполнять план. У вас конвейер. Один человек изготовляет болты, другой гайки, третий еще что-то, и в результате получается прибор. Вы как начальник берете прибор в руки, любуетесь, какая приятная, чистенькая, точненькая штучка. Умно сделано, талантливо, за такую работу людей уважать охота. Так-то оно так. Но вы знаете — утомительнейшее дело быть частью конвейера, самому пришлось постоять. С утра до вечера делать одни и те же гайки — сегодня, завтра, послезавтра. За спиной у тебя горы гаек, а ты все их делаешь, делаешь... И все мысли сохнут, мельчают — дальше некуда.
— Ну уж, Леня, ты и нарисовал картинку. По-твоему выходит, что стоит рабочий у верстака и вместо дела думает о мировых проблемах, так, что ли?
— О мировых не о мировых, но о том, как бы заменить однообразное клепание гаек, он будет думать, и должен. Узкий специалист быстро приспосабливается к автоматизму и шпарит себе, сколько надо, — лишь бы заработок его устраивал. А человек, который узнал и про то и про это, пусть даже по верхушкам, начнет воевать с однообразием и скукой. Ему не захочется быть всю жизнь рабом конвейера. Вот и начнет он что-то изобретать. Разве не так я говорю?
— Да, в общем, так. Приводи своих ребят, а там посмотрим, на что они способны.
— Спасибо, Федор Васильевич. Разрешите, я пойду посмотрю, что теперь и как тут, в нашем цехе?
— Походи, походи. Изменений мало. Два станка поменяли, верстаки после ремонта, стены покрасили, — иди, посмотри.
Цех и вправду мало изменился, стал разве только посветлее да поуютнее, а так все те же ряды верстаков, и перед каждым рабочим местом все те же маленькие журавлики — железные светильники на тонких ножках; все тот же шумок в воздухе — кто-то что-то пилит, кто-то что-то зачищает шкуркой, кому-то потребовалось просверлить отверстие, а кому-то — постукать молоточком. Все заняты делом. Стоят, сидят, мозгуют с потухшими папиросами в зубах. А дело у них все то же, что и много лет назад. Конечно, лаги да вертушки да всякие там приборы для кораблей нужны, как всегда: кто-то строит корабли, а кораблям нужна оснастка. Конвейер? Конечно, конвейер. А как же? Конвейер создает машины, города, и у каждого из нас, работающих у конвейера, свой болтик, своя шпилька, своя какая-нибудь дырочка в металле, которую сверлишь изо дня в день.
Так-то оно так.
Но вон тот носатый парень сверлит свои дырочки с таким отвращением и яростью, как будто мстит кому-то. Воткнет сверло и давит, давит до скрипа, до скрежета, до того, чтобы дым пошел из-под сверла. Скорей, скорей — ни точности тут не нужно, ни аккуратности, никакого творчества — шпарь почем зря, в конвейере все сгодится, лишь бы поскорее прогнать под сверлом эту гору деталей, лишь бы успеть заработать за этот день свои деньги, а там конец смены — и привет, за воротами завода другая жизнь. А может быть, у него все не так, может быть, он работает со злостью по другой причине, по той, по которой и я?..
Вон мое рабочее место, в закутке, лицом к стеночке — ни уюта, ни простора. Лампочка, как у всех, ящик с инструментами, стул. Сосед справа молчит, занят своим делом. То шкурит медные трубочки, то паяет, то цифры наколачивает на корпус прибора, и ни-ни в мою сторону. У каждого своя работа: как умеешь, так и делай. В приятели, мол, не навязываюсь, а если нужна помощь, сам попросишь. Но куда там, разве я мог тогда попросить помощь. Чуть ли не самым лучшим учеником считался в «ремесле», дали пятый разряд по старой тарификации, а такое бывает редко. Пришел в цех король королем. Давайте мне работу по разряду, а не какую-нибудь ерунду. Но дали ерунду — пацан, еще проверить надо. Дали сверлить, и сверлить, и сверлить. Насверлился дней за пять — тошно стало. Пошел к друзьям, с которыми вместе поступил на работу, — тоже сверлят. Отправились к начальнику цеха. К Федору Васильевичу Лапину. Вошли в кабинет, встали по ранжиру, как привыкли, бывало, стоять на линейке в ремесленном: первым — Дьячков, бывший наш комсогрупорг, плечистый, сильный, солидный; вторым — Володька, мой друг, для которого я не Ленька, а Лёпа, и последним — я, самый маленький, но самый возмущенный. Почему? Три года учились, готовились к настоящему делу, и вот дырки, дырки и дырки!
— Во-первых, не дырки, а, выражаясь все-таки научным языком, отверстия, — сказал начальник цеха и уставился на нас, как, должно быть, смотрит цыган на коней. Мы тоже уставились.
— Значит, вы хотите работу пошикарнее? Так я понял?
— Не пошикарнее, а просто какая должна быть по нашему разряду.
— По разряду, говоришь? — начальник прищурился. — Значит, я должен поставить тебя, и тебя, и тебя на такие места, на которых работают у меня люди уже по десять — пятнадцать лет? А не жирно ли будет, мальчики? Ваши разряды — это пока аванс. Понимаете, аванс, или, как говорят, штаны навырост. А вы для меня еще темные лошадки. Кто из вас на что способен — не знаю. Вижу пока только гонор, ясно?
— Ясно, — сказали мы не очень-то стройным хором и пошли работать.
Месяц работаем, другой, — не нравится. Все не нравится — работа, обстановка. И сосед не нравится. Молчит себе, сопит и никакие мои разговоры не принимает. Нет так нет, сиди тут и сверли свои дырочки всю жизнь, а я пойду к начальству правду искать.
И снова мы с друзьями, возмущенные, вошли в кабинет, выстроились по ранжиру.
На этот раз Федор Васильевич закурил, помолчал, предложил сесть.
— Ну как, что же мне с вами делать? Я и вас понимаю, а с другой стороны — мне нужны люди больше всего именно на тех операциях, которые вы уже освоили. А вам нужен рост, интересная работа, денежные перспективы и прочее такое — тоже понимаю. И вот что я придумал. Один из вас — пока что только один — пойдет работать в экспериментальный цех, это лучший цех завода. Мне предложили послать туда кого-нибудь из лучших слесарей, из своих. Так вот, выдержит он там экзамен на мастерство — тогда упрошу начальство, и остальных переведут туда. А уж кто пойдет из вас — выбирайте сами. Согласны?
— Еще бы! — сказали мы теперь уже довольно стройным хором и, как говорится, удалились на совещание. Совещались долго. Решили бросить жребий. Выпало мне. Вот тут-то все и началось.
Я понимал, какой выпал мне счастливый жребий, гордился и никак не мог не прихвастнуть. Всем знакомым и даже малознакомым я рассказывал, что меня направляют в экспериментальный цех. Одни удивлялись, другие поздравляли, желали удачи, третьим, например моему соседу Костику, было все равно, или он делал вид, что ему все равно.
Чем-то я ему не понравился с первого взгляда. Может быть, тем, что сунулся ему подсказывать, как лучше паять мелкие детали, или тем, что все время ворчал на свою работу. Так получилось, будто Костику работа в самый раз — он молчит и делает что надо, он нигде не учился, прямо из школы в цех, и работает здесь уже лет восемь, а то и больше, и все на тех же операциях; ему все в самый раз, а вот мне, обученному, все тут простовато. Не для пятого разряда — дырки сверлить да паять всякую ерунду. И вообще — разные мы.
Он по утрам приходит тютелька в тютельку, а я или раньше, или с опозданием. Он как заладит напильником «швыр» и «швыр», так и будет швыркать от и до, пока смена не кончится или пока не сделает все до последней детали. А я рванусь вначале, будто гонится кто за мной, вспотею, обгоню всех на какое-то время, и когда останется до конца всего ничего, детали две или три, тут уж я больше не могу, не хочу, ненавижу, противно даже думать о работе, и вот волыню и волыню — дальше некуда.
Костик — сама точность, педантизм. Раздражал он меня этим ужасно. Все инструменты у него всегда на месте, под рукой, всегда лежат на каких-нибудь специальных подставочках или каждый в своем ящике, все сверла воткнуты, как иголки у заботливой хозяйки в подушечку — в специальный металлический сверлохранитель, торчат из квадратной алюминиевой колобашки, каждое сверлышко в своем гнезде. А у меня все нужно искать, или в самый острый момент приходится идти в инструментальную кладовую и обменивать номерок на сверлышко или на что-то такое, что у Костика наверняка есть в его личном пользовании. Он мне сразу отказался давать хоть что-нибудь из своих запасов. «Ты уж сам заводи, — сказал он. — Я к своему инструменту привык».
Все у нас было разное, и даже обедали мы по-разному. Как только приходило время обеда, он разворачивал газетку, доставал здоровенные бутерброды с колбасой, вынимал из ящика алюминиевую кружку, клал туда четыре куска сахару, шел к титану, возвращался вперевалочку, помешивая в кружке ложечкой, садился на высокий табурет перед верстаком и начинал шумно и с наслаждением есть. Жует, бывало, медленно, вдумчиво, только скулы похрустывают. А я ем на скорую руку, как и где придется.
Нет, не сошлись бы мы с Костиком, если бы не тот случай... Вернулся я из экспериментального как побитая собака и думал, все на меня набросятся после моей неудачи, засмеют, а особенно мой бывший сосед. А он встретил меня так, будто и не было ничего, не было никакого моего перехода туда-сюда...
— Привет, Костя, как ты тут? Все на том же месте?
— Привет, Ленька, все на том же.
— И все те же дырочки-заковырочки?
— Все те же.
Костя смотрит как будто издалека, как будто узнает и не узнает. Поглядывает на мой галстук. Я теперь не свой, пришел откуда-то оттуда... Начальник. А вот он как сидел на своей табуреточке, так и сидит, как сверлил свои дырочки, так и сверлит. Он всегда здесь был, есть и будет, а я вроде беглеца, вроде искателя удачи. А может быть, мы просто оба так изменились, что нужно начинать все заново? Заново доверчивость, признание, заново все. Обидно, что он нисколько не обрадовался встрече со мной. Ну посмотри мне в глаза! Ну улыбнись!
Посмотрел, смягчился. Спрашивает:
— А ты как?
— А вот работаю мастером в ПТУ. Выпускаю группу, нужно пристроить.
— Давай сюда парочку.
— Насчет троих договорился.
— С Василичем?
— Ну да.
— Подсади кого-нибудь ко мне. Твое место пустует.
— А что так?
— Неудобно, говорят, тут, темно. Ты тоже поныл немало. Помнишь?
— Еще бы. Дай-ка посижу, как бывало. Ух ты, удобно-то как! И чего я ныл?
— А тебе, Ленька, все тогда не нравилось. И работа, и заработок, и я, и мастер, и вот эта лампочка на верстаке.
— Неужели я был таким занудой? Хороша рожа у меня была, когда я снова сюда пришел?
— Я, Ленька, на художественные сравнения не мастак. Рожа у тебя была — хуже некуда. Казалось, что еще немного — и разревешься.
— Так и было, Костик, честное слово. Если бы ты мне тогда не сунул вовремя папиросу, не знаю, что и получилось бы. Ну, пока, — прощаюсь я. — У меня еще дел полно.
— Пока, Ленька, заглядывай. Промыть детали всегда чем-нибудь найдется.
Решил все-таки заглянуть в экспериментальный.
Экспериментальный... Новые приборы. Разведка. Ты не в конвейере, ты сам по себе. Только ты, и никто другой, высверлил такую дырку. Пусть самую простенькую, но она твоя, неповторимая. Каждая минута работы казалась мне самой важной, самой горячей. Ты не в конвейере. Твой первый шаг потом повторят многие. Экспериментальный, это же только подумать, куда ты попал сразу после ремесленного! И я покажу, на что я способен.
Никогда не забуду, как вошел в цех с коробочкой для инструментов под мышкой.
— Здравствуйте, я новенький, к вам. Мастер здесь?
— Тут все мастера, — сказал пожилой рабочий, крепкий, плечистый, с сединой в волосах. Он осмотрел меня с ног до головы и отвернулся.
Что говорить, что делать дальше — я пока не знал.
— Садись вон к верстаку, сейчас придет Михаил Александрович, — сказали мне. — Он у нас сразу в двух лицах — и мастер и начальник цеха.
Я взобрался на табурет, начал оглядывать цех: какой там цех — мастерская. Тишина. Нет-нет шваркнет напильник, и снова тихо. Дом отдыха, а не работа. Всего пять человек в экспериментальном, и это на весь завод. Ну и повезло мне. Здесь даже курить можно. Вон сидят двое с папиросами во рту.
В уютном цехе лениво плавал в солнечных лучах синеватый табачный дым. Кот жмурился на окне, поглаживал широкой пушистой лапой волосатое оттопыренное ухо.
Рядом со мной сидел ссутулясь слесарь в берете и в очках, он ковырял ногтем какую-то деталь, изредка выпуская в мою сторону густую струю дыма. Я тоже хотел бы закурить, но не решался. Старикам все можно, а мне тут нельзя, мне многое нельзя будет делать здесь, я гожусь всем рабочим в сыновья и даже внуки. Я тут долго еще буду не в счет.
Слесарь в очках обратил на меня внимание, посмотрел и спросил, слегка покашливая:
— Ремесленник?
— Да, из ремесленного.
— Какой разряд?
— Пятый.
Слесарь ухмыльнулся, сделал затяжку:
— Ну, и как думаешь работать?
— Как сумею, так и буду.
— Ну-ну, пробуй, посмотрим, что выйдет. Работа у нас веселая: станешь запарывать — штаны продавать придется.
Не ожидал я такого. Мой разряд не принимают всерьез эти старые зубры. Наверно, им, много лет работающим в экспериментальном цехе, лучшем цехе завода, стало обидно, что с ними рядом парень прямо из училища. Что ж, поработаем, посмотрим.
Наконец-то пришел мастер, все в том же халате, какой был на нем в день первой нашей встречи, и все так же он сумрачен, суров. А может, все мне теперь кажутся невеселыми, настроенными против меня? Я вгляделся в его глаза, они были усталые, с красными прожилками.
— Пришел? Поздравляю. Вот, мужики, вам и пополнение. Присмотритесь, помогите, если потребуется. Вам скоро на пенсию, а он подменит. Ты, главное, не спеши, — обратился уже ко мне мастер. — Нормы времени у нас тут божеские, зарплата хорошая, кумекай побольше, что и как сделать! Идем-ка, вот пока приверни шильдики.
И мастер повел меня снова через механический цех, по коридорам, во второй этаж, в складское помещение, где ровными рядами стояли аккуратные деревянные ящики, покрашенные в темно-синий цвет — это оказались защитные, упаковочные коробки для приборов, от них пахло свежей сосной и масляной краской.
Мастер протянул мне легкие алюминиевые шильдики: таблички с надписями «верх», «низ», «выход», «вход», дал отвертку, насыпал в ладонь штук пятьдесят шурупчиков с никелированными головками, показал, в какие места я должен привернуть мягкие пластинки-указатели.
— Только, пожалуйста, не сорви шлицы, — попросил он и сам примерил, подходит ли отвертка к вырезам шурупов.
Да что они все — сговорились? Опять работа для детского сада, и еще поучают, наставляют с умным видом. Ладно, тут уж нечего обижаться, простенькую работу мне дали на первый случай, — через день, через два, или пусть даже через месяц придут и ко мне настоящие заказы. А пока осмотрюсь, привыкну, и ко мне приглядятся. А мастер мой вроде хороший мужик, это только с виду он — не подступись.
Приворачивать шильдики одно удовольствие, шурупы мягко входят в смолистое дерево. Незаметно окончился рабочий день, быстро пролетел и следующий, и еще один, и еще...
В цехе я уже примелькался. После шильдиков мастер принес какие-то алюминиевые кругляшечки с пазами посередине, мне нужно было лишь просверлить отверстия.
— Вот наряд, — сказал он. — Разметишь и высверлишь.
Я посмотрел эскиз. Работа простенькая, вроде прежних моих гаек, но на этот раз я не обиделся. Отказываться тут нельзя было ни от чего.
Маленький скоростной сверловочный станок работал бесшумно. Тонкое длинное сверлышко плавно впивалось в серебристый металл. Иногда его уводило вбок, пришлось поменять призму, взял более удобную, с разными желобками, чтобы деталь улеглась понадежнее. И все-таки нет-нет да и уводило сверло от центра, пришлось сверлышко переточить, чтобы поровнее были его скосы. И пошло как по маслу.
Кусочки хрупкой стружки прыгали в сторону, попадали на пальцы, неожиданно обжигали, словно кололи иголкой, и сваливались на станину и на пол. И чем больше становилось готовых деталей, тем аккуратнее я складывал их рядом.
В каждом моем движении появились легкость и плавность. Я то вдруг начинал напевать, то неожиданно ощущал прилив доброты и любви ко всем на свете и даже к угрюмому слесарю, не поверившему в меня при встрече. Я поворачивался к нему и готов был поговорить о погоде или просто улыбнуться. Я чувствовал, что не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра этот слесарь, да и все четверо стариков, будут разговаривать со мной на равных, станут, может быть, даже друзьями.
И вот уже принимает мастер мою работу, замеряет штангенциркулем и откладывает одни детали в одну сторону, другие — в другую.
Я смотрю на кота, он жмурится, подмигивает мне с окошка и наблюдает за руками мастера. И что он так долго, так въедливо проверяет эту ерундовскую работу? Еще одну отложил, еще, — вот уже последняя брошена на верстак справа от моего наряда.
— Вот эти еще ничего, — показывает мастер на маленькую кучку слева, — а вот эти все запорол, — негромко, почти шепотом говорит он. Но тихий голос его вдруг начинает шириться, расти, гудеть, он заполняет весь цех, врывается в уши криком: «Все запорол».
— Я же тебе говорил, не спеши. Входное отверстие на месте, а выходное с перекосом — значит, призмочку не так подложил, не проверил, не удостоверился несколько раз. Отверстие должно быть там, где положено, а не где вздумается. Теперь исправляй как знаешь, химичь как хочешь, других таких заготовок у меня нет и не будет, а работа из-за тебя остановится.
И мастер ушел, хлопнув дверью. Я потянулся к наряду, подрагивающими пальцами взял листок, на котором были написаны моя фамилия и разряд, перевернул лист, сел на стул и опустил голову.
В цехе стало-еще тише, и ни одна голова не повернулась в мою сторону. Это было похоже на приговор. Отчаяние во мне сменялось тупым чувством безразличия. Сидел и думал: «Ну и пусть, даже к лучшему... Чертовы гайки подвели, привык давить, не думая и не глядя — десяток, сотню, тысячу, ну и пусть теперь смеются надо мной, или издеваются, или злорадствуют, мне все равно...»
— На, закури, бывает, — услышал я голос моего соседа в очках. Ко мне протянулась его рука с надорванной пачкой «Беломора». И эта пачка «Беломора» согрела, обрадовала меня чуть не до слез.
— Теперь слушай, — сказал Иван Никифорович. — Высверли отверстие побольше, нарежь резьбу в запоротых деталях, сделаешь пробки из алюминиевого прута и высверлишь все заново. Это, конечно, не совсем то, что нужно, но тебе ничего не остается делать.
Три дня я возился с переделкой, оставался после работы. В наказание мне все это за спешку, в испытание... Боялся еще раз напортачить, не уверен был даже в тех случаях, когда знал наверняка, что все идет правильно. Противное это чувство — неуверенность, но еще противнее сознавать себя бракоделом: никому не посмотреть в глаза, ни с кем не пошутить, не расслабиться хоть на минуту, с одним только Иваном Никифоровичем легко. Жизнь испытывает всех, в любом возрасте. И самые худшие испытания — это когда болит душа, вот как сейчас у меня.
Предчувствие каких-то новых испытаний не оставляло меня, и к новому заданию я приступил с чрезвычайной осторожностью.
Надо было вырезать по размерам, согнуть и склепать дюралюминиевые листы. Каждое движение я продумывал, взвешивал, прежде чем решиться на исполнение, — даже удары киянкой, легким деревянным молотком, моя рука совершала с недоверием к прежнему опыту, а ведь когда-то я гнул свободно любые листы в любую форму. Такая моя осторожность нравилась и не правилась мастеру, да и мне самому она была не по душе, неестественной, — слишком напряженно я себя чувствовал. Работать все-таки надо весело, непринужденно, даже когда приходит трудное дело.
Я затянул мою очередную работу, так затянул, что и для экспериментального цеха, с его относительно свободными нормами времени, это было чересчур. Мастер остался доволен моей работой, но сроки его рассердили, и, поручая мне новое дело, он сказал:
— А теперь даю тебе самое серьезное задание. Надо и опиливать, и сверлить, и прессовать подшипники, в общем полная сборка — все тут есть. Уж постарайся теперь показать, на что ты способен. Что не ясно — сразу ко мне. Не затягивай, приступай немедленно.
Прибор, измеряющий высокие температуры, с виду напоминал большой утюг на подставке. Ко мне пришла целая партия. Сначала надо было опилить каждый корпус, потом разметить по чертежу, потом сверлить, прессовать подшипники, валики, шестерни — одним словом, заниматься сборкой.
Если бы я в самом начале получил такую работу, я, наверно, запрыгал бы от радости или напыжился бы от гордости и побежал всем хвастаться. Теперь, конечно же не без гордости и радости, но все-таки спокойно приступил я к своему новому ответственному делу. Начал с опиливания.
Опиливать я любил всегда и, как только принялся за дело, вспомнил училище, услышал голос нашего мастера: «Начинайте, поехали!» — и знакомый, ровный шум. Вперед-назад, вперед-назад. Тот, кто ни разу не брал в руки напильника, не представляет, что это за жесты, как работают мышцы всего тела — от ступней до шеи. Руки только удерживают напильник, направляют его ход, ощущают толщину снимаемого слоя металла, руки — рычаги, к которым прикладываются усилия всего тела работающего человека. И властное, энергичное, осмысленное это качание над деталью, зажатой в тиски, всегда было мне по душе. Я радовался работе каждой мышцы, каждой косточки, я удивлялся сам себе, слаженности всего организма, и мысль и сердце мое работали в такие минуты веселее, точнее, ярче обычного. И когда, бывало, мастер хвалил мои руки, я принимал эту похвалу как заслуженное на самом деле.
Но верно говорят, что беда не приходит в одиночку. Вначале я ничего не замечал, все шло складно. Делал все по порядку. Опиливал, размечал корпуса приборов, высверливал, где надо, и все подготовил для того, чтобы запрессовать подшипники. Запрессовал, а когда произвел полную сборку валиков и шестерен, мой брак выполз наружу — шестерни было не прокрутить. Вращались с трудом, с недозволенным усилием, — значит, при центровке я допустил перекос. Незначительный, чуть-чуть, но ведь в точных приборах в этом «чуть-чуть» все дело. И значит, снова нужно «химичить», пересверливать, подгонять.
Что за ерунда, почему работа моя получается нормальной только через раз? Невнимательность? Или, может быть, усыпил меня недавний успех? Черт возьми, в чем же дело?! Почему эти мои хваленые руки так подводят меня? Или что-то не то в голове? Спешу, увлекаюсь, влезаю по уши в одно, забывая о другом? Куда, зачем спешу? Тут ведь не конвейер. А может быть, все дело в чутье? А может быть, не воспитана во мне ответственность за каждый жест? Вон старики... годами они тут, опытнейшие, а ковыряются, обглядывают, обнюхивают каждую мелочь, прежде чем приступить к исполнению своего задания. Ну чего стоит мое вдохновение, если оно кончается так кисло, и чего стоит мой разряд, если я буду пороть брак во всяком новом деле? Что-то во мне проглядел мой мастер. Да при чем тут мастер, я сам в себе многое прозевал, и все теперь надо начинать заново.
Долго я никому не говорил, ни рабочим, ни мастеру, что плохи мои дела. Мастер цеха, кажется, сам начал догадываться, подходил, спрашивал, а я темнил и бился, маялся, пытаясь спасти работу.
А время шло неумолимо, и надо было заканчивать, но конца не было видно. И, собравшись с духом, я решил пойти к мастеру, выложить все начистоту. Но как только я представлял себе этот разговор, ноги подкашивались, мутило, хотелось исчезнуть, провалиться куда-нибудь, пропасть, сгинуть. Я тянул сколько мог, но долго это продолжаться не могло.
Как-то после обеда я застал мастера перед моим верстаком, он внимательно изучал мою работу, лицо его было мрачным. Еще бы!
— Так дальше не пойдет!
Спазма перехватила горло.
— Рисковать я больше не имею права, — сказал мастер.
— Верните меня обратно... не получается...
Мастер долго молчал, смотрел на сонного кота, на спины рабочих, они будто бы не слышали нашего разговора, но такой напряженной, жуткой тишины я еще не знал — слушают, впитывают каждый звук даже стены.
— Ладно, подучишься... там посмотрим, — сказал мастер и ушел.
Вот и все, и конец... полный завал. Надо бежать отсюда к черту. Насовсем и от всех убежать. Эти молчаливые стариканы, наверно, презирают меня. И все, все теперь будут тыкать в меня пальцем и потешаться. А пока все помалкивают в тишине...
Вышел из цеха, поплелся по коридору мимо директорской двери, мимо окошечка кассы: «Вот и заработал я на костюм...», мимо доски с приказами: «Скоро тут появится приказ и про меня...» Ну и пусть, пусть все смеются. Ступенька — раз, ступенька — два, ступенька — три. А куда я, собственно, иду? В подвал, к приборам, на которых останутся мои шильдики? Зачем, уж лучше на улицу, теперь все равно — прогул не прогул, побег не побег...
Как спокойны и полны достоинства эти старые деревья. Растут себе и растут. Уже не растут, уже выросли. Им проще. И как подарок прилетел ко мне прямо в руки желтый лист.
Все передо мной было как в тумане, видел и не видел я ничего вокруг, скрипели тормоза машин, кто-то орал на меня, кто-то толкал, наступал мне на ногу, а я шел в какую-то неизвестную сторону, как в бреду. Весь мир казался мне чужим и враждебным. Но зрела, зрела во мне какая-то небывалая, яростная сила — разорвать все к черту!
О многом я тогда передумал. И уж не знаю, в какой момент, что именно помогло мне успокоиться, догадаться, что в жизни еще не раз так будет: вместе с хорошим часто приходит беда, и нужно уметь все вынести, перетерпеть, начать все заново, не убегая от того, что уже приобрел. Я никого не винил в своих неудачах — только себя. Что-то несостоявшееся во мне самом, в натуре моей, в способностях, в знании дела, что-то невоспринятое или пропущенное мною надо было восполнять — терпеливо и упорно. Главное — не замкнуться, не ожесточиться, и не разнюниться тоже важно, и не искать виноватого, мол, помешали... и не сваливать все на обстоятельства. Можно запутаться, удариться в крайности, но, что бы ни было, постараться не сворачивать с пути, про который сердцем чувствуешь, что путь этот именно твой. И, надеясь на помощь людей, рассчитывать нужно прежде всего на себя, на свою волю, выносливость, а временами на выдержку, — не ронять достоинства и верить, верить в свои лучшие возможности, в свое будущее.
Как уходил я в экспериментальный цех с коробочкой инструментов под мышкой, так и вернулся, пришел к своему прежнему рабочему месту рядом с Костей. Но разве я ничего тогда не приобрел? Я испытал себя на прочность...
Вспоминая свое прошлое, я кружил по двору, ходил возле деревьев и мотков проволоки, которую, бывало, перетаскивал с места на место, работая «на подхвате» сразу после училища. Я хотел и почему-то не мог открыть дверь в экспериментальный...
Глава вторая
Рассказать, обязательно нужно будет рассказать ребятам обо всем, думал я, прощаясь с заводом и шагая к остановке троллейбуса.
Завод! Что это такое? Как примет он моих парней? Двадцать семь личностей и не личностей, конвейерных и антиконвейерных моих учеников! Завод! Заводище! По его корпусам могут разойтись и оказаться даже незаметными сотни, тысячи рабочих. Завод! Дым из труб. Дымы подпирают небо. Царство стали, станков, кранов, электрокаров, многотонных прессов и тяжело дышащих, неимоверно сильных машин. Завод! Переплетение металлоконструкций, грохот, лязг и повизгивание блоков, шестеренок, моторов. Днем и ночью, днем и ночью без передышки работа, работа и работа. Тяжелая, упорная, упрямая: восемь часов одна смена, восемь — другая, восемь — третья, и так месяц за месяцем, год за годом.
Рассказать! Непременно надо рассказать моим ученикам о заводе. Ребята должны знать, усвоить, что завод — это трудно, это очень трудно, если это всерьез. Надо будет начинать дело каждый день, превозмогая страх, лень, усталость, не тот настрой души, — верстак или станок потребует всего человека без остатка, и никому не будет пощады в этом бою за каждый миг будничной жизни. И только редкая радость побед в награду. Вот тут и выяснится, кто есть кто. Мне, командиру, нужно успеть как следует подготовить души к предстоящим испытаниям.
Какое-то нетерпение пришло ко мне. Соединились в клубок вчерашние и позавчерашние и вообще все нерешенные мои заботы, гудели, кружились во мне, как пчелы во время роения. Рассказать! Непременно рассказать обо всем, до подробностей, думал я. Скорее к моим ученикам, пока я наполнен искренностью и правдой до краев — не расплескать бы по дороге.
Обычно, когда я подходил к училищу, издали был слышен стук двери: мальчишки как будто не вбегали и выбегали, а выстреливались с улицы и на улицу — дверь мгновенно распахивалась, бабахалась ручкой о стену, а потом, под действием тугой пружины, с грохотом и дребезжанием возвращалась на свое место. Так было еще и в то время, когда учился здесь я.
Иду по коридору к нашей мастерской, думаю, что сейчас посажу всех перед собой, посмотрю каждому в глаза, и тогда все прояснится и станет понятно, как нужно будет вести себя вечером на собрании. А с Глебом разговор будет особый. Вот и он собственной персоной, выбрасывает свои длинные ноги, бежит, улыбается, ему хоть бы что. Увидел меня, свернул быстро в сторону.
— Глеб, постой, подожди-ка! — Само вырывается полушутливое-полуироничное: — Привет!
— Здравствуйте, — отвечает Глеб, голос его дрожит, он не смотрит в мою сторону.
Я молчу. И Глеб молчит. Напряжение стремительно растет между нами.
Мне нужна откровенность. Да, только она мне нужна и ничего больше. Как вчера нужна она была Зойке. Только чистосердечное признание может вернуть мне Глеба, того, прежнего, которого я любил больше всех, да и сейчас еще люблю. Мне уже не нравится мое напряженное состояние, я теряю равновесие, могу сорваться, и тогда проигрыш мой — это уж точно.
— Глеб, ты что бегаешь от меня? — все-таки решился я спросить.
Глеб вскинул голову, побледнел, и я снова увидел его взгляд, вызывающий и враждебный, как тогда, когда он один трубил в спортзале интерната. Но увидел я в его глазах еще и другое, спрятанное в глубине зрачков, — боль, может быть даже и чувство вины, мучения совести.
— Ладно, — сказал я, — иди в мастерскую, потом разберемся.
Долго покачивалась передо мной узкая спина с острыми, отчетливо проступающими сквозь курточку лопатками. Это самый близкий и самый враждебный мне теперь человек. Он шагал к мастерской. И вдруг истошный, дикий, ишачий вопль прорвался сквозь стену и прокатился, кажется, по всему училищу. Надрывался кто-то из моих!
Мы одновременно вбежали с Глебом в мастерскую. Все были в сборе. Лобов восседал на моем столе с гитарой на коленях.
— Ты орал?!
— Песню разучивал, простите...
— Хорошенькая песенка, елки-палки. Как раз для джунглей.
Я не сердился на Лобова, я уже не раз слышал его песни. Он пел их на английском языке. Лобов — по-английски! Это само по себе может потрясти кого хочешь. Уж не знаю, что обозначали лобовские английские слова, только смысл его завываний и криков был совершенно ясен — назад, к предкам! Это обычно ошарашивало, смущало и все-таки чем-то манило меня. Лобов талантлив, черт побери. В своем дикарском состоянии и в чувстве ритма он весь преображался: распрямлялись широкие плечи, обычно неловкие движения обретали легкость, — я видел артиста, проявление натуры, я слышал правдивую, чем-то яростно распираемую душу. И таким вот я принимал Лобова.
— Ты все-таки поосторожнее ори, — посоветовал я Лобову, — а то, не ровен час, свезут тебя в дурдом, там уж ори не ори...
Парни развеселились, они любят пошутить, даже от намека на шутку светлеют их лица, и никакой защиты — все наружу. Почаще с ними надо быть веселым, подумал я. Вон они какие! Сегодня Лобова, может быть, исключат из училища, а он песенку разучивает. Вот это стойкость, жизнелюбие, это я понимаю! Нехорошо только, что сорвалось насчет дурдома, — Саня вон как смотрит на меня пристальными, преданными и все-таки чересчур расширенными зрачками. И все уставились на меня. Тревога на лицах. Скоро собрание. Придут родители, что будет? Но не только поэтому, я понимаю, таращатся на меня ребята. Кое-кто посмотрит и опустит глаза, даже мой староста Андреев что-то слишком застенчив, и братья Савельевы, и мой пронырливый трудяга Штифтик. Что-то у них на уме? Где Глеб? Он позади всех, опирается на верстак как ни в чем не бывало и тоже нет-нет да и посмотрит, и сразу глаза вниз.
— Готовы к спецтехнологии? — спрашиваю всех.
— А чего там, и так все ясно. Конец учебе, — радостно отвечает за всех щупленький Штифтик.
— Конец-то конец. Да уж слишком много замечаний вы нахватали в последние дни. Конспекты у всех с собой? Или опять забыли?
— У меня всегда поближе к сердцу, — отвечает все тот же словоохотливый Штифтик и хлопает себя по животу. Я знаю, Штифт носит свою единственную, употребляемую во всех случаях жизни тетрадочку под ремнем брюк. Так носят многие. Глеб тоже.
За окном, на солнышке, уже собираются во дворе баскетболисты — новая группа. Акоп в тренировочном костюме сидит пока еще на скамейке, щурится на солнце. Скоро свисток — и мяч в игре. Мои тоже будут сегодня бегать и прыгать. Приду посмотреть. Оглядываю всех, осматриваю мастерскую, — она кажется огромной, когда никого нет за верстаками.
— А это чей тут велосипед? — спросил я, но вдруг вспомнил, что давным-давно сказал Штифтику, чтобы он притащил сюда свой велосипед с мотором, который стал что-то барахлить. Уж я-то определю, что с ним случилось, — столько мне пришлось повозиться в дальних дорогах с этими «Д-4», что, кажется, я знаю движок на ощупь и на звук, как будто сам его делал.
Непреодолимо тянет меня заняться осмотром мотора. Ничего бы мне сейчас не говорить, никаких бы таких педагогических речей, присесть бы на корточки и заняться ремонтом этого ребристого чуда. Крошечный, компактный, всего одной лошадиной силы, поршенек вот такусенький, а разгонится — и тянет себе, и тянет километров пятьдесят в час, и даже не остановится в гору, я сам взбирался на нем по кавказским кручам, — выносливый движок, надежный, лишь бы только поддувал встречный ветерок.
— Что-то богатит, перебои в работе, — серьезно и озадаченно говорит Штифтик, подходя к велосипеду.
— Богатит, говоришь? — переспрашиваю я, и моя рука невольно тянется к карбюратору. — Перебои, говоришь? Так-так. Тут, может, и зажигание не в порядке, контакты сейчас почистим, подрегулируем. А может, даже совсем тут дело просто — жиклер продуть. Дырочка тут у него крошечная, волосок прилипнет — и то забарахлит. Я, бывало, прямо на ходу вывинчивал жиклер — и в рот. Пососу, продую, поставлю на место и дальше поехал. Дай-ка мне плоскогубцы.
Все уже окружили меня и Штифтика, спрашивают, советуют, лезут помочь. Но я сам вывинчиваю жиклер и думаю: ладно, все идет как надо. Моим слесарям практика и удовольствие. Все ли тут? Все. А где Глеб? А он тоже вон поглядывает сбоку и, кажется, тоже хочет помочь.
— Жиклер с виду простенький, — говорю я, показывая детальку, — а изготовить его довольно сложно, — надо выточить поточнее, тут и буртики, и канавки, и резьба, и накаточка, и фаски, и шлифовка, и, главное, сложно высверлить вот это отверстие; оно ведь тоненькое, длинное, калиброванное. От него зависят точные порции бензина, если меньше — недобор мощности.
— Бедная смесь, — подсказывает Лобов.
Молодец. Все знает.
— Вот-вот, бедная смесь, — соглашаюсь я, — а если больше — богатит. Дыму много, а толку никакого. Хитрая вещь. Умная.
Потянулись руки, всем захотелось увидеть и подержать жиклер. Что это за штучка такая? Все видели моторчики «Д-4», каждый день на улицах тарахтят, а вот как они сделаны, мало кто знает.
— Поехал я на Щучье озеро и едва вернулся, — говорит Штифтик, присев рядом со мной на корточки. — Не тянет, хоть застрелись.
У Штифтика топорщились волосы на макушке, должно быть, он их так и не пригладил после сна. Хороший он парнишка, вдумчивый, открытый и какой-то совсем свой. Может быть, потому еще он мне кажется таким, что любит велосипед с мотором и дальние поездки, вроде меня, мы с ним как будто родня.
— От Щучьего, говорят, теперь осталось одно название, ты зачем туда поехал? — спрашиваю у Штифтика.
— Да так просто. Переночевать на берегу, — отвечает он, а я почти не слышу его, думаю о Бородулине. Вот спросить бы его сейчас. При всех спросить.
— Глеб! Где ты был в субботу вечером?
— С ребятами, — отвечает он и вытягивается в полный рост, по стойке «смирно». Никогда раньше он этого не делал.
— С ребятами, говоришь? — я начинаю вскипать. — С какими ребятами?!
— С нашими, с какими еще?
Лобов, Штифт, староста, все помалкивают. Одни удивленно, другие как будто что-то знают и молчат. Я повышаю голос:
— С какими?! Назови!
— С Андреевым был.
— С Андреевым?! — переспрашиваю я. — Андреев, ты был с ним?
Андреев кивает.
— С Лобовым был!
— Лобов, ты был с ним?
Лоб тоже согласно кивает. И Штифт кивает.
— Врете! Где вы были?
— Сначала в кафе ходили, потом в кино. На последний сеанс, а потом к Лобову в Александровское поехали.
Это говорит мой староста. Мой честняга. А в глазах обман.
Что же тут происходит, черт возьми?! Неужели я ошибся? Я горячусь, как дурак, а меня не понимают. Да ведь в том-то и дело, что понимают. Вижу, что понимают. Смотрели бы по-другому, галдели бы по-другому, закидали бы вопросами, а тут молчат. Ждут! Неужели успела сработать круговая порука? Этот неписаный закон всех подростков — молчать, хоть умри. Все за одного! Все на одного! Как с Дульщиком. Как в снежки. Сейчас они за Бородулина. И против меня. Невыносимо видеть сразу столько лживых глаз.
Саня все еще смотрит на меня чуть не плача. Ему трудно сдержаться, он порывается что-то сказать. Я знаю. Он хочет сказать правду: говорить правду такая же его потребность, как дышать, любить кого-то, желать всем добра. Но если он скажет, то по мальчишеским законам он предатель, Дульщик, и все его будут презирать, и, может быть, даже поколотят. Саня вот-вот не сдержится и выпалит все, что знает. Я останавливаю его:
— Не нужно, Санечка, я сам...
Но уже поздно.
— Они все врут, Леонид Михайлович, — говорит Саня медленно и отчетливо.
Глеб Бородулин меняется в лице. Он зло смотрит на Саню и на меня тоже. Или это только кажется мне? А может быть, это не злость, а страх или раскаяние. Запутался и всех запутал. Саня не врет. Я не ошибся. То был Глеб. Каким же судом мне его судить?
— Так, значит, где ты был в час ночи?
Глеб недолго помолчал, бросил взгляд на Саню и все-таки не сдался:
— С ребятами!
— Где вы были? На Обводном?
— Сначала в кино ходили, потом в общаге.
— Врете вы!
— Да что вы, Леонид Михайлович, — сделал ангельскую рожу Лобов.
— А в чем дело? Что произошло? — с искренним недоумением спросил чистенький, аккуратненький маменькин сыночек Игорь Жданов. Никогда он ни о чем не знает.
— А то произошло, что вот этот человек ударил меня камнем по голове. А вы все трусы! Один лишь Санька не побоялся сказать правду. Предатели! Вранье в ваших лицах. Трусость и вранье.
И я вышел из мастерской, хлопнув дверью.
Так нельзя, Леонид! Мастер не должен срываться. Ты хотел их научить, а сам... Куда ты спешишь? К начальству? Жаловаться? К директору, что ли? Да нет же. Это пустое. Ты вспомни те дни, когда только еще начал работать мастером, свою самую первую группу (а в общем, они все оказываются первыми, какую ни возьми), вспомни самый первый срыв. Ты раскричался и тоже хлопнул дверью, и побежал по лестнице как очумелый. Хорошо, что тебя остановил Черчилль, этот толстый, с виду страшный, пучеглазый преподаватель спецтехнологии. Много поколений училось у него уму-разуму, ты тоже. И когда был ремесленником, и позже, когда стал мастером.
— Куда это ты, Леонид, с таким лицом? — остановил он тебя тогда. — Уж не жаловаться ли на своих ребят? Имей в виду, ты тоже меня когда-то доводил до ручки, все вы хороши, и я в первое время бегал жаловаться на вас. Только все это без толку. Начальство порядок наведет на час, а уважение потеряешь навсегда.
Осталось мне тогда только разреветься. Верил им, разговаривал с каждым, как с другом. И вот все впустую.
Сейчас я никого не хочу видеть. Ни начальства, ни учеников, ни друзей. Надо покруче, пожестче, а не так — с лаской да от сердца. Наплевать им на твое сердце.
— Леонид! Леонид! Ты что это людей не замечаешь?
— Здравствуй, Майка. Прости, задумался.
— Так можешь и лоб расшибить.
— Уже расшиб.
— А что такое?
— Да так, ничего. Ты придешь ко мне на собрание?
— А у тебя оно сразу после уроков? Приду, раз обещала, не волнуйся.
Я пошел дальше по коридорам училища, оставив Майку в недоумении.
Как истошно орет звонок, как будто сирена на военном корабле.
— Леонид! Леонид Михайлович! — Кому-то я снова понадобился. — Леонид Михайлович! Леня!
Оборачиваюсь. Высовывается из дверей своего кабинета Станислав Игоревич Грушин, или попросту Фрукт, как его прозвали. Наш новый преподаватель спецтехнологии. Вместо Черчилля. Тот ушел на пенсию, «в расход», как невесело шутит он, а Фрукт поступил к нам сразу после института, по особой рекомендации. Рекомендация-то у него особая, да вот не особо пока знает он свое дело. Чего только не оставил ему в наследство Черчилль: наглядные пособия для каждого урока и по каждой теме, всякие простенькие и заковыристые самоделки, наборы инструментов, работающие станки с разрезами и вырезами для показа. Черчилль был выдумщик, он умел все, знал обо всем, к нему каждый день приходили учиться — со всего Союза, бывало, приезжали. И все ахали, охали, и было чему удивляться, а теперь... Форма осталась, а душа умерла. Все было заключено в нем, в Черчилле. Уж как не хотелось ему уходить. «И кому только это все достанется, — грустно сказал он однажды, — в чьи попадет это руки?»
Вот в чьи! То одно ломается, то другое. Ну, что там опять?
— Слушай, Леня, сегодня какая-то иностранная делегация приедет, а у меня токарный опять не работает. Взгляни, пожалуйста. Я бы сам, да знаешь, не в том костюме.
— На работу надо бы являться именно в том, — сержусь я, входя в кабинет.
Все тут как прежде: и таблицы режимов резания на стенах, и световое табло, и шкафы вдоль стен, полные наглядных пособий, и все, в общем, вроде бы по-старому, да все не так, как было. Воздух не тот, столы стоят неровно, и ничего на них нет, ничего не подготовлено к началу занятий, как это было у Черчилля.
Подхожу к станку. Он стоит на возвышении, на самом видном месте, рядом с преподавательским столом.
— Вот здесь что-то, в коробке скоростей, кажется сухарь полетел, — говорит Фрукт и, как экскурсант, суетится вокруг станка. Меня раздражает его мельтешение.
— У тебя сегодня моя группа, — говорю я, — они, между прочим, слесари. Вот и заставил бы ты их разобраться.
— Да ну, еще напортачат.
— Чему же ты учишь их тогда? — разозлился я.
— Ну, сам понимаешь, Леня. Это же особый случай, иностранцы приедут.
— Нет, не стану я смотреть станок. Пусть делают сами. Это им и теория и практика — сразу все. Пока. Мне некогда.
И я пошел к выходу, но вдруг вспомнил, что хотел сегодня подъехать к Фрукту, чтобы он разрешил в этом внушительном кабинете провести родительское собрание. А теперь еще заартачится.
Оборачиваюсь и говорю:
— Я хотел у тебя попросить кабинет для собрания...
Фрукт не успел ответить. Навстречу мне повалили ребята из моей группы. Первым шел Лобов, он чуть не столкнулся со мной, но отскочил в сторону, пропуская меня, и все посторонились, один за другим, как-то особенно внимательно и настороженно глядя на меня. И смотрели они тревожно, будто каждому хотелось что-то сказать мне.
Но я их опередил — не глядя ни на кого, бросил сухо, как чужой:
— Отремонтируйте этот токарный станок, а я потом проверю. Ясно?
Мальчишки хором ответили:
— Ясно!
— Ясно-то им ясно, — слышу я голос Фрукта за своей спиной, — только я им все равно разбирать станок не дам.
Я остановился и поворачиваюсь лицом к Фрукту:
— Это почему же?
— А потому. Доломают!
Ребята шумно рассаживаются за столами. Я знаю, что они не любят нового преподавателя спецтехнологии, не уважают его. Его слова должны обидеть моих парней. Я им доверял работу посложнее — справлялись. И сейчас они ждут, что я вступлюсь за них. Но я их все еще ненавижу и говорю Фрукту:
— А ведь верно! Эти архаровцы ни в чем не смыслят. Им лишь бы морду кому-нибудь начистить. Давайте-ка, Станислав Игоревич, мы сами посмотрим, что там в станке, а эти деточки пусть пока в крестики-нолики поиграют...
Я понимал, что обидел ребят. Они видят, я сейчас не хочу иметь с ними дела, даже не смотрю в их сторону. Молча включаю станок, прислушиваюсь к его гуду, проверяю одно, другое. Первым встает из-за стола и подходит ко мне Андреев.
— Может, что-нибудь с самоходом? — спрашивает он тихим голосом.
Потом подходит к станку Штифтик, за ним Лобов, оба Савельевых... Постепенно вся группа окружает станок. Морды у всех виноватые.
— А вы червяк посмотрите, — робко советует Савельев-старший.
«Близко, близко, — думаю я. — А ну-ка, кумекайте».
— А может быть, там что-нибудь с этим, ну, как его... — тужится и не может вспомнить, и никогда не вспомнит ленивый, сонный толстяк Савельев-младший...
Я молча работаю, никому не отвечаю, ни на кого не смотрю, будто знать их не хочу.
— Ну ясно, скорости! — вдруг вскрикивает Лобов и, хлопнув Савельева-младшего по макушке, восторженно вопит, будто открыл Америку: — У вас не переключается со второй на третью! Или здесь где-нибудь поближе рвануло стопор!
«Молодец, Лобешник, — думаю я. — Толковый будет ремонтник». И сразу на сердце теплеет, и нет уже былого раздражения, и нет уже злобы на ребят. Но я еще говорю сухо и сурово:
— Ты, Лобов, догадался, ты и справляйся. А вы ему помогите! — и отошел от станка, по-прежнему ни на кого не глядя.
Но ребята сразу почувствовали, что я на них уже не сержусь. С каким жаром они взялись за работу! Каждый старается перещеголять другого. Каждый подает советы. Каждый хочет все сделать сам. А я сажусь на стул и, пользуясь тем, что все их внимание устремлено на станок, поглядываю на них, и на сердце теплеет и теплеет.
Черт знает, чего в них больше: хорошего или плохого? Сколько в их душах живет всякого: от нервного, замкнутого и угрюмого — до полной, совершенной чистоты и раскрытости, до полной беззащитности и неуверенности в себе.
Я оставил ребят и вышел из кабинета.
Глава третья
В этот день я почему-то был нужен всем: подремонтировать, подкрасить, посоветовать, подбросить, — непросто быть человеком на подхвате. И что за планида такая у мастера: всем кажется, что он бездельничает, пока группа на теории. Одному лишь мастеру по-настоящему известно, что означает его безделье. Завертелся, закрутился в колесе всяческих дел. Но сегодня это даже хорошо. Никогда еще я так не ждал и не страшился собрания, как в этот раз. Как будто какие-то вихревые силы все больше разрастались и нарочно мутили душу. Переволнуюсь, а уж потом будет полегче. Скорее бы прорвался этот нарыв.
Мальчишки хорошо отремонтировали станок. Молодец, Лобов. Все сделал как надо. Фрукт его отметил пятеркой и похвалил, пообещав даже вступиться за него на родительском собрании, если уж очень худо будет ему, этому талантливому слесарю и первому бузотеру. Только не придет он на собрание, этот Фруктик, а если явится — промолчит. Старший мастер будет, очевидно, настаивать на том, чтобы Лобову не давать аттестата, а выпроводить его всего лишь со справкой об окончании училища. Здорово он всем насолил. А больше всех матери — маленькой, тощенькой, тихой, как мышка, женщине. Даже странно, что она из деревни, из людей, привычных к тяжелой работе.
Она пришла на собрание раньше всех. Отозвала меня в уголок, расплакалась. И сквозь слезы стала рассказывать про свою жизнь, про пьяницу мужа, который мечется от женщины к женщине и все-таки возвращается домой, обещая больше не делать глупостей. Но никогда не сдерживает слова.
— И что у нас такое произошло, когда приехали мы сюда из деревни? Там все было как у людей, а тут одни несчастья, ровно бес какой попутал, ей-богу, Леонид Михайлович. А уж с сыном так и не знаю, что делать. Просила, молила, грозилась, только бить мне его не под силу. Такой он бык! Весь в отца...
И снова слезы, и снова я не знаю, как мне успокоить Марию Петровну. Понять эту женщину можно. Разве справиться ей с таким верзилой?
Победили его тут, заманили городские соблазны. Видимость легкой жизни. «Там все было как у людей...» В деревне все на людях — вот, должно быть, в чем дело. Все видели и знали, какой ты и что ты собой представляешь, а тут легко скрыться от глаз. Не понравился в одном месте — пойду в другое.
— Успокойтесь, не надо плакать, Мария Петровна. Я вас понимаю.
— Леонид Михайлович, мне ведь с моим сыном не совладать. Он считает меня отсталой дурой. Я и вправду мало училась, а все равно вижу, что он не по той дороге пошел. Делайте с ним что хотите, только не выгоняйте его, я вас очень прошу!..
— Не нужно так расстраиваться, Мария Петровна. Все, что можно, я сделаю. Работать ваш сын любит. Я попробую с ним еще раз поговорить.
— Поговорите с ним, да покруче. Ах ты, горе ты мое, горе! Вы поймите и меня, Леонид Михайлович, он у меня родился очень болезненным, я его едва выходила, все ему готова была простить...
«Ничего себе — болезненный мальчик», — невольно усмехнулся я, слушая Марию Петровну.
— А еще это ухо... Вы заметили? С таким он и родился. Он стесняется. Он всегда боком стоит, чтобы не показывать, это он стесняется.
«И ведь в самом деле... — подумал я, как о внезапном открытии. — Всегда он ко мне стоит полубоком и голову вниз, и ухо... верно же, у него ухо как после пластической операции».
— А бывало, Леонид Михайлович, мы едем в автобусе и кто-нибудь посмотрит на него подольше, а он прижмется ко мне и чуть не плачет: «Мама, смотрят». — «Да что ты, говорю. Кто на тебя смотрит, это они глядят просто так, на всех так глядят, не обращай внимания». А он все не верил. Боялся, чтобы не стали над ним смеяться. Теперь-то привык, но все равно...
Рваное ухо! Да ведь его до сих пор так дразнят ребята, тогда он становится просто зверем. Да уж, у каждого своя беда. И сколько бы ни всматривался, ни вдумывался, не сразу узнаешь и поймешь, что да как.
— А вообще-то он у меня ласковый, — говорит Мария Петровна. — Теперь с ним что-то случилось, не знаю. Даже толкнул меня однажды, нехорошо толкнул, когда я ему насчет девушки его сказала. Не нравится мне эта их дружба. Не дружба это, Леонид Михайлович...
— Вы не беспокойтесь, Мария Петровна. Девушку Николая я видел, она хорошая. Когда он с ней, его не узнать: подтянутый, вежливый. Вы не беспокойтесь. Я даже вам советую познакомиться с Ниной поближе. Пригласите домой. Пусть придут вместе. У них, по-моему, больше, чем дружба.
— Вот-вот, я и чувствую: что-то тут не то.
— А вы их не подозревайте в плохом, это обижает. А вдруг Нина — ваша будущая невестка?
Мария Петровна наконец-то улыбнулась:
— Да я-то что, по мне, он как хочет, лишь бы ему было хорошо. Не выгоняйте его, Леонид Михайлович. Я на вас надеюсь. Он ведь, в общем-то, неплохой.
Вот так всегда: ругают, ругают своих детей, а потом ждут не дождутся доброго слова о них. Что ж, я понимаю родителей, понимаю их растерянность и даже страх перед собственными детьми, перед их какой-то непонятной «взрослой» жизнью. Вся надежда на школу, училище, армию. А вот мне на кого надеяться?
Знала бы только эта маленькая заплаканная женщина, в каком положении оказался теперь я сам.
А вон отец моего старосты, Андреева, похаживает по коридору, большой, сильный мужчина с властным и открытым лицом. Уж он-то крепко держит своего сына, это видно, да так и есть на самом деле. А вон пышнотелая мать близнецов Савельевых, она в шляпке горшочком, напомажены губы сердечком, как будто она поджала их, кокетливо обижаясь. Она всегда на стороне своих детей. Стоит седенький старичок, преподаватель обществоведения, урок которого был сорван Лобовым. А вон уже волнуется Майка, идет своей прыгающей, нервной походкой преподаватель эстетики. И даже Фрукт, молодец, остался после занятий. И вообще, напрасно я над ним иронизирую. Нужно понять, разглядеть. Он ведь еще салажонок.
Пора начинать.
— Андреев! Староста! Приглашай всех в кабинет спецтехнологии.
Соберись, Ленька, и шагай, улыбнись всем, попроси пройти в кабинет. «Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте», — на разные голоса, кто с поклоном, кто протягивает руку, все улыбаются, и тоже каждый по-своему.
— Проходите, пожалуйста, проходите сюда.
Расселись за столами — этакие престарелые ученики. Смотрят вопрошающе и даже как будто виновато. А мои притихли, но держатся смело, в глазах отвага и готовность постоять за себя. Мальчишкам за столами мест не хватило, расселись кто где: на подоконниках и прямо на полу, перед огромным шкафом со всякими самодельными экспонатами. Старший мастер поднялся на возвышение, сегодня он еще и вместо замдиректора, тот заболел, и вот мастак сидит напыщенный, преисполненный важности и строгости за двоих — какое там, за целую сотню начальников.
Я не полез на возвышение. И так мне все видно. Родителей и детей.
— Давайте начнем, — сказал я голосом, который мне показался чужим.
Легко сказать — начнем. А вот с чего, каким тоном, о чем? Нужно говорить об успеваемости всех и каждого, о сорванном уроке, о поведении Лобова. Ну, в общем, о разном — только бы не утонуть во всей этой мешанине вопросов, в мелочах, в педагогической пене.
— Товарищи родители, — начал я. — Как обычно, к концу учебного года мы собираемся поговорить о нашем общем деле: о дисциплине, об успеваемости, о планах на будущее...
Я докладываю обо всем, о чем принято обычно докладывать на родительском собрании, а сам думаю, как же мне поаккуратнее перейти к главной неприятности: к срыву урока и к поведению Лобова. А где же он сам? Почему его нет?
— Староста, — спросил я, — где Лобов?
Неужели удрал?! Вот поросенок! Тут все убиваются из-за него, а он...
Пришел-таки! Как всегда, позже всех. Просовывает сначала голову в приоткрытую дверь.
— Входи, входи, именинник, — слышу я за спиной голос старшего мастера. Ох, чувствую, и отыграется он сегодня на нем.
Идет картинно, фасонисто, загребая ногами. Глаз его мне не видно, но хорошо видны глаза всех других, и, как в зеркале, там отражено его ухарство, решимость постоять за себя и пострадать за других, и понимание, что сегодня ему будет устроена большая баня, и заведомая готовность ко всему, мол, это все то, да не то, это вы, взрослые, все придумали и устроили, а мы тут ни при чем.
— Ну-ка, Лобов, не спеши, о тебе-то как раз и пойдет сейчас разговор.
Остановился, как будто сказал я ему: «Руки вверх!» И вот медленно-медленно начинает он поворачиваться ко мне.
— А чего я?
— Да так, ничего. Иди сюда.
Идет. А пока идет, я вижу, как смотрит мать. Со стыдом и слезами. А как смотрят родители? Кто пристыженно, кто терпеливо, но все с пониманием — мол, и у меня почти такой, узнаю по походочке. Мужчины, какие покрепче да порешительнее, с трудом сдерживают себя, кажется, вот-вот кто-нибудь сорвется с места и отшлепает этого молодого нахала. «А у меня таких двадцать семь, — думаю я. — Ну, пусть не совсем таких, но еще неизвестно, кто из них труднее: Лобов или Бородулин».
Наконец-то Лобов подошел ко мне, встал вполоборота, так, чтобы его рваное ухо не видно было другим. Оказывается, он всегда помнит о своем рваном ухе, никогда и нигде о нем не забывает. И я стараюсь смягчить свой первый удар:
— Товарищи родители. Вот Николай Лобов. Мы, преподаватели, не знаем, как нам с ним поступить. Он сорвал урок обществоведения, оскорбил учительницу английского языка, нахамил директору, он курит, ругается и всячески разлагает дисциплину в группе. Чтобы быть объективным, я должен сказать, что работает он старательно и умело, парень сообразительный, а вот с дисциплиной...
— Разрешите, пожалуйста, мне, — обратился с полупоклоном преподаватель обществоведения и сразу же горячо стал рассказывать: — На моих уроках этот юноша сидит так, что не понять, как не переломится у него хребет. Он же на позвоночнике сидит, на копчике, одна только голова его над партой...
— Потише, ребята, потише, — остановил я развеселившуюся группу.
— А что на уроках английского? Учительница говорит Лобову: «Не обнимайся с Васильевым». А он ей в ответ: «Я же не с вами обнимаюсь».
Тут уж ребята не смогли сдержаться, рассмеялись. Родителям тоже стало весело. Приободрился и Лобов, он даже хохотнул.
— А ты что гыгыкаешь?! — закричал на Лобова старший мастер. — Тебя мы все-таки вышвырнем, не будем с тобой больше цацкаться. Подумать только, сорвал урок! Да еще какой урок! Может быть, самый важный — это же дисциплина общественных наук. Как можно без нее, даже не представляю. Вот кто сейчас президентом в Америке? А во Франции? Не знаешь? Ай-яй-яй, и это называется комсомолец. И вместо того чтобы слушать учителя, да еще какого учителя, заслуженного учителя нашей системы, — ты срываешь урок своими хулиганскими выходками.
— Какими выходками? Я ничего не делал. Я как все...
Вот они слова, удобные для каждого: «как все...» Знает, что всех сразу не накажешь, что все — это коллектив, а коллектив, как известно, уважаемая сила. Но как быть с этой самой силой, когда она связана круговой порукой? И когда коллектив превращается в «кодлу»?
— Как ты разговариваешь? Даже сейчас. Глядя всем в глаза. Постеснялся бы хоть родителей, — говорит старший мастер.
— Ну-ка, расскажи, что ты делал под столом? — тихим и язвительным голосом спросил учитель обществоведения.
— Ничего не делал.
— Как так ничего? — взлетают вверх брови учителя.
— Так вот, ничего, просто сидел, спина заболела.
— Ах, теперь, выходит, просто спина заболела? — с возмущением говорит маленький, толстенький учитель. И ко всем: — Я ему говорю: «Встань» — он не встает; я ему говорю: «Выйди» — он не выходит; я ему говорю: «Дай свою тетрадь» — он говорит: «У меня ее нет». Я говорю: «Родителей вызовем», а он мне: «Ну и вызывайте». Я ему говорю: «Уходи немедленно из класса» — он сидит. Представляете? Сидит, и хоть бы что. Пришлось мастера вызывать.
Уж это как водится. Почти все учителя вызывают мастеров, когда не в силах справиться с ребятами. Только напрасно. Нужно им самим налаживать отношения. На то и учителя. Но разве скажешь сейчас об этом?
— А пререкание с директором? — продолжает старший мастер. — Я сам был свидетелем. Стоит этот нахал с девушкой, руки в брюки, как сейчас, и болтает. А что болтает? Да что взбредет на ум. Директор ему: «Ты почему опаздываешь?» А он в ответ: «Я не опоздал, я еще успеваю». Директор ему: «Как так успеваешь, на моих часах уже вон сколько». А этот шалопай ему: «Тогда, значит, и вы опоздали». — «Что значит опоздал? — говорит возмущенный Николай Иванович. — Я никогда не опаздываю». А Лобов, представляете, отвечает: «А кто вас знает? Я же за вами не слежу». И девушка тоже так посматривает вызывающе. Она, кажется, из фрезеровщиц.
Родители смотрят на Лобова, как на исчадие ада. Мать сжалась, кажется — вот-вот заплачет. Мальчишки сидят настороженно, в раздумье, у них только лица мальчишеские, но не глаза. Чувствуют, что разговор пошел круто.
Лобов насупился, набычился, стоит нарочно в небрежной и неудобной позе, выставив вперед одну ногу. Смотрю я на него и думаю: так бывало и со мной, когда я, мальчишкой, стоял иногда перед учителем и говорил не знаю что, губил себя не знаю почему. От смущения или от отчаяния? Со мной Лобов никогда не стал бы разговаривать, как с директором. А может быть, это он пошутить хотел, не зная, что шутить с начальством не рекомендуется? С девушкой он стоял — вот в чем тут дело. При девушках к парням приставать с нравоучениями нельзя — жди срыва.
Майка смотрит на Лобова и на меня, глаза и лицо у нее такие, будто она вовсе не работает мастером токарной группы и ни разу не была здесь в училище, будто она пришла вместе с родителями, и вот уже скоро доберутся и до ее сына.
— Теперь ты скажи нам всем: почему ты сорвал урок, почему ты так разговаривал с директором, почему ты не хочешь учиться, и наконец, что ты думаешь о своем поведении? — металлическим голосом спросил старший мастер.
Лобов смотрит угрюмо. Бледное, вытянутое лицо, тонкие губы, заостренный подбородок, отчужденность в глазах. Глухая защита, как у боксера. Глаза смотрят и не видят, и не впускают в себя.
— Мы тебя слушаем, — говорит старший мастер. — Внимательно слушаем. Мы даем тебе возможность высказаться при всех. Вон сколько собралось народу послушать тебя. Товарищи твои тоже тебя ждут. Только какие они тебе товарищи, если допустили, что ты разлагаешь в группе всю нормальную жизнь? Так друзья не поступают. Друзья принципиальны и строги. Что молчишь? Долго будешь молчать?
Старший мастер все еще стоит на возвышении, рядом с токарным станком, который недавно отремонтировали мои ученики. Старшего теперь трудно остановить, он вошел в педагогический раж, ему во что бы то ни стало хочется «довести до сознания». Он требовательно смотрит на Лобова сверху вниз. От одного его вида у меня прошла вся злость на ребят.
— Ну и ну, выпороть бы его, — говорит отец Андреева, и огромные его кулаки сжимаются, словно чувствуя в пальцах широкий флотский ремень.
Тихо, напряженно стало в кабинете спецтехнологии. Все смотрят на Лобова и взглядами требуют, чтобы он хоть что-то сказал. Мать, кажется, даже привстала.
— Как это вы не цените честь училища? Вам здесь дается прекрасная специальность, — обращается уже ко всем старший мастер. — Вам придется работать с точнейшими приборами, в белых халатах. Так расскажи нам, Лобов, о себе всю правду. Почему ты так себя ведешь?
Какую правду хочет услышать этот человек в черном костюме, в черной рубашке с белым синтетическим галстуком? Ему хочется чтобы что? Чтобы этот набычившийся парень вдруг стал другим, чтобы он почтительно вытянулся, чтобы щеки его зарделись стыдливым румянцем и он сказал бы елейным или срывающимся от волнения голосом: «Простите, пожалуйста, больше так не буду. Я грубил учителям, и я понимаю, как это нехорошо. Я во всем виноват. Простите меня, пожалуйста, больше не буду».
Но Лобов стоит перед всеми, как стоял, независимо и надменно, с презрительно, насмешливо сжатыми тонкими губами. Холодная враждебность на его лице. Мол, погибаю, но не сдаюсь! Вы все против меня, и мне наплевать!
— Так вот, имейте в виду, вам придется работать в белых халатах, — почему-то повторяет старший мастер.
— И в белых тапочках, — говорит кто-то. Нет, не кто-то. Это Бородулин. По лицу видно, как он зол на всех.
Но старший мастер пропускает эту реплику мимо ушей, он увлечен своей странной идеей о белых халатах. Откуда он взял эти белые халаты? Он привык, затвердил, бездумно врет, не замечая вранья. Это ведь только в лаборатории или в совершенно исключительных условиях слесарь работает в белом халате.
А старший мастер знай себе спрашивает:
— Говори, Лобов. Чего молчишь? Где твоя совесть?
Я смотрю на Лобова и думаю: зачем все-таки он ведет себя так вызывающе и поглядывает на всех злобно? Кто его учил так жить среди людей? Кто его наставники? Тихая, пришибленная мать? Или воспитатели детского сада? Или учителя школы? Или мы, мастера, вот я, например, или вон Майка, которая глядит на Лобова, жалея его и мучаясь за него? А может быть, вон тот незнакомый мужчина?.. Нет, не они отвечают сейчас за Лобова. Я тут главный родитель. Я сейчас за всех ребят отвечаю в первую очередь. И можно считать, что это меня прорабатывает сейчас старший мастер. Прорабатывает перед ребятами и перед родителями.
И на них смотрю я, на родителей.
Почти у всех усталые лица и внимательные, напряженные глаза. Родители сидят, как, бывало, сидели школьники за партами, а учителя, как бывало, стоят и отчитывают; но теперь уже у родителей есть тревожное, горькое знание того, что такое жизнь, чем оборачиваются многие мечты и надежды, во что превращается мальчишеская гордость и отвага, что бывает в конце пути.
Какие лица! Только вглядись и пойми. Кажется, впервые я их увидел. Кажется, только теперь я начал понимать что к чему. Только во время этого разлома, разреза, в минуты беды можно так вот понять себя и других. Так подумай, вглядись и пойми — себя и вот их, учащихся, молодых граждан и их родителей. В этом понимании, может быть, суть всей жизни. Что-то самое главное для наших отношений: на работе, дома, в деле и в безделье, в будни и в праздники. Тебя ударил твой ученик, такой же примерно, как этот Лобов, вот и подумай. Нет, Бородулин другой. Тот... в том нужно разобраться особо. А не кричать на него, как ты это сделал, и не заниматься занудливым, зловредным допросом, как старший мастер. А ты вот попробуй именно от сердца к сердцу, от сознания к сознанию.
Встретиться, обязательно встретиться с Глебом и поговорить с ним так, чтобы он понял, как мне сейчас худо без дружбы и доверия к моим ученикам и особенно к нему, к Глебу.
— Послушай, Коля, — говорю я Лобову, воспользовавшись короткой паузой в гневном монологе старшего мастера. Мне приятно обратиться к нему сейчас по имени, и я произношу его легким быстрым голосом и уверен, что, раскрывшись и доверившись сам, вызову ответное к себе доверие. — Пойми, все мы хотим, чтобы ты понял, что ты уже не мальчишка, что нужно отвечать за свои поступки и всерьез подумать о своем поведении. Только этого мы и хотим от тебя.
Молчание. Лобов переминается, раза два бросил на меня взгляд и по-прежнему молчит. Молчание затягивается. Все ждут. Я тоже.
— Эх, выпороть бы его, — слышу я голос отца Андреева.
— Ну и воспитаньице, — говорит полнощекая мать близнецов Савельевых. Она раскраснелась, сердится, мнет в руках платочек.
— Кто из дружков-приятелей ему поможет? — с холодной язвительностью снова начинает словоохотливый старший мастер.
— А я тут при чем? — один за другим подскакивают братья, не успев сговориться об очередности.
— Вот ты! — манит пальцем старший мастер. — Это тебя я видел вместе с Лобовым у пивного ларька.
Савельев встал невдалеке от Лобова: руки пробовал заложить в карманы — не получилось, да и встать нахально, как Лобов, не решился, не в его это правилах, хотел бы придумать что-нибудь понезависимее, да никак. Вон и мать смотрит во все глаза: «Попробуй только опозорить!»
— Помоги, Савельев, может быть, ты расскажешь за товарища? Тут нечего стыдиться, тут все свои.
— Почему это я должен за него говорить, пусть он говорит.
— Ты, Савельев, тоже разболтался. А кто виноват? Вся группа. У вас нет настоящей дружбы, каждый сам по себе и только на неблаговидные дела — вместе.
Неужели действительно все в моей группе так плохо, как говорит старший мастер? Надо бы кончать все это, сбить тон и тему разговора. Но в странном, двусмысленном я оказываюсь положении. Я в ссоре с группой, я знаю о них намного больше плохого, чем знают все остальные, и в то же время я знаю о них много больше других — хорошего. Надо бы и мне поругать ребят, но тогда я окажусь заодно со старшим мастером, подпишусь под его занудливым монологом. И не будет от этого никакой пользы, только вред. А защищать всех — тоже нельзя, они воспримут это как подхалимаж перед ними, как мою слабость — мол, все им теперь дозволено...
Что же мне делать? Как я должен сейчас вести себя? И вдруг я слышу голос:
— Напрасно вы так, Виктор Васильевич.
Это Штифтик. Маленький, щупленький и отважный.
— Ты встань, — прошу я его. — Встань и скажи.
— Пусть лучше идет сюда, — приглашает старший мастер.
Штифтик смело выходит перед всеми, держится прямо, хоть и с трудом преодолевает неловкость. Он теперь как на сцене, столько глаз смотрят на него. И всем нужно ответить. Голос чуть дрожит.
— Вы, Виктор Васильевич, говорите так, будто мы самые худшие и вообще все у нас плохо. А я вот, например, не считаю Лобова таким уж плохим, так у него получается, а на самом деле он другой. Он просто у всех на примете, и все его замечают, а он, в общем, другой. И с нашими групповыми делами не все так, как вы говорите. Мы плохо сидим на занятиях, когда нам скучно. А работаем, бывает, плохо, когда нам не дают работу такую, чтобы...
— Как это вам не дают работу? — удивился старший мастер. Да и я удивился.
— Олег, с чего ты взял это? Как так не дают?
— А так вот, Леонид Михайлович. Боятся или не хотят, я не знаю. Так у нас было на прошлой практике, на заводе.
— Но я же спрашивал у всех: довольны? Вы говорили — довольны.
— Леонид Михайлович, а что было жаловаться? Какой толк? А если совсем честно, было даже обидно. Работаешь, работаешь, а наряд тебе выписывают на копейки.
— Вы ученики, вас еще государство содержит, — отвечаю я.
— Да вообще вам напрасно дают деньги, — возмутился отец Андреева. — Это вас только портит. Деньги, деньги, деньги. Только и слышишь про них. Раньше вон учили безо всяких денег, и было хорошо.
— Жизни они еще настоящей не хлебнули, все бы им только так, по поверхности скользить, — сказала мать Савельевых. Это уж она только для меня возмущается. Сыновей своих любит до беспамятства, готова заранее простить им все. Но вот я слышу неожиданное признание: — Мой, видите ли, передумал быть слесарем...
Я удивляюсь: который же из ее сыновей передумал? Если младший — туда ему и дорога. Точно — младший. Забегали у него глаза.
— Или, говорит, буду играть на трубе, или шофером...
— Зачем вы только учите их всему сразу, этих выгадывательщиков? — возмутился отец Андреева. — Они должны знать свое дело до тонкостей, а то, понимаешь ли, хотят быть мастерами на все лады: и на трубе играют, и в футбол, и шоферские курсы для них открыли, и куда только не ходит мой сын! А я вот говорю ему: ты можешь железку мне заточить для рубанка? Подумаешь, говорит он, запросто. А сам так напортачил, стыдно смотреть.
Мне тоже стыдно перед отцами и матерями моих учеников. Тут все сидят специалисты своего дела: шоферы, слесари, токари, машинистки, кассиры, фрезеровщики. Они-то знают, чего стоит на производстве плохой работник: ни уважения ему, ни заработка. Правда, заточить железку для рубанка только с виду кажется просто, а вообще-то дело тонкое, нужен опыт, и я сам вряд ли справлюсь, как надо бы. Но все-таки стыдно за моего старосту и за себя.
Родители зашумели, загалдели, каждый заговорил о своем наболевшем. Штифтик молчал, выжидая, когда кончится шум. Я решил, что надо помочь Штифтику, вызову еще кого-нибудь, пусть сами скажут о своих делах.
— Хотелось бы послушать комсогрупорга и старосту, — говорю я.
Первым пошел комсогрупорг, Петр Елизаров. Свое дело он делал тихо: собирал взносы да устраивал отчетные собрания раз в году. Он по натуре не вожак, и я ошибся в нем, и мальчишки выбирали его бездумно, лишь бы выбрать кого-нибудь, лишь бы не приставал потом со всякими «надо». Вижу по глазам, что говорить ему сейчас неохота, лень думать. А, мол, все равно, что было, то и будет. Обещания, обязательства — надоело. Он и сказал вяло насчет того, что группа подумает, примет к сведению. У него и слова-то были неживые, стандартные, напрокат.
А вот староста совсем другой. Андреев в отца: крепкий, плечистый, светловолосый, с большими смелыми глазами, он выходит с достоинством, говорит серьезно и взволнованно:
— Группа наша, я считаю, как группа. Не лучше, но, и не хуже других. Может, в чем даже и получше.
— Конечно, лучше! — шумно согласились все мальчишки.
— Но я вообще-то хочу сказать о другом. Вот что я хочу сказать... — Андреев слегка замешкался. Я еще ни разу не видел его таким взволнованным. Он старался сдержать себя и говорить отчетливо, ровно, с достоинством; он смело смотрел в глаза отцу, всем родителям и притихшим ребятам:
— Я хочу сказать, что мы уже взрослые. У нас есть паспорта, специальности, на нас рассчитывают, как на специалистов, а вот разговаривают с нами в училище, как с детьми. Сосунками.
— А как ты думаешь, — спросил вдруг молчавший до того преподаватель спецтехнологии, — есть все-таки какое-то отличие между взрослыми и учащимися? Есть или нет?
— Конечно, есть, — начал Андреев, но его перебил Саня. Он сказал негромко и медленно, как всегда:
— Взрослые говорят одно, а делают другое...
— Что ты имеешь в виду, Саня? — удивился я. — Разве все врут?
— Все! — раздался вдруг громкий голос. Глеб Бородулин вскочил со своего места красный, яростный, отчаянный — никогда я еще его таким не видел — и срывающимся голосом, будто преодолевая удушье и заикание, закричал:
— Все врут! Все кругом ложь, вранье!..
Что это? Что с ним? Может быть, это родительское собрание, сбор отцов и матерей так подействовали на него, оставленного своими родителями?
Все лица повернулись к Глебу. Высокий, нервный, напряженный, он всем бросал вызов. Что еще скажет он?
— Вот старший мастер все время говорит нам о белых халатах, а ведь это самая настоящая неправда. Это хоть и ерунда, деталь, но все-таки... Есть и почище кое-что. Мы не боимся ничего, лишь бы нам не врали!
— Так что же, ты считаешь, что я вру? Так, что ли?
Глеб молчал, смотрел на мастера в упор, смело, твердо, но молчал. А старший, будто обрадовавшись чему-то, стал переспрашивать и переспрашивать:
— По-твоему, я врун, да? Обманщик, так ты считаешь?
Я открыл было рот, чтобы прервать этот уже невыносимый допрос, но успел сказать только два слова: «Он прав»... и вдруг услышал:
— Да перестаньте. Сами знаете, что он прав, — сказала Майка. Она была просто вне себя.
Старший мастер не ожидал такого от Майки, насупился, обвел всех оскорбленным взглядом и уже неуверенно сказал:
— Ну что же это вы, понимаете ли... Я одно, вы другое... Как так можно, понимаете ли...
Что ж, ему тоже нелегко гнуть свою линию, я невольно посочувствовал ему, потому что уж очень растерянный и пришибленный вид был сейчас у человека, который, кажется, больше всего на свете дорожил своей солидностью.
А Глеб стоял во весь свой немалый рост. Он был еще взволнован, но все отчужденнее и замкнутее казалось его обычно открытое лицо. Менялся, как всегда, и цвет его кожи — сквозь румянец начала проступать бледность. Правдолюбец! Как же ты смог? А может, за то он меня и стукнул, что я тоже вру? Его глаза требуют только правды.
Я всегда хотел говорить всем только правду. Но как сказать, к примеру, Илюхину, что он дурак, пень, причем зловредный пень, а Сане — что он действительно душевнобольной, а Савельеву-младшему — что никогда из него не получится слесарь, — может выйти хороший пекарь, закройщик, садовник, киномеханик, кто угодно, только не слесарь? Но я бы сказал всю правду и Лобову, и старшему мастеру, и вот ему, моему Глебу.
Но сейчас говорю не я, а говорит он.
— Вот вы Лобова все обвиняете, требуете, чтобы он выложил всю правду, — продолжал Глеб запальчиво. — Тогда почему же, если вы считаете нас взрослыми, мы не имеем права делать все то, что делаете вы? Вы-то пьете? Почему мы не можем курить? Вы же курите? И ругаетесь вы тоже, а нас учите не ругаться. И прогуливаете, и опаздываете сами. Почему вот, например, директор имеет право опоздать, а Лобов нет? Или вот нам делают замечание, а мы не можем. Почему?
— А вот почему, — услышал я голос директора училища. Никто не заметил, что он стоял позади всех, у самых дверей. — Я отвечу, почему одним можно одно, а другим другое.
Николай Иванович был спокоен, корректен и даже мягок. Он не наставлял, а как будто дружески растолковывал. Он отвечал не только Глебу Бородулину, бросившему вызов, идущему на крайность, готовому к ссоре. Директор училища обращался ко всем сразу, кто был здесь, а может быть, даже еще и к тем, кого сейчас не было на этом собрании, но кому наверняка передадут его слова.
— Посудите сами, мы ведь не можем руководствоваться законами джунглей. У нас есть партийная дисциплина, комсомольская, армейская, гражданская, производственная, общегосударственная. Кто не подчиняется общим законам — мешает обществу. И это надо понять, принять, и тогда многое станет проще, легче, разумнее...
Он был прав, он был совершенно прав, я видел, как с ним были согласны все родители, многие даже кивали головой в такт размеренному ритму его речи. С директором и вправду нельзя было не согласиться. Но до чего же разные стояли друг перед другом два человека, два гражданина одного и того же общества — юный, отдавшийся порыву и своим наболевшим сомнениям Глеб Бородулин и его совершенно уверенный в каждом своем слове и жесте наставник, самый главный сейчас командир и толкователь жизни, директор училища, Николай Иванович Пономарев. Мой разум был на его стороне, но вот сердце было с Глебом. Всей душевной тревогой, сомнениями, мальчишеской запальчивостью я был с Бородулиным. И, оказывается, не только я.
— Но ведь неправда насчет белых халатов, — покачав головой, простонала Майка. Она не могла сдержаться. — Просто глупая старая легенда.
Директор жестом остановил ее, сказал с прежней уверенностью:
— Мы никого не обманываем. В белых халатах будут работать не все, но некоторые действительно будут. На базовом нашем заводе, как известно, есть такая возможность. А вот насчет общего права, что кому можно, а что нельзя, я еще не все сказал. Мы считаем учащихся взрослыми людьми. Но не вполне. Вы разве способны нести на своих плечах все обязанности взрослого? Нет, не способны. А значит, и не все права вам даны. Мы вас учим, воспитываем. И у нас в этом плане особые моральные обязательства перед вами, перед вашими родителями, перед социалистическим обществом и государством. И особенно теперь, когда так заметно расширяется и совершенствуется система ПТУ. Теперь особенно нам нужна будет строгая дисциплина — у нас большие задачи. В общем, что разрешено офицерам, не всегда позволено солдатам, — это ясно! И я не позволю, чтобы юноша, воспитание которого доверено мне, во вред себе и обществу губил свое здоровье пьянкой. Не позволю — и все. Это ясно? И я не позволю, чтобы учащиеся со мной пререкались, как вот этот молодой человек, Николай Лобов.
Он прав, он снова прав, думал я, и опять возражал себе: но ведь у нас не армия. Почему ученики должны все принимать готовым, из чужих рук, на веру? Почему мы от них требуем, чтобы они были лучше, чем мы сами?
И вот я уже думаю о себе. А всегда ли я поступаю так, как требую от ребят? Нет, не всегда! А почему? Не знаю, почему... А не бывает ли, что я говорю одно, а делаю другое? Бывает! А почему? Можно ли говорить одно, а делать другое? Смотря в каких случаях. В каких же?.. А всегда ли я учу тому, во что сам верю?
— Я считаю, что сейчас самое время поговорить начистоту о тех вопросах, которых коснулся Глеб Бородулин, — сказал я. — Давайте обсудим их по-деловому.
— Нет, не разрешаю, — сказал директор. — О том, как выполняют свои права и обязанности педагоги, мастера, воспитатели, поговорим не здесь, а на собрании педагогов и мастеров. Говорите о непосредственных делах и заботах группы.
Директор был тверд и по-своему прав, снова прав, но непреодолимость директорской воли вызывала во мне протест.
«Я мастер, а не солдат», — думал я с каким-то двойственным чувством досады и облегчения оттого, что директор снял с меня часть ответственности.
Собрание пошло теперь, как оно проходило обычно, по знакомому руслу. Нарушители просили прощения, кто себе под нос, кто во весь голос и даже с некоторой похвальбой, кто дурашливо. Всех прощали. Только Лобову дали строгий выговор. А вся группа обязалась повысить успеваемость и дисциплину. Об этом сказал мой староста, Андреев.
— Мы постараемся подтянуться, — пообещал он за всех.
И тут снова не удержался старший мастер:
— Ну что же, — сказал он. — После такого заявления, думается мне, наш договор следует закрепить на бумаге.
— Вот еще! Зачем это? Опять писать. Вы так поверьте, — зашумели ребята. И я подумал с досадой, что, конечно же, не стоило бы сейчас заниматься формальностями, все устали. Да и вообще, лучше поверили бы просто так.
— Поверить-то мы поверим, но когда на бумаге... — начал старший мастер.
— Ну да, вам легче будет нас упрекать, — бросил Штифтик.
— Зачем упрекать? Напомнить — напомним, — слегка смутился старший мастер.
— Может быть, и в самом деле ни к чему, Виктор Васильевич? — поддержал я ребят. И подумал: «Сколько мы обязуемся, обещаем, уверяем, хотим кого-то обойти, обогнать. Соревнование — ведь это дело чести, это лучшие возможности напоказ. Само что-то должно загореться, а не просто — «надо», и все тут. Пойди разбери, кому что, для чего все это надо. И старший мастер по своей унылой привычке к формальностям убивает в ребятах что-то живое. Лучше бы выступил, распалил, так нет же, тянет свое».
— Непорядок это, Леонид Михайлович. Поговорили, и до свиданья. А так всем будет ясно, вывесим на доску. Твоим стыдно будет не выполнить слово, а другие тоже подтянутся, а то как же!
В общем, все-таки записали мы наши новые обязательства на бумаге, пункт за пунктом.
Ребята сидели теперь разморенные, сникшие, будто они обессилели от борьбы, мол, ладно, мы постараемся больше так не делать... лишь бы побыстрее кончилось собрание и отпустили бы нас по домам. Это же очень трудно — вытерпеть столько уроков подряд. Порезвиться бы, побегать, покричать.
Родители тоже устали. К долгим педагогическим разговорам они не привыкли. Пора по домам. По лицам я видел — они не очень-то верят, что их дети теперь изменятся к лучшему. Жизнь есть жизнь, дети есть дети, и все вскоре пойдет как всегда. У нас полно своих взрослых забот, мы воспитываем, как можем, своих мальчишек и девчонок, мы отдали их вам в ПТУ — вот и учите уму-разуму, и справляйтесь как хотите с нашими детками.
Многие, уже очень многие заспешили домой, а кое-кто и на работу в вечернюю смену.
И все-таки не все разошлись после собрания. Мать близнецов Савельевых, отец Андреева, мать и отец Штифтика обступили меня. Им хотелось узнать все до мелочей. Ждала в сторонке и мать Лобова с какой-то незнакомой мне женщиной. Многие остались подождать меня, всем хотелось побольше узнать о своих детях, только о Бородулине никто ничего не хотел узнать, расспросить, никто им не интересовался. Он сам за себя был в ответе. Вот он что-то ищет у себя под ногами, ходит по коридору туда-сюда. Это ведь меня он ждет.
— А ты с этим правдолюбцем потолкуй как следует, — строго сказал мне старший мастер, проходя мимо. — У него там всякие завихрения, — и он покрутил пальцем у виска.
— Мы еще поговорим, Леня, — шепнула мне Майка, тоже не задерживаясь.
— Интересный парень. Гордый, — сказал Акоп. — Это он танцевал в субботу в Доме культуры с красивой такой девушкой?
— Он, Акоп, он самый. Всякое есть в этом парне.
— Я из него сделаю классного баскетболиста, — горячо заверил Акоп, хлопнув меня по плечу перед уходом, как будто пообещал мне исправить в Глебе сразу все недостатки. Ему что, он рассчитывает «на потом», а у нас все должно состояться теперь.
— Глеб! Что ты там ищешь? Ничего не ищешь? Тогда иди в мастерскую, подожди меня, я сейчас приду.
Глава четвертая
Тишина. Притаились и чего-то ждут верстаки. Недавно отремонтированный фрезерный станок вызывающе сверкает свежей краской. Мы здесь одни.
— Ты был там ночью? — говорю я тихо.
И Глеб отвечает тоже тихо, чуть слышно:
— Был.
Мы сидим на подоконнике лицом к дверям. Мы снова рядом, как, бывало, сидели на обочине дороги. Мы говорим негромко.
— За что ты ударил меня?
— Я не знал, что это вы, было темно.
— Не так уж темно.
— Я видел вас только со спины, не узнал.
— Даже когда я стал кричать?
— Тогда узнал, но не сразу.
— А почему все-таки ударил?
— Не знаю. Побежал, как все...
Снова «как все»... Разве может это быть мерой оправдания? Так можно оказаться в какой-нибудь истеричной оголтелой толпе и кинуться на одного...
— Значит, за компанию ты можешь и убить?
Он покачал головой:
— Нет.
— Можешь, Глеб, — сказал я. — Не ты убьешь — водка. Кинул бы камень чуть посильнее, и конец!
— Это не камень, это был кусок плексигласа. Случайно оказался в руке. Я вас не хотел ударить. Я только защищал того, маленького. Вы очень тогда обозлились, кричали...
— Еще бы. Четверо на одного!
— Пятеро, — поправляет Глеб.
— Тем более.
Мы сидели на подоконнике бок о бок. Я спрыгнул на пол, чтобы получше видеть Глеба, посмотреть ему в глаза. Он тоже хотел спрыгнуть, ему стало неловко сидеть, когда я стою.
— Сиди, сиди, — сказал я. И спросил: — Вы намечали встретиться?
— Нет, вышло случайно. Увиделись около Фрунзенского, потоптались, потом в кино, потом, в общем, купили...
— Вино? — догадался я.
Глеб кивнул.
— Дурачье. А ты что, не знаешь судьбы своей матери? Почему у матери отобрали права на тебя? Почему твой отец отказался от семьи? Не знаешь?..
Ему было неприятно все это выслушивать. Он переменился в лице. Снова что-то нервическое появилось в его глазах, в позе, в пальцах, сжимающих край подоконника. Трудно ему, и все же пусть выслушает. Любая правда сейчас лучше, чем самая распрекрасная ложь.
— Эта отрава убивает в человеке все: ум, энергию, волю. Главное — волю. Человек становится неуправляемым. Ты вот бросился на меня. Ты напал бы на кого угодно, мог пойти на грабеж, на любую крайность заодно со всеми. Разве не так?
Глеб молча пожал плечами. Он не хотел спорить, но и не соглашался.
— Вот если ради справедливости или чего-то самого главного в жизни тебе нужно будет пойти против многих, ты пойдешь?
Глеб кивнул.
— А против этой кодлы пойти не смог? Как они, так и ты? Ну что мне с тобой делать, как я должен поступить? Я мог бы отдать тебя и всех твоих дружков под суд. Мог бы?
— Могли бы! — не поднимая на меня глаз, согласился Глеб.
И снова вернулось к нему какое-то особое напряжение, я это видел. Он внешне держался непринужденно. Глеб может замкнуться снова, стать чужим, враждебным и непонятным в своих быстрых переходах от искренности к замкнутости, от бесшабашной отваги, как было только что на собрании, к трусливой скрытности, даже униженности, к пассивному «будь что будет», — лишь бы спрятаться за чужие спины. Ночное нападение тоже, в сущности, круговая порука. Все вместе соединялось в Глебе: и крайняя трусость, и крайняя смелость, и, наверно, он, еще не зная себя, бросается и в ту, и в эту сторону, и на все четыре.
— Не пойму я, Глеб, ты только что стоял за полную правду, требовал, обвинял, а сам подговорил группу, чтобы все врали заодно с тобой?
— Думал, что вы заявите в милицию.
— Значит, страх перед милицией, перед справедливым возмездием сильнее чувства правды? И выходит, что побоку твое сегодняшнее возмущение? Все, что ты говорил, пустые слова, и все, о чем мы с тобой говорили, пустые слова, раз ты подумал, что я способен тебя выдать милиции. А я ведь считал тебя своим другом. Почему ты мне не поверил, разве было, чтобы я крутил, обманывал?
Блеснули глаза, и что-то отчаянно-решительное появилось в лице Глеба, он хотел было что-то сказать, но не произнес ни слова.
— Ну, что молчишь? Я крутил, обманывал?
— Было, — говорит он едва слышно. Это короткое тихое слово, как спичка, подожгло меня, как будто Глеб схватил мою руку в чужом кармане.
— Что было? Говори, выкладывай.
А может быть, я дал слишком большую волю ученику? Остановить его, одернуть? Глеб выжидает, смотрит мне в глаза. Мы оба как будто меряем силу наших взглядов. Все перевернулось, теперь он обвиняет.
— Начинай же!
И он сказал:
— Вот вы говорили насчет чистоты отношений с девушками и вообще с женщинами, а сами любите одну, а встречаетесь с какой-то такой...
Если бы я услышал, что меня приговаривают к смертной казни, я, наверно, не сжался бы, не оледенел, не ужаснулся так вот, как теперь, после приговора к смерти моей совести и чести. Уж не знаю, что именно имел в виду Глеб, сказав о Зое «с какой-то такой...», только его слова, интонация резанули меня. Какое он имеет право? Откуда знает? Что понимает он в жизни, мальчишка!
Всего лишь один вопрос Глеба разлетелся на десятки, на сотни вопросов, его и моих, и может быть, надо было бы теперь прекратить этот разговор немедленно, но я не смог, не сдержался, — я тоже должен знать всю правду.
— С какой это «такой»? — спросил я жестко.
— Ну, в общем, она вам не жена... и у нее есть еще кто-то кроме вас.
Черт возьми, и почему это передо мной ученик, мальчишка, а не равный по возрасту мужчина, — я схватил бы его за грудки и встряхнул бы хорошенько, и заставил бы замолкнуть, заткнуться... И все же его слова больны мне оттого, что в них правда.
— Ты все-таки не очень-то... — сдавленно вырвалось у меня.
— Вы же сами просили...
Да, это верно, и если теперь я заставлю его замолчать — больше уже никогда он не заговорит со мной так...
— Гляжу, ты о моих делах осведомлен лучше, чем я. И наверно, не ты один? И уж конечно в группе знают не только про то, что ты сказал. Наверно, пухленькое мое досье? Все знают. Ведь знают же?
— Да, знают.
— И что же? Говори.
Глеб потупился, молчит. И все же отступать поздно, я смотрю в упор, жду, и все отчетливее приходит ко мне горькое чувство, будто меня отвергают, не понимая. Я мечусь среди многих людей, я в центре круга, и это не детская игра в «каравай-каравай, кого хочешь выбирай». Спрашивают, требуют Катя, Зойка, Мишка, Глеб, а я бросаюсь от одного к другому, и это уже «пятый угол». Я виноват и не виноват, оправдываюсь и не оправдываюсь, я бы мог послать всех к черту, но я и сам себя перебрасываю из угла в угол, я снова надвое, натрое... и никуда не отбросить мне ни тайные, ни явные обвинения. Я вглядываюсь, заглядываю в себя, как в колодец, — он замутнен, и все меньше у меня слов и даже чувств, в которых не было бы никакой кривды.
— Я слушаю тебя, Глеб.
— В нашем возрасте у вас тоже было по-разному, — торопливо говорит он. — Вы рассказали, что считались одним из лучших учеников, а вас выгнали из экспериментального цеха за брак.
Что было, то было. И это я не хотел и не хочу скрывать. Просто в начале года, когда я еще только знакомился со своей группой, я похвалился, рассказал только начало... нестрашную часть сказки моей жизни, чтобы не отпугнуть, не пересолить. Жалко, что я не успел, не опередил с признанием насчет второй части. Рассказал бы вовремя, история сработала бы и на меня и на них. Я и хотел вовремя, перед выпуском, да вот не успел. Вот ведь как получается: одно и то же бывает геройством и трусостью, искренностью и скрытностью, победой и поражением.
— И с директором вы не согласны, а промолчали, и про Славина не поговорили, — продолжает Глеб.
— Насчет чего?
— А насчет общежития.
Как мог я забыть! Я давно знаю, что приехавшему из деревни Никите Славину очень трудно жить у своих родственников в тесной коммунальной квартире. Никита просто ненавидит мужа своей сестры, пронырливого, крикливого человека, больше всего интересующегося своими «шабашками», и при немалых заработках жадного, готового поднять скандал из-за двадцати-тридцати копеек, переплаченных за свет сверх обычной нормы. Бывает, что Никита сидит по ночам на кухне и читает книги или пишет стихи. Сочинительство особенно раздражает угрюмого родственника. Представляю, как трудно Славину в эти дни, когда он болен и вынужден быть все время дома. А я наобещал и ничего не сделал. Пытался, да не получилось, мне тоже только обещали... Но это не оправдание. И может быть, вот эта ненадежность моего слова оттолкнула, отстранила от меня Глеба, да и не только Глеба.
Педагог и ученики надежно объединены лишь в том случае, когда они полностью доверяют друг другу, а доверяют друг другу они лишь тогда... Уж сколько раз приходило мне это в голову, уж сколько раз приходит это в голову всем педагогам, «уж сколько раз твердили миру...». Подумай и о том, тоже простейшем, что если нарушена связь между педагогом и учениками, то группе ничего не остается делать, как найти способ обороны «на всякий случай», тогда вот их «круговая порука» — это самозащита, сопротивление, вызов, наконец.
Я, наставник, ищу свои способы воздействия на них, используя обычные педагогические приемы и свои козыри, — борьба натур, характеров, умов, сложная игра и правда — все вперемешку. Но карта моя заведомо бита, когда я рассчитываю лишь на то, что я — взрослый, я — мастер и двумя этими понятиями, значениями самого себя, данными мне, в общем-то, волею случая, могу уладить все в своей группе. Ко всему этому требуется самое необходимое подкрепление: я — честный, я — глубокий, я — совестью отвечающий за свои слова и поступки человек.
Я начал шагать по мастерской перед своим столом и перед первым рядом верстаков. Четыре шага туда, четыре обратно. Я здесь и не здесь. Я с Глебом и один. И со всеми. Ожили, словно по мановению волшебной палочки, знакомые шарканья напильников, постукивания, перешептывания; я слышу голоса Андреева, Штифтика, Никиты Славина, Савельевых, Лобова, — все уже на месте, и всё как всегда, только вот я смотрю на всех по-другому — глаза мои не смотрят, я отворачиваюсь и все чаще вижу пол, или потолок, или пустое пространство, или противоположную дальнюю стену мастерской. Глаза моих учеников спрашивают меня, ждут ответа, а его нет. И отчуждение нарастает между нами. И Глеб мне чужой. Чужой? Но такую правду, какую выложил он мне, не говорят чужие люди. И вдруг вспомнилось: «Все врут! Вы-то пьете, а нам почему нельзя? Вы курите, а нам...»
Конечно, счет Глеба ко всем и ко мне далеко не тот, что бывает в мелочных пререканиях, когда в оправдание остается последний аргумент: «А ты-то сам?» Он ждет от меня того же, чего и от себя он ждет, требует со всем максимализмом молодости — высоты во всем, и, срываясь сам, с трудом прощая себе свое несовершенство, не хочет даже и предполагать, что я, его наставник, способен срываться с высоты так же, как он.
— Я принимаю твои обвинения, но и ты прими мои. Вернемся к тому, с чего начали. Ты считаешь, что защищался. Пусть так. Не сразу узнал меня, ладно. Но почему ты убежал, когда все понял? Почему не вернулся? А вдруг я с проломленным черепом валялся бы там в канаве? И, наконец, почему ты, самбист, не раскидал своих собутыльников, все поняв? Как бы я ни был несправедлив к тому, кто первым подошел, ведь это подло — впятером на одного. Кто они, кстати? Уж не те ли, с кем ты уводил когда-то машину?
Молчит, хочет и почему-то не может сказать, сам того не замечая, трет ухо, шею, пощипывает едва проступившие усы.
— Вижу, что те, — говорю я. — Вернулись из колонии? Предъявили на тебя права? Так, что ли? Что молчишь? Боишься их? Или решил взяться за старое? Смотри, Глеб. Тут тебе и смерть. Уж лучше сейчас все отруби. Если я угадал, подумаем вместе. Все равно вас поймают. Я сам вас поймаю. И что все-таки связало тебя с ними, что держит, — может, ты обязан им чем-нибудь или что-то должен?
— Никому я ничем не обязан и ничего не должен. Никому ничего! — Он уставился на меня с вызовом. В жестком его взгляде я читал: «Вы еще скажите, что я училищу должен, мол, меня одевают, кормят, дают образование. Или интернату я должен, или своим родителям, или тебе, мастер... Попробуйте мне только сказать это, как говорили многие...»
Я сам так смотрел, бывало. Особенно сразу после детдома. Я остро чувствовал себя обделенным судьбой, свою беду ощущал ничем и никем не восполнимой, любая помощь казалась мне подачкой или чем-то вроде подкупа. Все, что я вынужден был брать, мечтал вернуть с лихвой, как бы в отместку. Особенно раздражали меня сердитые советы и требования взрослых — быть благодарным за все, что мне дается, пока я расту и выбираюсь в люди. Глеб тоже, наверно, ждал, что я предъявлю ему счет.
— Вот что, Глеб, ты уже взрослый, скоро от меня уйдешь насовсем в свою жизнь. И давай договоримся на будущее: мы с тобой действительно квиты во всем. То есть ты мне ничего не должен. А я тебе... это уж мое дело. Ты потребовал от меня правды, захотел, чтобы мои слова не расходились с делом, с поступками, и я это принимаю. А что почем — пусть останется на совести каждого. Не советую я тебе только так категорически отказываться от долгов перед другими. Кто не берет, тот, чаще всего, и дать ничего не хочет. Такой суровый эгоизм я не принимаю. Когда-то я завязывал все узелки на память: вернуть, обязательно вернуть этому, и этому, и этому. Долги росли. Я мучился. Один человек, сделавший мне много добра, заметил это, сказал однажды: «Долг платежом красен — это верно, но как ты сможешь рассчитаться за мою любовь к тебе — только любовью, так ведь? А что за любовь будет у тебя ко мне, если ты вздумаешь возвращать ее, как денежный долг?» И я понял тогда: есть помощь невозвратимая, не требующая обязательного возврата, но есть и чувство обязанности, как сына к родителям, и плохо, когда этим тяготишься.
— От этого я не отказываюсь, — сказал Глеб неожиданно тихо, так же тихо, как мы начинали наш разговор. — Я никогда не забуду все, что вы для меня сделали.
Глеб смотрел теперь куда-то вбок, вниз, волосы упали ему на лоб, на глаза, и весь он как будто расслабился. Из-под расстегнувшейся рубашки выглядывали тонкие ключицы.
Глеб смутил меня своим признанием.
— Я не про это, Глеб. Я действительно обиделся и не понимаю тебя. Я ничего не требую. Что есть, то есть. Просто горько терять друзей.
За спиной послышался неожиданно резкий щелчок.
— Закройте дверь! — крикнул я не оборачиваясь и только услышав, что кто-то входит в мастерскую. Глеб сейчас же спрыгнул с подоконника.
— Простите, Леонид Михайлович, хорошо, что вы здесь. У нас гости, — говорит знакомый голос за моей спиной.
Оборачиваюсь — и вправду гости. Чисто выбритые, представительные, вежливые. Делегация. Иностранцы. Зачем только принесло их именно сейчас! Что им нужно? Посмотреть на новое оборудование, на изысканные шкафчики с наборами сверл, метчиков, плашек, надфилей? Смотрите, пожалуйста, все у нас в полном порядке — образцовое училище, ничего не скажешь! Только вот почему сейчас?! Ну до чего же не ко времени весь этот парад.
— Прости, Глеб. Пойдем отсюда, — говорю я и хочу выйти из мастерской, но старший мастер подзывает меня к себе и шепчет:
— Поводи-ка их по училищу ты, а мне домой нужно позарез. Уж прости.
Простить-то я прощаю, а вот разговор прерван. Глеб не знает, идти или оставаться.
— Иди, Глеб, иди, — говорю я. — Спасибо, что выложил мне все начистоту. Иди, а то ждут они меня. Нет, все-таки посиди тут. Я быстро.
Делегация оказалась небольшой, шестеро пожилых мужчин и одна женщина, из ГДР. Приехали посмотреть, как мы тут готовим кадры.
— Идемте, — приглашаю я.
Я уже не первый раз водил делегации и знал, чем их можно заинтересовать и удивить. Ну, скажем, кабинет химии, оборудованный как в лучшем институте, или кабинет спецтехнологии. Ничего себе и светлая просторная столовая с красивыми стульями, похожими на кресла, с цветами на столах в модерновых и на удивление еще не разбитых вазочках. Роскошный спортзал тоже производит впечатление: высоченные окна, баскетбольные щиты, шведская стенка и емкое пространство, заключенное в голубые стены под белым потолком. А лингафонный кабинет — разве не диво для профтехучилища? В отдельных кабинках наушники, и каждый ученик может самостоятельно разговаривать с учителем или слушать магнитофонные записи на английском, французском, немецком. Если не лениться — можно многого достичь. Жаль, что я учил когда-то французский кое-как. Не к чему слесарю иностранный язык, считали тогда мы все. Никто и не думал о возможных поездках за границу или о встрече делегаций, или просто о том, чтобы получить настоящие знания. Рабочему нужно знать свое дело — вот и все, и нечего «выпендриваться», рассуждали мы.
— Вон туда, товарищи! Там выставка кружка технического творчества. Видите стенд? Макет полярного вездехода, действующий строгальный станок, набор слесарных инструментов.
Я верю, что гости понимают толк в производстве и могут оценить качество работы без лишних слов. Разве про все расскажешь?
— А сейчас я вам покажу кабинет с программированным обучением по электротехнике, — говорю я. — Там и контрольно-обучающие машины, и пульт управления, и все это, надо сказать, придумка наших преподавателей и мастеров. Сами делали. Идемте наверх, на второй этаж.
Пока мы поднимаемся, не спеша разглядываем цветы в кадках и в горшках и всю эту в самом деле приятную для глаз обстановку, так не похожую на прежний неуют, который царил здесь, когда еще учился я сам. Шел, говорил, вспоминал, а по-настоящему-то был не с иностранцами, а там, внизу, в мастерской, с Глебом.
Когда вернулся, в мастерской его не оказалось. Не было Глеба и в коридорах, и во дворе, и на улице. Ушел, не дождался, и даже записки не оставил. В чем дело? На свидание опаздывал, или друзья?.. Ну, хоть как-нибудь предупредил бы. После такого разговора, и сбежать!
Я пошел по городу. И как ни успокаивал себя, не проходила какая-то тревожная неясность, и стыд, и раздражение, и желание послать все к черту.
И чего они стоят, все эти кинопроекторы, и пульты, и светящиеся изнутри экраны, если самые главные наши дела — человеческие отношения — еще в пеленках и обучаемся мы этому самым первобытным способом — с помощью слов. А может быть, все-таки с помощью примера? Да что там — одного примера! Надо бы обучать с помощью всей прожитой жизни, мастер. Рассуждения противны Глебу давным-давно. Обманул раз-другой, и теперь не так-то просто к нему подступиться. А способен ты, мастер, не обманывать своих учеников ни в чем, никогда? Думал, что способен, а вот получается... А сможешь ты пообещать на будущее, быть уверенным? Не ответишь? Сомневаешься?
Сколько же неправды в тебе? Сколько вреда ты причинил?..
Шагай и смотри, Ленька, думай и вспоминай, и не ври себе. Не жалей себя. Смотри на деревья, на солнце, на небо — уж это все подлинное, без фальши.
Шагай и реши, решись. Да-да, решайся... сердце тебе верно говорит, оно не соврет. Какой ты педагог? Самому еще нужно учиться. К чему делить свои обманы и ошибки на двадцать семь учеников? Не справился — уходи.
Часть четвертая Эх ты, мастер-пепка
Глава первая
Удивительное понятие — время. Порции, дольки вечности. «Тик-так, так-так», — торопятся современные часы, «бом-бом-бом», — бьет на башнях старина, и мне кажется, что время можно услышать и увидеть, и представить в пространстве от и до... от утра до вечера, от весны до осени, от рождения до смерти, — по прямой, или зигзагами, или спиралеобразно, или как в горах: вершина — впадина, пик — провал. А может быть, оно никуда не направлено, оно — во все стороны? Распространяется внезапно, сразу подхватывается и мчит, как волны или как свет. Не случайно фотон — ни то ни се, и частица и волна одновременно.
Есть время личное, есть общественное, есть всеобщее, есть беспредельное и ограниченное, умное и глупое — всякое. И, как знают многие, самое удивительное свойство времени таково, что, чем дольше живешь, тем меньше его хватает на все дела, на все желания. И вот я уже почти незаметно прошел довольно большой путь во времени и пространстве. «День да ночь — сутки прочь». Кое-что прочь, а кое-что и нет, до смерти останется.
Закончилась практика, и вот уже опять день теории у моих учеников, и в этот день я живу во времени и пространстве относительно свободнее.
Удивительными кажутся мне вдруг теперь и эти понятия — «практика», «теория». Теория и практика...
Привычнее и обычнее этих понятий, казалось бы, нет в буднях мастера. Теория, практика; завтрак, обед, ужин; шарканье напильников, работа, работа, и потом — тетради, двойки, тройки, теоретические занятия...
Теоретически у меня хорошие ученики, и все у них идет куда надо и как надо. А вот практически...
Теоретически после разговора с Бородулиным во мне должно было бы многое проясниться. Во всяком случае, должно было стать лучше, здоровее, потому что время, как известно, еще и лекарь. Но вот я, наверно, такой человек, что ничего не могу изменить в себе, пока не изживу какое-то важное, острое событие до конца, до какого-то определенного решения, или пока не придет новая беда — и все вспомнится с новой силой, и тогда у моего личного времени появится еще одно свойство, это уже проверено мною на практике: я прошлым начинаю жить, как настоящим, и слетаются ко мне со всех сторон всяческие воспоминания — куча мала прожитых мгновений, часов, дней. И время уже не тикает быстрым маятником ручных часов, и не бомкает, как колокол, — оно гудит, корчится, мается, оно зреет, как нарыв, болезненно пульсируя при каждом ударе сердца.
«Нужно закалять нервы», — скажет кто-нибудь, «нужно быть сдержаннее», — посоветует другой, «нужно быть...». Сколько людей, столько и советов. Но в том-то и загвоздка, что мне хочется остаться самим собой, первоначальным, какой я есть от природы, и в то же время хочется понять и воспринять советы всех теоретиков и всех практиков, и все те советы жизни, какие приходят ко мне сами по себе. В этом-то и мука.
...Все могло бы вернуться к прежнему, к тому времени, когда от счастья я одурел, опьянел и казалось мне, что я всюду и во всем, и со всех четырех сторон меня ждут только радостные неожиданности. Да, так и могло быть, если бы теперь не маялось сердце, и не обострилась бы, не уплотнилась каждая минута моей жизни, и не требовала бы моя душа какой-то ясности и определенности, как будто я должен собрать частицы себя, разбросанные взрывом во времени и пространстве, чтобы снова стать цельным, единым собой.
Сегодня среда. Светло, солнечно, многолюдно. Только с неспокойным сердцем я иду. Другими глазами взглянул я на моих учеников, и они теперь как будто увидели меня тоже в ином свете. И вот мечется, мучается моя душа. Что нужно ей?
Сколько же я наговорил пустого, неправды Бородулину и всем ребятам? И вообще всем, если вспомнить... И Кате, и Зойке.
Если обманет, подведет нас пахарь, то мы умрем с голоду, а если обманет друг, учитель? Может быть, тогда приходит гибель от удушья, — все кажется отравленным ложью, фальшью, предательством. Все становится непрочным, ненадежным. И где, в чем тогда искать спасение? Не знаю.
Теперь вот еще новая пришла беда. Глеб напомнил мне о Никите Славине. Так напомнил, что не забыть мне про Славина ни днем ни ночью.
Никита — человек особый. Много у меня в группе ребят, приехавших из деревни, но такой один.
Никита всегда честен, прям и даже бывает дерзок в своей правоте, этим он похож на Глеба. Но, как мне кажется, если Глеб ищет, бунтует прежде всего ради себя, то вот Никита ищет, кажется, для всех сразу. Крепкий, рослый, широкий в плечах, он и в желаниях своих крупномасштабен, он и сражается будто бы со всеми горожанами сразу, с целым городом, который он недолюбливает и все-таки хочет победить. Хорошо помню, как он спорил с Бородулиным. Никита горячился как никогда, доказывая, что деревенским живется намного труднее, чем горожанам.
— Откуда ты знаешь, какие мы, деревенские? — спрашивал он. Не спрашивал, требовал ответа и, не дожидаясь его, с упреком и горечью выговаривал Глебу: — Ты только осенью на картошку туда ездил. А ты бы пожил там круглый год: весной бы землю пахал, летом бы ухаживал за полями, за огородом, зимой сарай чистил каждое утро да обихаживал скотину...
— Подумаешь, — прервал его Глеб. — Ну уж и дело, сарай чистить, — довольно-таки высокомерно и пренебрежительно сказал он, не поняв или не желая понимать Никиту. — Для такого дела особого ума не нужно. И вообще, ты знаешь такую пословицу: пока гром не грянет, мужик не перекрестится.
— Ты это к чему? — насторожился Никита.
— А к тому, что у деревенских все по инерции, все по течению, никаких изобретений, — как было сто лет назад, так и будет. К примеру, косят, косят каждый год, ломают спину, и все одним способом — косой.
— Да что ты знаешь про косу и вообще про покос! — возмутился Никита. — Ни отбить косу, ни махать не можешь.
— Ерунда, отбивать научусь за пятнадцать минут, а косить — за три дня. А вот что деревенские хвалятся, как ты, своим ломовым умением, — это глупо. Городской уже давно бы придумал какую-нибудь индивидуальную косилку, вроде той вон, что газоны стрижет.
— Не в технике дело и не в новинках, в жизни еще много чего идет старым способом, да еще как идет, были бы сердце да любовь...
Глеб снова перебил, не выслушав Никиту до конца, он хотел одного в споре — настоять на своем:
— И потом у деревенских все свое, им легче, они всю зиму могут валяться на печке, а ты вот попробуй-ка в городе так поживи — через месяц загнешься.
— Город без деревни загнется и через полмесяца, — отрубил Никита. — Ты свои болты да гайки в суп не положишь. А вот как хлеб добывается, про это городскому и дела нет.
Глеб усмехнулся:
— А кто же, по-твоему, агрономы? А что бы деревня делала без тракторов? Хлеба и так не очень-то много.
Спор шел в мастерской, при всей группе. Многие тут были из деревни, и одни поддерживали Никиту, другие Глеба. Я только слушал, не вступаясь ни за кого.
— Хороший агроном всегда из деревенских, у него в крови чутье к земле, — отвечал Славин Глебу. — И душа у него за свое дело болит, как у всякого деревенского. Ты вот не знаешь, что это такое. Идет, скажем, весна, и мало снегу на полях, и вроде никто, кроме природы, не виноват, а у мужика душа болит: хватит ли влаги для урожая? Пришла пора пахать, сеять, а снова дожди. И опять у мужика душа болит. Посеяли наконец, радоваться бы надо, а мужик видит, что всходы не те или еще что не так — в общем, снова душа болит. А насчет сена? А насчет скота? А насчет продажи, что наработано? Это же все живое, это тебе не станки, не машины. Горожанину-то что? Отработал положенное, и привет!
— Вот и ехал бы в деревню, зачем же ты тут пристраиваешься? — язвительно спросил Глеб. Он почему-то не захотел понять, принять искренность, серьезность Никиты.
— Ладно, — вздохнул Славин. — Все равно тебе до лампочки и насчет мужика, и зачем я приехал в город. Вот вы такие, городские, — вроде ученые, умные, интеллигентные, а мы, мол, серые, непонятливые, только лежать бы нам на печи да лапу сосать или в хлеву ковыряться. А мы вот еще посмотрим, кто на что способен.
Никита поразил меня и многих еще при первой же встрече, в самом начале учебы, когда появился в кружке технического творчества, на занятиях самого опытного нашего мастера Владимира Валентиновича. И я тогда был, и восторженный, чуть-чуть глуховатый Гриша Воронов, и Саня, и Штифтик. Все сидели за круглым столом и слушали Владимира Валентиновича, который предлагал построить макет дока и в нем судно с разборным корпусом, чтобы наглядно можно было показать ученикам, что к чему.
Открылась дверь, и вошел новенький. Крепкий, широкий в плечах, лохматый, вьющиеся волосы не поддаются, кажется, никакой гребенке, брюки со вздутиями на коленях — этакий мужик-лесовик, — и заговорил он басом:
— Тут занимаются моделисты?
— Тут, входи, присаживайся, — сказал я, удивленный, что не ко мне обратился мой новый ученик, а пришел сам, прямо сюда.
— Училищем, профессией ты доволен? — спросил Владимир Валентинович, начиная разговор.
Славин оглядел всех. Что за допрос? Отвечать или не отвечать? Схватился пальцами за край стола. Не руки — лапищи, под ногтями чернота. Заметил, что все смотрят, убрал руки, спрятал их между колен.
— Да как сказать, в общем, доволен, а там видно будет.
— И когда же это будет видно? — поинтересовался я.
— Поработаю, посмотрю, какие будут заработки, и вообще... я в университет поступлю.
— В университет — это, конечно, хорошо. Но кто же работать будет? Тебя ведь специально учат, кормят, овевают. Ты где живешь? — спросил Владимир Валентинович.
— У сестры, она тут замужем за одним ухарем.
— Что, плохо живут? — спросил Владимир Валентинович.
— А с ним хорошо жить нельзя. Пьет и лается каждый вечер.
— Надо бы его устроить в общежитие, — сказал мне Владимир Валентинович.
— Это я ему обещаю, если будет хорошо учиться.
— Не надо, — сказал Никита.
— А что так? — удивился Владимир Валентинович.
— Плохо там. Был у друга, знаю.
— Чем же?
— Тоскливо. Людей много, а все равно как будто один. Видел я, идет по коридору парень. Идет-идет, и вдруг как завопит истошным голосом. «Ты чего орешь?» — «А так вот — захотел и ору. Тоска». Просто одурел от скуки.
— Это уж ты слишком картину нарисовал... — покачал головой Владимир Валентинович.
— Ничего не слишком, — вступил в разговор Гриша. — Я тоже в общежитии, знаю. И у нас так бывает.
— Грустно это все, ужасно грустно, — вздохнул Владимир Валентинович. — А сам-то ты как же? Или тоже орешь во все горло?
— Я стихи пишу.
— Стихи пишешь? — удивился Владимир Валентинович. — Ай да рязанец. У вас там что, каждый второй — Есенин? Почитал бы нам всем. Давно я стихов не слышал. С утра до вечера скрежет напильников да ножовок в уши лезет. Почитай, Никита, будь другом.
Никита не ломался. Встал во весь рост, махнул рукой по волосам, и полились строчки, да такие, что всех они поразили.
«Ну и малый!» — восхищенно и не без зависти подумал я, вслушиваясь в слова Никиты.
Он любит лес, чащобу, заваленные буреломом реки, и крепкие плотины бобров, и таинственный голос кукушки, которой ничего не стоит провести человека — лишь поманить долголетием и вдруг остановиться на полпути и напугать предчувствием скорого конца. И зачем Никите знать, сколько он проживет с такими крутыми своими плечами и мощными лапищами? А затем, чтобы жить взахлеб.
Он читал стихи о глухих буераках, о страхе и восторге в лесу, о деревенской избе с голубыми глазами окон, о черных ранах земли за пятернею тракторного плуга, о комариной жадности возле реки под вечер, о парном молоке из теплого подойника, о стрижах, ныряющих под крутые берега. Слышится, видится, верится — этот кряжистый парень взялся за слово не для того, чтобы подержать его на весу и бросить на ветер. Он сердцем чует ценность, размеры слов: ширину, и глубину, и высоту их. И даже когда срывается на голос Есенина — поет все-таки о себе, о своем. И все это чувствуют и вслушиваются затаенно, боясь вспугнуть искренний, густой, мужественный голос.
Никита Славин оказался человеком талантливым, восприимчивым, ранимым и придирчиво-требовательным. Можно было подумать, что он нарочно каждый день натыкается на какие-то острые углы. То кто-то хамски ответил ему на простой вопрос — а еще ленинградец; то обсчитала его продавщица — а еще улыбалась; то на каком-то старинном доме отваливается штукатурка — а еще музей; то рабочие схалтурили на производстве — а еще бригада коммунистического труда.
Никита обычно был прав и прям, слишком прям. «Трудно ему будет жить», — думал я, и все-таки понимал, что Славин все видит, все подмечает и «взрывается» не потому, что он зануда и скандалист, — просто он горячий, неравнодушный человек, и его свежий глаз человека, недавно приехавшего из деревни в город, особенно остро следит за жизнью.
Во всем хотелось Никите разобраться, дойти до глубины, до полного знания, и часто он просто умучивал товарищей вопросами, на которые и взрослым-то трудно ответить. И насчет правды, и насчет кривды, и насчет справедливости, и насчет непрочности, ненадежности... Уж он-то, Никита, человек природы, знает, что такое земля, хлеб, сказано — сделано, — вот он и предъявляет счет ко всем и ко всему, сравнивает одно с другим, у него есть, с чем сравнивать, куда вернуться для душевного отдыха, — к просторам, простоте и ясности, к своим родовым началам. А пока... пока в нем все мучается и кричит, наверно. Но не тем голосом отчаянной тоски, который он услышал в общежитии. Его голос требует ответа.
Я шагал и чувствовал, что тоже должен бы сейчас сделать что-то такое... затопать ногами, сломать что-нибудь, закричать во все горло...
И вдруг кто-то в самом деле закричал совсем рядом, и так протяжно, громко, как может кричать, наверное, только сама душа. Я оглянулся и увидел сгорбленную старушку, она везла коляску с ребенком. Что-то очень мешало малышу. Он никак не мог, не хотел успокоиться. Может быть, ему было тесно в пеленках, а может быть, он просто-напросто был мокрым. Старушка держалась за никелированную ручку коляски, и качала, качала своего крикуна, и шаркала за ним все быстрее.
И я пошел за старушкой вслед, а потом обогнал ее. Я очень торопился. Что-то кричало и во мне самом. И еще долго мне казалось, что я слышу быстрые, шаркающие шаги старушки и крик младенца.
Стыдно стало мне. Это чувство разлилось, как кровь, по всему телу. Я забыл! Я все забыл. Обвиняю других, ищу что-то главное, а сам... Я забыл помнить о той, которая столько лет спасала мою душу и мое тело в самые, может быть, тяжелые годы моей жизни. О моей второй матери, тетушке Матрене Алексеевне.
Это ведь она, зимой и летом шаркавшая по земле в куцых валеночках, взяла меня к себе на воспитание после смерти отца, тянула меня, растила много лет для вот этой моей сегодняшней жизни.
У нас не было вдоволь еды, — ну и что? У нас не было хорошей одежды, и мы ходили во всем старом, залатанном, — ну и что? Всем было трудно после войны. Но выжили ведь, выбрались.
Тетушка моя, Матрена Алексеевна, ты говорила мне: «Не пей, не кури, не воруй, не злобствуй, не сторонись людей, тогда они помогут, а одному не справиться в этой жизни». Много ты сказала мне такого, что необходимо и вечно, как должна быть вечна и память о тебе. И если я нарушу эту связь, навсегда оборвется, разрушится во мне что-то главное.
Никогда еще так не тянуло меня побыть, постоять на той земле... рядом с тетушкой, в моих родимых местах.
Я поспешил к Смольной пристани, сел на теплоход и поехал к Ново-Саратовской колонии, к двухэтажному зданию школы, за которым находилось немецкое кладбище, — там я играл когда-то с друзьями в прятки, там теперь могила моей тетушки.
Деревянный крест над маленьким холмом. Веселая молодая трава на холме. А вокруг деревья, вросшие в землю гранитные надгробья и новенькие подкрашенные сварные прочные изгороди, надежно отделяющие усопших друг от друга. Одинаковые ограды, одинаковые пирамидки со звездочками, одинаковые железные венки — стандарт, конвейер.
Зачем им теперь так отделяться друг от друга, когда они все вместе в одном земном шаре? Это живые так решили, так хотят. Отделиться. Да мы и так-то часто одиноки. Ищем, ищем друг друга и расходимся, не увидев, не поняв. И умираем. И только сердцем чуем нашу всеобщую связь, как связь времен.
А я? Так ли я одинок? А друзья? А двадцать семь учеников? Но это что-то другое, мы и близкие и, оказывается, далекие. Скоро все разлетятся в разные стороны, как птицы с дерева.
А вот те мои люди, которые навсегда со мной вместе, где они? Есть и они у меня. Но почему я так редко бываю с ними? Все дела, дела. Почему мы с моим другом из ремесленного, с Володькой, для которого я навсегда не Леня, а Лёпа, встречаемся только по праздникам? Почему я с моим старым, мудрым Дедом, который учил меня писать и любить стихи, вижусь только когда уж очень мне бывает худо? Почему мой когда-то любимый, мой мятежный Андрей, мечтавший написать роман, правдивую книгу обо всей нашей жизни, почти забыт мной? Спрашивай не спрашивай — не ответишь. Нужно пойти к ним, быть с ними всегда! И особенно когда им трудно. «Ничего нет труднее и прекраснее, чем помочь выжить человеку», — ты прав был, отец.
Летают воробьи, все такие же серенькие, озабоченные, как и много лет назад; стоят деревья, вцепившись в землю; кричит петух где-то недалеко во дворе дома; небо над головой далекое и спокойное; крест над могилой, и горечь в моем сердце.
Все понятно, все вечно, все так и должно быть — рождаемся, живем, умираем, и все же горько мне здесь в тишине, вместе с памятью о прошлом, о невозвратном. Позади вся большая жизнь моей тетушки: ее надежды, ее слезы, и улыбка, шаркающие валеночки, и годы войны, и годы мира, и бог, и душа, и все-все там, под крестом. Теперь мой черед жить.
Кто будет стоять над моей могилой? Кому я пригожусь в живой жизни? Чье сердце вспомнит обо мне? Хорошо бы прожить так, чтобы не одна лишь горечь пришла к неведомому мне человеку.
Может быть, тетушке Матрене тоже поставить оградку, такую же, как у других? Нет, не буду. Лучше в следующий раз сменю крест и поправлю холм, вот и все. Прощай, Матрена Алексеевна, я скоро снова приду.
Пошел к берегу Невы, крутому, высокому; внизу спокойная и величавая, вечная вода. Оглянулся на школу, на кладбище и пошагал по узкой колдобистой дороге. Мимо деревянных домов, серых, выцветших, знакомых и теперь как будто заново увиденных. Какие они приземистые, усталые — эти верные, такие нужные нам жилища. Чье детство тут начинается? Кто в них теперь? Живут ли мои школьные друзья? Живы ли их старики родители? Все ли в их домах в порядке? И сладко и больно идти по старой, такой же старой, как и прежде, дороге, по которой я ходил в школу. Все ждал тогда новой шоссейки, автобусов. Теперь все это есть, но в другой стороне, на задворках Ново-Саратовки. Не было смысла тут, по краю берега, пускать автобус — слишком узкий был бы проезд, и все тут избито, изранено колесами грузовиков. Пусть остается как память.
Памятен мне и вот этот спуск дороги, и подъем, и поворот влево мимо яблоневого сада, и ручей, и крошечный дом Тани Андреевой, тихой, застенчивой девочки с косичками — мы сидели с ней рядом за партой. Где она теперь, что с нею? Войти? Постучать в дверь?
Пусть все останется пока как есть: буду идти, видеть, слышать, молчать и верить, что моим близким, несмотря ни на что, неплохо на этой земле. Как и мне теперь. Как будто что-то самое важное во мне очистилось и прозрело вместе с грустью.
Вокруг весна. Земля дышит. Чуешь, как пахнет свежими соками? Это дышит невская вода, и деревья, еще не до конца, не до полной пышности одевшиеся в листву, и вон те огороды за покосившимися заборчиками.
Вон магазин. А вон клуб, в котором я с моим Володькой, приезжавшим ко мне в гости, отплясывали какую-то странную, смешную топотуху.
Сверни с дороги, иди по тропе. Она короче. Лесопарк ждет тебя! Ты увидишь его с высокого берега на изгибе реки, там длинный столб с двумя шарами справа и слева. С какой стороны поднят шар, с той, значит, идет судно — капитаны знают уже что к чему и как им поступать на повороте. Вот уже блеснула за домами Нева! Голубая, как весеннее небо. Холодная, глубокая, быстрая.
А вон, за изгибом реки, там, где пристань и каменные ступени поднимаются к двум павильонам, начинается Лесопарк. Сюда я должен был бы приезжать почаще, в мое начало начал. Это ведь «сюда мои дороги и дорожки».
Я привозил сюда Мишку и Катю, и всю нашу техникумовскую компанию повеселиться и поиграть в мяч. Плохо это кончилось для меня. Горько мне было уезжать отсюда. А разве потом было не горько и не грустно? А теперь?..
Вот и Лесопарк! Несколько домиков вразброс, под ветвистыми кронами деревьев. Там мое отрочество! Уже виден дом.
Хорошо была видна из окна моего дома веселая толпа экскурсантов с огромными букетами. Мучительна была зависть к ним, жителям красивого большого города, где всего много — и забот и развлечений, не то что у нас, в меланхолическом однообразии: огород, корова, хозяйство, лишь изредка футбол с мальчишками, и снова огород, корова, все одни и те же «надо», «надо» с утра до позднего вечера. Хорошо, что хоть экскурсанты приезжают по воскресеньям.
Сколько раз, бывало, стоял на берегу, мечтал о городской жизни, она казалась мне прекрасной, она манила меня, я готов был убежать, бросив все.
И вот я стал горожанином, и вот я снова здесь. Стою на берегу, и нет со мной никакой победы. Не везу я с собой никаких наград, нечем мне похвастаться, разве только могу раскрыться, пойти к кому-нибудь из своих и рассказать о себе, ведь я приехал к своим.
И вот я стою и жду. Чего жду? Может быть, снова тех же самых надежд, которыми жил в прошлом?
— Эгей! Лодочник! — крикнуть бы сейчас.
От лесопарковой пристани на другой берег, к лесопилке, отчалила лодочка. Маленькая, крошечная издалека. Кто на ней гребцом? Не Сенька ли? Тот самый, с которым мы работали перевозчиками, а потом стали парковыми врачами — забирались на деревья, опиливали сухие ветви... Нам казалось, что мы еще и впередсмотрящие, забравшиеся на высоченные мачты. Мы знали — на дереве нужна надежная страховка друга, как и на корабле, на котором мы мечтали плавать вместе по океанам, когда вырастем большими. Сенька Звягинцев, каким был, таким и остался, наверно. Только стал он сильнее, крепче. И лодочка его как была, так и осталась, должно быть, ходкой, голубой, вместительной.
Она выплыла уже почти на середину Невы. Кто-то сидит на корме. Вот бы мне за весла, вспомнить, как мы вместе перевозили отдыхающих, подрабатывали на «мороженку» и на билеты к Черному морю.
Скорее, скорее туда, к моим деревьям и к моему дому! И я опять пошел вдоль берега, широко размахивая руками. Позади остались совхоз «Халтуринец», кирпичный завод, банька, а слева на пригорке — старинный, деревянный, почти сгнивший теперь дворец какого-то знатного екатерининского вельможи, которому принадлежали эти полудикие пригородные места.
И вот уже круглая площадь перед пристанью и заросли сирени.
И вот они, три березы вразброс, и кусты ольхи, и сарайчик, и сам дом, в котором прожито больше пяти лет. По аллее, где старые березы и клены касаются друг друга ветвями, где сквозь первую зелень пробиваются и падают на лицо крупные капли голубого чистого неба, если долго смотреть вверх, пойду лучше в парк.
Аллея — как туннель. Широкая, прямая, уже подстрижены кусты акации справа и слева, под ногами свежий бледно-желтый песок, впереди далекая перспектива, высокий свод ветвей до самой реки.
Глаза мои начали скользить поверх дороги, поверх кустов, поверх деревьев, поверх даже, кажется, самого неба. Все здесь настраивает меня на спокойный лад.
Но вот неожиданно я рассмотрел нечто такое, что много раз уже виделось мне и никогда не было таким заметным, отчетливо понятым, как сейчас. Я увидел неподвижность. Неподвижность деревьев, вцепившихся в землю, неподвижность столба с фонарем, самодовольную неподвижность заводской трубы, неподвижность жилых домов за оградой сада.
Неподвижность всего и во всем была не спокойной, не умиротворенной, а такой, будто что-то происходило в ней, будто неподвижность зрела, как зреют почки на деревьях, как зреет плод в утробе матери, как зреет слово в глубине души.
Я остановился, закрыл глаза, мне почудилось, что вот-вот я услышу, пойму что-то очень важное о себе.
Так уже было когда-то, и это вот тоже... тихие склоненные ивы над недвижной водой, и березы, и сухое дерево на холме с воздетыми к небу побуревшими ветвями. Покой и тревога, ясность и обманчивость... Это было в плавнях, в Астраханском заповеднике, в местечке, которое называлось Трехизбинка. И в самом деле на берегу стояли всего лишь три избы, а вокруг — острова, протоки, камыши, ивы с бесчисленными гнездовьями бакланов; распустившиеся, яркие, как звезды над водой, белые лилии и королевские цветы — лотосы. Их впервые довелось мне там увидеть.
День уже был на исходе, вечерний полумрак спускался на землю. Я лежал под белым пологом палатки, смотрел в небо и думал, что наконец-то попал в настоящую первозданную тишину и умиротворенный покой. Всем и всему тут хорошо.
Но вот я прислушался и удивился мощному гуду комаров. Потом я услышал странные костяные постукивания, шуршания — это кружили стрекозы над ивами, трепеща сухими крылышками и гоняясь за комарами. А потом послышался глухой всплеск, еще один и еще. Должно быть, щука метнулась вослед какой-нибудь зазевавшейся рыбке. А вот посвист крыльев над водой: медленно, тяжело пролетел черный баклан с полным зобом добычи.
Тревожно мне стало тогда лежать на распаренной земле, смотреть в небо, еще наполовину освещенное последними лучами зари, — я повернулся, приподнялся на локте, посмотрел на противоположный берег и увидел белую птицу, аиста, на сухом дереве, на самой вершине. Длинный птичий клюв был направлен к заре, к уходящему солнцу. Неподвижно и долго сидел аист. Он улетел лишь когда истлела последняя полоска света на горизонте.
Много дней я провел в том месте, и каждый вечер с последними лучами солнца прилетала белая птица, садилась на вершину дерева и смотрела, как уходит день. Внизу плескались рыбы, искали добычу щуки и окуни, гудели комары, шуршали стрекозы, а птица была молитвенно неподвижна.
И я вглядывался в зарю, и я был молитвенно неподвижен. Я думал. Вдумывался, предугадывал. То вдруг что-то перемалывалось во мне тяжелыми жерновами, то возносилось, воспарялось облаком, то горело, испепеляя все и вся, то прорастало «цветочком аленьким». Разум вселенной, кажется, оживал во мне, и я жил во вселенной. И чудилось: вот-вот пойму. Вот-вот поймаю что-то, нечто, именно то, что мне нужно, и все решится. А что же — все? Что? В чем? Где? Вот, вот сейчас, как бабочку в сачок... и сразу же... и счастье... и разум... и правда... и справедливость... и себе и всем.
Далеко то время. А чувство того времени во мне живо и сейчас, будто только что родилось в этом весеннем лесу.
Что это? Невольно прислушиваюсь к прерывистому, глухому голосу кукушки и считаю: раз, два, три, четыре... какая глупость... пять, шесть, семь... побольше бы... восемь, девять, какая ерунда... десять. Замолчала. Жить мне осталось только десять лет? А что, не так уж мало. Ерунда. Верить этой глупой примете? Кто ее выдумал? Кто бы ни выдумал, а нет, пожалуй, ни одного человека, который бы не считал свои годы, услышав кукушку. Много она не накукует, Никита прав. Она способна лишь напугать тех, кто верит. А зачем, собственно, знать нам, сколько мы проживем? Ведь ни дерево, ни птица не знают и не спрашивают ни у кого о своем веке, и хорошо им. Но для чего все-таки человеку хочется знать срок своей жизни? Чтобы по возможности все успеть? Или чтобы разумно распределить свои силы в достижении цели? Или, быть может, ясное осознание конца по-особому преобразует человека, делает его духовнее, значительнее? Но ведь все умирают, и мы умрем. Да, это так. Но в том-то и вся хитрость природы, что мы не знаем, когда наступит наша смерть. И не думаем об этом, забываем. Жизнь нам кажется бесконечностью. Прекрасное это чувство, но бывает, что именно оно подводит нас, когда мы делаем что-то против совести и чести, против всех своих душевных правил. Перед сознанием смерти мы обычно честны и чисты. Забываясь и рассчитывая на бесконечность своей жизни, мы грешим и грешим, в надежде исправить все потом... начать все сначала... Вот и я сейчас все хотел бы начать сначала. Тем более, что и сама природа начинает оживать — весна. Но куда мне деть прожитые весны, которых много в моей жизни? Они помнятся, они живы.
А куда я, собственно, иду? Да никуда. К самому себе. Впереди уже видна поляна и берег неширокой нашей Черной речки. Сколько раз мы тут рыбачили — лесопарковские друзья. Над нами склонялись ленивые ветви ив, летали вокруг стрекозы, бабочки, а мы ждали улова, рыбины, чтобы во! В руку толщиной. Но ничего нет возле этого берега, нужно идти дальше, вверх по реке, к бочагам.
Рыбаки! Самые настоящие лесопарковские рыбаки сидят на берегу рядом с горбатым мостиком. Два пацана, два друга. Сидят, по-хозяйски растопырив ноги.
— Привет рыбакам!
Молчание. Точно и нет меня. И только через минуту:
— Здравствуйте, — буркнул один, лет шести-семи. А другой, постарше, даже не оглянулся, мол, чего мешаешь?
— Ты чей сын? — спросил я маленького.
— Звягинцева, — сказал тот, шмыгнув носом.
«Надо же, Сенькин сын!» — подумал я почему-то с удивлением и грустью.
— А ты чей?
— Так, ничей! — отрубил парень постарше. Был он солиден и неприступен, как будто я пришел отбить его право на здешние места.
— Ну-ну, — сказал я. — Только тут рыба и не водилась. Вон куда нужно идти, за излуку.
— Сами знаем, — сердито ответил мне старший, давая понять, что я ему уже намозолил глаза.
— Ладно уж, ловите мокриц, — сказал я в сердцах и, постояв недолго, пошел дальше, в глубь парка, к дубовой роще на горе.
Нехорошо мне стало от такой неприветливости мальчишек. Я уже и тут чужак, новое пришло поколение. Они уже сами с усами. Дурачки. Нет чтобы послушаться. Ведь уже проверено опытом...
Опять этот опыт! Снова учишь! Опыт чего? Ошибок и неудач? Эх ты, мастер-пепка. Твой опыт... Да зачем он нужен этим пацанам? Правильно сделали, что не стали со мной разговаривать. Я тут и в самом деле чужак. Надо идти куда-нибудь подальше, в лес, к холмам, где пас коров, где посуше, где только деревья знают и помнят меня. И не унывай, Ленька, веселей, весна вокруг, и все идет, в общем-то, как надо, и вот уже снова лес, тропа, корни под ногами.
Вдруг кто-то больно цапнул меня за ногу повыше ботинка. Я отогнул брючину и увидел муравья. Зажал его между пальцами. Он подогнул коричневое тугое брюшко, зашевелил усами, задергался.
— Не бойся, не раздавлю, — сказал я и посадил мураша на еловую шишку. Он провалился между раскрытыми чешуйками. Но вот он оказался на песке, перелез через ветку, обогнул цветок и внезапно исчез. Куда же ты? Ах, вон ты где? Уже вцепился в сухое и длинное брюхо осы. А может быть, это совсем другой муравей изо всех сил перетягивает свою ношу через высокий стебель иван-чая к трухлявому пню? Я шагнул в ту же сторону и увидел муравьиный тракт.
Муравей подтащил брюшко осы к своей шоссейке и оставил находку, к которой сразу же подбежали три других муравья. То были, наверное, муравьи-подносильщики или волокуши.
Что же ты, дурачок, не донес до конца свою ношу? За такую находку тебя, может быть, хорошо бы отблагодарили твои самые главные муравьи. Или тебе не нужна награда? Тебе хочется побыть одному, как и мне? Ну тогда ползи, дружище, беги, лети на своих проворных лапках к свободе и удаче. А я, пожалуй, пойду вдоль твоего шоссе, к твоему дому, он всегда меня манил, — ведь он мне в диковинку, как был бы в диковинку тебе мой, человечий дом.
Шагал по еловым прошлогодним шишкам, по коричневым россыпям хвойных иголок, по хрупкому замшелому валежнику, по грязно-желтым пролысинам сухого песка. А потом началась чащоба.
Теперь нужно было раздвигать перед собой ветки и склонять голову почти до земли, пролезая под бородатыми хвойными лапами низкорослых елей. Но какая-то сила властно влекла меня. И мне стало казаться, что, чем дальше я иду в глубь леса, в чащобу, тем все меньше и меньше становится мой рост, и вот уже, должно быть, совсем скоро, как только приду в неведомый муравьиный город, вовсе превращусь в крошечного человечка, а может быть, даже в муравья.
И вот меня поведут к каким-то самым главным начальникам муравьиного народа. Те, обнюхав и ощупав мою одежду и облив ее какой-то едучей кислотой, строго спрашивают: «Кто ты?» Я не знаю, что им ответить. Кто же я? Назвать свое имя? «Я человек!» — радостно сообщаю я. Но этого оказывается мало моим строгим незнакомцам, они спрашивают опять: «А ты чем докажешь, что человек?»
Вот именно. Каким образом мне доказать, что я человек?
Поторапливайся, показывай, что ты и есть ты, а иначе быть тебе навсегда маленьким коричневым муравьишкой. «Ты живой, и мы живые, и не все ли равно, кем ты теперь станешь?» И тут я, наверное, заплачу от горя и от ужаса. «Что вы со мной делаете! — закричу я никому, кроме муравьев, не слышным муравьиным криком. — У меня же все человечье: и руки, и ноги, и голова». Муравьи-начальники захохочут: «Вы посмотрите только на этого глупого мураша, ну о чем он говорит? Ведь у него все как у нас, только хуже, некрасивее».
«Да отпустите же вы меня! — опять закричу я. — Ну вот ей-богу, я человек, потому что, потому что... мне просто нельзя насовсем превращаться в муравья, или в птицу, или в дерево, хоть оно тоже вроде нас, живое. Я умру, если буду стоять на одном месте, как сосна, или бегать по одним и тем же тропам, как муравьи, — мне нужно и ползать, и бегать, и летать, а иногда мне нужно оказаться сразу же и в небе и под землей, и справа и слева, в камне и в дереве...» — «Как же это возможно?! — закричат изумленные муравьи. — Ты нас, видно, хочешь одурачить, мы про такое не знаем».
«А так вот и возможно, — уже вполне оправившись от страха, скажу я. — Стоит мне только захотеть, представить — и все произойдет. Вот я захотел — и оказался рядом с вами, муравьями. А вот вы попробуйте-ка вообразить себя людьми, ну хотя бы мною...» — «Вообразить?! — переспросят муравьи растерянно. — Что такое вообразить?..»
И тут я опять обрету свой рост, свои руки, и ноги, и голову с коротко остриженными волосами. Я даже потрогал волосы рукой. На самом ли деле все на месте и не превратился ли я в муравья?
Разлапистым елям стало тесно, они уже вплотную прижимались друг к другу, все резче пахло сыростью и гнилью. Ноги все глубже проваливались во что-то зеленое, мягкое, топкое. Куда я зашел? Не пора ли поворачивать назад?
Но вот впереди просвет и высокий холм. А на нем как будто бы раскрытый черный зонт, и над зонтом — густая щетина тонких, острых, одинаково невысоких вершин. Их, может быть, сто и даже больше. Да ведь это елочный детский сад! Высоченные мамы и папы отступили, чтобы не загораживать небо, чтобы щедрее кормила земля их малышей. А дети каким-то чудом вместе оказались на возвышении и дружно тянулись к солнцу. Между их стволами, тонкими и оголенными почти до вершин, легко было разглядеть много коричневых холмиков, копешек. Это были муравейники. К ним тянулось муравьиное шоссе, и не только оно одно: много троп и дорог сбегалось к муравьиному городу. Там, впереди, неподалеку от самого высокого муравейника, я заметил широкий пень. Подошел к нему, увидел, что он сухой и чистый, сел на него, притаился.
Вместе со мной притаились черные елочки, высоченные сосны и ели, и в притаившемся воздухе я услышал, как что-то звенит над муравьиным городом — то был или шелест, или даже тихий шепот, радостный полет голосов. Может быть, я услышал в этот момент песню, она была вроде песенки гномов из сказки о Белоснежке, только без слов. И еще я услышал, как журчит сок под корою деревьев. И услышал еще я, как течет моя кровь под кожей по всему телу, как настойчивыми сильными ударами гонит ее мое сердце.
И вдруг я ощутил за своей спиной еще чью-то спину, узкую, слабую и почти бесплотную — это... мы так с тетушкой садились на пенек, когда уставали собирать грибы. Не бойся, не страшно... пусть она посидит. А вот еще кто-то. Слышишь, бьется чье-то сердце часто-часто... это, наверно, прибежал мой Саня Сидоров, или Штифтик, или вернулся Глеб Бородулин, понял, почувствовал, догадался, что надо прибежать ко мне и присесть, как бывало, а иначе... И все мои парни, все двадцать семь, давайте-ка присаживайтесь, посидим, тут всем хватит места. И ты, Мишка, садись, и ты, Катя, и уж конечно Славка Греков. Расскажи нам что-нибудь еще о таинственном мире, о рубеже двух веков, совершенстве вселенной. Слушаем тебя, слушайте все. Чу...
Но вот чье-то сердце вздрагивает, и я, кажется, слышу покашливания, хрипы — это бьется усталое сердце Кузьмы Георгиевича. Удар — остановка, удар, еще удар — остановка, остановка. Все затаились, все ждут, что будет, все думают только о нем, об этом утомленном сердце, и не знают, чем помочь. Ну, хоть свое вынимай и дари... И вдруг сердце Кузьмы Георгиевича начинает биться все свободнее и сильнее, в ритм с молодыми, и вот уже кто-то большой и надежный, с протяжным именем Мы-ы, соединяет нас. Теперь не страшно. Никому из нас никогда теперь не будет страшно за свою жизнь — до семидесяти, до восьмидесяти, до ста лет.
Но как мало все-таки отпущено человеку времени, даже меньше, чем деревьям, хотя бы вот сосне.
Нет, это не так! Конечно же, все это не так. Не меньше — больше, намного больше, чем сосне, и чем камню, и чем всему-всему, что есть на свете, дано человеку жить.
«Кар-р-р, — прокричала ворона над моей головой. — Ты попробуй-ка проживи еще хотя бы лет тридцать, а не то чтобы мои все триста».
«Напрасно ты, картавая, помешала мне думать. Твои триста могут быть и тремя мгновеньями. Время твоей жизни твое, да не твое, так что не хвались. Так и будильник, и песочные часы могут похваляться долгой своею жизнью.
А мои годы не в течении времени, а в том, как распоряжусь я им. Вот я здесь, но я уже и на Луне, шагаю по ее мягкой пыли, и снова я тут, рядом с деревом. Видишь, я сам как дерево. Две мои ноги — корни, две мои руки — ветви. Есть у меня и вершина — моя голова. Когда на твою птичью голову падает снег, ты всегда считаешь, что это снег, а я иногда думаю, что это белые цветы. Значит, это и в самом деле цветы, потому что, если я очень захочу, начало зимы может стать весною белого цвета. Весеннее любопытство мое может прорасти подснежниками, безысходная тоска моя иногда становится ряской на болоте. Трубят по чащобам олени моей любовью, срывается с неба орел моей хищностью, а черное горе мое вылетает с хрипом и скрежетом из твоей вечно голодной глотки, ворона».
«Кар-р-р! Конечно, я так и знала, — прокартавила ворона. — Тебе бы только гордиться собой да присваивать чужое... Это ты назвал мое «кар-р-р» черным горем, а я свое «кар-р-р» кричу совсем для другого случая. И гордиться тебе особенно-то нечем... Я, пока летела, видела, как ты пробирался по лесу. Полз медленно, как маленькая букашка, как муравей. А я и туда успела слетать, и сюда, и вот уселась на самой высокой ветке, мне все отсюда видно далеко-далеко. А ты там со своими друзьями на пенечке едва приметен. И ничего вам не видно. Вы даже не знаете, где вы, куда вам теперь идти».
«...Где мы? Куда нам идти? Это ты не знаешь, ворона, где мы. А мы не просто на Земле — на планете. Мы в пути, идем оттуда — неизвестно откуда, собираемся туда — неизвестно куда... А присели мы вовсе не на пень — то вросло в землю наше молчание, и бегают по желтым тропам вовсе не муравьи-молчальники. А тихий звон, песнь, которую ты слышишь, — это голос всего живого, когда наступает тишина, вот как сейчас. Кыш, ворона, не мешай слушать...»
Но ворона, видно, потому и зовется вороной, что она, кого захочет, того и перекаркает, тому и накаркает.
«Хвалишься, хвалишься, хвалишься, — закричала она. — Уж если ты можешь стать и тем и этим, быть сразу и там и тут, зачем ты пришел в наши леса, в наш дом, оставив свой дом и свой лес домов, который ты называешь городом?»
«И свои дела. Как ты мог уйти от них хотя бы на час?» — вдруг закричали муравьи.
«И своих друзей, с которыми ты мог бы помолчать, как с нами», — прошептали сосны.
«Каждую весну мы бьемся насмерть за нашу любовь, а ты?» — услышал я далекий голос оленей.
«А ты встаешь по утрам чуть свет? — прилетел ко мне клекот орла. — И паришь, и от зари до зари высматриваешь добычу? И тоже не боишься разбиться о землю, когда падаешь камнем с высоты?»
«Что есть в тебе, какой нектар ты приготовил всем, кто на крыльях ищет себе еду и усладу?» — негромко, но настойчиво спросили меня цветы. И сразу же заговорил весь лес, весь мир, все, что было живым, стало спрашивать меня: а ты? а как? а что?
Пора возвращаться к людям. Ты слышишь, они уже подают голос.
Из дальнего далека, из глубины леса, возник этот голос. Сиплый, страдальческий, как будто кто-то душил огромного зверя. То завыл на реке буксир. И как только замолк надсадный вой, что-то хрустнуло справа, и я вздрогнул, а потом что-то свалилось на землю позади меня, и я услышал чьи-то шаги, а потом странные посвисты, и все смолкло. Молчание леса стало немотой.
Я поднял голову, чтобы повнимательнее разглядеть сердитую черную птицу. Но увидел только солнце. Оно было большое, горячее и светлое, — я встретился с его лучами и зажмурился, стало темно от нестерпимо яркого света, я долго не открывал глаз...
Потом тьма стала светлеть, голубеть, заметались радужные круги, звезды, искры. И легко было соединить мое настоящее и прошлое, тьму и свет, надежды и безысходность. Два полюса всегда живы, всегда действуют во мне и натягивают между собой какие-то жизненные силы, и то одна сторона перетянет, то другая. Так будет, так есть, и так было... Здесь, в Лесопарке, в моем старом доме, в комнатке под крышей, еще тогда, в моем отрочестве...
Подумал, решился — а что, если крышка? Оставить записку на пыльном столе. И мой незаметный, убогий домишка впервые проснется за семьдесят лет. Сбегутся соседи, — они меня знают. Придут старики, одногодки и дети. Меня завернут в простыню, спеленают и медленно вынесут в холод и ветер. Такой, как теперь, за разбитым окном, что хлещет по стеклам, стучит об одном, что выдует сердце, погасит мой разум, ворвется и дело покончит он разом. Он сталь проводов разорвет надо мной, он ставни рванет сумасшедшей волной и с криком промчится над черной трубой с тоской гробовой и душой гробовой. Но что я! Забыл совершенно про это, — ведь кто-то, записку мою прочитав, посмотрит в окно, а за стеклами — лето, горячее солнце на мокрых цветах.Глава вторая
В город! Скорее в мой город! В его шум и суматоху, к его домам и проспектам, к перекресткам, которые нужно переходить с опаской, к толпам шагающих, едущих, бегущих куда-то людей. Только там, в городе, моя настоящая жизнь.
На счастье почти сразу подошел «москвичок». Я сбежал по сходням, спустился вниз, на корму, где подрагивала палуба. Отдать концы! И вот уже быстрый винт пенит воду.
Все дальше и дальше деревья на берегу, голубая пристань, все менее отчетливы каменные ступени, и вот уже весь зеленый, грустный мой, продрогший на холодном весеннем ветру берег скрылся за поворотом — высоченная труба лесопилки одна осталась на виду. Прощай, Лесопарк. Теперь не скоро я вернусь сюда.
Прощайте, мои родимые берега, мой старый домик с черной трубой. Вон впереди уже домищи, и высоко приподнялся над водой мост Володарского, и за ним скоро появится пристань «Ломоносовская». Медленно приближается город и моя новая жизнь, которую я начну сегодня же, сейчас же.
Я исправлю все, что разрушил моей ложью или полуправдой, черствостью или равнодушием. Все, что было двусмысленным или туманным в моей жизни, теперь я проясню. Мой город уже со мной, во мне. Его ритм — в моем теле, в мыслях и желаниях. Скорее, «москвичок», к причалу, швартуйся, прижмись боком к пристани, и до свиданья, шаткая палуба, я уже на твердой земле.
— Такси!
— Куда нужно? Я к Обводному.
К Обводному?! Что ж, прекрасно. Гони к Обводному. Это даже не просто на диво, что сразу к Обводному, а сама судьба, значит, так хочет.
Хрустнуло подо мной сиденье, хлопнула дверца изрядно потрепанной «Волги», и мы помчались. Шофер жал на газ от души, неслась навстречу дорога, а память возвращала меня к прошлому: все теперь было почти таким же, как недавно, когда мы с Катей совершали «свадебную» прогулку по ночному городу, — и дома, и повороты, и молчание, и город навстречу.
Какой большой и прекрасный мой город. Все как на ладони. Четко распланированы его улицы и проспекты, над ними большое открытое небо. И в жизни, и в душе должно быть много неба и ясности.
А тогда? В свадебном платье Катя забилась в угол. И мы молчали. И обманули шофера. А сколько было между нами недоговоренности, неясности, моей и ее неправды? Но сейчас я все исправлю. Еще не знаю, как это будет, но я уверен, что исправлю: я люблю ее и всегда любил только ее одну.
Гони, шофер, тут мне уже все знакомо, я уже все тут знаю, я у цели. Поворот, еще поворот.
— Остановись, пожалуйста, вот здесь.
Скрипнули тормоза. Я расплатился с водителем, вышел из машины и медленно направился к знакомому скверу, где были свежие клумбы с еще нераспустившимися цветами и высокие крепкие тополя. Их листья я видел из окна в ночь свадьбы. А она была феей, и для нас погромыхивал мост через Обводный под веселыми колесами вагонов, уезжающих куда-то туда, к югу, к Африке или Австралии — все равно, лишь бы вдаль и к счастью.
Я открыл дверь на лестницу, вошел на площадку, увидел коммунальный почтовый ящик, дверь, обитую черным дерматином, и сразу всю Мишкину свадьбу вспомнил я: его усталых гостей, натужное веселье и мое нетерпеливое желание уйти поскорее от чужого и горького для меня праздника.
Я вдруг представил Мишку и Катю, и подумал, что ведь вполне возможно, что они живут мирно и ладно. А я вот приду. Зачем? Для чего? Что я скажу ей сейчас, жене и вот-вот уже матери Мишкиного ребенка? И какое право я имею решать за нее, за них за всех? И как это можно ни с того ни с сего ворваться в чужую жизнь? Какое ей дело до того, что произошло в моей душе? Какое ей дело до моих решений? У нее своя жизнь, у меня своя, и, стараясь переделывать свою жизнь, не разрушай чужую...
И когда эти мысли вдруг обрушились на меня, понял я, что не могу, не должен подниматься по лестнице, звонить, являться к Кате и Мишке и что-то объяснять им обоим.
Повернулся и пошел. Я знал, что поступаю правильно. Я не от Кати уходил, а от возможности беды. Катя и Мишка — муж и жена. Они — прошлое, настоящее и будущее, а я теперь — лишь память о юности. Прощайте.
Медленно пошел я к Обводному. Впереди виднелись черные переплетения металлоконструкций железнодорожного моста. В этот голубовато-сумеречный вечерний час они казались нежными и мягкими, как нарисованные акварелью.
Вот оно, то место, где подошел ко мне парень и попросил закурить, а потом налетели все, и Бородулин вместе с ними. Отсюда и началось... Несколько суток прошло с тех пор, а кажется, что целая жизнь. Теперь круг замкнулся. Много уже кругов замкнулось в моем прошлом. Виражи, спирали. Вверх ли? Вниз ли? Теперь — новый вираж.
Что потеряю и что приобрету я на новом пути? Что бы и кого бы я ни приобрел, больше никогда не будет у меня Зойки, ее любви. Даже ее прощение не беспредельно. То было, наверно, не только прощение — слепота. Она не видела или не хотела видеть правду... А моя вина перед Зоей и Венькой беспредельна.
Нет больше радости, хоть все четыре стороны света по-прежнему похожи друг на друга, как четыре шага, как четыре дольки скользкой брусчатки под ногами — они выступают из-под земли, как верхние корочки кирпичиков хлеба. А вот и четыре телефонные будки. Пойти позвонить? Ей? Ему? Будущему? Прошлому?
Стой. Повторяешься. (Время остановилось. Топчется на месте. Некуда тебе звонить и не с чем тебе идти, и не к кому. Только домой. Ты пришел сам к себе. К новому, освобожденному от всего. Ты уже не мастер, не педагог, ты не там и не тут, ни с теми, ни с этими, — все заново. Радоваться бы этому решению. Новым надеждам, новым возможностям. Только вот отчего-то холодно и пусто на душе. И солнце не с тобой, и эти прозрачные первые листья на деревьях, и весна — как будто не твоя. И город — сам по себе. Еще одна улица, еще один дом, квартал, сквер, перекресток...
Вернуться бы к тому моему перекрестку, когда было хорошо со всех четырех сторон, и я еще никуда не звонил, я просто радовался празднику моих учеников, весне, мостику с крылатыми львами, колеблющимся решеткам вдоль канала Грибоедова.
Как отчаяние пришло чувство невозвратимости потерянного и невозможности что-то улучшить, прояснить сегодня же. Я, как на привязи, стал ходить по кругу, по кругам — слева направо и справа налево, я смотрел во все стороны и почти ничего не видел, будто глаза мои стали незрячими. Пнул какой-то камень и от острой боли остановился, присел, начал потирать ушибленное место, и неожиданно, как открытие, как спасение, вспомнилось: сегодня день занятий литературного кружка. А вдруг там, в Доме культуры, сейчас Никита Славин? Вот к кому надо ехать.
Среда. Встреча, как обычно, в этот день и, как всегда, с семнадцати часов. Какое счастье, что этот день и час постоянны уже много лет, еще с тех времен, когда я сам приходил в Дом культуры по средам и воскресеньям. Надо мчаться, скоро уже все закончится, староста сдаст ключи на вахту, друзья постоят недолго возле чугунных ворот, потом не спеша пойдут к Невскому, опять остановятся возле будочки «Горсправка», потопчутся, не желая расходиться, поспрашивают, кому куда, пожмут руки и только тогда по домам. Так было у нас, так, наверно, происходит и теперь.
Сел в автобус. Он раздражал меня своими неторопливыми приседаниями. Я держался за спинку кресла, смотрел в окно и мысленно уже разговаривал с Никитой. О разном. Мне хотелось поговорить с ним обо всем. Не опоздать бы.
Не опоздал. Гардеробщица сказала, что литературный кружок еще на месте, наверху, перед библиотекой.
Подниматься туда, идти на занятие не захотел, не то было настроение. Вышел на улицу, пересек бульвар и по коротенькому переулку направился к каналу Грибоедова. Оттуда я никак не мог проглядеть кружковцев.
Я облокотился на чугун, он был теплый после солнечного дня. И вечер был теплым, и хотелось отказаться от всех забот, от всех печалей и неприятностей, смотреть рассеянно по сторонам, дышать и думать лишь о приятном. Я вспоминал.
Вот я стою как раз на том месте, где стоял, бывало, в гимнастерке, подпоясанной ремнем. Горела пряжка, надраенная зубным порошком, и буквы: РУ. А потом я приходил сюда в новом коричневого костюме, первом костюме в своей жизни, я уже считал себя солидным мужчиной, я был рабочим завода. А потом... потом снова форма: темно-синий китель и такого же цвета брюки с голубым кантом, — учащийся Индустриально-педагогического техникума трудовых резервов. Как длинно это все звучит, и как я часто, оказывается, менял обличья. Неужели и сам я, натягивая новую одежду, становился другим? Становился. Это неизбежно. Но еще, кажется, ни разу я не натянул на себя той одежки, которая полностью соответствовала бы и моему облику, и выражению моих глаз, и всему тому, что помогло бы мне быть всегда самим собой. Когда-нибудь, может быть, я и переберусь в наиболее подходящую для меня одежду, как перебрался я из одного представления о самом себе в другое.
Из одного — в другое... Начало этому положил мятежный Андрей Фролов, мой давний друг.
«...Да что ты зарядил — как все да как все... Ты подумай о себе пошире и посмелее хоть раз в жизни! — напустился на меня он в споре. — Ты не винтик и не болтик, ты единственный, ни на кого не похожий человек, и в этом твоя ценность». И удивил, можно сказать, сразил тогда меня своим доводом: «Даже на дереве нет ни одного похожего листочка, а почему?» — спросил он. «И в самом деле, почему?!» — подумал я, но не смог найти ответа. «На это ты ответишь мне потом», — сказал тогда Андрей и прекратил наш спор.
Дорогой мой друг, ты даже не представляешь, как ты смутил мою душу. Чем больше я думал о непохожести листочков на деревьях, тем интереснее и труднее становилась моя жизнь. Где ты теперь, Андрей? Какой ты?
А вот и конец занятий. Из ворот вместе с друзьями вышел Никита. Он почему-то с большим коричневым чемоданом в руке. Поставил его на асфальт, пожимает всем руки, долго жмет, основательно. Не прощается он только с девушкой в ярком плаще. Они оба идут в мою сторону. Пересекли улицу Софьи Перовской, вошли в переулок, все еще не замечая меня, направились к мостику с четырьмя старинными фонарями.
— Никита!
Первой оглянулась девушка. Я помахал рукой. Оглянулся и Славин и, узнав меня, не сразу пошел ко мне, довольно долго стоял, раздумывая. И только когда я сам двинулся к нему, Никита сказал что-то девушке, наверно попросил ее подождать, и зашагал мне навстречу. Рослый, основательный, на крепких чуть-чуть кривоватых ногах, он на миг показался мне явившимся из юности Андреем. Вот сейчас подойдёт и спросит: «Ну как, подумал про листочки на деревьях?» — «Подумал», — скажу я.
— Здравствуй, Никита, смотрю, тяжелый у тебя чемоданчик, едва несешь. Кирпичи или золото?
— Это книги.
— Неужели теперь наша библиотека выдает книги сразу целыми чемоданами? Или к букинистам? Оказался на мели? Если так, не продавай книги, потом пожалеешь, лучше возьми у меня в долг.
Странно как-то смотрит на меня Никита, будто бы и не смотрит, взглянет и опустит глаза. Неужели то, что я не устроил его в общежитие, так разъединило нас?
— Ну, так возьмешь в долг?
— Спасибо, Леонид Михайлович, денег мне не нужно. Я уезжаю.
— Уезжаешь? Куда? Вот это номер. Значит, если бы не было этой случайной встречи, мы и не увиделись бы?
— Да, не увиделись бы. И поэтому я прошу вас... — Никита помолчал, поставил чемодан, подошел поближе к ограде канала, набрал побольше воздуха в легкие и тогда только продолжил: — Я прошу вас, как кружковец кружковца, понять... Я уезжаю в деревню. Насовсем, — уже с трудом выдавил он.
— Насовсем? В деревню? Вот это новость! Как же это?
Я теперь видел Никиту в профиль: полные, как будто в обиде оттопыренные губы, курносый нос с широкими ноздрями, короткий вздернутый подбородок. Славин посмотрел на меня искоса и опустил глаза.
Когда он решился на этот побег? Не выдержал, сорвалась душа? В конце учебы. В начале работы, всей судьбы. С чего тут начинать разговор?.. И о чем?
— Что же это тебе взбрело в голову, дорогой мой?
— А что мне в городе делать?
— Как что?
— Город, конечно, красивый, жалко. Но я его все равно не знаю. Да и узнать-то мне было некогда — все учеба, учеба.
— Да разве только в городе дело?
— Я не могу здесь, Леонид Михайлович. Там лес, поля, тихо все, просто. У бабушки дом большой. Крышу покрою, сена козе накошу. Нечего мне в Ленинграде торчать. Я такой здесь бываю злой, себя не узнаю, руки дрожат.
Его большие мосластые руки дрожали и сейчас. Но в глазах — не злоба, что-то другое, как будто загнали Славина в угол. Я молчал, ему нужно было выговориться, я это видел и понимал.
— Здесь люди живут скрытно, только делают вид, что они с тобой по-хорошему, по-интеллигентному. А мне по-простому легче. В городе всюду деньги, деньги. Я на заводе тоже только и буду думать о заработке. Деталь сделал — копейка, еще одну — еще копейка. Противно. А куда денешься — есть охота, и одеться охота, и жить не хуже других. А заработать нам, молодым, дадут не очень-то, я ведь знаю.
— Ты что-то слишком много говоришь о деньгах. Тебе они и нужны и противны одновременно. А обо мне ты подумал, а о ребятах, об училище?..
— Что училище? Там таких, как я, сотни, и будут еще тысячи. А настоящих друзей у меня нет.
— А Никаноров?
— Он скрытный. Я его не всегда понимаю.
— А ты не скрытный, и всегда себя понимаешь? Вот сейчас хотя бы.
Молчит, думает. И я задумался, и вспомнил.
Однажды, узнав, что я затеваю у себя ремонт, Никита предложил свои услуги. «Я на это дело мастак», — сказал он.
Никита и вправду взялся за ремонт как заправский мастер. Он, кажется, умел делать все — в деревне он даже помогал плотникам рубить избы, сам покрывал дранкой крышу своего дома, сам все белил, красил у себя, и в моей комнатке он навел порядок в два счета.
Было время арбузов, и в конце работы перед Никитой и мной на полу лежали два кавуна — сочных, потрескивающих под ножом, с черными спелыми косточками. Сладкую мякоть мы заедали черным круглым хлебом. Для тех, кто любит такую еду, — вкуснотища непередаваемая.
В комнате, кроме книг, сложенных в углу, да матраца на самодельных ножках, да журнального столика, да старого проигрывателя с несколькими пластинками, ничего пока не было.
— Хорошо у вас, просторно, — сказал Никита, оглядывая комнату и уплетая очередной кусок арбуза. — Наживете еще себе всякую мебель, — солидно пообещал он.
Глаза у него были веселые, он и работал азартно, и ел, шумно втягивая сок кавуна.
— У вас проигрыватель работает? — спросил он.
— Вроде работает. Надо попробовать. Только вот пластинок маловато. Зато есть хорошие — итальянская эстрада, кое-что из серии «Вокруг света». Есть и серьезная музыка. Бетховен, например.
— Поставьте, пожалуйста, Бетховена. Я его никогда не слышал.
— Вот «Аппассионата», играет Мария Гринберг.
С каким-то ворчанием, громким шелестом начал вращаться диск проигрывателя. Никита присел на корточки рядом с приемником, положил в свои широченные ладони кудлатую голову и притих. И так, не меняя позы, просидел он, пока не проиграла одна сторона пластинки.
— Будешь слушать дальше?
Никита кивнул и опустился на пол, вытянув ноги. «Неужели так сразу он воспринял то, что многим дается с трудом? — подумал тогда я. — Этот парень вообще все принимает или не принимает сразу, и не поверить ему нельзя. Это не нарочно он не смотрит на меня, склонив голову. Так, наверно, он вслушивается в лесу в голос кукушки, так сосредоточенно пишет стихи, так отдается любому своему делу, глубоко и всерьез».
О чем думал тогда Никита, усевшись на полу: вспоминал деревню, дом, мать, отца? Или, быть может, мысли его были о городе, где все дается с напряжением, с непредвиденной борьбой? Или оказался он погруженным в свою думу, как в сон, в котором правда и явь, прошлое и настоящее, нежное, розовое и кошмарное вперемешку? Может, и теперь он думает о том же?
— Ты хотел победить, Никита. А теперь бежишь. Значит, струсил? В деревне, наверное, был первым.
— Я не трус. В деревне труднее. Оттуда бегут, а я возвращаюсь.
— Всюду нелегко. И это совсем другой вопрос. Если бы ты поехал туда не сейчас, а после училища, как специалист, тебя бы, может, с почетом направили в деревню. А пока ты еще ни то ни се, ни два ни полтора. Подмастерье. Тебя и в деревне жизнь прижмет — куда ты побежишь? На край света? Заморочил ты себе голову, и не ожидал я, что ты окажешься слабаком.
Завело меня, заело, и, понимая, что, может быть, говорю слишком круто, не мог не сказать я всего, что прорвалось. Всем нутром я чувствовал опасность, беду, в которую, как в омут, бросился мой ученик. В чем тут дело? Какая причина? Я понимал, тут могут быть самые сложные внутренние причины, целое переплетение их. Они сосредоточились, наверное, как и во мне, ощущением неблагополучия самой главной — душевной жизни. Я принял решение уйти из училища. Вот и он тоже.
Я невольно сменил тон, стал говорить тихо, мягко, будто сам с собою:
— Никита, я понимаю, силой тебя все равно не удержать. Поступай, как решишь сам. Будем считать, что мы с тобой не виделись. Но я хочу, чтобы ты знал: мне жаль расставаться с тобой. Последнее время я много думал о тебе, вспоминал, ты был мне нужен. И я чувствовал свою вину перед тобой. Устрой я вовремя тебя в общежитие — и, может, все получилось бы по-другому.
— Что вы, Леонид Михайлович, не в этом дело. В общежитии было бы мне так же худо, как и у сестры. — Никита впервые за время нашего разговора посмотрел в ту сторону, где все еще прогуливалась по набережной девушка в ярком плаще.
— Это младшая моя сестренка, приехала из поселка на два дня. Она еще учится.
— Все ясно. С ней, значит, и надумал. С чего хоть начинать там собираешься?
— Устроюсь, наверно, трактористом, буду сеять кукурузу, которая у нас не растет, — с усмешкой сказал Никита, отвернувшись от меня. А потом вдруг заговорил горячо: — Да не в том дело, Леонид Михайлович. И не с ней я вовсе надумал. Сестра завидует, что я в таком городе. Я все сам решил. Я становлюсь скептиком, циником. B одно не верю, другое высмеиваю, про третье рассказываю анекдот. Про все, про все на свете я могу теперь сказать что-нибудь такое... или что-нибудь сделать. Все во мне вдруг обрушилось. Полный завал. И не знаю, что делать, Леонид Михайлович...
Он спрашивает, а я тоже ничего не знаю. Раньше стал бы объяснять красноречиво, а теперь... у самого все рушится, во всем завал. Сразу в этом деле ничего не поправишь, из этой болезни люди выбираются медленно. А выбираться надо непременно. В беде Никиты есть и моя вина, я должен что-то исправить. Но Никита, кажется, твердо решил отправиться в деревню. А как бы здесь он был нужен мне, всей группе, всем в училище, и даже всем в городе, потому что именно такие вот честные, мучающиеся, совестливые люди и создают душу города. Никита вот не прижился, а такие, как Лобов, приживаются с первого дня. Нет, просто невозможно отпустить Никиту. Теперь и там ему будет тяжело. Он хоть еще и не горожанин, но уже и не деревенский. Время, нужно нам время обоим, чтобы помочь друг другу вылечиться, исправить что-то, посидеть на каком-нибудь пенечке в лесу... и все прояснить. А впрочем, ничто не проясняется раз и навсегда, и три сосны, для того, чтобы заблудиться, можно найти даже вон тут — на Невском.
Никуда только не нужно уходить от самого себя. А спокойны да блаженны, наверно, лишь полные дураки или боги на Олимпе. А вот этот мой ученик — просто человек. Молодой человек. Даже очень еще молодой, с тонкой, детской кожей на щеках. Это он с виду такой большой, основательный, уверенный в себе. В глазах его и растерянность, и обида, и желание оправдаться, и боль. И вдруг они стали влажными, его синие глаза. Большим своим кулачищем Никита быстро смахнул слезу.
— Да ты что?! Ну пожалуйста, перестань. А то я сам заплачу. Два мужика разревелись посреди улицы. Люди со смеху умрут. Все теперь не так страшно. Успокойся. Скоро опять пойдем на завод, а потом квалификационный экзамен и выпуск — все наладится. А в деревню поедешь на каникулы.
Я обнял Никиту за плечи, едва обхватив рукой широкую, сильную спину. Он всхлипнул пару раз и затих.
— Иди к сестре, а то забыли мы о ней, нехорошо. Давай руку, до завтра, Никита.
Плотно соединились наши ладони. Никита долго смотрел мне в глаза, медленно и основательно пожал руку, но не произнес ни слова. А потом взял свой тяжеленный чемодан, зашагал к мостику с четырьмя старинными фонарями, позвал сестру и вместе с ней направился к Невскому, к его суматохе. «Неужели уедет? — думал я, и сердце сжималось. — Неужели все-таки уедет?»
Глава третья
Никита ушел к Невскому, а я зашагал в другую сторону, к Марсову полю, к Неве, к простору. Когда оказался рядом с Кировским мостом, я увидел то, что ожидал увидеть: и просторное небо, и вечернюю зарю, — но мне захотелось домой, в маленькую мою комнатку, просто посидеть в ней, помолчать или послушать Бетховена, пластинку, которую слушал Никита, или поговорить с Кузьмой Георгиевичем. Пешком возвращаться было неохота. Сел в трамвай.
Оказывается, надежнее всего добираться куда надо на этом городском ишачке. Везет себе и везет, и места много, не толкаются.
Нет, на этот раз толкаются. Особенно на площадке. Что это они там так тискают друг друга? Пэтэушники! Всюду наши ученики, по всему городу. Ах, вот в чем дело! Контролер! Женщина держит кого-то за руку.
Раздражают меня трамвайные контролеры. Ненавижу их надменную уверенность в своей правоте. Понимаю, что нельзя обманывать, даже в мелочах, и все-таки не нужно так «раздевать» при всех человека, как это делают многие крикливые женщины, проверяющие билетики, будто совесть и честь стоит всего лишь три копейки. Вон она держит за рукав и дергает кого-то. Это Лобов! Вот кого она держит. Мой Лобешник попался в трамвае! Это он может, это у него запросто.
— Отпустите его, пожалуйста!
— Еще чего! Защитник нашелся. Кого защищаешь? Эти нахалы совсем обнаглеют. А у тебя у самого-то билет есть?
— А с чего это вы со мной на «ты»? Мы что, друзья?
Не ожидала тетка такого поворота дела. Замолчала. Смотрит на мой билет. Собирается с мыслями и подыскивает слова — как бы поэффектнее и позлее мне ответить. А Лобов таращится на меня, красный, потный, ошалелый. Больное ухо стало малиновым.
Все смотрят на Лобова, на меня, на контролера, ждут, что будет. Я знаю: никто не сочувствует Лобову.
— Еще чего, — наконец-то придумала свой ответ злая контролерша, — чего это мне с тобой тут дружбу разводить, — говорит она. — Такие друзья вон как миленькие отрабатывают пятнадцать суток. Могу устроить.
— Спасибо за протекцию. А вот парня этого оставьте.
— Да ты что, сдурел? Сейчас и тебя сдам. Купил билет и катись куда надо. Ты что, за него штраф, что ли, будешь платить?
— Вот вам рубль, и до свиданья.
Я был готов заплатить и больше.
— Давай сойдем на этой остановке, хочешь? — спросил я у Лобова и подумал о случайностях, которые нас ждут чуть ли не на каждом шагу.
— Сойдемте, — ответил Лобов и, когда мы оказались на тротуаре, поблагодарил меня. Поблагодарил на свой манер, раздражаясь, что нужно открывать рот и говорить непривычное, стыдное: «Спасибо, извините, пожалуйста». Быстрее бы отделаться от этого ритуала. Куда как отчетливее и смелее он произнес другие слова:
— Ну и вредная эта тетка, не дай бог. За три копейки нос откусит. Чуть что — свистульку в рот. Милиция, дружинники... Там все в трамвае разорались на меня... Ух и ненавидят они нас! — уже не с лихостью сказал Лобов, а с обидой и болью.
— Кто это «они» и кого это «вас»? — спросил я.
— А все, — повторил он, — нас, пацанов.
— Ну уж и все! — сказал я. — И потом, какой ты пацан? Ты вон покрепче любого мужика.
— А что, нравлюсь, что ли? — спросил он с интересом. — Так уж и любите, как своего? Только и слышу от вас: «Лобов, перестань! Лобов, нельзя! Лобов, не смей! Лобов, замолчи!»
— Нет, Лобов, — ответил я ему. — Не люблю я тебя. Не хотел бы я, чтобы ты был, скажем, моим братом. — Как, оказывается, трудно сказать человеку правду в глаза! — Не нравишься ты мне, Лобов.
Он молчал. Я старался быть правдивым до конца, хотел и ему, и самому себе объяснить, почему он мне не нравится.
— Я думаю, потому ты мне не нравишься, — продолжал я, — что очень уж мы с тобой разные. Я не всегда и не во всем уверен в себе, я тихоня по сравнению с тобой. А ты можешь кому угодно нагрубить в лицо, никого не уважаешь.
— Я вас уважаю.
— Меня? Не похоже. Если бы ты уважал меня, разве стал бы покрывать Бородулина?
— То совсем другое, Леонид Михайлович. Вот вы не понимаете чего-то такого. Конечно, может, и понимаете, но забыли, когда сами были в моем возрасте. Ну, в общем, не могу это я вам толком объяснить, только ведь Глеб мой друг, и он очень хороший парень, его я тоже уважаю.
Лобов так разволновался, что стал даже заикаться слегка. Он размахивал, перекручивал, выворачивал что-то руками, помогая словам и мыслям, он хотел, чтобы я понял его обязательно, и только так, как он думает, и не иначе. Лобов, кажется, впервые ощутил, что убеждения, мысли и чувства, воплощенные в точных словах, могут значить больше, чем его здоровенные кулаки. Я слушал, не перебивая, мне тоже важно было понять Лобова до конца.
— И я не могу предать Глеба, не хочу, — продолжал он. — Мне лучше самому пусть будет плохо, но все равно друг есть друг. А вы думаете, если бы с вами что-то случилось, я бы вас не стал покрывать, как Бородулю? Если бы вам суд грозил или еще что-нибудь такое, мало ли? Да мы бы все за вас, мы бы за вас любому по роже. Не верите, да? Не верите?
Ну как я мог ему не поверить!
— Мне никто не верит, — признался он вдруг обозленно. — Что бы ни случилось, во всем я виноват. Я вот одной девчонке в ухо дал. Я понимаю. Думаете, я не понимаю, что этого нельзя делать? Девчонка — значит, то да се, нежное создание. А вы бы только видели, какая она. Такая нахальная... — Он махнул рукой. — Да что о ней говорить, сами, наверно, видели таких. И все равно ей поверят, а мне нет, если что. А как же! Она цветок, одуванчик. А я кто? Лобов! Хулиган! Громила! Лобов водку пьет! Лобов хамит! Лобов уроки срывает!..
Я посмотрел на него сбоку. Ну и ну. Сколько же людей живет в одном человеке? И какой из них настоящий?
И с неожиданной резкостью, даже с грубостью, словно за что-то внезапно обозлившись на меня, может быть из-за того, что признался, раскрылся, Лобов спросил:
— А что вы молчите? Воспитывайте уж. На то вы и мастер. Отругайте хоть, а то мы идем, как два кореша пиво пить.
— А почему бы и нет, — сказал я. — Неплохая идея. Почему бы нам и правда не выпить по кружечке? Пойдем, что ли?
Он посмотрел на меня с недоверием.
— Пошли, пошли, у меня тут на примете есть один знакомый ресторанчик. Посидим, перекусим, идет?
Лобов даже бровью не повел. Как будто он всю жизнь ходил по ресторанам и как будто мы в самом деле, как два закадычных друга, шли-шли и вот решили зайти поужинать.
А не слишком ли ты хватил, мастер, с предложением пойти в ресторан? Непедагогично. Завтра Лобов расскажет об этом всем, и трудно даже себе представить, что будет потом, как отнесутся к этому ребята, или еще, чего доброго, узнают директор, замполит или старший мастер. А вдруг Лобов начнет потом хамить мне и скажет, как сказал директору: «А вы-то сами...» Не скажет. Или уж я совсем ничего не понимаю ни в себе, ни в людях. Пусть все будет, как решил.
А все-таки, что и говорить, совестно идти. И странно. Особенно с Лобовым. И все-таки идешь? Хочешь таким образом расположить его к себе или дать понять, что ты не боишься общепринятого среди педагогов мнения? А ведь это, по существу, тоже педагогический прием. Прием, прием. Слово-то какое. Что-то есть в нем от «поймать», «подловить», «подстроить ловкую засаду для пользы дела». Нет, не этого я хочу. И так слишком много мы используем педагогических приемов, и ученики с полунамека понимают, когда прием, а когда — движение души. Одному верят, другому лишь подчиняются, и то не всегда. Лобов давным-давно стал глух ко всем этим педагогическим наставлениям. И если бы случайно не сорвалось у меня приглашение в ресторан, он ни за что бы не шагал сейчас так охотно и стремительно.
Даже слишком стремительно. И наплевать ему, что мы идем по красивейшей площади Ленинграда, что там вон Оперный театр, а тут Русский музей, а здесь Филармония и Театр музыкальной комедии, а посреди площади памятник Пушкину с цветами у подножья.
Странно, очень странно, что язык у меня не поворачивается сказать Лобову: «Остановись, посмотри на этот свет вокруг, на эти колонны, на эту прекрасную ограду с позолоченными остриями пик. Оглядись и запомни, если ты ни разу этого не видел, и почувствуй в себе особый праздник, восторг и, может быть, даже умиление от этой красоты, оставленной нам прошлым временем. И может быть, позавидуешь старым деревьям, тому, что они видят все это много десятилетий подряд и молчат, а может, позавидуешь сам себе, что посчастливилось жить в прекрасном городе. Все это твое, для тебя, сумей только разглядеть». Может быть, и Никита не разглядел мой город. Куда он шагает сейчас со своим чемоданом?
Я не смогу сейчас рассказать Лобову, что сам когда-то смотрел и не видел, слушал и не понимал, и мучился от стыда, оказавшись впервые в Филармонии, в окружении непривычных мне людей, среди белых колонн, сверкающих люстр, на бархатном кресле, перед эстрадой, на которой сидели в черных фраках оркестранты. Они то оглушали меня громом литавр, то усыпляли медленными, тихими звуками скрипок, подчиняясь размахиванью рук длинного тощего дирижера. Я слушал и не слышал музыку, и никак не мог забыть, что на мне ремесленная форма, гимнастерка с ремнем, черные брюки и огромные, скрипучие ботинки. Я сунул ноги под кресло да так и отсидел до перерыва.
Вот и канал Грибоедова, и невдалеке от Невского вывеска на черной доске: «Ресторан «Чайка».
Перед дверью в своем блестящем «генеральском» мундире сидит на стульчике бородатый швейцар. Он дремлет. За стеклом на тесемочках висит аккуратная картонка, а на ней крупными буквами выведено: «Свободных мест нет».
— Как тебе это нравится? — развел я руками.
— Я сейчас, — сказал Лобов, — я знаю, как с ним поговорить. У вас есть рублик?
— Рублик-то есть. Но не стоит. Противно. А знаешь что, — обрадовался я простой и почему-то раньше не приходившей мне в голову мысли, — пойдем ко мне. Я напою тебя крепким, моим фирменным чаем. Ты ведь не был у меня дома ни разу. Это недалеко. По каналу Грибоедова минут пятнадцать ходьбы. Пойдем. Честное слово, нам будет там лучше.
«Это Никиту надо было затащить к себе», — на мгновение подумал я и решил, что Лобову мое участие нужно сейчас, может быть, не меньше.
Мы легко повернулись спиной к надписи «Свободных мест нет», направились к Невскому, к его праздной суете и быстрому бегу машин.
— А это что за церковь? — спросил Лобов.
— Ты имеешь в виду Казанский собор?
— Нет, его я знаю, я про ту, что за спиной.
— Спас-на-крови. Эта церковь так называется: Спас-на-крови.
— Почему — спас?
— Ну, спас — это спасение, спаситель. То, что спасает душу. Если вымолишь у бога прощение за все земные грехи — спасешься от мук ада на том свете.
— И как это люди, Леонид Михайлович, не могли понять, что все это вранье?
— Многое непонятно.
— Но ведь бога нет. Вы верите, что бога нет?
— А ты что, сомневаешься?
Растерянным вдруг стало его лицо, как будто я застал его врасплох.
— Моя мама говорит, что люди врут, пьянствуют, убивают друг друга потому, что не верят в бога...
Я вспомнил тоненькую, тихую, растерянную женщину.
— А ты как думаешь?
— Не знаю. Может, слабохарактерность или еще что-нибудь такое...
— Люди пьянствовали и врали, даже очень веруя в бога, фанатики убивали во имя бога, чего только не было — священные войны, крестовые походы. Ты и сам про это, наверно, читал. Вера-то нужна, даже очень: в добро, в дружбу, в честность. Понимать-то мы это понимаем, да вот соблюдать это нам часто пороху не хватает. Характера, как ты верно сказал.
— Это действующая церковь? — спросил Лобов неуверенно, все еще о чем-то думая.
— Там складское помещение Малого оперного театра.
— Красивая церковь, зачем ее под склад?
— Да не такая уж она и красивая. Слишком пышная. Разукрашена вся, как будто матрешка. Мозаика только, говорят, редкостная. А так — богу молиться можно было бы и в храме поскромнее, даже лучше было бы. А с точки зрения архитектуры — это подражание московскому храму Василия Блаженного на Красной площади. В Москве не был? Нет? Там действительно чудо — ничего лишнего, праздничная, торжественная, и цвет у нее глубокий. Со вкусом подобраны оттенки местного камня. В общем, я тебе не могу это объяснить, не специалист. Если бы ты сам увидел, согласился бы. Вон Казанский собор — все четко, строго, стройно...
— А почему Спас называется «на крови»?
— На этом месте народовольцы убили царя. Послушай, Коля, как это до сих пор ты не был здесь и ничего не видел, не знаешь?
— Я Ленинград плохо знаю, — смущенно признался Лобов. — Только там, где учимся, где живу. Ходил я тут, конечно, но все как-то так...
— Да ты что?! Столько прожить в Ленинграде и не знать его? Удивляюсь. Это какой дом перед тобой, вот этот большой, немножко мрачный, со стеклянным шаром наверху?
— Это... это... сейчас скажу... «Дом книги»!
— Прочел, хитрюга. Здесь когда-то размещалась компания Зингера, короля швейных машин. А вон что за шпиль горит на солнце, в начале Невского, там еще кораблик вверху?
— Это уж я знаю — это, как его...
— Да ты что, офонарел совсем? Вспоминай быстрее, а то поколочу.
— Это Адмиралтейство, — обрадованно, как малыш, выпалил Лобов.
— А на какой площади стоит памятник Пушкину?
— Не помню, не знаю.
— А памятник Петру Первому?
— Площадь Декабристов.
— А как она раньше называлась?
— Не знаю.
— Сенатская. Рядом были Синод и Сенат. В общем, я чувствую, мне нужно показать тебе город как следует. Ты все убегал, когда я устраивал экскурсии. Теперь не убежишь?
— Нет, ни за что.
«Все правильно, все заново», — подумал я.
Мы медленно пошли по набережной канала, мимо нешироких мостиков, по узкой мостовой, она изгибалась все круче, все выше были дома, на противоположной стороне канала они светились от мягкой вечерней зари, и всюду был разлит этот теплый, мягкий свет, он успокаивал, согревал душу. Пахло асфальтом и зеленью, хоть листья были еще совсем крошечными.
Глава четвертая
В коридоре нас встретил Кузьма Георгиевич, спросил, вглядываясь в Николая:
— Это он и есть?..
— Нет, совсем другой. Того я тоже видел. Разговаривали.
— Ну и как?
— По-разному, Кузьма Георгиевич. Все еще впереди. Кое-что понял.
— Поймешь еще, поймешь, я в этом уверен. Если нужен кипяток, бери наш чайник, он только что вскипел.
— Спасибо, Кузьма Георгиевич, мы еще пока должны чего-нибудь поплотнее...
— А есть у тебя?
— Спасибо, найдется, я запасливый.
— Ну, ну, торопитесь. Вижу по глазам, какой у вас аппетит.
Лобов не ожидал, что я живу в крошечной комнатке и ничего у меня еще нет, кроме самодельной тахты-матраца, полочек с книгами, фотографий и карты на стене, старого «Рекорда» да маленького журнального голубого столика на трех ножках. Одна ножка разболталась, расклеилась, и после гостей обычно мне приходится ее снова укреплять — клеем, шурупами, гвоздиками, как придется. А гости, мои товарищи, бывают у меня часто, приходит иногда сразу человек десять — всем, в общем-то, хватает места, а вот столик невольно попадается под ноги или бывает так перегружен всякой снедью, что едва терпит.
Лобов, как только вошел, сразу же и отломал «больную» ножку и сам чуть не грохнулся на пол вместе со столиком. Слетела на пол и развалилась на черепки моя любимая братина, высокий, тонкостенный горшок с двумя ручками по бокам. Его сделал мне в подарок знаменитый горшечник дед Матвей из деревни Песчинка Ярославской области. Братина родилась при мне, на моих глазах, я любил ее и гордился ею.
Николай бросился на колени собирать черепки, его широченная спина была такой пристыженной, виноватой, что я не мог даже вздохнуть погромче от досады. Черепки братины я сложил на подоконник, а в наказание Николаю выдвинул из-под тахты картонную коробку с инструментами, гвоздями, шурупами, проволокой — в общем, со всем моим слесарным и столярным барахлом — и сказал, протягивая отвалившуюся ножку стола:
— Чини, дорогой, не смущайся. Если бы ты не отломал эту ножку, я бы даже удивился. Все, кто бывал у меня в доме, — ею крещенные. Вот когда-нибудь соберу на день рождения столика всех, кто за ним пил и ел, и устрою какой-нибудь хороший разговор, как говорят — за жизнь. Ты любишь посиделки с друзьями?
— Очень. Только вообще-то у меня еще их не бывало по-настоящему.
— Вот я тебя как-нибудь позову, когда соберутся мои друзья. Они у меня самые разные. С одними я когда-то учился в ремесленном, с другими мы встретились в литературном кружке...
— Вы пишете стихи?
— Теперь редко. В лирические минуты. Поэта из меня не вышло. Пишу для себя, для души.
— А вот скажите, Леонид Михайлович, нравятся вам стихи Никиты Славина?
«Где он теперь, — подумал я. — Что с ним? Как решил с отъездом? В какой степени два этих деревенских парня понимают друг друга? Вижу, что не простое любопытство заставило Лобова спросить, нравятся ли мне стихи Никиты. Глаза ждут, светятся».
— Да, я очень хорошо отношусь к его стихам, он человек талантливый, искренний.
— А я даже знаю одно его стихотворение наизусть. Хотите, прочту? — И, не дожидаясь моего согласия, Николай начал читать уже знакомые мне строчки:
Бежала ты, бежала ты в оранжевых лучах. Звенела осень ржавая на легких каблучках. Дубы рядами цепкими сбегались в полукруг. Серебряными сетками ловил тебя паук. А ты пробилась, вешняя, сквозь запахи травы. Стрела моя, слетевшая с крученой тетивы.Лобов шумно выдохнул воздух, как только закончил стихотворение, он читал его не переводя дух. Вот уж неожиданность, что в памяти Николая хранятся стихи, да еще такие лирические. И видно, что нравятся они ему очень.
— А что, вот если бы ему сразу пойти учиться на поэта? Зачем он время зря у нас теряет? Потом еще завод...
— На поэта выучиться нельзя. Средние стихи может писать почти каждый грамотный человек, а хорошие даются только тем, кто родился поэтом. Без таланта крыльями машешь, а взлететь не можешь. А училище, завод — Никите не помеха, если он родился поэтом.
— Но он ведь родился поэтом, у него же получается, — разгорячился Лобов.
— Для начала — да, но хватит ли у него упорства, настойчивости сберечь, развить, воспитать свой талант, вот что еще неизвестно. Ему нужно много читать, нужны встречи с интересными, тоже талантливыми людьми, много чего ему еще нужно, чтобы его юношеское дарование не оказалось просто обещанием...
Никите, ему самому, я должен был бы все это сказать, а не Лобову, но что поделаешь, если все так получилось. Лишь бы только он остался до завтра, пришел на занятие, а там... А может быть, не стоит его отговаривать? Он уходит из училища, ищет простоты, ясности, здоровья, как и я. В городе ему предстоит нелегкая борьба за все, за самого себя, а там... Нет, от себя все равно никуда не уйти, как ни кружи. Только вот увидеть бы его завтра.
— Никите надо помочь, — сказал я как бы сам себе и вспомнил разговор на лестнице с учителем эстетики, когда он настаивал, чтобы я помог Глебу Бородулину, потому что к одаренным людям нужно относиться особо. Да, это так. Только вот говорят, что все люди талантливы, каждый как бы со своим гончарным кругом... и нужно лишь помочь человеку раскрыть свой талант. Наверно, это так — одаренных не счесть, но не всякий готов принять как свое не одни лишь радости, а еще и трудности, может быть даже беды, которые неизбежно сопутствуют таланту. Никита, мне думается, может все это понять и принять, а вот как мы: Лобов, Глеб Бородулин, я сам?..
— Да, Никите помочь надо, — согласился со мной Лобов и добавил для убедительности: — Знаете, как его стихи действуют? Особенно на девчонок. Сразу просят списать.
— Стихами друга себе успех зарабатываешь?
— Какой там успех — прощение, — отмахнулся Николай. — У меня с Нинкой был один такой случай...
Я понял, что Николай имеет в виду девушку, против которой была его мать.
— Она меня все стыдила, — продолжал Николай, желая, видимо, раскрыться сегодня передо мной и в этом, — пойдем да пойдем в театр, а то ты, говорит, совсем серый. Я обиделся, купил билеты! Решил на оперу, «Риголетто» называется. Пришел к Нине, она приоделась, и мы пошли. А на улице было холодно, мокрый снег, у меня в ботинках захлюпало, и прохватило маленько — насморк. Я иду, чихаю, а нос вытираю рукавом. Она сначала смеялась, а потом стала меня ругать, почему я не ношу с собой платочка. А я его никогда не носил. Не привык. Сунула она мне свой — шелковый, что ли, или батистовый. Я его смял и в карман, — думаю, и так потерплю, пусть издевается. Но это бы еще ничего. Надумал я угостить ее чем-нибудь, все так делают. Я ей говорю: «Хошь конфет?» А она: «Нет, не надо, спасибо, зачем тратиться». Ну, думаю, напрасно ты деньги мои жалеешь, это ни к чему. Потащил ее в булочную. Предлагаю то да се — она отказывается. А я знаю девчонок, они ломаки. Я взял да купил три булочки и полкило «Утра». Это такие подушечки. Они полосатые, с хрустом, вроде «Гусиных лапок». Я их очень люблю. Купил, в общем, и сую ей по дороге. А она: «Нет и нет», и вроде стесняется. И ни в какую. А я иду как дурак — три булочки в одной руке, кулек в другой. Нельзя же так вваливаться в театр. А мы шли в этот самый, как его, в Кировский. Я разозлился, подбежал к какой-то ограде и воткнул на железные пики все три булочки. Не хочет — не надо, я тоже не обжора. А конфеты жалко. Иду, рубаю, успеть бы, думаю, умять их до театра. Да все-таки полкило. Она ни в какую не ест. Идет и стыдится меня. А я назло хрумкаю погромче.
Пришли в театр, опоздали маленько. Я еще едва билеты нашел. А потом высмеял меня гардеробщик: я не знал, как мне с кульком помочь Нинке раздеться. «Эх вы, молодой человек, — говорит мне этот гардеробщик, — разве так за девушками ухаживают?» А потом сует мне бинокль за двадцать копеек и говорит, что мы без очереди тут потом сможем... А я думаю: ничего, дед, я и так без очереди схвачу, не привыкать. Драпанули мы наверх, в ложу. А ложа царская, сами знаете, вся в золоте, все нормально. На сцене уже поют. А я с кульком. Куда его денешь? Нинка дергает меня за рукав, стыдит — мол, тише ты. А я конфеты в пятерню и в рот, и хрумкаю по-быстрому. Там поют, а я жру. Нарочно, конечно, назло. Сам знаю, что глупо, а остановиться не могу. Все оглядываются, а я остановиться не могу. Все оглядываются, а я рубаю. И умял до антракта. Опера мне не понравилась, только в одном месте стало жалко шута, когда его дочку стащили. А Нинка вся прямо сама не своя: то меня ругает, то про оперу мне всякие ахи да охи. «Перестань, — говорю. — Как-нибудь я тебе такое спою — закачаешься». А она снова ругает, высмеивает. Ну, думаю, завал. Скорей бы ее проводить до дому, и привет. Замерз по дороге, посинел. В ботинках хлюпает еще больше. Иду злой как черт. И чувствую — всему конец. Я Нинке не пара. И тут вот взбрело мне прочесть это самое стихотворение Никиты — «Бежала ты, бежала ты...». Прочел. Она молчит. Попрощались мы за руку, и до свиданья. Она домой, а я обратно. И вдруг слышу: кто-то бежит, догоняет. Оборачиваюсь — она. Поцеловала меня в губы, и обратно. И даже не обернулась. Не пойму я ее, — может, и все нормально?.. Может, просто почаще стихи надо читать?
— Все нормально, Коля. Все как надо. Мне кажется, все идет прекрасно. Тебя нужно хорошенько прошкурить, и полный будет порядок. А на стихи чего скупиться, раз помогают...
— Леонид Михайлович, — остановил меня Лобов. — А вы почитаете свои стихи?
Не хотелось мне ломаться, отнекиваться, уж очень искренне просил меня Лобов.
— Ладно, прочту. Ты вот плохо знаешь Ленинград, а я с этим городом связан всем, вот послушай...
Мои глаза битком набиты домами, улицами, небом. Я сыт, как воздухом, как хлебом, громадностью земной орбиты. Я под собою шар земной верчу веселыми ногами, а по заснеженной Сенной идут с авоськами, с мешками, с котомками, с портфелями, романтиками... феями... идут повсюду люди и заодно со мной с обыденностью буден вращают шар земной.А вот про улицу Софьи Перовской, по которой я много лет ходил в литературный кружок, куда теперь ходит Никита. Это у меня однажды получился такой экспромт, шел и сочинял:
На улице Софьи Перовской покачиваются тополя. Здесь узенькой стала полоской большая планета Земля. Здесь всюду царит тишина. Весь шум городской — на деревьях, в пуху, в отцветающих перьях. А жесткая зелень полна бесстрашья, ленивой печали, поскольку в суровых веках на всех на семи на ветрах деревья еще не качались. А малая долька проспекта... торопится строчкой конспекта и лишь примыкает к Перовской своей, чуть пошире, полоской.А вот еще одно, коротенькое, с длинным названием:
Вдоль решетки Летнего сада Решетка, ты моя тревога. Я вдоль иду. Ты на виду стоишь смущенно, но и строго, плывешь и таешь, как в бреду. И я бреду вдоль криков чаек, вдоль рыбаков в начале дня. Снисходит небо до меня и в люльке голубой качает.Ну, и последнее я тебе прочту такое:
Еще прозрачные пока, недвижно стынут облака... И вечна, солнечна, легка над шпилем ангела рука. И пара уточек-нырков над Невской рябью, возле моста. И так невероятно просто торчит Исаакий из веков. И я на холоде дрожу, лишь тихим словом согреваюсь. Я не дышу, преображаюсь и на прохожих не гляжу. Неясное во мне творится, душа предчувствием томится, перстом блуждает по песку, как будто дулом по виску. Что нужно ей меж ребер шатких? Каких свершений, перемен? Веселый мальчик на лошадке уже не скачет. Дельты вен с избытком накопили ила, о жатве впору мне просить. Моя душа, как берег Нила, хотела бы плодоносить. Но не пойму, какому плугу доверить пахоту мою. Стою на краешке-краю... А мир гудит, летит по кругу.— Спасибо вам, — тихо сказал Николай.
— Это тебе спасибо. Ты так говоришь и смотришь на меня... Еще ни разу у меня не было такого слушателя. А стихи все-таки пишутся не только для себя одного. Хочется с кем-то поделиться, правда же?
— Еще бы. Вы тоже когда-нибудь станете известным, Леонид Михайлович, — сказал Николай, снова принимаясь чинить столик. Он бережно поднял с пола черепок братины, положил рядом с собой.
В ответ на слова Николая я сморщился кисло, невольно припомнились мне максималистские пожелания товарищей по литературному кружку, вспомнились и мои надежды, планы — грандиозные были когда-то планы, — это еще звучал во мне голос моей юности, ему хотелось прокричать на весь мир... Но теперь-то должно быть все ясно — достаточно мощно звучит голос благоразумия. И все же что-то шевелится, ворочается там, в душе. А вдруг еще не поздно? Вот уйду из училища, и тогда начну писать. Нет, и на этот счет не обманывай себя. «Если нет рук, не поможет и круг», — сказал горшечник.
Давно это было, а будто только что. Я часто вспоминаю о знаменитом горшеле, и эта память придает мне силы. Многое увидел и понял я в эту встречу.
Я взял в руки черепок братины, зеленовато-коричневый, с острыми уголками и краями, они крошились, и я стал растирать между пальцами красноватые крошки каленой глины. Я смотрел, как Николай ремонтирует столик, даже сопит от усердия, и мне представился другой человек: память отчетливо восстанавливала прошлое до мельчайших подробностей.
Вот он, дед Матвей, сидит передо мной на кровати в засаленных зеленых галифе. На его ногах валенки. Дед налаживает самокрутку. Свет двух окон падает на его небритое лицо, апостольское, для иконы. Кожа на лбу чистая, почти без морщин, нос прямой, губы тонкие с крылатым очертанием. Зубы все на месте. На висках, слегка вдавленных в череп, седина и бледность кожи. А в глазах, еще не старческих, не замутненных глазах — лукавство и живость мысли, и мудрость, и озорство, и само собой разумеющееся, неброское чувство собственного достоинства. «Да, это я и есть, горшечник Матвей Алексеевич Чеботарев», — спокойно утверждает он всем своим видом.
Дед Матвей поджег свою самокрутку. И разговор у нас начался с табака.
— Вот ты хоть что делай, махру курю — не кашляю. Папиросы аль сигареты какие курнуть придется — задохнусь весь, грудь закладывает, а деру никакого...
Потоптался, потоптался разговор вокруг курева — замолк. В молчании дед прищуривался и словно бы невзначай поглядывал то на мое лицо, то на руки, то всего меня обсматривал: кто, откуда, что за птица. Не назойливо, не сердито, не въедливо приглядывался ко мне горшечник — расположенно, точно так же, как и себя позволял рассматривать.
А как только дед дотянул самокрутку до обмусоленного края, как только бросил чинарик к печке, как только втиснул ноги поглубже в подшитые валеночки и сказал тихонько, лишь скользнув в мою сторону взглядом: «Ну, дак показать, что ли?» — тут-то все самое главное и началось.
Дед Матвей снял с гвоздика прожженный в нескольких местах, заскорузлый брезентовый фартук, надел его и пошел в семи за горшечным станком. Я хотел помочь.
— Нет, нет. Своя ноша не тяжела, — отрубил дед.
Надо же, вот станок — так станок. Круглая колобашка вроде жернова надета на ось, которая торчит из невысокой крепкой скамейки. Ось вставляется в отверстие колобашки — и дело с концом, вся техника. Присаживайся, раскручивай, выдавливай из глины, что вздумается, что сможешь...
Вращение круга — круговращение. Сколько раз мне доводилось видеть измененный до карусельных станков-гигантов гончарный круг. Вглядываясь, бывало, на заводе в медленное круговращение многотонной детали, я и не представлял, что всему начало я встречу в избе деда Матвея, который понесет на руках свой станок от порога к кухне, будто через века понесет, с той же бережностью и чувством исполнения самого важного долга перед жизнью, как несут матери своих детей.
Внес горшечник свой станок в крошечную кухню, поставил на пол между окном и печкой, отправился снова в сени, уже за глиной. В кухне и происходило все таинство. Кухня — цех, горшечная мастерская.
Вон в углу, рядом с помойным ведром, стоят бракованные глечики, они растрескавшиеся, кривые, всякие. А над головой, поближе к черной пасти печи, неширокие доски. Там, должно быть, обсыхают готовые изделия. Вдоль окна лавка, замусоленная, в рубцах и щербинах. Только в одном месте она гладкая, будто отполированная.
Дед Матвей тут и замесил кусок глины килограммов на пять, на шесть. Уселся перед горшечным кругом на приступку — низко сел, почти что на пол. Попрыскал на свой грязный и шероховатый круг, крутнул его резко разок-другой. Остановил. Круг вращался неровно, с боем. Подпрыгивал вверх и резко опускался вниз. Тогда вот я и спросил:
— Дед Матвей, разве может такой круг сделать что-нибудь ровное?
А он мне и ответил:
— Если нет рук, не поможет и круг.
Он вминал в середину круга кусок зеленоватой глины. Сухие костистые дедовы пальцы нежно и в то же время властно обращались с податливым материалом. Они для начала старались сделать что-то вроде пепельницы или плошки. А потом горшечник взял в правую руку тряпочку, обветшалую, мягкую, обмакнул ее в воду. Левая рука резко крутнула гончарный круг и сейчас же стала вытеснять, выдавливать изнутри, от центра нехитрую пепельницу, а правая рука вместе с мокрой тряпочкой (да что я, не тряпочка это — полизеня) заскользила по наружной стенке глиняной заготовки. Гладкие, поблескивающие стенки нарождающегося сосуда начали быстро расти, вздыматься.
Радостно было видеть, как текла, слушалась, обретала смысл и формы желто-зеленая масса, как запечатлевала она не одни лишь движения пальцев, а желание фантазии, как раскручивал дед Матвей то резко, то плавно свою колобашку, притормаживая ее время от времени коленом.
И вот он вырос, горшок, глечик — внизу поуже, вверху пошире, с гладким ободком, с неглубокой вмятиной вместо носика для струи молока.
Дед Матвей гитарной, тонкой, туго натянутой струной срезал горшок под корень, бережно снял с круга, поставил на лавку, залюбовался, будто не сам все это сделал, будто он — это одно, а руки его, умение его — что-то совсем другое, само по себе, и даже странно, как это они сумели такое сработать уже в который раз. Жизнь прошла, а они знай себе делают дело. Одно и то же, одно и то же, но радости от него становится все больше, той же радости, какая приходила еще в юные годы, — радости удивляться простому своему делу, как чуду.
Да, конечно, изготовлять горшки доступно, пожалуй, любому смертному, а вот угадывать в каждом тысячном, миллионном сосуде трепетную душу новорожденного — вот это дано не всякому, с этим нужно родиться.
Да уж, если нет рук — не поможет и круг...
И вспомнил еще я, как сидели мы потом с горшечником за обеденным столом. В глиняные кружки было налито топленое молоко из глиняного, подрумяненного от печного жара глечика. А посреди стола — пузатая глиняная солонка с крупной, бурого цвета солью.
Дед Матвей крупными ломтями резал хлеб, а я оглядывал простой его дом, с бревенчатыми стенами, с фотографиями в общей рамочке, с печкой, с иконами в красном углу, и, может быть, впервые так отчетливо, ясно понял, что такое дом человека.
Вот на земле, на планете, на крошечном ее клочке стоит изба. Срубил ее человек, мужчина, мужик, глава дома и рода, срубил своими руками. Сделал он двери, чтобы входить и выходить из дому, и запоры, чтобы защитить жилье от нечистых рук. Вырезал хозяин окна, чтобы самому глядеть на мир и чтобы мир к нему заглядывал и солнышком, и звездами, и луной, и деревом. Но оконный вырез небольшой, экономный, да и зачем тут много света. Его на воле полно — выходи, разглядывай. А чтобы дом был не просто как у птицы гнездо или как у медведя берлога, чтобы радовал он глаз не одного лишь хозяина, чтобы можно было похвастать перед кем захочешь — сработал мужик незамысловатые узоры на оконных наличниках да по карнизу. Сработал мужик свой дом, где детей рожать, пироги печь, от зимы защищаться, где гостя принять, богу помолиться, песни попеть, поругаться, покурить, вытянуться на постели после трудного дня или когда срок придет...
Нет, просто никак человеку без дома. Стены дома моего и твоего, и всякого другого человечьего жилья, как и стены птичьих гнезд, густо облепивших старые деревья, разъединяют лишь наши тела, а душам дают отдых, и свободу, и крылья, и жажду слетаться в общую стаю. «Мир дому твоему. Мой дом — моя крепость. Будь гостем дома моего».
Крепкий дощатый стол не шатается. Едим мы с дедом хлеб, огурцы, пьем молоко, похрустываем солью. Давно не ел я с таким удовольствием.
Все хорошо, все вечно, думаю я. Есть свет, и есть тень. Есть голод, но есть и пища. Есть маета, но есть и спасительное дело на всю жизнь.
Дед Матвей понимал, что мне у него хорошо. Прямо со стола взял он просторный горшок с двумя незатейливыми ручками и подарил мне:
— Бери мою братину. Пей с друзьями по кругу хоть молоко, хошь воду, хошь еще чего погорячей. Главное, чтобы всегда она была у тебя до краев.
Спасибо, дед Матвей. Не раз была полна до краев твоя братина, а теперь вот разбилась... И только теперь вдруг я по-настоящему почувствовал утрату подарка. Стало досадно и горько. Я взглянул на Николая, увлекшегося ремонтом стола.
— Ну, Коля, я пошел к моим макаронам. Готовь побыстрее столик. Ты с ним не очень-то ковыряйся, все равно сломают.
— Уж я сделаю, не сломают, будьте спокойны. Я для бабушки все табуретки сам делал.
— Вот и прекрасно. Я пошел. Надену передник с цветочками. Хозяйка подарила. Идет? К лицу?
— Вы стали похожи на повара в нашем училище, — улыбнулся Лобов.
Я ушел, унес его улыбку. Макароны мои радостно трещали на сковороде, румянились со всех сторон, чтобы потом аппетитно похрустывать на зубах.
Мы сидели с Лобовым рядышком, усердно работали вилками. Столик почти не разделял нас, он стоял возле колен и не шатался. Он выдержал потом еще и чайник, и чашки, и сахарницу, и тарелку с бутербродами. А потом он смиренно держал посуду и слушал наши разговоры о стихах, о дружбе, о жизни. Лобов рассказал мне о своей деревне, в которой так любят частушки, что парни и девушки, старики и старухи могут петь и плясать до утра не только в праздники. Николай много знает частушек, острых, озорных, всяких, но больше всего ему, оказывается, по душе протяжные грустные песни. Он спел мне одну. О любви и об измене. Пел он негромко, прикрыв щеку ладонью, тянул чисто, не срываясь, грудным, глубоким голосом.
Лобов понимает песню душой, он не просто поет — он признается, а раньше я думал, что он умеет только сипло кричать под беснующиеся ритмы своей гитары.
Неторопливая наша беседа и грустная песня вернули мне тревогу, мои заботы, и вдруг захотелось выложить ученику все, что обрушилось на меня в последние дни, поделиться всеми своими сомнениями и принятым мною решением оставить училище, как только завершится учебный год. Я был уверен, что Николай поймет меня и поможет, потому что и самому ему плохо, и сам он еще не знает, как ему жить, сам мечется.
Я рассказал ему все: о том, что случилось под мостом, и как я узнал Бородулина, и как поразило меня, что мой любимый ученик, которого я считал своим лучшим другом, замахнулся на меня, и как потом мне открылось, что вся группа вовсе не так уж хорошо относится ко мне, как я предполагал, и как на собрании, и позже, разговаривая с Бородулиным, я понял, что не имею права учить ребят, потому что сам живу неправильно и требую от других того, чего не могу, не в силах потребовать от себя.
Наверное, оттого, что все это я сказал так внезапно и вслух, у меня на душе стало легче и появилась благодарность и даже нежность к Лобову, который внимательно слушал мою исповедь, не перебивая — только в глазах его было все время какое-то удивление. И, выбрав удобный момент, он сказал мне негромко:
— Мы вас любим, Леонид Михайлович, честное слово. И как это вы не имеете права учить других? Может быть, это вы из-за меня так думаете, так вот даю вам слово, что я исправлюсь, вот хоть выгоняйте меня, больше ни одного замечания... И вы нас хорошо учите, это неправда. Я теперь в любом станке могу разобраться. Это вы мне специальность дали, с ней я нигде не пропаду...
— Пропасть не пропадешь, — сказал я и замолчал, как будто кто-то одернул меня сильно и хлестко.
С чем выпущу я в жизнь моих учеников? Специалисты ли они? Умеют ли пахать свой участок, как настоящий пахарь?..
— Не пропадешь ты, конечно, не пропадешь, — сказал я Лобову. — Только знай: когда я кончил ремесленное, тоже думал, что уже стал экстрамастером, а попал на завод — погорел на первом же задании. Неважно, значит, меня учили, и я чувствую, что недостаточно хорошо вас учил. Мало времени. Не разделить его, как надо бы, на всех на вас, на двадцать семь. Вот попадешь на какое-нибудь хорошее предприятие, увидишь, что такое настоящий мастер, специалист, тот, который всю жизнь гнул спину над верстаком. У него каждый отдельный палец больше умеет, чем обе твои руки, да и мои еще, пожалуй, в придачу. Таких не много, конечно, но они есть, на них-то все и держится. Может, нам теперь на заводе рядом придется работать, — сказал я. — Соседями будем по верстакам и переучиваться, доучиваться будем вместе. А пока мы с тобой больше так, теоретики, а не слесари.
— А вы что, по-настоящему собираетесь уходить из училища? — поразился Лобов.
Я помолчал, подумал.
— В общем, да. Куда ни шло, если сам погибаешь. А если других за собой? Вас двадцать семь, и это каждый год. И каждый год ко мне будут приходить такие вот, как ты, как Штифтик, как Саня, как Славин и Бородулин.
— Им вы поможете так же, как и нам, Леонид Михайлович.
— Не знаю, Коля, не знаю... Если человек понимает, что он хотел бы сделать, что должен, что может и что он реально делает, — наступает особый счет. И самого к себе и со стороны. И не случайно Бородулин мне его предъявил... И я к нему тоже отношусь и относился непросто.
— А что вы теперь с ним хотите сделать?
— Что я с ним сделаю? А ты бы на моем месте?..
— Не знаю. Дал бы по морде...
— Дать по морде? Тоже, конечно, выход...
— А если нам самим, Леонид Михайлович, своими силами?..
— Комсомольское собрание?
— Нет, просто прижать его где-нибудь в уголке...
— Не надо. Это ни к чему. Даже не думай об этом. Ты все, я смотрю, на свои кулаки рассчитываешь. Они у тебя, конечно, крепкие, но у кого-то есть еще покрепче. На мордобое жизни не построишь. Я ненавижу эти законы кулака еще с детдомовских времен. Особенно когда наваливаются все на одного. Помнишь, как вы снежками лупили Бородулина, а ты еще попал ему в лицо? Противная у тебя тогда была морда. За что вы его, просто так?
— Просто и не просто. Высовываться он начал не по делу.
— Что значит, «не по делу»?
— А то, что, мол, все мы дурачки, один только он умный. Экзамены устроил. Вертел руками, показывал какие-то знаки, просил у всех волоски с головы, размахивал пятерней перед глазами — кто моргнет, тот и трус, а я чуть только поднял руку, он так весь и сжался, даже противно стало.
— Экзамены устроил? Вот оно что... Мы тоже когда-то устраивали такое...
— Это у него интернатское, Леонид Михайлович. Там ему тоже устраивали какие-то экзамены, а потом били. Я знаком с одним его приятелем, Глеб там был не в почете, ему было хуже всех. Я жалел его, а потом обозлился. Он какой-то смутный: то туда, то сюда — его не поймешь. Я не скажу, что он плохой, но понять его трудно. Он то ласковый, как девчонка, то вдруг взъерепенится, всех ненавидит. Он мне даже недавно сказал, что хотел бы жить один, совсем один, где-нибудь в лесу. Леонид Михайлович, а может, его еще те пацаны из интерната держат в руках? Там ведь интернат не простой, там всякие ребята есть.
— Я знаю.
Только теперь я, кажется, начал понимать, что происходило и происходит с Глебом. Он и мне рассказывал про интернат не все — намеками на какие-то обиды, непонимание. И что приходилось ему доказывать, что он не хуже всех, — стоило ему только захотеть, и он стал лучшим футболистом интерната, лучшим пловцом, и на трубе начал играть не просто так, а в доказательство. А когда я ему говорил о его недостатках, он даже бледнел от обиды.
Глеб хотел быть первым, лучшим, а разобраться по-настоящему, где главное, лучшее, — не мог, как не мог он отказаться от своей натуры, в общем-то мягкой, доверчивой, романтичной. И, конечно, его уговорили стащить машину и мотануть в Прибалтику, прокатиться с ветерком и пожить шикарно. Он хотел и не хотел стоять «на стреме», хотел и не хотел ехать на прибалтийские пляжи, и попался поэтому первым. Уж слишком неуверенно вел себя в пути. А потом интернат, а потом вражда с ребятами в училище, — он испугался, что снова потеряет уважение к себе; а тут еще ссора с Татьяной, досада, обида, желание все порвать сразу и навсегда. Это я знаю по себе, так бывает, особенно в юности. Захотелось послать все к черту, убежать в лес, к полной свободе. Это мне тоже знакомо — в юности хотелось, и сейчас иногда хочется, махнуть в темный лес. Наивно? Конечно, наивно. Всюду найдутся три сосны, чтобы заблудиться снова и снова.
И вот он опять встретился с дружками из интерната. Он хотел и не хотел быть с ними, хотел и не хотел пить, хотел и не хотел защищать под мостом своих корешей, когда все напали на меня. А может быть, дружки еще и принудили его, пригрозили чем-нибудь, может, даже пообещали рассказать ребятам из группы в училище, каков он был в интернате. Или, может быть, Глеб решил похвастаться своим новым положением, или владением приемами самбо, или полной свободой... Конечно, даже самому ему вряд ли известно по-настоящему, что руководило им в тот миг. В Глебе колеблются, прыгают еще все стрелки приборов души, и любые «чуть-чуть» могут привести к срыву. Как лечить это? Чем помочь? Разговорами? Их было много. Примером, только примером — их, его, ее, моим. А мне с кого брать пример? С директора? С Майки, с Кузьмы Георгиевича? С Бородулина? С Лобова? С Мишки? У всех, у всех надо учиться, и даже у старшего мастера, по крайности тому, чего не нужно делать. Научусь ли в полной мере? Когда же? И не когда-нибудь потом, а теперь, сейчас я должен показать пример своим ученикам.
Сердце, может быть, только ты одно знаешь обо всем: где правда, а где кривда, где верность, а где измена, и что бывает «за измену». Сердце, какое ты у меня? Ты щемишь, маешься, ноешь, покалываешь, предчувствуешь, тоскуешь и радуешься, как у всех. Ты знаешь лучше и больше моего разума. А я далеко не всегда прислушиваюсь к твоим сигналам, звоночкам, намекам, я говорю тебе: потерпи, успокойся, перестань — это неразумно, не по-мужски, нелогично, несолидно, не так могут понять.
Все поймут, и всё поймут. Вон сидит мой Лобов, как будто грубиян из грубиянов, как будто самый бессердечный из всех моих учеников, а он прекрасно понимает сейчас, почему я молчу, хожу по комнате, тру щеку и стараюсь что-то подвинтить, подшабрить, подшкурить в себе, и я чувствую всем сердцем, что сидит передо мной человек прямой, отважный, нежный, и полное сердечное доверие друг к другу — самая большая радость, какую мы только могли с ним испытать за долгое время знакомства.
— Ты пока, Николай, никому не говори о Глебе, ему тоже, ладно?
— Ладно, Леонид Михайлович. Я не трепло.
— Я сам хочу все выяснить и распутать. Хорошо бы встретиться с теми, интернатскими. Я поеду и найду их. Надо понять, что это за птицы.
— Возьмите меня, мало ли что?..
— Теперь они не посмеют... А впрочем, согласен. Когда все выясню, дам знать. Глеба надо спасать по-настоящему.
За тонкой стеной, за моей географической картой, разразился водопад: пришли соседки, две сестрички, принять душ. Сейчас они начнут хихикать, болтать, пересказывать друг другу всякие веселые истории.
— Теперь не поговоришь. Пойдем на улицу, Николай.
Он согласился неохотно. Оглядел внимательно мою комнатку, подошел к окну, потрогал, даже как будто погладил, извиняясь, зеленовато-коричневые черепки моей братины.
— Я их склею, Коля. Или, может быть, снова поеду к горшечнику, закажу еще. Побольше и получше, и для тебя. А может, и сам закажешь, какую тебе надо.
— Вы меня возьмете? — тихо спросил он.
— А почему бы и нет? У моего друга мотоцикл с коляской. Как раз три места. Сядем и поедем как-нибудь на заре.
— Куда? — спросил Николай.
— Странный вопрос. Не все ли равно куда. Куда-нибудь туда... Косточки собирать. Посмотреть, как солнце встает. Устраивает?
— Еще бы! Меня все устраивает.
Я уже больше не мог находиться в моей тесной комнате. Географическая карта манила, а стены раздражали меня. Я увлек Николая за собой, на улицу, к площадям, к Неве. И всю дорогу я вспоминал. Рассказывал о путешествиях, о какой-то совсем другой жизни, которую мне посчастливилось узнать. И самой памятной, самой уместной и даже необходимой теперь для меня и для Лобова оказалась история про знаменитого горшечника из Ярославской деревни Песчинка.
Я рассказывал не спеша, с подробностями, чтобы Николай оказался в дороге вместе со мной, заодно чтобы он понял, каким я отправляюсь в путешествия и ради чего, как пробираюсь, продираюсь в пути не просто к новым людям и случайным обстоятельствам, а прежде всего к самому себе: то подобно реставратору снимаю слой за слоем — ненужный, наносный, фальшивый; то, словно бы глину перед созданием горшка, что-то обхлопываю, обминаю в себе, с предчувствием, с ожиданием обновления. И радостно мне и тревожно в такие минуты.
Когда мы подошли к Неве, облокотились на гранитный парапет, Николай спросил меня с тревогой:
— Неужели вы и вправду, Леонид Михайлович, хотите бросить училище?
— Не знаю еще, боюсь я, Коля.
Боюсь воды — она текуча. Земная кровь — она во мне, а я не чайка на волне, я раб волны, я камень с кручи. Боюсь огня — его касанье не только кожу жжет мою. Я вижу в нем беду свою, не дров — души моей сгоранье. Боюсь предчувствий. Что-то есть в том тайном голосе щемящем, в том ожидании щенячьем, кому, откуда эта весть? Боюсь остаться без друзей, когда я журавлем подбитым, теряя летний дух и ритм, срываюсь с высоты своей. Боюсь предательства и злобы, они смертельнее штыка. Нас душит потная рука приемом медленным, особым. Боюсь беды, боюсь неволи, руки безжалостной боюсь. Я облако, я ветер в поле, в свое неведомое мчусь. Но, кажется, всего страшней безверье, душезапустенье, когда идешь ты горькой тенью в мир озабоченных людей. Когда ты ни в цветке, ни в птице, ни в камне твердом, ни в огне. Ни подавиться, ни напиться тобой нельзя, ты как на дне. Так пусть же, пусть на белом свете, пока он бел и долголетен, я в смертных страхах растворюсь, — при жизни смерти я боюсь.Глава пятая
Восторженный человек Николай. Никак ему было не уйти спокойно, — все оборачивался и подпрыгивал, подпрыгивал, чтобы я видел его издалека, и все махал мне, махал обеими руками, и даже на большом расстоянии я видел, догадывался — он улыбался. Нам еще о многом надо подумать и потолковать. Мы поколесим и вернемся на круги своя. А пока еще нужно повертеться на моем гончарном круге, пообмять глину, прокалиться в печи, а потом уж, потом, когда я буду в мастерстве своем уверен, как уверена птица, когда она вьет гнездо, вот тогда уж... не торопись, не спеши никуда и ни в чем, время и так убегает вспять быстрее мотоцикла. Пока тебе хорошо, не спеши. Ты снова, Ленька, кажется, вернулся в тот субботний день, в тот час, когда ты был во всем и все было в тебе.
Вернулся домой и долго не мог заснуть. Потому было не сомкнуть глаз, что опять во мне работали, крутились жернова, и, как бабочку в сачок, хотелось поймать догадку, разгадку, которая заставила бы меня поступить как должно.
Я знал, что на кухне, прислонив к стеночке костыли, как всегда, сидит возле окошка мой Кузьма Георгиевич, покуривает, тяжело дышит и смотрит в окно, и взгляд его, наверно, обращен не в будущее, а в прошлое... он вспоминает жизнь, как будто бы перелистывает старые альбомы.
Я помню эти большие альбомы, он показывал и рассказывал мне о них. А как он обрадовался однажды, когда позвонил ему ночью ученик и прокричал в трубку, что сын родился только что и назовут его Кузьмой. И тогда Кузьма Георгиевич уже больше не мог сидеть на кухне. Осторожно, чтобы не разбудить жену, прокрался в комнату, достал из шкафа старые свои альбомы, начал их листать — от поздних фотографий к началу жизни, к юности, к детству.
Альбомы были тяжелые, и Кузьма Георгиевич испытал странное чувство: ощущение жизни на вес. Одни альбомы потянули столько... а другие вот сколько... А вот если взвесить... Абсурдным показался ему тогда ход мысли, и все-таки, раскладывая альбомы на столе, он продолжал думать: «А что, собственно, нужно взвешивать? Дороги, которые я исходил с теодолитом? Ордена и медали? Или, может, деньги, которые я заработал?.. Нет, не то. Вот если бы можно было взвесить самые трудные и самые легкие годы и сравнить, тогда бы еще кое-что получилось в ответе...»
И, перелистывая страницу за страницей, возвращаясь к юности, к фотокарточке голенького карапуза, Кузьма Георгиевич все искал в себе то, что могло бы оказаться самым весомым в жизни. В голову лезло всякое: и прожитые годы, и знания, переданные в наследство следующему поколению, и многое еще, о чем часто говорят, чем утешаются старики, но в тот раз все показалось обычным, банальным, затертым, как старые документы. За грудной клеткой, где-то в области сердца, что-то томилось, ждало, грустило и радовалось при каждом новом памятном фотоснимке: вот с друзьями на рыбалке, а вот загорелый бородач стоит над скалами, а вот с женой на палубе белого парохода, а вот в шапке и фуфайке молодой мужчина в сосновом лесу, с автоматом на груди, рядом два друга, два партизана... все трое улыбаются, и душа нараспашку, как у новорожденных. Еще никто не знал, что через двадцать минут бой, и не станет двоих друзей, и ударят осколки по ногам Кузьмы Георгиевича, а взрывная волна зашвырнет его в какую-то яму, и надолго придет беспамятство.
И Кузьма Георгиевич подумал: «Что я делал бы без моей памяти? Только в ней теперь вся прошедшая моя жизнь. Вот что самое главное — память. И та, что в голове, и та, что в сердце, — память сердца...» И наконец-то пришло самое точное ощущение того, что же надо было бы взвесить на весах времени и пространства, на людском ли, на собственном ли суде своей совести. И это чувство умещалось в одно слово, самое стародавнее, показавшееся теперь самым своевременным и современным, хоть и означало оно что-то необъяснимое, но остро ощутимое. Кузьма Георгиевич даже прошептал: «Душа. Я прожил с душой мою жизнь. Она страдала и радовалась... все в нее вместимо... Вот если бы Володька не позвонил мне сегодня насчет сына, умерла бы какая-то часть моей души...»
А сегодня я подумал, что часть моей души умерла бы, не встреться я с Никитой Славиным, а потом с Лобовым. А как умирала моя душа после встречи с Глебом под мостом...
Полежав еще немного без сна, я натянул тренировочные брюки, тапочки и вышел на кухню. Кузьма Георгиевич и в самом деле сидел у окна и курил. Коротенькая трубочка была зажата в руке так, чтобы в любой момент можно было спрятать ее от жены. Курить ему категорически запрещали врачи.
В кухне, как и во всей квартире, было очень тихо — все уже спали, только из крана медленно капала вода да в трубах парового отопления или водопровода что-то иногда урчало и постукивало.
— Что тебе, опять не спится? — спросил Кузьма Георгиевич.
— Не знаю, — ответил я, закуривая. Мы помолчали, потом я сказал: — Вот думаю, может быть, бросить педагогику, может, самому пойти еще поучиться.
Кузьма Георгиевич попыхтел своей трубочкой.
— Что так? — спросил он. — С ребятами не управиться? С тем парнем, который ударил?
— Да нет, — ответил я, — это уже позади. Он помог мне взглянуть на себя со стороны, понять кое-что. В общем, не судьба...
— Тебе, конечно, виднее, — сказал Кузьма Георгиевич, — только ты еще подумай. Судьбу свою нелегко разглядеть. Да и куда нам всем бежать от своего дела?
— А вы верите в судьбу? — спросил я.
— В судьбу? Да как сказать? Вот взять, к примеру, мою жизнь. Все в ней сложилось как надо, как мечтал, хотел, предчувствовал. Главное — не отступаться от своей судьбы, не предавать ее, и она вывезет, обязательно вывезет. В полном соответствии с твоим характером, если можно так сказать.
— А вы-то сами прожили в полном соответствии со своим характером? Вы довольны им?
— Жизнью — да, а характером — нет.
— А вот если бы вам начать жить сначала, что бы в своем характере вы хотели изменить?
Он недолго подумал. Седенькие волосы вокруг его лысины чуть-чуть колебались от потока воздуха из открытой форточки.
— Сначала, — сказал он, — в молодости, я был очень застенчивый, особенно с девушками. Да и во всем другом. Все мне казалось, что я хуже других — и неумный, и невежественный, и растяпа. Это мне очень тогда мешало. А потом, в старости, появилось другое: самодовольство. Если сказать тебе совсем откровенно, то мне это мое самодовольство противно. Иногда мне кажется, что я такой умный и даже мудрый, что все меня любят, особенно мои ученики, что все уважают. А сам я совсем не уважаю самодовольных стариков, тех, что кичатся своим жизненным опытом.
— А разве это плохо — иметь жизненный опыт? — спросил я. — Вот меня сейчас жизнь хлопнула, а все, быть может, оттого, что опыта не хватает. Я раздваиваюсь. Вот решил бросить работу, а разум не велит, притормаживает, убеждает, хоть я понимаю — надо уйти. Нужно сделать заход в другую сторону, пока еще молод и могу попытать свои силы в разном, а главное, пока еще работа не утомила настолько, что начинаешь думать, как бы дотянуть до пенсии.
— Ну, это тебе еще не грозит, Леня.
— Грозит, Кузьма Георгиевич, еще как грозит. Не я себе напомню, так мне напомнят. Ученик, который треснул меня по башке, не только оправдался, но еще и предъявил мне обвинения. Я врун. Часто говорю одно, а делаю другое, приспосабливаюсь к обстоятельствам, ко всяким «надо». Я учу жить так-то и так-то, а сам живу иначе...
— Не всякий способен предъявлять такие требования. Это и смело и хорошо. Он максималист, как и должно быть в юности. А тебе почаще надо доверяться простейшим вещам, своей природе, как, бывало, заплутавшие ямщики доверяли чутью лошади. Но важно, чтобы чутье не поросло жирком. Это хорошо, Леня, что жизнь тебя ударила сейчас...
Я стоял, а Кузьма Георгиевич сидел на старом, низком своем табурете, держал трубочку в тонких, как будто даже прозрачных пальцах, поворачивал трубку то так, то этак, и показалось мне, что сидит передо мной еще один горшечник, обминающий глину для особого, небывалого и в то же время похожего на многие тысячи своих собратьев сосуда. Он говорит, преодолевая одышку, будто поднимается в гору, и вот они — последние метры подъема, невозможно трудные и желанные.
— Я хорошо знаю, что такое стоять, как говорится, голеньким перед всеми четырьмя сторонами света и не знать, куда же... Однажды я заблудился в тайге. Болотца, топи, бурелом невпролаз, серая хмарь над головой, мошкара — чудовищно. Я уж было думал — конец, но выполз. Представь себе, вывело меня из гибельной чащобы какое-то особое, я бы сказал, звериное чувство. Я выбрался к речке и на берегу увидел бревенчатый домик, то ли избушка старателей, то ли охотничья. Во всяком случае, там я нашел и еду, и спички. Все было аккуратно завернуто, запаковано, спрятано в печурку, как будто кто-то знал, что я приползу полуживой. Эта еда и огонь для другого в общем-то обычны в тех краях и тех условиях. Это спасение и другим и себе. Но тогда меня, полумертвого, это так поразило, что я расплакался. Тот неведомый человек стал моим кровным братом, и вообще тогда все люди показались мне кровными братьями. Так бы и должно быть всегда и всюду, а получается... Получается, что там, где нас мало и очень трудно бороться за жизнь, мы понимаем это кровное родство как непреложный закон. А где много людей, ценности такого рода падают. А население земли растет. Что же будет, если мы так обесценим естественные, простые и вечные наши ценности взаимовыручки, помощи, сочувствия, соучастия?.. Вот я уже сколько месяцев жду, чтобы ко мне кто-нибудь пришел из моего института, где я проработал всю жизнь. Жду-пожду, а их нет. Я понимаю — заняты, у всех семьи, дети, заботы. Но все-таки надо, чтобы пришли. Я ведь скоро умру.
— Кузьма Георгиевич, дорогой...
— Нет, нет, не говори мне ничего, я все понимаю, я не нуждаюсь в утешениях, я даже не обижен на них, просто сорвалось. Веришь мне?
— Верю, — сказал я едва слышно. И уж совсем тихо добавил, не сдержался: — И не верю.
Кузьма Георгиевич улыбнулся.
— А что ты думаешь? — сказал он запальчиво и даже с некоторым озорством. — Думаешь, это легко — не врать? Это, может быть, самое трудное в жизни дело — всегда говорить только правду и поступать по правде. Я всю жизнь этому делу учусь, шестьдесят с лишним лет, да и то, бывает, совру своей супружнице. Вот курю, как мальчишка, тайком, а приду к ней — буду дышать в сторону, чтобы она запаха не почувствовала, а если спросит: «Опять курил?», так я почище твоих пацанов буду врать и клясться, что и вкус табака забыл вообще, младенец я непорочный. — Он весело засмеялся. — А ты говоришь, не врать. — И, как бы в подтверждение его слов, послышался стук двери, и Кузьма Георгиевич торопливо затушил трубку, примял пепел пальцем, запихал трубочку в карман своего старенького халата, взял костыли и, подмигнув мне своим хитроватым, добрым и умным глазом, зашлепал из кухни по нашему длинному коммунальному коридору: стук-шлеп, стук-шлеп, стук-шлеп...
Я прислушивался к этому знакомому звуку и все думал, думал о старике, ожидающем смерти, о его судьбе, которой он, по-видимому, всегда оставался верен, и о том, что, как бы в награду за эту верность своей судьбе, он получил такую мудрую старость, что сама смерть — это вечное пугало всех — ему нисколько не страшна.
Что-то с грохотом упало в коридоре. Я выбежал из кухни. Кузьма Георгиевич стоял, прислонившись боком к стене. В руках у него был только один костыль, второй валялся на полу, и Кузьма Георгиевич силился достать его. Я подбежал, поднял.
— Спасибо, Леня, — сказал Кузьма Георгиевич с какой-то мучительной и досадливой улыбкой. Он стыдился меня, стыдился себя.
— Резинка на костыле стерлась, — сказал он хрипло. — Все уже стерлось...
— Я прибью завтра же или сегодня, хотите?
— Спасибо, спасибо, — заспешил от меня Кузьма Георгиевич. — Я уж сам что-нибудь придумаю, у меня есть резинка. Все забываю. Спокойной ночи.
Подбежала Светлана Александровна. Растрепанная, испуганная, в длинном халате. Обняла мужа.
— Спасибо, не надо, спасибо, — повторял Кузьма Георгиевич, — я сам дойду.
И снова по коридору раздались тяжелые, громкие шаги: стук-шлеп, стук-шлеп, пока не стихли они за дверью комнаты.
Я долго стоял в коридоре, не мог уйти. Сам не знаю, чего я ждал. А когда направился к себе, вдруг зазвонил телефон. Кто это сдурел? Так поздно...
Никого, только потрескивания. Я повесил трубку, чертыхнулся и шагнул от телефона, но вдруг он снова зазвонил как ошалелый.
— Алло, слушаю!
В ухо ворвался голос, восторженный, звонкий:
— Леонид Михайлович, Леонид Михайлович! Я просто так звоню! Мне хорошо. Брожу по городу, и мне хорошо, сам не знаю даже почему. Я пересчитал все колонны у Казанского, а потом пошел по Невскому. Народу много, белые ночи. Хотите, вместе погуляем?
Это был Саня. Звонит мне, когда ему хорошо. То он влюбился, то опять влюбился, то еще раз влюбился, и ему хорошо. Когда ему плохо — трудно его утешить. А сейчас ему хорошо. И звонок его — как подарок. Будит меня иногда даже посреди ночи. И не рассердишься. За что?
— Ты молодчина, Саня. Это хорошо, когда хорошо. Я не смогу. Устал. Всего тебе хорошего. До завтра.
— До завтра, Леонид Михайлович. Простите, Леонид Михайлович. До завтра!
Вот чудак человек! Да нет, никакой он вовсе и не чудак. Всем неплохо бы такую чудаковатость. Он просто живет, радуется. Споткнется, встанет и снова радуется. Ему хочется жить! Жить! Жить! Надо непременно жить!
Опять звонок. Забыл что-нибудь досказать.
— Алло, слушаю, Саня.
Кто-то дышит тяжело, прерывисто. Долгое молчание. Так иногда разыгрывают. Вот-вот послышится тоненький, нарочито писклявый голосок и скажет какую-нибудь ерунду. Но нет, не разыгрывают. Тревожный вопрос:
— Здесь живет Леонид Михайлович?
— Здесь.
— Можно его к телефону?
— Ну, я у телефона...
И дальше что-то малопонятное. Взволнованный женский голос говорит о больнице, о Кате, потом о мотоцикле... Я ничего не понимаю.
— Постойте, кто это говорит?
— Вы меня не знаете, я подруга Кати.
— Что с Катей? Что случилось?
— Она в больнице. Разбилась на мотоцикле. Ехала с Мишей, куда-то спешили и... — в трубке всхлипывание, слезы.
У меня сжимается сердце. Мелкая частая дрожь бьет меня.
— Что с ней? Что с ней?!
Сквозь слезы и всхлипывания:
— Она будет жить. Сотрясение мозга, а Миша...
Опять слезы, всхлипывания, какой-то непонятный шепот.
— Что с Мишкой, что произошло? Ранен? Жив?
— Катя дала мне ваш телефон, просила позвонить, чтобы вы пришли к ней завтра. Вечером. Сегодня не пускают.
И опять невнятное бормотание сквозь слезы и гудки отбоя, как из преисподней.
Занемевшей рукой я положил на рычаг трубку. Хотел пойти к себе — ноги не слушались. Мишка и Катя. Вот он, Мишкин последний перекресток. Наверное, был пьян, или какой-нибудь шофер был пьян? И как же это Катя оказалась вместе с Мишкой?! Она не должна была быть с ним на его перекрестке. Я виноват... Я за всех в ответе, за все зло на земле в ответе. Комок в горле мешал мне дышать, и руки сами собой растирали лоб, а зубы сжались так, что стало больно. Ноги зачем-то потащили меня в кухню, потом в ванную, потом в комнату.
Дождь за окном? Или это опять в ванной? Да, это там, и тут, и всюду: кап! кап! кап!
Надо что-то делать. Кто-то испытывает нас, кто-то хочет, чтобы всему пришел конец. Жив ли я сам? Где ты, Мишка? Зачем тебе нужна была эта дурацкая скорость? Куда ты спешил? Гнался за нарушителем? Эх, Мишка, Мишка! Мишенька... Какая нелепость — смерть в начале жизни.
Зачем, куда бежать? К каким перекресткам? Мишка, Мишка.
Холодно. Вот когда холодно. Руки немеют и ноги. Повыть бы. Опять эти капли по черепу. Больше не могу. Тут как в склепе, как в мышеловке.
Надо бежать в больницу! Но куда? Где? Так и не узнал. В милицию. Они найдут. В милицию. Да, в милицию. Найдут. Бежать. К черту эту холобуду, эту карту, эту люстру, это дурацкое окно с занавесочкой. И эти крикливые свадьбы к черту, и эти гонки со зла.
Не спеши. Все равно уже поздно. Все поздно. Некуда тебе идти и незачем. Лежи и жди рассвета.
А это еще что? Бом! Бом! Бом! Точно колокольный набат. Настенные часы в комнате хозяйки пробили полночь. «Началось», — подумал я. Будто густые мерные удары часов просигналили тревогу. И невозможно было справиться с этим все усиливающимся чувством, предвещающим беду, оно ширилось, разрасталось во все стороны, и я будто погружался в пучину... по грудь, по горло... Остановись, успокойся, приказал я себе. А лучше пойди куда-нибудь. К ней, к нему, в милицию, ко всем чертям.
Оделся. Выбежал со двора. А потом поплелся, едва переставляя ноги. Беда была во мне, и за моей спиной, и где-то справа, слева, и сверху. И каждый прохожий казался чудом. Он жив, а Мишки нет. Я жив, а Мишки — нет. А может быть, нет всех, а он жив?
Люди, живые люди — идущие, едущие, бегущие, — живите! За себя, и за Мишку, и за всех. Не бегите, не торопитесь к своим перекресткам очертя голову. Давайте лучше возьмемся за руки крепко-крепко, так, чтобы чувствовать, как бежит кровь и бьется сердце. Оно бьется. Вот оно — слева. И не нужно друг друга — ни ножом, ни камнем, ни плексигласом по башке, ни черным словом в душу.
Кому это я? Кто услышит? Разве и так все не знают? И вон та девушка, и вон тот старик, и все-все, кто спит за этими черными окнами черных домов.
Куда я? В милицию? Да, в милицию. Или хоть на какой-нибудь вокзал. Уж лучше быть там, со всеми случайными приезжими, чем одному.
Виноват я. Все живые виноваты перед мертвыми. И живые виноваты все перед живыми — за равнодушие, за подножки, за все, что со зла... «Самое трудное — это помочь человеку выжить», — ты прав, отец. И если я не помогу Кате — не знаю, что будет тогда. Пусть накажет меня жизнь. В такую минуту она вспомнила обо мне, именно обо мне... Я сделаю все...
Я шагал и шагал куда-то. Мимо домов и деревьев. Редкие прохожие обходили меня. Кто-то просил закурить, кто-то спрашивал о времени, но я не знал, который теперь час, и не очень-то соображал, почему сажусь на какую-то скамью и тут же вскакиваю, а потом прислоняюсь к столбу или к стене дома. Дрожали руки, и сам я дрожал, было то холодно, то вдруг жарко. Кружились, метались во мне обрывки фраз, мыслей, картин. Я видел общежитскую комнату, койки рядами, фотокарточку невесты Федора на тумбочке, продрогший город из окна с высоты седьмого этажа и огромного пса, подпрыгивающего, чтобы лизнуть хозяина... Вспомнилась наша поездка в Лесопарк. Славка Греков на коленях перед осенними березами... «Я хочу совершенства... человек беспределен...» И потом волейбол, и мой побег... Вспомнился и букет белых гвоздик, и Мишкино сияющее лицо в день свадьбы, и слезы Кати, и такси. «Не приходи к нам больше никогда!» Обвинял меня в чем-то и Глеб Бородулин, и Никита Славин, и Кузьма Георгиевич, и Скрип-скрип наставлял сурово. И печальные, зеленоватые глаза Зойки долго смотрели с укором. И только тихий голос тетушки утешал меня: «Уж так ли ты грешен, как маешься?»
Давно ли я стоял над ее могилой, грустный и просветленный. А теперь... Будто бы сам я, какая-то часть моей души умерла вместе с Мишкой. Я не знаю, не могу точно объяснить, в чем именно моя вина, но я ее чувствую. Во всяком зле, во всяком «плохо», про которое я знаю и не могу исправить, — есть и моя вина.
Я шел, и какая-то сила подхлестывала меня — быстрее, быстрее... Так было, когда я мчался на мотоцикле к моему горшечнику. Деревья вокруг, поля, небо высоко, у самого солнца кружатся птицы — то белые, то черные, то невидимые, голубые, как небо.
И я лечу, парю над асфальтом, и подо мной вовсе не мотоцикл, а черная чертовщина на трех колесах — мини-самолет перед взлетом или, может быть, модернизированная ступа бабы-яги; во всяком случае лечу, кричать охота и, растопырив руки, соскальзывать вместе с поворотами дороги — взлетать вверх на горушку, и снова вниз, и опять вверх, туда, где уже не птицы, а старая, с перебитым крестом, каменная церковь парит в поднебесье. Откуда взялась такая? Из каких таких мест и времен выбежала поближе к дороге поглядеть на грузовики, легковушки, мотоциклы, велосипеды, на этот наш ошалелый бег?
Остановиться бы. Раздвинуть осоку на берегу речки, посидеть бы, вглядеться в воду, подумать, услышать всплеск щуки или надсадное потрескивание коростеля, а потом лечь ничком и пить, пить медленными глотками теплую, парную воду с привкусом земли и болотины...
Но я мчусь. Ветер в лицо. Говорить нельзя и дышать нельзя. Дорога сужается до тропы, до ощущения, что ты канатоходец. Или — человеко-мотоцикл. Но если вглядеться в дальнее, пока еще медленно набегающее на тебя дерево, можно успеть подумать, что ведь оно никуда не спешит, не несется сломя голову, не торопится даже расти. Оно — дерево. А вот это — солнце. А вот это — птицы. А вот это — я.
Я не мог ни о чем думать, что-то сжалось, похолодело, остановилось во мне, а я шел и шел, пока не увидел большую площадь, круглый сквер с высокими деревьями посредине, а дальше, за деревьями, знакомый вокзал с широкой лестницей и тяжелыми колоннами.
Всегда, еще с детства манили меня к себе вокзалы. Многолюдье, сутолока, поезда. «Вот возьму и сяду в какой-нибудь и умчусь куда-нибудь туда...» Редко у меня была такая возможность, но надежда была всегда.
Пассажиры с поклажей в руках шли мне навстречу, толкаясь и обгоняя друг друга. Высокие фонари на привокзальной площади горели неярко. В голубоватом сумраке я всматривался в лица, будто искал кого-то из своих знакомых. Но даже отдаленно никто не напоминал мне моих близких.
Много раз мне приходилось бывать на вокзалах: то я уезжал куда-то, то отправлялись в путь мои друзья. Толкотня отъезжающих, душный запах багажного помещения, очереди у ларьков, разномастная одежда, тюки, чемоданы, поцелуи, шум и монотонные объявления в репродуктор. Вокзал.
Мне хорошо помнятся тревожные, перегруженные людьми вокзалы военных лет, крик женщин, плач детей, неистовые, режущие душу свистки паровозов; мне помнятся вокзалы, в которых я, одиннадцатилетний беспризорник, убежавший из детского дома, вместе с друзьями, такими же оборванными и голодными, шнырял в толпах пассажиров в поисках еды и ночлега, в поисках неведомого счастья.
Даже теперь сжимается сердце — так, оказывается, памятно прошлое: бег, и тамбуры, и крыши вагонов, и мечта о хлебе, и снова бег...
Каких только тут нет людей. Теперь, чем внимательнее я вглядывался в толпу, тем отчетливее мне виделся каждый человек в отдельности, и глаза их, лица, жесты, походка говорили мне о многом. Вот кто-то приехал на свидание, а может быть, сразу на свадьбу. А вот командировочный. А вот старушка из деревни растерянно оглядывается по сторонам. Быть может, такая же вот бабушка у Никиты Славина. Идут рабочие. Идут артисты. Идут жители и гости моего города. С кем-нибудь из них мы наверняка станем друзьями. Мир не только тесен, но еще и населен людьми, с которыми где-то когда-то уже встречался... Мы будем жить в одном городе, в нашем общем доме, на общей нашей планете. Примите же и меня как своего... Я сейчас, наверно, был бы рад, если бы вместе с вами не шла женщина вся в черном, она приехала с кем-то проститься навсегда... Для кого-то уже больше нет ни этой толпы, ни этого неба с бледными отсветами зари, как нет ничего больше и для Мишки. Если бы я только мог в память о них сделать все, что нужно для тех, кто есть... еще при их жизни.
Я стоял и смотрел на приезжих, встречал каждого. Я очень устал. Это чувство усталости пришло внезапно. Я не сердился, когда меня толкали, извинялся, когда сердились на меня. Я смотрел в глаза приезжих незнакомых людей, как в свои.
Устал. Как будто не отдыхал с самого рождения. Надо идти домой... Вон уже и утро пришло. Уже коснулось солнце верхушек деревьев на площади. Ночные поиски, страхи, беды осветились ранним солнцем. Были уже у меня такие утра, и еще будут. Все повторяется. И что-то приобретаешь каждый день.
Я пошел к скверу, деревья окружили меня со всех сторон.
Ну что, мои милые деревья, не надоело вам прислушиваться, присматриваться ко мне? Что же я найду еще в себе, сидя тут, рядом с вами? Не смешны ли, не кажутся ли наивными вам мои поиски и размышления?
Вы встали в круг посреди площади, вы как на острове, вы сами — остров. А может быть, так и нужно — быть островом, как думал когда-то мой друг, которому хотелось даже про это написать книгу, чтобы научить всех, как нужно жить. «Нужно быть островом, хорошо укрепленным островом, — говорил он. — И чтобы «пушки с пристани палят, кораблям пристать велят»... или не велят...»
Мне нравились тогда острова за другое. Они манили меня своей загадочностью, необычайностью. А вдруг там какая-то совсем иная жизнь, совсем непохожая на то, что я видел и вижу? Ведь остров отдален, отделен водой. Мне хотелось быть моряком хотя бы только для того, чтобы увидеть когда-нибудь на рассвете, тоже с детства знакомые по названиям, острова Ямайка, или Сицилия, или целые архипелаги островов: Фиджи, Азоры... Я и в небо-то смотрел и смотрю порой с мыслью о том, что далекие звезды потому так удивительны и загадочны для меня, что они ведь тоже острова в безбрежном океане времени и пространства. Уехать бы на какой-нибудь остров и жить бы там Робинзоном...
Уехать? Куда? Всюду живут люди. А где их нет, там ничего нет, кроме молчания земли и деревьев да птичьего, непонятного мне языка.
Быть островом — это не мое, не для меня, я хочу верить и доверяться, как в юности, когда мне казалось, что любой прохожий, если я попрошу, поможет мне. Я не чужой, я свой, я в своем городе, в своем доме, на своей земле, как и вы, деревья. Ваши прозрачные весенние листья, только что вылупившиеся из почек, как отважные флажки, трепещут на легком ветру или, лучше, как душа без одежды. Сколько же их тут, родственных и непохожих душ? Сотни? Тысячи? Миллионы? Надежно вы держитесь за ветви, а ветви за ствол, а ствол за корни, а корни за землю. И мне показалось, что я слышу детский протяжный крик, многоголосый хор детских душ.
Что бы ни было, вы появляетесь на свет, чтобы жить, дышать, давать жизнь другим, а придет время — упадете, чтобы уступить место новой жизни.
И я когда-нибудь упаду. Но пока я буду дышать, я буду помогать дыханию других. Смерть матери, отца, Дульщика, тетушки и теперь вот еще смерть Мишки живут во мне и будут жить всегда напоминанием того, что я не должен умереть душою еще при жизни. В последние дни я расслабился, но я соберусь с силами — все, что любимо, дорого мне, я соберу воедино.
Пройдет еще немного времени, начнется день, и от ночных размышлений, поисков надо будет переходить к поступкам: одно дело решиться уйти из училища, а другое — сделать это так, чтобы разрушить лишь то, что и должно быть разрушено, соединив и укрепив все то, что и должно укрепиться, стать единым. Завтра, то есть уже сегодня, я поеду в больницу и увижу Катю. Увижу и скажу: «Катя, это я...»
Пошатываясь от усталости, я пошел домой, сначала через площадь, потом через мост над каналом, потом вдоль трамвайных путей к остановке.
Глава шестая
Вот и еще один день пришел, народился во времени и пространстве. Все как обычно. И мои шаги по лестнице, и хлопанье дверей училища, и пальма в кадушке. И лестница та же. Шаг. Еще шаг. Тяжело. Устал.
Что тяжело, где тяжело, в чем? Я еще жив, а значит, мое «тяжело» не тяжелее, чем у всех. Шаг, еще шаг. Неохота обходить встречных, здороваться, начинать новый день так же, как вчера, позавчера, всегда.
Остановился посреди лестницы, перевел дыхание. Лобов пробежал мимо как ошалелый и уже за спиной закричал: «Здравствуйте!» И тоже остановился на мгновение, как будто решил что-то спросить, но раздумал, побежал дальше.
Андреев навстречу, мой староста, — молча поклонился и прошел вниз с каким-то странным выражением лица. Что это с ним? Здесь ли Никита?
— Андреев, талончики на завтрак есть у всех?
Обернулся, кивнул. Тоже ни звука в подтверждение. Разговаривать и ему надоело? И здороваться надоело?
— Леня, Леонид Михайлович, подожди!
— А, Ирочка, здравствуй. Что-нибудь случилось?
— Привезли новые стеллажи. Надо книжки перебрать и переставить. Дай мне, пожалуйста, кого-нибудь из своих ребят, Бородулина хорошо бы.
— Хорошо. Кого поймаешь, хоть всех.
— Они меня не послушаются, ты бы сам.
— Ладно, Ирочка, пришлю.
— А у тебя, Леня, все в порядке?
— Все в порядке. Все в том же порядке, в каком твои книги. Я пришлю ребят, не беспокойся.
А вот и директор шагает через ступеньку.
— Здравствуй, Михалыч, ты что такой сегодня ленивый?
— Да так. Иду вот, и что-то неохота, Николай Иванович.
— Что неохота?
— Да так — все неохота.
— Проигрыш расстроил?
— Какой, чей проигрыш?
— Да ну тебя, ты, я смотрю, не следишь за футболом.
— Не слежу, Николай, плохо слежу — это, я понимаю, странно, теперь все помешаны на спорте.
— Что с тобой, ты, смотрю, совсем скис. А у нас, между прочим, неплохие новости. Мы, может быть, получим переходящее знамя района. И за спортивные достижения тоже...
Директор поднимался теперь на каждую новую ступень лестницы так же медленно, как и я. И не мог я сейчас сразу сказать ему, что скоро мы расстанемся, хотя в том, что училище получает знамя, есть, наверно, и моя заслуга, и что, когда я перейду на другую работу, надеюсь, больше у меня будет возможности следить не только за футболом: за новыми книгами, за всем, что идет в театрах, в кино, за всей жизнью, на которую вот уже не один год нет у меня ни времени, ни сил. Сейчас я даже не способен толком объяснить, что за причины заставляют меня уйти из училища. Я хочу объясниться так же честно и прямо, как объяснился со мной Глеб Бородулин, меня должны понять. Разговор будет не простым, не коротким, директор должен хоть отчасти пережить то, что пережил я за недавние дни, и пройти вместе со мной путь от уверенности, что все в полном порядке, до тревоги, переосмысления и взрыва, до понимания того, что многое нужно переменить в слишком благополучных, привычных буднях наших дел и взаимоотношений.
А вот и преподаватель эстетики кланяется нам, он, как всегда, не только вежлив — галантен, и одет с подчеркнутой тщательностью, и бородка аккуратно подстрижена. И с ним продолжим мы еще разговор о личностях и неличностях, о петле Нестерова, о подвиге, пойдем куда-нибудь, посидим, потолкуем.
А вот и Акоп в спортивном костюме, улыбается мне и хмурится при виде директора.
— Здравствуй, Акоп, — говорю я.
— Здравствуйте, Акоп Ованесович, — говорит сдержанно Николай и отрывается от меня, шагнув сразу на две ступеньки вверх.
— Привет, дорогой, ты мне снова нужен, — говорит Акоп, шутливо смахивая с меня пылинки. Наверно, снова разговор о дежурстве с дружинниками.
— Для богатырской заставы?
— Надо же, какой догадливый, такие вот и нужны: предстоят жаркие схватки с нарушителями порядка. Твое дежурство перенесли на сегодня.
— Не будет у меня, Акоп, жарких схваток, поищи другого.
— И это все, что ты можешь мне сказать?
— Да, все. И поверь: сегодня я не пришел бы даже на твою свадьбу. — Не мог я ему сказать, что сегодня иду в больницу, и по какому поводу.
— О, дорогой, понимаю. Свидание! Только почему ты такой невеселый? Тогда был кислый и опять такой же. Нет на тебя армянского коньяку.
— Нет, Акоп. До следующего раза. Извини. Мне не до шуток.
Вот и опять на лестнице собираются вместе все сто дел. Поднялся на второй этаж, пошел по коридору, где, как всегда, шум и толкотня, открыл дверь в комнату мастеров. И снова навстречу — солнечные окна, Майка сидит на стуле и опять что-то шьет. Не токарем бы ей быть, а портнихой.
И Татьяна рядом. Вглядывается в движения рук своей наставницы, будто ищет что-то. Увидела меня, смутилась, перекинула «конский хвостик» за плечи, одернула юбку.
— Здравствуйте, портнихи.
— Здравствуйте, — поднялась Татьяна со стула.
— Здравствуй, Леня, — говорит Майка, не отрываясь от дела. — Вот учу, как шить костюм. В Доме культуры намечается бал-маскарад литературных героев. Хочешь быть Онегиным? — улыбается она.
— Я смотрю, празднуете — не ленитесь. А Глеб собирается быть Ленским?
Татьяна покраснела. Отвела взгляд, переминается с ноги на ногу.
— Не беспокойся, дуэли не будет, — говорит Майка, откусывая нитку.
— Что же, молодцы, значит, все в порядке, — сказал я, торопливо доставая из шкафчика, из специальной фанерной секции журнал группы. «Вот с кем я должен буду по-настоящему поговорить — с Майкой», — подумал я.
— Ты у себя в группе тоже что-нибудь подготовь. Мушкетеров, например, — говорит Майка.
— Шпаги теперь не те, — отвечаю я, вспомнив финку Лобова, но тут же сам себя обругал, подумав, что тот урок в мастерской запомнится ему навсегда, не сможет, не должен он забыть и нашу последнюю встречу.
— Ты Лобова уговори, пусть он сделает что-нибудь такое, с гитарой. — Майка стала называть по именам чуть ли не всех моих учеников, не забыла и Штифтика, и Саню, и уж конечно, Глеба, она предлагала карнавальные роли, которые больше всего могли подойти к характеру или наклонностям каждого. И мне показалось, что знает она моих парней лучше, чем я. Вот кто прирожденный педагог, светлый, ясный человек, и всякий, кто оказывается с ней рядом, светлеет, проясняется от ее душевного света.
Я пообещал поговорить с группой. Сунул журнал под мышку, вышел из комнаты мастеров и направился в столовую. Сегодня пошел туда не для того, чтобы последить за порядком, — я ждал Никиту Славина, как ждал еще так недавно Глеба.
В огромном зале, как обычно, нетерпеливая толкотня перед буфетом и около раздаточного окна. Мои уже все получили и сидят за разноцветными столами на дюралюминиевых гнутых ножках, не шаркают сегодня ни ногами, ни стульями по каменному полу, — сосредоточенно жуют, аккуратные, дисциплинированные до странности. Я остановился возле дверей. Увидели меня, стали переглядываться, переговариваться, словно бы началась у них игра в испорченный телефон.
Достаточно было одного лишь взгляда, чтобы понять: все на месте, кроме Никиты. И сразу что-то мучительно заныло во мне и закричало.
И вдруг увидел. Идет с подносом. Большой, лохматый. Переваливается с боку на бок, шагает неуклюже, косолапо, боязливо держа в огромных ручищах легкий пластиковый поднос, на котором в толстых граненых стаканах чай. Он будто заворожил Никиту; стараясь не расплескать чай, Славин даже высунул кончик языка от необычайной сосредоточенности.
Все в порядке, сказал я себе. Повернулся и пошел в мастерскую дожидаться начала работы.
И вот она — никелированная ручка двери. Открыл, вошел. Лучи солнца в окно. Они светят, сияют, что бы ни было с нами, с людьми, они давно горят в моей мастерской, как будто бы нет, не бывает на небе туч.
Прошел к своему столу, опустился на стул, устало обвел взглядом мастерскую, ряды верстаков, шкафы с инструментами, сверловочный и токарный станки, точило в углу. Не мертвое это все оборудование, нет. Большая или малая частица души обязательно есть во всем, что сделал для себя человек, к чему хоть однажды приложил он руки или чего касается его взгляд изо дня в день, — кажется, будто вещи, предметы впитывают, запоминают навсегда все пережитое человеком. Вон облезла краска на углу стола, — это мои ученики подходят сюда сдавать детали, опираются боком о край стола, волнуясь, трут его пальцами. А с этого боку дерево будто бы отполировано. Памятка тут навсегда. Сколько раз я касался этого места рукой или боком, вылезая из-за стола, я протер этот угол, как протирают ногами ступеньки на лестнице старого дома или как протирают губами икону или серебряный крест с распятием верующие. И кто бы ни был тут потом, кто бы ни сидел на этом стуле, за этим столом, кто бы ни касался этого угла, — я тут останусь незримо. Эх, если бы я мог унести отсюда все, что хочу, все, что мне нужно, что будет помогать мне жить в моем завтра, — я поднял бы бережно на руки все это и понес бы, как нес гончарный круг старик горшечник.
А что заберут отсюда они, мои двадцать семь учеников? Вот уже слышен топот их ног, распахивается дверь, входят. Первым Лобов, а за ним Глеб Бородулин, и староста, и обычно веселый, быстрый, а тут притихший, щупленький Штифтик. Входит в дверь и смотрит, как всегда в упор, своими обнаженными, умоляющими глазами честняги Саня. И вот уже показались близнецы Савельевы, все, вся группа вваливается в дверь и встает передо мной, как обычно выстраиваются для утреннего инструктажа, но совсем другое ожидание в их глазах, лицах, позах, движениях. Они жмутся друг к другу, как в Доме культуры во время танцев, и молчат, и так смотрят и ждут чего-то, что у меня невольно ком подступает к горлу.
Я поднимаюсь со стула, вытягиваюсь по стойке «смирно», мне коротко докладывает староста о том, что вся группа в сборе, а потом я говорю о задании на день, о планах на будущее, что скоро все пойдут на завод и после экзаменов начнется их новая, взрослая жизнь. Я говорю это голосом, который для меня неожидан, я будто бы прощаюсь со всеми уже сейчас. И в какую-то короткую паузу вдруг слышу:
— Простите меня, Леонид Михайлович, за все, в чем я перед вами виноват.
Я замолчал и не мог найти больше ни слова. Тишина показалась мне громче крика.
Это Глеб. Это он смотрит и не отводит взгляда. Правдивые, горячие его глаза наполнены чувством и значением, какое понятно до конца только нам двоим, и все же каждый сейчас знает, почему он решился при всех извиниться передо мной.
— Я сказал ребятам, что вы хотите уйти, — говорит Лобов и тоже не отводит глаз, чтобы я видел — он не считает предательством свой поступок.
— Если вы уйдете, и я уйду, — твердо, жестко говорит Никита Славин. И это звучит как вызов.
Заколотилось сердце, влажными стали ладони. Отказаться от всего? Вот он пришел, мой, быть может, самый главный час жизни. Никита имеет право так сказать, так потребовать... Оставшись в городе, он решился взвалить на себя и все то, что ему еще недавно казалось непосильным. А я?
Я, оказывается, прилип к училищу, ко всему, что тут есть, к хорошему и плохому, я сросся с ним, я тут дома, и мне дано только одно — идти своей дорогой и нести свою ношу, какой бы она ни была тяжелой, улучшая по мере сил себя и все, что вокруг.
Ну чего вы ждете от меня, милая моя орава, мои ученики-мученики, мучители, сорванцы и друзья мои, беззащитные мои дети? Как мне рассказать вам о том, что было со мной и что есть? Что станется вскоре с вами, пацаны мои, плутоватые и простодушные мои личности, мужики, товарищи мои дорогие? Какие вас ждут перекрестки? Что останется в вас от меня? Не знаю. А меня научили вы многому. Спасибо!




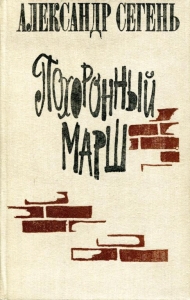
Комментарии к книге «Заботы Леонида Ефремова», Алексей Михайлович Ельянов
Всего 0 комментариев