Человеческое счастье заключается в том, чтобы суметь что-нибудь страстно полюбить и не бояться при случае пожертвовать для этого своей жизнью.
СтендальЖизнь — это работа, ремесло, которому приходится тяжко учиться.
БальзакЧасть первая ДОМ НА КРЮКОВОМ КАНАЛЕ
Глава I АРЕСТ
Кудрявый парень развернул гармонь во всю ширь и замер. Из-за оборвавшегося звука, как из-за ширмы, вышли голоса усеянного людом перрона.
— Идет! — оповестил мальчишеский альт, и головы, как флюгера по ветру, все повернулись в одну сторону.
Бросая в морозный воздух тревожные, вместе с тем лихие, почти ликующие свистки, скорый вынырнул из-за рощи и в шарфе белого дыма уже подлетал к перрону.
Мешки, сундучки, брезентовые ранцы взлетали на плечи. Проводники еще на ходу кричали что-то с подножек, но люди, чертыхаясь, теряя силы под грузом, всем перроном побежали вдоль вагонов, стараясь угадать места у входов.
— Опять солдаты и на буферах, и на крышах… Откуда их столько? Как вшей из мотни, — волоча мешок по снегу, бурчал рябой крестьянин.
— Как полагается… — равнодушно сплюнул, сторонясь, ефрейтор. Это был не его поезд.
Солдаты, разбежавшись, плечом, как тараном, резали сбившуюся толпу, оттаскивали передних за полы шинелей и полушубков, поднимали над головами узлы и корзинки, роняли их на плечи соседей.
Лязгнув буферами, поезд стал, и тогда начался неистовый штурм вагонов.
И уже женщина с ребенком беспомощно села на сундучок. Ей было не пробиться, и на глазах у нее остановились тихие, не первые слезы…
У выпускавшего пар локомотива какой-то купец, в поддевке и коротких сапогах, закинув голову назад, кричал что-то вверх машинисту. В позе величайшего равнодушия стояли за его спиной двое парней, уставив на попа тяжелые, оплетенные рогожами и толстой веревкой ящики.
Машинист снисходительно кивнул головой, и ящики полезли один за другим на дрова, а купец тут же, на тендере, на куче угольной пыли, стелил брезентовый плащ военного образца.
На нижней ступеньке самого последнего, низкорослого и укороченного вагона скрестили штыки двое часовых.
— Проходи, проходи, товарищ. Штабной вагон. Проходи вперед.
По акценту легко было угадать латышей.
Задержавшиеся именно в расчете на последний вагон люди, остервенело бранясь, забрасывали на плечи мешки и спешили к толпе, наседавшей на соседний пульман. Но ударил второй звонок, и теряющие надежду солдаты опять рванулись к часовым:
— Пусти хоть на крышу, товарищ.
— Нет хода…
— Пусти на буфер!
— Пустой же вагон…
— Офицерьев возют…
— Проходи, проходи, товарищ.
— А если нам ехать надо?
Толпа у вагона росла. Второй звонок подействовал на нее, как удар хлыста.
— Почему пустопорожний вагон идет, когда везде давка?
— Пустите добром, товарищи.
Солдат в папахе, с корзинкой в руке и ранцем за плечами, прыгнул на подножку между часовыми. Часовой приложил свисток к губам. В вагоне зашевелились люди. Трое латышей в аккуратных солдатских шинелях показались в проходе.
— Пусти военных, товарищ, — поддержал солдата артиллерист с крепкими плечами. Из-под лихой фуражки пружиной выбивались непокорные кудри. — Почему это нам в штабном нельзя?
— Сойди, товарищ, — спокойно сказал латыш в портупее.
Из коридора глядели стволы винтовок.
— А и что тут раскомаривать. Садись всем миром! — крикнул солдат с корзинкой и хотел стащить за руку одного из часовых. Но на подножке его встретил высокий командир. Он отвел руку солдата легко, как детский кулачок. Путаясь в длинной шинели, солдат спрыгнул на асфальт.
— Вагон революционной власти. Никто не поедет, — негромко, но твердо сказал командир.
— А мы кто — контрики? — запальчиво крикнул артиллерист.
Теперь он один стоял на подножке.
— Революционная власть… Надо понимать, товарищи.
— Какой ты еще такой революционер? Просмотреть тебя надо. Охвицер переодетый.
Машинист дал свисток. Последним усилием ринулась толпа в вагоны. Гармонь опять радостно взыграла на перроне. Пробежав три-четыре шага, неудачники остановились. Тяжелый груз связывал движения. Поезд уходил. И только артиллерист, потеряв брезентовую сумку, остался на подножке, крепко держась за поручни.
— Арестую тебя, — резко сказал командир. — Проходи, ответишь по закону.
Часовые отступили в коридор.
— Вот испугал, — заявил, поднимаясь в вагон, артиллерист и уже совсем добродушно, довольным голосом добавил: — Мне лишь бы ехать. И сумку, черт, посеял… А там хлеб…
Командир смотрел внимательно на артиллериста.
— За действия против власти ты пострадаешь…
Он был высок, худ, но крепок, этот командир. Лишенные жира мускулы его напоминали сухожилия соколиного крыла или пружины стального механизма. Слова он бросал уверенно, с сильным латышским акцентом.
Но артиллерист все еще переживал чувство победы. Он не застрял на этой проклятой станции, где просиживают неделями, впадают в отчаяние, проедаются и болеют, не попадая на проходящие к Петрограду поезда. Усталым победителем он опустился на первую скамью у входа. Два стрелка подвинулись молча. Артиллерист посмотрел на них добродушным взглядом, но латыши отвернулись.
Тогда артиллерист впервые почувствовал смущение.
В вагоне было тихо. Только наперегонки стучали колеса. В дальней части вагона, у закрытых дверей отдельного купе, стоял часовой, хранивший в чертах лица и в наклоне винтовки боевую серьезность. Винтовки команды стояли у стены. Ранцы висели на крюках, на полках были уложены тощие постели. После плещущей народом станции эта необычная картина порядка поразила и постепенно заняла все мысли артиллериста. Откуда это непривычное спокойствие и чье оно? Вся армия бурлит. По всем прифронтовым дорогам серой и злой лавиной несутся тысячи покидающих окопы солдат. На станциях и в ближайших городах они громят спиртные склады, и белая бутылка гуляет по тесно набитым вагонам. Кто осмелится стать на пути этой человеческой бури, так долго пребывавшей в окопах?
Порядок нравился артиллеристу, но ему недоставало доброго человеческого разговора. Лица стрелков были замкнуты. Стрелки смотрели в окна на бег зимнего бело-зеленого леса, курили и вполголоса разговаривали на незнакомом языке.
За окном промелькнул разъезд, и артиллерист, ощутив приступ голода, полез в мешок. Но хлеб, шпик и соль — все осталось на перроне в оброненной сумке. Он нашел в мешке только печеный картофель и луковицу. Повертев в пальцах картофелину, он откровенно вздохнул и решил есть без хлеба. Молчаливый сосед пододвинул ему соль в бумажке. Артиллерист улыбнулся и опустил картофель в соль. Тогда второй латыш снял со стены ранец, вынул оттуда хлеб и тоже положил перед ним.
Артиллерист, не колеблясь, откромсал солидный кусок ржаного деревенского хлеба. Он ел с аппетитом. У него было такое ощущение, как будто он отнял эту еду в бою. Он ел и улыбался про себя.
Лес кончился, простегнутое телеграфными проводами снежное поле стремилось за окном.
— Товарищ, комиссар просит…
Артиллерист, не складывая мешок, отправился в купе. Стрелок положил ему хлеб в мешок и свернул порошком бумажку с солью.
Командир и комиссар латышского отряда Альфред Бунге сидел у окна на покрытой красным одеялом койке. Худые колени высоко поднимались над скамьей. У него были собранные бледные губы и нижняя часть лба выступала далеко вперед.
— Сядь, товарищ.
Пристальным взором он изучал артиллериста. Слова и фразы он произносил медленно, как будто переводил на русский язык с другого языка и боялся что-нибудь перепутать.
— Откуда едешь?
— В Петроград пробираюсь.
Альфред пожал плечами.
— Откуда, я спрашиваю. С фронта?
Артиллерист подумал.
— Пожалуй что с фронта.
Комиссар нетерпеливо застучал ногой по полу.
— Видишь, — пояснил артиллерист, — комитет послал меня в Минск еще в ноябре. А я там застрял, значит. Задержали… Приехал на фронт, а дивизиона нашего давно нет. Начальство убежало, а пушки комитетчики повезли куда-то на Волгу. А куда, истинно никто не знает. Проезда не дают. Я покрутился в штабе армии. Никто не кормит — я и дернул в Петроград… Вот и все.
— Ты петроградец?
— Работал на заводе…
— На заводе? — удивился латыш.
— В первую меня мобилизацию взяли. По черным спискам.
Всего год работал Алексей на заводе, но он был горд этим и всем говорил, что он рабочий.
— Ты что ж, партиец?
— С семнадцатого. На фронте.
— В партии большевиков?
— Ну, а в какой же? Нашей партии.
— Давно?
— С августа семнадцатого, на фронте…
Латыш долго сосредоточенно молчал.
— Как же ты революционный порядок нарушаешь?
— Так ехать же надо.
— Ты слышал — вагон занят революционной властью.
— Мне все равно. Я б и на крыше…
Комиссар опять долго молчал.
— Ты партийный устав знаешь?
Теперь молчал артиллерист. Лицо его наливалось краской. Видно, он имел что сказать, но сдерживался.
— Я, товарищ комиссар… могу рассказать… — начал он, волнуясь. — Я, если посмотреть… всю революцию… Мы как один…
Комиссар впервые улыбнулся. Таких парней он видел немало.
— Как звать?
— Алексей Черных.
— Ну, садись пить чай. Будем разговаривать.
Глава II НОВЫЙ ХОЗЯИН СТАРОГО ДВОРЦА
Разговаривая с Альфредом Бунге, можно было думать о своем. Неизвестно, чем были заполнены интервалы между редкими фразами латыша: туманной мозговой ленью или мускулистым размышлением, которое должно породить единственную в своем роде следующую фразу. На вопросы Алексей отвечал Альфреду охотно и пространно и в паузах про себя ощущал легкую тревогу, которая нарастала в нем с каждым ударом колес.
Два года он не видел Петрограда. Когда он, впервые покинув родную деревню, ехал с вокзала на Выборгскую, город прошел за трамвайным окном, разворачивая в утреннем тумане свои проспекты с рядами ветвистых трамвайных столбов, витрины широких улиц, сливая в живую черную реку толпы на тротуарах. Но он не остался для Алексея чужим, этот город дворцов и широких, прямых проспектов, этих кварталов от городового до городового, которые подозрительно оглядывали плохо одетого паренька. Острыми ощущениями, редкими радостями, болезненными, незабываемыми ударами он встряхнул деревенского парня, как океанский шторм обжигает молодого моряка. Встряхнул и полюбился накрепко, без колебаний. И второй раз — в отпуску, солдатом — он проскочил с вокзала в предместье, боясь, как чумы, бесчисленных офицерских кокард и генеральских лампасов, которые заставляли его вздрагивать и столбом замирать на месте. Он чувствовал, что если вернется когда-нибудь с фронта, то не в деревню, а в этот шумный город.
— Намерен остаться в Петрограде?
— Лучше бы всего…
Любовь к этому городу не была в глазах Альфреда Бунге недостатком. Он одобрительно кивнул солдату.
…Теперь в Таврическом дворце, в Смольном — Советы. И солдаты во дворцах, в Советах. Он видел когда-то Смольный издали. Цветная ограда, как монастырь на Волхове. А в Зимнем, говорят, дыры от снарядов и стены как решето.
— Что собираешься делать?
— Найдется, я думаю, работа… Что скажут в парткоме.
Альфред еще раз одобрительно кивнул головой. Курил беспрестанно, пуская дым в потолок.
…А тревожно оттого, что по-настоящему не знаешь, как встретят новые партийные товарищи. Подумают — самодемобилизовался, как другие. Может быть, действительно по-партийному нужно было: нос в крови, а часть найти. Ехать не в Петроград, а в Самару или остаться на фронте добровольно. Показать образец дисциплины.
У Альфреда свой ход мыслей. Он сухо спросил:
— Все бегут с фронта. Кто же будет в окопах?
Алексей понимает не хуже латыша: покуда не заключен мир, надо кому-нибудь оставаться в окопах. Но латыш попал в больное место. Алексея разбирала досада, и он сказал:
— Все равно мало народу осталось. Мир будет…
— Ты, вероятно, думаешь, революция — это большая драка. Все получить и ничего не дать.
Глаза Альфреда неприятно потемнели. Он поднялся и вышел в коридор. К вагону на рысях подкатывала такая же забитая народом станция.
«Сухие дрова жарко горят», — посмотрел вслед латышу Алексей.
Народ неистово шумел у окон. Густой морозный пар у красных от натуги лиц. В отчаянии стучат, заглядывают в окна.
Было любопытно узнать у латыша, откуда он едет, кого везет, но Бунге не располагал к вопросам. Зато он хорошо и охотно слушал. За рассказом было спокойнее. Тысячи людей оставались на станциях, пропуская уже не первый поезд. Крыша вагона подозрительно грохотала под каблуками замерзающих наверху пассажиров, а он ехал в тепле и чистоте. Он был как бы под арестом, но арестовавший его комиссар поил его чаем, внимательно — это видел Алексей — присматривался к нему. Ну что ж, пусть смотрит. Хорошо или плохо он сделал, уехав с фронта, едет он не на печь в деревню, а в Петроград и дальше служить революции.
У Гатчины Альфред сказал:
— Я вижу, ты парень неплохой. Но на фронте ты, видно, разболтался. И кроме того, тебе следует учиться.
На суховатый тон, на скрытую насмешку Алексей едва было не рассердился, но раздумал.
— Что-что, а учиться не отказываемся.
В ясной веселости его серо-голубых глаз опять играли огоньки умного задора.
Гремел Американский мост, пошатываясь, летела навстречу кирпичная церковь, городские дворы открывали свои панорамы, заборы мчались вместе с поездом. Вот за рядами не то стоящих, не то катящихся вагонов исчезло предместье, кладбище, еще церковь, и латыши стали разбирать винтовки.
Из закрытого купе, застегиваясь на ходу, вышли трое. Красные лампасы и красные лацканы лишенных погон генеральских шинелей теперь не настораживали и не пугали. Лица стариков были подготовлены к тому, чтобы встретить и праздное любопытство, и острую неприязнь. Но людям на вокзале было некогда, и арестованный генерал перестал быть сенсацией в столице.
Альфред и Алексей прошли впереди конвоя, и здесь, отправив грузовик с командой, Бунге предложил Алексею свезти его в райком.
— Хорошо бы в Выборгский. Там брат… — непосредственно обрадовался Алексей.
— Безнадежный ты человек, — сказал, садясь в присланную за ним машину, Альфред.
— Ну, ничего, как-нибудь, — тряхнул кудрями Алексей и сел рядом.
Подавшись вперед на резком ветру, смотрел он в лицо этому городу, стараясь угадать в нем шрамы от перенесенных потрясений и радость свершенных побед. И Петроград щедрой рукой бросал ему навстречу доказательства, что Октябрьские дни — это не сон, не яркое желание, но самая настоящая реальность, над которой больше не властны ни ненависть, ни хитрость врага, ни расстояние, ни время.
Как птицы, примостились на самых высоких, казалось бы, недосягаемых местах алые флаги. Над памятниками царей — кумачовые полотна. Ветром революции сдуло с площадей и улиц черных, как гвозди, городовых, серебристых околоточных, подтянутых офицеров, тяжеловесных господ в бобрах и дам, не смеющих ступить на булыжник улицы, чтобы не повредить хитроумный и хрупкий башмачок. По мостовым, забегая на тротуары, с песней шагали отряды матросов, красногвардейцев. Безусый юноша в картузе и коротком пальто стоит на перекрестке улиц, и карабин за его плечами глядит дулом в землю. Дворцы решительно перечеркнуты кумачовыми лентами со знакомыми еще с фронта словами. На мостах и трамвайных столбах — флажки.
Алексей старается угадать больше, чем показывает город. Особняки, магазины и фирмы — мертвецы. Им еще не прикрыли глаза пятаками. Роскошные подъезды, еще не распахнувшиеся навстречу толпе тяжелые двери — это еще не взятые бастионы врага.
Одинаково радостны и понятны вчерашнему фронтовику песни матросов и боязливые выкрики обиженных революцией, несущиеся по ветру знамена и разбитые стекла, вынесенные ударом ворота и пожарища — легкие раны, царапины, которые хорошо считать после боя.
В первый раз в жизни входил Алексей в столичный особняк, выступавший на улицу, как барыня, расправившая фижмы и буфы. Его сиреневая окраска поблекла и облезла. В парадной двери не хватало стекол. В одно из окон бельэтажа просунула черный палец труба буржуйки. Но сейчас это был самый оживленный дом на улице, сердце и мозг революционного района — его Совет. До самой середины булыжной мостовой перед домом лежали штабеля матрацев, ряды железных и никелевых кроватей, столов, стульев. Возы с грудами теплых носильных вещей подходили, разгружались прямо на мостовую и уходили опять.
Румяный человек, без фуражки, несмотря на мороз, крикливо командовал возчиками, давая наряды и адреса. Другой, в барашковой шапке, худой и безбровый, коченеющими пальцами вел запись добра.
На груде матрацев важно возлежал солдат в разношенных дырявых валенках, он мотал ими в воздухе и огромными ручищами, как тюлень ластами, хлопал себя по мягкому.
— Важно спали буржуй! — кричал он неизвестно кому.
— Реквизиция… буржуйское, — понял и обрадовался Алексей. — У всех забрали?
— Хватит и для тебя работы, — усмехнулся парень без шапки.
— Сюда, — сказал Альфред и вошел в вестибюль, обширный, как дом, в котором выбрали внутренние стены, и также наполненный полосатыми матрацами и горами меховых шуб и пальто.
На широко расступившейся лестнице лежал сильно тронутый солдатскими сапогами ковер, но стены хранили еще барский бархат и штоф. В большом опустошенном зале второго этажа о прежней роскоши заявлял только тяжелый камин с лепным гербом. Работники райкома и Совета облюбовали задние жилые комнатушки, где можно было истопить печь и поставить рядом с рабочим столом кровать или походную койку.
Парадные комнаты были отданы массам.
Альфред, не стучась, вошел в кабинет председателя Совета, где сохранились большой письменный стол и кожаные кресла, и протянул руку сидевшему за столом человеку в сером пиджаке. Поражали в этом человеке обширные плечи и руки, на которых в обтяжку сидели рукава. На крутой шее крепко утвердилась голова со светлыми мужественными глазами. Завод не успел высосать из этого крепыша наследственную полевую, лесную мощь. Он вступал в новый мир полный сил и кипучей энергии.
Альфред отвел председателя в сторону, сказал несколько слов и ушел.
Теперь председатель смотрел в упор на Алексея. На заводе Алексей встречал таких скуластых, упрямых и расторопных парней. Это такие по гудку срывали цех на забастовку, несли красный флаг навстречу казачьим сотням, последними отступали с корявой булыгой или браунингом в руке под напором конных жандармов и пользовались особым уважением рабочих.
— Как же это, товарищ? — спросил председатель. — Большевика приходится задерживать?
— Ехать надо было, товарищ.
— Давно в партии?
— С августа месяца семнадцатого года.
Рассмотрев документы и выслушав рассказ Алексея об исчезнувшем дивизионе, председатель встал с места. Видно было, что к многочасовому сидению в кресле он не привык и ему хочется размяться, походить и, может быть, даже помахать кулаками.
— Ну, это бывает. Часть твою теперь ловить, конечно, затруднительно. А здесь в каком районе будешь проживать?
Переход на ты был как мостик над топким местом, и Алексей немедленно решил, что пойдет к сестре. Генеральская квартира, где сестра, — в этом же районе.
— Товарищи с фронта не всегда понимают нашу работу в тылу, но если хочешь служить революции, научись уважать революционный порядок. У вас в полку была ячейка?
— У нас не полк, а дивизион.
— Ну, все равно, — усмехнулся председатель. — А в дивизионе была?
— Трое нас было. В дивизии была ячейка.
— Вот и нет у тебя привычки к дисциплине… Не к той, — перехватил он взгляд Алексея, — к партийной. И на заводе мало пробыл. Боролся с офицерской дисциплиной — поборись за дисциплину революционную. — Он подошел к Алексею, улыбнулся, показав желтые зубы. — В нашу команду районного Совета хочешь?
Глава III ДОКУКИНО
Если едешь на большой старинный посад Сольцы и поле уж очень надоест одинаковым простором, пригорками, кустами и жидкими рощицами, — дорога вдруг завернет раз и другой, кони взбодрятся, и тогда откроется перед взором один из тех видов, которыми нет-нет да и порадует наша равнинная страна.
Холмы устремятся к реке — они здесь выше и кудрявее. Река доверчивым, мягким изгибом прижимается к высокому берегу. Здесь воды ее темнее и увереннее. За рекой луга разлеглись до горизонта. А на излучине, на высоком мысу над рекой, над мостом, над дорогой встанет усадьба.
Столетние липы обмахивают ветвями длинные крыши, окна темны от близко подступившей густой зелени, парк взобрался на мыс, глядит в реку Ворота резные, высокие, как звонарни раскольничьих молелен. Просторные дворы, сараи, изгороди, хлева, погреба, воздушные башни голубятен.
Картинны и загадочны на песчаных берегах русских рек такие усадьбы, старые дворянские гнезда. Это не каменные замки рейнских обрывов, скал Изера. Они ниже, приземистей, веселее и проще. Едешь, едешь, в душе простые и ровные думы от поля, от дороги — и вдруг при виде такой усадьбы собьются, всклубятся мысли и птицей с полей, с перелесков — в песни, легенды и книги. И кажется: может быть, живет в такой тихой усадьбе Наташа Ласунская или выпускающий на гостей ученых медведей Троекуров; может быть, Салтычиха собственноручно порола здесь дворовых девок или к старому барину приводили на ночь «святую Цецилию». Стоит усадьба сто, двести лет. Страшная, нерассказанная крепостническая книга.
Чтобы увидеть Докукино, нужно спуститься дорогой к мосту. Деревянная, заскорузлая, вся в ложбинах, полукругом обегала деревня усадьбу, расширялась за парком вдоль берега. Издревле росла с двух сторон: от барской усадьбы екатерининского времени и от большого тракта, где докукинцы со старинных времен промышляли извозом, от постоялого двора, от перевоза, замененного в последние годы мостом.
Города, в том числе и столица, забирают в Докукине лишние рты. Кто оседает на отцовской земле, приучается к кузнечному делу, охоте, извозу, как бы не доверяя этой земле. У самой дороги стоят прокопченные, мазаные кузницы. Здесь же в пропахших деревом и скипидаром домах гнут дуги, режут ложки и чашки. Отсюда возят в город и посад дрова, гоняют баржи по Ловати, по Волхову до самого Санкт-Петербурга, сезонно работают смолокурами и дровоколами в лесах, плотовщиками на реке, на озерах.
На большой улице, что изгибается параллельно реке, выросли многооконные дома из тяжелых, крепких, как железо, бревен, с мезонинами, а то и вторым этажом, с крыльцом и тесовой крышей. Сад и огород у такого дома до самой реки. Насиженная широкая скамья у ворот, и ворота искусно резаны местными мастерами.
Поколениями поднимались достатки докукинских богатеев. Поглаживая бороды, объясняли они появление высоких домов трудом, умом, большою семьей и «допрежь всего божьим соизволением». Соседи-неудачники про себя считали, что первопричиной всему удача, и о каждой такой удаче рассказывали, давая понять, что не капризница удача полюбила молодца — извозчика или лесоруба, а сам молодец, отец или дед нынешних, оседлал эту удачу по-своему, никого не спрашиваясь, без божьего и человеческого соизволения.
Одно известно — что тяжелый повседневный труд на полях, в кузнице, на облучке груженой телеги еще никому в Докукине не дал ни резных ворот, ни двухэтажного дома.
О том же, почему на неверной северной земле выросла богатая на весь край усадьба, никто не задумывался. Докукинский помещик, Владимир Андреевич Арсаков, был барин, известный на всю губернию, вплоть до столицы. Новгородский предводитель дворянства, коннозаводчик, миллионер, владелец крупной и малопочтенной столичной газеты и обширного поместья на Волыни, доставшегося ему с материнской стороны, — он был известен даже великим князьям как псовый охотник. В предвоенные годы это был еще сильный, плечистый, упитанный господин, с хорошо направленными ежедневным бинтом усами и бритым тупым подбородком. Он еще вспрыгивал с земли в седло, носился по полям, гнул в пальцах двугривенные, слегка при этом наливаясь кровью, и ел за четверых. Старуха мать его, молчаливая, никого не удостаивавшая разговором барыня, сидела в своих покоях, спускаясь только в сумерки в сопровождении горничной в парк к реке. Женат Владимир Андреевич не был, но имел двух сыновей.
После смерти отца двадцатидвухлетним молодым человеком вернулся Владимир Андреевич из-за границы, где побывал в Оксфорде и Бонне, не окончив никакого курса. Был он тогда яркоглаз, ярколиц, без нынешней тучности, тяжел и нескладен, но привлекателен молодостью, несомненным здоровьем и совсем еще юношеской наивностью, которую часто принимают за чистоту души. Мать убивалась по мужу, обливала голову Владимира слезами, а самому Владимиру было скучно. Грустить долго он не умел, и Докукино, после Оксфорда и Парижа, где он делал вид, что тоскует по России, по ее простоте и просторам, показалось ему ссылкой. Он тосковал теперь по оксфордским спортивным клубам и боннским картинным празднествам, одиноко бродил с ружьем по окрестностям, калякал с мужиками, ночевал на реке и скучал так, что скулы можно было вывернуть от зевоты.
Но в одно росистое раннее утро скуку как бы сдуло ветром. Произошла встреча, какие, по-видимому, происходили испокон веков во всех барских усадьбах и которая сложилась так, как все они складываются.
У девушки была русая толстая коса. Из-под короткой юбки блестели белые гладкие икры. Глаза были молодые, ясные, и, хотя не была она ни пригрета, ни избалована жизнью, лицо ее светилось, как на солнце светится одуванчик. Этой девушке, еще не истрепанной ни работой, ни звериной мужней лаской, нравилось утро, нравилось мурлыкать ему навстречу северную озерную песню, и показалась она Владимиру такой уютной, теплой и радостной, что он пропустил ее мимо и пошел следом за ней. Она шла с молоком через лес на пасеку. Небольшая поляна пахла медом и первым майским цветом. И старик показался на пороге, худой, белый, в лаптях и очках, чиненных проволокой.
Девушка через день ходила к деду — за ней следом, нерешительно и волнуясь, ходил Владимир. В жаркие месяцы они познакомились и нашли приют в большом парке. Ночами он катал ее на лодке, а к осени она сказала ему, что тяжела и надо думать, что теперь делать…
Владимиру Андреевичу было уже двадцать два года, но до Ульяны он не знал женщин. Связь с Ульяной не разбудила его, но сняла печати с уже бурливших по-взрослому инстинктов.
У старой барыни была любимая горничная Христина. Черная, остроглазая, юркая и смешливая, властительница дум всей докукинской дворни, она одевалась по-городскому, была соблазнительно сложена, умела напускать на себя грусть и вечерами пела в парке. Встречаясь с молодым барином в коридорах большого дома, она то потупляла взор, то обжигала его быстрым взглядом.
Когда он со стучавшим сердцем облапил ее в коридоре, она убежала, а утром, уходя, шепнула, чтобы он никогда не запирал на ночь двери.
Владимир был ошеломлен. Но, надо отдать ему справедливость, колебался он между Ульяной и Христиной недолго. Он не хотел потерять ни ту, ни другую. Тихая, ласковая Ульяна и жадная, жгучая Христина стали для него необходимой сменой. С одной он встречался в лесу, на лугу, на пасеке, с другой — по ночам у себя в комнате. Днем бродил усталый, побледнел и исхудал так, что даже мать сквозь все еще не стихавшее горе заметила перемену в сыне.
Христина заявила о своей беременности через месяц после Ульяны. Но она не спрашивала, что делать. Зло и как будто обвиняя Владимира, она требовала обеспечить ее и будущего ребенка.
Молодому барчуку было уже все равно: семь бед — один ответ. Он уже осознал самое главное — если плюнуть на все, никакого, в сущности, ответа ему держать не придется. Стоит только пойти на неприятный разговор с матерью, и все будет разрешено и… оплачено.
Наконец узнала о двойном происшествии мать. Она тоже не знала, что делать, но около нее было достаточно опытных советчиц. Христина уехала рожать в Петербург, а Ульяна — к тетке в псковскую деревню. Обе вернулись похудевшие и без ребят. Христина осталась в горничных, сохраняя связь с барином, а Ульяна, узнав от дворни об измене Владимира, бросилась к деду, оттуда в деревню, где остался ее ребенок. С ним она поехала в Петербург в надежде поступить прислугой, но с ребенком не только не брали на место, но не пускали и переночевать. Промаявшись по смрадным ночлежкам, оборванная, с заболевшим ребенком на руках, Ульяна вернулась к деду на пасеку. Ночью на лесную поляну пришел с ружьем и легавой Владимир. Он теперь тосковал по Ульяниным первым ласкам. Он обнимал ее, целовал, что-то обещал, что-то говорил о себе, о ней — ничего было не запомнить, — и опять услала ребенка Ульяна на Псковщину и сама стала ходить к Владимиру.
Зимою Владимир Андреевич уехал в Петербург на святки, а в мае вместе с ним приехали в Докукино молодой камер-юнкер Карамышев с сестрой Валентиной. Воспитана Валентина была в Париже и гордилась тем, что похожа на француженку. Ручки и ножки у нее были крохотные, сама она легка, как подросток, весела и жизнерадостна, насколько позволяет этикет. Докукино показалось ей очаровательным. С раннего утра она спешила с простыней к реке, ездила верхом легко и без устали, бегала по лесу. Владимир Андреевич, как большой пес, следовал за нею, любуясь ее синими сквозь серебристую серину глазами, изящными движениями, локонами и чуть картавым французским говорком. Вечерами на обрывах парка она вся замирала, шепотом читала стихи, которые любила до беспамятства. Стихи сладкие, как у Ростана, колдовские сологубовские заговоры, фейерверочные вращения слов Бальмонта, таинственное нашептывание молодого, только получившего известность Блока. Гости, посещавшие Арсаковых, терпеливо ее выслушивали, готовно аплодировали. Но она искала в глазах слушателей большего, не находила и вдруг, как испуганная ночная птица, путаясь в кустах, разрывая газ платья, бросалась в темноту парка, ненадолго затихала, чтобы у рояля вспыхнуть снова молодым девичьим задором.
По деревне шел слух, что барин женится. Мать выходила к гостям и старалась приласкать девушку, но Валентина Георгиевна, которой нравилось имение, лошади, парк над рекою, прекрасный «стейнвей» в музыкальной комнате, нравился фамильный дом на Екатерининском канале и оксфордские фраки Владимира Андреевича, разочаровалась в нем самом. Он не понимал стихов; как же она скажет ему, что сама по ночам пишет стихи и мечтает об одном — стать знаменитой поэтессой?
Владимир Андреевич съездил еще раз в Петербург, окончательно потерял невесту, но не втянулся в столичные дела и вернулся убежденным холостяком-домоседом. Он привез прекрасный портрет Валентины Георгиевны и повесил его в кабинете. Но уже через три дня приказал закрыть портрет кисеей… Только изредка подходил он к нему, отдергивал кисею, долго смотрел и еще дольше твердо шагал по комнатам.
Характер его резко изменился. Юношескую неровность сменила властность одиноко живущего барина, изобретательного в простых утехах и в деспотизме.
Ульяна перестала ходить к Владимиру Андреевичу, но Христина прикинулась верной рабой — то, что нужно было уязвленной гордости помещика, — и осталась в доме то отвергаемой, то вновь возвращаемой наложницей. Ульяна горевала, отказалась от денег, предложенных Владимиром, и вышла замуж за тихого, неспорого мужика Порфирия Бодрова, владельца трехоконной избы на окраине Докукина.
Ребенок остался на Псковщине.
Тихим, верно направленным подкопом, бесконечными женскими хитростями добилась Христина того, что Владимир Андреевич усыновил ее восьмилетнего сына Петра. Мать благословила на усыновление, уверенная в том, что это и есть наказание за грехи сына. Владимир Андреевич дал свое согласие, глядя в сторону и чему-то усмехаясь в усы, а через неделю в дальних комнатах дома появились двое барчуков, окруженных лакеями, няньками и казачками. Второй был Ульянин Андрей, привезенный из Псковщины без ведома Христины и матери.
Христина разорвала на себе рубашку и перед иконой в своей горнице поклялась извести ублюдка.
Владимир Андреевич детьми не интересовался. Они приходили к нему утром, со страхом переступали порог кабинета, целовали жилистую тяжелую руку и уходили. Даже обедали дети отдельно.
Одиннадцати лет обоих отправили в Петербург.
Узнав об отъезде сына, приходила к барину Ульяна. Неизвестно, о чем был разговор. Слышали — рыдала Ульяна, валялась в ногах.
Вышло гувернеру новое приказание. Незаконный сын Андрей Бодров становился казачком у законного сына Петра Арсакова.
Впрочем, учить приказано было обоих одинаково. В школу ездили Петр и Андрей вместе. Но Петр ездил в коляске, а Андрей на облучке, рядом с кучером.
Странно и неожиданно принялись и развились в детских душах черты характера родителей. Андрей поднимался злым, подозрительным и замкнутым юношей, а Петр рос равнодушным ко всему размазней.
Страшной пропастью казалась деревенская голодная, лапотная жизнь из окон особняка. На Екатерининском канале ночами снилась Андрею Ульянина трехоконная изба с тараканами, пот холодный выступал на лбу у юноши, и сквозь слезы в чем-то уверял себя Андрей, оторванный от земли, обученный всем барским наукам и ничего не знающий о завтрашнем дне. Унизительность своего положения он чувствовал тем острее, чем старше и ученее становился, но порвать с этим существованием был не в силах. Может быть, впереди, в будущем, придет что-то такое, что освободит и развяжет…
Накануне Балканской войны в километре от Докукина сломалось колесо у извозчичьей коляски. Барыня пешком добралась до докукинской усадьбы. По дороге ей рассказали о Владимире Андреевиче. Она вынула из синего атласного мешка крошечную карточку:
Александра Станиславовна
баронесса фон Розен
и отправила в дом с мальчиком. Владимир Андреевич сам провел баронессу в гостиную и приказал спешно починить коляску. Баронесса ручкой, затянутой в перчатку, растирала колено. Неужели она ушиблась? Предложено было вызвать врача из города, но баронесса весело отказалась: час-другой, и все пройдет. Такие пустяки…
Это была судьба Владимира Андреевича.
Баронесса осталась ночевать. Через неделю она уехала в имение брата, отставного капитана гвардии, чтобы, захватив вещи, навсегда вернуться в Докукино.
Большая и мрачная сила вошла в усадьбу. Таинственно и неожиданно умерла мать Владимира Андреевича.
Сам Арсаков как-то быстро увял и обезножел — этот сильный, как беловежский зубр, человек.
В докукинских домах шептались о том, кому достанутся имение и богатые волынские земли. Поручику Петру Арсакову или «земгусару» Андрею Бодрову? Революция радикальным путем, как бы ножом оператора, прекратила цепь странных событий. Октябрь всех вышвырнул из усадьбы и тем разрешил сомнения.
Владимир Андреевич и Александра Станиславовна уехали в Москву. Петр оказался в эмиграции, а Андрей поселился в трехоконной Ульяниной избе, в которой так угрюмо шуршат по ночам тараканы.
Глава IV И ЕЩЕ ДОКУКИНО
Хата Федора Черных — на выселках. Здесь земля еще хуже, от реки тянет песок, меж холмов прошли мелкие, частые овраги. Петлями вьется среди кустов и бурьянов, мимо свалки, мимо лысого кладбища, утыканного почерневшими крестиками, дорога. Окна Федоровой избы — в пустое дальнее поле, где, как в жизни крестьянской, ничего до самого горизонта. Но с порога видны и усадьба, и край моста через реку, и большая улица Докукина, вплоть до деревянной церкви с острой, как наконечник копья, колокольней.
Алексею бегать в Докукино к ребятам далеко и не тянет. Оврагом сбежать вниз, ветром скатиться, только бы босой ногой не наскочить на битую бутылку, что набросал сосед Иван Задорин, — а тут река. Тут и вся радость Алешкина, и раздолье, и забава, и занятие. Лежит река в песчаных берегах, ласково шевелит низкой волной. На той стороне камыши ходят на ветру, шелестят, шушукаются. У берега мелко, дальше омуты, а у камышей топко. На задоринском челноке Алексей ходил в камыши с удочкой и дальше — за Докукино, мимо барского дома, что глядит меж парковых стволов черными окнами, окруженный цветниками и статуями. И туда, еще дальше, под мост, по которому стучат копыта и гуркотят колеса, мимо поповского дома, мимо огородов. Здесь опять — поле, камыши, бурьян и мелкая колючая поросль. Ходил и против течения — туда, где лежит посредине реки черный замшелый камень. Мать рассказывает: черти играли, упал камень в реку, она расступилась, потекла мимо двумя струями, а он лежит на островке, и как будто вода его боится…
К Алексею на выселки приходили ребята, купались, удили рыбу, играли в бабки, в пуговицы, гоняли волчка, строили города, пускали на воду щепки — страшные корабли, били японцев. Иногда ватагой шли в дальний — за пять верст — лес по грибы, по ягоды.
Зимой летят к воде самодельные салазки. На реке лед, и в прорубях вода шевелится, черная и холодная. Побитый морозами камыш полег. На одном коньке можно перемахнуть на ту сторону, поглядеть кругом — все снег да снег, намело ветром, сизое небо — и айда скорей к своему, жилому берегу.
Летом можно проехать лодкой к лесу, привязать челнок к лозняку — и бегом знакомой дорожкой в лес. Пахнет свежим, кузнецы скачут, носятся пушинки чертополоха, белые капустницы — как вишневый цвет на ветру. Сосны обступят, зашумят высоко, но не боится их Алеша — они опять расступятся, опять трава пойдет еще гуще, еще шелковистее, и золотыми пчелами загудит дедова поляна. Лесом, лесом обежит ее Алексей, чтобы не покусали, — и в избушку к деду Кириллу.
Однорукому Кириллу Алеша — внук. На турецкой войне, на Шипке, прострелило Кириллу кисть руки. Лекари оттяпали ему руку по самый локоть. Кирилл вернулся в деревню с пустым рукавом. Старый барин в порыве великодушия подарил ему пять ульев и лес на избушку. Братья помогли ему построить домик, и он стал мастерить одной рукой и культяпкой ульи и рамы. В деревню дед не ходит и слывет там чудаком, а в усадьбе — философом. Говорит коротко и мудрено, как будто дед Кирилл, пасечник, понял в жизни что-то такое, до чего другим не дойти. Но с ребятами Кирилл прост, кормит внука хлебом с медом и огурцами. Много не дает. На деревянную ложку — лижи со всех сторон. Сам ест мало. Прочее идет на продажу.
Кроме Алексея, у деда Кирилла гостит только Алешина любимая тетка — Ульяна Бодрова.
Она садится на обтертый до блеска обрубок. Сидит и молчит и меда не ест. Алеша жмется к ней, и она гладит волосы ему жесткой от стирки, от серпа рукой и утирает глаза подолом. По деревне зовут Ульяну «барыней», и парни аккуратно под пасху и святки мажут ворота Бодровых дегтем. Мать Алексея Мария говорит, что Ульяна могла бы стать богачихой и ходить в шелковых юбках и городских ботинках. И Алексей не понимает, почему же это Ульяна не захотела…
Когда стемнеет, дед рассказывает про походы, про южную сторону. А Алеша ждет про сражения. Но о сражениях дед говорить не любит. И если Алеша спросит, отвечает коротко:
— Сам навоюешься…
И Алексей никак понять не может: герой дедка Кирилл или не герой? побил бы его косоглазый японец или нет?
Однажды по росе, когда еще низкое серебряное солнце не могло пробиться в зеленую чащу, Алеша встретил в лесу высокого господина в городском платье с ружьем за плечами. Рыжая, с умными глазами собака подбежала к Алеше. Алексей замер столбиком. Замахать руками боится. Господин подошел и спрашивает:
— Ты, пострел, откуда? Чей?
Алеша молчит. Руку в рот засунул поглубже, как в карман.
— Ну, — говорит барин, — брысь отсюда.
А собаку взял на ремень.
Алеша сорвался бежать. Уже не к деду, а к реке, к лодке…
А господин хохочет:
— Штаны потеряешь. — Да вдруг как крикнет: — Подстрелю, как кулика!
Алексей еще пуще. Но ноги — ровно не свои, и трава какая-то вязкая.
Громом прошел выстрел по верхушкам сосен, собака на ремне взвыла. Алексей упал лицом в траву.
А барин хохочет, как леший. Ему и неловко за глупую шутку, и блажь разбирает. Подбежал к Алексею и спрашивает:
— Ты что, жив, не умер?
Поднял мальчика, поставил на ноги и повел за руку в усадьбу. У Алексея по-прежнему ноги тяжелые и сердце гулко бьется в груди. В больших комнатах полы блестели, как стекла в окнах. В кабинете большой колыбелью висела лампа в марле и все стены были в книгах. Книги стояли рядами на полках. Полки подымались до самого потолка. Книг было много, как деревьев в лесу.
Арсаков с трудом добился, что Алексей — родственник деду Кириллу и Ульяне. Он походил по комнате, подсел к столу и подал Алексею записку.
— Снеси Ульяне. В собственные руки. Слышишь?
Арсаков угощал Алешу конфетами, но Алексей не ел и жался к двери.
Барину надоело силою благодетельствовать мальчишке, и он отпустил его, набив карманы сластями и орехами.
Алексей бежал из усадьбы так, что растерял половину гостинцев, влетел в избу Бодровых и бросил скомканную записку на стол:
— От барина из усадьбы.
Ни Ульяна, ни Бодров не дотронулись до записки. Она лежала на середине стола, задрав кверху сломанный уголок.
— Читай, — сказал наконец Бодров, взял картузик, виновато и досадливо кашлянул и вышел за дверь.
Ульяна, всхлипывая, прочла записку, порвала ее и впервые рассердилась на Алексея:
— Чего тебя к нему носило? От них добра не дождешься…
И выпроводила его домой.
Первый раз в жизни в тот день всем сердцем испугался Алексей, но к деду ходить не закаялся. А усадьбу обегал стороною.
Радости Алешкины — на реке, в лесу, горести — все в избе.
Тесно в Федоровой избе. У стола, у икон детям быть не приказано. А у печки, как ни прячься, очутишься у кого-нибудь под ногами. Алексей весь день был бы на дворе, но Марья встанет на пороге, и на все выселки звучит ее сильный, певучий голос:
— Алеха, Алеха, ходи в дом!
Ясно, придется часами качать колыску, или бежать в деревню к дяде или к Бодровым, или надо дрова нести, или еще какая мелкая работа. На еду — на обед, на полдник — Алешу звать не нужно. Но еда больше плохая — лук, картошка, квас, похлебка. Хлеб хороший до святок, а потом мать печет вместо хлеба картофельные лепешки — только живот пучит.
Отец приходил с поля и валился спать. Сыновья и лошадь отпрягут и выведут, засыплют ячмень и напоят.
— Земли мало — ртов много, — задумчиво скажет отец, и видно — говорит в нем не злость, а забота.
По воскресеньям мать обмывала Алексею лицо, брала Илью на руки, и они шли к обедне. Деревянная церковь была темна и вся пропитана запахом пота и ладана. Марья становилась где-нибудь у стены так, чтобы виден был лик богородицы, а маленький Алексей, для которого иконы, свечи, батюшка в ризах — все было закрыто спинами крестьян и крестьянок, начинал скучать. Подскуливая, он теребил мать за рукав, просясь на воздух. Но Марья тихо отводила его рукою, не переставая молиться жарким шепотом. Тогда Алексей незаметно щипал Илью за ногу. Ребенок начинал громко плакать. Соседи оглядывались зло и неодобрительно, и мать выходила с детьми в ограду. Она не знала молитв и не обучала им Алексея. Молилась она простыми и тяжкими словами, как просят о помощи в нужде и в трудный час, а Алексею чаше всего говорила о наказаниях, какие посылает бог непокорным и грешным людям.
Однажды под вечер церковь вспыхнула от удара молнии. Гроза проносилась не задерживаясь. Сухие, изъеденные жучком бревна пылали, как большой, умело подожженный костер. Дымная завихрина обвила золоченый крест. Она моталась по ветру, то белея, то чернея, как вздыбленная кверху борода пророка. Все мальчишки села были здесь. Они суетились больше, чем взрослые, по очереди качавшие маленький насос из арсаковской экономии. Васька Задорин смущенно спрашивал: как же это божья молния ударила в божью церковь? — и тут же высказал уверенность в том, что это за грехи вдового попа, который открыто живет с мельничихой. Огонь, темнота, снопы искр, крики людей и воронья испугали Алексея. Теперь он понимал слова матери о наказании, которое посылает бог. Он стал ежедневно молиться робкими словами, как бы стараясь откупиться от возможных несправедливых бед.
К 1905 году через Докукино из Лифляндии шли картельные казачьи отряды.
Офицеры стояли в усадьбе, а казаки — по лучшим докукинским домам. До утра прыскала гармонь, и у речки смеялись и визжали солдатки. Помещик сказал командиру, что и здесь, на деревне, завелись бунтари, надо бы пару человек слегка попороть. Есаул ответил, что розги, как масло, кашу не портят. Управляющий назвал кузнеца Семена Соломко, который вывесил было у дороги красный флаг, и батрака Демида Рыбакина, который похвалялся зажечь помещичье гумно.
На следующий день, перед уходом сотни, у церкви пороли обоих…
Алеша с мальчатами смотрел, как уходит сотня. Нравились гнедые кони, красные лампасы. А один казак коршуном взглянул с седла на Алексея и Ваську Задорина. Чуб у него на четверть в сторону и глаза пьяные, словно сам он порол сейчас; повернулся в седле и цыкнул:
— Ну, вы, трепачи, чего зенки выпятили?
Алексей и Васька попятились. Казак хлестнул нагайкой по воздуху, а потом по коню.
— Зазря коня лупцуешь, — сказал неодобрительно Васька Задорин.
— Чего? — взревел всадник. — Ах ты, байстрюк бесштанный!
Конь прянул на ребят. Ребята — в бег, перескочили канаву и пошли вдоль забора. Атаманец успел смазать нагайкой Алексея. Конец больно хлестнул и рассек ухо. В слезах и крови пришел Алексей к Ульяне. Она промыла ему ухо и залепила ранку сперва паутиной от икон, потом хлебом. Знак от нагайки остался у Алексея на всю жизнь.
Давно уже ушел в город восемнадцатилетний брат Федор, а накануне пятого года приезжая барыня забрала Настю. Федор Черных-младший отличался энергией, непокорным нравом и унаследованным от предков умением обращаться с топором и несложным столярным и другим инструментом. Говорили о нем, что у него золотые руки. Он верил в свою удачу, был весел и смел. Он шел на станцию той дорогой, какой уходили из Докукина все голодные рты.
В доме после ухода двоих стало тише, хлеба было больше, и Алексей стал бегать в школу. О Федоре было слышно, что в городе он устроился на большой завод, женился на дочери мастера и сам метит в мастера. Говорили еще, что один сын мастера был убит 9 января перед царским дворцом, а другого угнали далеко на север, где не бывает лета и люди весь год ходят в шубах и ездят на узких гонких санях, а вместо лошадей у них олени или собаки.
В школе молодая, только окончившая восьмой класс учительница закручивала тугую косу вокруг головы, ходила, наклонясь вперед, как ходят птицы, которым нужно разбежаться перед взлетом, говорила южным говорком, потому что родом была из Полтавской губернии. Хорошо было смотреть в ее смуглое лицо с яркими глазами. Она была ласкова и всякому успеху ребят радовалась шумно, вслух выхваляла успевавшего, говорила о нем с попечителем. После занятий она беседовала с ребятами о семье, о нуждах. Она знала всю деревню, примечая все местные отношения с такой практической сметкой, что можно было подумать, будто пришла сюда не со школьной скамьи, а прожила уже долгую, нелегкую жизнь.
Мария Александровна Званцева полюбила Алексея. Еще на школьной скамье она решила, что полюбит такого вихрастого, необыкновенно способного паренька и «сделает из него человека». Она расчесывала его непокорные и нечистые кудри. Уводила в свою комнату, отмывала замурзанную мордочку, подводила к крохотному зеркалу и говорила:
— Смотри, какой ты теперь красавец!
Алексей довольно фыркал, вырывался и убегал.
Она часто звала его к доске, любила быстрые ответы с места, веселые и радостные, гордые первыми знаниями. Прощала ему шалости за то, что он не лукавил, умел отстаивать себя и никогда не жаловался на обидчиков.
Когда кто-нибудь из мальчиков ленился, она страстно нападала на него, потому что сама верила во всепобеждающую силу образования. Она рассказывала Алексею биографии Ломоносова, Тропинина и Горького. Алексей слушал молча, посапывал носом. Мария Александровна внезапно замолкала. Значит, мальчика не зажигают ее речи. Но на самом деле это было не так. Где-то в глубине Алексеева сознания поселилась маленькая огненная неугасимая точка. Она разгоралась и томила всякий раз, когда рядом проходила чья-нибудь более яркая, более благополучная, более удалая жизнь. Этот огонек остался навсегда следом мало продуманных, но горячих речей Марии Александровны.
Над кроватью учительницы висели портреты дядьки в барашковой шапке с опущенными по-казацки усами, босого старика с руками за веревочным поясом и еще молодого парня в высоких сапогах, в вышитой косоворотке, с длинными, раскинутыми на две стороны волосами. Однажды, перебив какой-то рассказ, Алексей спросил ее, кто эти дяденьки.
Мария Александровна ответила, став серьезной, что эти люди написали замечательные книги, и еще прибавила, что книги эти тем хороши, что учат людей, как жить, как стать сильными, честными, смелыми.
Те книги, которые Алексей читал, такому не учили. В законе божьем и в Евангелии учили быть смиренным и послушным. В некоторых книгах рассказывалось о героях, о зверях, об индейцах. Были книги о царях и преступниках. Но книг, которые учили бы, как жить, как стать богатым и сильным, не было. Он решил, что есть особые книги, вероятно толстые, тяжелые, которые не всем дают. В них написано, как нужно жить хорошо. Не так, как живут в доме Федора Черных, или у Бодровых, или в доме пьяницы Задорина, а как живут доктор, батюшка или учитель, как живут в усадьбе, где так много больших крепко запрятанных книг. Домыслами своими поделился Алексей только с Васькой Задориным. Вдвоем они бегали с выселок в школу и в слякоть, и в метель, вместе катались на коньках и заступались друг за друга. Васька к тайной силе хорошо переплетенных книг отнесся скептически, сказал, что у отца его есть тоже толстая книжка и отец рвет ее на цигарки, а есть еще молитвенник, лежит за иконами и скоро весь рассыплется.
Алексей не спорил, но про себя решил, что до настоящих книг он доберется, все узнает и обязательно станет умным и образованным человеком.
На третий год приехало в школу начальство. Мария Александровна вывела лучших учеников, в том числе и Алексея. Ему она еще накануне сказала:
— Ну, Алеша, может быть, завтра твоя судьба решится…
Алексей провел первую в своей жизни бессонную ночь. Ему все казалось — уже утро, и он будил мать. Взглянув в окно, она поворачивалась, зевая, и засыпала опять.
— Ему бы дальше учиться надо, — сказала Мария Александровна инспектору. — Способности большие, и охота есть…
Инспектор осмотрел с ног до головы Алексея, остановил тяжелый взгляд на разбитых башмачках — только для школы, дома Алексей бегал в лаптях, — на подвязанных тряпичной тесемкой штанишках и сказал:
— А средств у родителей хватит?
— Какие средства… — тихо сказала Мария Александровна. — На казенный счет только…
— Всем не поможешь, — философски заметило начальство и, улыбнувшись, прибавило: — Сердце у вас, барышня, доброе… А вселять несбыточные надежды не советую… Не стоит. Благодарности не получите, и будет не польза, а огорчение.
— Бывают случаи… если стоит того… — упорствовала девушка. Бархатные глаза ее стали блестящими.
Инспектор ничего не сказал, подал руку Марии Александровне и ушел.
Мария Александровна подошла к Алексею, погладила его по голове. Чувствовал Алексей, как пальцы учительницы вздрагивали. В беседе Марии Александровны с начальством он не все понял, но знал: учительница за него, а инспектор против.
— Будешь учиться — устроим, — шептала Мария Александровна.
Алексей смотрел ей в глаза и ждал чего-то.
Не могло так случиться, чтобы все оборвалось: учение, мечты, будущая сила… Сжималась детская душа, предчувствуя встречный ветер жизни. И первое упрямство, которому суждено повторяться, расти и крепнуть, как покатившемуся с горы кому снега, зародилось в Алексее. Инспектора этого он не видел больше никогда в жизни, но детская, горячая ненависть соединилась с его образом навсегда.
Учиться не пришлось. Алексея взяли из школы еще до конца третьего года.
Дела старого Черныха с отъездом Федора и Насти улучшились не надолго. Вслед за Ильей появился на свет Никанор. Федор присылал пятерку к праздникам и письмо. А на деревне враг наступал, хватал за глотку. Враг этот был — всесильный в Докукине владелец двухэтажного дома, лавки и мельницы, брат барской «подложницы» Христины — Филипп Косогов.
Христина все, что доставалось ей в барском доме, несла в семью. В семью принесла она и ненависть к Ульяне Бодровой и всем ее родственникам. По рассказам Христины выходило, что вдвое больше было бы у них добра, если бы не Ульяна и ее ублюдок. Жила Ульяна с мужем нищенски, но Косоговым казалось, будто Ульяна таится, прикидывается скромницей, а потом барин закапризничает, вскинется она рыбой щукой — все и пойдет ее щенку, Андрюшке.
В Докукине все пути к сезонному заработку и к работам в усадьбе в руках у Косогова. На кого Филипп Иванович косо глянет, к тому не пойдет на помощь даже и сильный хозяин, хотя бы ему самому Косоговы стояли поперек горла. А Бодровы и Черныхи у Косогова и за людей не идут. Косогов жмет их — жмут и другие. Федор Черных бросался во все стороны: в смолокуры, на извоз, за дровами ездил — нет пути. Всюду проведут, выдадут, подведут под штраф, напустят урядника, собьют цену, а то и просто выгонят — хоть уходи из деревни.
Федор решил сбыть с рук и Алексея. Случай пришел неожиданно, как и все случаи. В Новгород в мастерскую слесаря-кустаря требовался мальчик.
Мария Александровна три раза ходила к Федору, совестила, подолгу не уходила, говорила то с Федором, то с Марьей. Она брала на себя расходы по одежде, на книги. Федор и его жена вежливо молчали, держа кулаки на серой скатерти, постеленной ради гостьи. Федор иногда гладил бороду, не перебивал, но согласия так и не дал.
— Не выходит нам, — говорил он время от времени. — Не судьба, голубушка. А вам спасибо, барышня. — И он кланялся степенно, не угодливо.
Мария Александровна плакала, провожая Алешу, но Алексей не плакал — было ему всего тринадцать лет, и Новгород казался ему далеким большим городом.
Тринадцатилетним птенцом выпал из докукинского гнезда Алексей. В Новгород, а позже в Питер и на фронты доносились до него смутные вести из родной деревни. Братья росли, у соседей, у знакомых родились и умирали. Васька Задорин был где-то в Карпатах в пулеметной роте. Умерла Мария Александровна Званцева.
Вести были редкие, случайные и неточные. Деревня вспоминалась любовно, но туда не тянуло.
С революцией солдаты стали чаще ездить в отпуска и командировки, и стало больше вестей.
Барскую усадьбу громили еще до Октября. Но когда: ворвались крестьяне на скотный двор, в сараи, набитые машинами, зерном, рухлядью, оказалось: исчезли племенные тяжелоплечие быки, ярославские коровы, едва ворочавшиеся в стойлах саженные йоркширы, трехлемешные плуги, куры-патлачи и индейские петухи, маковым цветом, бывало, разбросанные по птичьим дворам.
Предупрежденные о готовящемся походе деревни на усадьбу, баре успели скрыться на тройке, поданной за мост. Но не в коляске же увезли все это добро Арсаков и баронесса. Кое-что припрятала дворня — это было естественно. Но самое ценное нашлось только тогда, когда над деревней поднялись уже новые мироеды.
По слухам, и Бодровы, и Черныхи жили теперь лучше. Прирезаны были к наделам барские земли. Появился скот.
Все это Алексей считал естественным — все это дала рабочая революция, поддержанная солдатским штыком, в которой участвовал и он.
Глава V О КНИГАХ
Травяным ковром расстилается детство в Алешиной памяти. Речка вся в солнечных зайчиках, машут над головой зелеными метлами тонкие сосны, пахнет медом и воском. Изба отцовская потеснилась в памяти, крепче помнится школа и Мария Александровна, еще Васька Задорин и его отец, буйный пьяница и ругатель.
Новгородские годы — пять лет чужой, не запавшей ни в ум, ни в сердце жизни.
Грохочет Спиридон Николаевич Севастьянов с утра до ночи в мастерской-пристройке, грохочет так, что в ушах — стон, шипит паяльник, как из другого мира доносятся крики его жены, худосочной Манечки, которая за тонкой стеной ведет ежедневную кухонную справу. Алеша слушает: хозяин зовет — поворачивайся — щипцы подать, жесть держать; хозяйка зовет — гони, парень! Скоро стало Алексею безразлично, кто ругается, — доставалось от обоих… Спал он на лавке у печки на тулупчике, покрывался тряпичным одеялом. Днем на этой лавке Марья готовила обед, обкладывала селедки кружками белого лука, шинковала капусту, чистила сельдерей и картошку. Вещички Алешкины на день шли в узелке под хозяйскую кровать.
Ночью Марья, изведенная младенцем, будила Алексея. Алексей из угла за веревочку покачивал колыску, а Марья засыпала на краю деревянной кровати, разваливающейся, как изгнивший на берегу баркас.
В единственную парадную комнату без дела не ходили. Там стояла машина «зингер», столик с бумажными цветами и несколько стульев. По полу положен был пестрый коврик. В шкафу висело парадное платье хозяев. Сюда допускались гости, здесь ели в большие праздники. Серые дощатые полы парадной комнаты мылись с песком через день.
Старший сын Севастьяновых, Павел, брал Алексея на чердак к голубям. Но Алексей пустыми глазами смотрел на жирную, ленивую птицу. Турманы, трубачи и простые были для него безразличны. Гордость Павла не получила пищи, и он стал презрительно относиться к столь немудреному пареньку.
На столе в чистой комнате, рядом с машинкой, лежало пять-шесть книг, но трогать их никому не разрешалось. Эти трепаные книги стали на время заветной целью Алексея. Манечка стирала белье во дворе, а он босиком воровски пробирался к столу и читал по страничке. Но ни в соннике, ни в псалтыри не было ничего о хорошей жизни. Интереснее был оракул. Много силы, денег и счастья он обещал удачнику, но как добиться этого счастья, нигде прямо написано не было. Это тоже были не те книги, и нигде не было видно настоящих книг.
Была в городе большая река и большие дома. Но река была здесь закрыта для Алексея, как и большой архиепископский, всегда тихий сад. За катание на челноке, как и на пароходе, надо было платить. На мосту через Волхов стоял городовой.
Худым волчонком, с большими, напоенными светом детства глазами, со спутанным до невероятности вихром, пробегал с поручениями по улицам города Алексей. На минуту забываясь, он издали наблюдал за ребятами. Они играли на поросших травой сонных улицах в городки, в лапту, в жошку, в масло. Алексей перебрасывался с ними воинственными словами и с замиранием сердца ждал момента молниеносной партизанской схватки. Он никогда от нее не отказывался, жестоко налетал и вихрем уносился, если врагов было слишком много. Ловко убежать от нескольких врагов было так же почетно, как и свалить противника на мостовую.
В праздники Севастьяновы ходили в церковь. Здесь пел хор и сверкали свечи.
Боги и святые и в городе были мрачны и подозрительны. Казалось, только огненная ограда из трехкопеечных свечей удерживает их в золоченых клетях икон. Но, разгневавшись, они могут вылететь черным вихрем, всех поражая огнем, дымом и могучим набатом колоколов. Над святыми и архангелами витал бог — голубое облако с глазами, бородой и одеждами, похожими на крылья. Не от него ли шел хороший, мягкий запах и вился дымок, поднимавшийся вверх, как по лестнице, по столбу цветного солнечного луча?
Мальчики в розовых рубахах с шелковыми поясами и тут задевали Алексея, но здесь они были недоступны для его кулаков, и он только поджимал под себя, прятал коряво обутые ноги. Приходили к церкви и плохо одетые мальчики, вшивые, сопливые и вороватые. Но им было не до Алексея. Они собирали милостыню, подбирали у ворот и тут же, за кустами и могилами, выкуривали окурки.
Через год хозяин дал Алексею в руки паяльник и положил жалованья три рубля. Через два года Алексей получил синенькую и перестал работать по дому. На кухне появился двенадцатилетний парнишка Степан из ближайшей деревни.
Севастьянов получил от церковного ведомства заказ, и мастерская шла полным ходом. Если б не этот заказ, Алексей расстался бы с Севастьяновым гораздо раньше…
Наконец Севастьянов сдал заказ церковникам и запил на неделю. Алешу тоже посадили за стол в парадной комнате и поднесли ему стопку. Алексей решился, выпил, поперхнулся — показалось противно, — но подставил стопку хозяину еще раз.
— Здоров хлестать, парень, — ободрил его сосед шорник и приятельски дыхнул в лицо Алексею сивухой.
Алексей, не закусывая, выпил вторую, и в глазах у него заплясали лица и вещи. Он пел, и кричал, и плел несуразное. Манечка смеялась — сама она выпила тоже, шумела на мужчин, била по головам полотенцем. Потом в пьяном угаре спали все вповалку. У Алеши на лице лежали Манечкины растопыренные пальцы с обкусанными ногтями…
Алеша стал ходить к шорнику, которому пришелся по вкусу.
Спиридон Севастьянов был человек неразговорчивый. Все слова, какие срывались с его белесоватых уст, относились непосредственно к делу. Человек он был не крупный, властью не избалован, но чаще всего прибегал к повелительному наклонению: «подь», «подай», «возьми», «да убери ты», и даже советы «знай помалкивай», «не лезь в пекло поперек деда» звучали как приказы. Впрочем, в армии он заслужил унтер-офицерские нашивки.
Шорник, наоборот, был говорун и философ. Он принадлежал к числу тех, кто считает: раз людям даны уши, то они и должны слушать, что говорят умные люди, в том числе и он, Фома Ильич Мясников. В состоянии подвыпития он мог обратиться с пространной речью к фонарному столбу, к одинокой иве над Волховом и даже к постовому городовому. Заметив, что Алексей смотрит ему в рот, он стал зазывать его вечерами на кружку чаю. Жил Мясников одиноко. Прислуживала ему сирота-племянница, косоглазая Грунька, смешливая и бесстыдная остроносая девчонка лет семнадцати. Чай он пил вприкуску из большой фаянсовой кружки с цветком, то и дело вынимая изо рта черными пальцами огрызок сахару и оглядывая его зачем-то со всех сторон.
С Алексеем он, не скупясь, делился нажитой за долгие годы мудростью. Бывал он в Петербурге, и в Москве, и с войском на Кавказе, но о людях, о городах говорить не любил. Говорил больше вообще, а люди и события существовали только как доказательства правильности его суждений. Слова текли у него споро, не спотыкаясь, слушалось легко и ничего не запоминалось. Только иногда изрекал он заковыристую «мудрость», которая задевала Алексея, потому что близко подходила к его собственным спутанным мыслям.
Больше всего говорил он о деньгах. Слово «рубль» не сходило у него с языка. Начинал он говорить о богатстве и о денежных людях со вкусом и многословно, а кончал со злостью. У самого Мясникова лишних денег за всю жизнь не было. А силу рубля узнал он в полной мере.
— И ты еще за ним напляшешься, — говорил он Алексею. — Покажи тебе целковый — ты небось на голове пойдешь.
— Ну! — отрицательно бурчал Алексей. — Вы тоже скажете…
— За его, проклятого, голову складывают.
— Нет, — мечтательно возражал Алексей, — рубль — он пустое дело. За бумажку — да голову…
Притаенным шепотом Мясников рассказывал о лихих и удалых людях, которые легки на руку и смелы на удар, которые «подружились с черной ночью» и смеются над законами и властями. Глаза его при этом загорались, и Алексею казалось, что эти удальцы — приятели Фомы Ильича и он боится выдать их, а потому озирается и смотрит за окно, не присел ли кто на завалинке.
Но таинственного в жизни Мясникова не было ничего. Досада на скучную, серую долю порождала протест глухой, шепотный. На дело не хватало ни силы, ни удали.
— Сто человек работают, а один ест. Вот как, — победоносно взирал на парня Фома. — У нас вот по деревням дуги гнут. А Савва Евстигнеевич Кушаков ездиют да скупают. У Саввы Евстигнеевича дом в Новгороде да дом в Москве… А рубль — он знаешь куда катится?.. Человек к человеку, а рубль к рублю. А иной за рублем гонится, штаны потеряет, а он верть — да к соседу в карман.
Но это было знакомое. На все лады говорили о деньгах в Докукине и в Новгороде, и это не останавливало внимания.
— А книжки как? — спрашивал Алексей.
— В книжках, брат ты мой, сила великая…
Алексей обрадовался.
— Только к книгам приступ не у всякого. Книги силу дают, а денег не дают. А сила без денег — все равно как дерево без яблок. И цвет богат, и тени много — а съесть нечего.
Алексей решил, что у Мясникова с книгами, как и с деньгами, не вышло. Но однажды Мясников подвел Алексея к платяному шкафу, раскрыл дверцы и с гордостью показал на кучу истрепанных книг, двумя горками лежавших по бокам от пары нарядных сапог на колодках.
Алексей стал первым читателем этой замечательной библиотеки. Здесь был роман Тургенева «Новь», «Повести Белкина», мысли мудрых людей Толстого, приложения к журналу «Нива», какой-то французский роман без конца. Все до корки прочел Алексей. Это тоже были «не те» книги, и опять не было видно «настоящих» книг.
А потом книги остались в памяти Алексея как мед деда Кирилла, как шум докукинского леса, как игры на реке с Васькой Задориным.
Фома Ильич пел октавой в хоре той церкви, которую посещали Севастьяновы. Когда хор замирал, как бы подстилая мягким ковром все звуки, растекался по церкви его небольшой, приятный и низкий голос. Он определил Алексея в альты. Севастьянов беспрекословно отпускал Алексея на спевки. Это было «божье дело». Но на панихиды и молебны разрешал ходить только по праздникам. Это — «для заработка».
Мальчики из хора были первые проказники, они рассказывали анекдоты, лущили семечки во время службы и сосали леденцы. О церковном причте они распространяли невероятные слухи. Они уверяли, что архиерей — блудник и пьяница. Они изводили регента и ссорились при дележе денег, полученных на свадьбах и погребениях. Они научили Алексея курить, звонко плеваться, ходить с вывертом и подмигивать девчонкам…
Когда представился случай переехать в столицу, Алексей не колебался ни одной минуты. Новгород был город тихий, мещанский, заросший травой, на зиму засыпаемый снегом. Алексей понимал, что за эти годы ничему не научился и ничего не приобрел. Лучшая жизнь была где-то рядом, но в Новгороде, как и в Докукине, не было к ней никаких дорог.
Но Петербург — это не Новгород. Это большой город, столица…
В юные годы не успевает увянуть одна надежда, как на смену ей распускает крылья новая…
Федорова теща разыскала Алексея проездом через Новгород и забрала его с собою по мимолетной прихоти, должно быть для того, чтобы показать свои возможности старой петербуржанки и жены заводского мастера.
Действительно, перчаточник Адольф Груббе, проживавший в одном из переулков у Сенной, согласился принять Алексея в качестве ученика. Сватья поселила Алексея неподалеку от мастерской у знакомой старухи с котом и лампадкой и решила, что она устроила человеческую жизнь ни дать ни взять как сказочная добрая волшебница. А перед Алексеем возник тяжелый вопрос — как прожить, если жалованье ему положено десять рублей в месяц, а пять он должен отдавать за постель и кипяток старухе.
Петербург был полон учебными заведениями, библиотеками, книжными магазинами, но именно здесь книга оказалась для Алексея за семью замками, и, попав в столицу, он, как бы мстя за такое высокомерное отношение, равнодушно проходил мимо витрин, уставленных книгами.
Но петербургские хозяева лучше новгородского слесаря-кустаря знали цену рабочему времени, и жизнь в столице навалилась на Алексея всей своей тяжестью, не оставляя сил для лишних движений и времени для размышлений.
Адольф Альфред Вольдемар Груббе, прежде чем допустить Алексея к перчаточному искусству, потребовал от него услуг обычного порядка. Для работы по дому и по поручениям парень соответствовал в большей степени, чем любая из шести девушек, работавших в мастерской. Впрочем, это продолжалось недолго, и все произошло из-за супа.
Хозяева и мастерицы обедали наверху, в мастерской. Готовилась же еда в кухне, этажом ниже. Алексею обед не полагался, но хозяйка наливала и ему большую тарелку супу, заправленного сметаной. Этот суп в большой дымящейся чашке Алексей проносил по скрипучей деревянной лестнице.
Если супа не хватало, Алексею давали немного второго. Вода, хотя бы и заправленная сметаной, плохо насыщала быстро растущего парня, и он пустился на хитрость. Он выливал часть супа под лестницу. Первого не хватало — и он получал второе.
Хозяйка бранила кухарку и приказывала готовить больше супа. Кухарка послушно доливала в котел воды, а Алексей отливал еще больше. Кухарка недоумевала, ссорилась с барыней и наконец поймала Алексея с поличным…
Федор поверил теще, что брат хорошо устроен, поверил и в то, что в разрыве с Груббе виноват кругом сам Алексей. Он резко посоветовал ему ехать обратно и Докукино, и Алексей решил взять судьбу в свои руки.
Казалось, город полон людьми, и все заняты, и все у дела. По улицам с утра до ночи спешили молодые и старые люди с корзинками, с кульками, с бочонками на голове. Были бы руки, а работа найдется.
Алексей ничего не сказал старушке. В те же часы по утрам он уходил из дому на бойкие торговые улицы. Он заходил в мастерские, магазины, прачечные, ларьки, пекарни. Чаще всего у хозяев не было нужды в работнике Ему отказывали пренебрежительно или даже грубо. Но работа в поле и в мастерской воспитала в нем терпение, которое не столько питается усилиями воли, сколько живет само по себе, не как доблесть, но как прочно приобретенное свойство. Иногда его спрашивали, имеет ли он рекомендации, кто его послал. В таких случаях он обрывал беседу и уходил или угрюмо молчал, покуда хозяин или приказчик не оборачивался к нему спиной. Если его спрашивали, что он умеет делать, он добросовестно, не обобщая в профессию, название которой могло бы звучать привлекательно, перечислял свои несложные и немногочисленные навыки. Он сам чувствовал, что это звучало неубедительно. Под вопрошающим, настороженным взглядом хозяина он готов был признать, что не умеет ничего.
Иногда над ним издевались. Он отвечал тогда грубо и не уходил, как бы ожидая, не хватит ли у противников храбрости для схватки. Он выглядел волчонком, который вот-вот застучит зубами…
В таких случаях он уходил озлобленный и больше не заходил в тот день в дома и магазины.
Когда пришло 25-е число и старушка не получила платы за угол, она набросилась на него с упреками Неужели он пропил заработок? То-то он так поздно возвращается. Еще вчера она заметила, как его шатало…
Алексея шатало от голода. Но какого черта эта подслеповатая колдунья следит за ним! Его взорвало. Он. впервые накричал на нее. Старуха сразу смягчилась. Она напоила его чаем, и он рассказал ей все по порядку. Старуха качала головой, гладила кота, утерла платком непокорную слезу, ночью ворочалась, а утром сухим голосом сказала Алексею, чтобы он очищал угол.
Алексей утвердился было в мысли, что старуха ему сочувствует. Теперь он был разогорчен и по-настоящему рассержен. На совет старухи ехать в деревню он ответил бранью. Она закрыла уши руками, затопала ногами и Христом-богом поклялась вызвать дворника.
Алексей собрал вещи в узелок и очутился на улице.
Человек, у которого нет дела в большом городе, всем бросается в глаза. Любопытные и чаще равнодушные взоры всюду провожали Алексея, заставляли переходить с места на место. Если он садился у чугунной ограды или на ступенях выступавшего на тротуар крыльца, городовой, многозначительно крутя усы, останавливался перед ним. Алексей поднимался и шел дальше, не упуская из виду ус, змейкой перебегавший с пальца на палец.
Как заблудившийся в лесу, он кружил по городу, не удаляясь от квартиры старушки. Когда совсем стемнело, он воровато скользнул на лестницу. Долго стоял у двери. Положив мешок под голову, он переспал на верхней площадке у низенькой двери на чердак.
У Алексея оставались последние медяки. Он покупал хлеб и ел его, шагая по улицам. Еще две ночи он спал там же, на лестнице, как будто его тянуло к прежней законной постели.
Горничная из нижнего этажа застала Алексея здесь утром и подняла шум. Вспомнили, что у кого-то когда-то на чердаке пропало белье. Старуха, не снимая цепочки с двери, смотрела, как дворник провожал Алексея вниз. Он вывел его на улицу и отпустил, как дети пускают щепу в дождевой поток. Он смотрел, покуда Алексей не скрылся за углом, вздохнул и пошел спать в дворницкую: предстоял праздник — всю ночь будут ходить взад и вперед подвыпившие жильцы.
Еще ночь Алексей провел на ногах, нигде не решаясь прилечь. Сады были закрыты. Улицы города опустели, но не засыпали вовсе. У подворотен дремали или курили дворники. Все места ночлега, все углы, где можно было прилечь, охранялись. Серое утро с трудом отодвинуло тьму. Она густела в тупиках переулков, над редкими садами, в далях прямых проспектов. Нарастал день — нарастала усталость. Выспавшиеся люди пробегали, взбодренные свежестью раннего часа. Алексей плелся, не различая улиц. Его остановила река. На холодном еще песке набережной Малой Невы он задремал, не обращая больше внимания ни на прохожих, ни на шагавшего по деревянному скрипучему мосту городового.
Следующую ночь он спал в пустой барже, которую присмотрел днем. Выспавшись, возобновил поиски работы. Теперь он искал ее на приютившей его реке, на плотах, на финских баркасах, на закопченных пароходиках, пробегавших Фонтанкой к Калинкину мосту, на рыбных садках именитых купцов, на поплавках-ресторанчиках, на пыхтящей и лязгающей металлическими частями землечерпалке.
На реке тоже все были заняты, все были у дела, но для лишней пары рук работы не находилось.
На третью ночь на барже оказался сосед. Близость незнакомого человека беспокоила Алексея. Он хотел было уйти. Но человек завел откровенный разговор. Речь его была пересыпана незнакомыми Алексею словами, хвастлива и вызывала на откровенность. Где-то были какие-то марухи, супесницы, майданщики, скрипушники и особенные, знаменитые дела. Алексей вспомнил терпкие речи шорника Фомы Ильича Мясникова. Город был богат и жаден. Урвать у него кус смелой рукой. Обида, усталость и голод подсказывали гнев и месть всем спокойным и сытым.
Но когда человек принялся расспрашивать — кто? откуда? — Алексей замкнулся, сделал вид, что засыпает.
Но не прошло и полуночи, как наряд городовых снял обоих. Закинув узелок за спину, Алексей шагал в участок. Сосед исчез где-то в пути. В толпе пьяных оборванцев, бродяг Черных провел ночь в участке. Его, как новичка, не били. Но на прощанье городовой вытолкнул на улицу с такой силой, что Алексей слетел с крыльца прямо на мостовую.
Кажется, действительно следовало возвращаться в Докукино. Город отказывался принять его. К тому же все, что было здесь хорошего, было для него недоступно…
Но и на поездку домой нужны были деньги. Денег не было. Оставалось сломить свою гордость и идти за трешкой к Федору.
Федор сидел за столом. Перед ним лежала толстая книга. Карандашом он записывал что-то на узких и длинных листках бумаги. Над столом висел большой портрет без рамки. Закинув ногу на ногу, сидел человек в косоворотке, тот самый, которого видел Алексей у Марии Александровны.
Брат выслушал Алексея, ничему, кажется, не удивился, только окинул его взглядом вдруг пробудившегося любопытства и сказал, что устроит его на завод.
Ксения, единственная дочь Федора, смотрела на Алексея большими серыми глазами и, когда отец предложил брату жить у него, решительно и весело принялась устраивать угол в большой, но темной кухне. Вечером пришел студент, снимавший маленькую комнату в той же квартире. Он и Федор о чем-то долго спорили. Усталый Алексей уснул, не дождавшись конца горячего спора.
О днях безработицы осталась у Алексея темная память. Он раз навсегда понял, что город может стать пустыней для человека, у которого отнято право на труд.
Алексея давно привлекали большие фабрики и заводы, спрятанные за каменными стенами низкие здания, в которых день и ночь грохочут неведомые Алексею машины. Был подъем металлургической промышленности перед почти неизбежной уже войной. Алексей пошел к воротам большого красностенного завода на Выборгской и сразу попал на работу.
Федор был прекрасный подпольный работник, хороший товарищ, деятельный вербовщик. Но все интересы его в первую очередь относились к заводу и к заводским рабочим и только во вторую — ко всем знакомым и своим односемейным.
Нередко он усылал брата, когда к нему приходили товарищи. Квартира должна была оставаться вне подозрений. Возвращаясь, Алексей иногда заставал троих-четверых рабочих. Они пили пиво, пели под гармонь. Окна были открыты на внутренний двор. Песни и музыка были слышны в дворницкой и под воротами, куда заглядывали городовые и мелкие человечки в котелках.
Завод гремел, лязгал, шумел и то и дело открывал ворота для тяжелых обозов с готовой продукцией. Алексей работал на задворках у складов с сырьем и видел тяжело перебирающие стальными суставами машины только через серые от пыли и копоти окна. За день он уставал до темноты в глазах, а по праздникам ходил по переулкам с товарищами с гармонью, знал фабричные частушки, неловко ухаживал за подругами подруг товарищей, шумел, когда шумели другие, научился мешать водку с пивом и фуражку с лакированным козырьком носил по-выборгски — над кругом кудрей. Брата видел редко и не подозревал, хотя и попадались ему листовки, что рядом на заводе, в строгом подполье, работает социал-демократический кружок.
В четырнадцатом году, еще не достигнув призывного возраста, как неквалифицированный рабочий, он попал в запасный дивизион в город Лугу и оттуда на фронт, в Галицию.
В артиллерию брали молодых, коренастых и сильных парней. Потери в артиллерии были меньше, и люди больше привыкали друг к другу. Когда были снаряды, артиллеристы — опытные кадровые командиры и солдаты — действовали как на ученьях, и в артиллерии дольше сохранилась уверенность в том, что, как только появятся снаряды и патроны в достаточном количестве, придет и победа. Пехота, измельчавшая, серая, промоченная дождями и окопной сыростью, вечно меняющая состав, катилась мимо крепких артиллерийских частей, как волна обтекает глинистый мыс.
На какой-то срок Алексей поддался настроениям первого года войны. Думал о победе. Надрывался, извлекая руками пушки из грязи и болот во время походов. Враг шел на его родину, и он сражался за нее, за ее право жить и разрешать свои дела без чужого вмешательства, как сражались его предки, новгородские и псковские воины Александра Невского, соратники Минина, солдаты Кутузова и Багратиона. Но не было порядка, не было снарядов, не было и победы.
И вот тогда встретился Алексею только что кончивший школу прапорщик Борисов.
Он объяснил Алексею, почему нет снарядов, почему во главе армии и правительства не те люди, почему терпит все это страна.
Воспитанный в традициях 1905 года, ущемленный неудачами войны, Борисов толковал события с той бесцеремонной непосредственностью, с какой тысячи радикально настроенных интеллигентов, разбросанных по армии, стихийно подкапывались под самодержавный строй.
Он уверил Алексея в том, что так будет не всегда, что есть люди, которые хлопочут об этом. Алексей вспомнил листовки на заводе и пожалел, что упустил случай узнать об этом побольше.
Еще больше рассказывал Борисов о книгах. Об этом он мог говорить целыми ночами. Алексей раскрыл ему свою тайну, как он искал книги о хорошей жизни, и ему не было стыдно, когда Борисов тихо посмеивался над его детскими заблуждениями. Он растолковал Алексею значение книг для человечества, этих сундуков, хранителей и передатчиков человеческой мудрости и опыта.
Для Алексея многое в его речах было открытием. Борисов давал Алексею книги по своему выбору и на стоянках, в мокрых лесах Полесья, занимался с ним и его товарищами арифметикой, физикой и русским языком. Когда пришел Февраль, большевики сказали солдату-батарейцу всю правду, и перед нею сразу побледнели и учебники, и рассказы Борисова.
Но у начала этого нового пути стояла в памяти Алексея складная фигура внешне спокойного человека, у которого он многому научился. Алексей не был избалован добрыми встречами. Сам Борисов и не подозревал, какое видное место занял он в жизни Алексея Черных.
Глава VI ДОМ НА КРЮКОВОМ КАНАЛЕ
Шестиэтажный дом на Крюковом канале в зимнем солнце казался выставкой шлифованных плит розоватого гранита, мрамора, керамики, начищенной меди и зеркальных стекол во всю ширь декадентских окон.
Он был построен всего за три года до войны и получил одну из премий городской думы домовладельцам, чьи здания, по мнению отцов города, украшали столицу.
Студенты Института гражданских инженеров приводили сюда младших товарищей, чтобы показать им образец эклектической безвкусицы, с каким может спорить только дом богача Вавельберга на Невском, где архитектор приспособил черты фасада Палаццо дожей для удобства банковских фирм и фешенебельных магазинов. Может быть, эта критика была вызвана какой-нибудь фразой институтского метра, порожденной завистью к преуспевающему коллеге-практику. Как бы то ни было, создатель этого дома не считал его сооружение ошибкой. На одной из колонн он эффектно изогнул ромбовидную медную доску с указанием своего имени, отчества и фамилии.
Быть может, этот архитектор, строя доходный дом в эпоху развивающегося российского капитализма, не в силах был забыть величественные образцы дворцового и церковного зодчества и, не находя выхода своим творческим запросам, обратился к художественной контрабанде. Дом уходил ввысь гранитной стеной, украшенной балконами, несимметрично расположенными псевдоколоннами и окнами, декадентски раздавшимися вширь и оттого потерявшими свое устремление к небу, но увенчивался классическим треугольником, напоминавшим порталы старинных соборов Руана и Амьена. Парадный ход оформлением своим доходил до окон третьего этажа. Веером расходились здесь разноцветные стекла, бронзовые жгуты паучьими лапами убегали в крашеную жестяную листву. Зеленью ущелья отдавали как бы выцветшие от влаги изразцы входа, а вестибюль белизной плит оттенял готическую темную глубину потолка, к которому легкомысленно тянулись хрупкие, схваченные серебряными кольцами колонны. Лестница мягкими поворотами обходила лифт, и дорожки алого бархата с белой оторочкой показывали путь к квартире хозяина.
Если сойти с асфальтовой ленты, отгородившей дом от булыжной улицы, и отсюда взглянуть на фасад, можно легко заметить, какое внимание уделено было отделке бельэтажа.
Свобода форм и орнаментации достигала здесь своего предела. Здесь окна казались омутами холодного стекла. Орнамент кружевами тянулся по стене. Балконы соединялись глубокими проходами.
Своим появлением дом предсказывал быстрое и неудержимое развитие только еще застраивающейся набережной. Он как бы кричал в лицо прохожим: «Я — будущее этого города. Я — знак и символ его расцвета Время сотрет в пыль пятиэтажные коробки и приземистые дворцы дворянского века. На улицах и набережных встанут мои собратья, хранилища торжествующего капитализма и его жрецов».
Бельэтаж занимал хозяин, собственник крупного металлургического предприятия, удачливый биржевой игрок, акционер и член правления многих банков, Виктор Степанович Бугоровский.
Всякий, попадавший в квартиру Бугоровского, сразу чувствовал, что здесь живет настоящий, уверенный в себе миллионер. Уютная, строгая тишина большого достатка. Поднимающийся в ленивом сознании сторожевого долга тигровый дог. Лакей во фраке, анфилада парадных комнат, большие полотна строгого отбора, стены в штофе, пол в бобрике и ко всему — веселый, простой, жизнерадостный, чувствующий себя в этом храме богатства как рыба в воде хозяин.
В первый момент трудно было себе представить, что все здесь принадлежит этому маленькому, быстрому и изящному человеку с руками и ногами подростка. Но это только в первый момент. Встречая самого обычного гостя в передней, он собственноручно — два лакея отскакивали, как на резинке, — помогал ему раздеться, брал под руку и вел в одну из гостиных или к себе в кабинет, где можно было неделю, не утомляясь однообразием, рассматривать тщательно собранные раритеты и полки с иностранными изданиями в переплетах почти ювелирного толка. Подкупленный таким вниманием, гость уходил в уверенности, что на этот раз богатство попало в хорошие руки и уж если быть на свете богатым и бедным, то пусть богатые будут такими, как Виктор Степанович.
Жена не уступала ему в тихой ласковости и спокойствии. Она добрéла от года к году и осторожно носила тучное тело на маленьких, до странности худых ногах. Она не брала ничего в руки, а как бы прикасалась, трогала вещи, неуверенная в своих движениях. Она вышла за Виктора Степановича по любви. Память хранила букеты, бонбоньерки, поездки на лихачах по набережным замерзшей Невы, маскарады, масленичные балаганы. Виктор Степанович еще не был так богат и учился на доктора. Она, не раздумывая, сошлась с ним до свадьбы, они поженились, съездили в Остенде, и началась жизнь.
Мария Матвеевна легко вживалась в растущее богатство, подгребала его под себя, как наседка удобную кучу сена. Когда Виктор Степанович привел ее в совершенно отделанную квартиру нового дома — долго скрываемый сюрприз, — она взглянула на него счастливыми глазами, сказала:
— Я бы сама лучше не придумала, — села у окна и стала смотреть на улицу.
У Виктора Степановича были две дочери, Елена и Нина. Нина, любимица отца, была некрасива — большой рот, просвечивающие до пустоты глаза, но вместе с тем изящная фигура, настоящая модель для аристократического ателье, потому что именно на ней легко было наблюдать, что может сделать с самой обыкновенной женщиной искусство портного и куафера. Виктор Степанович наряжал ее уже с двенадцати лет, и Нине приходилось двоиться — девочкой в гимназии и барышней в гостиной.
Елена, старшая, была в мать лицом, свежая, необыкновенно красочная, но холодная, смотревшая на все в мире с высоты эстетической позиции, неизвестно как залетевшей в этот богатый, но совсем не чопорный дом. Ее комнаты были на отлете. У нее бывали только подруги, раз навсегда признавшие ее превосходство, и молодые люди, откровенно преклонявшиеся перед ее красотой. Отец относился к ней с горделивой, но и еще какой-то усмешечкой. Он называл ее то «наша краля», то «царь-девица». А мать слегка побаивалась дочерней властности. У Елены была одна страсть — живопись и картины. Она сама недурно рисовала, бывала в Академии, заглядывала в залы «Поощрения художеств» и однажды шутя, но так, что всем запомнилось, сказала, что выйдет замуж только за художника.
В великой наивности окруженной всеобщей лестью женщины Мария Матвеевна считала, что рост мужнего богатства — это и есть тот общий ход перемен, который называется жизнью. Строили новые дома, мостили улицы, прокладывали Великий Сибирский путь, появлялись новые моды, автомобили, какие-то смельчаки начинали летать на бамбуковых палочках, фанере и парусине. Все шло вперед согласным строем. Дела ее мужа были зеркалом всеобщего роста и процветания.
Когда ей подали парижское ландо — тоже подарок мужа, — она поехала по набережным, солнце заливало лица прохожих — разве не все радовались, как радовалась она?
На торжественном освящении завода говорили нарядно и важно. Старики рабочие преподнесли ей икону. Завод — это тоже было нужное и хорошее дело.
Сам Виктор Степанович не мог похвалиться подобной наивностью. Он хорошо понимал всю исключительность своего положения и неслучайность своих успехов. Отец-профессор оставил ему то, что принято называть независимым состоянием, и дом в провинции, родовое гнездо — большущий деревянный сруб, обросший кольцом пристроек. Все остальное пришло к нему. Именно пришло. Возможности бедняка — это сухая ветвь. Она не даст жизни ни почкам, ни листьям. Вчера и завтра, весной и осенью — никаких неожиданностей. Разве сломается веточка. Но стоит только зазеленеть побегу — появились деньги — возможности копятся одна за другой, ночью стучат в ворота. Виктор Степанович гордился тем, что рисковал всю жизнь и риск неизменно увенчивала удача. Он любил биржу, как игрок любит ночной клуб. Под сводами белого зала с верхним светом и мраморными плитами пола у него изменялся ритм сердца. Он был известен на бирже, имел свое место и маклера, вел крупную игру, делая многие повороты, в которых чувствовался финансист-художник.
Миллионером он стал в одну ночь. Был один из тех биржевых дней, когда, как при свете молнии, обозначаются обычно невидимые места сращивания политики войны и политики денег. Виктор Степанович получил информацию из первых рук. Все было наверняка — если только его покровитель и советчик не делал двойной блеф в свою пользу. Виктор Степанович махнул рукой на все сомнения и стал скупать. Акции подымались. На бирже шептались с побелевшими губами маклеры. Виктор Степанович, чтобы не сдали нервы, уехал за город. На пятый день газеты известили о неожиданном правительственном решении, и Виктор Степанович стал миллионером. И дом, и завод, и вилла на озере Гарди выросли под сенью этого успеха. Теперь сотни тысяч притягивали десятки. Миллионы легко сочетались с миллионами. Виктор Степанович ясно представлял себе карманы и бумажники, из которых ушли эти деньги. Не хуже, чем охотник представляет себе подстреленную, мигающую глазами в последних судорогах крякву. Но кряква и охотник живут под тем же голубым небом — и этим все сказано.
Став заводчиком, Виктор Степанович не обошел своим вниманием рабочий вопрос. От него нельзя было уйти в двадцатом веке. Сметные соображения, политика цен приводили к основному вопросу — сколько платить рабочему. Стачка стала словом, которое замечаешь в газете, даже если оно набрано петитом. Колебания Виктора Степановича между приятно-либеральной и «твердой» политикой по отношению к рабочим завода не были мучительны. Виктору Степановичу понравился рассказ об одном южном табачном фабриканте, который ходил в гости к рабочим и спрашивал:
— Послушайте, друзья, все требуют прибавки. Почему вы не требуете?
В особняк фабриканта приходила делегация. Хозяин поил делегатов душистым чаем и легко соглашался на незначительную, заранее обдуманную прибавку. Одновременно отпускные цены на табак поднимались на полкопейки. В этой простой возможности, которую позволяла деловая конъюнктура того времени, таился секрет поведения фабриканта. Как проценты, накапливалась добрая слава, голоса в Думу, в муниципалитет, страховка от стачек.
Колебания Бугоровского разрешились в сторону либерализма. Он говорил об этом много, хорошо и убедительно. Откладывал на пальцах: спокойнее — это раз, приятнее — это два, репутация — это три и, наконец, связи с либерально настроенными людьми и организациями, становившимися настоящими хозяевами российского делового мира.
При фабрике была построена небольшая больница, создана больничная касса, и даже был сооружен за городом дом для сорока отдыхающих рабочих вредных цехов.
Получив большой казенный заказ, Виктор Степанович устроил в заводском зале елку для детей рабочих. Мальчики получили костюмчики, рубашонки, шапки или сапожки. Девочки — платья, чулки и туфли. Виктор Степанович уехал с торжества совершенно растроганный самим собой. Сметные соображения позволяли щекотать сердце подобными расходами, не превышающими трехзначной цифры, и Бугоровскому понравилась мысль быть не таким, как все заводчики. Он решил, что не сказал еще свое последнее слово.
Имя Форда поднималось в те дни над Америкой в ореоле эффектной новизны и деловой оригинальности, не обнаруживая пока еще акулий оскал потогонной системы. Как-нибудь он освободится от обычных хлопот и крепко поразмыслит над этим.
Но для «как-нибудь» не было специального дня в календаре, и «поразмыслить» никак не удавалось.
Как же был поражен Виктор Степанович, когда события двенадцатого года на Выборгской сбросили его в одну кучу с другими хозяевами. Его завод присоединился к стачке металлистов «из солидарности».
Виктор Степанович возненавидел это слово.
— У меня как у Христа за пазухой, а они бастуют «из солидарности» с какими-то кузнецами и ниточницами, которых действительно держат впроголодь. Я-то тут при чем? Солидарность? Даже слово не русское. Совсем не мужицкое слово.
Он говорил с рабочими тоном обиженного гимназиста и закончил выкриком:
— Я не верю, что так ведут себя мои рабочие. Среди вас — кучка беспокойных голов, я выброшу их за ворота. Они не заслужили ничего иного…
Из задних рядов раздался пустоватый от долгого кашля бас:
— Твоих рабочих нет — еще не наплодил…
Бугоровский повернулся и быстрым нервным шагом поспешил к коляске. Это был дипломатический разрыв. Пристав поддержал миллионера за локоть.
— Выловим, Виктор Степанович, — прошептал он, — не беспокойтесь.
Война словно подхлестнула завод. Он заработал в три смены. Часть больницы отошла под лазарет имени Марии Матвеевны. Приносились и другие внушительные жертвы — все для победы…
Когда зашатался русский рубль и капиталы стали уходить за границу, Бугоровский перевел на Стокгольм миллион, страхуя семью на крайний случай, а сам решил держаться до конца. Еще далеко не все было потеряно, а удача сулила необычайные барыши и политическое влияние. Он чувствовал себя так, как в дни своего генерального боя на бирже. Опять летели роковые дни, но их было не пять, их было много — и нервы едва выдерживали.
Первый страшный день наступил летом тысяча девятьсот семнадцатого года, когда рабочие, не соглашаясь приносить все новые и новые жертвы на алтарь войны, решительно потребовали надбавки в сто процентов на дороговизну.
Но и это еще можно было выдержать, подняв отпускные цены. Когда же в первые дни после Октября рабочие самовольно развезли по квартирам запас фабричных дров, заготовленных для высших служащих, Виктор Степанович почувствовал, что у себя на заводе он больше не хозяин.
Он пытался отнестись легко к напастям и убыткам, но это не получалось. Летели не листы и даже не ветки — дерево рубили под корень… Виктор Степанович сказал жене, что его убивают не потери, но черная людская несправедливость. Сказав, он сразу и накрепко поверил в это, и желчь разлилась неудержимым потоком по всему его существу.
Если бы у врагов Бугоровского было одно лицо, он выпустил бы в него все шесть зарядов бельгийского браунинга, который лежал в его письменном столе рядом с орденом Станислава, полученным за устройство лазарета. Он сделал бы это в полном сознании своей правоты и, может быть, даже человеческого долга.
Глава VII ПЫЛЬ
Настя Черных уехала из Докукина тринадцатилетним подростком со светлой косичкой и выдающимися коленями. Ехала она сразу на место к богатой барыне, которая приглядела ее в деревне за необычайную белизну зубов и чистоту рук, и деревенские подруги завидовали ей.
В генеральской квартире на Крюковом канале было много порядка и еще больше работы. Подгорничной полагалось вставать до света, без шума, чтоб никого разбудить, мести полы, мыть подоконники, наливать воду в вазоны, чистить обувь, пересматривать верхнее платье в передней — нет ли уличных пятен и брызг, мыть тряпки, вытирать пыль с больших небьющихся предметов. В семь утра с пучком перьев шла по парадным комнатам старшая горничная Соня. Она смахивала пыль с зеркал, с фарфора и безделушек, занимавших каминные доски, французские горки, столики маркетри и японские этажерки. Когда вставали хозяева, Настя принималась за уборку спален. Вечерами она сидела за букварем, подаренным ей генеральской дочерью Надеждой, воспылавшей вдруг просветительской страстью.
Соня ходила в белой наколке, и щеки ее полыхали румянцем. То сдержанная и задумчивая, то шумная, раздражительная, она твердила на кухне:
— Страсть какая я нервная! — и притоптывала каблучком.
Однажды генерал в мягких туфлях прошел по залу. Соня не слышала генеральских шагов, испугалась, ахнула, уронила дорогую гарднеровскую пепельницу, но поймала ее на лету.
— Тебе, Соня, замуж надо, — сказал, останавливаясь, генерал. Он посмотрел на девушку дольше, чем обычно, и двинулся дальше, насвистывая полковой марш.
Яркий Сонин румянец перешел в багровый.
И, по стечению роковых обстоятельств, в ту же ночь Соня переночевала в комнате приехавшего на побывку юнкера Владимира, генеральского сына.
Генеральшино око было недремлюще и зорко. Она установила не только то, что сын ее, которого она, конечно, не почитала невинным ребенком, затащил к себе насильно, порвав кофточку и лиф, горничную, а также и то обстоятельство, что Соня пришла к нему девушкой. Барыня долго терзалась, не зная, как поступить. Это было лучше, чем если бы юнкер шатался по бог знает каким домам и притонам. Но все-таки это был непорядок. К вечеру барыня поехала в Гостиный двор и привезла Соне материал на платье, перчатки, душистое мыло и дешевый одеколон. Соне суждено было в этот день наливаться румянцем. Она поцеловала сухую руку барыни с дочерним чувством и всю ночь проплакала.
В ту пору Насте было уже семнадцать лет. Соня иногда тянула за ухо подгорничную, но у себя в комнате кормила леденцами и рассказывала сны, от которых у Насти в памяти ничего не оставалось, кроме черных кругов, оранжевых подсолнечников и машущих огненными крыльями птиц.
Когда Владимир вернулся в училище, барыня, переоценив положение, решила расстаться с Соней до каких-либо осложнений и вежливо отказала девушке от места. Соня притихла, опять преданно поцеловала генеральше руку и ушла в тот же вечер, собрав вещички в черный шелковистый узел. Покорность девушки смутила барыню. Она даже не пересмотрела вещи горничной, заменив этот обязательный акт порядка беглым обзором столового и носильного имущества.
Новая горничная продержалась не более полугода, и входившей в возраст Насте было предложено занять это место. Настя была в это время высока и дородна, у нее были мягкие светлые глаза, тоненький, но во всю щеку румянец и на голове — целая перина легких волос. Только большие руки и немного припухлый туповатый нос смущали барыню.
Все семь дней недели Настя работала так, как будто проходила испытание.
Она боялась каждой безделушки, каждой поверхности, на которой могла осесть предательская пыль, каждого угла, где могла завестись паутина. Генеральша заглядывала даже в ее комнатку с окном на помойку. Она не ленилась нагнуться, посмотреть под кровать, под стол-угловичок — обыкновенный стол в комнате для прислуги не помещался, — она пересматривала простыни Настиной постели, поучительно объясняя:
— Если будешь чистой сама — будешь всюду соблюдать чистоту.
Настя носила Сонину крахмальную наколку и плоеный передник и целый день не покладая рук отыскивала пыль.
Квартира генеральши была для Насти кораблем, а город — чужим, неприветливым морем, о котором трюмные пассажиры знают, что это море опасно, и больше ничего.
Впрочем, генеральша позаботилась и о том, чтобы Настю не потянуло в это море. Она рассказывала о городе так, как если б это были джунгли, в которых молодую, неопытную девушку ждут все страсти-мордасти, И ей почти удалось убедить в этом Настю. Молодость Насти шла так, как проходит жизнь домашней кошки, которую не выпускают даже на парадную лестницу. Избегла Настя и другой опасности. Однажды при выходе из ванной Владимир показал ей язык. Настя улыбнулась и прищурила глаза. Владимир уверился в легкой победе, ночью знакомым путем проник к ней в комнату. Настя дрожала крупной дрожью, зубы ее щелкали. Девушка лежала холодная, вялая, влажная, как в лихорадке.
«Может, она больна, — пронеслось в голове юнкера. — Или еще закричит…» Он закурил папиросу, которую предусмотрительно захватил с собой, затем спросил девушку:
— Что с тобой?
Настя принялась дрожать еще больше.
— Тьфу, дьявол! — выругался Владимир. — Ты не женщина, а жаба какая-то.
И ушел.
Настя прижилась к генеральской семье чужеродным телом, ракушкой на днище большого корабля. С утра она прислушивалась к звукам комнат.
Если у генеральши была мигрень или генерал работал в кабинете, она затихала, двигаясь легкой тенью по коврам, отсиживалась на кухне. Если генеральша суетилась, ожидая гостей, Настя ходила за барыней по пятам, проворными руками меняя скатерти, салфетки, смахивая перьями невидимую пыль.
В свободные часы — а они удавались только в летние месяцы, когда генеральская семья уезжала на дачу, забрав с собой кухарку и подгорничную, — Настя читала в своей комнате трехкопеечные книжечки, которые покупала у Лавры, и еще одну, оставленную Соней книгу, у которой не было ни начала, ни конца. В книге говорилось о короле, его министрах, о королевском поваре, знавшем все тайны мрачного дворца. Герои говорили о любви, о власти, о богатстве и счастье. Прочитав затрепанные страницы до последней, Настя возвращалась к началу и на ночь клала книгу под подушку. Днем книга лежала за иконой. Надежда, тихая, некрасивая дочь генеральши, большую часть года жившая в институте, тоже прочла эту книгу и пришла в восторг. Она умоляла Настю дать ей эту книгу в институт. Она гладила Настины руки и заглядывала ей в глаза. Настя вздыхала. Прикладывала Надеждины пальцы к своим глазам, но книги не давала.
Надежда тайком от генеральши ночью перечитала пленительную книгу. Теперь Надежде казалось, что лучшей книги и не может быть в мире.
У генеральши была квартира в десять комнат. В стеклянном шкафу во всю стену стопками лежало белье, простыни голландского полотна, батистовые ночные сорочки. В глубоких стенных шкафах висели на белых эмалевых вешалках нарядные платья, генеральские сюртуки, мундиры с орденами, рейтузы, широкие штаны. У генеральшиной кровати в стене за ковриком монастырской работы был секретный ящик, и в ящике лежали золотые вещи, бриллианты и жемчуга. Насте казалось, что у генеральши есть все, чего только может пожелать душа. Но часто, очень часто она слышала, как в спальне или за столом генеральша говорила мужу сквозь злые, непокорные слезы:
— Мы какие-то несчастные. У нас все не удается.
Но даже и после этого не приходила в голову девушке мысль, что бывают генералы-неудачники.
А между тем генералы-неудачники бывают, и к числу таковых принадлежал Всеволод Игоревич Казаринов. Всю жизнь он и работал, и старался, и учился для карьеры. Для карьеры он кончил Пажеский корпус, где товарищи презирали его за худородство и тощий карман. Для карьеры он ушел из гвардии в армию. Из-за связей он женился на некрасивой, но обладавшей сановитым родством из немецко-русской знати Вере Карловне фон Киршбейн. Он окончил Академию, написал работу о стрельбе с прицелом, покорно посещал рауты, приемы и даже передние великих людей, но дальше начальника дивизии не пошел. Однажды ему предложили корпус в Средней Азии. Петербургское солнце окончательно закатилось бы для провинциального генерала, и Казаринов предпочел невидную штабную должность в столице.
Война бросила Казаринова на фронт. Открывались перспективы. Генерал приободрился, иначе заходил и застучал шашкой. Его провожали на Варшавском вокзале с шампанским и громкими тостами.
Развивалась упорная галицийская битва. Здесь и последовала окончательная неудача. Подвели, конечно, соседи. Дивизия едва унесла ноги, потеряв в бою пятьдесят процентов состава. Генеральская фамилия попала в позорный список тех, на кого направил свой гнев «главковерх», и с большой карьерой было покончено навсегда.
В Петрограде генерала приняли холодно. Жена — немка. Связи с немцами. Бульварная газетка построила на этом хватающий за сердце фельетон. Все усилия родственников, бывших даже при дворе, не в силах были вернуть Всеволода Игоревича к деятельности. С огнем нельзя было шутить. В немецких симпатиях упрекали не одного генерала, но и многих повыше. Генералу дали понять, что он должен сидеть и выжидать.
Зато Февраль Казаринов встретил с подъемом. Узнав об отречении царя, он даже размахивал красным платком с балкона. Толпа, видя генерала с красным флагом, ревела «ура» и едва не ворвалась в припадке добродушного и безнаказанного буйства в квартиру. Вера Карловна, не веря в добрые намерения уличных патриотов; опьяненных речами, была так напугана, что весь день пролежала с примочками. Но наутро, усвоив случившееся, потребовала от генерала, чтобы он немедленно ехал в Думу и предложил свои услуги Родзянке.
Генералу пришлось пешком пробиваться сквозь толпы у Таврического. Его толкали и прижимали к стенам, но к Родзянке он так и не пробился. Вернувшись домой, усталый, растерзанный, но радостный — все, кто его обижал по службе, летели к черту, — он письменно изложил свои патриотические чувства председателю Государственной думы, назвав себя «генералом-республиканцем». Он ждал. В газетах мелькали полковничьи фамилии удачников, занимавших виднейшие государственные места только в силу своего былого либерализма. Он ждал, что его назначат по крайней мере командующим округом. Он готов был ехать даже в Казань.
Но ответа не было.
Генерал написал Энгельгардту. Это было труднее всего. Генерал-лейтенант направлял что-то вроде прошения, во всяком случае предложение своих услуг, пусть члену Государственной думы, но по чину простому полковнику. Это был тот максимум уступок, за которыми даже для генерала-республиканца шло уже прямое унижение.
Но ответа не было.
Мало того, очищая, в угоду времени, свои ряды от престарелых, сугубо реакционных и пользующихся дурной репутацией генералов, столичный штаб предложил Казаринову перейти на пенсию. Всеволод Игоревич заперся в кабинете и не показывался даже домашним.
В это время с Юго-Западного фронта примчался Владимир. Он был зол, нервен и выражался так, что Вера Карловна только воздевала руки кверху. Он кричал, что фронт разваливается, дисциплины нет, солдатня распоясалась, что у Временного ни черта не получится и порядок будет восстановлен только… немцами.
Вера Карловна положила ложку, не доев суп, и спросила робко:
— Какими немцами?
— Самыми настоящими, — сказал Владимир. — Ждите, мамаша, гостей.
— Они придут сюда? — Она показала пальцем на пол около себя.
— И сюда, и туда…
— Так, может быть, это будет хорошо? — все еще робко спросила она мужа.
Генерал молчал.
У Временного действительно ничего не получалось, власть захватили большевики, но немцы не дошли до Петрограда. Вера Карловна никак не могла этого понять. Они остановились где-то у Пскова. Псков — это почти Луга. А в Лугу ездят на дачу, за грибами и за молоком…
Но немцы все-таки не пошли дальше Пскова.
Когда девятнадцатилетним парнем Алексей впервые попал в Петербург, Настя вышла к брату на черную лестницу. У него за плечами висел латаный мешок с вещичками, а на ногах были сапоги с таким количеством пыли, какого нельзя было собрать во всей генеральской квартире за неделю. Настя была в белой наколке и держала руки под плоеным передничком. Она пообещала приехать к брату на Ломанский, но к себе Алексея не позвала.
Когда Алексея увозили в запасный дивизион, Настю отпустили на вокзал, и она поливала лицо брата слезами так, что Алексей удивился и растрогался.
Впервые Алексей побывал в генеральской квартире в шестнадцатом году. Артиллерист, фейерверкер, и еще с георгиевской медалью, — это не чернорабочий парень с завода. Генеральша учла момент и разрешила Насте принять брата. Генерал вышел на кухню и с порога беседовал с солдатом. Он был в венгерской тужурке и заячьих туфлях. Сперва Алексей отвечал только «никак нет» и «точно так». Но человек на пороге, несмотря на лампасы, все меньше походил на генерала и все больше на брюзгливого старичка. Алексей стал рассказывать барину о житье-бытье в окопах. Солдатская беседа пришлась Всеволоду Игоревичу по вкусу. Как и ожидал генерал, на фронте после его ухода стало еще хуже. Оскандалились самые признанные авторитеты.
Генеральша предложила Алексею ночевать в комнате Насти. Настя могла переспать с кухаркой, Пелагеей Макаровной. Наутро Алексей принес дров и сбегал за зеленью. Он был веселый и пришелся по вкусу и на кухне, и у барыни, прожил у генерала целую неделю и отправился в Докукино к матери.
Настя смотрела на брата во все глаза. Был он свободен на язык и во всем подмечал смешное. Генерала он называл гусаком, а потом пасечником, а генеральшу — драной кошкой. Пелагее Макаровне он гадал на картах, лопотал что-то про женихов и машину, от чего она смеялась неудержимо, и необъятный живот Пелагеи качался под синим фартуком, как всходящее тесто. Богу он не молился, научил всех на кухне играть в очко, а о царице позволил себе такое выражение, что и Настя, и Пелагея закрыли уши и крестились долго, одна на иконы, а другая — с переполоху — на порог.
Генерал сказал Насте, что у нее прекрасный брат и она должна гордиться тем, что он георгиевский кавалер. А Настя ночью долго била поклоны перед иконой, за которой пряталась книжка о королевском поваре, и молила бога, чтобы он направил Алексея на путь истины. На дорогу она дала ему неразменную десятку, а Пелагея, с разрешения барыни, напекла пирогов с кашей и грибами.
Глава VIII «ГОСТЬ ИЗ КАЗЕННОГО ДОМУ»
Алексей знал к Насте ход только с черной лестницы. Но теперь он решил — баста! Будем ходить, как все. Он вошел в вестибюль, круглый, сводчатый, как капелла, с мозаичным полом, с цветными стеклами в больших окнах над дверью.
«Фартовый дом», — не в первый раз подумал Алексей.
Медная доска с именем Всеволода Игоревича была снята. Восемь глубоких язв от винтов запечатлели ее место. Алексей дал звонок. Долго было тихо, потом дрогнула внутренняя дверь и Настин голос спросил:
— Кто такой?
— Настасья, ты? — обрадовался Алексей. — Это я, Алеша, с фронта.
— Царица небесная!
Дверной болт слетел от быстрого усилия.
Перед Алексеем стояла Настя в теплом платке, концами упавшем на руки, в синем до полу платье. Она втянула его в переднюю и стала крестить, целовать в глаза, в лоб, в шею.
Из-за ее плеча Алексей увидел гору корзин до потолка, одинокую кадетскую фуражку на оленьих рогах и много мелкого беспорядка.
— Твои-то что? Тю-тю?
— Уже месяц уехали, и куда — не знаю. Обещались, напишут с места или меня выпишут, и ничего нет…
— И ты одна?
— Пелагея Макаровна еще. А то больше никого.
— Значит, места для меня хватит?
— А ты как же, Алешенька… не в Докукино? Все теперь едут в деревню…
— В Докукино при случае слетаю, а то тут буду. Поработаем в городе. Совет тут под боком. А то, может, тебе, Настасья Федоровна, — подмигнул он хитрым глазом, — ордерок на квартирку из жилищной секции трудящихся доставить, чтоб на душе было спокойно? Это я могу. Хоть на комнату, хоть на две, хоть на целую квартиру. — Он размахивал руками. — Ничего не стоит заиметь.
— Какой ордерок, Алешенька? Не приедут — живи и так.
— А приедут?
— Тогда не знаю как. Живи, живи, Алешенька! — спохватилась она. — За тобой способней… А генеральша все по квартире бегала, нас собрала, в ноги кланялась — соблюсти квартиру просила. Не забуду вас, говорит. Приданое мне все обещала. Есть, носить все, что осталось, позволила. Только не продавать. — Настя словно отгоняла какие-то мысли. — Пойдем на кухню-то.
Алексей шел по коридору и заглядывал во все двери. Полные барского добра, тихие и какие-то печальные, будто вчера только покинутые, стояли комнаты. Увидав генеральский кабинет, Алексей остановился.
— Вот и спать есть на чем и, если писать… И книг много. — Пальцами он провел по дивану, по корешкам пыльных книг.
— А я думала, с нами ты, — покраснела Настя. — В Дуськиной комнате. Она как есть теплая.
— А вы все на старом месте? А это кому? — кивнул он на парадные апартаменты.
— А если ж приедут?
— Если приедут — так нам с тобой здесь не живать. А только не приедут. Генералам отъезд вышел, приезду нет. Ну, покажи твою Пелагею Макаровну.
На большой кухне полки опустели. Исчезла спрятанная в кладовушке медь. Плитой, напоминавшей средневековое ложе, под балдахином, видимо, не пользовались. Банки стояли блистающим рядом, выставив черные по стеклу надписи: перец, соль, сахар, крупа. Но они стояли пустые, потому что в доме всего этого или не было вовсе, или было так мало, что не стоило пересыпать из кульков в полуведерную банку. В дверь без створок видна была ритмически двигающаяся полная рука. Это шила Пелагея Макаровна. На пороге стояла молодая, проворная девушка в кокетливо накинутом платке.
— Брат приехал, — объявила Настасья.
Пелагея Макаровна высунула голову в повойнике.
— А я вчера гадала — гость из казенного дому. И на ресничку гадала — кто б такой? Все не выходило…
— Здорово, тетя-красавица! — обнял Алексей дородную женщину. — Что-то вы исхудали.
— От вас, иродов, похудеешь.
— За что ж на нас злы, Пелагея Макаровна?
— Наделали дилов — ни карасину, ни ведро починить, ни иголки, ни нитки…
— Напустилась сразу, Макаровна! — засмеялась девушка. — Еще успеете. Тут, наверное, поселитесь?
— Ну да, пусть селится. Иде же ему? Места много. Дунькина комната пустует, — пригласила Пелагея Макаровна.
— А если я в генеральский кабинет? — взял ее за плечи Алексей.
— Ты б еще в Катерининский дворец залез! — выпалила Пелагея.
— А где он, тетя? Попробую. Все может быть — понравится.
— А я не знаю, иди ищи. — Она отодвинулась от него недовольно.
— И я говорю — лучше бы в Дуськиной, — робко вмешалась Настасья.
— А я еще посмотрю. Если в Дуськиной теплее да к вам, красавицы, поближе, так я, может, и в Дуськиной.
— А по мне все равно, спи хоть на пиянине, — раздобрилась Пелагея. — Что думали, когда бросали? Не ты, так другой, гляди, залезет. Да ты что на девку глазища расставил? Подай руку, познакомься.
Девушка, не конфузясь, протянула руку Алексею.
— Я к вам от барыни за мясорубкой. В нашей ручка сломалась, а Катька-спекулянтка мясо привезла.
— Старым прижимом запахло, — засмеялся Алексей. — Я думал, барыни все вывелись…
— Хватит ихнего народу, — громко сказал, появляясь на пороге, высокий парень. — Особенно в нашем доме.
— А ты бы всех стребил? — отозвалась Пелагея. Парень молча рассматривал Алексея.
— Ну, я пошла, до свидания, — сказала девушка, оправляя платок.
Парень хотел было двинуться за ней, но каблучки ее быстро застучали по лестнице, и он, захлопнув дверь, остался.
— Вы с фронта, товарищ? — спросил он Алексея.
— Только сегодня. Вот у сестры остановился.
— Хорошо это, — ответил парень. — Настоящего народу здесь мало. Я еще зайду.
Он вышел так же молниеносно, как появился.
— Все равно не догонишь, — сказала ему вслед Пелагея Макаровна. — Ленка от него бегает, а он за ней. Она людей с капиталом ищет.
— Демьяновых это горничная, — пояснила Настя, — а это Степан, Федосьи-дворничихи сын. Когда наш генерал уехал, он пришел и из пистолета в зеркало выстрелил. Ненавистный такой.
Настасья кипятила чай. Алексей фыркал в ванной. Он раздувал печь, набросав туда бумаг, карточек, прочего горючего хламу.
— Лучше бы в баню, — заявил он. — Боюсь только, не пробиться. А я не сам по себе, а с малютками… Фронтовые, породистые…
Пока Алексей мылся, Настасья большим утюгом гладила его вещи, чистила, выбивала на лестнице. Она то радовалась, то плакала приятными, не горькими слезами.
— А хорошо, что мужик в доме будет, — разрешила все свои запутанные мысли Пелагея Макаровна. — Неспокойно теперь, стреляют по ночам. Квартиры, говорят, чистят.
— Ну, мы им почистим, — лихо сказал Алексей. — Шпалер со мною и патронов десяточков пять.
— Да как узнают — военный, никто и не полезет, — согласилась Настя.
— Теперь военный на военного с ружьищем прет, — буркнула Пелагея.
— А брат где? — спросил Алексей за чаем.
— Брат в Совете день и ночь и дома не бывает.
— А хозяева твои как смылись?
— Приехал Владимир Всеволодович с фронту, наддал такого жару. Всех генералов, говорит, убивают матросы чем попало, где ни встренут. Ночью поздней погрузили их офицеры в автомобиль с добром, какое успели, и увезли. А куда — неизвестно. Как будто морем на Финляндию или еще куда.
— Ну, на границе перехватят. Комиссар, что меня арестовал, тоже вез каких-то с лампасами с границы.
— Тебя арестовал, Алешенька? А свобода?
— Мне ехать было надо. Я хоть на крышу. А латыши зацапали меня — и в вагон. Каждый в своих правах. А только жаль, сумку впопыхах посеял. Вез сало из Полоцка и масла кружок. Вот бы мы чайку выпили.
— Эх, что ж ты, чумной! — раздосадовалась Пелагея. — Тряпки захватил, а масло потерял. Тряпок бы тебе генеральских набрали. И сало, говоришь? И толстое?
— Пальца три и поболе. Важна барыня была, — засмеялся и Алексей и вдруг, взяв табурет, отправился в угол к иконе. Икона была черна, как сковорода, и сквозь рваную ризу проглядывали только глаза и пальцы рук. Около нее были наклеены на стену две-три бумажные иконки. Алексей смахнул все сразу.
— В общественных местах нельзя, — сказал он, спускаясь с табурета. — Ежели угодно — по личным комнатам.
— С ума сошел! — едва дышала Пелагея. — На бога! Сатана, чистый сатана! Подай сюда тую… что Пантелеймон-целитель. Против зубов. Сама я в Лаврии купила. Подай сюда!
Пантелеймона от зубов Алексей отдал, остальные снес в кладовушку.
— Мы наш дивизион обработали — самый безбожный из всех. Человек от обезьяны, и никаких. И кроме того — все наука…
— Ты, братец, образованный стал, — заметила Настя.
— За этот год образования всем прибавили. Надо здесь к книгам подобраться, если время будет. — И, движимый первым чувством, он отправился в кабинет к тяжелым книжным шкафам во всю стену.
Книг было много, хорошо хранимых, в крепких и ладно пригнанных переплетах. Они стояли рядами, как армия убежденных бойцов, готовая к отпору и наступлению. Выставив кожаные корешки с золотым тиснением, они больше всего привлекали Алексея в этом наполненном предметами кабинете, желанные соседи, одним своим присутствием заявляющие, что жизнь его круто изменилась. Кончились тропы, начиналась проложенная революцией широкая прохожая, проезжая дорога…
Глава IX ПРАВДА
Братья Ветровы появились на свет через полтора часа один после другого.
Общая детская, общая колыбель. Те же часы кормления. Корзинка на колесах, в которой они лежали «валетом» под общим одеяльцем или, спутав ножки, сидели в разных концах хрупкого экипажа. С этого сиденья Игорь видел половину мира и прежде всего Олега, а Олег другую половину мира и прежде всего Игоря.
Няньки путали соски. Отец покупал общие свистелки, погремушки и резиновые фигурки, которые не тонули в ванночке. Все вместе путали штанишки, распашонки, несмотря на то, что у Олега были синие, а у Игоря красные метки.
Впрочем, самих близнецов не путали. У Олега с первых дней младенчества особой отметиной судьбы среди чернейшей шевелюры спускался к виску клок белокурых, невероятно тонких волос.
Ветровы понимали друг друга с полуслова. Их игры были действенны, но молчаливы. Диалоги — лаконичны и спокойны.
Если Олег решал идти в гости к Демьяновым, это значило, что туда идет и Игорь. И если Игорь собирался купаться на Голодае, можно было с уверенностью сказать, что сейчас войдет Олег и, едва взглянув на брата, возьмет в шкафу с аккуратной горки такое же махровое полотенце и братья скатятся по лестнице дружным галопом.
В школе они сидели на одной скамье. Учились ровно и успешно. В стычках с товарищами всегда поддерживали друг друга.
Однажды законоучитель отец Назарий, сладостно зевнув, прежде чем выслушать ответ о проскомидии, так для чего-то, скорее всего от лени, спросил Олега:
— А как думаешь, отрок, есть ли бог на небеси? И вдруг услышал спокойный ответ:
— Не знаю, но сомневаюсь…
Отец Назарий сразу пожалел о заданном вопросе. Был уже пятый час занятий. Предстояло идти домой и лечь отдохнуть… И потом, как быть с дерзким?
— Что ты сказал? — выпучил он глаза на Ветрова. — И ты можешь повторить?
Это было еще неразумнее.
— Могу, — отвечал Олег.
— Молчи, лучше молчи! — вскричал священник. — Не оскверняй стены сии. А ты, — обратился он к Игорю, — ты что скажешь? Ты старший… кажется…
Кто-то фыркнул: Игорь действительно был старше на целых полтора часа.
— Я думаю точно так же… — смотря в глаза законоучителю, не замедлил ответить Игорь.
— Садитесь оба, — решил закончить этот крайне неудачный разговор отец Назарий. — Придется беседовать с директором и вызвать родителей ваших, чтобы выяснить, насколько уместно ваше пребывание в стенах гимназии…
Директор, ожидавший орденскую ленту, расчел, что выгоднее затушить скандал в зачатке. Дети не отвергали бытия божия, а только сомневались в нем. Сердца их не очерствели в неверии, но пребывают без должного пастырского внимания. Можно было повернуть на совете в их пользу и то, что оба оказались правдивыми.
Начальство воздвигло в журнале обоим братьям единицы по закону божьему, говорило с родителями, и отцу Назарию вменено было в обязанность вести с близнецами особые еженедельные беседы.
Скандал угас, а за близнецами упрочилась репутация необычайной правдивости.
Эта репутация возникла еще раньше в семейном кругу, когда за разбитую хрустальную вазу был наказан кухонный пронырливый кот Пашка, а девятилетний Олег, пронаблюдав всю экзекуцию до конца, заявил:
— И вовсе это сделал не Пашка, а я.
Отец сказал:
— Дети пошли в меня. — Он гордился тем, что в молодости гордо отказался от протекции начальника, которого не уважал.
Репутация правдивости пришлась по вкусу близнецам, и они умножали примеры и доказательства ее при всяком случае.
Пятнадцати лет, забежав на верхнюю площадку парадной лестницы, они раскурили пополам первую папиросу. Получив аттестат, в один и тот же день надели штатское платье и подали прошение на кораблестроительное отделение Политехнического института.
Превратившись в невысоких, но стройных и приятных юношей, Ветровы сохранили в характере деловитую молчаливость и необыкновенную самостоятельность.
Отец и мать Ветровы, ничем не выдающаяся чиновничья зажиточная пара, привыкли к ровному поведению сыновей, которое от времени до времени нарушалось неожиданными, но уверенными поворотами. Не видя в таких чертах характера ничего дурного и радуясь их самостоятельности, они спокойно относились к детям.
Революцию мать встретила усиленными молитвами, старик — брюзжанием и сетованием на то, что столь долго и настойчиво выслуживаемая пенсия превращается в химеру. Слова «пролетариат», «Советы», а позже «большевики» статский советник Ветров произносил, опуская углы мягкого рта и сделав презрительные глаза. Мать эти слова произносила как жупел. Она шевелила при этом правой рукой на груди, будто собираясь произвести крестное знамение. Дети как будто не произносили этих слов никогда.
Третьего апреля семнадцатого года Олег и Игорь были в толпе с матросами, солдатами и рабочими, встречавшими Ильича. Взобравшись на броневик, окруженный взволнованной толпой, Ленин стоял в легком пальто, с кепкой в руке. Он ждал, когда ему дадут говорить.
Братья с трудом пробились к броневику. Ленин заговорил, и они слушали его, взявшись за руки, словно для того, чтобы не потерять друг друга в толпе, переглядывались, чтобы убедиться, что слова оратора доходят и понятны обоим. Крепко сжатые пальцы говорили обоим о нарастающем волнении, о неожиданности и силе слов, летящих в толпу с высоты броневика.
Они несли слушающим сильную, смелую правду, от которой, раз услышав, нельзя отмахнуться. Правду неожиданную и вместе с тем всем знакомую, понятную, всем близкую, как солнце, которое таилось за тучей и вдруг вырвалось в свободную лазурь. Ветровы уходили, так и не разомкнув рук, взволнованные, молчаливые и, кажется, впервые легли в постель, не вооружившись ни книгой, ни газетой.
Через неделю за обедом, после сладкого, они заявили родителям, что оба вступают в партию большевиков.
Отец снял очки и протер платком глаза. Мать решила, что дети шутят, и деланно и долго смеялась.
Близнецы поблагодарили за обед и ушли к себе.
В столовой воцарилась тишина, какая может быть в комнате, где находятся два старца. Отец, выкурив папиросу, отправился на боковую. Мать хлопотала по хозяйству на кухне, рылась в рабочей корзинке и весь день задумывалась. Она останавливалась у окон на улицу, вздыхала, когда проезжал грузовик. В комнате сыновей было тихо, как в монастырской келье. В щель двери можно было увидеть, что оба, сняв ботинки, лежат на кроватях с книгами в руках. Олег читал «Курс русской истории» Ключевского, Игорь листал «Ниву» за 1896 год.
Вечером, когда близнецы ушли, мать сказала:
— Это все Степан. Он на заводе… И такой нахальный…
Отец посмотрел на нее долгим взглядом, под которым она постепенно увядала, и, как всегда про себя, сказал (не подумал, а сказал) что-то нелестное.
Она почувствовала и, как всегда, с благодарностью решила: «Какой он все-таки деликатный». Но по существу вопроса не согласилась. Ясно, что это — Степан.
Образ жизни близнецов резко изменился. Они уходили в восемь утра, редко бывали к обеду и возвращались глубокой ночью. Если они оставались дома, комната их наполнялась шумной молодежью. Отец рассматривал в передней рабочие кепки, смятые студенческие и солдатские фуражки. Мать удивлялась простоте, с какой заходили к юношам молодые девушки. Они не носили галош и шляп, следили в гостиной и запросто забегали в ванную помыть руки. Гости уносили и приносили книги, брошюры, газеты. Они без конца звонили по телефону. Казалось, все учреждения населены их знакомыми. Близнецы почти забросили институт. Они слушали какие-то лекции и какие-то читали сами. В их отсутствие звонили незнакомые требовательные голоса. Спрашивали «товарищей Ветровых». В июле ворвались юнкера. Осмотрели квартиру, удивились, ушли. В октябре близнецы исчезли вовсе на целую неделю. Первую весть о них, о том, что они живы и здоровы, но спят и питаются в Смольном, принес родителям все тот же Степан.
Степан, приятель молодых Ветровых, вихрастый, вытянувшийся за последние годы, как молодой дубок, — рабочий парень с верфи. Он всегда смотрит в глаза немигающим светлым взором, не здоровается первым, не уступает дорогу и, следовательно, по мнению господ, нахал и грубиян.
Характер у Степана неуемный. И жизнь его не успокаивала. С детства брал он с бою все, что нужно в жизни, отвоевывал у отца, позже у матери — вдовы, сбившейся с ног женщины, у дворников, у дворовых ребят, у соседей, даже место для сна — у парной, тряпичной тесноты дворницкой конуры.
Два марша ковровой лестницы отделяли дворницкую от второго парадного хода господ Бугоровских. Степан бывал у них и на кухне и в апартаментах. Тихо в больших комнатах. Сколько ни гляди — ни одной кровати. Здесь не жить, а только прохаживаться. Только птице сидеть на этих креслицах с гнутыми ножками. Повернись — что-нибудь заденешь, разобьешь. В господском кабинете можно заблудиться между диванами и столиками.
По лестницам ходили барышни и господа. Рыжий Петрусь, сын старшего дворника, смотрел на них, как на икону в церкви, и со всех ног бежал открывать дверь. Степан соколиным взором подмечал в них смешное, чтобы ославить среди детворы и прислуги.
Генеральша из шестого номера поправляла подвязку за дверью парадной. Степан заметил, что у нее кривые ноги. Вера Карловна недоумевала, порвалось ли на ней что-нибудь или опустилось и не вернуться ли ей домой, — так пялил на нее глаза весь двор.
Степан был не злой, но у него была гордость не по достаткам. У него была гордость, но не было легких санок, на которых хорошо слетать со снежной горы на заднем дворе, не было сапог с пластинками для коньков, не было ранца с книгами, не было ясных галош и перочинного ножа.
Двенадцатилетним парнишкой он подошел к Игорю и, чтобы не звучало грубо, сказал:
— Дай-кось я тоже промну бока.
Грязной рукой схватил он ветровские сани за полоз.
Но Игорь не отпустил веревку.
— Ты попроси как следует, — поднялся из-за снежной горы Олег.
Близнецы встали рядом, выжидательно смотрели, четырьмя руками держась за веревку.
Степан вскинул сани кверху и врыл их в снег так, что один полоз погнулся.
— Нет, ты попроси, — настаивали близнецы. — Мы тогда дадим…
— Очень нужно. Задавись ими… — Степан еще раз пнул ногой сани и пошел со двора.
Близнецы догнали Степана, преградили ему путь и предложили настойчиво:
— Ты попроси и катайся.
— Ты попроси — и мы тебе сани совсем подарим…
Степан стал, сжав кулачонки в карманах. Потом щелчком сплюнул и послал их в самое далекое место, какое знал.
Но близнецы не дрогнули.
— Если тебе так трудно попросить, — пожалуйста, бери без просьбы, — сказал наконец Олег. — Сани твои.
И близнецы оба направились в дом.
— Жаловаться, — решил Степан. — Ах, так!
Он до позднего вечера летал с горы, не жалея саней. Уже во всех окнах ядовитыми цветками вспыхнули яркие абажуры, но никто не приходил отбирать сани. Тогда Степан аккуратно выпрямил полоз, отряхнул снег, поправил коричневый бархат и снес сани на кухню к Ветровым.
На другой день он застал сани дома. Мать сообщила: приходили гимназисты Ветровы и сказали, что дарят сани Степану.
Теперь Степан скалил белые зубы навстречу братьям, держал их сторону в стычках и даже пообещал взять их летом на Голодай ловить рыбу. По секрету он рассказал братьям, что товарищи отца доверили ему большое дело — разносить запрещенную газету. Рассказал, как прятал ее от городового в водосточной трубе. Обещал принести и им один номер. Но Ветровы уехали весной на дачу и вернулись только к началу учебного года.
Когда вспыхнула война, Ветровы осведомляли Степана о боях на Западе, у Дарданелл и у Багдада. Ветровы первые объяснили Степану, почему побеждают немцы.
Степан, который твердо знал, что русский мужик богатырь, а «немец-перец-колбаса» щуплый и тонконогий, как Ульрих Гейзен из четвертого номера, или толст и неуклюж, как Карл Краузе из пивной, что на углу, не поверил Ветровым.
Тогда, задетые недоверием, Ветровы привели его в свою комнату, где во всю стену висел разрез океанского корабля, и рассказали ему всю правду.
— А вы пойдете на войну офицерами? — спросил вдруг Степан.
— Мы не пойдем ни офицерами, ни солдатами, — ответил Олег.
— А если возьмут?
— Тогда мы пойдем солдатами и будем всем товарищам объяснять все, как объясняли тебе.
Степан смотрел на них так, как если бы у каждого из них на лбу вырос рог.
Когда Степан попал на завод и услышал о войне подобные же речи, он стал чаще ходить к Ветровым и спрашивал их обо всем без конца.
Отвечать Степану стало для Ветровых важным делом. Они решили было заниматься с ним регулярно, но Февраль выкинул на улицы и на заводы тысячи ораторов. Революция кричала в уши молодому рабочему Степану. Она была ему по характеру. Спрашивать теперь было у кого. Он опять встречал Ветровых только на ходу. Кепка у него спрыгнула совсем на затылок. Прядь волос била по носу, правое плечо поднялось и выдалось вперед, как у человека, который идет против ветра, и на боку в черной кобуре повис полученный на верфи в красногвардейском отряде револьвер.
Глава X ЛЮБОВЬ ПОРУЧИКА ВОРОБЬЕВА
Анастасия Григорьевна Демьянова вошла в комнату стремительно и остановилась только у рояля. Музыка оборвалась на высокой, фальшиво прозвучавшей ноте, и Маргарита, не снимая пальцев с клавиатуры, вопросительно посмотрела на мать.
— Рано начинаешь… я полагаю… — Поправляя юбку, Анастасия Григорьевна устремилась обратно в свой будуар. — Сними сейчас же. — Это уже из-за двери. — Надень глухое платье.
Губы Маргариты выступили вперед, и из-под пальцев вырвалась капризная, бойкая трель. Она осмотрела свои круглые плечики, полуприкрытые газом. Это голубое платье с низким вырезом сделала ей мать. Почему же нельзя его носить? Сама Анастасия Григорьевна говорит, что женщине столько лет, на сколько она выглядит. Почему же это неприменимо к ней, к Маргарите? Пышные плечи и полные руки в пятнадцать лет бывают не у каждой, и не каждая сознает себя на шестнадцатом году хорошенькой женщиной.
Маргарита лениво плыла на носках по гостиной, оглядывалась во все многочисленные зеркала.
— Ты еще девчонка и уже любишь, чтобы на тебя пялили глаза, — продолжала Анастасия Григорьевна. — Не понимаю удовольствия… Не беспокойся — твое придет и никуда не денется. Если бы папа был жив, он пришел бы в ужас. Дочь профессора Демьянова!..
«Как это пялят глаза?» — размышляла Маргарита. Она повела плечом и выставила ножку в синенькой туфле.
…У Леонида Викторовича глаза загораются, а у Синькова темнеют. У Степы Коломийцева глаза всегда тусклые, а когда он жмет ее руку, становятся влажными и до противности мутными.
— Кто приходит сегодня? — по-мужски, глуховато звучал голос матери из будуара. Она расчесывает свои черные косы перед трюмо, и у нее во рту шпильки.
— Леонид Викторович, Синьков, может быть, придут Ветровы…
— Пожалуйста, в двенадцать изволь прощаться и — спать, а Петру скажи, если сядут играть, чтобы больше двухсот не проигрывал. Не везет — пусть бросит. Я буду к трем-четырем. Оставьте мне чай и бутерброды…
Между четырьмя окнами гостиной струятся черные стекла узких зеркал, с краями в застывших радугах. От ковров, от ворсистых бордовых скатертей, от глубоких теней абажура комната кажется мохнатой.
Поручик Воробьев шагает размашисто и твердо. Шаги и шпоры глушит ковер. На хрустальной полке вздрагивают два самурая с мечами. У поручика рост выше шести футов и фигура кузнеца.
— Я вам звонила и вчера и позавчера, а вас не было. Ваша Куделя сказала, что вы уехали.
Поручик остановился перед девушкой, звонко сложив каблуки.
Она была ему ниже плеча.
Воробьев крепко взял ее за подбородок.
Девушка сердито ударила его по руке.
— Напрактиковались с горничными? По-солдатски…
Поручик вдруг ушел в себя. Отошел. Зашагал еще резче. Ему хотелось, чтобы под сапогами вместо ковра звенели камни мостовой. Эта девчонка попала в цель. Ах, как бы он зашагал именно по-солдатски, по хорошей дороге, впереди рядов, забыв об этом разлагающемся городе, о гибели армии и страны.
Маргарита заметила отчуждение поручика и, приближаясь к нему, говорила, кокетничая:
— Я надела для вас декольте. А мама велела снять. Не скажете — надену опять. — И она выпрыгнула за дверь.
Поручик раскрыл серебряный портсигар и вынул из-под папирос крохотные клочки бумаги. Он разорвал это письмо, забыв переписать адрес. Проклятая улица вылетела из головы. Фамилия — братья Карелины. Но улица? Номер дома есть. Надо вспомнить во что бы то ни стало… Закрепить связь, взять деньги… Он оглянулся — сам заметил: новая привычка — и расправил клочки на крышке портсигара. Сосредоточенно смотрел. Клочки никак не складывались. Он переставлял под столом длинные ноги, тер переносицу. Так скучающие холостяки разгадывают ребусы и кроссворды на последних страницах журналов.
Маргарита неслышно подобралась по ковру и свеженапудренными руками обвила шею поручика.
Поручик расправился во весь рост. Огромный кулак зажал портсигар и бумажки. Девушка от толчка упала на тахту. Воробьев стоял прямой как столб. Напряженные плечи поднялись. Он дышал как после долгого бега.
— Медведь! — крикнула Маргарита. — Петля спустилась… Все порвал… — Она, не поднимаясь, перебирала в пальцах золотистую сетку.
— А вы не шутите… так…
— Как это так? — передразнила девушка.
Поручик спрятал портсигар в карман, шагнул к тахте и легко сорвал девушку кверху.
— Оставь, — пропищала маленькая женщина. — Оставьте!
В передней позвонили.
— Я ведь все понимаю, — уже мягко сказала девушка. — У вас секреты…
— Ничего вы не понимаете, — серьезно сказал поручик. — Нечего понимать.
— Петька пришел, а то бы я сказала…
— Потеха с вами, — засмеялся офицер и призывающе протянул руки вперед.
Но девушка состроила нос и ускользнула к роялю.
— А, вы здесь уже? Это хорошо. Сейчас весь синедрион пожалует, — громко сказал Петр. Он был высокий, худой, со слишком смелыми кудрями и женскими губами колечком. Он вытирал руки полотенцем на пороге.
— Я рано уйду… — сказал Воробьев. — У меня не выходит.
— Пока не совершим кровопускания — не пустим, — уверенно сказал Петр, исчезая в коридоре. — Без вас какая же игра?..
Звонок следовал за звонком.
Близнецы Ветровы сели на кушетке и вооружились семейными альбомами. Студент Степан Коломийцев взгромоздился на подоконник. Он разбирал давно знакомые ноты. От предчувствия карт, азарта у него ёкало сердце. Оно стучало тем сильнее, чем меньше у него было денег.
Закинув ногу на ногу, Воробьев одиноко сидел в углу и курил. Молодежь, бывавшая у Демьяновых, любила этого большого человека, по первой просьбе и с добродушной улыбкой гнувшего между пальцами медные пятаки. Деньги он раздавал с легкостью, которая порождала мысль если не о богатстве, то о постоянных источниках дохода. Проигрывал он помногу и быстро. Выигрывая, половину раздавал в долг.
С семьей Демьяновых он был связан еще с тех пор, как племянник профессора, товарищ по институту, привел его на один из четвергов. Воробьев смущался своей недостаточно франтовской тужуркой, жался по углам, но был принят хозяевами приятно и доброжелательно.
Разумеется, в те дни не могло быть и речи о той интимности, какая зародилась и укрепилась после смерти профессора и в особенности в дни революции.
Временами, как, например, сейчас, когда Петр расставлял ломберный столик и укладывал на нем столбиками золотистые фишки, Воробьеву становится жаль, остро жаль того немного чопорного, но приятного, барственного уклада жизни, который господствовал в этой самой квартире. Сам профессор в молодости сочувствовал народникам и даже пробыл три года в ссылке где-то около Вологды, но выдвинувшись и на научном и на служебном поприще, стал лейб-медиком и политикой больше не интересовался. Убеждения его как-то сами собой слиняли, утряслись, отяжелели и опростились. Близость ко двору и аристократическим особнякам создавала далеко не демократические привычки. Знакомые не без основания считали, что, несмотря на близость с некоторыми кадетскими лидерами, профессор Демьянов далек от всяких мыслей, несовместимых с его придворным званием.
В большом кабинете Демьянова на видном месте красовался стол, крытый зеленой скатертью, на котором в массивных рамках стояли портреты великих князей с крупными росчерками через все паспарту. В знак того, что прошлое не забыто, в другом углу были собраны тусклые любительские снимки, на которых студент и административно-ссыльный Демьянов, кудрявый и задумчивый, был представлен в кругу демократических друзей и родственников.
Теперь «высочайшие» портреты были вовсе изъяты из обращения, а народники заняли почетное место в гостиной. Воробьев всегда проходил мимо этого иконостасика с улыбкой презрения и досады. В его трезвой голове не так-то легко было сместить крепкие представления о ценности вещей. Он знал цену и рублю и его влиянию. Отец его, почти на глазах сына, выбился из положения крестьянина-середняка в зажиточного хозяина. Когда Леонид подрос, оказалось возможным отправить его в город, в гимназию. Сын деревенского богатея оказался захудалым среди детей городской интеллигенции. Смеялись над его черными ногтями и неуклюже скроенным костюмом, над деревенским говором и нелюбовью к воротничкам и носовому платку. Но способностями и усидчивостью Леонид покорил педагогов, а необычайной силой и бесстрашием — товарищей по классу, которые не только примирились с ним, но и стали заискивать, добиваясь его дружбы.
Уже в пятом классе на вопрос, кем он будет, Леонид не колеблясь отвечал: инженером. Просто и естественно зародилось в нем и окрепло то снисходительное отношение ко всякому абстрактному академическому знанию, какое еще культивировалось в предвоенные годы. Инженер — это мосты, электричество, могущественные машины, залитые огнями фабрики, власть организованного, завоевывающего жизнь, творящего чудеса капитала. Инженер — это тугие крахмальные воротнички, добротное сукно на брюках, последний фасон ботинок, ослепительные галстуки, аткинсоновские духи, арцыбашевские романы и упоительная атмосфера дамской многообещающей внимательности. В губернских городах инженеры занимали лучшие особняки и квартиры, первые ряды кресел в театре и последние в синематографах. Деловито проносились они по городу на рысаках и в автомобилях днем, медленно двигались в центре благоухающих, чуть презрительных кружков городской молодежи по вечерам, когда наполняются кафе и скверы.
Отец Воробьева тем временем не сидел сложа руки. Он добился участия в подряде на земельные работы по постройке железной дороги, которая, не стесняясь, разрезала их деревню пополам. Когда Леонид попал в Технологический, он уже был в числе богатых студентов. Он еще не видел иных путей к успеху, кроме диплома и денег, но у Демьяновых попутно свел полезные знакомства. Пришла война, военное училище и офицерские погоны, и когда, раненный в ногу, он прибыл с фронта в столицу, Демьяновы устроили ему назначение по военным заказам в Англию и Америку. Широкий мир столиц, бирж, рельсовых путей, океанских рейсов открылся перед ним. Большой жизненный успех казался обеспеченным. С окончанием войны можно было рассчитывать на прекрасное положение, солидную партию и крепкие связи.
Жизнь была начата уверенно и крепко. Революция показалась помехой, до того досадной, что не хотелось разбираться в ее сущности и особенностях. Следовало поскорее сбросить ее с пути и продолжать работу и рост еще более быстрыми темпами.
Когда демьяновская семья взяла на себя опеку над способным технологом, это выглядело совершенно бескорыстно и весело. Еще дед самого Демьянова пахал землю, и профессор любил говорить о колоссальных силах, таящихся в способном и упорном русском народе. Воробьев платил Демьяновым глубокой и искренней привязанностью. Сам он держался чуть-чуть на отдалении, и это принималось как особенно ценимый в таких отношениях такт.
Страсть к Маргарите вспыхнула совсем недавно. Она не была похожа на то ровное чувство, которое, как рисовалось Воробьеву, должно связать его навсегда с избранной подругой жизни. Маргарита иногда раздражала его вульгарным соединением языка и манер господ с недопустимым прежде своеволием, отдававшим людской. Если бы не ее пятнадцать лет, можно было бы сказать, что Маргарита сама сознательно подогревала и поддерживала эту страсть. Воробьев не мог противостоять искушению, но в глубине души ему было жаль, что так случилось. Это шло вразрез со всем его почтением к семье профессора. Но все шарниры разболтались. Даже у Анастасии Григорьевны завелись странные знакомства, и в гостиной, где прежде собиралось изысканное общество, мальчишки, товарищи Петра, играют теперь в шмен-де-фер.
Воробьев вынул записную книжку, вырвал лист и карандашом написал записку:
«Вы не дали мне сказать, что из Гельсингфорса я привез Лориган, пудру Коти и чулочки. Завтра передам маме».
Выйдя в коридор, он заложил записку за медный кружок стенного бра.
Глава XI ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ КОВРИК
Большая рука Воробьева свисает с кровати. Несмотря на мускулы атлета и черную щетину, подползающую к локтю, в ней есть что-то детское.
Капитан Синьков, проснувшись, рассматривает через комнату руку товарища. Он достает из-под подушки портсигар и курит.
К голому окну прильнуло серое низкое небо.
— Тоска, — громко говорит Синьков и швыряет окурок кверху. Не долетев до потолка, окурок возвращается прямо в лицо Синькову. Отдернув голову, Синьков ударяется об угол походной кровати.
— Черт, с утра не везет. — Он растирает ушибленное место ладонью и снова смотрит на товарища.
— Ну и спит — прямо бизон.
Синьков вырывает у себя из-под головы подушку и, закружив ее в воздухе, пускает в Воробьева. Встрепанное лицо Леонида Викторовича поднимается над постелью. Глаза не на шутку испуганы.
— Аркадий! Дьявол!
Подушка летит обратно.
Спустив ноги с кровати, Синьков шлет в Воробьева вторую подушку, туфли, простыню, подтяжки, сапог. Вещи, кувыркаясь, летают по комнате.
Наконец оба вскакивают и, встретившись на физкультурном коврике, свиваются в борьбе. Оба гиганты, широкоплечие и молодые. Отборные экземпляры того поколения сытых и уверенных в завтрашнем дне юношей, которые в большинстве успокоились на польских и галицийских солдатских кладбищах.
Воробьев сильнее. Это битюг. Ноги толсты даже у щиколоток. Тело — круглым бревном. Он был бы уродлив, если бы не рост. Канаты мускулов подползают к затылку, на плечах бугры. Икры на ногах — скульптурной нашлепкой. Но Синьков ловчее, гибче и сообразительнее. Они вьются, большие, красные с ног до головы от напряжения. Ноги в спортивках взлетают кверху. Трещат кости, когда один размахом шестипудового тела ломает мост другого. На слова не хватает дыхания. Много вздохов, почти машинного пыхтения. Наконец выдержка и ловкость пасуют перед силой, и Синьков кричит:
— Алло! Довольно.
Разнимаются руки, и оба, вспотевшие и усталые, заглянув предварительно в коридор, в гимнастических трусах идут мыться.
Горничная Алина, прозванная за жесткие белые волосы Куделя, несет на подносе желудевый кофе и хлеб, едва смазанный маслом.
Воробьев и Синьков живут в четвертом этаже дома Бугоровских. Здесь еще недавно была такая же барская квартира, но удары судьбы один за другим обрушились на хозяйку, Терезу Викторовну Зегельман, и из жены известного инженера — строителя мостов и железных дорог — превратили ее в скромную хозяйку меблированной квартиры. Старший сын Терезы Викторовны, летчик, сгорел в воздухе над аэродромом, младший пропал без вести на фронте. Инженер потерял здоровье на постройке Мурманской железной дороги и тихо угас в большом кресле с рыжей обивкой. Говорят, Тереза Викторовна была в молодости не только жизнерадостна, но и кокетлива. Этому поверить трудно, несмотря даже на свидетельство портрета, на котором молодая женщина, с чертами, напоминающими Терезу Викторовну, прячет шаловливое лицо в букет гвоздик. Теперь Тереза Викторовна молчалива, безрадостна и суха, как цветок, пролежавший человеческую жизнь в семейном молитвеннике. Она несет свое горе мимо людей, не разбрасывая его жалобами. От нее пахнет цветочной пылью. Она носит коричневую кружевную шаль, волосы седым пучком на затылке и в пальцах вертит черный снурок от лорнета, которым она не пользуется больше, так как к старости близорукость ее стала уменьшаться.
Жить у Терезы Викторовны — своего рода честь, и ей рекомендуют только положительных жильцов. В квартире торжественно тихо, горничная Алина, как в хорошем доме, в мягких туфлях и белом переднике. Телефон в будке. Ключи от входных дверей у каждого квартиранта. Как в немецких пансионах, Тереза Викторовна включает в обслуживание утренний кофе и булочку. Впрочем, булочек давно уже нет. Подается хлеб, смазанный маслом.
Тереза Викторовна уважает своих жильцов. Жильцы уважают Терезу Викторовну. Приват-доцент Острецов, из первой от входа комнаты, в дни ее рождения приносит букет и конфеты. Инженер Бер — он из угловой — сам чинит электричество в квартире и снабжает хозяйку мукой и маслом, без чего утренние завтраки уже давно отошли бы в прошлое, как и многие иные похвальные привычки этой квартиры. Воробьев и Синьков иногда врываются в ее тихую, уставленную и увешанную семейными портретами комнату, шумно выбрасывают на стол кульки, свертки, баночки. Тереза Викторовна смотрит на молодых людей с трогательной улыбкой и вечером приглашает их пить чай. Чай подается в подстаканниках, и у каждого свернутая уголком, отглаженная кремовая салфеточка.
Тереза Викторовна не задумывается о происхождении всех этих кульков и свертков, этого изобилия, налетающего шквалом как раз в самое трудное время, когда «все безумно дорого и нигде ничего нет». Они такие сильные и жизнерадостные, эти молодые офицеры. Они куда-то часто уезжают с желтыми кожаными чемоданчиками в руках. Вернувшись, они спят круглые сутки. Теперь такая трудная дорога, никто не считается с первым, вторым классом и спальными местами…
Поручик Леонид Викторович Воробьев живет у Терезы Викторовны, с перерывами на заграничные поездки, уже два года, с того самого дня, как, выписавшись из лазарета, после ранения в ногу, он получил работу на военном заводе.
Синьков, его товарищ по гимназии, присоединился к нему уже в семнадцатом году, покончив расчеты с демобилизующейся армией и войной.
Фронт он покинул раньше других офицеров, еще в октябре, когда выяснилось, что командный состав будет избираться солдатами, а неизбранные офицеры перейдут на положение рядовых.
На избрание можно было рассчитывать вполне. Он все еще был популярен среди значительной части батарейцев. Он никогда не дрался, не воровал казенных сумм. По-своему он любил своих подчиненных. Но одна мысль, что его судьба хотя бы на секунду окажется в руках солдатской массы, приводила его в бешенство. Нет! Нужно было бежать, бежать без оглядки, куда угодно, хоть к черту в глотку… Но лучше всего было бежать в огромный Петроград, где все-таки много своих, где рядом с заводами и казармами есть и улицы высоких, светлых домов, в которых живут «настоящие» люди. Люди, которые думают так же, как он.
Но Петроград разочаровал сразу. Вокзал, взятый штурмом солдатами. Они толкаются, дышат махоркой в лицо. Мешками, сундуками они задевают зазевавшихся. Они знают, что места в поезде можно взять только с бою, и, еще только вступив на подъезд вокзала, готовы к сражениям руганью, кулаками, прикладом, а то и ручной гранатой. Невский грязен. Битые стекла и разгромленные, пропыленные витрины. А в светлых домах растерявшиеся, несчастненькие люди. Женщины больше не жалуются на мигрень, на зубы, на нервы. Не до зубов и не до мигрени… Они говорят о муке, картофеле и чулках. Мужчины брюзжат, ругаются, предварительно закрыв двери, и втихомолку гримируются под улицу. А улица в руках солдат, матросов и рабочих. Где-то в Смольном — власть. Этот когда-то любимый город бесил и приводил в отчаяние. Возобновились нервические припадки — результат контузии, во время которых можно было громить стену лбом, ломать до хруста собственные руки, сжимать зубы с такой силой, что темнело в глазах.
Синьков поселился в меблирашках на Петроградской. Он ходил из дома в дом, из квартиры в квартиру, ища созвучных настроений. У казачьего есаула атаманца Никитина пили беспросветно и грязно. Вестовые сбежали с проходившим на Дон полком. К скатертям прилипли окурки. В лужице от варенья лежала костяная пуговица от кальсон. Синьков сел с размаху в кресло и раздавил венецианский бокал.
У полковницы Стремоуховой его приветствовал рой молодящихся дам. Дамы все курили, красили ногти в цвет губ и, помахивая подведенными ресницами, рассказывали анекдоты. Наступал вечер. Появились молодые люди с галстуками бабочкой и короткими, выше щиколоток, брюками. В столовой разливали плохое вино в дорогой хрусталь. Синькова охватила пряная атмосфера плохо скрываемой, подогретой вином похоти. Высокого, крепкого офицера облюбовала брюнетка с белыми лошадиными зубами и нежными ладонями рук. Он проснулся в незнакомом доме на набережной, с горьким ощущением во рту, с досадой на свою слабость. Кокаин отогнал кровь от лица яркой еще вечером женщины, и в бледном утре она лежала как труп. Синьков оделся и вышел на набережную. Утренним трамваем поехал на Петроградскую. Дама позвонила на другой день, но Синьков вспомнил горькие губы, пустые глаза и повесил трубку.
У Заварниных все сидели в страхе. Боялись за сейфы, за вклады в банках, за стопки золотых, спрятанных в выдолбленной ножке письменного стола, за драгоценности, за серебро, за меха, за недвижимость в Твери и Нижнем. За все, что когда-то составляло цель жизни и теперь вдруг стало обузой. Но никто не хотел расстаться с надеждой, что все обернется по-прежнему и обуза опять обратится в ценности, которые поставят владельцев в первый ранг общества.
У Никольских все в трауре. Юрик, штаб-ротмистр, убит в стычке с румынами. Наташа неудачно сошлась с гвардейцем Кексгольмского полка и покончила с собой. Ей было всего восемнадцать лет. Мать, постаревшая, седая, ходила в тоске и трауре. Отсидев пятнадцать минут, Синьков распрощался. Его не задерживали.
Через площадку жили два брата — кавалеристы Куразины. Синьков был расстроен и рассыпался в жалобах.
— Брось скулить, — сказал Сергей. Ему было двадцать лет. Ловкая и гибкая, как у кавказца, фигура, пушистые бачки. — Ты же — человек. — Он постучал кулаком в грудь Синькова. — Грудь как у богатыря. А лапы! Можешь задушить медведя.
Младший, Андрей, слушал Синькова, не вставая с кресла.
— На фронте они распустились. Двести тысяч офицеров не могли удержать серую скотину. Дураки, холопы, — крикнул он, приподнявшись.
— Брось, Андрэ, — перебил Сергей. — Держись, старина, в седле.
— Возвращаю вам комплимент, — старался не рассердиться Синьков. — Условия, кажется, равные.
Андрей нехотя опустился в кресло.
Синьков снял пепельницу с камина и переставил на стол. Эти дополнительные действия создавали необходимую паузу.
— Я не предатель и не из трусов… — медленно начал он.
— Но один в поле не воин, — снова закричал Андрей. — Тысячу раз слышал. Заранее знаю. Мы все в поле и все — воины. — Он хлопнул себя по бедру, где должна была висеть сабля. — Так пусть же каждый рвет, кусает, как волк… не разбирая… кто попадется. Ведь мы все-таки волки, не собаки…
— Я не думаю, чтобы это я своим появлением вызвал такой взрыв, — сказал Синьков. — Может быть, я попал не вовремя?
Сергей вкрадчивой походкой двинулся к нему. Казалось, по ковру идет большой и легкий зверь.
— Это зависит от тебя.
— Ах так? Ну, говори.
Синьков опустился в кресло.
— Говорить? — спросил, ни к кому не обращаясь, Сергей.
— Говори, — нерешительно отозвался Андрей.
Правда, время было необычайное и хроника каждого дня могла дать оригинальный и напряженный сюжет, достойный Сю и Террайля, для десятков романов, — но то, что услышал Синьков, показалось ему пьяным вымыслом, бредом недоразвитого фантаста. Какая-то организация, орден, шайка… От черного автомобиля до ножа — все было приемлемо. План террора, иезуитского, летучего, неуловимого, террора единиц против масс, господ против победивших рабов, тактика отчаяния, требовавшая крови ради крови…
Синьков смотрел на лакированные сапожки будущего убийцы, и ему стало скучно, как взрослому, вступившему в игру увлекшихся подростков. Он внезапно зевнул и спросил, не знают ли они адреса его гимназического товарища, Воробьева.
Андрей Куразин не подал уходившему Синькову руки…
Воробьев был не менее зол, но трезв. Военный завод прекратил работы за отсутствием сырья. Поручик, связанный с агентурой иностранных фирм непрерывной цепочкой, протянувшейся от Лондона и Нью-Йорка до Стокгольма и Гельсингфорса, был сыт, обеспечен валютой, летал по делам завода в Або, Ганге и Хапаранду. Попутно привозил мелкую контрабанду. В счет будущих благ оказывал мелкие услуги лейтенантам и атташе союзных армий, еще не покинувшим разбросанные по Петрограду посольства. Встретив товарища, он предложил Синькову поселиться вместе.
Тереза Викторовна отдала друзьям бывший зал, самую большую комнату, разделенную легкой аркой. Офицеры спят в дальней половине, освобожденной от всякой мебели. Здесь с окон и стен снято все мягкое. Здесь — бивуак, только две походные койки и физкультурный коврик на полу для французской борьбы. Это — стиль Воробьева.
В другой половине — тахта, ковер, фотографии, стол, крытый тканой скатертью, колода карт, хрустальный кувшин, гитара на стене. Если бы не фронтовые снимки и прибитый к стене гвоздем офицерский золотой погон — она напоминала бы комнату одинокой курсистки. Это — стиль Синькова.
Справившись с хозяйским хлебом, Воробьев достает из-под кровати чемодан. Там колбаса, грудинка, шпик, завернутый в пергаментную бумагу. Леонид Викторович отделяет большой кусок грудинки. Синьков достает из шкафа круглый хлеб, и они оба уписывают по гвардейской порции с примерным аппетитом.
Довольно похлопав себя по бедрам, Синьков мечтательно говорит:
— Хлеб наш насущный даждь нам днесь.
— Хватит и на завтра, — трезво заявляет, посмотрев на чемодан, Воробьев.
— Поменьше бы возил духов, — бурчит Синьков.
— Не хлебом единым… — показывает веселые белые зубы Воробьев.
— Такой носорог — и пятнадцатилетний ребенок… Уголовное дело.
— Увы, — рассуждал Воробьев, застегивая тугой ворот кителя. — Умная девчонка, хожу, как кот вокруг молока. Романтик из меня плохой, но вот, представь, — зацепился. Ни разу в жизни не был влюблен, но в такие времена хочется чего-нибудь экстравагантного. Должна же и нам дать кое-что революция.
— Мне больше по вкусу маман… — играя зубочисткой, говорил Синьков. — Но мне не нравится, что и та и другая заметно входят в наш бюджет. А деньги, как и гельсингфорская грудинка, — на исходе.
— Я больше не пойду на черную биржу, — мрачно говорит Воробьев. — Мы с тобой слишком неповоротливы. Вообще все это противно, мерзко, грязно, и, я уверен, на черной бирже каждый третий — агент…
— Но как же быть тогда с перчатками Маргариты и чулками для Анастасии Григорьевны?
Когда Воробьев сердит, с ним опасны шутки, но он сдерживается.
— Уж лучше принять предложение этого дьявола… гельсингфорского полковника. Освобождать Финляндию, потом Эстонию от красных.
— Какое тебе дело — победят серые или черные бароны? Лезть в прибалтийскую неразбериху, ничего не понимая. Германские дивизии, английские подлодки, эстонцы, латыши, финские добровольцы — чертово колесо. Протянешь палец — оттяпают всю руку…
— Все это проще. Гельсингфорс — это ближайшая дыра на белый свет, и там имеется прозаическая возможность купить, чтобы потом продать. Жить больше нечем. А жить надо. Просто, как оконное стекло. Будущая Россия, будущий порядок — это для тех, кто останется жить. И я прежде всего хочу остаться в живых. Я не дворянин, не сын помещика или капиталиста, я вчерашний мужик, у меня дьявольский аппетит к жизни, и я не чувствую себя кандидатом в могилу.
Большой, тяжелый, он встал и замахал руками:
— Чтобы дожить до лучших дней, я готов ехать в Шанхай, в Бомбей, в Ревель, грузить муку, овес, чулки, фуфайки, духи и пудру на баркас, на подводу, на аэроплан, на самого черта… И ты мне не читай политическую мораль, слышишь! Ты сам не силен в ней. Я сыт политикой, в особенности домашней, по горло. Сейчас я признаю единственный вид ее — наган, и еще лучше — пулемет. Только для такой политики я согласен бросить все и идти до конца.
— Леонид! — с необоримой кротостью, вполголоса перебил его Аркадий. — Незаметно для себя ты становишься митинговым оратором.
— Поди ты к черту, — шумно рассердился Воробьев.
— Я могу тебя уверить — дело идет к нагану и пулемету. Они уже гремят и сегодня…
— Где, ради бога… кроме твоего воображения?..
— По всей стране. Мы их не слышим за шумом этого города.
— Из подворотни? В спину?
— Загремят и на полях, но где раньше — мы не знаем. Может быть, здесь, в столицах, может быть, на окраинах, куда бегут офицеры…
— Бежит тот, кто не хочет сражаться… Бегут по домам.
— Неверно. Многие бегут туда, где есть возможность найти солдат, опереться на казачество. Они создают великую российскую Вандею.
— Тогда чего же мы сидим здесь?
— Я тысячу раз объяснял тебе свою точку зрения. Только здесь, в Питере, где все началось, все и кончится. Питер решил наше поражение, он решит и нашу победу. Возьмут Ростов, Киев, Самару, Харьков — ничего не изменится. Возьмут Москву, Питер — пой тогда панихиду по революции. Надо отсиживаться здесь, ждать и следить…
— Ты против вылазки в Гельсингфорс?
— Нет. Но до сих пор я предпочитал купцов лейтенантам и атташе. Теперь я вижу — надо серьезнее посмотреть на вещи. России не подняться без иностранной помощи, так же как и Западу не прожить без русских рынков… Да и черт его знает, где у них кончается купец и начинается дипломат.
— А уж шпионы — все.
— Разумеется.
— А о расплате ты думаешь?
— Даром ничего не делается.
— Разбазарить то, что собирали отцы и деды веками?
— Сохранить то, что возможно…
— Гадко все это…
— Найди другой выход.
— Значит, опять через озеро, по болотам.
— Через озеро и через Иваныча, и лучше всего — не откладывая, завтра.
Воробьев зевнул, расстегнул воротник и упал на кровать, заскрипевшую под его тяжелым телом.
Глава XII ИВАНЫЧ
Два высоких небритых парня с мешками защитного цвета за спиной протолкались в вагон Финляндской дороги и заняли места у окон. Их рыжие ушанки с пышными помпонами высоко поднялись над серыми платками молочниц. Нагруженные бидонами, мешками, корзинами, женщины ругали занявших так много места мужиков, но, утрамбовавшись на лавках, на полу, на собственных грузах и пригревшись, постепенно успокоились и завели шутливый разговор с молодцами. Молодцы курили, читали газеты, поддразнивали молодок. При случае они складно и энергично ругали буржуев, которые довели страну до разрухи, а заодно и комиссаров, которые хотят вогнать народ в гроб. Наговорившись, дремали, склонив головы друг другу на плечо.
Они вышли на маленькой пустынной станции, поправили мешки и, не спрашивая дорогу, солдатским добрым шагом вошли в лес. К ночи они стучались в окно высокого дома с коньками и резным крыльцом на краю лесной деревни, что задами и огородами сбегала к белому полотнищу замерзшего озера.
За дверью зашелестел, захрипел простуженный голос:
— Кто такие?
— Открой, Иваныч.
Хозяин, должно быть, узнал голоса. Дверь приоткрылась. В безмесячной тьме Иваныч ощупал взором гостей и только тогда впустил в избу. Как пустая коробка, звенел мерзлый сруб, скрипел стругаными лестницами под шагами людей. Иваныч зажег в светелке коптилку, прикрыл окно серым и пыльным рядном. Девчонка в валенках выше колен побежала с маленьким, много битым самоваром. Иваныч усадил гостей за стол, крытый зеленой клеенкой. Был он лохмат и сух. Волосы вились, как редкая поросль на худой земле. Пергаментные руки держал на столе перед собой. Один глаз его зарос бельмом и был недвижим, оттого другой, колючий, ищущий, казался слишком живым и блудливым. Никакой радости приезду гостей он не выразил. Говорил, теребя бороду пальцами, жаловался. Ни рыбачить нельзя, ни торговля не идет. Голытьба шумит. Сама ничего не делает, другим не дает. Которые немцами грозятся, которые комиссарами…
Когда подали чай с медом и маслом, Синьков спросил:
— Не соскучился, Иваныч? Сознайся.
— Чего ж скучать? — ответил, уводя бегающий глаз, старик. — Конечно, людям хорошим рады.
Через комнату, вежливо поклонившись, прошла девушка в городских ботинках, с косой до колен, гладко чесанная на пробор и с серыми глазами. Она напоминала царевну Васнецова, которую увозит Иван-царевич на сером волке.
— Эх, дочь у тебя, — не выдержал Синьков. — И где ты подцепил такую?
Иваныч встал, прошел к дверям и крикнул вслед скрипучим шагам на лестнице:
— Ложись, Агния, и карасин не жги.
— Имя какое, — прошептал Синьков Леониду Викторовичу. — Лес. Озеро. Злой старик. Вот это романтика. Что твоя Маргарита!
— Ну так что ж, завтра можно? — спросил он, когда Иваныч сел на свое место.
Иваныч молчал, потом, переложив руки, ответил:
— Не знаю, как и сказать…
— А что, следят?
— Следят оченно.
— И раньше следили.
Иваныч оставил реплику без ответа.
— Много ходят? — спросил, помолчав, Воробьев.
— Нету делов — не ходят, — тряхнул головой старик.
— Нам лучше. Слушай, друг. Мы пробудем недолго Дней пять-шесть и домой. Будь готов.
Старик сидел как деревянная, одетая в тряпье и разрисованная кукла — даже глаз замер черной булавочной головкой — и вдруг заметил:
— Хорошо, чемоданчики не взяли. Заграничная кожа глаз режет. Мешки способней.
— Тебя напугали, старик, — сказал Воробьев. — Можно подумать — государственную границу переходим.
— А как же?
— Ну ладно. Только вот что. За нами сани пришли, а то и двое.
— Саней не будет, — отрезал Иваныч и опять увел глаз к окну.
— Почему? Как же тогда быть? Не на плечах же.
— В карманах… Не гонитесь за материей. Сахарин, кокаин ноне идут. Сахарин на Сытном по четыре рубля. А кокаин девка берет, которая… та, без цены…
— Со всякой дрянью возиться… — отвернулся Воробьев.
— Как угодно, — сухо заметил старик.
Синьков встал и заходил по комнате, насвистывая.
— Зря свищешь, Аркадий Александрович, — тихо сказал старик.
— А, черт. — Синьков опять сел на стул. — Вот что, Иваныч, что случилось? Почему нельзя сани? Что ты сидишь как китайский бог?
Старик опасливо перекрестился.
— Неможно становится, Аркадий Александрович. Голова дороже денег. Надо переждать…
Синьков взял старика за рукав.
— Петька Гарбуз в охране?
— В охране.
— Ну, так что же? Поссорились?
— Голова дороже денег, Аркадий Александрович. Намеднись двоих пустили налево. Чека наезжала. Начальство сменили. Один бывший офицер есть. Сам ночами по льду ходит.
— Черт. Попался бы мне, — вскинул руки Воробьев.
— В городе мобилизация… Армия объявлена…
— Какая армия?
— Большевицкая… Вы что ж, али не слыхали?
— Так, значит, нельзя? — спросил Синьков.
— Да… можно… — Глаз забегал, как наэлектризованный. — А только долго не засиживайтесь. И процент уже не тот, и царскими больше половины…
— С ума сошел!..
— Зачем же, — переложил руки старик. — Вы уйдете — лови вас, — а мы на месте. Обратно, мы при этом деле и ничего больше не знаем, — он замотал головой. — А у вас оно — вроде пристяжная… Вы свое на другом наверстаете.
— Ничего не понимаю… О чем ты мелешь?
— Все может быть, Аркадий Александрович. Только мы ни в финские, ни в германские дела не желаем. Мы сидим на месте. Коммерческий оборот какой? Покуда можно — пожалста… А только остальное все… Мы никак… — Старик отвел рукою. — Постелют вам тут. Спите позже. А к вечеру поговорим. — Он встал и вышел из комнаты. Девочка взбежала в светелку с матрацами и серыми простынями.
Раздеваясь, Воробьев спросил шепотом:
— Набивает цену, что ли?
— Другое место найдем, — ответил Синьков. — И этот старый черт пустился в политику. Какие-то намеки… Приплел германцев… Чуткий, пес. Но все-таки не угадал… Фунт лучше марки.
Казалось, утро еще ухудшило настроение старика. Его обычное немногословие граничило теперь с молчанием. Но, выйдя из светелки, он гремел отрывистыми приказаниями, а дом молчал, как сераль разгневанного деспота. Агнии не было видно. Офицеры старались шутить, пытались чувствовать себя как в гостинице, но это плохо удавалось. Настроение нижнего этажа проникло в светелку. Приходилось думать, что раздражительность Иваныча вызвана вескими причинами.
В полдень кто-то постучался в дверь внизу. Воробьев выглянул в окно, отогнув край рядна, но уже никого не было. В нижних комнатах шел приглушенный разговор, явно не предназначенный для постороннего уха. Потом опять скрипела дверь, и двое, размахивая руками, прошли к калитке. Меховые шапки скрывали лица. Из-под истертых шинелей выглядывали короткие размятые валенки.
Иваныч поднялся в светелку скрипучим хозяйским шагом, не глядя, подошел к окну, оправил рядно и уронил:
— Отложить бы…
Эта мысль была нестерпима. Все расчеты призывали рисковать. Нужда могла придавить, испакостить жизнь… Во всем этом было так же много прозы, как и в поисках хлеба из-под полы. Вряд ли Маргарите понравилась бы эта светелка и девчонка в валенках с ноги богатыря. Но для Демьяновых эти поездки легко облекались в романтические уборы. Иванычи, купцы и лейтенанты оставались неизвестными. В глазах знакомых, не посвященных во все детали этих похождений, все оправдывал романтический риск…
— Скажи, Иваныч, в чем дело?
— Неспокойно…
— Где, на границе?
— В Выборге, Гельсингфорсе… Красные наступают.
— Вот что. Но поезда идут?
— Вчера свистали.
Синьков и Воробьев разом пожалели, что невнимательно читали газеты. Слышно было, идут какие-то забастовки и стачки… Но где их теперь нет, этих стачек? Затем — какая армия? Что плетет старик?..
— Что-нибудь серьезное?
— Ночью я выходил на озеро… Стрельба. Пушки…
— Я за то, чтобы идти, — внезапно решил Воробьев.
Синьков понял, что Леонида Викторовича манит эта перспектива начавшегося, возможно еще не законченного боя. Сам он предпочел бы запастись более точными сведениями и обсудить этот вопрос обстоятельнее, но просто сказал:
— Хорошо. Пойдем. Там увидим…
Иваныч вышел из светелки и вскоре прохрустел валенками по запорошенному снегом огороду…
Двое спускались на грязноватый прибрежный снег, стараясь ступать меж сугробов. Ветер подкуривал сухой снежок, гнал низкие черно-синие тучи. Берег исчез в какие-нибудь пять — десять минут. Впереди — густо замешенная тьмою даль. Ветер взрывает тяжелые полы бекеш и длинных, до пят, маскирующих на снегу, белых балахонов. Он замирает в складках и потом вдруг шевелится в рукавах, как холодная змея. Все тело вздрагивает. Уши мерзнут, то и дело надо снимать рукавицу, смотреть на компас-браслет и растирать лицо. Закрыть уши нельзя, нужно слушать, как слушает зверь в пустыне.
«Как волки…» — думает Синьков и ощупывает наган за бортом бекеши.
«Война не кончилась… — размышляет про себя Воробьев. — Разведка в тыл, по снегу. И нет проклятой проволоки и мозглых окопов. И какая ненависть…»
Он дышит емкой грудью. Нарочно открывает рот навстречу холодной струе.
Впереди тьма. Ни огня, ни искры.
Глава XIII О НЕКОТОРЫХ ЛЮДЯХ ВОСЕМНАДЦАТОГО ГОДА
— В каком ухе зазвенело? — озабоченно выглянула Пелагея Макаровна из своей комнатенки.
Алексей стоял перед кухонным зеркалом, засиженным мухами так, что все отражавшееся в нем казалось изображенным пунктиром.
— В среднем, надо полагать…
— Крученый ты весь. Всех вас теперь покорежило. Нет того, чтобы сказать по-людски.
— Разве важное загадали, Пелагея Макаровна?
— То б сказала, а теперь не скажу. Иди, куда шел.
Она сердито застрочила на машинке.
— Иду к брату да там и останусь, раз вы ко мне немилостивы.
— А ты к кому милостив? — перестала шить Пелагея Макаровна. — По ночам с ружьищем шатаешься, людей пугаешь. Одно беспокойство с вами.
— Вот и я говорю, — появилась вдруг из коридора Настасья. — С фронта приехал и опять как на войне. Боюсь я за него, Пелагея Макаровна. Каждую ночь лампаду жгу. По обыскам, по охранам… Как будто бы другого дела нет. На что тебе чужое? И то хоть бы себе, а то кому — неизвестно.
— В политике вы, сестрица, не бухгалтер, — сказал Алексей и шагнул за порог.
На бляшке, украшающей узкую скрипучую дверь, черным по желтому изображено: «Старший дворник». Человек в песочного цвета куртке копается в необъятной книге. Перед ним на скамье Степан. Алексею нравится этот встрепанный парень лет двадцати со всеми признаками революционного темперамента.
— Все забываю прописаться, — протянул бумажку Алексей. — В квартире номер шесть.
— Теперь все больше выписуются, — сказал человек в песочной куртке. — А прописка — один анекдот. — Он безнадежно махнул рукой. — В шестой, это что ж? У Казариновых? Места много. А вы к кому?
— Если нужно, я могу со службы, из Совета, принести ордер. Сестра в услужении была у Казариновых — Настасья Черных.
— Ордерок принесите… на будущее… А только места там хватит, — лукаво ухмыльнулся старший дворник и прибавил: — И места и добра. А вы — что же… человек подходящий. И армейский и в Совете, говорите, работать будете. И, надо быть, еще партейный?
— Конечно…
— У нас бы в домовом комитете приняли участие, — вмешался парень.
— Комитет этот… может, будет, может, нет, — раздумчиво процедил дворник. — А за тобой бы глаз нужен, — покосился он на Степана.
— Да и за вами, Иван Сильвестрович…
— Ну, будя, — недовольно сказал дворник. — Тебе, Степан, дай зацепку, ты потянешь…
— Я на старом месте живу…
— А я на новом, ну и что? — откинулся в креслице дворник. — Семнадцать лет в подвале кости ломало. У тебя окно на солнце, а у меня под ворота… У нас дом строили, — обратился он к Алексею, — как на железной дороге. Все четыре класса. На улицу — первые господа. По десять комнат и окна на солнышко. Во двор есть подешевле. Во флигеле — рабочие живут — коридор такой: каждому кухня да комната. А нас, дворников, прости господи, и не по-людски. Негде бок согреть — где у помойки, где под крышу закинули. Так и едем к господу богу, в царство небесное…
— То ты плачешь, то ты крутишь, — рассердился парень. — И говорю, в Совет пойти, комитет оформить, как в доме номер десять, и всех буржуев по шее. А то я бы и дом этот взорвал к черту, чтоб и не пахло им!
Он вскочил со скамьи и так замахал руками, что Иван Сильвестрович подался со стулом к окну.
«Ну, и ты в политике не так силен», — подумал Алексей и вышел. Насчет этого дома и у него ночами роились планы. Взрывать, конечно, не к чему, но буржуев потеснить давно пора…
Политика была теперь главное в жизни Алексея. Она наполняла всю его жизнь. Командовала каждым его движением.
Политики здесь, в этом городе, было гораздо больше, чем на фронте. Не затухали огни в барском особняке, занятом Советом, не отдыхала большая, как в церкви, дверь массивного дуба с медной ручкой, которой можно было проломить голову слону, и не затихала жизнь в помещении команды.
Усачи-красногвардейцы, помнившие еще 1905 год, фронтовики, гордившиеся своей ролью застрельщиков в дни Февраля волынцы, рабочие, выделенные в район завкомами, коммунисты и беспартийные — были тем инструментом, с помощью которого Совет производил ломку общественных отношений и быта в своем районе.
Сперва стрелком, потом командиром взвода, Алексей кипел вместе со всеми в этом котле. Фронтовой опыт и партийный билет выдвигали его в эти быстрые и решительные дни. Под командой боевика-красногвардейца или кого-нибудь из членов райкома — чаще всего вездесущего Альфреда Бунге — он носился на грузовиках и кашляющих от натуги легковых машинах по неспокойному городу, все больше удивляясь его величине, лабиринту его улиц, квартир, чердаков и подвалов, где жили, ютились, таились сами и прятали свое добро два миллиона людей, не похожих один на другого.
На фронте Алексей делил окружающий мир на офицеров и солдат. Были, правда, офицеры, которые стояли за мир без аннексий и контрибуций и за большевистское братание, и были солдаты, готовые нашить на рукав адамову голову и золотой треугольник. Но таких было немного, их знали в лицо, а в остальном были две волны, пущенные навстречу друг другу.
Здесь же, в городе, шляпа, кепка и безликое штатское пальто прикрыли все отличия рухнувшего режима и тысячи людей одели несвойственные им маски. И здесь были две волны, губительные друг для друга, но город нарушал их прямолинейное движение. Этот первый город царей и первый город революции кружил их в своем незатихающем лабиринте, то сбивая в черные дымящиеся вихри стычек, то успокаивая на время в больших, многоквартирных домах.
Ученый и начитанный прапорщик Борисов, первый сказавший Алексею, что Россию очистит революция, знал, что человек происходит от обезьяны, но не знал, не чувствовал, что за Февралем последует Октябрь. Разве не лучше его, еще на фронте, понял ход событий не закончивший и приходскую школу фейерверкер Алексей Черных? Разве сбили его с толку дивизионные говоруны-эсеры? Разве он растерялся в дни корниловщины? Он приехал в Петроград, гордый этой установившейся прямолинейностью своего пути, но в первый же день заслужил упрек в недисциплинированности от Альфреда Бунге, от человека, проходившего через новизну и сложность этих дней, как нож проходит через петли хитро исполненного узла.
В эти месяцы он понял, что события в стране идут более сложным путем, чем на фронте. Работа Совета — это не кавалерийская скачка с препятствиями, которые надо брать на всем скаку, это война, в которой применяются все виды оружия социальной борьбы, от мягких полумер до прямого насилия, с учетом расстановки сил, места и времени.
Он понял, что не всегда различает лицо врага и рукопожатие друга. Были в этом городе люди, у которых слова не походили на дела. Были люди, у которых два языка — для дня и для ночи, для своих и для чужих. Были люди, которые походили на ящики с двойным дном. Были люди, которые смеялись и над красными и над белыми. Были люди, которые молились Христу и точили нож на шею ближнего. И еще понял Алексей, что с разными врагами приходится вести разные разговоры.
Это было то, что он понял, но принял не сразу. Сердце его, раскрытое революцией для энергичных порывов, для сильных желаний и прямых ударов, еще не умело переключаться на ритм разумной осторожности и расчета.
На его глазах разрушалась священная власть офицеров. Солдатская рука впервые остановила бег войны. Пал царь. Пали помещики.
Казалось, все было возможно. Казалось, всякий, кто подсказывает осторожность, — или предатель, или трус. И большевики громко и смело клеймили робких и двуличных. За это он полюбил их раньше, чем узнал и понял программу партии.
Почему же в этом городе нельзя расправиться со всем, что осталось от прежнего строя? Почему сидят в своих гнездах не убежавшие еще аристократы? Почему, если можно было одним ударом отнять земли у помещиков, нельзя разделаться с городскими богачами? Всей деревней, с кольями, с винтовками шли на усадьбу. Почему же городская милиция охраняет дома и квартиры богачей?
Ему объясняли.
Богатые городá с их фабриками, заводами, храмами науки не должны достаться победившему пролетариату в развалинах. Они должны служить новому обществу, но по-иному, лучше, чем служили старому. Бунтовщик разрушает. Разрушив, успокаивается и подставляет шею под новое ярмо. Революционер, разрушая, думает о созидании. Он сберегает все, что необходимо, все, что может еще послужить свободному человеку. Он рассчитывает, планирует. Он смел и осторожен в одно и то же время.
Крестьянская хозяйственность приходила на помощь рабочей деловитости. Алексей наблюдал. Он слушал, как говорят на эту тему вчерашние рабочие, сегодняшние руководители Советов и партийных организаций.
В один из первых дней службы в Совете, придя вместе с Бунге на заседание в кабинет брата Федора, он увидел в первых рядах стульев троих человек, которые по облику и по покрою одежды не походили ни на новых, ни на старых хозяев особняка. Бородачи, для которых усы и борода не просто волосы, но символ и иерархическая ступень. Налитые, могучие плечи двоих и худоба третьего, разная одежда и разный цвет глаз — все это не мешало признать в них людей мошны, вызванных райисполкомом скорее всего на суд и расправу. С бородачами говорил сам Федор. К удивлению Алексея, разговор не походил ни на суд, ни на расправу.
— Так вот, граждане. Договориться надо, — убеждал бородачей председатель. — Ваши и наши интересы в этом пункте совпадают.
Легкий смешок засел в самых углах губ Федора, а глаза были серьезные. В пальцах он перебрасывал толстый фаберовский карандаш.
— Правильно изволите заметить, — медленно тянул худощавый, должно быть вожак тройки. — Но как теперь расстройство транспорта и подвозу нет, то и пару не будет. А в холодной бане какое ж мытье?
— Мыться людям нужно, а запасы дров у вас есть. Так вот…
— Еще в декабре запасы сожгли, — буркнул бородач-тяжеловес. Худой метнул в него взор ядовитый и пронзительный.
— Это, может, у господина Вахрушева имелись запасы, — поспешил он отгородиться от товарища.
Толстяк задвигал плечами.
— А чем же январь топили? — быстро вмешался Федор.
— Покупали… себе в убыток… — плакал толстяк.
— Можно обследовать, — развел руками худой. — Уже смотрели.
— Это при банях, а в прочих местах? — выстрелил председатель.
— Какие же прочие места?
— Союз банщиков укажет.
Теперь задвигались все трое.
— Через неделю дрова вам подвезем, — сказал Федор.
— Найдете ли?
— Фабричные возьмем. Не ваша забота. А до того топить все бани через день. Под личную ответственность. У кого окажутся запасы и баня будет закрыта, передадим в Чека. Мы не дадим вам завшивить город…
Проходили все трое мимо. Алексей готов был схватить любого за ворот. Лучше всего худого… Тонконогий комар. Самый вредный.
— Возжаются очень, — сказал он Бунге.
— Полагаешь? — буркнул латыш в воротник.
— Худой этот. Злоба в штанах…
— Хм! Разбираешься… Что бы ты сделал?
Но заседание продолжалось.
— Предлагаю поставить вопрос о подготовке перехода районных частновладельческих бань в ведение райсовета, — громко сказал Федор.
— Разве сразу нельзя? — спросил Алексей.
— Не все фабрики взяты у хозяев, не то что бани. Понял?
Пробегавший мимо юркий человек, в мягкой шляпе, с повязкой на одном глазу, остановился:
— По Марксу — мелкое, недоразвитое капиталистическое хозяйство не поддается социалистической экспроприации. Вот еще как у рабочих дрова отвоюете?
— С вашей помощью, господин Воинов, — спокойно сказал Бунге, козырнув двумя пальцами. — Консультант, меньшевик, — объяснил он Алексею.
— Опять громят погреба, — продолжал между тем председатель. — На Пушкинской двоих ранили. Окна в домах перебиты. Есть данные, что там не без содействия эсеров и анархистов. Ничем не гнушаются… Верно, что это дело поручено вам, товарищ Бунге, с полномочием, в случае необходимости, применять силу?
Альфред чуть заметно кивнул головой.
— Что не заходишь? — бросил Федор на ходу. — Не я, так Ксения дома. Дорога известна.
— Зайду. Под выходной, пожалуй, — ответил Алексей.
Позже он узнал, что Федор ездил на большой завод, расположенный в районе. Дрова получены были не без боя. Рабочим был обещан вход в бани вне очереди.
Банщики запомнились Алексею, как запоминаются первые задачи на сложение — на пальцах, на яблоках. За банщиками потянулся ряд сложных вопросов, которые огромный город не позволял решать ударом сплеча.
Бунге, казалось Алексею, все знал, все понимал. Как аэроплан в облаках, он шел, не сбиваясь с пути, верный своему курсу. Алексей видел кругом немало речистых, сильных и властных людей, которых выдвинул рабочий класс и которым сам Алексей соглашался подражать, но Бунге в его глазах все больше становился похожим на ротного командира на походе, чей шаг верен для всех рядов и чей голос единственно вправе повернуть и даже остановить ход колонны.
Бунге сам ничего не рассказывал о себе, но о Бунге говорили много. Сын рижского рабочего с «Проводника», он потерял отца в дни расправы, вихрем пожаров и карательных экспедиций прошедшей после пятого года от Риги до Ревеля. Подросток остался у дяди — тупого и нехозяйственного крестьянина, стремившегося превратить племянника в бесплатного батрака. Мальчик, уже начавший учиться, во что бы то ни стало хотел вернуться в школу. Дядя сказал, что скорее пропьет с соседом эти деньги, чем даст их на никому не нужное дело. Альфред покинул деревню и вернулся в город. Он поселился на базаре, который кольцом рундучков и дощатых лавчонок обошел православный собор. Днем он за медяки носил покупки задыхавшимся толстым хозяйкам. Ночью спал в деревянном ящике торговца железным старьем. Осенью в ящике было так же мокро, как и на площади, а зимой Альфреду перехватило горло, и разговор его перестал отличаться от кашля. В деревню к дяде его не вернул бы и страх смерти, а больше во всем мире не было угла, где бы его знали по имени. Из ящика, куда он натаскал кучу тряпья и соломы, подобранной на Сенном базаре, хозяин выгнал его и стал запирать пустой ящик. Альфред перенес свое тряпье под лестницу церковной колокольни, где его не замечал полуслепой звонарь, единственный посетитель в зимнюю пору этого одинокого православного сооружения в протестантском городке. Здесь, у ограды собора, встретил его старый социал-демократ, посещавший Бунге-отца, — Чернявский. В существе, больше всего напоминавшем прибитого к земле холодом и голодом щенка, Чернявский не узнал бы сына погибшего боевого товарища, но Альфред назвал его по имени-отчеству, относившемуся к одному из давно утраченных паспортов, и Чернявский остановился.
Прекрасный подпольный работник и отвратительный портной, Чернявский перешивал на подростков дедовские шаровары, ставил, не считаясь с расцветкой, заплаты третьей степени на места, на которых горит не только лодзинский, но и рижский материал, чинил штаны за счет жилетов и юбок, делая все это, чтобы не обременять партийную кассу. Он вынужден был брать дешевле всех конкурентов, чтобы не потерять практику, и, приобретя клиентуру, в самый неподходящий момент снимался с места и переезжал в другой конец Прибалтийского края. После письма, переданного с оказией, или подозрительного посещения околоточного начальства все начиналось сначала…
Альфред был возвращен в городское училище. Он учился прилежно и не тосковал по товарищам, меняя школы и города вслед за добровольным опекуном. Окончив городское училище, он расстался с учением на этот раз без всякой драмы. Он шел за Чернявским, как заблудившийся в лесу мальчик идет за указавшим дорогу прохожим. Чернявскому не пришлось ни в чем переубеждать Альфреда. Они походили на два соединенных сосуда, большой и малый, и опыт жизни, знания и убеждения, как влага, в свой час переливались из одного в другой.
— Если мой котелок варит, то твой хорошо переваривает, — смеялся иногда Чернявский.
Под руководством Чернявского начал свою революционную деятельность Альфред.
Он нисколько не удивился, когда узнал, какую полную энергии и опасности жизнь вел скромный «портной».
То здесь, то там возникали забастовки и выступления рабочих и батраков, руководимых Чернявским. Это он организовал и провел знаменитую забастовку, охватившую все предприятия Либавы и порт. Сам Альфред с трудом избежал ареста. Он вынужден был скрываться в предместьях Риги.
Когда Чернявский, на этот раз раскрытый и расшифрованный во всех своих партийных званиях и обязанностях, перекочевал в Туруханский край, Альфред уже был на ногах. Он работал весовщиком на станции. К этому времени относится и его встреча с Лидией, дочерью телеграфиста. Когда воинский начальник потребовал Альфреда в ряды российской армии, у него уже был трехлетний сын Роберт. На фронте Альфред был ранен, полгода провалялся по госпиталям и попал на фронт вторично в латышские стрелковые батальоны.
Чернявский давно уже был в Англии, о чем через товарищей был поставлен в известность и Альфред.
Стоя на Двине, Альфред ни на шаг не отставал от товарищей ни в контратаках, ни в партизанских набегах через замерзшую реку в тыл противника, ни в железной выдержке в дни ожесточенных бомбардировок.
Этим он как бы показал бывшим батракам, сыновьям землепашцев и пастухов, что он не хуже их, не слабее. Он так же умеет спокойно тянуть черную трубку под свист шрапнелей и крепко спать накануне атаки.
Когда в темноте блиндажа на вшивой соломе, в лесу у костра, на походах по чавкающей грязи его спрашивали, что он знает про войну и про мир, про землю и волю, про офицеров и солдат, про батраков и баронов, он отвечал обстоятельно, следуя партийной программе, преодолевая свою наклонность к молчанию, к короткой, отрывистой фразе. От предательства его охраняли молчаливая товарищеская защита и не всем знакомый язык. Не удивительно, что в первые дни Февраля его батальон весь расцветился красными бантами, а в Октябре, выбросив из своей среды помещичьих и серобаронских сыновей, крепкой колонной вошел в число тех частей, которые наряду с отрядами балтийских моряков и рабочих-красногвардейцев стали гвардией первых Советов, В бронепоездах, особых отрядах, подвижных пехотных колоннах особого назначения они колесили от Смольного, от Кремля ко всем пяти морям европейской части рабочей Республики.
Алексею несвойственно было принимать людей на веру. Он судил человека по его поступкам. Алексеево внимание теперь не оставляло Альфреда в его энергичной и разнообразной деятельности. Если путь Алексея на фронте походил на степную дорогу — стрелой, где видны далекие цели, то теперь, казалось Алексею, он вступил в лесистые предгорья, где легко оступиться и потерять направление. Лес — это лес. Уместно было остановиться и прислушаться. Подсознательно он решил сделать эту обстановку за широкими плечами Альфреда. От этого внимание его к этому человеку удвоилось.
Веселый, разбитной, легкий на слово, Алексей привык неразговорчивость считать неживостью, сухую сдержанность — неловкостью. Таких, как Альфред, скупых на жесты, на смех, на веселье людей он заранее готов был почесть плохими товарищами, человечками себе на уме. Впервые по отношению к Альфреду он допустил возможность исключения.
Теперь Альфред был военным комиссаром района. Он перевел Алексея в гвардейский полк, наполовину опустошенный самовольными уходами. Сам Альфред был прикреплен к партийной ячейке этого полка, бывал в нем во все дни выдающихся событий.
В те дни не в почете было все, что напоминало бойцу выкрики фельдфебеля и унтеров. Того, кто предложил бы вихрастым молодцам восемнадцатого года коротко остричься или наглухо застегнуть шинель, сочли бы прислужником Николая Кровавого. Революционная шинель — это была шинель нараспашку. Это такие шинели неслись на штурм Зимнего и бежали навстречу крымовцам, чтобы принять бой подальше от застав Петрограда. Винтовка восемнадцатого года была деятельна, но не всегда хорошо чищена. Сапоги были выносливы, но не знали ни щетки, ни ваксы.
У этих бойцов восемнадцатого года было слишком много непосредственной радости, чтобы омрачать ее второстепенными заботами, для которых должен был ударить свой час.
Много удовольствия и гонораров доставило это обстоятельство карикатуристам «Punch’a» и «Simplicissimus’a», легко забывшим босые ноги и возбужденные лица солдат Конвента, героев Вальми и Жемаппа.
Но нельзя было вообразить себе Альфреда в мятой шинели, не застегнутым на все точно расставленные крючки или в нечищеных сапогах. Деловитыми распоряжениями он добивался относительной чистоты не только в помещениях аккуратных и строгих латышей, но и в казармах шумных и непокорных полков гарнизона.
Люди особняка, занятого Советом, и люди нарядного дома на Крюковом канале быстро разместились в представлении Алексея на разных полюсах. Одним он отдавал всю свою любовь, свое сочувствие, другим — всю ненависть первого года революции и собственных молодых, не требующих искусственного подогревания лет.
Столкнуть эти два дома, испепелив один, — вот, казалось, первая задача, какая стоит перед ним лично. Дом генералов, банкиров, офицеров, подслеповатых барственных старух должен пасть. Он еще слишком благодушествует. Он набит барским добром, как ненавистью к Советской власти. Разве можно терпеть такие склады непотребляемых предметов первой необходимости?..
Алексею казалось, что все это существует только потому, что о доме не знает Совет. Офицеры проживают в барских квартирах, по двое на десять комнат, только потому, что об этом не осведомлена ЧК.
Он изложил свои мысли секретарю райсовета. Молодой студент в очках, смертельно задерганный, с дежурной спасительной фразой на устах «Следующий. У вас что?» — хотел было сказать Алексею: «Подайте заявление в письменном виде», но еще раз взглянул ему в лицо, заметил огоньки в глазах и решил, что это не годится.
— Таких домов, как ваш, в Петрограде — несколько тысяч. Нам важнее овладеть предприятиями и наладить доставку продовольствия. Все в свой черед.
Опять план, опять трезвый расчет и осторожность. Что было бы с революцией, если б большевики были так же осторожны на фронтах? Если бы они побоялись разрушить дисциплину?
Этот вопрос остается неразрешимым для Алексея. Откуда в данном случае осторожность? От нерешительности или от мудрой, продуманной политики партии?
Он хотел быть не бунтовщиком, а революционером. Но ненависть к врагам туманила ему глаза. Перед нею отступала крестьянская домовитость. Чтоб уничтожить офицеров, населявших дом, он готов был разрушить это великолепное здание. Всем обликом своим эти люди говорят, что победа революции еще не полна.
Он сказал секретарю, что в его квартире много оставленного генеральской семьей платья и белья. Пусть придут за ним — он раздаст неимущим.
— Не дурите, товарищ, — сказал секретарь. — Придут, конечно, спекулянты. Доставьте все это в райсовет, мы дадим кому нужно. Но помните — доставка своими средствами, — крикнул он ему вслед.
Захваченный напряженной и беспокойной жизнью района, Алексей не сразу собрался на Выборгскую к брату. Чистенькая прежде квартирка Федора Федоровича Черных показалась Алексею запущенной. Дома была одна Ксения.
Он ожидал встретить подростка, каким она была в шестнадцатом году, а теперь перед ним стояла статная девушка с русой косой и крепким огоньком в глазах.
— Садись, дядя Алеша, — пригласила Ксения. — Я приготовлю чай.
Алексей послушно сел. Ксения уходила на кухню, возвращалась, перетирала чашки и, не оборачиваясь, роняла круглые, городские фразы. Она была похожа на Настю, но следующее городское поколение давало себя знать. Она не горбилась и даже закидывала отягченную волосами голову назад. Руки и ноги ее были аккуратнее и тоньше.
— Отец не будет?
— Сегодня у него комиссия в Совете.
— Так, — соображал Алексей. — С заводом он покончил?
— Папа — делегат от завода. — Ксения взглянула на Алексея: — А ты, дядя, у тети Насти?
— Откуда ты знаешь?
— Знакомые живут в вашем доме, Ветровы… близнецы… Партийные они.
Это звучало невероятно. Аккуратненькие барчуки из роскошного дома?
— Давно?
— С апреля семнадцатого года.
— Ну, ладно. — Интерес его к близнецам быстро угас. Он к ним присмотрится. — Так что ж они говорили?
— Рассказывали как-то. Думали — однофамилец.
— Ты что ж, учишься?
— Работаю в исполкоме.
— В партии?
— Конечно!
Ему нравился широкий кожаный пояс, ловко перехватывавший простое платье в тусклую клетку, и высокие со шнуровкой ботинки. Но всего больше нравилась, видимо сознательная, манера держать себя независимо и быстрая речь немногословными фразами.
Федор вернулся поздно, усталый, но не опущенный, а как бы заостренный проведенным в работе днем. Он был еще не стар, сух и быстр в движениях. Утирая лицо, он успел трижды пробежать по комнате и задать полдюжины вопросов Алексею.
От долгого ожидания и от голода — чай был пустой — Алексей чувствовал, как надвигалась на него ленивая дремота, но порывистый, резкий голос Федора вздернул его. Ему лестно было предстать перед братом-революционером в лучшем виде.
— Ты как в Петрограде? Где работаешь? Какие планы? — бомбардировал его Федор, усаживаясь за стол. — Поди, с армией не кончил? Да ты, я вижу, спишь. Ну похлебай супу, да и ложись. Устал, что ли? Ничего сегодня не делал? Ну, от этого еще больше устают. У генерала, говоришь, устроился? Светло, тепло и не дует? Ну и лежи на боку. — Он внезапно рассердился. — А другие за вас работай. Разболтались вы на фронте. Подтянем и вас, фронтовиков-героев, хлебните-ка тылового пшенца полной ложкой. У нас, думаете, здесь праздники да разносолы? Я зампред райсовета, а хлебаю воду с пшеном и об отдыхе не думаю.
— Сидел тут дядя Алеша со мной, заскучал — вот его и развезло, — смеясь, вмешалась Ксения, ставя на стол горшок с застывшей кашей. — А ты на него напал.
С Алексея под градом этих обидных упреков и подозрений, как пригревшее было ватное одеяло, сползала сонная лень. Многие фронтовики распустились — сам он знает, — но почему брат бросает и его, Алексея, в этот ряд? Защита Ксении еще больше вскинула его на Федора.
— В тылу, конечно, все герои. Это мы наслышаны. Пшено у нас в окопах на меду было, и у каждого по кушетке — отлеживай бока. Хочешь — сам, хочешь — с бабой. И в Революцию мы только ходили, «ура» кричали да кресла помягче в учреждениях высматривали.
Но Федор, вместо того чтоб обозлиться, внимательно посмотрел на брата и спокойно сказал:
— А я думал, в тебя как горох в стену. Ну, лей масло в кашу. — Он пододвинул ему бутылочку с золотистым, редким в те дни постным маслом. — От каши на воде человек злей становится…
Алексей еще что-то буркнул и замолк. Оставаться на ночь не стал, простился и зашагал злой и крепкой походкой на Крюков канал.
Ксения у двери, одобрительно смеясь, сказала:
— Ух, отец до Революции горячий. Заходи, дядя. Он по субботам из бани приходит добрый. Он еще твое письмо с фронта не может забыть, где ты о победе пишешь.
Засмеялась и захлопнула дверь.
Глава XIV ПЬЯНАЯ УЛИЦА
— Альфред, Альфред, — кричала в окно Лидия. — Альфред, папиросы. — Рука с портсигаром тянулась из форточки.
Альфред нащупал в шинели пачку «Лаферм № 6», махнул равнодушно рукой и устроился удобнее рядом с шофером и Алексеем.
Усевшись, он привычными жестами обтянул на коленях шинель и накрыл длинными полами ярко начищенные сапоги. С высоты по-военному раздвинутых плеч он оглядел растрепанный тулуп, широкую фигуру Константина. Брился он, вероятно, месяц назад. Отдыха нет ни днем ни ночью. Черные иглы ежом топорщились во все стороны. На шее сизое пятно. Пальцы — как в перчатках. Под ногтями — окаменевшая грязь. Папироса, загнанная в самый угол рта, казалось, торчит из щеки.
«Хороший парень… Но неаккуратный… Надо дать отдых…» — подумал Альфред.
Стрелки сидели по бортам грузовика, опираясь на винтовки, и вздыхали всем телом на ухабах. Пулемет показывал из-под брезента черный короткий палец.
— Пальба идет, — цедил шофер, пролетая Невский.
Он посмеивался одними глазами. Алексей смотрел прямо не мигая. На радиаторе красный флажок. Он вьется на ходу, как настоящий флаг.
Вьется, трепещет, летит Красное знамя Революции.
— А один упал рылом в лужу, — продолжал шофер, — захлебнулся и утоп… Утром нашли. Хорошая смерть, говорят. А одна в галошу набрала вина и несет… Мужу на ужин…
Под машину рванулась старушка. Шофер дернул руль и закусил папиросу.
— Э, старая курица… — И, выровняв ход грузовика, продолжал: — А одна сняла с себя юбку, намочила в вине и выставила в окно на улицу — ждет, что замерзнет. Хитрая баба. Домой принесет, а там растает.
Альфред сидел, как изваяние, думал свое…
— А не разогнать их, товарищ комиссар. Пьяному море по колено.
— Мошьно разогнать… — уронил Альфред. — Достаточно пожарных.
«Вот латышская душа, — одобрительно думал Алексей. — Сидит как привязанный…»
Впереди щелкнули выстрелы. На панели народ пошел быстрее.
Шофер перевел на третью скорость.
— Заворачивай прямо на Пушкинскую, — сказал Альфред и, высунувшись из кабины, осмотрел стрелков.
Грузовик обрезал угол тротуара и влетел на Пушкинскую.
Навстречу грузовику ринулась толпа. Редкие револьверные выстрелы гудели в узкой улице, как в тоннеле. Люди забегали за грузовик, как за прикрытие.
— Стой, — скомандовал Альфред, подняв руку. — Сходи, — скомандовал он стрелкам.
Стрелки выстроились в ряд у тротуара. Грузовик развернулся к Невскому. Пулеметчик освободил машину от брезента и сел на ящике с лентами.
— Черных и Лаубе со мной, — сказал Альфред. — Остальные — жди команды.
У шестиэтажного дома стоял солдат в куцей шинели и время от времени палил из нагана в воздух. Около него вились трое отчаянных огольцов, которым он заплетающимся языком читал лекцию о меткой стрельбе. После каждого выстрела летели стекла или сыпалась штукатурка, а солдат довольно и громко икал. Выпустив весь барабан, он опять заряжал револьвер, извлекая патроны из карманов, из подсумка и даже из-за голенищ.
«Часовой», — подумал Альфред, и сказал громко: — Неплохие навыки.
Алексей кивнул головой.
— Заходи. Снять без шума.
Часовой был уверен в своей безопасности. Городские боятся выстрела, как холеры. А если идет солдат — значит, в подвал. К тому же все пошло плясать в этом мире. Даже дома шевелятся — гляди, так и качает стену. Даже трудно стало попадать в окна…
Проходя, Альфред быстро обернулся к солдату.
— Сдай ривόльвер, — сказал он спокойно.
— «Ривόльвер», — передразнил, покачнувшись, солдат. — Катись к своей Фене под колени.
Но Алексей уже крепко взял часового за плечи. Альфред с силой выкрутил револьвер из рук.
— Робя! — заревел солдат. — Караул!
Из раскрытых окон подвала выглядывали красные лица, встрепанные головы.
Альфред дал резкий свисток. Стрелки перебежкой окружали дом. Грузовик задним ходом, щелкая короткой цепью у колеса, шел к подвалам. Из окон уже выглядывало несколько винтовок. Большой человек в разношенной кепке и военной шинели выбросил ноги на снег, сидел в окне и то зорко следил за улицей, то, захлебываясь, ругался и грозил:
— Катись… чтоб в секунд. Щупаки! Перестреляем, как воробьев. Рр-революционному народу… А ты, комиссар, получай.
Он швырнул бутылкой в Альфреда. Бутылка скользнула по снегу и разбилась о тумбу.
— Зови пожарных, — приказал Альфред стрелку.
Из ворот противоположного дома выбежали двое в серых куртках с длинной кишкой. Струя первым делом ударила в лицо ругавшегося. Он неловко слетел с окна, мелькнув в темноте подвала широкими разбитыми подошвами.
Но через секунду он опять большой встрепанной птицей бился в окне. Ничего не видя за струей, он тыкал во все стороны винтовкой. Оборачиваясь, оглушительно ревел что-то в подвал, где шевелились неясные тени.
Стрелки действовали молча, как на учении. Они проникли в ворота, на усеянный битым стеклом двор и обтекали подвал с трех сторон. Громилы, показываясь из подвала, кричали, грозили и ругались.
— Расходись! — крикнул Альфред. — Оружие оставлять. Людям проход свободный.
— Господи, как же пройти? Мне домой… — заметалась в воротах женщина в горжетке.
В подвале бахнула винтовка.
Пожарники протащили кишку еще на сажень. Струя, совсем серебряная на морозе, ударила в разбитые окна подвала. Из рам вылетали застрявшие осколки стекла. По стенам ползли мокрые пятна. Брызги взлетали до четвертого этажа. Подвал заливало ледяной водой.
Громилы вылезали во двор и скапливались у ворот.
— Пущать? — спросил пожарный, живой струей указав на ворота.
Люди шарахнулись.
— Пускай, бей в подвал.
К окну опять протолкалась фигура человека в кепке. Он размахивал темным предметом.
— Жандармы. Комиссары. Бей их в душу, печенку…
— Крой! — показал пальцем Альфред.
Струя сбила кепку.
— Ах так? Получи… твою… душу.
— Ложись, — скомандовал Альфред, придавил Алексея рукой к земле, а сам остался стоять.
Граната легла в снег. Рвануло всю улицу.
Кто-то истошно, по-звериному взвыл.
Середина улицы зацвела серым облачком. Люди на корточках ползли вдоль стен. Стекла шуршали на железных подоконниках, осыпались замедленным дождем. Пожарники, бросив кишку, нырнули в ближайшие ворота. Кто-то затыкал окно в пятом этаже красной периной. К другому, по-видимому, придвигали шкаф. Дворники уносили раненого.
Теперь опять у подвальных окон появилось несколько всклокоченных, мокрых фигур.
Обозленно шлепнуло несколько винтовочных выстрелов.
Пулеметчик на грузовике уже лежал на брюхе. Черный палец «максима» глядел в подвал.
— Крой! — махнул рукой Альфред.
Пулеметчик строчкой прошелся по окнам. Вернулся назад и еще раз к воротам.
— Стоп! — поднял руку Альфред. — Выходи! — крикнул он в ворота. — Складывай ружья. Последний раз. Без задержания.
— Немцы, — вслух размышлял кто-то в подворотне. — Ей-богу, немцы…
— Неужели Вильгельм пришел?
— Латыши это?
— Без задержания. Иначе опять пулемьет…
Громилы выходили один за другим из подворотни пьяного дома и на свету оказывались расхлыстанными солдатами, бродягами, подростками. Подобрав шинели, пускались в рысь вдоль стен. Из карманов торчали цветные бутылки. Одним из последних, ругаясь и кляня, шел парень в кепке. Лицо его было знакомо Альфреду.
— Стой, — указал на него пальцем Альфред. — И тут шумишь… Поспеваешь… Взять!
Солдат шарахнулся назад.
— Меня? Ах ты, чиж размалеванный. Я за революцию… когда ты еще без штанов бегал…
— Пойдешь к Иисусу… гранатчик, — сказал сквозь зубы Альфред. — Я тебя знаю. Твоя фамилия Мартьянов. Где враги Советской власти — там и ты.
Солдат сделал вид, что не понял:
— А я ж ничаго. Я за народ.
Но невольно обеими ладонями он прилип к стенке.
— Вьяжи руки, — сказал Альфред стрелкам.
Солдат смотрел на него широкими глазами. Сквозь пьяный туман и залихватскую наглость проглядывал смертельный страх.
Альфред подошел к нему и сказал:
— Твоя революция пьяная. Твою революцию пролетариат убьет.
Солдат потемнел в лице.
— Запечатать подвал, — сказал Альфред. — Алексей, зови дворников.
Глава XV НОЧЬ ВОСЕМНАДЦАТОГО ГОДА
Беспокойная, насквозь простреленная ночь восемнадцатого года.
К крышам городским прижимаются облака, и луне, седой болотной старухе, не прорваться сквозь них. Краешком воспаленного глаза она глянет в просвет на город — там грязный снег, редкие голые сучья, сизые камни, люди с винтовками и поднятыми воротниками — и прячется опять за середину набегающих одна на другую зимних туч.
Дом строен при Николае I, основательно и громоздко. Окна четвертого этажа черны. В рассеянном свете ночи они кажутся нарисованными углем на желтом фасаде, как на декорации.
У начальника патруля, котельщика Пивоварова, на боку маузер. У Алексея и двоих красногвардейцев — винтовки.
— Сколько выходов из квартиры, товарищ?
Дворник жмется, кутается в волчью клочковатую шубу. Весть об обыске прогнала сон. Заменила тепло, накопленное в долгой неподвижности, мелкой дрожью, ознобом.
— Черный ход на пятую лестницу…
— Зря не взяли больше народу, — говорит рыжеусый красногвардеец.
— Пулемета еще не хватает. А то разве гаубицу поставить?
Алексей не пожелал скрыть свое презрение к такой осторожности. Не первая ночь, не первый обыск. Он берется один ходить на офицерские берлоги. Злости у них много в глазах, а руки трясутся… Страх за жизнь перешибает страх за добро.
— Обойдемся, — спокойно говорит Пивоваров. — Ну, веди, товарищ. Сперва нас двоих на парадную, потом вот их на черный ход.
Сведения о квартире № 36 говорили, что здесь к двоим офицерам-павловцам, холостякам, сходятся товарищи по полку, бывает подозрительная молодежь. Часто пьют, кутят, приводят женщин. Вносят, выносят какие-то свертки. Живущий на заднем дворе рабочий-путиловец подозревал более серьезные дела, нежели простое разбазаривание барской квартиры. Однажды во время кутежа в квартире раздался выстрел. Ночью вынесли по черному ходу большую корзину.
По свистку с черного хода Пивоваров нажал кнопку звонка и одновременно постучал в дверь.
Тишина тянулась, томила. Алексей сгорал в нетерпении, как смелый, но неопытный охотник перед медвежьей берлогой. Пивоваров позвонил еще раз и застучал в дверь рукояткой маузера.
— Спят, буржуй треклятые…
— Кто? — раздался неясный, скорее, мужской голос.
Дворник выступил вперед, назвался, приникнув лицом к двери.
— Почему ночью?
— По ордеру из Совета…
Резкий звук с размаху замкнутой двери — и тишина…
— Ого! — сказал Пивоваров. — Кажется, здесь серьезно.
Он распахнул окно во двор и слушал.
Двор дышал тяжелой ночной сыростью. Все было тихо, но Пивоварову казалось — все напряжено, как будто тысячи ушей слушают за стенами во тьме. Припав к двери щекой, слушал и Алексей. Ему не терпелось бить, громить эту дверь прикладом. Расстрелять бы всю квартиру из пулеметов, не разбираясь, кто там и что там…
Придется кому-нибудь сбегать к телефону вызвать наряд.
Выстрел вырвался во двор, должно быть с черного хода. За ним второй.
«Поздно», — подумал Алексей и, не сдержавшись — невмоготу было больше, — ударил прикладом в самую середину двери. Пустым легким металлом зазвенели судки и кастрюли. Теперь он и Пивоваров по очереди громили дверь. Вздрагивая и ослабевая, отходила доска. Уже можно было просунуть руку, как дверь сильно дернуло выстрелом. Алексей и Пивоваров отпрянули, но сейчас же ввели дула винтовок в щель, откуда полз серый дымок. Беспорядочно гремели выстрелы. Дворник бежал вниз, путаясь в длинной шубе. В окнах напротив зажигали робкий, немедленно погасавший свет.
— Бей! — крикнул Пивоваров.
Приклады работали, как молоты.
Вдруг Алексей выругался, подскочил вплотную к двери, просунул руку в щель, вскрыл болт и повернул французский замок.
Револьверная пуля загремела в судках.
Редкая ночь восемнадцатого года проходила без обысков. Попадались осиные гнезда. Но в таких случаях операция проводилась с достаточными силами.
Теперь звуки выстрелов действовали на Алексея как личный вызов. Не он ли твердил каждый день, что город полон врагами. Ему ли не знать, что в первую очередь покинули фронт и устремились в столицу самые непримиримые из офицеров. Дом на Крюковом также полон такими дезертирами, поставившими ненависть к революции выше безопасности родины.
Он не думал ни об опасности, ни о помощи. Он громил теперь вторую дверь. Он рвался в квартиру с азартом личной ненависти. Пивоварову оставалось следовать за ним. Вторая дверь поддалась легче. Алексей включил свет. Кто-то убегал в коридор, роняя стулья. Алексей прицелился, но свет погас. Должно быть, убегающий повредил провод.
Пивоваров сердито чиркал спичками.
Под рукой Алексея раскрылась какая-то дверь. В темноте туманными пятнами выступали окна. Высоко в углу горели два золотых глаза, и резкий голос равнодушно сказал:
— Ваше здоровье, господа.
От неожиданности Алексей отступил к двери. Рука его нашла выключатель. Линия была цела — свет вспыхнул, — в углу, в большой золоченой клетке, сидел попугай…
Алексей готов был пристрелить пеструю птицу, но Пивоваров увлек его в коридор. Дело не было кончено. Выстрелы один за другим громили тишину глубокого двора.
Пивоваров ринулся на парадную. Квартира не уйдет. Важно захватить бандитов.
Под ногами Алексея, заливаясь злобным лаем, кружилась комнатная собачонка. В конце коридора вспыхнул свет. В ванной комнате, плотно прижавшись к белым кафелям стен, сидели, вздрагивая от холода и страха, две старушки. Держа винтовку перед собою, Алексей пробежал к черному выходу. В дверях его обожгло выстрелом. Он едва не выпустил винтовку из рук. Выстрел был сверху. На узкой, грязной чердачной лестнице стоял человек. Ослепленный выстрелом и гневом, Алексей ринулся наверх. Человек растерялся, Алексею удалось выстрелить раньше. Человек упал, свесив руку над колодцем лестницы.
Три офицера не ждали, покуда красногвардейцы ворвутся в квартиру. Братья-хозяева в кратких словах сообщили гостю — Воробьеву, что допустить обыск невозможно. Кладовые, антресоли, кабинет набиты оружием. Досадно — через два дня все оно было бы переправлено в пригород, на дачу. Остается прорваться с боем.
Воробьев не колебался ни минуты. Кто поверит, что он оказался здесь случайно? Он тихо снял болты и сразу настежь раскрыл черную дверь. Воробьев и старший Корнеев выстрелами оглушили красногвардейцев, вихрем слетели вниз, ринулись к улице… Но деревянная дверь в воротах была заперта. Воробьев принялся громить ее плечом. Корнеев обстреливал двор из-за угла подворотни… Он ранил в плечо рыжеусого рабочего. Другой рабочий стрелял по подворотне из-за штабеля дров.
Пивоваров видел, как опустился на снег рыжеусый. Кто-то тяжелыми ударами громил калитку. Дом настороженно молчал. Стрелявший в рыжеусого офицер спрятался за угол. Пивоваров выстрелил в подворотню и вместе с четвертым красногвардейцем бросился к воротам. На его глазах раскололась под нечеловеческими ударами деревянная калитка. Офицер-великан выскочил на улицу. Другой, отстреливаясь, бросился вслед, ранил красногвардейца, но не избег встречи с Пивоваровым. Они сшиблись врукопашную у ворот. Воробьев выстрелил. Пуля обожгла шею Пивоварова. Но он не выпускал горла врага. На него уже смотрели страшные выкаченные глаза. Руки, выпустив оружие, болтались, как плети. Только увидев Алексея, сбежавшего вниз по черному ходу, Пивоваров с трудом разжал пальцы. Труп мягко выпал из его объятий.
Спустя четверть часа агенты ЧК уже были в окруженной нарядом квартире. Карета скорой помощи увезла Пивоварова.
Только миновав несколько поворотов, постепенно успокаиваясь, Воробьев пошел шагом.
Улицы были безлюдны. Нет городского гула от тысячи колес, полозьев, от шарканья подошв, от грома трамваев, от вздохов отяжеленных мостов, и каждый звук живет этой ночью по-деревенски, отдельно. Взвизгнут железные ворота, проскочит из улицы в улицу одноглазый грузовик, сердито охлестывая мостовую обрывком цепи, ударит винтовочный выстрел, пробежит кто-нибудь, прогремев, как подкованный, по мерзлым тротуарам, — ко всему прислушиваются погруженные во мрак дома с одинокой лампочкой над воротами.
У каждого дома — дежурство. Дворникам нет доверия, да их и нет в большинстве домов. Из каждой квартиры — по двое, по трое — дежурит молодежь, чтоб не проникали в дом налетчики и воры, дезертиры, объединившиеся в шайки, и домушники, чердачники и просто хулиганы — поднявшаяся со дна муть столицы, еще не обузданная молодой, решительной властью. Но сторожа носа не показывают на улицу. Они отсиживаются за тяжелыми воротами. Неохотно открывают дверь даже хорошо знакомым жильцам.
По утрам, отправляясь на рынок или к вокзалам, чтобы перехватить токсовских и волосовских молочниц, хозяйки сообщают друг другу — на какой улице, в каком этаже разгромили квартиру, у кого унесли белье, с кем покончили, кого увели или поранили. Слух идет винтом по квартирам бывших чиновников, бывших дворян, бывших врачей, бывших инженеров, бывших офицеров, и, не веря ни в милицию, ни в райсоветы, ни в божью охрану и убережение, «бывшие» сами стоят у ворот, охраняя набитые рухлядью квартиры и нервный сон жен, дочерей и родителей.
Хорошо, если в доме одни рабочие, — им нечего бояться налета. В городе есть много более легкой и ценной добычи.
Хорошо, если в доме много военных. За небольшую плату они берут на себя ночную заботу.
Плохо стало жить в домах с зеркальными окнами, с парадными, подобными входам в готические соборы, с опустевшими швейцарскими и возросшей на ветру революции славой былого богатства, за которую в эти дни надо расплачиваться подсекающей сердце злобой и бессильной острой тревогой.
Переборов естественное волнение, в подворотню дома на Крюковом Воробьев вступил уже с обычной для него спокойной улыбкой. Он приветливо раскланялся со знакомыми и вспомнил, что Синьков и Маргарита собирались дежурить сегодня не в очередь.
И вот, перебирая вздрагивающими от неприятного холодка плечами, он широко шагает вдвоем с Синьковым. Когда они стоят рядом и сверху вниз посматривают на всю прочую мелкоту, всем собравшимся в подворотне кажется, что это люди другого, довольного собой племени. С ними и дежурить спокойнее, к тому же у них по револьверу в кармане, и потому сегодня здесь веселее обычного.
В самых кратких словах Леонид рассказал Синькову о случившемся. Да, слава богу, что для них обоих все обошлось. Вот только если солдат из шестого номера его не узнал в последнюю минуту. Воробьев сам видел его какую-то долю секунды в свете тусклой лампочки. Лица Воробьева Алексей, конечно, не видел. Тем не менее с ним надо быть очень осторожным.
Адрес Корнеевых получен был в Гельсингфорсе. Это немецкая агентура. Значит, связь порвалась. Восстановить ее трудно. С приходом красных гельсингфорские полковники и лейтенанты разбежались или зарылись в подполье. Иваныч не хочет и слышать о финнах и немцах. Выжидает, старый хрыч…
Дважды прошли по улице со стрельбой пьяные. Женщины убежали во двор. Кто-то кричал на улице за углом, звал на помощь, но пока Воробьев и Синьков дошли до угла, все стихло.
Патрули проходили, стуча каблуками сапог, заглядывали в подворотни, отпускали ехидные словечки и шли дальше.
На бетонной лестнице — две ступени из-под ворот в контору, — собравшись комочком, сидит молодая женщина. Из-под серого со штопкой платка — черная прядь. Любопытные яркие глаза глядят, не скрываясь. Она ни с кем не вступает в беседу, хотя знает Катьку-спекулянтку весь двор. Была она машинисткой, была белошвейкой, служила в Крестьянском банке. Сейчас ничего не делает. Бедовая баба, с голоском на весь квартал. Сейчас она притихла — среди «благородных». Рядом с ней еще одна девушка. Сонные глаза показывают, что за день она умаялась и ей не до зрелищ. Это «прислуга за все» со второго двора.
Синьков взволнован рассказом Воробьева. Хорошо, что связь не была закреплена. Синьков шел на нее без большой охоты. Лучше бы к англичанам. Но немцы были ближе, а ненависть к большевикам слепила глаза. Сейчас внимание его отвлекает впервые сошедшая сюда дочь самого домовладельца, Елена Бугоровская. У Синькова в горле сжимает от этой ослепительной красоты. Платок пуховый и материна шубка кажутся на ней сценическим нарядом. Иногда лицо у нее как неживое — тончайший прозрачный фарфор, и только глаза нарисованы щедрой кистью. Но вот она раскроет влажные тонкие губы, сверкнет безупречный ряд зубов, и лицо, еще не наливаясь теплом, оживает. Ею любуются, но она не чувствует нужды хотя бы бровью повести для того, чтобы показаться еще лучше. Отец мог бы нанять в охрану хоть десять человек из безработных офицеров, но почему бы не пойти тайком от своих на четверть часа, раз это любопытно. Синькову удалось заговорить с нею, и уже полчаса прошло с тех пор, как она внизу и все не уходит. Нина робко смотрит сестре в глаза и сжимает ее руку слабыми пальчиками.
Позже в подворотню спустилась никому не знакомая ясноглазая девушка с пышными, какие не спрячешь, волосами. Она держалась в стороне и то и дело уходила в молчаливый, заложенный штабелями дров двор.
В одиннадцать часов сошел высокий человек в военной шинели. Ни к кому в частности не обращаясь, он спросил:
— Я из квартиры профессора Гейзена. Кто здесь записывает?
— Кто же это у Гейзенов? — шепотом спросила Нина. — У них ведь не было взрослых детей… И все они в отъезде. Во всей квартире только племянник, приехавший с фронта, и кухарка.
— Не все ли равно, — перебила ее Елена и отвела свой взор. У пришедшего было открытое обыкновенное лицо, русые, давно не стриженные волосы, неопрятными завитками побежавшие по затылку, и мягкие серые глаза.
Воробьев, проходивший мимо пришельца, махнул рукой:
— Пришли, ну и дежурьте свои два часа. Какая тут запись.
Пришелец стал ходить по двору, оглядывая черные окна и как бы только впервые знакомясь с домом.
Маргарита сбежала вместе с Петром. Они внесли шум и смех. Маргарита бросилась обнимать Елену и Нину. Елена снисходительно дала поцеловать себя в шелковистую холодную щеку.
— И вы тут? Ну, значит — здесь салон, — щебетала Маргарита. — Поставить гостиную мебель, граммофон, и можно открыть танцы.
— Ты готова танцевать на кладбище, — важничая, заметил Петр.
— Здесь прекрасный асфальт, почти как паркет, — сказала, кружась, Маргарита.
Воробьев взял ее под руку и не спеша повел во двор. Петр, покачавшись на каблуках, посмотрел им вслед и нырнул в темноту лестницы. Кровать прельщала его значительно больше прекрасного асфальта подворотни.
В замке чугунной двери на улицу — длинный ключ. Входивших и выходивших пропускал тот, кто был ближе к двери. Один из посетителей, намеревавшийся быстро пробежать подворотню, увидав Елену, сразу сломал поспешный свой шаг, замялся, вынул папиросу, спросил у Синькова огня и пустился с ним в рассуждения о ненормальном времени. Синьков, которому он помешал, насмешливо следил за собеседником, то и дело стрелявшим глазами в сторону Елены. Наконец Синьков не выдержал и спросил:
— Вы, гражданин, уходите или решили здесь заночевать? Тогда я запру дверь.
— Я сейчас, сейчас, — смущенно сказал гражданин, вынул изо рта папиросу и, подавив вздох разочарования, прошел на улицу, не отрывая взоров от Елены.
В подворотне раздался смех, сперва сдержанный, а потом, когда разрешающе улыбнулась сама Елена, более громкий.
Между тем гражданин в дверях столкнулся с Алексеем. Черных занес было ногу, чтобы переступить порог, но должен был податься назад перед напором человека, который выходил на улицу, не глядя перед собой.
— Тут весело, — сказал Алексей и шагнул через порог.
Он еще был под впечатлением боя. Странно было слышать смех в такую ночь…
Смех стих. Воробьев, Синьков демонстративно отвернулись. Ясноглазая девушка ушла глубже в темный двор.
Алексей внимательно осмотрел всех дежурных, протянул руку пришельцу из квартиры фон Гейзена.
— И вы уже дежурите?
Белокурый был рад знакомому лицу. На днях, когда он с чемоданом и ремнями переезжал в квартиру профессора, этот солдат встретился ему на лестнице. Он указал квартиру, он проводил до самой двери и, так как руки приезжего были заняты вещами, любезно нажал кнопку звонка.
— Жить здесь будете? — спросил он.
— Да, на время. Меня пригласил фронтовой товарищ, племянник профессора, поручик фон Гейзен. Квартира ведь пустая.
— Сбежал профессор, — недобродушно улыбнулся солдат.
— Нет, он, кажется, застрял на Кавказе. Выезда нет…
— Ну, живите благополучно. А вы сами тоже офицер будете?
— Военного времени. Я из студентов.
— Тут много офицеров живет. Не скучно будет.
Та же недобродушная улыбка играла на лице Алексея, и, должно быть, от нее становилось белокурому неловко.
— Это общество мне уже и на фронте поднадоело, — махнул он рукой и прибавил мечтательно: — Лучше бы удалось поучиться.
Теперь Дмитрию Александровичу Сверчкову — так звали белокурого — захотелось на глазах у всех отнестись к этому солдату благожелательно. Он крепко пожал ему руку. Пусть все видят. Алексей почувствовал пожатие, посмотрел на Сверчкова чуть скептически, но задержался.
— Как на новоселье?
— Ничего, отдыхаю, а потом надо было бы за какое-нибудь дело.
— Служить?
— Лучше бы учиться. Но придется и работать.
В ворота постучались.
Сверчков подошел к двери и спросил:
— Кто?
— Пустите, — шел из-за дверей сырой, без всякого звона голос.
— А вам куда?
— Куда нужно… Впустите, говорю.
— А паспорт есть? — хихикнул Синьков, поглядев на дежурящих и как будто сообщая им, что он решил пошутить.
— Бросьте дурака валять.
— Что вы, я вас пальцем не тронул, — острил Синьков.
В дверь ударил увесистый кулак.
— Стучать будете — и вовсе не пустим.
— Тьфу, дьявол, да кто вы такие?
— Это уж вы скажите, кто вы такой.
— Ну, я из тридцать четвертого номера — Смирнов.
— Ну, так бы и сказали. Ходите поздно. Что жена скажет?
Бормоча недоброе себе под нос, рыхлый человек в коротком рыжем пальто прошел во двор.
Через несколько минут сбежала горничная Бугоровских.
— Барыня беспокоится, что вы так долго, — обратилась она к Елене.
— Барынь теперь нет, товарищ, — сказал вдруг Алексей и выступил вперед. Его бесило это слово, зажигало под сердцем неуютный огонек. — Бар всех в Неву побросали. А каких не успели — те еще дождутся…
В подворотне осела вдруг тишина. Казалось, даже ветер улегся где-то у стены и затих.
Воробьев крякнул и выпрямился. Маргарита повисла у него на руке.
— Привычка, — махнула рукой горничная. — А известно, какие теперь баре? Подмоченные… — добавила она презрительно.
— Хам! — прошептал Синьков. — Расселся в генеральской квартире…
— Не надо, — тихо сказала Елена. — Я пойду. До свиданья. — Не подавая никому руки, она увела дрожащую, испуганную Нину.
— Не скоро еще отвыкнут, — почел долгом сказать Сверчков. Но сказал он это так, в сторону. Полные губы Алексея сжались и побелели.
«Отучим, как козырять отучили», — думал он про себя и если не сказал вслух, то из-за Сверчкова. Нарочито крепким рукопожатием он простился с ним и ушел.
Тогда девушка-незнакомка, которая удалилась было во двор, вернулась в подворотню. На ней было худенькое пальто, и ноги были высоко открыты. Была в лице ее большая прелесть от пышных волос и серых ясных глаз, простая и женственная прелесть, которую можно не заметить, но, заметив, нельзя забыть.
Сверчков стоял около девушки, изредка посматривая в ее сторону, и не уходил. К утру незначительные фразы, редкие, необязывающие, сделали знакомыми всех, кто был в подворотне, — и офицеров, и Катьку, и сероглазую девушку.
Хмурый свет ленивого утра постепенно разливался по улице. Проводив ясноглазую девушку до квартиры генерала Казаринова, где обитал теперь Алексей, Сверчков отправился спать.
Ульрих Гейзен уже лежал в постели. На ночном столике громоздилась пачка книг. Днем и ночью он читал много, жадно, без разбора, словно бы отгораживаясь от жизни пыльными полками книг, уходя в мир особых книжных измерений. В нем были задатки ученого. Род Гейзенов славился профессорами и доцентами. Но дядя не верил в добрую судьбу Ульриха. В племяннике было мало спокойного упорства, много порывистости. Мало мудрой рассудительности, много поспешности в суждениях.
Сверчков выбрал одну из книг на ночном столике и стал укладываться.
Дружба Сверчкова и Гейзена одинаково знала часы обоюдного молчания и взрывы горячих бесед…
Глава XVI РАНТОВЫЕ ГВОЗДИ
Тихон Порфирьевич Шипунов любовался своим умением появляться неожиданно и беззвучно. За эти американские неслышные ботинки с каучуковой подошвой в два пальца он заплатил уйму денег. Анастасия Григорьевна старательно выщипывала у туалета брови. Шипунов подошел и звонко чмокнул ее в открытое плечо.
Анастасия Григорьевна вздрогнула, уронила серебряные щипчики, инстинктивно запахнула пеньюар и вся съежилась.
— Опять! — раздраженно крикнула она. — Кто вас впустил?
— Сам вошел, — радовался Шипунов. — И, представьте, не заблудился.
— Но я вас тысячу раз просила не входить без стука. Это невежливо. Даже к жене надо стучаться.
— Даже к жене? — удивился Шипунов. — Хорошенькое дело.
— И чмокаете громко, как сапожник.
— Сапожникам теперь завидуют… Они зарабатывают больше, чем профессора…
Успокаиваясь, Анастасия Григорьевна что-то соображала.
— На вас нельзя даже сердиться. Вы — самородок. Но вас надо учить.
Она протянула ему розовые пальцы.
— Учите, Анастасия Григорьевна, пожалуйста, учите.
— Мы будем взаимно, — шепотом заговорила Демьянова. — У меня опять не хватает верхнего материала. Вчера в моей мастерской на два часа раньше кончили работу.
— Надо было из обрезков делать детские тапочки.
— Ах, я не догадалась. Действительно, какая я непрактичная.
— Вы замечательная.
— Глаза у вас сладкие…
— Ай, вы со мной делаете такое… — Он потянулся к ней, но уже не так решительно.
— Нет, нет, — отстранилась Анастасия Григорьевна. — Условие помните? Нейтральная территория. И, пожалуйста, Тихон Порфирьевич, — со слезой в голосе продолжала она, — чтобы дети не знали… Если Маргарита или Петр хоть что-нибудь узнают… и о мастерской… Я все тогда брошу. Все, все… — Она сдавила виски руками. — Тогда все равно.
— Зачем? — скривился Шипунов. — Совершенно незачем. Такие деликатные дети… Хотя Петру уже восемнадцать лет и он, наверное, все понимает и мог бы даже помочь…
— Нет, нет. Вы меня не убедите, Тихон Порфирьевич. Я вас очень прошу.
— Хорошо, — заговорил вдруг деловитым тоном Шипунов. — Замшу я привезу утром. Пришлите ко мне домой Лену.
— Лучше Сашу…
— Нет, лучше Лену. И процентов десять накиньте.
— Опять?
— Все дорожает, дорогая Анастасия Григорьевна. Сахар почем берете? Ну то-то же. Сами накинете двадцать.
— Скоро не будут брать.
— Будут. Женщины хотят нравиться не только офицерам, но и комиссарам.
— Вы думаете?
— А вы как думаете? — Он противно захихикал. — Только с рантовыми гвоздями гораздо хуже. Я хотел с вами говорить. — Он перешел на шепот. Он совсем наклонился к Анастасии Григорьевне. — У вас есть связи с заграницей…
— Никаких, никаких, Тихон Порфирьевич. Это вам насплетничали. Наверное, Ленка… Какие могут быть связи?
— Ну какие-нибудь… завалящие… Послов для этого не надо… Привезти партию гвоздей…
— Не знаю, не знаю, — волновалась Анастасия Григорьевна.
— Вам привозят пудру Коти. Духи у вас, — он взял пузырек со стола, — Амбре антике, — прочел он по буквам.
— Амбр антик.
— Ну, все равно… А впрочем, как? Что значит? Наверное, древние пахли иначе. Почему это — чулки, туфли можно… — Анастасия Григорьевна спрятала ноги под стул, — а гвозди нельзя? Попросите небольшую партию рантовых гвоздей. Мелочь.
— Не знаю, не знаю.
— Иначе придется бросить мужскую обувь. Кстати, вы слышали? Казариновы исчезли… И как долго никто не знал.
— Настя рассказывала Лене… Но куда?
— Или на восток, или на запад…
— Все бегут, все бегут. Не знаю, не знаю, что лучше.
— Верьте мне, — постучал в грудь Тихон Порфирьевич, — здесь уже все было, а там еще все будет.
— Правда? — умиленно смотрела на Шипунова Демьянова.
На самом деле Анастасия Григорьевна была потрясена исчезновением генеральской семьи. В такой момент покинуть город, квартиру… Но, по-видимому, Казариновы знали, что делали. С другой стороны, становилось невозможно существовать. Если бы не ее предприимчивость, дети бы уже голодали. Это надоумил ее Шипунов — незаметное, полупрезираемое прежде существо, какой-то фельдшер на побегушках у ее покойного мужа. Но именно теперь этот фельдшер внезапно развернулся. У него оказались такие полезные знакомства. Он рыскал по городу, мог все достать и знал все цены. Он не всегда опрятен, надоедлив… Но, господи, чего не вытерпишь в этой жизни. Эту истину Анастасия Григорьевна усвоила уже давно и очень крепко. Жизненный путь не усеян розами.
— Можно? — раздался за дверью голос Воробьева.
Анастасия Григорьевна застегнула ворот пеньюара.
— Это вы, Леонид Викторович?
Воробьев и Синьков показались в дверях, но, увидев Шипунова, остановились.
— Ну, словом, мы у вас в гостиной…
— Я только приведу себя в порядок. И потом дела, дела…
— О, вы — деловая женщина.
— Тихон Порфирьевич, смывайтесь. Я научилась вашему жаргону… О ужас!
— Не забудьте гвозди… Рантовые гвозди.
В гостиной две сестры Поплавские кружились на месте, взявшись за руки. Братья Ветровы листали изученные до застежек семейные альбомы. Маргарита лениво перебирала ноты, разговаривая с Воробьевым.
Анастасия Григорьевна в лорнет осмотрела комнату.
— Дети, на дворе холодно?
— Лютый мороз, — запрыгал на месте Петр, дуя в сжатые кулаки. — Надень боты.
— А вы что будете делать?
— Только не карты, — взмолилась Маргарита.
— Будем танцевать, — предложила Поплавская.
— Найдем дело, — успокоил Анастасию Григорьевну Синьков. — Скучать не будем.
— Ах, если бы я могла половину моих дел передать кому-нибудь. Но, видимо, теперь — пора деловых женщин…
— Мы все рады работать, — вставил Воробьев. — «Товарищи» не дают.
— А вы к ним обращались? — спросил вдруг Олег Ветров.
— И не подумаю.
— Олег, заткнись, — вскрикнула Маргарита.
— Марго…
— Теперь все так, мама.
— Ты дочь профессора…
— То, что «товарищи» могут предложить, мы и сами найдем. В порту бочки катать? Снег чистить?
— Полезнее железки, — сказал Игорь Ветров.
Воробьев шагнул к близнецам, остановился и отошел к окну.
— Леонид Викторович, можно вас на минуту для конфиденциальной беседы?
Анастасия Григорьевна отвела Воробьева в переднюю. Они сели на стульях у трюмо, близко друг к другу.
— Вы опять исчезали?
— Да, около двух недель.
— Маргарита говорила, с удачей?
— Относительно…
— Леонид Викторович, я вам как-то говорила о моей мастерской. Я этим кормлюсь сейчас. Поддерживаю детей… Ах! Этот страх за каждый день!
— Перемелется, Анастасия Григорьевна, — взяв ее за руку, механически и смущенно утешал Воробьев. — Не могут же большевики держаться дольше весны.
— Говорили — две недели… — не отнимая руки, тосковала Анастасия Григорьевна.
— Да… Но сложилось иначе.
— Слушайте, Леонид Викторович, мне нужны гвозди.
— Гвозди? Какие?
— Рантовые, что ли. Словом, сапожные. Такие, каких здесь не делают.
— Ах, вот что, — понял Воробьев. Он помолчал. — Не знаю, Анастасия Григорьевна. У меня такое ощущение, что это был наш последний рейс.
— Но ведь вы даже на аэроплане умудрялись…
— Да, в октябре — ноябре… Тогда у большевиков можно было стащить поезд. Теперь у нас были детские салазки… И нас плохо принимали… В Гельсингфорсе вместо наших друзей мы встретили Чека и Совнарком. Проще говоря, мы едва унесли ноги. — Лицо Воробьева стало хмурым. — Может быть, можно купить здесь, за валюту.
— За валюту? Я спрошу…
— Единственно, что могу предложить, — встал Воробьев.
Анастасия Григорьевна у зеркала пудрила нос и под глазами.
— Все дети, дети…
Дети между тем расшалились. Петр гремел на гитаре «Трубачей», наступая на сестер Поплавских. Синьков гонялся вокруг стола за Маргаритой.
Увидев Анастасию Григорьевну, все притихли.
— Петр, Маргарита. Стόит мне на порог, вы чувствуете себя на танцульке. Смотрите — Олег и Игорь, они всегда держат себя с достоинством.
— На то они большевики.
— Выходит, большевики воспитаннее.
— Вы каждый день ходите к большевикам? — дурашливо спросила Маргарита. — Что они там делают?
— Преимущественно учатся, — ответил Игорь.
— Чистить карманы, — брезгливо обронил Синьков.
— По статистике уголовного розыска, это сейчас делают преимущественно бывшие офицеры, — сказал Олег. — А большевики учатся управлять государством.
Воробьев взлетел со стула:
— Вы… молодой человек… Не следует злоупотреблять терпением.
— Леонид Викторович, — удержала его за рукав Анастасия Григорьевна. — Он ведь не серьезно… И потом — нужно быть терпимым.
— Конечно, терпение, — злобно прошептал Воробьев. — Мы мастера терпеть… Доказательства налицо.
— Да. Нужно было вешать вовремя, — тяжело дышал Синьков.
— Вешали. Но всех не перевешали бы, — спокойно заметил Игорь.
— А вы не дразните, — рассердилась Анастасия Григорьевна. — Я вас перехвалила. Вы ведь для курьеза большевики.
— Черт их знает. Может, они по ночам с обысками ходят.
— Ходим, — так же спокойно сказал Олег.
— Ну, это черт знает что! — Воробьев швырнул стул в угол. — Анастасия Григорьевна, берегитесь этих друзей. Они и к вам придут…
— К знакомым и родным не посылают, — деловито возразил Олег.
— Слышали? Только из уважения к вам я сдерживаюсь. А то бы пересчитали ступеньки…
— Мясник, — обронил Игорь и уткнулся в альбом.
Воробьев стукнул дверью и вышел.
Ветровы, развернув по альбому, сидели, как будто ничего не случилось.
Раздраженный столкновением с Ветровым, Воробьев направился к центру города. На Стремянной в одном из серых, до зевоты скучных домов, какие составляют основную массу старого Петрограда, во втором дворе он потянул черную ручку звонка николаевских времен.
— Здесь проживает господин Август Спурре? Я от его знакомых из Гельсингфорса.
Старая женщина, утиравшая руки грязным передником, отступила, пропуская Воробьева в темную и сырую, как погреб, переднюю.
Если господин Август Спурре не совсем походил на шар, то он во всяком случае успешно стремился к этой совершенной форме. На безбровом, безусом розовом лице быстро мигали маленькие глазки с розовыми кроличьими веками, пухлые губы выдавали сладострастность натуры, а короткие пальцы — любовь к деньгам и чревоугодию.
— Чем могу служить? — спросил он Воробьева без всякого акцента.
Воробьев вынул из бумажника визитную карточку и молча подал ее Спурре.
— Очень хорошо, очень хорошо, — твердил господин Спурре, рассматривая карточку со всех сторон. — Я могу познакомить вас с лицом, которое вас интересует. — Он задумался. — Господин Тенси — очень занятой человек. Допустим… Сегодня у нас среда. Можете ли вы в пятницу, в семь вечера — безобидный час, — зайти на Невский в третье по счету кафе от Владимирского к вокзалу… Там столики, какао, кофе. Я буду с господином Тенси.
Господин Тенси был точен, и в семь вечера в пятницу они втроем пили горячее, но скверное какао в подвальчике дома против кино «Колизей».
— Меня интересуют две вещи, — цедил сквозь зубы американец, глядя прямо в лицо Воробьеву, — разумеется, только в плане частных интересов.
Воробьев счел за лучшее сказать, что он совершенно незнаком с английским языком. Спурре переводил ему фразу за фразой. Воробьев не пожалел об этой предосторожности.
— Пусть этот бык думает, что мои личные дела — это все. Второе придет после некоторой проверки. Это не переводите, — тем же тоном цедил Теней.
«Ах ты, гнида», — подумал Воробьев, хотя на гниду этот массивный толстоносый человек в мохнатом туристском костюме походил меньше всего.
— Я — любитель искусства. Мы, американцы, тратим уйму денег на все это… — Он сделал широкий жест растопыренными пальцами мясистой руки. — Во время такой разрухи гибнут мировые ценности. Нетопленные квартиры. Отсутствие ухода, прислуги. У вас даже музеи не имеют дров. Я охотно покупаю для себя и для друзей предметы искусства. Но настоящие, — он поднял руку, сверкнув рубином большой запонки. — Настоящие… Тициан, Мурильо, Гальс, Дюрер и Рембрандт, особенно Рембрандт, — у нас в Штатах тысячи три Рембрандтов. Можно лучших русских художников. Ну, кроме картин, скульптура, ювелирные изделия, фарфор: Гарднер, Чельси, Мейсен и вот этот, ваш Петербургский. Редкие книги. У вас — Коран Османа, есть Эльзевиры. Старинные иконы, византийского и грузинского письма.
— Но ведь я ничего в этом не понимаю.
— И нечего понимать. Зато вы знаете город. Вы найдете пути. Оплата валютой. Можно белой мукой, сахаром, рисом. Очень хороший бизнес для вас…
— Не пренебрегайте, — сказал Спурре, когда они остались одни. — У них три тысячи Рембрандтов. Он написал не более пятисот полотен. Вот сделайте выводы из этой арифметики, — он мелко и хитро захихикал.
Воробьев был в дурном настроении. Он ожидал другого. Но, судя по не переведенной ему фразе, будет и что-то другое. Все равно — деньги нужны. Не заходя домой, он поднялся к молодому художнику Коле Евдокимову и, не здороваясь, с порога спросил его:
— Вы можете добывать картины, ну, всяких там мастеров, старые иконы и все такое?.. За муку, рис, сахар… — И, прежде чем тот успел ответить, заявил: — Мы с вами будем искать. Доход поделим.
Евдокимов не скоро понял, чего от него хотят. Но и сам он и его друзья нуждались в самом необходимом, и вскоре к мистеру Тенси потекли иконы в древних ризах из купеческих квартир на Гороховой и Вознесенском, картины с Потемкинской и Фурштадтской, фарфор и бронза из Царского Села. К делу приспособили и Синькова. Голод подстегивал этих добровольных комиссионеров и открывал двери квартир, когда-то многолюдных, а теперь оставленных на одиноких бабушек, тетушек и прислугу. Тенси платил скупо, но аккуратно.
Через месяц Тенси познакомил Воробьева и Синькова с иностранцем, которого он отрекомендовал как своего друга.
— Вы сильные и смелые люди, — не то спросил, не то сказал утвердительно друг господина Тенси.
Воробьев пожал плечами.
— Мне сказали, что на вас можно положиться.
Воробьев ждал.
Это молчание понравилось иностранцу.
— Нам нужно два человека для одного дела, которое может не понравиться вашему правительству, но нужно для общего успокоения и порядка.
— Пожалуйста, — просто сказал Воробьев.
После этого разговора каждые три дня, захватив рыболовную сеть и удочки, друзья отправлялись под вечер с Елагина острова к финским берегам в небольшом ялике, который обычно стоял на замке у моста. Во тьме, мигая крохотным огоньком, к ним подходил быстроходный катер. На носу стоял неразговорчивый финн с трубкой в зубах и в кожаной ушанке, молча принимал небольшой пакет и вручал Воробьеву такой же.
Высокий черный человек в назначенный час поджидал Воробьева в Летнем саду на пустынной набережной Фонтанки. Он принимал и отдавал пакеты, оглядываясь во все стороны. Это был Леонид Иванович Живаго, мелкий служащий одного из посольств.
Однажды лодка была обыскана сторожевым катером порта. Пакет своевременно пошел на дно. Такова была инструкция. Молодые люди ловили рыбу. Это было более чем естественно в эти трудные годы. Это могло быть спасением от голода.
За эти ночные поездки платили куда лучше, чем за поддельного Веласкеза или подлинного Репина.
Глава XVII УГЛОВАЯ КОМНАТА
Настя осталась у крыльца. Рукавом она вытирала пот со лба. Не так легко, хотя бы и вдвоем, прокатить тележку по свежему снегу с Крюкова канала до исполкома. Корзины, ящики, плохо увязанные, плывут во все стороны. И, главное, нет покоя на душе. Алексей говорит: белье военным, пальто рабочим, которым не на что купить теплое. Ну, а барынины кружевные сорочки куда? И когда с тротуара услышала, как прошипел седой чиновник в высоких ботах: «Награбили. Среди белого дня…» — дрогнули руки, и она едва не убежала.
Но Алексей, упершись кряжистым плечом, перекатил тележку через выбоину, и Настя опять впряглась помогать брату.
— Приволок генеральское. В общий котел, — сообщил Алексей секретарю.
— Валяй, валяй. Сдай завхозу под расписку…
— Послушай, товарищ Черкасский. Дай мне троих людей и ордер — я тебе вагон добра приволоку. Там же хламу до потолка. Квартир двадцать. Хозяева бегут, остались случайные люди, племянники, тетки…
— Я тебе толковал, толковал… А сколько таких домов в районе? — Черкасский разложил на столе протертые локти. — Ты знаешь, что у нас в районе на сегодня тридцать восемь крупных предприятий в руках хозяев? Погоди, погоди, — остановил он взволнованный жест Алексея. — Петроградский Совет уже отобрал у владельцев за отказ продолжать производство сестрорецкий металлический завод «Самолет». Мы секвестрировали «Русско-Балтийский». Хозяин завода «Руссель Заде» решил сбежать к Каледину — мы его арестовали и отобрали завод. Мы конфискуем заводы тех хозяев, которые отказываются платить рабочим. Конфисковали предприятия и капиталы «Русско-бельгийского общества». Декрет о конфискации Путиловского завода подписан Совнаркомом. Но разве это и все наши заботы? На десятках заводов идет расхищение фондов, прячут сырье, прячут импортные экстракты, какие не получишь у нас, инструменты и части. Кто злей — портит машины: не нашим, не вашим. Уже сейчас останавливаются заводы. Многие инженеры, техники тянут за хозяев. Хозяева хотят, чтобы мы убедились, что без них нам не обойтись, не справиться со сложным хозяйством. Представь себе, что мы отберем все заводы, а пустить их не сумеем. И дело вовсе не в том, чтобы захватить у буржуев их барахло, — сказал он с великолепным для его рваных локтей презрением. — Нам важно взять в свои руки промышленность на ходу, перестроить ее, обновить, расширить, и тогда социалистические заводы дадут рабочему все, чего он только пожелает, в любом количестве.
Алексей стоял молча.
«На фабриках сидят и властвуют буржуи».
Эта мысль крепко поразила Алексея. «Социалистические заводы» не раз воспламеняли его воображение на докладах и митингах, но сейчас они прозвучали как отговорка.
— Сидят, но уже не властвуют, — продолжал секретарь. — Мы думаем и о домах. Домовый комитет у вас есть? Если нет, займитесь его организацией. Такие комитеты будут всюду. Будут следить за домовым хозяйством, брать на учет брошенные квартиры, вселять в здоровые помещения бедноту из подвалов. На Васильевском уже работает районный центр домовых комитетов…
— У нашего хозяина двадцать комнат, зимний сад, бассейн, зал в десять окон, — хмуро буркнул Алексей.
— Ну, это надо взять под клуб. Запишем. — Секретарь карандашом сделал пометку на узком листке бумаги. — А ты, товарищ, держись поближе к Совету и в клуб заглядывай при райкоме.
«Фабрики забрали, а буржуй считает прибыли», — размышлял про себя Алексей, катя домой пустую тележку.
Настя смотрела на недовольное лицо брата и объясняла его по-своему.
«Ну, так и есть, не в те руки попало».
— Что, Алешенька, не берут женское? — спросила она.
— Все берут, — буркнул Алексей.
«Ну, так и есть — не в те руки… Царица небесная!»
Алексей стал посещать открытые заседания исполкома. Белокурый силач председатель и брат Федор ставили один за другим вопросы. О милиции, о пожарах, о воровстве. Закрывали домашние церкви, разбирали вопрос о дровах для школ и больниц. Алексей узнал, что в районе около сорока школ, но учатся в них, как и прежде, дети буржуев. Буржуйчики и сейчас безобразничают, глумятся над товарищами из бедноты. Педагогов-коммунистов в районе всего два, но члены союза педагогов-интернационалистов под руководством Совета и райкома уже борются за обновление школы. Незакрытые буржуазные газеты сеют клевету. Их закрывают, они возникают вновь, под новым, нагло похожим на прежнее названием.
В Лавру слетались ревнители царского воинствующего православия в белых и черных клобуках. Они затевали крестный ход по всей столице, чтоб подлить масла в гаснущие лампады слепой веры. Их цель — спровоцировать Советскую власть на контрвыступление и доказать всему миру, что в стране нет свободы совести.
Кружилась голова от этих дел. Все — нужное и важное, все — трудное и спешное.
Но время шло. Алексей врастал в работу товарищей, и у него крепло доверие к ним.
Он бродил по десяти комнатам генеральской квартиры, как бродит охотник в плавнях по топким переходам. Никак было не прижиться к остаткам чужого быта. Мешали лишние, раздражали непонятные вещи. Чужая роскошь, сырея и рассыпаясь в нетопленных комнатах, шамкала, как разрушающийся, но не приемлющий взглядов нового поколения старик.
Восемнадцатый год прочно переступил порог генеральской квартиры. Передняя завалена сундуками, баулами. К потолку лезут корзины с рухлядью на дне. Комоды карельской березы, шкафы и шифоньеры с зеркалами набиты добром по сей день, но все в них хаотической кучей. Из-под ботинок глядит веер слоновой кости. Венчальные свечи торчат из фаянсового соусника. Тряпки и ленты взбиты цветной пеной. Обувь и посуда, бусы и шитые подушки, трубки и рамки для фотографий — все перемешано неизвестно кем и когда.
Бельевые шкафы теперь пусты. Шубы висят в шкафах, вделанных в стену. До них еще не дошли руки, а надо бы их туда же, в Совет…
Во всей квартире долгое время жили только Алексей, Настасья да вечно брюзжащая, всем недовольная, чувствующая себя вещью, оставленной хозяевами, Пелагея Макаровна. Она грозила куда-то уехать. Десять раз на день ссорилась и мирилась с Алексеем, который и на гнев и на милость старухи отвечал не всегда добрым смехом.
Алексей облюбовал себе кабинет. Здесь мягкое кресло у стола и кожаный диван.
Настасья долго не уходила из своей беленькой клетушки у кухни. Но стужа охватила плохо отапливаемый дом. Плиту теперь не топили, и обе женщины перебрались в небольшую комнату, в которой Алексей установил железную буржуйку. Комнаты прислуги превратились в кладовые.
Остальные комнаты… Днем некогда их рассмотреть. А ночью, даже при свете люстр, они как запущенный, прохваченный морозом сад.
Убирать всю квартиру некому и не к чему. Пыль выкрасила большие комнаты в серый защитный цвет. Увядают цветы, опуская книзу желтеющие, крошащиеся листья. В углах тряпочками висит набухшая пылью паутина. Картины обмотаны газетами или марлей. Газеты рвутся от сырости, свисают серыми, порыжевшими клочьями. В зале звездою треснуло трюмо. Присмотревшись, нетрудно догадаться — пуля в упор. Степкина работа. Это догоняла убежавшего генерала и его кривоногую генеральшу ненависть Степана.
Зима, казалось, была за генералов. Хозяйские дрова вышли в ту зиму быстро. Алексей приволок вязанку дров из Совета. Топили печь в кабинете и буржуйку. На ней же кипятили воду, варили картофель.
В слякотный, мозглый вечер Алексей пошел в генеральскую спальню, выбрал из множества икон две побольше, с киотами, отодрал ризы, швырнул их в кладовушку, а доски мелко изрубил деликатным топориком из генеральского любительского инструмента.
Настасья глядела молча, а на другой день принесла на кухню трояк икон помельче, но сама рубить не стала. Алексей увидел иконы, улыбнулся и взялся за топорик.
Иконное дерево горело жарко. Слезилась в огне краска, морщилась и отставала от дерева, как созревший струп. Пелагея Макаровна смотрела в окно и топить печь святыми дровами и даже греться от их огня наотрез отказалась.
За иконами дошла очередь до тяжелых генеральских кроватей. За кроватями отправился в печь белый разваливающийся шкаф из кладовой.
Настасья жалела вещи, с тоской жгла легко коловшиеся полированные доски. Алексей не испытывал при этом никаких особых чувств, но в выборе был последователен. Он откладывал то, что действительно могло пригодиться. То же, что считал «буржуазными предрассудками», пускал на топливо без сожаления.
И только одну вещь в квартире, кроме книг, Алексей полюбил, как друга. Это был телефон, большой черный жук с лакированными, крепко сложенными крыльями. Он замер на стене и изредка громко жужжал, пробуждая затихшие углы квартиры. Он висел в передней над доской круглого столика, на которой мелкой мозаикой хитро были выложены виды древнего города Рима: Форум, Колизей, храм Юпитера Статора, храм Артемиды.
У столика стояло плетеное кресло со шкурой неизвестного Алексею зверя.
По всему городу у телефонов сидели товарищи и знакомые Алексею люди. В Спасском Совете Еремеев, с которым в Минске выступали вместе в неумелых, но горячих словесных битвах с эсерами; на Выборгской — Степан Разумов, приятель по заводу, брат Федор; в штабе артиллерии — вечно кашляющий в трубку Порослев, старый партиец, член райкома, военный комиссар района, Альфред Бунге, Черкасский и множество других друзей по революции, родных по боям, по митингам и стычкам, по обыскам в офицерских квартирах, по налетам на гнезда уголовного сброда.
Иногда не было настоящих дел, но Алексей падал в глубокое кресло и звонил, чтоб чувствовать крепче, что по всему городу в пятиэтажных домах, во дворцах, в отнятых у бар особняках сидят такие же, как он, фабричные, солдаты, студенты, завоевавшие этот город, где прежде им была уделена только темная щель и каждый полицейский участок грозил повергнуть во мрак и отчаяние.
Будь его воля — он давно заселил бы этот богатый дом бедняками, роздал бы все, что накоплено этой бежавшей буржуазной семьей.
Жизнь предлагала более сложный путь. Инстинктом он чувствовал, что этот путь вернее. Он звонил товарищам по работе, чтобы чувствовать, что он в настоящей цепи, связь не утеряна, атака продолжается. Тем же телефонным звонком подтверждалась его готовность идти вперед.
В январское холодное утро приехала из Волоколамска генеральская племянница, Верочка. Поставив корзинку на цветные плитки площадки третьего этажа, она сняла толстую шерстяную перчатку и позвонила в квартиру.
Узнав от Алексея, что генерала и генеральши давно нет в городе, она растерялась.
— Значит, ни тети, ни дяди?..
Алексей хотел было позлорадствовать над неудачей маленькой буржуйки, но, увидев корзинку, между прутьев которой проглядывала синенькая тряпица, красные руки, пышные волосы и личико, растерянно улыбавшееся из скудного, потертого воротничка, поерзал ногой по порогу и сказал:
— Между прочим, обогрейтесь, гражданочка.
Девушка колебалась.
— Проходите, места хватит, — продолжал Алексей и взял в руки корзиночку.
Девушка споткнулась о коврик на пороге и едва не упала.
Алексей увидел, как она выкинула перед собой обе руки с растопыренными пальцами, словно собиралась лететь, и добродушно рассмеялся.
Девушка засмеялась тоже весело и без обиды.
Обоим стало легче.
— Где же вам поместиться? — рассуждал Алексей, пронося корзину среди мебельного хаоса нежилых комнат. — Сюда, что ли? — Он распахнул дверь в большую гостиную с фонарем на улицу.
Девушка с порога осмотрела запущенную комнату, метелку на рояле, люстру, мохнатую от пыли, сложенные штабелем бронзовые бра на наклонившемся одноногом столе, морозные узоры на стеклах фонаря и спросила:
— А в маленькую нельзя, в ту… угловую? Я там жила как-то…
— Можно и в угловую, — сказал Алексей и отправился с корзинкой дальше.
В угловой стояла широчайшая оттоманка, письменный стол и большой шкаф, набитый книгами, брошюрами и какими-то свертками, совсем не библиотечного порядка.
— Самое что надо, — решил за девушку Алексей, поставил корзинку на столик и удалился.
Девушка с час сидела тихо, как мышь, почуявшая у норы кота, потом вышла, заглянула в ванную, зазвенела умывальником, а вечером робко вступила в комнату, где Настасья готовила чай, положила на стол круглый, негородской каравай, кусок сала в тряпочке, какие-то сверточки и сказала:
— Вот я вас деревенскими гостинцами угощу.
Алексей освободил девушке место у стола.
Глава XVIII МЕЖДУ «БЕЛЫМ КРЕСТОМ» И «ПРОДАМЕТОМ»
Человек, ставивший визу на документах, был отгорожен от очереди стеною в три кирпича. В узком окошечке, у желтой ставенки, метались его худые непроворные руки. Чем ближе к окошечку, тем теснее очередь. В спину Сверчкову громко дышит, должно быть, больной грудной жабой, временами совсем задыхающийся человек. Хорошо, что он ниже ростом. Иначе струя шла бы прямо в затылок. Сверчков вытянулся еще больше. Впереди студент в куртке с петлицами какого-то института, какого — не узнать, буквы отличительного императорского имени выломаны.
Студент все время вертит головой. У него под тужуркой рубашка с расстегнутым воротом. Рубашка коричневая, но все равно видно — несвежая. Дальше прямой, как палка, человек. Он в штатском, но ребенок догадается, что это военный, офицер.
Сверчков тоже не в форме. Студенческий костюм еще с четырнадцатого года. Он доблестно пролежал в корзине все военные годы, и от тужурки на версту разит нафталином.
В грязном зале становится теснее. В дверях — шум недовольной толпы. Люди идут группами со всего Александровского парка, что полукольцом безлистых деревьев обнял красные кронверки безнадежно уснувшего арсенала. Люди идут со всего города к этому нелепому зданию, напоминающему большую конюшню, на которую взгромоздили жилой дом, увенчав все это уездной, слепой каланчой. Люди идут сюда со всех улиц, линий и проспектов, потому что здесь не только принимают на учет безработных, но и выдают визу на выезд, без которой не достать железнодорожный билет.
Это были широкие ворота, сквозь которые нетерпеливым потоком выливались из Петрограда сотни тысяч людей, для кого город перестал быть кормильцем и обернулся только булыжными мостовыми, переулками, чахлыми скверами, закопченными, боязливыми церквушками, опустевшими ларьками и, самое главное, запирающимися на неопределенный срок мастерскими, заводами, медленно умирающими, вдруг ставшими ненужными конторами, министерствами и департаментами.
За этими воротами на три стороны света лежала большая страна, вся взволнованная стихийной демобилизацией и все же сытая по сравнению с этим городом, получавшим каждый клок сена, каждую горсть муки из какой-нибудь далекой губернии.
Ехали в деревню к родителям, которым еще недавно высылали от городских щедрот красненькие и синенькие. Ехали к свекрам и тещам, внезапно просиявшим в ореоле «своего огорода», «своей землицы», «своего сада» на Кубани, в Тверской, на Урале, под Воронежем.
Петербург оставляли коренным петербуржцам, рабочим, у которых отец и дед, а то и прадед работали на Ижорском, у Лесснера, у Путилова, у Нобеля, в Санкт-Петербургских механических. Этим некуда было ехать, и эти были крепче. Они брали завоеванный ими город на свои плечи, со всей его судьбой, со всей притаившейся в нем контрреволюцией.
Отходя от окошечка, Сверчков пробивался сквозь движущуюся толпу, жадно заглядывавшую ему в бумаги.
Офицер в штатском шел следом.
У ограды сада Сверчков догнал студента.
— Зарегистрировались, коллега? — спросил студент, сильно картавя.
— Да, — скупо уронил Сверчков.
— А я уже завтра работаю, — доверительно сообщил студент. — Я, собственно, для проформы…
— Где же вы будете работать? — желая быть вежливым, спросил Сверчков.
— В Отделе труда.
— Что это за Отдел труда? Никогда не слышал.
— А вот Биржа — это тоже Отдел труда, — показал рукой на уродливое здание студент.
— Значит, у большевиков?
— Знаете, коллега, — повернулся к нему студент на ходу и даже взял за рукав, — надо идти с ними работать. Саботаж интеллигенции — это преступление, это против народа. Русская интеллигенция всегда шла с народом.
— А если народ против большевиков? — спросил Сверчков.
— К сожалению, нет.
— Значит, вы не большевик?
— Я был эсером. Около месяца… Потом я был в группе «Единство», потом перешел к интернационалистам…
— Ну что ж, побывайте и у большевиков.
— В партию я не пойду. Но работать буду. Народ с большевиками. А я не могу против народа.
— У вас ужасно устойчивое кредо.
— Да, я по-своему упорен.
Сверчков пошел быстрее.
— Если вы захотите работать, зайдите в Мраморный дворец в Отдел труда, спросите Невельского. Я вас устрою. Там нужны люди.
— Покорно благодарю. — Вместо иронии вышло совсем по-офицерски. — Я подумаю.
Военный догнал у памятника «Стерегущему».
— Вы, если не ошибаюсь, офицер? — сказал он, глядя с высоты своего необыкновенного роста.
— Бывший, — ответил Сверчков, ожидая, что военный попросит закурить или денег на обед.
— Вам все равно, на какую работу?
— То есть как это «все равно»? — возмутился Сверчков. — Вышибалой в кабак, к примеру, не пойду.
— Кабаки все закрылись. Да по этой марке вы и не подойдете, — резко сказал военный, оглядывая Сверчкова с ног до головы.
— Вам что, собственно говоря, угодно? — остановился Сверчков.
— Я капитан конногвардейской артиллерии Карпов, — ответил военный. — А дело у меня к вам может быть и может не быть. Вы связаны с какой-нибудь офицерской организацией, например с «Белым Крестом»?.. На Литейном.
Сверчков инстинктивно осмотрелся. Военный понял.
— Считаете здесь неудобным? Хорошо, назначьте место сами.
— Если позволите, я лучше уклонюсь…
— Ваше дело. — Военный удалился шагами унтер-офицера на смотру.
Опять «Белый Крест». По штампу на бланках, это была организация, занимавшаяся подысканием работы для «бывших господ офицеров».
После небольших колебаний Сверчков зашагал на Литейный.
О существовании «Белого Креста» Сверчков узнал еще в декабре семнадцатого. Он и еще два офицера зашли в дом Зингера, где помещалось Американское генеральное консульство, с целью предложить свои услуги американской армии. Они были уверены в том, что не получат отказа. Трехлетний боевой опыт, ордена… Но консул не принял их, сославшись на то, что консульство не уполномочено вербовать в среде русских подданных.
В коридоре к ним подошел молодой человек в штатском, прекрасно говоривший по-русски. Он угостил их виргинскими сигаретами, посочувствовал, намекнул на то, что «работа» найдется и здесь, и — на ходу, между прочим — дал адрес «Белого Креста». Но прошло несколько месяцев, прежде чем Сверчков решил воспользоваться этим советом.
В двух маленьких комнатках офицеры в форме и в штатском стояли у стен. Сидели только несколько женщин и пять или шесть пожилых офицеров без погон. Сверчкову показалось, что у всех виноватый и чуть растерянный вид. Седой офицер, вероятнее всего полковник, принимал у стола в самом дальнем углу.
Со Сверчковым он говорил ласково и совсем интимно. Он запишет его, конечно. Работа все-таки бывает. Какая? Да разная. Артели, например. Иногда — редко, правда, — служба в частных предприятиях.
— Вы очень нуждаетесь?
— Как вам сказать… — прошептал Сверчков и густо покраснел.
— Ну, я понимаю, — кивнул головой полковник. — Значит, пошли бы на всякую работу.
— Только если в учреждении… — робко начал Сверчков.
— В каких учреждениях? — изумился полковник. — Если в большевистских — так это просто. Идите в Смольный, там вас сделают коммунистом, пшеном накормят, с постным маслом…
Молодые люди у стен задвигались.
— Я понимаю, — сказал Сверчков. — Конечно, в Смольном… Когда же зайти?
— В случае чего мы известим вас письменно. А так, идя мимо, милости просим.
Через три дня после посещения Литейного Дмитрий Александрович нашел у себя в почтовом ящике конверт со знаком «Белого Креста». Сверчкову рекомендовали зайти на Гороховую 5, в «Продамет» спросить в третьем этаже Веру Васильевну Козловскую.
Сверчков не знал раньше, что такое «Продамет», но на большой медной доске у ворот прочел: «Всероссийское акционерное общество по продаже металлов в стране и за границей», и, прочитав, он подумал, что входит в дом умирающего.
Шесть этажей темно-серого здания, наполненного отделами, бухгалтериями, управляющими, инспекторами, агентами. Паук ткал здесь крепкую паутину на всю страну. Сейчас ниточки, вероятно, рвутся одна за другой. «Общество» остается само по себе, без заводов, без рудников, без мастерских, без транспорта.
По коридорам бесцельно блуждали многочисленные клерки. У многих столов не было ни служащих, ни стульев. Иные комнаты были заперты. Сверчков понял, что «Продамет» больше не продает металлов ни в стране, ни за границей.
Вера Васильевна Козловская вышла к Сверчкову в коридор.
— Вы из «Креста»? — спросила она деловито.
— Вот, есть письмо.
— Хорошо, — взглянула Вера Васильевна на конверт. — Вам, значит, работу? Сейчас, знаете, очень трудно что-нибудь сказать… Еще на днях устраивали. А теперь тут появился комиссар — может быть, видели, проходил сейчас, с рыжей бородой… С ним никто не считается, все возмущены… Но все-таки без него нельзя — платить не будут.
Вере Васильевне шло быть задумчивой. У нее были мягкие каштановые волосы, перехваченные широкой бархоткой, и лицо с золотистым пушком и хорошим отчетливым профилем. Черты лица были крупные, но женственные. Руки и ноги великоваты, но хорошей формы. Она разговаривала, чуть изогнув высокую фигуру к собеседнику. Сверчкову стало с ней спокойно и дружески.
— Вы долго пробыли на фронте?
— С четырнадцатого года.
— И ранены были?
— Дважды… В плечо и в ногу.
— А ордена имеете?
— Георгия.
— Ого! А сейчас вам очень нужна работа?
Она подумала: «Деньги…»
— Если не устроюсь, то не знаю, что и делать. Уже почти все продал.
Вера Васильевна была первым человеком, с которым с такой простой откровенностью говорил Сверчков.
— Думаю все-таки, что устрою вам что-нибудь… Рублей на двести… — Вера Васильевна еще ближе склонилась к Сверчкову и пальцами чуть-чуть коснулась его пальто. — Завтра… Нет… лучше послезавтра, вечером, заходите ко мне домой. Хорошо? Вот я вам сейчас запишу адрес. Я думаю, что так часов в восемь…
Вера Васильевна вышла на звонок сама. В темной просторной передней она куталась в мягкий старушечий платок, выжидая, пока Дмитрий Александрович разденется.
— У нас сегодня холодно, — говорила она чуть капризным тоном, который должен был, по-видимому, звучать как извинение.
Дмитрий Александрович был доволен тем, что Вера Васильевна принимала его в одиночестве. Он боялся встретить здесь шумное собрание, хуже всего — тех самых офицеров без погон, которые стояли у стен в конторе «Белого Креста» на Литейном. Хотелось, чтобы опять она стояла, наклонившись к нему, говорила, расспрашивала и пальцами касалась его плеча.
В большой столовой был угол, заменявший гостиную. Может быть, это был результат экономии топлива, потому что квартира была велика и пустынна.
Дмитрий Александрович курил в кресле. Вера Васильевна, полулежа на кушетке, допрашивала его о фронте, о родителях, об университете, о разных мелочах, о которых считается уместным расспрашивать малознакомого собеседника.
Дмитрий Александрович с особым старанием отыскивал казавшиеся ему в этот момент наиболее правдивыми ответы. Само собой вышло, что он стал прибедняться. И детство было сурово, и студенчество — в нужде. Не размышляя, подсознательно, покоряясь этой женщине, он ставил ставку если не на ее жалость, то на сочувствие. В конце концов ему самому стало жалко себя, и вдруг, убоявшись, как бы проситель не убил в глазах этой милой женщины мужчину, он встал и, шагая по комнате, стал говорить, как закаляет такая жизнь и насколько легче такому человеку в самых суровых, предательских условиях. С новыми мыслями появился и новый тон, слегка хвастливый и фатоватый. А вслед за тем пришло желание узнать, не нашло ли уже отклика у этой женщины его невольное тяготение к ней.
Дмитрий Александрович стал кружить по комнате. Это был нехитрый маневр. Он то уходил в дальний угол, то подходил к кушетке. Попутешествовав, как ему казалось, достаточно, он, как будто в пылу разговора, жестикулируя, подсел к ней на диван. Вера Васильевна сейчас же изменила позу, сев вполоборота к Дмитрию Александровичу.
Сверчкову она нравилась все больше. Круглое, гладкое плечо, с которого сползал платок, буквально волновало его. Плечи у нее, должно быть, пышные. Именно такие, в которые хорошо зарыться горячим лицом…
Дмитрий Александрович стал говорить несвязно. Пальцами он теребил кисть вышитой подушки.
Но Вера Васильевна поняла его волнение по-своему. У нее в памяти все еще звенели слова Сверчкова, что у него дома осталось пять испеченных картофелин и ни крошки хлеба. Она с тех пор не переставала думать, как бы накормить гостя, но так, чтобы это вышло естественно и непринужденно.
Теперь она решила, что медлить больше нельзя. Ясно, что Дмитрий Александрович так много курит и нервно ходит по комнате от голода.
Она поднялась и стала извлекать из буфета тарелочки, баночки, кульки.
Дмитрий Александрович решил, что он согнал девушку слишком большой поспешностью. Нужно было начинать деликатнее…
В передней скрипнул французский замок, в щели дверей вспыхнул свет, и в комнату вошла такая же высокая и привлекательная женщина. Она была чернее Веры Васильевны, и профиль ее был резче и определеннее.
— Валерия Васильевна, сестра, — представила Вера Васильевна.
— Слушай, Вера, чем-нибудь попитаться нельзя? — спросила Валерия, мужским жестом поворачивая стул. — Я целый день ношусь по городу как неприкаянная.
— Сейчас будет чай, и Дмитрий Александрович выпьет с нами. Вы не откажетесь?
Валерия была не менее женственна, чем сестра, но, видимо, усвоила себе привычку действовать по-мужски. Она бросала быстрые, незаконченные фразы, шаркала ногой по полу, гремела вилкой.
— Пригоров оказался слякоть. Гнать таких проходимцев. Он уже юлит и подговаривается к комиссару. Он, видите ли, уже сомневается в смысле саботажа. Я бы занесла его в тот списочек…
Вера Васильевна разливала чай. Она накладывала в тарелку Дмитрия Александровича, как кладут человеку только что с дороги и потому имеющему право на повышенный аппетит.
Дмитрий Александрович был очень доволен, но мысленно подсчитывал, сколько все это стоит по спекулянтским ценам.
— На лестнице встретила Кораблева Андрея Викторовича, — ораторствовала Валерия. — Вот ужас! Глаза провалились, волосы до плеч, редкие, растрепанные, как у ведьмы. Руки грязные, ногти искусаны. Кажется, начинает заговариваться. К сожалению, все это выглядит очень глупо. Как на него не повлияют?.. Это над нами живет приват-доцент, — объяснила она Сверчкову. — В октябре он поклялся, что, пока будут у власти большевики, он не будет ни мыться, ни бриться, ни сменять белье…
— Не рассчитал, — опрометчиво улыбнулся Дмитрий Александрович. — И на что рассчитывал? На немцев или на союзников? Уж лучше большевики, чем иностранцы… — Он тут же пожалел о сказанном. «Продамет» — ведь это иностранный капитал. Мирное внедрение…
— Это, конечно, неумно, — возразила Вера Васильевна, — но и смеяться над этим нечего. Может быть, он только отчетливее нас представляет себе весь ужас нашего положения. Он протестует, как умеет. Это все-таки лучше, чем продавать свои руки и душу врагам родины.
— Ну, если уж такая ненависть, — возразила Валерия, — так возьми винтовку или брось бомбу, а то что же… носить истлевшие рубашки…
— Неверно, — сказала сестра. — Он все-таки напоминает другим…
«Фу, какая дичь, — думал Сверчков. — Взбесившийся дервиш. Факел веры».
Но теперь он держал язык за зубами.
— Вот какие мы, — подмигнув в сторону сестры, продекламировала Валерия. — От мужчин мы ждем мужских поступков.
Она постукивала каблучком под столом и гордо глядела на Сверчкова.
Но Сверчков продолжал молчать. Молчала и Вера Васильевна. Сверчков досадовал. Ведь о деле еще не было сказано ни слова.
После чаю Вера Васильевна сказала, что с комиссаром согласовать вопрос не удалось и о делах говорить сейчас несколько преждевременно, что она очень рада была повидать Дмитрия Александровича и напишет ему, как только будет что-нибудь твердое. Сверчкову очень хотелось спросить, насколько это реально, узнать, почему это именно она устраивает на должности в «Продамете», но, приняв тон светского кавалера, он уже не хотел возвращаться к просьбам и распрощался, как будто пришел сюда как человек, у которого оказался свободный вечер и он решил провести его у знакомых.
Когда дверь за Сверчковым закрылась, Вера Васильевна решительно покачала головой.
— Нет, нет, — сказала она сестре. — Это не то, что нужно. За такого нас не поблагодарят. Надо быть очень осторожными в выборе. Этот кончит у большевиков.
— Сомневаюсь, — ответила Валерия. — Там тоже не ищут слюнтяев… Кстати, Леонид Иванович Живаго хотел тебя видеть. У него новости… из Парижа от Гучкова.
Сверчков шел по Гороховой. Сейчас он был сыт и склонен к скептицизму.
Эти фрондирующие против большевиков дамы, конечно, смешны, и небреющийся приват-доцент — подходящий для них факел веры. Но вот завтра, завтра! Завтра Маша уже не приготовит ему и Ульриху картофель в мундире. Ни крошки хлеба. Нет. Надеяться на крестовых дам нельзя. «К тому же я, кажется, не понравился, — промелькнуло между другими мыслями. — И зачем это я брякнул об иностранцах и большевиках?.. После этого весь тон сразу изменился. А жаль. Вера Васильевна была бы так уютна как друг, а может быть… — Но к черту любовниц, — нужна работа. Хоть грузчика. А что грузить? Где теперь грузят?»
Домой идти не хотелось, и Сверчков решил зайти к Демьяновым.
Хотелось застать Маргариту. Когда человек не голоден, требуется что-нибудь острое. Маргарита, видимо, сильно с перцем. Он встречал ее дважды: на дежурстве и на лестнице. Она еще девчонка, но все кажется, будто в один прекрасный момент вот так, сдуру, возьмет и скажет жарким шепотом что-нибудь совсем неожиданное.
Но дома оказался только Петр. Он обрадовался Сверчкову шумно и неестественно. Казалось, он был чем-то возбужден. Неужели его приходом? Откуда, собственно, такая приязнь?
— А я один, — сообщил он вместо привета.
— Редкий случай?
— Иногда бывает невредно…
Петру восемнадцать лет. Мальчишка выдает себя за мужчину. Он взял Дмитрия Александровича за рукав и повел по квартире. В коридорах и комнатах он аккуратно гасил за собой электричество. Оглядывался в пустой квартире, как будто шел густым лесом или переулками.
Петр распахнул дверь в ванную. Блеснули белые кафели, никель бидэ и кранов. Петр вошел, не зажигая света, и стал отодвигать какие-то доски, может быть от раздвижного стола… За досками обнаружилась узенькая дверь.
«Фотографией занимается, что ли?» — размышлял Сверчков.
— У вас такой нет? Правда, здорово? — восхищенно спросил Петр. — Это только у нас и у Ветровых. Нипочем не догадаться. А я еще эту дверь под кафели разрисую. Масляной краской. Пинкертону не открыть.
В оштукатуренной кладовушке с полками по стене и с запыленным окошечком в соседний брандмауэр, пылала многосвечовая лампа.
— Ничего работенка! — воскликнул, перешагнув порог, Сверчков. Три стены, свободные от полок, были увешаны открытками смелого содержания вперемежку с автотипиями нагих женщин. Оформление кладовушки, по-видимому, принадлежало самому Петру и свидетельствовало о деятельном и целенаправленном воображении автора.
— А… Этим я больше не занимаюсь, — вскользь заметил Петр, — некогда снять… Потом я еще изобретал аэроплан. А сейчас вот…
В углу на винном ящике плоский аппарат с ручным прессом.
— Это гектограф — сто штук в час.
Сверчков взял клейкий листок в фиолетовых потеках.
«С нами бог и Россия», — прочел он сверху.
«К солдатам русской армии».
«Братья! Враг угрожает вычеркнуть нашу родину из списков…»
— Какой дурак это писал?
— Почему дурак? — спросил Петр, сидя перед Сверчковым на корточках.
— Какой же солдат поймет такое: «вычеркнуть нашу родину из списков»? Густо плевал он на ваши списки… и все такое…
Петр смутился.
— Неужели не поймут?
— Если и все в таком роде — растопите этой литературой ванну, — посоветовал Сверчков. — И для кого это вы готовите?
— Кто поедет на фронт — раздаст.
— Вы сами это выдумали? Или это по заказу?
— Ну, есть люди… — сказал, вставая, Петр. — А вы бы написали, Дмитрий Александрович, а я ночью отпечатаю. Завтра утром отправка… На Молодечно.
«Врет он или действительно агитация?» — размышлял Сверчков.
— Это, знаете, не шутка, — говорил Петр. — За такое — на Гороховую. По городу каждую ночь обыски. Верно, напишите, хоть немного, но погорячей. И чтоб солдатам было понятно. Идем к маме, там есть чернила.
Сверчков писал недолго. В этот момент он ненавидел «всю эту кашу и ее сотворителей». Он был зол, потому что у него на завтра нечего было есть, потому что не застал Маргариту, потому что все происходящее было выше понимания. Когда человек зол, ему пишется легко. Через десять минут прокламашка была готова, и он прочел ее Петру. Петр хлопал в ладоши и прыгал, как клоун.
Сверчков сидел на табурете в душной от стосвечовой лампочки кладовушке и смотрел, как свиваются в трубочку отдираемые ногтем от желатинной массы липкие листки.
Он силился вообразить себе солдата, который, прочтя эту бумажку, подумает и скажет:
— Беру винтовку, иду на защиту родины.
Воображение начисто отказывало, и Сверчков еще больше злился и мрачнел.
— А вы между прочим очень доверчивы, молодой человек, — сказал он Петру вслух и дополнил про себя: «Дурак».
— Но ведь вы же офицер? — удивленно поднял голову Петр. — И потом вы — родственник фон Гейзена…
Листки копились кучкой, Петр утирал со лба пот. Дмитрию Александровичу становилось скучно, он посмотрел на часы и откланялся.
Петр шел за ним, в каждой комнате гасил электричество и в коридорах осматривался по сторонам.
Глава XIX ПРИВАТ-ДОЦЕНТ ОСТРЕЦОВ
— Признаюсь, — склонив голову набок, размеренно роняет тихие слова Валерий Михайлович Острецов, — за последние месяцы я на многое стал смотреть иначе. Многое, на что я раньше не обращал внимания, выходит в эти дни на первый план. И от всего этого никак не отмахнешься. Все это новое требует внимания, требует отношения к себе…
Валерий Михайлович перебирает длинными сухими пальцами. Пледом, зеленым с серой бахромой, укутаны больные ноги Валерия Михайловича. В комнате холодно. Нет электричества. Нельзя ни писать, ни читать. Только дружеская беседа, методически развивающаяся, выстраивающая на свет чужого внимания недодуманные мысли, еще не отшлифованные формулировки, помогает коротать часы позднего вечера. При этом Исаак Павлович Изаксон — прекрасный собеседник, он умен, остер, привычен к полемике. Он не способен ни согласиться из лени, ни скрыть свое несогласие. Валерий Михайлович в ответственных случаях любит размышлять вслух. Когда думаешь про себя, мозг может лениться и вырабатывать суррогат. Но речь — это экстракт, это экзамен. Она должна быть отчетлива.
Исаак Павлович долго слушает, не перебивая. Но на лице его уже проглядывает нетерпение. Он все чаще перекладывает ногу на ногу, стучит крепким манжетом по пепельнице, смотрит на часы, бросает, не докурив, папиросу…
Вынужденное бездействие тяготит Исаака Павловича Изаксона больше, чем голод, больше, чем досадный обувной вопрос, больше, чем долг Терезе Викторовне, больше, чем смешные, наивные мысли Острецова, даже больше, чем разлука с семьей.
На гребне деятельности и славы пребывал Изаксон весь семнадцатый год.
Его речи, статьи разлетались по стране. На митингах его носили на руках. Его качали так, что он уже заранее снимал пенсне и вручал его какому-нибудь застенчивому и польщенному юноше. Каждый день его куда-нибудь избирали. Врастая во всевозможные организации, легко расширяя свою популярность, он становился все более необходимым своей партии, и он все больше ценил эту партию, которая выдвигала его и делала неуязвимым для врагов и завистников. Ему льстили женщины и завидовали мужчины, и впереди раскрывались невиданные горизонты. Можно было смело, несдержанно мечтать.
Теперь он отсиживается в меблированной комнате скучнейшей госпожи Зегельман. Говорят, пишут, действуют другие. Люди, загнавшие его партию в подполье.
Подполье хорошо знакомо Исааку Павловичу. Его трудности и ореол. Это не первое подполье партии, и он убежден, что оно будет во столько раз короче, во сколько сейчас слабее враг. Угар пройдет, и массы, как воды, пережившие половодье, вернутся в русло.
Но бездеятельность и сопряженная с нею тоска подступают к вечеру, как враг, затевающий долгую осаду. Исаак Павлович звонит по телефону, пишет письма, задним числом ведет дневник великих дней и, если гаснет в доме электричество, идет к приват-доценту Острецову. Для этого чудака все, кроме истории и театра, — любопытная, но чужая специальность, о которой он рад слушать, удивляясь и ненадолго заинтересовываясь, как инженер, впервые узнающий от врача о новых методах лечения рака.
— Я всегда был далек от политики, — говорит Валерий Михайлович. — Последние годы я был в своем замкнутом мире театра. Вы знаете, я люблю свое дело. Эти события мне показались… как вам сказать… ну, чем-то вроде землетрясения. Я был удивлен и даже возмущен многим. Нашей изменой союзникам. Нарушением привычных и, казалось бы, разумных прав и общественных норм. Вместе с тем я был убежден, что все это, как землетрясение, как циклон, как лавина в горах, будет кратковременно. Можно ли долго существовать в таком хаотическом, подчиненном каким-то неизвестным законам мире? Мне казалось — нельзя. Но это грозит застыть в новый порядок вещей. И чтобы быть честным с собой — нельзя же отрицать неизвестное, — я решил познакомиться с марксизмом.
— Многие это делают на гимназической скамье, — не выдержал Исаак Павлович.
Валерий Михайлович внимательно посмотрел на собеседника. Тень курчавой головы ходит по стене над роялем. Глаза горят черным блеском. Курчавая бородка обегает удлиненное матовое лицо. Когда Исаак Павлович волнуется, оно становится красивым.
— Я с раннего детства увлекся историей искусства, — развел худые пальцы Валерий Михайлович, — и ушел в это дело с головой. Многое упущено. Многое оказалось за бортом… Теперь я это отчетливо вижу. Но, боюсь, всякому опускающемуся в глубину предстоит жертва — утеря кругозора.
— Что же вы все-таки нашли в марксизме?
Пальцы Валерия Михайловича перекочевали к вискам.
— Необыкновенная внутренняя дисциплина… Большой порядок мышления… И — я бы сказал — научное бесстрашие…
Определения давались Валерию Михайловичу с трудом. Они выходили одно за другим через паузу.
— Любая философская система…
— Да, да, я знаком с некоторыми… Но есть разница. Какая преданность науке, какая вера в могущество знания! Представьте себе, что завтра придет новое знание, новая, на этот раз точная, доктрина. На месте, где была рабочая гипотеза или просто взято на глаз… Убедительно, но на глаз. Вы понимаете меня? — с мольбой обратился Валерий Михайлович к собеседнику. — В науке, если она жизнеспособна, новое не должно ломать систему… Нет ли у вас такого ощущения, что всякое новое знание, новое открытие способно только дополнить марксистскую доктрину, укрепить ее? Между знанием вообще и этой доктриной хочется поставить знак равенства.
— Вот что вас подкупило… Не вас первого.
Изаксон широко расставил колени и увенчал их кистями рук. В то же время в голосе Исаака Павловича послышалась подкупающая слушателя печаль. Ему показалось, что так будет убедительнее.
— Странно, однако, что на эту удочку попались вы… ученый. Учение, которое загримировалось под науку, для вас большой соблазн и опасность. Но что кроется за научной внешностью? Погоня за простотой формулы. Им ничего не стоит сделать подстановку. Сочинить, что пролетариат — это большинство. — Исаак Павлович снял руки с колен и начал горячиться. — Для них путь вперед — это узкая лестница через казарму. И еще не в этом дело… Марксизм и даже большевизм имеет право на существование. Можно изучать и Ленина. Изучаем же мы учение мормонов, апокрифические евангелия.
Валерий Михайлович досадливо поморщился.
— Ну, может быть, я слишком резко. Но ведь речь идет не о философской системе, не о мировоззрении…
— Именно об этом.
— Не о философской системе, — настойчиво продолжал Исаак Павлович, — а только о системе власти. Большевики управляют страной. Это и не марксисты. Это марксиствующие сектанты и примкнувшие к ним полуграмотные, обозленные войной, голодные, завистливые рабочие. Они куплены удобной прямотой ленинских лозунгов. И вот они будут направлять всю жизнь, культуру, мысль, обсерватории, лаборатории. Какая чушь! — Исаак Павлович кричал, захлебываясь, встав во весь рост. — Вы прочли Каутского, но вы никогда не видели живого большевика.
— Я очень хотел бы увидеть… — робко начал Валерий Михайлович.
— Я знаю лучших из них. Это — упрямцы. Они никого не признают, кроме своих. Революционные партии блокируются, они составляют революционную демократию. Я, как член Цека партии социалистов-революционеров… — он тяжело закашлялся, — я не раз оказывался перед их упорством, нежеланием считаться, идти на уступки ради коалиции. Они коллективисты по-своему, в ограниченном смысле слова…
Коптилка на рояле заколебала язычком и потухла.
— Вот вам, — протягивая в темноте руку туда, где минуту назад был свет, и наталкиваясь на столик, воскликнул Изаксон. — Вот вам большевизм. Поганая коптилка! И она скоро погаснет. Но чаду будет на десятилетие.
Валерий Михайлович молчал. Изаксон нащупал кресло и тоже сел молча. Потом в темноте раздались его слова:
— За нами шло крестьянство, три четверти России. Но мы имели мужество не обещать больше, чем можно было осуществить. Разум не восторжествовал над инстинктом. Но это ненадолго. Россия не минует испытанных путей демократии.
Валерий Михайлович молчал долго. Потом в темноте он снял плед и пошел по комнате, размышляя вслух:
— А все-таки — это вопрос мировоззрения, а мировоззрение — это не парламентская комбинация, оно не терпит компромисса…
Изаксон слышал, как приват-доцент зашевелился в кресле, как, толкая мебель, он пробирался к окнам. Через минуту язычок зеленой лампадки вспыхнул в углу.
— А вы знаете, — еще со стула раздался голос Острецова, — что они думают о театре? Искусство — народу. Широкие празднества, цирки, массовое трагедийное действо, олимпийские игры…
— Ну хорошо, — перебил Изаксон, — а теперь… вот вы окончательно убедитесь в правоте марксизма. И что ж дальше?
— Я приду к ним, — говорил Валерий Михайлович, с трудом спускаясь со стула на пол, — и скажу: я буду работать с вами.
— Но ведь цирков и стадионов пока еще не видно… Что же, вы будете стоять в патруле? Громить музеи или, может быть, арестовывать несогласных?
Валерий Михайлович молчал.
— Вы не нужны им. А потом придут союзники… вернется власть, и вас вздернут… за большевизм. Зачем это?
— Я никогда не представлял себе жизнь как путь, усеянный розами. Но вы… неужели вы предвидите… нет, ждете… порабощения и расчленения России?
— Боюсь, что это неизбежно.
Острецов молчал. Лампадка потрескивала, крохотный фитилек дымил и метался в узком пространстве.
— Большевики не боятся. Они намерены не допустить этого.
— С вами нельзя спорить, — взорвался Исаак Павлович, — вы фантазер, мечтатель. — Он вскочил и, хлопнув дверью, отправился к себе.
— Какая-то чума, зараза, — шептали его пересохшие губы.
Глава XX В КАЗАРМЕ БОЕВОЙ ДЕНЬ
15 января 1918 года
Петроград
Старая армия служила оружием классового угнетения трудящихся буржуазией. С переходом власти к трудящимся и эксплуатируемым классам возникла необходимость создания новой армии, которая явится оплотом Советской власти в настоящем, фундаментом для замены постоянной армии всенародным вооружением в ближайшем будущем и послужит поддержкой для грядущей социалистической революции в Европе.
I. Ввиду этого Совнарком постановил организовать новую армию под названием Рабоче-Крестьянская Красная Армия на следующих основаниях:
1. Рабоче-Крестьянская Красная Армия создается из наиболее сознательных и организованных элементов трудящихся классов.
2. Доступ в отряды открыт для всех граждан Российской Республики не моложе 18 лет. В Красную Армию поступает каждый, кто готов отдать свои силы, свою жизнь для защиты завоеваний Октябрьской Революции, Власти Советов и Социализма.
3. Для вступления в ряды Красной Армии необходима рекомендация войсковых комитетов или общественно-демократических организаций, стоящих на платформе Советской власти, партийных или профессиональных организаций.
При вступлении целых частей требуется круговая порука или поименное голосование…
Подписанный Предсовнаркома Лениным, этот декрет читался с равным, хотя и разным интересом в олонецких деревнях и на Quai d’Orsay.
Российская Революция не намеревалась повторять ошибку парижских коммунаров. Взяв фабрики и банки у господ, она ставила ко всей стране надежную и достойную стражу.
Этот декрет читал банкир Бугоровский. От разрушителей армии он не ожидал попытки ее воссоздания. Он прикидывал, во что может обойтись миллионная армия и где могут большевики найти достаточные кредиты.
Этот декрет читал Изаксон, посмеиваясь над простодушием противника. По его мнению, крестьянин, сорванный с земли мобилизацией и вооруженный винтовкой, — это эсер без партбилета.
Этот декрет читал бывший прапорщик Борисов, первый сказавший Алексею, что Россию спасет и очистит революция. Он верил в исторические аналогии. Революционные войны должны были раскрыться великолепной страницей истории. Он один из первых подал заявление с просьбой принять его в Красную Армию.
Этот декрет читал Сверчков. Эти строки показались ему простым обманом.
Его читали офицеры в квартире Зегельман, забыв в это утро о физкультурном коврике. Военные специалисты смеялись над затеей профанов. Но смех был не дружный и даже не злой.
Его читали братья Ветровы.
— В артиллерию? — спросил Олег.
— В воздушный флот, я думаю, — ответил Игорь.
На стене, рядом с разрезом океанского корабля, на другой день повис макет аэроплана.
Этот декрет читали по всем заводам и фабрикам Москвы и Петрограда.
Резолюции рабочих собраний требовали:
«Все партийцы, все сознательные рабочие должны вступить в ряды Красной Армии».
По казармам бывших гвардейских полков шли митинги. Ораторы из Смольного держали декрет в руках. Они говорили горячо, как будто предстояло еще раз брать Зимний. Их слушали неспокойные аудитории. Это были остатки царской армии, прокаленные токами семнадцатого года, приказом главковерха переименованные в советские полки Народной социалистической армии. Они имели свою долю в Феврале, Июле и Октябре, но они, как родная им деревня, несли в себе все противоречия сельского капитализма.
Газеты и ораторы сравнивали эти гвардейские казармы и кадры с мехами, уже негодными для молодого вина.
Член ПК Чернявский, выступая в Н-ском полку, не ждал социалистического чуда и не настаивал на резолюции такой определенности, какие выносили на предприятиях.
Здесь его встретят люди, начинающие свой день с мысли о близкой демобилизации. Здесь есть и такие, которые сами назначили себе предельный срок. Для многих казарма — это приют, пока какие-то партизанские отряды не откроют для них прямой проезд в отрезанные фронтом губернии. Есть и такие, для кого казарма — это гостиница и бесплатная столовая. Для иных день законной демобилизации — это день раздела всего войскового имущества. В солдатских сундучках можно разыскать савинковские прокламашки, карикатуры и стишки, чернящие большевиков и воспевающие царя и погромы.
Но здесь же, в этой казарме, — молодежь, поднимавшаяся от Февраля к Июлю и Октябрю, готовая не только брать, но и платить за победы класса. Это их необходимо в первую очередь завербовать в рабоче-крестьянскую армию. Это — молодое вино для новых мехов. У них есть опыт войны и революции. Лучших необходимо взять в передовые части, которые станут мастерской и школой пролетарских дивизий.
Поэтому член ПК Чернявский начал свою речь с вопроса о демобилизации, о смерти царской армии, созданной для того, чтобы угнетать. Он предлагал этим бывшим гвардейцам выбрать свой путь. Потом всю силу своего ораторского умения он бросил на то, чтобы доказать, как велика будет разница между прежней и новой армией.
Алексей следил за оратором из первых рядов. Красивый и умный старик говорил, что революцию придется защищать, и, может быть, не только от белых, но и от немцев, и от союзников.
Становились серьезными лица слушателей. Председатель звонит, но оратора все равно перебивают пролетающие над залом, как птицы, вопросы. Кому-то никак не дождаться конца доклада. Все лица оборачиваются к спрашивающему. Гул голосов сопровождает жгучий для всех вопрос. Оратор не отмахивается от вопросов и только, когда их бывает слишком много, останавливается и ждет, пока не воцарится тишина.
Около Алексея — партийцы. Они молчаливее других. Партбилет в кармане означает готовый ясный ответ на большинство вопросов.
Откинувшись на спинку стула, Альфред, как с наблюдательного пункта, следил из президиума за залом.
— А уйти из новой армии, когда захочешь, можно? — кричит Прохоров.
Дурацкий вопрос, но даже самому Алексею хочется услышать ответ. Зал задышал громче.
— Но, ты, браток… Нас не надуешь. У тебя в рукаве записка. Известно, возишься с эсерами.
— А гауптвахта будет? — не унимался Прохоров.
— Он по шпаргалке, — кричит Алексей, вставая.
— Ничего, ничего, — говорит Чернявский, — разберемся во всем, товарищи.
Зал еще крепче наседает на трибуну. В казарме боевой день.
— У Рабоче-Крестьянской Армии будет свой устав. Твердый устав. Первый в мире устав пролетарской армии… Класс потребует от своих членов, взявших винтовку в руки, подчиняться этому уставу, потому что без дисциплины нет не только армии, но нет и класса — есть пыль человеческая. Класс имеет право и будет призывать к порядку и даже карать изменников и саботажников общего дела. Не следует уступать смертельному врагу ни в числе, ни в инициативе, ни в технике, ни в дисциплине. Недисциплинированный боец, снижающий силу революционных рядов, ничем не отличается от предателя, отдающего врагу пулемет…
Крепкие слова Чернявского нравятся Алексею.
— Вот ты послушай, — тянет он за рукав Федорченко. Он любит этого парня, одинаково ловкого с винтовкой и с гармонью, но недружного с порядком.
Федорченко, прищурив один глаз, шепчет:
— Так то будет в Красной Рабоче-Крестьянской… — и еще тише добавляет: — Когда мы уже по Сибири с песнями поедем.
Но Алексей не сердится. Он чувствует, что крепкие слова по вкусу здесь не ему одному. А барахло пусть едет с песнями и без песен.
Иногда эсеровские запевалы, которых Алексей знает наперечет, разорутся, тогда кричит на них большевик Бутылкин. Понукать его не нужно. Он как жаровня с углями, каждое слово его жаркое. Вскричит с места Бутылкин, и ползала хлопает в ладоши.
Рыхлый, со смуглым лицом, Сотула привалился к плечу Алексея. Так и есть — дремлет, подлец. Алексею не понять Сотулу. Разбуженный, он заявляет:
— Вси тэперь брэшуть складно. Ось я пойду в Ольвиопольский уезд та побачу…
Как прошагал он от Февраля до Октября, как остался в Третьем советском полку? До Ольвиопольского уезда ближе, чем Федорченке до Сибири, но Сотула, не верящий ни во что, кроме Ольвиопольского уезда, никуда не едет. Он не торгует на толкучках казенным добром, не пьет спекулянтскую водку, исправно стоит на часах и в прошлом участвовал во всех революционных выступлениях полка.
А надо бы, чтобы Сотула понял все и без Ольвиопольского уезда. Нет, мало. Пусть в Ольвиопольский уезд принесет петроградское. Вот если бы Алексей попал сейчас в Докукино, он бы не сидел там сложа руки.
— На бессознательности строилась армия царей, — горячо убеждает Чернявский. — Слепое орудие в негожих руках. Боец Красной Армии будет сознательным, знающим, за что он борется…
— А не понравилось — штык назад, — кричит Прохоров.
— Вооруженные великой идеей рабочего класса, сознающие пути этого класса, а следовательно, и свои до конца… — не сдается оратор, — патриоты своей рабоче-крестьянской родины, они будут лучшими солдатами в мире. Они будут непобедимы. Десятки тысяч петроградских пролетариев уже откликнулись на призыв. Рядовые бойцы Огнеметно-химического полка решили работать не по специальности, а куда пошлют. Великолепен порыв рабочих. На «Вулкане» в первый день записались пятьсот человек. На Сестрорецком — шестьсот, на Балтийском — все до пятидесяти лет. Ворошилов сообщает из Луганска, что рабочие отдают четверть фунта хлеба из пайка в пользу Красной Армии. Первые эшелоны уже двинуты на фронт. Они уже одержали победу над войсками Германии под Псковом…
В вихре голосов и аплодисментов тонут последние слова оратора.
Алексея волновали и речь Чернявского с сильными, уверенными словами и недобрые вопросы Прохорова, и он тянулся вперед, к столу докладчика. Не в очередь он наваливался на него со своими вопросами…
Чернявский сквозь очки смотрел на кудрявого кряжистого парня с оживленными глазами, выкладывавшего перед ним свои сомнения, к которым прислушивались десятки других ребят.
Он про себя определил эти сомнения как добрые и законные. Они как заросли, за которыми откроется дорога.
Спустившись с трибуны, он взял Алексея за плечо и, не отпуская от себя, говорил, пробиваясь сквозь толпу к автомобилю, что о Красной Армии еще придется толковать немало, что это сложное и трудное дело; но главное ясно и сейчас. Он усадил Альфреда рядом с шофером и показал Алексею место рядом с собой. Сотни сбившихся вокруг автомобиля людей слушали, как, впиваясь сухими пальцами в плечо Черных, Чернявский рассказывал, что царь персидский Ксеркс велел бесчисленным своим воинам принести по горсти земли и бросить в одно место на берегу Геллеспонта и как вырос здесь величественный холм, с которого царь взирал на два материка. Если бы ненависть, какую несет в себе каждый рабочий, каждый колониальный раб к своим безжалостным эксплуататорам, собрать воедино, в ней утонула бы бесследно горсть господ и никакой буржуазный Арарат не поднялся бы над поверхностью этого потопа.
Шофер сидел неподвижно, не трогая машину. Он понимал, что трибуне еще рано превращаться в экипаж.
Альфред смотрел вполоборота назад. Он был доволен. По совести говоря, он боялся, что, когда настанет время не слов, но большого и длительного испытания, этот прекрасный старик, великолепный подпольщик, спокойный организатор масс и пылкий учитель вынужден будет уступить место другим людям, попроще, таким, как он, Альфред.
Глава XXI ГУДКИ
Большой город погружен в ночную тьму без единого огонька. Едва различимы темные глыбы домов, черны, как входы в пещеры, глазницы окон, внизу серое полотно реки, и над всем этим — покров беззвездной, мглистой ночи.
Сама по себе такая картина может потрясти душу, наполнить ее смутным страхом, недоверием, предчувствием чего-то неожиданного.
Но если этот ночной город-гигант при этом кричит всеми своими голосами — самое мужественное сердце забьется сильней и тревожней.
Черные балконы набережных нависли над тронутой оттепелью Невой. Тяжелые дуги мостов уходят вверх во тьму.
Дома молчат, как будто это их не касается, но улицы наполняются народом. У темных домов — темные силуэты людей. Говорят больше шепотом. Спрашивают, не получая ответа. И только сам город кричит. Кричат гудки фабрик, заводов, электростанций, застывших во льду на Неве и в порту судов, паровозов. Кричат разными голосами, но об одном и том же.
В движении людей во тьме зимней ночи было что-то деловое, напряженное. Шли большими группами. У некоторых за плечами дулами книзу висели винтовки и карабины, но большинство было безоружно.
Двое стремительно вышли из подворотни дома и сейчас же слились с людским потоком, направлявшимся к набережной Невы.
Долго шли молча.
Ночные патрули безмолвно пропускали идущих. Из поперечных улиц и переулков в основной поток вливались новые группы.
Город кричал. Молчание людей было значительнее слов.
— Смотри, как качнулся Питер, — промолвил наконец плотный большой мужчина в легком пальто и в барашковой шапке.
— Неужели все записываться? — спросил невысокий крепыш.
— К Смольному — а зачем же еще?
Это были Федор и Алексей.
Сторож в тулупе до пят, выйдя из подворотни, долго наблюдал движение во тьме, не выдержал и спросил Федора:
— А куда это идут? — И, не дождавшись ответа, продолжал: — И идут и идут. И откуда берутся?
— В Смольный, товарищ, к Ленину, — остановился Федор.
— В Смольный? А там что? Дают что?
— Оружие дают. Немцы пошли на Питер.
Сторож собрал бороду в кулак.
— Значит, солдат из окопов, а рабочий в окопы?
— Думаешь, не будет дела? — спросил Федор. — Будет, старик. Рабочий пойдет свое защищать.
— Ну, ну. Идите, идите. Там вас ждут.
— А ты, старик, не из генералов ли безработных?
— Из их самых. Как есть угадал, — сердито буркнул старик и повернул обратно в ворота.
— Н-да! — сказал Федор.
— Что — «н-да»? — спросил остановившийся вместе с ним и слышавший весь разговор рабочий. — У нас на Балтийском пятьсот человек пошли. С верфи — триста, а на Путиловском, я слышал, и того больше, это же сила. А за нами и солдат пойдет. Бабы и те идут. Слышишь, кричит город, как живой.
— Он живой и есть, — твердо сказал Алексей. На минуту все стали слушать гудки. То замирая, то вновь наполняясь трепещущими звуками, вздрагивала ночь над городом. Вразрез глубоким и глухим заводским гудкам врывались в этот хор гигантов резкие дальние гудки вокзалов. Словно потеряв от напряжения голос, замирал где-то рядом могучий фабричный гудок, и на смену ему тоном выше возникал другой. Эта странная музыка, как военный марш, возбуждала, бодрила, подстегивала идущих.
На Марсовом поле шли уже шумно, с факелами, с песней, словно молчание больше было невозможно.
Автомобиль, поблескивая слабыми фарами, сползал с Троицкого моста. Люди неохотно расступались перед ним.
Федор задержался и на самом углу, у Английского посольства, оказался рядом с автомобилем.
Седок положил руку на плечо шофера, и машина остановилась.
— Вот хорошо, — высунулся из машины Чернявский. — Вы-то мне и нужны. Каждая минута сейчас дорога. Слышите гудки? Все заводы как один двинулись к Смольному. Рабочие требуют, чтобы их немедленно везли на фронт. Требуют винтовок, патронов. Телефонистки сбились с ног. Путиловский, Обуховка, Розенкранц. Да что говорить, Сестрорецкий — все две тысячи прибыли с последними поездами, а то и пешком в Петроград. К Смольному не пробиться.
Он говорил волнуясь. Заметно было, что весь он охвачен большим зажигающим чувством, — в нем и гнев, и радость, и гордость этим большим порывом всего города.
— Мы открываем пункты по выдаче оружия, готовим артиллерию. Вот, — он указал на худого человека в солдатской шинели, сидевшего рядом, — назначен комиссаром артиллерийских формирований, Порослев Петр Петрович. Я довезу вас до Литейного два. Там пункт, орудует там Бунге. Садитесь, поехали.
Федор и Алексей с трудом втиснулись в машину. Чернявский на ходу давал указания.
— Сейчас начнем выдачу винтовок. Давать не каждому, с умом. Круговая порука. Лучше всего по заводам, выделив организаторов. В первую очередь бывшим солдатам, умеющим обращаться с винтовкой. Пулеметы только комиссарам частей, под расписку. Матросы получат всё в экипажах. Члены штаба будут выдавать мандаты руководителям отрядов и направления на Балтийский и Варшавский вокзалы.
У дома номер два ждала неспокойная толпа. С Литейного, со Шпалерной подходили новые отряды. Автомобиль пропустили во двор с трудом. Бунге встретил приехавших словами:
— Кому передать пункт? Я намерен ехать с отрядом.
— Меня возьмите, — обрадовался Алексей.
— Ни ты, ни ты не уедете, — не останавливаясь, сказал Чернявский. В тоне его было столько неожиданной властности и решимости, что и Алексей и Бунге последовали за ним молча.
Алексей наблюдал с интересом и удивлением, как этот, казавшийся ему кабинетным работником, штатский человек уверенно держит себя с собравшимися на пункте рабочими и солдатами.
В шумной массе людей около Чернявского сразу образовался тихий островок.
В большой зал входили возбужденные, чего-то требующие люди. Здесь же, по углам, в соседних залах, в подвалах лежали груды холодного оружия, винтовки, карабины, пистолеты и револьверы. К потолку поднимались штабеля патронных ящиков. Еще дальше — амуниция, обмундирование. Нужно было сдерживать напор прибывающих людей, готовых немедленно расхватать все это военное снаряжение и спешить к вокзалам.
Не прошло и получаса, как все изменилось. Теперь в доме работала быстро слаженная Чернявским и Бунге организация.
Входившие в зал первого этажа люди сразу же шли к столам, у которых велась сосредоточенная, спешная, но неторопливая работа.
Чернявский говорил с руководителями заводских отрядов.
Порослев отбирал артиллеристов.
Бунге выдавал мандаты и литеры на поезда.
Алексей и другие выдавали оружие по запискам Чернявского, Бунге и Порослева.
Человеческая масса втекала в особняк шумной, нестройной рекой, выходила из него организованными, молчаливыми, ждущими команды отрядами.
— Я было заикнулся в Смольном о том, что хочу на фронт рядовым бойцом, — сказал Чернявский в момент, когда напор рабочих отрядов ослабел, — но мне не дали раскрыть рот. И вас я не пущу ни на фронт, ни по домам. Но дело мы сделаем большое. Германские дивизии увидят, что Питер не беззащитен.
Над городом все еще неслись тревожные могучие гудки заводов.
Утро с трудом отодвигало полог ночи.
Часть вторая ВОРОНИЙ ГРАЙ
Глава I ЦИРК ЧИНИЗЕЛЛИ
Чтобы занять место в цирке Чинизелли, когда там выступают вожди на такую тему, как Брестский мир, нужно прийти заранее и твердо, всей тяжестью своей персоны занять стул. В те дни оставленные на месте кепки, малахаи, папахи, портфели, газеты никакой юридической силой не обладали. Еще не существовала такая администрация, которая могла потребовать у граждан занять заранее распределенные, нумерованные места. Люди ходили волнами, сознавая свою стихийную силу, силу прямого, победоносного действия человеческих масс, и всюду, где они собирались, шла зыбь — отзвук октябрьской бури.
Оставшиеся без места стояли в проходах. Они усаживались на ступеньки, барьеры, на пол, забивались во все щели круглого здания — всюду, откуда только можно было что-нибудь увидеть или хотя бы услышать.
Однако в первом ряду нашелся смельчак, который оставил свое место, буркнув соседу: «Скажи, занято», — и, работая локтями и всем корпусом, устремился к проходу. У самого барьера он круто взял в сторону и оказался лицом к лицу с невысоким, складным человеком, терпеливо прислонившимся к стене.
— Григорий Борисыч! Ваше благородие! — крикнул он и хлопнул человека по рукаву ладонью.
Человек только теперь очнулся. Он тоже смотрел удивленно и радостно.
— Черных! Откуда? Ты смотри, меня еще выведут…
Он озирался по сторонам на рабочих, удивленных подозрительным словом «благородие».
— Пойдем, пойдем! — потянул его за рукав Алексей. — Мы на двух стульях сядем втроем. Вам много места не надо.
Пробившись к себе, он бесцеремонно снял с места паренька, занявшего его стул, предложил соседу подвинуться и втиснул суховатую фигуру Григория Борисовича между ним и собою.
— Совсем здесь? — спросил он, не переставая сиять обрадованной улыбкой.
— Совсем. А вы тоже?
— Прямо с фронта сюда… День и ночь на колесах. В Совете работаю. Партийный комитет…
— Это хорошо. Учитесь только. Голова у вас на месте.
— Все ваше, Григорий Борисыч, пригодилось. Теперь дальше…
— Ну, не все, наверное, — грустно улыбнулся Григорий Борисович. — Я сам сейчас едва успеваю…
— Так это теперь все, — обрадовался Алексей. — А все-таки о многом от вас впервые услышал.
— Ну, в семнадцатом году вы от меня на версту вперед ушли. Я к вашим позициям только сейчас приближаюсь.
— Я знаю — с нами будете, — запальчиво перебил Алексей.
На высокой трибуне, где обычно гремел оркестр, появились люди. Председательствующий поднял колокольчик. Последние схватки за места потрясали зал. Любители кричать «тише!», как всегда, шумели больше всех.
Алексей смотрел то на трибуну, то на соседа. Он не видел прапорщика Борисова, любимца батареи, около года. Обрадовался ему, как провинциальный врач, внезапно встретивший своего университетского профессора.
Докладчик басом ронял слова и владел аудиторией, как привычный оратор. Он похаживал вправо и влево, когда нужно было рассказывать о событиях, и останавливался на свету, когда нужно было взорвать речь и зал ярким выводом.
Цирк готов был рассыпаться под ударами голосов, от стука ладоней и шарканья сапог.
Говорилось о позорном мире, но говорилось так, как будто этот мир был только угрозой. Как будто все знали, что есть такие силы, которые могут унести, как пылинку, в прошлое и подписанный делегатами документ, и генерала Гофмана, и посла Мирбаха, и германские полки, стоявшие у рубежей республики.
Алексей жил одной волей с этим залом. Ом верил докладчику. Он верил Ленину.
Много и мучительно думал об этом Борисов. Он пришел сюда проверить какие-то свои настроения. Позор Бреста, как проба огнем, должен был ударить его с новой силой под куполом цирка Чинизелли. Но получилось обратное. У него сама собою поднималась голова. Он дышал трепетно и страстно, как перед борьбой.
Какими магическими словами повернул оратор его настроение?
И тут же он сообразил, что его убедил в чем-то не столько оратор, сколько зал.
Брест — это был конец войны, а эти люди смотрели через голову Бреста и дышали началом мировой революции. Брест прикончил войну, то, что ненавидели миллионы. Революция была знаменем, которое поднимали на всех континентах еще большие миллионы. И разве нужно сейчас знать, чья именно рука разорвет брестскую бумажку?
— Мир — как пороховой погреб, — говорил оратор. — Когда догорят фитили, никто не знает. Но Ленин строит свои убеждения на том, что история не возвращается вспять, силы молодого класса возрастают и погреб взорвется. Чудо нового Вальми и Жеманна, которое предлагали левые эсеры, было отвергнуто Владимиром Ильичем. Он верит в единственное средство — организацию масс.
…Для победы требуется энтузиазм плюс организация. Энтузиазм налицо, но организации еще нет. Если для этого нужно время, следует купить время ценою брестской бумажки. Если за время, за передышку надо заплатить пространством — надо уступить его. Оно вернется. Этот договор есть средство собрать силы.
После докладчика взволнованно и сбивчиво говорили путиловцы, лесснеровцы, красные студенты, какие-то военные.
Алексей чувствовал, как вздрагивает локоть соседа.
— Сказали бы, — шепнул он ему на ухо.
Борисов встал и, как марионетка, поднял руку.
Председатель дал ему слово.
Быстро взбежав на трибуну, он стал у самого края.
— Товарищи, я бывший офицер, студент и дворянин…
В зале стало тихо. В президиуме головы склонились к председателю.
— Я здесь потому, что я мыслю с вами и готов всегда доказать это любым путем…
В зале стало легче. Президиум теперь слушал.
— Я хочу говорить, потому что я глубоко взволнован. Позиция Троцкого фальшива. «Ни мир, ни война» — это для фельетона, а не для исторического решения. Я понял: Ленин подписал этот мир, потому что твердо знает — жизнь зачеркнет его.
Зал бросил навстречу этой фразе залп аплодисментов.
— Мы революционеры, а не авантюристы…
Залп повторился.
Но у Борисова не было точного ораторского знания, когда надо кончать речь Он хорошо начал, он ярко говорил о мировой революции, о миллионах в окопах. Но затем, вытащив из кармана газету, он стал читать о боях на Сомме. Он начал взрывом и ничего не оставил себе под занавес. Он ушел под аплодисменты, но уже не столь громкие.
— Хорошо сказали, — шепнул ему кто-то из президиума. — Только нужно было короче.
Смущенный, он пробирался к Алексею. Здесь ему жали руки и смотрели в глаза любовно. В те дни еще не требовали продуманных и до конца отточенных речей. Слушатели знали, что они сами выступят сейчас и будут говорить так же нескладно, но горячо.
Шли пешком, не надеясь на переполненные трамваи.
— Меня всего больше захватывает этот мировой масштаб, — все еще переживая успех и неудачу своего выступления, говорил Борисов. Он выкладывал перед Алексеем и его товарищем все то, что не успел или не сумел сказать с трибуны.
Оставшись один, размашистым шагом проходил Борисов по пустынным набережным. Он был взволнован, взвинчен, и ничто не казалось ему в этом городе застывшим. Уже направлена ввысь золотая стрела Петропавловки. Золотая стрела зари. Пальцы великана отпустят тетиву, и стрела скользнет в синее пламя небес. Дома Васильевского — как построившаяся к походу колонна. Нахмуренный, насупившийся синод хочет еще глубже уйти в землю. А Нева перебирает мелкой зыбью только что очистившиеся от льда струи холодной весенней воды.
«Я, должно быть, неисправимый романтик», — улыбался Борисов сам себе. И еще шире размахивал рукою.
Он шагал пешком на Тринадцатую линию Васильевского острова, где в узенькой, однооконной комнате жила Наташа — подруга гимназических лет. Она кончала университет, но он отрывал ее от книг. Никакое сопротивление не помогало — он настойчиво подавал ей пальто, шляпу, перчатки, и они шагали по тем же набережным. Взявшись за руки, они ходили вдвоем до тумана в глазах. Она слушала, не перебивая, его слова.
Он ей нравился, такой собранный, крепкий. Она полюбила его еще гимназисткой, на катке. Он летал по льду, как будто вместо стальных пластин на его сапогах были крылышки Гермеса. На ходу он взглядывал на нее, никого больше не замечая. Красивым жестом всего тела обгонял других, и никто ловчее его не делал испанские шаги и не замирал, взрезая лед, у кучи снега. Познакомила их подруга. Лихой конькобежец оказался тихим, застенчивым и преданным товарищем. Из года в год шли они рядом, не соединяясь, но предназначенные друг для друга. Впервые разлучила война, революция вновь соединила. Хотелось и решено было строить жизнь вместе, но она не давалась в руки. Впрочем, все это было только отсрочкой.
— Ты не раскаиваешься, значит? — зачем-то спрашивала она.
Когда она смотрела ему в лицо, ее близорукие глаза еще больше расширялись.
Он чуть отодвинулся от нее.
— Разве я колебался? Я просто был захвачен врасплох. После такого развала — опять миллионную армию… У меня для этого не хватало смелости мысли…
Она, усмехнувшись, погладила его пальцы.
— А теперь?
— Теперь я жду не дождусь, когда дадут мне дело. Пока еще меня никто не знает…
— А если я боюсь за тебя, это ничего?
Глазами он просил у нее снисхождения.
— Неизбежно это, Наташа.
— Но ведь и та война была неизбежностью.
Она поникла головой. Она ничего больше не сказала, но он наперечет знал все ее мысли. Опять он будет далеко, на фронте. Ждать. Каждое утро вставать с мыслью: жив ли? цел ли? Так было. Все было кончилось… И вот опять…
Эгоистически он выключил эти мысли. Они выпадали из того темпа, который владел им все эти дни, нес его по набережным, дарил эту свежую бодрость, с которой легко и весело принимать большие решения.
Он смотрел теперь на решетку Летнего сада, на ее прямые копья. Они помогали найти прямую дорогу мысли.
— Я не вижу никакой возможности, никакой формы существования в стороне от того, что делается в России. Я с малых лет мечтал о больших переменах. И если я сейчас еще не в первых рядах, то только потому, что на фронте я растерялся. Я никогда не боялся больших потрясений, наоборот, я боялся малых. Теперь я рассмотрел лицо событий. Это — мировая буря. И она сознательно управляется вождем, достойным момента. Кроме того, если Россия может остаться самостоятельной, не став колонией Англии или Америки, то только при большевиках. Сражаясь за революцию, я буду сражаться и за Россию, за родину. И теперь я тоскую по первым рядам и спешу. Иногда неуклюже. Но я догоню, Наташа! — обернулся он к ней. — Будет буря по всему миру. Будут революционные войны. И я хочу быть если не маршалом, то солдатом революции. Прошлое уже не тянет меня. Если б тебе показали сейчас человека, который стоял на флорентийской площади и подбрасывал дрова в костер Джордано Бруно? Или невежду, швырявшего камни в первый пароход Фультона? Можно возненавидеть такого. Когда я мечтал гимназистом о путешествиях, я всегда обходил Геную, отказавшую в корабле Христофору Колумбу. Если есть сила, которая держит в узде человечество, — долой ее! Если кто-нибудь останавливает ряды — отсечь ему руки!
— А вот то, что сейчас многим-многим так тяжело?
— Это не от революции. Это от врагов ее…
— Я понимаю все… Только слушай, — взяла она его за руку крепко. — Может быть, тогда не нужно было ребенка?
Но эта мысль его не обескуражила.
— Нужно, Наташка, нужно! — Он обнял ее так ретиво, что старик, проходивший мимо в воротничке на четыре номера больше его исхудавшей шеи, весьма неодобрительно посмотрел: дескать, какие теперь нравы, и где! — в столице, в Летнем саду.
— Нужно, Наташка! — кричал всегда сдержанный Борисов. — Выдержим. А родить поедешь к маме в деревню.
— Все-таки лучше быть маршалом…
— Конечно!
— Нет, не потому… Все-таки безопаснее…
Борисов рассмеялся:
— Хитрец баба! — И не сказал ей, что подумал про себя: эта война будет одинаково опасна и для маршалов и для солдат.
Глава II ВЕРОЧКА
Вера жила в большом городе, как зверек в непроходимом лесу. Для него есть лес, где все знакомо и вместе с тем непонятно и страшно, и есть норка, пахнущий своим мирок, теплый и маленький по сравнению с густым, пронизанным чужими голосами лесом, но такой круглый, законченный, замкнувший в себе все, что уделяла жизнь зверьку.
В город Вера выходила, как в чужой лес. Улицы шумели, двери хлопали, звонки звенели. Окна домов показывали достаточно, чтобы понять, что за стенами по-своему барахтаются в жизни люди, и слишком мало, чтобы понять, кто и как именно страдает и радуется.
Она была достаточно грамотна, чтобы разъяснить все происходящее другому, но для нее самой все это казалось спектаклем, который разыгрывают актеры, отделенные от зрительного зала — от таких, как она сама и ее родные, — не только рампой, но и какой-то иной психологией.
Люди, которые выступали в Смольном, на митингах, стреляли из пушек «Авроры», о которых писали газеты, конечно, существовали, как существовал Цезарь или Пугачев.
Но разве не ахнула бы Вера, если б встретила на улице того или другого?
Люди, которых встречала Вера, жили помимо газет. Они все казались ей зрителями, а не актерами эпохи.
В Волоколамске, и еще раньше в Плоцке, Вера привыкла к тому, что люди отличаются достатками, службами, одеждой, разговором, прической и манерами. Теперь бросалось в глаза не это. Люди-зрители отличались любовью или крепко засевшей в глазах ненавистью к актерам, и еще некоторые, более скрытные, — музыкальной нотой, которая начинала звучать для Веры, как только появлялся на виду тот или иной хорошо знакомый человек.
За Алексеем шла высокая ровная нота, верная и упорная. Воробьев, казалось ей, то гремел, как духовая труба, то звенел злыми побрякушками. Стеклянный шум налетал вихрями и опять прятался где-то в расселинах этого обширного и гулкого сердца. Настасья пела заунывной колыбельной мелодией севера. Шипунов не мог петь, он скандировал в одном или двух тонах.
Остальное был шум.
От этого городского шума, а может быть, от недоедания, у Веры часто болела голова, и тогда она пряталась в свою норку.
Алексей спокойно смотрел, как барышня выносит из своей комнаты одни вещи и вносит другие. Сначала он подумал, не подбирает ли Вера самое ценное, но тут же самому стало неловко за эту мысль. Вера забрала в комнату писанные маслом портреты каких-то женщин в простых темных рамках, этажерку для нот и книг, коричневые креслица, какие-то шитые бисером подушечки, большую розовую раковину с камина и десяток безделушек, природы которых Алексей понять не мог, но в практической никчемности которых был твердо уверен. Вера выбросила из комнаты громоздкий портрет какого-то александровского генерала с начесами на висках. Убрала высокую розовую тумбу с малахитовой лампой. Попросила Алексея помочь ей внести пианино. Военную энциклопедию в стеклянном шкафу она заменила томиками Пушкина из будуара тетки. Если бы Алексей знал, как живут чиновничьи семьи в маленьких городах, он бы все понял.
Однажды он сам принес Вере ящик книг. Книги долго стояли в передней, брошенные впопыхах. Потом они перекочевали в кладовую. Вера была обрадована. Она тут же стала на колени, вскинув юбочку на каблуки — она не забывала, что каблуки у нее истертые и заметно кривые, — и стала рыться в ящике.
Два дня Верочка никуда не выходила. Поздно горела в угловой лампочка, обернутая розовой папиросной бумагой, — щелочка прямо на кровать, где подушка.
Алексей принес ей еще один ящик. Он был без крышки, прикрыт ковриком и набит мало ношенной обувью. Вера вспыхнула.
— Вот, может, чего пригодится… А то место занимает — выкинуть. Или халату продать, — импровизировал Алексей. — А жаль… Теперь это редкость.
Верочка вынимала туфлю за туфлей. Сев на тахту, примеряла. Смущенно и довольно смеялась. Все туфли были велики на ее узкую ножку.
— Мне всегда шили на заказ, — похвастала она.
Но Алексей не понял.
— Оно на заказ дешевле…
— Нет, дороже, — робко пробовала протестовать Вера.
Подходящие туфли все же нашлись.
Таяли Верочкины деревенские буханки, таяло пшено. Таял шпик. А уж какими порциями она его резала, чтобы продлить уверенность в завтрашнем дне! И чем меньше оказывался сверток в кошелке, привязанной за окном, тем громче запевал, шумел и уже грозил Вере город-лес, тем уютнее и нужнее становилась ее комнатка-норка.
Вера приехала в Петроград учиться и, если понадобится, служить. Но учиться было негде. Поступать на службу некуда. Вера не умела ходить по учреждениям, не умела спрашивать, тем более просить… Она и понятия не имела о том, что можно и нужно добиваться для себя необходимого. Мир для Веры, чужой мир вне ее дома, делился на доступное и недоступное. Доступное — это были воздух, вода, затем все то, что предлагалось откровенно и во всеуслышание. Например, трамвайные билеты в пять копеек, газеты, книги в библиотеке, товары в лавках с объявленной стоимостью. Об остальном можно было только справляться. Но если ответ не звучал прямым «да» — Вера убирала голову в плечи и спешила в сторону, как будто боясь совершить бестактность.
Еще больше, чем уменьшение запасов, смущала Веру нарастающая уверенность в том, что она проиграла свою первую жизненную битву. Она поехала в Петроград вопреки желанию тетки. Это было после жестокого, беспримерного в Вериной жизни спора за право самостоятельно строить свою судьбу.
Лучшая Верина карта сразу же была бита. Тетя Вера Казаринова, которая несколько раз приглашала ее в Петроград, убежала куда-то за границу вместе с дядей Севой и кузиной Надеждой. Если бы не Алексей, ей негде было бы даже жить.
Но Вера из книг знала, что, приезжая в большой город, молодые люди теряются только первое время. А потом они всегда находят себе место и друзей. Это очень трудно, но всегда достижимо, и об этом лучше всего рассказывает любимый Верин писатель — Диккенс. Вера решила, что она добьется своего. Тетка изредка писала сухие, недовольные письма. У них в городе происходили события, которые положительно мешали жить, цены росли, люди становились грубее и нетерпеливее.
«И как-то ты там, в этом городе? — писала тетка. — Ты берегись людей смотри. Люди теперь как волки. А главное, держись подальше от большевиков. Это — или евреи, или беглые каторжники. И они еще все больные…»
Вера знала хорошо только одного большевика — Алексея. Он был русский и никогда не был на каторге. Он был на войне и «заслужил младшего фейерверкера» (что такое младший фейерверкер, Вера понимала смутно). Он был крепок и здоров. Какие у него сильные руки! Волосы у него чуть красноватые и какие-то веселые. Именно веселые. Глаза спокойные. Если б все были такие, как Алексей. Плохо, конечно, что он не любит дядю Севу. Но дядю Севу Верочка сама почти не помнила. Когда они бежали из Плоцка и Вера гостила в Петрограде, дядя Сева был еще на фронте. А его портрет в форме генерала, с усами, как будто приклеенными, ей не нравился. Кроме того, сейчас все солдаты не любят генералов. По-видимому, большевиков тетя не знает.
Из всех знакомых по дому, по ночным дежурствам Синьков чаще всех заходил к Вере, и Вера прочла ему тетино письмо.
Аркадий переложил длинные ноги и сказал:
— Ваша тетушка ничего в большевиках не понимает. Большевики — это не больные, это бандиты. Их нужно всех перевешать.
С такой точкой зрения Вера была знакома уже и раньше.
— А вы бы сами повесили? — с хитрецой спросила она.
Аркадий вздрогнул. Даже папироса упала на брюки.
— Ух!.. — Он выставил вперед длинную цепкую руку, хрустнул пальцами и заиграл глазами.
— Какой вы жестокий… Ну, а вот, например, Алексея?
— Этого? — Аркадий уже успокоился. — Ну, я думаю, этот от меня не уйдет. И я не понимаю вас, Вера, — закурил он снова, — вы живете здесь и как будто даже дружите с ним… Но ведь вы понимаете? Они обобрали вашу семью, в сущности, вас…
— У меня они ничего не взяли, — покачала головой Вера.
— Не у вас, но у ваших… Вот и тетка пишет. Как вы это считаете?
Вера никак не считала. Воровать и грабить — это, конечно, очень плохо. Честность была воспета всеми книгами, какие волновали Веру, честность безусловная. Сама Вера ни за что ничего ни у кого бы не взяла. Но вообще взять у богатых, чтобы раздать бедным, — эта мысль давила се своей сложностью, хотя втайне всегда нравилась. Вера еще девочкой жалела бедных до слез. Но богатые никогда не захотят поделиться с бедными. Бедные решили отнять у богатых. Здесь кончалась безусловная честность книг, начиналась какая-то другая. Веру всегда подкупала и успокаивала только простота мысли. Пока мысль не становилась круглой, как мяч, она была у Веры на подозрении. В этом вопросе Вера не находила нужной ей простоты и дальше этих рассуждений еще не хотела и не могла пойти.
— Я не защищаю большевиков, — сказала она вслух, совсем не в тон своим мыслям.
— Еще бы… Их надо ненавидеть. А вы живете здесь…
— Аркадий Александрович, а куда же мне деваться? — тихо спросила Вера.
Аркадий растерялся.
— Можно, конечно, жить здесь. Но жить как хозяйка. Независимо. Можно даже в этом собачьем Совете заявить, что квартира эта ваша. Вы можете пустить сюда кого хотите.
— Они могли меня не впустить вовсе…
— И вы делаете вид, что вас облагодетельствовали. И вы стра-а-а-шно, — он развел руками, — благодарны. А боюсь, что ваши тетушка и дядя не были бы вам за это признательны.
Аркадий попал в самую больную точку Веры. Она встала и заходила по комнате совсем расстроенная. Слезы стояли где-то у самого выхода. Какие-то десятипудовые слезы. Так трудно было их сдерживать. Тут же она поняла, что последний человек, перед которым она могла бы заплакать, — это был Синьков.
— Не надо расстраиваться, — сухо сказал Аркадий.
— А я всегда такая глупая, — лепетала Вера. — Я ничего в жизни не понимаю… Все у меня выходит плохо.
— Вы чудесная, вы сами себя не знаете, Вера! — вдруг поднялся Аркадий. Он подошел к девушке большими шагами. — Вы замечательная… вы как дитя… вы лучше всех нас!
Но Вера шагнула в сторону так быстро, что последние слова Аркадия оказались обращенными к окну.
Вера подошла к своей постельке. Здесь была ее норка в норке.
— Я очень расстроена, Аркадий Александрович, — говорила она, обернувшись к нему спиной. — Вы простите меня, мне все утро плохо… Я лучше прилягу.
Аркадий переживал эти слова как пощечину. Его прорвало внезапно. Он сам не ожидал, что вдруг разоткровенничается. И вдруг такой недвусмысленный финал.
— Простите. Это — моя вина, — сказал он по возможности спокойно.
«Нужно сделать вид, что все нормально и ничего не было», — командовал он себе с болезненным напряжением.
— Я зайду, если позволите, на днях… — Он склонился и поцеловал ее руку первый раз в жизни.
Вера смотрела на него удивленно и уже не так опасливо.
Глава III ГИМНАЗИЧЕСКИЙ КОТИЛЬОН
Аркадий почувствовал, что любит Веру, в минуту острой тоски по прежней жизни. Где-то далеко позади, в невозвратном прошлом, за годами царства окопов, фронтовой дождливой скуки, ломки и краха старого, были дни, которые по привычке называли «мирное время». Аркадию искренне казалось, что все было прекрасно в это «мирное время». Никто не голодал, никого не преследовали, все были жизнерадостны и веселы, все были молоды и, конечно, счастливы. В корпусе были прекрасные товарищи. В юнкерском танцевали, фланировали по улицам, писали и получали любовные записки. Даже гомерическое пьянство в день выпуска в офицеры с поездкой к девицам казалось легкомысленным, безобидным праздником. А, да все это, может быть, и не было так прекрасно… Но после этих тяжелых, полных разочарований лет прошлое казалось утраченным эдемом, и возврат этого прошлого, если бы это оказалось возможным, был бы целью, достойной героических усилий, на которые он, капитан Синьков, готов каждый день, каждую минуту…
Белые скатерти, там, где они сохранились, светская вежливость у тех, кто еще чувствовал вкус к «хорошему тону», изящная одежда у тех, кто сберег в шкафах неношеное платье, — все это казалось Аркадию среди руин единственно настоящим, и сердце его, ожесточившееся за годы войны, забронированное, казалось, от всяких сентиментов, тянулось к этим магнитикам уходящей жизни, над которой сухо отщелкивали часы истории.
Вера казалась ему осколком этой старой жизни. Это такие, как она, ходили по широким тротуарам варшавских аллей, стуча каблучками сухих и стройных ножек. Юноша Синьков не раз был влюблен в таких, как Вера. На балах он выбрасывал на них мешки конфетти и серпантина, купленные на все карманные деньги. Они ходили в цветных пятнышках и разорванных бумажных лентах, не желая стряхнуть с себя эти знаки внимания.
Однажды, уже юнкером, он много танцевал с привлекательной, но самой тихой и скромной из всех знакомых, и девушка вдруг стала задорной, — она сама не могла понять, откуда у нее взялись силы для этой перемены. Тогда в полуосвещенном коридоре, возбужденный и уверенный в своем праве мужской радости, Аркадий обнял ее крепкой рукой, и девушка потухла у него на глазах.
Она не рассердилась, не заспорила, не оттолкнула его. Она посмотрела ему в глаза так, что Аркадию стало не по себе. Он пытался рассмешить ее, но девушка не смеялась, и они разошлись по разным углам обширного здания, чтобы никогда больше не встретиться… Но она не была забыта, эта девушка.
Оживающий мрамор еще на утре жизни эллинов обольстил человечество…
Вера была похожа на эту девушку. Она была еще лучше, женственней — ей уже шел двадцать первый год. Ее нежные руки так хорошо легли бы на его горячие щеки, на его воспаленную ненавистью голову. Он бы, как голодный волк, боролся и приходил к ней, чтобы зализывать раны.
Вера оттолкнула его, как та гимназистка. К ожесточению присоединилось еще одно ожесточение. Но девушка осталась желанной. Желания становились откровеннее. Хотелось уже не только гладить руки, чувствовать пальцы на звенящих висках…
Аркадий сделал вид, что ничего особенного не случилось, и стал приходить еще чаще.
Аркадию следовало знать, что всего два года назад — не в шумной Варшаве, но в тихом Волоколамске — офицер-улан атаковал Веру после котильона, с казенной точностью повторив все жесты, слова и приемы Синькова и других героев своего времени. Следовало знать и то, что он, Синьков, подозрительно напомнил Вере этого кавалериста.
В маленькой комнате с появлением Аркадия неизменно водворялась напряженность. Словно желания Аркадия и настороженность Веры создавали здесь ограниченное четырьмя стенами магнитное поле. Слова встречались, сталкивались и, подобно бумерангам, поражали обратным ударом говоривших.
Жест офицера в гимназическом коридоре Вера отнесла к приемам того рода «любви», которую в шестнадцать лет можно было отвести от себя, как не по адресу попавшее письмо.
Но страстность Аркадия действовала теперь на Веру, потому что Вера уже готова была стать женщиной, хотя и боялась в этом себе признаться.
Аркадий приносил с собою чувство тревоги. Вера была недовольна этим волнением, и это недовольство заставляло ее находить в Аркадии еще больше неприятных черт. От него пахнет плохим табаком. У него колени вперед, а спина широкая и плоская, как диван.
Но Вера была воспитана так, как воспитывали девушек в провинции перед войной. Женщина, и в особенности женщина-хозяйка, не должна показывать никакой разницы между самым любимым и самым ненавидимым из ее гостей. И, провожая Аркадия до дверей, Вера говорила тихим голосом:
— Заходите, пожалуйста. Я ведь большей частью дома.
И, встречая:
— Хорошо, что вы меня не забываете. Мы ведь с вами земляки.
Аркадий думал, что путь для него к этой девушке есть, но что он еще не нащупал его. Он приходил, сидел, курил, рассказывал, ждал случая.
Иногда открывал Аркадию дверь Алексей.
Он был мрачен, задумчив и раздражителен.
Если Вера была дома, он пропускал гостя, лениво поворачивался и молча шел к себе. Если Веры не было, он хлопал дверью перед носом Аркадия, кратко буркнув:
— Нету.
Аркадий сказал как-то Вере:
— Если я когда-нибудь побью морду этому хаму, не сердитесь. Он добьется этого.
Алексей докладывал Вере:
— Приходил этот… — он делал высоко рукой, намекая на рост Аркадия, — долговязый…
— Не любите вы его, — смущенно улыбалась Вера.
— Я таких видел… — мрачно и многозначительно говорил Алексей и уходил к себе.
Тяготясь своим неумением найти пути к сближению с девушкой, Аркадий приводил к Вере своих товарищей. Он познакомил Веру с Воробьевым и с Ульрихом фон Гейзеном. Ульрих привел Сверчкова, уже знакомого Вере по ночному дежурству.
Аркадий был недоволен. Воробьев не казался ему опасным. Любитель женщин, которых вместо приветствия можно взять за подбородок. Другое дело — Сверчков. Говорун, легко зажигающийся, легко и искренне принимающий героические позы, достаточно умный, чтобы не переборщить. Он легко философствовал, охотно говорил о литературе и мог показаться Вере интересным и содержательным человеком.
Аркадий поспешил охарактеризовать Дмитрия Александровича:
— Магистр от болтологии. Кроме блудливой словесности — ни гроша за душой.
Эта характеристика привела к тому, что Вера усиленно стала отыскивать в Сверчкове черты глубины и подлинности. Доказать Аркадию, что Сверчков не пустышка, — это было бы победой самой Верочки.
Аркадий понял ошибку. Теперь он только вскользь высмеивал Сверчкова. Вера сердилась и всячески высказывала Дмитрию Александровичу свое расположение.
Глава IV ДВЕ НЕНАВИСТИ
Горничная, вся в черном — белое было отменено сейчас же после Октябрьского переворота, — вошла в кабинет, не постучавшись.
Виктор Степанович сидел, полуобернувшись к окну, в кресле и читал. Он был в черном сюртуке и лаковых туфлях, но без воротничка. Он распустился, как и все, за эти месяцы.
— Барин. Пришли к вам… из Совета.
Виктор Степанович положил костяной нож на стол.
— Из Совета? Почему же через кухню? По старой тропе?.. — Что ж, он не будет надевать воротник. — Пусть войдут.
В кабинет вошли трое. Небритый рабочий в коротком пальто, худой длинный еврей и Алексей Черных в военной шинели и фуражке, которую он, единственный, не снял в кабинете.
— Садитесь, господа, — предложил Виктор Степанович. — Чем могу служить? — Он чувствовал — это как раз те слова, которые должны разозлить этих людей, но сдержать себя не мог.
— Постановление есть, — вынул из кармана бумагу рабочий. — Вашу квартиру, как не имеющую вида жилья, — Виктор Степанович улыбнулся, — как слишком большую для частного пользования и подходящую для общественных нужд, занять под клуб рабочих судостроительной верфи.
Виктор Степанович тяжело сел.
— Что же это… практикуется? — спросил он не сразу. — Разве это — орудие производства?
Рабочий посмотрел на него изучающим взором. Хотел было что-то объяснить, но не стал.
— Есть декрет Советской власти о вселении рабочих в буржуазные квартиры. Слышали?
— Декреты теперь — как блины… Каждый день новые…
— Вашу квартиру мы берем под клуб, потому что жить в ней никто не захочет — не расчет… Сколько комнат у вас?
— Не помню… кажется, тридцать две или тридцать три.
— А членов семьи?
— Четверо.
— Хм! — покачал головой худой еврей. — По восьми на брата.
— Нет, на сестру, — оборвал его Виктор Степанович. — Потому что, кроме меня и лакея, все женщины.
— Ну вот, оставим вам пять комнат.
— А прислуга где же будет ютиться?
— Прислуг нет. Забудьте, — мрачно сказал Алексей.
— Пока еще есть… Куда же они денутся?
— Ну, шесть, гражданин. Шесть комнат — за глаза. Вам же будет способнее. Насчет топлива… предвидится кризис… и уборка… Остальное мы опечатаем.
— А вещи?
— Постановление — с мебелью. На чем же сидеть?.. Носильные, личные вещи — все заберите. Если есть музейные ценности — сдайте в музей.
— Скажите, пожалуйста, какая забота, — иронизировал Виктор Степанович, чувствуя, как нестерпимая боль схватывает сердце. «Вот и сердце зашалило», — со старческой тоской подумал он.
— У вас сколько выходов?
— Три или четыре, кажется…
— Один вам, два клубу…
В передней сидели Мария Матвеевна, Елена и Нина. Дворник осел тут же в глубоком кресле, подперев лицо деревянной рукою, и слезящимися глазами с любопытством рассматривал мечущихся женщин.
Потом все осмотрели ряд небольших комнат у кухни, словно никогда их не видели. А когда рабочий скомандовал переносить туда все личные вещи, господа и прислуга заметались по комнатам, забирая что попало, все сбрасывая на столы, на стулья, на кушетки и просто на пол.
— Ломбард прямо, — смотрел рабочий.
Спор получился из-за большого «Стейнвея».
— Это личная вещь, — сказал Бугоровский, — подарок.
— А клуб без рояля… разве это клуб?
— А кто у вас играет? — спросил рабочий.
Все молчали.
— Ну так об чем речь?
— А в клубе кто будет играть?.. Чижика?
— Напрасно, гражданин. Будет музыкальная секция…
— А в золотой комнате, где аквариум, пианино есть, — отозвалась вдруг горничная.
— Ну вот, пианино — вам.
Мария Матвеевна смотрела на горничную с укоризной. Нина была тиха, как пичужка под дождем. Виктор Степанович дважды погладил ее по голове. Она каждый раз прижималась щекой к мягкой и женственной его руке. Она думала, кому бы это рассказать, как их обижают.
Елена сносила к себе в комнату только фарфор и картины, и когда рабочий попросил пить, принесла ему воду в отцовском подстаканнике.
Фарфоровые тарелки с изображением членов фамилии Бугоровских она не взяла. Они остались висеть в большой столовой.
Виктор Степанович не принимал участия в обшей суматохе. Он рассматривал костяной нож в кабинете так, как если бы на нем были иероглифические знаки времен Рамзеса.
Процесс разорения проходил медленно, и Бугоровскому эта медлительность казалась самым тяжелым во всем испытании. Он готов был сам протестовать против медлительной экспроприации. То ли дело эсеры: револьвер к виску — кошелек или жизнь.
Банки были национализированы, но банковские капиталы продолжали значиться на текущих счетах владельцев. Капиталы перестали быть неоспоримой, священной собственностью, но получить их было возможно. Требовалась только виза правительственного комиссара. Правда, комиссар разрешал изъятие вкладов только на предмет расчета с рабочими и закупки сырья. Все же это была лазейка, и широкая лазейка. Бугоровский знал, что другие фабриканты платят рабочим из разных сумм, не взятых на учет, а под предлогом расплаты изымают банковские капиталы.
Главный бухгалтер и директор завода намекают Бугоровскому, что не все рабочие непримиримы и что при тех отношениях, какие существуют у администрации завода с некоторыми членами завкома, можно попытаться получить печать завкома на лишнее требование в банк если не на зарплату, то на сырье — ведь власти требуют продолжать выпуск продукции, — но Бугоровский машет на все рукой. Он знает, что другие фабриканты хитрят, подкупают, ловчат, переводя все, что можно, на Стокгольм и Лондон, закупают золотые слитки, портативные ценности, начиная от бриллиантов и валюты и кончая картинами мировых мастеров, проявляют небывалую в истории российского капитализма ловкость и изобретательность. Но он, наиболее передовой из них, грамотный и энергичный деятель новой формации, сидит сложа руки, предоставляя нанятым лицам вести его дела.
Каждый день ему приносят пачку газет. На вторых страницах листков, еженедельно меняющих названия, — декреты правительства. За отказ уплатить рабочим зарплату, за отказ продолжать производство конфискованы заводы: «Самолет», «Сестрорецкий механический», «Теодор Кибель», «Руссель Заде». Так он прочтет и о своем заводе — некролог в черной рамке при жизни. Удар за ударом по капитализму, который, по мнению Бугоровского, еще только-только начал жить.
Он ждал, что его дом, один из лучших и новейших в городе, будет отобран немедленно. Муниципализация домов стояла в программе партии. Шли месяцы, но дом не забирали. Он объяснял это неповоротливостью властей. Она бесила его, как признак слабости врага, тем не менее одержавшего такую полную и быструю победу.
В домовую контору и к нему в кабинет приносили написанные на недостойных клочках приказы об уборке снега, о санитарном состоянии дворов. Он швырял оповещения в корзину. Пусть занимаются уборкой те, кто насвинячил. В газетах по адресу домовладельцев неслись угрозы. Их подписывал Ворошилов, настойчивый председатель комиссии по охране города. Когда гостинодворских купцов, всероссийских богачей и когда-то отцов города, оштрафовали за неуборку снега на девятьсот тысяч рублей и арестовали, он прочел эту весть со злой усмешкой.
Гостинодворцы тут же сдались. Они уплатили штраф, наняли безработных офицеров, и снег был очищен. Тогда старшему дворнику было приказано Бугоровским освободить от снежных гор тротуары…
Газеты сообщали, что городской голова Калинин (рабочий!) предложил не торопиться с муниципализацией домов — эту меру следует сначала подготовить. Домовладельцы будут обложены налогом в десять процентов со стоимости владения. Значит, он, Бугоровский, должен сидеть в своем кабинете, заботиться о жильцах, о помойных ямах, об уборке снега и ждать, пока канцелярия этого городского головы в синей косоворотке подготовится к тому, чтобы забрать его дом!
Налог Бугоровский не внес. Дом не дает дохода. Пусть берут с распоясавшихся квартирантов, которые не платят ни властям, ни хозяину.
Его оповестили, что соответствующая сумма, согласно расценкам Городской управы, снята с его текущего счета.
Не отняли дом, но отнята квартира. Может быть, оставят завод, но снимут рубаху! Бугоровский чувствовал себя сосудом, подогреваемым на медленном огне. Стенки не выдержат этого кипения… Он ненавидел всех, кто врывался к нему в кабинет, — свидетелей его бесславного конца, этой агонии, когда отказывают уже последние остатки мужества и выдержки.
Алексей, уходя от Бугоровского, переживал досадные ощущения неполноценной победы над этим все еще не раздавленным маленьким человечком. Что такому денежному мешку десять процентов! Шесть комнат! У товарища Никифорова мягкое сердце. От жадности эти расфуфыренные бабы набили комнаты хламом — негде пройти. В кабинете можно было бы разместить взвод стрелков. Вот откуда вещи на барахолке. Этот богач зол, как вечно дрожащая африканская собачка Демьяновых, у которой глаза навыкате и голая кожа. Вот если бы такому вернуть деньги и власть!
От этой мысли, пришедшей ему в голову уже на улице, Алексею стало веселее.
Из лекций, читаемых в партшколе полной женщиной, которая, говорят, десять лет работала в большевистском подполье, он знает теперь, что революция — это вовсе не черный передел накопленного. Эти новые знания жили в нем шевелящимся живым клубком, никогда не замирающим. Они были новой силой, приданной к силе рук и силе вражды. Они окрашивали серые будни в волнующие краски. Кругом были тысячи людей, которых можно было удивить и покорить этими знаниями.
Эти мысли постепенно овладели всем его существом, готовясь совершить окончательную победу даже над инстинктами. Они бушующими потоками волновались в сознании, они грозили повернуть все русло реки, и хозяин не собирался ставить на их пути задерживающие плотины.
Но эти новые мысли еще не были в нем единственными и полновластными. Бывали моменты, когда инстинкты мстили за временное порабощение. Вид Бугоровского, холеного маленького человечка среди блестящих серебром, никелем, костью и лаками вещей, в кресле мягче, чем подушка, на какой спит рабочий, был для него тем же, чем были для него погоны и звездочки офицера в семнадцатом году. Знаки богатства должны быть сорваны, как были сорваны знаки власти. Он, Алексей, в этом доме все еще как нож, вонзенный в чужое тело. На лестницах по-прежнему встречаются люди, покрой одежды которых обличает вчерашних офицеров. Заносчиво несут они свои головы и обдают бывшего солдата взглядом презрения. Сейчас это единственное их оружие, и потому оно отточено, как хирургический ланцет. Где, в каких рядах будут они через месяц? На Дону? На Кубани? В Сибири? Не готовятся ли они к боям здесь, в Петрограде?..
Сверчков — единственный среди них, кто улыбается ему навстречу. Алексей готов платить ему суровой, сдержанной приветливостью. Они перебрасываются фразами при встрече, прикладывая руку к козырьку. Это был человек, который не шел ни в счет друзей, ни в счет врагов.
Вторым таким человеком в доме был еще художник Евдокимов. Как член домового комитета, Алексей был у него в мастерской. Он рисовал коров на солнечном дворе и рассказывал Алексею, что он сын железнодорожника и учился на стипендию. На столе у него стоял стакан недопитого жидкого чая без блюдца с куском сухаря. Но Алексей знал, что с ним дружит дочь Бугоровского, красавица, одетая как кукла. Эти промежуточные люди, возбуждали у Алексея крестьянскую настороженность и любопытство.
Вечерами Алексей уходил в партийный клуб. На пороге шумного особняка, куда стекалась молодежь с заводов, где кепки смешивались с фуражками военного образца, где в проходах гремел язык питерских застав и предместий, а в залах читались доклады о текущем моменте, о финансовом капитале, об империализме, о виновниках войны, о путях пролетарского государства, он оставлял настороженность и становился самим собою.
В партшколе Алексей негодовал на тех, кто разговаривал, ходил, шумел. Каждая лекция разрешала ряд вопросов и порождала новые. Она была конспектом десятка тяжеловесных книг и сама по себе требовала конспекта. Женщина-лектор посоветовала ему вооружиться карандашом. Алексей посмотрел ей в лицо — она не шутила. Он взял три-четыре книги без выбора в районной библиотеке — они не завладели его вниманием. Цветы оказались без аромата.
Он предпочел брать книги у Альфреда. Он брал эти книги уже не приступом, а долгой и упорной осадой, которая незаметно переходила в братание с автором и его мыслями.
Иногда ему казалось, что он беспомощен перед этой лавиной мудрости и фактов. Он был подобен губке, опущенной в воду. Влага наполняет все ее поры, и все-таки ее еще так много вокруг. Но иногда в газете, в чужих речах Алексей находил свои собственные, им лично вырванные из хаоса мысли. Это было торжество, это были победы. Их становилось все больше с каждой неделей…
Глава V ХРУСТАЛЬНОЕ ГНЕЗДО
Потревоженные галки суетливо прыгали по ветвям у пухлых корзин отслуживших и почерневших гнезд. За большими деревьями у древней церкви низко над дальними крышами катилось августовское солнце. Оно слепило, как кокон, напоенный светом, и оттого нельзя было сосчитать, сколько же здесь галок — четыре или пять.
А между тем это было очень важно. Молодой художник Николай Евдокимов предоставил галкам, вернее, их числу решить, будет ли ему в жизни удача или нет, будет ли полученный им за портрет гонорар случайной подачкой судьбы или же он открывает собою пышное шествие благ — плату за прилежание, труд и талант.
Тогда-то и бросились Евдокимову в глаза стекла граненого хрустального гнезда, прилепившегося к крыше нового, еще только освобождающегося от лесов дома.
Это была художественная мастерская, прозрачной голубятней поднятая над улицей. Хрустальная игрушка, повешенная хозяином нарочно, на время, пока солнце катится над рекой и над городом. Вероятно, из нее виден другой берег Невы, дворцы, церкви, может быть, даже острова в синих туманах залива. Это было то, что совершенно необходимо молодому художнику, то, о чем много и хорошо мечталось.
На зеленом билетике под воротами было отчетливо написано, что здесь, в этом доме, на седьмом этаже «сдается мастерская для художника с двумя комнатами и кухней. Условия узнать в конторе».
Самым замедленным шагом Евдокимов прошел до угла и вернулся.
Контора была во дворе налево. Человек в мятом пиджаке покорно взял картуз, ключи, и Евдокимов взлетел кверху на бесшумном лифте, лак которого еще принимал отпечатки пальцев. В мастерскую нужно было сбежать вниз три ступени. В этом было какое-то очарование. Отступление — пусть всего на три ступени — от плана доходного дома. Солнца в этот день было столько, что голубоватые масляные стены дымились в блеске. Окна маленьких комнат, как в старонемецких домах, выступали из ската крыши. Обширный внутренний балкон нависал над мастерской.
Давно задуманные, по ночам во всей реальности стоящие перед глазами картины могут быть созданы именно здесь. Все его богатство: этюды, найденные в минуты обостренного внутреннего зрения, образы и краски, полотна, существующие и только еще намеченные, — уже размещалось в его воображении на этих стенах, превращая комнату в свою и единственную. Здесь девушка валялась бы в желтых пятнах солнца на серебряном песке, рядом блеснул бы черными, зелеными, оранжевыми шелковыми огнями китайский платок, широкоплечий кузнец утирал бы пот над алыми углями горна…
А цена этому помещению?
Услышав свой голос, Евдокимов подумал: не пропадает ли в нем талантливый чревовещатель?
— Господин Бугоровский, Виктор Степанович, цену сами назначат. Если подходит вам — вы к ним пройдите.
Квартира Виктора Степановича показалась Евдокимову невероятной. Как в стенах доходного дома могла приютиться такая изысканная роскошь! Владелец квартиры, конечно, миллионер. Какая же могла быть цена мастерской?
Виктор Степанович принял художника в большом, как зал, кабинете. Только одно незанавешенное окно бросало свет на деловой стол и пару глубоких кресел, оставляя в тени необозримый хаос вещей и мебели, скорее всего напоминавший лавку антиквара. Бугоровский пошел навстречу Евдокимову, как старому другу.
Когда еще только копали котлован под фундамент дома и хозяин все еще не мог отчетливо вообразить, как это висящий под стеклом в его кабинете проект станет жилым домом, в квартире архитектора поздним вечером раздался телефонный звонок. Голос Бугоровского спросил:
— Не спите еще, Валерий Никодимович?
— Н-нет, но собираюсь… — буркнул архитектор.
— Маленькое изменение в проекте…
Архитектор молчал. Черт бы побрал все эти капризы домовладельцев…
— Нельзя ли на крыше… этакую стеклянную мастерскую. Побольше стекла, знаете… Чтоб сверкала на солнце.
В представлении архитектора на проекте безжизненно вспухло зеленоватое пятно.
— Поразмыслю, Виктор Степанович… Можно, я подумаю…
В числе примерных посетителей весенних выставок был и Виктор Степанович. В молодости ему удавалось, не насилуя себя, замирать ненадолго перед полотнами передвижников. Но вкусы менялись. Передвижники отступали в прошлое. Виктор Степанович, раз ощутив, что на этом фронте он не поспевает за временем, усвоил себе вместо прежней откровенной восторженности более соответствующую его возрасту и положению систему осторожных, туманных высказываний. Он стал покупать те полотна, о которых хотя бы и разноречиво, но много говорила пресса.
Наливающаяся соками российская мелкая буржуазия, наскучив поражениями в робкой политической фронде, в поисках розы без шипов объявила революцию в искусстве. Искания были подняты на щит, с которого ушло мастерство. Передвижники вспоминались теперь не как полотна, но как отпечатанные в миллионах экземпляров открытки, которые для иллюстрации подходящих чувств можно посылать с приветом со случайного вокзала.
Бугоровский покупал, подобно многим питерским богачам, и картины старых мастеров. В солидной полутьме они висели в кабинете, в приемной, не получая доступа в анфиладу парадных комнат, где в большие дни толкались толпы разнокалиберных, согласно духу времени, гостей. Ему казалось, что способность быстро откликаться на события искусства подтверждает его стиль дельца — новатора и создателя вкусов. Он приобретал не нравившиеся ему, но возбуждавшие салонные толки работы кубистов, экспрессионистов. Бульварные листки, газеты швейцаров и генеральских вдов отметили его коллекцию. Полотна появлялись на сезон. Когда о них забывали — он приказывал убрать их. Так меняют опустившие лепестки букеты в саксонских вазах.
В вербную субботу, провожая Елену в «Поощрение», он встретил на лестнице особняка заводчика Фраермана. С брюзгливым выражением лица богач следовал за мальчиком, который нес к карете купленную картину.
— Люблю искусство, Виктор Степанович, но не терплю художников, — вместо приветствия отнесся к нему Фраерман, несколько раз выразительно встряхнув свежими перчатками. — Можно покупать картины, но надо на три версты держать от себя художников… Это уже кто-то сказал?.. Или это я сам придумал?
Виктор Степанович ответил шуткой, внес тысячу рублей в Общество художников, познакомился с тремя подающими надежды скульпторами и живописцами и позвонил архитектору насчет мастерской. За вечерним чаем он сказал Елене:
— Какой-нибудь из твоих женихов вытянет счастливый билет.
Дом был закончен, и Евдокимов оказался первым претендентом…
— Понравилось? — спросил его Бугоровский.
Вместо соответствующего восклицания Евдокимов втянул в себя воздух. Это было лучшим комплиментом затее Виктора Степановича.
— Вы давно окончили Академию?
— Два года. Я имел заграничную поездку.
— Лауреат? Не ваша ли «Амазонка» весной была в Академии? Горячие, сильные краски…
Евдокимов радостно вспыхнул.
— У кого она сейчас?
— Куплена князем Юсуповым.
— Прекрасное начало. Ну что ж, мастерская за вами. Послужим и мы искусству… как умеем.
— Я боюсь только… по средствам ли мне? — пролепетал Евдокимов. — Может быть, мы вдвоем…
— Мастерская строилась не ради денег, — веско уронил Бугоровский. — Будете платить столько, сколько платите за ваше помещение сейчас. Контракт на два года. Оставьте в конторе адрес. Вещи ваши перевезут. А в ближайшие дни, когда устроитесь, — я ваш гость. — Он попрощался широким и радушным жестом.
На следующий день вечером Евдокимов сидел на подоконнике еще пустой мастерской, спустив одну ногу над обрывистой крышей. К дому подъезжала коляска. В коляске сидела девушка, красоту которой не мог не оценить художник. Она смотрела на окно мастерской и видела человека, сидевшего, как птица, на подоконнике с одной ногой наружу. Она вошла в дом, а Евдокимов все еще смотрел вниз и свистал тихо и ладно, как ладно и тихо было у него на душе. Он думал о том, что жизнь вовсе не так зла, как об этом говорят и пишут. Думал наперекор своему худосочному детству, голодным студенческим вечерам, ревматическим узловатым пальцам матери, наперекор ранней смерти отца, железнодорожного машиниста. Будущее располагает страшной силой. Один луч его способен испепелить все материки прошлого.
Девушка пришла в мастерскую с Бугоровским.
Кутаясь в шаль, пока Бугоровский, говоря без умолку, выплачивал Евдокимову триста рублей — аванс за будущие портреты его и Марии Матвеевны, — она молча рассматривала свежий холст, на котором четыре галки прыгали вокруг старого гнезда, пушистого, насквозь просвеченного заходящим солнцем.
Он встречал ее в квартире Бугоровских во время сеансов.
В «Поощрении» она сказала ему, как старому знакомому, что придет со своими альбомами.
«Неужели она рисует?! — подумал Евдокимов. — Вероятно, бездарна, как половая щетка. Очень жаль!..»
Девушка действительно была прекрасна.
Но принесенные акварели были вовсе не плохи. Пока Нина любопытным зайчиком обегала все углы мастерской, он ставил работы Елены одну за другой на мольберт, долго молчал, потом говорил, по-ученически стыдясь и волнуясь, боясь перехвалить и радуясь возможности одобрить.
Елена приходила часто. Вскоре она перестала брать с собой Нину. Она забиралась с ногами на тахту и, раскрыв на коленях книгу, со спокойствием и уверенностью, которые так шли к ней, требовала, чтобы Евдокимов работал, не обращая на нее внимания.
Евдокимов послушно брал кисти и палитру. Ему казалось, будто он расписывает церковный плафон в качающейся люльке па страшной высоте.
Но Елена способна была сидеть часами, не меняя позы и, казалось, не отрывая глаз от книги. Было приятно усилием воли, которое давалось не сразу, возвращать уверенность руке и кисти. Почувствовав свободу, Евдокимов писал с двойным усердием. Работа в присутствии этой необыкновенной девушки, бесконечно чужой и прекрасной, превращалась для Евдокимова в нелегкий, но волнующий спорт.
Глава VI ПРОДОТРЯД
С широкой семейной скамьи у ворот видна улица в обе стороны. В этот час послеобеденного отдыха она пуста и тиха. Черным комочком перекатывается по серому песку мальчуган в рубашке до пят. Устав смотреть вдоль амбаров и редких домов, Филипп Иванович Косогов подавался вправо и тогда, сев вполоборота, видел весь свой двор, многочисленные сарайчики, навесы и закутки, штабеля березовых колотых дров и заднее крыльцо с подступившим к нему стадом гусей и уток.
Филипп Иванович любит, чтобы все было перед глазами, все то, что в руке и под рукой… При Керенском Косогов был избран старостой. Старостой остался и при большевиках. Свое деловое величие, признанное всем хозяйственным Докукином, он соблюдал строго и в бабий крик на кухне не вмешивался. Но сейчас всем своим вниманием Филипп Иванович ловил голоса жены, сестры Христины и приезжей городской барыньки.
Барыня работала языком как хорошо смазанный пулемет, выхваляя плюшевую шубку и никелированный чайник с заграничным клеймом. Она хотела получить за эти вещи пуд муки и хлопотала с ловкостью и уверенностью колониального торгаша, предлагающего безделушки за произведения богатой тропической природы. Выходило, что она благодетельствовала этим мужичкам, никогда не видавшим добротных вещей. Мука лежала в сухом сарае и не подлежала показу, пока не свершится торг. А на шубку смотрели все, кому не лень, выносили на солнце, выворачивали рукава, и благодеяние неизменно обращалось в просьбу.
— Господи, — верещала барынька, — мука… Три копейки за фунт платили. Никто не считался. А вещь — всегда вещь. Эту шубку я купила перед самой войной. Может быть, три раза надела. Ну, а теперь вам нужно хорошенько одеться. Вам бы очень к лицу…
— Лукерья! — зашумел Филипп Иванович.
Возбужденная и простоволосая Косогова выскочила за ворота.
Филипп Иванович посмотрел на нее неодобрительно, и она стала оправлять спустившийся на плечи платок.
— За чайничек пяток яичек. А шубу пущай несет к попу или к Бодровым. Ульяне все сгодится. Жадные они стали. Христя там смотрит? А то чего доброго…
Он замолчал и стал глядеть вдоль улицы. Ответа не полагалось. Лукерья вернулась на кухню. Барынька заговорила еще громче.
Лицо у Филиппа Ивановича жилистое. Сквозь курчавины смоляной бороды играют желваки у скул. Морщины кажутся проложенными не временем, но постоянным усилием воли. Глаза глядят из-под двойного навеса лба и рвущихся вперед бровей. Они колючие и быстрые, и за эти глаза его зовут цыганом. Жилистые черные руки с длинными хваткими пальцами дополняют картину. В эти свои руки он хотел бы захватить все Докукино, с угодьями и усадьбой, с мельницей, стекольным заводом, конюшнями и всем арсаковским добром. Судьба до сих пор баловала Косогова. Христина почитала его, как отца, и боялась, как нечистой силы. За многие годы он получил из ее рук столько, что стал первым человеком на селе. Уже давно нигде нет старост, всюду Советы. Но никто не решается переизбрать Филиппа Косогова. Когда разгром усадьбы стал неминуем, дворня разбежалась и помещик на все махнул рукой, Косогов стакнулся, чтоб сохранить тайну, с Порфирием Бодровым, и вдвоем они спрятали не на одну тысячу зерна, муки, инвентаря и ценных вещей.
Но нет спокойствия на душе у первого богатея деревни. Пора бы уже быть порядку, при котором богатство окажет себя. Но порядка, какого ждет Косогов, все нет. Добро лежит в сундуках, в подвале, в яме под дровами, на чердаках его и бодровского домов, гниет и портится, и нет ему выхода на свет дневной.
Много ненависти в себе чувствует Косогов, и немало ума нужно, чтобы держать в руках большую деревню. Филипп Иванович поступился многим. Порфишку Бодрова он приласкал в тонком расчете бросить его на полпути, но в октябрьские дни объявился на деревне Ульянин сын Андрей, и Косогов решил не рвать с бодровским семейством. Немало раздарил он вещей соседям, чтобы закрыть рты. Ублажал одного за другим быстро сменявшихся начальников. Но всех не удовлетворить. Власть старосты не уходит из его рук. Она подкреплена властью большого, не вчерашнего, еще до конца не обнаруженного богатства. Но она колеблется, она дрожит в руках. Она крепка, как январский лед, сегодня, но может водой уйти между пальцами завтра. Многие уже не ходят к нему — идут в Совет. Нет порядка — нет уверенности. За уверенность в завтрашнем дне Косогов отдал бы половину нажитого. Хозяин он или не хозяин всему, что накоплено в клетях, амбарах и сундуках его обширного полукрестьянского, полугородского дома? Однажды Косогов уже заплатил контрибуцию по постановлению Совета. Затем отдал верхового коня помощнику военкома. Нет уверенности, что завтра не спросят больше. Но не только тревога растет из этой неуверенности — не таков Филипп Косогов! — а и ненависть ко всему шумящему по деревне сброду. Отцы-хозяева боятся Косогова. Они держат в руках сыновей и зятьев.
Комитета бедноты в Докукине не было всю зиму. Филипп Иванович провалил попытку безземельных фронтовиков организовать бедноту в октябрьские дни. На собрании зачли складно составленную Андреем Бодровым резолюцию:
«Раскалывая деревню на два лагеря, мы разоряем страну и размножаем лодырей. Получив власть, бедняки не станут ни о чем заботиться и будут великолепно кормиться за счет тех, кто трудится день и ночь…»
«Лучше нельзя сказать, — думал про себя Косогов. — Ай да Андрюшка, щенок!»
Андрей Бодров бежал из армии в момент, когда делегаты Питерского гарнизона и заводов поднимали солдат против реакционного корниловского офицерства. Он снял погоны и кокарду, надел косоворотку, синюю поддевку и пробрался в Докукино. И так как усадьба уже была захвачена крестьянами, поселился у матери. Порфирий Бодров принял Андрея спокойно. Земгусар подарил «отцу» сапоги и военные галифе, снабдил благородным куревом и дал денег. Денег у Андрея, видимо, было немало, и это подняло его авторитет в глазах Бодрова. Старик отеплил для него холодную часть избы и стал советоваться с ним по всем хозяйственным делам. Брат Андрея был где-то далеко. Ходили даже слухи, что шведский пароход, на котором Петр ехал в Англию, наскочил на немецкую мину и пошел ко дну. Христина отказалась служить панихиду по сыну. Но и в ее сердце угасала надежда. Андрей рассчитал, что усадьба может упасть ему в руки, если только он будет караулить ее с терпением и хитростью засевшего у мышиной щели кота. Он не погнушался пойти на поклон к старосте и просил утвердить его в крестьянском звании по матери. Косогов впервые видел вблизи этого статного молодца, с узкими алыми губами и глазами удивленного младенца. Косогов буквально исходил желанием унизить, истребить, уничтожить этого парня в косоворотке и поддевке, но расчетливый ум его строил новые комбинации, и он не только позвал Андрея к себе в дом, но и постарался закрепить знакомство со всей семьей Бодровых.
Порфирий Бодров был теперь неузнаваем. В дни разгрома усадьбы он вдруг сбросил с себя лень и приниженность. Слегка подвыпивший, Бодров оказался на месте одним из первых, ломиком сбил замок с двери большого сумрачного амбара, который они давно уже наполовину почистили вместе с Косоговым, плечом вынес окошко в уже горевшем флигеле управляющего. Ульяна весь день послушно носилась под его хриплые окрики от экономии к дому, водила телят, на себе притащила плуг и жнейку, а сам Бодров привел под утро лошадь и корову на двор.
Ульяна после этого до зари, не ложась, молилась, а сам Бодров так и не ушел из сарайчика, впервые за всю его жизнь наполненного живностью. Утром он вылил на голову ведро воды, запряг телегу и опять поехал в экономию — за сеном и овсом.
С боем он взял корма у охранявших остатки помещичьего добра милиционеров, которые держались неуверенно и отступали при первом окрике расходившихся мужиков. Бодров принялся за свое хозяйство с таким рвением, какого не ждали от него ни привыкшие к его лапотничеству соседи, ни наблюдавшая его с изумлением и страхом жена. Он вставал по пяти раз за ночь, обходил весь двор. Тайком от соседей спрашивал у лавочника крепкие, тяжелые замки, суля за них вещи из барских комнат.
Филипп Иванович внимательно наблюдал за потугами вчерашнего бедняка. Умно и осторожно он намекнул ему, что не следует пока форсить нажитым и хорошо держать дружбу с соседями, в особенности с теми, кто горланит на собраниях и похваляется своей бедностью и преданностью Советской власти.
Когда избирали первый Совет, все косоговские друзья отдали голоса Порфирию Бодрову.
Дела Косогова стали портиться, когда волна демобилизации вернула в Докукино неперебитых и неизуродованных мужчин. Фронтовики возвращались с оружием и широкими замашками революционного года. Васька Задорин бросил в лицо Косогову «кулака».
Весь круг замолк от такой вольности.
— Кулаки, они тоже — трудящие крестьяне, как за них говорит цека Комков, — ответил степенно Филипп Иванович.
Но Васька, рваненький и худой и притом злобный и бесстрашный, как ястреб, послал в одно и то же место и эсеровское ЦК и Комкова.
Филипп Иванович развел руками: дескать, с таким разговоров быть не может. Но когда Задорина избрали секретарем Совета, он понял, что нужно готовиться к превратностям судьбы.
Ваське не удалось провести в Совете решение о переизбрании старосты или ликвидации этой должности — путаница в понятиях была еще слишком велика, — а Филипп Иванович сам игнорировал Совет, но заявлял в нем свое мнение устами Бодрова и некоторых середняков, которые внимательно выслушивали все пламенные речи Задорина, но всякий раз подумывали, как это примет Филипп Косогов.
Андрей Бодров подошел к Косогову, когда барынька, умаявшись окончательно, сдала, и теперь сухой, простуженный голос Христины производил расчеты. Филипп Иванович принял протянутую руку и даже слегка пододвинулся, хотя на скамье хватило бы места для четверых Андрей постучал папиросой о крышку портсигара, послушал, что говорит Христина, и, усмехнувшись, заметил:
— Новости у нас опять, Филипп Иванович.
Косогов, не дрогнув глазом, ждал продолжения.
— На последнем заседании Совдепа Васька предложил иметь по деревне два списка. Один — богатеев, другой — бедняков.
Филипп Иванович ничего еще об этом не слышал, но тем не менее небрежно уронил:
— Говорили… А хоть бы и десять…
— Думаете, неважно?
Косогов осмотрел его с ног до головы.
— Если контрибуция или реквизиция — один списочек на стол. А если вагон товарцу из города пришлют — другой. Если лес получать — бедняцкий списочек в ход, а если повинности отбывать лошадьми или там чем другим — богатеев.
— Написать на Ваську нужно, — неуверенно заявил Косогов.
Андрей махнул рукой и прибавил тихо:
— Со станции приехали. Говорят, продотряд сюда направляется. Потрусят докукинские закрома. Ваське на руку.
— Списать бы его в расход, хулигана…
Барынька выходила из ворот, нагруженная мешком и базарной корзиной. Она бросила на Андрея взгляд приниженной, но все еще сознающей себя гордости и пошатывающейся походкой женщины, не привыкшей к переноске тяжестей, двинулась к церкви, где ее и других мешочниц ждала подвода.
Продотряд вступил в Докукино под вечер. Три телеги двигались по главной улице, а продотрядчики шли рядом с шумными разговорами, вызванными близостью отдыха и предчувствием хлопотливой и нервной работы. Они пробегали вдоль заборов, добродушно и весело заглядывая во дворы. Девушки и женщины показывались из дверей, из-за крылец, из сарайчиков и, бросив работу, спешили к воротам.
Алексей шагал впереди, не чувствуя усталости. Все кругом было знакомо ему. Ничего не изменилось — разве то, что церковь, заборы и дома показались меньше и ниже после столичных построек. Он оживленно рассказывал о Докукине и арсаковской усадьбе своему заместителю, Марку Буланову, закройщику со «Скорохода». Худой, с не по годам иссушенным лицом красногвардеец слушал его и сочувствовал. Буланов родился в городе и вовсе не знал деревни. Он был рад тому, что во главе отряда поставлен товарищ, хорошо знакомый с обстановкой. Он отлично понимал, что Алексей говорит о разных вещах, а думает об одном: через какой-нибудь час все большое село узнает, что сын докукинского бедняка Федора Черных после долгих лет отсутствия пришел в родное село во главе питерского отряда.
Зорким глазом смотрел Алексей вдоль улицы — не появится ли кто знакомый. Вот сейчас из-за поворота откроется острая колокольня, двухэтажный дом богача Косогова и вид на выселки.
В блиндаже, в карауле, позже в генеральской квартире, после каждой прошумевшей над головой опасности, после каждой удачи, после каждой волнующей встречи со значительными людьми он охотно мечтал о том, как появится впервые у себя на родине. Ему будет что рассказать. Сколько пережито на фронте и в революцию. Алексея тянуло в деревню, чтобы каким-то большим усилием сорвать с односельчан сон и лень и повести их к богатству и лучшей жизни. Но действительность оказалась не похожей на все эти мечты.
С Докукина нужно будет взять два вагона хлеба и овощей. Многим придется не по вкусу его появление. Но ведь это горе не для бедноты, с которой связаны он и его семья. А пощупать Косоговых, Хрипиных — беды в этом нет.
Он приедет справедливым, честным, своим работником. Ом возьмет эти два вагона продуктов у тех, кто богат и сыт по горло. О нем останется добрая слава. Задачу, возложенную на него, он выполнит быстро и лихо, по-военному.
Над пятиоконным домом у церкви, где прежде был постоялый двор, — красный флажок, и над крыльцом на белой материи охрой выведено:
«Докукинский Совет раб., крест, и солд. депутатов». Когда продармейцы остановились у крыльца, все, кто были в помещении, высыпали наружу. Какой-то паренек- подросток крикнул Алексею:
— А я за Василием Ивановичем сбегаю, — и помчался к выселкам с такой быстротой, на какую могло подстегнуть только подлинное любопытство.
Узнав, что секретарем Совета — друг его детских забав, Алексей обрадовался. Все складывалось как нельзя лучше. Начало его самостоятельной деятельности в роли начальника продотряда, безусловно, будет удачным, раз ему помогут опыт и помощь местных товарищей.
Васька Задорин примчался через полчаса. Он только что вернулся из города и знал, что в Докукино идет питерский продотряд. Но он не помышлял, что встретит здесь Алексея. Задорин тряс Алексею руку, сверкал зеленоватыми глазами, и, хотя ни слова о том не было сказано, Алексей почувствовал, что детская дружба неувядаемо живет в сердце его товарища, как и в его собственном. Видно было, что Задорин чувствует себя в пятиоконном доме Совета хозяином. Ходил он по председательскому кабинету решительно, говорил громко. Называли его все Василием Ивановичем, а когда пришел председатель, старик с острым клином белой бороды, избранный потому, что он ездил еще в мае делегатом на эсеровский крестьянский съезд, Алексей увидел, что Васька своего председателя в грош не ставит.
Решили, что общее собрание состоится на следующий день, и, разместив продармейцев, Задорин увел Алексея и Буланова к себе на выселки. Обоим не терпелось остаться вдвоем. Алексей для этого отложил до вечера посещение родителей. Но народ кружился поблизости любопытным взбудораженным роем, и разговор по душам не удавался.
Заборчик задоринского двора еще ниже склонился к земле. Но в избе у Задорина стало чище и веселее. В красном углу висел портрет Ленина. На столе двумя- гремя стопками лежали книги.
Покуда старуха Задорина разжигала самовар, Алексей забежал к своим. Старики уже было полегли, но поднялись опять, услышав о приезде сына. Они смотрели на Алексея как на давно не бывавшего гостя и легко приняли то, что он остановился у Задориных, где было просторнее и чище. Это был сын, отданный в люди, отрезанный ломоть, птенец, навсегда выпавший из нескладного нищего гнезда. Братья-подростки проявили большой интерес к его нагану и шашке и в конце концов тоже ушли ночевать к Задорину.
— Вы что, с председателем не ладите? — спросил Алексей, умащиваясь на брошенные в углу тулупы.
— Живем как кошка с собакой, — засмеялся Василий. — Борода у него как у святого, да руки грешные. Греет он их и у наших и у ваших. И молчать умеет и говорить. Хитрый, как змей. У Косоговых, у Хрипиных не бывает, поносит их на Совете, но что у нас в президиуме делается — все у Старосты знают. Через Порфишку Бодрова… Председатель наш на крестьянском съезде выступал. Такого петрушку показал, что его по всем газетам печатали.
— У нас, брат, раненько помещика погромили, — продолжал он, помолчав, — еще в августе, а потом перепугались. Милиционеры приехали, виновных искали. Ну, виновные, конечно, вся деревня. Кто не хотел громить, силой тащили, чтобы потом невиновных не было. А с испугу и в Совет выбрали не крестьянских, а кулацких депутатов…
Он рассказывал Алексею о борьбе между соседними волостями за арсаковские земли. Волости, в которых не было помещиков, требовали свою часть. Докукинцы не уступали. Рассказал о том, как Косогов почистил помещика с помощью Христины еще до разгрома, о том, как кулаки не хотят пускать в передел купчие земли, о том, как докукинский поп расстригся и подрался с другим попом, который самочинно предал его анафеме.
Алексею казалось, что Задорин слишком гордится своей работой в деревне и преувеличивает деревенские трудности, а то и попросту выдумывает их. Разве можно сравнить их с борьбой коммунистов в городе? Там — всякого народу, а здесь — крестьяне, одного поля ягоды. Недаром помещика громили все, богатые и бедные, деды и внуки, старухи и девки, чтоб не было невиновного.
Ночью в окно задоринской избы постучали.
Василий приложился лицом к стеклу, смотрел некоторое время, почесываясь, потом сказал проснувшемуся Алексею:
— Тетка твоя… До утра не терпится. Мироеды ноной формации…
Он любил вычитанные в газетах необыкновенные слова.
Алексей накинул шинель и в старых задоринских галошах вышел на двор.
Ульяна сразу припала к Алексееву плечу. Была она седа и морщиниста, но на него повеяло густым лесом, пасекой, всегдашней Ульяниной приветливостью, памятью о скудных ее гостинцах.
— Что ты ночью, Ульянушка? — сказал он, поеживаясь спросонья. — С утра я к вам собирался. Как Порфирий?
— Стар он стал, Алешенька. Хозяйство-то выросло, а работника брать не с руки. Какие ноне времена, сам знаешь. В Совете сидит, на ногах весь день, а прибыли нет… Вот Андрюша приехал. Да какой с него работник? Руки-то топора, лопаты не держали. Ни мужик, ни барин…
Алексей недовольно шаркнул галошей. Пустое дело. Ясно, из офицера мужик не выйдет.
Ульяна опять припала к нему.
— Просил тебя Порфирий, — жарко задышала она ему в лицо. — Не слушай, Алешенька, что говорить тебе про нас будут. Только и вздохнули сейчас. Знаешь ведь, как маялись. И свое теперь, не дарёное… не за стыд: И с Филиппом Ивановичем мы так только… Никуда от него, проклятого, не кинуться. А Задорин рад нас в богатеи записать. Порфирий говорит: он сам к Косоговой Ксюше сватался. Не дали. Вот он и зол на них.
Разговор клонился в сторону неприятную и скользкую.
— Ладно, Ульянушка, утром зайду к вам.
Задорин ни слова не сказал Алексею, когда тот вернулся в избу, но, уже сидя за своим столом в Совете, многозначительно заметил:
— Тут у нас без тебя многое переменилось. Помещика нет, но зато кулачья предостаточно.
— А Совет на что? — спросил Алексей.
— Говорил я тебе, Совет у нас — вывеска, — рассердился Задорин. — Совет будет, когда кулаков выгоним.
В Андреевой части бодровской избы было много книг и ковров. У Бодровых тоже стояли вещи, которые только революция могла забросить в дымную и низкую крестьянскую избу. Эти вещи не сливались с бытом. Они были приставлены к былой бедности, вправлены в нее, как яркие лоскутья в поношенную одежду. Алексей принял все это так же, как шведские шкафы и кожаный диван в генеральской квартире. Из разговора Порфирия, в котором подлая робость переплеталась с неудержимым детским хвастовством, он понял, что и здесь по-своему ломается психология былой терпеливой бедности.
Свалившееся богатство вызывает в Порфирии не радость и чувство свободы, а жадность и смешное маленькое честолюбие, которому еще нет выхода.
Но чем больше смотрел Алексей на увядшие щеки Ульяны, на ее детей-подростков, на ее исковерканные работой руки, тем больше ему хотелось дать что-то от себя этому дому. Ведь здесь его утешали еще в ту пору, когда за каждую ласку он готов был заплатить полновесной любовью, так как была такая ласка редка, необычна и мимолетна.
— Сеяли сей год мало… — говорил Порфирий. — Чго взяли в экономии — тем живы. Собирался я Федору куль муки подкинуть, все-таки сват. А теперь возьмете — не знаю, как и самим хватит…..
— А как мы в городе? — спросил Алексей. — Фунт на едока, да и то только на красноармейца.
— В городе работа другая.
— Вы как же помещика делили? — спросил Алексей.
Но Бодров не охоч был до таких разговоров. Косогов строго наказал ему хранить тайну, хотя она никак не могла сохраниться в большой деревне. Не пойман — не вор, но вражда докукинской бедноты к Бодрову, вдруг оказавшемуся ловкачом, поднималась еще сильнее, чем к заведомому хищнику, мироеду Косогову.
Порфирий рассказывал Алексею, как поп увещевал прихожан и как жгли дом управляющего, ненавидимого деревней больше самого помещика.
— Так что ж, Алеша, — жалостливым тоном спросил он, провожая гостя за околицу, — что нажили, то опять.
— Кормить-то армию нужно. Всего два вагона с большой деревни. Останется, я думаю.
— Как брать… Если бы со всех поровну… А нам бы только подняться. Сам знаешь, как жили. Васька нас в богатеи произвел…
Был он худ и сгорблен, тяжело дышал беззубым ртом и смотрел жадно и жалостливо.
Сочувствие к нему, а еще больше к Ульяниной семье переполняло Алексея. Это не Косогов. Если революция принесла ему достаток, то это справедливо. Алексей был убежден, что так думает вся деревня. Мужики не обидят Бодровых. Бедность и голость их долгие годы были у всех на виду. Значит, ему будет легко отстоять Порфирия.
Но, когда на собрании стали составлять список богатеев, фамилия Бодрова стала вровень с фамилиями Хрипиных и Косоговых. Косогова ненавидели, но зато и боялись, Бодрова хлестали, не оглядываясь.
Алексей счел это несправедливым и вскипел:
— Одно дело Косоговы, другое Бодровы. Косоговы, как пауки, напились чужим. А Бодровы только вылезли из нищеты.
— Оно конечно, — сказал Степан Сломко, сын кузнеца, которого пороли в 1905 году казаки. — Свой своего тянет.
— А ты не видел, как Бодров всю жизнь в рваных портках бегал? — запальчиво крикнул Алексей. — А теперь ему кое-что перепало — на то революция.
— Не один Бодров в лаптях ходил, — степенно заметил председатель, проведя рукой по бороде, — и не то плохо, что он попользовался. А то плохо, что он без мира у помещика взял.
— А ты видел? — запальчиво перебил Бодров.
— То и плохо, что никто не видел. Не то плохо, что ты пользовался. А то плохо, что ты против мира к Косоговым потянулся.
— Ах, змей, сукин сын, — слышным шепотом произнес Задорин и закачал головой.
— То плохо, что ты продукт спекулянтам продаешь. Да плохо то, что вы с Андрюшкой-охвицером как волки на деревню глядите.
— Ты бы в местные драчки не путался, — шептал между тем Алексею Буланов. — Что тебе Бодров, сват или брат?
— Жена его мне тетка, — буркнул Алексей. Он распалялся все больше.
— Тогда и вовсе не дело, — сказал Буланов и отодвинулся от Алексея.
Но у Алексея уже вскипела кровь. Где, как не в этой деревне, знает он все, что творилось во все годы его детства и юности? Разве не понимает он, кто чем здесь дышит? Разве кто-нибудь может внушить ему, что Порфирий Бодров не прав, взяв, что сумел, у помещика? На кого ни взгляни в этом собрании, все ему дальше и подозрительнее, чем Ульяна, столько страдавшая от Арсакова, теплая душа, единственный человек, от которого он знал ласку и о которой он от отца и матери слышал только доброе.
Когда голосовали список богатеев, он, почти единственный, голосовал против введения в список Порфирия Бодрова.
Увидев, что начальник продотряда голосует против своих же продотрядчиков и коммунистов, богатеи зашептали. По собранию прошел слух, что берут несправедливо, сверх нужды и закона, греют руки.
Многие уходили с собрания с тревогой, думали, как припрятать добро, как утаить хлеб, кому из соседей сбыть на время скотину.
Беднота уходила довольной. Буланов заявил, что согласно распоряжению губпродкома часть собранного зерна будет роздана неимущим.
В этот вечер на деревне появилось много самогона. Парни ходили группами с гармонью, балалайками, воинственно и задорно выкрикивали частушки. Они кружились у здания Совета, и в песнях, в перебранке часто звучала угроза.
На улице Задорин, не смущаясь присутствием продармейцев, посмотрел на Алексея недобрым взглядом и сказал:
— Спасибо тебе, ты помог нам. Вышло — мы Бодрова по злобе прижимаем. Нас на чистую воду вывел. Всех богатеев обрадовал. Теперь нам совсем легко будет Совет из кулацких рук вырвать.
Алексей столбом встал на середине улицы. Он хотел ответить горячо и сильно, но Буланов сказал, не повышая голоса:
— А ведь он прав.
Сделав над собой усилие, Алексей зашагал дальше.
— Когда мы, фронтовики, вернулись, — настойчиво продолжал Задорин, — мы Бодрова в Совет ввели как своего, а от него одну беду видели. Никто на нас так не нападал. Мы и лодыри, мы и охальники, мы и пьяницы. Советскую власть он честит крепче Косоговых. Андрюшка-поручик его направляет. Того Бодрова, что был, нет. Нет, товарищ Черных, забудь!
Алексей отказался идти к Задориным и отправился ночевать в Совет.
Ночью произошло наихудшее. Кто-то пустил по деревне слух, что начальник отряда будет давать облегчение тем, кто его попомнит. К Марии Черных на выселки то и дело стали забегать докукинские хозяйки с куском полотна, с лукошком яиц, с курочкой или крынкой меда, с серебряным царским рублем.
Буланов заметил этот поход еще вечером, отправился к Задорину, и они решили строго говорить с Алексеем.
Услышав о подарках, Алексей сорвался со скамьи и побежал к матери. На большом столе под иконами громоздилась куча добра. Из-под серого полотенца виднелись караваи, тугие мешки, желтые кружочки яичек. Мать, старая, почти беззубая, костлявая, как выносливая, но уже замученная лошадь, стояла у окна и думала смутную думу: уж не принес ли ей господь в сыне счастье?
Алексей сорвал полотенце, швырнул его в угол и не своим голосом крикнул:
— Какой черт это все нанес? Как смели вы принимать, мама? Опозорили меня. Все раздать обратно, слышите!
Алексей стал разбрасывать мешки и свертки по избе, потом надвинул на глаза фуражку и убежал в поле.
Он долго ходил над рекой. Свежий ветер успокоил его, и он решил, что Буланов прав: вся беда заключается в том, что он поехал с таким деликатным делом в свое родное село. Алексей решил оставить в Докукине Буланова с частью отряда, а самому ехать по другим деревням, и чем дальше от Докукина, тем лучше.
Буланов не согласился с Алексеевым решением. Он не умел ему объяснить, как следует поступить, и только кивал головой и говорил:
— Неладно…
Задорин держался сурово и молча.
Алексей настоял на своем и уехал. Теперь он держал себя в руках. Всюду, куда приезжал, предварительно совещался с партийцами и проводил разверстку твердой рукой.
Революция предоставила крестьянству половину российских земель и угодий, прежде принадлежавших помещикам. Она отдала им богатые усадьбы, скот и инвентарь барских экономий. Теперь, в критический момент, она требовала от них хлеба, чтобы прокормить отряды красногвардейцев, матросов и партизан, защищавших Республику, молодые полки Красной Армии и работавшие на оборону промышленные центры.
Этот расход был также необходим, как семена, без которых не может быть урожая. И тем не менее взять хлеб в деревне в эти дни было бесконечно трудно.
Во многих деревнях еще не были организованы комитеты бедноты. Советы во многих волостях оставались еще от времен, когда вся деревня единым фронтом шла против помещика и исправника. Октябрь изменил смысл и формы социальной борьбы на селе, но беднота еще не везде взяла в свои руки власть, чтобы навсегда соединить свою судьбу с судьбой пролетариев города.
На собрания, созываемые продотрядом, приходили всей деревней. С напряжением слушали вести о приближении и удалении красных фронтов. Резолюции о помощи Красной Армии хлебом принимались единогласно. Но хлеб был не у всех, и здесь начинались долгие, ожесточенные споры. Сказывались семейные, соседские связи, страх и оглядка на крепких хозяев.
Продотрядчики говорили хозяевам о долге перед революцией.
Хозяева отвечали, что добыли все это — и волю и землю — своею собственной рукой.
Их упрекали в равнодушии к рабочему классу и к исходу гражданской войны.
Они кричали что сыновья и братья их в Красной Армии. Разглаживая бороды, роняли замысловатые фразы, смысл которых был неуловим.
Кулаки подстрекали хозяев на сопротивление, восстанавливали их против бедноты, которая была освобождена от разверстки…
Встреча обеих частей отряда произошла на станции. В одном из тупиков стояли вагоны с зерном и теплушка для продармейцев. Было теплое, ясное утро. Буланов спал. Алексей сел на нары и весело разбудил товарища.
Буланов долго растирал глаза, откашливался и закуривал. Он словно хотел отдалить какой-то неизбежный разговор.
Его рассказ о Докукине показался Алексею вымыслом. Но тяжелое молчание продармейцев и еще не зажившая рана на затылке у самого Буланова не позволили думать о тяжеловесной шутке.
Порфирий Бодров, вооружившись топором, отказался пустить к себе продармейцев. Тоненьким, смешным и страшным голоском он кричал, что лучше сожжет все добро, чем выдаст его грабителям. Когда Буланов пытался убеждать его, Бодров, не слушая, твердил, что Алексей уехал жаловаться на Буланова и Задорина и, пока он не приедет, никто не должен сдавать хлеб. В избе громко плакали дети.
Когда продармейцы силой вошли во двор, несколько пьяных парней забросали их из-за забора камнями. Буланов вынужден был арестовать троих. Это были близнецы Хрипнны и их товарищ по фронту Степан Яковлев.
В ту же ночь на улице ранили продармейца Василия Сметанина.
На другой день из города прибыл отряд ЧК. Были арестованы Бодров и Филипп Косогов. Андрей Бодров бежал накануне. В его комнате нашли маузер, из которого был ранен Сметанин.
Ветром этих событий сдуло веселость Алексея. Правда, он не был в эти дни в Докукине, но ведь это он сам вызвался ехать в Докукино, это он разделил отряд, это он дал повод подозревать Буланова в самочинных действиях. Следовательно, это он был виновен в ущербе, который нанесен был Задорину и его товарищам, отвоевывавшим Докукино у кулаков для революции.
Но еще и на собрании в райсовете, где отряд отчитывался в своих действиях перед представителями фабрик и заводов, Алексей считал, что эти мысли — только для него самого.
Выступавший в прениях Чернявский твердо заявил, что считает виновным во всех событиях начальника отряда Алексея Черных.
— Ты забыл ленинские заповеди о работе в деревне, — говорил Чернявский. — Опираться на бедноту, устраивать соглашение с середняком. Ни на минуту не прекращать борьбу с кулаком. Ты нарушил все три заповеди разом.
В постановлении райсовета было сказано, что Алексей Черных «не проявил должной большевистской выдержки, обнаружил неграмотность в вопросах деревенской политики партии, дискредитировал деревенскую парторганизацию и тем объективно способствовал кулацко-офицерской контрреволюции».
Там же говорилось и о выполнении продотрядом задания, и о признании Алексеем своей вины, и о других его добрых качествах. Но все это не утешало Алексея.
— С твоим выдвижением мы поспешили. Ты еще сырой человек, — сказал Алексею председатель райсовета. Он смотрел на него незлыми глазами и даже крепко, как молотом, ударил по плечу. Но это было горько и обидно. — Если ты захочешь, то, конечно, станешь хорошим партийцем. Но если заупрямишься — ни черта из тебя не выйдет.
Внутренне Алексей был оскорблен и унижен. Он считал себя еще на фронте подлинным революционером, и никакие сомнения в этом никогда не посещали его. Он ушел с заседания взволнованным, недовольным собою и другими. Одиноко шагал по городу. Лег спать с горькой обидой в сердце. Проснулся в неясной тоске.
Солнечный день вернул ему равновесие.
Чего бы это ни стоило, он должен, он обязан добиться уважения Чернявского, Альфреда, председателя, всех этих людей, с которыми объединяет его партия.
Каждый день был суров и пристрастен к людям, делавшим историю, вставшим в партийные ряды.
Каждый день был как экзамен.
Но каждый оступившийся мог рассчитывать, что ему помогут подняться для новых усилий,
Глава VII НЕВЕСТА ПОРУЧИКА ФОН ГЕЙЗЕНА
В феврале, марте, апреле каждый день к Ульриху приходила Вавочка.
В белорусских халупах, в блиндажах, приколотая большой канцелярской кнопкой к бревну или коврику, неизменно висела над постелью фон Гейзена ее карточка. У нее были чуть рыжеватые волосы, кругленькое личико и широко раскрытые, подкупающие, добрые глаза.
Карточка нравилась товарищам Ульриха, и поручик, не скрываясь, гордился невестой.
Но теперь личико Вавочки осунулось. Волосы были плохо причесаны. А один глаз у нее немного косил, что не было заметно на карточке. Но все же и сейчас девушка была привлекательна.
Когда Вавочка пришла в квартиру профессора в первый раз, Ульрих торжественно пригласил Сверчкова, купил цветов и попросил у горничной Маши белую скатерть с серебристым шитьем.
Вавочка была рада приему, пила из плоского бокала золотистый икем, смеялась и с робким кокетством склоняла голову к плечу смотревшего победителем Ульриха.
А потом жених и невеста сидели на шелковом диванчике в большом зале. Не зажигая света, они глядели в окно, раскинувшее за большими фикусами морозные узоры, и целовались.
Ульрих был счастлив. Пусть дядя подольше сидит на Кавказе. В чопорной квартире профессора фон Гейзена наживется теперь легко и свободно. Ульрих рад был Сверчкову, товарищу по фронту. Он настоял на том, чтоб Дмитрий Александрович покинул свою комнатенку на Васильевском. Он пригласил поселиться в квартире дяди супругов Катульских, дальних родственников мадам фон Гейзен. Ульрих готов был собрать в этих пустых комнатах всех веселых и жизнерадостных друзей. Его не пугала бедность. Он молод, неприхотлив и энергичен. Дядя и тетя могут быть спокойны за свое добро. Он не прикоснется ни к одному сундуку, ни к одной тряпке.
Катульским он предоставил детскую. Сам со Сверчковым поселился во втором кабинете. Здесь окно глядело в стену, в полумраке стояла выброшенная из первого кабинета отслужившая мебель. Парадные комнаты оставались нерушимы, и пыль могла беспрепятственно укладываться на цветы, гардины и старые книги.
Вавочка стала приходить каждый вечер, и Ульрих уже не покупал цветов. Вместо вина пили жидкий чай с черным хлебом. Однажды Вавочка ушла только утром, и Сверчков, подбежав в белье к окну, видел, как Ульрих без шапки провожал ее по пустынному двору к воротам, держа за руку.
На другой день Вавочка пробежала двор одна. Не оглядываясь, она смотрела в землю.
Сверчков делал вид, что не замечает перемены. Он сам стал называть девушку не Варварой Сергеевной, а Вавочкой.
Вавочка знала теперь, что лучшие бриджи Ульриха пошли за семьдесят рублей, что у Сверчкова на бедре — большой незаживающий фурункул от недоедания, что сапоги у обоих приятелей просят каши, но негде достать кожи, а без материала заказчиков мастера больше не берутся чинить сапоги.
В апреле Катульские устроили бал. Документы, по которым супруги и их приятель Шевский могли репатриироваться в Польшу, были наконец готовы. Снисходительные профессора, конечно, примут у них дипломные проекты не в очередь, и они приедут в Варшаву инженерами-электриками, обладателями ценной специальности.
Вечером пили чай. Был подан мед в хрустальной вазе. Рыжие пряники на том же меду были приготовлены самой пани Катульской. Шевский где-то раздобыл банку варенья из морошки с орехами. На четырехугольном блюде были красиво уложены ломтиками тающие в янтарном жиру копченые сельди.
Катульская превосходно пела. Катульский погасил все огни, кроме маленькой, укрывшейся под синим колпачком лампы, и играл вальсы. Шевский кружил по очереди Катульскую и Вавочку. Довольный, как сытый кот, он, точно музыки Катульского было недостаточно, обмурлыкивал своих дам, стараясь прижаться теснее.
Ульрих курил в углу. Ему тоже хотелось танцевать, но он боялся, что рядом с Шевским, на котором платье сидело с особым шиком и который так свободно вальсировал на квадратном аршине, он в сапогах и обносившемся френче будет выглядеть деревянным истуканом. Он пронесся с Вавочкой тяжелым вихрем по залу, задел каминный экран, заявил, что на фронте разучился танцевать, и затих на весь вечер.
Шевский решил устроить вальс с фигурами. Увлекая за собой танцующих и нетанцующих, он понесся вприпрыжку по всем комнатам профессорской квартиры.
Напрыгавшись, насмеявшись, гости разошлись по углам. Ульрих заметил, что Шевский, обмахивая Варвару веером Катульской, увел ее в профессорский кабинет. Ульрих сейчас же пошел за парой. В темной комнате, у кожаного углового дивана, стоял Шевский и на согнутой — как будто он играл на скрипке — руке его, далеко закинутая назад, лежала голова Вавочки. Шевский методически наклонялся к ее губам и опять глядел сверху в опрокинутое лицо девушки.
Ульрих стукнул дверью и пошел в свою комнату.
Вавочка вскрикнула и устремилась за ним, покинув Шевского в мрачной комнате наедине со скелетами кошки и человека.
Ульрих больше не вышел, а Вавочка через четверть часа, всхлипывая, сорвала свое тощее пальтишко с вешалки и убежала по парадной, забыв что в эти часы уже никто не откроет ей дверь.
Она вернулась, позвонив самым робким образом. Сверчков вывел ее на черную лестницу. Он прощался с Вавочкой со всей трогательностью понимания. Он даже задержал в руке ее тоненькие пальчики, тоже необыкновенно маленькие и тем не менее некрасивые. Но девушка вырвала руку и убежала.
Примирение состоялось через неделю, но Ульрих стал обращаться с девушкой пренебрежительно и даже грубо. Вавочка совсем перестала улыбаться. Она виновато и опасливо прислонялась к плечу Ульриха. Тихо-тихо гладила бескостными пальчиками его лоснящийся диагоналевый китель. Не получала никакого ответа на свою ласку, сидела, не смея сказать ни слова, вздрагивая при каждом движении Ульриха.
В это время Ульрих и Сверчков начали голодать по-настоящему. Вавочка, видимо, голодала тоже.
Ее отец был служащим страхового общества «Россия». В прошлом они жили неплохо, но сейчас, когда цены, подгоняемые спекуляцией и уменьшением товаров, росли, а заработки не увеличивались, семья, привыкшая существовать от двадцатого до двадцатого, растерялась.
Сперва экономили, потом отказывали себе во всем, кроме еды, затем стали есть один раз в день. Перестали пить кофе, отпустили прислугу. Наконец, обратились к продаже вещей. Но все это не спасало. Мать болела. Брат-школьник распустился и воровал дома деньги, табак и книги для продажи на рынке.
Вавочка бегала на службу в почтамт, ела меньше всех и больше всего боялась двух вещей — просчитаться на службе и потерять облик культурной барышни. Она старалась ступать так, чтоб не снашивать подметки. Сама стирала и гладила кофточки и чулки. Сама вязала кружевца, мастерила сестрам и себе береты из цветного гаруса, чинила перчатки, штопала и при всем этом успевала проводить вечера и ночи с Ульрихом.
Ее поздние звонки вызывали в семье слезливые нотации матери, издевательства братца, а иногда и грубую брань отца. Вавочка все переносила с изумительным терпением и молчаливостью. Она даже бывала радостна, покуда Ульрих был с нею нежен и ласков, но сжималась в комочек, когда он становился груб и жесток.
Отдавшись своему жениху, Вавочка тайно и сильно пожелала ребенка. Иногда она ходила по улицам как пьяная, во всю силу воображения стараясь представить себя матерью розового малыша с белыми, как у Ульриха, волосиками. Ложась в постель, она ощупывала пальчиками упругую, пополневшую грудь, гладила белый пополневший живот, ласкала себя, как своего будущего ребенка.
Но, утратив любовь Ульриха, она вдруг обрадовалась своему бесплодию. Все кругом говорили, что сейчас не до детей. Обрадовалась поверхностно, небольшим своим умом, и затосковала внутренне, большим чувством, не догадываясь, в сущности, ни о причине этой тоски, ни даже о самой тоске.
Ульриха Вавочка и теперь не разлюбила, потому что такой женщине разлюбить в десять раз труднее, чем полюбить. Она нашла в своей любви новый мир ощущений и чувствований, способный наполнить, поднять и увлечь, и ни за что не хотела его утратить. Она прислонялась к Ульриху, чтобы в самой себе ощутить присутствие чего-то волнующего и нежного, без чего было бы пусто и беззвучно в ее душе.
У Шевского были неожиданно приятные и сильные губы. По ее телу прошло горячее. Это было как открытие. Ведь это не был Ульрих. Лежа на руке Шевского, Вавочка ждала, тосковала и изумлялась. Шевский был для нее ничем. Но разве можно было объяснить это Ульриху?
Вавочка извинялась перед женихом без всяких слов, она только плакала. Она целовала его колени.
Ульрих грубо оттолкнул ее. Назвал шлюхой. Он едва не ударил ее. Это все вышло неожиданно… Но неужели же это и был конец ее первого, такого мучительно-прекрасного романа?
Теперь Ульрих уходил рано утром и нередко возвращался только в полночь. Хотя квартира с отъездом Катульских пустовала, но Дмитрий Александрович и Ульрих спали вместе все в той же, самой темной и самой неряшливой, комнате.
Ульрих сперва казался энергичнее и изобретательнее Сверчкова. После каждого похода по городу у него объявлялись какие-то многообещающие знакомства, «перспективы и горизонты». Обещали работу, рекомендации, новые, еще более полезные знакомства. Но, видимо, в городе было слишком много энергичных людей, все будущее которых упиралось в такие же «перспективы и горизонты», и с некоторого времени Ульрих утратил задорную жизнерадостность. Кошелек быстро пустел. Цены на то, чего не было у Ульриха, подымались, на то немногое, что было, падали.
Продав по дешевке «Заем Свободы» — все свои сбережения, он еще раньше Сверчкова вступил в период распродажи вещей. Все носильное у Ульриха было такое же и в таком же количестве, как у Сверчкова, и уходило оно так же безалаберно и случайно.
Приближаясь к моменту, когда жизни, со всеми ее напастями и бурями, человек может противопоставить только свое полуприкрытое тело, Ульрих становился циничным и грубым. Жизнерадостный и сентиментальный бурш внезапно объявил полную переоценку ценностей. Ему доставляло мучительное наслаждение выворачивать наизнанку, как перчатку, свои былые верования и привязанности.
Прежде всего он твердо усвоил — может быть, поверил кому-нибудь на слово, — что причины всех бедствий надо искать не только в самой революции, но и дальше и глубже. Проклятым вопросом возникла в нем необходимость отыскать самый корень зла. Откуда он возник, где он таился, этот большевизм?
Здесь, в большой пустой квартире, Ульрих мог не стесняться. Ему становилось легче, когда он высказывался громко, как будто он кричал свои обвинения в лицо urbi et orbi, вплоть до министерств, штабов и редакций союзников, хотя единственным невольным слушателем его являлся Сверчков.
В пустые, бездельные часы он ходил по квартире, собирал альбомы, портреты, брошюры, книги, посвященные малым делам и коротким дням героев неудачливого Временного правительства Это они были ближайшими виновниками октябрьской смуты.
Он швырял весь этот фотографический, журнальный и брошюрный хлам в дымившую круглую печь, короткой кочергой громил пепел, отходил, только убедившись, что все рассыпалось черным мельчайшим прахом.
Однажды, вернувшись с Сытного рынка, где он оставил восьмикратный бинокль, кожаный порттабак с ремнем через плечо и серию купленных в Галиции парижских открыток, он решил углубить свой критический анализ.
— А эти европейские имена! Петражицкие, Маклаковы, Новгородцевы. Профессора. Сюсюкалки!.. И этакие козолупы нас учили. Экзаменовали… История общественных формаций… Подцепили формацию!..
Он сбрасывал с полок и жег тома исторических исследований, монографии, труды, которые еще год назад почитал источником высшей мудрости и образцом исторического предвидения.
Как-то, придя из бани (третий класс, 15 копеек, без мыла), он сказал Сверчкову:
— Знаешь, во всем этом есть только одна хорошая сторона. Наконец у меня есть время и нужда хорошенько, вплотную подумать о жизни. Я ей, стерве, теперь смотрю прямо в глаза, не мигая… Без дураков. — Он для чего-то одним ударом распахнул китель, под которым не было ничего, кроме пропотелой с дырами сетки. — Я у нее высмотрю все паршивые плешины, все морщины, чтобы хоть харкнуть в морду старой потаскухе!
Сверчков слушал молча. У него кружилась голова, как над колодцем неосвещенной шестиэтажной лестницы. Как бы не нырнуть в такую же мрачную дыру… Ведь у него гоже осталось только две рубахи, и то рукава на локтях в больших, неуклюже насаженных заплатах.
— То есть как белое можно видеть черным и черное — белым, — продолжал издеваться над собой Ульрих. — Оказывается, я сидел в окопах, валялся по госпиталям только для того, чтобы остаться без рубашки, стать изменником, трусом, дезертиром. Если б, Дмитрий Александрович, — сказал он торжественно, — я бы начал жить сначала, я бы знал, как нужно поступать, я бы знал, где раки зимуют…
Товарищи топили печь через день, отбирая в профессорской библиотеке комплекты «Медицинского вестника», «Нового времени», затрепанную «Ниву» и «Живописное обозрение» девяностых годов.
Однажды Ульрих, дрожа от холода, ринулся прямо на верхние полки, где стояли классики.
Можно было подумать, он сделал какое-то открытие. Он выхватил большую книгу в тисненом переплете.
Слова потрескивали, как коленкор, отрываемый огрубевшими пальцами.
— А, дорогой Михаил Юрьевич! — визжал на лестнице Ульрих. — Вы пели о чести, об ангелах, о парусах, возлюбивших бурю. Вам не нравились жандармы в синем? Черт бы вас побрал вместе с вашими парусами. Вы, ваше благородие, господин корнет, бурю видели на курортах. А вы, Константин Михайлович! Я читал вас и думал, какие хорошие эти матросики, как это они страдают от издевательств дворянских недорослей. Горите, Константин Михайлович, черту на радость!
Сверчков не выдержал. Он неестественно взвыл, стукнул дверью и вышел. В тот же день он перебрался в комнату через коридор…
Ульрих перестал здороваться с приятелем, но не прекратил набеги на классиков.
Так, чтоб было слышно в комнате Сверчкова, он неистовствовал над народниками, над Добролюбовым, над Чернышевским. Он отрывал страничку за страничкой, комкая, швырял на пол. Потом ходил по комнатам все еще крепкими солдатскими шагами и вдруг, подойдя к столику, ударял кулаком или сжимал спинку резного стула так, что пальцы желтели, как восковые. Сверчков видел, как этот человек сознательно опустошает себя, чтобы окаменевшая душа могла звенеть одной только ненавистью. Потому что сейчас только ненависть помогала этому человеку бороться с голодом, с тоской, с одиночеством, с отчаянием…
Глава VIII ТЕЛЕГРАФНОЕ БЮРО МИСТЕРА ПЭННА
— Послушайте, вы ему не верьте — он все сочиняет…
Приподняв шелковый котелок с богатыми полями, раздушенный джентльмен прошел мимо Сверчкова, блистая необычайными кашне и галстуком. Он радостно улыбался. Слоновая кость и черное дерево щегольской трости украшены золотыми монограммами.
Собеседник Сверчкова, Беретов, скорее был польщен вниманием, чем обижен.
— Это такая манера, — сказал он, выставив ногу вперед и с завистливым дружелюбием глядя вслед удалявшемуся. — Это же знаменитый «мистер Пэнн». — Он жестом пародировал взлет монокля и быстро заговорил, глотая звук «р»: — «На сегодняшнем ’ауте мы заметили мадам Зюзю в панталонах из алжи’ских к’ужев, богато уб’анную фальшивыми семейными жемчугами…»
Сверчков никогда не читал великосветских хроник.
— Разве этим можно было жить?
— Вы же видите: и по сей день — с иголочки. Каждому лестно. — Он продолжал картавить: «— У мадам Сизоб’юховой лучший вече’ в сезоне. Мадам Че’носвитовой-Зонтиковой нанес визит п’ибывший из Па’ижа флигель-адъютант князь Хлюст-Те’ебинский». За такую фразочку и катеринку не жаль. Но и уметь нужно было. Напиши про Курдюкова, не упомяни про Бурдюкова — тебе такую панихиду устроят… Это, знаете, дипломатическая миссия.
К пустым столам репортерской подсаживались какие-то молодые люди. Они придвигали чернильницы, строчили, рвали, бросали тут же на пол обрывки, писали вновь. За дверью рысью неслись ремингтоны и ундервуды. В кабинет редактора проходили высокие и низкие, толстые и худые люди — в мягких шляпах с тростями, в котиковых воротниках, с потрясающими по окраске и пышности кашне. Сперва приоткрывали дверь и только тогда стучали рукояткой трости, солидно спрашивая: «Можно?» Входили, не дождавшись, пока нервный человек с рыжей бородкой, без пиджака, оторвет голову от кучи гранок, которые он безбожно черкал красным карандашом величиною с полено. Мягкие шляпы вели у стола громкие разговоры. Редактор бросал реплики, не здороваясь и не переставая читать. Бобровые шапки — сотрудники с именами — подхватывали реплики, разражались острым словцом и уходили ленивой походкой. Курьер бегом уносил гранки и, возвращаясь шагом, приносил чай. В типографии, размещенной в первом этаже, стучали машины, отчего весь дом был наполнен как бы подземным гулом.
Это готовился выйти в свет очередной номер газеты «Новый век», заменившей собою закрытую комиссариатом по делам печати газету «Век», которая, в свою очередь, прежде называлась «Неделя» и еще раньше «Рупор».
Уже газета «Неделя» стояла на позициях демократической республики. Газета «Век» — на позиции Учредительного собрания. Газета «Новый век» отрицала какую бы то ни было связь с газетой «Рупор» и ее предшественниками, признавала большевиков де-факто и только требовала от них корректности по отношению к интеллигенции и верности союзникам.
В этом же кабинете с лепным потолком и порхающей в облаках Флорой, в том же кресле, за тем же столом, где восседал теперь человек с бородкой клинышком, еще в октябре сидел многолетний доверенный, ставленник миллионера-помещика Арсакова, длинноусый, с генеральской выправкой, редакционный громовержец с остзейской фамилией.
В золотые дни Аранжуэца политика была представлена в газете патриотической (читай: монархической) передовой, рассчитанной на генеральских вдов, купцов II гильдии и швейцаров, и сводкой Верховного.
Искусство редактора сводилось к эффектной подаче последнего спектакля с костюмами Бакста, сенсационной кражи пятидесятитысячного ожерелья, фельетона Коли Серого да еще тонких, малозаметных для большинства читателей заметок о лесных поставках городу и о деятельности различных думских комиссий.
Тертые калачи из редакционной верхушки не растерялись не только после Февраля, но и после Октября. Уступая позиции не сразу, шаг за шагом, принося по пути человеческие жертвы — в первую очередь длинноусого громовержца, они счастливо и бодро отыскивали в себе все новые ррреволюционные возможности и от статей: «Спасение страны в военной диктатуре» или «Союзники не потерпят» перешли к заголовкам: «Мудрое решение Смольного» или «Ленин тысячу раз прав». Они ввели в состав редакции одного из наборщиков и, повышая одновременно цену на газету и гонорар, не забывали в то же время увеличивать и оклады рабочих-печатников соответственно росту дороговизны.
Все это смутно представлял себе Дмитрий Александрович Сверчков. Его ввел в редакцию поседевший в мельчайших газетных схватках репортер Лисицын, который уже двадцать лет писал о состоянии городского водопровода, о городских свалках, больницах, богоугодных домах и других муниципальных предприятиях. Познакомившись со Сверчковым в очереди в столовую, он взял его в подручные и своими связями старался раздвинуть для него узенькую щель в строгом гонорарном бюджете газеты.
Эта возможность показалась Сверчкову милостью неба.
Ульрих прекратил с ним знакомство. Фон Гейзен сошелся с Катькой, окончательно пустившейся в спекуляцию, и почти не бывал в квартире. Сам Сверчков оказался не на краю голода, но на краю гибели от голода. Он питал еще юношеский пиетет к газете, и мысль о том, что он вступает в столь малопочтенный орган, ни разу не испортила ему радость заработка, равно как и радость первой связи с печатным словом.
Как-то случайно Сверчкову предложили написать на военную тему. Сверчков был сконфужен. Но надо было решаться. Он настрочил несколько разбитных фраз о дисциплине и деморализации. Фельетон нашли удачным. В редакции не было военных, и за Сверчковым быстро закрепилась репутация специалиста. Почитывая французские и английские газеты, он мог давать заметки о боях на Западе, в Сирии, в Африке. Мало-помалу, изживая законное удивление — как мало нужно знать, чтобы иметь право печататься! — он усвоил многое в системе газеты, и у него уже были заготовлены заметки на случай. Пользуясь каждым поводом, он рисовал карты боев во Фландрии и у Багдада, составлял любопытные статистические таблицы и даже помещал статьи по вопросам стратегии. Теперь он каждое утро разворачивал газету и, отыскав свои инициалы, прежде всего подсчитывал строки, умножая их на двугривенный. Иногда улов был скуден, иногда выпадали удачи, но каждую неделю на его счету оказывалось несколько десятков, а то и сотня рублей. Солидные сотрудники похлопывали его по плечу и говорили:
— Тяжело только первые десять лет.
Получив гонорар, он закупал в подозрительных лавочках шепталу, гузинаки, хлебцы с тмином, сметану и мед и все это поедал вечерами в постели, довольствуясь в течение дня плохим обедом по карточке, которую дал ему в одну из городских столовых тот же Лисицын.
Сверчков заходил иногда к старику репортеру. Сняв сюртук, Лисицын отстукивал страницу за страницей на машинке. Он заваливал редакцию материалом. Двадцать лет изо дня в день он приносил заведующему хроникой принципиальную статью на городскую тематику, бытовой фельетон и несколько страниц заметок и хроники. Седина Лисицына внушала уважение даже его шефу — скептику, смотревшему на мир хитро прищуренным глазом и отправлявшему все свои мысли в бороду в виде несвязного хрюканья. Но статья, фельетон и заметки шли неизменно в корзину, и только мелкая хроника с пометкой «В набор петитом», отправлялась в типографию.
Старик вздыхал и уходил домой, не споря.
Он поил Сверчкова пустым чаем и умно, со знанием дела бранил газету, которой отдал двадцать лет жизни. Каждый день в репортерской он грозил уйти работать к большевикам и со страхом замирал перед столом заведующего отделом. У него был товарищ и друг с таким же двадцатилетним газетным стажем — пьяница, несусветный враль, ловкач и проныра Верстов. Все лицо его было изъедено волчанкой и перевязано черными платками, к которым иногда для парада прибавлялся белый. Глаза алкоголика, тяжелое дыхание смущали Сверчкова, но слушать Верстова он мог часами. Верстов работал, по его собственным словам, во всех газетах столицы. Если где-нибудь открывалось новое газетное предприятие, он шел и требовал аванс. Во избежание шума и сплетен аванс давали. Верстов пропивал его в тот же вечер и шел за следующим. Ему отказывали. Он говорил: «Ну и черт с вами!» — и шел в ресторан пропивать очередной гонорар.
Трудно было отделить правду от выдумки в его рассказах, но для Сверчкова все это звучало как неведомая, но правдивая, открывающая глаза на этот мирок быль. Верстов рассказывал, как он пролежал под супружеской кроватью обер-прокурора синода и подслушал рассказ сановника жене о подготовляемом законе о вероисповеданиях. Пока градоначальника вызывали к московскому проводу, он выкрал со стола списки высылаемых из Петербурга богачей евреев. Вызывал градоначальника приятель Верстова, а список попал в газеты.
Верстов убедительно говорил о продажности и беспринципности петербургских газет, говорил как о чем-то давно и всем известном. Он называл ставки, гонорары, дотации — скрытую для постороннего глаза паутину редакторских кабинетов, — от которых у Сверчкова кружилась голова.
— Вот послушайте, я вам расскажу, — подсаживался еще ближе к Дмитрию Александровичу Верстов. — В двенадцатом году приехали в Питер нью-йоркские бизнесмены. Первым делом — в газеты. Мы, мол, намерены снести квартал между Невским, Садовой и Итальянской и построить там термы по образцу древнего Рима. В двенадцать этажей. Елисеева? Тоже снесем. Никаких магазинов и контор. Будут бани, при банях — ресторан, театры. Всё на воде: островки, оазисы такие, столики — тоже на воде. Официанты в гондолах. Такие, словом, турусы на колесах. Ну, мы расписали… но сдержанно… Какие же основания стараться? Вдруг получаем приглашение на банкет. От каждой газеты трое: редактор, заведующий хроникой и репортер, который будет давать материал. Стол блещет — серебро, хрусталь, у каждого куверта именная карточка и уголок (белейший!) торчит из-под салфетки — этакой, знаете, с хрустом. Я незаметно взял да и переменил карточки. Редактор, значит, сел на мое место, а я за его прибор. Ну… каждый это салфетку, как полагается, на колени, а конвертик незаметно в жилетный карман. Дома смотрю: две с половиной. Вот это по-американски! Как работают, сукины дети. Редактор потом узнал, чуть меня не съел, подлец. Мне полагалось семьсот пятьдесят. Ясно, что нечисто. А что нечистого? — не понимаем. Проверено: в Нью-Йорке — контора, клерки, машинистки, реклама… Ну, в газетах мы подняли шум. И проекты, и сметы, и снимок ресторана с плавающими официантами. И нью-йоркская контора в небоскребе. Акции пошли в ход. Ну, а оказалось все очень просто. «Американцы» собрали капитал и испарились. Исчезла и контора в небоскребе.
Однажды, не получив достаточно удовлетворения из пузатого лисицынского графинчика, он предложил Сверчкову:
— Пойдемте к мистеру Пэнну, ведь вы с ним знакомы. Старик стал скуп, — кивнул он в сторону Лисицына, — а у мистера всегда заграничный коньяк, и не какой-нибудь — посольский. Больше рюмочки он, правда, не даст, но мне иногда отпускает повторную. У него какие-то французско-испанские источники…
Мистер Пэнн принял гостей с радушием разоряющегося, но гордого былым хлебосольством помещика. Он поставил цветной граненый флакон на круглый японский столик. Он суетился и рыскал по всем углам в поисках закусок. Ничего не нашел, сослался на какую-то неведомую Веру и успокоился в темном углу на чем-то мягком.
Верстов выкладывал газетные сплетни. Лица мистера Пэнна не было видно, только носок лакового ботинка покачивался в тусклом свете окна.
— Погано, барин, — говорил, прихлебывая коньяк, Верстов. — Теперь мы на гнилом, смердящем болоте. Задыхаемся…
— Не верьте ему, — снобически замечал мистер Пэнн. — Болото просыхает. Скорее, не хватает привычных паров. От этого и ощущение удушья.
— Так бросили бы, родимый. Занялись бы переводной литературой…
— Не могу, дорогой, не могу… Уже надышался. Раб привычки… Как морфинист.
Верстов прищурил глаз с хитринкой:
— В некотором роде на посту… Ну а если посольства отбудут?.. Впрочем, кто-нибудь или что-нибудь останется…
Мистер Пэнн не поддержал эту тему.
Отговорившись, Верстов решил идти дальше. Мистер Пэнн любезно предложил Сверчкову остаться. У него час свободного времени, а затем он проводит Сверчкова до Марсова поля.
Верстов щелкнул в передней французским замком. Мистер Пэнн встал и заходил по комнате. Он говорил о Верстове злые вещи тоном бархатистой барственной снисходительности. Так бранят любимых кошек, болонок и пуделей.
— Утомительный человек. Perpetuum mobile сочинительства. И врет нескладно. Насквозь все видно…
Сверчков соглашался без всякого темперамента.
— У нас множество дурно направленных талантов. Верстову бы какой-нибудь смысл, идею — он мог бы стать сочинителем в хорошем смысле слова. Впрочем, в газетах, я бы сказал, тепличная атмосфера, много разнообразия, но мало кислорода — все шипучие газы…
Он искусно подавил зевок.
У Сверчкова было ощущение, как будто в комнате пролили пузырек мятных капель.
Мистер Пэнн явно думал о чем-то своем. Многие фразы звучали междометиями.
— Знаете, — вдруг подошел он к Сверчкову, — а я ведь все утро думал о вас…
— Я вам нужен? — удивленно спросил Сверчков.
— И даже очень. — Он сделал еще один шаг вперед. — Есть одно деликатное дело. — Он положил элегантную белую руку на плечо Сверчкова и, близко заглянув ему в глаза, улыбнулся.
Выпрямившись, он вновь зашагал по комнате.
— Газеты задыхаются от отсутствия информации. Цензура удушила Петроградское агентство. Своего еще, можно сказать, не создали. Можно хорошо заработать.
Для Сверчкова переход был неожиданным.
— Вы будете приходить сюда утром. Будет машинистка. Будут телеграммы на разных языках. Будет велосипедист. Но телеграммы будут только на полчаса, от восьми пятнадцати утра до восьми сорока пяти. Ни секунды более. От вас потребуется час напряженной работы и никаких опозданий. Но заработок будет весьма значителен. В десять раз больше, чем дает вам хроника.
— Я, конечно, рад, — сказал Сверчков. — Но откуда же телеграммы?
— Это секрет изобретателя.
Наутро была машинистка, был велосипедист и были телеграммы. Было неприятно вставать в семь часов, но первый же недельный заработок целиком примирил Дмитрия Александровича с этим неудобством.
Глава IX ПАУТИНА
Летом восемнадцатого года самыми популярными «иностранцами» среди обывателей Петрограда были «персы». В невиданном количестве они заселяли все подвальчики и лавчонки на Невском, Литейном, на проспектах Васильевского острова, на Вознесенском и даже на Гороховой. Закрывались оптовые и розничные магазины старинных фирм, пустели помещения модных конфекционов и мебельных ателье, но зато росли, как грибы, лавчонки, где весь товар помещался на двух жестяных подносах.
Исчезали хлеб, масло, молоко, мясо и овощи — появлялись в невиданном количестве стеклянная халва, гузинаки, крашенные во все цвета радуги воды на сахарине, от которых начинались колики в желудке, и обожаемый женщинами жаренный в сахаре миндаль.
Откуда в северной столице появилось такое количество паспортов с изображением решительных иранских львов — оставалось загадкой. У нового порядка заводились щели, и в щелях, устраивались пронырливые паразиты. За корчеванием старого, крепкоствольного леса не видна и не важна была щуплая поросль.
Говорившие и не говорившие по-персидски «персы» не были склонны ограничивать свою деятельность восточными сладостями. Они тут же, у прилавка с блюдами, покрытыми рыжей от долгого употребления марлей, рассматривали на свет приносимые в продажу офицерские брюки, щегольские ботинки, в задних комнатах шептались над туго закрученными мешками с мягким и сыпучим добром. Долго и таинственно гоготали между собою на неведомых наречиях о чем-то, может быть еще более постороннем восточным сладостям.
Будем думать, что они, как солдаты Наполеона, мечтали о маршальских жезлах нового капитализма, который, по мнению их и многих других, неизбежно должен был возникнуть на местах большевистских разрушений.
Они торгуют в фесках или меховых алтайских шапочках, в барашковых папахах, с передником и даже кожаными нарукавниками, но, закончив торговлю, выходят на улицу пижонами. Сидя в кино, «перс» любовно обнимает пальцами свою ногу у щиколотки над лаковым ботинком так, чтобы все могли любоваться зелено-коричневой игрой длинных носков. На Невском он вертит тросточкой, убранной монограммами от ручки и до наконечника. На танцульках он шлет огненные улыбки. Всюду он кричит всем своим видом, что падение рубля его не касается. Растут нули у единиц, — что же! — на проволочных палочках над блюдами он повесит новые цены. А в задней комнате копятся не только корзинки с мушмалой и рахат-лукумом, но и гораздо более ценные вещи.
Дмитрий Александрович нашел на Невском без труда третьего по счету, начиная от Владимирского, «перса». В глубине подвала за мокрым столиком с доской дымчатого мрамора сидел, скрестив ноги, Глобачев.
Обычный штабной офицерик, игрок и любитель лошадей, Глобачев был обер-офицером для поручений при инспекторе артиллерии. Дмитрий Александрович встретил его впервые после фронта у самой двери квартиры профессора фон Гейзена. Глобачев шел об руку с Изаксоном. На фронте Сверчков играл с ним несколько раз в карты и ездил покупать жеребца в кавалерийский полк. В семнадцатом Глобачев внезапно записался в эсеры, был избираем в комитеты, ораторствовал, закупал брошюры, ездил с поручениями корпусного комитета и тыл.
Глобачев узнал Сверчкова, расцеловал по-женски влажными губами и заявил, что хочет видеть его и даже, если говорить прямо, думает сделать ему деловое предложение. Сверчков записал адрес места свидания и пообещал прийти.
Сверчков сел спиной к выходу. Разложив локти на сырой доске, Глобачев сразу перешел на «ты».
— Рад, что встретил. Честное слово, рад. Последнее время кажется, что ни одного человека на свете не осталось. Всё хамелеоны, мокрицы, падаль. — Он сплюнул под ноги Сверчкову. «Перс» повел на него ярким глазом.
— Я против большевиков, — шептал Глобачев. — Но это же не значит, что я должен идти в стачку с бандитами. Я жизнь положу, но извольте сказать — за что? В гимназии я мечтал об участи Каляева, Перовской, а тут пожалуйте — боже, царя храни! Я тебе скажу по совести… Я понимаю, что все силы нужно объединить против большевиков. Я закрыл глаза на многое. Я агитировал. Бегал от совдепов, как лисица от борзых. Я собирал деньги, собирал оружие, давал явки, не боялся ни черта, ни комиссара. Я два раза побывал на Дону, в Ростове. Ты знаешь, как я переходил фронт? Ведь там — фронт. С телегой какого-то кулачка — черт его знает, что его толкает на такой риск, — я по болотам, по лесам, ночами, вброд обходил алексеевские части… Не обошлось дело без стрельбы. А потом?.. Разве это город — Новочеркасск? Это большой трактир. Пьют, и кричат, и поют, и все царя да царя. Я как-то в ресторашке встал да и махнул им царя по последней степени… — Глобачев, забывшись, стукнул по столу. «Перс» подошел и молча вытер мрамор тряпкой, как бы напоминая, что посетители задержались. — Ну, я тебе скажу — поднялась кутерьма. Я на окошко с браунингом. Хотел во двор — высоко. Но меня поддержали какие-то. Поднялись шум, драка… Я в кучу, а потом смылся и — прямо на север.
— К большевикам? — осторожно спросил Сверчков, подумав, не к большевикам ли будет звать его Глобачев.
— Я там буду последним, — медлительно, после строгой паузы выдавил из себя Глобачев.
— Зачем же на север?
— Не верю в национальности… к черту… Все в Москве, на Волге. Казачишки, лезгины, хохлы, татарва… Им Россия нужна, как собаке овес. Не на Москву, а от Москвы, отсюда будет поход за Россию. Коренное русское крестьянство…
— Это очень звучит, — стараясь не съязвить, сказал Сверчков. — Но как-то это… с обстановкой не вяжется.
— Увяжется, увяжем, — горячо зашептал Глобачев. — Пойдем, я тебе расскажу. Этот питерский «перс» хотя и приятель, но лучше без него…
Они вышли на тускло освещенный Невский.
Все тянутся на юг. В казачестве ищут базу. Я открою тебе секрет. Казаки, которые шли с Калединым, как две капли воды похожи на этих столичных фланеров. Один из таких казаков представился мне как граф Потоцкий. Кроме бородачей, увешанных медалями, и казачьих прапорщиков, там нет казаков, все больше кадеты, юнкера, офицеры. Большевики разложили казачество, как и все крестьянство. В Тихорецкой, в сердце Кубани, — Совдеп, и он разоружает части, идущие с фронтов домой. Ты думаешь, Каледин так, ради шутки, пустил себе пулю в лоб?
— Но где же исход?
Исход все в том же крестьянстве. Был, есть и будет. Крестьянин решил Февраль, решил Октябрь, он разыщет для себя в календаре и еще один месяц. Самую значительную дату. История предначертала, что крестьянство должно пройти большевистскую школу. Мобилизация и продовольственные отряды вырвут зубы у лозунгов большевизма. Красная Армия, как и все армии на свете, будет состоять из крестьян. Она повернет штыки против новых хозяев. И работа теперь — вся в армии. И вот в армию я и хочу тебя позвать.
— Опять в армию, — разочарованно протянул Сверчков.
— Не в часть. Я сам работаю теперь в штабе. Сейчас я покажу наше учреждение, а завтра мы устроим тебя на жалованье и на паек.
Часы, что на Морской у арки Штаба, показывали двенадцать. Голубой месяц был впаян в клочок неба над Зимним. Розовой свечой вышла и встала на свое место Александровская колонна. Площадь поворачивалась каруселью, открывая Адмиралтейство, тюремную решетку царского сада, Штаб гвардии, горбатый Певческий мост.
Глобачев волочил трость по плитам тротуара. Смешно было видеть круглую докторскую бородку на его всегда прежде бритом лице и темные очки. Вероятно, в руководстве филеров всех стран так и записано: темные очки — вернее всего, что человек скрывает свою наружность. На журавлиных ногах — обмотки. Щиколотки тонкие, и ступня от этого непомерно велика и плоска. Трудно вообразить его героем, трудно представить его с браунингом в руках, бросающим вызов целой толпе сооруженных офицеров. Не придумал ли он эту патетическую сцену?
— Вот здесь я работаю. Не смотри в окна. Я так расскажу. Тут все военные организации. Вот третий этаж. Политотделы, агитпропы, клубные секции, газеты. Нагородили! Армия с клубами, библиотеками, театрами, кино. Воображаешь? Где у этих людей голова? Три года войны, и ничего не видели. Я их ненавижу, но иной раз хочется по головке погладить. Такие наивненькие, такие мечтатели. Барынька у нас одна заведует. Муж большевик — и она туда же. Все двумя пальчиками, и мизинчик и сторону. Умора. Кумач режет, лозунги сочиняет, о культуре разговаривает. А баб в штабе! Если в поход двинемся, не знаю, что это будет. Колонна или пикник? Впрочем, надо отдать справедливость — есть и деловые бабы…
— А ты что делаешь?
— Работаю над проектом дивизионного походного клуба. Обсуждаем с пеной у рта. Приходится дорожить. Хорошая маскировка. Здесь ведь все рядом…
— Что именно?
Глобачев осмотрелся.
— Штаб… Планы, цифры.
— Ты же говоришь — ералаш…
— У нас больших сил не будет. Все нужно рассчитать. С наименьшими расходами. Со временем узнаешь. Тут такие чудеса! Ты бы очумел, если бы я тебе сказал, кто с нами работает. Какие связи! И это еще только начало…
— Не боишься?
Дымчатые очки Глобачева пошли кверху.
— Очень ненависть сильна. Нельзя все-таки…
Сверчков еще раз проверил себя и опять не ощутил никакой особенной ненависти. Но многое досадно и сейчас. Иной раз бесит… Плохо то, что весь как на колючем ветру.
— Я думаю, и тебе нужно к нам. Паек, кабинетная, штабная работа. Ты ведь плохо живешь? Это видно. Щеки впали… И потом здесь свяжешься… И нам поможешь… Если найдешь нужным, конечно…
— Что же я буду делать?
— Я пристрою тебя в зрелищный отдел.
— Что я понимаю в зрелищах?..
— Интеллигентный человек тут — светило. Секретарем или инструктором… А там наша организация даст тебе дело…
Сверчков шел уже один по Александровскому саду. Какое время! Бухгалтеры становятся вождями, штабной офицерик проявляет энергию подпольщика. Ему становилось неловко за себя. Впрочем, все экстремисты неизменно проигрывают. Пронести благоразумие сквозь исторические бури — не в этом ли высшая мудрость?
Но добродетель этих самоуспокоений была подточена подозрением в какой-то своей второсортности.
История расставила на своих страницах каких-то крепких, как памятники, людей. Вот стоит Пржевальский. Жажда, холод, пустыня, снега — все равно вперед и вперед, все выше и выше! О, если б можно было вскрыть душу такого человека, как взрезывают на пробу арбуз. Наполеон скучал на Св. Елене. Попросту скучал. Не целовал ли Сократ руки Ксантиппы? Чем плох материал, из которого сделан он, Дмитрий Александрович Сверчков? Неужели все эти агитаторы с брошюрой в кармане, герои Смольного и Зимнего — все это не камешки, не галька, подхваченные прибоем, но те, кому дано идти по головам таких, как он?
Ему надоело испытывать качку. Опять грозит голод. Газета закрыта. Человек с бородкой клинышком, наполняя все четыре полосы заметками в духе неуклюже и вульгарно понимаемого большевизма, считал, что в передовой он вправе взять реванш. Комитет по делам печати закрыл газету, и редактор оштрафован за клевету. А много ли требовали большевики от этого кретина? Не лгать, не клеветать, не сеять смуту. Теперь все сотрудники на улице. Сверчкова спасает бюро мистера Пэнна, но это предприятие похоже на паутину над большой дорогой: первая же птица или телега смахнет ее.
Придя домой, Сверчков долго лежал с закрытыми глазами на постели. Успокоил его приключенческий роман без имени автора. Здесь было все выдуманное, и все удавалось, несмотря на трудности, потому что того хотели обладавшие волей герои.
Минуты острых раздумий налетали на Сверчкова, как буран на предгорья, пронизывали его насквозь, но, отлетая, уступали место бездумью и хлябкой тишине.
Через порог второго кабинета профессора фон Гейзена врывались большие страсти и желания эпохи. Он, как хрустальный графин, отражал все это на своих гранях, но озерцо его мысли едва колебалось.
А между тем он знал лучшие дни.
И к нему приходили падения и взлеты души, как приходят голод, радость утра, страх смерти. Вспоминались студенческие годы, когда само вечное небо спрашивает человека, кто он такой и куда направит свой путь?
После Октября он чувствовал себя как рыбачий бот в бурю, перед которым погасли все маяки. Борьба за слабого против сильного, за право против произвола, за конституцию против абсолютизма, казалось, должна была наполнить всю жизнь. Но намеченных заранее врагов не стало, и смысл борьбы с ними растаял, обнажив пустоту. Октябрь предлагал новые битвы, но как сражаться, если цель не выношена годами раздумий? Не стала смыслом жизни?
Расставшись с Глобачевым, он решил про себя, что встреч с ним больше не будет, но в назначенный день и час он стоял у входа в штаб. Глобачев по-деловому пожал ему руку, и они поднялись по лестнице на третий этаж.
В коридорах — мусор по щиколотку. Окурки, шелуха, бумага лежали ковром. По-видимому, сюда недавно переехали. Столики в канцеляриях казались раздетыми. Люди у столов чаще глядели не в папки, а в потолок или в окно и ныряли в бумаги всякий раз, когда врывались сюда запросто сновавшие по всем отделам штаба красноармейцы или, подобно локомотивам, оживляющим затишье полустанка, влетали в канцелярию воинственно настроенные комиссары.
— Не умеют заставить работать, — брюзжал Глобачев. — А сами сидят до полуночи. Зайдем?
В кабинете — красные драпри и потертый ковер. Плюшевые креслица. У стола — плотная, собранная девушка с волосами, одной цельной прядью нависшими над гладким лбом Над креслом печатная надпись «Секретарь отдела» Она подняла глаза, посмотрела на Глобачева я опять повела карандашом по строкам.
— Очень заняты? — спросил заискивающе Глобачев и опустился в креслице.
Сверчков остался у двери.
— План работы с мобилизованными, — не теряя сосредоточенности, сказала девушка.
— С партийцами? Какая с ними работа. Они все превзошли.
— Все-таки нужно работать, — упрямо возразила девушка. — Ваша секция тоже должна дать план.
— Пишет Кирпичев… У меня, знаете, есть мысль… Пока еще рано говорить об этом, но это будет редкостная штука.
— Интересно, — остановила карандаш девушка.
— Совсем новая форма работы. Я вот хожу и все думаю.
— Пожалуйста, поскорее. Соня во что бы то ни стало хочет оживить работу вашей секции. Она созывает совещание.
— Вот я и приятеля встретил… еще по армии… сочувствующий…
Сверчков переступил с ноги на ногу. Стало так, как будто съел что-то горькое.
— Поговорите сами с Соней, — показала девушка карандашом на низенькую дверь.
Соня была еще чернее и строже секретарши. Но лицо ее было измождено бессонными ночами. Усталость, как кисточкой, подвела глаза, острая усталость после экзальтации, пренебрегающей расчетом сил. Желтизна плыла от висков к веснушкам на остром носу. Глаза глядели строго. Она осмотрела Сверчкова с ног до головы, как человек, позволяющий себе только деловое суждение о людях. Сверчков это почувствовал, и ему стало еще неприятнее.
— Вы где-нибудь у нас работали?
— Нет, — ответил Сверчков.
— Вы полагаете, что могли бы нам быть полезным?
Глобачев почувствовал кризис и вмешался:
— Культурный человек, София Самойловна, всегда может быть полезен.
— Какая культура…
«Культура всюду одна», — хотел сказать Сверчков, но смолчал.
— Культура бывает разная. У плантаторов тоже есть культура. Мы же боремся за культуру социалистического труда…
Сверчкову эти слова показались лишенными смысла. «Синий чулок на коммунистической подкладке», — подумал он.
— Вряд ли можно у нас работать без понимания основ марксизма… Ведь вы — марксист? — спросила она Глобачева.
Тот даже всплеснул руками.
— Конечно!
— А вы?
— Не знаю…
— Тогда работать будет трудно.
— Да, конечно.
Сверчков взял с ровной стопки маленькую прокламацию. Должно быть, она предназначалась для разбрасывания с аэропланов.
«Началась новая эпоха всемирной истории.
Человечество сбрасывает с себя последнюю форму рабства: капиталистическое, или наемное, рабство.
Человечество впервые переходит к настоящей свободе».
«Какие мысли! — подумал он. — Война всему капиталистическому миру. Безумие, бред? Или же это большая историческая смелость?» Он смотрел на черную девушку, которая молча следила за изменениями в лице Сверчкова, пока он читал агитку. Ее лицо было неприятно ему. В нем было что-то птичье, какая-то жадная хватка.
— Подумайте и заходите, — сказала она. — Может быть, все-таки мы найдем вам работу. — Она протянула узкую руку с чернильными пятнами.
— Ты говорил с нею, как будто пришел к директору фабрики, где действительно нужно делать какое-то дело, — сердился Глобачев на улице. Он опять стал сам собою, словно маску робкого и послушного человека швырнул на ходу в угловой мусор. — Тебе здесь нужен паек, легальное положение, близость к штабу, которую можно и нужно использовать для нашей организации. Не мог наговорить чего-нибудь. Ну, сказал бы о работе в солдатских университетах. Ты же просвещал на фронте.
— А, зачем все это? — махнул рукой Сверчков.
— Бескостный ты человек, — еще раз рассердился Глобачев. — У тебя нет ясной перспективы. Ведь хаос вечно продолжаться не будет. Зреют силы порядка. Запад не оставит, это так…
— Интервенция?..
— Пустое слово… Нельзя быть размазней.
Взаимное неудовольствие заставило их пойти в разные стороны.
«Только не домой, — подумал Сверчков, — не к хлебному или картофельному вопросу». Он еще больше рассердился на себя и решил: «Пойду к Алексею. Так тебе и надо, так и надо».
В казариновском кабинете собрались коммунисты дома. Здесь были братья Ветровы, Степан и еще несколько военных. Все на ногах. Алексей чинил оторвавшееся ушко сапога.
— Я на минуту, — пробормотал Сверчков.
Олег Ветров продолжал рассказывать о героизме лысьвенских красногвардейцев. Урал уже расцветал первыми легендами борьбы. Сверчков стал слушать. Живой человек говорил как большевистская газета. Газеты расхолаживали Сверчкова. Живые слова убеждали в чем-то живом.
— А мы к Чернявскому, — сообщил справившийся с ушком Алексей. — Может быть, с нами?
— Но я ведь не знаком.
— Так это не на ужин, — сказал Игорь.
— Часок поговорить… — с достоинством заметил Алексей.
— Если удобно…
Чернявский занимал теперь два соседних номера в большой национализированной гостинице, строившейся вовсе не в расчете на таких жильцов, как члены Петроградского совета. Нашествие книг превратило кабинет Чернявского, небольшой квадратный номер с альковом, в нечто напоминавшее лавчонку букиниста. Пыльными штабелями книги всползали на стены, лежали на креслицах, обитых зеленым репсом, залегли на окнах, на радиаторах отопления и даже на кровати.
Чернявский, дирижируя синим карандашом, объяснял корректору, как размещать примечания и как начинать главы, чтобы издание походило на лучшие образцы.
Седобородый корректор в трепаных брюках слушал почтительно и невнимательно. Он работал у Брокгауза и Ефрона, был высокого мнения о своей профессии, знал скромные возможности типографий, но не считал необходимым спорить.
Отпустив корректора, Чернявский стал рассказывать, как у него разыгрался ревматизм. Прихрамывая, он ходил по комнате. Екатерина Васильевна не пускает его на службу, а между тем у него куча дел.
— Я вам скажу, — остановился он перед Сверчковым, которого никто не знакомил с хозяином, — берегите здоровье. Придет время, придет настоящее дело, потребует пас всего, а вы вдруг и окажетесь неполноценным. А как было нам беречь здоровье? — перебил он сам себя. — Мне сорок девять лет, из них одиннадцать я просидел по тюрьмам и ссылкам. Теперь — катары всякие и ревматизмы.
— Вы жили в Англии? — спросил вдруг Сверчков, знакомый с биографией Чернявского по газетам.
— Я в Англии жил так, дорогой товарищ, что временами в пору было проситься обратно в ссылку.
Когда вошел Альфред, Чернявский рассказывал о бирмингамских и шеффильдских рабочих трущобах. Сверчков смотрел на вялые и узловатые пальцы этого преждевременно состарившегося человека и думал о нем, о Пржевальском, о Колумбе…
Но Чернявский уже перешел на Королевский лондонский музей с его знаменитейшей библиотекой.
— Я книгу, знаете, люблю, как человека. Когда-то я вел список всего, что нужно прочесть. Но это так же невозможно, как объехать мир. Не столицы и курорты, но мир…
Ветров спросил его: нет ли новостей с фронтов?
— Тревожно. Страна охвачена кольцом врагов. Империалисты высаживаются в Мурманске и Владивостоке, хотя никто не просил их об этом. Но самый страшный удар нанесен нам в спину эсерами, которым скрыто содействуют предатели — как это ни странно — из наших рядов. Люди, которые из любви к громкой фразе готовы накликать на страну, еще не подготовленную к отпору, войну с Германией. Они убили Мирбаха, чтобы сорвать Брестский мир, купленный такой дорогой ценой. Они подняли восстания в двадцати трех городах по Верхней Волге, они готовы продать будущее народа англо-американскому капиталу. Позорно, глупо, подло!..
Он взволнованно заходил по комнате. Когда волнуется признанный большой человек, волнение это быстро передается другим. Альфред переставил сухие ноги, у него запершило в горле, и он откашлялся.
Сверчков в свою очередь поддался этому настроению. Он хотел даже что-то сказать о Парижской коммуне, но на столе громко зазвонил телефон, и одновременно в дверь постучали шумно и нервно.
— Не может быть, — крикнул в трубку Чернявский. — Какая подлость!
В комнату, не дождавшись ответа, ворвался человек.
— Восстание в городе. Левые эсеры… — бросил ему навстречу Чернявский. — Вы не из штаба, Порослев?
Сверчков и все другие поднялись со своих мест.
— Вам сообщили? — сказал вошедший. — За нами едут. Штаб уже на ногах. Центр восстания — в Пажеском корпусе.
В дверь заглянула голова шофера в кожаной фуражке.
Чернявский, забыв про ревматизм, надевал военную шинель и неумелыми руками пристегивал к поясу кобуру.
— Пошли, пошли, — скомандовал он всем. Седые волосы выбивались из-под фуражки. Крепко закушенная трубка ушла в край рта.
Сверчков бежал по улице, как будто и ему нужно было торопиться. Потом он зашагал к себе домой. У него в комнате сидела машинистка из бюро мистера Пэнна.
— Я пришла предупредить вас. Бюро больше не существует.
Сверчков молчал.
— Мистер Пэнн вынужден был спешно выехать из Петрограда, и… туда… лучше вам не ходить…
Становилось тревожно.
— Но вы не знаете, в чем дело?
— Он пользовался личным радио французского посла… через швейцара. На этом основании послу устроили скандал. Информация была далеко не объективна. И еще какие-то шифры. Бюро занималось не только информацией для газет…
— Но я ничего этого не знал.
Машинистка усмехнулась:
— Может быть… но все-таки… мало ли что?.. Возможно, он тоже сообщал послу… Такое время… Вам могут не поверить…
Глава X ПАЖЕСКИЙ КОРПУС
Черный, как ночной жук, мотоциклист с очками водолаза, едва задержавшись с пропуском у часового, влетел мо двор артиллерийских казарм.
Он еще кружил, объезжая лужу, когда вслед за ним во двор влетел автомобиль комартформа.
Статный усатый военный, несмотря на июньский день, в шинели до земли, подтянутый и строгий, встал на пороге.
Порослев еще из автомобиля крикнул:
— Из Смольного?
Мотоциклист, узнав комиссара, отдал пакет ему.
— Кому еще? — спросил Порослев, разрывая конверт с надписью «В. секретно».
— Еще броневикам, — сказал мотоциклист, нажимая на рычаг.
Порослев уже сложил бумагу. Все это ему известно. В Москве восстали левые эсеры. Арестован Дзержинский. Ясно, что в Петрограде не обойтись без осложнений.
Алексей бегом через весь двор спешил к батарее, в которую его временно зачислил комартформ.
— А что такое? — спросил усач, пропуская Порослева. На его полном бритом лице выступил румянец. — У большевиков сегодня секреты… Казалось бы…
— Сейчас, сейчас, товарищ Щеглов…
И Порослев, пробежав мимо него, ворвался в штаб, бросая встречным писарям и вестовым на ходу:
— Адъютанта к командиру. Вызвать дежурных ординарцев.
Он, не стучась, влетел в кабинет командира дивизиона.
— Товарищ Глебов! Боевое задание… Из Смольного, — он протянул ему приказание.
Собеседники командира — красноармейцы подымались и выходили по одному, стараясь хоть краем уха услышать новости.
— Пажеский корпус? — удивленно прочел Глебов и скомандовал входящему адъютанту: — План Петрограда… снимите со стены… сюда. И вызвать командира первой батареи.
Черных уже пошел за ним.
Телефон отчаянно звенел.
— А, черт! Пет командира батареи. Должно быть, уехал в интендантство, — сказал, опуская трубку, Глебов. — Кого же послать?
— Щеглова, — вдруг решил Порослев.
С ума сошли. Ведь он же левый эсер!
Но Порослев уже стоял на пороге и звал Щеглова.
Щеглов, войдя и увидев, что все взоры обращены на него, шагнул к столу и стал, обеими руками взяв широкий ремень кушака.
— Ты как насчет партийности, Щеглов? Эсер? — спросил его Порослев.
— Так точно, — решительно кивнул головой Щеглов и прибавил: — Левый…
— Ты за Советскую власть? — опять спросил Порослев.
Щеглов кивнул еще решительнее.
— Я в Октябре…
— Мы знаем, Игнат Моисеевич. А если бы эсеры пошли против Советской власти?
Щеглов внезапно ощутил тревогу и впервые подумал, что в такой жаркий день не следовало надевать шинель.
— Так вот что я тебе скажу, товарищ, — придвинулся к нему вплотную Порослев. — Таких, как ты, дурачат. Сегодня левые эсеры выступили против Советской власти.
— Не может быть, чтоб левые…
— Стрельба идет по городу… не слышал? Ты что же, ничего не знал?
— Не знаю, Петр Петрович. Ничего не знаю.
Щеглов обмяк и опустился на стул.
— Тебе не сообщили. Не верят они тебе. Ты больше с нами… И ты смотри — все части, все районы, все фабрики за нас. А эти… У них сговор с посольствами, с беглыми капиталистами. Ими руководят английские шпионы. И это в такое время, когда горит Ярославль, на Урале — чехословаки, немцы грозят войной… Засели в Пажеском корпусе… Мы разобьем снарядами разбойничье гнездо, — стукнул вдруг по столу Порослев. — Камня на камне не оставим. Пора выбирать, Щеглов: или ты с нами за революцию, или ты с ними за интервентов. Ты будешь командовать взводом… Прямой наводкой!
Щеглов смотрел на Порослева, на Глебова. Между пальцами катал крышку чернильницы.
— Какой ты левый эсер? — громил его Порослев. — Ты наш, ты выборгский. Пошли!
Щеглов поднялся и пошел за Порослевым. Переступая через порог, он бормотал:
— Ежели против Советской власти…
Он стал эсером на фронте в дни повального, почти без разбора, вступления солдат в эту партию. Потом он скрытно колебался между нею и партией большевиков, чьи лозунги были для него яснее и ближе, в рядах которой состояли его товарищи с Выборгской, кто был становым хребтом Советской власти, за которую он уже пролил и свою и чужую кровь…
Взвод рысью шел по булыжникам, стуча и гремя и обращая на себя внимание прохожих. Щеглов скакал впереди орудий. Порослев и Алексей сидели на зарядном ящике, вцепившись в поручни изо всей силы.
— Смотри, Черных, — бросал сквозь грохот Порослев. — Тебе поручаю. — Он с риском сорваться показал рукой на Щеглова. — Если что… бей без промаха!
Алексей смотрел на широкую спину Щеглова. Что он теперь думает? Хороший, дисциплинированный парень. Не расстегивая кобуры, Алексей ощупал рукоятку нагана.
Облако пыли понеслось за взводом по утоптанному царскими смотрами, сухому, как клочок азиатской пустыни, Марсову полю. Впереди стучали гулкие уличные выстрелы.
— Чего ты Глебова не взял, Петр Петрович? — спросил Алексей Порослева.
— Не пришло в голову. Он — командир дивизиона… а тут взвод, — сознался Порослев.
Щеглов вел взвод в обход Литейного, избегая людных улиц. Привлеченные стрельбой прохожие скапливались на Невском. В толпе у Гостиного двора среди солидных штатских в котелках, канотье и мягких панамах сновали молодые люди в фуражках военного образца, но без кокард, во френчах и гимнастерках без погон.
Обозленные трудностями, выпавшими на их долю в те дни, обитатели буржуазного центра не скрывали своей радости при каждой неудаче большевиков, а может быть, и рассчитывали при случае вмешаться на стороне бунтовщиков. Артиллеристов они встретили шумом, угрозами, пожеланиями разгрома.
Взвод стал на углу Невского и Садовой. Невский походил на взволнованную реку, в то время как по Садовой только изредка перебегали люди. Впереди, насколько видно было вдоль этой обычно оживленной улицы, как бы отрезанная невидимой проволокой, толпа прижималась к одной безопасной стороне. Перед нарядным красным зданием, отступившим в глубь сада, замер брошенный пассажирами и кондуктором вагон трамвая маршрута № 2. Под защитой толстых гостинодворских колонн красноармейцы пятого номерного отряда проносили пулеметы и ящики с лентами.
Повернув пулеметные башни в сторону Пажеского, с Невского на Садовую ворвался броневик, провожаемый бранью скопившейся у Гостиного толпы. Какой-то толстяк, размахивая тростью, выкрикивал ругательства, обильно брызгая слюной. Полная дама, повиснув на его руке, старалась успокоить разбушевавшегося буржуа.
К артиллеристам подошла группа работников райсовета и Смольного во главе с Чернявским.
— Смотри, как разошлась буржуазия, — заметил, здороваясь с членами районного штаба, Порослев.
— На что-то надеются, — ответил Чернявский, оглядывая Невский.
— Эх, моя бы воля! — не выдержал Алексей с досадой.
Между тем броневик, дойдя до середины Гостиного, открыл огонь. Из Пажеского ответили ружейным и пулеметным огнем. Не долетая до броневика, рвались бросаемые из окон гранаты. Но вот одна, за нею другая разорвались у самого борта. Броневик задним ходом двинулся назад к Невскому.
— Не обойтись без артиллерии, — решил Порослев. — Разворачивай орудие, Игнат Моисеевич.
— Отсюда же не видно. Как же стрелять?
— Ничего, пугануть можно.
Алексей следил, как устанавливали, заряжали трехдюймовку, как наводил орудие Щеглов. Ясно было, что снаряд ударит в жилой дом, который выдающимся углом прикрывал Пажеский. Щеглов пожимал плечами, не решаясь стрелять.
В красном здании между тем шумно переживали успех легкой победы над броневиком. Из окон несся шум, гремела песня, летели гранаты, шел беспрерывный пулеметный огонь.
Толпа на Невском ликовала, молодые люди с военной выправкой теснились у самых артиллерийских упряжек.
— Подожди, я их успокою, — сказал человек в косоворотке и направился к броневику.
— Что ты хочешь? — остановил его Чернявский. — С умом надо. Тут же в толпе всякие. Можно дров наломать.
— Не беспокойтесь. Все будет как надо.
По команде члена штаба броневик повернул башни с пулеметными дулами вдоль Невского. Черные стволы поднялись кверху. Но толпа уже метнулась во дворы, под защиту колонн Гостиного. Через две — три минуты на Невском стало так же пустынно, как и на Садовой.
— Вот и все, — довольно сказал член штаба.
Пажеский продолжал греметь выстрелами, не давая пехотным частям подойти к ограде.
— Не то здесь нужно, — досадливо сказал Щеглов и бросился бегом по галерее Гостиного.
Алексей устремился за ним, на ходу расстегивая кобуру.
У одной из колонн, лежа прямо на плитах галереи, двое отрядников вели слабый огонь по фасаду здания. Пулемет явно был в неопытных руках. Пули щелкали по кирпичам ограды, по чугунным украшениям высокой решетки.
— А ну, подайсь, парнишка, — скомандовал Щеглов, быстро ложась на плиты. — Покажем, что артиллерист должен быть и хорошим пулеметчиком, — бросил он не без хвастовства Алексею.
Тяжелый «максим» в руках большого, сильного Щеглова был послушен, как легкий карабин. Щеглов внимательно осмотрел замок, пощупал, не раскален ли ствол, и через минуту ровная пулевая струя прошла по окнам второго этажа, поднялась до третьего и вернулась обратно.
Стекла серебристым дождем летели вниз. Из глубины здания понеслись крики раненых. Огонь эсеров ослабел, и смельчаки из Интернационального батальона уже спешили к ограде, к высоким фигурным воротам.
Вслед за ними от Чернышева на рысях несется бесстрашная мальчишья стая. Десятилетний мальчуган пылит по самой середине улицы в растерзанных и заскорузлых отцовских сапогах. Вот он затормозил, споткнулся о булыжник, запутался в широких самоходах и лег на камни, как на подушку. Щеглов, придерживая шапку, бросился к нему. У Алексея еще раз дрогнула рука… Но мальчонка уже плыл по воздуху в сильной руке Щеглова, и носки его сапог смешно и страшно глядели в разные стороны, как будто ноги его были вывернуты в суставах.
Щеглов еще трижды громил красные стены. Он действовал без колебаний, зная, что для него после этих выстрелов все, по существу, будет решено. Ему было ясно одно, что стрелять в Порослева, в Черных, в Чернявского, в матросов, в комиссаров Смольного он не стал бы ни по чьему приказу, если б даже ему грозили отрубить правую руку.
А посередине места не было…
Не он один в те дни сначала действовал по безошибочному инстинкту, а рассуждал и делал выводы потом.
Черных не был ни поражен, ни удивлен поступком Щеглова. Переход на наши позиции всегда кажется нам тем более естественным, чем тверже наша собственная вера в дело, которому служишь.
Опять гремели кованые колеса по булыжникам Садовой и Чернышева. Орудия занимали позиции под козырьком Гостиного. Но в окнах осажденного здания все чаще показывались белые полотнища — сигналы сдачи. Пехота пробегала по тротуарам вдоль фигурной решетки. Матрос с усилием распахнул чугунные ворота.
Глава XI ГОРОХОВАЯ 2
Серые камешки говяжьего жира не размазывались по хлебу. Жир крошился, комками застревал в мякише. Одновременно Сверчков соображал, какую часть пайка можно съесть сейчас и сколько необходимо оставить.
— За что все-таки нас кормят? — спросил Гирш, рыжеусый молодой остзеец из пехотных прапорщиков. — Второй месяц в полках одни офицеры и ни один солдат. — Он растирал между пальцами комки соли, только что полученной в пайке, и круто посыпал горбушку.
— Начальство знает, — оскалил зубы белокурый корнет, по повадкам забулдыга и пьяница, перешедший, по его словам, в пехоту, «чтобы привить там великолепный кавалерийский дух».
Особняк бывшего городского заправилы был загажен от пола до потолка. Два наемных вахтера, в солдатской форме и старческом возрасте, с непринужденным видом сметали мусор в углы, не считая нужным выносить пыльные кучи из помещения.
Мебельный лом валялся по углам и в коридорах. Стекла в трещинах. Паутина способна была заменить портьеры. В окна видна картина замкнутого внутреннего дворика. В коридорах у стен — скамейки, взятые, вероятно, из ближайшего общественного сада. Стены украшали только пятна подтеков и лоскутья обоев.
— Важно пощипали этот дворец, — сказал корнет.
Штаб помещался в кабинете бывшего владельца.
Здесь сохранился письменный стол и несколько стульев. Начальство вело себя — это уже давно заметил Сверчков — нервно и двусмысленно. Командир Ветлужской дивизии Народной армии, бывший полковник Шарапов, носил на усах ровную улыбку, был со всеми подчеркнуто вежлив и каждый день ездил в районный Совет и даже в Смольный. О перспективах дивизии он говорил неохотно и как бы извиняясь:
— Территориальные войска… В Реввоенсовете не все одного мнения. Кажется, дискуссия еще не закончилась — дело новое… сами понимаете. Готовим здесь тем временем командные кадры, а набор бойцов будет на местах. Страна разделена на округа. Ну, Молога, Ярославль, Кострома… Вот и дивизии Мологская, Ярославская, Костромская. Впрочем, о чем вы хлопочете, дорогой мой? — заканчивал он, поглаживая собеседника по плечу. — Сыты, пьяны, нос в табаке — ну и ладно.
— Махорку, положим, уже второй раз не выдают.
— Довыдадут, об этом не беспокойтесь.
Адъютант, крепко сбитый, как мяч, маленький, мускулистый человек, без погон., но с аксельбантами, любит секреты. Прежде чем начать разговор, закрывает дверь. Доверительно наклоняется к уху. Усы у него, как у кота, расходятся редким белобрысым веером. Он словно обнюхивает каждый предмет, к которому приближается.
Новичкам он говорит, что вопрос о поездке на места формирования уже решен. Подадут эшелоны, и дивизия тронется на Верхнюю Волгу. Там сытно… Всех предупредят заранее — не о чем беспокоиться.
Сверчкова все это не освобождало от чувства неловкости. Его привел в эту странную дивизию голод. Газета была закрыта. Бюро мистера Пэнна скандально лопнуло. Сверчков побывал в порту, у Калашниковских амбаров. Работы не было. Теперь он охотно пошел бы убирать снег. Можно было обратиться к Чернявскому или Алексею и получить работу у большевиков. Подстегиваемые голодом, разлагаемые большевистской пропагандой, один за другим сдавались новой власти отряды саботажников. Некоторые знакомые Сверчкова — офицеры уже служили у большевиков.
Для Сверчкова давно вместо пропасти оставалась последняя черта. Но перейти ее хотелось не искусственно — следовало в самом себе изжить то, что еще отделяет его от большевиков. Но, как река, готовая встретить порог и не знающая, с какой высоты придется сбросить ей свои воды, он еще не понимал ни крепости, ни значения этой черты.
В час очередных колебаний пришел однополчанин Ульриха, поручик Степной, и предложил Сверчкову вступить в Народную армию. Поручик говорил на этот раз с несвойственной ему убедительностью. Союзники и немцы готовы растерзать Россию. Конечно, и те и другие — грабители. Большевики понимают, что Красная Армия — это не для всех, это классовая сила, и вот создается еще одна — Народная армия. Это будет национальная сила. В Реввоенсовете есть влиятельные сторонники создания такой второй, параллельной силы. Уже есть штабы, командный состав… Отпущены пайки и кредиты… Казалось, это был подходящий компромисс. Заполнив анкету, Сверчков стал младшим инструктором Второго полка Ветлужской дивизии. Он посещал штаб в дни выдачи пайка и ждал, когда придется ехать на Волгу. Шли дни, недели, но в штабе было все по-старому: выдача махорки, спичек, белья… Разговоры, пересуды, сплетни и никакого дела. Но здесь подкармливали, ничего за это не спрашивая, — и это было сейчас решающее. Сверчков старался ни с кем не говорить о новой службе. Борисов, вступивший в Красную Армию, когда еще велась первая запись добровольцев в Мариинском дворце, узнав о вступлении Сверчкова в Народную армию, сказал:
— Какого ж черта вы не записались к нам? У нас все ясно и кормят лучше. Белая каша с постным маслом каждый день. И командный состав есть и красноармейцы.
— Так ведь вы за большевиков.
— А вы за кого?
— Народная армия — национальная сила…
— Чепуха! Армия будет одна. Иначе быть не может. И будет Красная Армия. А это — чьи-то темные фокусы… Ничего — поиграют и кончат.
Но в Красную Армию у Сверчкова еще не было путей. Сейчас хотя бы сбить голод. Ландскнехт так ландскнехт, к чертовой матери тетушкины морали…
На улице раздался топот многочисленных солдатских сапог. Взвизгнули ржавые ворота. Во двор втягивался отряд. Шинели солдатские, на фуражках звезда.
Трое военных с винтовками прошли по коридору к кабинету командира.
— Там никого нет, — весело сообщил корнет. — А вы откуда?
Передний, перепоясанный ремнем, с одним рядом белых костяных пуговиц на шинели, открыл дверь и, заглянув в кабинет, убедился, что комната пуста.
— В Совете, должно быть, — сказал один из офицеров.
— В Совете? — буркнул военный. — Ну, может быть, и в Совете. Вот что, — обратился он к присутствующим, расположившимся на окнах и на скамьях коридора. — Вы все арестованы. Приготовить документы — и по одному во двор.
Офицеры задвигались, вскочили, бросив пайки, и плотной толпой двинулись на военного.
— Ну, ну, не напирай, — сказал он и выставил перед собой винтовку. — По приказу из Смольного. А в чем дело — будет объяснено. А теперь выходи.
Корнет потянул Сверчкова за рукав. Сверчков обернулся. Корнет звал куда-то в коридор.
— А паек? — шепнул Сверчков. Он еще был голоден.
— К черту паек. Не время.
Пока офицеры, крича и ругаясь, спорили с военным. Сверчков и корнет прошли коридором в кухню. Кто-то уже опередил их и возвращался разочарованным.
— И здесь патруль, — шепнул он корнету.
Корнет и за ним Сверчков взбежали по хлябкой железной лестнице наверх. Оттуда черным ходом на чердак, к слуховому окну. На тротуарах, во дворе, даже во внутреннем дворике стояли молодые красноармейцы с винтовками на изготовку.
— Капкан, — оторвался от стекла корнет. Он крепко, витиевато выругался. Потом, разрывая френч о стеклянные осколки, полез через полукруглое оконце на крышу.
— В трубу… не догадаются.
— В сущности, я не вижу, чего бояться, — сказал Сверчков.
Корнет обернулся. Глаза зеленые, злые, Дьяволенок, которому наступили на хвост.
— Целуйтесь с ними. А еще офицер! — Заметным усилием потушил глаза: — Тогда хоть останьтесь порядочным — не выдавайте. — Глаза опять вспыхнули. — А иначе… первую вам, себе вторую…
Тускло сверкнул браунинг, и сапоги корнета исчезли за окном.
Офицеры один за другим отдавали документы, выходили во двор, строились в два ряда. На тротуарах за решеткой редкие прохожие, останавливаясь, наблюдали сцену ареста.
— Познакомимся с Гороховой два. Все на свете надо узнать, — успокаивая сам себя, философствовал Степной.
— Но в чем все-таки дело? — в двадцатый раз спрашивал низенький блондин, бывший пехотный адъютант, у которого по розовому, словно опаленному солнцем, лбу катились непослушные капли пота.
Высокий молчаливый человек в английском френче смотрел на него в упор со злобным презрением. Он с силой швырнул окурок о камни и плюнул. Блондин взглянул на него с детской тревогой и стал вытирать пот смятым, нечистым платком.
Ворота на Гороховой 2 открылись по свистку человека в ремнях. Со двора прошли в большую, совсем пустую комнату. Сейчас же принесли хлеб, куски селедки и трехведерный бак с кипятком.
— Оказывается, здесь кормят, — удивился маленький блондин. Он торопливо съел жирный кусок рыбы и облизал пальцы.
Перед вечером небольшого роста штатский человек в пенсне и высоком воротничке с разбегу влетел в комнату. В дверях стали часовые с винтовками. Около человека образовался полукруг.
— Так, — сказал человек для начала. — Вас покормили?
Кто-то отозвался:
— Спасибо — дали. И кипяток тоже.
— Ну, хорошо.
— Это Урицкий, — пошло по рядам стоявших, сидевших и даже лежавших на полу по углам.
— А все-таки нельзя ли узнать, почему мы арестованы? — сказал кто-то из задних.
Урицкий отыскал взглядом спросившего. На пути этого взгляда образовался коридор. Спрашивал высокий офицер во френче. Он нехотя и неуклюже поднимался с разостланной в углу газеты. Урицкий подошел к нему еще ближе. Теперь он оказался в замкнутом кругу.
— Видите ли, — заложив руки в карманы, начал он таким тоном, каким говорят о простых и прозаических вещах, — в городе до тридцати тысяч офицеров, и нам хорошо известно, что они не сидят спокойно. Раскрыт обширный заговор с участием иностранных разведок, рассчитывающих на офицерские кадры. Тридцать тысяч офицеров — это ведь сила, как вы думаете?
— Конечно, конечно, — угодливо согласился потеющий блондин: — Еще бы.
— Ну вот… О том, как нас любят офицеры, мы тоже догадываемся…
— Не все…
— Не все, конечно. Но тех, кто уже с нами, мы знаем…
— Но ведь мы же были на службе.
— В Красной Армии?
— В Народной…
Урицкий досадливо отмахнулся.
— Эта организация больше не существует. Ее главари все были связаны с агентурой иностранных держав и оказались в центре заговора против власти Советов.
Он остановился и внимательно оглядел комнату.
Многие были в замешательстве. Кое-кто уже шептался. Передние делали изумленные глаза. У этого, с пробором, выходит совсем неискусно.
— Но мы ничего, ничего не знали, — сказал вспотевший опять блондин.
— Возможно… Мы разберемся. Все, кто непричастен к заговору, будут на свободе в самый короткий срок. Желающие могут подать заявление на мое имя. Ну, — повысил он тон, — а теперь вас отведут в другое место.
В дверях перед часовыми встал человек в ремнях.
— Не рекомендую вам ни бежать, ни делать какие-либо попытки подкупа и всякое такое… Это не в романе. За вас отвечает чекист, товарищ Селиванов, — он указал на человека в ремнях.
Все смотрели с трепетом на широкоплечую, внезапно отяжелевшую фигуру человека.
У чекиста даже веки не дрогнули под взглядами нескольких десятков человек.
— Я не буду вам рассказывать его биографию, которая хорошо объясняет его отношение к вам. Самый тупой из вас не может не понимать, что у любого солдата из бедняков, у любого чернорабочего есть достаточно оснований ненавидеть вас. Но здесь, в Чека, мы учим Селиванова не мести против каждого из вас, а борьбе с вашим правом на силу и угнетение. Словом, Селиванов не тронет вас пальцем до приговора коллегии Чека. Но если кто-либо попытается улизнуть, тут уж… простите. Он отвечает за вас головой. Пока же до свиданья. Надеюсь на лучший для каждого из вас исход.
Глубокой ночью по булыжникам города шагала партия людей, окруженных конвоем. Шли рядами. В штатских пальто, в военных шинелях, в мягких шляпах, в гетрах, в сапогах, в длинных брюках. Кое-кто курил. Большей частью молчали. Все, хоть изредка, смотрели на Селиванова.
Отправляя партию, чекист громко сказал часовым:
— Смотреть в оба. Кто бежать — пулю в спину врагу народа. Из рядов не выходить.
Глава XII ШТАБ — И ОБЕР-ОФИЦЕРЫ
«Какая гадость. Какая дичь, — неустанно твердил про себя Сверчков. — Что я сделал большевикам? Если посмотреть внимательно, я шел к ним… Каждый день приближал меня к тому, чтобы открыто пойти к ним работать. И вдруг…»
«Нерешительно, слишком нерешительно, с оглядкой», — откуда-то из глубины сознания доносился едва заметный, но ехидный голосок.
«…И нет необходимости менять убеждения очертя голову. Это ведь не так просто. Это не покер», — глушил ехидный голосок Сверчков.
— Как вы думаете, если написать на Гороховую два, дойдет? — спрашивал Гирш. — Или местные комиссары пустят письмо на растопку?
В несвежем штатском костюме, с белобрысой порослью по губам и по шее, с немецким акцентом, он имел вид военнопленного на окопных работах.
«Может быть, и у этого немчуры в сознании живут два голоса», — подумал Сверчков и, подавляя раздражение, подчеркнуто вежливо выговорил:
— Вряд ли кто-нибудь осмелится уничтожить письма, адресованные на Гороховую.
— Я все-таки напишу, — энергично взял карандаш немец. — Я напишу, что в политика участвовать категорически отказываюсь. Я жду ответ из Берлин и собираюсь уехать отсюда навсегда.
— Не понравилось в России-матушке? — вмешался крутолобый, плечистый полковник со сложным рисунком из шрамов по бритому черепу.
— Трудно нравиться, трудно нравиться… — закачал головой Гирш. — Мало порядок. Лучше сказать — никакое стремление к порядку.
— Иногда это очень удобно, — сказал вдруг небольшой, худенький и ловко скроенный человечек с быстрыми южными глазами. Он все время сидел у двери и вел разговоры с караульными.
— Вам, Гирш, пристало быть в русской Народной армии, — сказал полковник и стал хлопать себя ладонями по круглым коленям.
Гирш отвернулся. Под белой порослью затылка проступило розовое.
— Жрать хочется, — сказал полковник и откровенно зевнул.
После скудного обеда все новички принялись строчить письма домой и на Гороховую. У родных требовали подушки, одеяла и пищу. Главное — пищу.
В камере было около ста человек. И в желтом свете дня и в коричневых отблесках керосинового ночника трудно было различать отдельные лица. У Сверчкова оказалось трое знакомых соседей — студент-технолог, Гирш и Степной. Бритый полковник помещался на нарах у дверей. Рядом с ним незаметно ютился человек с южными глазами, не то итальянец, не то румын. Наверху грузно залегал тяжелый чернобородый генштабист, сын одного из царских министров. В самом дальнем углу, у окон, как бы стремясь отделиться от массы арестованных, устроились компанией два морских офицера, весь день натиравшие ногти замшей, черный гусар, даже здесь, в камере, поражавший прямой и гибкой фигурой и матовой бледностью красивого лица, и, наконец, высокий плоскоголовый артиллерист, в котором Сверчков узнал вербовавшего его на улице в какие-то офицерские организации гвардейца Карпова.
Старожилы в большинстве уже имели одеяла, подушки и пледы. Моряки расстилали одну белую простыню на две соседние кровати.
Тревожась и тоскуя, новички расспрашивали стариков: кто? за что? сколько времени? кого выпускают? И за всеми этими вопросами скрывался один непроизносимый: а что бывает? как бывает?..
Второй день был наполнен тюремной прозой. Где кипяток? водят ли гулять? можно ли писать? доходят ли письма?
Режим был не суров. Это была морская казарма, ставшая в те дни тюрьмой. Весь день выход из камеры был свободным. Можно было ходить в соседние камеры, можно было разговаривать с кем угодно и сколько угодно, можно было часами гулять по широкому, как зал, коридору. Можно было бегать в подвал, где в облаке пара кипели кубы с кипятком. Ни сторожа, ни администрация не беспокоили арестованных.
На ночь камера замыкалась, но сторож дремал у дверей и открывал полуаршинным ключом певучий замок по первому требованию. В шепоте зарождались долгие ночные разговоры, прерываемые протестами соседей против шума. Осенний мокрый ветер с залива завывал, врываясь в разбитые окна.
Как ни прикидывал Сверчков, кому бы это можно было написать о своей неудаче, у кого попросить еду и подушку, — ничего не приходило в голову. Были добрые знакомые, расположенные как будто люди, но все они вовсе не обязаны были в такое трудное время брать на себя еще одну досадную обузу.
Сверчков написал Чернявскому. Две-три беседы еще не дают права на доверие, но в последний раз Сверчков пришел к нему по собственному почину и говорил с предельной откровенностью о своих колебаниях и о желании приблизиться к большевикам. Чернявский сам позвонил к нему. Он сообщил, что Сверчкову, как знающему языки, предложат работу в Наркоминделе. На днях ему позвонят оттуда… Во всяком случае, Чернявскому должно быть ясно, что арест его — недоразумение.
Вечером на третий день из камеры были вызваны трое.
— Соберите вещи, — скомандовал надзиратель, низкий, широкоплечий усач в коротко обрезанной шинели.
По голосу надзирателя нельзя было определить, что ждет вызванных.
— На волю? — спросил кто-то из камеры.
— В контору, — буркнул, уходя, усач.
— В контору — значит на волю, — разъяснил военный чиновник, старожил. — Они ведь постепенно отпускают…
— Узнаем завтра утром, — сказал артиллерийский капитан. — С Деляновым условлено: если на волю — он придет к передаче и там, с угла, помашет руками.
Наутро Делянов радостно размахивал обеими руками, стоя на широком пустыре. Жестами он уверял, что отпустят всю тюрьму.
На четвертый день ушли двое. На пятый — четверо и из соседней камеры еще двое. Новых не приводили.
Рядом со Сверчковым на нарах лежит мичман Тигранов. Его фамилия звучит насмешкой. Это хилый, маленький, очень тихий человек. Он и Сверчков — единственные голодающие во всей камере. Остальные три раза в день раскладывают на собственных одеялах аккуратные салфеточки, вынимая ножи и вилки и стараясь не запачкать руки, принимаются за еду. Два раза в неделю приносят передачи. Несут все съедобное. От картофеля в мундирах до кусков осетрины и фруктов. Все это в корзинах, баульчиках, судках и салфетках громоздится на окнах, и гора постепенно тает к третьему дню.
В час, когда, похлебав казенный суп, камера принимается за свой обед, Тигранов и Сверчков уходят в коридор, садятся на окна, схваченные решетками, глядят на пустой тюремный двор и разговаривают, как будто именно для этого они и пришли сюда. Оба самолюбивы, оба уязвлены нечутким отношением обжирающихся товарищей по камере, оба боятся, как бы не обнаружить, что голод уже готов сломить их. И если перед глазами в туманах нарастающей слабости пойдут кульки, пакеты, круглый картофель, если ударит запах мяса — можно не выдержать, можно, наконец, что самое ужасное, попросить… попросить есть…
Это было в один из первых дней после ареста. За стенами казармы бушевал осенний шквал. Холодные капли долетали чуть ли не до середины камеры. Окна затыкали бумагой и тряпьем.
Ночью, в три часа, над морем пошел гул редких, могущественных выстрелов. Артиллеристы решили, что это — морские орудия крупных калибров. И уже после восьмого или десятого выстрела, когда между двумя раскатами двенадцатидюймовок хором загремели мелкие пушки, по камере пошла убежденная молва о приходе английской эскадры. Никто не спал. Иные открыто радовались.
Но Сверчков еще помнил убедительные для него в этой части газетные статьи, митинговые лозунги, речи Чернявского.
— Если англичане придут, они превратят Россию в колонию, — сказал он громко. — Не знаю, стоит ли радоваться…
— Англичане не лучше немцев, — тихо, но отчетливо сказал Тигранов.
Вся камера замолчала.
Пушки громили осеннюю непогоду.
— Хоть сам дьявол, только б не большевики, — крикнул кто-то с нар, и камера опять заговорила.
Генштабист, опустив ноги, прочел лекцию об интересах и притязаниях Британии на Кавказе и на афганской границе.
Но нефть и марганец — все это было далеко. Пушки не смолкали. Гул выстрелов, казалось, приближался…
На другой день был тот же суп из воблы, но со Сверчковым больше никто не разговаривал, никто не предлагал свернуть папиросу.
«За то, что я думаю несколько иначе, они готовы уморить меня голодом, — расстраивался Сверчков. — Этот, с пробором, линялый блондинчик, похож на гимназического товарища — сына прокурора, который не хотел со мной играть потому, что я сын механика. А черный гусар… Стал ли бы он говорить со мною на воле? Будет глупо, глупо, трижды глупо, если именно меня угробят большевики. Я ближе к ним, чем все эти штаб- и обер…»
— Смирно! — скомандовал человек в кожанке.
В коридор вносили два стола. Какие-то штатские поди усаживались на стульях.
— Подходить по одному.
Штаб- и обер-офицеры потянулись к двум столам.
У тех и других спрашивали род оружия, чин, боевой стаж, ордена. Опрошенных отпускали в камеру.
Но отпущенные не ложились спать.
Около семи утра человек в кожанке вошел в камеру, назвал по бумажке фамилии генштабиста, военного инженера — генерала и артиллерийского полковника.
— Собрать вещи и — в контору, — сказал он, уведя глаза к потолку.
Генштабист спрыгнул с нар в домашних туфлях. Он подошел к месту, где лежал знакомый кавалерист, и, отведя его в угол, что-то долго шептал на ухо.
Сверчков, как и все, смотрел на шепчущихся.
Три человека с мешками и свертками в руках стояли у дверей.
— Ну, простите, господа, — сказал генштабист. И все ему поклонились. — А ты не забудь, если что…
— Хорошо, не беспокойся, — ответил кавалерист.
Глава XIII УДАР ЗА УДАР
В окнах, выходивших на море, не хватало стекол. Ветер врывался в камеру, и мигалка над дверью коптила и волновалась. Резкие тени метались по стенам, по нарам, по закопченным потолкам.
За дверью вздыхал и посапывал пожилой красногвардеец, исполнявший обязанности часового. Люди в камере спали неспокойным, нервным сном заключенных.
В углу на нижних нарах кто-то молится частым шепотом. Это мягколицый, как скопец, военный казначей. Кавалерист у дверей вскрикивает тонким альтом. Там и тут, не раскрывая глаз, расчесывают спину и ноги. Железные кровати ржаво скрипят под ворочающимися телами.
Сверчков, положив голову на кулак, смотрит во мрак камеры. Заснуть не удается.
Сон — это спасение. Но как уснуть, если под самой кроватью у изголовья — чтобы не украли — стоит горшок с тушеной говядиной и почками? Чужой горшок. Этот немчура Гирш получает от сестры каждые три дня наполненный мясной тюрей глиняный горшок. Карандашом он отмечает на стенках, сколько можно съесть в обед. По нескольку раз в день заглядывает внутрь. Он отчисляет остаток и на день передачи — на всякий случай. Он боится оставлять свои запасы на окне — ведь стащили у Трифонова корзину с сандвичами и куском осетрины.
Утро. Скорее бы утро. В бессонной ночи его тусклый свет кажется спасительным, его медлительное движение похожим на жизнь, его неверные надежды сулят письмо, вызов, освобождение…
Сон подкрадывается, как туман в горах, — он приближается, готов коснуться и вдруг поглощает все, незаметно подменяя самую мысль о сне.
Кончался август, и в одно мокрое утро все двери оказались на запоре. За кипятком отпускали только выборных от камер. В коридорах шагали красногвардейцы с винтовками. По камере поползли слухи, один нелепее другого. Шептали на ухо о заговоре в Красной Армии, о войне с союзниками, о высылке всех бывших офицеров на Волгу.
На поверке одного не досчитались. Искали пропавшего в уборных, в подвалах, где кипяток. Маленький юркий человек с глазами провансальца исчез, как будто прошел сквозь стены.
Тогда все разговоры свелись к бегству француза.
В сущности, бежать из этой казармы было несложно. Администрация неопытна. Красногвардейцы мало бдительны. Это ничего, что в глазах у иных прочно и настойчиво угнездилась ненависть к офицерам. Где она подхвачена, эта ненависть? В каких казармах? В каких окопах? Подарил ли ее рукоприкладчик, или барин, свысока взирающий на «серую скотинку», или либеральный плут, прячущий под замшей идеек острую, быстро пробегающую в крови злость к осмелевшим и восставшим? Или, может быть, родилась она на военном заводе у станков, или в штрафном батальоне, на офицерской кухне, в музыкантской команде, дующей марши на сорокаградусном морозе? Офицер эту ненависть понимает, чует, как мышь кошачий запах, и боится мистическим, не до конца осознанным страхом. Может быть, японский рыбак с восточного побережья так боится большого тихоокеанского тайфуна, землетрясения, волны, которая, придя, смывает с островов все живое и мертвое, принадлежащее человеку.
Но и с ненавистью в глазах и углах большого сжатого рта эти люди — не тюремщики. Проскочить через караул, через контору и — улица. А народ в конторе бывает разный. Все серы и однообразны.
Никто до сих пор не бежал, потому что кажется арестованному офицеру: вытерпишь — выпустят, а пытался бежать — значит, повинен в заговоре или востришь лыжи на Дон, на Кубань, к Корнилову.
Француз сбежал — значит, так ему было выгоднее.
Теперь одни полагали, что весь шум из-за бегства арестованного. Другие считали: француз бежал, почуяв недоброе.
День кончился. Ночь медлительным облаком, пропахшим керосином, потом и прелой едой, опять проползала над камерой.
Наутро вставали, мылись, ходили в уборную еще в туманной полутьме. Поев, сидели на койках. Военный интендант пространно рассказывал соседям о нравах старого интендантства, о генерале Данилове, о ставке, о царицыном любимце князе Орлове. Он говорил давно известные вещи, но говорил едко, злым тоном человека, который все это сам видел, слышал, раньше молчал, а теперь не считает нужным. В аристократическом углу брезгливо морщились морские офицеры.
Казначей с лицом скопца, что-то шепча себе под нос, роется в узле с грязным бельем. Вот нашел носки. Пальцами раздирает он крохотную дырочку. Все смотрят на него с изумлением, а он, забываясь, шепчет:
— Пусть дома сидит, дома сидит, носки чинит, не шляется.
И всем становится смешно и грустно…
У дверей на нарах играли в преферанс. Двое, согнувшись, лежали у стены, то и дело выводя веер карт на свет ночника.
— Как-то нехорошо, — сказал остзеец Гирш.
— Что, предчувствие? — храбрясь и небрежничая, спросил технолог.
— Мы ведь не в театр, — обиделся Гирш.
— Чего же вам бояться? Вы ведь переходите в германское подданство. Вы, можно сказать, барин.
— Уже вторую неделю нет ничего из консульство, — нервно, словно ему разбередили рану, вскинулся Гирш. — Я не знаю даже, что думать. Может быть, переменился консул?
— А я думал, у вас порядок — все в два счета…
— Разве в вашей страна есть порядок, есть нормы?
— А вы где, собственно, родились?
— Где бы я ни родиться, я остаюсь германец по крови.
— Кровь течет одинаково… всякая… одинаково, — раздумчиво говорил теперь в сторону технолог.
— Черт знает, что такое вы городите…
— Господа, что мы сидим, как кролики? — возмутился Карпов. — Надо спросить, в чем дело.
— А в чем же дело? Какое дело? — напустился на него военный казначей, прервав молитву. — Никакого дела и нет. И не о чем спрашивать. И не о чем говорить… — он широко размахивал рукой. — Вы еще действительно придумаете дело.
Этот человек боялся больше всех. От его слов и выкриков одним стало страшно, другим спокойно.
Сверчков хотел было выйти в коридор.
— Нельзя, — коротко сказал красногвардеец. — Сегодня нельзя.
В девять была поверка. Все, кроме француза, отозвались.
В десять часов артиллерийский капитан заметил в углу у окон крысу. Он прицелился и сапогом ударил в угол. Крыса метнулась под кровать.
Вся камера ловила крысу. Раздвигали кровати, сорвали с нар узкую доску с гвоздем. Сторожили у стен и по углам. Самые ленивые, приподнявшись, следили за охотой. Шаркали ногами, чтобы крыса не скрылась под нарами. Крыса метнулась к двери и здесь была застигнута ударом доски. Вытянув острый, как копье, хвост, она лежала у самого порога. Старик красногвардеец отпер дверь и посмотрел на нее через порог.
— Надо убрать, — сказал Гирш. Он подошел к крысе, обернутыми бумагой пальцами взял ее за хвост и, сказав: — Я в уборную, — вышел из камеры.
Вернулся он бледный, шатающейся походкой. На пороге, ослабев, припал к дверной раме.
— Что, голова кружится? — спросил бритый полковник.
Гирш протянул ему обрывок газеты:
— Отдать надо, из второй камеры… — и. шатаясь, держась за края нар, побрел на место.
Над обрывком наклонилось несколько человек. Одновременно вся камера двинулась к двери.
— По рукам передадим, не толпитесь, господа, — предложил полковник. — Прочесть следует всем… и приготовиться.
Читавшие были теперь бледны, как Гирш.
— Что там? — спросил Сверчков.
— Сентябрьская резня…
— Где, в Петербурге? Но ведь еще август.
— У нас, здесь… будет, — громко выкрикнул Гирш.
Передовая «Красной газеты» шла по рукам.
— Вслух читайте, вслух, — заплакал богомольный казначей.
— Не надо, — крикнул полковник. — Каждый про себя. Убит Урицкий. Ранен Ленин. Дальше… всякому понятно.
Сверчков увидел крупным шрифтом набранные строки: «… На белый террор контрреволюции мы ответим красным террором революции».
«Консьержери! — прошло в памяти Сверчкова. — Как это было?»
«…За каждого нашего вождя — тысячу ваших голов», — кричали страницы газеты.
У Сверчкова к горлу подкатывался мутный комок. Все ясно. Удар за удар. Объявлен красный террор. Настанет день — с фабрик, с заводов хлынет неотвратимая толпа. Конечно, первыми падут заключенные офицеры. Враги. И ничего, ничего нельзя сделать. Какой умница этот француз. Был единственный шанс. И он использовал его. Он украл его у других заключенных. Может быть, даже у самого Сверчкова.
«…Кровь за кровь», — лихорадочно читал Сверчков.
«…Довольно красить наши знамена алой кровью борцов за народное дело. Довольно щадить палачей и их вдохновителей».
«…Не стихийную, массовую резню мы им устроим — о нет».
— Ах, так! — вздохнул с облегчением Сверчков.
«В такой резне, — читал он дальше, — могут погибнуть и люди, чуждые буржуазии, и ускользнут истинные враги народа».
«…Организованно, планомерно мы будем вытаскивать истинных буржуев — толстосумов и их подручных».
«Но ведь я не толстосум и не подручный!..» — Сверчков почти успокоился.
Он не подходит ни под один из этих пунктов. Это не о нем… Это об этих тупоголовых корнетах, которые ждут англичан, немцев, кого угодно, о таких, как Глобачев или Карпов.
Но ведь он брошен в одну камеру с ними. Ошибки неизбежны. А если роковая ошибка уже совершена?..
Отчаяние возвращалось…
«Но я ведь не русский, не русский… — тормошил его за рукав Гирш. — Я, может быть, принят в германский подданство»…
— Но ведь большевики никого не расстреливали, — вполголоса скулил технолог.
— Пока их не трогали, — прищурил глаз полковник. — Объявлен террор. Вам это понятно?
— Неужели допустят?
— Кто? Кто может допустить или не допустить? — рассердился полковник. — Антанта, что ли? — Он отвернулся.
Тогда полилась ругань. Французам, англичанам, американцам, немцам — досталось всем.
Сверчков чувствовал себя опустошенным. Нет, никого убивать он не хотел и не хочет. Никаких корпусов, ни английских, ни американских. Пойди он в Красную Армию еще весной, он был бы свободен, сыт, с более спокойной совестью, чем здесь, среди этих зубров, забывших обо всем, кроме собственной шкуры.
Тянулись часы ожидания. Страх сменялся апатией. Перегаром ненависти и испуга чадили сто человек. Иные про себя переживали в холодном поту смерть от насилия. Иные взлетали от животного страха к необъяснимой и неоправданной надежде. Все были измучены. Ночь застала скошенные усталостью головы, оцепеневшие, бессильно повисшие руки.
Приморским казармам не выпала на долю судьба парижского монастыря Консьержери — темницы аристократов.
Красный террор пошел своими путями, переступив через желтую казарму, в которой были заключены офицеры Народной армии, единомышленники которых громили Ярославль, убивали Нахимсона.
Глава XIV СЛЕДОВАТЕЛЬ
Тянулась неделя за неделей. В камере не убывало и не прибывало народа. Было ясно — заключение когда-нибудь кончится. Было ясно, что никого не расстреляют и не разорвут на площади перед тюрьмой. Но никто не знал, не догадывался, когда же придет конец отсидке. На этот счет не было даже слухов. Все сошлись на мысли, что арест массы офицеров, как и говорил Урицкий, — предупредительная мера, понятная даже врагу. В эти дни организовалась обширная российская Вандея. В Сибири и на Урале вчерашние демократы требовали военной диктатуры. На Кубани, после первых поражений, возрождались добровольцы. На Дону захватывал власть союзник немцев — Краснов. По всем окраинам строились в ряды все, кому не по нраву была большевистская власть, стремившаяся уничтожить прекрасное неравенство — соль жизни, право на кропотливую борьбу, на житейскую обольстительную удачу.
В среде застрявшего в столицах офицерства шныряли вербовщики-агенты всех окраинных правительств. Каждый поезд на север, юг и восток увозил бойцов:
к учредиловцам,
к Чайковскому,
Деникину,
Дутову,
на Дон,
на Кубань,
за Урал…
В ответ пролетариат брал на замок резервистов врага, его пополнения и маршевые роты.
Черный гусар формально был принят в германское подданство, о чем сообщила через Красный Крест из Гельсингфорса его мать, урожденная прибалтийская баронесса. Трое украинцев, еще до ареста подавших заявление гетманскому консулу, ждали «посвичення» из Киева. Плохо говоривший по-русски военнопленный венгр каждый день спрашивал надзирателя, нет ли писем из Будапешта. Иные жили то вспыхивающими, то затухающими надеждами на родственные связи в Финляндии и Польше.
Но почта восемнадцатого года была капризна и равнодушна, как лотерейное колесо.
Дмитрий Александрович ничего не ждал.
Когда желающим предложили идти на разгрузку прибывших в порт угольщиков, Сверчков вызвался первым.
Сквозь полотно дождя не виден был город. В тумане шли безликие берега канала. Катер, управляемый людьми с красными звездами, незаметно оказался у черного, поднимавшегося во мглу высокого борта.
Работал кран. Огромный хищный зев раскрывался высоко над головой, и беззубые железные челюсти вгрызались в блестящие кучи угля. Действуя остатками сил, возбужденный воздухом, Сверчков подбрасывал уголь лопатой, тащил граблями из дальних углов трюма. Часто отдыхал. Задыхался, потел, хватал сырой воздух с угольной горечью, как целительное средство.
Матросы в покрытых угольной пылью липких брезентовых плащах ходили по мосткам и по палубе. Высоко на командирском мостике стоял равнодушный ко всему штурман. Младший механик, проходя, сунул Сверчкову кусок серого хлеба, на котором угольными пятнами отпечатались все пять его пальцев.
Сверчков тут же отставил лопату и, сев на уголь, стал жевать рыхлую корку.
Люди с красными звездами не понукали работавших. Иногда они брали у заключенных лопату и сами гребли уголь.
В полдень просвистали отдых. В четыре увезли заключенных обратно в морские казармы. Здесь повеселевших людей ждал дымящийся суп с невыбранной воблой и паек — фунт серого, еще теплого хлеба и две банки мясных консервов на человека.
Это был лукуллов пир для Сверчкова. Он лег в этот день спать с ощущением сытости и теплоты в желудке. Это было почти блаженство. Он вспоминал виденных в детстве землекопов, которые после рабочего дня валились спать, не выпустив еще ложку из плохо разгибающихся черных пальцев. Он вспоминал каменщиков, в июльскую жиру поднимавших козу с пористым кирпичом на леса пятого этажа и засыпавших на солнце, раскрыв ему навстречу черную щель рта. Он думал: не в этом ли счастье жизни? Панацея от всех душевных и телесных страданий, Заслужить немудрым и тяжелым трудом право на такую святую усталость, когда пища и сон превращаются в нектар и забвенье…
Перестал думать и уснул.
Грузили уголь пять дней, и у Сверчкова создался запас консервных банок. Он продолжал съедать по одной банке в день, но теперь и этой пищи не хватало. Через несколько дней голод грозил вернуться во всей прежней силе…
Но в серый день с низким небом за решетчатым окном, когда еще в газете под кроватью оставалось две банки, Сверчков был вызван в контору.
Человек, который ожидал Дмитрия Александровича, ходил по комнате вокруг тонконогого и шаткого стола. У него была шапка волос, походившая на незаконченное воронье гнездо, полные губы и впалые щеки. Руки его, тонкие, вероятно слабосильные, все время были в движении. Они куда-то спешили, они поспевали быстрее хозяина. Кивком головы он поздоровался со Сверчковым, сбегал в соседнюю комнату и принес второй стул. Сел, положил локти на стол и предложил Сверчкову папиросу.
Сверчков не успел почувствовать в следователе неврастенического человека, все время подергивающего носом и перебирающего пальцами. Перед ним уже сидел человек с собранным внутренним хозяйством. Неяркие и небольшие серые глаза глядели даже проницательно.
После обычного опроса: имя, возраст, семейное положение — следователь спросил:
— Вам предъявлено какое-нибудь обвинение?
Сверчков хотел было возмутиться, как возмущался он в первые дни заключения: Но из этого ничего не вышло.
— Нет… никакого… — подумав, спокойно сообщил он.
— Ну, это хорошо.
Сверчков пожал плечами.
Следователь полистал какое-то скудное дело, все из клочков и списков, и спросил:
— Как вы к нам относитесь?
Сверчков понял, что дело идет о Советской власти.
— Я вам не враг. И мне очень обидно…
— Не нужно обижаться, — перебил следователь. — Если только действительно не враг… Вы не состояли в какой-нибудь противосоветской организации?
— Решительно ни в какой.
Казалось, следователь поверил Сверчкову. К тому же листки и списки, видимо, не свидетельствовали против Дмитрия Александровича.
— Прекрасно. Я ценю ваше желание уверить меня в этом. Знаете, — откинулся он на стуле, — мы, большевики, тем и сильны, что у нас больше друзей, чем мы даже сами об этом думаем. Мы находим все новых каждый день. В самом неожиданном человеке сидит в каком- нибудь закоулке его души большевик. Только он, так сказать, в цепях… не на свободе.
Следователь встал. Сверчков сидел, а он ходил по пустой комнате и говорил, отпустив на волю быстрые руки. Сверчков подумал, что теперь следователь в своей настоящей роли.
— Ведь вы — интеллигентный пролетарий. Вам, в сущности, так легко стать союзником настоящего пролетария. Таких, как вы, привязывают к буржуазному обществу две вещи…
Сверчков решил, что следователь отнес его к одной из категорий, уже выявленных чекистской практикой, и вымученно улыбнулся. Но следователь не обратил внимания на улыбку Сверчкова.
Вы в будущем могли рассчитывать на твердый оклад, квартиру из пяти комнат и в тайниках души лелеять надежду на слепой случай, который вознес бы вас еще выше. А в школе вам преподнесли историю вашего народа и всего человечества в таком виде, что все это рисуется вам во вполне благопристойном виде. Но подумайте, как все это мелко…
Дальше все походило на статьи газет, речи Чернявского…
Сверчков сказал, что он немного знаком с марксизмом и уже давно находится под влиянием знакомых большевиков. Например, товарища Чернявского… Он решил давно идти работать к большевикам, и вдруг… арест.
Сверчкову казалось, что здесь следователь должен устыдиться. Но следователь остановился у стола, подумал и решил:
— Вот это хуже…
Сверчков смущенно замолчал.
— Иметь готовое решение… такие связи, здоровье — и быть вне Красной Армии!.. Когда решается судьба революции. Еще попасть под арест. Мне это непонятно.
Его худые пальцы вздрагивали на краю стола.
— Если вместо Красной Армии вы примкнули к людям, которые готовились использовать формирование Народной армии против нас, — вы мало поняли в марксизме. Вам нужно еще смотреть, учиться. Надо понять. — Следователь даже притопнул ногой.
— У вас тут и то насмотришься! — воскликнул Сверчков.
— А что?
— Да так, вообще… — промямлил он, и следователь, посмотрев на него внимательно, сказал:
— Я, кажется, понимаю… Ну ладно, — встряхнул он кудлатой головой. — Завтра, самое позднее послезавтра, вы выйдете на свободу. Позвольте мне дать вам один совет.
— Я слушаю.
— Идите инструктором в Красную Армию. Нам предстоит большая война. За нами — миллионы, и мы будем защищать республику, нашу Родину, нашу прекрасную страну.
— Я согласен, — сказал Сверчков.
— Отлично… — следователь показал широкие, крепкие, но прокуренные зубы.
Глава XV БУГОРОВСКИЕ
В маленьких комнатах, оставшихся Бугоровским от роскошного бельэтажа, водворилась «жизнь сквозь слезы». Так неожиданно выразилась тихая, неизобретательная Нина. Коридоры были до потолка завалены вещами и мебелью. У стены, мешая ходить, высились горки стульев, шкафы и этажерки. Антресоли ломились под тяжестью глобтроттеров, сундуков и баулов. Шторы на окнах целый день были опущены, как будто хозяева решили отгородиться от самого света и воздуха, которым дышала ненавистная революция. Ложились рано, но засыпали только под утро, когда уже проходило время обысков и налетов, и потому вставали поздно, с тяжелой от непроветриваемых помещений головой.
Мария Матвеевна плакала неслышными слезами весь день. Она могла измочить дюжину платков. Глядя на нее, время от времени плакала Нина. Ей было жаль родителей. Жаль прекрасной отнятой у ее семьи квартиры, жаль золотистых рысаков, реквизированного автомобиля, но чаще всего у нее выступали слезы при воспоминании, как плакал на её глазах живой, энергичный, всегда веселый и самоуверенный отец.
Это случилось за столом. Оставшаяся у Бугоровских повариха Марья внесла миску с супом и сказала:
— Не знаю, чем завтра плиту растоплять. Дрова комитет взял на учет. Вы бы, барин, пошли спросили. Чтоб на вашу квартиру дали сарайчик какой.
Ножом полоснуло по сердцу банкира Бугоровского невинное слово «сарайчик». Он хотел крикнуть Марье: «Что ж, я буду заниматься дровами для плиты?» — но не успел, захлебнувшись в большом и страшном сознании, что ему придется заниматься не только сарайчиком, но и подметками, и картошкой, и если эта добрая женщина покинет их — то и готовить кашу на примусе. И это после Государственной думы и Предпарламента! Подбородок Виктора Степановича дрогнул, словно собирался отвалиться вовсе, он уронил ложку, всхлипнул и вышел в кабинет. В столовой ели суп пополам со слезами.
И Марья рыдала щедрой старушечьей слезой тут же в столовой, облокотясь о косяк двери.
Не плакала одна Елена. Она съела суп, немного мяса и, уйдя к себе, принялась за акварель, как будто ничего не случилось. Единственное в квартире открытое и незанавешенное окно было в ее комнате. Не надевая шляпы, Елена отправилась к Евдокимову на весь вечер.
На пустынной площадке седьмого этажа она стояла долго. Окно показывало бесчисленные прямоугольники крыш. Над самым куполом далекого собора неслись клубчатые облака, и колокол гудел тяжело и непокорно.
Уже месяц как они близки, но Николай никогда не знает, придет ли в этот день к нему Елена и что вообще толкнуло в его объятия эту девушку. При ней он болтал без умолку, и уголь проворно летал по большим листам. Появлялись неожиданные фигуры, тела, фасады, ветви ив. Так пианист берет аккорды в помощь мыслям и фразам напряженной беседы у рояля… Он рвал листы ватмана и доставал новые. Когда Елена уходила, Николай вздыхал с облегчением, но потом опять мучительно ждал ее прихода, боялся уходить из дому, боялся, чтобы она не застала его без воротника, за едою, за бритьем. Елена приходила, шла к мольберту, осматривала очередную работу и, кутаясь в платок, замирала «в своем углу».
Она была хороша, как ни одна женщина, какую он когда-нибудь знал. Иногда ее платок, согнутые колени, носки туфель вылетали из-под его карандаша, но эти бумаги, листы альбома он сейчас же бросал в огонь и никогда не рисовал ее лицо.
В самый неподходящий момент он вспоминал ее в блистающем лаком ландо с золотистыми рысаками, в желтой нарядной машине, в парижском выходном костюме — и не мог представить себя рядом с ней. Здесь, в мастерской, в большом платке, она была иная. Но и здесь он не знал никаких путей к ней, и, если у него стучало в висках при воспоминании о ее волнующей красоте, если он был один, он кричал себе громко: «Эй, Колька, не распускаться!» А если это случалось на людях — он отходил в сторону, не договорив фразу…
Он знал, что революция наносила удар за ударом ее отцу. Но ему не жаль было Бугоровского, как не жаль было всех вообще миллионеров в мире…
Однажды, проходя по улице, он увидел, как лакей и девушка проносили через двор на черную лестницу вещи Бугоровских, а в окнах бельэтажа мелькали необычные фигуры в платочках, фуражках и кепках.
Елена пришла к нему в тот же вечер. Так же сидела на тахте. Так же молчала и слушала. И мелькнувшая в нем жалость к ней показалась ненужной. Она, казалось, не участвовала в этих событиях. Она присутствовала, как статуя или как портрет из галереи предков, равнодушный к падениям и взлетам людей новых поколений. И когда Николай спросил ее, удобно ли будет ей теперь, она ответила:
— Еще не прижилась, не знаю.
Но в этот день она не уходила долго. Евдокимов устал говорить. Елена даже репликой не отвечала на его рассказы. Было темно, и внезапно он услышал ровное дыхание девушки. Елена спала. Тихо, почти беззвучно, но глубоко. Вероятно, она устала за эти дни. Николай, стараясь не шуметь, смотрел на гостью. Волосы, слегка небрежные на висках. Длинные пальцы собрали платок. Мягкие круглые колени. Она впервые показалась уютной, домашней. Это была «Усталая женщина», не раз просившаяся на полотно и откладываемая за отсутствием модели.
Евдокимов снял со стола альбом, но было так темно, что уголь не взял бы эти тени без линий. Ровно поднималась грудь девушки. Ночь осенняя, с тяжелым, близким горизонтом, легла на прямоугольники домов. Он хотел было встать у тахты на колени, но девушка вздохнула, открыла глаза и посмотрела в окно.
— Это славно. Заснуть в гостях.
Может быть, она подумала еще что-то, но поднялась и стала прощаться. В этот вечер у нее были ленивые и теплые руки.
На другой день Елена пришла поздно, как никогда не приходила.
— У нас все плачут, — сказала она. — А я не могу ни плакать, ни сочувствовать.
Впервые, как другу, она принесла ему свои раздумья.
Николай усадил ее на тахту и сам не ушел к мольберту, не зажег свет — он поджидал ее в сумерках, уже отчаялся и глядел на улицу с высоты своего стеклянного гнезда, утратив ощущение времени.
— Вы сочувствуете революции, Елена Викторовна? — вдруг спросил он.
— Я? — удивилась она чрезмерно и тихо засмеялась. — Какой вы мальчик. — И вдруг пальцы ее легли на его руку.
Это было невероятно, и это было могущественно, как ток. Замирая, он смотрел ей в глаза, почти невидные в темноте, думал с тоской, что вот сейчас она снимет пальцы и у него не хватит смелости их удержать. Но Елена не убирала руку — он сам взял ее ладонь, и тогда началась та первая, на всю жизнь незабываемая игра, в которой участвовала вся его воля, вся нежность, вся боязнь, вся неловкость и вся страсть…
Елена оставалась до конца неожиданно, невероятно покорной и ушла от него только утром, такая же внешне спокойная, — тогда как он был измучен, как никогда в жизни.
Слезы, злые и тихие, помешали Бугоровским заметить первую ночь, которую «принцесса грез» провела не дома.
Заметила ее поздний приход только Марья, отпиравшая кухонную дверь, но она была чрезвычайно тактична, эта простая женщина, и никому ничего не сказала.
Бугоровский, раз не выдержав характера, стал распускаться. У него появилась невралгическая дрожь в правом веке. Он все чаще запирался в своем кабинете, ходил из угла в угол, устав, падал на диван. Он размышлял мучительно и зло над своим падением. Он философствовал. Вернее, за него философствовала его злость. Мысли о «равенстве», о том, что «собственность — это воровство», о том, что «цыпленки тоже хочут жить», о том, что «рабочий класс в России бедствует», о том, что «революция — это факт и от нее не спрячешься», — мысли, которыми еще недавно он кокетничал перед своими конкурентами, — теперь приводили его в бешенство. Он запутался, как гимназист, в своем «свободомыслии». Все это — чепуха. Революция — это бунт против всякого порядка. Все это издали, в неопределенном будущем могло выглядеть иначе, но теперь… Отвратительно то, что другие видели это и раньше… А он… Понадобилось, чтобы кулаком разбили ему розовые очки. Теперь все доброе и злое полетело на одну свалку… Человечество, конечно, увидит, что такое революция. Человечество поймет… оно осудит… Но что ему до этого, ему — Бугоровскому? У него осталась единственная надежда — гроши, переведенные в Стокгольм, да куча акций, которые не стоят сейчас бумаги, на которой они напечатаны. И где он теперь, этот Стокгольм?
В конце октября Марья доложила, что на кухне спрашивает Виктора Степановича «какой-то господин». Уже давно никакие «господа» не посещали Виктора Степановича, и он двинулся на кухню самолично. Сначала он не узнал худого человека в котелке и полосатых брюках под демисезонным пальто. Потом изумился, даже обрадовался, но приветствовал сдержанно и повел в кабинет.
Гость только здесь снял пальто, бросив его через спинку кресла, осмотрелся, закурил и начал:
— Позвольте мне без предисловий, Виктор Степанович.
Но Виктор Степанович уже давно знал, что Леонид Иванович Живаго не любит предисловий. Это был один из китов делового мира, сравнительно молодой, преуспевающий промышленник, прозванный за напористость, за большой характер и ясность суждений Александром Македонским. В последние месяцы Временного правительства некоторые круги прочили его в экономические диктаторы. Он вел крупные дела с иностранными фирмами, был в курсе международных биржевых конъюнктур, на столе у него всегда лежали свежие «Экόномист» и «Берзенцейтунг», во время войны он не раз ездил в Стокгольм и Копенгаген. По-видимому, его личное состояние было не слишком велико, но банки охотно имели его своим эмиссаром, платили сверхминистерскке оклады, и влияние его на деловую жизнь столицы было весьма заметно. Тесным образом он был связан и с банком Бугоровского.
— Как ваше самочувствие, дорогой Виктор Степанович?
Эта фраза была рассчитана на то, чтобы сразу оживить в Бугоровском весь калейдоскоп переживаний за последнее время. Так и случилось. Бугоровский не в силах был даже сказать что-нибудь, он издал неопределенное мычание. Но нервные жесты дополнили картину.
— Вот мы и доигрались, Виктор Степанович, — сказал Живаго, пустив дым в потолок и вытягивая сухие ноги. Эта поза, эта струя дыма и эти слова раздражали Бугоровского. Ведь это же и есть предисловие. Гость, по-видимому, понял смысл молчания хозяина.
— О прошлом не будем говорить, — сказал он резко. — Из прошлого следует только извлекать уроки. — Он наклонился над столом. — Вы интересуетесь вообще положением вещей?
Бугоровский пожал плечами.
— Я вас информирую. Посольства, возмущенные предательством на фронте и беспрецедентной разоблачительной деятельностью большевистских дипломатов, покидают Россию. Положение не проясняется, но определяется. В конечном счете это означает, что у нас возобновится фронт либо с немцами против Антанты, либо с Антантой против немцев. Принципиально это не делает разницы, но предвидеть необходимо обе комбинации.
«Я безнадежно отстал, — размышлял про себя Бугоровский. — Откуда фронт? Какие комбинации?»
Живаго нетрудно было следить за его мыслями.
— Вам надо встряхнуться, Виктор Степанович, бросить философию, возобновить связи. Нам растеряться — смерти подобно. От нас ждут действия и руководства. А руки найдутся.
— Не вижу рук… Рук-то не вижу, — впервые нарушил молчание Бугоровский. — Все руки у них.
— Вы не учитываете, что голод, нищета, безработица, развал армии бьют теперь уже не по нам, а по самим большевикам как носителям власти. У вас, простите, свои болячки, и вы не замечаете, что враг-то при смерти. Солдат на фронте обеими руками голосовал за большевиков, но вернется он к завоеванной земле и свободе, да как начнут у него выкачивать: сегодня — хлеб для армии, завтра — картофель для города, послезавтра — лошадь для транспорта — он заговорит другое. Да и рабочие… Без сырья, без топлива много не наработаешь. Завтрашний день, поэтически выражаясь, уже глядит через околицу. Нужно быть готовым.
Все это было вовсе не глупо. Все это по плечу было сообразить и Бугоровскому. Он взял стул и подсел к Живаго. Делец понял, что он завоевал внимание хозяина.
— Но вы не думайте, глубокоуважаемый Виктор Степанович, что можно выждать здесь, — он обвел комнату рукой и взором, — покамест ваши рабочие придут и позовут вас «володеть ими, творить суд и расправу». Я предостерегаю всех моих друзей от недооценки большевиков. — Он поднял голову: — Большевики — это серьезный враг. Каждому из нас следовало бы изучать Ленина. Я перечел все, что печаталось у нас и за границей. Это не секта, это — новая религия. (Это, видимо, был его конек.) Но она стала на нашей дороге, на дороге молодого, развивающегося, еще только воспрянувшего к жизни класса. Ведь мы с вами, — патетически воскликнул Живаго, — еще слишком молоды. В могилу ли нам? И потому я так их ненавижу, — Живаго вдруг задохнулся. — Я обещал вам без предисловий… Впрочем, что считать предисловием? Теперь к делу. Я предлагаю вам уехать, Виктор Степанович… Да, уехать. С семьей, конечно. В Финляндию. Дальше? Приведя в порядок финансы, — у вас в Стокгольме, кажется?
— Пустяк какой-то…
— Вы захватите с собой портативные ценности, акции. На лондонской бирже — они не бесценок. При известных условиях они поднимутся. Их и сейчас скупают иностранные дельцы в расчете на установление порядка, при котором впрыскивание иностранного капитала в Россию неизбежно. В случае крайней нужды я мог бы часть акций реализовать и здесь, в посольствах, с которыми у меня налажены связи. Но дипломаты берут их по бросовым ценам… Сейчас вы переедете либо в Ревель, либо в Сибирь. Куда-нибудь, где у нас развязаны руки. В Сибири действует сейчас Колчак. У него прекрасные связи с англичанами. На Черном море он проявил энергию и волю — ему можно довериться… В Финляндии «Особый комитет по делам русских» в руках у Трепова. Да, того самого. Овощ не ко времени, но все-таки… — Живаго сделал брезгливую мину. — Гораздо лучше «Ревельский русский общественный комитет». Там все свои… Лианозов, Маргулис, Карташев. В Париже — Гучков. Вас ценят, Виктор Степанович. Там ваше место. Нам помогут союзники. Пройдут испытания, и в нужный момент вы, уже не как варяг, а как хозяин, справедливый, но строгий, придете на свой завод и вышвырнете этот «клуб» из вашей квартиры.
— Вы полагаете, отъезд можно организовать?
— С небольшим риском. Позже будет сложнее.
— А сами вы почему же?..
— Я — мелкий служащий одного из посольств по частному найму. Но я на посту. — Живаго улыбнулся. — Я хочу, знаете ли, своими руками… — Глаза его стали жестокими. — Хочу иметь радость первого упоения победой… А в победу я верю, как в бога…
До поздней ночи оставался Живаго в кабинете Виктора Степановича. Туда им принесли кофе, и они шептались, склонившись друг к другу, иногда прислушиваясь с улыбкой, не предвещавшей ничего доброго, к звукам рояля, доносившегося из рабочего клуба.
Живаго уходил походкой переживающего нервный подъем человека.
«Обломало тебя», — думал он со злым торжеством о Бугоровском.
Живаго вспоминал этого живого, самодовольного человека-дельца в дни удач. Он щеголял умением соединять деловитость с «человечностью», доходы с либерализмом, хвалился, будто ему удалось лучше других уловить дух эпохи.
Какой-то парень не уступил Живаго дорогу и ненавидящим взором проводил господина в котелке. Это сразу испортило настроение Живаго — плечи его опустились, и походка увяла.
Через неделю раскрашенная, набитая сеном телега приняла в деревушке за Кавголовом тепло закутанных супругов Бугоровских и Нину. Останавливаясь, остерегаясь, по заболоченным берегам озер, по целине непрохожего леса провез их неразговорчивый карел глухой ночью, уже после петухов. Мария Матвеевна мелкими крестиками — руки связывала теплая шуба — крестила живот. Бугоровский весь был в будущем, а Нина дрожала в смертельном, сковывающем речь страхе. У нее всю дорогу мелко стучали зубы.
Елены не было. В последний момент она заявила, что остается в городе. На нее ринулась вся семья. Но спорить было бесполезно. Живаго торопил: возница мог уехать.
Оставшись одна в квартире, Елена сложила постель, белье и с узлом отправилась наверх, в мастерскую Евдокимова. Войдя, она бросила узел на пол передней и сказала:
— Я к тебе. Совсем. — И, не дождавшись ответа, прибавила: — Помоги мне. Там еще остались вещи…
Глава XVI К ЗЕЛЕНОЙ ЛАМПАДЕ
Около тридцати человек побывало у следователя. Всем была обещана свобода, и не замешанным в раскрытые заговоры было сделано предложение вступить командирами-инструкторами в Красную Армию.
Последние дни были самыми долгими из всех. Чтобы скоротать время, Сверчков с любопытством прислушивался к разговорам.
— Предпочитаю сидеть еще год… И два… В Нарым… но не идти к комиссарам в вестовые….. — нарочито громко, подняв голову, заявил Карпов. После этой фразы он оказался центром для всех, кому Красная Армия окончательно была не по духу.
— Но ведь вступать в Красную Армию необязательно? — спросил студент-технолог.
— Советуют…
— В Москве уже мобилизовали офицеров…
— Мне сообщили, что генштабист и два генерала получили высокие назначения, — заметил Гирш.
— И они согласились?..
— Если против интервентов…
— Нашлепать бы и немцам и союзникам…
К удивлению Сверчкова, кроме Гирша, технолога, который должен был кончать институт, и еще нескольких самых непримиримых, все остальные решили по выходе из заключения подать заявления о добровольном вступлении в ряды Красной Армии.
Сверчков вышел на улицу и сразу опьянел от осенней прохлады, от вида мокрых булыжников, от звона ковыляющих, разбитых за войну трамваев.
Он сел у пустыря на гранитную тумбу и пропустил несколько вагонов, глядя в хмурое небо, как будто, кроме неба, кругом нет ничего живого и ничего интересного…
Трамвай привез его к Адмиралтейству. Золотой кораблик на шпиле бежал по серым буграм туч на север. Геркулес стоял на месте, опираясь на светло-серую дубину. Дремал круглый бассейн заброшенного фонтана, весь в листьях и спичечных коробках. Редкие прохожие присаживались на скамьи и, выкурив папиросу, шли дальше. На руку Дмитрия Александровича упала капля дождя и принесла с собою заботу о жилище. Тюрьма отставила на время все обыденные, житейские мысли. Теперь они готовы были властно постучаться в дверь.
Конечно, прежде всего следовало отправиться на Крюков, в квартиру профессора фон Гейзена. За три месяца могло все измениться. Могли вернуться хозяева. Но могло и остаться по-старому. А если квартира занята, захвачена какой-нибудь организацией?.. Город поднимался в воображении хаосом улиц, домов, квартир и комнат, грозил не принять, оттолкнуть в сторону, не дать места в миллионах своих освещенных и теплых клетушек.
На третий, неуверенный звонок открыла Маша. Она всплеснула руками и, оставляя Дмитрия Александровича на площадке лестницы, стала расспрашивать, где он пропадал, почему такой бледный и заросший? От ее жалости Дмитрий Александрович почувствовал слабость и оперся рукою о косяк. Вырвав из рук Сверчкова сверток, Маша за рукав втянула его в переднюю.
Зеркала профессорской прихожей отражали в стеклянной ясности затертый паркет, раскрытую дверь в зал, пивные бутылки на камине рядом с севром, ковры, скатанные к стенам, галоши под пыльным роялем, неубранную половую щетку. На кухне Маша дала Сверчкову чашку суррогатного кофе, кусочек хлеба и нарезанный с луком вареный картофель.
Начались рассказы. Маша вздыхала, сочувствовала, перебивала. Катульские уехали. Ах да, это было еще при нем. Был обыск. Ульрих в тот день не ночевал дома. Наверное, от Катьки из окон он увидел свет в квартире и позвонил по телефону. Маша сказала про обыск, и Ульрих исчез вовсе. Катька приходила, забрала его вещи и еще прихватила летнее пальто профессора. Говорит, перепутала, обещала принести и вот так и несет до сих пор.
Маша постлала в темном кабинете профессорские простыни. Помывшись в ванне, растопленной остатками медицинского журнала, Сверчков уснул и проспал вечер, ночь и почти весь следующий день. У Маши готов был кофе. На столе стояла копченая селедка и в глиняном горшочке дымились тушеные сухие овощи. На блюдце — крохотный кусочек подозрительно белого некрепкого масла.
— Откуда это? — спросил Сверчков, чувствуя неловкость.
— Взяла штаны профессорские, серые, — сразу приступила к делу Маша, — и снесла на барахолку. Неделю проживете. Вон вы худой какой… А желтый… и ходите как — за стенки держитесь.
Когда «штаны были съедены», Маша спросила, что продавать дальше. Может быть, она думала о разделенной ответственности как о меньшем зле. Сверчков обошел с нею все десять комнат, наполненных ценными вещами и обывательским хламом, стеклом, фарфором, картинами, безделушками и тряпками. Скользящим взором, ничего не отмечая в памяти, он проходил по стенам, по столам, каминным доскам. Квартира все еще была в целости. Маша берегла хозяйское добро, как крепостные дворовые в месяцы господских разъездов. Огромный город опустел. Брошенных помещений сколько угодно. Никто не зарился на обычную буржуазную квартиру, в которой все еще теплилась жизнь.
Сверчков не имел понятия о рыночной стоимости всех этих вещей. Они были для него чужими и раньше, недоступными, не всегда понятными. А сейчас? Кому в голодном городе нужен качающий головою бонза с колокольчиком в руках, кукла Дон-Кихота, веер слоновой кости со страусовыми перьями или эта тяжелая, как гиря, хрустальная ваза с золоченым поясом?
Он предложил было продать круглое зеркало с хрустальными цветами, потом взялся за настольную лампу…
— Не то вы смотрите, — не выдержала наконец Маша. — На барахолке спрашивают платье…
Она повела его в темный закоулок коридора, где за длинными, до полу, занавесками прятались стенные шкафы, в которых разместилась бы со всей своей обстановкой семья рабочего.
Ключом со связки она отомкнула замок. Дверцы побежали на колесиках, и целый строй профессорских сюртуков, фраков, брюк, халатов выглянул в желтый просвет коридора.
Пока Сверчков допрашивал себя с пристрастием, чем отличается данный случай от обыкновенной вульгарной кражи, Маша длинной палкой с никелированным крючком извлекла сюртук дедовского покроя и разложила его во всей красоте в гостиной на диване. Шелковые лацканы мерцали на оранжевом шелку обивки. Длинные полы сбегали на пыльный паркет.
— На картузы берут, — сообщила Маша. — Сколько из него выйдет! — Она раздвинула полы обеими руками, как крылья большой убитой птицы. — Продали? — лукаво улыбаясь спросила она.
— Продадим, Марья Егоровна, — виновато улыбнулся Дмитрий Александрович.
«Неужели же я никогда не смогу отплатить фон Гейзенам за все это барахло?»
Маша пропадала четыре часа. У Сверчкова урчало в желудке. Он курил, и ему казалось, что дым облачком собирается где-то под ложечкой. Маша вернулась с фунтом масла, селедками и полкараваем хлеба.
Сверчков ел досыта. Он начинал чувствовать себя уверенно. В конце концов за его спиною стоит весь необъятный шкаф. Мораль и логика устанавливали неопровержимое равенство между первым сюртуком и хотя бы тем бархатным халатом, который совсем на виду. Так не все ли равно?
Наверное, Маша уже давно приступила к распродаже. На что же живет она сама? Да и как быть ей иначе?
По вечерам Сверчков ходил на прогулки. По пустынным набережным, по Летнему саду, наполнившемуся необузданной, плохо одетой детворой, которую, видимо, возмущали все в мире заборы и ограды, по дворцовым проходам и залам, открытым всенародной любознательности, по барским хоромам, украшенным наспех сделанными музейными надписями. Не встречая никого из знакомых, он оставался одиноким, но еще не томился своим одиночеством, потому что новые силы вливались в него каждый день, и эта игра полуосознанных ощущений в тайниках тела давала ему иллюзию полноценной жизни, движения и прогресса…
Сюртук кормил всю неделю, и пальцы Дмитрия Александровича приобрели уверенность. Он попробовал взбежать по лестнице, и это ему удалось. Сапоги, как прежде, звонко стучали по граниту. Иногда, оставаясь один, он делал гимнастику, затем пошел поднимать за края комоды, кровати, даже рояль, весело переживая ускоренный рост сил.
Маша смотрела на него с улыбкой сочувствия. Он был приветлив, вежлив. Он был благодарен ей, звал Марьей Егоровной и по вечерам старался веселить ее эпизодами из походной жизни, требуя взамен рассказов о тверской деревне, которую она покинула подростком и где у нее оставался женатый брат. Спал он по-прежнему долго. Иногда Маша обеспокоенно справлялась: здоров, ли он? Он лениво поворачивался в несвежих, но теплых простынях. Тогда она приносила ему в постель жидкий, но горячий кофе. Она была чернявая, высокая и уже немолодая, но с белой кожей и легким румянцем на щеках. Она шла ему навстречу во всем.
Все было просто и естественно, но, проснувшись утром не один, Сверчков подумал, что возложил на себя сомнительные обязанности…
Теперь Маша заботилась о Сверчкове со всей преданностью польщенной выбором жены. Перестирала его белье, отпарила и выгладила платье.
Пропустив, по совету Маши, несчастливый понедельник, Дмитрий Александрович отправился в штаб. Здесь в канцелярии окружного руководителя артиллерии, который неожиданно оказался седоусым генералом в серой барашковой папахе, он подал заявление. Отврук рассказывал каким-то штатским походные анекдоты и с внешней деловитостью пробегал и подмахивал бумажки. Сверчков прочел резолюцию:
«В зап. арт. див. Виленский 17».
Маша обещала в этот день вкусно кормить, и Сверчков решил, что Виленский не уйдет от него и завтра.
У Маши оказался целый план. Кроме вкусного обеда, были гости: подруга ее, демьяновская франтоватая горничная, и троюродная племянница, дочь старшего дворника с Екатерингофгского. Старший дворник долгой и верной службой завоевал доверие владельца и был сделан управляющим домом. Дочь его Валентина была воспитана, как городская барышня. На ней было тяжелое оливковое платье, ботинки со шнуровкой до колен, и голова была завита в маленькие мягкие кудряшки. Она была миловидна, уверена в себе и весела, как стрекоза. Уже через час, после рюмки очищенного спирта, она носилась по пустым комнатам, вскакивала с ногами на диваны, внезапно свертывалась кошкой и ничего не имела против, когда Сверчков целовал ее в темных углах. Она дурашливо хохотала, отбиваясь от более настойчивых ласк, и перебегала в другую комнату, где все начиналось сначала.
Маша, казалось, была довольна тем, что Сверчков держится как равный с ее родственниками. По уходе гостей она расписывала племянницу на все лады. Но появление девушки на другой день встретила непритворным изумлением.
Сверчков увел Валентину к себе под предлогом показа фронтовых фотографий, и девушка уехала с первым трамваем, когда Маша еще спала.
Маша не пришла к Дмитрию Александровичу ни в эту, ни в следующую ночь. Но он не придал этому никакого значения, потому что новые впечатления, полученные на Виленском, целиком владели им.
Виленский переулок прятался за большими домами «Бассейного товарищества». Здесь, среди зданий казенного ампира, приютившего какие-то царские, а потом советские учреждения, низкими постройками красного кирпича расположились по обе стороны артиллерийские казармы. Во дворе было запущенно и пустынно. Только в трехэтажном здании с полуразвалившейся лестницей и палисадником расположился штаб. Здесь было людно. Заявление Сверчкова с резолюцией отврука принял небольшой человек с зелеными висками, носивший артиллерийскую фуражку с околышем черного бархата. Он кутался от холода в демисезонное штатское пальто, но старался казаться приветливым. Сверчков был вновь опрошен о службе в старой армии, об участии в боях и боевых наградах.
— Не знаю, можем ли мы предложить вам что-нибудь достойное… Ведь вы — штабс-капитан. На сегодня у нас есть только вакансии младшего инструктора… Но должности будут. Новые формирования…
Сверчков сказал, что ему безразлично, лишь бы он был в состоянии выполнять свои обязанности.
— Ну! — воскликнул командир. — В состоянии. Что же тут сложного?
За спиной командира вырос адъютант. Высокий, гибкий блондин с усиками по-английски…
Он из-за плеча командира остро взглянул в глаза Сверчкову и приложил палец к губам.
Сверчков едва не вскрикнул. Это был корнет, который избег ареста, скользнув в трубу. Чтобы не выдать свое изумление, Сверчков отвел глаза.
— Адъютант завтра познакомит вас с командиром батареи Шавельским…
Через переулок на обширном дворе стояло несколько гаубиц. Двор, в особенности по углам, походил на свалку. Одинокие фигуры слонялись у складов и цейхгаузов.
Сверчков пробродил полчаса по территории казармы и, не найдя себе дела, решил, что служба здесь будет походить на безделье в Ветлужской дивизии.
Маша не появилась и в третью ночь. Не было никаких устных деклараций, но зато наутро не было кофе и не было обеда. Сверчков все понял и без этого.
На другой день пришла записка от Валентины. Девушка жаловалась, что тетка не пустила ее в квартиру, сказала, будто Сверчков уехал за город и вообще приняла ее неприветливо, почти враждебно.
«Можно подумать, она ревнует. Вот смешно!» — писала Валентина. В постскриптуме был приложен адрес квартиры на Екатерингофском. Девушка предлагала Сверчкову зайти когда-нибудь вечером, в 8–9 часов.
Виленские казармы по-прежнему пустовали. Только штаб на этот раз показался Сверчкову похожим на роек мошкары, которая несется в вечернем воздухе, как будто напоенная особым эликсиром энергии и буйства. Были получены какие-то приказы. Здесь суетились, писали бумажки, прибывали и отбывали ординарцы, адъютант носился на мотоцикле, висел часами на единственном телефоне, вывешивал приказы в кабинетах, коридорах и даже пустующих помещениях казарм. Появлялись новые командиры и комиссары. Они ходили, стуча каблуками, по комнатам и коридорам, спорили с адъютантом, врывались в командирский кабинет.
Командир сохранял в своем кабинете спокойствие барина, который не хочет, чтобы гости знали, что делается на кухне и в прихожей.
Дмитрий Александрович был представлен комиссару. Он ожидал расспросов, исповеди. Готовил объяснительные фразы. Но встреча произошла на ходу. Сказав какие- то незначащие слова, комиссар Малеев помчался в Совет.
Сверчков пытался было получить какое-нибудь задание от командира батареи, хотя бы связь с артиллерийскими складами, наконец, надзор за ремонтом помещений, но адъютант и батарейный уверили его, что скоро прибудут люди и работы будет гора, а пока делать решительно нечего, и пусть Сверчков не заботится ни о чем.
Комбатр Александр Александрович Шавельский был мягкодушный человек с лицом юноши, хотя и в капитанском чине, обладатель нежного тенора и молодой, по слухам капризной, жены. Он сразу же пригласил Сверчкова к себе. Комната была на Кирочной, одна за все, но когда-то явно служила гостиной большой квартиры. Зеркала и лонгшезы столкнулись теперь с обеденным столом и проволочной вешалкой у двери, с венскими стульями, у которых отлетали сиденья, а за ширмой сердито копошилась застигнутая врасплох жена. Шавельский стал перед зеркалом в оперную позу и, еще не сняв шинели, полным голосом запел сладкий романс о ночи, травах и облаках. Он так любовался собой, что забыл предложить Сверчкову сесть. Шавельский пел долго, за ширмами шумели все раздражительней, и Дмитрий Александрович чувствовал себя глупо.
Одевшись, жена немедленно прекратила пение мужа, и они стали вслух обсуждать, что делать и как принимать гостя.
Сверчков догадался заявить, что сейчас он никак не может задерживаться, что зашел, так сказать, с первым визитом, и стал откланиваться.
Упоминание о «первом визите» оказало магическое действие. Супруги вдруг светски подтянулись и согласно проводили гостя даже на лестницу.
Сверчков прыгал через пять ступеней и громко, издевательски хохотал не то над хозяевами, не то над собою. Так и не пообедав, он отправился на Екатерингофский к Валентине.
У Валентины была квадратная комната, чистая и пустая. Кровать была ее центром и почти единственной мебелью. Зато вся она была в белом и взбитая, пушистая, как замоскворецкая невеста. На стене к потолку лестничкой шли фотографии каких-то молодых людей с напряженными лицами, тугими воротничками и деревянными галстуками. Валентина сидела у Сверчкова на коленях, угощала его белыми семечками. Потом заперла двери и сняла туфли…
На крыльце дома, в потерявшем обивку кресле, сидел ее отец. Он был строг и неподвижен, как старообрядческий начетчик. После революции исчез домовладелец, он потерял службу, и, в довершение всего, у него отнялись ноги. Но каждый день он требовал, чтобы его выносили на крыльцо. Он зорко следил за воротами, за домом. Он покрикивал на жильцов и прохожих, грязнивших тротуар и подворотню, но равнодушно смотрел на излюбленную исстари ворами и проститутками улицу, как смотрит усталый пастух в зеленое поле, где живут только кузнечики и порхают белые капустницы.
Дочь, не говоря ни слова, положила ему в карман ключ, и Сверчков отправился с девушкой в Юсупов сад на гулянье.
В одном из складов Виленских казарм Сверчков получил сухой паек. Но ни пшено, ни сухие овощи, ни чечевицу нельзя было есть, не приготовив, а перед этой задачей Сверчков был безоружен, как младенец. К Маше теперь не было приступа, Валентина тоже была бесполезна, и Сверчков вспомнил о Катьке. Кстати, можно будет узнать подробнее об Ульрихе.
Катька долго вытирала руки передником и смотрела на Сверчкова как на выходца с того света.
— Что вы так смотрите, Катерина Михайловна?
— Разве вас большевики не… — она не кончила.
— Н-нет… как видите — жив, здоров. Служу в Красной Армии.
— Красноармейцем?
— Командиром.
Катька поила Дмитрия Александровича кофе. Подумав, она даже поставила на стол масло и свежий ржаной хлеб. Об Ульрихе Катька говорила, несмотря на природную болтливость, с неохотой. Видимо, его отъезд обидел Катьку.
— Куда уехал, не сказал… А только, я думаю, или в Самару, или в Гдов.
«Значит, или у Колчака, или у Юденича», — решил про себя Сверчков.
Как заговорить с Катькой об обедах, Сверчков положительно не знал, но Катька сама разрешила вопрос.
— Паек у вас большой? — поинтересовалась она.
Сверчков сделал полный отчет по записке.
— Можно кормиться, — решила Катька. — Если еще прикупать на жалованье…
— Можно-то можно, а только что ж, сырую чечевицу есть не будешь.
— Сварить надо. Постного масла немножко. А то и на воде. Сόли ложку…
— Ну, какой я повар, — безнадежно махнул рукой Сверчков.
— А Маша?
— Маша какая-то странная стала…
— Ваша Маша — это… — Катька сделала многозначительную гримасу. — Знаю я вашу Машу.
— Она ничего…
— Ничего? Про всех на лестницах язык чешет, а сама полквартиры брату в деревню спустила.
— Как? — изумился Сверчков. — По-моему, все на месте.
— Сундуки на месте, а в сундуках кто проверял? А на других треплет. Кто в квартире побывал — значит, уже что-нибудь взял. Очень кому-нибудь нужно…
Сверчков понял, что речь идет о пальто профессора. «На этом надо сыграть», — подумал он.
— Да… Она иногда поругивает соседей.
— Обо мне что-нибудь говорила? — догадалась Катька.
— Да нет… так…
— Сволочь ваша Машка. Вот я ее на чистую воду выведу. Поймаю на лестнице, оттреплю за косы. Пальто это… цена ему — грош. Ульрих просил принести. Сказал, зеленое. А я знаю, где какое пальто?
— Он увез его?
— Висит там на вешалке… А только, если она так треплется, так я и не отдам. Она к вашему пайку еще не пристраивалась? Теперь все с красноармейцами жить рады. Хотите, я вас кормить буду? Сыты будете, еще чай и сахар отдавать буду. А из муки пироги можно печь, с легким, с капустой… Прямо объесться можно…
Договор был заключен, и паек перекочевал к Катьке.
Уносил его Сверчков так, чтобы Маша не видела. Тайна, однако, сохранялась не дольше трех дней, и узнал об этом Сверчков неожиданно и очень просто. Однажды он вернулся от Катьки во втором часу ночи, но дверь профессорской квартиры так и не открылась ни на какие стуки. Сверчков стоял на лестнице, кричал со двора в окно и наконец опять постучался в Катькину квартиру. Катька, не сразу, тревожным голосом спросила:
— Кто?
— Это я, Катерина Михайловна. Не могу достучаться к себе. Прямо не знаю, что делать… Может быть, разрешите пересидеть у вас до рассвета? Я в кресле…
Катька опять долго молчала.
Сверчков хотел было уйти, как вдруг раздался Катькин шепот:
— А вас никто не видел?
— Ни одна душа.
Дверь открылась, и Сверчков на цыпочках вошел в кухню.
— Господи, как вы меня напугали! — говорила Катька, зажигая лампу. — Посмотрите, сердце до сих пор стучит.
Она приложила руку Сверчкова к высокой и мягкой груди. Сердце действительно стучало.
— Я все продукты успела сунуть в дрова. Теперь надо вынимать.
Кульки, ящички, свертки пошли обратно из ловко сложенной поленницы в кухонный шкаф.
— Там мыши поедят…
Сверчкову стало неудобно.
— Простите меня, Катерина Михайловна, но эта дура…
— Да уж. Она как раз и донести может. Ну, пусть попробует — глаза выцарапаю…
Катька была в бумазейном халате. Сорочка с кружевами.
В соседней маленькой комнате горела зеленая лампада.
— Ложитесь, — показала Катька на приготовленную постель. — Я смотреть не буду. Я только помолюсь. Я всегда на ночь. Это уж вы только не смейтесь…
Сверчков не стал ни спорить, ни возражать. Давно ли была тюрьма, и вот уже третья женщина… А он все одинок и бесприютен.
Катька молилась долго и совершенно молча. Сверчков лежал не шевелясь.
Катька подошла и, снимая халат, спросила:
— Погасить лампаду?
— Как хочешь. Я люблю тихий свет.
— И я тоже.
Часть третья ВОЕНКОМЫ И СПЕЦИАЛИСТЫ
Глава I «ДРУЗЬЯ»
В оживленном и красочном городе Бейцзине, что по-русски пишется Пекин и означает «Северная столица», в самом центре, между шумным Тяньцзинским вокзалом и дворцами и парками богдыханов, еще не так давно гнездился серым, чужеродным телом дипломатический квартал.
Сер он был только снаружи. Низкие толстые стены крепкого привозного гранита боевыми амбразурами глядели на под каток выровненные площади, лишенные каких-либо насаждений и построек, могущих препятствовать ружейному или пулеметному обстрелу.
За стенами прятался роскошный, почти сказочный город дворцов и буйно разросшихся парков, пронизанных пряным ароматом цветов и неумолкаемым стрекотом цикад. Город подтянутых, уверенных в себе дипломатов, томных и чопорных посольских дам, несуетливых колониальных чиновников, рабски услужливых боев. Город, охраняемый отрядами иностранных войск, недоступный простому китайцу — жителю этой столицы.
Город послов не скрывал своего лица — лица смертельного врага этого народа, этой страны.
В царском Петербурге не было дипломатического квартала. Посольства тридцати с лишним иностранных держав были разбросаны по набережным, аристократическим кварталам и тихим переулкам столицы.
Звездные, трехцветные, полосатые флаги, флаги с солнцем, полумесяцем, желтые, черные колыхались в разных местах, не особенно бросаясь в глаза в шумном и большом городе. Им не полагалось ни пулеметов, ни особой охраны. Принято было считать, что это не бастионы врага, но клочки территории дружественных держав, охраняемые международной традицией на началах взаимности и освященного веками права.
Война на глухие замки закрыла посольства и консульства центральных держав. Остались только посольства и миссии просто дружественных и особенно дружественных — союзных держав.
Тридцать четыре посла чувствовали себя за огромным зеленым полем с краплеными картами в руках. Каждый знал, что с ним играют нечестно. Задача была в том, чтобы переиграть партнера и, по возможности, играть за чужой счет. Чем больше при этом произносилось торжественных и гордых слов, тем меньше можно было ожидать порядочности в делах.
Оптом и в розницу распродавались в этих особняках и палаццо земли и богатства балканских народов, народов Ирана, Турции, Китая, Монголии, Афганистана.
Здесь в 1915 году Думерг цинично предлагал правительству Николая винтовку за солдата, чем возмутил даже Алексеева.
Здесь Диаманди продавал 80 тысяч вагонов румынской пшеницы союзникам, зная, что его коллега в Берлине предлагает ту же пшеницу немцам.
Здесь тайком был предан и продан Италии гордый, свободолюбивый народ Албании.
Здесь сажали на престол и развенчивали шахов.
Здесь во имя дальних империалистических комбинаций обрекали на голод и тиф героическую армию сербского народа, отступившую к берегам Адриатики.
Грекам готовы были платить за услуги турецкими территориями, туркам — греческими. Кипр, Крит, Корфу, Родос, Александретта, Смирна, Палестина, арабские страны, Багдад, Кувейт мелькали, как фишки, за этим столом чудовищного кровавого азарта, беззастенчивого грабежа.
Среди этих азартных игроков не было единодушия, не было и равенства. Крупная игра была не всем под силу, ее вели мировые акулы, им подыгрывали столь же алчные, но менее сильные хищники. Третьи глядели через плечо игроков и, примазываясь, стремились урвать хотя бы крохи.
Не всегда приятно и безопасно крупной державе выступать под собственным флагом. Тогда пускают в ход «дружественные связи». С лакейской угодливостью и поспешностью державы третьего класса таскают каштаны из огня для своих партнеров-покровителей.
Великобританское и французское посольства в описываемое время являлись как бы штабами крупных групп европейских держав.
Но, в свою очередь, эти киты империализма оглядываются на новую, бурно растущую, стремящуюся к мировому господству силу — Соединенные Штаты Америки. Со дня первой мировой войны ни одна крупная игра не завязывается без участия заокеанской республики, ни один политический узел не будет понятен, если не принять в расчет дядю Сэма. Никогда ни одна дипломатия не была вооружена такими далеко идущими планами, таким всемирным охватом территориальных и экономических интересов, такой циничной целеустремленностью, как агентура монополий Уолл-стрита, превративших Государственный департамент и все правительство Соединенных Штатов в свой штаб и организующий центр по борьбе за мировое господство.
Вся эта сложная деятельность замаскирована, облечена в приличествующие одежды.
На исторической сцене появляется новый тип дипломата — в черном цилиндре, длинном пасторском сюртуке, с евангелием в одном кармане и с картой захватов в другом, в перчатках, под которыми острый глаз карикатуриста легко угадывает когти хищника.
У него свой особый словарь. Захват — это содействие малоразвитым странам, вмешательство в чужие дела — это сочувствие, вооруженная интервенция — это наведение порядка, расстрел сотен людей — это прискорбный инцидент, подготовка войны — это стремление к миру, шпионаж — это научный интерес, экономическая кабала — это торговые связи, великолепный бизнес — это помощь голодающим, подрывная деятельность, шантаж — это особая дипломатическая миссия.
Уже в начале нашего века в поле зрения американских дельцов попадает Россия. Нет на земном шаре другой страны с такими еще не использованными богатствами, с такими беспредельными возможностями.
В 1914 году в России появляется авангард американских капиталистов — компания Гувер-Уркварт с капиталом в один миллиард долларов. Для начала у них в России два с половиной миллиона акров земли с сотнями тысяч тонн разведанных залежей золота, серебра, меди и цинка, огромные запасы угля, двенадцать шахт, два медеплавильных завода, двадцать лесопилен и много иного добра.
В годы войны американцы приглядываются к огромной системе российских железных дорог с гигантским будущим. Под это хозяйство они предлагали займы Керенскому, снабжают его вагонами и паровозами, требуя при этом введения на дорогах, да и во всей стране, военных порядков.
Военные порядки вообще очень нравятся американским демократам. Они за Корнилова. Они настраивают Духонина на захват власти Ставкой. Они за германскую жандармерию, за белых генералов, за всех, кто согласен охранять русское добро для большого американского бизнеса.
Меньше всего их устраивают большевики. В годы революции главой дипломатического корпуса в Петрограде был седой, похожий на залежалый лимон посланник Соединенных Штатов Френсис. Ему нельзя было отказать в даре предвидения и в трезвой оценке всего происходящего в России. Он покровительственно относился к Керенскому, видя в нем подходящую фигуру для роли будущего ставленника нью-йоркских монополий, но требовал от него введения военной диктатуры. Еще больше его устраивал бы в качестве русского премьера кандидат в миллиардеры, пока еще ходивший только в ста миллионах, — Терещенко.
24 октября, в канун Октябрьского переворота, Френсис требовал от Вашингтона присылки в Россию американских войск, настойчиво запрашивая при этом, можно ли в России действовать так, как в Китае.
Перебравшись в Вологду, он закупил лично для себя горы первосортного льна.
Этот человек был полностью в курсе большого бизнеса Уолл-стрита, имя которому «война и мир», но мир по-американски.
Октябрьская революция сорвала тяжелый занавес над всем этим шулерским притоном. Гипнотические чары расшитых мундиров, фраков, дорогих гарнитуров, наигранных поз, выработанных улыбок больше не действовали. Все тридцать четыре посольства почувствовали себя осажденными бастионами в сердце чужой страны и пожалели о том, что они не объединены в одном дипломатическом квартале, как в Китае. Ненависть к Республике Советов сочеталась с быстро растущими надеждами на сказочное обогащение. Начиналась бешеная игра, охватившая все посольства, — ставки были грандиозны, предвиделся небывалый в истории грабеж, прибыли, не снившиеся ростовщикам Бальзака. Препятствие же было только одно — власть Советов.
Когда Леонид Иванович Живаго вошел в кабинет мистера Грейса, достопочтенный джентльмен из Кливленда ходил по комнате, заложив пальцы в верхние карманы жилетки и насвистывая не совсем правильно на мотив «Ах вы, сени, мои сени», подслушанный на одном из концертов.
Белобровый, в очках с белой оправой, отчего он казался вымазанным сметаной, американец сидел за конторским бюро и писал в толстый блокнот с нерусской, цвета слоновой кости, глянцевой бумагой.
Грейс подошел вплотную к Живаго, улыбнулся одной из лучших улыбок в своем несложном репертуаре, пожал руку гостю и подвел его к белобрысому американцу.
— Я позволил себе побеспокоить вас, господин Живаго, прежде всего для того, чтобы познакомить с господином полковником Каули. — Полковник поднялся и пожал руку Леонида Ивановича, прошипев что-то неразборчивое. — Кроме того, мне надо сообщить вам, что завтра я уезжаю в Европу. Американскими руководящими кругами приняты весьма важные решения — полагаю, для вас далеко не безынтересные. Я еду к господину Дрину, который будет руководить нашими интересами в Восточной Европе, и, может быть, повидаю самого Герберта Гувера.
Живаго медлительными наклонениями головы с четким английским пробором время от времени свидетельствовал о том, что он слушает с величайшим вниманием.
— Всем хорошо известно глубокое сочувствие американского народа к вашей стране, господин Живаго. Мы не оставляем вас в беде. Судьбы России интересуют не только президента и Государственный департамент, но и широкую американскую общественность. Помимо прямой помощи России, оказываемой нами на Севере и Востоке, примят план экономической помощи всем народам Восточной Европы. Господин Гувер поставлен во главе огромной организации, с капиталом в сто миллионов долларов, «American Relief Administration». Мы дадим голодающим народам Европы муку, рис, мясо, консервы. Народы воочию убедятся в добром желании Америки установить мир и порядок на Востоке. — Грейс подсел поближе к Живаго и жестом не дипломата, но доброго парня взял его за руку. — Наш общий враг — это большевизм. Все мероприятия, какие могли бы внести решительные изменения в хаос, царящий в этой богатой и многообещающей стране, наталкиваются на сопротивление большевиков. Поэтому одновременно с помощью принят и план борьбы с большевиками… «Анаконда-план». Здесь первую скрипку будет играть Англия. Господин Черчилль — большой мастер на такие дела. На данном этапе у нас с ним не будет разногласий. Но Америка имеет свои интересы.
— Да, свои интересы, — веско уронил Каули.
— То, что вы связаны с посольствами, — совсем не плохо.
— Это будет полезно, — аккомпанировал Каули.
— Я слышал о плане окружения большевиков, — сказал Живаго. — Слышал и о помощи союзников. Мы, русские, хотели бы, чтобы с какой-нибудь высокой трибуны ясно и отчетливо было сказано, что союзники ставят своей целью восстановление союзной с ними «Великой, Единой и Неделимой России».
Грейс поморщился и отсел дальше. Каули стряхнул пепел с сигары на глянцевитый блокнот.
— Да, «Единая», «Неделимая»… Я боюсь, что неосторожное обращение с этим лозунгом может повредить делу, может оттолкнуть эти многочисленные народы, населявшие прежнюю Россию.
— Но они будут населять и будущую.
— Президент Вильсон, — сказал Каули, — оставляет право самоопределения за всеми народами.
— Но русский народ никогда не соглашался на расчленение страны, на нарушение суверенитета…
— Народ, суверенитет… — пренебрежительно воскликнул Каули. — Громкие слова. Пустое содержание…
— Господин Живаго, — поднялся во весь рост Грейс, — деловой мир имеет свои законы. Мы знаем вас как человека широких взглядов. Сентиментальность погубила не одно хорошее начинание. Мы могли бы оставить вас наедине с большевиками.
— Нет-нет! — вырвалось у Живаго.
— Конечно, нет! — добродушно усмехнулся Грейс. — Я убежден, что встречу у вас полное понимание нашей линии поведения, и поэтому перехожу к текущим делам. Полковник Каули имеет вам кое-что сказать.
Каули провел белой мясистой рукой по белым волосам.
— Господин Живаго, вы связаны с мистером Тенси?
— Да.
— Это — блестящий работник в своей области. Следует укреплять связь с ним.
Живаго поклонился.
— У него слабость к рискованным экспериментам. Он работал на Востоке и чувствует себя здесь как в Китае. Конечно, пока большевики у власти — это единственный приемлемый модус. Мне известно, что он готовит, то есть помогает осуществить, восстание к моменту наступления белых войск. Мы сочувствуем этому, но хотели бы остаться в стороне. Наша агентура не должна непосредственно вмешиваться в это дело. Наш час еще не пришел. Итак, создавайте офицерские организации, копите оружие, привлекайте эсеров, пусть проникают в армию. Они имеют опыт разложения воинских частей. Ставьте нас в известность о всех планах Тенси. Сейчас наши интересы совпадают. Со временем они могут разойтись. Мы хотели бы иметь уверенность в том, что вы лично и ваша группа, в особенности если она окажется у власти, сочувственно отнесетесь к созданию благоприятных позиций для американского капитала в России. Мы ведь не мечтаем, как другие, ни о каких территориальных приобретениях. Мы хотим торговать. — Каули улыбнулся как-то совсем по-иному, и из-за полковника-дипломата выглянул биржевой маклер.
Живаго смотрел суше, строже, словно он почувствовал под собою министерское кресло.
— Будущая Россия не забудет помощи Америки, — сказал он. — Вы можете уверить в этом мистера Дрина и мистера Гувера…
— Собаки! — шептал про себя Леонид Иванович, спускаясь по лестнице. — Хотя бы постеснялись. Мука, консервы, то, что гниет у них без шансов на продажу…
— Фыркает, — сказал Грейс, когда они остались вдвоем с Каули.
— Неважно, — презрительно ответил полковник. — Я вам говорил о плане Маккормика и Джона Фостера Даллеса. Есть еще план Гувера. В общем, деловые круги Америки пришли к соглашению, что всю Россию следует разделить на естественные области, каждая со своей особой экономической жизнью. При этом ни одна область не должна быть достаточно самостоятельной, чтобы образовать сильное государство. Мы не повторим ошибку монгольских ханов, выпестовавших Москву. У союзников мы потребуем «открытых дверей». Как мировой кредитор, Штаты будут хозяевами всюду. Помешать нам могут только большевики. Поэтому мы поможем Тенси и Савинкову выбросить их из России
Грейс, стоя у окна, смотрел на улицу.
— Вчера мне предлагали пачку акций Русско-Бельгийского общества… — сказал он, не поворачиваясь.
— Почем? — спросил Каули.
— Двадцать процентов.
— Дорого.
— Подождем. Дойдут до десяти.
Глава II БОЕВЫЕ ТРУБЫ
Огромный зал Морского корпуса переполнен. Бриг «Наварин» с погашенной дежурной лампочкой на грот-рее тяжело застыл над волной серых шинелей.
Оратор давно покинул черную кафедру, поднятую над залом, как командирский мостик, оставив на ней блокнот с цифрами и цитатами.
— Кто такие белые? — бросал он в темнеющую глубину зала очередной вопрос и тут же сам на него отвечал: — Это помещики, которые хотят вернуть свои земли. Это фабриканты, которые хотят вернуть свои фабрики. Это офицеры, попы, кулаки, чиновники, которым было тепло под крылом буржуазии.
Люди в серых шинелях уже знали все это, как знают имена родных.
— На чьей стороне будет крестьянство?
— В этой борьбе крестьянин, бедняк и середняк, получивший землю от революции, — девяносто шесть процентов деревни — будут с нами.
Люди в серых шинелях знали и это, но названный процент в их представлениях ходил, как маятник, на ветру воспоминаний о живых, покинутых на время и совсем деревнях.
Оратор вернулся уже на кафедру, как бы показывая, что довольно общих мест, всем уже известных, но необходимых, как трамплин, для сильного прыжка.
— Но ясно одно, — продолжал он, — что получить из массы солдат, год назад покинувших фронт, бойцов новой армии можно только ценой настойчивой работы. Нужно, чтобы в каждой части сложился сознательный пролетарский кулак. Вокруг него построится красноармейская масса. Только так можно обеспечить строгую железную дисциплину, без которой армия не может быть боеспособной. При этом, заметьте, товарищи, работа должна быть проведена в самое краткое время, буквально на ходу, на походах. На многочисленных фронтах дерутся с белыми красногвардейцы, матросы, питерские рабочие, красные партизанские отряды — героические, но плохо связанные друг с другом, напористые, но иногда нестойкие. Части Красной Армии должны впитать в себя эти отряды, переварить их, заменить их всюду регулярными дивизиями. Нужно усвоить главное: мы создаем армию в такой момент, когда многим кажется, что создать ее невозможно. Все ли здесь на собрании верят в то, что мы создадим эту армию?
Он остановился.
Здесь были собраны комиссары, командиры, активисты молодой армии. Порохом войны и революции опалены их лица и души. Они не скупились на выстрелы и удары, как будто порешив отстрелять за детей и за внуков.
Алексей видел, как демобилизовались. Как бросали фронт, как брали штурмом поезда, как пустели питерские казармы… Как самораспускались комитеты… На что он сам, и то…
— Цека партии верит в это. Красная Армия отстоит революцию. В это верит Ленин.
Зал взволнованно зашевелился.
— Красная Армия будет по крайней мере трехмиллионной. Она защитит все рубежи Республики.
И здесь случилось то, что случалось с Алексеем не раз в эти наполненные борьбой годы. Он ушел из зала с чувством взятой на себя огромной ответственности, по над этим чувством, как творческий дух над хаосом, носилась уверенность в том, что все препятствия падут. Какое право имеет он сомневаться в своих товарищах, братьях по классу?
«В это верит Ленин…»
Это были первые часы эпохи, утверждавшей в гербе своем вместо человека-волка — богатыря с молотом, за плечами которого строится коллектив.
Не раз так бывало: не верили многие, но верил Ленин, и все выходило по Ленину.
Не пророк, не шаман, не волхв, но мозг, наилучше впитавший в себя весь опыт человечества, вождь, подготовлявший завтрашний день…
Под Николаевским мостом в вечернем сумраке стальной пластиною лежала суровая невская вода. Альфред шагал обычным звонким шагом. В этом человеке было что-то металлическое, не тяжелое, как этот мост, но стремительное, как разбежавшийся, не умеющий сворачивать локомотив. Спросить его разве, что он думает о Красной Армии? Но предполагать у Альфреда сомнения — это то же, что искать у него в карманах детские игрушки.
— Не следует чересчур много обсуждать уже вынесенное решение, — сказал Альфред, посмотрев на Алексея немного сверху вниз. — Партия обсуждала этот вопрос не раз….. еще в подполье.
Алексей уже привык — эти слова означали, что он чего-то где-то не прочел…
— Три миллиона! — в ответ своим мыслям выкрикнул Иван Седых. — Сколько ж это нужно хлеба… и сена, и винтовок! — Он подошел к чугунному борту моста и смотрел на воду, качая головой.
— Не верится? — весело спросил Садовский.
— И ни к чему…
— Не хватит турецких сабель для командиров? — В больших, еще тогда не названных велосипедом, очках Садовского, в краях толстых стекол, сверкала насмешка.
Видный комиссар из политических эмигрантов, он еще из Швейцарии вывез репутацию умницы, полемиста и критикана, политического enfant terrible. Его теоретические статьи походили на передовые газет, его передовые-памфлеты щелкали и секли, как бич. Но вместе с тем его тянуло ко всякой оппозиции, к уклонам, к излишним осложнениям вопросов. Когда он и его приятели оставались в меньшинстве, что случалось очень часто, если не всегда, он чувствовал себя героем.
— Покамест сабля себя оправдала, — сказал Седых и положил руку на серебряный эфес кривой трофейной шашки. — За нашей спиной можно мечтать и о пяти миллионах…
Иван Седых абстрактно благоговел перед Питером, колыбелью революции, и пренебрежительно относился к питерцам. Революция, совершив свое дело в столицах, ушла в заволжские степи, в пески калмыков, на неоглядные поля Кубани, где носится его партизанский отряд, о котором до этого самого Питера дошли если не легенды, то рассказы. Питер же стал для него тылом, заводом, складом, ремонтной мастерской революции.
Алексея задевал тон революционера-рубаки, но под гром победных речей Седых его собственная позиция казалась ему слабой. Вся работа питерских товарищей, вплоть до продотрядов и борьбы с засевшим в столице охвостьем царского режима, вдруг показалась ему такой тусклой и маленькой в сравнении с борьбой уральских и кубанских партизан.
Ему нравилось обветренное, изрытое оспой лицо Седых, упрямые серые глаза, по-запорожски сломанная назад папаха, его мягкие кавказские сапоги без каблуков, удобные для гор, внезапных нападений и походов.
В руках Алексея было слишком много силы и в сердце слишком много энергии, чтобы не рваться, подобно тысячам других, вперед. Этот Седых примчался в Питер, чтобы урвать здесь, у «тыловиков», пулеметы и патроны, и опять нырнет в гущу боев и набегов…
— Вы, Седых, отсюда опять на Кубань? — примирительно спросил Альфред.
— Куда пошлют. Мы, как и вы, все ходим под Цека и Реввоенсоветом, — заметил партизан. — Это по-вашему, если партизан — так значит своеволец.
— Обижаешься, партизан? Значит, ты еще не безнадежен, — вмешался опять Садовский. — Из тебя еще будет толк… Остригут твои партизанские кудри, нацепят всякие значки и ленточки во имя порядка, приставят какого-нибудь спеца из поворотливых и занумеруют, что самое главное… Но хоть пулеметы вы, Седых, по методу партизанского снабжения в Петрограде получили?
— Конечно, получил. Но вот людей, кажется, не получу. Мне нужен комиссар отряда… Поедем, Алексей Федорович, со мной. Пускай интеллигенты здесь разводят бухгалтерию на миллионы, а мы с вами и с сотнями будем брать города, устанавливать диктатуру пролетариата.
Иван Седых из сельских учителей. Прапорщиком запаса он три года тлел на фронте, исходил чадом ненависти к войне, к царю, к несправедливости и к собственной пожизненной нищете. И вдруг взорвался в семнадцатом году и, отвоевав языком в десятке комитетов, прямо с фронта бросился с отрядом в незамиренный, еще только разгорающийся пожаром гражданской войны тыл. Для Черных он — интеллигент. Но «интеллигент» у Ивана Седых — ругательское слово.
— Черных — артиллерист, — заметил Бунге.
— Я был в дивизионе первый по рубке, — не выдержал Алексей.
— Ну, значит, были лучшим кавалеристом в артиллерии, теперь будете лучшим артиллеристом в кавалерии, — съязвил Садовский.
— Мы и пушки возьмем у генералов, — отводя шутку, сказал Седых.
Алексей уже всем темпераментом был на стороне партизана против зубоскала. Его подмывало просто и грубо ругнуться.
— Черныха мы тебе, партизан, не дадим, — вмешался Порослев. — В артиллерии тоже нужны комиссары, и нелегко их будет подобрать.
Он с грубоватой дружественностью похлопал Алексея по плечу.
— Ты не спеши, Черных, — будет и тебе работа и забота…
Это говорил Порослев, недавно назначенный комиссаром артиллерийских формирований. Призыв партизана потускнел. Да, здесь, в Петрограде, гора работы, и победа здесь не менее важна, чем успехи на юге. Не хватало, чтобы кто-нибудь принялся ему это объяснять!
Седых прощался. Уже на повороте у Исаакия он остановился и крикнул Алексею:
— А ты все-таки подумай, парень, и кати со мной!
Он замер на секунду, легкий, как будто только что соскочивший с коня степной воин, который встал для любительского снимка у подножия петербургского памятника. Потом он ударил шпорами и, покачивая бедрами, чтобы слегка колыхалась на весу взятая в бою у кавказского князя шашка, пошел Конногвардейским бульваром.
— Конечно, мы — родные братья, — сказал Садовский, — но вместе нам будет тесно на настоящих фронтах. Один из нас проглотит другого.
— Вопрос организационный, — сухо и сразу все упрощая, уронил Альфред.
Алексей шагал, едва прислушиваясь к разговорам товарищей. Он был взволнован митингом и предложением Седых, казавшегося ему вестником быстрых и жгучих южных фронтов, и намеком комартформа. За эти несколько месяцев Алексей прожил целую жизнь. Он был в команде Совета, работал в красногвардейских отрядах, добывал хлеб для Питера, проводил демобилизацию старой армии и сколачивал с Альфредом, Порослевым, Садовским и другими первые части новой армии. Правда, после революции он не был в боях, но разве можно сказать, что он не видел за это время врага в лицо? Он бывал на обысках, кончавшихся перестрелкой. Он брал кулацкий хлеб, рискуя заработать пулю в лицо или нож под ребро. Когда смутьяны бросили в среду демобилизованных солдат бывших гвардейских полков призыв делить военное имущество, кто, как не он, вел успешную борьбу за сохранение складов, цейхгаузов, инвентаря, боевых запасов для пролетарской армии? Он допустил ошибку в Докукине, но он осознал свою неправоту, хоть и не сразу, но со всей искренностью, какая подобает революционеру.
За этот год он прослушал в партшколе двенадцать тематических бесед, которые стали для него двенадцатью главами нового евангелия. Они приводили в порядок его собственные мысли, определяли раз навсегда его отношение к революции и утверждали за ним высшее право на борьбу. Алексей знал теперь, что такие, как он, рассеяны по всему миру и ждут только случая протянуть ему руку союза в борьбе. Этот год дал ему не меньше, чем дал семнадцатый, и он знает теперь, как взять еще больше у девятнадцатого…
Садовскому необходимо было повидать Чернявского. Решили зайти в «Асторию» всей группой.
Чернявский в мягких туфлях и расстегнутом френче стоял в крохотной передней двойного номера. Он, видимо, прощался с человеком в потертом пальто и теплом кашне.
Алексей узнал в нем Острецова. Никогда он не подозревал этого тихого, болезненного человека, играющего по вечерам в одиночестве на пианино, в знакомстве с коммунистами.
— Я очень рад, что познакомился с вами. Мне просто повезло. Вы человек широких горизонтов, — убежденно говорил приват-доцент Острецов, помахивая черной шляпой.
Еще взъерошенный и возбужденный каким-то предыдущим разговором, Чернявский поморщился. Это прозвучало для него, как если бы ему сказали: «Скажите, пожалуйста, а ведь вы не вор».
— Э, черт! Какие горизонты… Вот всех моих горизонтов не хватает, чтобы понять, как вы, окончивший два факультета, сохранили до сих пор такую социальную наивность.
— И здесь спорят, — лаконично заметил Альфред.
Но Алексею казалось, что все словесные и боевые споры, какие идут сейчас в мире, только утверждают истину большевизма и потому нужны.
— Скажите, — говорил, пропуская тираду Чернявского и реплику Альфреда мимо ушей, как шум уже пролетевшего вихря, Острецов. — А что, если западноевропейский пролетариат не отзовется? Если война так и не вызовет революции в странах передового капитала?.. Ну если??? Ну вдруг?..
— Никогда, слышите ли, никогда мы не останемся одинокими. Десятки миллионов европейских пролетариев при всех правительствах, при всех партиях — это наши союзники. Наша задача отстоять нашу страну. Создать из нее отечество нового человека.
— Стоит ли задумываться над этим, профессор? — вмешался Садовский, первым раздевшийся и уже вооружившийся какою-то английской книгой с полки. — Что же, мы устроим такой грохот, такой оставим след в истории, что Парижская коммуна покажется вспыхнувшей спичкой. И все-таки наша страна не будет больше спящей романовской вотчиной. Рабы почувствовали уже себя свободными, женщины — равноправными, безземельные — собственниками, лакеи — равными. Мы столько разрушили легенд…
Чернявский подозрительно смотрел на небрежно говорившего и небрежно листавшего книгу комиссара.
— Вот на этом, Юрий, — не выдержал он наконец, — когда-нибудь вы разойдетесь с нами. И не так, как расходились, когда вы строили из себя ультралевого или гордились тем, что оставались в меньшинстве то с Троцким, то с Бухариным. Нет, вы отлетите по другую сторону баррикады. У вас, как пища в зубах, застряла устарелая, псевдонаучная схема. Нужно аккуратно чистить не только зубы, но и мозги. Буржуазная революция — социальный взрыв — Термидор. В нашу революцию нельзя вступать с подобной концепцией. Не спорь, не спорь, если это бессознательно — тем хуже. Не упуская из виду, — обратился он опять к Острецову, — ни одной возможности международного порядка, мы будем биться за социальные позиции, за диктатуру пролетариата в нашей стране изо всех сил. Никаких Термидоров! Мы потянем нашу колесницу, как бы она ни была тяжела. Величайшим достижением мирового рабочего движения стал наш Октябрь. Отныне не нам надлежит равняться на мировой ранжир, но пролетарии Европы и Америки пойдут за нами…
— Аминь! Подписываюсь под всеми мудрыми словами, — сказал Садовский.
— Сегодня подписываешься, завтра изменится обстановка — и твоя схема перекричит партийный голос. Надо работать над собой, Юрий.
— Значит, это так важно? — вырвалось у Острецова.
— Теория? — спросил Чернявский. — Чего бы стоили мы без теории? Нас болтало бы всеми ветрами улицы.
— Ну, гремит наш трибун — значит, можно, — раздался бас на лестнице у полуоткрытой двери.
В переднюю ворвались трое военных. Самарин, плотный бритый человек, обладавший густым грохочущим басом, рявкнул:
— Мы из штаба. По прямому проводу… Чехов и учредиловцев расколошматили под Самарой, а теперь и под Симбирском в пух и прах. Самара и Сызрань взяты красными…
— У-ух! — вздохнул Чернявский. — Это ведь… это ведь… Этого ведь надо было ожидать, — схватил он вдруг за плечи Самарина. — Это значит — вы строите, товарищи, победоносную Красную Армию. Начало положено под Псковом. Теперь Самара, Симбирск. Большая моральная победа!
— Да! — сказал Порослев. — Другое настроение.
— Его надо закрепить. Пишите статьи, листовки. Есть у вас художники, поэты? Это первые военные победы пролетариата. О них нужно говорить громко.
— У нас в доме живет художник, — сказал вдруг Алексей. — Рисует Ленина…
Для него переход к художникам и поэтам был неожиданным.
— Вот, Валерий Михайлович, — обратился Чернявский к Острецову, — искусство знает пролетариев голодными и забитыми. Чувствуете ли вы, сколько бодрости сейчас в нашем рабочем классе? Наш советский рабочий встает утром и вспоминает, что Октябрь — это не сон. Угадайте эту радость, подхватите ее, как подхватывали художники. Возрождения радость молодой буржуазии. Еще лучше, сильнее. Подайте ее со сцены, с полотна, в глине, и вы станете светочем для нашей молодежи.
— Я много думаю об этом, — сказал, опустив глаза в пол, Острецов, — но я боюсь быть вульгарным… Мне часто кажется, что я человек позднего развития…
— Значит, вам нужно еще присмотреться. Фальши не должно быть. Смотрите, думайте. К сожалению, не могу сказать, торопиться некуда. Аванс за переводы Меринга вам завтра вышлют. Ну, до свиданья.
Самарин посмотрел вслед Острецову — худые плечи, зеленоватый облезлый воротник — и, отвернувшись, уронил басом, как будто в комнате упал пустой шкаф:
— Слякоть.
— У таких — худые ноги, вялые руки, но часто очень крепкий спинной хребет, — возразил, входя в кабинет, Чернявский. — Он сам пришел ко мне. Саботажники стали говорить о нем как о душевнобольном. Есть даже какие- то стихи… Но он не уделяет всему этому никакого внимания, и это уже много.
— Да, кстати, Юрий, — обратился он к Садовскому. — Тебя тянет к партизанщине, к эффектам, к звонкой фразе. У тебя недооценка учета сил, штабного расчета, спокойной мудрости революции. А вот тебе пример. Ленин еще в апреле требовал разоружения чехословацких эшелонов. А вот такой же, как и ты, фразер воспротивился, и мы дождались, пока две вооруженные на деньги парижских банкиров дивизии оказались хозяевами важнейшей железнодорожной магистрали страны.
— Не будем считаться ошибками, — не оборачиваясь, сказал Садовский, зевнул и еще больше углубился в книгу.
Долгие сумерки в неповторимый цвет окрашивали питерские граниты. На горизонте облако казалось дальним горным хребтом, и одинокая звезда делала робкие попытки напомнить о ночи.
Альфред и Алексей, не сговариваясь, двинулись к казармам. Их части состояли из призванных в пробную мобилизацию питерских рабочих, красногвардейцев и добровольцев. Это были кадры, которые должны были дать крепкий костяк нескольким дивизиям, когда пройдет большая мобилизация по всей стране. Но сюда могли просочиться случайные элементы.
Они прошли на задний дровяной двор через пробитый в кирпичной стене проход. Железная дверь была сорвана с петель и брошена на начатый штабель дров.
В сумерках, в густой тени высоких слепых стен, две папироски вздрагивали огоньками, хотя курить здесь было строго запрещено и сигнал на поверку был дан уже больше часу.
Альфред зашагал к прогоревшей насквозь, рассыпающейся походной кухне, у которой сидели двое, крепко закусив мундштуки редких теперь городских папирос.
Папиросы мгновенно потухли. Большой черномазый что-то спрятал под себя.
— Почему не в помещении, товарищи? — спросил Альфред, остановившись.
— Воздухом подышать, товарищ командир.
— А что спрятал?
— Ничего… где же?
— Встать, — спокойно приказал Альфред.
Черномазый встал, но руки оставил за спиною.
— Покажи, не прячь.
Черномазый швырнул о землю чем-то мягким.
— На, задавись!
Альфред быстрым движением, не спуская глаз с черномазого, нагнулся. Это была пышная бобровая шапка.
— Выиграл? — шутливо, почти ласково спросил Альфред.
Лицо черномазого сразу смягчилось.
— Так точно, товарищ командир. — С видом учтивой виновности он утер нос рукавом — жест, подхваченный у циркового рыжего.
— На Сытном?
— Как есть угадали, товарищ командир.
— А ты что успел? — спросил Альфред второго.
— Еще не приспособился…
— А это что у тебя? — сухими пальцами Альфред крепко взял вместе с полой шинели какой-то предмет.
— Наган это…
— Казенный? Зачем он тебе ночью?
— Революцию защищать, товарищ командир. — Черномазый, осмелев, издевался.
— Ну, держи, — сказал Альфред, — защищай крепко, — и зашагал вперед.
Красноармейцы должны были подумать, что Альфред находит все это в порядке вещей.
Алексей следил за ним с недоумением.
— Вор с наганом — это уже бандит или хуже… — сказал на улице Альфред. — Лица хорошо заметил? Нужно проследить, одиночка или… связь. Потом отобрать и изолировать.
«Осторожный человек», — подумал Алексей, и его уважение к Бунге от этого только выросло.
— Пробные мобилизации, которые мы провели в Москве и Петрограде, — говорил Альфред, проходя мимо затихших в первом сне казарм, — дали нам тысячи прекрасных бойцов. Но под шумок пришли и темные элементы, для которых Красная Армия — это паек и возможность получить оружие и документ.
Войдя в свой кабинет, он продолжал:
— Я уверен, что с новой, массовой мобилизацией к нам хлынут эсеры. Они продолжают уверять, что крестьянство с ними и только ждет оружия. Это последняя иллюзия этой беспочвенной партии, но это не значит, что мы можем сидеть спокойно…
Альфред никогда еще не говорил так много, и Алексею это льстило.
Воинская часть восемнадцатого года для активиста была одновременно школой, университетом, ораторском трибуной, партийной ячейкой и путем к выдвижению в командные ряды революции. Здесь он держал экзамен на выдержку, устойчивость, активность.
У Алексея было много работы, и она давалась ему нелегко. Командовать взводом было просто и привычно, но работа в коллективе, в клубе требовала особого напряжения и постоянной подготовки. Он стоял на одну только ступень выше рядового бойца, но он хотел поднять всех своих подчиненных выше себя, и одновременно ему хотелось стать над ними так высоко, как стояли над ним самим Альфред или Чернявский.
Казарма, коллектив и клуб отнимали у него весь день. Вечером он спешил домой. Здесь ждала его простая и необильная еда, состряпанная Настей на алой, как огромный рубин, раскаленной буржуйке или, если был керосин, на примусе, короткая беседа с Верой и горка положенных на столе в строгом порядке, так медленно одолеваемых книг.
По совету Веры он завел себе тетрадь для конспектирования прочитанного. В ней было много начатых и ни одного законченного конспекта. Но он любил эту тетрадь, потому что в склоненной над нею голове его пролетало немало добрых и бодрых мыслей.
Вера была у Насти, когда Алексей вернулся из казармы. Настя вязала из грубой шерсти белые рукавицы, а Вера сидела в углу, ничего не делая, уютно и тихо, как умела сидеть она одна.
У Алексея в душе все еще жили призыв Седых, отзвук боевых труб южных фронтов и настойчивые требования Альфреда. Алексею захотелось сорвать с лица Веры эту маску блаженного семейственного уюта и заставить ее хотя бы на секунду взволноваться.
Он стал рассказывать сестре и девушке о битвах на Кубани, о взятии городов, о схватках конных отрядов, о героизме матросов и красных партизан. Настя смотрела широко раскрытыми в дурном предчувствии глазами.
— Седых уезжает через три дня на Кубань, и я с ним, — закончил внезапно для себя и для слушательниц Алексей.
Настасья не двинулась. Только теперь из ее так же широко раскрытых глаз катились две обильные слезы. Вера сидела потупившись. Она старалась оттолкнуть от себя чуждую ей эпопею борьбы, но Настя плакала, и это не удавалось Вере.
— Довольно сидеть в тылу, — бросил Алексей уже на пороге и зашагал, стуча каблуками, в кабинет.
Слезы Настины широко растекались по щекам, и она умоляюще смотрела теперь на Веру.
Вера поняла ее призыв. Она поднялась, обняла ее, как сестру, спросила:
— Что же теперь делать? — и с ужасом услышала:
— Только вы могли бы его удержать… Убьют его на этом Кубанском фронте. — Упав на сложенные на столе руки, Настя рыдала.
Вера быстрыми и мелкими шагами убежала в угловую. Не зажигая свет, не ужиная, она легла спать.
Алексей заметил волнение Веры. Оно было ему приятнее сестриных слез. Нет, надо ехать с Седых. Альфред и Чернявский в конце концов одобрят его решение. А Вера… Она взволнуется еще больше…
Он вышел в коридор и протянул руку к телефонной трубке. На мозаичном столике, закрыв собою храм Юпитера Статора, лежала заклеенная старой копеечной маркой повестка. Не отпуская трубку, одной рукой Алексей вскрыл повестку. Товарищ Алексей Черных оповещался о том, что решением бюро райкома он направляется в распоряжение комартформа т. Порослева для партийной работы в формируемых артиллерийских частях.
Так вот что значил намек Порослева. Он опустился в кресло и положил на место телефонную трубку. В ночной тишине чуть вздрагивал обширный дом. Должно быть, грузовик нырял в ухабах мостовой. У Веры нет света, и длинный коридор — как спуск в погреб. Люстра шевелит висюльками в соседнем зале. Это в верхнем этаже у Демьяновых какая-то возня или танцы.
Телефон не успел зазвонить, Алексей перехватил его первые судороги.
— Ну как, Черных, решил? Я еду в Смольный договориться. Так вот…
Опять Седых. Опять соблазн далекого юга, куда, по мнению партизана, с берегов Невы откочевала Революция.
— Нет, Иван Васильевич. Не выйдет. Хотелось очень… Я получил партийное назначение… к Порослеву. И тут нужны люди…
Седых молчал несколько долгих секунд.
— Ну что же. Нет так нет. Попадай уж только в первый миллион. Не дожидайся третьего, чтобы не к шапочному разбору…
Телефон стал опять металлическим жуком со сложенными по-мертвому лакированными крылышками, а Алексей смотрел на открытый теперь храм Юпитера Статора и думал, как он объяснит Насте и Вере причину своего отказа ехать на юг…
Глава III СВЕРТОК «ОТ АРСЕНИЯ»
Новый клуб вечерами озарял улицу светом всех своих окон. Молодежь часами толкалась у дома, в готическом вестибюле, на мраморной лестнице. В зале танцевали, ходили под рояль или баян. В гостиных работали драматический и художественный кружки. В самой дальней угловой, как бы соревнуясь в силе звука, работали тромбон и героическая эс-труба. В одной из девичьих в углу лежала клейкая зеленая глина, привезенная для будущей скульптурной мастерской. С окрестных предприятий в вечерние часы в клуб налетала вихрями рабочая молодежь. С безудержной жадностью бралась за все, не успевала, торопилась, бросала, бралась за новое… Кружководы отчаивались, видя на занятиях каждый раз все новых слушателей, и успокаивались, подобрав группу влюбленных в новообретенное искусство прозелитов.
А наверху, в квартире Демьяновых, мало-помалу образовался клуб жильцов буржуазных квартир.
Новые времена перезнакомили всех.
В восемнадцатом году легко сходились, дружили прежде отчужденные друг от друга социальными предрассудками люди. В очередях, в трамваях, на домовых собраниях, у керосиновых ларьков, на снегоочистительных работах, на рытье окопов, на ночных дежурствах у ворот встречались дворники и горничные с бывшими барынями и барышнями, с дворянскими сынками, с сенаторскими внуками.
Так познакомились Вера со Сверчковым, Маргарита с Ульрихом, Елена и Евдокимов с Алексеем. Весь дом знал задорную, всех веселившую мешочницу Катьку, столяра Матвея Илларионовича, философа и прожектера, знали и боялись охальника Степана.
Вера редко бывала у Демьяновых. Кажется, это была единственная квартира, из которой никто не уехал, где гремело неумолчное Маргаритино пианино, где давали чай с мелкими кусочками сахару, а то и с хлебом и где все чувствовали себя просто, наперекор внезапным рецидивам аристократических замашек хозяйки.
Но Вера не любила шумных демьяновских комнат и не прижилась в них. Маргарита позвала ее, чтобы научить вязать зимние шапочки из цветного гаруса. Вера застала Воробьева и проскучала весь вечер. Не нравились ей нервные движения Маргариты. Она не знала, как держать себя с этой девочкой, ведущей жизнь двадцатилетней женщины, и ушла, пообещав прийти еще раз. Она слышала, как Воробьев сказал ей вслед: «Хороша пташка» и как рассердилась Маргарита. Вера покраснела, несмотря на то, что была уже одна в передней, и убежала, забыв захлопнуть дверь.
Когда у Буторовских реквизировали квартиру, к Вере пришла горничная Демьяновых и сказала, что Анастасия Григорьевна и Маргарита Петровна просят подняться к ним на полчаса для важного разговора. Вера накинула платок и, как была, взбежала по лестнице в демьяновскую квартиру.
Анастасия Григорьевна сидела у самовара. Она предложила Вере стакан жидкого чая, и Маргарита пододвинула к ней тарелку, на которой оставались кусочки хлеба, густо посыпанные зеленым сыром. Здесь были и Воробьев, и Шипунов, и Синьков — обычные гости Демьяновых.
— Вы знаете, Вера Дмитриевна, — энергично начала Анастасия Григорьевна, — мы решили серьезно поговорить с вами. Сделать на вас общее нападение.
Все лица улыбнулись приветливо, но Вере стало неуютно, плечи ее вздрагивали под платком, и она старалась ни с кем не встречаться взором. Ей хотелось сказать, что не нужно вмешиваться в ее жизнь, но у нее не хватило голоса на такое заявление. Анастасия Григорьевна, положив пальцы в перстнях на ее руку, продолжала:
— У нас всегда были добрые отношения с вашими дядей и тетей. Мой муж был профессор, но он носил военный мундир — он имел кафедру в Военно-медицинской академии… И вот теперь мне больно смотреть, как расхищается добро ваших родственников.
Маргарита взяла аккорд на самых высоких, стеклянно прозвучавших нотах.
Анастасия Григорьевна, досадуя, взглянула на нее через плечо, но чтоб не сбиться с мыслей, не упустить заранее продуманной фразы, продолжала:
— Вам одной, конечно, трудно. Иметь сейчас дело с нахальными мужиками — это кошмар. — Анастасия Григорьевна сложила руки, закрыла глаза и сказала это слово на «о», с таким выражением, как будто кто-то немедленно собирался схватить ее за горло. — Говорят, он растащил уже половину вещей. Говорят, корзинами увозят… И эта Настасья. Была такая тихая…
— Он отдал белье и теплые вещи в Совет… Для неимущих… — с трудом проговорила Вера.
— Ах, в Совет, в комитет, не все ли равно? Неужели вы думаете, они раздадут нищим? Нищие от них ничего не получают… Мне говорила слепая Федосья…
— Рабочим…
— Рабочие теперь богаче нас с вами. У них же вся власть. Они вскрыли сейфы. Вы представляете себе? Все сейфы! Они поснимали ризы с икон. С Казанской они содрали жемчуга. Пойдите посмотрите. Вы, Верочка единственный человек в квартире из генеральской семьи. Вы обязаны спасти вещи Веры Карловны. И мы все вам поможем. — Она широким жестом обвела компанию.
Прежде чем Вера успела возразить, Демьянова еще крепче взяла ее за руку и, приблизив к ней напудренное лицо с желтыми наплывами у висков, зашептала:
— Нужно подать на него в суд за расхищение имущества, за пьянство и за разврат. Таких даже сейчас не милуют.
— Но он никогда не пьет. И потом… какой же разврат?
— Но ходят же к нему…
— Товарищи.
— Он не приставал к вам?
— Он приютил меня. Он помогал мне, — вырвалось у Веры со слезами протеста. — Он даже не интересуется, что там есть в квартире. Он работает день и ночь… и учится. А Настасья хранит вещи.
Никогда Вера не говорила и даже не думала столько об Алексее. Но обвинения Анастасии Григорьевны были черной неправдой. Вор, пьяница, развратник! Вера протестовала всей душой.
— Вам, вероятно, насплетничали на него, Анастасия Григорьевна.
Демьянова отодвинулась от Веры и, прищурив глаза, рассматривала девушку, как будто увидала ее после долгой разлуки.
— Вот как вы полагаете, дорогая? Значит, интересы вашей тети не являются вашими интересами?
— Но что же я могу сделать? — заломила руки Вера.
— Выжить его… Живите с Настей. Можно поселить кого-нибудь с вами. Например, Аркадия Александровича. Это не навсегда… Надо переждать.
Вера вспомнила, как Алексей впустил ее в холодное зимнее утро, как он топил ее комнату и делился с нею то хлебом, то картофелем, как Настя кормила ее лепешками из пайковой муки.
— Нет, Анастасия Григорьевна. Я не могу… Может быть, потому, что я не мужчина, но я не могу. Он добр ко мне…
— Вы чрезвычайно к нему расположены, — перебила ее Анастасия Григорьевна. Теперь все отвели взоры от Веры. И только Шипунов, громко сморкнувшись, прокудахтал:
— Теперь это бывает…
— Напрасно вы отказываетесь, — пустилась в последнюю атаку Анастасия Григорьевна. — Мы бы вам помогли. У Антона Трифоновича есть знакомый судья.
Шипунов кивнул головой и прибавил:
— Собственно, сестра жены судьи.
— Можно было бы устроить…
Вера встала.
— Простите меня, Анастасия Григорьевна. Мне очень жаль дядю Севу и тетю Веру. Но я ничего не могу сделать. Мне не нужно было здесь оставаться. Я куда-нибудь уеду…
Она смотрела поверх голов. Глаза ее раскрывались, расширялись, чтобы выпустить нависшую нежеланную, одну, но невероятно тяжкую, мучительную слезу. Ей было стыдно. Она поклонилась низко, как кланялись теремные русские девушки, и ушла.
— Невероятно, — прошипела вслед Анастасия Григорьевна.
— Бывает, бывает, — уверял Шипунов.
Горничная Лена в щель двери прослушала весь этот разговор. Вечером он стал известен Насте. А когда Алексей узнал, что говорила о нем Вера, он выпалил сгоряча:
— Молодец девка!
А потом стал размышлять про себя уже в другом тоне. Слова Веры его не удивили. Что ж, она сказала правду. Но ведь она буржуйка. Отец там пусть учитель, а дядя все-таки генерал. Теперь и смирные буржуи кусаются. И стал Алексей думать о Вере, что она не так проста, как кажется, и не так слаба, как они с Настей думали.
Вечером он зашел в комнату Веры, поздоровался и сел на кушетку. Широкий кушак на нем был затянут и рубаха аккуратно заправлена. Выбритые щеки были свежи, как будто этот человек только что вышел из летней прохладной воды. Но глаза были озабочены. Вообще, с тех пор как он приехал из Докукина, он часто бывал задумчив и серьезен.
— Спасибо, Вера Дмитриевна, — начал он, облокотившись на одно колено и подавшись вперед.
Вера стояла у окна спиной к свету. Она поняла, за что он благодарит, но все-таки спросила:
— За что, Алексей Федорович?
— За защиту. И за то, что не выгнали меня… — Скрыть уверенность в своей силе он не сумел. — Того не понимают — ордер теперь на такие квартиры очень просто достать. Хотя он и дядя ваш, но теперь он — враг… Убежал — и крышка…
— Я думаю, мне уехать, Алексей Федорович, — сказала Вера.
— Куда уехать? Зачем уехать? Никому вы здесь не мешаете. А меня и хотели бы выселить, не выселите. А вот работу вам нужно, вот что. А то вы прокиснете здесь.
— Не умею я ничего.
— Я вам работу найду, Вера Дмитриевна. Будет дело, и плакать не будете, — заметил он слезу в голосе Веры. — Ученая вы. — Он встал и подошел к ней. Вера чуть-чуть отодвинулась.
«Боится она меня, что ли?» — мелькнуло у Алексея.
Он вернулся на место, а потом зашагал по комнате с нахмуренным лбом.
— Как вы ездили, Алексей Федорович? — спросила Вера, когда молчание стало уже неестественным.
— Хорошо, — встряхнулся Алексей. — Эшелон продовольствия пригнали. — Он едва было не залился привычным задором, но вдруг вспомнил все условия поездки, опять помрачнел. — Только скажу вам — нелегкое все это дело. Революция — это целая наука.
Алексей стал рассказывать Вере о деревне, о своих, о борьбе за землю, за инвентарь, о Ваське Задорине, об Альфреде. Впервые говорил он ей о своей работе, и Вера слушала его не перебивая. О прошлом Алексей говорил ей и Насте с веселой усмешкой еще не отшумевшей молодости. Теперь он говорил о том, что томило и радовало его сейчас. Она вслушивалась в его голос, отвечала только наклоном головы, короткими восклицаниями. Алексей разговорился, а потом оборвал сам себя и позвал Веру пить чай в Настину комнату.
Настя смотрела на девушку добрыми и преданными глазами. Густо мазала ей хлеб, привезенный Алексеем, прежде у них не виданным маслом.
Алексей сказал Вере о работе, но уже на другой день забыл о своем обещании. А между тем Вера ушла в свою комнату с этой мыслью и теперь тихо и робко ждала. Она перебирала все возможные работы, на которых могла бы быть полезной, и приходила к выводу, что сейчас для нее работы нет.
Последняя посылка из Волоколамска была съедена. Тетка больше не писала. Очевидно, она ждала Вериного приезда и покаяния. Вера ела хлеб и шпик порциями, неудовлетворительными даже для мыши. Она привыкла к состоянию длительной несытости. В кухню она не выходила, чтобы не пришлось отказываться от Настиных предложений — тарелки чечевичной похлебки или круто посыпанной солью капли, смазанной таким одуряюще приятным постным маслом.
Настя, видевшая, как голодно живет девушка, носила еду к ней в комнату. Вера отказывалась веселым голосом и чуть не плакала при этом. Наконец Настя не выдержала и сказала Алексею:
— Помрет наша Вера Дмитриевна…
— Что? — оторвался от книги Алексей. — Кто помер?
— Помирает, говорю, Вера Дмитриевна.
— Почему такое?
— Голодает она. Кожа да кости остались.
— Ну, почему? И мясо еще есть…
— Ты бы не смеялся, Алеша. Али в деревню ее отправить, али продать здесь что, — она кивнула на комнату, — пусть кормится. Хорошая она, Алеша.
— Продать можно бы. Барахла много, — подумал вслух Алексей. — А только ни тебе, ни мне не с руки ходить на толкучку. Я по ночам спекулянтов арестовывал, а тут днем торговлишку заведу. А ты корми ее из нашего, — нашел он простой выход и опять ушел в книжку.
Но Настя не сдавалась.
— Нашего-то тебе не хватает. С фронту приехал сытый, а теперь пояс уже болтается. И она стесняется. Каши ей снесешь — не напросишься, чтобы съела.
— Что же, я ее с рук кормить буду, как канарейку, что ли? Вот хотел ей работу найти, да и позабыл. Да и какую ей работу найти? Курьером — с ног свалится. По конторской разве части… Совладает ли?
Настя в тот же вечер взяла какие-то генеральские тряпки и ранним утром, впервые за все время, свезла на самый дальний рынок. Купила масла, хлеба, молока и сахару и, завернув все это в платочек, привезла домой и выложила дрожащими руками на Верочкин стол.
Вера смотрела на Настю, ничего не понимая, но уже зачем-то волнуясь. Настя, разбирая покупку, стала бросать отрывистые, сперва непонятные слова:
— Тетка тоже… и погибает человек… никто слова не скажет… Разве это вещи? Хлам… А кушать надо… Не могу я смотреть, как вы мучаетесь, — разрешилась наконец она отчетливой фразой.
И Вера, как сидела на стуле, головой припала к Настиной теплой кофте, и они обе, обнявшись, плакали все громче и громче, пока Алексей не пришел на доносившиеся из угловой в коридор странные голоса.
Он стоял у порога и рассматривал покупки на столе. Женщины, услышав его шаги, усиленно растирали красные глаза. Алексей повернулся — он был уже в шинели — и вышел на улицу. Вчера Алексей встретил Альфреда, который сообщил ему о своем новом назначении, в штаб военно-учебных заведений.
— Присылай подходящих людей, — сказал он Алексею.
Теперь, придя на службу, Алексей немедленно поднял трубку и спросил Альфреда:
— А женщины грамотные тебе нужны?
— Присылай, посмотрю. У меня заседание, — вполголоса ответил Альфред и повесил трубку.
Вечером Алексей дал Вере адрес Альфреда, и еще через день, дрожащая с ног до головы, Вера стояла перед Альфредом.
— Вы библиотечное дело знаете? — спросил Альфред.
— Нет, — просто ответила Вера.
«Ну, вот и все…» — подумала она с тоской.
— Книги любите?
— О да! — Вера подняла большие, готовые стать влажными глаза.
— В Н-ской школе нет библиотекаря. Впрочем, нет и библиотеки. Но книги есть. И еще достанем. Приведите все в порядок и, самое главное, научите курсантов читать и любить книги.
Этот на вид сухой, резкий человек как будто говорил не своими словами. Но Вера женским чутьем угадала в нем самом любовь к книге. Она ничего не ответила и только наклонила голову.
Адъютант написал Вере бумажку, лихо пристукнул печатью, подышав на нее дважды, и, глядя на Веру, сказал:
— Доброго начала, товарищ.
Ему было не больше девятнадцати лет.
Вера была тиха и лучше слушала, чем говорила. В ее комнате было холодно. У нее не было ни чаю, ни какой-нибудь привлекательной еды, но все, кто знакомился с ней, почему-то стремились провести тихий вечер в угловой и, прослушав романсы Грига, спрашивали разрешения прийти еще. К ней заходили Ветровы. Воробьев, не застав Маргариту, спускался этажом ниже. Даже Куразины, считавшие долгом принять при женщине развязный тон и соединять каблуки при поклоне, как будто на них все еще были гусарские шпоры, охотно сидели у Веры, много курили, еще больше извинялись за то, что надымили, и в конце концов стали забегать регулярно, без приглашений.
Алексей заходил в угловую редко. Всегда с каким-нибудь делом. Вере с ним было просто. Алексей рассказывал ей о детстве и о фронте, и его легко было перебивать вопросами. Он сам по-деловому расспрашивал ее о днях беженства, словно хотел установить картину событий и вмешаться в нее в пользу Веры. Вера чувствовала, что Алексей жалеет ее, но это не было обидно. Он ни на что не жаловался, не считал это время «проклятым». Своим ровным дыханием, своей радостью, с какой он встречал события, Алексей как бы оправдывал и делал для нее осмысленным то, что происходило за окном, то, что называлось Революцией. И так как это был ясноглазый, хотя и тяжеловесный, но простой и понятный в мыслях и действиях человек, это давало Вере силу не поддаваться речам Аркадия и его товарищей и пытаться потихоньку, не спеша вырабатывать свой взгляд на события — и ближние, касавшиеся этого дома, и дальние, орудиями гремевшие на Урале, на Кубани, в снежной Сибири, на быстро растущих фронтах Республики.
Однажды вечером в дверь Веры постучали. Это был Куразин. Он нес в руках большой, увесистый сверток, перевязанный толстой бечевкой.
— Просьба к вам, Вера Дмитриевна. Мы с братом уезжаем и все ценное оставляем у знакомых. Месяца на два. Не позволите ли у вас? Тут кое-какие пустяки… Все же для нас дорогое… по воспоминаниям…
— Пожалуйста, — сказала Вера, — конечно.
— Может быть, еще один сверток разрешите?
— Конечно, несите — места хватит.
— В сухом месте хорошо бы. Лучше всего, если позволите, в кушетку. Она у вас с ящиком? — Он проворно поднял крышку большой кушетки. — Ну, тут поместится двадцать таких свертков. — Он уложил пакет в угол, притиснув его к стенам дощатого ящика. — Я занесу еще один. А ваш этот… солдат… дома?
Не знаю. Кажется… не приходил, — ответила Вера. На другой день два свертка лежали рядом, и Куразин, не задерживаясь, распрощался, предупредив Веру:
— За свертками могут зайти. Ну, давайте, как в романах, условимся о пароле. Пусть скажут вам: «От Арсения», и тогда отдайте. Ну, спасибо, дорогая. Пожелайте нам счастливого пути. — Он поцеловал пальчики Веры и ушел. Провожая его, Вера слышала, как быстро и легко стучал он каблуками, сбегая по лестнице.
Глава IV ПОРТРЕТ
В октябрьский, весь пронизанный ниточками бодрящего холодка день к дому на Крюковом канале подошел открытый легковой автомобиль. Двое в кепках помчались по лестнице кверху, как будто гнались за невидимым беглецом. Шофер еще глубже ушел в сиденье, рассеянно отыскивая в карманах сперва кисет с махоркой, затем спичку и, наконец, осколок спичечного коробка, по тем временам признак привилегированного положения.
Детвора окружила автомобиль. Он был высок и горд, этот автомобиль восемнадцатого года. Кузов был поднят над жидкими колесами так, что на четвереньках можно было пройти под машиной. От ясной лакировки не осталось и следа, ее заменил цвет изношенной галоши. Но зато под рукою шофера болтался мягкий сигнал из резины ярко-красного цвета, величиной с медвежью голову. Сигнал интересовал ребят не меньше, чем автомобиль.
— Дяденька, погуди, — адресовался к шоферу малыш с пальцем, до основания исчезнувшим в носу.
— Ты что там достал? — пошутил в ответ шофер. — Покажи.
Ребята хихикнули хором, и малыш отступил за спину соседа.
— Давай я погужу, если тебе лень, — предложил паренек постарше и подступил к гудку.
— Дяденька, а если я тебе шину проколю? — выскочил вдруг вперед рыжий карапуз в пальто, но без шапки. Он вертел в руках не то вязальный крючок, не то дамскую булавку.
Шофер погрозил перчаткой, тяжелой, как ботинок.
— Ты смотри мне… Я тебя свезу куда надо.
— Он Кольке Савину велосипед проколол, — сообщил мальчик с книжкой.
— Ай, а я ему скажу, — обрадовался другой мальчик у дверей. — А он думал — на гвоздь наехал.
Рыжий повернулся на месте:
— Не скажешь, врё…
— Истинный бог, скажу.
— Тогда не ходи на улицу.
На шестом этаже открылось окно. Свесившаяся кепка заорала:
— Антон, поднимись помочь, валяй в тридцатый номер.
Шофер смотрел на рыжего сорванца и колебался. Потом он шагнул к нему и взял за рукав:
— Ходи со мной.
Рыжий прянул в сторону и освободился ценою порванного рукава.
— Одежу рвешь, холера! — крикнул он со слезой. — Купил, что ли?
— Антон! — загудело сверху.
— Эй, ребята, кто машину посмотрит? Ленина везти надо.
— Какого Ленина? — спросил мальчик с книгой. — Главного?
— Ленина, говорю, портрет, от художника.
— Мы посмотрим, дяденька, — предложили сразу трое.
— Ну, глядите.
Шофер нырнул в парадное и, постояв за дверью, выглянул опять. Но теперь на тротуаре группа малышей что-то горячо обсуждала. Рыжий был тут же и, совершенно позабыв об автомобиле, слушал. Затем все потоком, кроме взявшихся охранять машину, ребята ринулись на лестницу.
— Ну, так-то лучше, — сказал шофер и принялся прыгать через три ступеньки кверху.
На самой верхней площадке уже была раскрыта дверь. Приехавшие осторожно выносили большой холст на подрамнике. Тревожась и тоскуя, суетился около Евдокимов. В глубине, передней стояла Елена, кутая плечи в большой испанский платок.
— Я вас умоляю, — повторял художник, — не торопитесь на поворотах, я оденусь и сбегу вниз.
Портрет оставили у окна. Антон рассматривал его, остановившись на ступеньках.
Положив руку на край стола, забросанного книгами, на которые падал свет деловой лампы, стоял вдумчивый человек, как будто собирающийся начать взволнованную речь.
Комната тонула в тенях низко опущенного абажура, предметы сжались и потеряли ясность очертаний. Но зато лицо жило на полном свету. Незаконченный шаг вперед. Движение бровей, чуть раскрытый рот, отброшенная назад, как бы в подготовке бурного жеста, рука — все это делало человека центром полотна, выбрасывало его вперед, и портрет переставал быть портретом и становился динамической картиной с замыслом, затаившим в мазках и линиях волнение художника.
— Н-да, — сказал Антон. — Ну что ж, понесем.
— Я видел Ильича, — сказал один из приехавших. — Чисто такой. Здоров рисовать, — кивнул он в сторону двери. — Мы ему еще закажем.
Портрет осторожно двинули вниз. Впереди, держа подрамник над головой, шел Антон. Позади двое держали картину за углы.
Художник сел с шофером и, не отрываясь, смотрел на полотно.
На улице быстро скопилась толпа. Окружив машину, рабочие, женщины, дети старались улучить момент, когда станет видна фигура вождя. Люди в кепках поставили портрет лицом к движению.
Тогда толпа стала перед автомобилем, и он, прорезав человеческую волну, как челнок, ушел вперед.
По дороге люди разных одежд и возрастов останавливались и смотрели. И Ленин смотрел на бурлящую под мостами Неву, на голосистые трамваи, на чистое небо, вспрыгнувшее в этот день на голубую высоту, на оборачивающихся к нему прохожих…
Художник вернулся вечером в добром настроении. Он взлетел по лестнице, бросил пальто на сундук и в шляпе ворвался в мастерскую. Елена сидела за книгой, накинув на ноги зимнее пальто Евдокимова. Книга легла на колени, когда раздался треск французского замка.
— Приняли! — с порога возвестил художник.
— И поняли? — с оттенком недоверия спросила Елена.
— В том-то и дело. — Шляпа Евдокимова улетела в угол. — Было десятка два людей. Смотрели долго. Молчали так, что я хотел было бросить все и уйти. Потом один, седой, подошел, взял меня за плечи и сказал: «С душой рисовали». Тут все заговорили. Портрет повесят в белом зале. Потом говорили вообще о живописи и революции. Я, кажется, порол какую-то невероятную чушь. Просили сделать копию и нарисовать Маркса. Седой сказал — придет смотреть мастерскую, и дал свой телефон, по которому ему можно звонить. Секретарь что-то говорил о деньгах и продуктах, но я убежал. Завтра портрет будет в газетах.
— Товарищи перестанут с тобой здороваться, — вдруг перебила его Елена, глядя мимо, в большое окно мастерской.
Художник замер на середине комнаты.
— Ты думаешь? — тихо спросил он, тряхнув головой, и опять двинулся в поход по комнате. — Меня захватила тема. Я был в Москве на митинге… Сначала я хотел рисовать только толпу, слушающую оратора. Но образ человека, зажегшего все эти глаза и лица, преследовал меня. Я должен был сделать портрет хотя бы для себя. Я мог, конечно, не продавать его. Но почему же не отдать работу людям, которым она нужна? Кроме того, три месяца работы над портретом, все эти мысли о Ленине не прошли для меня даром.
Она смотрела на него с усмешкой, так как ждала, когда он скажет это.
— Ты догадалась сама? Ну, конечно, — я слишком много отдавал этой теме и уже не могу все взять обратно. Художник, который вливает душу свою в им же созданные формы, может ли он, как жидкость, вернуться в прежнее состояние? Я ушел от этого портрета иным… лучшим или худшим, но иным.
Елена смотрела на него внимательно, как будто он не смел, не мог утаить от нее ничего.
— А если художник рисует палача или фанатика чужой, неразделяемой веры?
— Все равно.
— Тогда как же нужно бояться неверной темы.
— Нет, нет, нет… не то… Это сложнее. Возвращаясь от своей темы к самому себе, художник восстает против своих образов или принимает их, частично или целиком…
Елена открыла книгу, но ясно было, что она не собирается читать.
Художник подошел к окну и сорвал тяжелую занавеску.
— Закутайся, я открою окно. Сегодня свежий, но сухой воздух.
— Мне иногда кажется, — продолжал он, — что нашему поколению художников не повезло на учителей. Наши профессора говорили о своих предшественниках, как, вероятно, Платон говорил о Сократе. Дух великих идей витал над ними с первых мазков. Но у наших учителей было слишком короткое дыхание. Его было достаточно, чтобы взволновать их самих, но не хватало на то, чтобы захватить нас, учеников следующего поколения. Нам придется искать свои пути, да еще помнить о тех, что пойдут после нас.
— Я бы хотела найти свою тему, — почти про себя сказала Елена.
Но Евдокимов думал не о теме. Тема для живописца — вся жизнь, все, что созерцает глаз и создает воображение. Но художник больше не ищет точности изображения. Можно нарисовать бокал, от которого только что оторвались пальцы пьяницы, и чашу Грааля, тоскующее и светящееся стекло.
Подобно многим одаренным юношам, Евдокимов в глубине души считал свое искусство выше всех иных. В угоду ему он с легкостью снижал значение других.
Живопись, как и музыка, стоит над жизнью, рисунок — это только ее скорлупа. Чтобы стать искусством, она должна всей фразой красок и теней проникнуться одной величественной идеей.
Мастера католицизма воздвигали небесный мир над земным. Фламандцы утверждали человека и мир вещей… А мы что?
Жизнь в представлении Елены рассыпалась на ничем не связанные кусочки, и она не была уверена в том, что когда-нибудь было иначе… Доморощенные философы декламировали на все лады. Неужели и этот тоже?
Корреджио, Мурильо, не смущаясь, десятки, сотни раз рисовали лицо богородицы, раны и тернии Христа, утверждая все с новой силой овладевшую ими идею. Мы же мечемся от темы к теме в постоянных бесформенных поисках. Нам кажется, что мы захватываем многое, но сети наши неизменно оказываются пустыми. Изощряя кисть, мы опустошаем душу.
— Художники критикуют куда чаще и искуснее, чем рисуют, — заметила Елена. — Многие готовы физически преследовать собрата, который смешивает краски иначе. Если б они были богаты, они скупали бы и уничтожали картины соперников…
Евдокимов остановился. В одном и том же явлении они видят разные стороны. Если хвост змеи загнулся к северу, это еще не значит, что змея перестала двигаться к югу. Частность не должна заслонять целое.
— Все мы сейчас — хотим или не хотим — растем из импрессионистов. Их общий герой, их идея — это солнечный луч. Их стихия — plain air. Их цель — высокое мастерство. Нельзя больше рисовать, не овладев мозаической лепкой мазков Моне, рисунком Дега, молниеносно схватывающего движение, титанической борьбой с плоскостью Сезанна, искусством Гогена, у которого все предметы точно на сильном ветру. Но меня не тянет ни мельчить мазок, соревнуясь с пуантилистами, ни угадывать ребра материи. Японцы рисуют белой и черной краской, как цветом. У меня с детства жадность к цветам и страсть к высоким идеям. Мне ближе горящий огнями ковер Рибейры, чем кубические мечты Пикассо, от которых мне становится неуютно, как в царстве гробов и склепов. Но главное не это. Гальс не написал ни одного ангела, ни одной нимфы. В его галерее можно встретить блудницу и ребенка, пьяницу, бургомистра, цыганку и повара, и тем не менее он не ниже мастеров Возрождения. Но все его люди говорят каждый за себя. Что было бы, если бы это были воины одной и той же идеи!
Елена смотрела в окно. По бледно-голубому озеру стекла плыла одинокая тучка. Больше всего на свете она не любила всякие философские нападения на личность. «Человек есть мера всех вещей». Она забыла, кто сказал это, но фраза осталась в сознании.
— Кстати, импрессионисты показали пример братства при величайшем разнообразии профессиональных технических устремлений и полной свободе творчества. А японские художники посылают друг другу свои полотна.
— Вероятно, те, которые остаются непроданными от салонов.
— Нет, те, до которых не доросли завсегдатаи салонов… Я хотел бы не изощренности, но простоты, той простоты, которая лежит далеко за морями исканий.
Тучка уплывала из поля зрения. Бледно-голубое небо еще ближе придвинулось к окну. Оно казалось гладким и холодным, как крашеное стекло.
Глава V МОБИЛИЗОВАННЫЕ
Мобилизованные входили в казарму большими группами, сложившимися еще в вагонах, на вокзалах, на распределительных пунктах. Иные останавливались на пороге, деловито оглядывались и спешили занять приглянувшееся, показавшееся наиболее уютным место. Иные крестились на пустой, но привычный угол. Иные встречали новое жилище крепким словом, злой солдатской шуткой. Иные брали растрепанную швабру и мели пол, как бы показывая, что казарму эту они принимают всерьез и без досады. Приехавшие издалека швыряли на грубые матрацы сундучки и сумки, пропахшие потом папахи и похожие на опростанные мешки рукавицы. Под нары задвигали сундучки посолиднее и начинали разуваться, чтобы облегчить натруженные ноги, поправить свалявшиеся портянки, курили и плевали на серый, немытый пол.
Часовой, еще из красногвардейцев, в пиджачке и щуплом картузике, сидя в коридоре, пускал обильную слюну, глядя, как деревенские отламывали краюхи от полупудовых караваев, заедали хрустким луком, холодным мясом и салом, а то грызли сочную куриную лапу. Фунтовый паек хлеба и неизменное пшено красногвардейского котла вспоминались с острой тоской.
Паренек в веснушках, в синей, когда-то, может быть, гимназической фуражке, потерявшей и цвет и фасон, пробежал мимо часового с форменным, должно быть унесенным с фронта, котелком в руках. На пороге дал тормоза и весело спросил:
— Земляк, а игде кипяток у вас?
Часовой повел длинным усом и недовольно чмыхнул:
— В первом етаже… и не земляк, а товарищ. Приучайсь по-городскому.
— На кой ляд мне город? Мне он — что лапоть, сносил — и с ноги долой…
— Ничего, приобыкнешь, — переставил винтовку красногвардеец и замолчал.
Через минуту веснушчатый парень мчался назад с дымящимся котелком. На пороге опять подмигнул часовому:
— Подсядь, дядя, к нам. Чайку плеснем в кружечку. Колбасой угостим — домашней. Живот погреешь, та-ва-рищ.
«Товарищ» он сказал растянуто, нарочито, с насмешкой, смягченной задорной приветливостью.
— Грейси сам, — оказал часовой, нахмурясь. — Мы отпили.
— А ты не чинись, поштенный, — раздался вдруг бас от печки. Усатый парень в черной кавказской папахе резал непочатый каравай. — Доглядать и отседова сумеешь.
Часовой провел пальцем по усам и медленно поднялся.
— А я ничего… Вроде как на часах. А только мы сегодня напоследок. Завтрева ваши встанут, красноармейские.
— А ты питерский?
— С Розенкранца я. А вы откель, товарищи?
— А мы с-под Острова. Слышал?
— Дед у меня Режицкий. Проезжали…
— На, закусуй. А ты, Серега, чего ж стал?
Серега похож был на усатого, только лицом светлее и усы покороче. И папаха у Сереги не черная, а рыжая — мелкий завиток.
Челюсти работали исправно. Красногвардеец с жадностью кусал луковицу. Ему жгло губы, язык, и он откровенно плакал.
Усач, Игнат Коротков, икнул, положил кусок хлеба, густо покрытый солью, и сказал:
— А как ты, товарищ, разумеешь — надолго? — Он кивнул на середину казармы.
— А кто знат? Глядишь — война будет.
— А и с кем? С германом а ль с Англией?
— Не… со своим….. с беляком…
— По мобилизации так и читали, — рассудительно прибавил Серега.
— До весны, говорят, потянет, — заметил веснушчатый парень, которого односельчане звали Федоровым.
— До весны… — покачал головой Коротков. — До весны — это куда ни шло… А весной уйдет народ. И то от земли насилу оторвали.
— Земля у вас хорошая? — спросил рабочий.
— Ничего, родит… Теперь вот помещицкая. Кому перепало. Оно теперь в деревне глаз да руки нужны. Земля — она человеком крутит. Поработать на себя охота. А теперь, глядишь, на мобилизацию не пойдешь — грозят землю, котору нарезали, опять узять. А весной только чудаки останутся.
— Беляков земля не держит. Они и весной пойдут, — заметил красногвардеец.
— А у нас есть чем их встретить. Припасли с фронту.
— Ага. Это есть, — кивнул Федоров.
— А ежели он с армией пойдет? — упорствовал рабочий.
— А игде он солдат наберет?
— А охвицеры? А казаки?.. А из вашего брата, который подурней, а то кулак-торговец?..
— М-дда, — размышлял Игнат, — надо до весны ему крышку исделать.
— Это верно, — обрадовался рабочий. — Кончать. А потом за землю.
Когда довольный, разгоряченный чаем часовой ушел на свое место в коридор, сосед Коротковых, худощавый, с колючими маленькими глазами и рыжей бородкой, обернулся и спросил Короткова:
— Так вы, товарищ, порешили до весны?
Коротков осторожно заметил:
— Сколько и ты, товарищ, — день в день.
— Ну, тогда, может быть, и раньше, — загадочно улыбаясь, сказал сосед.
— А тебе что, начальство сказало?
— Какое начальство? — стал расчесывать кудлатую голову рыжий. — Кто теперь начальство? Сегодня одни, завтра другие.
— Скоро год как комиссары…
— А я был на Украине, так там уже кого не было. И петлюровцы, и немцы, и большевики, и атаманы…
— А ты сам с Украины?
— Я и с Украины и не с Украины…
— А теперь ты с откуда? — спросил Федоров.
— Я, собственно, из Витебска… Я вижу только, что народ воевать не хочет.
Деревенские вслух ничего не сказали.
Тяжеловесный великан, лежавший к ним спиной, Макарий Пеночкин, повернулся и лениво обронил:
— А ты б устроил, чтоб войны не было, мы бы тебе на табак собрали…
— Ну, поживем — увидим, — решил рыжебородый и пошел по казарме. Он подсаживался к разным группам, смеялся, шутил, разговаривал. Переходил к другим.
Вечером приехал верхом Порослев. Он забрался на зарядный ящик и говорил с мобилизованными. Это не был митинг. Это был допрос с пристрастием. Но комиссар и не думал отделываться от вопросов. Его спрашивали, и он отвечал. Он, казалось, ничем не отличался в этой толпе от красноармейцев. Шинелька его была не менее заслужена. Козырек на фуражке сломан. На худом лице вокруг больших воспаленных глаз прочно улеглись синие круги. Когда ему задавали злой и трудный вопрос, он сперва молча глядел прямо в лицо спрашивающему, как бы проверяя его искренность, а потом тихо и просто отвечал.
Из задних рядов кричали:
— Громче!
Громче говорить Порослев не мог. У него было одно легкое. Он говорил так же тихо, но поверх толпы, и тогда было слышно.
Его расспрашивали, с кем предвидится война, за что будут воевать, что в Германии и Англии, каков будет паек и есть ли артиллерийские кони, будут ли теперь снаряды и получат ли паек жены, далеко ли от Петрограда и Москвы белый и где Ленин.
Он рассказывал обо всем, как сам понимал. Солдат с 1912 года, в окопах наживший чахотку. Это почувствовали и поняли, и вопросы задавали, уже не петушась, и если кто выскакивал, его одергивали соседи, слушали и спрашивали, спрашивали и слушали.
Во дворе темнело, и Порослев чаще и чаще вынимал большой несвежий платок и прикладывал его к губам.
Вечером улица перед казарменным двором зацвела прогулкой тысячи людей. Подходили городские. Лущили, прислонясь к заборам, привезенные из деревни семечки, беседовали шепотом, выкрикивали под гармонь частушки.
К рыжему Малкину подошел высокий парень с широким и вялым лицом и тронул его за локоть. Малкин сейчас же пошел за угол, на большую улицу.
Когда кругом никого не было, подошел Исаак Павлович Изаксон. У него был многозначительно отсутствующий, начальствующий вид. Он спросил Малкина:
— Мартьянова видели?
— Издали. Он в другой батарее.
— Как вообще?
— Кажется, все хорошо… но сейчас еще рано говорить.
Надо быстро раскачать массу. Удар будет нанесен одновременно в десяти местах. Нас крепко поддержат. Артиллерийские казармы поручаются вам. Связь со мной и Петровской будет поддерживать Вера Козловская. Со штабными — связистка Валерия. С посольствами свяжусь сам. Снаряды в дивизионе есть?
— Вы хотите такие вещи в первый день? Это же бросится в глаза.
— Время тоже следует экономить.
В небольшом, утонувшем в осенней слякоти скверике, на углу Греческого, навстречу им поднялся грузный, с растрепанной шевелюрой и непомерно большими, мягкими руками человек.
— Мы же условились, чтобы нас не видели вместе, — недовольно сказал Малкин.
— Посидите, Мартьянов. Я подойду к вам сам, — заметил Изаксон. — Малкин прав. Помните: мы действуем каждый на свой риск… И даже я… чтобы не подвергать риску организацию… И не попадайтесь на глаза Бунге.
В казарму Малкин вернулся один.
Федоров долго мостился на нарах, ища удобного положения на худом тюфяке. Серега уже спал, лицом кверху, положив черный рабочий кулак на живот. Федоров хотел было пощекотать ему в носу соломинкой из матраца, потом раздумал — пожалел.
— Вот опять война, и опять мы в казарме, — сказал ему, разуваясь, Малкин.
Федоров долго молчал и, когда Малкин уже не ждал, ответил:
— А ты, парень, привыкай.
Он лег, накрыл лицо фуражкой, поджал колени и почти мгновенно тоненько захрапел.
Глава VI ИСПУГ И НЕНАВИСТЬ
В школу надо было ездить на трамвае. Уже издали видно было, как из зеленой гущины садов вырывается к небу золоченый шпиль старого замка. У ворот — часовой в курсантской шапочке, легкомысленной и нерусской. Отставив винтовку, он провожал Веру глазами, пока она не скрывалась в поворотах булыжного двора.
В школьных коридорах тихо, но в классных комнатах гремят громкие голоса преподавателей и собранные, стесненные, совсем не такие, как в перемену, голоса курсантов. В дворцовых проходах, создавая пробегающее под сводами эхо, проходят курсовые командиры, красноармейцы хозяйственной команды проносят в корзинах хлеб, тюки с бельем, пакеты с бумагой, книги.
Библиотека в два света. Резные сборные шкафы готически устремились к потолку. Здесь раз навсегда, на все сезоны установилась прохлада старых зданий. Запах древних книг угнездился здесь, ничем не перебиваемый, даже запахом сапог в часы, когда столы читальни заняты курсантами.
Раздевшись, Вера принималась за приведение в порядок очередного шкафа. Она должна была являться к четырем, но усвоила себе привычку приезжать гораздо раньше. Приятней и веселей было возиться с книгами, разбирать их, освобождать от налета пыли, соединять разлученные чьей-то равнодушной рукой тома сочинений, чем сидеть в пустой квартире или бесцельно бродить по все еще незнакомому городу.
Однажды в дверях показалась голова дежурного по школе. Ноги и туловище остались в коридоре. Он с любопытством смотрел на Веру, сидевшую с тряпкой в руках на полу.
— Входите, товарищ, — сказала Вера, поднимаясь и отряхивая пыль с юбки.
— Вам, может быть, прислать на помощь? — спросил дежурный, указывая пальцем на тряпку.
— Нет-нет, я сама, — энергично сказала Вера.
Дежурный обошел библиотеку, обежал взором ряды кожаных и коленкоровых корешков, сказал: — Много книг, — и исчез.
Через час красноармеец поставил перед Верой дымящуюся миску супа и извлек из кармана небольшой хлебный паек в газетной бумаге.
— Что это? — спросила Вера. — Я получаю паек на дом.
— Товарищ дежурный велел. Как вы без сроку работаете.
Он был убежден, что делает приятное, и ухмылялся добродушно.
Вера хлебала густой суп, сидя у окна. Влажные деревья качали ветвями, едва не заглядывая в окна. Застоялая вода реки, взятой в тиски гранитов и решеток, желтые дома с белыми колоннами на том берегу. Что он был ей, этот город Петра и построившего этот мрачный, сырой замок его правнука? Она бежала бы от него, если бы было куда и если б не чувствовала по временам, что он еще не раскрылся перед нею, но еще только расставляет свои сети. Оскорбленно замолкли его дворцы, а проспекты непонятны и тревожны. У него было какое-то тесное родство с книгами, прочитанными в гимназические годы, и лучше всего Вера чувствовала этот город как что-то целое и живое, сидя у стола с томом старого романа в руках.
Город предместий, фабрик, заводов, пустырей и покосившихся, перенаселенных домов был ей неведом. Петербург — это была столица, город знати, чиновников, писателей, художников и артистов. Чужой город, которым можно любоваться, не приближаясь, не отдавая ему ничего, кроме спокойного любования.
Может быть, потому работа в библиотеке, в часы, когда она оставалась одна, была для нее так приятна. Ах, как хорошо выдумал Алексей Федорович!
Красноармеец пришел за миской.
— Не все съели, товарищ? Плох разве суп-то? — покачал он головой. — Такой в Смольном не едят.
— Нет, что вы, очень хорошо. С мясом, кажется?
— Как полагается. А два раза в неделю — с рыбой.
Вера стала получать обед каждый день.
Паек она забирала в библиотеку и уносила домой в портфеле по частям. Сначала самое ценное: сахар, чай, масло, жиры, сухие овощи. Потом муку, крупу, хлеб.
После голода это было очень сытно, и Вера перестала чувствовать слабость в ногах. Она знала, что паек в военных школах — один из лучших в городе, и была благодарна Алексею.
При этом ее не оставляло ощущение, что она должна заплатить усиленной работой. Вечерами ей уже не приходилось разбирать и приводить в порядок книги, потому что библиотека и читальня всегда были полны. Курсанты рвались к книге, к газете, к печатному слову. Вскоре Вера поняла, что для многих было неясно, что же в конце концов есть в этих шкафах. Но вера в чудодейственность книги горела во всех глазах.
— Чего-нибудь поинтереснее, Вера Дмитриевна.
— Но что вас интересует? — улыбалась Вера. — История, география, может быть, путешествия или просто беллетристика?
— Чтоб интересно было, — настаивал курсант.
Вера глядела на добродушное лицо вчерашнего мастерового или хлебороба.
— А что вы уже читали? Что вам понравилось?
— Про борьбу. Про разное житье.
Иные называли определенные книги.
Вера заводила разговоры с курсантами о Горьком, о Пушкине, о Гоголе, о Рылееве. Читала вслух отрывки из «Мертвых душ», говорила о Толстом и Тургеневе, о Чехове и Гончарове. Тяжело дыша, налегая друг на друга, курсанты сбивались в тесный кружок, задавали вопросы и неохотно расходились, когда Веру требовали другие товарищи, пришедшие за книгами. Вера знала, что делает все не так, как было бы нужно. Отрывочные замечания, несвязные мысли. А какая ответственность! Вероятно, следовало здесь, в этой комнате, открыть вечерний университет. Она тоскливо смеялась над собой. Она начинала страдать от сознания разницы между жаждой книги у этой молодежи и ее слабыми руками. По школе шла добрая слава о библиотекарше, и сам начальник школы, бывший полковник, зашел однажды в сопровождении свиты, пожал Вере руку, спросил, в чем она нуждается. А комиссар, прощаясь, сказал:
— Хочу поблагодарить вас от лица школы за работу.
Вера была взволнована, и все понимающе сочувствовали ее волнению. И старые стены сделались ей роднее. Старые стены толщиной в крепостной вал. Стены, которыми отгораживался от подозрительного, запахнувшегося в туманы города полусумасшедший гроссмейстер ордена мальтийского. Неразговорчивый комиссар из рабочих, с тяжелыми серебряными очками на носу, сам провел ее по коридорам пустой части здания. Он выстукивал стены, и они говорили разными голосами, обнаруживая скрытые пустоты, в которые никто не знал прохода. Он показывал ей подъемные плиты в полу, прежде скрытые коврами, колонны, таившие в себе истлевшие лестницы. Он спустился с ней в подвал, в котором могла скрыться легкая батарея в конном строю. Он показал ей безоконный тайный этаж, а в отделанной под церковь комнате — ход, к которому не сумел пробиться испуганный, загнанный, как мышь, за занавеску император.
И Вера впервые в воображении своем стала населять живыми образами рассказы, пришедшие из учебников истории. Она старалась теперь представить себе не только костюмы и прически, но и мысли этих отошедших людей, содержание их молитв и письменных столов, запах и цвет эпохи, упавшей в прошлое. Она подумала, что историю надо изучать по-новому…
А курсанты, веселый и бойкий народ, носились по паркетам дворца, мало думая о старине этих стен и о людях, поднявших их над болотной хлябью. На лекциях они в одночасье легко и радостно хоронили целые эпохи, складывая страны и царства, религии, реформации, столетние войны, цивилизации, как камни пьедестала завтрашнего дня, который они призваны были строить и защищать.
Это были молодые рабочие, которые пришли из предместий революционного города на эти курсы, дети крестьян, получившие вкус к революции, добровольцы-горожане, подхваченные волной революционного патриотизма, унтер-офицеры, пережившие революцию на фронте. Уметь читать, писать, знать четыре действия и дроби, некоторое общее развитие — все, что требовалось от них на экзаменах. Восемь скудных месяцев давали им на боевую и техническую учебу. Они глотали ее непрожеванными кусками. Уверенные в себе, они отрицали интеллигентские сомнения как гниль и мертвечину.
У Веры завязалась дружба с командирами и курсантами, завсегдатаями библиотеки. Ее провожали до ворот и ждали у запертых на обыкновенный висячий замок дверей библиотеки.
Так в притихшем, заметно опустевшем и все еще чужом городе загорался на глазах у Веры целый костер шумной и целеустремленной жизни.
Алексей замечал, как оживала девушка.
«Ага, паек вывозит!» — подумал он с удовольствием. Придя в ее комнату, он увидел за окном свертки и кульки в жирной бумаге. Он деловито, без спроса — Вера привыкла к его бесцеремонным действиям — взял мешок с крупой, повертел в руке, затем взял белый жир.
— Кашу вам надо сварить.
И ушел.
Вечером была жирная рассыпчатая каша. А Настя стала забирать Верино пшено и, смешав его с Алексеевым, ставила кашу — горшок на три дня. В следующую получку Вера, виновато смеясь, отдала весь паек Насте.
Но потом Алексей заметил, что оживление девушки не может быть объяснено только сытостью. Вера исчезала на весь день и ничего не ела. Он услышал отзыв комиссара о Вере и понял, что Вера «привилась» в школе. Он был доволен больше, чем хотел себе в этом сознаться.
Каша поспевала в одно время для Веры и Алексея, и они ели в комнате Насти поздними вечерами, когда Алексей возвращался из казармы, а Вера — из школы. Ели и обменивались новостями. Алексей заменял Вере газеты, которые она едва просматривала в библиотеке. Все комментарии ее прежних знакомых к сообщениям и статьям советской прессы звучали издевательством, неверием и гневом. По их словам, газета умерла, остались циркулярные листки, в которых истина застряла между строк, и те, кто говорит иное, лгут из страха или из недомыслия.
Но Алексей был весь перед нею, не способный ни к фальшивому горению, ни к дипломатической сдержанности. Он передавал ей вести со всех концов страны с таким азартом и волнением, как если бы всюду был участником, первым из непосредственно заинтересованных лиц. От него она узнала о чехословаках, о Сибирской директории и савинковском заговоре, о смерти Нахимсона и убийстве Мирбаха и Эйхгорна. Он говорил запальчиво, уверенно. Казалось, у него не было в запасе ни слов, ни интонаций для половинчатых суждений. Он просто, не стыдясь, сознавался в своем незнании многих простых вещей. Он целиком сочувствовал политике рабочей власти и радовался этому, как радуется птица, которую сильный ветер несет через горы, через пади к гнезду.
Но он говорил о казни царской семьи в Екатеринбурге, и о декрете о трудовой школе, и о равноправии женщин как об успехах одного пути. А у Веры замирало сердце при вести о выстрелах и крови, и сам Алексей становился ей то ближе в свете человеческой радости, то дальше в мареве новых для самой Веры страстей.
Для него главное в людях была их общественная роль. Вере казалось, что он обезличивает людей — возможно, по солдатской привычке к рядам, выстроенным из людей, как заборы строятся из досок. Вера настаивала на том, что везде есть дурные и хорошие.
Святыми безумцами еще с детства рисовались ей революционеры. Ради своей идеи они шли в изгнание, на гибель. Страдания и смерть становились в их подвигах могущественнейшим оружием, мученический венец подымал их над толпой, и обывательская рассудительность не шла к ним никак. Но к Алексею приходили люди, зажженные революцией и вместе с тем больше всего гордившиеся умением доказать свою правоту с карандашом, энциклопедией и циркулем в руках. Это были не фанатики, но упрямцы, не пророки, но инженеры, раскладывавшие силу потока на сопротивление квадратных сантиметров плотины. Меньше всего они походили на исторические тени, на святых и святош прошлого. К Алексею они приходили по конкретному, точному и спешному делу. Засиживались иногда за полночь. Они считали Веру своей, и она, прислушиваясь к их разговорам, ухолила к себе после всех.
Когда приходили к Вере ее знакомые, Алексей валился спать. Вставал в полночь, читал и опять засыпал до утра.
Аркадий навещал Веру чаще всего по субботам.
— Когда вы должны кончать в школе? — спрашивал он тоном раздраженного супруга.
— В девять вечера.
— Но вы приходите гораздо позже.
— В школе бывает кино, концерты, митинги, доклады…
— Значит, вам там нравится?
— Нравится, — подняв глаза, сказала Вера.
— И вы бы могли привыкнуть к этим людям?
— Вероятно, могла бы, — медленно, словно на ходу решая этот важный вопрос, созналась Вера.
Она хотела сказать, что уже привыкла, но не решилась.
— И вы могли бы жить с ними? Могли бы полюбить кого-нибудь из них?
— Зачем вы так спрашиваете? — взмолилась Вера. — Не надо.
— Надо! — закричал и вдруг сорвался на злой шепот Синьков. — Вы потеряли зрение. В один прекрасный день вы можете прозреть, проснуться и прийти в ужас. Вы на опасном пути, Вера. Что общего у вас с ними? У вас тонкие пальцы, и вы полируете ногти, у вас нога как у ребенка. А вы видели их руки? Вы любите все иное, Вера. Вы просто забыли… Мне жаль смотреть, как гибнет такая прекрасная женщина, как вы.
— Откуда вы взяли, что я гибну? — уже спокойнее спросила Вера. — Я давно не чувствовала себя так хорошо, как теперь. Я не одна, я работаю.
— Ах, Вера, Вера!
Она видела, что этот человек искренне мучается. Они — уже на разных берегах, и поток, расширяясь и клубясь, врывается между ними.
Но Аркадий не хочет терять ее…
— Нам нужно держаться вместе, Вера. — Он придвинул стул к ней.
Вера отодвинулась.
О, этот жест отодвигающейся женщины! Она убирает от вас милые складки коричневой юбки. Аромат становится тоньше, уходящий аромат женских волос…
Синьков поднимается. Он привык справляться с собой Когда он подает руку девушке, он старается даже не сжимать ее пальцы.
Аркадий идет к двери, и подошвы его, кажется, увязают в полу, как будто он шагает по размокшей после ливня глине. У него упрямое, гнетущее, принесенное еще с улицы, еще от терпкой и бессонной ночи желание. У него во всем теле истома. Что делает с ним эта девушка? Зачем у нее такие руки и такие неповторимые, пахнущие весенним лугом волосы?
Он оборачивается:
— Я так люблю вас, Вера.
Кажется, эти слова никто и никогда еще не произносил от века… Так они значительны — и все-таки неловки и недостаточно сильны…
Она уже по пожатию руки, по вздрагивающим плечам видит, до какой степени он взволнован. Ей жаль его тихой жалостью, поверхностной и немного обидной. Как будто ей за что-то совестно перед ним.
Она подходит и кладет ему руку на грудь.
— Не надо, Аркадий Александрович, не надо так… милый!
Эти слова падают, как спичка в ворох сена, в его ничем больше не сдерживаемые мысли.
— Не могу я, не могу, понимаешь, — вспыхивает он. Он целует ее, он с силой ищет ее рот. Вот они — эти раскрытые губы… Но вместо них холодные, стеклянные зубы. И этот взгляд! Испуг и ненависть. Он с силой отталкивает ее, как будто заразившись на мгновение этой ненавистью…
За окном молчала безлюдная улица. Молчит большая квартира. Аркадий, прислонясь к стеклу лбом, дышал и безрезультатно тянул крепко закушенную папиросу.
Он зажег спичку и увидел, что папироса еще горит.
Часы на столике тикали так громко, что хотелось их разбить. Он боялся обернуться.
Потом он услышал, как Вера развинченными шагами прошла по комнате к кровати, потом вернулась.
— Аркадий Александрович…
Это куда тише, чем стучат часы.
Он обернулся резко, готовый встретить любые гневные слова.
— Я вас прошу уйти… И больше я не хочу видеть вас… никогда…
В зеркале шкафа видна ее спина. Может ли спина постареть?.. Большой платок до полу и узенькие каблучки черных туфель.
Послушно, как провинившийся дворовый пес, не прощаясь, Синьков прошел мимо нее, не встретив никого в коридоре. Соскакивающими пальцами повернул французский замок и старательно, бесшумно запер дверь. Аркадий летел по улицам, как будто за ним гнались. Он думал, что прежде никогда бы не поступил так с девушкой своего круга, к тому же так искренне любимой. Все кругом рассыпается. Какой-то неистовый Самсон потрясает основы мира. Он сам, как и его товарищи, сопротивляясь, припадают под его усилиями к земле…
Глава VII РЕКВИЕМ
Пристальные взоры мужчин в школе, на улице, в трамвае и раньше волновали Веру и вызывали в ней резкий протест. В трамвае она с неприязненным лицом отворачивалась от назойливых взоров, в школе вдруг начинала говорить сухо и скупо, если замечала попытки коснуться ее руки или перейти на интимные интонации в разговоре.
Аркадий больше не появлялся, но из мыслей не уходил.
В школе происходили перемены. На обнесенном чугунной решеткой дворе поставили гимнастические снаряды. Сначала неуклюже, затем все ловчее и ловчее курсанты взбрасывали молодые тела над турниками, прыгали через кожаную кобылу. Открыли большой зал, уставленный колоннами, обтянули хоры кумачом, по которому пошли тяжелые, уверенные белые буквы: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» В центре хоров появился черный глаз киноаппарата. Рядом с залом очистили еще несколько комнат, и на входной двери в эту часть замка повисла надпись «Клуб».
Заведующим клубом был назначен живой, как ртуть, актер с ласковыми глазами, всегда приглашающими разделить его оживление. Он забегал и в библиотеку и, не переставая любезно шаркать ногами, просил Веру принять участие в клубной работе, тем более что и библиотека организационно будет отнесена к клубу.
Днем в клубе играла музыка, строгая и сильная, как шагающие по улицам ряды. Музыка эта оседала где-то на хорах и, казалось Вере, не уходила из зала и из классов никогда.
Вечерами Вера оставалась в клубе, резала, клеила, рисовала, выискивала лозунги из газет и журналов, развешивала портреты вождей. В помощниках не было недостатка. Работа увлекала курсантов. Они не переставали расспрашивать Веру, начклуба, руководителей кружков обо всем, что попадалось под руку.
Еще раньше в дальней комнате затрубили тромбоны и валторны, в проходной у стен выстроились самодельные мольберты. Если кому-нибудь из курсантов удавалось нарисовать облитый солнцем дом или вылепить из глины лицо преподавателя географии — товарищи приходили гурьбой, и слава художника облетала роты.
— Какая у них жадность к жизни, — говорил Вере завклубом. — Они всё хотят получить, всему научиться в восемь месяцев. Я провел анкету, там был вопрос: «Чем намерен заняться, когда окончится гражданская война?» Кроме троих, все написали — «учиться». Так и пишут: «учиться на доктора», «учиться на учителя», «на инженера», «на командира». А из троих один обязательно пишет: «Поеду в деревню, заведу культурное хозяйство…»
Над Летним садом в этот день носились стаями галки. Черными пупырышками они укрывали золотой, высоко вознесенный шпиль. У ворот стояла нестройная, но необычайно молчаливая толпа курсантов. На высоких гранитных воротах повисла черно-красная лента. На ней слова:
«Мы отомстим белобандитам за смерть товарищей!»
У Веры сжалось сердце. Не задерживаясь, она пробежала в библиотеку. Среди холодных, встречающих взор зеленоватым стеклом шкафов было пустынно. Вера принялась за комплекты газет. В перемену вошел ее любимец, Сергей Коньков. Он был без книг и был взволнован.
— Слышали, Вера Дмитриевна?
— Что случилось, товарищ Коньков?
— Двоих наших привезли. Белые убили на Урале. Помните, месяц назад добровольцами уехали по партийной мобилизации десять человек?
Добровольцев провожали с музыкой, и Вера помнила даже речи курсантов и командиров.
— Гришанина Петра и Веревкина Алексея…
— Гришанина? Это ведь старшина взвода. Худой, высокий.
Фамилию заслонил живой человек. Ну да, это он любил географию. С ним она развешивала карты по стенам. Гришанин был так высок, что, не взбираясь на стул, забивал гвозди чуть ли не под самым потолком, и она заметила, что у него был раздроблен палец. Он рассказывал: это случилось в мастерской, молотком. Гришанин обводил рукой зеленые разбеги океанов и все повторял, что хотел бы жить на острове, чтоб кругом была вода и всюду нужно было бы идти на корабле.
Веревкина она не помнила.
— Ну, Вера Дмитриевна, такой же худой, чуть пониже. Они в одной паре ходили. Вместе и поехали.
В окно было видно, как въезжали во двор экипажи. Простучал разбитый автомобиль. Это съезжались комиссары и командиры на гражданскую панихиду.
Вера стояла в углу у дверей Красного зала. Два гроба возвышались на помосте среди зеленых ветвей, нарезанных за городом. Черные буквы обходили красный куб, заворачивая легко угадываемые концы прощальных слов.
Курсанты расступились, и, звеня шпорами, вереницей вошли командиры. Впереди шел худой, острый, как клинок, Альфред. За ним Алексей. Какая у него большая и упрямая голова. Он был назначен председателем партийной организации запасного артиллерийского дивизиона и теперь пропадал с утра до вечера. Настя говорила, что он худеет с каждым днем. Вера сама чувствует, что раньше он был и веселей и проще.
В толпе командиров — начальник школы и комиссар. Все в зале говорили шепотом. Один за другим выходили к помосту курсанты и командиры. Каждый говорил по-своему, но сжатые губы, шепот, зелень над красным помостом уже связали в один узел мысли этих людей.
Представитель Смольного, в рабочей блузе, с бородой и повязанной платком шеей, говорил дольше всех. Он рассказал о перевороте в Омске, о борьбе на Урале, об угрозе Югу и Северу страны, о делах молодой Красной Армии, о Ворошилове и Буденном.
Алексей говорил одним из первых. Тяжелыми кулаками размахивал он так, как будто грозил или производил работу. У него разметались на лбу волосы, и пряжка кушака ушла совсем на бок.
— Нас много, — крикнул он в зал. — Всех не перестреляют. А мы как один пойдем против врага. — Он обернулся к гробам: — Спите спокойно, товарищи. Никто никогда не ступит вражеской ногой на ваши почетные могилы!
Он шагнул в толпу, и Вера видела, как он стоял, не глядя ни на кого, ни к кому не обращаясь и, может быть, никого не замечая. Никто ничего не говорил ему, никто не наклонялся к его уху, может быть понимая, что в этом человеке сейчас бушуют чувства более значительные, чем сказанные им слова.
«Такие, как Аркадий, — думала Вера, — должны быть рады. Убиты два врага». А сама она помнила, что эти люди хотели учиться и плавать на кораблях. Кто-то не хочет, чтобы они учились и свободно бродили по земле.
Вера повторяла про себя эту фразу, как будто смысл ее только по капле просачивался в ее сознание.
«А может быть, все это сложнее?» — постаралась она укрыться, как за щит, за это обычное соображение.
Все равно — в этом зале сегодня звучала большая правда, и эти два красных гроба — как сургучная печать на ее свитке.
— У вас сегодня ничего больше не будет, — сказал ей у выхода Алексей. — Давайте подвезу. У меня лошадь.
Он был тяжел и печален.
Вера говорила с ним тихим голосом, словно хотела охранить то чувство, которое наполняло его до краев.
Настасья впустила обоих в квартиру. Они никогда еще не приезжали вместе. Она смотрела вслед Алексею, поспешно ушедшему в кабинет, и направилась в угловую вслед за Верой со слишком очевидным вопросом на лице.
Раздевшись, Вера рассказала ей о панихиде. Настасья сидела задумавшись. Потом спросила:
— Учить нас хотят. А я не знаю… Я ведь грамотная… А что мне еще нужно?
Со всем красноречием Вера стала убеждать Настасью ходить на вечерние уроки и тут же по первой попавшейся книге стала объяснять, что грамота — только дверь к знанию и, открыв эту дверь, не следует задерживаться на пороге. Настасья стала уходить вечерами в райсовет, и Вера, по ее просьбе, грела в эти дни для Алексея чай и застывшую на погасшей буржуйке кашу.
В один из вечеров, когда Настасьи не было дома, повелительный звонок застал Веру в передничке у растопленной мелкой щепкой печурки. Она подошла к двери и спокойно повернула французский замок.
В дверях стояло трое мужчин. Все в кожаных фуражках с красными звездами. Решив, что это товарищи к Алексею, Вера отступила, пропуская вошедших в переднюю. Сам Алексей, заслышав звонок, уже шел по коридору. По его лицу Вера поняла, что пришедшие ему не знакомы, и встревожилась внезапно, но не глубоко.
— Кто проживает здесь? — спросил передний.
— А вам кто нужен? — неласково спросил Алексей.
— У меня есть ордер на обыск всей квартиры.
Он предъявил Алексею узенький цветной документ.
— Живу я, моя сестра и вот еще племянница прежнего владельца квартиры, генерала Казаринова…
Алексей цедил слова. Он думал: неужели же нужно производить обыск там, где живет он?.. Хотя бы это и была генеральская квартира.
— Вот с вас мы и начнем, — обратился чекист к Вере. — Покажите вашу комнату.
Вера зачем-то развязала передник и тщательно развесила его на вешалке.
Чекисты заглядывали в большие брошенные комнаты и проходили мимо, как будто знали наверняка, что здесь нет ничего их интересующего, но Верина комната подверглась тщательному осмотру.
Тревога, вспыхнувшая в Верином сознании, росла. Они могут найти в ее столе письма из Волоколамска. Тетка не стесняется в выражениях, когда речь идет о большевиках. Но пришедшие мало интересовались содержанием стола. Один из них посмотрел на почтовые штемпеля, спросил, от кого письма, и положил нетолстую стопку под пресс-папье. Осмотрев шкафы и печь, они принялись за кушетку. Тут только Вера вспомнила о свертках Куразиных. Кровь прилила к ее лицу. Старший чекист посмотрел на нее подозрительно.
— Здесь вещи одного знакомого, — шагнула она вперед.
— Посмотрим. Увесисто, — поднял он сверток. — Вы знаете, что здесь?
— Какие-то фамильные ценности, — неуверенно сказала Вера.
Но в свертке оказались маузеры, наганы, пачки и ленты патронов.
«Фамильные ценности», — насмешливо и враждебно бросил Вере в лицо чекист. — Неловко работаете, барышня.
— Откуда у вас? — крикнул Алексей.
— А вы, товарищ, зевнули, а еще красноармеец, — сказал чекист.
— Алексея Федоровича не было дома, когда принесли… — проговорила Вера.
Она решила, что погибла окончательно, хотя и не понимала, в чем ее погибель, и теперь боялась, чтобы из-за нее не пострадал Алексей, чтоб он и Настя не сочли ее неблагодарной тварью.
— Мы с вами обстоятельно поговорим, — сказал чекист и предложил Вере одеваться.
В гробовом молчании уходила Вера. Алексей долго не запирал дверь. Холодная струя с нетопленной лестницы проникала в квартиру. Затем он сорвал с вешалки шинель и фуражку и побежал к Чернявскому.
Глава VIII ИГНАТ СТЕПАНОВИЧ КОРОТКОВ
Адъютант подошел так неслышно, что Аркадий вздрогнул.
— Зайдите вечером. Есть разговор.
Он повернулся на каблуках каким-то полубалетным па и исчез.
У Дефоржа был вид заговорщика, а осторожность Аркадия увеличилась еще больше в дни арестов. Вечером никакого разговора не получилось. Аркадий с места стал расхваливать большевиков. России — белой или красной — нужна сильная армия. Она нужна народу. Ножны можно будет сменить, но клинок останется. Сейчас задача всех русских — помочь большевикам в организации боеспособной армии. Он говорил негромко и убежденно.
Дефорж смотрел на него глазами обознавшегося на улице прохожего. Он пробормотал что-то нечленораздельное. Командование хлопочет о дополнительном пайке командирам, так вот он хотел предупредить Синькова. Он суетливо распрощался, ссылаясь на занятость. Своим очевидным разочарованием он доставил удовольствие Синькову.
Теперь нужно было разыскать Коротковых. Но сделать это следовало незаметно.
Бывший командир батареи и бывший каптенармус встретились случайно на Варшавском вокзале. Они обнялись и поцеловались, как старые боевые товарищи. Игнат Коротков шел нагруженный мешком и сундуком. Он бранил власть, отправлявшую его на фронт, жесткими солдатскими словами. В семнадцатом году, в зловещие месяцы керенщины и развала, такие, как Коротков, составляли последнюю опору офицерства и эсеровских комитетов. Это были плохие союзники, но на болоте каждая кочка — друг.
За плечами Короткова улыбались Синькову псковичи, режицкие, опоченские знакомцы Короткова. Кто призван в артиллерию, а кто попал в пехоту.
Он сам только накануне, по совету Живаго, подал заявление на имя комартформа. Боевой георгиевский кавалер, он заявлял, что считает всех интервентов и тех, кто им помогает, врагами родины. Своим местом он почитает не Дон и не Сибирь, но ряды народной Красной Армии. Он был немедленно зачислен в армию и получил батарею.
После трех ночей далеко не мирных разговоров и разъяснений Леонида Ивановича подал немногословное заявление и Воробьев. Оно было лишено какого-либо пафоса и походило на обычное прошение человека, заинтересованного в службе и заработке.
Синьков решил действовать. Встреча с Коротковым поможет ему сделать эту батарею послушным орудием в его руках.
Поэтому стремление Дефоржа сблизиться с ним огорчило Синькова. Еще ни слова не было сказано, но он уже чувствовал, что это — апелляция к офицерской солидарности. Дефорж и командир дивизиона Малиновский — это грызуны, которые работают рядом и, как казалось Синькову, слишком шумно. Если они так быстро почувствовали в нем своего, то недорого же стоит одетая Синьковым маска.
Простившись с адъютантом, Аркадий продолжал смотреть в окно на двор казармы с невыразимой тоской. С детства он любил все военное. В кабинете отца висел военный император. Старики генералы, молодцеватые, прославленные кавалеристы — все Синьковы и Победимские, родственники матери. В столовой на стене запомнилась на всю жизнь большая картина, изображавшая парад на Марсовом поле. Ее можно было рассматривать часами, фигурку за фигуркой. Сколько головок он отломал у оловянных солдатиков. Затем корпус — семь лет игры в потешные. С детства идеалом его был сильный, рослый офицер в щегольской фуражке, с саблей, которая тянется по земле, со шпорами, которые помогают выразительно шагать. Беспорядочный в своей частной жизни, он любил порядок в казарме, на линейке, на походе. Он любил нерушимую линию строя протестующей против всякой расхлябанности любовью. Солдат, не подобравший в строю живот, с пряжкою на боку, становился его личным врагом. Он поставил себе задачей стать популярным, но требовательным командиром, о котором старые солдаты говорят: «Он строг, но справедлив». В этом было противоречие, и это было нелегко, но удавалось. Он гордился тем, что даже Февраль не поколебал его авторитет у солдат. Он мог стать командиром дивизиона по избранию. Но Октябрь — это было больше, чем он согласен был перенести. Живаго убедил его в том, что в случае наступления белых армий массовый переход на их сторону красных частей будет служить успеху не меньше, чем победа в бою. Можно было понять, что это установка Парижского центра и союзных посольств.
По двору, окруженный красноармейцами, прошел Шавельский. Этот тенор чувствует себя как рыба в воде. Ворот расстегнут, пуговица у хлястика на нитке. На ногах обмотки с прилипшей грязью…
Таких, как Шавельский и Дефорж, можно сломать в руках, как спичку. Против грубой силы нужна грубая сила. На одном из собраний агитатор-коммунист назвал белые офицерские отряды первоклассными войсками. Аркадий решил, что оратор либо льстит красноармейцам, которые уже били эти войска, либо ничего не смыслит в военном деле. Войска из белоручек. Для многих из них винтовка тяжела. Кто из этих «студентов» пройдет десять километров с полной выкладкой?
Аркадия по-своему тянуло к солдатам. Только в соприкосновении с их черноземной силой офицер становится силен и сам.
У него возникла идея сколотить батарею из знакомых и преданных ему солдат. Эту идею одобрил Живаго. Нужна только выдержка. Спокойствие. Кропотливая работа. Тайна. Синькова увлекла эта мысль. В ней была романтика трудного достижения, дальнего прицела.
Приходя в дивизион, Аркадий очень мало времени уделял штабу. Он сознательно укреплял свою репутацию у красноармейцев. Он шел в казарму, вмешивался в занятия, беседовал с красноармейцами. За ним быстро установилась репутация хорошего командира. На хозяйственном дворе он рубил суковатые пеньки могучими ударами по клину, один вертел хобот гаубицы, ругался с каптерами и поварами за качество каши.
Он проводил все новые виды учений, организовывал прогулки по городу, приводил в порядок орудия и конюшни, чтобы завоевать доверие комиссаров.
Он тщательно и бережно ткал паутину, за которой должна была скрываться его работа иного порядка…
Коротков Игнат сидел на дышле зарядного ящика в дальнем углу двора и черным ногтем упорно крушил ни в чем не повинную свежую стружку.
— Что сегодня как туча? — спросил, усаживаясь рядом, Аркадий.
Коротков пересел по-новому, вполоборота к командиру, утер нос цветным ситцевым платком и сказал:
— Письма нехорошие, Аркадий Александрович.
— Из деревни?
— Баба пишет. Хлеб опять забрали. Комитет бедноты… Обратно… в Совет голоштанные пролезли…
— Теперь бедным лучше.
— С какого богатства, Аркадий Александрович? Может, детям жрать не останется.
Аркадий молчал. Молчал и красноармеец. Розовое, сытое лицо его в черных пятнышках выражало досаду и злобу.
— Я бы был… Я бы поговорил с товарищами.
— Не помогло б, Игнат Степанович. Хлеб армии нужен. В городе по карточкам тоже… У вас, вероятно, крепкое хозяйство?
— Что ж, мы повинны всех кормить? А нас кто кормит? Ни обувки, ни ситчику… Карасину, спичек, гвоздей там — на что барахло! — и то нет. Нас на котле, на фунте держат. А в деревне всё берут. Куда ж девается, Аркадий Александрович?
«Стану я еще объяснять тебе, дураку», — подумал Аркадий и сказал:
— Я и сам иногда думаю, думаю и многого не понимаю, Игнат Степанович. По-новому живем. Потерпим — привыкнем.
— Кобыла привыкала, привыкала и сдохла…
— Ну, не все сдыхают, кто и останется…
Красноармеец пытливо смотрел в лицо командиру. Он крякнул, отбросил стружку и, осмотревшись, сказал:
— К вам со всем уважением, Аркадий Александрович. Как вы и раньше к солдату всей душой. В морду никогда не били. За правду в семнадцатом стояли. С понятием. Я вам скажу, Аркадий Александрович, иные ребята хочут по домам пойти. Беспорядок ведь.
— Брось, брось, Игнат Степанович. Это не дело. Это там в горах где-нибудь, на Урале… А здесь переловят вас всех да и пустят налево. И семье не поможешь, и сам пострадаешь. Это называется дезертирство. Жену пайка лишат, землю, коров отберут. Если бы все так, как вы… А то ведь многие не так думают…
Голова Короткова опускалась. Фразы Аркадия давили своей правдивой силой. Легко было все это представить себе.
— А и так всё заберут, Аркадий Александрович.
— Ну, не всё, — начал было Аркадий и спохватился.
Зачем ему, этому парню, знать, что его командир, Синьков Аркадий Александрович, еще с детских лет с чужих слов усвоил, что крестьяне хитры, бедными только прикидываются и обязательно что-нибудь прячут.
— Всё, Аркадий Александрович, — настаивал Игнат. — Прочитайте сами.
Он совал ему письмо, уставленное крупными каракулями. Аркадий невнимательно читал послание, женскую слезливую жалобу.
— Не пойму я вас. Ваша же власть.
— Да и где там, Аркадий Александрович. Беднота, ободранцы там…
— Ну, уж это ваше дело, — раздражался Аркадий. Голос его неприятно поскрипывал. — В старой армии, в семнадцатом, что захотели, то и сделали.
Игнат смотрел вопросительно.
— Были все вместе, дружно, сговорились и сделали…
Игнат по-прежнему спрашивал глазами.
«Неужели дурак не понимает?» — думал Аркадий, боясь сказать что-нибудь лишнее.
— Значит, в частях? — скорее сам себя спросил Игнат. — При оружии?..
— Говорят, скоро пошлют батарею не то на Урал, не то к Риге, к Ревелю. Если к Риге — поедем через Остров.
— Остров — вспыхнул Игнат. — Семьдесят верстов до Байкова… до нашей деревни…
— Ну, видишь, и ездить не надо. Все к вам придем.
В глазах Игната бегали огоньки.
— Кто есть из ваших… ну, знакомых, земляков… но только спокойные, не бузотеры… пускай подают заявление на мое имя. Я приму. Чем больше будет своих, тем лучше. Но только чтобы без лишних разговоров…
— Понятно, Аркадий Александрович, понятно…
Бывший каптенармус как будто бы действительно понял бывшего командира батареи. Он энергичной мохнатой рукой развязал кисет. Крепко бил кресалом о кремень.
Алексей проходил через двор в казарму.
Дружно беседует командир с красноармейцем…
«Я тебя выживу отсюда… Я-то знаю, что ты за птица», — думал Алексей, вступая на порог казармы.
— Черных, я думаю, комиссаром будет, — уронил Синьков.
Коротков проводил Алексея тяжелым, мрачным взглядом…
Всю революцию Алексей слушал, говорил и действовал, не забывая о долге и об обязанностях. Но при этом, как ветер в горах несет снеговую завихрину, его несло сильное, как голод, волнение. Он не мог молчать, как не могли молчать его товарищи. Офицеры готовы были заткнуть им рот… хотя бы пулей. Но фронт от Риги и до Дуная говорил так громко, что весь мир припал ухом к земле и слушал. Вокруг Алексея распускалась весна вольной человеческой речи. Он чувствовал, как новые, никогда прежде не слышанные слова приносят ему такую правду, которая вторым солнцем загоралась в небе, чтобы больше не уходить ни днем ни ночью. Эта правда покончила с войной, она повернула в другую сторону штыки миллионов, его самого из слепого и одинокого сделала сильным, уверенным товарищем Альфреда, Порослева, Чернявского, всей многочисленной партии и самого Ленина. Он действовал не один. Рассыпанные по стране люди, называвшие себя большевиками, делали тысячи неловких шагов, ошибок, но прошлое падало под их ударами, как подорванная крепостная стена, подымая к солнцу, луне и звездам опаленные заревом облака пыли.
Как за тусклым стеклом, лежали в прошлом годы, когда солдат Черных видел перед собой только окопы, рассекающие мир на несливаемые части, и в будущем — неведомые дороги, по которым он понесет свои сильные руки в поисках спасающей от голода случайной работы.
На Виленский Алексей шел, еще крепче сознавая, что у него есть и долг и обязанности. Он вступал в игру по точным правилам. Теперь он, Алексей Черных, отвечает перед партией за каждый шаг и за успех своей работы с сотнями различных, различно настроенных людей.
В сущности, люди были те же, что и на фронте. Революция несла им жизнь, мир, землю и волю. Она была единственной силой в стране, способной создать порядок и армию для охраны его. И Алексей верил твердо, что революция столкуется с этими людьми.
Первое заседание бюро коллектива состоялось в райкоме. Возвращаясь домой, Алексей мучительно рассуждал о том, какие меры он примет прежде всего, вступив в исполнение своих обязанностей. Но, увлекаясь, он сводил дело к тому, какие слова он скажет товарищам по части. Они еще не выветрились, эти слова семнадцатого года.
На другой день впервые, никого не предупреждая, Алексей прошел коридорами трехэтажного здания, занятого штабом запасного дивизиона. Никто не спросил его, кто он и кого ему нужно. Только вчера прибыла партия мобилизованных. Эти люди ходили по двору и по зданию в сумбурном смешении фронтовых и деревенских нарядов. Тихие и робкие, как гости, но готовые вдруг ощетиниться в воспоминании о воле петергофские батраки, крестьяне олонецких болот и новгородских посадов, ладожские рыбаки, красносельские огородники, псковские льноводы и петроградские рабочие. В длинных, до полу, шинелях уверенно проходили инструкторы и кадровые унтер-офицеры, взятые в Красную Армию еще весною и летом.
На двери одной из самых больших комнат висела выведенная обратным концом ручки или мундштуком от папиросы чернильная надпись:
ДИВИЗИОННЫЙ КОЛЛЕКТИВ
и ниже, для ясности, еще раз:
КОЛЛЕКТИВ
Голый стол с оборванной клеенкой, скамья и одинокий стул. Портрет, прибитый к стене единственным вершковым гвоздем, отчего лицо вождя неестественно вытянулось. У печки — мусор, щепа, занесенное с дровами сено. Женщина с седыми волосами, в матерчатых туфлях чутьем опытной курьерши угадала в Алексее будущее начальство, разыскивающее свой будущий кабинет. Она предложила позвать коменданта. Перед Алексеем предстал тридцатилетний человек в шинели без петлиц и укороченной настолько, чтобы из отрезанных пол можно было скроить два необъятных кармана. Они топорщились на бедрах, как два походных ранца. Лицо с коротенькими усиками улыбалось. Нос был расплющен на конце в лопатку.
— Вот они спрашивают, — сказала старушка и осталась за дверью.
— Вы кто же будете? — осведомился утконос.
— Я — организатор коллектива.
— Как? — переспросил утконос.
— Организатор партийной ячейки.
— Ага. — Нельзя было догадаться, понял ли он или нет. — И что же вам будет угодно?
— Как бы это достать для коллектива столы, стулья, мебель какую-нибудь… Сегодня вечером будет заседание. Портреты вождей в рамках.
Утконос внезапно направился к окну и, глядя на улицу, ответил:
Кто теперь вешает картины в рамках? А мебель всю переломали… а может быть, растащили. Командиру дивизиона нечем кабинет обставить. Мебель адъютант распределяет.
— Кто адъютант?
— Поручик Дефорж… бывший поручик.
— Позовите его сюда.
Комендант посмотрел так, как смотрят на скворца, сказавшего внезапно человеческое слово.
— Их кабинет напротив командира…
«Не крупного же ты калибра», — подумал Алексей и вышел в коридор.
Дефорж сейчас же философски согласился с тем, что, если партийный коллектив будет обставлен, туда охотнее станут заходить и беспартийные. Сомнение проскользнуло слишком тонкой змейкой, которая легко, не задевая чужого внимания, всегда струилась с острых губ Дефоржа, украшенных английскими усиками.
— Но мебели сейчас на военных складах нет вовсе. Об этом как-то не подумали… — прибавил он с приличествующей печалью.
— Пришлите мне фурманку — я наберу у себя.
— Да, если собственной… Но так не делают…
— Это не Малеев. С этим будет труднее, — сказал Малиновский, выслушав Дефоржа. — Одной предупредительностью его не купишь.
— Придется устранить, — задумался Дефорж. — На фронт, комиссаром…
— Посмотрим… Не сейчас. Найдутся и у этого слабые места. Он смотрит непримиримым… Такие часто не опасны… Пусть клокочет почаще, по всякому поводу маленьким вулканом. Начадит — его и выбросят свои же. Устраивайте ему побольше стычек с красноармейцами… А мебель нужно поставить. Хорошее кресло иногда успокаивает лучше брома.
Глава IX БУНТ
Шавельский подкупал красноармейцев мягким добродушием и песнями. Деревенский человек любит песню, которая хватает за душу. Стены раздвигаются, костры в лесах становятся теплее, рубаха — мягче, когда ручейком, не зная себе предела и края, льется серебряная теноровая трель. Песня не пришла на село, она — своя сестра, она родилась там вместе с нуждой и работой, у прясла, у межи, вместе с беспричинной, скупой радостью. А Шавельский готов был петь где угодно — в поле, на улице и в казарме.
Когда Шавельский приходил во двор дивизиона с намерением начать занятия по строго обдуманному и даже записанному в блокнот плану, каждый раз из этого ничего не выходило. Он не умел приказывать. Он всегда просил. Но и просить Шавельский тоже не умел. Казалось, будто сам он не знает, чего хочет. Казалось, отказать ему в просьбе совсем легко и не обидно.
Все события от Февраля до Октября он принял, как изменения погоды по сезонам: стало холодно — следует надеть шубу. Он с легкостью опростился и усвоил подходящую фразеологию.
В десять часов утра у орудий, во главе со взводными, собирались красноармейцы. Взводные снимали с гаубиц чехлы, открывали замки. Но каждый раз обнаруживалось, что на вчерашнем объяснении большинство не присутствовало, и приходилось все начинать сначала. Было скучно инструкторам и еще скучнее слушателям. Потом приходил каптенармус, просил батарейного дать десять человек для переноски белья. Вместо десяти уходили двадцать и тридцать человек, и остальные с завистью посматривали вслед ушедшим. Затем комендант требовал десять человек для пилки дров, просились к доктору, на почту, в штаб, и у орудий оставались только присяжные любители разбирать, свинчивать и развинчивать все на свете, будь то зажигалки, перочинные ножи, ходики или пушки. И когда батарейный собирал людей для строевого учения, то на дворе, у гаубиц, оказывалось так мало людей, что стыдно было водить их под команду. И Шавельский распускал батарею.
Синьков при комиссаре, Алексее и самом Шавельском заявил, что нет возможности держать в руках людей, когда в одном и том же дворе, в тех же казармах половина красноармейцев не знает никакой дисциплины.
Малиновский загорячился, замахал руками и сказал Шавельскому, что он ждет от него такой же настойчивости, какую проявил Аркадий Александрович, и просит начать строевые учения, согласно приказу, с завтрашнего же дня.
— Именно с завтрашнего дня, — подтвердил комиссар Малеев. — Я сам приду посмотреть.
Шавельский церемонно взял под козырек и сказал, что исполнит приказание.
Алексей присматривался к Синькову. Глушил в себе неутолимую неприязнь, но она вспыхивала в нем при каждом взгляде в холодные, бесцветные глаза Синькова, при звуках его скрипучего голоса, при воспоминании о Вере… Неясен был для него этот властный и сильный человек. Но как инструктор он действует отчетливо. Надо добиться, чтобы все инструкторы и командиры работали так же, как Синьков.
Холодным, ветреным утром с серыми гонкими тучами, какие проносятся по осеннему небу Петрограда, когда Финский залив грозит превратить городские улицы в каналы, Алексей отправлялся со всем бюро коллектива в райком. На дворе под звучную, умелую команду Синькова ходила первая батарея. Сам Малиновский стоял посредине двора в перехваченной поясом шинели. А где-то в глубине, у цейхгаузов, топтались жидкие ряды второй батареи. Голос Шавельского, такой ладный и звучный в песне, едва доносил до улицы слова команд.
«Начали все-таки», — подумал Алексей и пожалел, что его срочно вызывают в партийный комитет. Он тоже посмотрел бы, как идет учение, как ведут себя коммунисты.
Малеев вышел во двор, когда Малиновский уже возвращался в управление, а Синьков выводил команду за ворота. Малеев пропустил мимо себя тяжело и гулко шагавшие ряды и прошел во двор, где нескладно шагала вторая батарея. Шинели у многих красноармейцев были расстегнуты, в строю шли разговоры, на глазах у комиссара люди покидали ряды и разбредались по двору.
Малеев уже представлял себе, как энергично он будет разговаривать с командиром. Этакая шляпа, не может взять людей в руки.
Шавельский крикнул:
— Стой!
Двое вышли из второго ряда и двинулись к казарме. Малеев пустился наперерез:
— Куда, товарищи?
— На минуточку в казарму, товарищ комиссар, — не останавливаясь, сказал один из беглецов.
— Стойте, товарищи, когда с вами говорит комиссар! — раздраженно крикнул Малеев.
Не сразу, с ленивым достоинством, оба остановились.
— Почему покинули строй?
— Командир разрешили.
— Пойдем к командиру.
Шавельский уже заметил комиссара и сделал ему навстречу несколько шагов.
— Товарищ Шавельский, вы разрешили этим товарищам покинуть строй? — не дожидаясь рапорта, крикнул Малеев.
Батарейцы смотрели на командира и комиссара усмехаясь.
— Схватятся, как петухи, — смеясь, шептал соседу рыжий Малкин.
Комиссар услышал и налился кровью.
— Я не помню, — мялся Шавельский. — Может быть, разрешил. Я разрешил вам? — спросил он красноармейцев.
— Так точно, разрешили, — весело ответил один из них.
— Что же вы покрываете? Я видел: сами ушли. — Малеев уже ненавидел этого тонконогого певуна. — И потом — строй так строй. Вы небось в царской армии из строя не пускали.
— Другие порядки, — солидно заметил Игнат Степанович Коротков.
Шавельский сделал безнадежный жест. Лицо его говорило:
— Тоже сравнил, голова садовая!
Малеев старался успокоиться, но внутри его все клокотало. Разве это допустимо?
— Вы оба пойдете под арест. На вас я тоже наложу взыскание, товарищ Шавельский.
Чтобы не сказать лишнего, не уронить свой авторитет, Малеев спешным шагом отправился к управлению. Позади него в нерешительной позе стоял Шавельский, по рядам батарейцев ходил гул недовольных голосов.
По двору Малеев еще шел, но по лестнице и по коридорам он уже бежал. В канцелярии он увидел Сверчкова, схватил его за рукав и вместе с ним, недоумевающим и слегка сопротивляющимся, влетел в кабинет командира.
Малиновский посмотрел на Малеева скучающим взором и терпеливо выслушал сбивчивый рассказ комиссара.
— Под арест? Прекрасно сделали. А командиру? Что же, э… э… командиру — выговор в приказе.
— И командира под арест! И красноармейцев и командира, чтоб было понятней.
— Хотите командира под арест? — переспросил Малиновский. — Сразу подорвать авторитет командира батареи?
— Негодный командир он, Константин Иванович. Сменить его вообще надо, — наседал Малеев. — И посадить надо. Вот поручите товарищу Сверчкову.
Сверчков досадовал, что не ушел из кабинета в удобную минуту.
Малиновский улыбнулся одними глазами.
— Дмитрий Александрович, по моему приказанию э… арестуйте штабс… э… командира второй батареи и посадите его… э… куда-нибудь, вместе с красноармейцами.
— А куда же мы его денем? — спросил он у комиссара. — Ведь у нас нет ни губы, ни арестного помещения. Гауптвахта… в Красной Армии… — недоуменно размышлял он вслух. — Видимо, нужно будет завести. А пока можно в чистый подвал. Принести стол, скамью… Ведь ненадолго?.. — спросил он комиссара.
Сверчков отправился на казарменный двор. Окруженный красноармейцами, стоял Шавельский. Обиженным голосом он оправдывался перед сочувствующей ему толпой. Сверчков подошел к нему и официальным тоном сказал:
— Товарищ Шавельский, по приказу командира дивизиона я должен арестовать вас. У вас нет оружия? Будьте любезны следовать за мною. — Он пошел вперед, не дожидаясь ответа.
Шавельский развел руками, как бы спрашивая не то у сверчковской спины, не то у красноармейцев: за что? — и послушно двинулся за Дмитрием Александровичем. У входа в подвал он остановился.
— В подвал я не пойду. Что я, собака, что ли?
— Поставим вам стол и скамью. Там чисто.
— Красиво! — бросил в лицо Сверчкову Шавельский. Он осмотрел нахмуренные лица красноармейцев, еще раз упрямо топнул ногой и плаксивым голосом заявил: — Я не свинья — валяться по подвалам.
Малкин толкнул в бок Сергея Короткова:
— Как хороший командир — так его в подвал…
— Крутют… — буркнул Коротков Игнат.
— Не давать командира, — выкрикнул громко один из батарейцев.
— И паек фунт! — подсказал Малкин.
— А матрацы иде?
— И теплое белье?
— Сапог навезли, а не выдают, — поддавал Малкин.
Голоса вспыхивали то здесь, то там.
— Товарищ Шавельский, прошу вас подчиниться, — обеспокоенно и многозначительно сказал Сверчков. — Я сам подчиняюсь приказу и рекомендую вам сделать то же.
Игнат Коротков заступил дверь подвала и заявил Сверчкову:
— Не пущам командира в подвал.
Он хотел увести Шавельского, но Сверчков резким тоном сказал ему:
— Игнат Степанович, не мешайтесь не в свое дело.
Шавельский колебался.
Тогда Малкин крикнул:
— Сегодня арестуют, а завтра начнут морду бить.
— Понравилось начальствовать!
Сверчков обернулся к Малкину:
— Вас тоже придется арестовать.
— Всех арестуйте!
Теперь двор гудел недобрым шорохом голосов, готовых взорваться, расколоть толпу на два враждебных лагеря. В этот момент, как будто на зов расходившейся братвы, с разудалой песней вошла во двор колонна первой батареи. Синьков скомандовал: «Разойдись!» — и красноармейцы обеих батарей смешались.
Разбойный свист вырвался из рядов, охальнический и бессмысленный. Спрятавшись за чужие плечи, засунув в рот два пальца, не разбирая, в чем дело, свистел Федоров.
— А ну, спокойно! — рванулся вперед коммунист Сергеев.
Но на свист уже летели люди со всех концов двора, с улицы. Налетали с веселым гулом. Несколько человек, переглянувшись с Малкиным, дружно замахали руками и заорали что-то не своими голосами. Кто-то сильно толкнул Сергеева. У многих красноармейцев — озабоченные, непонимающие лица, но все как один напряжены и взволнованы. Никто не вступился за Сергеева. Он отошел в сторону, ища своих. Вокруг не было видно ни одного коммуниста, только маленький Холмушин жался к нему и шептал:
— Что ж это будет, что будет?..
— Иди ты к черту! — ругнул его Сергеев и пошел к воротам.
— Набрали, а кормить нечем, а в деревне хлеб забираете, — кричал между тем Малкин.
— Айдате по домам!
— У легкачей уже одни каптеры остались, — крикнул парень, прибежавший от ворот.
— Пехотные уже на вокзале.
— Одни мы дураки!
— Робя, айдате по вокзалам!..
Синьков стоял у дверей управления. Воробьев, конечно, ринулся бы с головой в эту кутерьму. Но следует выдержать характер. Бесформенный бунт, без главарей, без командира. Его раздавят. А стать за комиссаров — это значит настроить против себя как раз тех, на кого впоследствии придется опереться… Он взбежал по лестнице и из окна пустого помещения, как с наблюдательной вышки, следил за двором. Если здесь действуют эсеры — пусть сами платят за разбитые горшки. Запоздалые вояки. Пускай летят клочья и у тех и у других. Для него, Синькова, это только приближает удобный час.
Он решительно сбежал к воротам и, отозвав растерявшегося молодого батарейца, члена коллектива Сычева, сказал ему:
— Гони в райком верхом или на трамвае. Передай Черных, чтобы спешил сюда. Ну, марш, бегом!
Сычев как будто ждал этого энергичного приказа.
Он встретил Алексея у остановки трамвая. Уже его растерянное, искаженное испугом лицо заставило всех членов бюро ускорить шаги.
Задыхаясь от быстрого бега, Сычев бросал отрывистые слова:
— Сергеева побили… Брешут — новая власть… По домам…
В подъезде серого дома стояли три члена коллектива. Увидев Алексея во главе партийного бюро, они присоединились к нему. Петров и Лысый вышли из-за угла. Панов стоял у штабного крыльца и смотрел в раскрытые ворота казарменного двора, в котором бурлило человеческое море. Холмушин бросился из ворот навстречу. Кто-то со свистом и гиком гнался за ним. Он попал прямо в объятия Алексея.
— Нельзя, нельзя туда, — по-детски расставил он руки. — Сергеева убили.
Алексей отшвырнул его в сторону. Двор был заполнен кричащей, возбужденной толпой. Дуло гаубицы глядело прямо в ворота. Оно медленно и угрожающе поднималось…
Малкин между тем неистовствовал. Он чувствовал себя на февральском митинге.
— Товарищи, что делается! — кричал он, взобравшись на лафет. — Опять война, опять арест и в морду. Опять житья нет хлеборобу. Уже во всех частях Петрограда солдаты сами объявили вторую демобилизацию. На вокзалах новая власть подает поезда по домам. Надо только дружно, не поддаваться латышам и комиссарам…
Сверчков, оставив Шавельского, бежал к управлению.
— Товарищ комиссар, — запыхавшись, влетел он в кабинет.
— Арестовали? — поднял голову Малеев.
— Уже не до Шавельского. Там бунт. Кричат, что в городе новая власть…
Малеев сорвался с места и ринулся по лестнице во двор. Его лицо бледнело и алело на ходу.
Шумный митинг гулял у орудий. Кто-то в папахе ораторствовал, стоя высоко на зарядном ящике. Его перебивали. Коммунисты Сергеев и Крылов, устремившиеся вслед за комиссаром, тянули оратора за полы шинели. Расталкивая народ, Малеев бросился к ящику.
— В чем дело, товарищи?
Толпа ответила мохнатым, неразборчивым криком. Малеев взбирался на зарядный ящик:
— Кто хочет чего, говори!
В гомоне сотни голосов опять потонул смысл заявлений.
— Валяй во всю! — сказал Малкину Коротков Игнат.
Малкин взвыл высоким, тоненьким голосом:
— Бей комиссара!
Мартьянов забежал к орудию. У него были воспалены глаза. Заметно дрожали его большие руки. Вместе с каким-то фейерверкером в папахе он выхватил из ящика снаряд и зарядил гаубицу.
— Мы им пошлем гостинец. Разойдись!
Люди, пригибаясь к земле, убегали от ворот, от входа в управление.
Дуло гаубицы медленно поднималось и теперь смотрело на окна штаба.
— А потом и по Смольному харкнем!..
Малеев рванулся к орудию. Но кто-то крепко схватил его за шинель. Прыгая на землю и отбиваясь, комиссар оставил полу в чужих руках. Пальцы его вырывали наган из кобуры. Он готов был заплакать от бешенства, бессилия и злобы…
Но вид орудия, готового бросить снаряд, отрезвил многих. Красноармейцы шарахнулись от гаубицы. Орудийный выстрел далеко еще не соответствовал степени накала всей толпы.
Мартьянов, почувствовав себя у орудия одиноким, закричал:
— Чего стоишь? Заряжай дальше!
Малкин дернул его за рукав: от ворот бежали коммунисты.
У Алексея расстегнута шинель. Пола захлестывает выхваченный из кобуры наган и вяжет на ходу колени.
Он первым подбежал к Мартьянову. Силач наводчик Пеночкин едва поспевал за ним. Алексей сильным ударом в грудь оттолкнул эсера от гаубицы.
— Куда, шутишь?
Обеими руками он взялся за рукоять замка, как бы боясь, что орудие выстрелит само собою… Теперь к орудиям спешили отовсюду люди с напряженными лицами. Это были члены коллектива, вновь почувствовавшие себя организацией. В руках и кобурах у них наганы. Молча и решительно они отгородили орудия от толпы.
Федоров при виде оружия, как вьюн, нырнул в массу, и так как это сделал не он один, то круг толпы раздался.
— Если что говорить — поговорим. А стрельба — это… после… — еще спокойнее сказал Пеночкин.
Малеев бросился к партийцам:
— Разрядить гаубицу!
— Уже, — ответил Пеночкин и понес гильзу к зарядному ящику.
По взглядам, которые партийцы бросали на Малеева, было заметно, что они ожидали от комиссара большего.
В этот момент легкая бричка Порослева вкатилась во двор. Комартформ соскочил на ходу, и к нему теперь обратились лица красноармейцев. Малкин и Мартьянов сновали в толпе.
Порослев крикнул:
— Что шумим, ребята? — Он сказал это просто, как будто ничего не случилось, хотя и знал и чувствовал, что здесь серьезное дело. — Пошли в казарму — поговорим.
— На дворе лучше! — крикнул Малкин.
Но Порослев шел не задерживаясь, и большинство двинулось за ним. Вслед за всеми пошли и Малкин и Мартьянов.
Еще нельзя было считать дело потерянным. Комиссару нечего сказать недовольным. Если «такое», как обещал Изаксон, началось всюду, то к вечеру могут развернуться новые события.
Синьков отозвал обоих Коротковых. Он был прав. Ненависти к большевикам у большинства нет. Из недовольства деревенских ребят еще не свить веревку бунта. Это гнилые волокна. Громко, чтобы слышали Алексей и Малеев, он сказал Игнату:
— Не время для скандалов, Игнат Степанович… — и увлек обоих братьев на улицу.
Алексей между тем ставил часовых из коммунистов у орудий. Приказывал взять на замки зарядные ящики, вооружал партийцев, звонил по телефону в штаб округа, в Смольный.
Сверчков сидел в казарме на окне. Красноармейцы заполнили всю большую, но низкую комнату, напирали на крытый кумачом стол, у которого стоял Порослев.
Комартформ говорил тихо, но все хотели услышать, что он скажет, и на крикунов цыкали изо всех углов.
— Вы думаете, я не знаю, в чем дело? — говорил Порослев. — Знаю. Трудно в казарме. Паек мал, обмундирования не хватает. Всех вас тянет земля. А еще тут эсеры вас подзуживают. Хлеба мало — большевики виноваты, сапог нет — большевик виноват… Поет вам в уши всякая сволочь. Войну гражданскую не мы начали — помещики и офицеры. Генерала Краснова мы отпустили… под честное слово. Узнали, чего стоит генеральское слово. Им надо власть вернуть и землю. Эсеров мы не трогали. Это они начали стрельбу по нашим вождям… Это они готовы распродать нашу Родину иностранным капиталистам…
Сверчков слушает и смотрит на лица красноармейцев. Взоры их устремлены мимо него, к столу. Многие из них — солдаты семнадцатого года. Это те, кто, вопреки офицерской команде, вопреки приказам и уговорам Керенского, втыкал штык в землю, братался, ходил с красными знаменами, кто лютой ненавистью ненавидел офицеров и голосовал за большевиков. Вот, например, Петров и Лысый — серьезные, грамотные парни, ходят на собрания коллектива, интересуются газетами. Вот Федоров — рыщет глазами, вдруг вскрикнет и опять напряженно слушает. Весь горит. Наклонясь к нему, шепчет что-то на ухо заметивший его с первых дней Малкин.
— Все это мы слышали, уши завяли, — певуче и язвительно несется из угла. — А вот скажи, почему выборных начальников отменили?
И вдогонку ему другой вопрос:
— Народ почему овсом кормите? Детишки дохнут…
— Арестовывать своих — разве ж это дело?
— Все в город тащите.
— Против крестьянина.
Порослева не слышно. Он перестал говорить, стоит с виду спокойный, худые пальцы дрожат — ждет, пока утихнет.
— Что их слушать, — кричит опять Малкин. — Бить надо!
— По всему городу бьют косолапых, — вскакивает Мартьянов.
«Опять закружило», — волнуется Сверчков.
Коммунистов мало. Иные, не разобравшись, держатся в стороне. Порослев только своим спокойствием огражден от этой жарко дышащей толпы.
У дверей — толчея. Кто-то, ворвавшись снаружи, кричит:
— Ведут на нас латышей и китайцев… А мы их слушаем. Даешь к орудиям!
— Что врешь, где ты их видел, гад? — кричит Алексей, показавшись на пороге.
Силач наводчик, пришедший вместе с ним, хватает за шиворот мелкого рябого крикуна.
— Кричишь ты здорово… Где ты их видел?
Крикуна вывели, и масса не протестовала. Но Алексей понимает, что народ еще не успокоился, и опять бросается в штаб к телефону.
Деревенских мотает из стороны в сторону, как дерево валит на ветру. Сверчкову не сдержать мелкую внутреннюю дрожь. Все они кажутся ему слепыми, и поводыря крепкого среди них нет. Есть только Порослев. Он мускулист, но он не силен. Надо помочь Порослеву.
— Дай я скажу, — кричит вдруг он, взбираясь на подоконник.
Это настолько неожиданно, настолько необычайно, что все утихают. Ни один человек из трех сотен даже предугадать не может, что скажет в такую горячую минуту бывший офицер, теперь инструктор.
Волнение Сверчкова нарастает. Он чувствует, что в правом колене у него завелась работающая, как маятник, машинка.
— Я смотрю на вас, ребята, со стороны и удивляюсь вам, — начал тихо Сверчков.
Головы, как метлы камыша к воде, потянулись к нему. Даже на задах затихло.
— Тысячу лет были вы рабами. Стали свободными. Отцы и деды ваши пускали красных петухов на помещичьи гумна, шли в леса, караулили с ножом за пазухой богачей и хозяев. А теперь вся власть ваша. Армия — у вас, пушки — у вас, а вы врозь тянете. Разве с ножом лучше? Посмотрите на белые армии. Там офицеры служат рядовыми, чтоб победить, чтоб все повернуть по- своему… А вы опять захотели на свои клочки земли, под чужую волю?..
Порослев кивал ему головой. Неспокойные глаза отовсюду смотрели на Сверчкова. И у Сверчкова в груди поднималось что-то теплое и большое. Он говорит им правду. Никуда не уйдешь от нее. И он, Сверчков, сейчас поднимается над самим собою, над своими сомнениями, над своими привязанностями, над паутиной, которая заволакивает все его мысли.
— Я — бывший офицер, но я, как честный человек, говорю вам: если бы я был на месте вашем, я бы лоб разбил, я бы все отдал, чтобы только победила Красная Армия. Побьете белых — будете жить по-своему, пойдете врозь — перебьют вас враги.
Он затих, и сразу, не дав опомниться людям, заговорил Порослев. Теперь уже все слушали, и крикунам опять затыкали глотку недовольным, сердитым шипом.
Потом говорил громовым басом Пеночкин — грузный, широко раскачивающий плечами большевик.
Мартьянов и Малкин пошептались и юркнули за дверь.
Митинг медленно, но неуклонно переходил в беседу. Порослев приказал не звать людей на поверку, и беседа эта закончилась только в полночь.
О хлебе, о деревне, о фронтах и о белых армиях, о бывших союзниках, о лопнувшем, как стиральное корыто, Брестском мире с грабителями, о Ленине, о будущей жизни — говорили обо всем, что высоким небом, звездами и тучами стояло над мелким недовольством, над пайком, над личной обидой, и на душе у Сверчкова становилось по-детски, по-ученически свежо.
Он уходил домой в приподнятом настроении. Лопнула какая-то мутная плесень в сознании, воздух стал пьянее и походка легче. Кусок хлеба, взятый в карман, показался вкуснее шоколада, и хотелось кому-то рассказать о сегодняшнем дне как о сражении и о победе над собою…
Через задний двор лисьим, осторожным и быстрым, шагом спешили Малкин и Мартьянов. У выхода их встретили агенты ЧК. Увидев бесполезность сопротивления, оба подняли руки…
Малиновский, в наброшенной на плечи шинели, с посинелыми губами, склонился над бумагами.
— Это чья же работа?
Дефорж обвел комнату глазами.
— Эсеры.
— Почему так думаете?
— Ко мне приходили от Петровской, с которой нас связали на Надеждинской. Здесь их работает с полдюжины. Мы осторожно поддерживали их. Они кричали, будто во всех частях восстание… В таком деле всякий союзник годится.
— Что-нибудь слышно?
— Сорвалось, кажется, повсюду.
— Теперь налетит Чека. Эти дни сидеть тихо. Нехорошо, если мы упустим момент.
— Вы, Константин Иванович, простите меня, собрали здесь маменькиных сынков. Ваш Шавельский… И этот сукин сын, Сверчков…
— Немедленно покончить с вопросом об амуниции, — перебил его громким голосом Малиновский, — и где угодно, но достать пушечное сало… Холодно как, плохо топят…
В кабинет входили Порослев и Малеев.
Когда Малиновский, забрав необыкновенно толстую пачку дел, со вздохом обреченного на ночь работы человека ушел, в кабинете комиссара собрались коммунисты. У Алексея стучало в висках, словно он провел первый день на сенокосе. Вот хорошее начало! На днях в райкоме говорено было о подрывной работе в армии, которую ведут эсеры и другие контрреволюционеры. Говорили насчет зоркости, бдительности, предупреждали. Проморгали.
Шавельский и парень в папахе, наводивший орудие на штаб, тоже были увезены сотрудниками ЧК.
На другой день Синьков спокойно и уверенно, как всегда, вывел первую батарею на учение, и жизнь дивизиона пошла своим ходом.
Глава X ЧЕЛОВЕК СО СТОРОНЫ
Сверчков не собирался вмешиваться в политические события, разгоравшиеся на Виленском. Он решил, что это не касается его, беспартийного инструктора.
Ссорились красноармейцы с комиссарами. Были дни, когда почти каждый офицер дорого дал бы за ссору солдат с большевиками. Разве ему самому не казалось ужасом, что солдатская лавина сокрушительно движется как раз по той дороге, какую указал ей большевистский палец. Этот палец глядит и сегодня со всех плакатов и афиш.
Сверчкову все это не безразлично. Но события пошли мимо Сверчкова, как сибирская река идет мимо лесной сторожки. Он даже мыслью не поспевает за этим бегом. Попеременно кажется ему, что место его то впереди, то в массах, то в стороне от этого движения. Ряды бойцов этой несомненно великой Революции идут близко, как смотровые колонны мимо любопытной публики. Иногда кажется: необходимо остановиться, сделать чудовищное усилие и стать в ряд. Придется кое-что принять на веру, кое-что сломать в себе, внутренне выравняться, чтобы с божественной радостью, восторженно, как гимназист, кричать вместе со всеми и «долой» и «осанна».
Искушение это таяло, как некрепкая свеча, в беседах с врагами нового строя, когда их аргументация близко подходила к той, какую нашептывало Сверчкову раздражение. Но оно просыпалось, вырастало после каждой беседы с Чернявским, Порослевым, Ветровыми и после каждого столкновения с революционно настроенными людьми, а эти люди проходили через дни восемнадцатого года, как ровные зубья гребенки проходят сквозь спутанные, но мягкие волосы.
Мысль сама тянется к новому, как побитые ночным дождем травы тянутся к солнцу и теплу нового утра. Впустить это новое в свое сознание, дать ему простор? Пусть поэзия этого нового движения станет такой же милой, гордой и своей, как музыка детства.
Выступив неожиданно для себя и поселив в красноармейцах смущение, которое тотчас же использовал Порослев, и испытав при этом чувство победы. Сверчков больше всего смутил сам себя.
Он призывал этих людей защищать их собственное дело. Он говорил о том, что их миллионы и что их труду подвластна освобожденная ими земля. Сказав это, он закрепил какие-то свои мысли о других, потому что этого потребовало чувство справедливости. А сам он? Где же его место?
Завтра он придет в дивизион, и на него будут по-особому смотреть сотни глаз. Бойцы будут ждать, что и на другие волнующие вопросы он ответит громко и отчетливо, как вчера. И он вынужден будет говорить так, как говорил вчера. Не значит ли это, что он отказался от свободы мышления? Не выдал ли он векселя, которые ему еще не по силам выплачивать?..
Виленский походил на безветренное море, взрытое мертвой зыбью. Внешне все было спокойно, но люди ходили взволнованные и сосредоточенные.
Воробьев пожал руку Сверчкову быстро и холодно, как человеку, которому не говорят, но дают понять, что он — враг.
Дефорж в коридоре разбежался навстречу:
— Рассказывали… Молодчина!
Легкой рукой, как плетью, он фамильярно ударил Сверчкова по плечу и помчался дальше, позванивая шпорами.
Малиновский привстал навстречу и сказал:
— Приношу вам благодарность от лица командования. В сущности, ничего особенного бы не случилось, но момент был… во всяком случае… неприятный…
Алексей нашел Сверчкова в казарме. Он отозвал его в угол и спросил:
— Порослев говорил — очень хорошо выступали. Что вы им такое сказали? Я как раз в это время звонил в штаб.
Сверчков повторил свои слова, стараясь припомнить отдельные выражения.
— Если б вы были на их месте? — задумываясь, переспросил Алексей. — А вы на каком же месте?
— Видите ли, — сказал, смущаясь, Сверчков. — Вчера все это иначе звучало. Теперь вот я вам здесь в коридоре рассказываю, и действительно все эти слова звучат странно. Я чувствую сам. («Поймет ли эта дубина?» — тоскливо размышлял при этом про себя Сверчков.) Как это пояснить? Знаете, в сказках одна и та же песня на свадьбе и на похоронах… Вы понимаете? Вчера именно так и нужно было говорить…
Алексей напряженно искал глазами в легких еще морщинах сверчковского лица. Человек со стороны… Какая же это сторона? Он невольно сравнил Дмитрия Александровича с Синьковым. Синьковская прямота выигрывала в его глазах в сравнении со сверчковской изворотливостью. Самый переход Синькова к красным казался решением сильного человека, сдавшегося перед неопровержимыми доводами эпохи…
— Ну ладно, — протянул Алексей руку Дмитрию Александровичу. — Спасибо вам. Если бы все наши партийцы были в сборе, ничего этого не случилось бы.
Разговор не понравился Сверчкову. Он мешал ему чувствовать себя триумфатором. Впрочем, для председателя партийной организаций недоверие — необходимая добродетель. И еще взоры, которые бросает этот увалень на Веру. Здесь не без ревности, утешал себя Дмитрий Александрович.
Любовные дела Сверчкова не ладились. Катька была назойлива и груба. Ореол известной на всю округу спекулянтки смущал Сверчкова. Он делал вид, что Катька для него квартирная хозяйка, не больше. Но Катька слишком охотно афишировала свою связь «с благородным». Сам Сверчков определял свое отношение к ней словом «похоть». В ночные часы он мечтал теперь о большом чувстве, которое захватило бы целиком, которое можно увезти с собой на фронт, как увозят ладанку с землей родины.
Длительная, глубокая взволнованность не проходила, но надежда не покидала Сверчкова. Теплилась она и теперь и связана была с Верой. О ней он мечтал в утренние часы, когда наливается тело силой нового дня, когда таким легким и возможным кажется поцеловать самую гордую женщину и бросить вызов самоуверенному врагу.
Наедине с Верой он принимал позу бескорыстного друга, может быть инстинктивно чувствуя, что таким путем он ближе всего может подойти к сердцу девушки, глубже всего заглянуть в ее мысли.
Девушка казалась настороженной, пугливой — роман мог последовать только после длительной увертюры. Но дни были насыщены событиями, а запасной дивизион для того и существовал, чтобы формировать и двигать на фронт новые и новые части.
Прочитав приказ о формировании отдельной батареи, Сверчков решил проситься на фронт.
Легко оттолкнуться от негостеприимного берега. Решение это далось без труда. Чего стоит одна возможность расстаться без скандала с Катькой. Попросту на время надо было лечь в дрейф — складывались паруса и закреплялся руль.
Газеты сообщали о новых и новых фронтах. Они вспыхивали и затухали, как зарницы, на горизонтах Республики. Классовая ненависть текла по стране, как река в песках пустыни, то вырываясь наружу, разливаясь в бурные озера, то пряча свои волны в залегшие глубокими подушками барханы. Но контуры отечественной Вандеи уже выступали на картах. Подальше от рабочих центров, поближе к казачьим станицам, к дальнобойным пушкам союзнических флотов собирались те, кто решил с оружием в руках затеять спор с новой властью. По северокавказским полям, по уральским лощинам, по калмыцким, приволжским степям с переменным успехом гонялись друг за другом белые и красные полки и отряды. Союзники, покончив с германским блоком, готовы были выбросить десанты на берега всех российских морей. Флаг Соединенного Королевства, звездные вымпелы «великой заокеанской демократии», восходящее солнце можно было видеть в гаванях Одессы, Владивостока, Архангельска и Онеги. Недобрый ветер развевал их складки. Пушки и прожекторы всюду были наведены на погасившие огни насторожившиеся берега.
Под самым Питером в боях и политических интригах решалась судьба прибалтийских провинций. Германская республика не спешила уводить отсюда свои войска. Ее не торопили союзники, предпочитавшие германских оккупантов большевикам. Но ее поторопили германские солдаты, стремившиеся домой в деревни, на фабрики, на улицы немецких городов, где начинался более существенный спор. Эрзац германской армии, бермонт-аваловские отряды маршировали к Риге, стремясь восстановить баронскую власть и владения. Провозгласив независимость, подтвержденную Всероссийским ЦИКом, дрались со своей буржуазией красные латыши и эстонцы, поддержанные всей Республикой Советов. Финские помещики и фабриканты, задушив с германской помощью свою революцию, предлагали только что испытанную палаческую солидарность собратьям с южного берега Финского залива. Англия, послав корабли в Ревель, внезапно стала балтийской державой, с планами, далеко превышавшими возможности своего истощенного войной народа. Сверчков не пылал стремлением сразиться с врагами большевиков. Реакцию он ненавидел искренне, но удивительно абстрактно. Так можно не любить ночь, сырость или мороз. Но не станешь же громить их кулаком. Жизнь не успела подставить на место этого понятия отчетливые до личной боли и обиды образы людей. Пшюты, офицеры, чиновники, бурбоны; чванливые товарищи по университету с карманными деньгами и видами на будущее; вызывавший его повесткой помощник пристава, пропитанный запахом водки; посадивший его за отсутствие шашки на гауптвахту казанский самодур Сандецкий и, наконец, идиотический царь, живое издевательство над страной, — все это было мерзко и противно, но существовало где-то сбоку, не заслоняя сверчковские горизонты. Предполагалось прожить, не спугивая слишком резкими движениями собственный душевный мир, со страстями благородными, но не перехлестывающими через воздвигнутые веками решетки законов и нравов.
Оставаясь в запасном дивизионе, Сверчков получил бы батарею, теперь он пойдет младшим инструктором. Пускай другие кичатся своими знаниями и несут ответственность. Вот если на фронте, втянувшись в борьбу, почувствует врага, тогда он согласен показать, как надо вести огонь. Он рисовал себе картину боев и переходов, в которых он, опытный стрелок и командир, будет держать себя спокойно и корректно, заслужит уважение солдат и командиров, но будет замкнут и далек в своих внутренних переживаниях. Тень чайльд-гарольдова плаща витала над этими мечтами. Он подал заявление Малиновскому, и тот немедленно наложил резолюцию: «Удовлетворить».
Ленивым взором следил Сверчков за борьбой вокруг нового формирования. Она велась исподтишка и походила на деловитую, повседневную работу. Он подозревал уязвленные самолюбия, но не догадывался о более тайной и опасной игре.
Синьков, которого намечали командиром новой батареи, принимал заявления от старых своих солдат, оказавшихся в различных частях Питерского гарнизона. Малиновский сбывал в батарею неугодных ему инструкторов. Черных подбирал коллектив. Каждый под лозунгом борьбы за боеспособную и подвижную часть действовал в своих интересах.
Опыт восемнадцатого года предостерегал Сверчкова от легкомысленных решений и подозрительных знакомств. За каждым углом могли таиться заговоры и просто темные дела. К тому же и чайльд-гарольдов плащ манил своей горделивой уединенностью. В новой батарее Сверчков не ждал встретить ни друзей, ни врагов. Неясными ему казались мысли и взгляды будущих соратников. Сам полный неустойчивых взглядов, он принимал на веру незавершенность, случайность, шаткость настроений у других. Ему казалось, что, вооруженный университетским курсом гуманитарных наук, с живой способностью излагать любые мысли, он займет среди них место суперарбитра, беспристрастный, спокойный, замкнутый в себе, как замыкается мудрец, попавший в среду обыденных людей.
В основном комсостав будущей батареи был уже намечен.
Помощник командира батареи Карасев медлителен и молчалив. Службист, любитель трубки и преферанса до утра.
Инструкторы первой батареи Климчук и Веселовский надели погоны прапорщика за несколько дней до той ночи, в которую вся императорская армия разучилась отдавать честь, петь «Спаси, господи», громко заговорила о свободе и украсилась красными бантами. Они приняли революцию как назначение на новый фронт. Погоны и звездочки утратили для них свой смысл, так и не успев обольстить. Климчук был сыном врача, Веселовский — учителя. Они кончили одну и ту же гимназию и еще в юности, правда робко, на ощупь, пытались сблизиться с рабочим движением. В семнадцатом году они больше митинговали, чем командовали, и, кажется, ни разу не успели сказать солдату «ты». Красная Армия была для них прямым продолжением их короткой военной службы. Менялась обстановка, менялись приказы, менялся быт — менялись и они, их отношение к событиям, к войне и революции. Сверчков заметил, что они исправно посещают открытые заседания коллектива и по вечерам вместе с красноармейцами заходят на танцульки в рабочие клубы.
Еще были два краскома: Крамарев и Султанов. Еврей и татарин. Оба — члены партии. Крамарев — ученик часовщика из Могилева, Султанов — столяр с остекленевшей кожей на концах пальцев. Это были только что выпущенные курсанты, сразу же попавшие в водоворот событий, какой не снился ни одному царскому подпоручику. Синьков и Алексей предложили им нагрузку, каждый по своей линии. Но они гордились званием краскомов и согласны были платить за него работой за себя и за других. У Крамарева была повреждена рука — память и орден прошлого, глухих местечковых погромов. Рана то заживала, то снова давала знать о себе. Он старался делать все здоровой рукой, чтоб его не приняли за инвалида. Легко было уследить, как он то и дело меняет гримасу боли на маску деланного смеха.
Синьков был с ними грубоват, но это не смущало краскомов. Сверчков старался стать на дружескую ногу, это не всегда ему удавалось. Он ловил себя на нотках снисходительности и очень скоро возбудил подозрение у обоих.
Авторитет Черных краскомы приняли безоговорочно. Несуетливый, тяжеловатый даже в своей веселости, он тем не менее всюду поспевал, соединял в себе солдатский опыт и командирский размах. Не блещущий образованием, но быстро схватывающий, умный, властный и стойкий — разве не таким должен был быть руководитель партийной ячейки восемнадцатого года в армии?
Все эти люди мелькали перед Сверчковым и в обыденности своих лиц и действий казались ему статистами, среди которых он блеснет как истинный, хотя и не признанный еще актер.
Сверчков продолжал работать так же обстоятельно и рьяно, без счета времени, стараясь избегать заразительной суетливости, порождаемой спешкой и неслаженностью звеньев молодых советских организаций. С утра его подхватывал рабочий день. Он подчинялся темпу жизни всего коллектива, как подчиняется силе ветра шлюпка, поднявшая парус. Со стороны казалось, что работает честный, искренний и преданный делу специалист. Если бы самому Сверчкову предложили дать подписку об этом, он дал бы ее не колеблясь.
Домой он приходил к ужину, ел кашу, клюквенный кисель Катькиного приготовления и заваливался на кровать с романом. Катька садилась рядом с рукоделием. Работала она искусно, но дар молчания был ей отпущен в скудной мере. Вся жизнь ее текла под аккомпанемент собственного судачения о соседях, легко перераставшего в сплетню. Она не переставала судачить про себя, даже оставаясь в одиночестве.
На Сверчкова это производило впечатление дождевой капли, падающей на темя с аккуратностью и постоянством тиканья часов. Он откладывал книгу и закрывал глаза рукой. Внешне это выглядело как поощрение, и Катька даже откладывала работу и щебетала еще оживленнее. Сверчкова распирало от жалящей и бурной злобы. Чтобы не ударить эту женщину, он натягивал сапоги и уходил. Еще на лестнице он слышал страстный, сквозь слезы, шепот Катьки, похожий на заклинания знахарки-профессионалки, изгоняющей напасть или болезнь, забравшуюся в дом…
Затем в течение недели шла мелкая, таящаяся, упрямая месть, на какую способны только дети и отвергаемые, но все еще привязанные любовницы. Закончить эту кампанию могла только ночь страсти, и Сверчков, не видя иного выхода, оплачивал домашний мир, подсовывая в темноте мелкую монету жестами, какими дарят червонец.
В разгар очередного разлада Катька швырнула Сверчкову повестку. Дмитрий Александрович вызывался в уголовный розыск.
Он шел туда уверенный в недоразумении, но, встретив весьма официальный прием и выяснив, что недоразумения нет, встревожился.
Потребовался час разговоров, упорных уверений, пока не выяснилась непричастность Сверчкова к воровской, не брезговавшей мокрым делом шайке, у которой наводчицей была Валентина. Фотографические карточки молодых людей с напряженными глазами и деревянными галстуками лежали на столе следователя. Здесь же были и карточки Валентины в различных, иногда рискованных позах. Адрес Сверчкова был записан старательным канцелярским почерком в особом блокноте.
Искренний рассказ Сверчкова и пребывание его в заключении как раз в разгар подвигов шайки изменили точку зрения следователя, и он перевел Сверчкова из разряда сообщников в разряд неудавшихся кандидатов в жертвы. Сверчков ушел с ощущением человека, долго бродившего впотьмах по лужам, которому необходимо поскорее умыться и переодеться…
Заворачивая на Крюков, он вдали увидел Веру.
Катька успела сообщить об аресте девушки, подозрительно глядя ему в лицо. Сверчков не пожелал скрыть огорчение, и разыгралась буря… Забыв о сочувствии к девушке, с которым она сообщала об ее аресте, Катька выплюнула перед Сверчковым все шепотки и слушки, шедшие по дому из демьяновской квартиры…
Вера шла неторопливой, усталой, несобранной походкой, как ходят сердечники и больные астмой.
— Ну как, — спросил он, догнав ее на площадке, — отпустили?
И с удивлением заметил, что Вера думает о чем-то совсем ином.
Степан проследил Куразиных и удостоверился в том, что гости сносят в угловую какие-то подозрительные свертки. Он обстоятельно обрисовал в ЧК положение в генеральской квартире. Все вызванные свидетели, в том числе и Алексей и Ветровы, дополнили картину. Следствию стало ясным, что здесь был подлый, но верный расчет снести «фамильные ценности» в квартиру, занятую коммунистом и одинокой, неискушенной девушкой. Арест отошел для Веры в прошлое, но, приближаясь к двери казариновской квартиры, она всей силою воображения настраивала себя на трагическую встречу с двумя людьми, которые стали ей самыми близкими в этом городе. Намеки Насти говорили, что Алексей не думает о ней плохо. Напротив… Но разве не будет теперь все это сметено жестоким подозрением? Она была права, когда хотела уехать из этой квартиры. И военная школа… Ее бесчисленные новые друзья — курсанты и командиры… Ее унесет от них ветром этих нелепых событий, как залетевший со стороны лист…
— Какая вы бледная. Позвольте вам помочь…
Сверчков твердо взял Веру под руку.
«Хотя бы первой вышла Настя», — думала про себя Вера.
Но дверь открыл Алексей.
Он просиял с такой мужицкой непосредственностью, этот широкоплечий тяжеловес, что Сверчков, вспомнив Катькины наветы, почувствовал себя излишне задержавшимся на сцене статистом. Но Вера уже лежала в объятиях Насти, появившейся с радостным курлыканьем, в котором боролись смех и слезы. Сверчков стоял не в силах уйти: его еще переполняло чувство дружественной симпатии к этой требующей сочувствия девушке. А Вера, потерявшая сознание, бледная, с закинутой неестественно далеко назад головой, как была в галошах и пальто, плыла по коридору в руках Алексея. Не отпуская Верину руку, неловко, сбиваясь в шаге, шла за ними Настя.
Уже взявшись за ручку французского замка, Сверчков смотрел, как бережно проносит Алексей девушку через порог в угловую. Он, кажется, прижал осыпанную светлыми волосами головку к своему лицу.
Глава XI ОРГАНИЗАТОР ПАРТИЙНОГО КОЛЛЕКТИВА
Обещанная Дефоржем фурманка так и не появилась у дома на Крюковом канале, но в коллективе Алексей нашел высокое резное, какие бывают в старых английских церквах и княжеских особняках, кресло, обитое алым бархатом, письменный стол с бронзой и сукном, дюжину разбитых стульев. По углам приютилась мелкая будуарная мебель, на которую не рискнул бы сесть ни один из тяжеловесных артиллерийских номеров или ездовых. Портрет Ленина был взят в овальную аляповатую раму. Алексей вызвал утконоса и приказал ему убрать никчемную мебелишку, раздобыть три-четыре скамьи, а для портрета приобрести простую крепкую рамку.
Среди мобилизованных партийцев оказалось мало. Алексей предложил всем членам партии записаться в партшколу при райкоме. Ходили туда одновременно, группой.
Руководитель школы носился по зданию юлой. Он успевал поговорить со всеми. Он считал себя чем-то вроде дополнительного, притом универсального педагога и, как бы невзначай, проверял успехи коммунистов, устраивал дискуссии на ходу, у бака с водой, в раздевалке, где никто не оставлял ни пальто, ни галош, в коридорах. За мелкий рост, торчащие в стороны мальчишьи уши и редкий ежик к нему сперва относились с недоверием, но начитанность и острый в полемике язык быстро ставили скептиков на место.
Особняк райкома сиял огнями. Вход был свободный. Здесь говорили о войне и о будущей Версальской конференции, о революции в Баварии, о борьбе на Дону и в Сибири, о гражданской войне, в которой всем присутствующим предстояло принять участие. Сам Алексей пускался в споры, чтобы раскачать своих ребят и приучить их учиться и учить других, чтобы знание из доступных источников текло не прерываясь, как текут по проводникам теплота или ток.
Морозными ночами, освобождавшими от облаков и тумана северные звезды, запевая несвойственные прежде этим строгим улицам песни, коммунисты шли домой, врывались в казармы со словами и мыслями, подхваченными в партшколах, будоражили менее подвижных товарищей, и число посетителей особняка росло.
Иногда докладчики райкома приезжали в дивизион. Темы докладов были полны злобою этих больших дней — о земле, о Красной Армии, и низкий зал штаба наполнялся людьми. Товарищи выталкивали вперед местных говорунов и умниц. Выступив однажды с успехом под дружные и щедрые хлопки, счастливец выступал уже каждый раз, стремясь приобрести славу активиста, с удивлением открывая в себе все новые и новые возможности.
По просьбе Алексея здесь выступил Борисов на тему о задачах Красной Армии. Голос его отдавался в коридорах, и тяжелый добряк Пеночкин сказал:
— Ишь загорелся.
Однажды приехал Чернявский. Даже Малиновский вышел в зал послушать этого видного члена П. К., похлопал при удобном случае и ушел с физиономией довольного порядком хозяина.
Оставшись в кабинете наедине с Дефоржем, он сделал усталое лицо и сказал:
— Прочли бы и вы какой-нибудь доклад… Что-нибудь такое… погорячее…
На что Дефорж с вежливым поклоном возразил:
— После вас, Константин Иванович… после вас…
На доклады, как и на субботние вечера, в штабной зал приходили штатские. Забегали и девушки соседних кварталов. Их провожали до трамваев, им жали руки у давно не горевших фонарей.
Сверчков не пропускал ни одного собрания, хотя большинство инструкторов считали себя свободными от пребывания в казарме вечерами, за исключением дней дежурств.
Он приносил с собою на собрание тяжелую усмешку скептика. Но после его выступления с Порослевым всегда кто-нибудь из рядов кричал:
— А вот товарищ Сверчков пусть скажут.
Он поднимался с улыбкой снисходительного гастролера и выходил вперед.
Алексей предложил ему сделать доклад на любую удобную для него и интересную для красноармейцев тему. После долгих, нелегких размышлений и колебаний, которые произвели впечатление даже на Катьку, он сделал сообщение о последних событиях на Западном фронте, о предсмертных судорогах четырехлетней борьбы.
На закрытых заседаниях коллектива Алексей ставил самые жгучие вопросы. Он выступал на них с темпераментом, достойным февральских и октябрьских митингов, но, несмотря на все усилия, первое время ему редко удавалось проводить эти собрания с тем оживлением, о каком он мечтал, какого добивался. Высказывались немногие, кратко и нерешительно. Это все-таки был не митинг, а партийный коллектив, и над участниками нависало сознание какой-то дополнительной ответственности.
И только взрыв страстей, разыгравшихся в дивизионе с подсказки эсеровских агентов, развязал языки. События подступали вплотную. Казалось, южные и восточные фронты донесли свои жаркие сполохи до Виленского. Волнения прокатились по многим частям. Это был неизбежный рецидив старых, демобилизационных армейских настроений. Полемика входила в обиход при обсуждении обыденных хозяйственных и организационных вопросов, и Алексей почувствовал, что в комнате, осененной ленинским портретом, загорается очаг партийной жизни.
В ноябре пришла группа добровольцев и мобилизованных по Петрограду. Это были слесари, кузнецы, токари по металлу, ученики и подмастерья питерских заводов. Они вошли во двор после митинга у райкома, ровными рядами, с песнями и кумачовым лозунгом на двух шестах:
«Рабоче-Крестьянская Красная Армия свернет голову белому гаду».
Они начали с того, что потребовали себе отдельную казарму. Малеев колебался, но Алексей набросился на пришедших с двойным азартом. Ведь именно от них он ждал помощи в работе с беспартийными деревенскими ребятами. Рабочие парни прослушали его речь и так же решительно и искренне устыдились. Они тут же отказались от требования, вызванного, в сущности, весьма понятной рабочей спайкой.
В их рядах были члены партии и сочувствующие. Несколько беспартийных в тот же день подали заявления о приеме их в коллектив. В казарме загудели голоса по-новому. Примолкли прежние заправилы. Возникли споры на проклятые вопросы, впивавшиеся в ленивую мысль, как плуг врезается в девственную почву. От некоторых из этих вопросов не было житья. От них днем отделывались шуткой, но ночью они приступали вновь, и разрешить их было необходимо каждому.
Порядок в казармах налаживался медленно, с трудом. Но уже вслед за Синьковым и другие командиры завели регулярные учения, вежливо, но твердо возвращали в ряды и к гаубицам ленившихся и все еще мечтавших о безделье красноармейцев. Синьков ответил на эти успехи товарищей выводом взвода в походном конном строю.
Малеев выбежал без шапки к воротам. Даже Малиновский подошел к окну.
Уборщица в матерчатых туфлях открыла дверь в кабинет Алексея:
— Поехали, товарищ организатор.
Она бодро прошаркала туфлями к окну, как будто в этом успехе была и ее доля.
Алексей еще смотрел, как последняя двуколка, тяжело переваливаясь, исчезала за поворотом, когда за его плечом раздался голос:
— Здравствуйте, Алексей Федорович.
Узкая рука командира легла в широкую ладонь Алексея.
— Рука у вас какая… двуспальная…
Оба неловко рассмеялись.
— А я пришел поговорить с вами, — сказал Малиновский, присаживаясь на уголок стола.
— Давайте.
— Вот и пришли мобилизованные, — начал Малиновский, глядя на свои ногти. — От нас потребуют новых быстрых формирований. Я опасаюсь, как бы наша неподготовленность не вызвала больших неудовольствий у высшего командования и у мобилизованных. Теперь народ не тот.
«Да, в морду не дашь», — подумал Алексей. Ему не нравился этот барственный либерал, за которым так и чудился пушистый лисий хвост. Такие были терпимы в старой казарме, как меньшее зло. Теперь такой либерализм может быть только маской.
— Я уже сообщил об этом рапортом инспектору артиллерии. Но надо же что-нибудь делать и самим…
— Давно нужно было делать, — сказал Алексей и спохватился: — Давайте позовем комиссара. Посовещаемся.
— У меня было желание поговорить лично с вами. Я человек откровенный и прямо скажу вам, — он чуть скосил глаза к дверям, — не верю я в работоспособность нашего комиссара. Боевого опыта никакого. Личного обаяния нет. На вид человек невзрачный.
— Бывали и генералы…
Малиновский сполз со стола.
— Хотите сказать: назначили — значит, хорош, — иронически заметил он. — А я думал вы, как партиец, от этой точки зрения отказались вовсе.
«Сморозил», — сообразил с некоторым опозданием Алексей. Ему самому комиссар казался малодеятельным и неопытным. А эта собака рада их поссорить.
— У нас проверяют человека на работе. Не подойдет — снимут и комиссара. А в вопросах организации и снабжения вы — специалист, вам и делать…
— Две недели назад я составил для комиссара записку, в ней изложено все, что необходимо, по моему мнению, сделать. Комиссар прочел и говорит: «Надо-то надо, а только где все это достать?» Указать все, что необходимо, мы можем и обязаны. Ну, а уж доставать должны вы, товарищи. Теперь вы — хозяева. Артиллерийские склады на наши требования шлют отписки и отказы. Например, на пушечное сало получен отказ от всех довольствующих учреждений. А наша гаубица имеет компрессор, рассчитанный на сало. Да не поверю я, чтоб нигде во всем городе, во всей стране не было пушечного сала. Но вы же понимаете, что нам, специалистам, пути закрыты.
— Давайте обсудим вашу записку на бюро коллектива. Примем меры…
— Удобно ли на коллективе? Я, собственно, хотел с вами лично. Вы ведь как второй комиссар… И, может быть, будете первым. И лучше, если бы вы были первым.
«Чего он хочет?» — ломал голову Алексей.
Малиновский ушел так же тихо, чуть поскрипывая козловыми башмаками.
Вечером приехал Порослев. Он долго кашлял, потом напал на Алексея:
— Почему у вас двор как мусорная яма? Кроватей — я смотрел — до сих пор нет. А какие есть — без матрацев. От матрацев на три версты воняет. Нары не сложены. Люди ходят как по пивной.
Алексей не мог на него сердиться. Смотрел на мерцающие кровяным румянцем щеки. Горит на деле. Только почему он нападает на него, а не на комиссара?
Еще через полчаса приехал комиссар. Ему приходилось тяжело, и он не умел рассчитывать свои силы, главное — не умел заставить работать других. Он считал, что справится со всеми трудностями сам. Он носился с утра до ночи по довольствующим учреждениям. Тяжелый день и бессонная ночь над бумагами делали его похожим на крестьянскую клячу, перед которой залег безвыходный и унылый труд. Ему некогда было спрятать заботу, и она жила на лице его верной, нестесняющейся приживалкой. Его старая солдатская шинель висела на костлявых плечах. Полы были обтрепаны и желты, как осенние листья.
Увидев Порослева, он суетливо принялся искать какие-то бумаги. Он любил Порослева и боялся его. Это был человек, перед которым он должен был отчитываться. А у него всегда было ощущение, что он не все сделал, что было возможно.
За ним следом шли адъютант, завхоз, комендант. Требовались срочно какие-то подписи, и он ушел, довольный тем, что Порослев его не задерживает.
Выслушав рассказ Алексея о Малиновском, Порослев подумал и сказал:
— Поссорить вас хочет. Андрей, конечно, не клад, но людьми нам бросаться не приходится. Нужно тебе поддержать парня всем авторитетом, пока не утвердят другого… А будет командир чудить — пошлем подальше. Но специалистами тоже дорожить надо. Оттолкнуть человека легко, и в этом заслуги не будет. Кстати, присмотрись к молодым, к этому… Климчуку, Веселовскому. Они как будто ничего, тянут к нам… И не забывай краскомов… Нам бы школу пройти… самим!
Папироса вздрагивала в его узловатых, худых пальцах.
«Раскачало человека, — размышлял Алексей. — Дивизионный врач говорит: неизвестно, чем держится…»
— Недостаток во всем, а формирования каждый день новые. И все требуют у Петрограда, у Москвы. Клянчишь у Округа, у интендантов лошадей, амуницию… и думаешь: сам получишь, другому откажут. Чиновники в управлениях смеются в кулачок, в глаза издеваются. В каждой канцелярии целый пароход чистенькой публики. И ничего у них никогда нет… А мы еще мало что знаем…
Порослев закрыл глаза. Он теперь молчал, покачивался на месте, как будто убаюкивал сам себя. И опять, раскрыв только один глаз, говорил:
— Чека считает, что в казармах еще не прекратилась эсеровская агитация. — Он встрепенулся, глаза открылись. — Среди других пришли к нам люди, которые считают, что от революции все, что нужно, они уже получили. А придут и такие, что рады схватиться за винтовку, только тронь его. Работы — воз, а кляча устала, — сказал он с виноватой улыбкой. — Смотрю я на тебя… — Он потрогал свои худые плечи, как бы желая ощутить в них Алексееву мощь. — Экий ты битюг. Повезло тебе… Не искалечили, не вымотали. Я ведь тоже был жилист… И ты не смотри, что я болен, слаб… — Он оживился и даже поднял голову. — Все мы слабы в одиночку. Партия делает нас богатырями. С партией все можем, все под силу! Всегда об этом помни, днем и ночью… Ну, а с тебя спросится вдвойне. А как эта твоя девица? Да ты не наливайся кумачом. Девица, кажись, хорошая, но все-таки еще не наша. Ты учись у нее, чему можно, а главное, ее учи. Без этого не сварится каша… Дай-ка я у тебя сосну… Тут, на лавке. А часа через два поеду в штаб.
Обернувшись шинелью и закрыв лицо мятой фуражкой, Порослев пристроился на длинной скамье. Алексей сидел над пропагандистской программой. Толстые казенные часы белого металла стучали на столе. Крысы возились в корзине с бумагой. В столе Алексей нашел остаток вчерашнего пайка. Он долго не мог сосредоточиться, сливались строки непривычных слов. Он думал о своих задачах, о командире, о Порослеве, о Верочке… Оно пришло, большое чувство, незаметно и теперь колыхалось в нем, как переполняющая сосуд теплая и греющая влага. Не выплеснешь ее за борт. И жалко было Веру, и нравилась она ему тем, что не похожа на прочих «барышень». Только что кончила гимназию… Но рассуждать о Вере было трудно. Слова дымились, таяли в соседстве с этим большим, всепобеждающим теплом. Он вспоминал, как нес ее по коридору… Теперь она глядела ему в глаза по-иному. Теперь, встречаясь, он крепче пожимает ее пальцы. Она смеется и встряхивает затекшую руку:
— Какой вы сильный!
И глаза не теряют теплоты и ласки. Но хочет ли Вера, чтобы он еще раз взял ее на руки… или дружеской лаской только отгораживает его от себя? Он никак понять не может. Никак!.. Алексей ругает себя пнем и олухом, но, встретившись с Верой, не находит слов.
Ровно через два часа Порослев уехал на ночное заседание в штаб.
«Вот человек — измученный, больной, а работает за четверых, — подумал Алексей. — Как же, действительно, должен работать я… Битюг. Забыть обо всем. Если понадобится, то и о Вере. Но лучше бы не надо было забывать об этой тихой женщине с таким чистым сердцем».
Глава XII КОМАРТФОРМ
Комната комиссара артиллерийских формирований Союза коммун Северной области могла бы вместить в десять раз больше мебели, чем было в ней на самом деле. Когда открывалась дверь, заметный ветер гулял между четырьмя белеными стенами, потому что во внутренней раме единственного окна не хватало двух, а в наружной одного стекла. Комиссар поставил кровать свою в дальний от окна угол с таким расчетом, чтобы ветер пролетал мимо. С той же хитростью шинель, дубленый, крепко пахнущий полушубок и чистая конская попона были развешаны над кроватью. В случае нужды они могли быть добавлены в порядке строгой очереди к лазаретному одеялу, которым была покрыта постель. Еще в комнате был стол, уставленный бытовым хламом, начиная с давно раскрытой консервной банки и кончая длинным эспадроном, ржавый конец которого намокал в чайной лужице.
В эту комнату комиссар попадал со двора через «личную канцелярию», где, не снимая шубки, копошилась, бегала от полевого телефона к городскому и от стола к шкафам с подшивками деловых бумаг белокурая девушка. Она дула на свои красные пальчики, притоптывала ножками и, когда никого не было в комнате, щипала понемножку от хлебного пайка, спрятанного в столе под газетой.
В том же доме, в натопленном помещении, в большой настоящей канцелярии, где гремели счеты, скрипели перья, стучали «ремингтоны», к услугам комартформа были и писаря, и секретарь, и счетоводы. Но «личная канцелярия», над которой втихомолку посмеивались, товарищи Порослева, была слабостью комартформа и настойчиво вводилась во все штаты, какие представляло Управление комартформа в Штаб округа.
— Товарищ Сашина! Никто не звонил? — спрашивает комартформ, забежав между двумя заседаниями в личную канцелярию.
— У меня записано. Целый день звонили.
Секретарь протягивает комартформу клочок бумаги с карандашными записями.
— Полевой телефон на Виленском починили?
— Провод починили. А гудок все такой же плохой. То гудит, то нет…
— Ага…
— И дров так и не принесли.
— Ну, я сам принесу.
Комартформ поправляет фуражку. Получается впечатление, что он готов немедленно идти за дровами.
— Ничего вы не принесете… Неудобно вам…
Комартформ останавливается.
— Да, оно действительно…
— Ваша комната все вытягивает. Как в трубу. Стекла бы вставили.
— Ну, знаете, я эту комнату закрою. Дверь забьем войлоком. А постель поставлю здесь, в углу.
— Нет, не надо… Нет. Будут же когда-нибудь стекла.
Товарищ Сашина думает о том, что рядом с ее таким чистеньким столом (у нее своя тряпочка из дому, в том же ящике, где паек, только под другой газетой) встанет забрызганный чаем и консервами стол комиссара. Но мысли комартформа идут под некоторым углом с ее мыслями.
— Я ведь встаю рано, ложусь поздно…
— Нет, нет, лучше достать стекло…
В комнату входит Юсупов, татарин, вестовой комартформа.
— Юсупов, когда стекла будут?
— Хадыл, гаварил, нэт опьять.
— Да. И в казармах стекол не хватает, — размышляет вслух комартформ.
— Я на конушне взял бы, товарищ комыссар.
— Ты что, очумел? И не думай. А кони? Не сегодня-завтра получим.
— Еще нэт кони.
— Нет-нет, — резко говорит комартформ. — Я сам достану стекло.
Юсупов уходит. Комартформ снимает шинель и, водрузив ее вместе с фуражкой на гвоздь над постелью, опять проходит в личную канцелярию и говорит товарищ Сашиной:
— Приказы мортирцам отправили?
— Нет еще.
Комартформ хмурится и молчит.
— Я же только час как пришла. Мне ведь с Охты.
— А вы бы, Катерина Андреевна, здесь жили. Вот тут ширму бы поставили. — Он показывает в угол, где только что предлагал поставить свою постель.
— Вот чудак, — смеется товарищ Сашина. — А мама моя с кем же будет?
— Какие теперь мамы? Теперь революция. Все надо бросить, — вдруг вдохновенно говорит Порослев. — Все. В коммуны надо идти. Новую жизнь делать.
— Не доросла я еще до этого, — бормочет под нос товарищ Сашина.
— Это потому, что вы из буржуазной семьи.
— Подумаешь — буржуазия! На железной дороге отец служил.
— А я вспомнил, что хотел вам вчера рассказать, когда вы уходили.
Порослев делает шаг к ней. Он даже вытягивает руки вперед.
— Товарищ ко мне приедет, Катерина Андреевна. Боевой товарищ. Огородников Коля!..
Сашина с интересом следит, как смягчается, почти светится всегда болезненное, серое лицо Порослева.
— Любите его?
— Вот приедет сегодня. Вместе были мы в одной батарее. В блиндажах валялись. У одной гаубицы номерами работали. Ночами не спали — говорили все. И во всем согласие. Читали вместе. В революцию вместе вступили. В комитете были. Коля одного офицера в семнадцатом убил. Гадюка общая был. Решили Колю расстрелять. А мы не дали. Всех солдат я поднял… Сказали судьям: вы Колю расстреляете — а мы вас. Против комитета… А как меня в лазарет в Царское Село отправили, и с тех пор Колю я не видел. Он то в Пскове, то в Калуге работал. Теперь я хлопотал и получил депешу: едет Коля Огородников. Вот увидите, Катерина Андреевна, и полюбите его.
— Чем же он замечателен?
— А я и говорить не буду вам, Катерина Андреевна. А только вы увидите и полюбите. И еще я хочу по секрету вам сказать: хочу его на Виленский комиссаром поставить. Малеев слаб. Что ни скажешь — «по силе возможности, товарищ комиссар». Так его и дразнят: «по силе возможности». А время такое, что, часом, надо хватать и через «силу возможности». А Коля как стена.
Огородников приехал к вечеру. Вошел он в личную канцелярию и поставил у двери австрийский ранец и чемодан, крытый серой парусиной. Снял рукавицы и вытер рукою усы. Был он большой, в папахе и валенках. Но бекеша офицерского сукна была плотно пригнана, шашка через плечо и большой маузер придавали ему вид солидной воинственности.
Когда Юсупов вызвал Порослева из казармы, было много шума в личной канцелярии. Комиссары хлопали друг друга по рукам и сочно целовались.
Оба ушли в комнату комартформа, где пылала времянка. Огородников грел руки у самого раскаленного железа, а Порослев ходил вокруг него и все рассказывал, сам себя перебивая, что делал весь этот год и как теперь трудно с мобилизованными. Рассказывал про «бунт». Про эсеровскую неудавшуюся затею. Про командиров, прикрывавшихся лисьим хвостом лояльности…
— Чаем тебя поить надо, — спохватился он. — Брюхо погреть с дороги.
— Чай? Это хорошо. А к чаю… это я привез. И перед чаем… тоже. У вас здесь небось подтянуло животы. — Огородников стал доставать из парусинового чемодана свертки. — Зови твою девку — кто она такая? У меня мед. Натуральный. Небось давно здесь не ели?
Товарищ Сашина, чтоб не продуло, села подальше от окна на принесенный Огородниковым табурет.
— Сперва по рюмочке домашнего приготовления.
— Самогон, значит? — неодобрительно сказал Порослев, вспоминая лекции на партийном комитете.
— Да нет, первач, Петро Петрович! Особая марка. Пробуйте, Катерина Андреевна. Невестка варила. Такая, как вы, красивая.
— Сивуха, гадость…
— Первач, Катерина Андреевна, никакого запаха. Одеколон!
— Всем ты, Коля, хорош. А вот пьешь зря.
— А ты ругай, да пей, — пододвинул стакан Огородников. — Вот домашнюю выпьем, и усы в воротник.
Порослев выпил нехотя. Катерина Андреевна с трудом глотнула крепкую жижу и сделала самое жалкое лицо.
— Зато тепло на душе стало, — вскричал Огородников. — Ну как я рад, Петя, что опять с тобой. Эх, и дела же мы двинем.
Он осмотрелся, не нашел ножа и откромсал кусок хлеба концом эспадрона. Тем же концом он мазал масло, слоем в палец толщиной, и на него так же густо накладывал застывший мед.
— Нет у тебя ни ножа, ни ложечки. Плохой ты хозяин, Петя.
Катерина Андреевна сначала с ужасом смотрела на изготовленную Огородниковым съедобную башню из трех этажей, но потом приловчилась и с жадностью язычком слизывала с хлеба сладкое и жирное. Даже самый хлеб не походил на рассыпчатую кисловатую пайку.
— Ешьте, товарищ Сашина, — у меня пуда два. Еле доволок. На время хватит… А там… у белых отнимем.
Брат Екатерины Андреевны — офицер — был убит на войне. Конечно, его убили немцы, но фраза комартформа: «В семнадцатом Коля убил офицера» — засела в ее сознании. Теперь с Колей Огородниковым ассоциировалось воспоминание о гибели брата. Не злым, но острым интересом оборачивалось оно к этому человеку.
— Петя, а «Ночевала тучка золотая», — с хитрой улыбкой сказал Николай. — Неужели забыл? Я без этой песни и вообразить себе не могу Петра Петровича, — обратился он к Сашиной.
— И теперь поет, когда чужих нет, — засмеялась девушка. — Только это не песня, а романс.
— Ну, пусть будет романс, — добродушно согласился комартформ. — Споем, Коля!
Пели ладно, согласно, с большим чувством. Сашина затихла, побежденная неожиданной лиричностью, вдруг охватившей этих суровых людей сурового года.
Кончив петь, комиссары выпили по одной, по другой. Они, захлебываясь, рассказывали друг другу свою жизнь, но делали вид, что обращаются только к Екатерине Андреевне. То один, то другой брали ее за руку доверительно и осторожно.
— Ведь у меня и мортиры, и тяжелые, и легкачи. И столько дел! — жаловался и гордился Порослев. — Верно, Катерина Андреевна?
— Под Царицыном в августе дрался. С Ворошиловым встречался. Вот где мы образование получили. Белые генералы потом писали в своих газетах: вот у кого нашим генералам и администраторам надо учиться. А потом я ранен был. В Калуге лежал. И в Пскове и в Пензе… Где я ни бывал, — говорил Огородников, сжимая запястье Сашиной.
— А Катерина Андреевна не хочет сюда перебраться, — смелея, продолжал свое комартформ. — В коммуну надо идти. Я ей и день и ночь говорю. И день и ночь бы работали. И можно не здесь, а близко. Квартиры есть, с роялью, с ванной. Вот втроем и заняли бы. Чудесно.
— А как вы офицера убили? — спросила вдруг Сашина.
— Ну, то был гад! — рассердился Огородников. — Хороших офицеров не убивали. За ним грехов было — не я, другой подстрелил бы… А в Пскове я на границе зайцев стрелял. Ужас их сколько там.
Потом пели дуэтом песни северные, тихие и ровные. И все трое сидели на кровати. И Сашина вдруг вмешивалась неудачно тоненьким срывчатым голоском. Потом опять пили чай с медом.
Вечером пришли комиссар Малеев и Алексей. Обоих поили чаем и кормили хлебом с маслом и медом. Первача уже не было.
— Мы, собственно, пришли говорить о дивизионе, — сказал наконец комиссар и посмотрел на Сашину.
Екатерина Андреевна стала прощаться. Огородников жал ей руку и упорно смотрел в глаза. Сашина вышла, на пороге чему-то рассмеялась и побежала к трамваю на Охту.
Глава XIII КОМИССАРЫ
— Ну, выкладывай, по силе возможности, — сказал Порослев, усаживаясь в глубь кровати, почти на подушку.
Малеев недовольно нахмурился. «По силе возможности» не предвещало хорошего разговора.
Огородников шагал по комнате, безбожно скрипя новыми сапогами, на которые он сменил валенки.
— Два вопроса только, — сказал Малеев.
— Записал на бумажку, как я тебя учил? — спросил Порослев и поймал себя на мысли: «Чего я придираюсь к парню? Это все стаканчик первача». Он внутренне собрался и настроился серьезно слушать.
— Первое — это выделение отдельной гаубичной батареи, — начал как мог спокойнее Малеев, но лицо его было вытянуто и напряженно. Это напряжение было искренне. Оно определялось серьезностью его отношения к делу. Но оно бросалось в глаза и засчитывалось как слабость, в особенности после этих несчастных событий в дивизионе. — Второе — о комсоставе на Виленском. — Почувствовав, что в комнате установилось ровное деловое внимание, Малеев продолжал уже смелее: — Боевое задание — сформировать отдельную батарею. Отправка на фронт по особому указанию. На фронте батарея развернется в отдельный дивизион на базе нашего запасного.
— Куда, на юг? — спросил Огородников.
— Не знаю. Все равно куда… На фронт, словом.
— Ты когда получил приказ? — спросил из угла, спружинившись, Порослев.
— Ну… — остановился Малеев, — три дня…
— Боевое задание, говоришь… Что сделал?
— Малиновский с адъютантом проект готовят.
— А у тебя план? Политическая часть имеет свой план?
— Я и пришел посоветоваться. Как будут инструкторы проект читать — дам свое мнение… Каких людей, каких лошадей, которые гаубицы.
— Это и есть план… Значит, у тебя своего проекта нет?
— Нет… еще нет, — растерянно сказал Малеев.
— Все ты по-домашнему. А ты о чем думал? — спросил Порослев Алексея. — Что же мы обсуждать-то будем?
Алексей вынул исписанный лист бумаги.
— Я мое мнение записал.
— А комиссару не показал? — вмешался вдруг Огородников.
— Показал, — тоскливо отозвался Малеев.
— Я предлагал разобрать на ячейке, — сказал Алексей. — Комиссар не согласился. Он считает: на ячейку нужно вынести согласованные с тобой материалы. Ячейка еще как следует не сколочена. Я согласился с комиссаром.
— Это верно, — подтвердил Малеев. — Мы хотели и тебя просить к нам на обсуждение приехать, Петр Петрович… по силе возможности… Вопрос первостепенной важности.
Порослев улыбнулся:
— Ну, все это хорошо, давай к делу. На ячейку ставить недоработанные проекты, конечно, незачем. Это оперативный вопрос. Но свое мнение партийная часть должна иметь, чтобы, проводя решения в жизнь, мобилизовать коллектив, чтоб за партийное мнение стояли все горой. Коней у нас все равно нет. С конями плохо. Каких дадут, на тех и поедут. Тут ничего не вымудришь. Гаубицы дать получше. На фронт. Чтоб стреляли безотказно.
— Так я и адъютанту сказал.
— Проверить тщательнее. За проверкой следить. Самим просмотреть паспорта. Амуницию, сбрую — все лучшее. Не жалей.
— И я так думаю. Мы еще наживем.
— Хватит у тебя добра-то?
— Всего, кроме лошадей, хватает. А я вот больше о людях думаю. Как я вспомню те дни…
— Это когда тебе шинель порвали?
— Когда пушки на штаб навели, — рассердился Малеев. — Как вспомню… Как этих людей на фронт посылать? Может, отобрать только лучших?
— А худших куда девать? Освободить, что ли? А лучшие что тогда скажут?
— А как же ты предлагаешь, Петр Петрович? — растерялся опять комиссар. — По силе возможности…
— Из камней кашу не варят. Если б трудовой народ не был за нас, нечего было б огород городить. А если мусор есть, нужно просеять. Заведомых контриков передать в штаб укрепленного района — пусть окопы роют. А остальных… Вот тут твоя работа, — обратился Порослев к Алексею. — Сколоти коммунистическое ядро. Привлеки сочувствующих, веди работу. Так всюду делают. Инструкцию штаба читал? При хорошей работе честных красноармейцев всех потянет в нашу сторону. Шатаются от слепоты, от кулацкой работы. А ты просвети, а кулаков изолируй.
Алексей кивал головой. Так и он понимает. Но ему всегда доставляло радость, когда в большую ясность приводилась сложная, запутанная обстановка. Слушая ораторов, он лучше всего запоминал те места в речи, где ясными словами освещались его собственные, еще не совсем упорядоченные или еще робкие мысли.
— Твоя работа, — продолжал Порослев, — передать новой части крепкий, организованный коллектив. Вот тут по человеку отбирать надо. Это половина дела. Человек двадцать коммунистов обязательно…
— Теперь о комсоставе, — начал опять Малеев. — Как батарея на фронте развернется в дивизион, нужно придать лишних командиров, чтобы потом…
— Ну, спецов у тебя хватает. В окно вижу — без дела болтаются.
— А кого?
— Сам как думаешь?
— По второму вопросу… — затруднился в чем-то Малеев. — Я хотел было осветить… Ты как думаешь? — вдруг внутренне загоревшийся, подошел он к кровати. — Наши спецы… вот тогда… приложили руку? Говори, Петр Петрович!
— Ты что таким петухом наскочил? Не поймал ведь никого.
— А я вот голову об заклад… по силе возможности… Не смейся, Петр Петрович. Руку отруби — имело место. А раз так — как такого послать командира?
— Не одного посылаешь, — отозвался из дальнего угла Огородников.
— А раз так, — твердил свое Малеев, — гнездо у них тут. Разогнать бы.
— Разузнать сперва надо, не тревожа, — высказал свою старую мысль Алексей. — Не тех погнать можно.
— Верно! — подхватил Огородников.
— А я бы, — вдруг робея и спадая с тона, сказал Малеев, — я бы самых вредных послал с батареей.
Он кого-то невидимого оттолкнул ладонью.
— Вот так поворот на полном ходу! — вскричал Огородников.
— Пушки лучшие. Коней лучших. Амуницию дефицитную, лучшую. А командиров — похуже? — спросил Порослев. — Здорово сказал!
— Здесь легче будет, Петр Петрович. Нам ведь еще сколько батарей сформировать. Адъютанта бы убрать… Много чище будет.
— Сказал! — рассвирепел Порослев. Он, волнуясь, закашлялся. — Инструкторов мы должны просмотреть здесь. Кто подозрителен — в шею. Найдем еще. Кто честно хочет работать — пусть докажет. Сверчков хочет — всякому видно. Синьков хочет. А если кто связан с белыми, тому найдем место… Как для нас находили. — Он тяжело задышал. — А ты — адъютанта на фронт. За твоим адъютантом сто глаз нужно. Понимаешь? Его отпустить нельзя. Может, это ниточка. Пойми, голова, «по силе возможности». — Он стал нить из стакана теплую воду с парегориком, пузырек которого всегда валялся тут же на столе.
— Так список командного состава покажи мне. Принеси проект командира и свой проект, решим вместе.
— А как же у вас проекты приказов пишут? — спросил, подходя к столу, Огородников. — Где?
— Приносят. В кабинетах до ночи сидят. Дома, может быть…
— Прости меня, товарищ, — сказал Огородников, видимо смягчая свой голос усилием. — Мне сдается — ты неверный путь взял. — Он подошел вплотную к столу. — Нужно составить приказ или там список какой — пусть командир собирает кого хочет… Совещание… кого хочет привлекает. А ты — тоже тут. — Он положил тяжелый кулак на край стола, как печать. — Совещаются — а ты тоже тут. И он, — указал Огородников на Алексея. — Тут и все мысли на стол, — он разостлал пятерню на середине стола. — А то, может, они ездиют к кому… планы составлять… Почем ты знаешь? Дело новое. Раньше немногие своей охотой шли. И то не без греха. А теперь офицеры у нас — как из трубы…
Широкие жесты были у Коли Огородникова. От тяжелого плеча разворачивал крепкую руку. Порослев смотрел на него с любовью.
«Всегда в согласии!» — думал он, вспоминая империалистический фронт.
— …Чтобы командир помнил день и ночь, спал и думал, что есть у него комиссар. И будь ты для честного спеца другом, кровь свою за него пролей, если надо. Для шалтай-болтай будь примером. А для контрика который — грозой! Сложное дело.
— Я вот раньше тебя сказать хотел, — перебил его Порослев. — Вот карандашиком даже записал. Систему работы изменить надо, Андрей Андреевич. — Он внес, какую мог, теплоту в свою фразу. — Все мы неучены. Учиться надо. Верно Коля говорит. Все надо знать, следить. С каждым свое обхождение. Чтоб линию гнуть одну — на укрепление Красной Армии.
— Эх, выпили бы за нашу Красную Армию! — оглядывая пустую бутылку, сказал Коля Огородников. — Да вот нечего.
— Придется попоститься, брат, — сказал Порослев. — У нас спирт — дефицитный товар. На артиллерийские нужды не хватает.
— Я бы только за Красную Армию. Я, брат, в Калуге комиссаром был. Ни одной капли, — он показал сустав большого пальца. — День и ночь себя помнил. А потом в трезвость втянешься и забудешь… И оно действительно… Хлеба не хватает, а тут пшеницу на самогон. Я за этот самый самогон брата с невесткой отчитал. Перья летели. Ну, а раз сделано — выпить надо…
Глава XIV АНКЕТА
Катя Сашина считала себя работницей добросовестной. Она уходила домой, только закончив все дела, какие нужно было сделать сегодня. Но время еще было врагом двадцатидвухлетней Кати, и на службе оно тянулось бесконечно. Тянулось время, и что-то внутри тянуло, и не было сил сопротивляться этому нарастающему чувству внутреннего неудобства. Тогда нужно было разворачивать завтрак: тоненькую, приготовленную матерью тартинку — хлеб с рубленой селедкой и луком или же просто кусочек хлеба, «без ничего». Если завтрак был уже съеден, тогда на помощь приходила карманная пудреница с давно свалявшейся пуховкой, окно с видом на большой казарменный двор или даже военная газета, в которой все-таки можно было встретить знакомые фамилии.
Иногда у Кати Сашиной наступает просветление. Ее голова тогда ясная-ясная, и в ней копошатся всякие мысли, и многие из этих мыслей нравятся Кате. Она улыбается самой себе. Она думает, что не такая уж она дура и, если б сейчас мирное время, она кончила бы курсы и была бы через девять лет профессором. Профессор женщина — это куда интереснее, чем профессор мужчина. Много ли есть женщин профессоров? Есть, конечно, например, Добиаш-Рождественская, или в Париже мадам Кюри… Но именно в такие минуты дела личной канцелярии становились страшно скучными и далекими. Просто испачканная чернилами бумага. И когда «природная добросовестность» возвращала внимание Кати к этим делам, на страницах толпились буквы, строки сливались, как рельсы, устремленные в бесконечность, и смысл казенных фраз ускользал, как мыло, упавшее в ванну. Катя напрягала внимание, но все равно ничего из этого не получалось. Надо переключаться. И тогда Катя вынимала из стола томик Мопассана… Изящная книжечка прекрасно прячется под любой казенной бумагой, и Катя читала украдкой, давая себе слово прийти завтра пораньше и сделать все необходимое.
В личную канцелярию Порослев приводил только тех, с кем нужно было ему переговорить конфиденциально, Здесь бывали комиссары запасных дивизионов, партийцы из райкомов и военкоматов. Здесь комартформ исповедовал инструкторов из бывших офицеров.
Самое интересное — это когда приходили офицеры. Наверное, каждый хранит дома свежий френч или китель, может быть даже с погонами. Но в управление формирований идут в обмотках и солдатской шинели. Впрочем, под простой шинелью Катин глаз сразу угадывает ловкую фигуру бывшего поручика, может быть даже гвардейца. Увидев секретаршу «из интеллигентных», офицеры подтягиваются — прямее плечи, выше голова. Иные даже постукивают каблуками, забыв, что шпор уже нет, а каблуки растоптаны и сбиты.
Спокойных дней у Порослева нет. Окружной штаб, главком, фронты, парторганизации, Совет письмами, телеграммами, приказами, телефонными звонками, заседаниями торопят, жмут, бодрят, требуют батарей всех систем и калибров. Но процесс формирования — это долгая скачка с препятствиями. Есть орудия — нет панорам. Есть лошади — нет сбруи. Есть телефонный провод — нет пушечного сала. Есть жесткие сроки формирований, но есть и требование посылать на фронт только снабженные, укомплектованные части. Бывают не дни, но недели, когда никто в управлении не спит, все суетятся, все нервничают, скачут ординарцы, летают мотоциклисты, стынут комиссарские обеды в котелках, и Порослев, как серая птица, на крыльях ветхой солдатской шинели носится над всем, не признавая никаких «невозможно» и никаких «завтра».
Его энергия электризует весь штаб, вплоть до вахтеров и уборщиц, и наконец захлестывает и Катю.
Тогда все происходящее внезапно покажется Сашиной неизмеримо важным, и она сама готова сутками не отходить от стола и телефонов. В ней загорается колючий огонек — кусочек пламени, сжигающего туберкулезного комартформа.
В такие дни комартформ кладет ей руку на плечо и говорит:
— Конечно же, вы наша.
И Катя говорит:
— Конечно! — и два или три дня прибегает на Охту лишь к ночи…
Однажды Порослев принес Екатерине Андреевне стопку анкет. Облокотившись на стол, он прочел ей все девятнадцать вопросов так, как проголодавшийся человек читает меню роскошного обеда. В сущности, вопросы были очень обыкновенны: фамилия, год рождения, боевой стаж, ордена. Но дойдя до девятого пункта — «Как вы относитесь к Советской власти?» — комартформ прищелкнул языком, провел ногтем под строкой и накрыл анкету ладонью.
Но Катя решительно не понимала, в чем здесь соль.
Комиссар разочарованно отошел от стола.
На следующий день один за другим офицеры заходили в личную канцелярию и заполняли анкеты.
Проворно бегала рука, небрежно выводя:
Петр
Иванович
Козловский
поручик
и так далее, на девятом вопросе перо застывало, и лицо становилось напряженно-сосредоточенным. Потом перо клали на стол, и на сцену являлась спасительная папироса.
Катя подумала: если бы Порослев наблюдал из соседней комнаты, он получил бы полное авторское удовлетворение.
И Катя стала наблюдать за приходящими.
Иные в конце концов писали ответ на девятый вопрос лаконично. Другие лепили буквы так, что растекшиеся по плохой бумаге чернила давали сплошное грязное пятно. Седой полковник спросил, нельзя ли написать ответ на особой четвертушке бумаги. Многие писали со вздохами.
Только высокий артиллерист, не останавливаясь, вывел: «Полностью сочувствую» Это так поразило Катю, что она запомнила его фамилию. Это был Аркадий Александрович Синьков.
Вечером комиссар читал анкеты. Вооружившись толстым синим карандашом, он пробегал первые пункты, изредка ставил вопросительный знак или птичку, но слово за словом изучал политическую исповедь по девятому пункту. Катя заключила, что офицерам комартформ, как правило, не верит. Он комментировал эти ответы вслух краткими и резкими восклицаниями «Врет!», «Гад!», «Хитрит, подлюга!». Иногда в его голосе появлялись нотки раздумья. Он тихо шептал:
— Все может быть, все может быть, посмотрим.
Дойдя до анкеты Синькова, он стукнул по столу карандашом и сказал:
— Вот это да! Коротко и ясно.
Перед тем как вызвать к себе того или иного командира, Порослев обязательно смотрел анкету, и через несколько дней Катя установила с точностью, какие ответы на девятый вопрос нравятся Порослеву, какие приводят в сомнение и какие вызывают неудержимое недоверие.
Для Кати анкеты стали очередным развлечением. Когда Порослев уезжал, она ножом открывала его личный стол и просматривала стопку анкет. Кто? откуда? какой чин? женат или холост? Она заметила, что ответившие на девятый вопрос удовлетворительно получали высшие должности, тогда как другие, несмотря на высокий чин в старой армии, назначались младшими инструкторами.
Худой белокурый офицер в щегольских сапогах на кривой колодке и даже при шпорах писал анкету больше часа. Он выкурил коробку папирос. В комнате никого больше не было, и Катя слышала, как дышит этот красивый блондин с острым, нерусским лицом, у которого нежные завитки волос выходят из-под фуражки. Катерина физически чувствовала, как страдает этот человек. Случайно она поймала его взгляд. Зеленоватые глаза, золотые ресницы и детская растерянность.
На девятый вопрос он дал пространнейший ответ. Какие-то слова были зачеркнуты. Слово «делах» было написано через «ять». Катя покачала головой и положила анкету в самый низ стопки, на дно ящика. Но, уходя, она вторично открыла стол ножом и спрятала анкету в ридикюльчик.
В первых графах анкеты стояло: Гораций Карлович Дефорж. Интересно, какое у него «де» — с большой или с маленькой буквы? Бывший поручик Кексгольмского полка. Сейчас адъютант запасного артиллерийского дивизиона.
Проходя мимо мортирного, Катя зашла в штаб. Здесь знали секретаря комартформа. Дефорж шел по коридору, звеня савеловскими шпорами. С Катериной он поздоровался за руку.
— Гораций Карлович, вы не скоро домой?
— Я?.. Да, пожалуй, сейчас, — растерялся и что-то быстро соображал адъютант. — Может быть, нам по дороге?
— Я на Охту.
— Я провожу вас до Суворовского.
Растерянность уходила. Он уже оценивал девушку глазами знатока.
На углу 8-й Рождественской Катя остановилась. Она открыла сумочку и протянула Дефоржу две вчетверо сложенные бумажки.
— Вот ваша анкета… и бланк…
Дефорж читал свои ответы и удивленно смотрел на секретаршу.
— Комартформ еще не видел?
— Лучше как-нибудь иначе…
Дефорж понял.
— Я перепишу дома.
— Да, да, как-нибудь проще.
Она вскочила в трамвай, мелькнув ловкой мальчишеской ножкой. Дефорж встал было на подножку, но Катя прощально махала рукой. Повернувшись лицом к движению, он спрыгнул на мостовую и энергичными шагами пошел по Суворовскому к Таврической, где жил Малиновский.
Через два дня Дефорж принес анкету. Катя положила ее в папку. Еще до прихода комиссара она прочла новый вариант. Ответ был еще пространнее, в нем было много лживых и высокопарных слов. Это было еще хуже. Ясно, что Порослев скажет: «Гад!»
Катя позвонила в мортирный.
— Гораций Карлович?
— Ах, это вы. Что, теперь лучше?
— Хуже…
Молчание.
— Напишите два слова.
— Но какие?
Молчание.
Потом робко:
— Вполне… и так далее…
— Ага… понимаю. Вы говорите — так будет хорошо?
— Вполне.
— Я еще зайду сегодня.
Катерина ждала, что скажет Порослев. Она даже задержалась лишнее время. Вот анкета Дефоржа в руках комиссара. Хорошо иметь такое острое зрение. Синий карандаш, вздрагивая, ходит над анкетой. Уткнулся в девятый пункт… Комартформ откинулся в кресле.
— Врет, как зеленая лошадь. «Полностью сочувствую». Ах, сукин сын! — Он обратился к Катерине Андреевне: — Вы адъютанта на Виленском знаете? Тонконогий такой, белобрысый, как вошь.
— Видела как-то…
— Он мне пишет: полностью сочувствую! — Он встал и подошел к Кате: — Я, знаете, Катерина Андреевна, физиономист. Я ему ни на копейку не верю. Я в трамвае еду и угадываю по лицам, по одежде, кто чем занимается, кто что думает, кто чем жив. И я уверен, Катерина Андреевна, — он постучал кулаком в худую грудь… — редко, редко я ошибаюсь. Такой я с детства. Я ведь маленьким в люди пошел. Всех насквозь вижу. И он мне пишет: вполне сочувствую. Вот гад! Ну, написал бы что-нибудь там. Ну, я тебя рассмотрю, что ты за петух такой, — говорил он, возвращаясь на свое место.
Глава XV «ДИККЕНС БЫЛ ПРАВ»
Делегация Вериной школы шла в гости в пехотную школу, расположенную в центре города, где еще два года назад размещалось привилегированное училище, призванное снабжать империю градоправителями, губернаторами, сенаторами — вершителями судеб и помпадурами провинциальных городов, а потом гнездился штаб партии левых эсеров.
Курсанты шли строем по мостовой, грохотали занесенной в армию рабочей песней о кузнецах. Впереди, размахивая рукой, печатал ротный командир, влюбленный в строй и лихую выправку. Начальство, педагоги в штатском шли по тротуарам.
Над воротами пехотной школы струятся веселые флаги. Караульные статуями замерли у дверей. На парадном крыльце дежурный по школе, перетянутый ремнями, с твердым воротником, рапортовал лихо и звонко. Гулкие коридоры таили в своих тупиках звуки наполненного людьми здания. Лестница была устлана узкой чистой дорожкой. На стенах — доставшиеся в наследство от Пажеского корпуса — достойные музея полотна в тяжелых рамах.
— Порядок, — сказал комиссар.
— Товарищ Рязанцев, сами знаете, — сочувственно откликнулся ротный.
— Смольный шеф — так я думаю, — с ревнивым недовольством заметил начальник школы.
Гости сидели за длинными столами, крытыми клеенками. Посредине каждого стола — цветы, не отвергаемые ни одним тезисом революции, но в пылу огневых дней выпавшие из быта, как многое другое. С портрета Ленина сбегали до полу алые ленты.
Кормили кулебякой, полуфунтовыми бутербродами с колбасой и сыром, конфетами. Это было так же необычайно в те дни, как и цветы и белые воротнички командиров. Рязанцев вел собрание, как опытный режиссер. К нему то и дело подбегали адъютант и командиры. Он отпускал их жестами командарма. Высокий и легкий, с неправильным рисунком рта и стремящимися в одну сторону завитками волос, он говорил короткими патетическими фразами, нравившимися курсантам и гостям, как нравятся охотничьи рожки, застольные спичи и поднимающие настроение марши. Он говорил так, как если бы в зале сидели только герои, уже совершившие многие подвиги. Он умел вызвать аплодисменты, привести молодежь в азарт. А когда приехал седой и заслуженный представитель Смольного, курсанты по сигналу Рязанцева приветствовали его так, что стекла дрогнули в окнах и эхо пустых коридоров отозвалось на новый для них боевой клич.
Гость, не хуже Рязанцева умевший бросать пламенные слова с трибун, говорил тихим, чуть усталым голосом. Словно после бурного митинга, где нужно было бороться, он приехал к своим, где можно передохнуть.
— Ваша школа, — говорил он, — как и другие школы, — наше любимое детище. В подполье, преследуемые, несущие в себе ненависть к проклятому царскому строю, мы мечтали о том, что настанет день, когда пролетарий возьмет в свои руки оружие, когда армиям капиталистов и царей он противопоставит свою армию, которую поведут в последний бой наши пролетарские офицеры…
Этот тихий голос создавал необычайную тишину, и эта тишина, казалось, вот-вот порвется, как паутинная нить, потому что каждый в этом зале понимал, что он и есть так долго и страстно ожидаемый всем классом пролетарский офицер…
И эта тишина взорвалась, как взрывается газ, скопившийся в шахтах, как гремит гром над собравшими тучи ночными ущельями…
За одним из столов Вера увидела Алексея. Они встретились взорами, и он помахал ей рукою. Она вспомнила, как он нес ее по коридору на сплетении сильных рук, как пахло от него кожей ремней, влажным шинельным сукном и еще запахом волос, как он хлопотал за нее, и подумала, что она приобрела уже в этом городе друга. Альфред, худой и острый, кивнул ей издали, и многие смотрели на нее, и под звуки музыки, гремевшей с хоров, под смех и речи ей казалось, что она может подойти здесь к любому и встретит дружественный ответ. Сосед — маленький, подвижный, как шарик ртути, политработник — усердно развлекал ее и строгую, как на уроке, едва снисходившую до улыбки учительницу географии. Он покорял красивой округлостью фраз и едва заметной иронией, которой он обволакивал буквально все, что подмечали его горячие, затененные длинными ресницами глаза. Но Вера чувствовала, что за этой присущей его характеру иронией живет дающая горячий свет глазам большая вера. Его ирония, сокрушая необязательную форму, утверждала самый смысл. Он, как художник, пользующийся одной только черной краской и тем не менее показывающий блеск кружев и белизну снегов, сказал в этот вечер Вере больше, чем речи и музыка, о пользе и славе боевой дружбы, которую закрепляли здесь пятьдесят уходящих на фронт во имя воинствующей человеческой правды командиров.
Расходясь, гости хвалили школьные порядки. Комиссар обошел все здание вплоть до уборных, но всюду была та же образцовая чистота.
— Этого у нас нет, — жаловался он своему начальнику. — В коридорах вонь, в пустых залах солома на полу… Распущенность…
Начальник школы, бывший полковник, глядел недовольно и озабоченно. Про себя он принимал какие-то решения.
У ворот, где ветер то прятал в складках, то выставлял напоказ кумачовые лозунги, Вера увидела рядом с Алексеем и Порослевым девушку с улыбкой, открывающей молодые, снежно-белые зубы. Это была Катя Сашина.
По улицам шли гурьбой, стояли на Аничковом мосту, глядя, как водолаз спускается в осеннюю густую воду, чтобы чинить кабель у дворца, сидели в Летнем саду, потерявшем листву и часть спрятанных на зиму статуй. Возбужденный близостью Веры, Алексей смешил товарищей рассказами о фронте и о деревне. Ему хотелось одного — взять девушку за руку и побежать с нею вдоль выстроившихся парадом деревьев, и он старался держаться подальше от нее, как бы не доверяя себе… Порослев тут же начинал грустное о кандалах, о тюрьмах. У него болела грудь. Он отходил в сторону, долго кашлял, и все делали вид, что не замечают этого. Начальник школы хлопал мягкой рукой по костистому колену комиссара, клялся, что школа еще переплюнет рязанцевскую, а потом, завладев вниманием, выкладывал анекдот за анекдотом, пока не дошло до такого крепкого, что Вера протестующе замахала руками.
Они бродили у десятка еще не заколоченных статуй, изощряясь в остротах насчет богинь и богов. Здесь Вера обнаружила поразившее даже полковника знакомство с мифологией и с удовольствием заметила искру зависти в глазах Алексея.
Домой они шли вдвоем, и Вера рассказывала Алексею, как помнила, содержание «Илиады» и «Одиссеи». Алексей шагал рядом так, что Вере никак было не попасть ему в ногу, размашистый и тяжелый, как будто не он только что легко и беззаботно смеялся и шутил в Летнем саду.
Дома Вера снесла ему «Историю Государства Российского», «Древний мир» — ее гимназические учебники. Над книгами на мгновение сблизились их головы и руки. Потом был долгий разговор. Каждый говорил только о себе. Доверие и искренность должны были прозвучать как обмен подарками, высокую цену которых знают только они вдвоем. Но Вера не рассказала ему об Аркадии, потому что разговор на этот раз шел не о событиях их жизни, но об ощущениях и чувствах…
Субботним вечером, когда вся школа шла в баню и был закрыт клуб, за Алексеем на одноколке заехал Порослев, и вскоре в Верину дверь раздался стук.
— Вы свободны, Вера Дмитриевна? — вступил в комнату Порослев, не снимая своей поношенной фуражки. — Поедем к Катерине Андреевне. Сестры у нее, музыка… Хлеба, сахару захватили, девицы чай устроят, — показал он на сверток в деревенском белом платке.
Вера сидела на бричке с Порослевым, а Алексей всю дорогу трудолюбиво и тщетно умащивал свое большое тело на откидной скамейке. Порослев издевался над его стараниями. Но Вера заметила, что Алексей больше всего боялся стеснить ее, коснуться ее коленей.
Большая комната в деревянном домике на Охте вмещала и рояль, и обеденный стол, и кровать за ширмой, и множество разносистемных и разнокалиберных креслиц и стульев. Пышная белокурая Ангелина держалась хозяйкой. Она спокойно взяла у Порослева хлеб, сахар и леденцы. Старуха мать застучала самоварной трубой. Средняя, Неонила, лениво курила папиросу и неутомимо вела разговоры. Катерина суетилась. Она подбегала к окну, выскакивала за дверь, поджидая Огородникова, а когда тот приехал, стала усиленно ухаживать за Алексеем. Огородников умудрился раздобыть несколько бутылок пива, чем вызвал аплодисменты Ангелины. Пива было мало, но в тихом деревянном домике на окраине и без того было весело. Огородников играл на разбитой балалайке, дурил, вносил предложения, одно нелепее другого. Ангелина пела под рояль, пригасив для настроения огни.
Когда возвращались, город был по-военному тих. Патрули останавливали бричку, смотрели пропуска и провожали глазами военных и девушку, пустившихся по городу, погасившему фонари и раскрывшему черные глазницы окон.
Опять Алексей мостился в ногах у Порослева и Веры. Его стеснительность казалась девушке признаком большого благородства. Порослев говорил, что Сашины — прекрасные девицы, но все-таки в них есть какая-то буржуазная гнильца. Вера посмотрела на темную голову Алексея, глядевшего вдоль улицы, мерцавшей редкими огоньками, и внезапно ощутила, что она больше не хочет рассуждать об этом человеке. Она едва заметным движением разыскала его пальцы и там оставила свою руку.
Мосты, дома, деревья, церкви черными громадами проплывали мимо, а Вера чувствовала, что в горячих пальцах Алексея кипит вся его несдержанная кровь, ей захотелось вновь ощутить себя в его руках, и, испугавшись, она резким движением убрала руку.
Алексей подумал, что ему приснилась эта быстрая, невероятная, ослепительная ласка…
Катя Сашина забегала теперь к Вере. Проходя коридором пустой казаринской квартиры, она во все двери заглядывала на способное смутить «ничье» богатство, ахала и вздыхала. В Вериной комнате она в первый же день перетрогала и оценила все предметы.
На тахте они сидели лицом друг к другу, как гимназические подруги, готовые взяться за руки, и разговор, как заяц, петляющий по зимнему снегу, перебегал с темы на тему. Обе сдерживали любопытство и оставляли на будущее самые, интересные вопросы. Вера дала Сашиной слово бывать на Охте. Катя уверяла, что все сестры ее приглашают и всем она страшно понравилась.
Был случай — подруги заболтались до ночи, и Катя улеглась спать на кушетке. Облокотившись на подушку, Вера слушала быструю речь Катерины о сестрах, о Порослеве, о дивизионе. Порослев был, конечно, в нее влюблен, а Огородников совсем без ума… Катя, очевидно, была бы счастлива, если бы весь мир был у ее ног, но легка, как пушистый снег, была ее поверхностная любовь и жадность к жизни. Ни ее, ни других она не тяготила. Ей тоже многие нравятся, но никто особенно…
В воскресенье школа шла в Эрмитаж. Восьмимесячный скудный срок учебы не пугал молодых педагогов и не снижал духовной жажды курсантов.
— Вы тоже в первый раз? — подозрительно спросил Веру Алексей.
Он никогда еще не был ни в одном музее.
Но Вере трудно было определить, сколько раз она забывалась в этих залах, обретая в себе острые ветерки пробужденной фантазии.
В воскресенье Алексей еще на рассвете съездил в казармы, вернулся рано и предложил Вере пойти в Эрмитаж вместе.
Он пробежал залы дворца пехотным шагом. На стук его каблуков оглядывались старушки сторожихи. Он то и дело терял спутницу, задерживавшуюся перед любимыми картинами, и возвращался, напряженным взором отыскивая ее в толпе.
Со стен смотрели чужие, как на иконах, ни на кого не похожие, невероятные лица, мужчины в кружевных актерских воротниках со шляпами в нелепо торчащих перьях, раздетые силачи и женщины с невиданным обилием тела. Каждый из них был любопытен и на улице собрал бы толпу зевак, но здесь их было слишком много, и через час Алексей откровенно зевнул, доставив искреннее удовольствие какой-то паре бывших. (О, если б можно было заснять для заграничной печати этого варвара, забредшего в музей!..)
— Скажите, — подвел он Веру к полуразвалившемуся и отделенному веревкой от прохода елизаветинскому дивану, — на этой мебели сидела сама императрица?..
Заметив откровенный зевок быстро расправившегося с фламандцами Алексея, Вера спросила спутника, не довольно ли на первый раз. Он согласился и радостно помчался к выходу, как бы боясь, чтобы девушка не передумала. Он оживился в вестибюле.
Сторожа в волчьей шубе до пят он спросил, сколько здесь комнат и сколько дров выходит за зиму, дважды пробежал вверх и вниз мраморную лестницу и осторожно пощелкал по колену нагую нимфу.
На улице он предложил пройти, если еще не поздно, в музей, где собраны картины русских мастеров.
Вера покорно двинулась к Михайловской площади.
В Русском музее Алексей направился к большим полотнам, в которых сюжет выступал на первый план, как победитель, заслоняя собою, под флагом творческих жертв во имя целого, краски, тона, исступленную войну художника с материалом.
Здесь Алексей не торопился. Шепотом и чуть стыдливо он расспрашивал Веру, и девушка прилежно рассказывала ему о Фрине, о стрельцах и Петре, об Ермаке и Екатерине, о Помпее, Флоренции, Угличе и Ливадии. Не выстраиваясь в прагматический ряд, спутанные во времени, отрывистые и неточные сведения, неизвестно как пришедшие к нему, оживали в этих картинах художников, которые были для него в первую очередь дружеским, ярким рассказом о настоящем, прошлом и будущем. Его вместительная голова поглощала не уставая. Он работал всеми мышцами своего духа, как отставший, но не теряющий надежды на победу бегун.
Но у поленовских и шишкинских полотен он стал рассказывать Вере о своей деревне, и Вера поняла, что краски прокладывают себе путь к его чувству, еще не расчищенному опытом и размышлением.
Звонок застал их в средних залах второго этажа. В веселом разговоре стояли они у раздевалки и пешком отправились на Крюков канал. Алексей зашел было в угловую, но телефонный звонок внезапно потребовал его в часть.
Вера читала «В людях» Горького и думала, что Алексей тоже не упадет, не принизится в жизни.
Глава XVI ЧЕСТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
Клячонка внесла Алексея и Синькова прямо в центр конского двора. Двор был густо замешан кашицей зеленоватого снега и осенних грязей. Был он так обширен, что лошади на коновязях, раскинутых по его краям, казались бусинками, нанизанными на бечеву. Белая кобыла носилась из угла в угол, за нею с уздечками в руках спешили трое красноармейцев. Кузнец, громко вздыхая, работал у ворот. Низкие, приземистые конюшни дышали гниющей соломой, прелью и конской мочой.
— Не сдавайте только позиций, — предупредил, ступая в грязь, Синьков.
Алексей мотнул головой. Был у него такой, еще солдатский, задорный жест кудрями. Ему ли не знать цены коню в артиллерии!
Ордера предъявляли в управление конского запаса. Начальник, высокий узколицый и желтолицый юноша, видимо бывший офицер, и большой плоскогрудый усач военком вели переговоры, не присаживаясь к столу.
— Сто семьдесят лошадей? У нас налицо не хватит. В два-три приема. Мы получаем и сдаем партиями.
— Партиями, — взмахнул усами военком.
— Товарищи, — пододвинулся к начальнику ремонта Синьков. — Большими партиями без выбора я лошадей брать не буду.
— То есть как это?
— Тяжелая артиллерия — это не обоз. Прошу вас разрешить мне каждую лошадь отбирать отдельно, конечно, с вашими людьми.
— Это невозможно. Да и ни к чему. Мы лучше знаем, что у нас есть и какая лошадь в каком состоянии.
— Вы гарантируете нам первоклассных артиллерийских лошадей?
Начальник управления конского запаса снисходительно улыбнулся:
— Откуда же они возьмутся? Как вы думаете? Дадим лучших.
— Вот мы и поищем лучших совместно.
— Вы первые с такими претензиями.
Алексей отошел с военкомом.
— Чего твой-то уперся?
— Да и твой-то тоже!.. — взлетели кверху усы.
— Пушки возить — не кухни. Правильно он говорит. Не за свое…
— Да и мой не за Австрийскую империю…
— Вот давай вместе и посмотрим.
— Ну, пущай смотрят вместе, — сдались вдруг усы. — И так бы не надули…
Три дня с утра до вечера сидел Синьков в управлении конского запаса с ветеринаром и старшиной. Алексей, с первого дня став комиссаром при Синькове, понял, что дело в верных руках, Получив назначение командиром отдельной батареи, Синьков удвоил рвение и сосредоточил все внимание на подборе конского состава и бойцов. Аркадий обходил конюшни после каждого свежего привода из окрестных деревень или со станций. Он ласкал понравившегося ему коня, лез ему в рот, осматривал копыта, пальцами перебирал сухожилия, ощупывал бабки, коленные суставы. Верховых он сам выезжал на дворе или предлагал проехать Федорову. Федоров ухарски вскакивал на коня без седла и, размахивая, как ярмарочный цыган, локтями, улюлюкая, разбрасывая веера грязи, летел от конюшни к конюшне. С начальником запаса Синьков свел знакомство… Покончив с работой, он шел к нему с военкомом в кабинет, мыл руки зеленым мылом, пил чай с пайковым хлебом. Все трое любили лошадей, наперебой рассказывали, как кто из них единственный раз в жизни упал с лошади, где видел скакуна, единственного в своем роде, как была на фронте единственная по красоте кобыла, к которой приценивался великий князь. «Единственных» было так много, что начальник запаса успел за рассказами проболтаться Синькову, что на днях ждут привода мобилизованных лошадей из заневских немецких колоний. Вот там-то и будут настоящие артиллерийские кони.
Синьков стал вяло производить прием, а в нужный день явился на рассвете и захватил полпартии кормленых, весело играющих жеребцов. Алексей был положительно счастлив. Он сказал Синькову, что с первого года войны не видел таких упряжек.
Все ездовые были теперь у дела, чистили, расчесывали, водили на ковку, готовили подстил. Лихо гремя по булыжникам города, водили теперь инструкторы на прогулку батарею, а каптенармусы ездили «на своих» в интендантство, в хлебопекарню, в районный военкомат. Через неделю Алексей и Синьков вывели батарею на прогулку в полном походном строю.
Синьков ночевал теперь на батарее. Обежав казармы и конюшни, он забирался к Коротковым, на теплые кожухи. Здесь же, в каптерке, они кормили его кашей, поили чаем. Здесь же, в теплом запахе хлеба и постного масла, он принимал красноармейцев, с прижимом выдавал сапоги, торгуясь, как на базаре, менял обмундирование, принимал чиненную батарейными шорниками упряжь и тут же укладывался на ночь, сняв только сапоги и расстегнув ворот гимнастерки.
Алексей с гордостью докладывал Порослеву о новом командире. Порослев принимал слова Алексея как должное. Это ведь он выдвинул Синькова, как лучшего строевика, несмотря на противодействие Алексея. И, значит, не ошибся. Он не замечал, что, расхваливая Синькова, Алексей и теперь выпытывал, нет ли все-таки у Порослева сомнений в новом командире.
В политуправлении округа, при выдаче комиссарского мандата, Алексею было сказано: «В кратчайший срок необходимо добиться, чтобы батарея стала боеспособной частью, готовой двинуться на любой фронт по первому приказу».
…Три года империалистической войны… Легкая бригада в Галиции действовала как часы… Третьим номером в суматохе беглого огня Алексей разбил палец. Кровь текла, завернулся ноготь. Он тряпочкой обернул палец и продолжал подавать снаряды, как механизм. И еще внутри что-то стонало: «Бей его, черта, в хвост и в гриву! Скорее, скорее!» Пушка прыгала и плевала в небо огнем, сталью и дымом… Где это было? Под Злочевым, что ли?
Русскому народу угрожал враг, стремившийся захватить богатства страны, поработить ее население. Он хотел использовать техническую отсталость способного, талантливого, но лишенного человеческих прав народа, возглавляемого неумелым и неумным, безынициативным правительством. Но гордый и самолюбивый народ дал врагу жестокий отпор.
Не его вина в том, что хозяева страны — помещики, министры, генералы — бросили его в бой с голыми руками против вооруженного до зубов противника. Народ на деле убедился в том, что уберечь свою национальную самостоятельность, отцовские и дедовские земли он может, только сбросив своих негодных хозяев, в великом братстве рабочих, тружеников земли и угнетенных народов.
Сперва инстинктивно, а потом и всем разумом поняла солдатская масса эту великую мысль.
Теперь Алексей пойдет на фронт комиссаром, и его основная задача будет заключаться в том, чтобы батарея работала настолько же лучше той галицийской, насколько ведущая его и его людей идея выше, обширнее, благороднее традиционного патриотизма царских полков.
В большом овальном зеркале казаринского кабинета, среди портретов статских и тайных советников, перед ним стоял плечистый парень в зеленой гимнастерке, туго перетянутый широким ремнем. Лоб крепкий, серые глаза, густые брови.
«Похож ли я на комиссара?» — думал Алексей.
Если бы его спросили, за что ненавидит он своих будущих врагов, он, вероятно, ответил бы не сразу. Ненависть жила в нем так, как сердце живет в груди, — неотделимо. Он не мог бы вспомнить, когда впервые она зашевелилась в сознании. Когда первый услышанный им в семнадцатом на митинге большевик собрал и выбросил эту ненависть в словах, Черных, стоявший в одном из дальних рядов, даже вскрикнул и навсегда запомнил не только слова, но и лицо этого большевика. Тысячи людей, которых он встречал в казарме, на собраниях, на заводах, в квартире Федора, на демонстрациях, на митингах, разделяли и поддерживали эту ненависть, как угли взаимно поддерживают жар.
Питерские рабочие — партия за партией — отправлялись на север, на восток, на юг.
Случилось то, что должно было случиться: теперь пойдет на фронт и он.
Не просто храбрость и выносливость, не только твердость и гнев, но умение бороться современными средствами войны — вот что потребуется от него на фронте. Сотни людей и еще дюжина офицеров, восемь гаубиц с пудовыми снарядами, которыми можно превратить в решето огромный дом, в пожарище — деревню…
Он был уверен в себе как в бойце, но не было в нем такой же полновесной уверенности в том, что он сумеет умно и точно управлять техникой и людьми, в том числе и такими, которые у него на подозрении.
Были получены лошади, и настало время, когда каждую ночь его могли поднять с постели и в двадцать четыре часа отправить на фронт. Время стало еще дороже. Оно было подобно воде во фляжке путника; пересекающего пески. Алексей ложился поздно, вскакивал со светом. Не пивши чаю, не слушая протестов Насти, бежал в казармы.
Однажды ночью пустынная квартира огласилась стоном. Алексей молотил тяжелым кулаком кровать и мягкий ковер на стене. Когда в кабинет вошла Настя, глаза его горели, он утирал ручником пот со лба, а пальцы все еще отказывались разжаться.
Настя дала ему воды, перестлала постель и, нашептывая по старой привычке что-то о царице небесной, устроилась тут же на полу. В дверь заглянуло испуганное лицо Верочки и скрылось. Тогда Алексей окончательно пришел в себя.
Прежде он легко относился к недостатку специальных знаний. Ведь эту гаубицу он знал, как свою постель. Теперь сознание своей неполноценности в сравнении с любым офицером не давало ему покоя. Он знал теперь, почему раньше одних учили много, других мало, и чувствовал себя обворованным.
Он достал описание сорокавосьмилинейной гаубицы и принялся разбирать чертежи. Но формулы и термины баллистики закрывали от него какой-то простой смысл. Он принудил себя обратиться к Сверчкову с просьбой помочь ему. Сверчков взялся за обучение комиссара с энтузиазмом, но, уяснив на практике, что Алексей понятия не имеет об алгебре, геометрии и даже о тройном правиле и пропорциях, осел, ослаб и вяло стал доказывать, что нужно начинать не с артиллерии, а с арифметики. Алексей угрюмо качал встрепанной головой. Он понимал, что Сверчков прав.
Но, развивая свою мысль, Сверчков увлекся и стал доказывать, что бесплодно заниматься одним предметом, хотя бы арифметикой. Нужно заняться самообразованием вообще: географией, историей, физикой, иначе же всякие знания, в том числе и политические, висят в воздухе, а человек, повторяющий одни лишь выводы, похож на обученного скворца.
Алексей внезапно разозлился и замолчал. Вслед за учителем остыл и ученик. Занятия оборвались сами собою.
Но Алексей не мог примириться с неудачей. Его страшила мысль оказаться в плену у специалистов. Сверчкову он больше не верил. Общая подготовка — дело хорошее, но стрелять из пушек можно и не зная истории Рима. Еще большой вопрос, знает ли географию Синьков, но, говорят, бьет он наверняка. Алексею нужны были точные знания: как построить веер, как вычислить по карте расстояние до цели, как пользоваться таблицей шрапнельных трубок. Его практическая голова с негодованием отвергла длительный, запутанный путь, предлагаемый Сверчковым. Он готов был заподозрить умысел.
У Веселовского было открытое лицо с удивительно спокойными серыми глазами. Алексей спросил его: можно ли научиться стрелять, не зная математики?
— Артиллерист, который должен работать с любым орудием в любых условиях, без математики не обойдется, — ответил юноша. — Раньше курс артиллерийского училища проходили в три года. Мы с Климчуком потратили на это дело восемь месяцев и все-таки стреляем. Теперь есть краткосрочные курсы — всего четыре месяца. При нужде — можно научиться стрелять и скорее.
«При нужде» — это соответствовало всем мыслям Алексея.
— Хотите, займемся, — просто предложил Веселовский.
Он умело отделял сложную теорию от практических моментов, и Алексей почувствовал к нему благодарность. Многие прежде таинственные действия командиров получили в его глазах определенный деловой смысл.
Беседуя с Веселовским, Алексей все больше понимал, что его новые знания помогут ему ориентироваться в действиях инструкторов, но заменить командира батареи он сможет не скоро.
Какая-то легкая надежда носилась в сердце Алексея: не смогут ли старые фейерверкеры целиком заменить инструкторов? Хотя бы в критический момент.
Это были крепкие, уверенные в себе ребята. Они знали свое место в бою, свое орудие, работу номеров, телефонистов, разведчиков. Но пристрелка — это было дело офицерское, хитрое и недоступное.
Партия сознательно делала ставку на честных специалистов. Этот лозунг Алексей принял, сжавши зубы. Кроме Борисова, он не видел на фронте офицера, которому он, не задумываясь, доверил бы свою судьбу и жизнь товарищей. Он знал, что и Порослев верит не всем офицерам. Было время, когда Алексей готов был выступить против привлечения специалистов вообще, но его убедил Чернявский. В военных школах обучаются сейчас рабочие и крестьяне. На это нужно время, а враг не ждет.
Чернявский рассказал Алексею, как французы-санкюлоты заставляли королевских генералов сражаться с пистолетом у виска. Эго рассказывал ему еще на фронте Борисов. Об этом он прочел в истории Французской революции, и образ комиссара Конвента потряс воображение Алексея. Чутьем он понял нечеловеческую трудность этой позиции и ее историческую необходимость.
Ему придется держать свой комиссарский наган у виска Синькова… У командира батареи синие прожилки на бледной коже и светлые, лениво вьющиеся волосы, глаза как ввинченные живые стеклышки, большею частью пустые и умеющие смотреть мимо. Порослев взял с Алексея честное слово, что он постарается сработаться с Синьковым, но он не знал, чего стоило Алексею дать это слово.
За военную выправку, за щегольскую фуражку, за резкий командирский голос, за звон неснятых шпор, за гордо поднятую голову, за пригнанные по ноге сапоги, за тысячу как символических, так и случайных мелочей, из которых сложилось в сознании Алексея представление об офицере-враге, — он невзлюбил Синькова с первых дней. Аркадий был самым нежелательным гостем Алексеевой квартиры, и эта неприязнь росла. Встречая Синькова на пороге, он едва сдерживался, чтобы не крикнуть «вон!». Он видел, что Синьков и Воробьев платили ему тем же, и мысленно жалел, что здесь не фронт, не август семнадцатого года…
Он видел ясно, что Синьков стремится к Вере. Он искренне считал, что связь с ним была бы гибелью для девушки, которая казалась ему лучшей из всех женщин этой среды… Она была скромна, тиха и правдива. Она была бедна и не воспитывала в себе ненависти к революции. А этот гад целыми вечерами шипит в ее угловой комнате и издевается над тем, что дорого Алексею. За то, что она слушает его, Алексей готов был невзлюбить и ее, но это чувство отлетало при первом взгляде в ее спокойные серые глаза. У нее были мягкие, пушистые волосы, она была легка, как подросток, и обидеть ее нельзя было даже мыслью.
Когда на Дон, к Каледину, к Краснову, заструился из столицы офицерский и юнкерский поток, он ждал, что Аркадий и Воробьев сбегут на юг. Он поручил Степану следить за квартирой Зегельман. Он сам расспрашивал смешливую Куделю. Сбежал Ульрих фон Гейзен, но прочие офицеры, казалось, и не думали покидать столицу. Зато Степан выследил Куразиных, которые околпачили самого Алексея.
Но когда решался вопрос о назначении будущего командира отдельного дивизиона и Порослев назвал фамилию Синькова, Алексей вынужден был согласиться. Решительно и неоспоримо Синьков занял первое место среди инструкторов. Не ожидая ни приказа, ни напоминания, он делал все, чтобы батарея была снабжена, укомплектована, способна двинуться на фронт. Казалось, это действует службист, вернувшийся в привычную атмосферу и ради своих службистских радостей забывший все остальное. Наконец, он популярен среди красноармейцев. Это подкупало бывшего унтер-офицера царской армии. Он как бы вновь соглашался выделить из среды офицеров тех, кто не глядел волком, не кичился золотыми погонами, — может быть, из таких и получатся честные специалисты.
Не одного Синькова коснулись великие перемены эпохи. Религиозные убеждения, привычки, взгляды — все побывало под жерновами этих двух лет. Кто знает, может быть, такие, как Синьков, еще послужат революции. Но кобура Алексеева нагана всегда будет отстегнута.
Синьков упрочил бы эту неприязнь, если бы попытался, подобно некоторым инструкторам, втереться в доверие к комиссару, стать с ним на дружескую ногу. Он польстил Алексею, приняв его назначение как должное, но он не изменил в отношениях с ним тон, установившийся на Виленском в запасном дивизионе. Это была деловая вежливость, целиком снимавшая вопрос о личных отношениях. Это не Малиновский, не Дефорж, размышлял Алексей, и не Сверчков. Любуясь смелостью и сметкой, с какими Синьков насаждал порядок и, не поднимая голоса, приучал часть к своим и комиссарским приказам, он все более убеждался, что в этом человеке что-то изменилось, как меняются части в механизме, и следует помочь ему забыть о выпавших пружинах и винтах.
После особенно подкупившего Алексея успеха с ремонтом конского состава он сам предложил более доверительный и более товарищеский тон. Синьков принял его тактично и спокойно. Тогда впервые Алексей позвал его к себе. Они приехали на бричке звездной ночью. Тьма не позволила Черных увидеть судорогу, прошедшую по лицу Синькова. Он молча последовал за Алексеем в квартиру, в генеральский кабинет с развешанными по стульям рубахами и шароварами комиссара. Синьков сидел в глубоком кресле и курил. Черных поставил чайник и, заглушая жаркое шептание примуса, рассказывал ему о том, что брестская бумажка уже разорвана. Синьков, оказалось, не читал еще газет.
Сквозь звуки примуса, сквозь голос Алексея из коридора доносилось шарканье Настасьиных валенок. Когда раздался стук каблучков, Синьков подумал, что Алексей позовет пить чай и Веру. Но одновременно с примусом угас и шум в коридоре.
Теперь за Алексеем и Синьковым приезжала одна бричка. Аркадий к семи часам сбегал в казаринскую квартиру — для кратких совещаний с Алексеем. Несколько раз он видел Веру у ее дверей. Она заметно избегала встреч с ним. Но встретиться пришлось. Батарея переходила с Виленского в отдельное помещение. У Алексея в кабинете собиралось по пятнадцать — двадцать человек. Участились встречи командного состава. Синьков и Сверчков оставались после всех. Настя заваривала малиновый чай, и Алексей, довольный успехами формирования, приобрел вновь часть той веселости, какую принес с фронта. Деловые разговоры заканчивались громким смехом. Он долетал и в угловую, и Вера принимала его как признак установившегося мира.
Однажды, когда приехал Порослев, пришли Аркадий и Сверчков, она вступила в кабинет по приглашению Алексея и подала руку Аркадию, как будто ничего не случилось. Все эти люди готовились ехать на фронт, и это обстоятельство уравнивало в ее глазах дурных и хороших.
Глава XVII ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ РАСПЯТИЯ
В середине девятнадцатого столетия на Первой линии Васильевского острова, напротив церкви св. Екатерины, поднявшей неуклюжую колокольню над всем латинским кварталом Петербурга, православнейший русский царь основал католическую духовную академию, гнездо иезуитизма, этой куртизанки, периодически смущавшей покой самодержавия и русской знати.
В честь православного царя иезуиты воздвигли дом в виде большой буквы Н. От линии до линии, через весь квартал архитектор Михайлов Второй протянул два параллельных корпуса, соединенные полукруглой перемычкой в два этажа. Рассмотрев на плане свои царственные инициалы, государь был польщен. Он не думал о том, что эта величественная трехэтажная литера будет видна только птицам, равно безразличным к идее самодержавия и его собственным заслугам перед легитимизмом.
Но легче было проповедовать immaculata conceptio в Африке и Китае, чем в революционном Петрограде. Варшава Пилсудского сулила новый расцвет ордену, и воинствующие католики покинули город на Неве. Дом опустел и был разыскан царским капитаном Аркадием Синьковым, рыскавшим по всему городу в стремлении освободиться от опеки командования запасного дивизиона.
Батарейцы наглухо заперли холодную, как погреб, домовую церковь, верно хранившую сумрак и запахи всех божьих домов, поставили в аудиториях нары и койки, опростали и заняли под лошадей все сараи и еще в старом епископском парке разбили коновязи, приделав дощатые навесы к высокой каменной ограде.
В перемычке, делившей двор пополам и разбитой по числу студентов на двадцать четыре кельи, поселились каптенармусы, старшина, фейерверкеры, писаря и те из батарейцев, кто был ловчее и более склонен к уединению.
Прежде в каждой келье стояла одна железная кровать, стол для занятий, аскетический табурет. Большое белое распятие склонялось над кельей из восточного угла. По странной склонности ума или лености предыдущие постояльцы — польские легионеры — превратили кельи в уборные. Батарейцы убрали горы нечистот и заделали глазки в дверях, служившие академическому начальству для наблюдения, дабы уберечь студентов от рукоблудия и чтения современных книг, носительниц мирских соблазнов. Теперь в духоте от хорошо натопленных печей ютились батарейцы по трое и четверо.
Епископская квартира в центре здания и правое крыло были заперты. Солидные сургучные печати в большом количестве повисли на необыкновенно высоких дверях. Шел слух, что комнаты до потолка забиты мебелью, платьем, коврами, велосипедами сбежавших в Речь Посполиту членов польской духовной колонии. Высокий пробощ в черной сутане до полу, как подбитая летучая мышь, носился в сумерках по коридору со связкой ключей и с лицом заложника и кандидата в мученики. Он был изысканно вежлив, не уставал держать два пальца у полей котелка, но красноармейцы легко угадывали, как клокочет гнев в этом прямом, как флагшток, человеке.
Искреннее восхищение красноармейцев вызвали подвалы. Они тянулись от улицы до улицы под аудиториями, квартирами, кельями и церквушкой и от цементного пола до сводчатого потолка были наполнены ящиками выпитых бутылок всех марок — от скромного кагора до вдовы Клико.
Застарелый винный дух властно носился над этими памятниками коллективных оргий и единоличных меланхолических возлияний.
— Мильен бутылок, — определил с размаху Федоров.
— А мы-то, — уныло вторил ему Серега Коротков. — Что мы, тьфу, пьем на пасху да на святки. Вот это герои!
Винный дух щекотал ноздри, и батарейцы верили, что есть в подвалах тайники с запасами не распитого ксендзами и легионерами вина. Ночами с огарками рыскали меж ящиков, гремели стеклом, принюхивались и выстукивали полы и стены. Алексей поставил караул у входа в подвал и сам проверял, чтобы часовые не принимали участия в бесплодных поисках.
Первую от входа келью заняли Савченко и Фертов. Здесь сразу же организовался штаб по борьбе с охранными печатями. Страх перед Алексеем и перед Советом мешал действовать открыто. Но ночами они забирались на чердаки, крышами проходили на жилую лестницу правого крыла. Раздобыли пилку, клещи и долото. Пробощ в белых кальсонах под крылаткой совершал ночные обходы, а по утрам, с лупой в руке, осматривал печати. Он надоедал Синькову и Черных. «Жолнежи гвоздями портят замки и царапают печати…»
Теплее, светлее и грязнее всего было в комнате Коротковых. Дородные парни в овчинных тулупах, в папахах и валенках ворочались в тесной келье, как верблюды в клетке уездного цирка. Они набросали на койки и на пол связки казенных кожухов, одеял, тряпья. Под столом, прикрытый фанерным листом, стоял бочонок постного масла. Под койкой Сереги в сером мешке хранился расходный сахар. Початый каравай для опоздавших не уходил со стола. От него щипали и отрезали почетные коротковские гости. В дни выдач стол придвигался к двери. Из-за него, как из-за прилавка, Коротковы отпускали бойцам, сбившимся в коридоре, порции хлеба, махорки, сахара и соли. За инструкторскими пайками приходили жены и матери, постепенно привыкавшие к теплым платкам и демократическим плетеным корзинкам. Командирский паек отвозил на квартиру Синькова сам Игнат Коротков. Поставив в угол мешок с крупами, сахаром, мукой, он пускался в беседы с командиром. Немногословные и настойчивые, как удары океанской волны, они были с обеих сторон насторожены в духе деревенской вековой дипломатии, где смысл ясен обоим и слово, как музыка, только облекает настроение. Не застав Синькова, он сдавал паек по записке Куделе, топтался в коридоре и на кухне, просил воды и, улучив момент, мелко для своей мохнатой огромности хихикал и щипал девушку. Коротков предложил и Алексею завозить паек на дом. Черных на ходу кивнул головой, и Настя на другой вечер спросила брата, почему это стали так много выдавать муки и сахара. Может быть, это потому, что он теперь комиссар? Для наглядности она показала ему увесистый мешок. Алексей похлопал ее по плечу и сказал: «Ну, будем есть пироги», — но тут же помрачнел и выругался, потому что до сознания его дошло, что все это коротковские штучки, что это — против всех законов, что Коротков и Синькову и другим командирам по холуйской привычке, наверное, отпускает лишку. Это значит, что его, комиссара, могут упрекнуть в недобросовестности. Он предложил Синькову сменить каптенармусов. Но Аркадий резко заявил, что Коротковы — опытные ребята, он за них ручается, и если Алексей что-нибудь заметил, то следует устроить ревизию. Мысль о ревизии пришлась Алексею по душе. Как это он не додумался сам? Альфред говорил ему, что он устраивает в школах ревизии очень часто — «иначе примазавшееся жулье унесет окна и двери», — но посоветовал ему в случае ревизии вызывать представителя от штаба и от Совета.
Ревизия обнаружила у Коротковых ничтожные нехватки в фунтах и золотниках, устранявшие мысль о хищениях, и Коротковы высоко подняли голову. Они подняли ее еще выше, когда у фуражира, которого выдвинул сам Алексей, недосчитались тридцати пудов овса и воза сена. Парень клялся, что он дает конюхам без счета, потому что у него нет фуражных весов, но Алексей застыл в смертельной обиде. Его надул приглянувшийся ему голубоглазый парень! Он подкупал ясностью глаз, тихостью и тем, что не походил ни на одного известного ему фуражира старой армии. Алексей отстранил фуражира приказом, и дело должно было перейти в только что образованный военный трибунал.
Чтобы показать умение признавать свои ошибки, Алексей согласился назначить фуражиром Серегу Короткова.
Большею частью командир и комиссар приезжали на батарею вместе. Синьков еще в воротах кричал что-нибудь дневальному или подвернувшемуся красноармейцу, выскакивал из пролетки на ходу и уносился в конюшни, к Коротковым, в помещения, приспособленные под цейхгауз, в прачечную, под которую освободили часть подвала. Его голос доносился из глухих коридоров, легкие его шаги, быстрые и уверенные, заставляли скрипеть доски старых полов. Его всегда сопровождала свита красноармейцев, он вел себя с ними фамильярно и, казалось, дружески, но мало-помалу приобретал вновь командирский тон.
У него не было постоянного места, комнаты, кабинета, чаще всего он сидел у каптенармусов. Писарь Горев, тупой и неподвижный, одолеваемый застарелой болезнью, ютился около кухни, потому что здесь было тепло. Канцелярия его помещалась в промасленном полотняном портфеле, к которому он приспособил обыкновенный висячий замок. Портфель, в свою очередь, помещался в сундучке вместе с личными вещами писаря. Синьков носил бумаги во всех тринадцати карманах френча и бриджей. Когда он разыскивал какую-нибудь расписку, казалось, он готовится раздеться до белья. Сверчков как-то сказал ему раздражительно, что командиру и комиссару следует иметь кабинет и канцелярию. Кабинет и канцелярия были для Алексея словами из лексикона разрушаемого мира. У Алексея были такие же тринадцать карманов и не меньше подвижности, и он, ничего не сказав Сверчкову, пустился в очередное плаванье по коридорам и проходам бывшей Академии, в которой пахло теперь лошадиным потом и квашеной капустой. Порослев, посетив батарею и не найдя угла, где можно поговорить наедине с военкомом, обозвал все это партизанщиной. Это словечко на время заменило ему все выражения неодобрения. Алексей вспомнил о личной канцелярии и улыбнулся.
— А если к тебе комиссия придет, ты что, хочешь, чтобы она по карманам искала?
Алексей велел открыть епископскую квартиру. Из большой столовой вынесли мебель в церквушку и на освободившейся площади поставили два письменных стола. На длинный обеденный стол легло кумачовое полотнище. Так выглядели залы заседаний и кабинеты председателей в райкомах и Советах. Рядом поместилась уборщица, все та же женщина в матерчатых туфлях. Ее переманил с Виленского Черных. Она топила печь и ставила на угли жестяной чайник с длинным и острым, как огромный рыболовный крючок, носом.
Алексеев портфель, набитый брошюрами, прочитанными и непрочитанными газетами, лежал на столе, но ни командира, ни военкома никогда в кабинете не было.
Иногда сюда забирался новый оторг коллектива Каспаров. По-ученически, закрыв уши ладонями, он читал Ленина, политические брошюры на ломкой серой бумаге и циркуляры Политуправления, силясь проникнуться их смыслом, найти зерно волнующей его веры в каждом тезисе, чтобы рассказать о нем на собрании языком революционной улицы, райкомовского, воинствующего, митингового зала. Он смотрел на писанные маслом портреты былых хозяев этого дома. Полные и худые руки лежали на круглых и острых коленях, по которым стекала шелковая сутана. Но у каждого на безымянном пальце сиял все тот же наследственный большой епископский солитер. Разные лица, плечи, глаза, поворот головы — и все тот же, легко узнаваемый знак власти и могущества.
«Эк, куда мы забрались», — думал Каспаров. Он крепче умащивался в кресле и еще яростнее набрасывался на брошюры.
К нему приходили сюда члены бюро. Чаще всего Сергеев и Макарий Леночкин, силач, любимец всей батареи, веселый и добрый, как ребенок. Но доброта эта была подобна бархату, обтягивающему металл. Улыбающийся и добродушный, коммунист с семнадцатого года, непоколебимый в своих настроениях, он оказывал большое влияние на товарищей. Революцию он творил мягкими, но сильными руками. Он был одним из столпов коллектива и лучшим вербовщиком. Иногда он приводил какого-нибудь парня к Каспарову и говорил:
— Его бы к нам, Иван Михайлович. Свой парень.
На поверку всегда выходило, что рекомендованный быстро приживался в организации. Но где и как познал и учуял это Пеночкин, оставалось тайной.
С тех пор как Вера положила в руку ему свои тонкие пальцы, Алексей утвердился в мысли, что эта девушка — его судьба. Это было ночью, когда деревья на петербургских улицах казались башнями и богатырями, это было после гитары, рояля, песен и рассказов, и это тихое и долгое пожатие было как привет, переданный в письме издалека.
Алексей знал от Порослева, что приказ о выступлении батареи можно ждать с часу на час, об этом знала Настя, знала и Вера. В кабинете на стуле лежал открытый уложенный желтый чемодан, и все белье Алексея уже было перечинено и помечено красными буквами А. Ч. Командиры, бегавшие прежде в расстегнутых шинелях, ходили теперь в походном снаряжении с тяжелыми револьверами на боку. Настя больше не молилась, но часами молча сидела за вязаньем и долгими взорами провожала Веру.
Алексей знал, что он может в любой момент подойти к Вере, взять ее за руку и она, как и в тот раз, не отнимет у него пальцев. Но он не знал, что будет дальше, и, когда он думал об этом, его охватывал страх перед своей неуклюжей беспомощностью. Так человек, у которого повреждено легкое, еще не зная об этом, по свидетельству врачей, старается не дышать глубоко, инстинктивно оберегая слабое место. Встречаясь с Верой в коридорах, он отходил к стене, и она, казалось, обходила не только его самого, но и его уже протянутые к ней руки. Теперь он почти никогда не заходил к ней в комнату. А Вера замирала, услышав его крепкие приближающиеся шаги. Но всякий раз, когда, закончив разговоры, он и командиры — чаще всего Синьков — садились пить чай, он стучал к ней в дверь, кричал лаконично:
— Чайку, Вера Дмитриевна!
И она безропотно шла в кабинет, перемывала чашки и разливала малиновый чай. Завернувшись в платок, слушала приподнятые речи, большой, во все сердце, жалостью окутывала этих молодых людей. Она ни разу не сказала себе, что эта революция, как и все революции, будет раздавлена рано или поздно, но, должно быть, эта мысль не была чужда ей, потому что она смотрела на всех бойцов, уезжавших на фронты республики, как на обреченных. Развязность Синькова казалась ей напускной и лживой, философские тирады Сверчкова проходили, не задевая ее, как ловко пущенный кольцом дым папиросы. А в мужественной уверенности Алексея она не столько видела доказательство силы революции, сколько ее героическую, нерассуждающую обреченность. Если бы Алексей знал эти ее мысли, он возмущенно отверг бы ее сочувствие сестры милосердия, но она для него была прежде всего желанной женщиной, и все ее слова, взгляды и интонации он расценивал только с точки зрения возможного приближения ее к нему и отдаления. Любовь всегда стремится от трехмерной оценки близкого человека к одномерному эгоистическому размещению его чувств и мыслей во вселенной. Но Алексей сочувствие Веры отъезжающим на фронт принимал за возникшую и готовую окрепнуть преданность революции. Он был рад ей, как неожиданной находке. Он был убежден, что это его долг спасти девушку, иначе она погибнет вместе со всем обреченным, рассыпающимся миром господ.
В эти дни газеты приносили вести о Венгерской коммуне, о Баварской республике, о германских спартаковцах. Обо всем этом знала и Вера, но ей все эти события казались случайными светляками во тьме послевоенной Европы. А Алексей, следивший, как блекнет и рассыпается кругом все, что только не примкнуло к революции, видел в заревах и электрических вспышках еще только разгорающейся социальной грозы начало новой великой эпохи.
Вера была ему благодарна, она защищала его перед другими, она радовалась достоинствам, которые в нем находила, но она еще не чувствовала себя рябинкой пол сенью этого дуба. Она была сама по себе, и он сам по себе. Если бы ей сказали, что он в ее глазах — человек другого, низшего общества, она отвергла бы такую мысль с негодованием, но факт, что люди, которые плохо знали географию и ничего не слышали об Аполлоне и Венере, о Вагнере и Ричарде Львиное Сердце и не читали «Юность» Чирикова, выпадали в ее глазах из круга интеллигентных людей.
Ювелир, делающий изумительные кубки, или изобретатель нового станка оставался человеком не ее круга, но становился им сразу, заговорив о Толстом и Метерлинке. Воспитание — это стекла, которые мы незаметно надеваем на глаза всерьез и надолго. Они сидят в удобной седловине перед зрачком крепче, чем монокль английского лорда. Вера, в сущности, не получила никакого воспитания. А все, что попадало в поле ее зрения, в Плоцке и Волоколамске, было ничтожно. Только книги были широко распахнутым окошком в мир. Не Волоколамск, не домик тети, не праздничная толпа вокруг старого собора, не подруги по классу, смешливые и тихие мещаночки, диктовали законы миру литературы. Мир благородных книг должен был победить мещанскую улицу. Когда Вера поселилась в Петербурге, ей показалось, что она перешла в мир книжных законов и как бы перешагнула из зрительного зала на сцену. Ангелина Сашина походила на Нанá, Синьков — на Кольхауна Майн Рида иди Клода Фроллό Гюго — отрицательный герой, которого не любят и который мстит, а Алексей… это было самое трудное. Это не был Мартин Иден, это не был Давид Копперфильд или Оливер Твист. Это не был и Ломоносов. Но это был человек, который на ее глазах рвал все путы, какие связывали его прежде по рукам и ногам, упорный, стремительный человек, деятельный и самолюбивый. Ах, если бы вместо брошюр и газет он читал Толстого и Верхарна. Это, наверное, от газет у него такие твердые, негибкие взгляды на вещи. От книг этого не бывает. Книги приносят знания и идеи, и у каждой, как шипы на стебле цветка, — сомнения. Но в глубине души она очень высоко ставила эту крепость суждений. Ее ошибка была в том, что она недостаточно ясно видела целую поросль таких людей, подымавшихся сейчас от земли к культурной жизни, этот фермент, забродивший всюду от Владивостока до Бреста. Алексея легко можно было понять, узнав и поняв эти толпы юношей, с возбужденными лицами выходивших с митингов, лекций, из партийных клубов, театров и редакций газет. Но Алексей не сливался в ее представлении ни с курсантами ее школы, ни с рабочей молодежью, он стоял особняком, потому что он стоял на пути ее личной жизни. Во всем мире не видела Вера человека, которому она могла бы написать письмо Татьяны Лариной или сказать слова Елены из «Накануне». А всякая протянутая к ней не та рука, всякий взгляд темнеющих, но чужих глаз казался ей оскорблением.
Насильственное вмешательство Аркадия в эту замедленную в темпах увертюру сказалось сильнее, чем полагала сама Вера. Для нее наступило то время, когда молодое существо готово идти на уступки ради роковой встречи. «Он» уже не единственный во всем мире, но где-то здесь, в этом городе, может быть на этой улице. Еще немного, и он будет совсем близко. В конце концов избранником может оказаться один из знакомых.
Она создаст ему любой убор, поднимет на любой пьедестал, услышит от него то, чего он никогда не только не говорил, но и не думал, забудет все, что только могло бы помешать ему войти в ее мечты, взрастающие в тишине ночи.
Еще была целая пропасть до любви к Алексею, когда девушка положила свои пальцы в его ладонь. Такой жест у другой, например у Кати Сашиной, мог означать невинное кокетство. Но для Веры это была почти что клятва в верности.
Если бы Алексей воспользовался этой слабостью, он смял бы тихое и нестойкое чувство и отпугнул бы Веру. Но теперь каждый день, каждая ночь действовали за него.
Чтобы оправдать в своих глазах такой многозначительный жест, Вера день ото дня выше и выше поднимала в себе влечение к Алексею, зародившееся в ту минуту, когда он нес ее, как ребенка, как свою жену, по коридору. Она смотрела теперь с любопытством на эту большую голову в бронзовых кудрях. Она помнила силу его рук. Она примечала, с каким уважением относятся к нему сослуживцы. Она следила за его поступью в жизни, за его жадностью к знанию, за его твердым отношением к вещам и людям.
Настя вздыхала, глядя на нее, и Вера прекрасно понимала, о чем говорят ее вздохи. Чем глубже вздыхает сестра — тем, значит, сильнее любовь брата.
Этот человек должен скоро уехать на фронт. Жизнь ее опустеет, как и эта и без того полупустая квартира. Каждая ночь может принести быстрые, хлопотливые сборы. Ночные корабли — это из какого-то романса — разойдутся. Неужели даже прощальные слова не будут сказаны громко, при свете?
Окна в квартире затянуло густым морозным кружевом, и Настя, долго стоявшая в очереди, оттирала у буржуйки замерзшие руки, когда Алексей вошел в квартиру с целым ворохом похожих на обои свертков. Он, не здороваясь, пробежал в валенках к себе и только крикнул Вере:
— Сейчас покажу вам что-то.
Он вошел в угловую, разворачивая газетный сверток.
Вера приняла от него небольшое распятие художественной работы. Это была слоновая кость, серебро и еще какая-то неизвестная Вере масса. Можно было с уверенностью сказать, что этому распятию столетия. Его делали с любовью и страхом где-нибудь в Средней Германии или Ломбардии. Какие пути прошла эта католическая святыня, прежде чем попасть на берега Невы?
— Я думаю — это ценность, — смотрел на нее испытующе Алексей. — Наши повыбрасывали… До чего народ ненавистный ко всему этому стал, а я думаю — может, музейная вещь…
Он не сказал ей, что распятие, собственно, заметил Сверчков, буркнул что-то о гибели цивилизации — нарочито громко, чтобы слышал военком, — и прошел на конюшню.
Вера смотрела то на распятие, то на Алексея. Она улыбалась этому парню, который с ног сбивался, подготовляясь к походу, успевал читать, учиться и думать о музеях. Она слышала, что он, поселившись в этой квартире, топил печи иконами. Давно ли музей был для него такой же новостью, как ванна в квартире или энциклопедический словарь?
— А мы едем, Вера Дмитриевна, — перебил он ее мысли.
— Как, — вздрогнула Вера, — совсем?
— Карты получил сегодня… куда-то под Ригу… Вот ухожу на ночь, а утром уже и не приду.
Он не протягивал руки. Она стояла потупившись.
— Насте лучше не говорите, а то слез не оберешься. Напишу со станции.
Вера стояла тоже неподвижно. Стыли опущенные руки.
— Когда же… отходит ваш поезд? — произнесла Вера сухими губами. — Нельзя проводить?
— Мы и сами не знаем, Вера Дмитриевна… С каких- нибудь дальних путей…
Она подошла к нему, подняла руку на плечо и долгим тихим поцелуем приложилась к его наклоненному лбу.
Плечи его тяжело вздрагивали. Он сжимал ее руку так, что каждая косточка чувствовалась отдельно. Потом повернулся и вышел. Вера стояла у самой двери и слушала, как стучат сапоги, как рвется какая-то бумага, как щелкнул французский замок. Настя, ничего не зная, шуршала, звенела у буржуйки. Все было не так, как в книгах, и теперь было не до книг, нужно было во что бы то ни стало что-то сделать. И Вера отправилась к телефону.
Красным карандашом прямо на обоях был записан номер телефона батареи. Вера сидела в плетеном кресле до тьмы, не позвонила и легла спать под утро.
Невзрачным, но настойчивым хозяином, минуя опущенные шторы, входил в комнату морозный, но тусклый день. Вера все еще лежала в постели. Сон всячески старался спутать мысли, но это ему не удавалось, и Вера уже составляла про себя настоящее Татьянино письмо Алексею, в котором, захлебываясь в словах, она обещала любить и ждать, как вдруг раздался стук в дверь и голос Алексея спросил:
— Не спите, можно?
Вот это уже совсем было как сон, и, как во сне, Вера протянула руки к вошедшему в шинели, папахе и ремнях Алексею.
Он еще тяжело дышал после бега по лестнице. Он боялся, что не выдержит и наговорит лишнего, может быть смешного. Отъезд был отложен на сутки, и он хотел еще раз под каким угодно предлогом, какой угодно ценой поднять ее на руки.
Ее распущенные волосы, протянутые руки в тусклых сумерках комнаты понеслись на него душным вихрем.
— Закрой дверь, — только попросила Вера.
День и ночь спутались в этой искусственной полутьме.
На другое утро Алексей прощался с Верой и Настей. Он смотрел на девушку и говорил сестре:
— Ты мне ее береги, Настасья. Жив буду — не забуду тебе никогда!..
Часть четвертая ЗА ПЕТРОГРАД
Глава I АЛЬТШВАНЕБУРГ
Альтшванебург выдерживал напор красноармейского потока. Здесь кончалась широкая колея, и все, кроме боевых грузов, сбрасывалось на разбитое шоссе, на проселочные дороги. На вокзале, похожем на каменный амбар, оседали каптенармусы, фуражиры, приемщики, связисты, у путей, табором становились фурманки, двуколки, телеги и даже извозчичьи брички, приспособленные для своих нужд штабным и интендантским людом, — пугающее своими размерами охвостье ушедшей вперед армии.
— Что-то слышится родное!.. — хлестнул себя по сапогу Синьков, взглянув на шумную площадь с высоты вокзальных ступенек. — И дождик к тому же…
С неба летели тут же тающие снежинки.
Алексей носился по станции, пытаясь связаться со штабом группы. Федоров, Панов, Форсунов с криками седлали лошадей. Вместе с инструктором Крамаревым они отправлялись квартирьерами. Батарейцы рыскали по соседним дворам в поисках молока, хлеба, сала. Но поселок был объеден, как кость у будки цепного пса. Отгремев вволю у закрытых наглухо высоких ворот, бойцы рассыпались по полю в поисках ближних хуторов.
— Придется догонять, — сообщил Алексей, получивший наконец провод. — Вчера в Мариенбурге были слышны выстрелы. А сегодня доносится только тихий гул. Значит, опять ушли вперед. Прут на Ригу.
— Догоним, — сказал Синьков.
— Прямо на Ригу! — обрадовался Крамарев. — Говорят — замечательный город!
— Послушайте, Моисей Израилевич, — взял его за пуговицу Синьков, — если вы нам не достанете хорошую хату, с хозяйкой в восемь пудов, с самоваром и картошкой, — не попадайтесь мне на глаза.
— Кончишь с квартирами — ищи сено, — добавил Алексей. — Со дна моря достань…
— Сено прямо на чердак. Мы на нем выспимся, а потом коням.
— И самовар пусть сразу ставит! — кричали инструкторы.
— Иди, иди, Моисей, — сказал, смеясь, Каспаров, — они до утра не кончат.
— Так что же искать? — искренне недоумевал Крамарев, уже целиком настроенный по-фронтовому, — сено или самовар…
— Сено! — крикнул Алексей.
— Самовар! Хозяйку! — дурили инструкторы.
— Конечно, сено, — строго сказал Синьков. Это был голос командира.
Даже мокрый снег не мог сбить веселость вырвавшихся на просторы полей батарейцев. Гул голосов носился над вытянувшейся по дороге колонной. Алексей ехал рядом с Синьковым. Большие капли, как на ветвях, дрожали на его выбивавшихся из-под фуражки волосах. Он узнал, что красные с боем взяли на днях Мариенбург и двинулись дальше на запад. Линия фронта наплывала в воображении Алексея на линию моря. Очищалась от белой нечисти латвийская и эстонская земля. Носок нервно ходил в стремени. Это физически ощущалась радость стремления вперед и недостаток темпа в движении тяжеловесных батарейных ходов.
Сытые кони бодро тянули гаубицы. Ездовые, больше по привычке, поощрительно крутили нагайками над головами крепкозадых жеребцов. Люди шли, разбрасывая талый снег еще крепкими подошвами. Три года империалистической войны Алексей только и знал, что отступал и перекочевывал с фронта на фронт. Теперь он двигался за наступающими полками, готовый подкрепить их удар тяжестью орудийных залпов. Он повернул коня и поехал назад вдоль колонны. Один из разведчиков немедленно двинулся за ним. Так всегда бывало на походах, если командир батареи покидал свое обычное место. Алексея взбодрила полузабытая и вдруг воскресшая подробность фронтовых отношений. Он ехал, стараясь примечать все, что может интересовать и заботить комиссара.
Отгородившись от всего мокрого мира брезентовым капюшоном, глядя куда-то в поле, ехал у первого орудия Сверчков. Тяжело приседали в разбитых колеях не новые и некрашеные гаубицы. Но еще не было усталых, и кисеты номеров были полны махоркой. На облучках фурманок — по ездовому, и только на телефонную двуколку взобрался Савченко. Он курил, болтал ногами и по обычаю развязно судачил с соседями. Отяжелевший от лишнего человека ход оттягивал кверху голову коренника.
— Ты что — захромал на которую? — подъехал к нему Алексей.
— Портянка трет, товарищ комиссар, — выпучил глаза Савченко.
— Слезай! — сдавленным голосом сказал Алексей. — Нечего коню холку натирать.
Савченко сделал удивленный жест и спрыгнул на землю.
— Слушаюсь, товарищ комиссар! — взял он лихо и четко под козырек, как не брали в те времена красноармейцы.
Отъезжая, Алексей услышал смех и новые савченковские остроты.
На привале десятой версты не на чем было присесть. Небо еще ближе придвинулось к земле и как бы притянуло подснежную воду. Колеи разбухли, — черные змеи в подернутых серебром лужицах. Командиры курили, сбившись в плотный круг. Прислушиваясь, обступили их номера и ездовые. Алексей у придорожной канавы следил за отставшей вереницей крестьянских телег, мобилизованных под снаряды.
Федоров подскакал к батарее еще на полпути. Круто повернув, он вошел в ряд разведчиков, сдернул капюшон плаща и объявил:
— Квартира есть… и картошка…
Добрый слух пошел по батарее и достиг обоза, где Савченко уже устроился на возу с сеном.
— Ты мой ранец стащи в избу, — сказал ему Фертов, — а я, как придем, — сразу на разведку.
— Ладно! — согласился Савченко.
— Чего зря лошадь гоняешь? Не мог встретить у околицы? — строго сказал Синьков Федорову.
— Я ее гоняю, я ее и кормить буду, — буркнул разведчик, похлопал коня по шее и хвастливо заявил: — Для ей уже овес на всю ночь заложен, товарищ командир.
— Спер, значит? — решил Алексей.
Федоров помалкивал.
— Смотри, Федоров, — обернулся в седле комиссар, — будешь безобразничать, я тебя…
«А что ты меня?» — вызывающе смотрели зеленоватые глаза Федорова.
— В трибунал тебя, вот что…
— А за что, товарищ комиссар?
— Смотри, чтоб не было за что, — отвернулся Алексей.
Батарея въехала во двор большой мызы на самом краю села. Высоким гребнем подымалась крутая нерусская крыша. Над сараями водили на ветру ветлы. От колодца бежали во все стороны грязные потоки по зеленоватому снегу. На крыльце стояли разведчики-квартирьеры и среди них Крамарев без шинели и шапки.
— Сюда, — кричал он, — сюда, Аркадий Александрович! Я уже обед заказал…
Но Синьков и Алексей вошли в дом, только разместив всех коней под навесами соседних дворов.
Хозяйка была пуда на два легче командирского заказа. Она вела нехитрую политику. Она предпочитала командный состав, как меньшее зло. Она сейчас же застлала серую скатерть с бахромой, воздвигла на блюде гору пухлого хлеба, расставила две миски яиц, кусок масла и глиняную чашку с крепкой холодной сметаной. Командиры ходили вокруг стола, изощрялись в остротах по адресу конской ноги, которую варили в вагоне, и псковских желтоватых лепешек, этих первых ласточек провинциальной сытости. Не выдержав, они щипали хлеб, и когда хозяйка, в сопровождении девушки-подростка, внесла ведерный казанок с картошкой, запеченной на шпике, — едва не грянуло «ура».
Хозяйку усадили на почетное место. Она ломалась недолго. Тарелки дымились. Из-за пригоревшей на сале корочки шел бой. Обжигаясь, набивали рот душистой едой и пятое через десятое слушали повествование хозяйки. Она вдова. Одного сына убили на фронте. Скупая единственная слеза ползла по ее германскому носу. Ей ничего не жаль… только бы солдаты не таскали из кладовых и из погреба. Она всегда рада аккуратным и чистым постояльцам. У нее стоял сам командир бригады… Немецкий акцент изредка подкреплялся немецкими словами. Время от времени она взглядывала на православнейшую троеручицу, висевшую в углу среди ручников.
Каптенармус, не присаживаясь к столу, сообщил, что конюх хозяйки продал ему сорок пудов сена по казенной цене и еще они берут воз у соседей.
Прислушиваясь к докладу, хозяйка шептала:
— Все, все… Только для скота до весны… и то не останется. O mein Gott, о mein Gott…
Скрипучим голосом Синьков благодарил ее, и Алексей думал, какою ловкостью должна была обладать эта тяжеловесная женщина, чтоб удержать весь этот беспокойный год добро в подвалах, на чердаках и в кладовых.
Когда обед был кончен и она ушла, все повалились на лавки и кровати, по двое и по трое. Дымили махоркой, как паровозные трубы, и сытые анекдоты с трудом проворачивались на отяжелевших языках. Потом спали…
Сверчков, зевая и завидуя спящим, обходил мызу. Он был дежурным. Около кухни и комнаты работниц пристроились Коротковы. Рядом — телефонисты. А через дверь от командиров, в большой натопленной комнате, оказались Савченко, Плохотин и Фертов. Савченко лежал в глубокой деревянной кровати, вскинув на борт кривые кавалерийские ноги в поношенных галифе со штрипками. При входе Сверчкова он только гуще пустил дым. На столе стоял казанок с остатками картошки.
— Вот тут поели, товарищ инструктор, — заискивающе произнес Фертов.
— Кое-кто и запасы сделал, — обронил Савченко.
— Какие это запасы?..
— Командирские блюдолизы… наверное…
— Что вы имеете в виду? — встал у кровати Сверчков.
— Ничего на свете!.. — Савченко вдруг рыгнул и, многозначительно подняв палец, заметил: — Это — сало. С непривычки.
Сверчков напряженным и долгим усилием сдержал негодование.
— Вы бы, Савченко, вели себя культурнее, — сказал он, уходя. — Не красноармеец, а… — Он не нашел под ходящего слова, или оно не сказалось.
— А кто, по-вашему, Дмитрий Александрович?
— Я вам не Дмитрий Александрович, а товарищ инструктор. — Он стукнул дверью, и вслед ему раздался смех.
Сверчков был взбешен. Он готов был разбудить Алексея. Но в большой комнате все было полно громким, воинственным храпом людей, отмахавших многоверстный поход под мокрым снегом.
— Да и что он может сделать? — брезгливо утешил себя Сверчков.
К вечеру туча проволокла свое холодное, сырое брюхо через село и ветлы, наклонившиеся над речушкой. По небу побежали сухие и злые, разорванные ветром зимние облака. К мызе потянулись красноармейцы, свои и чужие: на большой скамье у проруби, в которой полощут белье, уселся Крикунов с гармонью. Он подождал, пока сомкнется круг, и сразу ударил плясовую. Оборвал вдруг и, наклоняясь вперед и в бока всем телом, глядя куда-то поверх голов, заиграл с переборами и запел про неудачную солдатскую любовь. И эту не кончил и заиграл что-то виртуозное, потому что смотрел он теперь то на свои быстрые пальцы, то на лица удивленных и огорошенных такими переходами слушателей.
Человеческий круг обрастал все новыми слоями. Коротковы, не зря пристроившиеся к кухне, привели женщин. Среди фуражек и папах замелькали платочки. На веселый мотив отзывались щелканьем пальцев и каблуков.
Песнь о Разине поддержали несколько, так и не слившихся в хор, несмелых голосов. Крикунов сам отхватывал частушки:
Скольки я писем ему да ни писала — Ен говорил, что не получал; Скольки его я ни цыловала — Ен говорил, что не ашшушшал…Кто-то зычно потребовал плясовую, и в круг втолкнули радостно смущенную девицу в платке и короткой плюшевой кофте. Круг раздался. Девица вынула платочек. Крикунов вскрикнул. Девица пошла…
Ноги гармониста полушажками истово отвечали на первые всплески ее рук. Но и гармонь и топот ног становились удар от удара требовательнее, и девушка, повинуясь им, шла все быстрее…
Федоров влетел в круг неожиданно. Худой, верткий, он закружился не в такт. Присел. Закружился еще раз, попал в такт и пошел быстро и весело в наступление на партнершу, как будто это была свадьба, и уже хвачено самогону, и завтра не надо продолжать поход.
Когда Алексей и командиры подошли к кругу, здесь шло веселье деловое и слаженное. Уже ждали очереди, чтобы вступить в круг, сплясать, сострить, чтобы все слышали.
Крамарев неплохо станцевал русскую, а сам Алексей сыграл на баяне вальс. Когда совсем стемнело, пели дружно и могуче. Алексей разрешил возить большой баян Крикунова в командирской повозке и сказал об этом Каспарову.
Автомобильные фары, подкравшиеся незаметно, мерцающими кругами света легли на стену мызы. В светлом луче стояли две девушки, прижимаясь друг к другу, как пойманные в серебристые силки. Свет брызнул на них призрачной подводной зеленью и ушел в сторону.
Автомобиль стоял у ворот. За Алексеем и Синьковым бежал разведчик.
— Григорий Борисович, откуда?
Борисов уже выходил из машины, в обтянутой длинной шинели и кожаном картузе.
— Разыскал тебя, — смеялся Борисов. — Донесение получил. Я ведь тут — начальник штаба бригады, — прибавил он не без гордости.
Перед автомобилем, в редкой сетке падающих вкось снежинок, проходили красноармейцы и местные мальчата, чтобы искупаться в мерцающих снопах фонарей и пальцем дотронуться до крыла машины. Борисов знакомился с командирами. Савченко тоже протянул руку и сейчас же пошел хвастать, что с ним здоровался сам начальник штаба. Потом Борисов взял под руку Алексея и увел на дорогу.
— Ну, что привез нам?
— Сорокавосьмилинейные. Две батареи. И снаряды…
— Гаубиц у нас нет вовсе. Это хорошо. Вообще у нас есть прекрасные части: петроградская рабочая бригада, латыши, эстонцы. Но есть и неслаженные… На ходу перестраиваем. Сейчас — наступление, порыв Подойдем к Риге, Ревелю, белые бросят последние резервы. Не исключена помощь с моря… будет труднее. У тебя народ как?
— Я скажу — есть специалисты своего дела, ездовые, наводчики… Думаю, что не сдадим.
— А командиры?
— Командир дивизиона и командир первой батареи на месте… Всякий народ есть…
— Я вижу — у тебя тревога. У нас уже были случаи перехода офицеров к противнику. Пока против них на фронте эстонцы, латыши — бьются как следует, как только появятся офицерские роты — иные скисают. И еще вот что… Держи связь с пехотой. Ни на час не отрывайся. Фронт тоненький. Конных мало. Прорвется партия — разорит весь тыл. Я в Мариенбурге, будете проходить — заходите все. Напою чаем…
Глава II ПОХОДЫ
Уже командиры гремели походным снаряжением и писарь Горев уложил в телефонную двуколку портфель с приказами, когда хозяйка с басистым ревом ворвалась в комнату.
Сквозь всхлипывания с трудом удалось понять: ночью вскрыли заднюю кладовую, утащили сало, телячью ногу, разбили банку с брусникой, унесли болотные сапоги покойного мужа.
Алексей вызвал старшину. Старшина возмущенно отвергал виновность батарейцев. По деревне бродят разные люди. Батарейцы пришли усталые, завалились спать и еще не успели разглядеть, где что.
— Осмотри с каптенармусом до похода незаметно все телеги. И ты, Моисей, — обратился он к Крамареву, — пройдись по узлам на орудиях.
— И кстати лишнее все снимите, — добавил Синьков.
— Пеший не возьмет, на руках тридцать верст тащить, — сказал Савченко.
— А может, уже и съели, — прибавил Фертов.
— Вы куда гнете? — обернулся к нему резко Синьков.
— Федоров сальцом закусывал. А откуда? В пайке что-то не выдают.
— Где Федоров? — спросил Алексей старшину.
— Послал его посмотреть выезды из деревни. Мост там, весь трясется.
— Приедет — ко мне.
Федоров подскакал к крыльцу, когда командиры расходились по коням. У него был боевой вид, но никто не слушал его рапорта, никто не смотрел в его безусое радостное лицо. Все рассматривали широко раздувшиеся кобуры у седла и мешок, притороченный к луке. Всем бросилось в глаза, что ничего этого раньше не было.
Алексей ткнул нагайкой в кобуры и сказал:
— Чего набил в кобуры? Чтобы коню было легче?
— Бельишко закатал, товарищ комиссар.
— Покажи бельишко, — предложил Алексей.
Федоров решил взять смехом. Он повернул коня, как бы становясь в ряд, и буркнул:
— Нестираное, вонят здорово.
— Покажи сейчас, — вплотную подошел Алексей.
Он начал, а Федоров кончил развязывать ремешки.
По лицу было видно — ему уже все равно. Больше того — он чувствовал себя героем. Пускай же все смотрят!
В кобуре, в газетной бумаге, были две большие, сложенные мякотью внутрь пластины сала.
— Ваше сало? — спросил Федоров хозяйку, которая вышла на крыльцо.
Хозяйка перекладывала сало в руках. Это не похоже было на ее сало. Но это было все-таки сало.
— Возьмите… Кажи другую, — сказал Алексей.
В другой кобуре была смятая в комок, неощипанная курица. Ее приветствовали взрывом смеха. Веселей всех смеялся Федоров.
— Ваша курица?.. Но позвольте… В кладовой ведь не могла быть птица.
— Он и в курятник дорогу найдет, — подсказал Савченко.
— Савченко, на место! — скомандовал, не выдержав, Синьков.
Савченко, мигая и оглядываясь, побрел к орудиям.
— Где ты взял все это? — спросил Федорова командир.
— На деревне… купил.
— А почему у курицы голова отвернута? Разве так продают?
— Хозяйка, наверно, стерва была…
— Сам ты стервец! — крикнул Алексей. — Я тебя под суд отдам. Сколько с нас причитается за все? — спросил он хозяйку. — За все, и за сапоги.
— Денег таких нет, — намекнул Синьков.
— Полгода зарплаты отдам! — хлестнул нагайкой Алексей. — Если кто что еще — трибунал! Никого не пожалею!
Хозяйка спросила какую-то скромную сумму, и казначей расплатился с нею, взяв расписку. Алексей, мрачный, как зимняя туча, поехал вперед. Как пришибленный, ехал за ним Федоров. Он порывался что-то сказать комиссару, но, увидев отяжелевшее, злое лицо Алексея, опустил поводья.
Остановившись у гулкого телеграфного столба, Сверчков пропускал мимо себя батарею. Цепью тяжелых, медленно перекатывающихся ходов шли орудия и зарядные ящики. Груженные горами красноармейского барахла, ныряли в ухабах выносливые обозные фурманки. Щелкая железом, прыгали по буграм двуколки. Знакомая картина. Окрики старшины, фейерверкеров, мерная поступь командирского коня. Память легко перелетала отсюда, с лифляндских долин, через события восемнадцатого года к батарейным позициям в Полесье. Такие же щербины крыш, портящие линию горизонта, рощицы у рек и ручьев, ползущая по проселку одинокая телега, рваное небо — то небо, которое легко можно не замечать в городе, — и тяжелый шаг перегруженных лошадей.
И вот раздастся команда, и эти люди, со звездочкой вместо кокарды, установят гаубицы, телефонисты забросят в леса, в окопы провод, командиры сядут у цейсовых труб, и батарея опять откроет могущественный артиллерийский огонь.
Есть ли какие-нибудь сомнения в этом? Никаких. И своя пехота не ворвется на батарею, чтобы штыком проткнуть приказывающих стрелять командиров, Здесь есть сила, способная привести в подчинение одинокого бунтаря, ослушника новой дисциплины. За комиссаром стоят коллектив, трибунал, Особый отдел. За ним стоит группа спаянных одной идеей и волей людей, наиболее культурных, грамотных, ведущих за собой всю массу. Да, всю массу. Может быть, кроме таких, как Савченко, Фертов, Коротковы.
Батарея — опять орудие боя, верное и сильное. Это опять — армия, хотя здесь те же люди, которые в семнадцатом отказывались идти в наступление, которые убивали офицера за выстрел, срывающий перемирие, заключенное самими солдатами. Здесь есть то, чего не хватало армии царя. Солдаты отказывались повиноваться — и офицеры упали на дно, как падают весной камни, занесенные на лед еще зимою. В Красной Армии дисциплина еще недостаточно сильна, но ее нельзя уничтожить вовсе, покуда в частях существует проникнутый одной идеей партийный коллектив.
Мимо уже катился батарейный обоз. Не хватало зарядных ящиков. На сотне крестьянских телег, укутанные в сено, продвигались за батареей бомбы и шрапнели. На облучках, покуривая трубку, в тулупах, в валенках и сапогах, в черных барашковых шапках, сидели бородачи и деды. Мобилизованные Советами, они отсчитывали километры, пробиваясь за армией. Они заплетали думу об оставленных домах с мелкой и тряской тревогой обозного похода, с дымом своих трубок. Они кормились из красноармейского котла, доедали домашнее, копили деньги, выплачиваемые интендантством. Но среди них, к удивлению Сверчкова, не было ни уныния, ни ропота. Они ходатайствовали только о коротких переходах и о стоянках в деревне, где есть крыша для человека и навес для коня.
В деревушке Федоров зашел к комиссару. Алексей смотрел на него гневно.
— Ну, что?
— Товарищ комиссар, это ж не ее сало. Купил я сало. А кура — не знаю чья… Ну, это верно — куру на огороде поймал, голову отвернул.
— У кого купил сало?
— Не могу сказать, товарищ комиссар… А только купил.
— Чего же ты там не говорил? Где ж теперь проверить? У крестьянина купил?
— Не могу сказать А только крестом-богом клянусь.
— Иди ты со своим крестом-богом!
— Что б я сдох…
— У кого, говори? — Алексей взревел, не выдержав. Синьков, готовясь к успокоительному жесту, подвинулся ближе.
— Эх ты, рвань! — вмешался вестовой Симонов. — Скажи прямо — Фертов продал.
— А ты заткнись, сука! — ругнулся Федоров. — Кто тебя за язык тянет?
— Зови Фертова, — скомандовал Алексей. — А ты, Константин, — отвел он в сторону Каспарова, — посмотри с фейерверкером вещи этих трепачей.
Фертова пришлось оторвать от игры в трынку. Он вошел, большой, под потолок, и мягкий, как соломенное чучело. Увидев Федорова, насупился. Федоров не смотрел на него вовсе.
— Фертов, сало Федорову продавал? — спросил Алексей.
— Продавал… Кажется…
— Сам где взял?
— Купил. Где же иначе? Там целый базар, в деревне.
— Почем платил?
— Полторы желтухи за фунт.
— А ты почем купил?
— По керенке…
Видно было — Федоров не врет и не понимает, почему Фертов изменил цену.
— По дружбе, значит, уступил? — съязвил Алексей.
— А в чем дело, товарищ комиссар? — вскинул голову Фертов. — Почем хочу — продаю, почем хочу — покупаю.
Комиссар молчал, и Фертов медленно переступил высокий порог, не закрыв за собою двери. В окно было видно: вся компания — Савченко, Фертов, Плахотин отправились к орудиям. Возвращался Каспаров. У Савченки и Фертова, кроме чемоданчиков, оказались мешки, привязанные к ходу орудия. Взводный свалил их на снег. Из мешков текла сукровица.
— Чего ты, дурак, там не сказал? — напустился Алексей на Федорова. — Они ведь спали рядом, а там за стеной и кладовая. А теперь тоже скажут — купили. Снять вещи с передков! Пусть на плечах тянут, — рассердился Алексей и отправился к обозникам, приехавшим с сеном.
Но Савченко и Фертов шли до самого Мариенбурга пустые, хотя с ходов были сняты принадлежавшие им мешки и ранцы. Федоров сообщил — все у Коротковых на фуражных повозках. Алексей отматерил и решил в Мариенбурге поговорить с ребятами крепко.
В Мариенбурге была дневка. Маленький городишко, в котором от прошлых времен остался только розовый костел и кусок крепостной стены, заметно стегнула плеть войны. Выбитые перестрелкой стекла нечем было заменить. Штукатурка пестрела следами пуль. На огородах — подозрительные круглые ямки. Один квартал лег черным ковром пожарища, подняв кверху щербатые зубья обгорелых труб.
Дома стояли на запоре, ходили через задние двери, в погребах лежала солома, прикрытая тряпьем, — постель на дни обстрела. Бесстрашные старухи в серых платках останавливались на улице, оглядывая гаубицы и зарядные ящики.
Штаб помещался в большом гладкостенном и скучном доме против костела. Двор кишел красноармейцами. У крыльца — верховые лошади и мотоциклеты.
Алексей и Синьков пропадали в штабе у начальника артиллерии, в агитпропотделе. Командиры и красноармейцы раздобыли молока, яиц. На хозяйских сковородах зашипела яичница-глазунья.
Вечером лежали на копнах соломы, зевали, перебрасывались словами, не нарушавшими хода мысли, все еще целиком не оторвавшейся от семьи и города.
— Как думаете? По-старинному, надо бы преферансик, — склонился к Сверчкову Карасев. — Подойдет это в новых условиях?
Сверчков посмотрел на занявшегося командирской картой Каспарова и решил:
— Вряд ли, знаете… Может быть, потом. Ведь они не играют.
Карасев отошел. У печи он проследил случайно отогревшуюся муху. Она заползла в черный зев топки. Карасев лег на койку и накрыл лицо газетным листом. Это был неразговорчивый человек невозмутимого спокойствия. Его так же трудно было вообразить спорящим, как Алексея за роялем. Он никогда не выражал недовольства чем-либо и ничем не восторгался. Слабостью его были лошади. Он сам засыпал овес своему жеребцу и при этом вел с ним какие-то тихие, конфиденциальные разговоры.
Распоряжения были получены на следующий день. Фронт был недалеко от города, но батареям предстояло разделиться и идти до своих участков первой в два, а второй в три перехода.
Воробьев задержал Синькова в сенях:
— Когда же?
— Вечером — партсобрание, пойдем на огороды. — Не задерживаясь, Синьков прошел в комнату.
Ночь наступает на прифронтовой городишко быстро и решительно. Если где-нибудь в доме зажигают свечу, то прежде накрепко закрывают ставни. На улице, спотыкаясь в темноте и чертыхаясь, бредут пехотинцы. Верховые, чтобы подать голос и не напороться на встречного, понукают лошадей чаще, чем требуется. Собаки рвутся с цепей. Все задвижки и все замки защелкнуты. И только в домах, где стоят части и штабы, свет ламп пробивается сквозь щели в ставнях, а во дворах с огоньками папирос и походными фонарями бродят неузнаваемые тени.
— Не теряй связь, — шепчет Воробьев, держа Синькова за пояс. — У тебя больше возможностей. В крайнем случае — записку через Федорова. Этот не выдаст. Продали вы меня в Петрограде, сукины дети!
— Опять старые песни, — досадливо возражает Синьков. — На дорогах, на отдыхах будем встречаться.
— Не понимаешь ты… Я не умею с ними ладить. Я каждый вечер ложусь и думаю — как это я за целый день никому не ляпнул? А когда я подумаю, что дойдет дело до стрельбы, — не знаю я… не знаю! По своим — понимаешь? По своим!..
— Успокойся, — шипит Синьков. — Могут услышать. Мне не легче. Будет случай — не засидимся. Ну, успокойся.
Они держали друг друга за руки в темноте. В недалеких кустах кто-то кряхтел и отплевывался.
Глухие конские хрипы и стук копыт доносились от коновязей.
— По своим стреляй больше бомбами, — шептал Синьков, — и чуть-чуть в сторону. А увидишь, эстонцы, латыши — жарь в лоб, черт с ними! Бей и присыпай шрапнелью. Довольно одного такого обстрела — все тебе поверят. Я тебе говорю как другу.
Партсобрание не затянулось. Еще утром наскоро были обсуждены основные вопросы в присутствии инструктора политотдела. В ту пору партийные организации в армии еще не построились в строгую систему, которая, как стальной каркас небоскреба, гибкая и могучая, держит на себе все здание. Еще только нащупывали формы работы. Еще немало погруженных в тревогу за свою часть комиссаров ломало голову над тем, что впоследствии соответствующим циркуляром утверждалось как азбука политработы в войсковых частях. Еще не все уже изданные циркуляры дошли до сознания тех, кому надлежало проводить их в жизнь. Еще нередко комиссары готовы были устроить митинг, вместо того чтобы разработать вопрос в спокойной деловой обстановке. Алексею нравилась система работы, о которой горячо говорил, цитируя Ленина, Чернявский. Дисциплина строится в Красной Армии, как и в партии, на сознательности. За дисциплину и за сознательность надо бороться так, чтобы они слились в одно. Когда Алексей говорил об этом Синькову, тот презрительно усмехался и ничего не отвечал. Сам он привык считать, что сознательность рядовых бойцов и военная дисциплина — это разные, непримиримо враждебные друг другу начала и не быть им водном яйце, как желтку и белку, — никогда. Алексей считал, что это у Синькова от упрямства. На собственном примере видел он, как нелегким и извилистым путем все же пришел он к этому единству, а раз пришел он — придут и другие.
Он не жалел часов, чтобы растолковать свои мысли общему собранию и даже отдельным красноармейцам. Но нетерпение теснило его грудь, если кто-нибудь речистый, но путаный уводил собрание от ясности, от точных формулировок. Знал этот грех в прошлом и за собою и держал себя в руках.
На отдыхе часами думал — как бы приблизить свои мысли и приказы командования к сознанию малограмотного бойца? С чем сравнить, как связать с простыми, ясными для всех интересами?
Получив орудия, батарея легко развернулась в двухбатарейный дивизион. Сверчков стал командиром первой батареи, Воробьев — второй. Но партийная организация не была приспособлена к новым условиям. А между тем могло случиться, что батареи по нескольку недель и даже месяцев будут разделены расстоянием в десятки километров.
«Надо бы помощника комиссара», — думал с досадой Алексей, но такая должность не была предусмотрена штатами. Можно было возложить часть работы на председателя батарейной ячейки, но нужно было найти такого человека. Командир батареи Воробьев тяжел и силен, самолюбив и несговорчив. Он задавит своим авторитетом слабодушного парня. Каспаров предложил послать его самого во вторую батарею. Но Алексей отклонил эту мысль. Он не хотел лишиться помощи Константина, к которому привык и привязался. Решено было послать члена бюро Сергеева и для этого перевести его из первой батареи во вторую. Алексей и Каспаров долго сидели с Сергеевым на завалинке, обсуждали вопросы работы на отрыве.
В эшелоне и на походах дивизион успешно снабжался всем необходимым. Порция хлеба и сахара на фронте выросла. Но махорки не было ни в Альтшванебурге, ни в Мариенбурге. Покончив с петроградскими запасами, красноармейцы курили сухой лист, собирали крошку по карманам и материли снабженцев и штабы. Алексей слышал, как бранились и партийцы и командиры. Надо было воевать в штабе, у интенданта и одновременно подтягивать свою публику.
В Мариенбурге в отделе снабжения Алексею сказали, что больше чем на треть фуража от довольствующих организаций ему рассчитывать нечего. Провиант, снаряды — об этом заботы нет, все это будет. Но фуража не хватит.
— Ищи всюду, покупай, — сказал ему комиссар группы.
— Забирать можно? — угрюмо спросил Алексей.
— Нет, нельзя! — сказал комиссар.
— А если лошади будут падать?
— Отвечать будете. По всей строгости. И ты и командир.
— Достанем, товарищ комиссар, — сказал Синьков.
Какой у него временами скрипучий голос!
— А если продавать не будут? — настаивал Алексей.
— Сделай, чтоб продавали. Даром не бери.
— А впереди по деревням фураж есть?
— Пока есть. Дальше будет хуже.
Из большой деревни, полукольцом окружившей барскую мызу с лепным гербом над крепостными воротами, батареи вышли разными дорогами. Управление дивизиона шло с первой батареей. На площади прощались. Алексей и Синьков отдавали последние приказания и советы. Красноармейцы, держа лошадей в поводу, шутливо собирали свободной рукой слезы с глаз. Кричали уходящим уже издалека:
— Бей белого, не жалей!
— Крой их в хвост и в гриву!
— В Ригу придем — встретимся.
Савченко сделал руки рупором и закричал:
— Как Псков возьмете — нас подождите.
Все на него оглянулись…
Почувствовав, что переборщил, Савченко спрятался за гаубицу.
— Дурак, — не то про себя, не то комиссару сказал Синьков.
— Нет, это, брат, не дурак. Это — другое, — сказал Алексей.
К нему подошел Каспаров. Он держался рукой за луку комиссарского седла, и они долго разговаривали на ходу.
Глава III МЕЛЬНИЦА
— Кстати, кстати, — гудел бородатый военком полка. — Вас нам обещали еще под Мариенбургом. Но мы и без вас справились. А теперь опять надо фронт рвать.
— Вот вы грохнете разок-другой — наши приободрятся, а враг решит, что прибыли серьезные подкрепления…
— Собираетесь наступать? — спросил Синьков.
— Все время движемся. Не быстро, но верно. Защищаются они упорно, в особенности офицерские части, а у нас конницы нет. Прорвем фронт, верст пять — десять пройдем до новых холмов, и опять остановка…
По трехверстке он показывал позиции полка. Дивизия тонкой цепочкой растянулась километров на тридцать и еще умудрялась наступать. На всем участке действовали две легкие батареи, разбитые на отдельные взводы. Слева в болотистых местах держал фронт кавалерийский дивизион. На нем же лежала связь с соседней дивизией. Связь эта часто рвалась, и тогда левый фланг повисал над болотом. Справа двигались латышские и эстонские красные части, и здесь был центр наступления. Сейчас предстояло атаковать гряду холмов, перед которыми были разбросаны небольшие деревушки и помещичьи мызы. Мызы были превращены белыми в укрепления. За каменной древней оградой таились пулеметы и стрелки с автоматическими винтовками английского происхождения. У большой деревни над дорогой сооружено было кольцевое укрепление, которое можно было видеть в бинокль с передовой линии.
— Укрепление это мы разнесем, — проскрипел Синьков. — Сколько до него километров?
— Три-четыре…
— Ничего не останется.
Военком забрал в широкую ладонь огненную бороду и довольно улыбнулся. Алексей на секунду увидел его без бороды и вскрикнул:
— Товарищ Пивоваров!
Военком не удивился, все с той же улыбкой посмотрел на Алексея и сказал:
— Я смотрю на тебя, парень… где-то мы видались.
— Ночная операция в Петрограде… помнишь?
— А верно… Ранили меня тогда в шею… Видишь — следок остался. Вот я бороду и запустил. — Он закинул назад голову. В густой медной поросли прятался глубокий и лысый шрам.
— Ушел тот, с двумя маузерами?
— Ушел. И не видал его никто порядком. Вот сила! Дверь плечом вынес, как фанеру.
Синькову было не по себе. Все это слишком напоминало случай с Воробьевым. Надо предупредить Леонида. Пусть тоже отпустит бороду.
Командир полка подскакал с ординарцем, когда уже артиллеристы садились на коней.
— О, артиллерия! Это здорово. Поедем. Я покажу удобные позиции. Вы можете облегчить нам завтрашнее дело, и очень… Укрепление тут. У самой дороги, ни обойти, ни объехать.
Он вскочил в седло, с которого только что сошел.
Это был небольшой, поворотливый человек. Только портсигар на ремне и кожаная куртка под шинелью выдавали в нем командира. Худые щеки были небриты. Светлые усы никак не могли найти себе твердое положение на подвижной верхней губе, лезли в рот и в стороны. У него был деловой вид, и он напоминал Сверчкову какого-то эконома на полевых работах.
Но он, видимо, понимает толк в артиллерии, этот небритый комполка. Он сам едет выбирать артиллерийские позиции, не то что командиры царских полков, которые смотрели на артиллерию, как на шумных и чванных соседей, бьющих не туда, куда нужно пехоте, и в самый горячий момент отказывающих в поддержке из-за недостатка снарядов.
По пути он рассказывал артиллеристам о боях под Мариенбургом. Он отдавал должное врагу. Их немного, но дерутся они ожесточенно. У них много пулеметов и автоматов, но почти нет артиллерии. Много беспокойства приносит бронированный поезд.
— И поезд-то, — говорил он, легко подпрыгивая в седле, — обыкновенные платформы, обнесены броневой плитой и мешками с песком. Но шума много. Носится чертом вдоль фронта. То здесь, то там. Вот вы бы его поддели. Один снаряд по шпалам — и он не уйдет. Я ведь знаю… Я — железнодорожник.
— Вы не военный? — любезно удивился Синьков. — А выправка у вас солдата, и верхом ездите…
— Нужда скачет, нужда пляшет, нужда песенки поет, — играя нагайкой, засмеялся комполка. — Помощник машиниста я. Отец был путевой сторож. На империалистическую меня не взяли — грыжа у меня. А грыжа-то маленькая. Я повязал бандаж и — ничего, бегаю. В Красную Гвардию я вступил с первых дней. В Октябре на карауле в Смольном стоял. Ленин, Подвойский. Все на глазах… Так на железную дорогу и не вернулся. А окончится драка — опять пойду. Люблю это дело. Люблю, когда углем пахнет. Рельсы смотреть люблю. Еще мальчишкой, бывало, тряпочку белую на палку нацепил — и на рельсы! Не знаю, откуда поезд вырвется. И не схожу, пока машинист не свистнет. Потом лягу на насыпь сбоку и смотрю — надо мной поезд высоко, как на ходулях, летит. Вот-вот с колес сорвется и на меня!.. А раз красную тряпку нацепил — поезд остановился. Отец драл потом… Потом сам служил. У нас, бывало, сутки гоняют, сутки спи. А я не спал, а все читал. И как читаешь, все думаешь: что ни происходит на свете — все на какой-то станции. Парижская коммуна, или лионские ткачи, или из газеты события. Я и воевать люблю около рельсов. Как в сторону, так у меня зуд какой-то, — виновато улыбнулся он и даже, сняв фуражку, расчесал волосы.
Позицию нашли в полкилометре от линии окопов. Алексей спросил — не близко ли? Синьков сказал — прятаться нечего.
— Место закрытое, артиллерии у противника нет. А в случае наступления можно будет бить по отступающим… Немцы всегда так делали.
Алексей сдался.
— Вы себя не обнаруживайте, — советовал командир полка. — Во время атаки и ударьте. Главное — это укрепление у дороги.
Деревянной старухой стояла на холме мельница с разбитыми крыльями. Отсюда комполка показывал артиллеристам черточки неглубоких и несложных неприятельских окопов, желтую полоску укрепления, мост через речонку.
— А если разбить мост? — соображал Сверчков.
— Стоит ли?.. На реке держится лед да и вброд можно. Обозы за рекой. Снаряды дороже… Ну, я домой… Не любит мой комиссар, когда я отсутствую.
Всесведущие разведчики сейчас же сообщили, что в полку командира любят. В бою не пуглив. В окопах сидит чаше, чем в штабе. Строг, но и заботлив.
Синьков, глядя в сторону, сказал, что командир такого большого соединения, как полк, не должен превращать себя в старшего красноармейца и место его в штабе.
Сверчков сказал, что сейчас идет малая маневренная война и нечего пример брать с зарывшихся в землю миллионных армий. Красная Армия — это, конечно, регулярная армия, но партизанщина, по-видимому, всегда будет ей присуща.
Алексей прислушивался к спору и даже толкнул незаметно Каспарова. Вечером Каспаров, ссылаясь на Ленина, говорил, что Красная Армия, будучи по духу иной, чем армия царя и буржуазии, должна взять у этих армий все их сильные стороны, и потому нужно тянуть не к партизанщине, а к системе регулярных дивизий.
«Все это так, — думал Алексей. — А вот командиру где место — в штабе или в окопах?»
Он мысленно примеривал себя на месте комполка.
Тем же вечером, сидя на хоботах гаубиц, на дышлах зарядных ящиков, на бревнах, красноармейцы слушали сообщение Алексея о предстоящих боевых действиях, которые он свел к вопросу о дисциплине в регулярной армии.
— Это для вас специально, — сказал Синьков, наклонившись к Сверчкову. — Поучайтесь.
— Мог сказать это мне лично, — обиделся Сверчков. — Всюду партизанщина…
— А как думают товарищи инструкторы? — спросил Алексей.
Командиры, как бояре в Алексеевой боярской думе, смотрели в землю. Нарастала неловкая пауза. Тогда Синьков сказал:
— Мы всегда за порядки регулярной армии. Но для этого нужна железная дисциплина. На этот счет в Красной Армии пока трудновато…
Он дружелюбно улыбнулся красноармейцам, которые потягивали махорку и с интересом следили за командирами.
— Я тут выхожу защитником партизанщины, — развел руками Сверчков. — Я-то партизанщину никогда и не видел… Сознаюсь, мне еще трудно воспринять Красную Армию как регулярную. Она выросла из Красной Гвардии, из добровольцев, из восстания… Мне кажется, что революционная армия — это когда восстает народ — всегда будет хоть отчасти партизанской: Гарибальди, греки, наш Пугачев, к примеру. И я ничего плохого в этом не вижу.
Карасев оказал:
— Я — как товарищ Синьков… Но только я думаю… армия будет. Хорошая армия… Регулярная, я хотел сказать.
Он никогда не говорил так много.
— А я хочу сказать, — вдруг начал Каспаров, — товарищ Сверчков напрасно думает, что Красная Армия без партизанщины обойтись не может. Народ всюду за нас, где нет армии — будут партизаны. И сейчас в тылу у Колчака — партизаны. И это хорошо. Так и должно быть. Но рабочий человек без организации не может. Который партийный, тот всегда начинает с организации. Рабочий человек знает, что без организации ни в подполье, ни в забастовке не победить. Мы эту царскую армию в прах рассыпали, а о своей армии еще на заводах думали. Рабочий класс всегда за дисциплину, за порядок.
Синьков внезапно захлопал в ладоши. Красноармейцы поддержали его. Савченко глумливо крикнул:
— Мы завсегда!..
Чтобы он ни говорил — все походило на издевательство.
В передках, в самой просторной халупе чаевничали Коротковы. На пороге с мешком меж коленями сидел Федоров.
— Господам хлеб везешь? — спросил Фертов, ткнув носком сапога в мешок.
— Ты хлеб не пакости, — принял мешок Федоров. — Ты, Фертов-перевертов. Что не перевернешься?
Он сплюнул Фертову под сапоги.
— Холуй ты командирский, — уже лениво говорил Фертов. — Это ты все вертишься, никак носом в командирский зад не попадешь.
— Брось, ребята! — степенно предложил Игнат Коротков. — Ссориться нам не рука.
— Подумаешь, не убудет, если я командирам хлеб свезу, — бурчал Федоров.
— А Каспарову, а писарю почто носишь?
— На коне ведь, заодно…
— Они тебя и не просили…
— А просили б, так я, может, и не привез бы.
Федорову уже давно было тошно от мелкого, бранчливого разговора. Но есть своя прелесть в том, чтобы оставить поле битвы последним.
— Ты бы ехал, — сказал вдруг Савченко. Он сидел на окошке среди хозяйских бутылок с бумажными цветами и о чем-то тихо беседовал с Игнатом Коротковым. — Тебя, может, еще куда надо послать. И чай без хлеба невдобно пить.
— Кроют тебя, земляк, и бонбой и шрапнелью, — усмехнулся Коротков. — А ты не робей, кончится война — мы с тобой потанцуем…
— Ты-то потанцуешь, — с недоброй усмешкой сказал Федоров. — У тебя братаны, пока мы воюем, дмитряковскую мельницу слопают. И то братишка пишет… За место помещиков будете…
— Разве пишет? — лукаво улыбнулся и потрогал усы Игнат. — А мой ничего про то не отписует. А может, ты сам хотел мельницу взять?
— Кто бы не хотел?
— Идиёт ты прирожденный, — вспыхнул вдруг Коротков. — Ее держать надо вмеючи. Четверо нас, и хозяйство у нас ладное. А у вас только петух да курица, да и тех, может, уже нет, Васька без тебя пропил… Кто ж тебе зерно доверит? У твоей сестры ворота мазаны… Я тебя работником возьму, — смягчился вдруг Коротков. — В тепле, в сытости будешь проживать, за хозяина богу молиться.
Федоров молча смотрел в темные сени.
— Только ты белого свирепо бей, — сказал вдруг Савченко. — А то он и у тебя и у него мельницу отымет.
— Не надо мне мельницы, — буркнул Федоров. — А только и с землей нас обидели. Неправедно у нас помещицкое делили… Еще дело не конченное. Кабы не война, мы б его перерешили.
— Кто это такие — мы? — опять осерчал Коротков.
— Нашлись бы такие… Комитетские… беднота…
— Ай, то-то ты за комиссаров тянешь. А мы и на комиссара и на командиров давно с крестом и пением положили.
— Чижолая вещь, — сострил Фонтов.
— Так ты и отпиши Ваське, — продолжал Коротков. — Пущай сидит в комитете и пайку жрет. А то приедет, скажи, Игнат Степанович Коротков, заслуженный красноармеец, и на огороде пропишет ему, контрреволюционеру, все, что полагается. Слышал?.. А к тебе я доброе сердце имею.
Он пошарил в мешке, вынул пачку махорки и швырнул ее через комнату Федорову.
— Кури, да никому не показывай. Увидят — скажи, спер где-нибудь! Потому на всем фронте махорки ни у кого нет. В штабе сухой лист палят.
Федоров поймал пачку у самого пола, долго вертел в пальцах, вздохнул и спрятал за пазуху, — карманы были все рваные. Потом он вскинул мешок на плечо, поднялся и, не прощаясь, вышел.
— Во бандит проклятый! — буркнул Фертов.
— Вы его, ребята, не дражните, — строго сказал Игнат. — Это парень наш. Как скажу — так и будет. В одной же деревне жить будем.
Приказ начальника дивизии предписывал батарее с началом пехотных атак открыть огонь по окопам противника. По занятии первой линии перенести его на кольцевое укрепление, одновременно поражая отступающие цепи белых шрапнельным огнем.
Под руководством Сверчкова фейерверкеры быстро построили веер, номера пригнали бревна под хоботы гаубиц, наводчик Лисицын топором зарубил точку наводки на высокой липе и вбил гвоздь для красного фонаря. Каспаров работал третьим номером у второго орудия. Он делал все старательно и чисто, и партийцы, глядя на его грузное усердие, начинали шевелиться энергичнее.
Карасев привез с пункта сделанную карандашом панораму позиции белых. Командир, выбрав наблюдательный пункт, опять отправился в штаб полка. Все это живо напоминало Алексею порядок и солидность галицийского фронта, и он был доволен.
Боевой порядок приятно поразил и Сверчкова. Он объяснял фейерверкерам смысл построения веера.
— Мы его тысячу раз строили, а что к чему — неизвестно, — сказал Лисицын.
Сверчкову хотелось пойти завтра на пункт свежим, выспавшимся, равнодушным и привычным бойцом, каким он был в Полесье. Не думать о том, куда он бьет и кто может быть под его ударами. Есть батарея, и есть объекты стрельбы, помеченные номерами на панораме Карасева. Цель номер первый и цель номер второй — окопы противника, цель номер третий — деревня Седла, цель номер четвертый — кольцевое укрепление. Алексей вот спит. Для него завтрашний бой — это естественный вывод из всей его деятельности. Но к Сверчкову сон не шел. Едва дремота тоненьким облачком затягивала сознание — уже смещались предметы, ослабевали законы времени и расстояний, уже мать присаживалась на край постели или несла быстрой дробью Катька, — как вдруг какая-нибудь нагло трезвая мысль срывала это дымчатое кружево и им овладевали все те же надоевшие, но неистребимые думы. Завтра все его действия и поступки последнего времени окончательно оформятся в полный и безраздельный перед совестью, перед историей переход в новый лагерь. Легко себе представить Чернявского, Каспарова или Бунге умирающими за большевизм. Но умирающим за большевизм себя Сверчков представить не мог.
Для него эта война — война «на жизнь». Он согласен жить с большевиками, согласен воевать на их стороне, он им не враг, он не против них, он с ними, но не до конца, не до конца… Лучше всего было бы переждать этот спор и потом найти свое место. В том, что под луной найдется ему место при всех условиях, Сверчков был уверен.
Он курил, зажигая спички под одеялом, чтоб никого не беспокоить, старался не кашлять, чтобы никто не знал, что он не спит.
«Эстонцы, — подсказывала ему слабеющая мысль, — это другое… Они против великой России. Буду глушить… Пусть не лезут!..»
На казенных часах, придраенных толстой цепью к карману Алексея, было четыре. Сон не отходил. Надо было усилием сбросить его с плеч. Алексей бросил кулаки в стороны, еще и еще, и загремел сапогами. Тела на полу, на койках, на лавках зашевелились. В сенях, напоминая о зимней ледяной воде, зазвенело ведро.
Пункт был так близок, что не стоило седлать лошадей.
У начальника участка толпились люди. Такие лица, позы, жесты Сверчков видел не раз. Отдаются последние приказы, и все уже охвачены ощущением готового вспыхнуть боя. Но вместе с тем здесь было что-то новое. Место штабной церемонности заступила простая, деловитая серьезность, какая-то будничная, неистребимая, несдающаяся решительность.
«Это оттого, что они все время наступают», — решил Сверчков.
Артиллериста засыпали вопросами о качествах гаубиц, снарядов, о дальности поражения.
— Если разобьете укрепление, — сказал один из ротных, — превеликое спасибо! — Он в поклоне нагнул тяжелую, заросшую голову и даже приложил руку к груди. Но он был похож на лесовика, степенного в движениях и мыслях, и потому не вызывал смеха. — Эк мы ему хвост наскипидарим! — Он вдруг сделал жест мальчишеский и быстрый. Из-под козырька длинных век, сметая степенность, выглянули молодые, задорные глаза. Все прыснули смехом.
— Ну, пошли, пошли! — сказал начальник участка. — Уже светло.
В неглубоком окопике рогами к западу была укреплена труба Цейса. В серых волнах плохо различаемых холмов, как неясный мираж, колыхалась деревушка. На пухлом холме за домами должно быть укрепление.
— Все ясно, — оказал Сверчков. — Напрасно близко стали. Всюду будут малые прицелы…
Через полчаса в окопик спрыгнул Алексей.
— Наши пойдут оврагом, — сказал он, припадая к окулярам. — Резервы уже в деревушке. Сперва вы по деревне шрапнелью.
— Я уже договорился с начальником участка, — недовольно заметил Сверчков.
Алексей разглядывал местность. Земля лежала перед трубой тусклая и слепая. Если бы не деревня — пустыня. У Алексея было ощущение связанности. Долгое напряжение искало выхода в каких-то больших и резких движениях.
Сверчков медлительно раскладывал двухверстку, на которой еще вчера были отмечены цели.
Когда первый выстрел рассек утреннюю немоту и шорох снаряда пошел над головой, Алексей вспрыгнул на бруствер. Шрапнель разорвалась высоко над деревней.
— Сразу! — крикнул Алексей.
— Не совсем, — ответил Сверчков и оттянул прицел на пять делений.
— Теперь — да, сказал он, с первой вспышкой спортивного азарта разглядывая дымок, лежавший на гребне высокой хаты.
Снаряды шли в небе проторенной дорогой. В кругах Алексеева бинокля по ожившей улице деревни носились люди с винтовками, вырвавшиеся лошади, белым куревом потянулась к небу одна из крайних хат. Близко где-то татахкали два пулемета. Заглушенное расстоянием, колеблемое ветром, донеслось «ура». Сверчков вдруг крикнул: «Бомбой!» Черный столб дыма встал у околицы. Замолк один из пулеметов. Сверчков всадил в то же место вторую и третью бомбу.
Алексей чувствовал, что они приняли заметное участие в борьбе. Когда он слышал свист снарядов над головою, видел взрывы — у него было такое ощущение, как будто это он руками швыряет горячие мячи к врагу.
Телефонист протянул трубку Сверчкову.
Начальник участка сообщал, что красные уже у околицы и лучше перенести огонь на укрепление.
Линия наступления продвигалась вперед, и местность вокруг пункта оживала. Гуськом, не прячась, пробежал по дороге отряд, хрустя корочкой снега, по полю проскакал ординарец, легкое орудие, дребезжа и стуча, продвигалось вперед. Три красноармейца волокли пулемет. Переваливаясь с боку на бок, спешила санитарка.
Дух наступления, укрепляющий и несущий вперед армии, витал над этим движением. Нельзя было не поддаться этому стремлению вперед. Даже телефонист, который не отрывал теперь глаз от дороги, забывался и говорил мимо трубки.
— С мельницы далеко видно, — сказал Алексей, указывая пальцем вперед, и Сверчков сейчас же сообщил на батарею, что пункт передвигается на линию передовых окопов.
Тяга вперед передалась на батарею. У мельницы их настигли двое верховых. Это были Синьков и Федоров.
Обглоданные штормами, избитые дождями крылья мельницы чуть поскрипывали на ветру. Дверь была вырвана и кем-то унесена. В маленькое окошечко открывалась долина и далекая гряда холмов. Желтым кольцом, отчетливое, как печать, лежало укрепление. На утреннем ветру то замирал, то разрастался шум удаляющегося боя. Излетные пули свистали у мельницы, изредка щелкали по выветрившимся доскам.
— Ребята, провод под лестницу, чтоб не было видно, — распоряжался Синьков голосом нараспев.
Так на спокойных полигонах отдают приказы опытные командиры, претендующие на хладнокровие и лихость. Телефонист машинально повторял не только команду, но и этот спокойный профессиональный тон.
Укрепление стучало теперь всеми пулеметами, и едва заметные дымки как будто приподымали его над грядой холмов.
«Какие благодарные цели на этой войне», — думал Сверчков, ощущая некоторое недовольство тем, что первая роль перешла от него к Синькову…
Бомба зарылась в землю на обочине холма. Небольшая яма открыла в снегу черную пасть. Вторая, третья легли на какое-то сооружение, — щепа и камни летели кверху вместе с землей. Ружейный огонь сократился. Поле как будто замерло в ожидании. Но холм жил особой, страшной жизнью. Батарея била теперь очередями, и взрывы поднимали на его вершине один за другим высокие, как гигантские павлиньи хвосты, веера разметанной земли и долго не оседавшего дыма.
Грозное для наступающих цепей укрепление склонялось перед силой сосредоточенного огня. Пулеметы замолкали один за другим.
Внизу у двери послышался топот тяжелых сапог.
— Командир полка приказал сказать: «Здорово!» Сейчас пойдут в атаку. — Широкое лицо улыбнулось в четырехугольнике лаза и исчезло.
Запоздалый мститель, легкая батарея белых осыпала мельницу шрапнелью. Отступив от окна, наблюдатели сбились у толстых бревен, на которых держался мельничный стан. Пряча головы, когда нарастал свист снаряда, и опять подбегая к окошку, они видели, как серыми мухами, подымаясь с земли и припадая к ней, взбирались красные цепи на разбитый холм.
— Ну, нам здесь больше нечего делать, товарищи, — сказал Синьков, сбегая по лестнице. — Вот и первый бой и первая победа.
Глава IV ПИКНИК НА СНЕГУ
Батарея участвовала теперь во всех боях дивизии. Она не только двигалась вперед за пехотной цепью, но и металась вдоль фронта.
Это не были тяжеловесные, продолжительные бои империалистической войны, когда обе стороны в смертельном ужасе, заглушившем все человеческие чувства, устилали трупами межокопную полосу ничьей земли, терзая сталью и взрывами километры полей и перелесков, осколками и пулями раздевая донага зеленые опушки прифронтовых лесов, — все для того, чтобы перешагнуть наконец проклятый, обтянутый колючей проволокой рубеж.
Захватив инициативу, красные теснили белых, не поддерживаемых большинством населения, к Риге и к морю. То здесь, то там они собирали кулак, подкрепляли его артиллерией и рвали фронт противника. Ни крупных конных масс, ни больших резервов, способных развить успех и превратить его в катастрофу для врага, не было.
И комполка, и командиры батальонов, и штабное начальство не скупились на комплименты дивизиону. Точная и действенная стрельба была на виду у всех. На фронте были только немногочисленные трехдюймовые батареи, и спутать мортирные разрывы нельзя было с действием легких гранат. Альтшванебург исправно поставлял снаряды. Мобилизованные возчики, сдав на батарею партию снарядов, пускались в обратный путь и через несколько дней опять догоняли дивизион с новым запасом бомб и шрапнелей.
Зато добыча фуража осложнялась с каждым днем. После боевых действий она становилась первой задачей и первой заботой дивизионного начальства. Вдоль всех дорог рыскали разведчики и даже командиры, отыскивая в закутках, на чердаках, на лесных полянах, на луговинах припрятанное сено. Платили любые деньги, выдавали квитанции, но беспощадно забирали все, что можно было скормить лошадям.
В Алексее проснулась крестьянская хозяйственность. Он помнил каждое пустое гнездо в зарядном ящике, каждый каптерский мешок с сахаром и сапогами. А недостаток сена и овса угнетал его, как мысль о дожде в засуху. Если позади батареи не шел туго увязанный и закрытый брезентами трехдневный запас фуража, он терял веселую повадку, которая все еще была свойственна ему, ходил хмурый, озабоченный, хлестал нагайкой по заборам и иссохшим безлистым кустам. Он гонял тогда ординарцев по дальним фольваркам, вызывая даже протесты Синькова, который держал разведчиков при начальниках ближних участков, не надеясь на телефонную связь.
Алексей понимал, что Синьков прав, но продолжал гнуть свою линию. Он хорошо знал эту господскую психологию: «Мы хорошо знаем наше дело, мы хорошо его ведем, а уж все, что нам необходимо, — гони! Откуда? как? — нас не касается». И дальше то, что не говорилось вслух: «Нечем? — Не воюй». Но сам он знал, что в тылу лежит разоренная трехлетней войной и плохими хозяевами страна. Он видел ее замирающие города, замк-пудовики на воротах заводов, толпы безработных у биржи, ее разбогатевшие землей и обедневшие конским тяглом и инвентарем деревни, и у него болело сердце за эту большую, отвоеванную им и его товарищами землю, которой не давали вздохнуть, оправиться, зализать гноящиеся раны.
Он знал, что сейчас нет для этой страны ничего важнее, как сорвать со своего горла руку врага, победить в гражданской войне, но каждое усилие страны, не жалея бросавшей на фронты хлеб, снаряды, одежду, мясо, он наблюдал с двойным чувством: он рад был ее выносливости, ее воле к победе и тосковал при виде гор добра, которые пожирала эта священная и неизбежная, тяжелая и героическая война. Сам он готов был отказаться от половины пайка, от новых сапог, даже — черт возьми! — от курева, и в то же время он готов был броситься на интенданта, отказывавшего его батарее в починочном материале, палаточном брезенте или махорке.
Красные всюду встречали сочувствие батраков эстонцев и латышей, крестьян-середняков. Но не у них было сено, не они располагали запасами овса. А крепкие хозяева — «серые бароны» — глядели волками на красноармейских фуражиров и готовы были скорее сжечь свое добро, нежели отдать его красным.
За всеми этими мыслями, за заботой, которая стояла за плечами каждого приходившего к нему человека, Алексей забывал о себе, о своем. Мысль о Вере обжигающим током пронизывала его в самое неожиданное время, между двумя заботами. Память кольцевым вихрем поворачивала в сознании последнюю встречу, ветер латвийского поля нес запах тонких волос, но кто-нибудь обращался к нему, и новые заботы занимали свое хозяйское место. Синьков уже посылал ординарца с почтой на станцию. Алексей не протестовал, но сам письма не сдал, чтобы не закреплять эту моду. Он не дал Вере телеграммы из штаба, потому что провода были загружены, а командиры ругались у окошечка телеграфиста.
А ему хотелось написать Вере. Но какие коротенькие фразы могли ей сказать все, что нужно, и когда он мог просидеть над письмом часы, чтобы смягчить это свое молчание многими, полными горячей благодарности словами? Ему хотелось похвастать перед нею. Его политика по отношению к Аркадию была верна. Он сохранил для армии хорошего специалиста. Он мог ей написать, что теперь он без особого раздражения смотрит в глаза Синькову и слушает его скрипучий в моменты неудовольствия голос. Вере неплохо было бы узнать, каким поступком Синьков еще больше поднял свой авторитет у красноармейцев и даже у коммунистов.
Холодным утром, когда красноармейцы, начиная дневной поход, еще ежились в шинельках, хлопали друг друга по спине, бегали взапуски, чтобы согреться, дорогу пересекло небольшое озерцо, затянутое свежим льдом. Обхода не было, озерцо было неглубокое, и первое орудие пустили на пробу. Правое колесо провалило лед, но кони с размаху вынесли гаубицу на берег. Благополучно проскочил и зарядный ящик. Но уже второе орудие застряло на самой середине озера, изломав весь лед. Ездовые неистовствовали, нагайки рвали шерсть коренников, но кони бились в холодной воде по брюхо, и колеса все больше уходили под лед. Озерцо на глазах превращалось в страшную ловушку. Красноармейцы беспомощно стояли по берегам, глядя, как бьется упряжка на середине ледяного, дающего все новые трещины круга.
— Слезай в воду! — скомандовал Синьков ездовым.
Но ездовые, получавшие вместо сапог ботинки и обмотки, только выше подобрали ноги.
— Бери! — крикнул Синьков и бросил повод ординарцу. Он соскользнул с седла и в тонких, истоптанных и порванных сапогах вступил в воду.
— Ребята, навались! — крикнул он с молодым, уверенным задором.
Алексей уже стоял у другого колеса. Они весело смотрели друг на друга. Командиры и красноармейцы, в сапогах и обмотках, не разбирая, по льду и по воде неслись к орудию. С татарским кочевым криком вышло орудие на берег. Но люди не уходили. Теперь орудия входили в воду меж двух стен стоящих в ледяной воде людей и выбирались на противоположный берег без задержки.
Переправив батарею, люди выходили из воды мокрые, продрогшие, но веселые, как молодая ватага разгулявшихся в праздник парней. Синьков вылил воду из сапог и теперь не ехал, но бежал, чтобы согреться.
— А ведь иначе и не выбраться, — говорили красноармейцы.
— Савченко — и то тянул!
— А командир с комиссаром наперегонки.
— А командир одной ручкой.
— А все равно — пример…
Но все это хорошо для письма… И он и Каспаров не могут все-таки усвоить, почему так быстро и решительно перестроились командиры. Если бы они могли понять это, тревога улеглась бы, открылся бы путь к настоящему доверию и сближению. Карасев почему-то не беспокоит Алексея, — работает как машина. Молчальник. Неизвестно, что у него на душе, но, кажется, весь он тут. Другое дело Синьков и Воробьев. Ведь это они, независимые и гордые, ходили по лестницам дома на Крюковым, куда-то исчезали, жили сытно в самые трудные времена и всегда казались Алексею ненадолго притаившимися врагами. Стоило вспомнить Алексею приходы Синькова к Вере — и все доверие, накопившееся за дни формирования и боев, летело к черту, и он не знал, говорит ли в нем комиссарская осторожность или простая человеческая ревность, которую должен глушить в себе комиссар Советов…
Над мерзлой землей этой капризной зимы рвал тугие полотнища туч неистовый ветер. Наклонившись в одну сторону, растерзанные, обледенелые, трепетали, как будто вступая в схватку между собой, ветви деревьев. Под набежавшей за утро хрусткой корочкой лежал мягкий и густой, тронутый долгими оттепелями снег. Низкие ходы батарейных орудий катились по шоссе. Синим барьером уже вставал впереди лес… Приближался отдых.
— Голубей гонять — первое удовольствие, — говорил Синьков. — Когда я был кадетом, у меня бывало до ста штук.
— А я любил разорять грачиные гнезда, — вспоминал Алексей. — В помещичьем саду застукал меня садовник. Долго уши болели. Теперь усадьбу взяли под детский дом, а в парке гуляет вся деревня…
— А у нас на улице ни одного дерева не было. Гомель — слышал? — вспоминал Крамарев.
В это время в ста метрах от дороги раздался долгий, испуганный и вымученный женский крик. Пусто и мертво было все кругом. И крик был неожиданный, какой-то невозможный. Казалось, кричит не человек, а не слышанная никогда птица.
Ломая хрусткую корку снега, Алексей и Синьков шагали к рощице. Батарея остановилась, и красноармейцы широким полукругом бежали вслед за командирами. Но из рощи уже неслась песня. Может быть, тот же женский голос запевал, мужской хрипло подтягивал.
— Вот петрушка! — остановился Синьков.
— Мираж в пустыне, — смеялся Сверчков, продолжая одолевать неглубокий мокрый снег.
Но женский голос застонал, заохал — не то это была боль, не то внезапная судорога, и мужской повелительно кричал:
— Брось, Сонька, брось, говорю!..
Уже передовые красноармейцы достигли рощи. Трещат сухие сучья под сапогами. Голоса затихли.
На полянке, укрытой нетронутым белым снегом, стоит запряженная городская коляска. На маленьком коврике, на мешках с сеном, на волчьей шубе, позабыв о погоде, о месте, о часе, среди невиданных давно батарей бутылок, консервных банок, колбас, розового шпика и карамели валялись четверо: двое мужчин и две женщины, видимо охмелевшие, не успев еще насладиться этим своеобразным пикником. Младший мужчина, в бекеше и папахе, был уже пьян до того, что не замечал ни красноармейцев, ни подруги, которая уговаривала его съесть еще одну сардинку. Старший поднялся на колени, потом, держась за колесо экипажа, на ноги. Он протягивал пришельцам коньяк и консервную банку и пригласительно распевал:
По обычаю петербургскому…Он приложил консервную банку к сердцу и убедительно возопил:
Мы не можем жить без шампанского…И вдруг, перебив себя, икая, сказал:
— Это ни-чего… пожалуйста, не беспокойтесь…
Кто-то из красноармейцев тяжело уронил:
— Паразиты!
Слово это вторично родилось в семнадцатом году на митингах. В девятнадцатом году это слово умели еще произносить резко и многозначительно.
Снег казался розовым Алексею, и стволы сосен и берез пошли в хороводе. Он знал, что следует сейчас поступить холодно и разумно, но знал и то, что сделает сейчас что-нибудь безумное и злое.
Он выхватил из рук пьяного бутылку, она улетела на середину поляны, легла и завертелась, как испорченная граната.
Синьков положил ему руку на плечо легким жестом.
— Ваши документы, гражданин, — он протянул руку, с запястья которой свисала длинная нагайка.
Слово «документы» отрезвило Алексея. Стволы остановились, и поляна стала белой.
— Сволочь! Перестрелять!..
Но это уже было пролетевшей бурей.
Одна из женщин пошла в сторону, поправляя шляпу, за ней двинулась другая, как будто все последующее их не касалось.
— Снабженцы! Заранее можно было сказать, — скрипел Синьков. — Документы пойдут в штаб армии. По коням! — крикнул он батарейцам.
Уже батарея входила в деревушку, где предстоял ночлег, а Алексей все еще не мог забыть пикник «честных специалистов». Он взял документы у Синькова и сам настрочил рапорт в только что образованный Особый отдел. Этот рапорт звучал не как донос, но как ультиматум.
Большевистская латармия в наступательном порыве глубоко вдавилась в расположение противника. Фланги у Верро и у Режицы отставали. Намечен был удар от Пскова и Изборска, и туда перебрасывали Шестой стрелковый полк, придав ему весь мортирный дивизион. Перед походом в сто двадцать километров обе батареи соединились. Воробьев, еще больше отяжелевший в теплой бекеше, сошел со своего самого сильного во всей батарее коня и, улучив минуту, буркнул Синькову:
— Поговорить надо…
Синьков только кивнул головой. Ясно было, что предстоит неприятный разговор с этим негибким, упрямым человеком.
Пока красноармейцы обеих батарей делились впечатлениями и Алексей устраивал собрание объединенной ячейки, Воробьев ходил отчужденно, поглядывая поверх голов. Если с ним затевали беседу, он останавливался, шевелил пожелтевшим пальцем пепел в черной трубке, отвечал тихим и вежливым говорком, и глаза у него были голубые и мягкие. Но при первой возможности он отходил от собеседника, отправлялся к коновязям, подолгу смотрел лошадей, обмениваясь с ездовыми и уборщиками отрывистыми, пущенными мимо трубки словами.
Вечером командиры вышли в поле. Здесь нетрудно было улучить минуту для разговора.
— Я слышал, ты решил совершать подвиги, — начал Воробьев, глядя перед собою. Он сосал потухшую трубку, и глаза его стали холодными и пустыми. — Это что-то новое.
Синьков выжидательно молчал.
— Скажи же что-нибудь, — рассердился Воробьев.
— А еще что ты слышал? — спросил Синьков.
— Людей арестовываешь, слышал… Красный орден получить хочешь? Прикрыть георгиевский крест?.. В холодную воду скачешь…
— Вот что, — взял его за рукав Синьков. — Говорить надо, но только спокойнее.
— Дорого мне обходится это спокойствие, — отодвинулся от него Воробьев и принялся на ветру раскуривать трубку.
— Ты очень горяч, Леонид! Ты не любишь рассуждать. Захлестывает тебя… Мы условились перейти на ту сторону с орудиями и людьми. Я к этому и веду.
— Но уже больше месяца исправно глушишь тяжелыми своих…
— Эстонцев, — внушительно поправил Синьков.
— Почем ты знаешь? Там и наши…
— Когда знаю наверняка, что наши, бью мимо или посылаю Крамарева, Сверчкова. Все равно кто-нибудь стрелял бы… Еще одно. Прими в соображение, что сейчас они бегут, как зайцы. Что же, нам догонять их с орудиями? «Подождите, господа, мы за вас!..» И это еще не все. Пока у красных успех — мы можем рассчитывать на десять человек, на два десятка батарейцев. Когда побегут красные, мы можем поднять против коммунистов значительно больше. Словом, нужно выжидать. А раз предстоит оставаться здесь на неизвестный срок, надо завоевать доверие. Иначе мы рискуем попасть обратно в Петроград, но уже не на Крюков и не в штаб артиллерии, а на Гороховую два. И я должен тебе прямо сказать, Леонид, — из простого упорства ты ставишь под угрозу весь план.
— Это я — то?!
— Да, ты портишь дело. Ты возбуждаешь подозрения. На тебя смотрят косо. Особого комиссара к тебе хлопочут.
— Комиссара? — вырвал трубку изо рта Воробьев. — Уволь, Аркадий. Только дышал потому, что никого над душой не было. Этот соглядатай… как его… Сергеев… ко мне не лез. Уволь! Назначь командиром батареи Веселовского.
— Под каким предлогом?
— Ты — дипломат. Найди.
— Провалить все дело? Надо выдержать, Леонид…
Где-то в поле зачинались теплые ветерки. Они налетали с каким-то непонятным сухим шелестом. Они несли с собою первые пожелания весны. Они скользили мимо иссохших кустов, приземляясь, как на коньках, летели по кромке снега, шаля, прятались в полах шинелей. Друзья молча глядели на сизый, с огневыми жилками, горизонт.
— Солдаты портятся, — вдруг сказал Воробьев.
— Красноармейцы, ты хочешь сказать.
— Ну, красноармейцы, — процедил Воробьев. — Игра твоя сильно подпорчена, Аркадий.
Синьков перебирал плечами. Ветерок вдруг показался ему неуютным.
— Разбросали людей. Я надеялся, что все мои будут в кулаке.
— Не это главное. Наше влияние падает, Аркадий. А их, — он злобно кивнул в сторону деревни, — растет. Это надо видеть, Аркадий, и понимать. Если в скором времени не случится поражения красных, то хорошо, если нам удастся уйти двоим без всяких орудий.
— Уйдем вдвоем, если будет нужно… Сдаваться рано.
— Ну и играть эту кровавую комедию долго нельзя.
Огненные прожилки пылали там, куда смотрел Воробьев. Разгорался пожар позднего заката.
— Завтра будет ветер, — сказал Синьков.
Глава V ЛЕСНАЯ СТОРОЖКА
Совершив переход по ближайшим тылам, дивизион опять включился в боевую деятельность, благоприятно развивавшуюся для красных.
Артиллеристы громили баронские мызы, разрушали болотные гати, железнодорожные мосты, сшибали с холмов деревянные мельницы и церкви, ставшие наблюдательными пунктами белых, поражали навесным огнем пехотные окопы. Если утром начинались атаки, к полдню по телефону обычно приходило сообщение о занятии пехотными частями позиций противника, и к вечеру батарея получала новую стоянку в пяти — десяти километрах к западу или к югу от прежней.
Это были места, не тронутые еще вихрями гражданской войны, лежащие в стороне от шоссейных и железнодорожных путей. Здесь, у каменных оград немецких мыз и на задворках заостренных службами дворов «серых баронов», можно было найти яму, в которой год и два лежали тонны сухого, красивого картофеля. В лесах, подальше от дорог, в стогах стояло сено, а в закутках прятались остатки не истребленных еще стад и домашней птицы.
Хозяев терзала неразрешимая задача: биться ли до хрипа, до рукопашных схваток, чтобы хоть что-нибудь уберечь из этого живого добра, или, может быть, лучше распродать всех поросят и баранов, чтобы остались хоть деньги.
Комиссары и командиры клялись оберегать права и достоинство хозяев, вызывали старшину и тут же, при них, отдавали строжайшие приказы о вежливом обращении с жителями и сообщали о тех наказаниях, какие грозят всякому, кто осмелится забраться в амбар или на птичню с мародерскими намерениями.
За продукты платили щедро. На долгих стоянках помогали по хозяйству, — чинили сбрую, завозили в поле навоз, поднимали упавшие ворота и заборы. Латали крышу, крепили лестницы, амбары.
Все было хорошо до момента, когда нужно было уходить и вставал вопрос о фураже.
Разведчики и ездовые заглядывали во все щели, и, если находили фураж, каптенармус подкатывал фурманку, и хозяину предлагалось на выбор — продажа или реквизиция.
Никакие самые страстные, исступленные мольбы и проклятия не помогали.
— Фураж все одно не задержится, — усовещивал каптенармус, — не наши, так другая часть, а то интендантство. Тут, брат, — разводил он руками, — не упрятать. Фураж — это первая статья!
Дружба с хозяевами шла врозь. Русские деревни остались позади. Здесь беднота, сочувствовавшая красным, почти поголовно батрачила на широко разлегшихся хуторских землях и угодьях немецких помещиков и «серых баронов», крепкой хозяйственностью, суровым нравом, устойчивостью традиций купивших когда-то сердце Столыпина. Слой малоземельных был слаб и целиком зависел от крепких хозяев.
Иногда к каптенармусу или даже к комиссару приходил хмурый рябоватый парень, отзывал в сторону и после краткого разговора вел к тайным картофельным ямам и к спрятанным в оврагах стогам.
— Шерт! — выплевывал трубку коренастый, по-обезьяньему заросший «барон», видя, как фурманка прямо через канавы идет к тайнику. Он хлопал некоторое время слезливыми сонными веками, взором отыскивая того, кто выдал и кого чуяло сердце, и уходил, не оглядываясь, не спросив даже денег, потому что еще слишком свежи были клятвы, что в доме остался только мешок картошки и нет ни огурца, ни крынки молока.
В одном из таких серобаронских домов хозяин поставил гостям крынку молока. Всех пивших молоко свезли в больницу. Гостеприимный хозяин скрылся, бросив однозубую старуху с вихрастым внучонком. В другой деревне комиссар штабной команды отправился ночью до ветру и не вернулся. Наутро его обнаружили в дальней яме с простреленным затылком.
У полковых штабов и управлений этапных комендантов останавливались пешеходы с котомками, вздетыми на суковатую палку. У них были свои счеты с отступившими белыми частями, и они просились в Красную Армию. Обычно такие добровольцы немедленно вступали сочувствующими в ячейки и время от времени спрашивали — где теперь находятся «красные латышские батальоны, которыми распоряжается сам Ленин».
На одну из таких временных стоянок прибыла скопившаяся в штабе армии почта из России, и через час после этого в передках разразился скандал.
Игнат Степанович Коротков, ни слова не говоря, ударил по уху пришедшего за хлебом Федорова. Серега, всхлипывая и визжа по-бабьему, рвал с него шинель. Разведчики выручили товарища и, не скупясь, отсыпали сдачи Короткову. Савченко смотрел на драку в окно, подзадоривая обе стороны, но сам в бой не вступал.
— Почто в драку полез? — спросил появившийся старшина Федорова.
Федоров, все еще оглушенный, рассерженный, вытирал капли крови из носу, мигая глазами.
— Да он ведь меня кулачищем огрел. А чего? Разве ж я знаю…
— Ты, что ль, первый, Игнат Степанович? — спросил старшина Короткова.
— Ну, я… — буркнул похоронным тоном Коротков. — А за что, ему хорошо известно.
— Бабу не поделили, — догадался кто-то.
Оба противника наградили догадливого долгим, недружеским взглядом.
Коротков повернулся и хотел было уйти, но старшина задержал каптенармуса.
— Разрази меня бог — не знаю, — с искренней наивностью продолжал уверять Федоров, и даже пальцы его инстинктивно сложились в щепоть.
— Что ж вы, ребята, друг другу морду в кровь, а за что — неизвестно. Кто в такое поверит?.. Что ж я комиссару доложу?
Алексей уже подходил вслед за сбегавшимися на шум драки красноармейцами.
— Не хватало еще рукопашной, — сердито сказал он, выслушав доклад старшины. — Ты, что ль, первый ударил его? — спросил он Короткова.
— Я, — еще грубее буркнул Игнат, как будто вид комиссара опять привел его в раж. — Убить его мало! И усех их…
— Кого это всех?
Но Игнат уже овладел собою.
— Интригу они ведут промежду нами, товарищ комиссар.
— Кто они? — стукнул сапогом Черных.
— Брательники евонные…
Весь круг красноармейцев заговорил, заохал.
— Мельницу, наверное, отобрали, — сказал один.
— Беднота наседает…
— Хватит с тебя, Коротков, — и другому надо…
Деревенский конфликт был известен всем в батарее.
Мало-помалу разъяснилось, что Коротков получил из дому письмо. Комитет бедноты окончательно отобрал мельницу в общее пользование, а земли помещичьи, нарезанные деревенскими богатеями весною, переделили. Всем этим коноводит брат Федорова, Василий, одноногий инвалид империалистической войны. Коротковские жены писали, что «снюхался он с городскими, ездит в Совет и всех односельчан зовет жить в большом общем доме, есть из одного котла, как на походе, межи перекопать, коров согнать в одно стадо и всем вслух читать одну газетку».
Алексей с интересом смотрел на Федорова и представлял себе его без ноги.
— Партийный братан твой Василий?
— Безногой он… где ж ему в партию?!
— Ну вот что, за драку командир обоих посадит под арест, а ты, Федоров, ко мне зайди.
С Федоровым разговор получился серьезный. Алексей вызвал Каспарова. Он твердо решил воспользоваться случаем и крепко взяться за парня, а заодно и за других.
— Болит ухо? — спросил он разведчика, когда тот уселся на скамью в комиссарской халупе.
— Прошло… — и на худом лице Федорова проглянуло солнышко легкой усмешки.
— Значит, опять пойдешь целоваться с Коротковым?
Усмешка погасла, и Федоров внезапно вырвал руки из-под стола.
— Подожди… я не Коротков, — успокоил его Каспаров, которого он едва не задел по лицу.
— Извините, товарищ Каспаров. Я вас очень уважаю.
Каспаров пригладил бороду и улыбнулся довольно.
— Ты как, с братом ладишь?
— Семейство наше бедное, а он один супротив всех. Боевой мужик, хоть и безногой.
Нельзя было понять, одобряет ли он или осуждает. Должно быть, темный страх за деревенский кусок глушил в нем естественное признание не только напористости и лихости, но и правоты брата.
— Ты от Коротковых чего-нибудь хорошего видел?
— Работником на мельницу взять сулились… Махоркой угощали…
— И то краденой…
— Известно, краденой, — красноармейцам недосыпают.
— А ведь вы на Виленский прикатили приятелями.
— Земляки, товарищ комиссар.
— И ты бегал, в рот им заглядывал.
Федоров отсутствующим взглядом смотрел в оконце.
— И вообще, кто тебе друг, кто враг, ты и по сей день не знаешь, а брат твой, я вижу, знает. Для кого в деревне комитеты бедноты поставлены? А ты стакнулся с богатеями, которые в кулаки лезут. Эх, ты, голова садовая! Вокруг себя поглядеть не умеешь. Ты за что ж здесь воюешь? Ну-ка, объясни.
Они навалились на разведчика со всей тяжелой артиллерией привычной аргументации. Алексей рукою щедрого садовода прививал Федорову черенки и саженцы возлюбленных им и проверенных мыслей.
Взор Федорова отсутствовал по-прежнему, но желтые немытые пальцы неестественно живо суетились на полах шинели, и Алексей теперь смотрел не в глаза собеседнику, а на пальцы.
— Тебе в ухо заехали, а, я смотрю, на тебя и такая агитация не действует.
— Я знаю, что я сделаю! — сказал вдруг Федоров и сбросил руки с колен.
— Погоди, — удержал его Алексей. — Ты вот что сделаешь. Ты напиши брату такое письмо, чтобы он прочитал всей деревне. Вот сегодня, после собрания, на котором мы поговорим о твоей драке с Коротковым с классовой точки зрения. Напиши Василию, как мы с белыми деремся, и скажи от нас, чтобы он еще крепче прижал своих буржуёв.
Шутя, но с силою, он взял Федорова за борта шинели и потряс так, что легкое тело разведчика заколебалось, как подхваченный ветром тростник.
Собрание прошло оживленно. Коротковы были на виду у всего дивизиона. Командир пил чай у Коротковых. Все инструкторы с Коротковыми — за ручку. И вдруг комиссар ославил Коротковых — и не за драку, а за кулацкую идеологию.
Батарейцам нравились речи Каспарова и других коммунистов о защите бедноты от богатеев. Сам Коротков сидел позади на бревнышке, искусал самодельную трубку и поднялся, не дождавшись резолюции. Каспаров крикнул ему вслед:
— Тебе бы, товарищ Коротков, послушать!
— Наслушались, — бросил через плечо Коротков. — Вы народ горластый.
Но все-таки вернулся и сел.
Поведение Коротковых осудили и громко приветствовали решение командования назначить каптенармусами других батарейцев. Синьков скрепя сердце должен был согласиться на это.
Мрачным лесовиком осел Игнат Коротков на лавке под окнами опустевшей избы. Брат смотрел на него, не присаживаясь, опасливо.
— До дому, почитай, верстов сто будет, — сказал вдруг тихим, трудным шепотом Игнат. — Перебить Ваське вторую ногу и послать все к такой разэтакой!..
Наступал вечер. Солнце зашло в тяжелую, мрачно продвигавшуюся в обход по горизонту тучу. Запахло весенним безудержным дождем, майской жирной землей и теплым ветром. В густой тьме, как последний стрекот огромного насекомого перед грозой, угасли редкие ружейные выстрелы. Наблюдательный пункт перестал отвечать, но Карасева и дежуривших с ним телефониста и разведчика не было. От начальника участка прискакал ординарец с извещением, что утром возобновляются атаки. Синьков решил, что Карасев укрылся от дождя где-нибудь около пункта.
Туча угрожающе поворачивалась и разбухала. Иногда ветер приносил отдельные крупные капли, но дождя все не было. Когда садились за вечерний чай, где-то вдалеке прогрохотало.
— Неужели гром, так рано? — спросил Каспаров.
— Не гром это. Странно…
Сверчков отставил кружку и вышел на порог. Грохот повторился и вдруг рассыпался дробью ружейной стрельбы. Теперь уже все стояли на крыльце.
Звуки катились вправо и влево. Перестрелка захватывала все больший фронт.
— Не послать ли ординарца к Карасеву? — спросил Сверчков.
— Дай коня, — сказал Алексей вестовому. — Поеду в штаб, кто со мной?
Но еще раньше на двор прискакал ординарец.
— Белые прорвались. Командир полка приказал, чтоб отходили. Он пришлет взвод прикрытия.
Ординарец оправил шинель на коленях и ускакал. Показалось, что выстрелы приблизились и уже крутой дугой звуков обегают деревню.
— Старшину ко мне! — крикнул с крыльца Синьков. — А вы, Крамарев, скачите вовсю в передки. Вещи ваши подберем…
Неподпоясанный, взволнованный и гордый поручением, Крамарев вскочил на ординарческую лошадь. Стремена были коротки ему. Он никак не мог умоститься в седле. Зачем-то сделал два круга по двору, крикнул:
— Папиросы на окне, возьмите в карман! — и ускакал.
Фейерверкеры и номера прыгали через низкие заборы, спеша напрямик через огороды к орудиям. Надевались чехлы, свинчивались панорамы, запирались зарядные ящики. В телегу как попало летело командирское добро. Катушки с проводом и телефонные аппараты прямо через окно подавались в двуколку.
Туча в это время темным строем развернулась на небе. Вихрь налетел по-летнему. Крупные частые капли ударили в стекла, в стены, в брезенты. Между острой крышей домика и утонувшим в капельной мгле небом неистовствовал тяжкий занавес с волнующейся бахромой.
На позиции зашевелились упряжки, подобные допотопным животным, поднимающим головы из вод. Старшина верхом вертелся перед комиссаром. Голос Алексея возносился над выкриками в одну минуту промокших бойцов. Он бросал отрывистые фразы, относившиеся к черту, богу, к дождю и фейерверкерам. Синьков, одетый и затянутый в ремни, все еще разглядывал в халупе трехверстку на коленях.
— Командир, уходим! — постучал ему нагайкой в окно Алексей и отъехал.
Приглушенная дождем стрельба то пробивалась сквозь рокот ливня, то замирала вовсе. Факел в руках Федорова освещал проступившие всюду, кипевшие от ударов дождя лужи.
— А как же Карасев? — вспомнил Крамарев. — Аркадий Александрович, позвольте мне с ординарцем проехать к пункту.
— Куда, к черту, вы поедете? Пункт давно у белых. Карасев пристанет к какой-нибудь части, а утром найдется.
— Я только до штаба полка…
— Что же, вы будете ехать и кричать: Карасев, Карасев! Посмотрите, что делается!
Он взмахнул нагайкой, и холодные капли попали ему в рукав.
Дрожь, охватившая его на дожде, усилилась. Комиссара не было видно. Неужели пришел момент критических решений?! Если прорыв расширится — артиллерия попадет в ловушку. Как предупредить простое пленение, превратить его в добровольный, связанный с риском переход к белым?
Синьков поскакал в обоз. Воробьев проводил его напряженным взглядом. Он даже сдернул капюшон плаща, не обращая внимания на ливень.
Старшина ехал у последней повозки. Еще дальше, едва различимые сквозь сетку дождя, группой ехали всадники. Это был Алексей с разведчиками-коммунистами. Синьков выругался и резко повернул коня обратно. На этот раз Воробьев остановил его, и они поехали рядом.
— Какой момент упускаем, Аркадий!
Злая, нескрываемая досада.
Синьков молчал. Дождь усилился. Выстрелы не казались больше ни близкими, ни тревожными.
— Твоя затея провалится. Мы никогда не будем к ней достаточно готовы. Всегда найдутся препятствия. Я предлагаю собрать небольшую группу своих людей и уйти первой же темной ночью…
— Стоило огород городить! Не проще ли было еще в прошлом году ехать на Урал, в Сибирь?.. У тебя, Леонид, попросту не хватает воображения. Начнется бегство красных, и у нас не будет недостатка в удобных случаях.
Он хлестнул коня и выехал на командирское место.
Уже стихал дождь, и километров пять-шесть отчаяннейшего пути остались позади, когда дивизион нагнал тот же ординарец и сообщил, что положение восстановлено и батареи могут вернуться на прежние позиции. Утром, если прекратится ливень, начнется наступление согласно приказу.
Под хоровую ругань разворачивали одно за другим орудия и ящики. Ординарец ехал рядом с командиром и дополнял сообщение начальника участка собственными новостями. Партия белых прорвалась в тыл неожиданно. Командир полка собрал штабную команду ординарцев, взвод латышей и остановил прорвавшихся у самой деревни. Тем временем Пивоваров получил от штаба дивизии эскадрон, и прорыв был ликвидирован. Раненного в плечо командира полка увезли. Временно назначен молодой батальонный, Соловейчиков. Горячий, — все только наступать и наступать!
В глухую ночь пили чай в той же халупе. Крамарев смотрел в окна и бросался к дверям на каждый шум.
— И верно — где же все-таки Карасев? — тревожился Алексей. — Ну ладно, утром объявится.
Утром объявился только разведчик Орехов. От него несло мокрым солдатским сукном. Полы шинели отяжелели от корявой, побелевшей грязи.
Синьков был прав. Узнав, что наутро готовится атака, Карасев решил остаться на пункте и ночевать в лесной сторожке, около штабелей дров. Телефонист чинил порвавшийся провод. Орехова Карасев послал на батарею.
Быстро надвигавшаяся туча не понравилась Орехову, и он решил переждать дождь в крестьянской халупе. Но еще раньше, чем упали первые капли, началась пальба и на фронте и в тылу. Ночью под дождем Орехов потерял дорогу и присоединился к спешенным кавалеристам, которых вел Пивоваров. Вместе с ними он участвовал в ночном бою, попал в пехотные окопы и только утром ушел на пункт. Но там не оказалось ни Карасева, ни телефониста, ни трубы, ни телефонного аппарата.
— Карасев — опытный командир, — сказал Синьков. — Но, очевидно, он тоже проплутал всю ночь в этой неразберихе.
Утренние атаки вел новый командир полка. Он шел с первой цепью, и пуля обожгла ему ухо.
Вернувшись с пункта, где он огнем поддерживал пехотные атаки, Сверчков сошел с коня и увидел красноармейцев с котелками, спешивших к кухне.
Грушин, молодой красноармеец из номеров, подошел к Каспарову, шепнул ему что-то на ухо, и оба они, передав котелки соседям, ушли в лес. Вид красноармейца показался Сверчкову таинственным, Каспаров, несомненно, был озабочен.
Вернулся Каспаров через час. Никогда Сверчков не видел у него такого лица. Оно как бы выступало вперед из обрамления бороды и все пылало.
— Пойдите в лесную сторожку, там, по тропинке, — махнул он рукой в направлении леса. — И посмотрите!..
Сверчкову показалось, что это он, Сверчков, что-то сделал недоброе и теперь ему, как нашалившему ребенку, говорят: натворил? — пойди полюбуйся.
Тропинкой вслед за Грушиным, побросав котелки, бежали теперь все свободные красноармейцы. Каспаров в избе безрезультатно и раздраженно нажимал гудок полевого телефона.
Набив резиновый кисет махоркой, Сверчков отправился вслед за всеми.
Замшелая и покосившаяся, с начисто вынесенным каким-то бессмысленным и лихим ударом оконцем, широко раскрыла дощатую дверь сторожка. Ветви тяжело ложились на ее крышу. Уродливая, так и не пробившаяся к свету сосна, казалось, держала ее в цепких объятиях. Сторожка была набита пехотными и артиллеристами. Даже через плечи нельзя было заглянуть внутрь. Но Сверчкову и не хотелось смотреть. Непонятная тревога передавалась и сжимала сердце. В тесной толпе говорили шепотом. Солдатский шепот — страшнее крика. Выходившие из сторожки долго сморкались, глядели в сторону. Коренастый пехотинец с кривыми ногами вытирал глаза и всхлипывал.
Сверчков понял, что он не только не хочет, но и не может туда войти.
Алексей и Синьков подскакали верхом. На топот коней оглянулись стоявшие в дверях. Они расступились и пропустили обоих. В черной сторожке стало еще тише. Сверчков сделал вид, что он побывал там и все уже знает. Он отошел к большой сосне и, прислонившись к стволу спиною, смотрел, как с вершины на вершину переползает тяжелобрюхая туча.
За его спиною красноармеец — не тайком ли от деревьев? — шептал товарищу:
— Ногти выдраны, клещами, что ли, кругом пупа звезда…
— Брось, брось, сниться будет! — брезгливо шептал товарищ.
К избушке шли и скакали люди. Кто-то любопытный кружил около, присматриваясь к следам на траве. Сапогами ворошил слежавшуюся листву.
Алексей вышел из сторожки с черным наганом в руке.
— Ну конечно, вот нацарапано: И. К.
Какой скрипучий голос у Синькова.
— Седьмую себе пожалел… — говорит Алексей.
«Для себя ты крепко решил о седьмой», — думает не без уважения Синьков.
— Поставить часового, — приказывает Алексей старшине, — приедут из политотдела, акт составят, снимут. Вот смотрите, кому не повылазило! — крикнул он вдруг собравшимся и, забыв о коне, которого подобрал ординарец, один пошел по тропинке.
Глава VI ДЕЗЕРТИР
— Бегут, — многозначительным шепотом бросил комполка Алексею еще с порога. — Бегут! — крикнул он громко и молодцевато поздоровался.
Комполка был молодцеват, высок и гибок. В старой армии он был бы поручиком.
Он двинулся прямо к карте.
— Передвигаю штаб в деревню Визгово. — Сломанным карандашом командир ткнул в стену. — Еще такая же атака, и Верро — как пирог на блюде. — Он выбросил обе ладони к Алексею и, шлепнув себя по ляжкам, захлебываясь, прибавил: — Елки-палки, рожь густая!
Комполка молод. Двух недель не прошло, как он командует наступающим полком. Он еще не научился скрывать свою радость.
«Наверное, у него греет под сердцем, как и у меня, — подумал Алексей. — Только я не покажу».
Алексей не знал, что физиономия его уже сияет, и комполка, в сущности, мог рассуждать в его адрес приблизительно так же.
Сегодня на рассвете второй батальон штыковым ударом взял деревню Галицы, ворвался в окопы… И всего двое убитых и десяток раненых. Что значит порыв! Я их остановил, а то могли бы зарваться. А у меня фланг висит, и резервов… — он наклонился к уху Алексея и прошептал, дирижируя рукой: — А ни одного человека. А Верро без боя белые не отдадут. Станция, склады, город, дорога на Юрьев…
Пивоваров молчал. Он сидел под образами и крутил собачью ножку. Махорка была злая — самосад. Неловкие пальцы мяли крутелку. Но и он улыбался.
— А что ты говорил насчет флангов? — спросил Алексей.
— Связь у нас! — схватился за голову комполка. — Связь! В сущности — никакой связи! — Он вдруг опустил руки. — Что справа, что слева? Ни хрена не знаю. Позавчера еще знал, а сегодня ничего не знаю.
Улыбка сползла с лица комиссара и словно потонула в рыжей бороде. Алексей мрачно спросил:
— А куда же мы прем?
— Нам указано на Верро. На Верро и прем. — Упрямая нотка дрогнула в голосе комполка. — Мы в боевом соприкосновении с противником. Противник отступает. Какое основание задерживаться?
— Фланги выяснить надо, — так же угрюмо сказал Алексей.
— Вот ждал, пока ты мне сообщишь об этом, — раздраженно сказал комполка. — Четыре ординарца гуляют. Штаб запрошен. А почему это я один обязан заботиться о связи? Справа на болоте эскадрон. Почему они у нас ординарца не держат? Кто должен держать — я или они? У меня командиры батальонов пехтурой ходят. Что же, я бегом людей гнать буду? А слева у нас тридцать шестой оторвался. Штаб должен о связи думать.
— На штаб надейся… — медленно начал Сверчков.
— А ординарцев гоняй. Знаю. Я еще и у тебя пару человек подзайму, — обратился он к Алексею.
— Я могу… если нужно.
В халупу ввалился, как будто вместо ног у него были тяжелые катки, красноармеец. За плечами винтовка. В руке посох — ветка, с которой только что ободрана кора.
— Тебе что, Брага?
— Привели, товарищ командир.
— Ага, сейчас выйду.
Комполка застегнул воротник и стал прилаживать плечевые ремни.
Через двор, забросанный ломаными телегами, строевым лесом, валежником, протянулась цепочка людей. Как вошли гуськом, так и стали.
Лицом к халупе, посередине двора, стоял молодой парень. Только у него у одного не было винтовки. У него был порван ворот шинели, и красные, заплаканные глаза.
Алексей и Сверчков стали у колодца. Хозяева избы — старики и внуки — столпились на пороге темного сарая. За забором курили красноармейцы штабной команды.
— Докладывай, товарищ Брага, — сказал комполка.
Военком занял широкой фигурой все пространство открытой двери.
— Так что, товарищ командир, красноармеец второго батальона Иосиф Лоскутов покинул окоп и убёг в дезертиры во время самого боя. Чем покинул товарищей и развел агитацию за белого…
Комполка подошел к Иосифу Лоскутову вплотную. Лоскутов стоял опустив глаза в землю. Лоскутов положительно не умел стоять по-военному.
— Стой ровно перед командиром, — вздернул его выкриком комполка.
Лоскутов поглядел в лицо командиру испуганными, быстро мигающими глазами.
— Ты кто такой? — спросил командир.
— Иосиф Лоскутов я, — прошептал красноармеец.
— Ты прежде всего — боец революционной армии. Вот ты кто. Твои товарищи сегодня отбросили врага. Завтра возьмут город Верро. А ты, как последний негодяй, бросаешь их и сам бежишь. Куда же ты бежишь? Страна не примет дезертира. Беги уже тогда к белым! Они выпорют тебя шомполами. Они покажут тебе — кто ты такой. Ну, беги, беги. Я тебя не держу!
Иосиф Лоскутов стоял неподвижно. Он только упрямо гнул голову книзу.
— Если ты белый — иди к белым, — настаивал командир.
— Не белый я… По крестьянству мы… — всхлипнул красноармеец.
— А если ты не белый, то как же ты смеешь бежать в момент боя? Ты не человек, а собака. Собака верней. Ты — гад, тебя раздавить надо!
Комполка уже не говорил и не кричал. Он величественно декламировал.
— Я поставлю тебя к стенке без суда и следствия за бегство во время боя…
— Неужели без суда и без следствия? — расстроился Сверчков.
Все во дворе и за забором, перестав курить, молчали тяжело и угрюмо.
— Брага! Взвод построить!
Люди по команде соединили плечи и стали лицом к Лоскутову.
— А ты — к забору. Слышал? — Комполка схватил дезертира за плечо. — Взвод, ружья к плечу! По врагу народа…
Над всеми нависла тяжесть…
Иосиф Лоскутов, прислонясь к забору, рыдал откровенно, как маленький, взвывал и всхлипывал.
— Говори — будешь бегать?
— Н-н-ет, товарищ командир… хороший…
— Отставить, — скомандовал комполка. — На этот раз я тебя прощаю. Но ты заслужишь это прощение в завтрашнем бою. Согласен?
— Со-гла-сен, товарищ командир… — всхлипывая, шепелявил красноармеец.
Комиссар повернулся и, хлопнув дверью, вошел в избу.
В халупе Пивоваров опять сидел под иконами, но больше не улыбался. Тяжелой бронзой поднимался он над столом. Сверчков еще испытывал гадкую дрожь. Он был убежден, что красноармейца расстреляют. Это было бы ужасно. И конец прозвучал не менее ужасно в своей фальшивости. Но комполка был доволен собой. Он расстегнул воротник и швырнул ремни на койку. Он многословно говорил о том, как трудно держать в руках людей.
Комиссар молчал, молчали все в избе.
Комполка вдруг почувствовал, что не попал в тон.
— А ты, Пивоваров, что ему ни слова не сказал? Ты же военком.
— Не мешал тебе спектакль проводить, — выжал из себя военком.
— Это, по-твоему, спектакль? Ты думаешь, это мне легко далось? Еще секунда — и я бы его на тот свет отправил.
— Но прошла секунда, и ты его… помиловал.
— Да ты что, недоволен, что ли? Так ты скажи.
— Я думал говорить наедине. Но раз сам торопишь, скажу и при товарищах. Очень прошу тебя таких представлений больше не давать. И помнить, что мы в регулярной армии, а не в партизанском отряде. Дезертир по декрету подлежит трибуналу. Трибуналу и решать, что с ним делать. В исключительных случаях можно и налево пустить. Но миловать — ты не ВЦИК, товарищ Соловейчиков. А может, я его, как комиссар, своей властью в трибунал отправлю, а его там, несмотря на твое помилование, к стенке поставят. Актерствуешь очень, товарищ Соловейчиков. Тебе бы доказать, что мы тебя не зря выдвинули, и — меньше бы слов, больше бы связи. А Лоскутова этого ко мне пошли.
Лоскутова комиссар принял наедине. Он все так же сидел под иконами. Лоскутов остановился у порога.
— Подь-ка сюда, парень, — сказал военком.
Лоскутов не сразу подошел к столу.
— Ты что, вправду бегал?
— Бегал… товарищ военком.
— Чего ж ты бегал?
Низкий голос Пивоварова гудел в халупе.
— Спужался…
— Кто ж тебя испужал?
— Пулеметом…
— Чего ж другие не спужались?
Лоскутов молчал. Потом старался разрезать ногтем доску стола. Комиссар порывисто стал сбрасывать с себя кожанку и рубаху.
— Гляди, — повернулся он к нему спиной. — Видишь?
— Вижу, — испуганно сказал Лоскутов. — Так точно…
— Да, так точно. На империалистической. Разрывной лопатку разворотило. Шеей теперь не ворочаю. А вошла она здесь, под мышкой, — поднял он руку. — Вот мне нужно бы спужаться и убежать. А вот это ты видел? Вот здесь, на шее? Это белый, на операции… из маузера. Так тут уж я его руками задавил. Не спужался. И тебе, сукин сын, пужаться не дам.
Комиссар задышал тяжело и едва сдерживался, чтобы не грохнуть кулаком по столу.
— Красная Армия без тебя не пропадет. А другим пример подавать не позволим. На старом фронте тебя бы без разговоров кокнули, а я еще с тобой, видишь, разговариваю.
Он замолчал. Лоскутов уже был мокр и красен, как в бане.
— Иди, браток. Как сказал командир полка, так и будет. В трибунал не пошлем, ежели завтра докажешь. Посмотрят ребята, мне доложат.
Лоскутов, шатаясь, шел к двери. Комиссар опустился под образа.
— А то, может, — вернул он парня с порога, — если уж ты такое… так я тебя в обоз направлю. Что ж воздух в окопе портить. Иди в обоз тогда…
Лоскутов, не поворачиваясь, крикнул:
— Пойду я завтра… Пущай доложат, товарищ комиссар, — и выбежал за дверь.
— Ну, пущай доложат, — согласился военком, уже оставшись в одиночестве.
Глава VII СВИНЬЯ
Ветер рвал кусты. Холодная земля была крепче городского шершавого камня. Тоненькая шинелька развевалась под ударами ветра, и тогда холод забирался даже до пояса.
Крамарев спешил на наблюдательный. Телефонный провод у самой тропы стлался по земле, нырял в красноватые заросли лозняка. В воздухе то и дело вздрагивали звенящие нити излетных пуль. Потому на вершине каждого холма Крамарев останавливался и даже пригибался к земле. Но, убедившись, что впереди такая же, сжатая двумя рядами холмов, пустая долина, он выпрямлялся и, поддерживая шашку, шагал вперед.
Изредка над его головой снаряд рассекал небо длинной звуковой плетью. Когда выстрелы батареи учащались, Крамарев делал несколько шагов бегом.
Крамарев впервые должен был остаться на пункте один. Алексей сам послал его на смену командиру дивизиона. Крамарев понимает — для Алексея это очень важно. Красному командиру из курсантов он доверяет целиком. Сверчков материл, если на пристрелку уходило больше трех бомб. Сам он стрелял по эстонским позициям, как на учении. Но почему-то, когда на их участке стал действовать офицерский отряд, Крамареву показалось, что Синьков и Сверчков перестали появляться на пункте. Никто больше не рассказывал о лихих попаданиях командиров. Крамарев думает все это про себя, но он готов ручаться, что и Алексей и парторг Каспаров думают о том же.
Уже несколько месяцев все командиры живут одной семьей в тех же халупах, у тех же костров на походе… Разговоры они между собою ведут чаще всего о женщинах, иногда о литературе, о музыке… Они научили его играть в преферанс, чтобы коротать время на стоянках. За картами Крамареву всегда кажется, что Каспаров неправ, на каждом закрытом заседании коллектива поднимая вопрос о повышении бдительности. А Алексей просто не любит бывших офицеров…
— Первое, огонь! — донесся из кустов далекий выветрившийся голос. Глухой удар, и ход снаряда. Крамарев ускорил шаги. Тропа увильнула от прямого провода, но Крамарев шел теперь на голос.
Большим человеческим гнездом посреди высоких лозняков залегали телефонист Прахов, разведчик Федоров, командир дивизиона и Сверчков. Командирское тело скрыто в лозах, только длинные ноги тянутся к телефонному аппарату. Крамарев поздоровался и подполз к командиру. Раздвинув упругие, как пружины, кусты, он просунул голову наружу. Холмы и дальше шли волнами, ниспадающими в глубокую долину реки. На песчаном косогоре крохотная деревушка. Обойдя огороды, река укладывала свои петли меж холмов до самого синего леса на горизонте.
Скрываясь в узких долинах, в лозняках, стрелки ведут бой. Ружейная стрельба то стихает, то нарастает вновь. Тогда над лозами часто вспыхивают звенящей дрожью пули. Но все-таки не понять, где именно стреляют.
«Как бы это спросить, чтобы не обнаружить свою неопытность?» — думает Крамарев.
— Смотрите, за деревней накапливаются белые…
Крамарев бросил папиросу и приник к биноклю.
Да, по улицам пробегают маленькие человечки. Не рассмотреть, в чем они — в кожанках или в английских шинелях, офицеры или эстонцы?
— Шрапнелью… достанем?
Это сгоряча. Сердце забилось чаще. Вот это и есть война!
Над деревней, высоко-высоко, там, где дорога журавлей и белых гагар, стали в ряд три облачка. Три далеких звука.
— О-пять в небо! — сказал Аркадий. — Всех святых перебьют. Портят только снаряды.
Внизу неожиданно близко раздалось «ура». Пули зазвенели чаще. Встал над всем треск кашляющего пулемета. Крамарев поднялся. Сверчков лениво повернул голову.
— Наши? — спросил Федоров.
— Наши «ура» не кричат, — решил почему-то Крамарев.
— Кто вам сказал? — спросил Аркадий. — А что же они кричат — «банзай», что ли?
— А впрочем, действительно кричат, — согласился Крамарев и тут же вспомнил, что сам он на учении в школе не раз кричал «ура».
В кустах показалась папаха разведчика Панова.
— Ну, как там? — спросил Аркадий.
— Обратно белый в деревне… Народ посбегал, старики в халупах запершись… А на середине улицы свинья лежит… Пуда три, наверное. Шрапнелью в бок, и нога перебита. Охотники уже ходили, а не взять — бьет белый и вдоль улицы, и от церкви.
— А я бы взял, — вскинулся Федоров.
— Поди возьми, — предложил, усаживаясь и закуривая, Панов. — Деревню займем, и свинья наша будет.
— А я сейчас! — Федоров азартно затягивал пояс.
— Сиди, сиди! — отозвался Синьков. — Никуда свинья не уйдет.
— Дозвольте, товарищ командир. Себе ножку, а тушу на кухню.
— Пустить, что ли? — не оборачиваясь, спросил Аркадий.
Никто не ответил.
— Только ты выжди, когда деревня не будет под обстрелом.
— Тогда все охотники будут, — рассмеялся Панов. — Может, ее и сейчас уже нет.
— Я в момент! — сказал Федоров и нырнул в кусты.
— Пошел и я, — вдруг сказал Панов.
— И тебе ножку? — крикнул вслед Сверчков. — Ничего на кухню не оставите…
— А если и я с ним? — сказал Крамарев. — Просто так, в первую линию…
— Имейте в виду, мы через час уезжаем, — сказал Аркадий.
Крамарев раздвинул кусты, где только что сидел Панов, и увидел мелкую тропу. Подобрав шашку, он побежал, как ему казалось, вдоль фронта. Тропинка отлого стремилась вниз по обочине холма. У одинокого дерева сидело трое раненых. Санитар, разбросав на траве бинты и сумки, перевязывал красноармейцу руку. Красноармеец смотрел на Крамарева, провожая его глазами. Поодаль дымила походная кухня. Кашевар на корточках подкладывал хворост в топку. Кони были в упряжке.
Голоса заставили Крамарева обернуться. На холме вдруг поднялась конная фигура. Приложив к глазам бинокль, всадник смотрел куда-то вперед. Строгий, высокий жеребец прял ушами. Тревожно мигая, глядел туда, где гремели винтовки. Всадник был в кожаной тужурке и кожаном картузе. Крепкая, рука держала повод. Он был мужественно красив, статен и нервно настроен. К всаднику подскакали, должно быть, отставшие верховые на низкорослых лошадках. На тяжелой кобыле подплыл спокойной рысью грузный, с седыми усами и бритым подбородком старик.
— Резервы можно подвести и сюда, — сказал всадник, не отрываясь от стекол. — Здесь незаметно может пройти корпус.
— Получится лобовой удар, — сказал, утирая пот, толстяк.
— Вы мыслите категориями окопной войны, Николай Севастьянович, — сказал, не оглядываясь, человек в кожаном картузе. — Здесь лучше всего рвать фронт в его самом сильном месте.
— Как вам угодно, — сухо ответил старик. Он вынул полевую книжку и принялся писать в седле.
— Начальник дивизии, — торжественным шепотом сказал Крамареву неизвестно откуда взявшийся Панов.
Крамарев видел в Петрограде и более высоких начальников, но здесь эта фигура полководца в действии его взволновала. Он сразу стал мыслить иначе. Рвать фронт. Резервы. Стратегия революции. Значит, будет бой. Стало стыдно, хотя он шел вовсе не из-за свиньи.
— Говорят, настоящий командир, — шептал Панов.
— Разве? — радуясь, спросил Крамарев.
— Все бы такие! — сказал Панов.
Начдив подъехал ближе.
— Вы откуда? — спросил он Крамарева.
— Отдельного гаубичного.
— Где стоите?
— Здесь пункт… — Крамарев показал рукой.
— Снаряды есть?
— Ящики полны и обоз тоже, товарищ начальник.
— Хорошо.
Тропинка круто свернула к северу и пошла густым лозняком. Где-то близко, как из-под земли, грянул выстрел, за ним другой, третий. Крамарев вслед за Пановым сошел с тропы в заросли. Пули свистели уже не отдельными мухами, но неслись певучим роем.
Красные окопались на самой опушке лозняка. Окопы шли не сплошной линией. Неглубокие, слегка загнутые на флангах рвы. Перед ними был деревенский выгон, за выгоном начиналась околица. Вся деревушка состояла из двух десятков небогатых домов.
Крамарев прыгнул в ров. За ним Панов. Красноармейцы подвинулись. Крамарев поздоровался с соседними.
— А где же Федоров? — искал он глазами.
— Это ваш? — спросил сосед. — За свиньей с веревкой полез.
В бинокль Крамарев разыскал Федорова. С карабином за плечами он лежал у серого забора. Валуном поднималась посередине улицы свинья.
— Белый тоже хочет свинину кушать. А мы, как подлезет, — снимаем. Вот он здоров на мушку брать, — указал он на третьего от себя стрелка — брюнета с живыми красноватыми глазами, напоминавшими о горячем солнце и песках Средней Азии.
Федоров пополз вдоль заборчика и вдруг остановился.
— Лезут… — сказал сосед.
Стрелок-туркмен припал к винтовке.
Раз, раз, раз! — гремели выстрелы. Где-то влево стрекотал пулемет.
— Не дадут ему, гады!
Совсем по-змеиному — не разбирая снегу и мерзлых луж — ползли от ближней хаты двое.
Федоров собрался в комок. И свой и чужой мог задеть случайной пулей.
Раз, раз, раз! — горячился брюнет.
Передний белый остановился. Второй подполз к нему. До свиньи еще шагов тридцать — сорок. Пулемет строчил бешеную ленту.
— Назад пошли! — крикнул сосед.
Стрелки били по уходящим. Один из них уже у халупы. Другой пополз медленно. Может быть, он был ранен.
Огонь стихает.
Федоров, не дождавшись конца обстрела, быстро на четвереньках побежал к улице. Вот он выбегает на открытое место. Он уже на улице. Шрапнель опять рвется над деревней. Федоров припадает к земле. Но ружейных выстрелов нет — он опять встает. Он подбегает к свинье. Он вяжет веревку за ногу.
А где-то далеко влево разгорается огневой бой. Как будто ходит вдоль фронта гром из низкой тучи. Федоров стоит во весь рост. Федоров смотрит куда-то вперед. Его как будто больше не интересует свинья. Он бежит мимо халуп, по улице, срывает с плеча карабин, оборачивается и, приложив руку ко рту, кричит во все горло:
— Товарищи, крой сюда!
Стрелки выскакивают из окопа. Все еще осторожно, редкими цепями, они бегут к околице. Избы молчат. Федорова не видно.
И справа и слева, как по сигналу, командиры поднимают стрелков. Вот Крамарев видит — стрелки скачут через заборы, они уже за избами, они в кого-то стреляют, припадая к стенкам халуп, к заборам. На дальней окраине вспыхивает курное соломенное пламя. Голоса винтовок уже за деревней.
— Федоров попер с пехотой! — говорит Панов.
Крамареву тоже хочется бежать вперед.
Влево трещит, стрекочет пулеметный, ружейный огонь.
«Может быть, там прорвали? — думает Крамарев. — Тогда понятно, почему тут отошли».
Из лозняка бегут к окопу, вскакивают в ров люди.
— Резерв? — спрашивает Крамарев нового соседа.
— Неделя, как из Витебска, — бросает стрелок.
Еще минута, он уже бежит по выгону на фланге редкой цепи.
Боевая линия уходит от Крамарева.
— Давай на пункт — иначе своих потеряем! — говорит он Панову.
Та же тропинка. Аркадий уже в седле.
— Ну, опять поход! — говорит Синьков и хлещет нагайкой по воздуху.
«Ну ведь он же рад. Это же написано на его лице. А у меня всякие мысли…» — И Крамарову становится неловко.
— А все Федоров, Аркадий Александрович. Это он выяснил, что в деревне никого нет.
— И вовсе не Федоров, — говорит, гарцуя на месте, Аркадий. — Тридцать шестой прорвал фронт слева.
Но Алексей ночью получил от командира бригады благодарность телефонограммой. Федоров не только первый вошел в деревню…
«…Ваш разведчик первый вскочил в укрепление, он погасил пулемет ручной гранатой…»
Телеграмму прочли батарее. Федоров ходил именинником.
— А свинья где? — спросил его Аркадий.
— Едим свинину, товарищ командир! — утешил разведчик.
Поздно вечером Федоров действительно приволок свинью. Она была мокра, как будто шел проливной дождь.
— Это как же? — спросил Сверчков.
— Я как увидел, что белые самосильно на мост… — так я ее в колодец… и с веревкой… А сам перешел в наступление. — Хитрые глаза играли. — А теперь слазил в колодец, и Панов помог.
— А чья свинья-то? — вдруг спросил Алексей.
— Хрестьянская — с недоумением ответил Федоров. — А теперь убитая…
— Иди узнай чья, — строго сказал Алексей. — Найдешь хозяина — заплатим. А окорок твой будет, — утешил он парня.
Федоров долго стоял на месте. Потом, охлестнув нагайкой сапог, пошел по дворам.
Глава VIII АГНЕССА
Сверчков всегда искренне удивлялся, если женщина оказывала ему предпочтение перед другими. Ему казалось, что все прочие имеют на это гораздо больше прав и оснований. Одни были выше и стройнее, другие мужественнее, третьи лихо носили туго закрученные усы, четвертые были остроумнее, веселее или обязательнее.
Но поняв, что поле битвы за ним, Сверчков больше не колебался и не раздумывал. Он брал вещи как таковые.
Он не принадлежал к числу тех поворотливых молодцов, которые атакуют каждую приглянувшуюся женщину, быстро меняют фронт при неудаче и слепо идут на штурм, как только крепость дрогнула. Он попросту был здоровым человеком, утратившим семейную мораль отцов и не приобретшим никакой новой. При первом признаке успеха он готов был сменить стеснительность и щепетильность на самоуверенность.
Словом, когда воспитанница очередных хозяев, белокурая Агнесса, взглянула на него васильковым взором и, в ответ на пожатие руки, короткие пальцы ее крепко сжали руку Дмитрия Александровича, он почувствовал себя так, если бы на плечи ему возложили весь груз долгого воздержания.
Теперь он сторожил девушку издали, но упорно. Агнесса не слишком решительно отмахивалась от ухажеров. Она останавливалась с ведрами или чашкой на середине двора, утирала пот со лба всем рукавом и говорила без всякого лукавства:
— Ну куда мне от вас деваться?
— К нам, золотая, к нам, бриллиантовая, — кричал черный, как жук, телефонист Крикунов.
— Куда нам от вас деваться? — неуклюже острил Крамарев.
И даже комиссар, покачивая большой головой, бурчал себе под нос:
— И никуда ты не денешься…
Перед вечером столкнулись в сенях. В прорез двери падал на девушку притаенный вечерний лучик.
— Я вас не ударил, фрейлейн? — спросил Сверчков с воскресшей внезапно городской вежливостью.
— Нет, нисколько, — сказала девушка и продолжала стоять на месте.
Сверчков взял ее за руку у локтя.
Девушка смотрела на него чуть суженными мерцающими глазами и руку не отнимала.
Сверчков поднял пухлую руку к губам и поцеловал локоть.
Он решительно не знал, что делать дальше.
— Я приду к вам… — сказала девушка и закрыла глаза, не двигаясь.
— Придите, придите, — шептал Сверчков.
Она стояла с закрытыми глазами. Может быть, ей хотелось прислониться к стене.
— Как уснут, — прошептала она. — Увидите свет… в сарае.
Не глядя на него, она медленно проплыла через порог.
Тянулся день, тянулся вечер, тянулись первые часы ночи. Сверчков думал о девушке то как о чистой, хорошей встрече, то как о недостойной его авантюре. Но он знал, что пойдет к ней во что бы то ни стало…
Глаза у нее васильковые, большие. Волосы венком вокруг головы. Ему нравится, когда волосы заплетают вокруг головы. Волосы, кажется, не вьются. Но они нежные и тонкие. Он почувствовал их в коридоре щекой…
Фонарик прошел по двору только во втором часу ночи. Хорошо, что койка у самого окна.
Сверчков обошел сначала весь двор. Потом с усилием отвел нестойкую дверь овина. Сразу же кто-то взял его за руку.
— Только тихо, ради бога.
Она просила трогательно и тревожно.
— Сюда.
Она вела его к широкой лестнице наверх. Здесь пахло трухой старого сена, опилками, яблоками, рогожей и еще чем-то острым, может быть кожами.
Ощупью она завела его за гору соломы в углу.
Он почувствовал под ногами мягкое, должно быть овчины или большой тулуп., и доверчиво опустился на пол. Она была уже здесь. Он ничего не видел, но чувствовал, что она ждет, и прильнул к ее мягким губам…
Голоса дошли не сразу. Сначала даже показалось: это во сне. Голоса были знакомые. Но знакомые голоса бывают и во сне. Агнесса поднялась на локоть, и рука ее дрогнула под щекой Сверчкова.
— Тихо! — прошептала она.
Но Сверчков уже слушал напряженно и совершенно трезво.
— Кажется, пусто! (Это голос Синькова).
— Во всяком случае говори тихо. И без агитации. (Это — Воробьев.)
— Куда черт девал Сверчкова? (Это опять Воробьев.)
— К Агнессе, должно быть, полез. Она ему глазки делала. (Это — Коротков.)
Агнесса отодвинулась от Дмитрия Александровича.
— Ну, говори, Аркадий, — нетерпеливо предложил Воробьев.
Пауза показалась Сверчкову мучительно длинной.
— Если вы внимательно читаете газеты, — медленно расставляя слова, начал Синьков.
— А что в ей, в газете? — скептически заметил Коротков.
— Армия верховного правителя, адмирала Колчака, уже двинулась на Москву. Большевики все силы гонят на Урал. Но Колчак идет вперед. У него регулярная армия. В Казани он захватил золото Государственного банка. Союзники помогают ему через Владивосток. Через месяц он будет в Кремле.
Сверчков сам внимательно читал телеграммы. Еще в семнадцатом году он слышал о решительном адмирале, который театральным жестом бросил свой палаш за борт, когда большевики разоружили его штаб. Но Колчак не казался Сверчкову спасителем России. Зальют и его волны народной ненависти… Неужели он ошибся?! Тревога и неуверенность охватили Сверчкова. Синьков прав — нужно крепко задуматься над тем, что творится на востоке!
— А здесь когда же он будет? — спросил Коротков, для которого месячный срок занятия Москвы, видимо, сразу стал твердой датой.
— Когда будет занята Москва, все будет кончено, Игнат Степанович, — сказал Синьков. — И если мы не успеем к этому времени перейти к белым, ничего хорошего ждать не придется.
— Да уж чего хорошего, — угрюмо размышлял Коротков.
— Вместе с тем наши дела в дивизионе не улучшились, — продолжал Синьков. — Командный состав подобрался у нас такой, что приходится прятаться даже от бывших офицеров. Сверчков — это прохвост, проходимец! Я думаю, ни один человек в дивизионе не знает, чью сторону держит эта лисица.
Сверчкову стало нестерпимо обидно и горько. Это он-то лиса. Это он-то проходимец! Как будто он не был всегда высоко честен перед собой и перед другими.
— Климчук и Веселовский — большевики. Но это, в сущности, молокососы. Они никогда и не были офицерами. Ничего! Колчаковские победы приведут их в сознание.
— С мобилизации, — начал Коротков, — как приехали, почитай все режицкие да островские ругали комиссаров. Кто ругается, я ему говорю — пиши к нашему командёру. А теперь и не разберешь. Как что сапог нет, хлеба недодали — так в мать-перемать! А на собраниях Черныха во все уши слушают.
— Подождем немного, и сами большевиками сделаемся, — раздраженно сказал Воробьев. — А то еще, как Карасев, заплатим жизнью за большевистскую идею. Все патроны расстрелял — не сдавался.
— Разве, по-твоему, у нас был удобный случай перейти к белым? — спросил Синьков.
Воробьев ничего не ответил.
— Нужно бы тебе, Игнат Степанович, с братом выяснить точно, кто за нас будет, твердо договориться. Нам неудобно. Нужно разъяснить, что большевики деревню грабят. Нужно прощупать и тех, кто помалкивает. А когда станут наступать белые, мы комиссарам по шапке — и, поверь, многие перейдут к нам.
— А как ты полагаешь со Сверчковым? — спросил Воробьев. — Будем его привлекать?
— Я бы привлек его… на первую осину…
Сверчкову стало вовсе холодно.
Агнесса еще дальше отодвинулась от Дмитрия Александровича.
— Пойдем все-таки. Заметно будет. Каспаров с нас глаз не спускает.
Сверчков вернулся в халупу разбитый и расстроенный. А он-то полагал, что своей самостоятельностью он добился крепкой позиции в дивизионе. Огорчение было настолько сильно, что пересилило в нем и удивление и тревогу. А может быть, все это только болтовня? Разве так составляются настоящие заговоры? Но, с другой стороны, Воробьев не похож на человека, склонного к шуткам. В случае поражения красных смелые интриганы могут сделать многое. Революция — это вообще сумбур. Если Колчак действительно займет Москву и восстановит Временное правительство, Россия может стать демократической республикой, и тогда в каких же дураках будет он, Сверчков! Большевиков будут судить, как судили парижских коммунаров. Будут судить и его, красного инструктора. Какая чепуха! Но Колчак еще только на Урале. Нужно выждать результатов боев на Волге и тогда принимать окончательное решение. Но до тех пор нужно уйти из этого дивизиона. Это — блестящая идея! Здесь все для него осложнено личными отношениями. Комиссару дивизии Бабину ничего не стоит перебросить его в другую часть. Мотивы найдутся. Сверчков вздохнул с облегчением. А что, если рассадить по разным частям всех их: Черных, Синькова, Воробьева. Этим людям не следует быть вместе. Их личные отношения могут и обязательно будут вредить делу… Написать Альфреду, Чернявскому или, может быть, Вере. Женщины с большой легкостью делают вещи, которые не по силам мужчинам. Эта мысль понравилась Сверчкову именно своей литературной нарочитостью.
Утром на краю стола, под иконами, он строчил рапорт по команде и письмо Вере. Далеко не просто было уложить в строки хитроумный замысел, еще вчера казавшийся таким естественным, обойти все Сциллы и Харибды создавшегося положения.
Письмо долго не получалось. Сверчков нервничал. Но в нем уже возникал спортивный интерес, и письмо было подписано, запечатано и сдано в канцелярию.
Когда ординарец увез почту в штаб, Сверчкову стало не по себе. Казалось, он совершил непростительную глупость. Ведь все может случиться совсем не так, как ему хотелось… Но было уже поздно.
Глава IX «ГРОЗА САМОСТРЕЛОВ»
— В старой армии вопрос о боеспособности полка, дивизии решали случайные моменты, а сейчас в основном мы всегда знаем, на что способна та или иная часть. Вот, пожалуйста! — Комиссар дивизии Бабин подвел Сверчкова к диаграмме. — Вот социальный состав наших частей. Тут и есть разгадка. Вот тут, в этой рубрике, показано число коммунистов, комсомольцев, активных беспартийных красноармейцев. Разумеется, это не все, но когда мы пускаем часть в дело, то уже в этих цифрах я вижу лицо части. К примеру, вы у нас не на плохом счету. У вас образовалось крепкое партийное ядро. Понимаете? Ваша вторая батарея слабее. И так как она работает большей частью на отрыве, то тут возможны сюрпризы. И наша задача укрепить ее… И как можно скорее…
Сверчков почувствовал, что кровь отливает у него от висков. Он сказал, чтобы скрыть смущение:
— Как трудно воевать с частями, в которых не совсем уверен.
— В своей армии мы уверены, товарищ, — с какой-то подавляющей силой перебил его Бабин. — Мы, правда, получаем наспех укомплектованные, сырые части, но здесь, на ходу, они не разваливаются, а крепнут, мы их оздоравливаем.
— Оздоравливать… Это хороший термин, — произнес задумчиво Сверчков.
— Да, это в порядке вещей. При правильной расстановке сил классовая революционная армия обязательно будет боеспособнее всякой другой. Белая армия может захлебнуться в стихии деревенской бедноты. Нам же это не грозит. Вспомните историю: даже революционные партизаны всегда совершали чудеса. Гладиаторы Спартака, табориты, коммунары. А тут впервые революционная энергия плюс деловая, правильная военная организация.
«Как ему хочется быть куском истории!» — думал Сверчков, разглядывая крупное, растянутое, у скул лицо комиссара.
— В душе у каждого рабочего и крестьянина — не кулака — основной вопрос разрешен раз навсегда. Он за революцию. Нужно только помочь ему разобраться в каждом частном случае — где чья польза.
— Это верно, — вспомнил Сверчков Виленские казармы. И рассказал комиссару о своем выступлении.
— Это хорошо, — тепло обрадовался комиссар, — а то вы мне показались тогда таким растерявшимся либералом. Там, в Полоцке.
— Кажется, я таким и был, — сказал Сверчков и потом, вдруг подняв голову, глядя в глаза этому жизнерадостному и уверенному человеку, прибавил: — Впрочем, я и сейчас… Я действую с вами, а думаю иногда… ну…
— Против нас.
— Нет. Но…
— Так вот я вам советую: если у вас основной вопрос решен — действуйте. Действуйте решительней! Одни сначала думают до конца и только тогда действуют. Другие сначала действуют, потом додумывают. Вас угнетает интеллигентская привычка всегда во всем сомневаться. Сознайтесь. Вам кажется, что сомнения — это признак ума, интеллектуальности.
Сверчкову показалось, что Бабин умнее думает, чем говорит. За его словами кроется что-то более веское. Но он хочет говорить с ним, Сверчковым, его собственным языком. Для этого он перестает на время думать так, как привык. Ведь он тоже интеллигент, из студентов. Но он мыслит другими понятиями. Ему трудно говорить, потому что революция для него — это как утро, как солнце, вернее, как голод, это прижившееся, ставшее основным в его психологии. А тактика — это диалектический вывод на каждый момент, на каждое положение. Этот мягкоглазый человек любит и ненавидит всей силой непосредственного чувства. Он мечет молнии против дезертиров. Он орет на саботирующего снабженца, потому что это для него единственное средство удержать самого себя и не пустить ему без разговоров пулю в лоб. Он тратит два часа дорогого времени на него, случайного знакомца по одному из забитых демобилизацией вокзалов семнадцатого года, потому что рассчитывает приобрести в нем союзника для революции. Что-то вроде острой зависти разливалось в душе Сверчкова. Такая цельность — счастливый билет в лотерее жизни. Должно быть, не надо было набивать голову трухой рассыпающихся от ветхости философских систем. А вот взять сейчас рассказать комиссару о Воробьеве, о планах Синькова. Еще неизвестно, как отнесутся к нему самому, но их арестуют, может быть выведут в расход…
Тут начиналось что-то совсем непредставимое, вроде мыслей о дне океана или о недрах действующего вулкана.
Но ведь Синьков и Воробьев — это враги не только комиссара, не только революции, но и его собственные враги. Это было бы естественным актом самозащиты! Вырванные ногти у Карасева!.. Нужны ли еще доказательства?
Но слово «враг» окрашено у него, Сверчкова, не в ту краску. У Бабина оно бьется, как обнаженная, налитая кровью вена. А он в этой игре — прохладный, наблюдающий, не захваченный азартом игрок. О, черт возьми эту двойственность!
Сверчков подал вялую руку комиссару и, глядя куда-то в сторону, вышел.
— Заезжайте, я рад с вами беседовать.
— Спасибо, — остановился на пороге Сверчков. — Мне бы нужно кое о чем поговорить… Когда у вас будет посвободнее…
— Ну, это… — махнул безнадежно рукой комиссар. — Словом, приезжайте…
Сверчков жалел, что эта встреча не состоялась раньше. Хотя бы в первое посещение Мариенбурга. До поворота в событиях… До того, как все пошло какими-то другими путями…
Атака стрелкового полка на Верро не состоялась.
Железные дороги Валкского узла подвезли к Верро все, что могла выбросить навстречу красным буржуазная Эстония. Юрьевские студенты, перновские гимназисты, ревельские офицеры, валкские кулаки, вооруженные английскими ружьями и автоматами, прямо из теплушек шли к холмам, поднимавшимся к югу от вокзала, и рано утром, прежде чем красные пошли в атаку, сами атаковали усталый, вытянутый в ниточку, продвигавшийся больше по инерции стрелковый полк и заставили его остановиться.
Историк со временем, вероятно, скажет, что зиму с восемнадцатого на девятнадцатый год красные воевали в Прибалтике недостаточно умело. Стремясь захватить территорию, потому что территория немедленно покрывалась Советами, а Советы несли революции людские резервы, хлеб и фураж, они приняли кордонную систему равно в нападении и защите, нарушая ее только в пользу коротких, нерешительных ударов с целью прорыва фронта противника. Но историк должен будет отнестись к этим боям как к тем дням боевой учебы, в которых самое ценное — это усвоенный для решительных сражений опыт. Нарва, породившая Полтаву, — это уже не поражение, а только неудачное, но поучительное начало.
На весеннем ветру девятнадцатого года трепетала, как живая, раскинувшаяся на сотни километров петля красных войск, которой революция хотела удавить бешеных хорьков прибалтийской реакции. В апреле она подалась назад у Верро. В первых числах мая она заколебалась у Виндавы и Риги. Фон дер Гольц с пастором Недрой в кармане хотел захватить Латвию для баронов и для Германии. Ульманис, клявшийся демократией, но продавший душу Черчиллю, отсиживался на английском миноносце, разглядывая, в ожидании лучших дней, нефтяные круги на волнах рижской гавани. В мае английские миноносцы и крейсеры навели орудия на подступы к красной латвийской столице. Британские дипломаты разговаривали о «покупке» Эзеля и Даго. Английские пушки обратили вспять фон дер Гольца и его ублюдка — Бермонта-Авалова, а потом они повернулись в сторону красной Риги.
Сверчкову казалось, что теперь начнутся настоящие события. Английская эскадра. Фон дер Гольц. Ему захотелось посмотреть в глаза Борисову. Как он выглядит, этот спец-энтузиаст?! Не прибавили ли и ему морщин эти месяцы? Человек, на которого мог бы походить и он, Сверчков, если бы год назад пошел более прямой дорогой…
Мортирный дивизион, представлявший собою армейскую артиллерию латармии, вновь был взят из валкской группы и брошен на рижское направление. Опять Мариенбург. Штаб дивизии. Вот тогда-то и произошла вторая встреча Сверчкова с Бабиным, случайным знакомым по вокзалам семнадцатого года.
Однажды он поехал в штаб вместе с комиссаром.
Алексей застрял у начальника политотдела. В кабинете Борисова человек в кожанке курил у окна.
— Борисова? — повернулся он к Сверчкову. — Его уже нет. Его отозвали на Петроградский фронт, под Ямбург, — там начались бои… — Он стоял, раскачиваясь на толстых, прямых, как у статуи, ногах, держа руки в карманах. — А я вас где-то видел, но фамилию вашу я утратил.
Сверчков шагнул в сторону. Человек в кожанке отступил в свою очередь так, чтобы свет окна позволил Сверчкову взглянуть ему в лицо.
— Не помните? Ну, у меня исключительная память на лица. Я — Бабин, комиссар дивизии, а теперь извольте вспомнить, семнадцатый год и Полоцк. Этакий паршивенький вокзальчик, жидкий чан и ночь напролет в спорах. А ведь вышло не по-вашему, сознайтесь.
«Еще ничего не вышло», — подумал Сверчков, но не сказал.
Тогда Бабин увел его в свой кабинет…
«Вот я и пропустил прекрасный момент, — думал Сверчков, уходя от Бабина. — Этому человеку я мог бы рассказать все. Я убедил бы его предупредить несчастье без крайних мер. Это внутренне жизнерадостный человек, он поймет… Алексей все еще сидит в политотделе. Смотрится, должно быть, в диаграммы, как в зеркало своей части. Вернуться и сказать, — нервничал Сверчков. — Пойти не пойти, пойти не пойти, — гадал он на кожаной бахроме, украшающей эфес шашки. Ремешки спутались. — А, ну его к черту!»
На дворе сидел ординарец и рядом с ним пехотный красноармеец. Ну разумеется, это тот, который привел дезертира и слывет грозой самострелов. Странная фамилия — Брага.
Брага глубоко опустился на корточки, как не удается сесть человеку в городском костюме. Дымя так, что кругом пахло горелой бумагой, он сохранял позу глубокого ко всему безразличия, но большие черные глаза его вращались вслед всякому замеченному движению. Казалось, ими управляет механизм, ничего общего не имеющий с его телом.
«Какая-то ожившая каменная баба», — подумал Сверчков и с громкой нарочитой ласковостью спросил:
— Ну, как ваш дезертир, отличился?
— Ирой! — независимо улыбнулись глаза.
Он был положительно любопытен, этот тяжелый человек, в котором угнездилось какое-то свое отношение ко всему.
Философский стих легко находил на Сверчкова.
— А вы вот… неужели вы ничего не боитесь?
Это был добрый, испытанный еще на германском фронте вопрос. В нем была какая-то трогательная доверительность, и в то же время он на момент проникал в чужую душу.
Глаза Браги, как по лестничке, поднялись по обшитым зелеными тряпочками пуговицам сверчковской шинели и жестко остановились на лице инструктора.
— А ты почто спрашиваешь? Сам, должно быть, боишься?
«Вот уже и на „ты“», — подумал Сверчков.
— Я смерти боюсь, ничего не поделаешь… А вот вы как?
«Вы» получилось с большой буквы.
— И слепой смерти боится…
— Значит, и вы боитесь?
— Зачем я тебе буду говорить? Говори сам…
Следовало либо повернуться и уйти от этого колкого, как только что купленная щетка, человека, либо одержать над ним какую-то моральную победу.
— Ты из какой деревни, Брага?
Это создавало необходимую паузу.
— А я и сам не знаю. Где работа — там и дом. Батраком я с малолетства. На сахарном заводе работал.
— Значит, на Украине.
— На Киевщине. У помещика перед войной работал. Говорили — после царя самый богатый. Восемнадцать имениев у него. А жена — княгиня. Ну и порядок же был. Волы по шестьдесят пудов, кабан один на ферме — как бугай. До самой революции богатство было.
— А потом?
— Потом жгли много. Скот разобрали.
— И ты жег?
— И я жег.
— А порядок?
— А то чужое было. Хрестьянского не жгли…
— Значит, не верили, что все крестьянам будет?
— Не верили.
— А теперь?
Взор красноармейца прямыми, горячими лучиками ощупывал Сверчкова. Ординарец Форсунов, молча тянувший махорку, растоптал окурок и заявил:
— А теперь мы с вами его не пустим, товарищ инструктор.
Сверчкову оставалось разразиться бодрой фразой, у которой подкладкой была холодноватая, липкая, как шелк, неуверенность.
— А куда же вы пойдете после войны, Брага, — сделал он последнюю попытку, — в деревню или на завод?
— Нет, — твердо сказал красноармеец. — Я на сверхсрочную останусь.
Это был самый неожиданный из всех возможных ответов.
Брага поднялся, забросил на плечо винтовку и взял в руки все тот же посох — изрезанную терпеливым ножом липовую ветвь. Полупастух, полувоин, полуграмотный, но усвоивший соль марксизма, жесткий, как революция, и, как она, самоотверженный храбрец, он прошел перед Сверчковым апокрифическим видением, движущимся силуэтом, утратившим третье измерение, потому что у Сверчкова не было никакого ключа к его душе, одновременно слишком простой и слишком сложной для растерявшегося интеллигента.
Сверчков старался втиснуть красноармейца в знакомый ряд прошлого. Может быть, этот человек умел прежде стоять с непокрытой головой и с непокорными глазами? Может быть, он говорил покорные слова и таил непокорные мысли? О, каким же солнцем воли и силы должна была опалить его душу революция, как он должен быть предан тем, кто научил его, как нужно расстрелять свое рабство и серость!
Соседство крепких и цельных людей всегда угнетало Сверчкова. Он готов был наделить их свойствами хорошо или плохо скрываемой неустойчивости. Он с удовлетворением ловил в других признаки прорвавшейся наружу слабости, а факты непоколебимого мужества объяснял стечением обстоятельств или состоянием кратковременного аффекта.
Но если чувство угнетенности все же оставалось, он и его готов был обратить в пользу себе. Не означало ли оно, что его непреодолимо тянет к силе, к подвигу, что он тоскует по утраченной цельности. Его раздвоенность — это временное заболевание, а не природный недостаток… И повинно в этом больное время, эпоха…
Алексей поднимался и опускался в седле с той несколько преувеличенной задержкой, какую всадники без хорошей школы считают шиком в верховой езде. Но происходило это вовсе не из желания рисоваться. Он был взволнован и старался скрыть эту взволнованность. В политотделе ему рассказали об измене командиров легкой батареи, действовавшей под Верро по соседству. Три бывших офицера застрелили комиссара и нескольких коммунистов, захватили казенные суммы и с несколькими красноармейцами ушли к белым.
Сверчков слушал этот рассказ как притчу, как хитрый и ядовитый намек, как показания уличающего, но не назвавшего имена свидетеля. Казалось, комиссар, знающий все самое тайное лучше самого Сверчкова, делает ему последнее предупреждение. Так вот что бывает в результате таких заговоров?! Кровь, предательство, преступление! Он чувствовал, как на ветру и от волнения мучительно сохнут губы. Алексей говорил обо всем не с тревогой, но с силой и злобой. Казалось, что скачет к своей части не предупрежденный политотделом об осторожности комиссар, но готовый приступить к выполнению своего долга мститель.
Когда оступается его любимая кобыла Чаща, он рвет поводья, и она подолгу идет, играя ногами, с задранной к небу мордой. Она не узнает сильную, но обычно спокойную руку хозяина. Рассказать ему сейчас о том, что слышал Сверчков в овине, нечего было и думать. Он взорвал бы всю батарею. Может быть, все это еще один только дым, словоизвержение, а он устроит дело, трибунал… Притом, в какую позицию будет поставлен он сам перед своею совестью?!
Подъезжая к батарейному обозу, Сверчков решительно остановился на мысли, что письмом к Вере он ровно ничего не достиг и теперь единственный достойный исход для него — это откровенно поговорить с Синьковым, убедить его в бессмысленности перехода — именно в бессмысленности! — и затем заставить отказаться от всяких рискованных шагов. Вся страна неуклонно переваливает на сторону большевиков. Тысячи офицеров искренне и стойко дерутся в рядах красных. Теперь уже ясно, что большевики не за анархию, но за государственность и порядок, против всех и всяких интервентов, за родину, свободную и сильную. И никто, кроме них, не в силах установить порядок, равно как никто не в силах создать армию и уберечь страну от раздела между великодержавными соседями. Он выложит перед Синьковым все эти мысли. Сознание, что тайна — уже не тайна, укрепит их убеждающую силу. И уж тогда во всяком случае Сверчков будет чист, как горная струя, даже если бы ему пришлось принять решительные меры, вплоть до разговора с Бабиным. Такое предупреждение может быть продиктовано только прямотой и великодушием.
Эта мысль успокоила и даже развеселила Сверчкова. В порыве мальчишеской бездумной удали он почувствовал себя на минуту вершителем судеб всех этих людей. Он подскакал к Веселовскому и, положив руку на повод, шутливо наклонился к нему.
— Что в штабе? — спросил Веселовский.
Сверчков рассказал о встрече с Бабиным, о переходе к белым командиров легкой батареи. Он следил за всеми изменениями лица молодого командира. Как бальзаковский следователь, он старался не упустить ни малейшего изменения в чертах его лица. Но на безусом розовом лице с туго натянутой, ясной кожей отразилась только брезгливая усмешка.
— Это отразится на всем отношении к нам, бывшим офицерам, — провокационно заметил Сверчков.
— Почему? — пожал плечами Веселовский. — Что такие случаи будут, очевидно, предвидели. Но ведь вот, смотрите, скольких мы видели и знаем… все работают честно. Все-таки это гадость!.. Выходит, стреляли, стреляли по своим, а потом, пожалуйста, постреляем по красным. Даже не романтично…
Сверчков приложил руку к козырьку и проехал к своей батарее.
«На что они рассчитывают, черт возьми!» — продолжал он оживленно размышлять про себя. Синьков умница, он поймет, что это нелепо. Он откажется от этой затеи. Все рассосется. Когда-нибудь он, Сверчков, поздравит себя с тем, что не поднял нелепой и трагической истории…
Ночами на стоянках артиллеристы слышали гул отдаленных орудий и единодушно решали, что идут бои за Ригу. В пути их догнал ординарец с пакетом из штаба армии. Батареи свернули с шоссе и проселком двинулись на ближайший боевой участок.
— Значит, под Ригой мы уже не нужны. Боюсь, что опоздали, — резюмировал Синьков.
Алексей ночью погнал ординарца в штаб дивизии.
Однако полк, к которому прикрепили дивизион, продолжал наступать. Батареи поддержали его сосредоточенным огнем и вслед за пехотными цепями втянулись в глубокое болотное дефиле. Молодая листва одевала уже густые заросли, за которыми широко и непроходимо залегли древние болота. Птицы и насекомые наполняли таинственным гулом эту зеленую гущину, уступившую дороге только узкую и извилистую полоску сырой земли. Эхо распускало здесь свои быстрые, как ветер, крылья. Приятно было прополоскать голос в весеннем воздухе зеленого коридора, и красноармейцы кричали и пели, как будто попали не в лесистые болота, а в пустое здание, под гулкие своды. Ружейный выстрел казался здесь приветом одинокого охотника. А когда ночами, все так же с юго-запада, из-под Риги, доходили мягкие, рокочущие шумы, — казалось, это вздыхает наливающаяся весенней влагой земля.
Разбившись на мелкие отряды, используя боковые пешеходные тропы, полк продвигался вперед. Это была часть маневра, задуманного как фланговый удар. По большой дороге шли обозы. Гражданская война на северо-западе не походила в этом отношении на действия в Поволжье и на Кубани. Здесь все приходилось подвозить из тыла, вплоть до сена и картофеля. Наученные горьким опытом, командиры создавали обозы, превышавшие не только все имеющиеся штаты, но подчас и всякую меру разумности. Впереди и позади дивизиона шел напористый, шумный и, как все обозы, склонный к панике хвост телег. Неуклюжие, неповоротливые, они затопили дорогу. Батареи оказались в плену у этого скопища колес, мешков, ящиков, бидонов, брезентов, тряпья, сена и табаку. И когда наконец болото осталось позади и стрелковая цепь опять вышла на зеленые холмы, разделенные лощинами и руслами рек, командиры и красноармейцы вздохнули с облегчением.
Глава X ТРЕВОГА О ЧЕЛОВЕКЕ НА ФРОНТЕ
Шел невский лед. Поздний снег нехотя таял на крышах, и солнце лениво прощупывало рыхлые пласты недобитого, но уже обреченного врага. Посредине улиц утвердилась черная жидкая колея, но площадь у Зимнего дворца была еще бела, и только там, где скапливались отряды, вышедшие на последний смотр перед отправкой на фронт, пушистый, выпавший под утро ковер был примят и как бы истрепан.
В высоких сапожках со шнуровкой, но без галош — их не было, и негде было достать — Вера пробиралась по тротуарам у штаба, минуя груды когда-то кем-то вывороченных камней, провалы торцовой мостовой и сырые снежные лужицы. Ноги были уже промочены, но уходить не хотелось. Несколько курсантов ее школы шли на фронт со стрелковым отрядом, не дождавшись конца учебы. Среди них был ее любимец Мироничев, которому нравились все рекомендуемые Верой книги и который постепенно стал лучшим ее помощником в библиотеке. Он пригласил Веру на прощальный парад, который должен был принимать командующий войсками округа. Вере любопытно было посмотреть, как эти простые парни, не успевшие еще пройти курс русской истории и нетвердо державшие ногу на утренних учениях, будут выступать на площади среди дворцов, видевших крещенские парады царей и штурм октябрьских героев.
Такие девушки, как Вера, выпестованные тихой провинцией, усвоившие литературные идеалы своего века, читают книгу дней с величайшей объективностью. Еще в школе они становятся совестью своего кружка, своего класса, своей семьи. Настойчивые, как пилигримы, упорные, как снежные наносы, тихостью побеждающие своих сверстников и сверстниц, — они либо становятся впоследствии честными врачами, учительницами музыки, педагогами с миросозерцанием, остановившимся и кругленьким, как шар над беседкой провинциального садика, либо, подобно барометру, идут вровень со всеми подъемами и падениями своей эпохи, боясь обогнать ее и не рискуя отстать.
Мужчины — холерики и сангвиники, переживая кризис своих воззрений, бегают по улицам, нервничают, изводят несвоевременными спорами друзей. Женщины типа Веры не знают никаких кризисов мировоззрения. Их мысли, как река, с постепенностью параболы меняют направление своего русла. И если воды такой реки, шедшие сначала с юга на север, пойдут в конце концов с севера на юг, то этот поворот совершится с умиротворяющей постепенностью.
Мировоззрение Веры поворачивалось медленно, но и неуклонно, как звездное небо ночью. Столкновение со школой и курсантами, с Алексеем, Альфредом, Порослевым и их товарищами, лекции, банкеты, доклады, газеты, новые книги — все это прежде всего обернулось против того тихого, мечтательного и полусонного отношения к своей ранней юности, которая, как луговой берег, должна была лежать в памяти безмятежно, как бы ни громоздились горы житейского опыта на правом, высоком берегу. Провинция слишком долго баюкала ее в своей солнечной зеленой корзинке. Воркотня и нравоучения тетки были подобны густой вуали, которую накинули на Волоколамск, чтобы взор девушки воспринимал только основные очертания, без деталей, теней и красок. И только теперь благообразные люди, исправно посещавшие царские молебны, приходившие разговляться на пасху и с визитом на Новый год, начинали казаться ей разгримированными героями Щедрина и Чехова.
Мутнеет вино, засахаривается варенье, выдыхаются духи, пересматриваются воспоминания. Только спасительный холод бездействия, недвижность воздуха могут предохранить или отсрочить эти личные драмы каждого. Но у Веры было горячее, сочувствующее сердце, сердце, вполне проснувшееся для ласк и верности подруги. Она еще не раскрывала настежь двери для все новых ощущений, но уже оставила достаточную щель для того, чтобы свежий ветер беспокойной эпохи получил к ней доступ. Люди, с которыми она теперь столкнулась, были несложны, но убедительны. Они отличались от плоских образов Волоколамска прежде всего тем, что действовали на виду и потому приобретали законченность в трех измерениях. Они, как актеры, были связаны смыслом общей для них пьесы, и чужой голос в их складном хоре сразу начинал звучать, как вульгарная отсебятина. Незаметно и Веру подчиняла эта хоровая складность, и в себе она уже отделяла все то, что было созвучно и несозвучно эпохе. Она была подобна осколку алмаза, приобретавшему законченную форму в быстром вращении в тисках…
Люди у дворцового подъезда задвигались. Человек в серой папахе вышел вперед, и всадник, одиноко стоявший на площади, дал знак обнаженным клинком.
Медные трубы, начав неуверенно, разбудили, наполнили звуками и победили площадь.
Эти колонны шли, не соединенные ни единством одежды, ни строгой обученностью, сливающей их в одно механическое целое. Это были люди, привыкшие в цехах, мастерских к содружеству по работе, которое не поглощает индивидуальность. И только колонна курсантов шла по-военному, четко выбивая шаг и тем доказывая, что и это искусство, и эта психология достижимы для рабочего класса. Их сорвала с мест спешная мобилизация. Враг зашевелился на эстонско-финских границах. Он угрожал Петрограду. Было не до учебы. Надо было спасать первый город Революции.
Вера стояла у Александровской колонны среди редкой толпы, под музыку отбивавшей такт на месте. Ее разыскал историк Шептушевский. Он подержал ее руку так долго, как никогда не смел в школе, и, склонясь к ее уху, спросил с усмешкой:
— Ну, как вам наши санкюлоты?
У него был неприятно презрительный тон. Вера знала, что вслед за этим замечанием последуют плоские шутки, которые все больше не нравились ей. Она уже дошла до мысли, что работать в военной школе с подобными взглядами вдвойне нечестно, но еще не достигла того состояния, когда даже женщины дают отпор двуличным. Она молчала.
— А знаете, на них напирают здорово, со всех сторон. С востока и с юга, а теперь, кажется, и с запада… Что-то мы с вами будем делать?.. В случае чего…
— Как вы можете читать историю курсантам? — спросила наконец Вера, обдавая его обличительным взором, который был для нее почти подвигом.
— Вы скажите, как это некоторые читают им артиллерию и математику? Вот вопрос! — поднял он худой с лукавым изгибом палец. — А история… это ведь не наука. Кто такой был Людовик XVI? Наказанный тиран или мученик, единственная вина которого — слабость характера? А Корде? Убийца или жертва? Ну-ка, скажите!
Он победоносно улыбался с высоты своего журавлиного роста.
Вера увидела Катю Сашину и двинулась к ней.
Они стояли взявшись за руки, и Катя, перекрикивая приблизившийся оркестр, сообщила ей:
— Во второй колонне впереди — Коля Огородников. Он сказал мне, что, если я приду на площадь, он, несмотря ни на что, специально отсалютует мне саблей. Его не отпускали, но он заупрямился. «Не могу сидеть спокойно, когда Петроград в опасности, хочу на фронт, и баста!» Порослев говорит — без Николая он собьется с ног. У него были неприятности с Малиновским. Дефорж мне сказал, что Малиновский голову расшибет, но Колю уберет из дивизиона. Смотри, смотри, Николай…
Огородников шел, подав правое плечо вперед, уверенным шагом. За ним было хорошо и дружно шагать его отряду. Он едва-едва наклонил шашку, увидев девушек.
Принимающий парад что-то крикнул, и площадь вздрогнула от многоголосого «ура».
Оркестр выходил к трамвайному пути, и марш понесся над мостами и черными водами Невы…
Катя шла с Верой по Невскому.
— Тебе часто пишет Алексей?
— Нет, — ответила Вера. — Он плохой корреспондент, и, должно быть, они всегда далеко от почты.
— Воробьев пишет Маргарите каждую неделю и чаще. Ты не беспокоишься о нем?
Такие вопросы не задают женщинам, подобным Вере, и Катя спохватилась, едва закончив фразу. Мало того, она спешно прониклась необыкновенным сочувствием.
— У него ведь особое положение. Если б ты знала, как они умеют ненавидеть…
Жар этой фразы упал на добрую почву. Для человека, который, разбираясь в отношениях между людьми, не привык учитывать ненависть, потому что сам никогда не ненавидел, почувствовать ее присутствие около близких — это значит пережить взрыв.
Вера остановилась.
— Катя, ты что-то знаешь?
Этот вопрос обладал ликом Януса — одновременно он был обращен и к себе самой. Аркадий, Воробьев, их политические взгляды, ревность…
Но Катя уже прикусила язычок. Дефорж, уверенный в том, что девушка, способная стащить из секретного ящика анкету, во-первых, увлечена им, а во-вторых, по-видимому, сочувствует, не мог не разыграть такой козырь, как романтика его белого подполья. Он рисовался перед нею, намекал, предсказывал, облекая все это в шутливо-романтическую форму, за которой стояла его собственная кошачья, гибкая ненависть и серьезная сила каких-то, отделенных тайной от видимого мира, людей. Кате казалось тогда, что ночью, лесной и звездной, она прыгает через коварный Иванов костер, способный опалить ей икры и раскрыть будущее. Молчанием и порывами внезапной серьезности она подкупала Дефоржа и вызывала на дальнейшую откровенность. Она уже знала и поняла очень многое…
— Откуда же мне знать? Вообще… я не знаю, где теперь нет войны… — пыталась она увильнуть от ответа на Верин вопрос и еще больше — от ее прямого взгляда.
Вера осталась под впечатлением, что Катя не случайно заговорила об Алексее. Работая в библиотеке, она продолжала размышлять на эту тему. Она про себя составляла письмо мужу — потому что она чувствовала себя его женой и была уверена в том, что и он чувствует ее своей подругой жизни, — письмо решительное, почти гневное, с требованием писать ей и беречь себя.
Острецов уже несколько месяцев с большим и подкупавшим его самого успехом читал в школе курс всеобщей истории, а в клубе лекции по истории театра. Смущаясь, он спросил Веру, чем она озабочена.
— Валерий Михайлович, — вместо ответа сказала девушка, — история — это наука?
— Конечно, — поправил очки Острецов. — А у вас есть сомнения? Всюду, где есть повторяемость причин и следствий, рано или поздно возникает наука. История — наука молодая, и иногда ее слабостью пользуются недобросовестно и низводят ее с научного пьедестала. В бесклассовом обществе, за которое борются в конечном итоге все эти славные ребята, — он обвел руками гудевший голосами читальный зал, — с этим будет покончено раз навсегда…
Но этому человеку нельзя было задать второй вопрос: он тоже ничего не смыслил в человеческой ненависти.
Вернувшись домой, Вера застала у Насти целое собрание. Ее уговаривали взять на себя заведование буфетом в клубе, утвердившимся в квартире Бугоровского.
Вера решила подняться к Маргарите. Она шла с намерением прямо спросить ее, что она знает о Воробьеве, Синькове и Алексее, но уже на лестнице поняла, что так не узнает ничего, а позвонив, смутилась вовсе. Когда несколько удивленная Маргарита усадила ее на диван, Вера, краснея, сказала, что Настя уже давно не имеет вестей о брате, очень беспокоится, но сама стесняется спросить — не знает ли Маргарита чего-нибудь о дивизионе.
Маргарита исполнилась презрительным сожалением к девушке ее круга, павшей до непонятного мезальянса и даже не получающей писем от любовника. Она вынула из шкатулки — птичий глаз — пачку писем и, играя ими, сказала:
— Как это ни странно, но почта работает довольно исправно. У них, кажется, все благополучно. Пока… — прибавила она многозначительно. — Теперь можно каждый день ждать событий. Вы слышали о Булак-Балаховиче? Нет? Это был блестящий, храбрый офицер. Он партизанил в тылу у немцев. Да, представьте себе. У красных он организовал великолепный кавалерийский полк, а потом, расстреляв комиссара, со всей частью перешел к белым. Он, вероятно, теперь на том фронте, где ваш дивизион. Сейчас у красных всюду неудачи, и, я боюсь, такие случаи будут повторяться…
Этот издевательский разговор вернул самообладание Вере. Она уже спокойнее сказала, что просит Маргариту позвонить ей, если будут какие-нибудь новости, и ушла.
На третий день после этого разговора пришло письмо Сверчкова. Оно было туманно и напыщенно. Вере полагалось ощутить между строк большую, мятущуюся душу автора, его огромную печаль, его мудрое принятие событий, его сдержанность среди страстей, его глубоко тайное влечение к ней, «несмотря ни на что». Но Вера пропускала все эти строки, как подросток перелистывает бессюжетные места в романе. Она искала ответа на свои сомнения и, как близорукий зевака налетает на дерево, физически наткнулась на такие строки:
«…Вера, если б вы сумели заставить Алексея или, еще лучше, его начальство перевести его в другую часть. Я думаю, что вы поймете меня, если я скажу, что и без того трудная позиция его осложняется здесь целым рядом обстоятельств, о которых едва ли стоит вам напоминать. Чувство искренней дружбы, а не что иное, заставляет меня писать об этом. Потолкуйте с Альфредом, с Чернявским. Это очень нужно, Вера!»
И в конце стояло:
«…Я написал это письмо и вижу, что его лучше было бы уничтожить. Я серьезно колеблюсь, посылать его вам или не надо. Впрочем… Я поступлю так, как поступает Елена Бугоровская, когда ей нужно решить какую-нибудь дилемму. Она гадает на картах. Просто roue ou noire. Она сама сказала мне об этом. И так сказала, что я поверил. У меня, знаете, есть своя теория относительно этой девушки. У нее чем-то придавлены струны души, у нее все стаккато. Укороченные и потому не набегающие одна на другую мысли и такие же чувства. Для нее первое лишение — может быть, это был порванный туфель или отсутствие швейцара у дверей — вместило в себя всю революцию, и она из существа действующего, утеряв гордость королевы, сразу превратилась в безразличного созерцателя. И мне жаль Евдокимова. Когда опьянение ее красотой пройдет, он будет жестоко разочарован. Но на этот раз я поступлю, как она. Тройка червей. Я посылаю. Сам я, вероятно, скоро буду в другой части…»
Беспокойство, овладевшее Верой, было похоже на то первое пробуждение самостоятельности, которое толкнуло ее на поездку из Волоколамска в Петроград вопреки воле самодержавной тетки. Она в тот же вечер отправилась к Ветровым.
В комнате, кроме близнецов, сидели Степан и Ксения. Это не огорчило Веру. Она еще резче почувствовала целительную близость людей, которые к простым, ежедневным поступкам относились с той благородной серьезностью, какая дается только людям, никогда не мыслящим себя одинокими.
Комната была достаточно обширна. Степан и Ксения, озаряя друг друга улыбками возбужденной юности, шептались о чем-то своем. Ветровы сидели с Верой на широкой тахте под разрезом океанского корабля, внешне столь же спокойные, как всегда. Ксения уже давно волнующимся многоцветным облаком закрывала для каждого из них вселенную, но на этом видении сердца для каждого из близнецов, как тень от горы, лежала невысказанная печаль брата. Шутка судьбы продолжалась и впервые огорчала. Каждый мысленно приносил себя в жертву другому, не сознавая, что для сильной, жизнерадостной девушки, какою была Ксения, эта игра великодуший была не в их пользу. С инстинктивно зародившимся согласием они стали восхвалять перед Ксенией своего борт-механика Степана. И Ксения поверила им с легкостью двадцати лет и пробуждающегося пола. Степан загорелся упорным, жадным пламенем. Оно ослепляло, было заразительно и понятно.
С тех пор число часов, какое проводили Ветровы в отряде, удвоилось. В окружном штабе лежали их заявления о переводе на фронт. А дружба, связывавшая всех четырех, углубилась до того, что счастливая пара не прятала свою радость от несчастливой, которая, в свою очередь, не отказывалась играть роль тех живых и необходимых для воинствующего похмелья любви зеркал, в которые можно погрузить взор, не страшась единственного, чего боится любовь, — насмешки.
— Я боюсь за Алексея, — объяснила свой приход Вера.
Тревога о человеке на фронте законна, но по поводу ее не прибегают экстренно и с таким лицом.
— Что-нибудь случилось? — опросил Олег.
Вера рассказала, и странно — она выговорила не те слова, какие принесла сюда. Как будто до сих пор был сон, а теперь настало пробуждение и все призраки приобрели точные очертания. Ее подозрения нашли себе имена и степень.
Ветровым, знавшим Синькова и Воробьева, легко было поверить, что все эти намеки, идущие из разных мест, вьются как птенцы около материнского гнезда, вокруг какого-то реального и жестокого плана, и, проявив настойчивость, они получили из рук Веры письмо Сверчкова.
— Я не знаю, кто для вас Алексей, — с трудно скрываемым раздражением сказал Олег, — но для нас он — товарищ. Для спасения его от опасности мы принесли бы в жертву самую болезненную неловкость, если бы она у нас была…
Вера подняла голову с той женской гордостью, которую дают смирение, убежденность и готовность жертвовать собою. Слово «жертва» — это была та пуля, которую само по себе притягивало Верино сердце. Если бы Алексей и Аркадий схватились здесь, у нее в квартире, как тысячу раз могло быть, разве она не прикрыла бы его, своего мужа?!
— Хорошо. Я сделаю все, что могу… — сказала Вера. — Я напишу Алексею… и все расскажу Альфреду.
Глава XI ПО ТУ СТОРОНУ НАРОВЫ…
Виктор Степанович был встречен в Ревеле на пристани с цветами, речами и шампанским. В небольшой толпе мелькали солидные котелки, генеральские эполеты, кавалерийские сабли, дорогие трости и свежие дамские туалеты. Все это было, в сущности, жалко, смахивало на оперетту в театре средней руки, но все это напоминало дорогое, утраченное прошлое. Виктор Степанович расчувствовался, а Мария Матвеевна откровенно утирала слезы кружевным платочком.
Бугоровских усадили в единственный автомобиль. Остальные встречавшие затрусили на тихих ревельских извозчиках или двинулись пешком. Помещение, подготовленное для семьи Виктора Степановича, было тесно и неуютно, но в конце концов, это был временный бивуак в обстановке борьбы и неизбежных лишений.
В Ревеле Виктор Степанович с головой ушел в суетливую, нервную и какую-то не совсем деловую атмосферу белого тыла. Он стал членом различных комиссий и комитетов, познакомился со всей руководящей группой «Северо-Западного правительства», наскоро организованного британской военной миссией, с членами штаба новоиспеченного генерала Родзянко.
Следовало прежде всего разобраться в обстановке. А обстановка поистине была сложной. Здесь все было относительно. Не было ничего прочного, твердого, устойчивого, на что можно было бы опереться, от чего можно было исходить.
Впрочем, это ощущение неустойчивости не оставляло Виктора Степановича в продолжение всех его мытарств от Выборга к Гельсингфорсу и дальше, от Хапаранды к Стокгольму. Сперва встал вопрос о выборе между Германией и Антантой. Смешно было бы теперь сыграть не в цвет, не в масть. Когда ноябрь принес победу Антанте, казалось, что в этот вопрос была внесена полная ясность. Но это только казалось. Германские войска все еще занимали Прибалтику. К великому удивлению Виктора Степановича, в условиях перемирия, заключенного Фошем, не было ничего о разоружении германо-австрийской армии на Востоке и о немедленном очищении российских территорий. Похоже было на то, что союзники не прочь поручить Германии «умиротворение Востока», то есть борьбу с советской властью. Конец войны не внес ясности в положение вещей к востоку от Одера и Вислы. Но и этого мало. Германские и австрийские солдаты не склонны были оставаться слепым орудием в руках победителей. Самодемобилизация германской армии крепко напоминала Виктору Степановичу подобные картины конца семнадцатого года в России. В Берлине рос авторитет Карла Либкнехта. Призрак революции шел по пятам за Бугоровским. В феврале Гельсингфорс, Ревель и Рига стали красными.
После широковещательных «демократических» четырнадцати пунктов Вильсона были опубликованы комментарии к ним. Оказывается, «содействие России» следовало понимать не больше и не меньше, как расчленение ее на ряд колониальных зависимых государств и мандатных территорий.
Еще в декабре восемнадцатого года известный всем русским помещикам и агрономам миллионер Маккормик, Альберт Штраус, директор Федерального резервного банка США, и Джон Фостер Даллес создали компанию под названием «Русское отделение Военно-торгового совета» с капиталом в миллиард долларов. План деятельности этой компании, напоминавшей Ост-индскую, шел гораздо дальше своего исторического прообраза. Ее полному контролю должна была подлежать вся экономическая и торговая деятельность на всех территориях бывшей Российской империи, начиная от внешней и внутренней торговли, разработки земных недр, обработки металлов, угля, нефти и кончая сейфами и частными сделками. Если англичане и французы претендовали на части России, то американские капиталисты требовали «открытых дверей», что, как известно, на практике означает свободу полного экономического порабощения.
Виктор Степанович никогда ни на минуту не сомневался в аппетитах и гибкости принципов американских и английских капиталистов; но такой волчий подход к целой нации, к исторически сложившемуся государству, к народу, кровью своей обеспечившему победу союзникам, удивил даже его. Но сомневаться было невозможно. Ему принесли «New York Gerald» с текстом речи сенатора Гуда, цитировавшего в конгрессе эту замечательную программу.
— Вот так президент! Вот так пастор! На земле мир, в человецех благоволение! — говорил про себя Бугоровский, шагая в одиночестве по тесной комнате и до хруста заламывая пальцы. — И ведь ничего не поделаешь, — скорбно утешал он себя. — Лучше потерять многое, чем все.
В голове его туманно проносились мысли о новом собирании России. Оно должно было состояться где-то в глубинах будущего, как первое произошло в глубинах прошлого. Это — дело грядущих поколений. О нем лучше было бы говорить в стихах, нежели в деловой прозе сегодняшнего дня. Об этих мыслях своих Виктор Степанович не говорил никому.
Ревельская суета помогала Виктору Степановичу отвлечься от этих неприятных мыслей. Поменьше философии, побольше дела. Следовало отдать все внимание, все силы практическим вопросам, которые выдвигает сегодняшний день.
Весна принесла оживление белого движения. Осуществляя план Черчилля, Деникин начал наступление на юге. Колчак занял Уфу. Готовилось выступление Северо-Западного корпуса Родзянки. Английские крейсера, миноносцы и подводные лодки появились в Финском заливе. Английский военный агент в Ревеле говорил языком диктатора. В Риге подполковники Дрин и Каули готовили осуществление грабительского плана Маккормика и Джона Даллеса. В качестве авангарда прибыли корабли Ара с мукой, салом и шоколадом, чтобы подкормить и ободрить всю прибалтийскую контрреволюцию, начиная от «немецких жандармов и кончая солдатами Родзянки». Казалось, сама статуя Свободы подплывает к восточному берегу Атлантики с мечом и долларом в руке вместо факела.
Бугоровский, как и вся ревельская белогвардейщина, закрывал глаза на эти грозные симптомы. Перед ними была влекущая, вожделенная цель — Петроград…
Особо секретное совещание Ревельского правительства и штаба Северо-Западного корпуса состоялось в самом узком кругу.
Виктор Степанович слушал докладчика внимательно. Его смущали слабые силы корпуса, явно несоразмерные с поставленной задачей. Он ждал указаний на то, что в помощь Родзянке будут двинуты силы белой Эстонии и Финляндии, может быть, германские отряды, активно выступит английская эскадра. Но о таких возможностях говорилось вскользь, как бы нехотя.
Докладчик, полковник генштаба, всячески старался показать, что условия и организационная работа, проделанная штабом Юденича, полностью обеспечивают победу белых сил.
— Не следует определять наши возможности только на основе простого подсчета войск, — доказывал он собранию, — числа штыков, сабель, орудий и пулеметов. Преимущества наши перед возможным противником настолько велики, что подобный арифметический подход был бы глубокой ошибкой. Я попытаюсь, насколько позволяют требования безусловной тайны, перечислить основные моменты, которые числит в своем активе наше командование. Первое — это инициатива. Красные не ждут нашего нападения. Данные нашей разведки говорят за то, что все внимание Реввоенсовета привлечено к событиям на востоке и юге. Расположение частей Седьмой армии носит характер пограничного пассивного заслона. Уже по одной этой причине я позволю себе заявить, что успех нашего первого внезапного удара обеспечен. Второе — мы имеем все основания рассчитывать на переход на нашу сторону тех частей противника, где командный состав из бывших офицеров сумел обеспечить соответствующее настроение солдат. Во многих случаях это облегчается удобным для нас неудовлетворительным составом комиссаров, а также помощью со стороны наших временных, с позволения сказать, союзников — эсеров и анархистов, разлагающих красноармейскую массу. Мы имеем заверения, что все такие подразделения повернут штыки против красных после первого нашего успеха. Третье. Форты Кронштадта, кронштадтская база и лишенные топлива и масел суда Балтфлота сдадутся нам без боя или будут расстреляны перешедшими на нашу сторону фортами. К этому имеются исчерпывающие данные. Четвертое. В самом Петрограде действует разветвленная и мощная сочувствующая нам организация, которая взорвет неприятельский тыл, как только наша армия приблизится к предместьям столицы, при моральной и даже материальной помощи всех посольств, консульств и миссий наших союзников. Наконец, пятое. Руководство питерским пролетариатом находится в руках антиленинской группы. Эта группа, несмотря на склонность к политическому шуму, громкой фразе, подвержена панике и совершенно неспособна организовать упорное сопротивление победоносному противнику. Руками этой верхушки, действующей под влиянием хорошо законспирированных наших агентов, мы рассчитываем привести в пассивное состояние, дезориентировать, обессилить многочисленный питерский пролетариат, глубоко нам враждебный и опасный.
Виктор Степанович постепенно оживал под действием этой аргументации. Пусть докладчик несколько преувеличивает, все же нарисованная им картина весьма отрадна. Значит, и без прямой поддержки Эстонии и Финляндии Родзянко имеет шансы не только оттянуть на себя силы красных в момент наступления Деникина, но и захватить Петроград.
— Наш стратег не все нам поведал, — наклонился к уху Бугоровского только что прибывший из Парижа от Гучкова видный и весьма осведомленный кадет. — Осторожен. Знаете, кто еще за нас… но под покровом самой глубокой тайны?
— Да? — вопросительно посмотрел на него Бугоровский.
Банкир прошептал что-то в самое ухо Виктора Степановича.
— Не может быть! — На лице Виктора Степановича отразилась самая высокая форма удивления.
— Вот вам и не может быть… Но тут, — поднес он палец к губам, — эта наша крупная карта, скорее на будущее. Кстати, эту тайну хранит и кажущаяся ее невероятность…
Бугоровский уходил с заседания взволнованный.
— Господа! — заявил расходящимся докладчик. — Предупреждаю: полная тайна.
— Дай господь! — сказал высокий, как жердь, штабной полковник.
— Нашему б теляти та вовка зъисты, — неожиданно закончил за него другой полковник, командир одного из отрядов. И все на него оглянулись.
— Это что же? Неверие? — спросил соседа неприятно удивленный Бугоровский.
— Такая манера…
— Вот мы всегда так… — сказал высокий.
— А вы не смущайтесь, — хитро засмеялся украинец. — Ведь в бой-то идти не вам, а нам, грешным. Ну, за нами дело не станет. Не стало бы за вами.
Глава XII …И ПО ЭТУ
Катька ошиблась. Ульрих фон Гейзен не поехал в Самару.
Узнав об обыске, без гроша в кармане, захватив только краюху хлеба, без всякой руководящей мысли, он оказался на улице. Было свежее зимнее утро. Плечи вздрагивали под дубленым поношенным полушубком. Идти было некуда. У новых друзей всюду могла быть засада. Вокзалы казались строго охраняемой ловушкой. Он знал за собой полную неспособность прикинуться тихой овечкой, другом нового порядка. Если бы у него была связка гранат или бомба, он способен был бы ворваться в какой-нибудь совдеп, утолить бушевавшую в нем ярость, а там будь что будет.
Ноябрьский холод несколько успокоил его, и он шагом пехотинца двинулся к Нарвской заставе. Очутившись за городом, он шел, никем не задерживаемый, до Лигова и там сел в насквозь промерзший поезд на Гатчину. Из Красного Села, отдохнув в парке, он перешел на ропшинскую дорогу, инстинктивно уходя от морских, усиленно охраняемых берегов, от железнодорожных узлов. Крестьянин, везший на паре сытых коней хворост и валежник из дворцовых лесов, довез его до Волосова и пустил переночевать. Ульрих сказал ему, что у него сестра в Ямбурге, но он не знает — можно ли теперь туда пробраться. Хозяйский сын сообщил ему, что красные эстонские войска наступают сейчас на Нарву и он сам утром идет с телегой, мобилизованный в обоз для перевозки патронов вслед за армией. Ульрих засунул пару рукавичек и извозчичий кнут за веревочный пояс и, где поездом, где пеший, двинулся на запад. Недалеко от Нарвы он осел на мызе «серого барона» в качестве рабочего, причем хозяин выдавал его за племянника.
Молчаливый, потерявший городской облик, он пришелся по вкусу хозяину и прожил на мызе до первых теплых дней. И вместе с хозяином оказался в белоэстонских отрядах, действовавших под Верро и Валком.
Наступая и отступая, по-волчьи дрались эти полупартизанские отряды, находя поддержку в среде крупных хозяев края, почти лишенного середняцкого слоя крестьян. Здесь зверь, выросший и окрепший в душе Ульриха, нашел себе выход.
Прячась в болотистых лесах, ночными набегами на растянутые красные части он приобрел славу бесстрашного, озлобленного бойца, и его побаивались даже свои. Его отряд не брал в плен ни эстонских батраков, добровольно вступивших в красные ряды, ни мобилизованных русских крестьян. Он расстреливал их собственноручно и требовал от своих подчиненных такой же жестокости. Он полностью насладился местью, когда, прорвавшись в грозу и бурю в красный тыл, столкнулся в лесной сторожке с красным командиром. Командир отказался сдаться, и Ульрих приказал взять его живым. У красного офицера был только наган. Шесть пуль были выпущены с расчетом и метко. Может быть, он надеялся на близкую помощь. После шести выстрелов наган замолк. Видимо, офицер берег для себя седьмую. В темноте солдаты Ульриха бросились к сторожке. При свете молнии перед Карасевым в окне мелькнуло искаженное лицо Ульриха. В нем было столько остервенелой ненависти, что Карасев не выдержал и выпустил последнюю, седьмую пулю. Она задела ухо и затылок Ульриха. Истекая кровью, поняв при свете факела, что перед ним бывший офицер, Ульрих учинил зверскую расправу над Карасевым.
В юрьевском госпитале Ульриху отрезали половину уха, но рана на голове не заживала и гноилась.
Из госпиталя с письмом Бугоровского Ульрих явился в штаб корпуса Родзянки, который захватил Нарву и был нацелен на Петроград.
Бугоровский пребывал в приподнятом настроении. Он с легкостью азартного игрока поверил в блестящие планы и организацию Родзянки. В конце концов за этим победителем красносельских офицерских скачек стоят дипломаты великих держав со всем их вековым налаженным аппаратом разведки, за ним европейский и американский капитал, у которого миллиардные интересы в России и который, конечно, знает, что делает.
Нетрудно было Виктору Степановичу поверить и в то, что притаившийся небольшевистский Петроград в удобный момент постарается нанести удар в спину красным. У Виктора Степановича были явные доказательства того, что Живаго и его друзья не дремлют. Дважды из штаба ему передавали приветы и краткую информацию о его заводе и доме, подписанную Живаго и переданную тайной агентурой через Выборг и Гельсингфорс.
Часть этого воодушевления передалась и Ульриху. Бугоровский экипировал его за свой счет и дал ему пачку кредиток, которые Ульрих взял не колеблясь. Это была цена крови, плата ландскнехта. Если белые вернутся в Петроград, не Ульрих получит завод и дома Бугоровского! В коротких беседах с Виктором Степановичем Ульрих с удовлетворением почувствовал, что теперь в своей ненависти к революции и большевикам они сравнялись.
Ульрих был принят в сводную офицерскую роту, входившую в отряд полковника Георга. Здесь он встретил таких же озлобленных, монархически настроенных офицеров, которые считали себя мстителями и добровольно просились в карательные отряды. За бокалом вина в ревельских барах они вслух мечтали об аллеях виселиц от Ямбурга до Лигова, о Варфоломеевской ночи в Петрограде, о походе на Москву, навстречу Деникину, и, не стесняясь, издевались над эстонской «картофельной республикой», в столице которой они сколачивали Северо-Западную армию, армию без тыла.
Ульрих пил много, как никогда раньше, быстро хмелел и, ослабевший, валялся в номере гостиницы, где он ютился втроем с товарищами по роте.
13 мая во главе разведчиков он участвовал в первом ударе, который внезапно наносил красным корпус Родзянки. Его отряд сбил заставу 167-го стрелкового полка красных и овладел переправой через реку Плюсу. Отряды Палена и Балаховича сбили не ожидавшие нападения заставы 53-го и 163-го полков.
Фронт на Нарове был прорван.
Все дальнейшие события подтверждали прогноз Бугоровского и штаба Родзянки. Руководимое зиновьевскими и троцкистскими ставленниками командование красных позволило офицерским отрядам разбить по частям оборону междуречья. Овладев междуречьем, этой природной крепостью, высаживая под прикрытием английской эскадры десанты в тылу красных, поддержанные на левом фланге войсками эстонского диктатора генерала Лайдонера, белые устремились к фортам Кронштадта и к Пскову.
Разведка приносила сведения о том, что Зиновьев, внося панику в ряды защитников Петрограда, отдал приказ эвакуировать город, колыбель революции…
Леонид Иванович Живаго еще с юношеских лет любил белые ночи. Особенно хороши они на набережных Невы. Затихшая стальная вода сливается с прозрачной глубиной неба. Гигантские дуги мостов, нанизанные на бечеву берегов ряды дворцов и невысоких особняков дремлют в голубовато-розовой северной дымке. Зеркальные окна глядят таинственно, не загораясь будничными огнями, словно хозяева богатых жилищ покоряются призрачности этих часов и не хотят ни читать, ни предаваться делу наживы, ни даже говорить. Покоренные красотой северного города, отвоеванного у суровой природы, они склоняются перед нею, и она им мстит, этим завоевателям, завораживая эти улицы, проспекты, каналы, погружая их в дремоту света, — не день и не ночь, не жизнь и не смерть, какое-то чувствующее небытие.
Сколько воспоминаний связано с этим городом, с этой рекой! Теперь он стал для него лабиринтом, полным опасностей. За каждым углом таится враг. В глазах иностранных «друзей» каждую минуту следует читать позорную снисходительность или замаскированную лукавую вражду. Эти квартиры — шахматная доска с грозными фигурами, не склонными к пощаде или шутке так же, как и он сам не собирается шутить. Он и его друзья. При мысли о них кривая усмешка искажает лицо. «От врагов мы, может быть, и избавимся, — подумал он. — Но какое небо избавит нас потом от друзей?»
Но сейчас без них нельзя ни шагу. Кто думает о слишком далеком будущем, тот рискует ничего не сделать сейчас.
Жизнь его долго шла крутым и бодрым подъемом. Потому слишком обидно чувствовать сейчас себя мелким винтиком, зависящим от упорно движущихся маховых колес и шестеренок. Медленно шагая по гранитам набережной, он вспоминал свой очередной разговор с этим фруктом из Кливленда. Это жирное ничтожество все чаще говорит с ним так, как говорят хозяева с батраками.
Леонид Иванович остановился у спуска к реке. Как низко припали к земле крепостные стены на том берегу. Легкий шпиль Петропавловки как будто колеблется в светлеющей дымке северной части горизонта. Не хочется идти в посольство. От одних хозяев к другим. Впрочем, в эти дни, когда гремят орудия белых на подступах к Кронштадту, не приходится размышлять. Но даже и в эти решающие дни кливлендский бык требует от него картин, фарфора, редких книг, в которых он не смыслит ни аза, хороших акций. Эти заокеанские друзья еще хуже англичан, требующих в первую очередь агентурных сведений и вербовки новых кадров для восстания в тылу у большевиков.
На пустынную набережную из Мошкова переулка вышел патруль. Живаго инстинктивно потрогал боковой карман, где было удостоверение личности, выданное посольством, и пошел навстречу трем военным с винтовками. Далекие выстрелы и разрывы тяжелых орудий говорили о значительности этой ночи, затаившей в себе события, разделившие людей этого города на два непримиримых лагеря.
— В посольство идете? — спросил начальник патруля. — Ну идите, идите, — и он отдал документ Живаго.
Какая-то нарочитость в этих простых словах насторожила Леонида Ивановича. От зашагал быстрее. В глубине Мошкова ему бросилась в глаза фигура часового, словно здесь был склад или цейхгауз. Вот и Троицкий мост. Инстинктивно он пошел прямо к памятнику Суворову. У низких дверей обширного здания двигались какие-то тени.
«Неужели посмели?» — подумал Живаго. Зубы его непроизвольно застучали в нервной спазме. Теперь он видел, что и у входа на Миллионную стояли часовые. Марсово было пустынно. Он вошел в четырехугольник гранитов памятника жертвам Революции. Из заднего кармана он вынул толстый пакет и хотел было зарыть его в рыхлой земле цветника, остановился, подумал и, оглядев поле у истоков Садовой, быстро зашагал дальше. На углу Инженерной он предъявил документы другого иностранного консульства. Почти тут же его задержал большой отряд, в котором военные были смешаны с рабочими и даже вооруженными женщинами. Им он показал удостоверение, выданное инструктору клубного отдела Политуправления Петроградского военного округа.
— Вы что же, артист? — спросил его матрос-подводник.
— Я фотограф, — ответил Живаго. — У нас кружки любителей фотографии.
— Ну-ну, дело неплохое, — согласился матрос.
У ворот консульства спокойно сидел на табурете человек с усами необычайной длины, бывший чиновник удельного ведомства.
— Как у нас, в порядке? — спросил Живаго.
— А разве что?.. — обеспокоился сторож.
— По другим ищут…
— К нам не пойдут — тут друзья… Хотите поспать? Я до утра.
«Друзья! — думал Живаго, подымаясь по черной лестнице. — Сейчас схватили за ногу, возьмут и за глотку». Он постоял, не входя в комнату швейцара, повернулся и вновь вышел на улицу.
«Если посмели там, посмеют и здесь», — решил он про себя.
— Я лучше к Георгию, — сказал он сторожу. — В такую ночь там спокойнее.
Георгий — это была личность, знакомая всему Петрограду. Бывший гвардейский офицер, правда военного времени, сын и племянник крупных бакинских нефтяников какими-то особыми поворотами судьбы оказался членом партии большевиков, комендантом одного из центральных районов города. Высокий, стройный, легкий, словно созданный для формы черного или царскосельского гусара, он держался со всеми людьми веселым простофилей, душой-парнем, отзывчивым, гостеприимным, необидчивым, бабником, забулдыгой. Он располагал в районе тремя огромными квартирами в лучших домах, набитыми стильной мебелью, картинами, гигантскими коврами, фарфором и прочим добром. Говорили, что одна из этих квартир принадлежала его отцу, другая дяде и третья, поменьше, ему самому. Самая большая посещалась всеми застрявшими в городе и вечно сновавшими между севером и югом южанами с ловкостью, заставлявшей предполагать у них наличие шапок-невидимок.
Все эти обстоятельства казались если не таинственными, то подозрительными, но при столкновении с Георгием всякий начисто отказывался заподозрить в этом простодушном парне человека ловкого и себе на уме. Он был вхож во все учреждения и институты города, вплоть до Смольного. Появлялся без дела, ни у кого ничего не просил и всем готов был услужить.
Когда Живаго в три часа ночи постучал в квартиру Георгия, ему сейчас же открыла дверь старуха армянка. Георгий где-то «на операции», а товарищ может зайти. Там только свои. Он может лечь спать в кабинете. Из большой столовой доносились голоса. Гортанный, чужой язык. Попадались знакомые слова: Смольный. Америка…
Живаго прошел в кабинет — нарядную комнату в виде большого толстого Г — и лег на огромный угловой диван, над которым склонилась высокая, почти до потолка, лампа. Под ее абажуром могли спрятаться четыре человека. Леонид Иванович накрыл лицо шитой бисером подушечкой и подумал, как выгодно иногда замечтаться в белую ночь…
Ксения шла с отрядом Выборгского райкома. Эта белая ночь напоминала ей чем-то довоенные пасхальные ночи, когда старушки шли к Сампсонию с куличами и яйцами в белых платочках, со свечами, которые следовало зажечь после полуночи. Маленькой девочке казалось, что ночные улицы с толпами пешеходов, заполнившими тротуары и мостовую, похожи на рисунок из сказки и затаили в себе возможность необычного, предчувствие чуда. Став взрослой, она вспоминала об этих ночах как о наивной, детской игре в таинственное, которой бабушки, тетки, соседки отдавались со всей силой неугасаемо жившей в них надежды.
Ксения знала, что есть приказ об обыске в буржуазных кварталах города, для чего мобилизованы все коммунисты и комсомольцы, не ушедшие на фронт, что всем идущим на обыск предложено взять с собой оружие, что на мостах стоит охрана, проверяющая документы, что над Финским заливом идет артиллерийская дуэль между фортами и кораблями Балтфлота. Но какая именно роль предстоит ей и ее отряду, она не знала, как не знала и подробностей положения на фронте. Степан летал теперь почти ежедневно в разведку к финским берегам, к Биорке, где крейсировала английская эскадра. Отсутствовали и братья Ветровы. В райкоме весь день царило оживление. Отец запер свой кабинет на ключ, взял винтовку и пошел во главе отряда с особым заданием.
У величественной арки сената отряд Ксении встретил коменданта района. Он был на велосипеде с зажженным фонарем, хотя на улице было почти светло. Его попытки быть серьезным могли развеселить камни, а остроты возмутить глупостью самого равнодушного человека. Он наклонялся к самому лицу Ксении, сверкая белыми хищными зубами, и при этом звонил зачем-то резким, мелко дребезжащим велосипедным звонком.
— Чего он дурака валяет? — громко спросил молодой рабочий с «Розенкранца».
Но это нисколько не смутило Георгия. Он шел во главе отряда, положив руку на седло велосипеда.
Придя на указанное комендантом место, отрядники окружили пикетами целый квартал и дом за домом обходили с обыском. Сперва неумело, смущаясь, теряясь в выборе квартир и плане поисков, потом все увереннее и успешнее, они на ходу вырабатывали однообразный подход к делу. В каждом доме были коммунисты, их семьи, сочувствующие. В дворницкой с их помощью намечались наиболее подозрительные квартиры, где обыск проводили планомерно и настойчиво. Не прошло и двух часов, как Ксения и ее товарищи убедились на деле, как необходим был этот обыск аристократических и буржуазных кварталов.
Револьверы, винтовки, патроны, даже гранаты были припрятаны иногда неловко, наивно, иногда хитро и находчиво, но самая манера упрятывания и маскировки показывала, что это было не случайное, завалявшееся, попавшее в квартиру в годы войны оружие, но сознательно приобретенное и спрятанное до нужного дня с нарочитой целью и заранее обдуманным умыслом.
В одном из дровяных сараев большого углового дома, под грудой мусора, под рогожами, какие служат для обивки дверей, найден был пулемет в полной исправности, даже со свежей смазкой. Нашлись и патроны к нему. Они были найдены в ящике под старыми книгами на бельевом чердаке, принадлежавшем трем квартирам. Невозможно было определить, кто именно хотел превратить этот дом в очаг мятежа и смерти, но ядовитый зуб квартала был вырван.
В небольшой квартирке обитала одинокая пожилая женщина, вдова убитого при штурме Ново-Георгиевска офицера. Она работала сестрой милосердия в большой больнице. В нижнем ящике безобидного комода, на крышке которого шествовали по кружеву семь слоников счастья, стремившихся к голубой бездне зеркала в серебряной раме, были найдены двадцать два револьвера и пистолета разных систем с патронами. На вопрос — откуда такое обилие? — сестра сказала, что муж ее коллекционировал оружие. Но на вопрос, почему она не сдала его, несмотря на строгий приказ и неоднократные предупреждения, ей нечего было ответить. Она замкнулась в озлобленном молчании, и, когда ее уводили, глаза этой «милосердной» женщины красноречиво говорили, что она хорошо знает, кто, когда и зачем собрал эти «безделушки» в невинном вдовьем комоде.
Когда подошла очередь роскошного дома Бугоровского, Ксения сказала:
— Ну, здесь я могу быть проводником.
Тщательно была обыскана комната Изаксона. Здесь не было оружия, но была изъята обширная переписка, блокноты с адресами, телефонами, письма в конвертах заграничного происхождения, подозрительные брошюры на разных языках.
В квартире Демьяновых обыск встретили горделивым презрением.
— Пожалуйста, ищите, — промолвила свысока Анастасия Григорьевна. — Здесь женщина и дети…
Каково же было ее изумление, когда ее пригласили посмотреть на не скрывшуюся от зоркого глаза Ксении тайную комнату-кладовую Петра. Фотографии бесстыдно красовались на стенах, на ящике стеклографа лежала свежая стопка каких-то размножаемых Петром стихов, здесь же был найден старинный, заржавленный смит-и-вессон с патронами, финский нож и фехтовальная рапира.
— Это что же? — спросила Анастасия Григорьевна.
И по лицу ее можно было понять, что видит все это она впервые.
— Мама, — пренебрежительно сказала Маргарита. — Петру нет еще восемнадцати. Это мальчишеские шалости.
— И это шалости? — спросил пожилой рабочий, поднимая револьвер.
— Я не понимаю, что это такое, — одновременно пренебрежительно и испуганно сказала Анастасия Григорьевна.
— Ладно. Акт мы составим, а там разберутся.
Во дворе стройным рядком за номерами прислонились к высокому брандмауеру дровяные сарайчики, крытые черепицей. Виктор Степанович не терпел центрального отопления.
— Это смерть для стильной мебели, — говорил он квартирантам, — это хорошо для квартир с рыночным убранством.
В раскрытом настежь крайнем сарайчике, среди щепы и опилок, было найдено много пустых обойм и металлических ящиков, в которых, видимо, еще недавно хранились патроны. Кто-то успел, может быть, только накануне, в дни, когда уже на Нарове и Плюсе гремели орудия, унести их в другое место. ЧК предстояло определить дальнейший путь боевых запасов этого маленького цейхгауза.
У одной из квартир большого дома со многими дворами комендант района остановился, поиграл французским ключом и дурашливо, как и все, что он говорил и делал, предложил:
— А вот и мой вигвам. Здесь живет и работает ваш покорный слуга в компании с работником Чека Базаньянцем. Закуски не обещаю, но бутылочку выдержанного вина — гордости Армении — могу предложить.
— Нет, нет, — строго сказала Ксения. — Не дурите, товарищ. Пошли дальше.
Так ускользнул от обыска и опроса Леонид Иванович Живаго — у него в заднем кармане брюк были списки, адреса и телефоны, которые должны были стать частью плана заговорщиков на ближайшие дни. Он заснул главарем разветвленного заговора, проснулся атаманом без шайки и оружия. Это стало ему ясно в первые же часы нового дня. Исчез даже мистер Тенси. Участие его в событиях этих дней было исключено. Но паук настойчиво начал ткать новую паутину. Не было Тенси — оставался битюг из Кливленда, продолжавший спокойно закупать четвертую тысячу Рембрандтов для просвещенных меценатов Чикаго и Нью-Йорка. Новые ниточки потянулись от консульства дружественной державы. Ядовитая головка осталась, членики паразита продолжали нарастать.
Усталые, измученные, но довольные успехом, участники обыска собрались в райкоме.
— Молодец, дочка! — сказал Федор Черных. — А мой трофей ты видела? Пушку нашли в румынском посольстве. В каретном сарае.
— Ну, а посольских? Отпустили?
— Отвели в более спокойное место.
— Имейте в виду, — сказал Федор собравшимся в его кабинете товарищам, — по предварительным данным, мы в эту ночь, проведя массовые обыски по мудрому приказу партии, изъяли оружие в количестве, почти равном вооружению корпуса Родзянки, и арестовали многих, если не всех, главарей подготовляемого мятежа. Какой страшный удар нанесен врагу! Спутаны его планы. Сколько рабочих жизней спасено! Наши бойцы на фронте могут не опасаться теперь удара в спину.
Глава XIII УЛЬТИМАТУМ
— Штаб полка свернулся. А в окопах перед нами, почитай, никого нет.
Разведчик Форсунов приставил к стене карабин и вытер пот рукавом. Его широкое в скулах рябое лицо обнаруживало неподдельную тревогу.
— Чего треплешься? — сердито спросил Алексей.
— Не треплемся, товарищ комиссар. У них пулеметная команда. И, говорят, слева никого нет…
— Ты кого видел? — спросил Алексей и, не дождавшись ответа, приказал: — Катай на передки: запрягать!
— Давно запряжены, — объявил Синьков. — Вот что, военком, я думаю, на походе придется держать позади цепь разведчиков с пулеметом. Если тридцать шестой оторвался, то тыл и фланг у нас открыт. Это ясно.
— Я в штаб, — поднялся комиссар.
— Где ты его найдешь?
— На шоссе где-нибудь…
— Смотри не влипни.
Это было чрезвычайно рискованно — оставить батарею в такой момент, но у Алексея в кармане лежала полевая записка, призывавшая его в Особый отдел штаба группы, которая вместе с письмами от Ветровых, Альфреда, Порослева и Веры, согласным хором требовавших от него осторожности, сбивала его с толку, и ему казалось, что, не повидав товарищей из штаба, он будет дезориентирован, лишен уверенности во всех своих действиях и подвергнет часть еще большему риску.
Во всех письмах говорилось о Синькове. Это ему предлагалось не доверять, за ним следить. Это он вдруг стал угрозой, заставившей всех петроградских друзей Алексея написать ему одновременно. Оставалось предположить, что петроградская ЧК раскрыла в деятельности Синькова или, может быть, в его прошлом такие вещи, какие несовместимы со званием командира красноармейской части. Разумеется, и вызов в штаб связан не только с осложнившейся обстановкой, но и с вопросом о Синькове. В Особом отделе он получил бы разгадку этих предостережений. Неясное предупреждение друзей вылилось бы в точную директиву командования.
Когда впервые он увидел Синькова и Воробьева инструкторами Красной Армии, он готов был кричать, как человек, заметивший забравшихся в жилой дом воров. Понадобились многие увещевания Альфреда и Порослева, которые доказали ему, что специалисты нужны сейчас Красной Армии, что в массе они оправдывают доверие революционного командования. Тогда неприязнь перешла в ледяное, напряженное, выжидательное отношение. Понадобились необычайные служебные и боевые успехи Синькова, чтобы лед этот начал таять. Он уходил, как уходят снежные покровы полей и рек медленной, недружной весной. Отдавая должное заслугам Синькова, Алексей глушил в себе чувство ревности. Но разве мог он сказать, что оно ушло бесследно? На походах Синьков все чаще заговаривал с ним как человек, присматривающийся к обстановке. Какие-то сомнения расшатывали его офицерско-дворянское упорство. Алексей уже не в первый раз наблюдал действие эпохи на самые твердые души. Он был доволен победой близких ему людей над таким неподатливым врагом. Он был рад победе над собственными, как ему начинало казаться, предубеждениями.
Что бы ни заставило петроградских товарищей насторожиться — они не могли знать о последних переменах в настроениях Синькова. Он втянулся в боевую жизнь, и если даже он пришел на фронт с недобрыми намерениями, то, может быть, теперь готов серьезно пересмотреть свои взгляды.
Во что бы то ни стало следовало побывать в штабе!
Отдельно от писем друзей воспринималось письмо Веры. Оно полно было женской тревожной заботы. Требование об осторожности не выходило за круг естественных мыслей жены и подруги. Но она просила его отнестись серьезно к письмам Альфреда и Ветровых — следовательно, она знала об этих письмах. И было в этом письме нечто новое, что накладывало на все события свой неизгладимый отпечаток, как сумерки накидывают на горы и реки свою сизую вуаль. Это письмо спутывало для Алексея все его, казалось бы, ясные мысли.
Вера писала:
«…Да убережет тебя судьба от человеческой злобы! И подумай только, как тяжело было бы мне узнать, что тебе нанесен вред из-за меня. Я не хотела тебе этого говорить, потому что для меня самой — все это прошлое, забытое и ненужное, то лишнее, что хотелось бы вытолкнуть и из воспоминаний. Аркадий… Я не знаю, как говорить с тобою об этом. Я всегда его не любила, но он заставил себя возненавидеть. Я боюсь, что он может оказаться злым и мстительным. Я была бы счастлива, если бы вы не были вместе…»
Стоило вспомнить эти строки, прочтенные в седле, и со всей силой поднимались в сердце Алексея прежние мысли. Они захватывали и соблазняли своей определенностью и жаром. В их свете многое становилось понятно. Но странно, эти размышления неизменно отводили совсем в другую сторону. Значит, вся неприязнь, какую он замечал со стороны Синькова еще на Крюковом канале, была вызвана не столько политической обстановкой, как он думал, сколько ревностью.
Личные мотивы во все времена только усиливали, обостряли политические и деловые страсти, но в эту эпоху щеголяли пренебрежением ко всему личному, и в Алексее был силен дух этого превознесения общественного над личным. Он витал над райкомами, над лекционными залами, над казармами и библиотеками. Не снижая остроты личных настроений, он опять толкал Алексея к мысли о совершающейся перестройке Синькова, о ценности этого человека как командира.
К тому же кому мог он при этих условиях доверить проверку донесения разведчика, слишком серьезного, чтобы отвергать его целиком, слишком опасного, чтоб можно было сразу принять его на веру?
— Ты понимаешь, — отозвал его в сторону Синьков, — если это верно, то путь на восток для нас закрыт. Оттуда надо ждать всяких неприятностей, а на север — это означает фланговый марш около ста километров по единственному годному для артиллерии пути, среди болот.
— Я вернусь быстро или пришлю разведчика, — буркнул Алексей, глядя в сторону, — а вы двигайтесь на север не спеша.
Синьков заметил тревогу комиссара, он был еще слишком молод, чтобы отказать себе в удовольствии, в противовес этой тревоге, подчеркнуть свою выдержку и самообладание.
Алексей ускакал, предупредив Каспарова о необходимости величайшей осторожности.
Батареи вытягивались на шоссе. Крестьяне стояли у канавы редким рядом, смотрели вслед отъезжавшим ящикам и фурманкам. Кони выносили гаубицы через дренаж по набросанным жердям и переходили в тяжелый размеренный шаг. Шоссе приобретало голоса. Скрип телег, стук кованых колес, человечья перебранка. Впереди и позади батареи шли отдельные двуколки каких-то связистов и обозные телеги с красноармейцами или с мобилизованными крестьянами на облучке.
Уже обоз выбрался на шоссе, а Синьков все еще рассматривал карту вместе с командирами батарей. Красными крестами шел фронт, отмеченный по вчерашней сводке. Кресты пересекали шоссе у деревни Тригор, мягко сворачивали к северу и дальше шли в десяти — двадцати километрах к западу от шоссе, которое пересекало здесь большое болото, белой пустошью светлевшее на карте.
— Девяносто километров нам нужно проскочить, как в шапке-невидимке, — сказал, вставая и укладывая карту в сумку, Синьков. — Это номер! А если фронт уже сдвинулся, тогда извините…
— Послать сперва разведку? — предложил Сверчков.
— А самим ждать? Чего же можно дождаться?
— А свернуть с шоссе нельзя? — спросил Воробьев.
— В болото? — Синьков криво улыбнулся.
— На что же ты рассчитываешь, Аркадий? — спросил Воробьев.
Синьков широко шагал по халупе, укладывая в карманы и в сумку последние вещи.
— Идя по шоссе, мы обязательно наткнемся на наши пехотные части. Они все устремятся к шоссе. И за ними мы нырнем в тыл.
«Неизвестно только в чей», — подумал Воробьев и мысленно одобрил план Аркадия.
Шоссе режет деревушку на две неравные части и опять уходит в белеющий березками, темнеющий соснами и осинами лес. От болота тянет густой, жаркой струей прели.
Батарея тарахтит по избитому еще в годы войны шоссе. Позади и на западе, где должен быть фронт, лесное молчание. Оттого у всех тревога. Где он, этот фронт, если его больше не обозначает ружейная и пулеметная стрельба? Он может оказаться на любом участке шоссе. Может быть, где-нибудь впереди офицерский пулемет, спрятанный в канаве, уже подстерегает дивизион. Тогда — гроб. С гаубицами не нырнешь в зыбкий заболоченный лес.
Командир, против обыкновения, едет позади обоза, отдавая на ходу все новые приказания. Должно быть, схожие мысли бродят в голове командира и красноармейцев. Ездовые каждоминутно подстегивают лошадей.
— Федоров, возьми двоих разведчиков и поезжай впереди батареи. Держитесь в четырех-пяти километрах. В случае чего — гони назад. Смотреть зорко!
— Есть, товарищ командир! — кружит на месте Федоров. — Айдате, ребята!
Разведчики рысью уходят вперед.
— Правильное дело, — говорит ездовой телефонной двуколки, коммунист, бородач Иван Климов.
«Правильно», — думает Каспаров, шагая у первого орудия.
— Александр Павлович, проедьте по батареям, — предлагает Синьков Климчуку. — Опросите, у всех ли огнестрельное оружие в порядке. Номера, чего доброго, и стрелять-то не умеют. А мы пехотные учения не проводили. Прозевали…
«Правильно, — опять думает Каспаров. — Но только не всем нужно бы давать это оружие. И мы прозевали».
Телефонист Панов на ходу тянет за рукав Холмушина.
Холмушин, мелкий и юркий, шел, размышляя про сапоги. Шагать девяносто километров, а подметка уже сейчас не держится. У каптера в мешке пар двадцать английских крепких ботинок. Беспартийному уже дали бы новые, а партийцу и просить неловко.
— Ты что? — спросил он, оборачиваясь к Панову. И так напористы были мысли о сапогах, что не заметил напряженного взгляда товарища. — У тебя еще совсем хорошие.
— Чего? — осекся Панов.
— Сапоги, говорю, хорошие. А вот, гляди…
Грязная портянка подметала пыль.
— Тут и в сапогах, понимаешь… уйдем ли? Командир разведчиков услал вперед, и Алешка, комиссар, ускакал.
— Занозисто, — перестал думать о сапогах Холмушин.
— А енти, Савченко и Коротковы… в нужник вчера ходили разом, час сидели. Несварение, говорят. И теперь по батарее бегают, шушукаются.
— Крутют.
— Кабы чего не выкрутили.
— Коротковых деревня близко. Останемся, говорят, а вам, дорогие товарищи, досвиданьечко. Повуевали и хватит. Леволюционный солдат за свое, говорят, должен воевать, а не за чужое.
— Вот сука! Его ж белые повесят.
— До того не дошел. Темнота!
Холмушин больше не думает о сапогах. Он думает о белых, о нависшей над ним угрозе, еще о том, зачем это он вступил в коллектив. Ему одиноко и не с кем поделиться мыслями.
Савченко забрался на каптерский воз и балагурит.
— Мировая революция как настанет, всех командиров по шапке. Какой такой ты есть командёр? Головой в болото!
— А ежели красный командир? — поддразнивал Груздев.
— Охрой зады вымажем, для отличия.
— А белым?
— А белых на березки…
— Ты один командиром останешься…
Савченко заложил палец в рот, хулигански свистнул, потом сотворил звук, как будто раскупорил бутылку.
— За нами поспешай, товарищ, не прозеваешь. Скоро всю эту шуру-муру к козьей бабушке! А житье будет наилучшее.
— А когда скоро? — приставали красноармейцы.
— Может, завтра, может, послезавтра, а может, и в чистый четверг…
Позади на шоссе нарастал быстрый цокот копыт.
Шапка у Алексея держится на ремешке, кудри отяжелели от пота. Разведчик в тридцати саженях — не поспевает. У лошадей удила в пене, крупы черные от пота.
Комиссар задержал коня и поехал рядом с командиром.
— Нашел штаб?
— Штаб полка у хутора Пенкина. Насобирали человек семьдесят. Два пулемета. Пойдут на восток лесной дорогой.
— А на шоссе никого?
— Местами еще держатся, но уходить надо что силы. В два дня уйти бы.
— Не выйдет. Коням не выдержать. Пятьдесят километров в сутки…
— Все-таки шоссе.
— Все равно.
— Подпряжем верховых на смену… командирских… Весь фураж стравим. Обоз, в случае чего, бросим. Надо уйти.
Синькову неприятно слушать. Такие решительные меры должны исходить только от него, опытнейшего командира.
Форсунов, ездивший с Алексеем, догнал старшину.
— Далеко ездили, что ли? Кони употели.
Форсунову чрезвычайно хочется изложить все новости, но он еще не знает, как начать, чтобы вышло пофорсистее.
— Ну чё там, говори, — махнул старшина нагайкой через плечо.
Форсунов сперва вынул кисет и, положив повод на луку седла, обеими руками принялся крутить.
— Рига тю-тю, и Петроград — поминай как звали!
— Да что ты? — побелел и опустился в седле старшина. — Чье же это дело?
— Белый, говорят, с англичанином. Наши от Риги побежали, да прямо в Петроград, а он за ними на аэропланах да на миноносцах, а командиры, которые из офицеров, с ими. И уже, говорят, Путиловский горит.
Старшина обернулся — не слушает ли кто, и спросил недоверчиво:
— А может, тебе кто прокламацию считал?
— В штабе, со станции приехали. Хотели на Псков железной дорогой, а их завернули. Нет на Псков движения. Поезда обратно на Россию идут. Вот тебе и прокламация! — обидчиво закончил Форсунов. Источники у него были самые первые.
— Ты, парень, все же прикуси язык, — посоветовал старшина и немедленно на ухо сообщил все это Игнату Короткову.
Игнат велел Сереге сложить все вещи в мешок и переобуть домашние, крепкие сапоги. Потом он сел за кустом, будто по нужде, и вышел на дорогу, когда во главе второй батареи показался Воробьев.
— Ну, ваше благородие, дошли мы, кажись, до ручки…
Воробьев пересел в седле на бок и постарался отъехать от разведчиков.
— А что такое, Игнат Степанович?
— Говорят, Путиловский горит и наши побежали из Риги прямо в Петроград, а англичане на аэропланах за ними…
— Чепуха какая! Кто вам наболтал, Игнат Степанович? Как это из Риги в Петроград?
— Люди со станции вернулись. На Псков движения нет, — обидчиво заметил Коротков.
— Ну, это другое дело. Псков могли занять эстонцы. Но откуда же могли взяться англичане?
— Да уж кто там кого, не знаю. А только, видно, комиссарам будет крышка.
Он вытер усы и посмотрел на командира. Но лицо Воробьева не выдало внезапно забурлившей радости.
— Не знаю, Игнат Степанович, не знаю, но если что случилось — узнаем.
— Ну, а ежели нас с этого болота и не выпустят? Энто ведь как Осовец-крепость — поставил пулемет, и ни входа, ни выхода.
Воробьев, закуривая, задержал лошадь. Так можно было не отвечать Короткову. Разведчики балагурили, но в то же время внимательно слушали, о чем беседует командир с бывшим каптенармусом.
Серега Коротков, получив указания брата, сделал свои выводы и таинственно порекомендовал быть наготове Савченке и Фертову. Форсунов, снедаемый гордостью, сделал исключение для своих земляков. Он отпустил им несколько многозначительных реплик, жестко настаивая при этом на тайне. Когда батарея подходила к месту намеченного привала, люди шушукались всюду. Пущенный слух обогащался новыми подробностями. Сделав круг, он вернулся к первоисточнику, и все привнесенное воспринималось воспаленной фантазией Форсунова и Коротковых как что-то такое, чего они еще сами не знали. Теперь уже, не стесняясь, они рассказывали всем, не отказываясь ни от одной изобретенной передаточными инстанциями подробности.
Когда командиры сели вокруг поставленного на молодой, кудрявой траве самовара, Синьков спросил недовольным, почти негодующим тоном:
— Что же это, военком? Командиры будут узнавать новости от красноармейцев?
Штаб полка уходил поспешно под прикрытием сводной роты. Новости сообщил Алексею начальник связи. Не было никакой возможности снестись со штабом группы. Создавалась чрезвычайно сложная обстановка, и Алексей решил скрыть все услышанное им на два-три дня трудного и нервного перехода. Он упустил из виду, что Форсунов мог получить сведения от штабных ординарцев самостоятельно.
— А что, уже треплются?
— То, что рассказывают, настолько серьезно, что вряд ли это подходящее слово, — заметил Сверчков.
— И вы уже слышали? — спокойно прихлебывая суп, спросил Алексей.
— Все ездовые знают…
Сверчков негодовал. Такое равнодушие можно объяснить только тупостью.
— Путиловский горит… Какие-то англичане…
— Какой Путиловский? — вскипел в свою очередь Алексей. Он сразу перестал есть. — Кто наболтал? А ну-ка, кликни сюда Форсунова.
Форсунов, видя комиссара разгневанным, испуганно и озабоченно подтвердил только первую версию.
— Ладно, — отпустил его Алексей. — Не хотел я рассказывать. И без того тут… Белые взяли Ригу. Английский флот помог. Какой-то Ульманис. Агроном, что ли. А потом командир Лужского кавалерийского полка Булак-Балахович перешел к белым. Открыл фронт. Белоэстонцы воспользовались и захватили Псков. Вот и все. — Он взял ложку и принялся за суп.
— Достаточно! — сказал Сверчков.
— А Петроград — это что ж, утка? — спросил Воробьев.
— Это — проценты, — засмеялся Алексей. — Еще и не то выдумают.
Вечер застал батарею у лесной сторожки. Густая пахучая чаща почти не пропускала солнца на узкую полянку, отвоеванную топором и лопатой у болота, сосен и кустов. Жидкий заборчик начинался у строения и, не добежав до противоположного конца заимки, бессильно упал, уткнув в землю последнюю, так и не укрепленную жердь. Мох, густо пошедший по тесовой крыше вследствие вечной тени, казалось, хотел загримировать эту двухоконную избушку, слив ее с густым и низким навесом ельника. К задней стене сруба прикинулись ветхие пристройки. Все это напоминало своей заброшенностью, тихостью и прямыми линиями железнодорожную сторожку, и вместо колеи грязного проселка хотелось увидеть бегущие мимо рельсы.
Это был неприветливый ночлег. В лесу и на поляне было сыро. После сравнительно теплого дня опускался холодный и ветреный северный вечер. Люди ходили подняв воротники и надвинув фуражки на глаза. В единственной комнате в чистом углу прямо на полу поместились командиры. Пять девочек, должно быть, погодков, обсасывая грязные пальцы и задирая подолы платьиц, с неустанным любопытством рассматривали гостей. Хозяйка, черная плоская женщина, — должно быть, не успевшая оглянуться, как молодость отступила от нее, многократной матери и единственной работницы, — держалась в тени, неохотно отвечала на праздные расспросы и глядела на все с тупой, нежаркой ненавистью бессилия.
Она приняла из рук комиссара и, не поблагодарив, разделила между детьми полкаравая солдатского хлеба. Из двух фаянсовых кружек, подставляя их по очереди, дети пили малиновый чай, заваренный Каспаровым. Алексей часто выходил на порог, вслушивался в ветреный шум леса и, входя, опять видел провожающие его сухим блеском глаза женщины и тихую шепотливую возню девочек.
«Вот за таких мы боремся», — повторял он про себя одну назойливую фразу. Но не изба Федора Черных вспоминалась при этом Алексею. Впечатления его позднейшей жизни принизили и как бы отмели в угол памяти и деревенскую хату, и материнскую скудную стряпню, и отцовские вздохи, и собственные игры у печки под ногами у взрослых. За этой фразой стоял гул разговорившегося моря — вселенской деревни, которую внесли в его сознание личный опыт и партийная учеба. До Тихого океана можно было шагать от семьи к семье с одной постелью, с двумя кружками на шесть ртов и с никогда не пресыщающимися желудками. Услышанное и увиденное слилось для Алексея в одно целое. Вся его молодость и сила метнулись в эту сторону. Яркая кисть партийной пропаганды работала в этой душе с чудодейственной мощью. Одна фраза как боевой сигнал могла вздыбить эту горячую натуру, а социальные чувства клокотали в нем предупреждающе и уверенно, как разведенные пары в котлах подготовленного к рейсу парохода.
— А где твой муж, хозяйка? — спросил он с той ободряюще веселой приветливостью, которую удобно пустить в ход, когда не знаешь, каков будет ответ.
Хозяйка подняла и слабо опустила руку:
— Не знаю…
Меньшая девочка, продолжая смотреть на Алексея, прислонилась к коленям матери.
— Он у белых или у красных? — неожиданно спросил Крамарев.
Глаза женщины зажглись и угасли.
— А черт его знает. Третий год, как нет…
Оттолкнув девочку, мать удалилась в темный угол.
Отгороженная работой, лесом, заботой о детях от всей жизни, она ненавидела события, ворвавшиеся в их и без того тяжелую борьбу с болотом. Она ненавидела их, не спрашивая их паспортов и программ действий. Белые и красные проходили мимо ее заимки и в суматохе не пытались привлечь ее на свою сторону. При любом исходе событий она должна была получить свое не сразу, а только в результате решительного поворота колеса истории.
«Вот за таких мы боремся», — еще раз повторил про себя Алексей и вместе с Каспаровым пошел к коновязям.
Четырехчасовой отдых не был использован красноармейцами на сон. Люди были слишком возбуждены неясными и противоречивыми новостями. У придорожных канав, на песчаных бугорках горели костры. Птицы испуганно кричали, налетая на огонь и дым. На срубленных тесаками еловых ветвях и просто на шинелях сидели собеседники, не удаляясь от упряжек и телег. Говорили негромко, и, может быть, это больше всего другого показывало, как неспокойно на душе у этих людей, которые затерялись в лесу, не зная, не расставлена ли уже им ловушка и не походят ли они на крысу, просунувшую голову в проволочную петлю.
Когда Каспаров и комиссар вышли, Воробьев под столом нажал ногу Синькова и тоже вышел во двор. Он долго раскуривал у забора папиросу и двинулся дальше, только убедившись, что Аркадий следует за ним.
Они обменялись короткими фразами. Воробьеву казалось — все идет быстрыми шагами к естественному и законному концу. Красных жмут со всех сторон: с юга, с востока, с запада… Словом, момент удачный, медлить больше нечего. Все прежние аргументы Синькова отпадают. Солдаты возбуждены. Некоторые возмущены продразверсткой, другие боятся прихода врага в деревни, где остались их семьи. Увлечь массу, склонить ее на переход к белым, которые скоро займут их родные места. Если теперь не удастся, то когда же?
Поверхностное спокойствие Воробьева не могло обмануть Синькова. Он чувствовал, что на этот раз сдержанность продиктована намерением ничем не скомпрометировать тот ультиматум, который уже готов сорваться с губ товарища.
Но чем дольше пловец отдается течению несущих его вод, тем больше усваивает он их инерцию и тем труднее ему становится бросить свое тело в противоборство волнам.
Синьков слишком умело и слишком искрение отдался сложной и увлекательной деятельности боевого командира. Он не только произносил лозунги большевиков. Он стрелял по позициям белых. Боясь совершить невольную и предательскую ошибку, он старался хотя бы искусственно проникнуться настроениями красных, он как бы уступал часть своей мозговой деятельности врагу — как раз тем творческим усилием, которое дает актеру возможность со всей кажущейся искренностью играть роль предателя Яго, ревнивца Отелло или скупца Шейлока.
Сожительство таких внутренних противоположностей не проходит даром для обеих сторон. Повседневные заботы в атмосфере соревнования на виду у красноармейцев имели для Синькова свою инерцию. В его сознании они прокладывали свое русло в будущее. Успехи и слава, сопровождавшие его деятельность, были слишком похожи на военные успехи и славу вообще. Иногда эта мысль заряжала его фантазию. Перейдя всем своим существом к красным, он — блестящий боевой офицер — мог бы стать полководцем революции, мот бы выдвинуться с большей легкостью, чем во всякое другое время и при всяких других обстоятельствах. Он прекрасно понимал, что для этого мало будет принять позу и закрепить маску. Для этого нужно будет взять у красных не только их лозунги, но и их веру. А так ли уж это невозможно?! Испуганно, как бы украдкой от себя, он прикидывал и такую возможность. Так индивидуально честнейший юноша, мечтая о богатстве, переживает навеянные бульварной литературой возможности одного-единственного — впоследствии, разумеется, искупаемого — преступления. Так девушка, боящаяся чужого прикосновения и даже взора, думает о единственной, с исключительным блеском проданной ласке. Когда он прыгнул в ледяную воду, чтобы спасти орудия, он совершил героический поступок, вызванный гордостью командира, и вместе с тем проверял себя. Тогда он впервые почувствовал, что место ненависти, по его собственному капризу, может заступить какое-то новое — спокойное, мужественное, но только лишенное теплоты и глубины — чувство. Он был соблазнен возможностью сознательно располагать собой, как располагают в игре кошельком или шахматными фигурами.
Эта двойственность ослабила его позиции в дивизионе. Силы, которые он копил для совершения перехода к белым, уменьшились. Пока красные наступали, Алексей прекрасно воспользовался передышкой. Постоянные заседания, летучие митинги, внушительные каспаровские беседы, убежденные и потому действующие сильнее, чем профессиональная эрудиция агитаторов, тысячи газет, книги, летучки — все это сколачивало людей в кулак, где все пальцы подчинены одному рефлективному центру.
До сих пор Синьков удачно оправдывал свою бездеятельность. Момент не подходил для энергичных действий. Поставленная им задача — войти в доверие к военкому и коллективу — слишком серьезна, чтобы рисковать. И, наконец, объективная неудача — они попали на второстепенный театр военных действий! Но если бы на месте прямого, немного наивного Воробьева был кто-нибудь более недоверчивый, — он уже разгадал бы эту гнильцу, которая завелась в сердце его товарища. Синьков понимал, что сегодня ему придется дать прямой и недвусмысленный ответ, и он оттягивал эту минуту в какой-то смутной надежде на то, что Воробьев сам поможет ему найти выход.
Сперва Воробьев счел, что Аркадий молчит, не освоившись еще с обступившей их темнотой и шумом нависающих над дорогой дерев. Но последний костер скрылся из виду, а Синьков еще не раскрыл рта, — он, с такой легкостью словесным потоком покорявший медлительного, вдумчивого Воробьева.
— Что же ты молчишь? Может быть, я неправ?
— Ты прав и неправ, Леонид.
Воробьев долго и терпеливо ждал, как раскроется эта классическая еще со времен софистов, может быть, прикрывающая какую-нибудь неожиданную мысль фраза.
— Возможно, что мы в ловушке, — медленно начал Синьков. — Следует почаще напоминать об этом. Следует подорвать конский состав и еще больше разложить массу. Наших сторонников гораздо меньше, чем можно было предполагать. Создается удобный момент безошибочно подсчитать наши реальные силы и попытаться разложить коллектив. Но ведь не исключена возможность, что мы пройдем по этому шоссе, как по Невскому. Ты слышишь — ни одного выстрела. А что, если на всем этом болоте нет ни одного неприятельского солдата? Куда в таком случае мы должны двинуться, захватив батарею? Как ты себе это представляешь?
— Но ведь так всегда было, так всегда будет.
— Неверно. Представь себе, что за нами пойдет партия белых. Что станет со всеми этими Савченками, Фертовыми, Холмушиными? Весь этот сброд заволнуется, как команда судна, наскочившего на мину. Впопыхах за нами кинется добрая половина людей. Коллектив будет охвачен паникой. Инициатива целиком будет в наших руках. Мы обезглавим партийную организацию — и через час будем по другую сторону фронта.
Как всегда, его аргументация в первую минуту казалась неотразимой Воробьеву. Они повернули в сторону бивуака. Завидев опять костры, Воробьев сказал:
— Значит, до первого выстрела?
— До первого выстрела на самом шоссе, — твердо повторил Синьков.
— Смотри, Аркадий, если и тогда ты не решишься, я за себя не отвечаю.
Глава XIV ОБЫЧНАЯ БЕСЕДА
Единственный петух прокричал свое кукареку, и часовому впервые показалось, что небо над восточной частью леса готово пропустить первые волны рассеянного света, еще только возвещающего близость зари. Был тот, самый неприятный для пробуждения час, когда ночь готовится к отступлению, но прерванный сон не вознаградит даже бодрая свежесть, которой лес и земля приветствуют восходящее солнце.
Выполняя приказ, часовой разбудил командира. Десятки дремлющих у деревьев людей решили, что движение согреет лучше, чем тощая, проношенная шинель, и шумно задвигались у дороги. Последним усилием ярче вспыхнули костры.
Каптенармус и фуражир еще раз обошли крошечную усадьбу. Они готовы были под землей искать корм для лошадей. В погребе они раскопали большую бочку жмыхов. Под их толстым слоем был скрыт чистый и крупный ячмень.
Резкий женский крик показал, что находка не осталась тайной для хозяйки.
Она метнулась прямо к Алексею. Цепкими пальцами она схватила его за рукав и, задыхаясь, выкрикивала:
— Ой, боже мой, ой, боже мой!
— Да в чем дело? — крикнул и Алексей, пытаясь снять ее руку.
— А кто ж пахать будет? Лошадь же сдохнет.
Одновременно она тянула его к погребу.
Пока фуражир докладывал о находке, она перебивала его гортанными, трескучими выкриками:
— Белые все обобрали. Хоть вы не берите. Не дам я, не дам! Чем лошадь кормить буду?..
Фуражир уже принес большие походные мешки. Командиры смотрели, столпившись у окна. Люди темнели в лицах от крика этой женщины, вопившей по-деревенски, во весь голос, как причитают на могиле, в темной щели которой еще виден деревянный ящик единственной и незабываемой формы.
— Веселовский! — крикнул Алексей. — Заплати ей, как за овес, и прибавь еще веса…
— На что мне твои деньги? Подохнем мы все! — взвыла женщина. — На, дави их всех сразу! — Она по очереди толкала заспанных, неодетых девчонок к Алексею, и, ударившись о его колени, дети сразу присоединяли свои голоса к плачу матери.
— Мы тебе хлеба оставим, — сказал Веселовский. — Можно ведь из нашего? — умоляюще посмотрел он на военкома. Его сочувствие этой женщине вдруг переключилось в сочувствие военкому, поставленному в такое трудное положение.
Можно, конечно… — Алексей говорил тихо. — А ячмень мы возьмем, у нас кони падают.
— Двоих тут бросаем — шкуры себе заберешь, — сказал женщине старшина.
— Подавись своим хле… — не докончила и задохнулась женщина.
Она ушла на нестойких, разъезжающихся ногах, словно под нею была не майская жирная земля, а ледяное укатанное поле.
«Вот за таких мы и воюем», — неотступно стояла в сознании Алексея вчерашняя фраза, и больше всякой возможной боли мучила его мысль, что эта женщина так и останется уверенной, что ее обобрали, лишили надежды на пахоту, на хлеб для пяти ее девочек… Но за пушки Республики он, военком, должен был отдать свою кровь и силу. И не только свою, но отдал бы и чужую. И бочка ячменя для битюгов, тащивших мортиры, была бы взята им при всех условиях.
Он отошел от фуражира и громко и резко закричал:
— Почему не запрягают?
В том, как расходились красноармейцы, военком почувствовал хорошо ему знакомое глухое и скрытое недовольство.
Для многих была близка родная деревня, и белые грозили оказаться хозяевами их баб и добра. Мужицкое сердце дыбилось в страшном сомнении.
Само собою получилось, что коммунисты стали держаться вместе. Хорошо владевший собою Каспаров повествовал о чем-то еще петербургском. Наводчик Пеночкин с высоты своего колокольного роста с улыбкой глядел на усевшегося на ящик Фертова. Он с удовольствием простым фамильярным жестом стянул бы его на дорогу, но Каспаров сказал, что не следует сейчас дразнить ребят.
Самый молодой из сочувствующих — Холмушин — не знал, как ему быть. Он плелся в хвосте группы коммунистов, потом закуривал у Савченки, небрежно бросившего ему кисет и коробок со спичками. В конце концов он устроился подле старшины, главы нейтральной группы малограмотных и бестемпераментных, но зажиточных ребят.
Синьков и Воробьев со всем усердием следили за происходящим. Пользуясь своим положением командиров, они задерживались, пропускали колонну мимо, опять догоняли, по пути заводили, казалось, безобидные, на самом деле, осторожно провокационные разговоры. Слух Воробьева был напряжен. Уже несколько раз казалось ему, что где-то в глубине леса зарождаются резкие металлические звуки и ветер вот-вот донесет эхо дальнего выстрела. Он то ехал впереди батареи, то, оставив коня ординарцу, шел в группе наиболее приятных ему красноармейцев из запасных, таких же, как он, молчаливых, роняющих между длительных пауз редкие, многозначительные фразы. Ни с кем из них ни разу у него не было до конца откровенного разговора, но по репликам, деревенским присказкам и словечкам он заключил, что они тяготятся мобилизацией и долгими походами, тянутся к семье и не любят требовательного комиссара. Ему казалось, что это достаточная гарантия того, что они не будут в решительный момент против него и Синькова, а то, чего доброго… Он не был ни интриганом, ни просто ловким человеком. В лучшем случае он мог подействовать на них своей решительностью. Иногда ему самому казалось, что, несмотря на чудовищную силу и мужество, которые он сознавал в себе, он беспомощен в этой игре, как цыпленок. Но он не хотел отступить перед сознанием собственной слабости. Такие, как Воробьев, могут показать примеры подлинного личного героизма, но никогда не ведут ни одного человека за собой.
Синьков был озабочен тем, чтобы в нужный момент не остаться одиноким. Невозможно было предусмотреть, как разыграются события, но весь его ум, вся хитрость были сейчас мобилизованы, чтобы наверстать упущенное и собрать вокруг Коротковых не только бузотеров Савченко, Фертова, Федорова — их в конце концов было слишком мало, — но и все шаткие элементы дивизиона. Собственно, время было упущено; дивизион был уже крепко сколоченной вокруг своего ядра частью, и это, в сущности, была уже непосильная задача. Но болотистый лес, нависшая угроза окружения, близость дома и, главное, чудовищные слухи — потрясли всю массу красноармейцев. Казалось, каждое дерево стало телеграфным столбом и под каждым кустом спрятался аппарат Юза. Оказалось, что многие «знали, да молчали». Другие «догадывались», — да «речь серебро, а молчание золото». Извлекались из вещевых мешков письма домашних. Намеки и жалобы в них получали новый смысл.
В батареях были режицкие и псковичи, чьи родные места оказались под непосредственным ударом белых. Одних это ожесточало, других бросало в пароксизм животного страха, былой рабской приниженности. Ведь «повинная голова» — это чуть ли не герб добродетели в крепостническо-мужицком фольклоре.
Синьков с удовлетворением подслушивал обрывки таких бесед. Они невольно возбуждали его, как первые успехи — игрока, и он утратил часть того трезвого взгляда на вещи, который усвоил за время формирования и за первые месяцы похода. Ему, как и Воробьеву, стали казаться союзниками все, кто когда-нибудь был против комиссара, кто роптал и мечтал о бегстве в родную деревню. Теперь эти люди казались ему такими же ненавистниками революции, каким был он сам.
Еще ничего, в сущности, не произошло в дивизионе, а он, возбужденный своим обещанием Воробьеву, уже воображал, что вся масса недовольна, что в нужный момент она бросится и сомнет партийную организацию. Он вспоминал стихийные солдатские движения послекорниловской эпохи, которые сразу кончали со всем офицерским авторитетом и со всей безгласностью нижних чинов. Эта сила возбужденной, наэлектризованной массы крепко засела в памяти офицера. Он, до того не мысливший ничего подобного, распространял теперь возможность и даже неизбежность таких взрывов на все случаи, где власть и ее носители противостояли массе. Классовая и политическая природа таких конфликтов была ему непонятна.
Он шепнул Короткову, чтобы тот осмотрел свой наган. Игнат, по собственной инициативе, посоветовал сделать то же Савченке, Фертову, Сереге и даже Федорову.
Было вполне естественно, что красноармейцы, которым грозит преследование противника, приводят в порядок личное оружие. Но Каспаров подметил и то, что этим особенно усердно занимаются люди, которые со вчерашнего дня вызывающе держат себя, которые и прежде составляли глухую оппозицию партийному руководству. Он прекрасно понимал, что невинное на первый взгляд бузотерство, если только оно питается классовым или групповым недовольством, может во мгновение ока перерасти в нечто серьезное и угрожающее. Но фланговый марш под угрозой преследования и окружения может продолжаться два, самое большее три дня. Поэтому не следует излишне раздражать людей.
С самым спокойным видом Каспаров переходил от группы к группе, крутил папиросы, смеялся, но, оставаясь наедине с коммунистами, двумя-тремя веско сказанными словами давал понять, что следует быть начеку.
В полдень шоссе пересекла проселочная дорога, которая также не годилась для артиллерии. Командиры быстро провели батареи мимо перекрестка. Но и пяти минут было достаточно, чтобы понять, что по проселку, бросая ломаные телеги, обозное имущество, обезноженных коней, только что бежало охвостье какой-то пехотной части. Отъехав сто шагов в сторону, Синьков нашел в канаве казенную фурманку со сломанным колесом. Полковая канцелярия и пустой денежный ящик были брошены ездовыми и охраной. Здесь же валялись два мешка овса, легкий пулемет и две ленты патронов. Старшина быстро припряг заводных коней, и фурманка на одном колесе и прилаженном бревне, как захромавший петух, поплелась в хвосте батарейного обоза. Всех, пытавшихся задержаться на перекрестке, Алексей резкими приказаниями посылал вперед, вслед за дивизионом. Он оставался здесь до тех пор, пока деревья не закрыли артиллерийскую колонну.
Для трех-четырех десятков пехотинцев, спешивших углубиться в лес по проселку, стройная артиллерийская часть, вероятно, показалась видением, и многие из них, успокоенные этим порядком, последовали за нею. Они сообщили Алексею, что полк их растаял в последних боях, а когда враг ударил во фланг и пошли слухи о падении Риги и Пскова, оставшиеся немногочисленные красноармейцы разбежались кто куда и только особый коммунистический отряд отстреливался где-то позади.
Первым побуждением Алексея было отправить их к этому отряду. Но разве не ясно было, что эти люди пойдут не на запад, а на восток и только увеличат число одиночек, пробивающихся сквозь топи и заросли? Лучше было оставить их при дивизионе. Привычные к ружейной перестрелке, они могли оказать существенную помощь в случае нападения слабого пикета или отряда белых. Он приказал выдать им хлеб и остатки супа.
Батарею отделяли от перекрестка три-четыре километра, когда раздались первые выстрелы в тылу. Это были близкие, отчетливые звуки. Они заставили подтянуться отставшие фурманки, и люди плотнее придвинулись к орудиям и запряжкам. Разговоры смолкли. Теперь все слушали. Неуловимый, обманчивый рисунок плели по лесу выстрелы. Они то приближались, то уходили на запад или на восток. Каждый воображал по-своему то, что происходило в нескольких километрах и могло огнем и смертью коснуться дивизиона.
Сверчков испытывал необыкновенное ощущение. Его лошадь с усталой медлительностью шагала по шоссе. Он уверенно сидел в привычном седле, но иногда вдруг начинал чувствовать присутствие сердца в груди, и тогда ему казалось, что вместе с лошадью он носится по воздуху на конце гигантского каната. Его злила эта разболтанность, которую он сознавал как-то сбоку, как бы наблюдая себя в зеркале. Он был убежден, что только он один знает о заговоре, и его легко возбуждающееся воображение подсказывало ему десятки трагических вариантов конца. Минуты и секунды проходили, и все меньше часов оставалось для колебаний и размышлений. Тесным становился воротник его шинели…
В шесть вечера сделан был привал. У самого шоссе, на изрезанной дренажными канавами, не до конца осушенной и выкорчеванной площадке, в одну линию встали пять-шесть изб. Выстрелы замолкли, и решено было распрячь измученных лошадей. Людям приказано было не расходиться, с телег не снимали брезенты, передки орудий дышлами смотрели на дорогу; командиры не снимали портупей.
Крамарев прошел на огороды этого поселка смолокуров и угольщиков. Здесь, выбежав из лесу и словно испугавшись шоссе и поселка, сейчас же исчезала в чаще узкая и мелкая речонка. Песчаная отмель была забросана сухим ломаным валежником. Крамарев стал швырять сухие чурки в воду, по-детски радуясь поднимающимся брызгам. Потом он стремился попасть в дальние деревья. Раненая рука ныла. Резкие движения как будто прерывали назойливую ниточку боли. Так люди, страдающие зубами, иногда ударяют себя по голове, чтобы только переключить надоедливое ощущение боли. Федоров застал инструктора за этим занятием и присоединился к нему. Они хвастались меткостью друг перед другом, присвистывали и гикали, и на их голоса пришли другие. Федоров метнул легкую сухую палку в разведчика Панова, и между ними разгорелась перестрелка, напоминавшая мальчишеские бои снежками. То один, то другой наступали, оттесняя противника к реке или к плетням поселка.
Савченко появился во главе компании и сразу стал на сторону Панова. Тяжелое мокрое поленце угодило Крамареву в колено.
— Ну, зачем же оглоблей? — засмеялся он, стараясь не замечать боли, и, схватив несколько легких полешек, он бросился на Савченко с криком «ура».
Толстый чурбан угодил ему в плечо и оцарапал щеку. Он услышал, как кто-то передразнил его: «урря!» и другой голос тихо, но отчетливо произнес: «А ну, садани жидочка!» Он понял, что дело идет уже не на шутку, и бросил было чурбанчики, но получил еще удар в плечо. Все еще не желая сознаться, что он принимает схватку всерьез, Крамарев швырял палки, крича:
— А ну, на помощь!
В этот странный, сперва шуточный, фантастический бой втягивались все новые красноармейцы. Палки, сшибаясь в воздухе и свистя, носились над поляной. Не понимая еще, что здесь нашли выход скрытые страсти, к Крамареву присоединился Сверчков.
— А ну-ка, мы им! — крикнул он, выбирая сучья полегче и посуше. Но удар в руку показал ему, что противники не обеспокоены гуманными чувствами. Притом их становилось все больше. Федорова не били; били Крамарева, Холмушина и больше всего Сверчкова.
Когда Алексей окриком остановил это дурацкое побоище, у Крамарева был рассечен висок, разбита губа, исцарапаны руки, а Сверчков потерял фуражку и носовым платком перевязывал руку под обстрелом.
Крамареву хотелось плакать от душившей его обиды. Сверчков попытался шутить, но это было неубедительно прежде всего для него самого. Савченко, Сережа Коротков, Фертов воинственно гоготали и ходили героями.
Алексей отозвал Каспарова, и они двинулись вместе к шалашу, сооруженному на берегу ручья у шоссе.
Через несколько минут сюда сошлись почти все коммунисты. Не было ни протокола, ни повестки дня, но, по существу, это было летучее собрание.
— Ты что в драку лезешь? — напустился Алексей на Крамарева. — Не терпится тебе? Разве не понимаешь, что нам нужно провести орудия через эту топь во что бы то ни стало?
— Я все-таки думаю, — вмешался Каспаров, — надо приструнить и разоружить этих ребят. Очень уж распоясались…
Алексей рассуждал бы точно так же, если б был уверен в командирах. Во всяком случае коммунисты должны знать то же, что и он, иначе им покажется странной его мягкость к бузотерам. Не он ли учил их — так же как учили в свое время его самого — держать свою судьбу в своих руках?
— На нас лежит большая ответственность, — сказал он. — Дело не в бузотерах…
— Они держатся с батареей, пока нет дорог на восток, — сказал Пеночкин, — а кончится лес, они все пойдут по домам. Так прямо и говорят.
— У всех ли партийцев в порядке наганы и патроны? — спросил вдруг Алексей.
У всех, кроме Холмушина, оружие было в исправности.
— Каждая часть может попасть в такое положение, — сказал Алексей. — Нас семнадцать коммунистов. А на германском у нас в дивизионе было четверо. И все по-нашему вышло.
Каспаров кивнул головой. Он был спокойнее всех и даже не чаще обычного свертывал папиросы. Холмушин сидел у самого входа и то и дело посматривал на дорогу. Из всех коммунистов Алексей меньше всего был уверен в Холмушине.
— Поди-ка, Холмушин, покарауль на дороге. Чтоб кто чего… понимаешь?
— Нуда, товарищ комиссар! Конечно, в случае чего…
Он обрадованно встал и с необыкновенной легкостью перемахнул через канаву.
— Видали? — показал ему вслед Каспаров. — Еще и боя не было, а Холмушин уже в отступлении.
— Лучше без таких, — досадливо отмахнулся Алексей и рассказал товарищам все, что знал.
— Наша задача — вывести дивизион из этого леса во что бы то ни стало. Там мы поговорим обо всем начистоту.
— Савченку не поворотишь, — глядя в сторону, сказал Панов.
— Таких, как Савченко, трое, с ними мы рассчитаемся быстро. Пока мы шли вперед, Савченко помалкивал. Теперь вот — неудачи, дезертирство, слухи… этот поход, и Савченко распустил язык… Вот директива: коммунистам держаться начеку. Разделимся на два отряда. Конные со мной. В случае нападения мы и пехотные будем отстреливаться до последнего патрона. А ты, Каспаров, с остальными уводи батарею. Если что-нибудь начнется в дивизионе, первым делом бейте в мою голову Савченку, Фертова и Короткова Игнашку. С остальными можно говорить…
— А командиры как? — спросил Панов.
Алексей долго молчал.
— За командирами пусть смотрит Каспаров и вы, — обратился он к Крамареву и Султанову. — Смотрите в оба, больше всего за Воробьевым. Не наш человек — волком смотрит.
— А если нападут спереди, перережут шоссе? — спросил Каспаров.
Опять воцарилась тишина.
— Это верно, — сказал наконец Алексей. — И об этом надо подумать. Тогда путь отрезан… Если крупный отряд и с пулеметами, тогда… — он утер потный лоб рукавом, — тогда орудия нам не увезти… Панорамы разбить, замки испортить… тебе, Пеночкин… хоть умри, а сделай. А самим, отстреливаясь, в лес… А только очень бы этого не хотелось! Надо идти и идти, — вскочил он вдруг на ноги. — Эти остановки мне — как нож в сердце. Десять лошадей уже пали, а впереди сорок километров, и еще пески. Выходи, ребята, не сразу, делай вид, как будто ничего не случилось… обычная беседа.
Глава XV ПОСЛЕДНЕЕ ИЗУМЛЕНИЕ СИНЬКОВА
Пулеметы заговорили на рассвете.
Они били по заставе, оставленной в двух километрах от привала. Застава отвечала. Это ее отдельные нечастые выстрелы рассекают тишину в промежутках между взрывами пулеметной трескотней. Там Климчук с Федоровым и еще двумя разведчиками.
Ездовые бегом подводили обамуниченных коней, и упряжки, не съезжавшие с шоссе, рысцой двигались дальше. Следовало скорее уходить на север. Если выход из леса свободен, батареи еще могут быть спасены: Крамарев и Веселовский рысью уходили вперед в сопровождении троих разведчиков. Дивизион располагал теперь щупальцами и охраной впереди и позади колонны.
Алексей колебался. С одной стороны, ему следовало быть там, где гремят выстрелы. Там сейчас ключ к судьбе дивизиона. Но мысль о том, что он оставит возбужденных и напуганных людей на одного Каспарова, заставляла его задуматься. Все же он приказал Каспарову в случае каких-нибудь затруднений послать за ним разведчика-коммуниста и поскакал на юг, куда уже унесся с двумя разведчиками Синьков. Этот человек притягивал его с силой магнита.
Нервность Сверчкова достигла предела. Приближается кризис, перед которым он глупо, нелепо, скотски беспомощен. Он подобен барану, загнанному во дворы бойни. Ноги гнутся от ощущения опасности, и нет никакого пути, кроме покорного движения к ножу резака. Он пропустил все сроки, и сейчас его резкий переход на чью-либо сторону прозвучит как удар фальшивой монетой о прилавок. Если здесь разгорится бой — с кем, против кого он будет драться? Он вспоминал, достаточно ли он небрит и неопрятен, чтобы сойти за рядового бойца. Какая досада, что он не перешел в другую часть до этого похода, еще в Петрограде… Он сожалел, что не нашел друзей в этом дивизионе. Климчук и Веселовский держат себя лучше, достойнее. Он смотрел на густые, как колючая изгородь, заросли, готовый в порыве неизобретательного отчаяния нырнуть туда в момент паники.
Воробьев ехал, стараясь не упускать ни одного звука, готовый к любому действию, в котором будет участвовать вся его сила, вся ловкость, вся не знающая предела решимость, потому что ненависть его к этой двойственной жизни уже перешагнула через страх смерти. Он подступил к рубежу, за которым лежит презрение к себе, моральная гибель и разложение при открытых и зрячих глазах.
Перестрелка не затихала, но и не разгоралась. Казалось, обе стороны чувствуют себя слишком слабыми и неуверенными, чтобы сблизиться и одним ударом решить схватку. Синьков понял, что это белый патруль, вооруженный легкими пулеметами, настигает дивизион, и выстрелы его — скорее сигнал, призыв о подкреплении, чем попытка захватить многолюдную, хотя и непривычную к ружейному бою часть. А может быть, они не знают, кто впереди них. Тогда стрельба — это средство не отрываться от противника до подхода решающих сил.
Сойдя с коней, потому что на шоссе уже пели пули и выстрелы приблизились так, что можно было с минуты на минуту стать целью для стрелков, Алексей и Синьков, ведя под уздцы лошадей, двинулись по дну полупросохшей дренажной канавы. Потом командиры сдали лошадей ординарцам и пошли вдвоем, сжимая рукоятки наганов.
Климчук, Федоров и пехотинцы лежали за сломленным бурей стволом. Шоссе было здесь единственным проходимым местом, и они не боялись быть обойденными. Все усилия Синькова и Алексея увидеть неприятеля не привели ни к чему. Переплет кустарников и низких елей был непроницаем, как большая подушка из грубой зеленой ваты. Движение в кустах было обманчивым. Может быть, это пробегал зверь, приземлялась птица или ветер шевелил мохнатые, долго кивающие ветви елей. Только Федоров уверял, что он видел человека в кожанке, выходившего на шоссе с папиросой.
Застава уже дважды отходила, прячась за стволами и в канаве, и белый пикет настойчиво следовал за нею. По-видимому, нельзя было ожидать прямого нападения, пока к противнику не подойдут свежие силы. Казалось, дивизион получил еще одну отсрочку. Командир и военком двинулись обратно, приказав Климчуку и Федорову отстреливаться из карабинов со всей осторожностью и только в крайнем случае пустить в ход пулеметные ленты. Алексей передал разведчикам полный подсумок патронов и обещал прислать ординарца с пищей.
На пути дивизиона на самой горбине шоссе лежала лошадь. Раздутый живот, мутные глаза и провалившаяся между ребер кожа предвещали скорую смерть. Алексей посмотрел на своего коня. Когда-то крутой круп опал, и кости некрасиво двигались, как будто готовые обнажиться. Сколько еще лошадей падет до конца этого похода!
— Надо, значит, бросать все лишнее, — сказал он командиру. — Беспощадно. Стоять больше не придется. Что дойдет, то дойдет…
Синьков только кивнул головой. Его раздражало это новое осложнение. Этим трем-четырем болванам, которые преследуют дивизион, нельзя даже сдаться. Он чувствовал себя игроком, которому за всю талию можно поставить только на одну-единственную карту. Каждая казалась ему подходящей, и каждая, при внимательном рассмотрении, разочаровывала. Увидев, что он возвращается ни с чем, Воробьев взбесится. Все труднее становится рассчитывать на сдержанность этого человека, а между тем Синьков далеко не уверен, что именно этот момент и есть самый подходящий для решительного выступления.
Достаточно было взглянуть на тощие тела когда-то могучих коней. Некоторые из них имели совсем жалкий вид. Из-под ремней текла сукровица. Влажная, стертая и скомканная шерсть напоминала выброшенные за изношенностью половики. Темп движения был ничтожен и замедлялся с каждым километром. Эта усталость и измученность людей и лошадей одновременно была союзницей и связывала по рукам и ногам.
Синьков проехал вдоль всей колонны, не отдав никакого приказа.
«Он предпочитает, чтобы этот приказ отдал я», — с раздражением сообразил Алексей.
— Выбросим снаряды, — сказал он, догоняя командира.
Он понимал, что личные вещи и каптерские запасы дадут выигрыш в какие-нибудь десятки пудов.
— Расписаться в том, что мы бежим, — заметил Синьков.
— В реку или в болото…
Все, кроме одного, ящики были опустошены у края подошедшей к шоссе зеленой топи.
— Теперь можно менять лошадей: ящичных в орудия и наоборот.
Алексей отправился вдоль колонны, и Синьков слышал его громкий, решительный голос, требовавший беспрекословного выполнения приказа.
— Савченку я отдам под суд, как только соединимся со своими, — сказал он, подъезжая опять к Синькову. — Все приказы не для него…
По тому, как тяжело дышал военком, Синьков понял, чего стоило ему сдерживаться и отложить расправу с ослушниками. Нужно бы подзадорить Савченку и его товарищей и вызвать комиссара на резкость, сейчас это будет на руку…
Ночью пулемет затих, — должно быть, преследователи отстали, боясь напороться на невидимых стрелков. Но Алексей категорически отказался дать отдых людям и лошадям.
— Сегодня проскочим, завтра уже нет, — упорно твердил он, словно ему были известны планы противника.
«Он прав, — думал Синьков. — Уже сейчас нет никаких шансов на то, что выход из леса свободен».
Лошади ступали по жесткому булыжнику, как деревянные манекены. Даже верховые кони, которым разведчики и командиры старались давать отдых, делая по нескольку километров пешком, отказывались двигаться, и их нужно было понукать нагайкой и криком.
Ликующее серебро раннего солнца еще омывалось в розовых прудах зари, когда лес расступился перед дивизионом и вправо от шоссе отделилась укатанная, мягкая, местами песчаная дорога.
Она вела на восток на легкие зеленые холмы, она уводила от фронта, она открывала путь к спасению!
Казалось, на перекрестке не было ни души. Весенний пар едва заметно курился над краем болота. С холмов, как бы спеша к огромному мохнатому лесу, сбегали рощи, укутанные в первую, яркую, еще неуверенную зелень. Казалось, даже лошади поняли, что приближается конец испытания, и шаг их стал крепче и эластичнее.
Командиры стояли на перекрестке, пропуская упряжки мимо. Орудия медлительно, с паузами живых существ, спускались с шоссе, и кони с величайшими усилиями начинали взбираться на узкий песчаный подъем.
Воробьев кусал пересохшие на ветру губы. Эти холмы, это пустынное незапаханное поле опять соединяет его со стихией, которой он отдал всю ненависть, как первой девушке отдают всю нежность. Он попытался бы ускакать в этот лес. Один — конь, конечно, падет — он бродил бы, как зверь, голодный, истерзанный, но он пришел бы в конце концов к своим.
Но в лесу задержались разведчики и пехотинцы, готовые отстреливаться от пулеметов противника. Они преградили последний путь.
В этот момент — как будто на его отчаянный, последний, как Ронсевальский рог, призыв — из лесу ответили пулеметы. Их было несколько. Это уже был не пикет. Это была настоящая опасность.
Еше только первое орудие приближалось к зарослям на вершине песчаного бугра, и Алексей крикнул:
— Скорей!
Он сейчас же пожалел об этом. Ездовые приняли звук пулемета и приказ поспешить как сигнал страха и паники и дружно ударили в нагайки. Лошадь второго уноса переднего орудия упала на колени. Она барахталась в песке, не будучи в силах подняться. Узкая дорога была преграждена, а между тем задние ездовые продолжали гнать лошадей.
Это грозило быстрой, катастрофической гибелью всего конского состава.
— Что делаешь, дьявол? Шагом! — машинально крикнул первым понявший это Синьков. Он не успел даже сообразить, что выгоднее ему сейчас.
— Шагом! — закричал Алексей. Он повернул было коня к передним орудиям, но его остановил звук близкого легкого пулемета. Это не был пулемет Климчука. Он говорил где-то рядом, правее, может быть, за ближним холмом, но он говорил на западе. Следовало ожидать, что и отсюда приближается недруг.
— За мною, в цепь! — крикнул он разведчикам и поскакал к шоссе. — Да переводите же их на шаг! Чего вы смотрите? — бросил он по дороге Сверчкову.
Поля, разбежавшиеся с холма на холм, как в праздник, солнечные и пустые, рощи и зеленые кустарники уже снимали со Сверчкова тяжесть, какая нависла над ним в темном, сыром лесу. Дивизион уйдет за твердую линию фронта, и его колебания покажутся ему сном, ушедшим, неоправдавшимся сном, растаявшим в лучах этого заливающего светом небо и поля солнца. Психология зверька в ловушке, для которого приемлем любой путь к спасению, уступала место привычному ощущению фронта и средней опасности, к которой он притерпелся за годы войны… Он, как дисциплинированный боец, помчался туда, куда указывала нагайка Алексея.
Поворачивая коня, он заметил монументальную фигуру Воробьева в черной кожаной куртке на большом вороном коне. Воробьев смотрел в лес. Казалось, его больше не интересует вверенная ему батарея.
«Надо бы предупредить», — подумал Сверчков с такой уверенностью и силой, что, если бы рядом был Алексей, он бы крикнул ему со всем жаром:
— Берегись этого человека!
Но Алексей уже спешился и бежал в цепи разведчиков к шоссе. Здесь, за его бортом, как за бруствером окопа, можно было организовать оборону, пока упряжки не уйдут, за холмы.
Сближаясь, перебивая друг друга, стрекотали пулеметы. Винтовки Климчука, Федорова и пехотинцев отвечали все ближе. Вот показался на обочине шоссе Климчук. Он размахивал наганом и как будто что-то кричал. Не было слышно слов, но скорее всего он приглашал торопиться. За ним, по одному, выбегали на солнечную опушку леса пехотинцы. Не было только Федорова с пулеметом. На стрекот белых пулеметов застава отвечала до сих пор только стрельбой из карабинов. Можно было рассчитывать на то, что Федоров сберег пулеметные ленты, взятые на перекрестке дорог.
Для Алексея лес казался пройденной, но все еще грозящей западней, а все веселые холмы, побежавшие на восток, единственным путем спасения. Пулемет, поставленный на шоссе, мог скосить весь дивизион раньше, чем он переберется через песчаный горб. Нельзя допустить белых на поляну. Если Федоров и Климчук отойдут к перекрестку прежде, чем запряжки скроются из виду, следует поддержать их ружейным огнем, который не выпустит врага из лесу. Семь человек легли на обочину шоссе, подняв над краем булыжного горба дула кавалерийских карабинов. Если бы Алексей был опытен в пехотных стычках, он в первую очередь искал бы высокое место, наблюдательный пункт, и уже потом прикрытие. Но он решил, что не уйдет отсюда, пока последняя повозка не одолеет песчаный подъем. Он хвалил себя за то, что сбросил с повозок и ходов весь лишний груз. Иначе коням не взять бы это препятствие.
Через плечо он следил за движением упряжек. Надрываясь, кони берут подъем, падают и, опять поднявшись, шаг за шагом, одолевают песчаный бугор. Ездовые, крича, размахивают нагайками. Даже издали фигуры коней и людей говорят о надрывных, почти отчаянных усилиях.
Климчук опять скрылся в лесу, где прячется Федоров. Когда на перекрестке затихает, Алексею хочется быть с орудиями. Но каждую секунду белые пулеметчики могут появиться из лесу, и тогда жизнь батареи все-таки будет решаться здесь, на шоссе.
Но одинокий, как сигнал, выстрел раздался не на шоссе и не за холмом. Выстрел раздался на батарее. Это был какой-то нелепый звук, породивший, как эхо, гортанные человеческие крики и движение, которые заставили вскочить Алексея.
Если бы военком знал, что происходит в первой батарее, он ринулся бы туда бегом, несмотря на то, что все более горячий разговор пулеметов и винтовок приближался к самой опушке…
Проезжая мимо Короткова, Синьков нагнулся в седле и сказал:
— Приедем в тыл — съест вас военком без масла, Игнат Степанович! — и поехал дальше.
— Подавится, — сказал Игнат и немедленно отправился к своим.
Сверчков, получив приказ, подлетел к батарее и закричал нервно, с раздражающей неуверенностью:
— Шагом, черт возьми, шагом! Лошадей порежете!
Это был тот самый момент, когда в лесу рассыпалась совсем близкая пулеметная очередь и ездовые, вместо того чтобы сдержать лошадей, опять взялись за нагайки.
— Шагом, черт вас раздери! — кричал Сверчков. — Шагом, или я… — он задохнулся и выхватил наган.
— Ребята, бьют! — взвыл вдруг Савченко и выстрелил в воздух.
Серега Коротков разрядил наган в свою очередь.
Игнат Коротков уже резал постромки у жеребца, тянувшего первую обозную фурманку.
Оглушенные криками Сверчкова и выстрелами, ездовые погнали лошадей вовсю. Кони зарывались в осыпающемся песке, падали, поднимались, храпя, опять падали уже на бок, — и вот в руках ездовых мелькнули ножи и бебуты, предвещающие тот момент артиллерийской паники, когда, бессильные, падают на землю обрезанные концы постромок и люди, в первобытном инстинкте, гонят куда попало освободившихся от упряжки хрипящих коней.
Тогда перед этим скопищем лошадей и орудий, невольным движением разметав свою бороду, встал Каспаров. Револьвер в его рабочей руке был невероятен. Аккуратное дуло, блеск вороненой стали, острая мушка опровергали его измятую фуражку, его истертый, мягкий, как резина, ремень, его широкие, опадающие складками штаны. Только блеск его глаз сочетался с рисунком твердо направленного дула. Тысячелетняя мужичья решимость ровным светом горела в глазах. И она задержала передних.
Савченко вырвался вперед верхом на коне, с обрезанными постромками. Они волочились за ним двумя опавшими змеями. В руке у него тоже был наган.
В секундной тишине выстрел Каспарова показался простым и понятным делом. Савченко сполз с седла, и конь рванулся в сторону, но у самой ямы застыл, схваченный под уздцы коммунистом Сергеевым.
По полю верхами на обозных конях летели братья Коротковы. Они вовремя учли судьбу Савченко. Они стремились к зеленому логу между холмов. Их деревня была в тридцати-сорока километрах.
Припав на колено, коммунист Крылов давал по ним выстрел за выстрелом.
Цепью, без крика, без шума, может быть, потому, что за них слишком громко кричали их сердца, коммунисты обходили бьющихся в песках людей и лошадей. Наган Пеночкина смотрел в небо, поднятый над головой не то как предупреждающий знак, не то из опасения выстрелить раньше времени и не туда, куда нужно.
Каспаров теперь шел впереди, опустив дуло нагана в землю, как будто за ним следовала крепкая, всегда верная часть, признавшая его вождем. Он не преследовал Коротковых, потому что важнее всего было увести дивизион с песчаного косогора. Коммунисты шли у каждой орудийной упряжки, и ездовые дрожащей рукой успокаивали лошадей.
Внизу, у шоссе, где были Алексей, Синьков и Воробьев, гремели выстрелы. Другая часть этого необычайного сражения стала известна всему дивизиону только в деревушке, где под прикрытием батальона пехоты батареи получили первую передышку.
Ожившей картиной на наклоненном полотне казался Синькову и Воробьеву песчаный бугор, по обочине которого поднимались орудия. Головная упряжка и обоз равно были на виду.
Синьков первый понял, что в дивизионе чьи-то выстрелы создали панику. Раз испытав такую панику в Карпатах, он поверил в ее уничтожающую силу, как верят в неотразимость бури люди, пережившие кораблекрушение.
Но свежее, обостренное чувство ответственности, приросшее в эти дни к сознанию Алексея, как горб к спине верблюда, сделало его наиболее подвижным из всех троих.
Он видел сбитые в барахтающийся ком упряжки и уже брошенные дышлами в сторону телеги обоза. Спокойный и выдержанный Каспаров стреляет, что-то кричит, перегородив дорогу колонне… Алексей бросился к коню, не отрывая взоров от дивизиона. Но тяжелый, как конная статуя, Воробьев уже стал у него на дороге и смотрел на военкома таким недвусмысленным взглядом, что Алексей, не колеблясь, выхватил наган.
— Нет, ты туда не пойдешь! — выдохнул из себя Воробьев. — Там тебе делать нечего.
Он выстрелил, и военком упал на колено, выронив разбитый пулей наган.
Ненависть сбросила Воробьева с коня. Вся революция, вся партия, Ленин, бесчисленные затаенные обиды — все сосредоточилось для него в этом кудрявом своевольном солдате. Он забыл про револьвер. Своею рукой он должен был задушить единственного, какого подставляет ему судьба, врага. Он по-медвежьи шел на него, с кровавым туманом в глазах, и, как медведь натыкается на рогатину второго охотника, наткнулся на карабин Панова.
Взволнованный, плохо понимающий, что происходит, Панов шептал, тыча в него дулом карабина:
— Что ты, что ты?.. Уйди, уйди!.. — не решаясь нажать курок.
Синьков сбил с ног Панова.
— В лес, Леонид, — крикнул он. — Там Федоров с пулеметом. А ты, собака, получай! — Он выстрелил в Алексея, не попал и, прежде чем успел повторить выстрел, захлебнулся в последнем страшном изумлении, которое унес с земли…
С тоской он хоронил в это мгновение всю свою умную осторожность, так долго выбиравшую удобный момент. Бой разгорелся совсем не так, как он хотел. Была еще одна надежда на Федорова. Не белые, а он с этим веселым охальником расстреляют свой дивизион с шоссе. И вот этот Федоров, с необыкновенно расширившимися, почти круглыми глазами, выстрелил ему в грудь из карабина. Наступал тяжелый повелительный сон, который быстро растекался по телу от горячего комочка где-то внутри, около самого сердца…
Глава XVI НАРОДОВЛАСТНИКИ И МОНАРХИСТЫ
Усиленно бряцая шпорами, в комнату вошел капитан. У него было удивительно заросшее лицо. Казалось, собранные, круглые, как шарики, глаза смотрят из-за куста.
Воробьев попробовал приподняться, боль была неожиданно сильна. Он вздохнул слишком громко, чтобы это был только вздох.
— Сидите, — предложил капитан. — Курите? — раскрыл он портсигар, но не протянул навстречу Воробьеву. — Ну-с, некоторые неизбежные формальности… — Он не смотрел на Воробьева, хотя видел его впервые, и шарил среди бумаг в принесенной папке.
Имя, отчество, фамилия, сословие, чин, части, в которых служил, родственники, кто знает в белой армии? — эти вопросы, как тени прошлого, проплывали от окна к окну вместе с дымом папиросы, не задевая воображения Воробьева, все еще охваченного ощущением неистовой боли.
— Разве нельзя все это потом? — произнес он сквозь зубы.
Капитан ответил только движением нависших над глазами, как козырьки, бровей.
— Как вы попали в Красную Армию?
Офицер вдруг сел ровнее и торжественнее.
— Добровольно, — сказал Воробьев.
Карандаш капитана неленостно заскакал по бумаге.
— У нас были свои соображения…
— У кого это — у нас?..
— У меня и у капитана Синькова.
— Кто такой капитан Синьков?
Быстрый взгляд, и офицер опять записывает, не отрывая глаз от бумаги.
— Сколько времени вы пробыли на фронте?
— И вы не считали своим долгом, войдя в соприкосновение с белыми войсками, занять свое место?
— А почему, господин поручик, вы не присоединились к одной из доблестных белых армий раньше?..
Каждый вопрос существовал сам по себе и был естествен. Но у Воробьева не было раздельных ответов. Он мог рассказать все по порядку, все проекты, его и Синькова, задания центра, подробности, которые знал только Живаго, удачи, трудности, колебания Аркадия и борьбу с ним — целый роман. Вечная трагедия всех следствий. У подследственного всегда рвется с языка повесть сложная и убедительная, как сама жизнь. Но чтобы понять ее, следователь должен обладать ничем не связанным воображением художника. Но если бы он действительно обладал таковым, он быстро утратил бы доверие начальства, а затем и должность. Научившись понимать, он перестал бы быть частью судебной машины, он утратил бы искусство обвинять, и плут получил бы перед ним все козыри. Поэтому следователь рассекает повесть вопросами. Эти вопросы как отсеки корабельного трюма. Они не дают потонуть кораблю обвинения.
— Я пришел к вам добровольно. Я, кажется, не взят в плен. — Воробьев поднял большую, сильную голову. — Пулю я получил сзади. В данном случае — это почетно. Стрелял военком, которого я сам едва не пристрелил, но пуля попала ему в наган вместо сердца… Почему же этот тон допроса? Я — офицер, и мне естественно быть в ваших рядах. То, что я прихожу несколько позже… разве это меняет дело?
— Когда победа окончательно будет за нами — от таких, как вы, не будет отбоя… Но мы всех тогда спросим: где, милостивый государь, вы были раньше?!
— Повторяю: у меня и у моих товарищей…
— Научились у красноармейцев!
— У меня и у других господ офицеров был план перейти к вам со всем дивизионом… План рухнул. Мой друг заплатил жизнью за неудачу. Я перешел один.
Капитан прищурился.
— Вы полагаете — это оригинально?
Прямой, лишенный хитрости Воробьев задыхался уже не от боли, но от бешенства. Вместо братского боевого приема — этот бездушный, иезуитский допрос.
— Я — офицер, — забывая про боль, поднялся он и шагнул к столу. Большая рука его угрожающе легла на какие-то папки. — Я попрошу вас разговаривать со мною как подобает. Иначе я буду думать, что попал не в боевой штаб, а в тыловую канцелярию худшего толка…
— Вы — офицер? — поднялся ему навстречу капитан. — Где же ваши погоны? У вас еще и сейчас на фуражке звезда. Мы эти звезды вырезываем красным на лбу. А вы знаете судьбу генерала Николаева? Он публично повешен, господин поручик, за службу у большевиков!
Воробьев только теперь стал соображать. Вот в какой он позиции! Подозрение, допрос, суд. Он отяжелел и сел обратно.
— Тогда пусть будет суд по форме. Я сумею доказать…
— Ну, так-то лучше, — сел капитан. — Нам некогда устраивать суды, таскать вас по тылам. У нас достаточно полномочий. Всех офицеров, служивших у красных, мы вешаем. У нас нет достаточных оснований отнестись к вам с большим доверием. Пока мы отступали — вы шли с красными. Когда не сегодня-завтра мы возьмем Питер — вы перебегаете к нам. Толково! Почему же это, позвольте спросить, рухнул, как вы выражаетесь, ваш план?
— Вы отступали… Орудия — это не разведка. Коммунисты работали не покладая рук. Настроение солдат, которых мы тщательно подбирали, изменилось не в нашу пользу. Вы посильно помогали этому.
Капитан удивленно поднял голову.
Воробьев рассказал о смерти Карасева, о жалобах батраков, вступавших добровольцами в Красную Армию.
— Большевистские уроки не проходят даром и для офицеров, — зло сказал капитан. — Все это мы сумеем проверить.
— В Ревеле я легко могу установить связь с агентурой одной из союзных миссий, от которой получались задания через…
— Довольно, довольно, — перебил капитан. — Это другое дело… Я отправлю вас в лазарет. Разумеется, пока на положении арестованного…
Свои связи с гельсингфорской разведкой, с агентами интервентов Воробьев решил было держать про себя и обнаружить их в самом крайнем случае, не прежде, чем он ознакомится с обстановкой. Но тон и приемы капитана вызвали его на откровенность. Воробьев был поражен, как быстро и решительно изменил свой тон капитан при первом упоминании об «одной из союзных миссий».
В псковском лазарете Воробьев пробыл недолго. Нашлись знакомые с достаточным весом в Северо-Западной армии, поручик был освобожден от ареста и получил путевку в Нарву, в штаб корпуса генерала Родзянки.
Знакомый полковник снабдил Воробьева пачкой керенок, перехваченных аптекарской резинкой.
— До Гдова еще годятся. А дальше… лучше выбросить, — сказал он презрительно. — Говорят, — склонился он к уху сидевшего на койке Воробьева, — какой-то инженер мастерит их взаперти у нашего «легендарного героя». Родзянко их не признает. Но что же будешь делать? Надо иметь какие-то дензнаки…
Прикрепив к старой кожанке поручичьи погоны, опираясь на палку, Воробьев вышел в город. Несмотря на солнечный день, от озера тянуло прохладой. Великая вся была в буграх сизых волн. Кое-где вскипали легкие, не успевшие засеребриться барашки. Опоясанный рассыпающимися под ударами веков стенами холм встал над городом. На вершине его белая глыба собора воздела к небу горсть зеленых куполов. На неровной старорусской площади толпился народ, все больше женщины и дети. Медленно продвигаясь к мосту, Воробьев читал с интересом туриста свеженаклеенные листки и афиши с приказами «легендарного героя» Булак-Балаховича, который именовал себя «атаманом крестьянских и партизанских отрядов и командующим войсками Псковского и Гдовского районов». Афиши кричали о народоправстве, о земле крестьянам, о возрожденной хуторской России и даже о новом Учредительном собрании. Упоминание об Учредительном собрании вернуло Воробьеву ощущение времени. Интерес туриста сменился волнением, и Воробьев разбирал с пристальным вниманием эти тронутые дождем строки.
В лагере красных он приобрел отчетливо недвусмысленное представление о враге. Белая гвардия — это была последовательная, упорная сила. Она стремилась уничтожить все, что могло служить большевикам и препятствовать созданию единой, неделимой, монархической России. Лагерь белых, казалось, должен был отличаться единством, последовательностью, жестокостью и целеустремленностью. Семнадцатый год пронес над Россией все призраки, все фантомы, подсказанные вековой историей европейской демократии, все обольщения парламентского строя, все улыбки республики. Все рухнуло, все рассыпалось, растаяло, как мираж. Не опроверг ли сам народ чужие образцы, не по плечу себе, не по вкусу?!
Весь развал, думал Воробьев, начался оттого, что рухнула глава, и, следовательно, глава и должна быть восстановлена в первую очередь. Как древнерусским городам свойственно было воздвигать высочайший собор на высочайшем холме, который подгребал к себе, как наседка, дома и улицы, так свойственно русскому народу даже не видеть, но прозревать в вышине над собою трон самодержца.
А эти выветрившиеся слова афиш, они опять приносили забытые было рожи кривого зеркала этого для одних кривого, для других — героического года.
Недовольный, разочарованный, Воробьев подошел к толпе, собиравшейся у разветвления трамвайного пути. Его рост позволил ему увидеть то, что происходило в центре людского круга.
Всклокоченный, с разорванным до пояса воротом рубахи, стоял на коленях босой человек. Блуждающие глаза его рыскали в толпе и с исступленной мольбой останавливались на всаднике в форме полковника.
Кавалерист с мышиными глазками и мелким лицом старательно прилаживал лестницу к столбу. Другой держал наготове петлю из толстой веревки, на которой, возможно, еще вчера качалось на ветру чье-то белье.
— Ты напрасно стараешься, — выкрикивал так, чтобы его все слышали, полковник, не сходивший с седла и окруженный группой офицеров. — Я вовсе не монархист, как те, — он указал нагайкой на север, — в Нарве. Я такой же красный, как и белый. Но коммунистов я вешаю всех. Ты не проси. Я сказал: если народ — вот они все — за тебя поручится, я тебя отпущу. Но если народ против тебя — видишь, все молчат, — то какое же я имею право оставлять в живых большевика, народного врага?..
Он, видимо, был опьянен упавшей ему в руки необычайной властью. Посылать других на смерть — не значит ли это в какой-то доле стать выше смерти? Это одна из самых скользких тропинок для увлекающегося или слабеющего ума.
Человек на коленях затих. Видимо, голос офицера чаровал его, как глаза готовой напасть змеи. Отчаяние — ближайший сосед надежды, но грань между ними — большое испытание для сердца. Проносясь над нею, оно дает такие удары, которые сами по себе могут стать смертью или толкнуть человека в дом умалишенных.
Веревка, брошенная кавалеристу, уже оседлавшему столб, сорвалась и упала на землю.
Тогда осужденный пополз на коленях к всаднику. Полковник вздернул коня. Протянутые к стремени руки схватили воздух. В толпе раздался женский крик:
— Я поручусь… не надо!..
Полковник поднял голову…
— Кто поручится? Кто? — крикнул он, ударив по воздуху нагайкой. — Кто за жидов и коммунистов? Выходи сюда!
Толпа прикрыла бившуюся в истерике женщину…
Воробьев зашагал к вокзалу наперерез бежавшим к месту казни любопытным.
Никто не обращал внимания на раненого поручика с побелевшими губами и потрясенным взором. На всех лицах была своя напряженность. Толпа любит казни, должно быть, потому, что, ничем за это не платясь, в момент смерти осужденного она получает громовый удар в сердце, почти равный удару смерти. Из любителей американских гор в соответствующих условиях получаются отважные альпинисты. Может быть, эти люди сыграют свою собственную игру со смертью с достоинством…
Извозчик вертел в руках керенки и посматривал нерешительно на успевшие страхом утвердиться в психологии псковичан офицерские погоны.
Без всяких вещей, с газетой в одном кармане и с парой купленных на вокзале лепешек в другом, Воробьев отправился в Нарву. Его не успокоила «демократическая казнь». Пароход Северо-Западной армии выходил из гавани с чересчур ясно выраженным креном. Еще хуже, если кладет на оба борта. Он прислушивался в пути к разговорам. Еще никакая власть не сумела наложить печать сдержанности на раз заговорившее славянство. Командование Северо-Западной армии поносили открыто и не боясь окрика, потому что власть эта ютилась на центральных площадях Пскова, Гдова и Нарвы, в тени эстонских пушек и мешков американской муки, и только карательные отряды носились от деревни к деревне.
Воробьеву казалось, что не было еще ни Февраля, ни Октября, и это ропщет русский мужик, для векового терпения которого война оказалась слишком решительным испытанием. Несуетливые, аккуратные эстонцы, с разрешения командования, скупали по селам и у станций прошлогодний лен. Фунты, получаемые в Лондоне и Гулле за пачки этого льна, должны были стать основанием Ревельского банка, выпускавшего бумажные кроны.
Нарва, нерусская и неожиданно живописная, была пришиблена к земле хмурым небом. Тяжело и мрачно поднимались средневековые стены могучей крепости. С другого берега грозил ей закованный в камень Иван-город.
Полковник Маркевич был знаком Воробьеву еще с тех времен, когда его «клюква» — заработанный на японской войне анненский темляк — служила приманкой маленькому Петру Демьянову. Это был бесхитростный, профессионально честный воин русских царей, как и многие давно уже с ужасом увидевший, что в своих воинственных мечтаниях он одинок, а кругом действуют герои «Поединка». Он написал вызов на дуэль Куприну, просидев ночь над пятью немудрыми и все-таки нескладными фразами, а утром сжег весь ворох бумаги и сразу оборвал напряженные ночные занятия, которые должны были привести его в Академию генерального штаба, как-то внутренне опустился и весь налился обывательским безвредным скептицизмом.
Он сухо покашливал, не отпуская изо рта сигареты, и все время растягивал пальцами воротник зеленого кителя, хотя его большой и беспокойный кадык и так гулял в свободных пространствах.
Полковник заставил Воробьева долго и обстоятельно рассказывать о Петрограде, о знакомых, о нравах в Красной Армии. Воробьев, который рассчитывал узнать от этого видного представителя штаба Родзянки, что делается в Северо-Западной армии, то и дело умолкал в вопросительной позе, но полковник сейчас же засыпал его новыми вопросами.
— Ну, а у вас как же? Я плохо понимаю, что здесь творится, — не выдержал Воробьев.
Полковник едва не разорвал ворот.
— Обживетесь — поймете. Сразу, действительно, не схватить. Мы здесь — только пластырь, горчичник. Дела делаем не мы. И здесь ничего не решается. Вы это помните. Мы — полк, брошенный для демонстрации, для отвлечения сил и, может быть, на верную неудачу. — Он застучал пальцами по тонкой доске стола. — Поэтому, в случае чего… Вы не расстраивайтесь. Свой долг мы выполним, а дело сделают другие.
— Но как же случилась эта… майская неудача под Петроградом? Ведь были захвачены уже форты Кронштадта?..
Полковник нервно смял недокуренную сигарету.
— Неудача эта крупнее, чем многим кажется… Это знаменательная неудача! С треском провалился серьезно продуманный, неплохо подготовленный, хорошо организованный план. В нем должны были принять участие силы, далеко превышающие мощь армии Родзянки. Ты бы ахнул, если бы я рассказал тебе, какие звенья должны были принять участие в падении Петрограда, какой комбинированный удар был задуман!
— Ну и что же?
— Что же?.. Ответный удар, вернее, целая серия ударов были нанесены нам с такой решительностью и с такой целеустремленной планомерностью, что можно подумать, будто весь план Юденича и всех, кто стоит за ним, — полковник многозначительно поднял кверху желтый, прокуренный палец — ты понимаешь, что это значит? — как будто все эти, в величайшей тайне отработанные планы лежали на столе красного командования.
— Но разве у нас нет воли к победе, порыва?..
— Поживешь здесь — увидишь, — наливаясь обычным скептицизмом, с явной целью свернуть этот разговор сказал Маркевич… — Есть, конечно…
— А как у Колчака, Деникина?
— Я знаю только то, что есть в газетах. Сведения идут долго, через Стокгольм, Париж, Лондон.
Ясно было, что полковник знает больше. Воробьев опустил голову. Никакая ни личная, ни общественная цензура не задерживает то, что может принести всем сочувствующим радость и бодрость…
Он ехал в Ревель, чтобы привести себя в порядок, с пачкой писем от полковника Маркевича к членам «Русского комитета». Он начал сознавать необычайную для него раздвоенность. Он был со своими — и не испытал еще ни одного дружеского пожатия, и ни у одного человека не видел в глазах огней, с какими, по его. мнению, шли люди Пожарского и Минина к Москве. Он призывал на помощь трезвость, чувство реального. Нарва и Псков — это еще не все. Есть Ревель, Гельсингфорс, Новочеркасск, Ростов и Киев, связанные с союзниками, с могущественными победителями.
Какой-то офицер «под мухой» бранил свое командование и большевиков одними и теми же словами, с равным азартом. Воробьев хотел было проучить болтуна, но снисходительное сочувствие к нему всего вагона и рана лишали его решимости.
Ревельские гостиницы превратились в общежития. Здесь было больше генералов, чем в Ямбурге, и больше офицеров, чем в Пскове. Его принимали с той подчеркнутой вежливостью, которая как бы говорила: а мы все те же, уравновешенные, спокойные баре, в Ревеле, как в Петрограде, и хотя нам не до тебя, но на пятнадцать минут выдержки у нас хватит.
Бугоровского он застал в постели. Должно быть, вследствие температуры Виктор Степанович был говорлив, нервен и долго не отпускал Воробьева.
Рассказ о Елене он слушал с отсутствующими глазами. Его остренькая бородка едва шевелилась на шелковом воротнике пижамы. Может быть, дочь его, оставшаяся в большевистском городе, была последней и самой невообразимой связью с прошлым. Это была какая-то не уступленная врагу, исключительная позиция, семя дуба, брошенное в землю, которую, может быть, суждено покинуть навсегда. Она была любима не личной, но фамильной, родовой любовью, при которой неуместны тревога и страх.
— Может быть, вы хотите остаться здесь? — спросил он Воробьева, и легкая тревога прошла в его глазах.
— Почитаю местом своим передовые позиции, — строго ответил Леонид тоном когда-то читанных суворовских реляций, смутно сознавая при этом отдаленность источника, к которому он прибегал.
— Дайте я вас поцелую…
Жиденькие слезы часто пошли по опалым щекам. Несдержанно он стал бранить Родзянко, Юденича, отсиживающегося в Гельсингфорсе, Русский совет, Парижский комитет, Деникина, и только о Колчаке отозвался с такой же неуемной восторженностью. Должно быть, он хранил это имя как последнее прибежище своих надежд.
Все семейство обедало у постели больного. Говорили о ценах, о ревельском театре, о русских эмигрантских газетах, об эстонской «картофельной республике», как будто не было ни Елены, ни Петрограда. Нина, совсем взрослая, некрасивая и еще более элегантная, приветливо смотрела на Воробьева, смущенного своим костюмом, но тем не менее Леониду казалось, что он гостит у разоренных родственников, которым он должен помочь и которых он обязан утешить.
Он взял тон уверенности в победе. К концу обеда он был уже готов принять участие в обширной демонстрации, самом мерзком изобретении современной войны, потому что она требует от бойца всего — крови и жизни, и не сулит ничего, кроме утешений, почерпнутых в учебниках тактики.
Когда на несколько минут он остался с Бугоровским наедине, Воробьев все же спросил его, перейдя на тон серьезный и доверительный:
— Виктор Степанович! Я оторвался. Я плохо разбираюсь. Скажите, что же намерено теперь делать Северо-Западное правительство? И кто здесь в конце концов хозяин?
Бугоровский долго молчал, поглаживая потерявшую свою законченную форму бородку.
— От вас я не вправе скрыть… Вы идете пролить кровь… Готовится новый удар по Петрограду. Сейчас начинается второй тур гражданской войны. Главный удар теперь на юге. Этот Деникин… Его поддержат союзники. На него делает ставку Черчилль. Возможны десанты на севере, на Черноморье. Новое усилие сделает Колчак. Обещаны артиллерия, снаряжение, снаряды, патроны. Ведь этого добра у союзников на миллиарды. Мертвый капитал. Он требует себе выхода. Даже танки и самолеты. В новом, обширном плане и мы имеем свое место. Но не хочу от вас скрывать и то, что, по крайней мере здесь, под Петроградом, я не питаю больших надежд. Силы нашей армии, возможно, будут больше, чем в мае, но те блестящие позиции, какие мы имели в тылу у врага, уже невозвратимы. Но пусть это вас не смущает, — приободрился Виктор Степанович. — Наша задача — оттянуть на себя как можно больше сил врага и помочь Деникину захватить Москву. Впрочем, генерал Юденич уверен в том, что Питер будет взят, — заключил он и опустил голову на подушку.
«И этот, как и Маркевич, заражен духом упадка, он говорит теми же словами, — подумал Воробьев, — все это не сулит успехов».
— А хозяин? — вдруг вспомнил о втором вопросе Бугоровский. — Хозяин далеко. Тут все приказчики, да, да, приказчики… И я, и все они, — язвительная усмешка пробежала по тонким и высохшим губам этого опытного биржевого игрока и финансиста. Его мысленный взор следил за поездами и пароходами, увозившими золото и долгосрочные обязательства старушки Европы к далекому подножию статуи Свободы. — Помните русскую сказочку о мертвой голове? Так вот Америка — это медведь «всех вас давишь». Остальные, даже Англия, даже Черчилль и Клемансо, не так страшны, как добродушно улыбающийся дядя Сэм.
Бугоровский говорил теперь закрыв глаза. Воробьев понимал, что он беседует сейчас сам с собой, словами оформляя свои тревожные, назойливые и неприятные мысли. Забыв о том, что слушает его человек, который пойдет в бой за обманчивые, подсказываемые лжецами цели, он исповедовался в смертном грехе, самое упоминание о котором превращало всю жизнь его, всю прошлую, настоящую и будущую деятельность в зловещую кучку пепла.
Глава XVII ГОРЯЧАЯ ЗЕМЛЯ
В местечке дивизион пробыл несколько недель. Смерть изменника-командира, бегство Воробьева и Коротковых, арест Сверчкова — все эти события очистительной грозой пронеслись над дивизионом. Но прошло несколько дней, наполненных работой по приведению части в порядок и отдыхом, и жизнь наладилась.
Местечко было многолюдное. Дивизион прибыл сюда, как приходит раненый в палатку врача. Здесь было тихо и мирно, как в глубоком тылу. Здесь было озеро. На озере — заросший зеленью остров. На острове стояли развалины крепости, которую, по преданию, защищали польские конфедераты в 1863 году. В местечке были тенистые сады и главная улица с наглухо заколоченными магазинами, по которой по вечерам парами ходили девушки. Здесь был расположен штаб дивизии, и сюда регулярно приходили газеты.
Слухи о падении Петрограда, Тулы и даже Москвы оказались вздором. Самый страшный враг — Колчак — был отброшен в Сибирь.
Рабочая Республика Советов дралась решительно и жестоко на всех фронтах, и не могло быть и речи о падении власти Советов.
В первые же дни стоянки дивизион получил снаряды, табак, обувь. С Восточного фронта пришли бодрые, победоносные подкрепления. Среди них были герои Перми и Царицына. Они принесли с собой дух уверенности в своем превосходстве над врагом.
Красное командование понимало, что Пятнадцатая армия нуждается не только в отдыхе, но и во всестороннем оздоровлении. Политотделы дивизий получили задание максимально использовать передышку.
Уже было ясно для своих и для врагов, что политическая работа в красных частях делает чудеса. Она поднимает бойцов до высоты и доблести тех героических красногвардейских, матросских и партизанских отрядов, которые брали Зимний, защищали Царицын, громили Колчака, удерживали Астрахань.
Бабин вызвал Алексея в штаб.
По широкому тракту, который вел к станции, тянулся нескончаемый обоз. Ездовые последней телеги с ленивым лукавством разговаривали с женщинами, которые шагали босиком вдоль канавы, забросив на плечо башмаки на резинках. Красноармейцы уговаривали их сесть на телегу. Бабы не соглашались, но не спешили вперед и не отставали. Алексей прислушивался к затейливому флирту возниц и крестьянок и думал о Вере. Пехотный командир без ординарца догнал его. Спросил прикурить и поехал рядом. Он бодро поднимался и опускался в седле. Свежие крепкие ремни, веселая новая фуражка подчеркивали его подтянутую фигуру. Он смотрел вперед и, казалось, вовсе не интересовался Алексеем. Алексей отвечал ему сдержанным молчанием. Но вскоре командир выдал себя. На самом деле он уже страдал оттого, что этот грузный военком не спрашивает его, откуда он и как сюда попал. Полк, с которым он высадился на ближайшей станции, был подобен скале среди мелких волн тыла этой еще не знакомой ему армии. Москва приодела победителей Колчака, снабдила всем необходимым и еще раз накрепко уверила, что все они герои и знамя их полка больше не склонится ни перед каким врагом.
Узнав, что перед ним боец Восточного фронта, Алексей засыпал его вопросами, больше не заботясь о собственной солидности, и командир рассыпался перед ним в радостной, немного наивной похвальбе, какая свойственна много перенесшему и уцелевшему солдату.
Кама, Белая, Кунгур, Шадринск, Курган. Тысячи километров славного похода. Ободряющий дух побед. Сквозь пургу, солончаки, болото, морозы. Радость деревень, скинувших с плеч кошмар карательных отрядов. Бурные встречи с партизанами.
Зависть клубилась в сердце Алексея. Вспомнился партизан Седых… его отвергнутые соблазны. Несомненно, и его лихая бригада переживала те же изменения, и теперь выросшая из нее стройная дивизия совершает чудеса храбрости и стойкости.
Политотдел дивизии стоял на краю местечка. В раскрытые окна низкого дома тянулись ветви яблонь и рябин, а навстречу им неслись звуки машинок, голоса лекторов и докладчиков. Опыт боевого года становился предметом изучения.
Около примерного плана работы политотдела, вывешенного в коридоре, толпились политработники, и начальник политотдела сказал, что партия, как всегда, придает огромное значение работе по плану всех армейских организаций.
Теперь Алексей при составлении плана обстоятельностью и упорством удивил даже Каспарова. Он уже знал: из вялых рук выпадает самое лучшее оружие.
Сергеев, по совету Каспарова, написал в армейскую газету заметку о фланговом марше и об измене командиров. Редакция прислала Сергееву несколько номеров газеты с его статьей и предложила осведомлять ее впредь о жизни части. Выступая на собраниях, Сергеев никогда не упускал случая козырнуть своими связями с армейской газетой.
В конце июня в дивизион прибыл политрук. Он никогда не затруднялся в выборе методов работы. Он заявил было Алексею, что без плана работать лучше. Но Алексей был непреклонен. И, расчесывая непокорную гриву, политрук засел за план. У него были синие глаза, рыжие волосы, картавый говор и веселый нрав. Он привез с собой ворох песен и рассказов, молодых, как породившая их армия, легенд. На канцелярскую двуколку он погрузил ящик с брошюрами и книгами. Вечерами на дворе вслух читал газету. Только прослушав все новости, красноармейцы шли на темные улицы под липы, где ждали их девушки, как всегда и всюду неравнодушные к людям с оружием и накопившейся страстью. Политрук окончил партшколу в Петрограде. Он был убежден, что мир в основном теперь понятен ему, и был горд этим ощущением, как и разнообразными знаниями, которые внушали ему пылкие и настойчивые агитаторы школы. Он бывал искренне разочарован, когда оказывалось, что слушатели уже осведомлены о том, что он собирается преподнести им как новое. Он бывал в Москве и Петрограде, слушал Ленина, Свердлова и Фрунзе. Он старался подражать вождям и то говорил горячо и увлекаясь, то медленно ронял слова, полные веса и значительности. Его хорошо приняли не только красноармейцы, но и молодые командиры.
Почти ежедневно дивизион посещал инструктор политотдела. Это был сосредоточенный, остроносый, остроликий человек. Он напоминал Алексею старшего инженера цеха, который подолгу стоит у машин, присматриваясь к движению каждой детали.
Алексей чувствовал, как на него и на его часть, не останавливаясь, изливается поток энергии и организующей мысли. Он подчиняет себе, не дает застыть на месте, не позволяет опуститься. Это инструктор, политотдел, штабы, в свою очередь, чувствуют такое же воздействие сверху. Оно идет из обильного и неустанного родника. Скорей всего из Кремля, от самого Ленина. Смешно было вспомнить старую армию, где хранились традиции, как бы нелепы они ни были в новой обстановке, а все свежее казалось враждебным и губительным. Здесь все изменялось, все росло, все укреплялось во имя победы.
На другой день после ареста Сверчкова к Алексею пришел Веселовский.
Хмуро и молча Алексей предложил ему табурет. Но Веселовский остался стоять.
— Я пришел поговорить серьезно, товарищ военком.
Алексей кивнул головой.
— То, что случилось в дивизионе, можно истолковать так, что все офицеры против Советской власти и, следовательно, командирами быть не могут.
Алексей поднял на него глаза. Только что он говорил на эту тему с Каспаровым.
— Так вот, — приближаясь к столу, заявил Веселовский, — я пришел вам сказать от имени своего и Климчука, что мы осуждаем поступки Синькова и его сообщников, уверяем вас, что нам вовсе не были известны их планы и мысли, и обещаем вам доказать, что мы хотим и сумеем помочь Советской власти в борьбе с белыми…
Это звучало в одно и то же время торжественно и искренне.
Климчук, который задержался было в сенях, тоже вошел в избу и стал рядом с товарищем.
Лето жаркими днями, черными ночами, зорями, от которых огневело озеро, отражавшее черные зубцы крепостной стены, перекатывалось над местечком. Впервые за все время Алексей писал Вере часто и без того стеснения, которое лишало их переписку установившейся между ними простоты и доверия. Вечерами под окнами его домика проходили парочки. Красноармейцы добродушно высмеивали любовные неудачи и успехи товарищей. К Веселовскому приходила жеманная девушка, дочь аптекаря, гордившаяся крохотными носовыми платочками и стыдившаяся разбитых туфель. Гармонист Крикунов сложил о ней частушки, которые пел на мотив «Разлуки».
Алексей не был красив, но он был виден, крепок и статен. Местечковые девушки не обходили его взглядом. Не в его характере было тосковать или томиться беспричинно. Он был из тех, для кого любовь как жажда, которой бессмысленно сопротивляться. Но Вера бесконечно осложнила и вместе с тем упростила для него этот вопрос. Ни одна женщина на свете не могла ему подарить ощущений, какие он испытывал с нею. Раз поднявшись на высоту большого, взволнованного чувства, он не хотел больше переживать вполовину. Самая память о Вериной ласке уже была дороже наслаждения с другой.
Каспаров, единственный, кто знал о любви и думах Алексея, посоветовал ему попроситься на побывку в Петроград. Но смешно было и думать об этом. Времени не хватает съездить в штаб с личным делом…
В июне пришло письмо от сестры. Это был первый вечер, когда Алексей не работал. Настя писала, что Вера ждет ребенка. Это уже заметно, но Вера все просит не писать Алексею.
Никогда еще не думал Алексей, что у него скоро может быть сын. Первая мысль была не о ребенке, а о Вере. Отчетливо подумалось, что у него есть жена. Крепкая связь! Где-то там, в большом городе, по пустой квартире ходит красивая, легкая женщина, носит под сердцем его ребенка, думает о нем.
Алексей любил в Вере красивую женщину, любил слабое, всеми оставленное существо, которому он предложил свою мужскую помощь, любил ее необычайную правдивость и искренность. Но временами ему все еще казалось, не случайна ли эта связь с интеллигентной, прежде такой чужой женщиной?
Теперь все эти струйки завязались в крепкий узел. Стало уверенно и спокойно.
Он написал Вере письмо, выдал Настину тайну, разрушая заговор женщин с той уверенностью, какую дает только радость. С красноармейцем, ехавшим в Петроград, он послал им сверток с маслом, сахаром, мукой, истратив на посылку двухмесячный комиссарский оклад. Красноармеец привез ему ответное письмо и несколько пачек табаку — подарок Веры.
Алексей ежедневно с жадностью читал газеты. По-прежнему на юге и на востоке шли бои, и по-прежнему Северо-Западный фронт оставался спокойным. Он сам стал склоняться к мысли, что недельная поездка в Петроград не повредит делу. Втайне он думал, что теперь будет удобно проситься на другой, более активный фронт. Он посоветовался с Каспаровым, заготовил бумажку и поскакал в штаб. Но ему не пришлось даже заговорить о своей просьбе. Бабин встретил его в коридоре, взял за плечо и повел в свой кабинет. Сюда был вызван начальник политотдела, и Алексей вышел из кабинета с мандатом военкома артиллерии дивизии.
Месяц прошел в ознакомлении с частями, разбросанными на большом участке. Рапорт был отправлен в Петроград на Крюков канал в качестве вещественного доказательства его стремления к Вере.
Разлука становилась тягостной и беспокойной. Она доставляла минуты мучительной истомы, которая переходила бы в тоску, если бы ей давали волю. Теперь приходилось не только выполнять план политработы, но и требовать выполнения его от других. Под давлением штаба и политотдела армии Алексей торопил командиров и военкомов батарей, как будто передышка вот-вот должна оборваться и все части Северо-Западного фронта вновь призовут к действию.
В октябре газеты принесли весть о том, что Юденич снова двинул войска на Петроград. Момент был выбран не случайно. Переговоры Советов с Эстонией послужили ширмой. Командование Седьмой армии переоценило наступившее спокойствие. Поддержанные английским флотом и эстонской армией, белые войска быстро двинулись вперед. На закрытом собрании в политотделе Алексей узнал, что белыми уже взят Ямбург. Хорошо снабженные, с артиллерией и танками, они устремились вдоль железнодорожного пути к Гатчине.
Дивизия получила приказ командзапа быть готовой к нанесению удара с юга на север, во фланг и тыл белой армии.
Начались бешеные дни, наполненные сборами, маршами, походами, мелкими, но упорными стычками.
Пали Веймар, Волосово, Копорье, Елизаветино и, наконец, Гатчина. В это же время Деникин шел на Орел. Колчак, отброшенный в сибирские степи, вновь занял Тобольск.
Какая участь постигнет Петроград, город, не склонивший голову ни перед блокадой, ни перед голодом и холодом, ни перед угрозами германцев и английского флота?!
Ночь заглядывает в высокие окна. Может быть, Вера сейчас открывает форточку и гул выстрелов стелется над крышами темных домов. А на чердаках, в подвалах люди, сброшенные волею большинства, опять, как в мае, точат ножи, чистят наганы для расправы, для удара в спину. Может быть, жена его завтра станет бездомной, гонимой, будет ввергнута в темницу с ребенком, еще только бросившим первый взгляд на мир. Ведь на площади и проспекты Петрограда первыми ворвутся люди, которые убили и изуродовали Карасева, повесили генерала Николаева. Они ненавидят революцию и боятся ее, как сапа. Когда обнаруживают сап, сжигают трупы коней и самые конюшни. Известью заливают землю, на которой они стояли…
Какая участь постигнет тебя, Петроград, если белые, хотя бы на один день, станут твоими хозяевами?! Что станет с твоими улицами, предместьями, заводами, с людьми, предки которых камень за камнем построили тебя?! С людьми, служившими тебе без права взглянуть в твое лицо, не покинувшими тебя, когда ты оскудел и измучен! Свежий номер армейской газеты разворачивали как телеграмму, пришедшую глухой ночью. Но и газеты были редки. Дивизия Алексея пробивалась с боями на север, чтобы нанести врагу фланговый удар и отрезать его от баз и руководящих центров. Враг, бросивший лучшие силы на Петроград, не в состоянии был остановить этот напор. Он отступал, глубоко обнажая фланг Алексей знал, что он участвует в самой опасной для белых операции, но все-таки он заплатил бы любую цену, лишь бы быть сейчас не здесь, а там, под Пулковом, стоять между врагом и городом, зная наверняка все худшее и лучшее, не терзаясь между надеждами и сомнениями.
Пало Детское Село. Письма больше не шли из Петрограда. Дивизия Алексея рвалась к Луге. Кто скорее, кто раньше?! Как горяча земля под ногами сражающихся за себя, за сына, за революцию, за будущее человечества!
Сверчкова арестовали, потом везли под конвоем в товарном вагоне, потом допрашивали с большими промежутками, которые казались ему невыносимой мукой. Он просиживал в оцепенении долгие дни и нескончаемые ночи. Временами он понимал, что включен в большое, сложное, многолюдное дело, и это сознание то приносило ему облегчение, то, напротив, углубляло его отчаяние.
Следователь полагал своим долгом обосновать обвинение и, естественно, считал, что все усилия Сверчкова будут направлены к тому, чтобы оправдаться во что бы то ни стало. Но Сверчков еще ни на секунду не сумел посмотреть на свое положение трезво и попеременно становился то союзником, то неистовым врагом следствия.
Факты были расположены обвинением в строгом порядке. Они, как шахматные фигуры, заняли свои исходные угрожающие позиции на листах обвинительного акта. Сверчкову издавна были известны контрреволюционные настроения Синькова и Воробьева. Ночью в овине он узнал, что настроения эти нисколько не изменились, что офицеры затеяли заговор. Сверчков отлично представлял себе все последствия такого заговора. Он — бывший офицер и прекрасно знает, что такое заговор на фронте. Его письмо к Вере свидетельствует, что он даже представлял себе, кто именно падет первой жертвой. Умолчав о заговоре, он предал интересы Красной Армии. Он — виновник вооруженного столкновения, едва не кончившегося смертью военкома. Если бы это было обычное уголовное преступление, он и тогда не избежал бы скамьи подсудимых.
Вывод: так мог поступить только убежденный, злостный контрреволюционер, враг Советской власти и Красной Армии.
Всем духом своим Сверчков бросался в бой с подобным выводом. Если бы он был врагом революции, он тысячу раз мог бы бежать на Дон, в Сибирь, в Архангельск. Мог перейти к белым на фронте. Но у него не было даже колебаний. Он — сын бедных родителей. Реакция, царизм были ненавистны ему с детства. Его семья и он сам испытали на собственной шкуре могущество богатых. Он помнит трагическую смерть отца и узловатые от работы и ревматизма руки матери. В офицерской среде он был белой вороной. Его любили солдаты…
Но для следователя трибунала вся эта аргументация была подвержена сомнению в каждом своем пункте и, что самое главное, шла как-то мимо. Следствие вовсе не обязано пускаться в пучины психологических исследований. Понять — оправдать: эта формула хороша для философа, но не годится для суда и следствия. Суд, как каботажное судно, идет от маяка к маяку, от факта к факту. Факты все были на месте, и совесть следователя была спокойна. Он выполнял свой нелегкий, но, безусловно, необходимый долг.
Иногда он приоткрывал перед Сверчковым завесу большого дела, в котором Сверчков занимал весьма скромное место.
Это был новый большой заговор в пользу Юденича, который и сейчас рвется к столице. Это был дьявольский план сильно ударить в спину защитникам Петрограда. Синьков был в связи с Живаго и через него с Гельсингфорсом и Ревелем. Дефорж и Малиновский входили в штабную организацию, возглавляемую эсеркой Петровской и начальником штаба Седьмой армии Люндеквистом. Живаго, эсеры и Люндеквист находились в тесной связи с агентурой посольств, со всей шпионской сетью исконных врагов русского народа, стремившихся превратить Россию в колонию, закрепив ее экономическое порабощение целой системой кабальных договоров с будущими правителями страны, своими ставленниками.
Глобачев проник даже в клубную секцию Политуправления. Заговорщики мечтали поднять восстание в момент, когда солдаты Юденича подойдут к Обводному каналу. Глава заговора, Люндеквист, сам составил план наступления белых, которому и следовал штаб Юденича. Заговорщики заблаговременно образовали правительство, которое должно было расставить виселицы на всех перекрестках города и устроить судилище, рядом с которым суды Тьера показались бы в истории только первым скромным предупреждением.
Сверчков немел перед трагической связью своих колебаний и этими фактами, которые казались ему в устах следователя раскатами грома. Он опускал голову и, оставаясь один, казнил и мучил себя так, как не мог бы измучить его самый немилосердный приговор. Он вершил свой высший суд над собою. Маленькими и пошлыми казались Сверчкову его душевные порывы, которые он, подобно нахохлившемуся воробью, подставлял навстречу мировой буре. Он завидовал юноше Веселовскому, который входил в новые дни без всякого надрыва, без отравляющей тоски по прошлому. Теперь он, чтобы быть не только в прошлом, но и в будущем, уничтожал в себе гордость. Но ему по-прежнему не удавалось почувствовать землю под ногами. Он видел себя в большой, бурно несущейся реке без руля и без весел. Оба берега летят мимо. Он между ними. Он ничей. Обоими отвергнутый, никому не потребный. Впереди — туман и в нем случайная скала, о которую суждено ему бесславно разбить свою голову.
Судьи почувствовали эту внутреннюю драму человека, сидевшего на скамье подсудимых. На совещании подвели итог всего того, что можно было бросить на чашку весов в оправдание подсудимого. К тому же подоспевшая к этому времени победа на фронтах гражданской войны сделала их снисходительными.
Условный приговор выслушал заросший, расчесывающий грудь человек, уже до смерти измученный самим собой. Условная свобода не подняла его головы и не прояснила глаз. Дерево было подрублено у самого корня.
Но он пообещал судьям, что к концу условного срока у них не будет оснований раскаиваться в проявленной снисходительности.
Он вышел из зала суда на улицы Петрограда с решением ехать в любую деревню и искать исцеления в простом труде на лоне природы.
Глава XVIII ДВА ПЕТЕРБУРГА
По старому шведскому преданию, Карл XI подарил обширные, завоеванные в устье Невы земли своему приближенному, графу Стенбоку. Места были дики и без людны. Каждую осень рыбаки приневских деревушек уходили от наводнений до Дудергофских высот. Стенбок решил, что на дареных землях лучше всего построить охотничий замок.
Так возникла мыза «Веселый остров».
Через три года вода поднялась в Неве небывало высоко и смыла «Веселую мызу».
Стенбок назвал «Веселый остров» «Чертовым островом» и навсегда покинул опасное место.
На «Веселом», «Чертовом», острове первый российский император построил Санкт-Петербург.
Царь уходил на север, на отвоеванные у шведа, возвращенные исконные русские земли, к желанному Балтийскому морю. Уходил от голодной московской черни, от буйной Волги, от нетихого Дона, от московской стрелецкой вольницы, от бородатых крамольных бояр, от всех беспокойств, какие грозили отцу и деду Петра и ему самому в юные годы.
С насиженных мест, от теплых московских хором, от вотчин, поместий, воеводских доходных мест обозами ползли на север все, кому хотелось или нужно было быть ближе к царю. Чертыхаясь, кляня заморские моды царевы, выбирали остриженные бояре участки мокрой земли на берегах болотных речушек, рубили просеки, ставили деревянные и каменные дома, подальше один от другого и обязательно с комнатой для ассамблеи.
Расторопные купцы и приказчики, отмораживая ноги, гнали на север хлеб, сушеную рыбу, мед и вино, борясь за небывалый процент торговой прибыли.
Десятки тысяч украинцев, татар, острожников и крепостных рабов копали рвы, спускали воду, строили новый город в старой стране, новую столицу блестящей Российской империи.
На Зайцевом островке возникла крепость. За крепостной стеной стали домик коменданта, казармы и «плясовая площадка», на которой пороли солдат.
Слывший умнейшим человеком князь Григорий Долгорукий, побывав в Петербурге после двух десятков лет с его основания, писал Шафирову:
«Губернаторам теперь хотя и худо — но кому жить легко? — но я полагаю, ни один из них не захочет ехать в Петербург».
Архангельск все еще был первым портовым городом империи, но к петербургским пристаням все чаще и чаще приходили в гости заморские флаги. Голландские и английские шкиперы с железом, канатами, парусами, табаком и сельдью привозили сукна на камзолы, цветные цилиндры, жабо и галстуки, перламутр и янтарь для дворцов, парижские моды — свежий ветер западной торговой культуры, и навстречу им новый город поднимал стены гостиных дворов и складов, биржи, верфи и церкви, построенные на верную прибыль.
Теснились дома на Невском, мостились улицы, воздвигались, горели и опять отстраивались дворцы. Петиметры шаркали подошвами по гранитным тротуарам, росла столичная канцелярия, скрипя перьями на всю Русь. В новых Версалях Петергофа, Царского Села и Павловска, окружив себя преторианской гвардией из служилого дворянства, проживали цари, рассылая во все концы необъятной страны губернаторов и фельдъегерей.
Еще по-настоящему не поднимался спор — минуют ли святую Русь пути капиталистического развития, а Петербург становится авангардом торговой, а затем и промышленной России. Не прошло и столетия, как новый город обогнал многие старинные города и гавани Европы. В 1770 году в Петербурге едва сто пятьдесят тысяч жителей, а в 1850 — уже полмиллиона. Торговые обороты города спорят с оборотами Москвы.
В 1856 году в Петербурге числится до семи тысяч торговых и до шести тысяч ремесленных предприятий. Петербургский порт вывозит до полутора миллионов четвертей зерна и ввозит на два миллиона серебром машин.
Еще в 1845 году Белинский писал: «Москва одна соединила в себе тройственную идею Оксфорда, Манчестера и Реймса. Москва — город промышленный. Она одевает всю Россию своими бумажно-прядильными изделиями, ее отдаленные части, ее окрестности, ее уезд — все это усеяно фабриками и заводами, большими и малыми. И в этом отношении не Петербургу тягаться с ней».
Белинский ошибся. На берегах Невы, за питерскими заставами, у Екатерингофа и на Выборгской капустные огороды уступали участок за участком крупнейшим промышленным предприятиям России. Здесь выросли тяжелая машиностроительная индустрия, химическая промышленность, верфи, пушечные заводы, арсеналы.
Кардифский уголь, водные пути, дешевые рабочие руки, близость к заказчику разрешили вопрос в пользу нового города, отделенного тысячами километров от хлеба, от собственных угля, руды и нефти.
Перед войной царский Петербург достигает вершин своего блеска. «Северная Пальмира» широко раздвигает продуманные ансамбли пышного барокко и монументального, строгого ампира. Широкие проспекты, гранитные набережные, дворцы, особняки с зимними садами, министерства, торговые дома, дворянские собрания, купеческие клубы, мягкие торцы — таков центр. Здесь ходят нарядные толпы. Невский — выставка парижских и венских мод. С крещенских парадов идут по Морской гвардейцы в шинелях с бобровыми воротниками, в киверах и касках, поражая зевак блеском начищенной меди. Полны модные кондитерские, белые перчатки у городовых, и околоточный, захлебываясь, кричит студенту, не снявшему фуражку перед золоченым автомобилем Николая последнего:
— Во время высочайшего проезда!.. Я сотру вас в пор-ро-ш-шок!
В Летнем саду, на Невском, на площади перед Зимним не увидеть бедно одетых людей.
Петербург гордился широкими улицами, хотя они были крыты булыгой и у Зимнего дворца не за диво можно было увидеть выбоину. Бедекер перечисляет десятками прекрасные здания Растрелли и Росси, Ринальди и Монферрана, Воронихина, Стасова и Захарова, но электричество только в центре и только для богатых. Рига, Киев, Одесса, любой немецкий городишко мостовыми и благоустройством далеко обогнали русскую столицу. Канализация пользуется долблеными стволами, ванна — привилегия аристократов, богачей и кокоток.
Петербург гордится отсутствием публичных домов, но в десять вечера волны проституток-одиночек заливают большие проспекты. В детской смертности и смертности вообще за Петербургом европейский рекорд. Нечистоты льются прямо в Неву. Из Невы вода идет по водопроводам.
Блестящие парады на Марсовом поле и грязь площадей, дворов и жилищ — такова столица Романовых.
На набережных, на Моховой, на трех-четырех таких улицах, по которым не разрешают проводить трамвай, осела феодальная знать. Особняки таинственны для всех непосвященных. Только разорение или скандальный процесс приоткрывают их зеркальные двери, отодвигают пологи альковов для всех. Гордая бедность здесь встречается не реже, чем полнокровные миллионы. Россия для их хозяев — это страна, разлегшаяся по дороге к их имениям, разделенная на угодья их родственников и знакомых. Они читают Бергсона и Ницше, целуют руки жирным архимандритам, живут с прислугой и боятся мезальянсов. У них все в прошлом, и вся деятельность их направлена на то, чтобы затушевать, перелицевать, загримировать историю.
На тусклых линиях Васильевского острова, в переулках Петроградской стороны обитают «люди двадцатого числа», чиновники. Они взирают на Россию как на колонию. Это они ревизорами наводят страх на Вятку и Чернигов и возвращаются с богатыми подарками для всей семьи, рапортуя о благополучии провинции. Они тянутся за высшим светом, который их презирает. Они разделены на круги по чинам и окладам. Статские подают надворным два пальца. Получив новый чин, переезжают в большую квартиру и дерут с живого и мертвого, чтобы занять еще более фешенебельную.
Это о них острит «Современник»:
— Москва нужна России, для Петербурга нужна Россия.
У Сенной, у Пяти углов, на Гороховой — люди мошны и делового оборота, владельцы фирм, магазинов, подвальчиков, чайнушек, пивных, лавчонок и торговых домов, от старика старообрядца, чесанного в скобу, и до промышленника третьедумца с душистыми бакенбардами.
В самом центре торгового мира, как язва на рябом лице, Вяземская лавра с пьяными нищими, хриплыми проститутками, со всем ужасом и смрадом кабацкой нищеты и дурной болезни.
Все щели и поры этой части города набиты мещанством, тупым и порочным, ханжески ставящим трехкопеечные свечки у Казанской, сплетничающим на лестницах, холуйски прислуживающим всюду, где звенит двугривенный.
А за этими кварталами — целое море рабочих застав и окраин. Заводы, обнесенные крепостными стенами, покосившиеся домики, жилые сараи, лачуги, коровники, где рядом ютятся человек и теленок, — вплоть до гнилых капустных полей, впадающих в болото.
Петербург высоко стоит над Россией. В тишину ее «медвежьих углов» бросают свои слова витии столицы.
«Медвежьи углы» не всегда отвечают им тишиной.
Но надо снять с императорского, чиновного Петербурга вину за Радищева и Рылеева, Пушкина и Толстого, Попова и Менделеева, за весь неповерхностный европеизм, за прижившуюся здесь великую русскую литературу и науку. Они непрошеными гостями пришли на берег Невы, и все царские шаманы, от Бенкендорфа до Распутина, были призываемы, чтобы согнать с чела самодержавия эту «опасную коросту».
Три Александра и два Николая целью своей жизни ставили ослепить, оглушить и обыдиотить страну, и не их вина, если случилось иначе.
Петербург воспет и превознесен. Северной Пальмирой зовут его за морями. Панорамы его дворцов прекрасны. Его набережные не имеют себе равных в колдовские белые ночи.
Решетку Летнего сада, золотой купол Исаакия ищет взор иностранца. Прекрасна победа человека над топями блат. Пушкин и Дельвиг, Толстой и Чернышевский любят этот северный город.
Но лучшие люди любят Петербург с надрывом. Это город-девица в плену у гиганта урода, разбросавшего по его улицам полосатые будки, солдат и нищету.
Нет сил пережить этот уродливый контраст, и для многих город-марево встает над городом-фактом. Одни подъемлют над ним медного Петра, которому в лицо бросает жаркие слова Евгений, для других Христос и Антихрист вступают в борьбу в облаках и туманах, приникших к Неве.
Но зоркие глаза уже мечтают видеть его ареной мировых событий, городом людей иной, высшей эпохи.
Всероссийские самодержцы ушли на север от смут, какими грозила им голодная крепостная Россия. Но смута шла по пятам смоленских и ярославских обозов. Выстроенный Петром город стал ареной новых, роковых для самодержавия битв.
Столичная голытьба, живущая в мокрых подвалах, надрывающаяся в порту и на стройках, еще в Петровы и Екатеринины времена нередко кончала свои дни в тайных канцеляриях и застенках Толстого, Ушакова и Шешковского или с рваными ноздрями шла под конвоем в Сибирь.
Телохранители-преторианцы грозят только неугодным царям, они не грозят самодержавию.
Либералы — гвардейцы, массоны и иллюминаты, повидавшие Париж, площади которого еще не остыли от крови девяносто третьего года, уже говорят о конституции.
Затем приходит революционер-демократ, разночинец, все критикующий, все отвергающий во имя крестьянской общины, с бомбой, как ultima ratio, в руке.
Петербург становится шахматной доской, на которой делают свои ходы полицейская империя, молодая либеральная, потом разночинная революция. На выстрелы на Сенатской площади «бригадный командир» отвечает пятиствольной виселицей, на «пятницы» фурьериста Петрашевского — Третьим отделением и Особым корпусом жандармов. Вольнодумство объявляется первым из смертных грехов. Вольнодумцами наполняются казематы Петропавловки и Шлиссельбурга. Гремит на набережной каракозовский выстрел, стреляет Соловьев. Рвется бомба Гриневицкого на Екатерининском канале. Всю Россию содрогают петербургские выстрелы. Вся страна затихает после каждого строя виселиц на Семеновском плацу.
Первого марта 1881 года, несмотря на смерть царя, генеральное сражение было проиграно народниками. Пьяный царь торжествует.
Но как раз в дни «миротворца» растет и зреет самая могущественная, самая многочисленная, самая организованная, самая неумолимая и самая последовательная революционная сила, которой суждено стать могильщиком самодержавия, — рабочий класс.
Первые застрельщики идут еще с народниками. Степан Халтурин взрывает Зимний. Но уже новое учение захватывает актив рабочего класса. В стачках, в забастовках, в подпольных типографиях созревают революционные кадры.
В предвоенном Петербурге — двести пятьдесят тысяч цензовых пролетариев. Окраина осадила барский центр. В тревожные дни полиция разводит мосты, и центр этот превращается в осажденную крепость.
Два враждебных Петербурга стоят друг против друга. Вражда и борьба не затихают ни на минуту. Девятого января последний царь утопил в крови последние иллюзии рабочих. Их не обмануть больше ни муаровой рясой, ни конституцией, ни Думой, ни крестом на Святую Софию. На них не подействуют заклятия всей бранной славой Государства Российского, всей дедовской ненавистью к иноплеменникам. Народ готов защищать свою страну, свою независимость, но только свою, а не чужую, не царскую, не дворянскую, не кадетскую, не соглашательскую, а свою, трудовую, народную.
Глухими ночами роются в рабочих квартирах околоточные, приставы, штатские люди в котелках. По ночным улицам, прямо по булыге, шагают арестованные. Вереницы рабочих активистов идут от централа к централу, по Владимирке, в Туруханск, Минусинск, Нарым. Полны участки, каталажки читающими и печатающими прокламации. Матери, переступив через свою любовь, выкрикивают слова борьбы и ненависти.
Все три поколения всероссийской революции имеют свой штаб в Петербурге. Петербургские особняки скрывают заговорщиков из лагеря либеральствующих аристократов. В маленьких квартирках на Гороховой и Мещанской начиняют железные коробки динамитом бунта ри-разночинцы. Марксисты-большевики — с ними молодой помощник присяжного поверенного В. И. Ульянов — работают в подполье на Выборгской, за Нарвской, в цехах больших заводов, кольцом окруживших столицу.
Петербург единственный ответил на объявление войны баррикадами и первый, в ответ на поражение армий царя, поднял знамя Февраля и Октября.
Октябрь разрешил спор навсегда. Революция отдала город пролетариату, тем, кто построил его и украсил. Нет больше двух Петербургов! Есть одна столица Революции. Ветер истории веет над его улицами. Знамя народной воли поднято над его башнями и дворцами.
Пушки Юденича — на Пулковских высотах. Они направлены в сердце Петрограда.
Раздвоить этот город. Разделить опять на два лагеря. Начать сызнова извечную борьбу. Установить жестокую расплату за попытку изменить «священный порядок вещей».
В туманах лежал большой город, обезлюдевший, обескровленный, но все еще грозный, готовый на последнюю трагическую схватку.
Дни были коротки и тревожны. Ночи подступали к окнам непобедимой чернотой, густыми мглами. Казалось, тучи, любопытствуя, опускались на освобожденные от людей улицы и ползли, забираясь во все закоулки города.
Улицы пустели еще в сумерки. Патрули останавливали всех без исключения прохожих.
Вздрагивали стекла, и пустые комнаты вздыхали в ответ на дальние залпы орудий.
Дом на Крюковом, наполовину пустой, замолкал рано. Служащие возвращались по неосвещенным лестницам, выставив вперед растопыренные пальцы. Сбиваясь со счета площадок, чиркали последней спичкой перед дверьми, предпочитали стучать, а не звонить. Жены или матери поднимались с диванов и кроватей из-под вороха теплых вещей, растапливали крошечными поленцами «буржуйку», зажигали в баночке из-под горчицы фитилек «волчьего глаза». Язычок пламени, напоминавший сходившие на апостолов иерусалимские огни, колебался при всяком движении, и тени на стенах были самым живым и энергичным из всего, что населяло эти обреченные буржуазные квартиры.
Возвращаясь по ночам, Вера вынимала из сумочки выданный школой пропуск, предъявляла красноармейцам и шла дальше, ступая с той осторожностью, которая вырабатывается в последние месяцы беременности. На лестницах у нее громко стучало сердце. В черных углах виделись замершие напряженные силуэты.
Когда авангард Юденича захватил Гатчину, Настя ушла работать в военный комиссариат. Она пропадала там целые дни. Девушки и женщины с заводов, из рабочих кварталов привлекали ее все больше. Они были деятельны в эти дни, как и мужчины. Они заменяли ушедших на фронт у станков и в учреждениях. Они работали в ЧК, они рыли окопы и боролись с дезертирством. Они заседали в трибуналах и организовывали санитарные отряды. Эти девушки и женщины не видели ничего особенного в том, что Настя полжизни прожила в людях, но считали, что с этим навсегда надо покончить.
Оставаясь одна, Вера слушала квартиру и свое сердце, которое, казалось ей, бьется теперь двойными ударами. Наскучив одиночеством, она брала книгу и засыпала только глухой ночью.
Ранним сырым утром забежал к Вере Евдокимов. Воротник худого пальто был поднят, и за спиною болтался кавалерийский карабин.
— Я на минуту к вам. Не знаю, когда вернусь. Если б вы согласились хоть раз в день наведываться к Елене Викторовне. Она, знаете, так неприспособлена… — Он с выражением крайней беспомощности развел руками.
— Куда же вы?
— Меня берет с собою Смольнинский отряд. Я и карандаши взял с собою. — Он вынул из бокового кармана плоский сверток и сейчас же спрятал его. — Рабочая молодежь мобилизована вся. Да сейчас и нельзя иначе!
Он сбежал по лестнице, стуча прикладом карабина о перила.
Вера надела пальто, тихо и бережно сошла на улицу.
В воротах толпился народ. Человек в серой шинели раздраженно кричал на собравшихся. Другой раздавал лопаты в подворотне. Из поднятых в холодном тумане воротников на минуту показывались заспанные, худые лица.
— Счастливая! — кто-то пустил вслед Вере.
— Она — военнослужащая.
— Вот их бы и гнали копать окопы. А мы-то тут при чем?!
Катька, подняв лопату, как секиру, гналась за продавцом хлебной лавки, который хвастался тем, что его освободили.
В школе не было занятий. Библиотека оставалась пустой. На восьмиугольном дворе снаряжали в поход курсантскую роту, которая должна была наутро выступить к Красному Селу. Из подвалов выносили мешки и ящики. Груженые телеги отъезжали и выстраивались на плацу. Командиры, в ремнях и фуражках вместо бескозырок, и курсанты в походной форме заполняли величественный подъезд замка, покоящийся на рядах гранитных колонн.
Вера сошла в кабинет военкома.
— Игнат Степанович! Дайте мне какую-нибудь работу.
Суровый, озабоченный военком смотрел на нее с необычной и тем более ценной приязнью.
— Вам бы отдыхать, — кивнул он на ее круглящийся живот.
— Если б не это, — просто сказала Вера, — я бы попросилась с вами в поход.
— Ну где уж там!.. — махнул он рукой. — Еще рассыпетесь…
Его грубоватая ласковость не задевала Веру. Он усадил ее в канцелярии в помощь сбившемуся с ног адъютанту. Перед ее столом проходили вереницей знакомые ей юноши — сегодня курсанты, завтра бойцы, защитники северной рабочей столицы. Их было слишком много, чтобы считать их исключением, и все они держались так, как будто были заранее уверены в победе. В их среде вырабатывался особый стиль, который не позволяет отставать от товарищей, приводит к равнению на лучшего. Вместе с Алексеем они вылечили Веру от мысли, что революция — это нуждающийся в помощи тяжелый больной. Из сестры милосердия мало-помалу она становилась им сестрой по духу.
Когда оркестр бросил на улицы и в сады города громкий марш, Вера оделась и вышла. Первые ряды уже заворачивали на Садовую. Мальчики сбегались на зов походного марша. Тяжелое знамя, расшитое золотом по алому атласу, не поддавалось легкому ветерку, вяло боровшемуся с туманом. Крепкими складками оно свисало на плечо знаменосца. Во дворе гремели фурманки и двуколки, медленно вытягивавшиеся на улицу.
Вера и Острецов сели в трамвай и поехали к Нарвской заставе. Долго шел вслед за ними по притихшим улицам гром барабана и рев могучих басов. Это была бодрая музыка, марш решимости и мужества, пробуждавший в домах, потрясаемых оркестром, чувства несходные, но одинаково сильные.
Это были решительные часы города и страны, и оркестр напоминал об этом всякому, кто способен был забыть главное за шуткой или за личным горем.
В шуме улиц утонул марш, но звуки его не уходили из сознания. Впечатление было так отчетливо, что Вера посмотрела на молчаливо опиравшегося на трость Острецова.
Но все это было проще. Трамвай нагонял другую колонну, шедшую под такие же сильные темпы марша. И если б даже приблизившиеся к городу пушки не свидетельствовали о последнем усилии, — эти бойцы, оторванные от заводов, от рабочих станков и столов и шагавшие к угрожаемым окраинам, говорили о силе напряжения, на которое решался этот город.
У Триумфальных ворот проходили отряды людей в кепках и папахах, с винтовками на плече.
Просветы между четырехугольными устоями ворот были заложены мешками с песком. Гарнизон этой необычайной баррикады мирно сидел у пулеметов и легкого орудия, которое смотрело на Путиловский завод, готовое обжечь улицу жаром картечи.
Из проезжавшего автомобиля окликнули Веру Ветровы. Облокотившись о борт машины, стояла Вера, пока шофер бегал прикурить.
— Мы в отряд, — сказал Олег. — Наутро предстоят боевые полеты.
— А Степан?
— Он летает сегодня над шоссе к Ямбургу, — показал рукой Игорь.
Вера рассказывала им о курсантах, которых она поджидала. Она говорила о настроении в школе и об оркестрах, которые гремят по городу.
— Когда мы будем богаты и снабдим нашу армию современной техникой, — это будет лучшая и сильнейшая в мире армия! — сказал Олег.
— Вы стали воинственны, — улыбнулась Вера. — А когда-то вы были против войны.
— И сейчас мы против, но это тот случай, когда армия создается как принципиальное орудие прогресса. Армия мира, — сердито сказал Игорь. Неужели это непонятно?
— А где Ксения?
— Подождите еще немного — увидите и Ксению. Она с отрядом Выборгского района.
Они укатили в надвигавшихся сумерках.
Было сыро и холодно, но толпа на площади не редела. От этих уходивших бойцов зависит, ринется ли ночью на их бедные, но озаренные надеждой жилища белая гвардия царского генерала, в обозе которой идут мстительные, оскорбленные былые властители столицы, — или враг будет разбит, отброшен, прогнан.
На перекрестках улиц, у мостов через Обводный старики и женщины роют окопы. Военные и штатские устанавливают орудия и пулеметы.
Колонны и отряды останавливались у Нарвских ворот для пятиминутного отдыха и шли дальше. Не было официальных речей, обращенных к провожавшей толпе, — были дружеские разговоры. Главное было написано на знаменах, которые несли с собой уходившие:
Защита Петрограда — дело самих рабочих!
Нет больше чести, как умереть за красный Петроград!
Рабочие, крестьяне, к оружию! Не отдадим Петрограда!
У остававшихся не было ни хлеба, ни цветов для уходивших защитников города. Угощали махоркой, предлагали зажигалки, теплые рукавицы.
Выборжцы, стародеревенцы, василеостровцы — иные видели этот район и эти ворота впервые — шли защищать Нарвскую заставу, которая первой лежала на пути вражеского удара. Ее улицы и площади, быстро превращавшиеся в укрепленные полосы, были крепким кордоном на пути к их собственным заводам и домам.
Снопом неугасимого пламени стоял Петроград над страной. Искры, играя, неслись до самых отдаленных углов. Они зажигали все новые костры революционной отваги и дерзания. Рабочий Петроград не переставал отдавать свою молодежь побеждающей, но еще не победившей новой России.
Теперь настал час для страны заплатить свой долг колыбели Революции.
Отряд за отрядом проходили владимирцы, туляки, смоленцы, вятичи, пензенцы, костромичи, ярославцы, вологодцы. На коротких митингах они клялись не уступать Юденичу первый город Революции. Они говорили о чести защищать красный Петроград, о том, что жены, невесты и сестры завещали им не возвращаться без победы.
Они с любопытством смотрели на Триумфальную арку, на закопченные заборы «завода заводов». Девятое января не должно было повториться на этой круглой площади. У них за плечами были винтовки, в карманах партбилеты как память о замечательных победах, выросших из поражений.
Питер встретил их, как готовая к отражению штурма крепость.
Все коммунисты покинули дома и перешли в казармы.
Рабочие от восемнадцати до сорока лет были мобилизованы.
Все они проходили всевобуч, оглашая улицы и площади криками «ура!».
Две тысячи шестьсот женщин обучались стрельбе.
В районах командовали революционные тройки.
Профсоюзы объявили себя резервом армии.
В Смольном заседал Комитет Обороны. У него уже был опыт майских дней — уроки первых неудач и первой победы.
Девять тысяч рабочих и шесть тысяч красноармейцев вторично производили обыск в квартирах буржуазии. Они наносили удар по руке, готовившей удар в спину. Они извлекли шесть с половиной тысяч винтовок, сто сорок две тысячи патронов, десятки пулеметов.
Питерский комсомол шел на фронт весь как один. Организация вынуждена была заменить революционной тройкой Петроградский комитет, потому что весь он, во главе с председателем, пошел на фронт.
Бойцы шли не всегда в ногу, хотя командиры, забегая вперед, то и дело покрикивали: левой, левой… раз, два, три! В разные стороны глядели дула карабинов и винтовок. Галоши и длинные брюки в другое время могли бы вызвать смех мальчишек, безжалостных ко всему, что портит сильный и твердый строй.
В одном из рядов шагала Ксения. Она выбежала к Вере, и ее подруги сейчас же сомкнули строй. Молодые девушки, взявшие в этот день винтовки, несли голову гордо. Если бы этим шествием управлял командующий парадом, он пустил бы их первыми. Но и в хвосте колонны они чувствовали себя авангардом. Их груди были вынесены вперед. Головы были победно подняты над покатыми плечами. Это был цвет рабочих кварталов, по отбору равный той волне мужской силы, которая легла на галицийских полях. В кожанках, мужских пальто, в овчинных тулупах шла эта женская гвардия питерской революции, держась поближе к курсантскому оркестру, туда, куда и все, — в напряженную пулковскую ночь.
— Отец еще утром ушел комиссаром отряда, — сообщила Ксения Вере. — А мы вчера со Степой сбегали в загс. Он хотел после полета прикатить на машине, а жены-то и нет!
— Куда вы идете? Неужели в окопы? — спросила с тревогой Вера.
— Наш отряд — по борьбе с дезертирством. Уж мы никого не пропустим!
Она сжала Верины руки, поцеловала звонко и сильно и побежала к рядам.
— Смерть витает над ними, а они все о жизни! — сказал Острецов. — Молодость! — прибавил он не с завистью, но с сочувствием.
Начальник и комиссар школы показались верхом. Прошла сплоченная, аккуратная колонна курсантов. Вере кивали из рядов.
Высокий одноглазый человек вел отряд милиционеров. Рядом с ним шла белокурая девушка, как и он, в длинном кожаном пальто и с винтовкой.
У арки одноглазый остановил отряд, осмотрел толпу и очень громко, ни к кому не обращаясь, заявил:
— Мы скоро вернемся — не советую очень распускаться…
Из толпы выдвинулся человек в кепке, опущенной на глаза, и, глядя себе на ботинки, сказал:
— Не беспокойтесь, товарищ. Все будет в порядочке. Разве для пропитания…
Говорят, воры почти не проявляли себя в эти решительные дни, вплоть до момента, когда Юденич покатился от Гатчины к Ямбургу.
На Невском в трамвае Вера увидела Сашину. Катя была смутна и тревожна. Тревога была так несвойственна ей, что казалось, это сидит не Катя Сашина, а ее грустная сестра. Под стук разбитого вагона, подозрительно оглядываясь, она шептала Вере, что в запасном дивизионе раскрыт заговор. Малиновский и Дефорж арестованы. У них были связи со штабом через какого-то эсера Глобачева. А Глобачев был связан с эсеркой Петровской. А штабные, оказывается, имели связь с Юденичем и Гельсингфорсом.
«Те, которые идут сейчас к Пулкову, не смогут простить такое…» — подумала Вера.
— Огородников пишет… — грустно улыбнулась Сашина. — Он комиссаром. Смешной такой. Но очень, очень славный. — Улыбка стала мягче и женственней. — И все как-то стало непонятно. Порослев перевел меня в общую канцелярию и теперь не здоровается за руку…
Но все волнения и смуты этого дня не отягчили Веру. Даже записка от Насти, которая сообщала, что уходит на три-четыре дня с питательным пунктом. Настя советовала Вере, в случае чего, ехать на Выборгскую к Федору.
Подниматься на седьмой этаж было нелегко. Елена сидела молчаливая и холодная, как всегда. Она раскладывала пасьянс. В комнате было не топлено. Но Елена отказалась спуститься на ночь к Вере. Вера разожгла примус, согрела воду и спросила, есть ли у нее еда.
— Там в шкафу есть что-то. Но у меня нет никакого аппетита.
Ночью в пустой квартире Вера слушала, как гремят пушки. В такую ночь надо было бы молиться неведомому богу, возникающему в темноте человеческой слабости, но Вера позабыла все слова детских молитв. Она разделась, положила руки на свой крепкий, как мрамор, живот и уснула, слушая стуки второго сердца.
Глава XIX ОТ ЯМ ИЖОРЫ ДО ЯМБУРГА
Белые обтекали город.
Семнадцатого октября они перерезали Варшавскую дорогу, девятнадцатого — Виндаво-Рыбинскую и устремились к Николаевской.
Связь Петрограда со всей страной и со столицей грозила оборваться.
Городу предстояла судьба крепости, осажденной и предоставленной собственным силам.
Голод стал бы решающим союзником белых.
В то время когда в белом штабе росла уверенность в успехе и ставка седоусого победителя Эрзерума готовилась провозгласить вместо ревельской кучки «демократов» новое, властное и верное престолу «правительство национального центра» во главе с профессором Быковым, царским товарищем министра Вебером, министром Керенского Карташевым и предателем Люндеквистом, — в передовых цепях отряда, прорвавшегося к Ям Ижоре, выходили последние патроны и угасала надежда на успех. Когда пальцам армии уже больно, мозг ее еще пребывает в спокойствии. Нервы армии гораздо медлительнее человеческих.
Лежа в гнилой яме, Ульрих фон Гейзен, которого кровавая повязка на лбу делала похожим на куперовского индейца, говорил так, чтоб было слышно только Воробьеву:
— Где они топчутся?! Как раз когда всем нужно быть здесь!..
Бойцу, участвующему в наступлении, всегда кажется, что место, где он стоит, и есть центр боя.
Воробьев ничего не сказал, но в этом пункте он был согласен с Ульрихом. Оба они и их солдаты чувствовали себя, как должно чувствовать острие летящего копья, если бы оно имело глаза и нервы.
— Значит, не нам суждено первыми вступить в Петербург, очистить его от красной чесотки. Какая досада!
Но Воробьев лучше Ульриха сознавал положение вещей.
«Удивительно, как уживается в нем храбрость с болтливостью», — думал он про себя. Сам он не испытывал никакого желания вкладывать в слова то, что, подобно быстрым облакам, проносилось в его сознании.
В эти дни, когда так близко был момент торжества, он почувствовал необходимость осознать, что хочет он сам, собственными руками, сделать в этом городе. Кому в лицо хочется ему бросить свою ненависть? В кого выпустить семь пуль своего нагана? Кому отомстит он за смерть Синькова? Какую меру крови потребовать от побежденных?
Конечный смысл его собственных действий и действий всей белой армии был ясен. Нужно во что бы то ни стало ликвидировать большевиков, их власть и идеи. Но ближайший практический смысл победы Северо-Западной армии ускользал от него. «Демократические» министры брезгливо морщились при имени Булак-Балаховича. Булак называл их слюнтяями, а Родзянку реакционером. Англичане распоряжались Северо-Западным правительством, как полковник — своим вестовым. Союзники белых, эстонцы и финны, мечтали о Неве как о границе своих республик. Он сам никогда не сомневался ни в своей ненависти к красным, ни в своей преданности «законному порядку». Он был смущен всем тем, что видел от Пскова до Нарвы, всем, что наблюдал на походе. Конечно, он не поддастся этому смущению, как дисциплинированный солдат, который идет в атаку равно по приказу любимого и нелюбимого, уважаемого и неуважаемого командира. Но оно, это смущение, живет в его сердце, не любящем сомнений, светит своими змеиными глазами.
Он видел, что, не теряя часа, из последних сил нужно было ударить по железнодорожному пути, связывающему две столицы, взорвать мосты, динамитом спутать рельсы, уронить стрелки и семафоры.
Утром пушки как будто еще ближе придвинулись к Петрограду. Днем на юго-востоке от Ям Ижоры часто свистели поезда. Казалось, там была расположена узловая станция.
Наступил вечер, подкрепления не подходили, но Ульрих фон Гейзен решил двинуть свой отряд вперед, несмотря на то, что уже вчера к вечеру на этом участке сказалось превосходство красных. Пересеченная густой сетью железнодорожных насыпей местность и сгущающаяся тьма способствовали перебежкам атакующих, но они же помогали и защите. Объект нападения был близок. Даже частичный, даже временный успех может привести отряд к магистральному железнодорожному полотну. Ульрих осмотрел канаву, когда-то служившую границей между капустным полем и болотом. Зрелище неспособно было поднять дух командира. Передышка была необходима, но, по существу, она была дарована врагом, вдруг прекратившим перестрелку. Это был отдых, отравленный неуверенностью в каждой ближайшей секунде. В такие часы растрачивается нервная энергия и не накапливаются силы. Если еще можно было что-либо выжать из этих людей, то это следовало сделать немедленно.
— Ребята! Еще усилие, и мы взорвем рельсы! — сказал он громко. — И все… Отдыхать будем в Питере.
Бойцы поднялись в густом влажном тумане. Их немедленно встретил пулемет. К нему присоединился второй. Человек с сумкой, набитой динамитными патронами, упал. Фон Гейзен наклонился над умирающим. Он срывал с него сумку, но руки раненого не отдавали порученную им ценность. Они хватали пальцы Ульриха, впиваясь ногтями в его кожу и рукава. Невидящие глаза смотрели куда-то в землю, как будто вместо сырой черноты там был простор, наполненный страшным последним движением.
Упало еще несколько человек. Третий и четвертый пулеметы красных присоединились к двум первым. Тогда солдаты, не считаясь больше с командиром, побежали обратно к канаве. Ульрих последовал за ними. Бессмысленно и невозможно было идти с горстью людей по ровному полю на цепь пулеметов.
Красные стрелки сразу же двинулись вслед за отступавшими.
Теперь для всех было ясно, что дневная передышка целиком пошла на пользу красным. Они накапливались всю ночь и весь день. Даже сейчас, где-то слишком близко, стучали колеса вагонов.
Воробьев лег в канаву последним. Раздражала близость недосягаемой цели.
— Нам упорствовать нельзя, — прошептал ему Ульрих. — Перед нами выбор — наступать или отступать. Патроны на исходе, и никто нас не поддерживает.
Пушки, казалось, стремились к Петрограду. Город ничем не обнаруживал себя в сером утре: ни золотыми куполами, ни силуэтами башен и домов.
— И тем не менее придется обороняться, — сказал Воробьев и еще прибавил: — Ведь приказа об отступлении нет.
— Какой приказ?! — махнул рукой Ульрих и схватил рукоять одного из двух еще не поврежденных пулеметов.
Грохот ворвался в туман. Пулеметы красных ответили.
Приказ об отступлении пришел поздно вечером и вовсе не потому, что штаб был осведомлен о положении Ульриха и его отряда, и не в силу простой заботливости начальства. Высадившаяся у Тосно латышская батарея уже громила правый фланг белых. Пятнадцатая армия наседала на Лугу, на Мшинскую, на Лисино. Николаевская железная дорога сделала свое дело. Ее поздно было рвать, и до нее уже было не добраться. Из сводок белого штаба, хорошо знавшего силы отряда Ульриха, все это было виднее, чем из ямы капустного поля. Но и эти слабые силы были сейчас нужнее в другом месте — у Гатчины. Именно там, где они могли защищать зарвавшийся фланг Юденича, атакуемый в двух направлениях.
Припадая к кустам, кочкам, отсиживаясь в ямах с вонючей жижей и остатками гнилой капусты, преследуемые по пятам курсантами, матросами, красноармейцами, Ульрих и Воробьев отходили, вышвырнув к черту динамит, так и не коснувшийся мостовых устоев и насыпей дороги, по которой шла к Питеру помощь Республики.
К ночи пушки вновь отступили от Петрограда, и сознание большой и окончательной неудачи овладело бойцами Юденича. Оно шло навстречу слуху о победе красных под Орлом и Воронежем, хотя «Приневский край» извещал о доблестной защите Деникиным Орла и Мценска и о падении Тулы.
Такое противоречие слухов обычно на фронте, и в настроении бойцов оно разрешается в зависимости от того особого ощущения фронтовых дел, которое покоится на трудно объяснимом, но далеко не случайном сознании.
В полночь путь отступающих пересекло высоко поднятое над болотистой низиной полотно железной дороги. Солдаты карабкались на давно не укрепляемую, осыпавшуюся под ногами насыпь. Ульрих, с револьвером в руке, смотрел, как возникали и пропадали над черной стеной черные фигуры солдат. Случайно проглянувшая звезда воровским фонариком дрожала в черноте неба. Ветер бил в лицо мокрым, холодным крылом. Редкие выстрелы возникали в темноте со всех сторон, как будто все это погруженное в ночь поле было засеяно самовзрывающимися патронами. Воробьев сел на железнодорожный камень с черной цифрой.
— Все уже? — спросил Ульрих, когда три фигуры разом поднялись и разом исчезли за полотном.
— Сейчас, — ответил из темноты голос фельдфебеля.
Дальний выстрел как будто слился с близким стоном. Солдат торопливым шагом подходил к полотну. Винтовку он нес перед собой, как будто она могла обжечь ему плечо или грудь. Даже в темноте было видно, как он только на мгновение ставил ногу на землю и сейчас же отрывал ее, неестественно взбрасывая колено. У насыпи он с кашлем опустился на землю и, положив винтовку, стал снимать ботинки.
— Нашел место и время, — сердито буркнул Ульрих.
— Не могу, господин поручик, — волдыри с кулак, все в кровь…
— Ну, марш, марш через полотно! — скомандовал фон Гейзен. — Один останешься, что ли?
— Все равно… все равно не дойти. Пусть красные добьют, — с неподдельным отчаянием прохрипел солдат.
— К красным захотел? — подступил к нему фон Гейзен.
Быстрые зарева пушечных выстрелов полыхали на западе.
— Идите, — сказал Ульрих Воробьеву и фельдфебелю.
Он ногой наступил на винтовку, к которой потянулась рука солдата.
— Я за тобой, сволочь, слежу с утра, как ты ноги натирал и как за листовками с аэроплана бегал. Красные обещают тебе помилование? Так я тебя не помилую!
— Аа-а! — взревел солдат, пытаясь встать. Рой близких рассыпанных выстрелов ответил на его крик.
Сбив солдата ударом ноги, Ульрих вскинул руку с наганом и выстрелил. Солдат рванулся в сторону и совсем припал к земле. К ней пригвоздил его второй выстрел. В темноте неподвижно замерла его босая нога.
Встряхнув головой, повязанной большим платком поверх бинта, Ульрих рванулся к насыпи.
— Стой! — раздался задыхающийся от бега голос из тьмы, и вспышки, как угли в печи, едва осветили местность…
Ульрих уже съезжал по грязному борту насыпи.
Он бросился бежать на запад. Ноги его сразу вошли в холодную воду. Потом он ударился коленом о низкий забор. Ограде этой он обрадовался, как спасению. Она укроет его во тьме от людей, спешивших за ним по пятам. Преодолев ее, он сейчас же упал, споткнувшись о что-то низкое, тяжелое и тупое. Ожидая встретить стену строения или дерево, он вытянул руки вперед. Но ни рука, ни револьвер не встретили ничего, кроме пустого пространства. Ульрих поднялся, шагнул и опять упал на колени. В бок ему упиралось что-то колючее. Оно разорвало на нем френч и рубаху. Он хотел подняться, но стопудовая чугунная рука придавила его к земле. Он рванулся всем телом, расшиб раненую голову, но рука ушла, как будто растаяла в темноте. От этого мистический ужас охватил Ульриха. Он бросался во все стороны и всюду встречал руками пустое пространство. Но сейчас же из этого пространства тянулись к нему тяжелые мертвые руки. Они появлялись и исчезали, как будто хор глухонемых бесов справлял вокруг него шабаш. Он зарыдал почти волчьим воем и в ослеплении, страхе и ненависти выстрелил прямо перед собой.
В мгновенном зареве выстрела вокруг него вырос уродливый, карликовый лес кладбищенских крестов…
Воробьев пришел в Гатчину на сутки раньше Ульриха. Сюда со всех сторон стекались белые отряды. Юденич собирал кулак, которым можно было бы действовать на северо-восток против Седьмой и на юг против Пятнадцатой красных армий.
Первоначальный успех и ожидаемая поддержка английского флота и диверсантов из Петрограда смутили победителя Эрзерума. Если бы Деникину удалось взять Тулу и Москву, а он оказался бы властителем Петрограда — какие лавры увенчали бы его голову! К тому же от Петрограда до Москвы немногим больше чем от Курска или Воронежа. От мысли о скромной демонстрации он перешел к плану решительного действия с целью захвата приневской столицы. С этого момента все его распоряжения складываются в стройную систему, которая может привести его войска либо к решительной победе, либо к решительному поражению. Он отвергает план Родзянки идти на Чудово, захватывая широкие, мало защищенные территории. Кратчайшим путем он идет на Гатчину — Красное Село — Ям Ижору. Он рвется к городу. Он согласен на бой на улицах.
В первом порыве армия докатилась до Пулкова. Оставался один только шаг, но на него не хватило сил.
Гатчинский кулак — вторая и последняя ставка на этом пути. Либо Петроград будет взят, либо армия Юденича перестанет существовать.
Штабные генералы роптали. Ревельские политики жаловались в Париж. Но генерал по-своему был прав.
Не его вина, если революция на всех фронтах в конце концов оказалась сильнее реакции.
В Гатчине уже знали о поражении белых у Орла и Воронежа. В свете этих событий предприятие Юденича выглядело неприглядной, несерьезной, непродуманной авантюрой. Напор красных увеличивался. Листовки, подписанные командованием Седьмой армии, сулили помилование солдатам и офицерам, которые покинут ряды белой армии. Мобилизованные солдаты уходили к красным толпами. Участились переходы вольноопределяющихся и офицеров.
Воробьев жил в маленьком домике с палисадником и печальным мокрым садом, с беседкой, обнажившейся от зелени, как объеденный муравьями скелет змеи. Вся мебель была вынесена или сожжена. Он спал на полу на собственной шинели, содрогаясь от холода, почти ни с кем не разговаривал, утром съедал свой паек, чтобы не носить и не прятать хлеб, и больше ничего не ел до вечера. Ульрих поместился в соседней комнате, где была железная печь с отвалившейся дверкой.
Однажды под вечер, идя на дежурство, Воробьев встретил группу пленных. Их вели под конвоем посредине улицы. Не разбирая, ступали они в лужи, сбивались с шага, пошатывались от усталости. Караул гнал пленных, не позволяя задерживаться, к окраине города. В последнем ряду Воробьев заметил человека, который возбужденно оглядывался, смотрел на него, как бы не решаясь узнать.
Это был Коля Евдокимов, и Воробьев, ценивший талант художника, инстинктивно шагнул к нему. Евдокимов прорвал цепь часовых, бросился навстречу поручику. Но конвоир рванул его за плечо. Евдокимов упал на колено. Ящичек выпал из его кармана, и цветные карандаши рассыпались по грязи.
— В чем дело? — крикнул Воробьев часовому. — Это мой знакомый… мой родственник!
— Не могу знать, господин поручик, — решительно встал перед ним начальник караула. — Не приказано…
— Не беспокойтесь, я буду хлопотать! — крикнул Воробьев художнику, охваченный тоской и сознанием своего бессилия.
Он шел вслед за отрядом до комендатуры, безрезультатно говорил с дежурным офицером и помчался на телеграф.
Но оказалось, что гражданский телеграф не действует. Тогда он ринулся к коменданту станции и там именем министра и полковника Маркевича с трудом добился разрешения передать депешу Бугоровскому по штабному проводу:
«Художнику Евдокимову грозит расстрел. Возбудите срочное ходатайство».
Потом подумал и приписал:
«Ради Елены».
Ответ пришел через два дня:
«Это меня не касается Бугоровский».
«Да, это уже другие кадеты», — подумал Воробьев и принялся собираться в поход. В это время Коли Евдокимова уже не было в живых. Его альбом взял солдат караульной команды, и этюды ленинского лица во всех поворотах передавались тайком с рук на руки.
Гатчинскому кулаку не суждено было вторично ринуться на Петроград. Он был с трех сторон охвачен красным фронтом, к которому текли подкрепления и который, быстро оправившись от неудач, чувствовал себя с каждым днем сильней и уверенней.
— Все наши первые удары сильны и успешны, — говорил Ульриху Воробьев. — Но, вместо того чтобы ворваться на плечах врага в наши города и столицы, мы у самой цели встречаем еще более упорное сопротивление. Так было с Колчаком, Деникиным, с нами… И можно с уверенностью сказать, что мы, раз побежав, уже не остановимся…
Действительно, отпор белых слабел, их стремительные контратаки все чаще сменялись беспорядочным бегством. Казалось, над армией нет больше управляющей руки и не стало больше довольствующих и снабжающих организаций. Давало себя знать отсутствие крепкого, надежного тыла.
Мрачные вести доносились отовсюду. Красные каждый день с аэроплана разбрасывали листовки, начинавшиеся словами:
Мы взяли Петропавловск!
Мы взяли Ливны!
Мы взяли Чернигов!
Солдаты дезертировали. Офицеры роптали.
Отряд Ульриха всегда был в арьергарде. Казалось, бес вселился в этого раненого, тщедушного человека. Он был стремителен и беспощаден к себе и другим. Он не дорожил жизнью, но пули щадили его.
С некоторых пор их преследовал отряд курсантов, поклявшихся командованию и питерским рабочим ни на шаг не отставать от белых до самой эстонской границы.
Их упорство, храбрость, в которой они не уступали лучшим офицерским отрядам, бесили Ульриха. Он не желал верить, что революция, «бунт» может выставить настоящих солдат. Но в стычках с этими настойчивыми, терпеливыми врагами он чувствовал то же, что чувствует сильная мужская рука, которую жмут более сильные пальцы.
Ненависть к ним Ульриха и его товарищей могла быть сравнена только с любовью, которую они вызывали в среде своих, тех, кого они защищали.
У скольких тысяч сегодняшних командиров, инженеров, директоров, строителей, агитаторов, парторгов сильнее ударит сердце при воспоминании о военных курсах, школах победы девятнадцатого — двадцатого годов.
Осенью восемнадцатого года появились они впервые на улицах Москвы и Петрограда.
Ноги в тугих обмотках, английские ботинки с подметкой толщиною в кирпич, сербские шапочки, сдвинутые к правому уху, туго затянутые пояса и бодрая, в те дни невероятная, выправка. Они не походили ни на стрельцов Петра, ни на гренадеров Фридриха, ни на англичан, шедших в атаку с галстуками, ни на царских упорных, но замотанных шагистикой солдат. Шапочками, да еще тем, что появились они на земле совсем новым, рожденным в огнях и бурях племенем, они скорее всего походили на военных пилотов.
Выросшие на рабочих окраинах, пришедшие из расстрелянных карательными отрядами деревень, оторвавшие привычные руки свои от кузнечных молотов, токарных станков, фрезеров и рубильников, они брали оружие в руки, как новый вид металлургических изделий, потребных на то, чтобы силой этой стали, собственных рук и классового духа отвоевать у врагов свой кровный завтрашний день.
Усаживаясь за бывшие юнкерские и кадетские парты, они с любопытством вертели откидные пюпитры, каракулями покрывали классные доски и слушали преподавателей, как слушают люди, для которых настоящая жизнь проглядывала до сих пор только в щели сказок и песен, как внезапно разбуженные, которым с высоты броневика сказали, что все прошлое было тяжелым сном и только теперь начинается день. Они навсегда поверили в правду борьбы, которая принесет правду победы.
Они не знали точно, где это Мадрид и есть ли действительно на свете Гренадская волость. Но они верили, как верят в вечер и утро, в реку и солнце, что всюду, где растет трава и добывают руду, есть два класса и всюду идет борьба между ними. И одна часть мира, большая, была для них братьями, а другая, меньшая — врагами.
Они стояли на часах у трибуны, с которой говорил Ленин. В Таврическом дворце они слушали Джона Рида. Они охраняли Второй конгресс Коминтерна и Шестой съезд Советов. Они стояли на часах у ворот Кремля, пропуская автомобиль Свердлова. Часовыми они стояли у кабинета железного Феликса. Они прошли от Архангельска до Батума и от Плоцка до Никольск-Уссурийска. И весь мир был для них книгой, которую прочел им Ильич, а потом увидели и проверили их собственные глаза.
Они не были великанами на подбор. И, хотя многие из них оказались лихими наездниками, снайперами и инженерами — у многих руки были худы и плечи костлявы. Иные из них больно кашляли по ночам и обманывали врачей при приеме в школы.
Все они были дети молодого класса, и в старые школы, залы и аудитории они принесли дух и мысли, несхожие с духом тех, кому они наследовали, как горы не похожи на море. Завладев этими зданиями, преподавателями, физическими кабинетами, они сразу стали создавать свои традиции, как люди, которые уверены, что история даст им срок на укрепление этих традиций, а годы их жизни, становясь у начала большого исторического пути, поднимутся над веками, как пирамиды поднимаются над песками Нила.
В самые трудные дни Республики они прерывали учение и спешили на фронт. Нужно было скорее разбить врага, чтобы вернуться опять к классной доске.
Там, где появлялась эта гвардия Революции, там всегда расцветала победа.
Возвращаясь, они рапортовали на фабриках, на заводах о своих победах. Их встречали с восторгом, который можно сравнить только с ненавистью, какую они внушали врагу…
Иногда белым, отступившим к Ямбургу, удавалось задержаться на какой-нибудь складке местности или на водном рубеже. Тогда шли в атаку курсанты. Комиссары и командиры этой гвардии покидали штабы и шли в цепях вместе с бойцами. То и дело сближаясь с наступавшими до штыковых ударов, Ульрих заметил, что всюду, где бой закипал с особенной силой, появлялся высокий худой человек. Нисколько не рисуясь, с не покидавшей его, как папироса, деловитостью, он шел впереди. Он те размахивал руками, не суетился, ни разу не крикнул «ура». Но всюду вслед за ним, покоренные его спокойной уверенностью, поднимались курсанты и, обгоняя друг друга, шли на пулеметы белых.
Ульрих про себя решил, что этот комиссар не уйдет от него живым. Дважды худая, строгая фигура дрожала на мушке его винтовки. Под ногами латыша взрывал пыль заслуженный пулемет по имени «Ермак». Но комиссар был так же деловито осторожен, как храбр. Он залегал в канаву и поднимался, только когда выходила лента.
С сухим ожесточением вел эту последнюю игру Ульрих. Все было безотрадно, и армии должен был наступить скорый конец. Что будет дальше, не мог сказать ни один офицер Юденича. Обеспеченные под всеми предлогами стремились в Ревель. Фантазеры строили планы переезда — вокруг Европы — в Крым. Для остальных, не располагавших средствами и заграничными связями, — чины, репутация и даже жизнь утратили цену. Талабский полк, состоявший преимущественно из офицеров, поклялся умереть, не сдаваясь.
Ожесточение скрашивало для Ульриха последние дни этой безнадежной борьбы. В каждом белом солдате из крестьян он видел будущего дезертира, следил за ним с неутомимостью ищейки и расправлялся безжалостно. Но с особой силой ненависть его к красным сосредоточилась на латыше — военкоме преследовавшего их по пятам курсантского отряда.
Они столкнулись в густых сумерках в роще, которая примыкала к небольшой усадьбе. Альфред был убежден, что лес давно оставлен белыми. Заметив неприятельского разведчика, он спрятался за стволом березы. Он узнал офицера с воспаленными впалыми глазами и всегда перебинтованной головой. О нем с ужасом говорили перебежчики. Встреча эта в обоих вызвала прилив долго накапливаемой страстности. Тонкие стволы могли прикрыть только центральную часть тела. Но ни один из них не хотел отступить, и ни один не желал умереть от руки другого. Двинуться вперед, выйти из-за прикрытия означало смерть. Началась изощренная дуэль. Она должна была окончиться смертью одного, но могла продолжаться очень долго, так как у каждого было несколько обойм.
Альфред стал на колено. Он потянулся было к порттабаку, но сообразил, что огонь папиросы станет целью. Ульрих выстрелил раз и два. От ствола летели белые щепы, и Альфред понял, что выжидать нельзя. Тот, кто стреляет, рискует меньше. Он вытянул руку и выпустил всю обойму, целясь в ствол на уровне туловища. Вздох донесся после третьего выстрела, но Альфред только перенес точку прицела ниже.
Позади уже трещали сучья под ногами красноармейцев. На помощь Ульриху спешили разведчики. Короткая горячая перестрелка — и красные цепью двинулись вперед, но Альфред так и не узнал исхода дуэли. Капли крови на серебристой коре могли быть от легкой раны.
Воробьев взвалил на плечи умирающего товарища. Он уходил к шоссе отяжелевшим, но все еще сильным шагом. Ульрих был легок и удобен, как подросток. За плечом Воробьева раздавались хрипы. Может быть, Ульрих хотел что-нибудь сказать, но останавливаться было невозможно. Кроме того, Воробьев был убежден, что говорить не о чем. Все было ясно до отвращения, и слова походили бы на мух, выползающих из уха мертвеца…
Прикрытые широкими у устья Лугой и Наровой, Ямбург и Нарва могли стать крепостью, в которой укрылась бы белая армия. Красное командование требовало от своих частей ворваться на плечах разбитых белых в эту защищенную природой и эстонской проволокой зону.
Здесь Пятнадцатая армия догнала основные силы белых. Из документов убитых во время контратак Воробьев знал, что против них работают части, с которыми он сам совершал походы под Ригой, Верро и Валком. Разрывы мортирных пудовых бомб, по всей вероятности, принадлежали дивизиону Алексея Черных. Этот враг был ненавидим, помимо всего, личной ненавистью, но он был недосягаем. Короткие сильные контратаки временами еще удавались белым, но до красной артиллерии им не довелось дойти ни разу.
Пятнадцатая армия взяла Лугу. Никогда еще бойцам дивизиона не приходилось в такой мере чувствовать себя освободителями. Ветер качал вершины сосен у обочин шоссе, и тут же неподвижными знаками войны и ненависти стояли виселицы, уже освобожденные от трупов. Красноармейцам показывали дома, затихшие или покинутые вовсе после расправы. К воротам белого домика с зелеными ставнями рыдающая женщина вывела осиротевших детей.
Вечером на площади был митинг. Говорил военком дивизии Бабин. Он был потрясен следами расправы и находился в том состоянии, когда досадуешь, что весь мир не может слышать слова негодования. Он видел, что в толпе его слушателей нет равнодушных, и говорил горячо и гневно. Его перебивали восклицаниями. Он отвечал жестом или резким словом и продолжал свою речь. Над братской могилой всей толпой пели «Вы жертвою пали в борьбе роковой…». Военком дивизии сказал Алексею, что в Луге он принял в ряды армии партию добровольно вернувшихся дезертиров. Лужские виселицы превратили колеблющихся крестьян в убежденных бойцов Красной Армии.
Алексей теперь был спокоен за Петроград. У него не было вестей от Веры, потому что его дивизия шла по бездорожью, пробиваясь сквозь болотистую пойму Луги. Но он был убежден, что все хорошо. Он приветствовал приказ — взять Ямбург с налета. Недобитый враг — это все равно, что наполовину выполотые сорные травы.
На зеленом лугу в разливах Луги сел громивший Ямбург бомбами красный самолет. У него испортился мотор, и летчик отправился пешком за помощью. Он пришел в деревню, где стоял штаб артиллерии, и, узнав, что комиссара зовут Алексей Черных, постучался в его избу. Это был Олег Ветров.
Алексей сохранял внешнее спокойствие, но на самом деле едва сдерживал себя, слушая рассказ о встрече Ветровых с Верой у Нарвских ворот. От него он узнал, что Игорь летает теперь со Степаном, и обо всем ходе гигантского боя, который был яснее для летчика, чем для артиллериста. Олег рассказывал о прорыве белых к Николаевской дороге, где они встретили сильный отряд Харламова, о горячих боях под Гатчиной, о подвигах матросов, не допустивших к Кронштадту ни белых, ни англичан, о том, как «Севастополь» двенадцатидюймовыми снарядами громил позиции белых. Он бранил свой «Ньюпор» — хлам, закупленный для царской армии взяточниками у французских заводчиков.
Алексей вызвал Веселовского. Он был теперь начальником связи, и дружба все крепче связывала его с Алексеем. Аэроплан был вывезен в деревню на артиллерийских лошадях. Олег уехал верхом в отряд за частями для ремонта мотора.
Велик был разгром белой армии. Ямбург был взят с налета. Белая армия, армия без тыла, растаяла. С Эстонией шли мирные переговоры. Талабский полк был окружен и расстрелян.
Такою гибелью подписывают приговор не только себе, но и идее. Это было Ватерлоо Юденича. Самоубийство, столь же похожее на героизм, как пустоцвет — на цветение.
Воробьев прибыл в Ревель опустошенный. Вместе с армией растаяла ось, вокруг которой вращалось разогнавшееся колесо его жизни. Его не прельщали ни Крым, ни Кавказ, где еще шло сопротивление белых, потому что вера в белое движение уходила, как уходит почва из-под ног, когда человек теряет чувство равновесия.
Сердце стучало громко и сильно в его большом, по-прежнему могучем теле, и он мечтал теперь найти такую страну, где люди сражаются с природой один на один. Голоса бесконечных поколений предков-крестьян заговорили в нем с поразительной силой. Знакомые бельгийские инженеры приглашали его в Конго. Желтая лихорадка, жара, паразиты и гады, дикари и рабы. Но там были непроходимые леса, о которых он мечтал в детстве, и почти не было белых людей. Он телеграфировал согласие и выехал в Антверпен. Перед отъездом Воробьев снес в Красный Крест письмо Маргарите. Он писал ей только потому, что хотелось попрощаться хоть с кем-нибудь в этой стране, которую он в детстве с волнением и не осознанной до конца и потому самой сильной любовью называл родиной, чтобы в итоге, потеряв самого себя, возненавидеть и ее.
Бугоровские тоже готовились к отъезду. Ехали в Стокгольм с намерением перебраться на юг Франции. Бугоровский звал Воробьева ехать с ними. Нина с необычайной ласковостью смотрела на обветренное лицо офицера. На столе у Виктора Степановича лежала рукопись. Воробьев прочел машинально: «Проект военизации городского транспорта Петрограда на время военного положения».
— Благодарю вас, Виктор Степанович, — сказал он тихо и решительно. — Мне надоела Европа…
Алексей приехал в Петроград в автомобиле военкома дивизии. Это была служебная командировка, и на другой же день следовало вернуться под Ямбург.
По всем данным, на третьем этаже дома на Крюковом канале у него уже был сын.
В Петрограде бросались в глаза следы приготовлений к уличным боям. Алексей радостно и взволнованно думал о том, что и он принял участие в битве, которая спасла этот город от мести, виселиц и разгрома.
Он взбежал по лестнице с силой сокола, подлетающего к хорошо спрятанному гнезду. Вместе с Настей, которая, несмотря на всю неожиданность, не задержала его ни на минуту, он помчался к угловой. Но у самой двери вдруг пошел осторожно на цыпочках, и глаза его с вопросом остановились на сестре.
— Мальчик, здоровенький, — прошептала она, задыхаясь.
Отошедшая от деревни еще с детства, она приветствовала брата именно этими, благословенными в семьях пахарей, словами.
Алексей постучал, и слабый, но взволнованный голос ответил:
— Войди.
Вера знала, что это идет отец ее прекрасного сына. Только он мог шагать так громко и замереть у дверей.
Слабые руки жены, только недавно принесшей ребенка, обнимают так, как будто все цветы мира кивают над ее ложем, слова, сказанные при встрече, плавятся на огне этих чувств, и память никогда не хранит их. Он сидел у ее постели, рассматривая ребенка, положенного туда же, потому что в эти дни нигде не продавались детские коляски или корзинки. Он был невероятен, этот ребенок. У него был мудрый, прорезанный мужской многодумной морщиной лобик, пальчики, которые гнулись во все стороны, и ножки, собранные в самые потешные на свете кулачки. Он не был ни красив, ни безобразен, но он был удивительно свой. Это ощущение заполнило Алексея, и он вдруг перестал размышлять о сыне — он стал его чувствовать. Только теперь он преодолел страх и взял сына на руки. Вера следила за каждым движением мужа. Она осматривала его с ног до головы. Он был цел, не изуродован, по-видимому, здоров. Только на ребре ладони залег шрам, как от удара ножом. Вместо задорной веселости первых дней и вместо сменившей ее впоследствии озабоченности — на лице его расположилось мужественное спокойствие и какая-то чуть-чуть смешная для нее, так его знавшей, важность.
Настя поила их чаем, ребенок сосал грудь, засыпал. Тогда заговорили шепотом. Вера еще ничего не знала о судьбе Синькова и Воробьева, и Алексей решил, что расскажет все подробно позже, когда она окрепнет.
Военком снабдил Алексея свертком.
— Немножко трофеев… для жены, — сказал он, довольно улыбаясь.
В свертке оказались давно не виданные вещи: какао, шоколад, сгущенное молоко. Все это было в незначительном количестве, но Настя обрадовалась подарку совсем по-детски и немедленно принялась варить какао. Вера шепнула несколько слов золовке, и Настя сейчас же исчезла, сильно хлопнув выходной дверью.
Алексей смотрел на жену, осторожно глотавшую горячее какао, и думал, что ей и ребенку нужно хорошее питание, но сейчас он не в состоянии обеспечить им даже самое необходимое. Он и его товарищи победили, они сохранили за собой этот прекрасный город, то это еще не все…
С большой силой он осознал, что стоит не в конце, а в начале пути, и при этом почувствовал, что мирные победы, которые создадут довольство и укрепят мир, будут волновать его не меньше, чем победы на фронте.
Настя вернулась не скоро и из-за дверей позвала Алексея. Голос ее был неверен. Алексей вскочил с кресла. Вера насторожилась, но ребенок сейчас же отвлек ее внимание. Лицо Насти было искажено испугом. Алексей взял сестру под руку и быстро повел в кабинет.
— Застрелилась… Елена Викторовна. Дверь взломали…
Алексей быстро взбежал по лестнице на седьмой этаж.
Мастерская художника уже была полна народу. Врач и милиционер составляли акт.
Белое покрывало было наброшено на тело умершей. Только пальцы необычайно красивой руки, которую не удавалось уложить на груди, были видны из-под края простыни. У тахты на стуле сидела Маргарита. По лицу ее текли искренние слезы. Она была уверена, что Елена Викторовна не пережила провала Юденича.
— Ни с того ни с сего, — сказал Алексею управдом, бывший старший дворник Иван Васильевич.
Алексей сбежал вниз. Он приказал Насте ничего не говорить о случившемся Вере. Это его вызывали к телефону управдома из штаба.
— Что-нибудь с Еленой Викторовной? — были первые слова Веры.
— Д-да, — ответил ошеломленный Алексей.
— Если б я не была в таком состоянии, я бы помогла ей, — сказала Вера и отвернулась на минуту к стене.
Долго никто не мог прервать молчание.
Но ребенок смешно дрыгнул ножкой, расправил и сжал кулачок, и они оба склонились над ним, как склонились бы над своим будущим, знак которого был бы положен между ними.
Загремел телефонный звонок, и Настя сообщила, что военком просил ее передать Алексею, что заседание в штабе будет завтра вечером и до тех пор он совершенно свободен.
1934–1957 гг. Ленинград — Алма-Ата — Ленинград
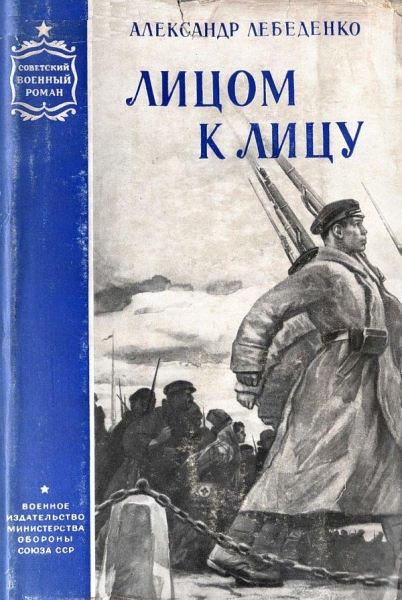

Комментарии к книге «Лицом к лицу», Александр Гервасьевич Лебеденко
Всего 0 комментариев