Эльмар Грин Другой путь Часть вторая В стране Ивана
1
Но я не предполагал, что поеду к ней так скоро. Это пришло как-то слишком неожиданно, хотя мысль о поездке уже плотно угнездилась в моей голове. Но не сам я проявил к тому торопливость. Другие люди меня подтолкнули. Вызванный как-то под вечер в контору треста, я узнал там, что имею право получить отпуск. Меня только просили сказать, когда возьму его и на сколько дней. Вот за чем стояло дело. За мной оно стояло. Но я не собирался быть помехой такому делу, хотя сам еще даже и не подумывал об отпуске. Я спросил:
— А когда я должен взять отпуск, извините в резонности, пожалуйста?
И мне ответили:
— Когда угодно. Хоть сегодня. Хоть сейчас. Только укажите срок. Мы вам даем две недели оплаченных. Можем прибавить недельку за ваш счет, если желаете. А если вам нужно куда-нибудь съездить…
— Съездить?
— Да. Ведь вас же не может не интересовать наша страна, не правда ли? Небось и маршрут поездки давно разработан?
— А?
— Небось уже давно наметили, куда ехать?
— Вот и поезжайте. А мы вам накинем еще недельку на дорогу. Двадцать восемь дней вас устроят?
— Двадцать восемь дней?
Я знал, что мне на поездку нужен был всего один день, и поэтому не нашел даже, что ответить на такое предложение. Но пока я раздумывал, все было сделано, и оттуда я вышел, неся в кармане справку о месячном отпуске и деньги, выплаченные за половину этого срока, сверх тех денег, что я получил за работу.
Но я никуда не собирался съездить. Очень-то мне это надо было! Никто меня никуда не звал. И даже письмо, которое я получил, никак не было похоже на приглашение. Скорее даже наоборот. А если так, то зачем было мне навязываться кому-то не желающему меня знать? Нет, я никуда не собирался ехать. Выпив у Марии Егоровны две чашки кофе, я прошел в свою комнату, где меня ждала недочитанная книга русского писателя Гоголя.
Но на этот раз читалась она почему-то плохо. Не знаю, что было тому причиной. Красивые слова Гоголя не шли мне в голову, как ни старался я вчитываться в них, склонясь над книгой у открытого окна… И скоро я встал из-за стола, оставив книгу раскрытой на той странице, где было сказано про их Россию: «Эх, тройка! птица тройка…». А чтобы не пропадало даром время, я примерил на себе обновки, купленные за последнее время: новый серый костюм, желтые туфли на кожаной подошве, шелковую рубашку в серо-голубую полоску и синий галстук с огненными крапинками.
Конечно, я никуда не собирался, но просто так мне захотелось проверить, как бы это все выглядело на мне, если бы я вдруг действительно взял да и поехал куда-нибудь. И надо сказать, что оно неплохо выглядело. Довольный этим, я вышел на кухню, чтобы показаться Марии Егоровне. Я сказал ей:
— Вот, Мария Егоровна. Все это вашего производства.
Она, прищурясь, окинула меня взглядом и сказала:
— Ништо! Мы всё можем производить. И в крупном и в мелком хошь кого за пояс заткнем. Только бы не мешали нам. Только бы войной к нам опять не полезли.
— Кто же теперь может полезть на вас войной, Мария Егоровна?
— Мало ли кто! Мы и раньше думали: кто? Вроде и некому. А ведь нашелся же! Да еще какой! Мирных людей целыми миллионами в печах сжигал! Это как расценивать?
— Да, это страшное дело делалось.
— Еще бы не страшное. Оно, конечно, и раньше бывало, что люди убивали и кромсали друг друга на войне. Но чтобы мирных людей, стариков, детей, женщин да в печь миллионами — этого еще не бывало. В лютого зверя надо выродиться, чтобы такое изобрести. Да что там — в зверя! Рядом с этим и зверь — ангел.
— Да, пожалуй…
— А каково тому народу, который это у себя допустил! Горько тому народу.
Так сказала Мария Егоровна, маленькая русская женщина с проседью в русых волосах, собранных в узел на затылке. У нее никто не погиб на войне: ни муж, ни сын. И все-таки брови ее сердито сдвинулись над серыми добрыми глазами, когда она это сказала, и грозно звякнули в ее руках тарелки, обмываемые теплой струей, бегущей из крана. А если бы о том же заговорила мать, потерявшая близких? Но я не стал додумывать про это и молча попятился к двери, чтобы вернуться в свою комнату, где меня ждал недочитанный томик Гоголя, раскрытый на словах: «Эх, тройка! птица тройка…». Мария Егоровна заметила, что я ухожу, и сказала:
— Погулять собрались, Алексей Матвеевич? Хорошее дело. В такую погоду да при таких обновах — в самый раз на Невский идти.
Пришлось идти. Как было не идти, если меня к тому подтолкнули? Неудобно было не идти, и я пошел. Погода стояла ясная, и солнце еще виднелось над крышами домов, несмотря на поздний час вечера. Перейдя Дворцовую площадь, я вышел на Невский проспект, как посоветовала мне Мария Егоровна, а по Невскому зашагал куда пришлось. Мне было все равно, куда идти. Мария Егоровна посоветовала мне показаться на улице в новом костюме, и я выполнял ее совет.
Но, шагая по Невскому проспекту куда пришлось, я почему-то очень скоро очутился перед Московским вокзалом. Не знаю, как это получилось. Делать мне на вокзале было нечего и ехать было некуда. Никто меня нигде не ждал, и мне тоже никто и нигде не был нужен. Поэтому даже непонятно, почему меня вдруг вынесло к железнодорожным кассам. Просто я задумался, должно быть, больше, чем следовало, — вот и подошел к ним. Народ меня к ним потянул. Он вливался туда сквозь ворота непрерывным потоком, застревая временно у касс, и потом растекался дальше по платформам. Не мудрено, что и меня подхватило этим потоком.
Кажется, я тоже подошел к одной из касс и даже купил билет куда-то. Непонятно, зачем я это сделал, но помнится, что именно так и было. Черт его знает, что это на меня вдруг нашло такое! Может быть, ясная и теплая погода подействовала на мою голову и в ней получился какой-то заскок? А может быть, просто захотелось глотнуть загородного воздуха? Что ж в этом особенного? Пришло лето, наступила теплая погода. Неудивительно, что меня потянуло куда-то за город, к зеленым просторам и к солнцу.
Так с билетом в кармане я походил некоторое время туда и сюда по залу ожидания. Потом вышел на перрон и побродил по перрону, пока не подошел поезд. Не знаю, зачем он мне понадобился, этот поезд, но я сел в него, а когда он тронулся, попросил постель на ту полку, которая была указана в моем билете. Я даже лег в постель, сняв туфли и аккуратно сложив у себя в изголовье костюм, рубашку и галстук, чтобы не помять их во время сна. И в конце концов я даже заснул в этой постели, а проснулся от прикосновения руки проводника, который сказал:
— Гражданин, вам на следующей выходить!
— Почему выходить?
— Потому что следующая — Балабино.
Вот тебе раз! Это что же такое значит? Выходит, что я взял билет до Балабина? Ну и ну!.. Странно. Для какой же надобности мне Балабино? Неужели я так и сказал кассиру? Или он просто по ошибке выбил мне этот билет? Узнал меня, вспомнил, куда я покупал в прошлом году, и выбил. Хе-хе, здорово получилось! Вот чудак-то этот кассир! Но делать нечего. Балабино так Балабино. В конце концов, мне ведь все равно, где выходить, лишь бы воздух был свежий. Выйду в Балабине. Здесь тоже есть зелень, цветы и деревья.
Я встал и оделся. Мыться мне не очень хотелось в тесноте вагона. Но жалко было оставлять нетронутым полотенце, приложенное к постельному белью. Как-никак за него тоже были плачены деньги. Пришлось помыться, чтобы не оставлять его в нетронутом виде. И пока я этим занимался, поезд подошел к станции Балабино.
И я вышел на этой станции и увидел перед собой то, что уже видел не один раз. День здесь был короче ленинградского дня, но все же солнце поднялось уже довольно высоко над горизонтом, несмотря на пять часов утра. Чистое небо предвещало хорошую погоду, и она была бы мне очень кстати, будь у меня надобность куда-то далеко идти. Но у меня не было такой надобности. Без всякой надобности я дошел до той дороги, которая пересекала железнодорожную линию. Мне, конечно, не обязательно было выходить на ту дорогу. На что она мне сдалась? И уж совсем не обязательно было идти по ней в ту сторону, куда я ходил в прошлом году. Я мог с тем же успехом пойти в противоположную сторону.
Однако что-то у меня опять перепуталось. Должно быть, я слишком задумался, что ли, не знаю, но как-то так получилось, что ноги сами понесли меня именно в ту сторону, куда мне совсем незачем было идти. А когда я спохватился, то оказалось, что они унесли меня от станционного поселка по крайней мере на полкилометра. Вот и доверяйся после этого своим ногам! И откуда только набралось в них столько дури — непонятно! Вечно напутают что-нибудь.
Но делать было нечего. Не идти же мне было обратно к железной дороге. Ради чего стал бы я к ней возвращаться? Ради того, чтобы перебраться через нее на другую сторону? А чем лучше была та сторона железной дороги в сравнении с этой стороной? Здесь простирались такие же поля и росли такие же деревья, что и там. Я мог одинаково хорошо нагуляться и по эту сторону железной дороги, а потом вернуться в город, чтобы успокоить скорей Ивана Петровича с Марией Егоровной, которые, конечно, беспокоились обо мне, не видя меня дома.
Так я решил. Но, пока я это решал, ноги несли и несли меня по дороге все дальше и дальше от станции. Такие они были беспокойные. Им бы постоять, отдохнуть, а они несли. Просто привычка была у них такая — не стоять на месте, если выбрались на какую-нибудь дорогу. Всю жизнь они носили меня по разным дорогам и теперь тоже продолжали делать свое привычное дело, хотя здесь мне вовсе никуда не нужно было шагать, и тем более с такой торопливостью. Глядя на них, то есть на мои ноги, можно было подумать, что человека ждут где-то важные, неотложные дела. А на самом деле никаких дел у человека не было, и он просто так выехал из города прогуляться немного.
Скоро показался перелесок. Он был мне знаком, этот перелесок. Еще бы! Я пересекал его в своей жизни туда и сюда уже четыре раза. Возле этого перелеска можно было остановиться, поискать что-нибудь вроде щавеля или земляники, полюбоваться на полевые цветы в тех местах, где по ним еще не прошла коса, и потом отправиться обратно к станции. Но некошеные луга могли быть и по ту сторону перелеска. Что ж, выйти к ним тоже не требовало большого труда. Перелесок тянулся вдоль дороги всего метров на четыреста. Пройти его насквозь и потом окинуть глазом то, что расстилалось позади него, тоже было нетрудно. А вернуться к станции я мог и оттуда.
Но, пройдя перелесок и выйдя по другую его сторону на новый простор полей, я, должно быть, снова о чем-то некстати задумался, потому что все шел и шел. Дорога скоро поднялась выше, и слева моим глазам открылась далекая обширная низина, посреди которой текла маленькая река. Я помнил ее. Только теперь кустарники, росшие по ее берегам, густо обросли зеленой листвой, почти заслонившей воду. Но, ловя ее проблески в просветах листвы, я опять забыл про свои ноги. А они несли и несли меня, пользуясь моей невнимательностью к ним. Такие это были ненадежные создания. И кончилось это тем, что я скоро увидел перед собой ту самую деревню, которую хорошо знал. И, конечно, я не остановился и не повернул назад, увидев эту деревню. Почему это я вдруг должен повернуть назад при виде знакомой деревни? Наоборот, я продолжал свой путь, приближаясь к ней все больше и больше, и даже вошел в нее наконец.
Ничего плохого не было в том, что я вошел в эту деревню. Почему не войти в деревню, которую хорошо знаешь и где могут встретиться знакомые лица, которым можно кивнуть? Я шел вдоль деревни и искал эти знакомые лица. Но мало кто попадался мне на улице в этот день, а кто попадался — не был знаком. Зато очень скоро я остановился перед небольшим домом, в котором знакомы были мне все обитатели.
Вот как здорово получилось! Я даже удивился, увидав этот дом. Как же так? Откуда он вдруг взялся на моем пути? Как будто я нарочно его искал. Шел, шел и прямо к нему пришел. Хе-хе, чудеса да и только! Что же это за дом такой? Э-э, да это не в нем ли жила очень хорошо мне знакомая женщина? Помню, помню, как же! Она даже письма мне потом писала всякие. «Процесс вашего перевоспитания» и все такое прочее. Следовало, пожалуй, зайти и навестить ее по старому знакомству, раз уж я случайно оказался возле. Неудобно было не зайти, проходя мимо. И я зашел.
Толкнув калитку, я зашагал через двор к знакомому крыльцу. Однако на крыльцо мне не пришлось подниматься. На крыльцо из сеней вышла черноглазая девочка и спросила меня:
— Вам кого?
Лицо девочки показалось мне знакомым. Похоже было, что я уже видел его где-то. Странно. Что-то очень уж много знакомых лиц стал я встречать у них за последнее время. Но лицо девочки могло показаться мне знакомым потому, что она походила на мать. Ведь это была дочь моей женщины. Я сразу это сообразил. Я всегда очень быстро все соображаю. Такая у меня удивительная голова. И теперь тоже я моментально догадался, почему лицо девочки было мне знакомо. Не то чтобы она в точности повторила лицом свою мать. Нет. Но волосы, брови и глаза были того же цвета. Каков бы ни был ее отец, но цвет волос и глаз она взяла от матери. Даже разрез глаз и сочетание их с бровями были у нее похожи на материнские. Неудивительно, что я сразу признал в ней дочь. Только была она, конечно, меньше и тоньше матери, и платье на ней было до колен. Она повторила с крыльца свой вопрос, и я ответил снизу:
— Мне нужно Надежду Петровну.
Я ответил так потому, что надо же было что-то ответить. Если у тебя спросили, кого тебе нужно, то надо назвать какое-то имя. Все равно какое. И вот я назвал хоть какое-то имя. А девочка сказала:
— Ее нет дома.
— Как нет дома?
Этого я, конечно, не ожидал, если вообще ожидал чего-нибудь. А девочка пояснила:
— Она уехала.
— Куда уехала?
— Уехала в колхоз «Новый путь».
— А зачем?
— Не знаю. Дела у нее. Она депутат.
— Как?
— Она депутат областного Совета.
— А-а…
Я не совсем, правда, понял, что значило быть депутатом, но одно усвоил ясно: такому человеку приходится куда-то отлучаться из дому. И это мне не особенно понравилось. Я спросил девочку:
— А долго она там пробудет?
Девочка ответила:
— Не знаю. Может быть, и долго.
— А как долго?
— Один раз она неделю проездила.
Я призадумался, стоя внизу перед ступеньками крыльца. Вот оно чем дело пахло!.. Один раз она неделю проездила где-то со своими депутатскими делами. А вдруг она и теперь проездит неделю? Что же мне тогда делать? Стоять здесь перед ее крыльцом и ждать? Конечно, я случайно сюда забрел. Так просто, шел мимо и вспомнил… Но если она действительно проездит неделю, то как же быть? Пока я таким образом раздумывал, девочка сказала:
— Может быть, вы зайдете, посидите немного?
Вот какая это была девочка! Если бы ее мать была со мной такая же ласковая, как она, разве я стоял бы теперь с таким видом перед этим крыльцом? Я давно входил бы в этот дом без всякого приглашения, как свой человек.
Но я не вошел даже по приглашению. Старшая хозяйка вышла в это время из сада и, сказав мне: «Здравствуйте», — поднялась на крыльцо. Я раздумал идти в дом вслед за ней. О чем стал бы я с ней говорить? Она не была матерью моей женщины. Она была матерью ее покойного мужа. А я не хотел думать о ее покойном муже, который был красивый, умный и честный. О том, что он был красивый, видно было по его матери, хотя ее лицо уже успело изрядно покрыться морщинами от времени и горя. Смотреть на ее лицо и думать о том, что моя женщина до сих пор продолжает помнить и любить ее сына, — этого я не хотел. Поэтому я спросил девочку:
— А далеко отсюда до того колхоза?
— До колхоза «Новый путь»?
— Да.
— Восемь километров.
— А как туда пройти?
— А вот прямо по этой дороге. Вы откуда пришли?
— От станции.
— А это туда, дальше. Сначала будет деревня Егорьино. Это наша деревня. Она слева от дороги. Потом будет Микешино. Это уже их деревня. Но она далеко от дороги справа. Вы в нее не заходите, а идите прямо до Гривицы. Она как раз по дороге будет. Там и контора у них и сельсовет. А вы что, прямо к маме пойти хотите?
— Да, доченька, прямо к маме хочу пойти.
Так я сказал ей, этой славной, приветливой девочке, готовый без конца смотреть в ее черные блестящие глаза, такие мне знакомые. Но могла выйти на крыльцо старуха, похожая на своего сына, память о котором все еще свято хранила моя женщина, и я не стал долго задерживаться перед этим крыльцом. Сказав девочке: «До свиданья, доченька», — я отправился дальше.
Дважды назвал я ее доченькой. А почему бы нет? Разве не предстояло мне в скором времени называть ее так постоянно? И она вполне заслужила это хотя бы тем, что смотрела на меня глазами своей мамы, не тая в то же время в их глубине знакомого мне гнева. Мне оставалось теперь пойти и попытаться привести глаза ее мамы к такому же безобидному выражению.
И я зашагал к ее маме. Куда мне было деваться? Если уж заскочил по непонятной случайности в эти края, то надо было воспользоваться этим и уладить наконец наше недоразумение. Что-то там не получилось между нами. Какие-то пустяки помешали нам договориться. Так вот, пришла пора исправить все это, если уж подвернулся нечаянно такой случай. Нельзя было допускать, чтобы столько времени терзалась женщина, которая уже давно, конечно, раскаялась в проявленной ко мне суровости и только ждала от меня первого шага к примирению.
И вот я шел к ней, чтобы сделать этот первый шаг. Восемь километров? Ну, это не так уж много. Полтора часа в один конец и столько же обратно. Опоздать на поезд я не боялся. Даже пройдя вдвое дальше от станции, я успел бы вернуться к ней задолго до отхода моего поезда. Что мне восемь километров? Я их мигом отмахаю. Такое ли мне в жизни приходилось отмахивать! Только и разницы, что тянутся они, эти восемь километров, по новым для меня местам. Ну что ж? По новым так по новым. Пройдусь еще немного по русской земле, посмотрю, как и что. Ведь советовал же мне Иван Петрович побольше ездить и смотреть, чтобы убедиться в чем-то своими глазами. В чем же таком советовал он мне убедиться? Ах, да! Насчет пригодности русских к дружбе с финнами советовал он мне, кажется, что-то уяснить. Вот я и выполняю его советы, хе-хе!
Как он там говорил? «Ты, Алексей Матвеевич, не сам по себе». Вот как он говорил. «Не сам по себе». Но если я не сам по себе, то кто же я? Выходит, что я не Аксель Турханен, идущий в деревню Гривицы, чтобы взять себе оттуда в жены красивую русскую женщину? Кто же тогда туда идет вместо меня? Идет какой-то финн вообще? А какое дело до этого общего финна моей женщине, если она оказала внимание только мне, Акселю Турханену? Мало ли что может представлять собой общий финн! Может быть, он захватывал Советскую Карелию с Петрозаводском или убивал голодом в своих лагерях русских пленных солдат. Так и это мне принять на себя? По Ивану Петровичу, пожалуй, так и выходило…
Да, нелегкая задача предстояла бы мне, если бы я вздумал за нее взяться, как это советовал мне Иван Петрович! Но я не собирался за нее браться. Я знал только свои восемь километров, за которыми меня ожидала моя женщина, — и это было все.
2
И вот я отмеривал ногами эти восемь километров по ровной грунтовой дороге с канавами по бокам. Слева от меня простиралась луговая низина с речкой посредине, одетой в зеленый кустарник, а справа — хлебные поля и пашни, уходящие по склону вверх. Пустынно было на дороге, и никакой помехи не предвиделось мне на этом коротком пути к моей женщине. В животе у меня, правда, уже начинала понемногу ныть пустота, но, помня о том, что меня ожидало в конце пути, я не терял бодрости.
Постепенно низина с речкой стали отходить все дальше и дальше в сторону от дороги, уступая место березовой роще, в которой перекликались детские голоса. А за рощей показалась деревня. Это была первая деревня, о которой мне сказала девочка. Она относилась к их колхозу. Грузовая машина обогнала меня и свернула туда по ответвлению дороги. А я прошел дальше. Две незнакомые женщины встретились мне и сказали: «Здравствуйте». Я тоже сказал им: «Здравствуйте». Это были русские женщины. Они не знали, кто я такой, не знали, что я воевал с ними, захватывал их Карелию и морил голодом в лагерях их мужей и братьев. Поэтому они отнеслись ко мне так приветливо.
Скоро дорога поднялась на холм, откуда я увидел сразу две деревни: одну далеко в стороне справа от дороги, а другую — прямо впереди. Та, что была прямо впереди, называлась Гривицы. Это я уже знал. Но пока я до нее добирался, дорога еще не раз опускалась и поднималась, открывая моему глазу с каждого холма все новые и новые просторы. Вот она, оказывается, какая была обширная, их Россия. В окно вагона я мало успел ее увидеть. На пути из Ленинграда приходилось почти сразу укладываться спать из-за ночной темноты. И на обратном пути тоже очень быстро наступала темнота, потому что приезжал я сюда до этого случая только осенью. А теперь я увидел Россию в самое светлое время года, в пору ее цветения, под жарким летним солнцем.
По обе стороны дороги тянулись канавы. За канавами стояли травы, краснела земляника. Я не выдержал и шагнул за канаву, чтобы полакомиться немного. И дальше, я шел рядом с дорогой, по другую сторону канавы, останавливаясь в тех местах, где среди травы затаились крупные ягоды земляники. На вкус она была здесь такая же, как в Суоми. Из этого следовало, по теории Арви Сайтури, что эти края тоже следовало пристегнуть к его владениям, как финские по духу.
Местами неподалеку от дороги люди косили, пользуясь хорошей погодой, и высыхающее сено издавало точно такое же благоухание, какое я в свое время улавливал у финского сена. Да, большая несправедливость была допущена господом богом в отношении Арви Сайтури, и я исправлял ее как умел, поедая русские ягоды и топча русскую траву.
Проходившие мимо люди поглядывали на меня с любопытством, и некоторые из них кивали мне, говоря: «Здравствуйте». Я отвечал им тем же. Некоторые проезжали на велосипедах, иные — на грузовых машинах. И все лица непременно оборачивались ко мне, как это делается всюду в деревнях, где посторонний человек всегда заметен.
Продолжая так идти рядом с дорогой, я скоро приблизился к деревне. Но я не сразу в нее вошел. Не стоило торопиться. Надо было сперва обдумать, что и как сказать моей женщине. И, чтобы лучше думалось, я растянулся на траве позади придорожных кустарников, подняв глаза к синему русскому небу, по которому пробегали редкие белые облака.
Это было ее небо. Под ним она выросла и вызрела, моя женщина, моя «госпожа Россия», которую мне предстояло завоевать. Какими словами мог я затронуть ее сердце? Для начала можно было блеснуть перед ней хорошей западной вежливостью, которую я когда-то усвоил из разговорника, составленного, конечно, западным человеком, а потом ввернуть что-нибудь насчет коммунизма. О, я знал, чем их тут можно было взять!
Главное — убедить ее в том, что намерения у меня самые серьезные. Это она и сама должна была теперь понять, увидев меня неожиданно перед собой в такой дали от Ленинграда. А мне осталось бы только сказать: «Вот видите, никакие расстояния не могли меня остановить. Я сказал, что приеду объясниться, и приехал. И теперь у нас не будет ошибки. В тот раз я еще не знал ваших обычаев и слишком поторопился с этим делом. Но вперед я буду осмотрительнее. Это меня тогда буржуазные пережитки подвели, а теперь я их изгнал и понимаю, что разговор о тех вещах должен быть на втором месте, а на первом — дело коммунизма. Так оно у меня теперь и ведется. Можете быть спокойны. На четвертом этаже я занял в соревновании первое место. (Ну, о пятом этаже ей не обязательно упоминать.) И дальше у меня все пойдет в том же роде. Так что тянуть нам больше незачем. Я понимаю, что у женщины есть своя скромность, но зачем же ей без конца себя терзать, если уже давно приспело время ответить согласием? Дело наше ясное. Я уже сказал, что вы мне нравитесь и все такое. Пора и вам отбросить стеснение и постараться не упустить то, что не каждый день приходит к одинокой вдове, да еще с ребенком».
Такое примерно приготовился я ей сказать и после этого выбрался на дорогу. Войдя в деревню, я стал высматривать, у кого бы можно было спросить относительно моей женщины. Однако по случаю рабочей поры улицы почти пустовали. Попадались детишки и старики, но они были не очень подходящими для такого вопроса. Наконец я увидел дом с надписью «Контора» и вошел туда. Там я спросил у мужчины, сидевшего за столом среди вороха бумаг и папок:
— Не можете ли сказать, окажите признание, пожалуйста, где у вас находится сейчас товарищ Иванова из колхоза «Путь коммунизма»?
Мужчина этот был из тех, на кого не действовала вежливость. Он взглянул на меня с удивлением и молча пожал плечами. Я пояснил:
— Она депутат областного Совета.
Он опять ползал плечами и отрицательно повел головой. Но тогда девушка, сидевшая за тем же столом, напротив него, сказала:
— Ах, депутат? Была она у нас. Да, да. — И она напомнила мужчине: — Ну как же! Ты же знаешь ее. Здоровался с ней. Ну, та, что заходила сюда позавчера, черненькая такая. Надежда Петровна.
Тогда и он вспомнил:
— А-а! Надежда Петровна! Так бы и сказали. А то — депутат. Я уж подумал, что речь идет о каком-нибудь представителе сверху. А Надежду Петровну знаю. Еще бы! — И, обратясь к девушке, он сказал: — Только она, по-видимому, уже уехала.
Но девушка ответила:
— Нет, она еще у нас. В Кормушкино вчера ее завезли. А оттуда она в Заозерье собиралась.
Мне вдруг стало почему-то не очень весело, когда я услыхал это. И я спросил уже без всякой надежды:
— А где это Кормушкино?
Но девушка меня успокоила:
— Да рядом здесь. Три километра по этой дороге, а потом еще в сторону с полкилометра, влево, к озеру.
— А я там ее застану?
— Застанете. Вполне. Ей так быстро не обернуться. Столько дел накопилось! Дня на два хватит.
Я сказал ей спасибо и вышел на улицу, подсчитывая про себя километры, которые мне предстояло туда и сюда пройти. От станции до деревни моей женщины было пять километров. От ее деревни до этой — восемь. Вот уже тринадцать. А если я удалюсь от станции еще на три с половиной километра, то это уже составит шестнадцать с половиной. И столько же мне надо будет сделать обратно. Я взглянул на часы. Они показывали начало первого часа. Напрасно я так увлекался земляникой. А лежать в траве и подавно не стоило.
Но успеть еще можно было, только от земляники, конечно, следовало отказаться. Кстати, в этой деревне оказалась небольшая лавчонка. Правда, я не увидел в ней ничего съестного, кроме копченой колбасы, соленой трески и конфет. Весь остальной товар состоял из разных несъедобных предметов, нужных в хозяйстве: материи, обуви, посуды, мыла, гвоздей, веревок, инструментов и разной другой мелочи. Оно и понятно, конечно. Зачем в деревне продавать съестное? Все же я купил кусок твердой колбасы, которая меня только и дожидалась все то время, пока существовала их лавка. К ней я взял четыре медовых пряника, тоже твердых как железо.
Но, разбивая чуть позднее эти пряники на придорожном камне и тупя о колбасу свой перочинный нож, я постепенно понял, почему они попали именно ко мне после того, как пролежали в их лавке тридцать с лишним лет. Продавщица распознала во мне врага — вот в чем было все дело. Она догадалась, кто я такой, и подсунула их мне, чтобы меня сгубить. Так раскрывалось в моих глазах это дело. А у меня был верный глаз на подобные вещи. Для своих людей не могут в магазине продаваться такие смертоносные продукты. Они могут храниться там только для врагов. Для своих людей у них, конечно, был припрятан в большом выборе самый свежий товар: теплые, душистые пироги с разной начинкой, свежее молоко, сливки, масло, ягоды и скороспелые овощи, не говоря о завозных продуктах. Но появился враг — и все это моментально исчезло с прилавка. А на виду остались только средства, заранее приготовленные для его уничтожения.
И тут же, кстати, я понял, что это относилось все к той же тайной военной подготовке, о которой не раз говорил мне по секрету молодой Петр. Но обстоятельства с появлением атомной бомбы изменились, и оружие это устарело. Много ли врагов убьешь, например, выстрелив из пушки этими пряниками, которые, надо полагать, намечались у них к выполнению роли шрапнели. Не много ими убьешь. Две-три вражеские роты можно было ими смять, а что потом? Или, скажем, эти твердые колбасы. Три-четыре вражеских хребта можно было переломить такой колбасой, держа ее рукой за один конец. Ну а дальше что? В том-то и дело, что атомный век заставил все пересмотреть, и оружие это получило совсем другое применение, что и было дано испытать мне.
Однако я вышел победителем из этой трудной схватки. Правда, после этого у меня довольно долго ныли челюсти и зубы казались расшатанными у своих корней, но все же я одолел этот новый вид их оружия. Только уж вперед я решил помнить, в какой стране нахожусь, и быть готовым ко всяким другим выпадам с их стороны против меня, который с ними дважды воевал и которому не приходилось рассчитывать на свежие и высокосортные товары, припрятанные у них под прилавком для своих собственных жителей.
Схватки этой мне хватило на все три километра пути. И когда я свернул с большой дороги к деревне, преодолевая дополнительные полкилометра, зубы мои уже раздавливали последний осколок пряника. У входа в деревню я догнал пожилую женщину и спросил у нее:
— Простите в деликатности, пожалуйста, скажите, вы не из этой деревни?
Она удивилась чему-то, взглянув на меня. Не знаю — чему. Как видно, и для ее уха обороты вежливости не были явлением привычным. Да, не очень богата была их Россия культурой. Приходилось мне внедрять ее тут по мере сил. Но главное в моем вопросе она все же уловила и ответила:
— Из этой. А что?
Тогда я спросил простыми словами, не утруждая ее пониманием трудной для нее вежливости:
— Вы не знаете, в котором доме остановилась у вас Надежда Петровна Иванова из колхоза «Путь коммунизма»? Она депутат областного Совета.
— Не знаю.
Ее ответ прозвучал еще проще. Но, видя, что мне от этого не легче, она остановила другую женщину, помоложе, как раз выходившую из деревни нам навстречу с граблями на плече. Выслушав мой вопрос, молодая женщина сказала:
— Да, была у нас такая вчера, у Анисимовых ночевала. Весь вечер какие-то дела у них разбирала и жалобы. Люди к ней приходили. А сегодня утром уехала в Заозерье с бригадиром нашим. Он к ним в кузницу заказ делать поехал да, говорят, уж и вернулся будто бы.
И на этом прихлопнулись все мои попытки ее догнать. Теперь оставалось одно — спешить изо всех сил обратно к станции, чтобы успеть на поезд. Пожилая женщина ушла в деревню, а молодая продолжала свой путь из деревни в направлении той самой большой дороги, откуда я к ним свернул. Пошел и я рядом с ней обратно к большой дороге, потому что заходить в деревню мне уже было незачем.
Время от времени она косилась на меня с любопытством сквозь белокурые пряди, которые выбивались у нее над розовым ухом из-под многоцветной шелковой косынки. Заправив их свободной рукой под край косынки, она спросила:
— Вы к ней тоже по делу или как?
Я ответил:
— Нет, так просто.
— А откуда вы?
— Из Ленинграда. Приехал к ней в колхоз, а ее не оказалось.
Я с некоторой гордостью сказал этой женщине насчет Ленинграда. И в самом деле, откуда я приехал сюда? Из Ленинграда, конечно. И, должно быть, именно это вызвало с ее стороны такое внимание ко мне. Она спросила меня про мою женщину:
— Она вам родственница или кто?
— Нет, просто так, знакомая…
— А-а, понимаю.
И видно было, что она действительно поняла, в чем было дело. Должно быть, и у нее произошло совсем недавно что-то схожее, только с более счастливым исходом, потому что вся она была полна какой-то тихой внутренней радости, тая;´ в голубых глазах самые светлые мечты. Вот почему она была готова пожелать и мне такой же судьбы. Должно быть, я не показался ей особенно старым, если она с таким сочувствием отнеслась к моему делу. Она сказала мне:
— Ничего. В Заозерье застанете. Это недалеко.
Я не стал ей говорить, что в Заозерье не пойду, потому что тороплюсь на поезд, но для вида спросил:
— А как туда пройти?
Она указала на ожидавшую меня большую дорогу и спросила:
— Вы по ней пришли? Откуда? Справа? А теперь влево пойдете. Да вот выйдем вместе на дорогу, и я вам укажу.
Я промолчал. Неудобно было идти на попятный после того, как она приняла близко к сердцу мое дело. Но, думая отвлечь ее от заботы обо мне, я сказал:
— Какая хорошая погода!
Она согласилась:
— Да, к сенокосу в самый раз.
— А где ваш сенокос, извините за скромность?
— Как вы говорите? Сенокос-то? А вон прямо за дорогой луга наши.
Это было хорошо, что луга у них находились прямо за дорогой. Значит, она шла прямо через дорогу на эти луга и оставит меня на дороге одного. И я могу распорядиться дорогой как хочу. Жаль только, что на этих лугах не виднелось ни деревца, ни кустика и вся дорога оставалась на виду у тех, кто работал там, на сенокосе, а стало быть, оставалась на виду и у этой женщины.
Слева от нас, правда, виднелся молодой лесок, вбиравший в себя эту дорогу, но идти туда я не собирался. Зачем пошел бы я туда, если мне надо было бежать скорей через поля и холмы в противоположную сторону, чтобы успеть на поезд? Однако женщина, выйдя со мной на дорогу, указала именно влево, пояснив при этом:
— Вот так прямо и идите. После этого лесочка по левую сторону будет озеро, а за озером одна дорога влево пойдет. Так вы по ней не идите, по левой. Она озеро огибает и ведет в Синюхино, в рыбацкий колхоз. А вы все прямо и прямо идите, никуда не сворачивая, ни вправо, ни влево. Так и придете в Заозерье.
Что мне оставалось делать? Я сказал ей спасибо и зашагал к лесу, вместо того чтобы помчаться сломя голову совсем в другую сторону. Так сложились мои дела. Но, шагая к лесу, я смотрел назад, следя за тем, как она перескочила канаву, держа грабли в руке, и как направилась дальше к работающим на лугу. Она тоже оглянулась и, встретив мой взгляд, улыбнулась мне, продолжая идти своим путем. Я улыбнулся ей в ответ. Как мог я не улыбнуться, если мне улыбнулась женщина! Но, улыбнувшись ей, я все же постепенно убавлял шаг, выбирая подходящий момент, чтобы остановиться и затем броситься бегом назад.
Но в это время женщина опять оглянулась. Заметив мои колебания, она ободряюще махнула рукой, резнув ребром ладони воздух в направлении леса. Этим взмахом она как бы говорила: «Прямо, прямо иди, не сворачивай!». Я кивнул ей и продолжал идти к лесу, но краем глаза все еще следил за ней, надеясь, что ее вот-вот скроет какая-нибудь копна или кустик. Но луговина была слишком открытая, кустики слишком редкие и низкие, а до первых копен она еще не дошла.
Я взглянул на часы. Они показывали четверть третьего. Если бы я в этот момент круто двинулся назад, то еще успел бы на станцию к пяти часам. Но приветливая молодая женщина продолжала время от времени поглядывать на меня издали, и мне не оставалось ничего другого, как делать вид, будто я с великой радостью следую ее совету насчет того, чтобы идти в Заозерье.
Подойдя вплотную к лесу, я остановился, надеясь, что больше она уже не оглянется. Однако она оглянулась и снова ободряюще помахала мне рукой. Пришлось и мне махнуть ей приветливо в ответ, а потом войти в лес. Что мне оставалось делать? В лесу я, конечно, сразу же остановился, но легче мне от этого не стало. Идти мне надо было, а не стоять. Идти назад. Но идти назад на виду у этой женщины было неудобно. Мало ли что она могла подумать обо мне.
Пока я так стоял и раздумывал, на дорогу вышли со стороны деревни еще две женщины с граблями. При виде их я зашагал скорей дальше в глубину леса. Они могли увидеть меня стоящим на дороге и рассказать об этом своей приветливой подруге. А я не хотел, чтобы она подумала обо мне плохое. Не стоило отпугивать от себя удачу, которую пожелала женщина. Говорят, женское пожелание всегда исполняется, особенно если оно касается другой женщины. Сохранить надо было это пожелание неизменным.
Раздумывая так, я ушел довольно далеко вперед по лесной дороге, а когда остановился, готовый начать обратный путь, впереди послышалось журчание воды. Помедлив немного, я пошел на этот звук. Копченая колбаса и пряники уже давали себя знать, и ради них я удлинил свой путь еще на пять минут. Но, напившись из ручья воды, я взглянул на часы и свистнул. Они показывали десять минут четвертого. Из этого следовало, что пятичасовому поезду суждено было уйти в Ленинград без меня, а мне — ночевать на станции.
Стоя на мосту над ручьем, я посмотрел туда и сюда — и вдруг увидел впереди блеск воды между стволами деревьев. Это было озеро. Но если так близко оказалось озеро, то и Заозерье, надо думать, было не слишком от меня удалено. Почему бы мне туда не пройти теперь, когда к поезду уже все равно незачем торопиться? А вернуться на станцию я могу теперь в любое время, хотя бы даже к ночи. Что от этого изменится?
И я зашагал по лесной дороге дальше, вместо того чтобы вернуться к станции. Вот какой я был отчаянный! Черт его знает, что это на меня так подействовало! Может быть, русский воздух, которым я слишком уж много дышал в этот день, или вода, выпитая из русского ручья, или этот русский лес, в котором птицы издавали разные веселые замысловатые звуки своими тонкими глотками. Не знаю, что было причиной такой моей смелости, но я зашагал дальше в глубину России, даже не задумываясь над тем, где застанет меня их русская ночь.
3
Дорога обогнула озеро справа и потом раздвоилась. Помня наставление приветливой женщины, я оставил без внимания поворот влево. Но после этого поворота дорога дала еще несколько ответвлений и вправо и влево, заставляя меня каждый раз останавливаться и гадать, которое из них считать прямым продолжением дороги. Скоро лес кончился, открыв моим глазам вид на новые поля, однако деревни все еще нигде не было видно. А часы уже показывали половину пятого.
Можно было спросить о деревне у людей, убиравших сено в стороне от дороги, но я не спросил. Я даже не подошел к ним, продолжая идти своей дорогой. Их там было так много, и мужчин и женщин, что они уже успели сметать огромный стог из утреннего укоса и теперь свозили остальное высушенное сено к другому начатому стогу. И оттого, что их было много, я не решился сойти к ним с дороги. Среди такого множества русских мог оказаться тот самый Иван или кто-нибудь из тех, кто побывал в наших лагерях. А я хорошо знал, что несла мне подобная встреча. Поэтому я продолжал шагать к своей женщине без лишних расспросов.
Но, пройдя еще километра два, я вышел к новой развилке, возле которой застрял минут на десять. Дорога моя разделилась на две такие схожие по ширине и наезженности дороги, что трудно было угадать, которая из них главная. К тому же и отклонялись они вправо и влево одинаково круто. Я оглянулся. Но те, кто стоговал сено, уже пропали из виду за холмами. Спросить было некого. Пришлось идти наугад. Помня, что влево мне идти не советовали, я пошел по правой дороге.
И опять-таки она оказалась длинной, ведя меня среди возделанных полей с холма на холм, из перелеска в перелесок. Удивительно, какой огромной оказалась их Россия!! Стоило мне слегка шагнуть за пределы своего прежнего пути, как она принялась раскрывать передо мной такие обширные дали, о которых я до той поры и понятия не имел.
Был уже седьмой час, когда я увидел наконец впереди нужную мне деревню. Перед тем как в нее войти, я перебрал на всякий случай в памяти слова, которые мне предстояло сказать моей женщине. Это были все больше новые слова, уловленные моим ухом здесь на их разных собраниях и собеседованиях. Этими же словами, надо полагать, изъяснялась и моя женщина. А потому они должны были хорошо на нее подействовать.
Я появлялся перед ней внезапно, как шило в мешке, и после некоторого воздействия на нее словами вежливости выкладывал перед ней всю подноготную: «Вот видите, в какие отдаленные места я не побоялся забраться! И все ради того, чтобы увидеть вас. А это чего говорит? Это говорит того, что никакие расстояния не могут меня остановить, когда дело касается вас и всего прочего, что к вам относится. А что касается меня, то могу заверить, что коммунизмом я уже проникся. Это доказано соревнованием на четвертом этаже, где я выиграл. (О пятом этаже не будем говорить.) И если раньше я недопонимал, то теперь все допонимаю. Так что можете быть спокойны — теперь я вполне сплочен и знаю, что к чему. Вас я не тороплю. Я понимаю, что женщине надо свое выдержать, и готов потерпеть еще немного, тем более что срок моего пребывания в России еще не истек».
Такое примерно наметил я ей сказать и после этого вошел в деревню. Это была уже третья русская деревня, в которую я входил в тот день. Прежде всего я стал искать глазами на домах надпись «Контора», чтобы обратиться туда за разъяснениями по поводу приехавшего к ним депутата областного Совета. Не найдя надписи, я стал приглядываться, у кого бы спросить о моей женщине. Но пока что мне попадались только дети.
Сидела, правда, в одном дворе молодая женщина, кормившая грудью ребенка, но я постеснялся к ней подойти. Две маленькие девочки с мальчиком подвязывали возле другого дома к нижним сучьям толстой березы веревку для качелей. Дальше, у следующего дома, пожилая женщина снимала с веревок высохшее белье. У нее я тоже ничего не спросил, но, глядя на нее, подумал, что все это выглядело очень похожим на то, что я сотни раз видел у нас в Суоми. Оставалось только удивляться, почему там не дано было знать о такой удивительной схожести? Почему бы, например, этим ребятам не покачаться на качелях вместе с финскими ребятами, а финским ребятам почему бы не покачаться вместе с русскими? Почему бы этой молодой женщине, кормящей грудью ребенка, не посидеть рядом с такой же финской женщиной? Разве не нашлось бы у них, о чем друг с другом поговорить, пока их крошки тянули бы из их мягких грудей теплое молоко?
Думая так, я продолжал идти вдоль улицы деревни, высматривая подходящего для расспросов человека. Наконец у одного дома я увидел за низким забором в палисаднике старика, проверяющего какие-то черенки, привитые к срезанным сучьям старой рябины. Судя по возрасту, он вряд ли мог оказаться тем страшным Иваном, да и в лагерях наших едва ли побывал. Я подошел поближе к забору и спросил его:
— Скажите, пожалуйста, будьте в извинении, это Заозерье?
Он взглянул на меня с удивлением и спросил:
— Как?
Я повторил свой вопрос уже короче:
— Это Заозерье?
Он подумал немного и ответил:
— Заозерье-то Заозерье. Да тут все кругом Заозерье. Вам какую деревню нужно?
На это я не знал что ответить и некоторое время помолчал. Но потом решил, что ответить все же что-то надо, и стал ему объяснять все, как оно было:
— Я из Ленинграда приехал в колхоз «Путь коммунизма» к Надежде Петровне Ивановой. Не слыхали про такую?
— Нет, не слыхал.
— Она депутат областного Совета. Я приехал в колхоз «Путь коммунизма», то есть к ней. А она в Заозерье поехала, то есть к вам. Вот я и хотел узнать, где она. Здесь она не была?
— Не знаю, мил человек. Пожалуй, что и не была.
— Где же мне ее найти?
— А ты у бригадира спроси. Он по телефону у конторы может справиться.
— А где бригадир?
— Вон там, третий дом будет от большой березы.
Я зашел в третий дом от большой березы и спросил о том же самом у бригадира. Бригадир сказал, что тоже ничего не знает, но позвонил при мне в главную контору. Оттуда ему ответили, что такая к ним не приезжала. Вот как повернулось дело! Я сказал:
— Как же так? А мне там, за озером, сказали, что она сюда поехала.
Бригадир пожал плечами, явно мне сочувствуя, и в то же время спросил:
— А точно ли сюда? Может, не в наш колхоз, а в «Свободный пахарь»? Вы там не узнавали?
— А где это?
— Значит, не узнавали. Вы по дороге развилку встретили? Так вот: влево — это к ним. Там оно и будет — Заозерье. Они прямо за озером находятся, если в их сторону от Кормушкина смотреть. А мы — правее.
— Вот как. А туда далеко от вас?
— Километров десять будет.
— О-о!..
— А вы заночуйте у нас и утречком пойдете.
— Заночевать?
— Да, в комнате для приезжающих.
— Для приезжающих?
— Да. Что это вы все удивляетесь, будто с другой планеты прилетели? Документы у вас есть?
— Есть…
— Ну вот. Покажите их мне для порядка, а я вас к Никитичне поставлю.
Я помедлил немного. Но это был молодой парень, и вряд ли ему пришлось воевать, а тем более сидеть в наших лагерях. Я показал ему свой паспорт, выписанный мне на один год. Его, кажется, ничуть не удивило мое финское происхождение, но все печати и штампы, подтверждающие мое проживание и мою работу в Ленинграде, он осмотрел довольно внимательно, а потом сказал:
— Пойдем.
И мы пошли вдоль деревни к месту ночлега. По дороге я сказал ему:
— Если я останусь у вас ночевать, то не застану ее там завтра.
Но он успокоил меня:
— Застанете. Далеко не уедет. Не дальше какой-нибудь соседней деревни в том же колхозе. Депутатские дела — они такие.
— Да?
— А как же! То вдову какую-нибудь пенсией обидели, то мать на детей пособия не добьется, то братья вздумали хозяйство делить и заспорили. Да мало ли в жизни неполадок! А ей как депутату — разбирать. Застанете. — И, подумав немного, он спросил: — А вы только депутатскими делами интересуетесь или и хозяйственными тоже?
Я ответил, что да, конечно… в некотором роде… почему бы нет? Да, хозяйственными — тоже. И, вспомнив кстати советы Ивана Петровича, я еще раз повторил, что очень даже интересуюсь. А как же! Это главная моя задача — узнать поближе, как и чем живет русский народ. Да, да, именно ради этого я сюда приехал. А зачем же еще? Смотреть и узнавать — это для дела дружбы хорошо. Так я ему ответил на его вопрос. И он сказал:
— Правильно. Для дружбы надо встречаться, видеть, разговаривать. А у нас найдется на что посмотреть. Народ хороший. Техникой помаленьку обзаводимся. Доярки приборы осваивают электродоильные. На днях льнотеребилку новую получили и льномялку. Завтра утром заглянете ко мне — покажу.
Я слушал его, идя рядом, но про себя думал, что едва ли загляну к нему утром. И еще я прикидывал в уме, как быть, если я и завтра опять ее не застану? Тогда, пожалуй, лучше вернуться на станцию и уехать в Ленинград, а дня через два-три опять наведаться в ее колхоз. Да, именно так и придется поступить. Заметив деревенскую лавку, я спросил бригадира, можно ли тут у них купить чего-нибудь съестного. И он ответил:
— Все у Никитичны достанете.
Нет, он не желал мне зла, конечно, хотя и выяснил из моего паспорта, кто я такой и откуда к ним прибыл.
Он провел меня к домику пожилой доброй женщины, которой сказал:
— Принимай-ка, Никитична, гостя из Ленинграда. По ошибке не в тот колхоз попал. Ночевать его устрой, да и покормить не забудь.
И спустя час я уже ел у нее вкусный мясной суп с рисом и гречневую кашу с маслом и молоком. А потом она провела меня в заднюю комнату, где стояли три железные кровати с чистыми постелями, и сказала:
— Выбирайте любую.
Я присел на одну из них и спросил, доставая бумажник, сколько с меня причитается за обед и ночлег. Но она замахала рукой и сказала:
— Что вы! Что вы! За это у нас не платят. Нет, нет! Это же за счет фонда идет.
— Фонда?
— Ну да. Специальный фонд, куда средства колхозные выделены для разных заезжих и приезжих.
— А-а… Ну, если так, то конечно…
Вот как они меня встретили в этой незнакомой русской деревне! И, лежа в постели, я старался понять, как это могло так получиться? Разве не был я финном, который воевал с ними и даже стрелял в них когда-то? Чем же они мне за это отомстили? Тем, что я бесплатно поел их русской пищи и лег в русскую постель под русской крышей? Нет, здесь что-то было не так… Что-то непонятное таилось за этим, требующее объяснения.
Но, с другой стороны, ради чего было мне ломать голову, добираясь до причины такого их поведения? Я ли не разбирался в причинах? Все на свете было мне ясно и понятно — чего уж там! А причина состояла в том, что они не могли поступить иначе. Это было у них в крови. Это переполняло их до отказа, не находя выхода. А я помог им найти выход. Только и всего. Не мог же я им запретить выказывать ко мне радушие и доброту, если так они были устроены самим господом богом, чтобы постоянно искать своей доброте применение. Они томились тут без меня долгие годы, не зная, на кого эту доброту излить, и вот подвернулся я. Для них я оказался подлинным кладом. Мог ли я при таких обстоятельствах отказать им в этой радости? Нет, конечно, хе-хе! Пришлось доставить им это долгожданное удовольствие и принять от них все накопленные ими запасы нежности и внимания. Что ж, обед был неплохой, а постель свежая и мягкая. Не так уж трудно было мне все это перенести, хе-хе!
И еще мне пришло в голову, что огромную глупость совершили те, кто лез в Россию с оружием в руках, вроде Арви Сайтури и ему подобных. Не таким путем следовало пытаться прибирать русских к рукам. Вот я нашел совсем другой способ и, кажется, уже выгадал от этого кое-что, а в будущем собирался выгадать куда больше. Ведь судьба приготовилась дать мне в жены красивую русскую женщину и могла бы, кроме того, прибавить к этому еще кусок русской земли с приусадебным хозяйством, если бы я пожелал здесь остаться. А давала она мне их потому, что я нашел совсем иной путь к завоеванию России. И это был самый верный путь, чего не дано было постигнуть глупой голове Арви Сайтури.
И еще я помечтал немного, прежде чем заснуть. Почему бы мне и не помечтать? Назавтра мне предстояло сказать моей женщине такое, что уже должно было соединить нас навеки. Разве это не стоило мечтания? Только десять километров отделяли меня от нее по дороге через развилку. Конечно, я мог свернуть от развилки назад к станции и вернуться в Ленинград, где меня ожидала уютная, спокойная комната и даже раскрытая книга на столе, в которой было сказано про их Россию: «Эх, тройка! птица тройка…». Но зачем было мне сворачивать от развилки к станции, если в пяти километрах от развилки находилась она, моя женщина?
Что мне пять километров? Я преодолеваю их в один миг и вот уже стою перед ней, произнося привычные для нее каждодневные слова, которые, наверно, так любезны ее сердцу и потому легко его покоряют: «Видите, сколько я прошел по России ради вас? Это доказывает, что я не боюсь трудностей и не останавливаюсь на достигнутом. Даже на работе я все делаю с огоньком и задором… с чувством ответственности… вдохновленный желанием выполнить… качественно. Окрыленный очередным указанием бригадира, я весь как один… Взять хоть четвертый этаж. (О пятом не будем говорить.) И насчет великих строек тоже… не один Петр может. Я тоже хочу положить голову на колени, и чтобы мне ее гладили. Ради вас я готов пройти пешком всю Русь. Как сказал ваш великий писатель: «Эх, тройка!..». И народ надо узнать, чтобы дружба… и льнотеребилки. Ведь кто-то знал, зачем их создал. Да, я понимаю, надо изобрести какой-нибудь механизм или вырастить новый вид картошки, чтобы все кончилось женитьбой. А что у меня? Рубанок, фуганок, стамеска, топор. Но я изобрету! О, я теперь все одолею! Я нашел верный способ завоевать всю вашу страну… и вас тоже, госпожа Россия! О, я такой!..».
Постепенно пройденные километры сделали свое дело, и я заснул. Так закончился первый день моего отпуска. Он, кажется, мало что мне принес. Но у меня осталось в запасе еще двадцать семь отпускных дней.
4
Утром я встал довольно поздно. Несмотря на это, ноги у меня побаливали. Пройденные накануне километры давали себя знать с непривычки. Никитична поджарила мне на сковородке три яйца, добавив к этому свежий хлеб, масло и чай с конфетами. Когда я поел и вышел на крыльцо, она сказала:
— К вам парторг вчера вечером приходил, интересовался, что за человек. Поговорить хотел, да пожалел будить. Уж так-то вы сладко спали. Он сейчас у бригадира в конторе. Просил зайти.
Я ничего на это не ответил, и она спросила:
— А от нас вы куда?
— В Заозерье.
— Большаком поедете или здесь?
И она указала на боковой проулок, откуда в поле уходила едва заметная травянистая дорога. Я спросил:
— А куда эта дорога идет?
Она ответила:
— Да в Заозерье же. Неказистая дорожка, малоезженая. Перемычка вроде между настоящими-то дорогами. Эдакое полупутье, ни то ни се. Но зато по ней восемь километров, а большаком все двенадцать наберутся.
— Восемь? До Заозерья?
— До Заозерья. А дале она и не идет. Я же говорю — недопуток…
— До свидания. Спасибо вам, пожалуйста.
И я зашагал по этой дороге в Заозерье, оставив ее на крыльце в полном удивлении. Выйдя в поле, я оглянулся. Она все еще стояла на том же месте, глядя мне вслед. Так сильно ее что-то удивило. Но потом она ушла в дом. А я продолжал шагать к своей женщине, уже не оглядываясь, довольный тем, что на этот раз меня отделяли от нее всего полтора часа. День опять предвиделся ясный, и это прибавляло мне бодрости, хотя боль в ногах не утихала.
Нагретые утренним солнцем поля уже отдавали теплому воздуху ночную росу, а заодно и все ароматы, выделяемые молодыми хлебами, травами и лепестками цветов. Я шел сквозь эти ароматы и думал о своей женщине. Так уж издавна повелось на свете, что всякое приятное благоухание обязательно сопровождается мыслями о женщине. Вот и я тоже шел и думал о ней, которую мне очень скоро предстояло увидеть. А по обе стороны от меня тянулись возделанные поля, полные хлеба, картофеля и льна.
Но скоро возделанные поля сменились невозделанными. То есть видно было, что они тоже тронуты рукой человека, но растения на них преобладали те, что обыкновенно прорастают на людских полях сами, если им дать волю. Это были сорняки, забившие наглухо ростки картофеля и кормовой свеклы, по рядам которых еще не проходил пропашной плуг. Они же засорили посевы ячменя, овса, и ржи, которые по этой причине еще не успели подняться и выпустить колос. Они опередили в росте хлебные стебли, подавляя их размерами и сочностью своих листьев. Задавив хлеба, они выползали из них высокими, жирными зарослями на межи, откуда далее вливались в пахучую компанию луговых трав, тоже густых и сочных, уже созревших для косы.
Только никто не косил эти травы. Я смотрел направо и налево, выискивая взглядом людей, которым непременно следовало тут быть, чтобы спасти, пока не поздно, эти хлеба и овощи от гибели. Но ни одной души не было видно на всем том пространстве полей, что охватывал мой глаз. Местами пахотные поля имели такой вид, как будто их не трогали плугом уже много лет. Они не только плотно заросли травами, но и кустарники успели поселиться на них вполне основательно, наступая дружной зеленой толпой со стороны ближайшего леса.
Я подумал было, что это совсем заброшенная земля, не имеющая хозяина, но скоро заметил одного человека среди кустарников. Озираясь по сторонам, он выкашивал там ручной косой траву и тут же запихивал ее в сыром виде в мешок. Завидев меня, он пригнулся и юркнул в кустарник. Нет, это не был, пожалуй, хозяин здешней земли. Хозяин едва ли станет воровать сам у себя траву. И осанка у этого человека была совсем не та, какая бывает у хозяина, имеющего под ногами собственную землю. Но мало ли какой вид мог у них принять хозяин. Судя по тем рассказам, что я слыхал в Ленинграде от своих товарищей по работе, хозяин у них порой даже не понимал, что он хозяин.
Раздумывая так насчет хозяина, я продолжал идти все дальше по этой дороге, едва намеченной тележными колесами через травянистые поля, и скоро увидел деревню. Она открылась мне за поворотом этого подобия дороги, позади мелколесья и кустарников. И там же я увидел наконец людей, занятых работой. Но работали они только на своих огородах, прилегавших вплотную к их домикам, довольно стареньким и ветхим с виду.
Огороды были крохотные, но возделаны хорошо. Здесь не давали воли сорнякам. Все они были выполоты, и земля чернела от обилия перегноя. Я шел мимо и видел, с какой любовью перебирали люди руками и окучивали проросшую на огородах овощную зелень. Да, вот это была, конечно, их собственная земля. Тут сомневаться не приходилось. Но чья же тогда земля была вокруг них, простираясь далеко на все стороны от их огородов?
Выискивая глазами, кого бы спросить об этом, я продолжал идти вдоль деревенской улицы. В окнах домов виднелись люди — мужчины и женщины, но больше мужчины. Они просто так сидели внутри своих домов, поглядывая на улицу. Нет, эти люди тоже, конечно, не были хозяевами той земли, по которой я шел. Хозяева не стали бы сидеть по домам в такое время, когда их овощи на полях стонали от засилья сорняков, а созревшие на лугах травы тосковали по сенокосилке. Встретив на улице человека с двумя бутылками водки в руках, я спросил его:
— Скажите, пожалуйста, будьте в задолженности, это не Заозерье?
По его лицу было видно, что из моего вопроса он понял только последнее слово. Выражения вежливости, как видно, не входили в круг вещей, доступных его пониманию. На это последнее слово он и ответил, указав бутылкой вдоль улицы:
— Заозерье там. Четыре километра отсюдова.
Я и сам об этом догадывался, но заодно задал ему еще один вопрос:
— А земля эта чья, простите в снисхождении?
И я показал рукой на поля позади огородов. На этот раз он понял только первые слова из моего вопроса и удивился им:
— Как чья? Наша.
— Чья ваша?
— Наша. Колхозная.
— Я понимаю. Но хозяин кто?
— Да мы же — колхозники. За нами она закреплена навечно.
— И эти люди тоже ее хозяева? — Я указал на тех, кто выглядывал в окна, ничего не делая, и на тех, кто работал на своих огородах.
Он ответил:
— А как же! И эти и еще две деревни, входящие в наш колхоз.
Тут я заметил человека, который незадолго перед тем так несмело косил среди кустарников траву. Он шел задворками, держа косу в опущенной вниз руке и волоча мешок с травой по земле, чтобы его не было видно из-за забора. Я спросил:
— И он тоже хозяин?
— И он.
Тогда я понял, что он шутил, конечно. Почему бы и не пошутить человеку, который уже выпил немного? Но я сделал вид, что не понял его шутки, и спросил:
— Почему же они не работают на своей земле?
Он ответил:
— А просто день такой выдался сегодня: именины у председателя.
Из этих слов я уяснил себе наконец то, что касалось хозяина этой земли, и понял, почему она так запущена. Действительно, где же было одному человеку с ней управиться? Недаром он запил в такое неподходящее время. Но ведь кто-то, наверно, помогал ему в этом безнадежном деле. И, думая об этом, я спросил:
— А почему же он позволяет своим работникам тоже дома сидеть в такой хороший день?
Человек стал вдруг почему-то суровым и тоже задал мне вопрос:
— Вы что, к нам приехали или в Заозерье?
— В Заозерье.
— Уполномоченный какой-нибудь или кто?
— Нет, я просто так, сам по себе.
— Так и идите сами по себе. Вот она, дорога.
И, указав мне еще раз бутылкой направление, он заторопился от меня туда, откуда ему уже кричали в открытое окно: «Ну, что же ты там застрял? Закуска стынет!».
Я прошел всю эту деревню, удивляясь богатому виду ее крохотных огородов и запустению остальной земли. Делать мне в этой деревне было нечего. Но у последнего домика я все-таки остановился — так удивительно выглядело то, что его окружало. А окружала его возделанная под огород земля. Но как возделанная! Здесь даже дворик был превращен в огород, и даже та полоска земли, что отделяла домик от придорожной канавы, и даже склон канавы.
Никаких иных строений, кроме домика, не было на этом дворе, что дало его хозяину несколько лишних грядок. И самый домик имел странный вид. Он был приподнят кверху на четырех кирпичных столбах, а под ним устроен скотный двор, наполовину утопленный в землю. Лестница, заменявшая крыльцо, не опиралась о землю, экономя хозяину место для лишней грядки. Она лепилась боком к стене, вися над землей. Одна ее площадка приходилась напротив двери, ведущей в дом, другая — перед входом на чердак.
Да, это был хозяин! Ни одной пяди земли не пропадало у него без пользы. Только узкая тропинка, ведущая от калитки к дому, оставалась неразрыхленной и незасеянной. На всем остальном тесном пространстве его владений буйно зеленели все виды овощей. Вперемежку с ними высовывались из земли стебли кукурузы и подсолнечника. Горох и бобы, подпертые лучинками, росли в провалах между грядками.
Позади дома виднелся сад. Но и там под яблонями вся земля была занята овощами. Стволы яблонь обвивал хмель. Он же тянулся вверх по стенам дома. На южной стене дома висели на гвоздях продолговатые ящики, в которых росли помидоры. Такие же ящики, полные зелени, тянулись в два этажа по дощатому забору. Забор был плотный, остроконечный, с колючей проволокой наверху и охватывал крохотные владения этого хозяина со всех четырех сторон. Пока я стоял и удивлялся всему этому, из дома вышел сам хозяин и спросил:
— Вы не ко мне, товарищ уполномоченный?
Я покачал головой, но в то же время указал на поля, которые простирались до самого леса за пределами его забора, и спросил в свою очередь:
— Почему вы ту землю так же вот не обработали, извините в сожалении, пожалуйста? Или она не ваша?
Он чего-то не понял в моих словах и подошел ко мне поближе. На вид это был крепкий старик с широким, румяным лицом, на котором седая щетина была так же коротко подстрижена ножницами, как и на голове вокруг загорелой лысины. Когда он вышел из калитки и подошел ко мне поближе с вопросительным видом, я спросил:
— А та чья земля?
Он засмеялся хитрым смешком и ничего не ответил. Его глаза бегали по сторонам, как у того спятившего охотника, что жил в лесах Туммалахти недалеко от русской границы. Посмеявшись немного, он поинтересовался:
— А вы откуда будете, позвольте вас спросить? Судя по выговору, приезжий?
— Да.
— С делегацией или как?
Я помедлил немного. А вдруг этот человек побывал в наших лагерях? Не стоило каждому все объяснять. И я сказал:
— Нет, я сам по себе. Я только хотел узнать, кто это так забросил свою землю?
— А вы бы в конторе спросили.
— Я тут по пути спросил, но понял так, что это председателя земля.
Он опять рассмеялся дробным смехом, закончив его хитрым вопросом:
— А как вы сами расцениваете такое явление?
— Я думаю, это преступление перед землей, на которой живешь.
Он опять хихикнул:
— Перед землей? Только-то? А перед человеком? — Он покосился вправо и влево и продолжал, понизив голос: — Ладно. Не будем о человеке там, где он не в почете. Посмотрим с точки зрения хотя бы государственной. Возьмем такой пример. Была деревня. В ней кроме всякого прочего народа было три крепких мужика. У них общим счетом шестьдесят коров. Да у всех остальных сорок. Всего, стало быть, сто коров на одну деревню. И земля вокруг вся обрабатывалась — не гуляла. Польза от этого государству, а? Как вы думаете?
— Думаю, что польза.
— Правильно. И я так думаю. Ладно. Объединили эту деревню в колхоз, и стало в ней всего двадцать пять коров, да и то ледащеньких. Почему бы это, а?
— Не знаю.
— И я не знаю.
— А где вы были, когда деревня объединялась?
— Хм… Где был? Да в ней же и был.
— Значит, вы должны знать.
— Нет, не знаю. Где уж нам в такие явления проникать.
— Разве вы сами не помогали деревне объединяться?
— Я? Объединяться? Хе-хе! Да вы шутник, я вижу.
— А-а, понимаю! Вы были, наверно, одним из тех крепких мужиков?
— Не будем вспоминать, кем я был. Не в том суть. Я говорю с точки зрения интересов государства. Было в деревне сто коров, а осталось двадцать пять. Убыток это государству или не убыток?
— Убыток, пожалуй…
— То-то и оно.
— Но куда делись остальные коровы? Вот ваши, например?
— Куда делись — это вопрос другой. Мы сейчас о самом факте говорим. Превратили деревню в колхоз — и мигом вчетверо сократилось в ней поголовье. И в двух соседних деревнях такая же ситуация сложилась. Выгодно это государству или нет?
— Как видно, вы очень болеете душой за интересы государства.
— А как же! Интересы государства для нас превыше всего.
— И теперь вы, кажется, нашли самый верный способ быть государству полезным?
Я кивнул на его крохотную усадьбу, обнесенную плотным забором с колючей проволокой наверху. И он ответил сердито:
— Да, нашел. А что еще прикажете делать? Применили тут и другой способ, да что толку-то? Взяли объединили все три деревни в один укрупненный колхоз. И коровушек-буренушек объединили. Три раза по двадцать пять — это сколько? Семьдесят пять? Нет. Это только в арифметике так. А в укрупненном колхозе получается тридцать шесть. Вот оно как! Тридцать шесть коровенок на три деревни вместо трехсот. Да и те выживут ли зимой, потому что травка эвон где — в поле остается. Вот и прикиньте, как оно с точки зрения хотя бы государственной, выгодно ему это, государству то есть? А? То-то и оно. Вот землица гуляет уже который год. Залежные земли создаем государству в центре России. А то ли ему надо, государству-то? Не то, пожалуй, а? Ведь это уметь надо — довести землю до такого состояния. Уметь! Не всякий такое сумеет.
— А почему это у вас так получилось, простите в отклонении?
Он хотел что-то ответить, но в это время вдали на дороге показался молодой рослый парень, идущий к деревне. Увидя его, старик сказал торопливо:
— Вот он идет, один из тех, кто пытался все эти годы плотью обух перешибить… Ну, прощевайте. Идите своей дорогой и помните, что я с вами ни о чем не говорил. Только закурить попросил — и все.
Сказав это, он вернулся на свой двор, утопающий в густой, буйной зелени, а я отправился дальше своей дорогой. Когда парень поравнялся со мной, он спросил сурово, вытирая рукавом рубахи пот с разгоряченного загорелого лица:
— О чем это вы там сейчас так горячо толковали?
Я ответил:
— О разном.
Он сказал:
— Не сомневаюсь, что о разном. На разговоры он у нас мастак на самые разные. На то и злопыхатель.
— Как?
— Злопыхатель. Это который на все злобой пышет. Вы что, иностранец?
— Да…
— А-а! Так вам трудно в этих делах разбираться.
— Нет, я понимаю. И мне показалось, что он иногда правильные вещи говорит.
— Еще бы. Он же не дурак. Но, говоря иногда правильные вещи, он выводы из них делает самые враждебные.
— Может быть. Но когда я спросил его, чья это земля кругом, такая запущенная, он почему-то не объяснил.
Парень сказал угрюмо:
— Земля известно чья. Она принадлежит тем, кто на ней работает.
— Но я таких не видел.
— Пойдете дальше — и увидите.
Я пошел дальше и действительно увидел работающих на этой земле. Их, правда, было немного — около полутора десятка парней и девушек, но трудились они ретиво. Одна их партия пропалывала свекольное поле, а другая — чуть подальше — ворошила и копновала сено, скошенное косилкой.
Я прошел мимо них, стараясь понять все виденное и слышанное на этом коротком переходе, но так и не понял. А когда переход кончился и появились по-настоящему возделанные поля, прилегавшие к большой дороге, вдоль которой расположилась деревня Заозерье, я снова над этим задумался. Почему так по-разному жили у них люди? Я шел из деревни, где получил бесплатный ночлег на чистой постели в отдельной комнате и где меня дважды накормили, не взяв за это ни копейки денег. От своего избытка люди той деревни даже создали какой-то особый фонд, за счет которого принимали случайных прохожих и проезжих гостей. Теперь я приближался к другой деревне, где тоже все радовало глаз: и густые посевы вокруг и добротные дома. Так почему же там, на полпути между этими двумя деревнями, люди нанесли земле такую злую обиду?
Шагая между богатыми, полными земных соков нивами, прилегающими к деревне Заозерье, где меня ждала моя женщина, я все думал и думал о тех странных людях, оставленных мной там, на междупутье. Как могли они быть равнодушными к такому бедствию земли? Как могли не облиться кровью их сердца при виде ее страданий?
И постепенно я понял, что их сделало такими. Они плохо знали, что они хозяева этой земли. Чем еще можно было объяснить их поведение? Они думали, что ее хозяин — председатель. И даже тот, с двумя бутылками водки в руках, повторил, как видно, не свои слова, когда назвал хозяином себя и всех других жителей деревни. Он повторил их, не вникая в их суть и потому не ведая, в какое высокое звание он себя вознес этими словами и какую огромную принял на себя обязанность. Он повторил их, но не заторопился немедленно в поле, которое с тоской дожидалось его хозяйских рук, а понес председателю водку. Значит, на деле и он считал хозяином не себя, а председателя. Значит, и он по-настоящему не знал о своем праве быть хозяином.
Так постепенно уяснил я себе это странное явление. О, я способен был разгадывать и не такие загадки! Они просто не успели еще хорошо узнать. Не успели проникнуться верой в то, что земля — их собственная, как прониклись этой верой все их соседи или те пятнадцать молодых парней и девушек из их же деревни, что работали на общем поле без оглядки на других. И будь у них председателем один из тех пятнадцати, он, может быть, не поленился бы всем остальным это разъяснить.
Но, с другой стороны, как можно было не знать! Жить на земле и не знать, что ты ее хозяин! Боже мой! Сделайте меня хозяином земли там, на полупутье, и я покажу вам, для чего дана человеку богом земля!
5
Заозерье оказалось крупной деревней. В ней были две лавки, столовая и почта. Первым долгом я зашел на почту и послал Ивану Петровичу телеграмму, прося его не беспокоиться по поводу моей задержки. А в пояснение задержки я написал: «Изучаю народ, с которым надо дружить». Вот как я ему написал для успокоения. Пусть засветятся одобрительно его серые глаза под своими мохнатыми прикрытиями, и пусть лишний раз будет где-нибудь сказано обо мне хорошее слово.
Отправив телеграмму, я пошел искать колхозную контору. Она оказалась почти напротив столовой, по другую сторону улицы. Увидя выходившего из конторы человека, я сказал ему коротко, чтобы не затруднить пониманием трудной для него вежливости:
— Тут у вас представитель один есть из области. Депутат. Вы не слыхали?
И простой вопрос оказал свое действие. На него сразу же последовал нужный мне ответ:
— Как не слыхать? Слыхал. И даже видал. Там он сидит, в конторе. Только у них совещание сейчас. Или вы тоже на совещание?
— Нет, я только к ней. Мне только она нужна.
— А-а-а…
Он посмотрел на меня с недоумением. Но я не стал пускаться с ним в подробности о моей женщине и сказал:
— Ничего. Я здесь подожду.
Он с тем же недоумением протянул: «А-а…» — и направился прочь. Отойдя немного, приостановился было, явно желая у меня что-то переспросить, но раздумал и продолжал свой путь, не забыв, правда, оглянуться на меня еще раза два.
А я прошелся несколько раз туда и сюда перед конторой, стараясь не задерживаться подолгу под окнами, чтобы она не заметила меня раньше времени. Не стоило нарушать ее занятость. На свободную голову сильнее будет ее радость при виде меня.
Походив немного возле конторы, я перешел на другую сторону улицы и присел там на скамейке перед палисадником. Но и там я недолго посидел. Какой-то мужчина в очках выглянул дважды в окно конторы. Я подумал, что вот и она, моя женщина, так может выглянуть. А выглянув, увидит меня, обрадуется, заторопится и перепутает все свои дела. Чтобы этого не случилось, я поднялся с места и вошел в столовую. Она оказалась почти пустой, и я без труда нашел в ней такое место, откуда мог сквозь боковое окно наблюдать за конторой.
И вот я сидел в столовой, поглядывая сквозь окно на крыльцо конторы, где шло совещание и где моя женщина тоже говорила что-то умное и дельное. Я заказал себе щи из кислой капусты и котлеты и, конечно, постарался уничтожить это все побыстрее, чтобы успеть вовремя выскочить из столовой и оказаться перед ней, когда она появится на крыльце конторы.
Но только двое мужчин вышли за это время из конторы. Наскоро выпив стакан компота, я расплатился и поспешил вой из столовой, чтобы не прозевать момента. Еще двое мужчин вышли из конторы. Один из них был с портфелем и в очках. Как видно, совещание подходило к концу. С минуты на минуту могла появиться на крыльце и моя женщина. Я подошел поближе, перебирая в памяти слова, приготовленные для разговора с ней. Но они как-то непослушно вдруг повели себя, эти слова, вылетая из моей памяти и не желая идти на язык. Приходилось наспех придумывать новые.
Первым долгом надо было сказать: «Здравствуйте, Надежда Петровна!» — и при этом посмотреть на нее многозначительно. Что она могла ответить? Она могла ответить: «Ах, это вы! Какими судьбами вы здесь, простите в невероятности?». Или что-нибудь в этом роде. Дальше опять шли мои слова, примерно такие: «Я обещал к вам приехать и, как видите, приехал». При этом она должна была выразить удивление: «Но как же вы меня нашли в самой что ни на есть глубине России?» — «А я вас везде найду, Надежда Петровна, потому что вы для меня такая-то и такая-то». Тут надо было еще срочно придумать, какая она для меня. Кстати, надо было упомянуть о соревновании на четвертом этаже. (Про пятый этаж не обязательно было упоминать.) А потом сказать что-нибудь о коммунизме, без которого я, конечно, жить не мог, и о намерении изобрести что-нибудь, как это у них принято. Не изобретя ничего, трудно приобрести благосклонность у их женщины, о чем вполне убедительно говорится в их романах. Но что я мог изобрести, если не имел ни сверла, ни станка, ни пшеницы? Я мог изобрести какое-нибудь новое приспособление к рубанку или фуганку, что заставило бы их двигаться без помощи человека. Человек сидит, а они действуют. Приходит ко мне в мастерскую моя женщина, я нажимаю кнопку, и они вскакивают на дыбы все вместе: рубанок, фуганок и топор — и кланяются ей или танцуют перед ней вальс, а внутри у них музыка. Да, что-то вроде этого надо было придумать, конечно, если я собирался завоевать сердце их женщины.
Я потоптался еще немного возле крыльца конторы, а потом остановился прямо перед окнами. Пусть уж она теперь заметит меня — лишь бы поскорее вышла. Но она не вышла. Это было непонятно. Подумав немного, я заглянул в открытое окно, но не увидел ее внутри и не увидел также никакого скопления людей. Незнакомая девушка сидела за столом и что-то писала. Больше в комнате не было никого. Помедлив еще пять минут, я вошел внутрь и спросил у девушки:
— Скажите, пожалуйста, не откажите в извинительности, где здесь происходит совещание?
Она сначала удивилась моим словам, как удивлялись до этого все другие, столь же непривычные к тонкостям вежливости. Но последние слова она поняла и ответила:
— Уж закончилось давно. А вы откуда?
— Из Ленинграда.
На этот раз она не выказала удивления моим словам и повторила, не отрывая глаз от своих дел:
— Закончилось. Он поехал осматривать новые пруды.
— Кто он?
— Уполномоченный из облисполкома.
— Нет, я спрашиваю про нее, про Надежду Петровну, депутата областного Совета. Мне сказали, что она здесь.
— Где? Здесь? В конторе?
— Да.
— Нет, здесь такой не было.
— Совсем не было?
— А разве не одно и то же: совсем не быть или просто не быть?
— А мне только что сказали…
— Кто сказал? Не могли вам этого сказать, если ее не было.
Девушка оказалась такой быстрой на ответы, что я даже не успевал как следует обдумывать свои вопросы. И тут я вспомнил, что и на самом деле тот человек мне этого не говорил. Он только поддакнул тому, что сказал ему я, а потом все оглядывался, словно собираясь что-то объяснить. Мне следовало догнать его и снова вызвать на разговор, а я не догадался. Не зная, что подумать, я сказал:
— Но где же она? Мне за озером сказали, что она сюда приехала.
Девушка подумала немного. Должно быть, вид у меня был не особенно бодрый, если она приняла наконец во мне участие и сняла телефонную трубку. Когда ей ответили, она сказала:
— Сорок пятого дайте.
Ей дали «сорок пятого», который откликнулся простуженным старческим голосом на всю комнату:
— Сорок пятый слушает.
Она спросила:
— Это от вас, кажись, кто-то депутата облсовета приглашал?
Голос в трубке ответил:
— Да, от нас.
— Ну и как? Разобрались?
— Разобрались.
— А что было-то?
— Да ерунда оказалась. Склочница она, эта наша Ефимиха. Сама знаешь. Померещилось ей, что участком го обделили, что будто бы за ее счет соседу прибавили. Вот она и настрочила заявление.
— Ну и что?
— Ну, измерить пришлось. Ее же саму мерить заставили. Оказалось, у нее даже больше на несколько квадратных метров. Ей говорят: «Может, отдашь эти метры-то?». Молчит. Успокоилась теперь. Но, надо думать, ненадолго. Определенно другую каверзу сочинит. Не может она так, чтобы без склоки. Натура не позволяет.
Я напомнил девушке:
— А где депутат?
И девушка спросила в трубку:
— А депутатка-то у вас пока еще?
Но голос ответил неторопливо:
— Нет. Уехала. Уже с утра уехала. Что ей тут у нас делать? Других скандалистов у нас не имеется.
— Куда уехала?
Это я крикнул тому, чей голос выходил из трубки, как будто он мог меня слышать. И девушка повторила мой вопрос. А голос ответил:
— А мне почем знать? Мне это знать не положено. Может, в район, а может, на МТС. Иван Николаевич должен знать, да его нет сейчас. Ушел на ферму.
— Когда он вернется?
Это опять я спросил. И девушка, которой, как видно, уже надоели мои вопросы, нехотя повторила это в трубку. Старческий голос ответил с такой же неохотой:
— Не знаю. Не сказал он мне.
Вот черт, как складывалось дело! Приходилось, видно, самому идти его искать. На всякий случай я спросил:
— Но она по крайней мере та самая?
Девушка взглянула на меня с удивлением. Я пояснил свой вопрос:
— Как ее звать? Надежда Петровна Иванова? Из колхоза «Путь коммунизма»?
Девушка повторила мой вопрос в трубку. Но в это время на другом конце телефонного провода случилась какая-то заминка. Девушка спросила еще раз:
— Она не из колхоза ли «Путь коммунизма»?
И тут ее перебил по телефону другой мужской голос, молодой и звонкий:
— Да, да, Зиночка, из колхоза. Именно оттуда. А почему это тебя так интересует, позвольте узнать?
Девушка сказала недовольно:
— Отойди ты, не мешай!
А я подсказал:
— Спросите, она средних лет, черненькая и волосы гладко зачесаны?
Девушка, досадливо вздохнув, спросила:
— Матвеич, а Матвеич, она собой-то какая? Черненькая, волосы гладко зачесаны или как?
И тот же молодой, звонкий голос с готовностью подтвердил:
— Да, да, да. Черненькая, гладенькая. Все мы черненькие и гладенькие. А позвольте узнать, Зиночка…
— А ну тебя! Некогда мне. Отчет закончить надо. Мешают здесь целый день сегодня…
Девушка повесила трубку, прервав на полуслове молодого шутника. После этого она села на место, уже не глядя на меня. Так я надоел ей своими вопросами. Но я не мог уйти, не зная — куда. И я спросил опять:
— А это где, простите в одолжении?
— Что?
— Откуда это с вами говорили?
— Из Степановки.
— А это далеко отсюда?
— Два километра.
— А кто такой этот Иван Николаевич?
— Бригадир.
Она уткнулась в свои бумаги и больше на меня уже не смотрела. Но я спросил:
— А в какую сторону надо к нему идти?
— В ту.
Она махнула рукой, не отрываясь от бумаг. Я сказал ей: «Спасибо». Она не ответила. Я сказал: «До свиданья». Она ответила, но головы от бумаг так и не подняла.
Выйдя на улицу, я пошел по тому направлению, которое она указала. Это удаляло меня от станции Балабино еще на два километра, но я уже старался не думать об этом. Пройдя середину деревни, где новые дома образовали подобие площади с маленьким садиком в центре, я скоро выбрался к окраине. За деревней потянулись ржаные поля, но за ними не было видно другой деревни. Ее заслоняла осиновая роща. Дорога, пересекавшая Заозерье, была покрыта асфальтом и обсажена по сторонам молодыми деревцами. По ней в обе стороны то и дело проносились машины и велосипеды. Прижимаясь к самому краю дороги, я довольно быстро добрался до осиновой рощи и только за ней увидел наконец нужную мне деревню Степановку. Девушка, конечно, убавила расстояние до нее по крайней мере вдвое.
Пока я шел к деревне Степановке и пока разыскивал в ней бригадира Ивана Николаевича, день заметно склонился к вечеру. За это время бригадир успел побывать не только на всех фермах, но и в поле на трех участках. Так мне сказали, когда указали на него, идущего по улице. Это был крупный человек, и шел он почему-то очень быстрым шагом. Едва я, подойдя к нему, раскрыл рот, как он подхватил меня под руку, но не остановился и даже не убавил шага. Пришлось и мне поторопиться, чтобы не утруждать напрасно его руку.
Но, приноравливаясь к его шагу, я старался в то же время понять, зачем ему понадобилось хватать меня под руку так крепко, словно он заранее приготовился пресечь любую мою попытку вырваться. И вдруг страшная догадка пронзила мне сердце! Ведь его звали Иваном! Как же я сразу об этом не подумал! Его звали Иваном, и был он тот самый Иван, с которым я, кажется, еще не сталкивался. Или сталкивался? И если предположить, что я с ним пока еще не сталкивался, то полагалось мне теперь без промедления затрепетать от страха, потому что пришел мой час принять от него должное возмездие за вину Арви Сайтури. И кровь должна была застыть у меня в жилах при одной только мысли об этом возмездии.
Да, вот что полагалось испытывать мне теперь, когда его огромная лапа загребла меня и поволокла за собой. Страхом и ужасом следовало мне наполниться в такую минуту, вместо того чтобы с наивным любопытством разглядывать его сбоку.
И, торопливо перебирая ногами рядом с ним, шагающим крупно, я успел представить себе весь ход событий, который привел меня к такому невеселому концу. Ему сообщили с места моего ночлега, что в эти края отправился финн, тот самый финн, что воевал с ними и стрелял в них. И вот он подкараулил меня, а подкараулив, перехватил на дороге и без промедления поволок на расправу. Так обстоят у них дела здесь, в России. Запомните это на всякий случай вы, финские люди, которых я уже не успею предупредить. И как прав был ты, Юсси, предвидя это! Но слишком поздно оценил я твои гениальные пророчества. Они уже не могли мне пригодиться…
Так выглядят здесь их подлинные дела, которые кроются за их словами о миролюбии. Чего стоили после этого заверения Ивана Петровича в том, что можно якобы пройти насквозь всю их страну и не встретить ни в одном русском человеке вражды к финнам. Плохо же он знал своих русских людей! Не понадобилось мне проходить всю страну насквозь. Довольно было сделать по ней первые шаги, чтобы меня уже схватили и повели на казнь. И за что повели? Только за то, что на глазах этого человека кто-то убил его жену и ребенка при содействии финна по имени Арви Сайтури. Но ведь я же не Арви Сайтури!
На всякий случай я приготовился вырваться из его железных рук, но пока еще делал вид, что вполне доволен такой стремительной прогулкой. А он вдруг повернул ко мне свое широкое потное лицо, темно-коричневое от загара, и сказал вежливо:
— Я вас слушаю.
Вот так обстояло дело. Он меня слушал. Он предоставлял мне слово для оправдания. Каждому приговоренному к смерти дают перед казнью сказать последнее слово. И вот он мне тоже предоставил такое право. Ну что ж. Скажу свое слово, если так. И я сказал ему, что мне нужна Надежда Петровна Иванова, приехавшая к ним из колхоза «Путь коммунизма» как депутат областного Совета. Была ли у них такая и где она сейчас? Такие слова я ему сказал вместо оправдания. И не успел я их произнести, как он уже ответил:
— Уехала сегодня утром в район.
— Куда?
— В район.
— Как уехала?
— Самым естественным способом: на машине уполномоченного Промтрансторгснабсбыта.
Он произнес какое-то очень длинное странное слово, смысла которого я не понял. Но я опять Спросил свое:
— Почему уехала?
— Очевидно, делать здесь ей стало нечего. В недоразумениях разобрались до нее. Что-нибудь еще у вас есть ко мне?
У меня к нему ничего не было больше, но я спросил:
— А далеко туда?
— Восемнадцать километров.
На этом наш разговор можно было закончить, если у него, конечно, не имелось никаких иных намерений относительно меня. И нам оставалось только расцепиться, чтобы каждый мог пойти своей дорогой: он туда, вперед, в конец деревни, где его ожидало какое-то спешное дело, а я — назад, к станции Балабино. Впрочем, если бы он протащил меня с такой же скоростью те восемнадцать километров, которые отделяли теперь меня от моей женщины, то мы оказались бы в районе через полчаса. Но едва ли он собирался оказывать мне такую услугу. Да и самому мне не очень улыбался столь необычный вид путешествия. И, чтобы отвлечь его от подобного намерения, я спросил:
— А на чем туда можно доехать?
Он призадумался.
— Хм, действительно, на чем же? Была райкомовская машина — уехала. А вы проголосуйте.
— А?
— Проголосуйте.
Я так и не понял его. А он спросил:
— Больше у вас нет ко мне вопросов?
— Нет…
— В таком случае прошу извинить. Счастливо вам доехать!
Он отцепил от меня свою руку, и сразу же его шаг ускорился по крайней мере вдвое, а я начал отставать. Но и я тоже не сразу остановился. За время нашей сцепки он успел придать моему шагу такую скорость, что ноги мои уже без всякой надобности пронесли меня вслед за ним до самого края деревни.
На краю деревни стояла кузница. Он вошел в нее и остался там. В этот момент мне следовало бы остановить свой разбег, повернуться и тронуться в обратный путь, к станции Балабино. Но, не успев собраться с мыслями, я сделал вперед еще несколько уже замедленных шагов и тоже поравнялся с кузницей.
Дверь кузницы была открыта, и я увидел, как Иван Николаевич бил молотом по раскаленному куску железа, зажатому в клещах, которые держал в руках другой человек, пожилой и бородатый. Я повернулся, чтобы зашагать наконец обратно, но в это время Иван Николаевич заметил меня. Ударив еще раза два молотом по раскаленному куску железа, он вышел из кузницы и крикнул мне вдогонку:
— Что, не берут?
Я опять не понял его, и он сказал:
— А вы смелее! Погодите, сейчас я вам устрою.
И он выдвинулся на середину дороги, подняв руку перед грузовой машиной, которая только что вынеслась из деревни, пройдя ее всю без остановки. Но машина пронеслась мимо него, громыхнув пустыми железными бочками, наполнявшими ее кузов. За ней прошла легковая машина, которую он оставил без внимания, но перед следующей грузовой машиной опять поднял руку. В ответ на это она замедлила ход и, пройдя мимо, остановилась шагах в двадцати от нас. Он крикнул мне, указывая на нее:
— Бегите! Живо!
Я не знал, для чего это нужно было, но все же направился к машине. Из ее кузова тоже кто-то крикнул мне: «Скорее!». А выглянувший из кабины водитель сказал:
— Не задерживайте. Быстрее залезайте.
Я все еще не мог понять, зачем надо было мне залезать в кузов этой машины, если путь мой лежал совсем в обратную сторону. Но из кузова ко мне уже протянулась рука молодого парня, и я не мог не принять ее. Еще старый Илмари Мурто говорил мне, что нельзя отвергать руку человека, если ее протянули тебе от чистого сердца, особенно руку русского человека. Мог ли я не выполнить совета Илмари? Я принял руку русского человека, а другой рукой ухватился за борт кузова, поставив одновременно ногу на колесо. Парень рванул меня кверху, и я в один миг оказался в кузове.
6
Машина понеслась дальше на восток, встряхиваясь временами на тех местах, где асфальт имел бугры или вмятины. Я стоял, слегка пригнувшись, чтобы удобнее было держаться за борт кузова, и старался понять, куда и зачем я еду. Парень, поднявший меня наверх, стоял таким же образом у другого борта. У его ног сидел на развернутой газете пожилой мужчина и курил папиросу. Рядом с ним на запасном колесе сидела старая женщина. Три девушки в светлых блузках с короткими рукавами и в коротких юбках стояли позади кабины и пели песни. Их голые загорелые икры блестели прямо перед моими глазами. А по сторонам проносились назад зеленые деревья, кустарники и поля.
Скоро мы въехали в небольшую деревню да так и проехали ее, не задерживаясь. Таким же манером проехали мы и вторую деревню. Третий поселок, оказавшийся на нашем пути, состоял больше из сараев, чем из домов. В сараях и под навесами стояли разные сельскохозяйственные машины. Но еще больше их стояло вокруг сараев и навесов. Здесь пожилой мужчина выбросил за борт кузова папиросу и сказал девушкам:
— Стукните-ка там, доченьки!
Они прервали песню и застучали по кабине. Машина остановилась. Пожилой мужчина и парень слезли, и старший из них сказал в дверцу кабины:
— Спасибо, Мишенька.
Может быть, и мне следовало сойти вместе с ними и отправиться скорее в обратный путь, пока я его еще примерно помнил. Куда я ехал и зачем? Разве я знал? Но, пока я так раздумывал, уже готовый занести ногу за борт кузова, машина тронулась. И опять замелькали по сторонам зеленые поля и перелески. Блеснула речка на очень низком месте, по берегам которой на широких заливных лугах шел сенокос. После этого мы проехали еще одну деревню. И вдруг старая женщина заговорила громко и торопливо:
— Батюшки! Никак проехала? Стучите, доченьки, стучите!
И она сама тоже застучала по кабине, просунув между полными икрами девушек свой сухонький кулачок. Машина остановилась. Старая женщина слезла с помощью девушек на дорогу и сказала в окно кабины:
— Проехала дом-от свой! Спасибо, желанный.
Она побрела по дороге назад, а мы покатили дальше и на этот раз доехали без остановки до небольшого города. На окраине города машина остановилась, и водитель, выйдя из кабины, сказал девушкам:
— Приехали, красавицы. Слезай!
Они слезли, и он добавил:
— Плату бы с вас следовало взять, да уж ладно.
Они ответили все три почти одновременно:
— Плату? Пожалуйста!
— Ничего не имеем против.
— Сколько с нас?
Он принялся подсчитывать, для чего приставил палец ко лбу, над которым влажные от пота, темные волосы сбились в клочья. Подсчитав, он сказал:
— Да хотя бы по одному поцелую с каждой, что ли. Меньше нельзя.
И они опять ответили, все три разом:
— Ишь, чего захотел!
— С ума спятил!
— При посторонних-то!
Он спросил:
— А если я к вам в совхоз приду как-нибудь под воскресенье?
И опять он получил одновременный тройной ответ:
— Ну, там видно будет.
— Там еще куда ни шло.
— Там и разговор другой.
Они ушли, а я остался стоять в кузове машины, не видя нигде вокруг подходящего для себя прибежища. Водитель спросил:
— А вам на какую улицу?
Я ответил не очень уверенно:
— А мне в район…
Он взглянул на меня с некоторым удивлением, но сел в кабину и повез меня дальше. Проехав несколько улиц, он остановился возле группы больших домов и сказал мне, приоткрыв дверцу кабины:
— Приехали.
Я спрыгнул с кузова на мостовую и спросил для верности:
— Это район?
Он опять удивился и, подумав немного, тоже спросил:
— А что вам нужно в районе?
Я не знал, что ему ответить. Мне была нужна Надежда Петровна Иванова. Но стоило ли об этом говорить человеку, который ее, конечно, не знал, да и со мной, как видно, не собирался заводить знакомство?
А он сказал, потеряв терпение:
— Вот райсовет и райисполком, а там райком. А в этом ряду музей, кино, школа, гостиница. Держите путь, куда вам нужно, а я поехал. До свиданья!
— До свиданья. Спасибо.
Я с опозданием ответил ему, и он уже не слышал меня отъезжая. Я осмотрелся. Так вот он, значит, район. Это то место, куда она поехала, моя женщина. И вот я тоже приехал в район. Но ее не было в районе. Я это ясно видел. Я очень старательно оглядывался на все стороны, но ее не видел нигде, хотя по улицам сновало туда и сюда немало людей. И нельзя сказать, чтобы это меня особенно развеселило.
Перебирая в памяти сказанное водителем, я вспомнил, что среди прочих слов он произнес также слово «райсовет» и при этом даже указал на определенный дом. А райсовет — это не какой-нибудь райский совет, а районный Совет, что я тут же выявил, подойдя поближе к указанному дому. И, конечно, они могли быть чем-то связаны — этот районный Совет и тот областной Совет, где моя женщина была депутатом. Значит, какая-то нить соединяла ее с этим домом. Вот какая ловкая догадка сложилась в моей голове! Но когда я вошел внутрь дома, меня остановила пожилая женщина в платке и спросила строго:
— Вам кого надо, гражданин?
Я ответил, что мне надо депутата областного Совета, который приехал сюда сегодня утром.
Она ответила:
— Ничего не знаю. Учреждение закрыто. В конторах уже никого нет. Завтра к десяти утра приходите.
Я стоял, не зная, как быть. Только что появилась какая-то ниточка, за которую я мог ухватиться, и вот она уже готова была оборваться. Женщина спокойно выжидала, когда я уйду. И вдруг она сказала:
— А вон секретарша идет. Спросите у нее.
Я загородил дорогу другой женщине, идущей к выходу, и сказал:
— Простите в осведомленности, пожалуйста, скажите, у вас не была сегодня женщина из колхоза «Путь коммунизма»? Она депутат областного Совета.
Здесь вежливые слова возымели свое действие, и эта женщина оказала мне больше внимания. Подумав немного, она вспомнила:
— Да, была. Но она уехала часа три назад.
— Куда уехала? Домой?
— Нет. По району. Впрочем, собиралась и в соседний район, в колхоз «Рассвет». А уж оттуда, вероятно, домой.
Говоря это, она вышла вместе со мной на улицу и там спросила:
— А вы к ней по делу?
— Да…
— Так поезжайте прямо в колхоз «Рассвет».
— Это в другой район?
— Да. В своем районе вы можете ее не догнать. А в тот колхоз она обязательно поедет. И если вы ее опередите, то там же и подождете. Кстати, тут машина есть из того колхоза. Вот она стоит с грузом возле Дома крестьянина. Кажется, вторая или третья от края. Вы спросите там, которая из них едет до «Рассвета», и поезжайте вместе.
Она ушла, а я приблизился к машинам, стоящим возле Дома крестьянина. С грузом оказались три машины. Наметив себе ту из них, на которой лежал самый большой груз, покрытый брезентом, я подошел поближе. Это была трехтонная машина. Водитель копался в моторе, приподняв капот. Я спросил его:
— Скажите, будьте любознательны, вы не до «Рассвета» едете?
Не разгибая спины, он повернул ко мне худощавое загорелое лицо, при виде которого я понял, что он чем-то рассержен. Водители часто бывают чем-нибудь рассержены. Такая уж это профессия. Обороты вежливости для таких людей — пустой звук. Может быть, ему даже хотелось выругаться в ответ на мой вопрос, но, увидав мой новый костюм и шелковую рубашку с ярким галстуком, он удержался от этого. Я спросил его еще раз, уже без вежливости:
— Вы едете до «Рассвета»?
— Да.
Он сказал это так сердито, будто предлагал мне отойти прочь и не мешать ему. Но я не собирался отходить прочь. У меня было слишком важное дело. Поэтому я сказал ему:
— Можно мне с вами поехать?
На этот раз он даже не повернул ко мне головы, подвинчивая что-то черными от масла и мазута пальцами в глубине механизма, однако спросил:
— Куда?
Я ответил:
— К вам.
— В наш колхоз?
— Да.
— Но мы с грузом.
— Я вас очень просил бы, не откажите в извинении, пожалуйста.
На этот раз вежливость, кажется, тронула в нем что-то и он уже несколько мягче ответил:
— Не я хозяин.
— А кто хозяин?
— Придет скоро.
Я отошел немного в сторону и стал ждать хозяина. Он довольно скоро появился откуда-то из-за угла и, пересекая улицу, крикнул еще издали:
— Леха! Пор-рядок!
Это был невысокий плотный парень, одетый в светлый дождевик, уже попачканный местами. Лицо его было круглое и румяное, блестевшее от пота на вечернем солнце. И блеск этот как бы служил сиянием в дополнение к той радости, которую его лицо выражало. Но лицо Лехи не отозвалось на его радость. Очень худощавое и темное от загара, оно, должно быть, меньше было приспособлено для этого. На нем просто не хватило бы места, где радость могла бы достаточно широко расплыться. Поэтому оно сохранило свою выжидательную угрюмость. А круглолицый парень, подойдя поближе, объяснил причину своей радости. Он сказал:
— Все нормально. Полную бочку обещает налить за наличные. Но только после восьми, потому что ему предварительно отчитаться надо. Ну и я тоже не поскупился. Еще поросенка обещал из племенных сверх того. Пускай откармливает. Колхозу-то не жалко. Все равно кому продать. А нам от этого двойная выгода.
Я подошел к ним поближе, выжидая момент, чтобы вставить свой вопрос. Но он все еще восклицал, стараясь развеселить своего Леху:
— А ведь здорово получилось, Леха, верно? В области не достали, а тут достали. Бензин, можно сказать, не хуже авиационного. Уж с этим-то мотор не заест. Живем теперь. Недаром говорится: «Не имей сто рублей, а имей сто друзей». С каждого друга взаймы по сто рублей — и будет десять тысяч. Пор-рядок!
Он умолк на минуту, и водитель сказал, кивая на меня:
— Вот гражданину в наш колхоз нужно.
— В наш колхоз? — Круглолицый парень живо обернулся ко мне и, оглядывая мой костюм, спросил: — А вы к нам по делу или как?
— По делу.
Он еще раз оглядел меня, но настроение у него не изменилось оттого, что кто-то навязывался к нему в машину. Окинув глазом прихваченный брезентом груз, он сказал тем же веселым и довольным голосом:
— Ну что ж. Домчим как-нибудь. Закурить есть?
Я развел руками. Этого я не предвидел. Если бы предвидел, то купил бы папиросы специально для такого случая. Пришлось ответить:
— Некурящий, к сожалению. Простите в соболезновании.
— А-а!..
Он произнес это с некоторым удивлением. Как видно, и он был не очень силен в понятиях вежливости. Водитель протянул ему грязную надорванную пачку, из которой торчали концы папирос. Когда они закурили, я спросил:
— А когда мы поедем?
Хозяин машины ответил:
— Рано. Часа в четыре, а то и в три. Вы где живете?
Я не понял, к чему был задан этот вопрос, и он пояснил:
— Я к тому, чтобы знать, близко ли вы от машины будете, чтобы не проспать.
— Как не проспать?
— А так. Ведь в четыре часа — это самый крепкий сон.
Я начал понимать, но спросил на всякий случай:
— Так вы завтра поедете?
— Ну да, а когда же?
И водитель проворчал, затянувшись папиросой:
— Я ему уже говорил.
Но я не помнил, чтобы он такое говорил. А хозяин машины успокоил меня:
— Ничего. К ночи домчим.
— К ночи?
Я опять изобразил удивление. Но в это время водитель сказал:
— Если левая задняя опять не подведет.
Круглолицый спросил:
— А ты подклеил?
— Подклеил. Да разве это клей? Это горе, а не клей.
— Ну, ничего, будем надеяться. А вообще пор-ря-док!
Я подумал немного и сказал:
— Так я приду утром.
— Пожалуйста. Только помните: не позднее четырех.
— Хорошо.
Я отошел от них, обдумывая про себя, где бы провести ночь. На этой улице стояли не только те дома, которые назвал привезший меня в район водитель. Стояло много других домов. Я прошел мимо нового здания школы. Дальше строилось еще что-то крупное с колоннами, должно быть театр. Через два дома от него стояла новая трехэтажная гостиница под названием «Уют». За ней возводился другой крупный дом в четыре этажа, с балконами. А далее закладывался фундамент еще для двух домов.
И, глядя на глубокие траншеи, подготовленные для закладки фундамента, я вспомнил свой разговор с молодым Петром, который так откровенно разъяснил мне, для чего у них закладываются фундаменты и возводятся новые дома. Они возводятся у них для ведения войны. И здесь тоже шла у них, таким образом, к ней подготовка. Но я не испугался их подготовки к войне и, смело войдя внутрь гостиницы, спросил насчет ночлега.
Так надо у них действовать. Пусть вы попали к русским, которые готовятся идти на вас войной, но если вам понадобился ночлег, а рядом оказалась их гостиница — смело входите в нее и требуйте номер. Деваться им будет некуда, и они вынуждены будут признать, что да, действительно, это здание обязано давать приют приезжим людям, хотя бы даже финнам. Так случилось и со мной. Они не успели опомниться, как я уже задал им свой вопрос. И что же? Пришлось им ответить:
— Да, пожалуйста. Вам общежитие или одноместный номер?
Вот как ловко я их припер к стенке с первых же слов. А дальше я снял, конечно, одноместный номер, отдал им свой годичный русский паспорт и деньги за сутки вперед, а взамен получил ключ. Но прежде чем подняться на второй этаж к себе в номер, я купил внизу в киоске пачку папирос «Казбек», бритвенный прибор с лезвиями, крохотное зеркальце, помазок, мыло с мыльницей и зубную щетку с тюбиком пасты. Прихватил я также почтовую открытку и на этой открытке написал у себя в номере несколько слов Ивану Петровичу. Я написал, чтобы обо мне не беспокоились, потому что задерживаюсь в глубине России еще на два-три дня. Захотелось дополнительно посмотреть на русских людей, чтобы узнать, как у них тут насчет дружбы к финнам, и все такое. О, я знал, что могло больше всего интересовать Ивана Петровича!
Но, выйдя на улицу, чтобы опустить письмо в почтовый ящик, я увидел, что та самая машина отъезжает от Дома крестьянина. Что за дьявол! Вот она, оказывается, какая цена их дружбе! Опустив скорее письмо, я поспешил туда, все еще не веря в их коварство. Но пришлось поверить. Это именно они отъехали. Их место в ряду других машин возле Дома крестьянина было пусто. Машина шла поначалу не очень быстро, и первое время я даже надеялся нагнать ее, прибавив шагу, но скоро отказался от этой попытки. Улица в том конце, куда уходила машина, была разворочена. Шла прокладка подземных труб и подготовка к асфальтированию.
И тут мне вдруг пришло в голову, что, пожалуй, но для прокладки труб разворочена их улица, а для того, чтобы помешать мне догнать уходящую машину. Вот какое открытие сделал я в своей умной голове. Это было у них подстроено заранее, и теперь они выполняли подстроенное, срывая на мне все, что затаилось у них против финнов. Они предвидели мое прибытие сюда и здорово к этому подготовились. Тут ничего не скажешь. Машина отправилась к моей женщине без меня, а мне дорогу преградили глубокие окопы и цементные трубы. И после этого какие могли быть разговоры о дружбе финнов с русскими? О войне тут надо было говорить, а не о дружбе. Больше от них нечего было ожидать.
Так я раздумывал, следя глазами за тем, как машина колыхалась впереди по ухабам изрытой улицы. Я надеялся, что ямы и канавы заставят ее остановиться. Но она не остановилась, а в конце улицы свернула в сторону и совсем пропала из виду. Я тоже дошел до конца улицы. Она упиралась в молодой парк, занявший целую площадь. Он был, как видно, разбит совсем недавно и предназначен для той же цели, то есть для помехи мне. Как ни всматривался я вперед сквозь листву его молодых тополей, кленов, ясеней и лип, но увидеть грузовую машину, обогнувшую парк, уже не смог. Злое дело, задуманное ими против меня, было доведено до конца.
Что мне оставалось делать? Я посидел с полчаса в этом же парке на скамейке против цветов и газонов, глядя на каменного мальчика, стоявшего посреди круглого цементного бассейна. Запрокинув голову, он дул в трубу, направленную прямо вверх. Кто-нибудь стал бы меня уверять, что это обыкновенный, безобидный фонтан, еще не совсем готовый к действию. Но я — то знал, что это за фонтан и какого рода гостинцы будут вылетать из его ствола вместо воды, неся миру смерть и разрушение. Я видел теперь насквозь все их коварные хитрости. Все, что они строили, было маскировкой и только видимость имело мирную, а в сути своей таило угрозу и гибель всем, особенно финнам. И сами они так и смотрят, где бы скорей проявить свое коварство. Не далее как полчаса назад я получил тому новое доказательство.
Отдохнув немного, я поплелся обратно в направлении гостиницы, старательно обходя на своем пути все их траншеи и прочие явные признаки их приготовлений к нападению на другие народы. И что же я увидел, проходя опять мимо Дома крестьянина? Та самая машина стояла в ряду других, как и прежде. Как же так? Может быть, она и вовсе не трогалась с места? Чтобы проверить это, я подошел поближе. Оба они копались в своем товаре, стоя в кузове машины. Увидав меня, круглолицый сказал:
— А-а, это вы! Гуляете? Хорошее дело. А мы тут уже за бензинчиком успели смотаться. Так не забудьте: до четырех ждем, а там трогаемся.
— Да, да…
Вот как, значит, обстояло дело. Хм. Ну ладно. Мало ли что бывает! От них всего можно ожидать. Это такой народ…
В гостинице я попросил дежурную по коридору разбудить меня в три часа утра, потом побрился, вымылся в ванной и улегся в постель. И, лежа в постели, я подумал о том, что вот и второй день моего отпуска миновал. Уже два дня я не сидел на месте, передвигаясь туда и сюда по их просторной России. И еще мне предстоял по крайней мере один такой же день, если не считать обратной дороги в Ленинград. Вот и все, что мне предстояло.
Да! Что-то еще должен был я сделать попутно за это же время. Что-то такое выяснить, очень важное, по совету Ивана Петровича. Что бы такое обязан был я выяснить? Ах, да! Насчет пригодности русских к дружбе с финнами требовалось от меня что-то такое установить. Ну что ж. Нельзя сказать, что они совсем непригодны для дружбы. Кое в чем они могут и пригодиться. Вот сегодня, например, двое из них согласились подвезти меня на грузовой машине до колхоза «Рассвет», куда должна была приехать и моя женщина. И теперь они ждут меня, ночуя прямо на улице, в то время как я сплю на мягкой перине под одеялом. Разве это плохо? Нет, это очень выгодная дружба, когда тебя готовы везти, куда тебе нужно, а перед этим еще дают выспаться на мягкой постели. И в такую дружбу, конечно, следует вступать с ними время от времени, особенно когда вам надо, чтобы вас везли.
Не беда, что меня еще отделяли от моей женщины целые сутки. Зато как она обрадуется, когда застанет меня в том колхозе! Она взглянет на меня своими красивыми черными глазами и скажет удивленно: «Неужели это вы?» или что-нибудь в этом роде. И я отвечу спокойно: «Да, как видите». Тогда она спросит: «Но как же вы узнали, что я приеду сюда?». И я отвечу: «Такой уж я колдун. Я еще не так вас удивлю, если вы пойдете за меня замуж».
И тут я начну ей говорить про всякие разности, что употребляются у них в таких случаях: и про то, как я перевоспитался, и про четвертый этаж тоже. (Про пятый, конечно, не обязательно будет упоминать.) И насчет своей симпатии к их коммунизму тоже вверну кое-что. И насчет изобретений. Без этого нельзя. Без этого у них ни любовь, ни женитьба не получаются, судя по их романам. Но здесь еще придумать надо. Вот она входит, например, в мою мастерскую, а я нажимаю кнопку, и после этого рубанок, стамеска и молоток пускаются в пляс, а длинный фуганок встает на дыбы и тянет арию из какой-нибудь оперы. О, я знаю, чем их тут можно взять! И когда я все это ей выкладываю, она вздыхает радостно и говорит мне наконец: «Ну, если так, то я согласна».
Да, все шло гладко в моих делах — чего там! И пусть где-то в глубине России подстерегал меня тот страшный Иван — ему не суждено было меня зацапать. Напрасно он высматривал меня по всем дорогам, возвышаясь где-то там над своими равнинами, — я не собирался попадать к нему в лапы. Мой путь был теперь строго определен, и случайностей в нем больше не предвиделось. Я ехал прямо к своей женщине — и никуда более. Ехал на машине, насчет которой уже договорился. А потом возвращался поездом обратно в Ленинград. Все было для меня ясно, как шило в мешке, и никаких подноготных не предвиделось. Успокоенный этим, я вытянулся под мягким русским одеялом и скоро заснул.
7
Проснулся я перед рассветом. Часы мои показывали десять минут четвертого. И в это же время я услыхал стук в дверь и голос дежурной по коридору. Она сказала:
— Вставайте, гражданин. Вам пора.
Я оделся, умылся, рассовал по карманам все купленные накануне мелкие предметы и спустился вниз, где получил назад свой паспорт.
Оба парня возле машины уже были на ногах, и круглолицый, увидя меня, сказал:
— Ага, вот и вы пожаловали. Пор-рядок! Можно трогаться.
И мы поехали. Я устроился в кузове грузовика позади товара, закрытого брезентом, а они — в кабине. Первое время мне было довольно прохладно, и я даже пригибался, прячась от ветра, который создавался быстрым ходом грузовика вперед, к востоку. Но постепенно там, впереди, на небо выкатилось огромное красное солнце, обещая скорое потепление. На вид оно было точно такое же, какое выкатывалось по утрам и у нас в Суоми. Оно неторопливо поползло вверх, как это делало по утрам и наше солнце. И кто знает, не наше ли это финское солнце переместилось невзначай сюда? Будь здесь Арви Сайтури, он именно так и определил бы это удивительное явление. И заодно он подметил бы, что и здесь по сторонам дороги мелькают самые доподлинные финские деревья и кустарники: ель, сосна, береза, ольха, рябина. И только селения, успевшие неведомо когда разместиться на обширных полях в окружении этих финских деревьев и под этим финским солнцем, были не финские. Такая несправедливость была тут совершена произволом судьбы относительно Арви. Русские люди незаконно заселяли эти места и, как видно, даже знать не знали о досаде Арви.
Но если Арви Сайтури зарился на эти края только издали, бессильный в них проникнуть сам, то я проник. Вот каким хитроумным я оказался. Далеко ему было до меня! Он еще только в мечтах владел этими землями, а я уже проносился по ним наяву. Я стоял в кузове русской машины позади товара, накрытого брезентом, и обозревал с высоты своей позиции все эти просторы, заселенные по досадной ошибке судьбы не теми, кто имел на них право, как утверждал Арви.
Следуя призыву ясного утра, они мало-помалу выходили из своих домов, направляясь на поля и луга, где их ожидала сенокосная работа. А я летел мимо них, мимо домов, из которых они выходили, мимо полей и лугов, на которые они направлялись, мимо лесов, болот, рек и озер, которые перемежались у них с этими полями и лугами. Прямизна дороги позволяла машине идти с предельной скоростью, и уже за первые три часа она увезла меня далеко в глубину России.
Ну и огромная же она была у них, эта Россия! Вот уже третий день подряд я проникал в нее все дальше и все стремительнее. С непривычки мне показалось, что уже за первые два дня я пересек по крайней мере половину российской земли. Но где там! Каплю в океане я пересек. На одной крохотной точке я, оказывается, топтался эти два дня. Вот она когда только пошла развертываться передо мной по-настоящему, эта хитрая страна, недоступная для измерения! Раскинувшись бог знает до каких пределов, она без конца раскрывалась и раскрывалась мне навстречу, заглатывая меня все глубже в свои таинственные недра.
И странно было окунаться в эту неизведанную беспредельность, не встречая никакого противодействия с их стороны. Так ли они отнеслись к Арви Сайтури, когда он сунулся к ним через границу где-то там, на севере, во время войны? Они так его приняли, что он был рад унести обратно в Суоми целыми свои ноги. А я свободно катил по их земле прямо в сердце России, и сами же они меня туда везли. Вот как надо уметь устраивать эти дела!
Солнце поднималось все выше, набираясь все больше яркости и жара, нагревающего воздух, и скоро мне уже незачем стало пригибаться от ветра. Он перестал меня холодить. Я мог теперь стоять в кузове машины прямо во весь рост, подставляя ветру свою неприкрытую белобрысую голову, и обозревать еще более широкие горизонты, которые с такой готовностью раздвигала на моем пути Россия. Да, надо было, оказывается, уметь к ней подступиться, найти правильный способ обхождения с ней — и тогда обрабатывай ее как угодно. Арви не сумел найти этот способ, а я сумел. Потому-то я и летел теперь свободно в глубину зеленых просторов России, не встречая противодействия. Арви лопнул бы от зависти, увидя это.
В одном из встречных лесов машина остановилась возле ручья, и водитель сменил воду в радиаторе. Я тоже спустился с кузова, чтобы поразмяться немного. Лес по бокам дороги стоял густой и высокий, бросая на дорогу тень. Солнце еще не успело подняться высоко и потому только кое-где пронизывало густоту лиственной и хвойной зелени своими утренними пологими лучами.
Здесь было тихо, если не считать птичьей музыки наверху и воркотни ручья в бетонном кольце, протыкавшем дорогу поперек. И вид знакомых деревьев как бы нес мне успокоение, наводя на мысль о близости этого места к Суоми или, уж во всяком случае, к Ленинграду. Но только что преодоленное мною пространство было слишком огромно, чтобы так вот внезапно выпасть из памяти. Зеленые и голубые краски этого пространства, тронутые после ночной свежести утренним солнцем, все еще переливались перед моими глазами. И когда я подумал, что ведь это ни много, ни мало как новая сотня, а то и полторы сотни километров, прибавленные к тем, что и без того далеко отодвинули меня от Ленинграда, — когда я об этом подумал, в груди у меня что-то вдруг тоскливо заныло. И зачем только было моей женщине отправляться в такую даль!
Водитель тем временем повесил ведро на место и, подойдя к левому заднему колесу машины, пнул несколько раз ногой, обутой в сапог, резиновую покрышку. Круглощекий хозяин машины подошел к нему в своем расстегнутом дождевике и спросил:
— Ну как?
Тот пожал плечами и ответил:
— Кто ее знает…
Я тоже подошел к ним поближе. Мне следовало договориться с ними насчет платы за проезд, но как? Не зная, с чего начать, я достал пачку «Казбека», купленную накануне в гостинице, и протянул ее им в раскрытом виде. Они взяли по одной папироске. При этом круглолицый сказал:
— Вы же не курите.
Но я ответил:
— Нет, отчего же. Курю иногда немножко.
Сказав это, я себе тоже воткнул в рот папиросу и прикурил от их спички. Круглолицый спросил:
— А вы к нам по какому делу, если это не секрет?
Я ответил:
— Мне с депутатом областного Совета надо встретиться.
— А разве он у нас?
— Да…
Он больше ни о чем не спросил, только взобрался на колесо, выдвинул из-под брезента ящик с товаром, положил на него старую ватную куртку и сказал:
— Садитесь тут, если пожелаете. Так удобнее будет.
Я сказал ему «спасибо» и полез в кузов. А они вошли в кабину, но перед этим еще раз покосились на левое заднее колесо грузовика.
И надо сказать, что косились они на него не зря. Оно дало себя знать в конце концов, хотя и успело унести меня предварительно еще глубже в их нескончаемую Россию.
Ну и растянулась же она, эта Россия, по глади земли! Я слыхал, конечно, и прежде о ее размерах не раз и видел на карте, но только теперь как следует понял, сколько места было ей уделено на нашей планете господом богом. Я смотрел, как она вбирала меня в себя, отмечая мое появление шевелением ветвей в лесах и колыханием зеленых колосьев на своих просторных нивах, и постепенно в мое сердце стала закрадываться тревога: «До каких же пор это будет продолжаться? До каких пределов собирается она меня втянуть?».
Опираясь руками о ящики, накрытые брезентом, я старательно вглядывался вперед, выискивая глазами тот предел, до которого мне предстояло домчаться. Но какие пределы могут быть у России? В ней ли надеяться найти пределы! Где угодно можно их пытаться искать, но только не там, где развернула на все стороны свои непостижимые равнины Россия. Не было им предела — вот все, что я определил, усердно ворочая во все стороны головой. Машина несла меня в беспредельность.
И тут вдруг до меня дошла истинная суть всего того, что со мной происходило. Я сообразил внезапно своей умной головой, что меня неспроста затягивали в глубину России. Да, неспроста! Это было у них задумано заранее. Обо мне дознались еще там, в районе, и там же было все подстроено с этой машиной. Вот как обстояло дело. А собирались они со мной разделаться только за то, что я был финн. Другой причины не было. Правильно сказал когда-то островитянин Ээту Хаапалайнен. Для них не имеет значения — какой финн. Лишь бы ты был финн. А раз ты финн — значит, на тебе лежит ответ за все то неприятное, что русские приняли от финнов. Мне и выпала эта невеселая доля — быть в ответе за все.
Но какова же тогда цена заверениям Ивана Петровича насчет русского дружелюбия к финнам? Грош была им цена, потому что вот оно, их дружелюбие, как выглядело! Я испытывал его на собственной шкуре и мог бы теперь очень обстоятельно рассказать о нем всем, кого это касалось. Только слишком поздно я спохватился. Ветер свистел у меня в ушах от быстрого хода машины, и русские зеленые равнины проносились мимо, заглатывая меня все глубже в свои бездонные недра. Я уже не помнил, сколько десятков селений промелькнуло мимо меня справа и слева от дороги и на самой дороге. Не помнил, сколько мостов прогудело подо мной, переброшенных через реки. Даже два небольших города проплыли мимо, подымив своими фабричными трубами над вершинами лесов у самого горизонта. В такую даль они меня угоняли, чтобы тем легче разделаться со мной.
Да, Юсси, ты был прав! И теперь я тоже вслед за тобой мог бы заявить в полный голос, что нельзя финну попадать к русским. Стоит здесь, у них, появиться финну, как его заманивают в машину и мчат в глубину России на растерзание. Вот как они поступают с финном, когда он попадает в их страшные лапы!
Я не садился на ящик, выдвинутый для меня круглолицым хозяином машины. Я понимал теперь, зачем он его выдвинул. Он хотел, чтобы я сел и, сидя, перестал видеть что-либо, кроме высоких бортов кузова и нагромождения товара под брезентом. Он хотел, чтобы у меня не зародились подозрения. Но я разгадал его хитрость и продолжал стоять, принимая на свое лицо летящий навстречу коварный русский ветер и вглядываясь прямо туда, где меня ждала лютая казнь. Вот какой я был смелый!
Попутно я обдумывал все то, что совершалось. Не обдумывать я не мог, потому что так уж устроены мои мозги. Они всегда очень обстоятельно все обдумывают. Потому-то у меня все так ловко и гладко складывается в жизни. И, обдумав, я спросил себя, не зовут ли этого круглолицего Иваном? Вот о чем я себя внезапно спросил, и от этого вопроса холод пробежал у меня по спине. А вдруг это действительно было так? Пусть он и не очень походил на того страшного Ивана, о котором говорил Арви, но мало ли? Потолстел человек немного от спокойной жизни и под лишним грузом полноты стал ниже ростом. Только и всего. А этот рослый Леха, с его хмурым худощавым лицом, — не побывал ли он в наших лагерях, да еще не в том ли, где начальником был Рикхард Муставаара? О, теперь мне все стало понятно! Тут и таилась вся разгадка их странного поведения. И тут было самое жуткое, на что я мог у них напороться.
Но если так, то приходилось позаботиться скорее о спасении. Не так прост я был, чтобы отдаться им в лапы безропотно, как овца. У меня еще оставался выход, слава богу. Пока они сидели в кабине, я мог незаметно ускользнуть. Вот что я себе наметил выполнить без промедления. И, наметив, я не стал тратить времени даром. Взявшись руками за край кузова, я уже приготовился спрыгнуть с машины, но в это время она влетела в какой-то крупный поселок и остановилась. А круглолицый хозяин машины, выйдя из кабины, сказал мне:
— Стоим полчаса.
— Как?
Я все еще держался за край кузова, готовый спрыгнуть. Но куда было теперь прыгать? Ему на голову? А он добавил:
— Пообедать можете, если пожелаете. Вон там столовая.
И он повернулся ко мне спиной, направляясь к своему Лехе, который тоже в это время вышел из кабины. Я перевел взгляд на Леху. Но и он вряд ли затевал против меня что-либо плохое. Он даже не взглянул в мою сторону. Занятые разговором о каких-то своих делах, они оба вошли в сельскую продовольственную лавку, перед которой остановилась машина. А я еще немного постоял в том же положении, глядя им вслед. Вот как обернулось вдруг дело. Значит, как же это? Ага! Так-так. Ну, ладно. Мало ли что бывает. От них всего можно ожидать, от этих русских.
Как бы то ни было, но я, конечно, не упустил случая пообедать в их сельской столовой, где первым блюдом оказался суп из свежей зелени, вторым — кусок жареной свинины с картошкой и третьим — кофе с молоком.
И опять мы понеслись дальше, пополнившись одним тюком, обернутым в рогожу, и двумя ящиками с мылом. И опять, перед тем как тронуться, водитель ударил ногой по левому заднему колесу. А его круглолицый товарищ сказал:
— Ты тише пинай, Леха, а то и в самом деле прорвешь.
8
Да, они не зря тревожились по поводу колеса. Дорога скоро стала портиться. Правда, груды щебня и песка справа и слева показывали, что люди собирались ее чинить. Но пока еще на ней изрядно встряхивало. И от этого доставалось не только колесам, но и мне. Да и солнце вдобавок все крепче припекало мою непокрытую голову, подбираясь к правой щеке. Но я терпел все это, ибо помнил все время, что еду к ней, к моей женщине. Не беда! Все шло как надо, чего там! К русской женщине я ехал, которая ждала меня и не могла дождаться. Ехал в глубь России прямо к ней, и никакие силы уже не могли меня остановить. Вот как ловко я сумел тут все провернуть! О, я еще кое-что стоил на этом свете!
Да, у них тут, оказывается, можно было развернуться, если действовать с умом. А я обыкновенно по-иному и не действовал. Вот понадобилась мне машина, чтобы догнать мою женщину, и я уже мчался на ней. А хмурый русский Леха вез меня — хотел он этого или не хотел. Так ловко я все это провернул. Захотелось мне пообедать — и я пообедал, подкрепив свои силы их русской пищей, и теперь, с подкрепленными силами, готов был на новые завоевания.
И опять я стоял в кузове машины, пролетая по России, которая для иных, может быть, казалась таинственной и страшной, но не для меня. Я пролетал по ней, а она расступалась и расступалась передо мной, не имея силы меня остановить. Придорожные кусты и деревья мелькали мимо меня справа и слева с такой быстротой, что я не успевал их разглядеть. Прилегающие к ним луга и нивы проскакивали мимо чуть медленнее. И еще медленнее проплывали более отдаленные поля и холмы. А лесистый горизонт за ними, окутанный голубой дымкой, почти совсем не двигался и казался скорее плывущим вперед попутно с машиной, нежели назад.
И от этой разной скорости в перемещении полей и холмов казалось, что все зеленое пространство земли, которую я охватывал глазом с высоты кузова, как бы поворачивалось по кругу. В то время как одна часть этого пространства убегала из-под меня назад, его другая часть, самая отдаленная, торопилась издали предстать перед моим взором поближе. Это русская земля показывала мне себя и так и этак со всех сторон, чтобы я мог ее как следует оценить. Я появился здесь, чтобы завоевать ее, и она, понимая, кто несется по ее поверхности, старалась выставить мне навстречу всю свою привлекательность. О, я знал, как и чем ее взять! Далеко было до меня таким завоевателям, как Арви Сайтури или даже Гитлер. Не тем путем они шли на завоевание России. С меня бы им надо было взять пример — и тогда не провалилась бы их попытка.
Один я сумел найти самый верный способ, как прибрать их к рукам, этих неподатливых русских! Один я сумел без всяких препятствий проникнуть в их страну на такую глубину, на какую не проникал еще ни один из тех, кто решался на них напасть. И не на танке я сюда к ним ворвался, не на бомбардировщике. Нет, я сказал им всего несколько вежливых русских слов — и вот, пожалуйста: они уже мчали меня по своим равнинам, куда мне было нужно. Как это сказано у их великого писателя Гоголя: «Эх, тройка! птица тройка…». У меня она была в руках, эта тройка. И я правил этой тройкой, как хотел.
Небольшая река блеснула впереди. Через нее строился новый мост. А пока он строился, машины должны были спускаться к реке по обходной дороге, а дальше — через временный мост. И мы тоже понеслись вниз, не замедляя хода, только ветер засвистел у меня в ушах. С той же скоростью взлетели мы с разгона на крутой противоположный берег, откуда мне открылись новые просторы России, готовые отдаться моей власти. Ну что ж, отдавайтесь, подчиняйтесь! Так и быть, приму все это под свою высокую руку. Эго-гей!.. Лети, машина! Загребай русские равнины! Гони, Леха, или как тебя там, выполняй мою хозяйскую волю! Хип-хей!
Что-то вдруг хлопнуло под моими ногами, заставив меня вздрогнуть и оглянуться по сторонам. Это был гулкий и хлесткий звук наподобие выстрела. Можно было подумать, что кто-то метнул гранату под колеса машины и она взорвалась там, повредив какой-то механизм. Как бы то ни было, но машина сразу же слегка накренилась влево, сбавила ход, а потом и совсем остановилась.
Вот какие тут истории случаются с машинами, когда на них едет финн. Запомните это на всякий случай вы, финские люди, и когда вам приведется прокатиться по дорогам России, глядите в оба! Не верьте мирному виду их полей, ибо за каждым зеленым бугром и кустом сидит у них человек с гранатой, выжидая случая, чтобы мимо проехал финн. И когда мимо проезжает финн, они кидают в него гранаты и стреляют в него из чего пришлось. Вот какова цена их заверениям в дружбе!
И разве после этого у меня повернется язык сказать, что в их стране все тихо-мирно и нет никакой подготовки к нападению на других? Не повернется на это у меня язык, ибо разве не под мою машину метнули они гранату с атомным зарядом?
Вот вышли из кабины Леха и его круглолицый приятель, выведя предварительно машину на край дороги. Зачем они вышли из кабины? Они вышли, конечно, затем, чтобы стащить с кузова машины те куски, которые, по их предположению, от меня остались после подстроенного ими взрыва, и сбросить эти куски с дороги в канаву. Но не вышло, голубчики! Заговор ваш не удался. Я стоял в машине целый и невредимый.
И вдруг она вздрогнула. Это хмурый Леха ударил ногой по ее левому заднему колесу. И тут же сразу он показал себя неожиданно очень разговорчивым. Жаль только, что я плохо понял его длинную речь. Он выложил в один прием столько новых для меня русских слов, что я прямо-таки рот разинул, стоя в кузове и глядя на него во все глаза.
До этого случая я полагал, что уже хорошо знаю русский язык. Нет, я еще не знал русского языка. Я услыхал здесь такие редкие слова, которых еще не встречал в их словарях. И с этими редкими словами он почему-то очень замысловато сплел разные другие слова, вроде таких, как «Христа», «бога», «переисуса», «врасхлест», «вразгон», «переучет», «прозябание», «лукоморье», «дондеже еси», «спаса», «душу», «мать».
Конечно, это могло быть молитвой, но я привык считать, что молитву произносят обыкновенно более тихим и кротким голосом. И в звуках этой молитвы я не уловил должного благоговения. Скорее даже наоборот. И движения Лехи тоже мало походили на молитвенные. Складывал он свои пальцы никак не для крестного знамения и крестом себя не осенял. Скорее он готов был осенить кого-то другого, а за неимением такого под рукой хватил кулаком по борту кузова и ногой пнул еще раз левое заднее колесо с такой силой, что встряхнулась вся трехтонная машина вместе с грузом, заставив меня крепче ухватиться за край борта.
Сделав это, Леха повел вокруг разъяренным взглядом, сверкнув попутно и на меня белками расширенных глаз, и вдруг пошел прочь с дороги прямо через канаву в поле. А поле это было клеверное, и тянулось оно далеко, куда едва хватал глаз. Он прошел по этому полю метров пятнадцать, утопая едва ли не по бедра в его красно-зеленом благоухании, и там скрылся, кинувшись ничком в клевер.
Я оглянулся на его товарища. Тот, ни слова не говоря, тоже смотрел ему вслед, а потом тяжело вздохнул и присел у кабины на подножку. Я протянул ему раскрытую пачку «Казбека». Он взял одну папиросу и, глядя мимо меня в поле, сказал как бы в оправдание поведения Лехи:
— Война его попортила. А был парень — во! Славный такой, душевный, мечтательный, и даже стихи писал. Все война, будь она проклята!
Я промолчал в ответ на это. Когда речь заходит о войне, да еще в той стране, с которой ты сам воевал, то лучше промолчать. Отойдя немного в сторону, я присел на травянистый край дороги, уперев каблуки своих новых туфель, уже слегка стертые ходьбой, в зеленый скат канавы. Так мы просидели некоторое время, глядя с высоты дороги на клеверное поле, откуда волнами шло благоухание. Потом я спросил круглолицего:
— А мы долго тут стоять будем, извините в склонности, пожалуйста?
Опять я некстати ввернул вежливость. Из-за нее он явно не сразу меня понял, а когда понял, то не сразу ответил и сперва кинул взгляд на клеверное поле. В это время из гущи красных пушистых цветов высунулись вверх колени Лехи в черных штанах. Это означало, что он уже успел там повернуться на спину. И только увидев эти колени, круглолицый ответил:
— Нет, недолго.
И действительно, скоро одна из ног Лехи, обутая в сапог с коротким голенищем, вскинулась вверх и легла своим сгибом на колено другой ноги. В этом положении она задержалась на некоторое время, шевеля ступней. А потом исчезли сразу обе ноги, и вместо них над красными головками клевера поднялась взлохмаченная голова самого Лехи.
Молча подойдя к машине, он сунулся в кабину, извлек из-под сиденья домкрат и, подставив его под заднюю ось, ближе к левому колесу, неторопливо заработал рычагом. Когда ось приподнялась на нужную высоту, он снял колесо, положил его на землю, вытянул из-под покрышки камеру и уселся с ней на подножку машины. Пока он зачищал напильником резину, чтобы ее лучше прихватило клеем, я подошел к нему с раскрытой пачкой «Казбека». Но он сказал: «Ваши слабые», — и закурил что-то свое.
Накачивали они камеру по очереди. Я тоже хотел им помочь, но круглолицый сказал:
— Ничего, обойдемся. Не беспокойтесь.
Лица у них блестели от пота. Водитель снял рубашку и работал в одной майке, но даже она у него взмокла на спине и на груди. Его тело уже успело где-то загореть, хотя и слабее, чем лицо. И странно было видеть при такой худощавости его лица крупные, налитые силой мускулы рук. Когда его рука сгибалась в каком-нибудь усилии, направленном вверх, то главный мускул на ней становился по размеру почти таким же, как его лицо. Широкий вырез у старой майки открывал почти всю его грудь, и когда он наклонялся, то в левой части груди виднелся застарелый продолговатый шрам.
Скоро покрышка у колеса, лежавшего на земле, вздулись и натянулась. Леха обстукал ее молотком, потрогал ногой и еще раз взялся за насос. Но не успел он качнуть и десяти раз, как вдруг опять раздался гулкий, стреляющий звук, а вслед за этим колесо у ног Лехи сердито зашипело, словно потревоженное змеиное гнездо.
Леха выпрямился и в первый момент не проронил ни слова, только надавил ногой на покрышку, которая легко сплющилась, не переставая шипеть. И тут его рот раскрылся для новой громовой речи, из которой я опять очень мало понял. Зато теперь я вполне убедился, что это не было молитвой, хотя он и поминал господа бога и даже распрогоспода. И, поминая их в разных новых сплетениях непонятных для меня слов, он швырнул на дорогу насос и рванул кверху тяжелое колесо, с силой опустив его затем ребром на землю. И пока оно раздумывало, стоя на ребре, в какую сторону свалиться, он пнул его ногой, заставив свалиться под кузов машины.
И опять я увидел боковым зрением страшные белки его глаз, но не пытался взглянуть на них прямо. Его товарищ тоже, хотя и выражал всем своим видом укоризну по поводу его замысловатой речи, но в лицо ему не смотрел, остановив свой взгляд где-то на уровне его груди, тронутой легкой порослью светлых волос.
А потом все повторилось. Леха шагнул через канаву и снова надолго скрылся в клевере. За это время его круглолицый товарищ сходил за насосом, лежавшим в пыли дороги, снял с колеса покрышку, взял в руки камеру и осмотрел ее. А когда колени Лехи высунулись наконец из клевера, он с камерой в руках направился к нему, поясняя на ходу скороговоркой:
— Тут совсем пустяк, Леха. Это та старая прореха, помнишь? Ты, наверно, задрал нечаянно край заплатки, пока чинил. А твоя новая заплатка цела. С ней полный порядок! Вот, смотри сам. А эту мы сейчас в два счета…
Колени Лехи опять утонули в клевере, и вместо них появилась его голова. Покосившись недоверчиво на обмякшую камеру, он выбрался из клевера и вернулся вместе с круглолицым к машине, где принялся с прежней неторопливостью за новую подклейку.
А время шло. Круглолицый то присаживался у канавы, то прогуливался взад и вперед по краю клеверного поля, поглядывая на солнце, которое уже приготовилось опуститься за отдаленный лес. Остановившись возле Лехи, он сказал:
— Ну и аромат! Никаких тебе тут ни духов, ни экстрактов не надо.
Леха промолчал. А круглолицый втянул ноздрями еще раз клеверное благоухание и добавил негромко, как бы про себя:
— На таком поле и заночевать не обидно.
Но тут Леха сказал ворчливо:
— В Семкинском лесу будет лучше. Возле родника.
Круглолицый живо к нему обернулся:
— Ого! Так и ты уже примирился с ночлегом-то?
— Плевать.
— Правильно! А утром как двинем пораньше — так до семи дома будем. Какая разница? Верно?
Из этого разговора я понял, что моя встреча с женщиной опять на какое-то время откладывалась. Так оно и получилось. Когда мы наконец тронулись дальше, солнце уже зашло, окрасив край неба над лесом в оранжевое сверкание. А когда мы достигли леса, нас окутали сумерки. Дорога в лесу была ровная, песчаная, с едва заметными канавами по бокам. Но проехали мы по ней недолго. Скоро машина свернула с дороги, переехала через канаву и некоторое время шла между деревьями, давя колесами сухие ветки и зеленый брусничник, а потом описала дугу и остановилась у небольшой реки, через которую нам еще предстояло переехать.
Я спросил круглолицего:
— Ночевать будем?
Он ответил:
— Да. Фары нас подвели. Аккумуляторов нет. Новые везем, но их еще зарядить надо.
— А далеко еще?
— Километров семьдесят без малого.
— Ого!
— Ерунда. За час-полтора домчим.
Я кивнул и, отойдя в сторону, прилег на траву под березой. Ночь предвиделась теплая. Вытянувшись на земле, я старался сохранять неподвижность, чтобы не запачкать зеленью травы свой новый костюм. Как-никак в нем готовился я предстать перед моей женщиной, и не хотелось мне показаться ей неряхой! Удивительно, как далеко она успела заехать. И все-таки я ее настигал! Мало того, я уже давно стоял бы перед ней, будь исправно у машины левое заднее колесо. И как она ахнула бы, увидя меня! А я сказал бы, как ни в чем не бывало: «Здравствуйте, Надежда Петровна». Она воскликнула бы удивленно: «А вы какими судьбами здесь, простите в откровении?!». Или что-нибудь в этом роде. И я ответил бы: «А я здесь живу, в колхозе, хе-хе!» — «То есть как живете? Неужели живете? Когда вы успели поселиться?» И так далее. Тогда я сказал бы: «Нет, я ради вас сюда приехал. Я сказал, что приеду к вам, — и вот, как видите, приехал». — «Но вы же могли не найти меня среди наших необъятных просторов». — «О, я вас везде найду, потому что моя любовь к вам такая великолепная, врасхлест лукоморье дондеже еси, что перед ней ничто не устоит. Вот я заставил двух русских парней гнать за вами машину день и ночь — разве это не доказательство? После такого доказательства вам ничего больше не остается, как согласиться. И, кроме того, я теперь совсем перевоспитался, загорелся, вдохновился и воодушевился всякими там стройками, как у вас водится, и даже сам победил в соревновании на четвертом этаже. (Ну, про пятый не обязательно.) И насчет новаторства тоже. Новое зерно мне, конечно, не придумать и резец какой-нибудь особенный, но что касается рубанка или там топора, то к ним я сумею применить свою изобретательность. Я их так разделаю, что они сами себя не узнают». Такую речь произнес бы я перед ней в тот день, если бы не левое заднее колесо. А ей осталось бы ответить на это только одно: «Ну, если так, то я согласна».
Лежа под высокой березой и вглядываясь сквозь ее густую листву в темнеющее вечернее небо, я подумал о том, что вот и третий день моего отпуска кончился. За этот день меня особенно далеко унесло на юго-восток от Ленинграда. Я пересек, наверно, половину России и находился теперь где-то в самом ее центре. Но дальше я уже не собирался продвигаться. И хотя Россия готова была затянуть меня еще глубже в свои таинственные недра, я на этом ставил точку. Хватит! Завтра повидаю свою женщину и отправляюсь по железной дороге в обратный путь. Вот и все.
И пусть где-то там, дальше, высматривал меня тот страшный Иван, ему не суждено было меня схватить. Напрасно он тянул ко мне через русские дороги, леса и поля свои железные лапы. Я проскакивал мимо него, слава богу.
Но что-то еще должен был я вспомнить, прежде чем закрыть глаза на ночь. Что-то важное, о чем не раз упоминал Иван Петрович. Ах, да! Насчет возможности дружбы русских с финнами должен был я что-то такое сообразить, исходя из увиденного за день.
Но что я мог сообразить о дружбе с русскими, оглядываясь на проведенный с ними день? И в каких признаках она проявлялась? В свое время Антеро Хонкалинна тоже твердил: «Мир и дружба», — имея в виду русских. А Юсси Мурто говорил: «Московская пропаганда». Кто из них был прав? Проверить это выпало на мою долю. Ведь недаром же сказал мне тот чиновник из их Министерства иностранных дел: «Разоблачайте нашу подготовку к войне!». А молодой Петр и Ермил Афанасьевич разве не в том же самом признавались мне по секрету при каждом удобном случае? О, я умел распознать за их показной хитростью подлинную суть! И ты, Юсси, можешь быть спокоен. Всем их проискам суждено было вскрыться под моим зорким глазом.
9
Прежде чем закрыть глаза на ночь, я поднял голову и еще раз кинул взгляд на тех, от кого мог ждать всяких напастей по теории проницательного Юсси. Хмурый Леха рылся в механизме мотора, подняв капот. Что он там делал? Закладывал бомбу, конечно, чтобы разнести меня в куски при следующем перегоне. Его румянощекий товарищ разжигал костер, собрав для этого в кучу несколько пригоршней мелких сосновых сучков. Для чего он разжигал костер? Для того, конечно, чтобы сжечь на нем то немногое, что от меня останется после взрыва.
Вот как обстояли здесь дела. И ты, Юсси, можешь быть уверен, что я очень зорко и точно все подмечал, как если бы пользовался твоими собственными глазами, столь схожими с глазами Арви Сайтури, когда дело касается разоблачения русских. Пытаться видеть все глазами Антеро мне не было надобности, потому что где ему до тебя! И вот, помня тебя, я вскрывал таким образом все махинации русских на каждом шагу, если считать, конечно, что именно такую задачу имела моя поездка по их коварной земле.
Заложив бомбу, Леха закрыл капот и присел на подножку, вытирая паклей руки. Круглощекий подошел к нему и, почесав свой заросший светлыми волосами затылок, сказал уныло:
— Н-да, с куревом того…
А Леха проворчал:
— Шляпы мы! Были в лавке и не вспомнили. У меня тоже из головы вон.
Я встал и, подойдя к ним, протянул свою пачку «Казбека». Это выглядело так, будто я имел намерение смягчить их сердца, жаждавшие свирепой расправы со мной. Леха нехотя взял одну папиросу. Я сказал: «А вы все курите», — и положил пачку на траву возле костра, где круглолицый уже раскладывал на газете закуску, состоявшую из печеной рыбы, свинины и колбасы. Помимо закуски, он поставил на газету также бутылку водки размером в половину литра и при этом вопросительно взглянул на Леху. Тот сказал, выпустив изо рта дым папиросы:
— Ничего, проспимся.
Круглолицый кивнул и ласково шлепнул по дну бутылки ладонью, заставив таким образом пробку вылезть из горлышка ровно настолько, чтобы ее можно было захватить пальцами. Наполнив жидкостью два маленьких стаканчика, он спросил меня:
— Не желаете ли составить нам компанию?
Но я ответил:
— Нет, спасибо.
— Ну, дело ваше. Тогда хоть перекусите малость. Вот, пожалуйста.
Я поколебался немного, но потом решил, что имею право взять что-нибудь как бы в обмен на свои папиросы. Решив это, я принял из его рук изрядный кусок белого хлеба с колбасой и вернулся к своему месту у березы. Там я присел на траву, стараясь не помять новых брюк, а когда покончил с булкой и колбасой, прилег на том же месте лицом вверх. Сквозь листву березы я видел, как в темных провалах неба среди редких темных туч понемногу загорались вечерние звезды.
Те двое тоже недолго пировали возле костра. На каждого из них пришлось по три стаканчика. А на закуску налегал главным образом румянощекий. Леха поднялся с места первым и пересел поближе к реке. Сидя на зеленом склоне берега, он покурил немного, прислушиваясь к журчанию воды, а потом стал что-то вполголоса напевать, не забывая поглядывать и на звезды. Как видно, водка сумела расшевелить и его хмурое сердце. Я прислушался к тому, что он про себя напевал. Это было подобие песни, у которой то и дело менялся мотив, а слова располагались примерно так:
Два крутых зеленых берега несли голубую струю. Она звоном своим наполняла всю тенистую рощу мою. На ту сторону вышла девушка. Она что-то сказала мне, но слова ее утонули в голубой и звонкой волне. Плотину принялся я строить. Работа была трудна. И много огня поглотила из моего сердца она. Но вот готова плотина, И вот я на том берегу. И девушку ту зову я, что в сердце своем берегу. «Выйди ко мне навстречу при свете вечерней зари и то, что струя заглушила, снова мне повтори». Но к парню другому прильнула, не дождавшись меня, она. И огнями моей плотины их радость озарена. Эй, сердце, ты что заныло? Ты о сделанном но жалей! Хватит в тебе заряда еще на миллионы огней. Знай создавай плотины, знай зажигай огни, пока не поймет иная, где родятся они.Что-то вроде этого он тянул про себя втихомолку, глядя через речку в густоту леса, над которым все ярче разгорались звезды. Некоторые места своей песни он повторял, переставляя слова и фразы. Видно было, что все это он сочинил тут же, на месте. Тут же он и улегся скоро, обратив лицо к звездам. А его круглолицый товарищ вытянулся под соснами, бросив предварительно в костер газету с остатками закуски.
На этом нам бы и успокоиться до утра. Но разве у них тут можно надеяться на покой, если все они только тем и заняты, чтобы скорее подготовить нападение на весь остальной мир, убрав предварительно с дороги попавшего к ним в лапы финна? Не успел я задремать, как одна из машин, проскакивавших время от времени мимо нас по дороге, остановилась и погасила фары. Водитель ее, выпустив из радиатора горячую воду, направился к речке с ведром за свежей водой. Люди, сидевшие в кузове, спустились на землю и подошли к нашему костру будто бы для того, чтобы покурить и поразмяться, а на самом деле для того, чтобы тут же сговориться, как бы удобнее покончить со мной. Кто-то из них сказал для отвода глаз:
— Опять завтра должна быть хорошая погода. Небо почти совсем чистое.
На это наш Леха проворчал:
— Где же оно чистое, если все звездами засорено?
Круглолицый, еще больше раскрасневшийся от огня и водки, приподнялся на локте и, кивнув головой в направлении Лехи, сказал с восхищением:
— Во дает! Видали? Звезды для него — мусор…
Но присевшие по другую сторону костра три человека не поддержали его восхищения. А самый пожилой из них, с обритой головой, сказал, раскурив трубку и разглядывая небо между ветвями сосны:
— Засорено, вы говорите, молодой человек? Смотря как понимать засоренность. Если бы с такой же густотой расположились в вашем доме пылинки, то на весь дом едва пришлась бы одна пылинка.
Круглолицый сказал со смехом:
— Ого! Ничего себе пылинки! Такая пылинка как бабахнет!..
Пожилой человек ответил ему:
— Не тревожьтесь. Не бабахнет. Для этого они слишком разумно устроены.
Но тут опять вставил свое слово Леха. Он сказал:
— А наше Солнце они зацепили, тоже исходя из разума?
Здесь круглощекий опять не замедлил качнуть в его сторону головой, изобразив на лице восторг. Но пожилой человек, затянувшись из трубки, ответил все так же спокойно и неторопливо:
— Вы имеете в виду теорию Джинса, предполагающую случайное рождение нашей планетной системы? Промчалась якобы некогда мимо Солнца какая-то гигантская звезда и подействовала своим притяжением на поверхность Солнца. Солнце изрыгнуло часть своей огненной туманности в направлении звезды, и из этой туманности родились потом наши планеты. Но сейчас это опровергается. Новая теория утверждает, что не могло быть таких случайностей в мироздании, где все закономерно. Новая теория советских ученых объясняет происхождение небесных тел из космической пыли, которая всегда присутствует в той или иной степени насыщенности на разных участках вселенной.
— Я против новой теории. Но желаю быть порождением пыли. Желаю происходить от звезды. Вот хотя бы от этой. Как ее? Сириус?
Это сказал наш Леха, дав тем самым своему круглолицему приятелю повод еще раз уважительно подмигнуть в его сторону сидящим у костра. Но пожилой человек ответил:
— Нет. Сириус вы можете увидеть только зимой, да и то на юге.
На это Леха ничего не сказал больше, продолжая разглядывать небо. И все другие тоже молча сидели у костра, высматривая звезды между вершинами сосен и берез. Только пожилой человек неторопливо добавил к сказанному:
— Между прочим, Сириус оказал большую услугу историкам древности в установлении правильной хронологии. Как известно, древние египтяне начинали свой календарный год с утреннего восхода Сириуса. Это совпадало у них с началом разлива Нила. Древнеегипетский календарь делился, как и наш, на 365 дней, но не имел високосного года. Отсюда у них ошибка в четвертую долю суток ежегодно. А в течение 1460 лет эта ошибка составляла целый год, после чего утренний восход Сириуса опять совпадал с первым днем нового года. Римский писатель Цензорин отметил, что утренний восход Сириуса наблюдали в 139 году нашей эры. Следовательно, такие же дни с утренним восходом Сириуса были в 1321 году и в 2781 году до нашей эры. И когда историкам случалось находить в древних записях упоминание об утренних восходах Сириуса, они по этому упоминанию устанавливали дату. Допустим, в каком-то древнем папирусе сказано, что на седьмом году царствования Сенусерта Третьего утренний восход Сириуса праздновался в шестнадцатый день восьмого месяца. Иначе говоря, это двести двадцать пятый день от начала года. За сколько же лет могло произойти такое отклонение от календаря? За девятьсот лет. Отнимают это число из 2781 и устанавливают, что седьмой год царствования Сенусерта Третьего приходился на 1881 год до нашей эры. А опираясь на эту найденную дату, историки нащупывают и другие. Так помогают нам писать историю даже звезды.
И опять все подняли глаза вверх. А кто-то из сидевших у костра сказал:
— Да, Египет. Узкая живая ниточка среди знойной пустыни. Страна древнейшей культуры. Подумать только: чуть ли не пять тысяч лет назад она уже имела письменность, вполне развитые науки, государственное устройство, сложную систему оросительных каналов!..
— Которые сейчас едва лишь начинают совершенствоваться.
Это замечание опять умудрился вставить Леха. И оно повлекло за собой такой разговор:
— Что ж удивительного. Под чужим сапогом не больно-то расцветешь.
— Не всем дано умение развивать такие темпы, как наши. Для этого необходимо сперва выбраться из тесных рамок отжившего строя.
— За нашими темпами вряд ли даже Америке угнаться. Она вон свой Панамский канал тридцать четыре года строила. Длина — восемьдесят километров. А мы свой стокилометровый Волго-Дон за два года проложили.
— Да что там Волго-Дон! Через пять лет мы с помощью наших новых каналов оросим земли больше, чем ее орошалось за все время существования человечества.
— Совершенно верно. Тут бы у нас и Америке не грех поучиться. Она тоже ох как нуждается во вмешательстве человека в дела природы! У нее, например, насчитывается двадцать шесть миллионов оврагов… Эрозия почвы распространена как нигде. Ее реки уносят ежегодно в океан три миллиарда тонн плодородной почвы. А недавно там за один только день буря унесла на восток триста миллионов тонн черной плодородной пыли. Вот бы куда ей свое внимание направить, а не на гонку вооружений.
— Но бывают же и у нас черные бури. В Сальских степях, например.
— Бывают. Но на то и направлены теперь все наши усилия, чтобы с этим раз и навсегда покончить. Вода в наших южных степях сделает чудеса. А попутно мы и новые земли подымаем. Распахиваем и засеваем пшеницей целинные степи на нашем востоке. Это дает нам около тридцати миллионов гектаров дополнительной пахотной земли. Для наглядности скажем, что это в десять раз больше того, что обрабатывается во всей Финляндии.
Эй, эй! Что он там сказал, этот бритый мудрец? Распахать больше Финляндии? Они собирались заново распахать где-то у себя в десять раз больше земли, чем ее било распахано во всей Финляндии? Они тут не рехнулись ли все, случаем? Распахать дополнительно к тому, что уже имели? Где это они надеялись найти столько нетронутой земли? Вся Европа давно распахала у себя каждый свободный клочок, а они нашли где-то у себя еще в десять раз больше, чем во всей Финляндии. И принялись распахивать попутно. Видал, Юсси? Только попутно они принимались распахивать в десять раз больше того, что Финляндия распахала за многие сотни лет. Ну и ну!.. Надо же такое придумать! Конечно, кое-кто мог по наивности этому поверить. Но мы-то с тобой точно знаем, что тут ничего нет, кроме голой пропаганды.
Не знаю, как далеко зашли бы они в своем хвастовстве, если бы их водитель не наполнил к тому времени водой радиатор. Наполнив его, он позвал их от костра к машине и затем повез дальше, к другим кострам, где они могли повторить свою сказку о том, как они за одну весну распашут в десять раз больше земли, чем Финляндия распахала за тысячу лет. И к этому они могли еще добавить что-нибудь о звездах, как у них часто принято. Они даже могли пообещать слетать к ним. На словах они все могли, не так ли, Юсси? Они могли пообещать слетать к этому Сириусу и пригласить его уточнить их историю, которая, как ты говорил, ни то ни се, которая вовсе даже не история, а просто так, отклонение от истории. Да, мы с тобой хорошо знали, Юсси, что они могли и чего не могли, и нам трудно было затуманить мозги подобными сказками.
Когда они отправились на машине рассказывать свои сказки в других местах, круглолицый подбросил в огонь сухие ветки и сказал:
— Доклад о международном положении окончен, товарищи. Вопросы есть? Нету. Принимается к сведению. А что, Леха, если нам своего пассажира тоже расшевелить? Может, и у него нашлось бы кое-что доложить высокому обчеству?
Я скорее закрыл глаза и засопел носом. О чем я мог им доложить? О каменистой Кивилааксо? А что им крохотная Кивилааксо после разговора о миллионах гектаров новой земли, о делах американских, об истории всего человечества и даже о вселенной? Где им понять, что такое камни Кивилааксо, им, привыкшим смотреть больше на звезды, чем себе под ноги.
Леха потянулся, закинув руки за голову, и сказал:
— Н-да!.. Маловаты наши познания. Ни к черту кругозор. И все война проклятая! Не дала нормально поучиться.
Его товарищ посоветовал:
— А ты в книжечку кой-когда заглядывай для ради ликвидации пробелов.
— Да я и так заглядываю помаленьку.
— А ты не помаленьку. Вот я, например, почти целую книгу уже прочел.
— Почти целую книгу? О чем?
— О культурной торговле на селе.
— Молодец.
— Еще бы! Второй год читаю. В книге сотня страниц — не шутка!
— О-о! А еще что ты прочел за свою многогрешную жизнь?
— Больше ничего. Стану я мозги пачкать. Я и так умный.
— Даже слишком умный. Как будто я не видел у тебя дома библиотечки в сотню книг.
— Это у меня бумага для цигарок.
Пока они так переговаривались, кто-то вышел из леса и заскрипел ногами по песку, пересекая в нашем направлении дорогу. Они умолкли, вглядываясь в темноту ночи. Я тоже осторожно повернул в ту сторону голову и увидел при свете костра бородатого человека с ружьем за плечами. Вот кто мог оказаться исполнителем задуманного против меня страшного дела. В этом даже сомнения не могло быть. И ты, Юсси, так хорошо изучивший все козни Москвы, сам немедленно подтвердил бы мою тревогу при виде этого человека. У него и вид был дикий и голос раскатистый, каким он и должен быть у тех, кто привык отправлять на тот свет попавших к ним в лапы финнов. И этим громоподобным голосом он проревел на весь лес:
— А ну, кто тут умный? Подайте его сюда! Я из него ум-то повытряхну! Здесь не должно быть умных! В своем лесу я самый умный — и никаких других! Здорово, Ляксей Ляксеич! А это кто с тобой? А-а, вижу, вижу. Наш доморощенный Кит Китыч — живоглот. Спит, никак? Нет, не спит. Ну, давай лапу! — И бородатый человек пожал им обоим руки.
Круглолицый сказал:
— Да, заснешь тут, пожалуй, если всякие бандиты лесные с ружьями шляются взад-вперед.
Бородатый проревел:
— Ты сам бандит. Сколько уже награбил в своей лавчонке вонючей, обдирая нас, бедных покупателей? Вон щеки лопаются от легких-то хлебов. Закурить есть?
Тот указал на мои папиросы:
— Закуривай. Это нам пассажир пожертвовал на бедность.
— Какой пассажир? Ах, вот этот? А кто он такой?
— Не знаю. Из Волоховки к нам в колхоз едет. С депутатом каким-то встретиться должен.
— А-а. Ну что ж, покурим за его здоровье «Казбека» пачку. А потом и пограбим, если уж бандитом назвали. С кого бы вот только начать? С пассажира, что ли? Велик у него багаж-то?
— Нет у него багажа совсем.
— Вот как! А может, пальтецо какое?
— Нет у него ничего. Весь тут.
— Н-да… Не разживешься. Придется костюм снимать.
Я подумал про себя, что если бы он снял с меня костюм, то не прогадал бы, конечно, потому что в костюме имелось кое-что такое, на что можно было купить еще два костюма. Бумажник мой никогда не оставался пустым с тех пор, как я поселился в России. А бандит продолжал, куря мои папиросы:
— Бедно, бедно. Придется, видно, с вас начать. Кажись, ничего багажик. Полный кузов. Уж я знаю, что наш живоглот из области пустой не приедет, если еще вдобавок в соседнюю область заглянул. Не знаю только, где бы груз свалить.
— Я тебе свалю!..
— А я и спрашивать не стану! Кого мне спрашивать? Некого мне будет спрашивать.
— Как так?
— Да так. Вас-то я должен буду чик-чик. Это уж как водится у бандитов. — Он похлопал по стволам ружья. — Помните, как в «Коробушке» поется: «Два бекаса нынче славные мне попались под заряд»?
Вот какая страшная судьба мне готовилась. И можешь быть уверен, Юсси, что все случилось бы по твоему предположению, если бы круглолицый не отвлек его. Он спросил:
— С чего это ты вышел сегодня на ночь глядя?
— А с того, что ночь у меня сегодня особенная. Дочку жду из Ленинграда. Жена поехала ее встречать на станцию. На геологический факультет задумала она поступить в университете, да еще без вступительного экзамена. Она ведь у меня отличница. Вот мне и не сидится дома. Событие-то немаловажное. Никого у нас в роду еще не было с высшим образованием. А тут вдруг наклевывается. Сам-то я свою молодость на гражданской войне провоевал. Мог бы сын добиться образования, да пришлось ему с четвертого курса на войну пойти против Гитлера. Там и голову сложил. Теперь вот доченька счастья пытает. Всю зиму как в огне горела — ни на минуту от книги не отрывалась. Задумала круглой отличницей выйти — и вышла. Но отличники-то теперь десятками и сотнями туда съезжаются. Снова забота: а вдруг мест не хватит, хоть и отличница? Две недели мы тут со старухой как на иголках сидели. И вдруг телеграмма: «Приняли. Приеду двадцать пятого». Ну, мы прямо затанцевали от радости. Вот оно какое событие-то в нашей жизни! Дочь с высшим образованием будет! Понятно тебе это, Кит Китыч, купчик ты наш пройдошный? Степанюки в люди пошли наконец!
Пока его раскатистый голос грохотал так среди ночи, прерываемый поздравлениями моих спутников, с дороги донеслось тарахтение телеги, а с телеги донеслись тихие женские голоса. Но их тут же заглушил голос бандита, рявкнувшего на весь лес:
— А ну-ка, Лидушка, сюда, к свету поближе! Посмотрим, что в глазыньках своих таишь после такой удачи!
И я увидел, как он поднял свою Лидушку и закружил ее в воздухе, а потом прижался своей бородой к ее нежной щеке, на что она в ответ смущенно улыбалась. Жена его тем временем привязала лошадь к дереву возле дороги и тоже приблизилась к костру. Выждав, когда радость бандита немного улеглась, она сказала ему:
— Едем, что ли?
Он ответил ей: «Сейчас», — и, обратясь к остальным, сказал:
— Вспрыснуть бы надо это дело, ребятки, ась?
Круглолицый немедленно подхватил это предложение. А Леха добавил:
— Это надо отметить не просто где пришлось и как пришлось, а за столом, с хорошей закуской и шампанским. Вспрыски касаются девушки — значит, и угощение должно соответствовать.
Он уже успел перевернуться со спины на живот и теперь лежал, опираясь на локти и глядя на девушку, освещенную огнем костра.
Она ответила ему:
— Напрасно беспокоитесь. Девушке этой не много надо.
Он поинтересовался:
— А сколько примерно?
Она подумала и ответила смеясь:
— А весь мир!
— Действительно, не много.
Он тоже усмехнулся, продолжая внимательно вглядываться в нее через огонь костра. Ее отец тем временем перешепнулся со своей женой и затем провозгласил торжественно:
— Вот что. Приглашаю всех присутствующих отметить у меня в ближайшее воскресенье, то есть послезавтра, великое событие семьи Степанюков — поступление моей дочери в Ленинградский университет!
Продолжая любоваться девушкой, Леха прикинул что-то в голове, потом переспросил:
— Послезавтра?
Тот подтвердил:
— Да. Послезавтра.
— Всех присутствующих? И нашего пассажира тоже?
— Да, и его тоже, если свободен будет. Так и передайте ему, когда проснется.
— Ладно. Спасибо. Я-то приду. А за других не ручаюсь.
Но круглолицый заверил:
— И я, и я! Непременно!
И они уехали, трое счастливых, к себе домой переживать свою радость. А я подумал про себя, что едва ли мне придется побывать у них в воскресенье. Если завтра я увижу свою женщину, то сразу же и уеду с ней вместе. Разве я позволю ей изматывать себя на этих разъездах, если жить она может отныне без всяких забот под моим покровительством, готовясь понемногу к переселению в самую прекрасную на земле страну — в мою родную Суоми?
А если она не приедет завтра, то и послезавтра я никуда не уйду из колхоза «Рассвет». Не до того мне будет, чтобы ходить куда-то угощаться. Я могу опять упустить ее, если уйду. К тому же мне надо еще успеть подготовить для нее такие слова, которые сразу должны все решить и установить. Для начала я пройду как бы невзначай мимо нее и скажу равнодушно: «Здравствуйте, Надежда Петровна». Она так и вскинется вся: «Господи! А вы-то как сюда попали?». Или что-то в этом роде. А я отвечу: «Да просто так приехал. Погостить меня сюда пригласили в одно место. Девушка тут одна поступила в наш Ленинградский университет. Так вот отметить надо. Я люблю, когда кто-нибудь поступает в наш Ленинградский университет. В нашем Ленинградском университете много учится разных молодых людей, которые приезжают к нам в Ленинград из разных мест. А я люблю наших молодых людей, которые такие все вдохновленные. Я тоже теперь вдохновленный. Вот, например, на четвертом этаже кто победил? (Ну, о пятом не стоит говорить.) И потом насчет новых миллионов гектаров пашни, насчет каналов и орошения. Куда там Америке! Три миллиарда тонн земли ее реки уносят ежегодно. Три миллиарда! Боже мой! К нам бы в Суоми эти тонны! В Суоми! В каменистую Кивилааксо! Да! Так о чем это я? Об Америке. Но я и о Египте могу. И даже о Сириусе, потому что вполне перевоспитался и осознал». И тогда она ответит радостно: «О, если так, то я согласна». Одним словом, я знал, чем у них тут принято привлекать сердца, и нимало не сомневался в победе.
А пока я так перебирал в голове своей завтрашний разговор с моей женщиной, на дороге остановилась еще какая-то машина. У ручья звякнуло ведро, а у костра опять заговорили новые, незнакомые голоса. Один говорил, что не выйдет, а другой уверял — выйдет. Один говорил: «Это у вас выйдет, а у нас — нет. Земля не та». А другой уверял: «И у вас тоже выйдет. Вы только попробуйте». Один говорил: «Да нельзя у нас пробовать». А другой отвечал: «Нельзя только брюки через голову надеть, а все остальное можно. Ты же не станешь отрицать, что уже давно выведены постоянные, устойчивые сорта с определенными, неизменными качествами. Стоит вам добиться удачи хотя бы с одним из них, как зона этих культур передвинется еще на сотню километров к северу. Ведь это же государственное дело. Ты пойми». — «Да я понимаю. А что у нас не государственное?»
Не знаю, на чем они порешили, потому что их голоса постепенно удалились к дороге. А на их месте продолжали препираться два других голоса. Один голос утверждал, что местные диалекты неизбежно скоро отомрут. А другой утверждал, что не скоро. Один сказал: «Уверяю вас, батенька, что все завершится проникновением городской культуры в деревню, а не наоборот». А другой ответил: «Не уверяйте. Фольклор неистребим». Первый сказал: «Боже упаси его истреблять! Он преспокойно дополнит собой всеобъемлющий литературный язык, обогатит его, если хотите…». Второй воскликнул: «Ага! Обогатит все-таки?» — «Да. Допустим. Но подчинится известным правилам, приобретет разумную, раз и навсегда установленную форму». — «Раз и навсегда? Не верю! Не согласен! Фольклор вечно живой, творящий, рождающий». — «Не спорю. Но рождать он будет в рамках культуры». — «А былины? С ними как? На свалку?» — «Зачем же? Былины сохранятся как памятники старины. Но все, что состряпано в наше время, — шарлатанство, батенька, явное». — «А Палех? А Хохлома?» — «Как вам сказать? В тепличных условиях иное растение удается на какое-то время сохранить. Но может ли у него быть будущее?» — «Что вы называете тепличными условиями? У вас неверное представление обо всем решительно. Вы жизни не знаете. Вы сидень кабинетный. Начетчик!» — «В моем кабинете больше сосредоточено жизни, чем во всей вашей застойной глухомани». — «Вы книжный червь! Буквоед! Вот вы кто!» — «Возможно. Однако указания относительно распорядка вашей жизни составлю я». — «Составляйте. А жизнь их отвергнет!»
Не знаю, на чем покончили эти спорщики, потому что я заснул наконец, лежа на траве под березой.
10
Когда я проснулся, было уже светло. Я лежал, накрытый светлым плащом круглолицего. Но проснулся я не оттого, что было светло, а оттого, что он стягивал с меня свой плащ и говорил торопливо:
— Вставайте, гражданин! Поехали! Проспали мы здорово. Наверстывать надо. Едем, едем, вставайте!
Я встал и первым долгом проверил свой костюм. Нет, ничего. Он был в порядке, и даже складки на брюках сохранились в прежнем виде. Я стряхнул с них приставшие травинки и хвою, проверил, не выпало ли что из карманов, и причесался. Костер уже был залит водой. Возле него лежала моя опустевшая пачка «Казбека». Я забрался в кузов машины, и мы поехали. Машина выбралась на дорогу, перевалила горбатый мост, висевший над речкой, из которой за ночь было вычерпано столько воды, и, набирая скорость, понеслась дальше в глубину России.
За пределами леса стало видно, что солнце уже давно взошло. Опять ему предстояло осветить и обогреть всю пропитанную росой русскую землю. Как оно умудрялось обойти из конца в конец всю эту огромность — бог ведает. Но умудрялось как будто.
И опять я стоял в кузове машины, обдуваемый прохладным встречным ветром. И опять мимо меня проносились назад холмистые равнины России, ее леса, луга, поля, деревни. На этот раз деревни мелькали чаще, и потому многолюднее казался край. Чаще встречались работающие на полях и лугах люди. Чаще мелькали стада коров и овец. Чаще встречались навесы с машинами разного рода, ожидающими своей очереди выхода в поле, и гуще казался поток встречных машин и телег.
Солнце поднималось все выше на пути моего движения к нему, а они все проносились и проносились мимо меня, эти холмистые равнины с деревнями и людьми. Сколько же их еще оставалось там, впереди? Уже давно пора было машине упереться в другой конец России, а она все отмеряла километр за километром с такой щедростью, как будто имела в запасе пространство, равное очень многим дням такого же стремительного полета.
Теперь я понимал, почему немцы не смогли взять эти пространства. Как можно было это взять, если оно было неизмеримо даже для глаз! И теперь я понимал также, откуда вышли те грозные силы, о которых кричали немцы после битвы у Волги. На весь мир тогда они вопили о том, что Азия двинулась на них. Несметные большевистские орды поднялись из азиатских степей, грозя уничтожить их цивилизацию! И немцы орали: «Спасите Запад!».
Да, у русских есть где прятать эти орды. Никогда в жизни не видел я столько места для прятания орд. Немцы захватили у них Украину, Белоруссию, Северный Кавказ и думали, что уже овладели всей Россией. Но то был, оказывается, только маленький кусок России. А настоящая Россия — вот она! Я сейчас по ней еду, по самой главной части России. Они меня везут, эти двое русских, везут к женщине, которую я выбрал у них для себя. Я велел им везти — и вот они везут. Я здесь ворочаю у них делами. Я завоевал Россию и заставляю русских выполнять мою волю. Учитесь у меня все вы, кого это касается! Вот каких успехов можно добиться, когда за дело берется настоящий завоеватель!
Да, я здорово прокатился по этим русским просторам, которые с такой ловкостью себе подчинил. Машина перетекла их из конца в конец и уже где-то совсем на другом краю России въехала наконец в главную деревню колхоза «Рассвет». Она свернула прямо во двор сельской лавки и там остановилась. Круглолицый выпрыгнул из кабины и сказал:
— Вот мы и дома!
Водитель ничего не сказал. Приподняв у машины капот, он молча полез руками в мотор и принялся там ощупывать механизмы. Взглянув на меня, он вдруг вспомнил что-то, быстро нырнул с бокового входа в лавку и, вернувшись оттуда, протянул мне пачку «Казбека».
Я удивился:
— Зачем это? Мне не надо.
Но он сказал:
— Нет, нет, берите! Мы выкурили ваши и не хотим оставаться в долгу.
Я хотел ответить, что я сам у них в долгу, поскольку прокатился на их машине. Но, не зная, чем было бы удобнее их отблагодарить, повторил еще раз:
— Оставьте у себя. Я же не курю.
— Нет, курите. Возьмите!
И он сунул мне пачку в руки. Пальцы у него были грязные, маслянистые от возни с мотором, и от них остался черный след на крышке пачки. Нахмурившись, он пробормотал: «Э, черт, запачкал», — и принялся вытирать руки паклей. Потом он спросил:
— Контору нашу вы знаете? — И, сообразив по моему виду, что не знаю, пояснил: — Вон там, восьмой дом по этой стороне.
— Спасибо.
Я пожал им обоим руки и пошел к восьмому дому по этой стороне. Председатель оказался на месте, но посмотрел на меня довольно неприветливо своими глубоко упрятанными глазами. А может быть, мне это привиделось, потому что такое уж у него было лицо. Оно казалось вытесанным каким-то очень крупным и неуклюжим инструментом. Причем тот, кто действовал этим инструментом, поленился напоследок сгладить некоторые слишком крутые выступы и неровности. Из-за такой небрежности углы челюстей оказались у него далеко выступающими в обе стороны, делая его лицо внизу заметно шире, чем вверху. Всматриваясь в лежавшие перед ним на столе бумаги, он к тому же в задумчивости равномерно сжимал и разжимал свои челюсти, отчего мускулы на их сочленениях то вздувались твердыми наростами, еще более расширяя внизу лицо, то снова опадали. Обратив ко мне надежно прикрытые темными бровями глаза, он перестал играть мускулами челюстей и спросил:
— Вы ко мне?
Я ответил:
— Да, если позволите, извините в отвлечении, пожалуйста.
Моя тонкая западная вежливость опять, как видно, не попала в цель. Его высеченное из камня тяжелым колуном лицо не стало от моих слов приветливее. Только брови его чуть приподнялись, приоткрывая запрятанные под ними в глубине орбит серые глаза. И в этих глазах появился вопрос. Но что-то еще затаилось в них, родившее во мне тревогу. Я подумал вдруг о том страшном Иване, который мог мне тут у них встретиться в любой день и час, подумал о людях, отведавших наших лагерей, и, набравшись осторожности, сказал только самое нужное:
— Я узнать хотел: к вам сюда не приехала Надежда Петровна Иванова? Она депутат областного Совета.
Он отрицательно шевельнул своей тяжелой головой:
— Нет.
— Ну, значит, приедет. Значит, я ее обогнал.
— А вы откуда?
На этот вопрос тоже надо было ответить с осторожностью. Не говорить же ему прямо: «Я из Финляндии». А вдруг он тут же вспомнит, как ему в спину кидал нож финн по имени Арви Сайтури! И кто знает, что он мне теперь сделает за этот нож! Поэтому я постарался увернуться от подробных объяснений и сказал коротко, даже с некоторой небрежностью:
— Я из Ленинграда.
Но он даже в этом ответе усмотрел что-то неладное и спросил удивленно:
— Из Ленинграда? А зачем же вам, ленинградцу, наш депутат?
Я ответил с той же краткостью;
— Так. Дело есть.
— Какое дело?
На этот вопрос я не собирался отвечать. Слишком долго понадобилось бы излагать ответ. А у меня не было охоты рассказывать направо и налево о том, что касалось только меня и моей женщины. Незачем им было это знать. И вообще с ними можно было особенно не церемониться, с этими русскими, судя по их обращению со мной. Меня здесь возили. Меня угощали. С меня даже не брали платы за проезд, а иногда и за еду. Нет, с ними можно было держать себя несколько вольнее. Чего там! Поэтому я сказал вместо ответа:
— Она сегодня должна приехать. Я подожду ее у вас в деревне.
Сказав это, я слегка кивнул ему и вышел за дверь, унося в памяти его тяжелый, недоверчивый взгляд.
Выйдя на середину деревенской улицы, которая была в то же время проезжей дорогой, я сначала прошелся по ней несколько раз взад и вперед, стараясь держаться в стороне от конторы. Но потом я подумал: «А зачем я буду здесь топтаться, привлекая к себе внимание жителей деревни? Разве я не могу перехватить ее на пути в деревню? Ведь приехать сюда ей придется с той же стороны, откуда приехал я».
Рассудив так, я двинулся из деревни в обратный путь. Пройти мне пришлось опять мимо лавки, позади которой все еще стояла та же машина, но уже наполовину разгруженная. Я осторожно заглянул внутрь лавки. Там никого не было. Только из задней комнаты доносился разговор двух уже знакомых мне голосов. К ним примешивался третий голос — женский. На звук моих шагов женщина вышла оттуда и спросила:
— Что желаете?
Я всмотрелся в то, что ожидало меня здесь в течение многих лет под стеклом витрины. Конечно, и здесь для меня были подготовлены всякие козни Москвы. В этом, Юсси, можешь не сомневаться. Знакомые продолговатые снаряды для пробивания брони, названные для отвода глаз копчеными колбасами, и смертоносная шрапнель, названная пряниками, уже дожидались меня под стеклом прилавка. Но я схитрил. Я указал женщине на то, что называлось у нее сыром, и попросил отрезать мне двести граммов. Сверх этого я купил у нее десяток шоколадных конфет в бумажных обертках, рискуя, конечно, обнаружить под этими обертками адские механизмы замедленного действия, и затем продолжил свой путь за околицу.
Отойдя от деревни на полкилометра, я перебрался через канаву и уселся в траве лицом к дороге. С этой позиции я внимательно всматривался в каждую машину, идущую к деревне, не забывая в то же время уделять внимание сыру и конфетам. А когда от них остались одни бумажки, я вытянулся на траве поудобнее, поднимая голову только на шум очередной машины. Но моей женщины не было видно ни в кузовах, ни за стеклом кабин.
А потом как-то уж так получилось, что уши мои не услыхали шума очередной машины и голова, не получив от них сигнала, осталась лежать, уткнувшись носом в траву. Такое положение она сохранила при звуках многих других машин, а когда наконец опомнилась и поднялась от земли, часы на моей руке показывали четыре.
После этого мне ничего больше не оставалось, как поторопиться в контору и там спросить, где остановилась Надежда Петровна. Я надеялся, что уехать обратно она еще не успела. Слишком длинный и долгий был путь, чтобы так вот сразу отправиться по нему обратно, не передохнув где-нибудь часок-другой. Но где? Девушка, сидевшая за столом в первой комнате, ответила:
— Не знаю. Спросите у председателя.
— А где председатель?
— Ушел на свиноферму.
— А где свиноферма?
— Вон там. Первый переулок налево.
Я пошел в первый переулок налево, высматривая свиноферму и председателя. Но он уже сам шел мне навстречу, слегка припадая на одну ногу. Я спросил его:
— Она приехала?
Он ответил:
— Нет. А вы где пропадали?
— Я в поле был. Прогулялся немножко.
— Пойдемте в контору.
Я не хотел идти к нему в контору и сказал:
— Ничего. Я и здесь подожду.
Но он повторил уже настоятельнее:
— Я вас попрошу в контору.
Пришлось идти. В конторе он уселся на свое место за столом, а мне указал место напротив. Разглядывая меня внимательно своими глубоко упрятанными глазами, он спросил:
— Как, вы говорите, звать человека, которого вы ждете?
— Надежда Петровна Иванова.
Он помолчал немного, как бы припоминая, и затем пожал плечами:
— Не знаю такой.
А разве она к вам раньше никогда не приезжала?
— Видимо, нет. Если бы приезжала, я бы ее знал.
— Странно. Я знаю, что она уже давно депутат.
— Значит, плохой депутат. А вы откуда ее знаете?
— Я приехал к ней в колхоз «Путь коммунизма» и не застал. Она сюда выехала.
— «Путь коммунизма»? Не знаю такого колхоза. Это в каком районе?
— Что в каком районе?
— Колхоз «Путь коммунизма» в каком районе?
— Ах, в каком районе…
— Да.
— Колхоз «Путь коммунизма»?
— Да, да.
Это был такой вопрос, на который ему очень долго пришлось бы ждать ответа, если бы он, конечно, вообще согласился ждать. Прошел бы весь день до вечера в таком ожидании. Прошел бы вечер, прошла бы ночь. Прошел бы еще день. Прошло бы лето. Прошла бы зима и еще несколько зим. Одно поколение человечества сменило бы другое, а за ним сменилось бы еще несколько поколений. Прошла бы наша геологическая эпоха с млекопитающими животными и наступила бы другая — с атомными туманностями вместо них, а он все сидел бы за этим столом и ждал от меня ответа, потому что ответить ему мне было нечего. Я не знал, в каком районе жила моя женщина. Я знал станцию и знал дорогу к ее деревне и больше ничего не знал. Председатель попробовал напомнить мне и спросил:
— Это не в Сурожском ли районе? Или, может быть, и Ведринском?
Я промолчал. Какой толк был в его вопросах? Что они могли изменить? Однако я сделал вид, что вспоминаю, и даже раскрыл рот. Но тут же снова его закрыл. Потом еще раз раскрыл, подержал его так с полминуты и опять закрыл. Делать мне было нечего со своим раскрытым ртом. В захлопнутом виде он мог принести ровно столько же пользы, сколько и в разинутом. А председатель уже не спускал с меня глубоко упрятанного взгляда, и бугры мускулов на углах его широко расставленных челюстей шевелились все быстрее. Он спросил:
— А вам она зачем, эта Иванова? По службе что-нибудь?
— Нет… То есть да… Вернее, нет… Но скорее именно да… Смотря как, если…
— Вы с ней заранее договорились о встрече здесь?
— Нет. Но я слыхал, что она сюда поехала.
— Где слыхали?
— В районе.
— В каком районе?
На этот вопрос ему тоже пришлось бы очень долго ждать ответа, если бы я не догадался добавить к сказанному:
— Мне там объяснили, что она побывает в трех местах и после этого поедет в колхоз «Рассвет».
— В колхоз «Рассвет»? А где этот колхоз «Рассвет»?
Тут я поднялся с места и тоже выразил удивление. Теперь я уже начал догадываться кое о чем. Я спросил его:
— А как ваш колхоз называется?
Но он мне уже не ответил, шевеля мускулами на углах челюстей, и в его глубоко упрятанных темно-серых глазах затаился ледяной холод. Вместо ответа он вдруг потребовал:
— Будьте добры, покажите ваши документы.
Я помедлил немного, спрашивая сам себя, имеет ли он право требовать от меня документы, и решил, что, пожалуй, имеет. Как-никак он старший тут над несколькими деревнями и представляет немалую власть. А он повторил еще более строго:
— Документы, прошу вас!
Я достал из бумажника свой временный одногодичный паспорт и подал ему. Он просмотрел его очень внимательно, потом взглянул на меня, чтобы сверить мое сходство с фотокарточкой, и опять просмотрел весь паспорт от начала до конца, задерживаясь на тех местах, где было обозначено место моего рождения и где стояли штампы прописки и места работы. Он даже посмотрел на свет листки паспорта, а потом спросил:
— Больше у вас ничего нет?
Я достал пропуск с места работы, в который была вложена справка, указывающая, с какого числа и по какое я ушел в отпуск. Он просмотрел и эти два документа, а потом опять уставился своими глазницами на мой бумажник, словно ожидая, что я извлеку оттуда еще что-то. Но там уже ничего не было, кроме денег. Правда, была еще бумажка, помеченная штампом их Министерства внутренних дел. Однако ее мне не хотелось показывать. Она разоблачала меня перед всеми русскими, поясняя, кто я и что. А главное — по этой бумажке они могли увидеть, что попал я к ним из Финляндии совсем недавно и, значит, во время войны был на той стороне. А находясь на той стороне, я, конечно, воевал против них. А что значит — воевал? Это значит — стрелял в них на фронте, протаскивал на их землю гитлеровских завоевателей, кидал кое-кому нож в спину и терзал в своих лагерях пленных русских солдат. Вот что она им открывала, эта бумажка, и боже упаси было ей попасть в руки того Ивана или в руки кого-нибудь из тех, кто побывал в наших лагерях! Помня это, я даже не пытался вытянуть ее из бумажника. Ведь я не знал, кто сидел передо мной. А вдруг его звали Иваном? А вдруг ему ногу подбили в далекой Карелии при содействии Арви Сайтури? Но он уже сам заметил бумажку и спросил:
— Что это там у вас еще? Покажите.
Пришлось протянуть ему бумажку, и она-то оказалась той самой, с которой мне следовало начинать. Эту бумажку он тоже перечитал дважды, после чего вернул мне все документы. Я продолжал стоять, ожидая себе приговора. А он сидел и думал о чем-то. Но похоже было, что там немного вроде как бы потеплело, в его глубоких глазницах, и бугры на углах его челюстей стали менее жесткими. Похоже было также, что мысли его на время ушли куда-то далеко из этой комнаты. Но вот они снова вернулись в эту комнату, и он спросил:
— А кто вам сказал, что это колхоз «Рассвет»?
— Ваш водитель.
— Водитель? — Он повернулся на стуле и крикнул в первую комнату: — Нюра! Загляни в гараж, и если Алексей там, пусть зайдет в контору. Скажи: дело есть важное. — И, воткнув опять в меня свои колючие глаза, кивнул на стул: — А вы садитесь. Чего стоять-то?
Он занялся какими-то бумагами на столе. А я сел, убрав свои документы и уже заранее предвидя, что неведомые злые силы опять разъединили меня с моей женщиной.
Скоро в контору вошел водитель, и председатель спросил его:
— Алексей, это ты сказал гражданину, что наш колхоз называется «Рассвет»?
Тот отрицательно качнул головой:
— Нет, не говорил.
Но я запротестовал:
— Как нет? Вы же сказали…
— Я сказал?
— Да, помните, я спросил вас, куда вы едете, а вы сказали…
— Что я сказал?
— Что в колхоз «Рассвет».
— Нет. Не говорил я этого.
Председатель развел руками:
— Я же говорю, не мог он этого сказать.
Но я не мог с этим примириться и стал вспоминать подробно:
— Как же так? Я хорошо помню. Мне в райсовете показали на машину у Дома крестьянина. Их четыре было. И мне сказали, что вот одна из них идет в колхоз «Рассвет». Я подошел и спросил у вас. Вы еще мотор проверяли…
— Что вы спросили?
— Я спросил: «Вы до «Рассвета» едете?». И вы ответили: «Да».
— Правильно. Это я сказал. Верно. Потому что мы с Серегой действительно договорились выехать из Волоховки до рассвета, чтобы успеть домой к ночи.
Тут председатель откинулся на спинку стула и загрохотал густым, басистым смехом, показав такие крупные и широкие зубы, какие только и годились для его челюстей. При этом в его глубоко сидящих глазах совсем потеплело. Водитель тоже улыбнулся, покосившись в мою сторону. Пришлось и мне посмеяться немного, хотя веселого тут было мало.
11
Когда водитель ушел, председатель опять нацелился в меня своими темными впадинами, из которых теперь уже не струились такие холодные потоки, как вначале. Пробарабанив пальцами по столу, он сказал:
— Н-да… Вот вам и «Рассвет».
Я промолчал. И в это время мне вспомнился лес, где мы ночевали накануне у маленькой реки. Там к бородатому бандиту жена и дочь приехали на телеге от станции железной дороги. Может быть, и здесь где-нибудь недалеко пролегала железная дорога, по которой я смог бы вернуться прямо в Ленинград. Надо было спросить его об этом. Но пока я подбирал в голове слова для этого вопроса, он задал свой:
— А каков он собой, тот колхоз «Рассвет», который вам рекомендовала ваша депутатка? Чем он знаменит?
Странные вопросы он задавал. Откуда мне было знать, каков у них в России тот или иной колхоз? С таким же успехом он мог меня спросить, как выглядит хозяйство у короля зулусов. И когда я пожал плечами, он спросил:
— Вы еще в нем не бывали?
— Нет…
— И если бы она пригласила вас в какой-нибудь другой колхоз, вы и к нему отнеслись бы с тем же интересом?
— Да.
Это я мог сказать, не кривя душой. Да, действительно, любое место на земле становилось для меня интересным, если там появлялась моя женщина, будь это деревня или город, пустыня Сахара или Северный полюс. Но сейчас меня больше интересовала железная дорога. О ней мне хотелось расспросить его подробнее. Но в это время он сказал:
— Я так и понял. Дело не в том или ином колхозе, а в общем знакомстве с жизнью советского народа. Судя по вашим документам, с городской жизнью вы ознакомились вполне и теперь отпуск свой решили использовать для знакомства с нашей советской деревней. Так я понял вашу задачу?
— Так…
Я не совсем внимательно его слушал, занятый мыслями о железной дороге. А он тем временем пришел к такому выводу:
— И не велика беда, если находится деревня не под Ленинградом, а под Ярославлем. Верно?
— Да…
— Вот и договорились. Поживете у нас дней пяток, а там и в «Рассвет» можете ехать для сравнения. Но не думаю, чтобы у них оказалось больше примечательного. У нас тоже найдете немало такого, о чем стоит порассказать вашим землякам, когда к ним вернетесь. Вы сейчас обождите тут малость. Я справлю кое-какие дела, и тогда вместе пойдем.
Он вышел, припадая на правую ногу, а я остался сидеть возле его стола. И, сидя возле его стола, я ударил себя несколько раз кулаком по голове.
В дверях показалась девушка. Она спросила:
— Упало что-то?
Я промолчал. Может быть, и упало. Но где упало и что упало? Упало внутри меня, если уж быть в какой-то мере точным.
Она вернулась в первую комнату и принялась убирать со своего стола в шкаф бумаги и папки. С улицы в ее комнату вошла пожилая женщина с ведром, полным горячей воды, в которой плавала тряпка. Она сказала:
— Скоро вы мне помещение освободите? Не успею дотемна вымыть.
Я встал и с готовностью направился к выходу из конторы. В голове у меня мигом ожили опять мысли о железной дороге. Но девушка в первой комнате подвинула мне стул и сказала:
— А вы здесь обождите. Он сейчас придет.
И пока она прибирала в задней комнате стол председателя, а пожилая женщина там же мыла пол, я сидел в первой комнате, поглядывая то на окно, то на дверь. На окно я поглядывал чаще, потому что оно было открыто. Я даже встал с места и, опираясь руками о подоконник, выглянул на деревенскую улицу. Окно было всего в полутора метрах от земли, и мимо окна по улице проходили туда и сюда люди. Пришлось отойти от окна и переключить свое внимание на дверь.
Делая вид, что рассматриваю на стенах плакаты, таблицы и планы колхозных работ, я постепенно продвигался все ближе к двери. И вот я уже стоял перед ней, и глаза мои нацелились на ручку, имеющую вид скобы. Осталось рвануть ее к себе и шагнуть за порог. Надо было только выбрать момент, когда девушка и женщина, занятые в другой комнате уборкой и разговором, не смотрели в мою сторону. Но, пока я выжидал такой момент, на крыльце заскрипели тяжелые шаги и в комнату, едва не толкнув меня дверью, вошел председатель. Он сказал:
— Ну что ж, пойдемте. Дело к ночи.
И я зашагал рядом с ним через всю деревню, прислушиваясь к поскрипыванию его правой ступни. В конце деревни он свернул в боковую улочку и по ней тоже прошел почти в самый конец. Перед одним из домиков он толкнул калитку и, пропустив меня вперед, спросил у женщины, чем-то занятой во дворе:
— Ребятки где?
Она ответила:
— В кино ушли. И мама с ними потащилась.
Он сказал:
— Ин ладно. Поужинаем без них. — И, обернувшись ко мне, спросил: — Как вы насчет перекусить? Не возражаете?
Вопрос был, конечно, лишний. Он, как видно, сам это понял и потому подвел меня прямо к рукомойнику, укрепленному на столбике посреди двора. Здесь же была закреплена мыльница и висело полотенце. Вымыв руки раньше меня, он подошел к хозяйке и спросил вполголоса:
— Как там у нас в чуланчике, осталось еще маленько?
Она ответила:
— Есть еще.
Он сказал:
— Подашь.
— Ладно.
— И огурчиков с капустной приложишь ко всему.
— А щей не будете?
— И щи. Все будем.
Она вошла в дом, а он постоял на крыльце, поджидая меня. Я вытер полотенцем руки и оглядел двор. Из него было два выхода: на улицу и на огороды. Все остальное замыкалось постройками. Но никаких препятствий на пути к тем и другим воротам как будто не предвиделось. Двор выглядел пустым и спокойным. Последние куры, присмиревшие к вечеру, уходили под навес. Поросята хрюкали, уже запертые где-то. По соседству с ними мычал теленок, наверно разлученный с матерью. Собаки на дворе не было. И на других ближних дворах тоже не было слышно собачьего лая. У них в деревнях мало собак, насколько я это заметил. Причина понятна, и ты, Юсси, сразу бы ее разгадал. Где нечего оберегать, на что там собаки?
Я надеялся, что хозяин тоже войдет в дом вслед за хозяйкой, но он продолжал стоять на крыльце, нацелив на меня свои глазные углубления, которые опять показались мне полными суровости в наступающих сумерках. Прикинув на глаз расстояние до тех и других ворот, я повесил на деревянный гвоздик полотенце и тоже поднялся на крыльцо. Хозяин провел меня в дом и усадил в задней комнате за стол, накрытый светлой узорчатой клеенкой. Хозяйка поставила перед нами в плоской корзиночке нарезанный крупными кусками черный хлеб и неполную бутылку «Московской» водки с двумя маленькими стаканчиками. Хозяин без промедления наполнил из бутылки оба стаканчика и спросил меня:
— Пьете?
Я пожал плечами. Этот вопрос тоже вряд ли нуждался в ответе. Кто на свете не пьет? Христос — и тот не упускал случая промочить горло. А когда ему однажды недостало вина, он умудрился обойтись обыкновенной водой и такое с ней сотворил, что потом вся Кана Галилейская лежала вповалку. Почему не выпить, если тебе протянули стаканчик? Дураком надо быть, чтобы отказаться от даровой выпивки.
Тем временем хозяйка поставила на стол в глубокой тарелке соленые огурцы, а в глиняной чашке — квашеную капусту с примесью клюквы. Капуста блестела, политая маслом. К этому она добавила нарезанную ломтиками копченую свинину, а нас вооружила ножами, вилками, ложками и мелкими тарелками. Сделав это, она спросила:
— Щи подавать?
Но он сказал:
— Погодя.
Когда она вышла в переднюю комнату, где стояла печь, он поднял свой стаканчик и посмотрел на меня очень серьезно из той глубины, куда были упрятаны его глаза. Я тоже поднял свой стаканчик и принял его взгляд. Не знаю, как выглядели мои глаза, но думаю, что и в них тоже не было смеха. Он потянулся своим стаканчиком ко мне. Я потянулся своим стаканчиком к нему. Он тронул мой стаканчик своим стаканчиком и сказал:
— За успех вашей благородной миссии!
— Какой миссии?
— А вот за это ваше стремление ознакомиться жизнью советских людей для укрепления доверия и дружбы между нашими народами. Очень хорошее начинание. За успех пью.
— А-а… Да, да!
Мы выпили. Он положил себе на тарелку огурец и ломтик свинины. Размельчив их с помощью ножа и вилки, он добавил к ним изрядную долю кислой капусты и принялся отправлять все это в рот целыми гроздьями. Его сильные челюсти размалывали пищу с таким усердием, что только хруст пошел на весь дом. Думаю, что и от меня исходило не меньше хруста, потому что я во всем следовал его примеру.
Конечно, вопрос о железной дороге не переставал вертеться у меня на языке. Но дела повернулись так, что задавать его было, кажется, не совсем удобно. К тому же я все еще не знал имени своего хозяина. Но если его звали Иваном, то был он именно тем самым Иваном, и никаким иным. Это подтверждалось всем его видом, суровым и решительным, не говоря уж о его руках, больших и узловатых, которым никак не шло заниматься мирным разламыванием хлеба над столом и подбиранием ломтиков огурца с мелкой тарелки крохотной вилкой. Большие вилы приспело скорое сжимать этим широким коричневым ладоням или приклад автомата, а еще вернее — горло врага. Вот на какие догадки наводил меня его вид. И это сразу объяснило, почему он затащил меня к себе, не отпустив обратно в Ленинград.
Но каким способом намеревался он со мной разделаться? Я осмотрелся и понял. Если в этой комнате стояли кровать и шкаф, то в первой комнате я увидел через открытые двери прислоненный к печи топор. Все прояснилось для меня. Осталось только дождаться неотвратимой минуты. И пока я таким образом, пусть медленно, но зато верно разгадывал предстоявшую мне страшную участь, хозяин тоже обдумывал что-то, не перебивая, однако, есть. О чем он думал? Думать он мог только об одном. Я даже не пытался затруднять себе на этот счет мозги. И когда остатки маслянистой капусты и огурца дохрустели на его крупных зубах, он произнес задумчиво:
— Да, это было бы хорошо.
Неизвестно, что он имел в виду, говоря это, но я — то его понял. Еще бы не хорошо! Удачнее и придумать было трудно. Ему не понадобилось даже отлучаться от своего дома, чтобы выловить где-нибудь у далекой границы Финляндии какого-нибудь зазевавшегося финна и там расквитаться с ним за сотворенное ему, Ивану, зло. Сам финн явился к нему прямо на дом, перемахнув ради этого через всю Россию. Еще бы ему не выразить по этому поводу своего одобрения! Его избавили от стольких трудов и лишений в дороге к финской границе, оставив ему только одно, совсем легкое дело: взять в руки топор и ударить им финна по голове.
Да, такая вот судьба ожидала здесь каждого финна. Запомните это на всякий случай вы, финские люди. И если вам придет когда-нибудь в голову несчастная мысль отправиться на прогулку в глубину России, то трижды подумайте, прежде чем решиться на этот пагубный шаг.
Но я не собирался так легко подставлять свой лоб под его топор и готовился принять ответные меры. Не показывая виду, что проник в кровожадные мысли хозяина, я спросил его как мог простодушнее:
— Что было бы хорошо?
Он ответил:
— Сдружить два таких народа.
— Каких два народа?
— Финский и русский.
— А-а…
В это время хозяйка крикнула из кухни:
— Как вы там, Тимоша? Щец-то не пора еще?
И хозяин ответил:
— Да, пожалуй что.
Она сказала: «Несу», — и через минуту поставила передо мной на стол тарелку горячих щей. Потом она и ему принесла такую же полную тарелку. Он спросил:
— А ты сама-то?
Она махнула рукой:
— Успею.
— А может, с нами, а? За компанию?
Она засмеялась:
— Да уж и не знаю как…
Он пояснил:
— Я к тому, что, может, и выпьешь с нами?
— Нет, пить не буду.
— Тут, видишь ли, гость у нас сегодня вроде как не совсем обычный.
Хозяйка посмотрела на меня приветливо. Она была, еще довольно молодая женщина, и русые подстриженные волосы густо вились вокруг ее головы. Улыбаясь мне, она спросила:
— Откуда же вас к нам занесло? Из Москвы? Из Ленинграда?
За меня ответил хозяин. Он сказал:
— Э-э, нет! Подальше бери маленько.
— Откуда уж дальше-то?
— Из Финляндии он. Понимаешь? Из той самой Финляндии.
— Ах, вот как!..
И они переглянулись как-то по-особому, выразив с моими взглядами что-то им одним понятное. Я, конечно, не дрогнул, подметив эти таинственные взгляды, — такой я был бесстрашный. Однако не доведись мне только что услыхать его подлинное имя, я мог бы подумать, что песенка моя спета. Держа в руке бутылку, он спросил еще раз:
— Ну как?
Она сказала:
— Глоточек разве один только.
— Давай стакан!
Она достала из шкафа маленький стаканчик, и он разлил оставшуюся водку по всем трем стаканчикам. Ее оказалось ровно столько, чтобы два из них наполнить доверху, а третий наполовину. Подняв затем свой стаканчик, хозяин встал и, посмотрев на меня очень строго из глубины глазных орбит, провозгласил:
— За финский народ!
Я тоже встал и, когда наши стаканчики звякнули друг о друга, сказал в ответ:
— За русский народ!
Хозяйка тоже притронулась к нашим стаканчикам своим неполным стаканчиком и сказала, вздохнув при этом почему-то:
— За дружбу между нашими народами!
И мы выпили втроем. Хозяйка принесла себе полтарелки горячих щей и составила нам компанию по уничтожению этой вкусной жидкости. Вино разлилось теплом у меня в груди и проникло в голову, наполнив ее веселым звоном и бодрыми мыслями. Все очень хорошо устраивалось у меня в жизни с этими русскими — чего там! Нужно было только уметь прибирать их к своим рукам. Все что угодно можно сделать из русского человека, если только суметь прибрать его к рукам. Всему миру известна эта истина. Но пока еще никому это не удавалось — вот в чем была вся беда. Пробовали когда-то монголы, пробовал Наполеон. Пробовали кайзер, Гитлер и даже Арви Сайтури. Но все они применяли не те способы. Только я нашел самый верный способ. И вот под действием этого способа они провезли меня сотни километров на своей машине, чтобы потом угостить меня в глубине России капустным супом со свининой и свежим русским хлебом.
Я взял еще кусок хлеба из плоской корзиночки. Он был такой душистый и мягкий, этот хлеб, что его можно было есть без конца. Капуста и картошка тоже распарились в печке так, что не требовали работы зубов. Пропитанные соками свиного мяса, они сами таяли на языке. Усиленно работая ложкой, я не заметил, как опустошил тарелку. И не успел я этому удивиться, как передо мной появилась другая тарелка, наполненная кусками макаронной запеканки с яйцом. Вот как надо было уметь обходиться с русскими! О, я знал, чем завоевать их огромную Россию, и проникал в ее подноготную, как шило в мешок.
12
Хозяин тем временем опять что-то сказал насчет дружбы. Но что он для меня значил, если звали его Тимоша, а не Иван? И сколько можно было говорить о дружбе? Что-то многовато о ней стали говорить. И, повторяя чье-то уже знакомое выражение, я сказал:
— Нужны не слова о дружбе, а дела.
Он спросил:
— А разве за нами дело когда-нибудь стояло?
Я ответил:
— Нет, не стояло. Особенно зимой сорокового года. Вот так я ему ответил, этому Тимоше, который угощал меня за своим столом вином и хлебом, вместо того чтобы обрушить на мой наглый, пьяный череп свой остро наточенный топор. Но после этих моих слов из глубины его глаз опять как будто заструился холод. И в голосе его звякнуло что-то жесткое, когда он сказал:
— Много вы понимаете, если так смотрите на это дело.
Я промолчал на всякий случай. Хозяйка включила свет и принесла стаканы для чая. Хозяин тоже помолчал немного, нахмурив свои темные брови, отчего глаза его оказались как бы в глубине двух тоннелей, поросших у входов сухим кустарником. Шевельнув несколько раз мускулами на углах челюстей, он сказал:
— Пришлось мне как-то побывать на старом городском кладбище. Это одно из тех кладбищ, которые давно попали в черту города. Там для новых мертвецов мест почти уже нет, и только деревья растут и растут. Один дуб меня особенно поразил. Он вырос между двумя могилами. Одна из них была обнесена каменной оградой с железной решеткой, другая могила сплошь выложена плитами с большим надгробным камнем в центре. Могилы были старые и стояли там, не меняясь, многие десятки лет. А дуб менялся. Он рос. И корни у него росли. И в своем росте они потревожили могилы. У одной из них каменные плиты вспучились и накренился надгробный камень. У другой корни дуба выдавили вверх каменную ограду и разорвали ее пополам. Железная решетка на ней погнулась, а часть железа дуб вобрал в мякоть своего ствола. Зрелище, скажу вам, очень даже впечатляющее. Интересно, как бы вы отнеслись к такому явлению? Какой выход предложили бы в этом споре живого организма с мертвым камнем?
Какой выход? Он хотел знать, какой бы я предложил выход. Я видел, конечно, на какой ответ он рассчитывал. Но с чего бы это мое мнение обязано было стать ему угодным? Кто я был у них в России? Не тот ли, кто нес тут ответ за все, чем Финляндия в разное время им досадила? И, стало быть, не нес ли я также в себе одном все существующие у нас в Суоми мнения? А если так, то почему я должен был преподносить ему только одно из мнений, а не другое и не третье? В голове моей был веселый шум от выпитой русской водки, а передо мной сидел за столом не тот страшный Иван, а какой-то Тимоша, у которого к тому же в глубине глазных впадин опять начинало постепенно теплеть. Поэтому я не стал особенно задумываться и дал ему самой простой ответ:
— Какой выход? Срубить надо такой дуб, который нарушает порядок на кладбище.
Я сказал это и тут же увидел, как вздулись опять жесткими буграми углы его широких челюстей, а из темных глазниц потянуло холодом. Опираясь руками о край стола, он сделал такое движение, как будто собирался встать, и сказал громко, почти крикнул:
— Срубить? Ого!.. Попробуй сруби дуб, у которого корни и сучья раскинулись на полмира! Где найдется такой топор? Нет на свете такого топора и не появится во веки веков. Ну нет! О том, чтобы срубить, и речи быть не может. Скорее кладбищу придется потесниться и оттащить своих покойников подальше. Так будет правильнее.
Я спросил:
— Когда?
Он не понял.
— Что «когда»?
— Когда я должен буду потесниться?
Он засмеялся, показав оба ряда своих могучих зубов. Я тоже улыбнулся. Это приятно, когда зубы, способные перекусить ногу бронтозавра, обнажаются не в ярости, а в смехе. Он сказал:
— Я понимаю, что иносказание получилось неудачное. Но не в нем дело. Я только мысль хотел выразить. Не стану же я считать кладбищем весь остальной мир и вашу страну в том числе. Боже упаси! Да и не имели мы желания заглатывать вас, как тот дуб решетку. Мы вежливо попросили вас потесниться в одном месте, а сами соглашались отодвинуться в другом намного дальше.
Он говорил «мы», этот никому неведомый Тимоша из далекого русского колхоза. Он говорил «мы» с таким видом, словно это он сам лично предлагал тогда тот государственный обмен.
Я сказал:
— Вы не имели права нас обязывать.
И опять в его басовитом голосе звякнули жесткие ноты, когда он сказал:
— Не мы обязывали, а история обязывала. Она могла бы вам вполне точно разъяснить, чья это земля по праву, если заглянуть в древность. Но не будем ударяться в древность. И не в куске земли было дело. На кой нам хрен этот кусок? Вы бы хоть это сообразили! Смею вас уверить, что мы не стали бы беспокоить вас просьбами, если бы не другое обстоятельство. Мы бы продолжали терпеть вас под самым Ленинградом, будь вы сами по себе.
Но мы же видели, что вы — это не вы. Не своим голосом вы пели. То есть я говорю о правительстве вашем тогдашнем. Оно было игрушкой в чужих руках, затевавших очень опасную игру. Вот почему мы попросили. И, отвергая наше предложение, оно только подтвердило свою несамостоятельность. И в том, что потом произошло, пенять ему нужно на себя. Но произошло все вам же на пользу. Это поймите. Не будь нашей победы — что имели бы вы сейчас? Черная ночь без просвета стояла бы над вашей Финляндией. Фашистский террор вместо процветания. Этого ли не осмыслить? — Он помолчал немного, допивая свой чай, и потом добавил уже спокойнее: — А народ финский — хороший народ. Честный, трудолюбивый. И дружить нам было бы полезно.
Вот к чему он свел весь разговор. К необходимости дружить. Но я еще не установил, насколько русский народ пригоден для дружбы с нами, если уж на то пошло. Это надо было еще установить, взвесить и решить. И ты, Юсси, можешь быть спокоен. Проявлять в этом деле торопливость я не собирался. Ведь еще неизвестно, достойны ли русские дружбы с нами. Не так ли? И, конечно, скорее недостойны, чем достойны. Верно? А если так, то не лишить ли их за это нашего высокого внимания и не оставить ли их, и без того оттертых от Запада на задворки жизни, в прежнем унылом сиротстве, без нашего покровительства и без нашей могучей поддержки?
Пока я это обдумывал и решал, допивая свой чай, хозяйка успела убрать со стола часть посуды и два раза отлучиться из дому. Возвратясь после второго раза, она сказала хозяину:
— Я в амбарчике постелила. А ребятки с бабушкой сегодня дома поспят.
Он кивнул одобрительно и обратился ко мне:
— Вот вам и местечко для отдыха приготовлено. Заночуете сегодня у нас, а там видно будет.
Я встал из-за стола и сказал хозяйке «спасибо». Хозяин тоже поднялся, но застрял у стола. Ему защемило правую ногу между стулом и столом. Вытаскивая ее, он поморщился, с минуту постоял не двигаясь, а когда боль прошла, сказал мне с улыбкой:
— Повезло вам сегодня. Один пострадавший от финнов привез вас на машине к другому пострадавшему от них же.
У меня остановилось дыхание. Вот оно когда началось! Я вытаращил на него глаза, стараясь понять. А он спросил:
— Вы Алексею не сказали еще, откуда вы?
— Нет…
— И не стоит.
— Почему?
Он промолчал нахмурясь. И я понял.
Вот оно когда началось! Опять в голове у меня завихрились мысли о железной дороге. Но было поздно думать о железной дороге. Впору было подумать о дверях, о воротах, о задворках. Которые ворота у них были ближе от крыльца? Те, что вели на задворки, или те, что на улицу? А люди на улице есть? Наверно, есть. Но не беда. Зато темно. В темноте как-нибудь… Бегом даже, если придется… Или ползком… на четвереньках… на руках… на голове…
А хозяин тем временем неторопливо пояснял:
— С ним грустная история вышла там, на Карельском перешейке, в сороковом году. Он водил санитарную машину. Однажды остановил ее возле раненого финского офицера. Тот лежал на снегу и стонал. Сестра спала в фургоне, измученная работой. Он сам подошел к раненому, чтобы подобрать его. Но, когда нагнулся, тот всадил ему в грудь финский нож. Вот какие дела бывают. Он после того больше полугода в госпитале пролежал. Нож пробил ему легкое возле самого сердца и задел еще какой-то важный орган. Три осложнения было. Не надеялись, что вообще на ноги встанет. Да врачи постарались. Но, когда с Гитлером война началась, его уже на передний край не взяли. В тыловых частях служил. А просился! На финский фронт просился. Мстить хотел. Ненавидит он теперь вас всех лютой ненавистью. Спрашивают его: «За что всех-то?» — «А за подлый способ ведения войны», — говорит. Я ему: «Так то шюцкоровец был, специально воспитанный в звериной ненависти. Но нельзя же всех под одну мерку». А он говорит: «Все они одним миром мазаны». Такой вот он у нас теперь. А был славный парень. Душевный, культурный. Я его понимаю, конечно. Сам такое же испытал, когда мне ваши архаровцы ступню разворотили. Ведь как обидно получилось. Дело уже к перемирию шло. Осень сорок четвертого года. Затишье на Карельском перешейке. И вдруг приспичило какому-то вашему шальному минометчику выпустить мину просто так, для развлечения. А она возьми да и разорвись подле меня. Разве не досада? Я уже не говорю о боли. Да попадись он мне в ту пору, я не знаю, что сотворил бы с ним!
Сказав это, он сжал кулаки и одновременно посмотрел вокруг, как бы выискивая подходящий для удара предмет. И, конечно, глаза его не миновали топора, прислоненного к печи. А вид топора мог внушить ему только одну определенную мысль. Этой мысли он, конечно, и следовал, когда сказал хозяйке:
— Так проводи его, Ксюша. Пусть отдыхает с дороги.
А когда она вывела меня на крыльцо, оставив его в доме, что он первым долгом сделал? Конечно, схватил в руки топор. Я же знаю их, этих русских. Мне ли не знать?
На дворе я сразу метнулся к воротам, выходящим на сельскую улицу, но хозяйка сказала:
— Нет, нет. Не туда. Вот здесь наш амбарчик, за этими деревцами.
Она подвела меня к небольшому деревянному строению, над которым нависла листва деревьев. Оно не имело фундамента и стояло на четырех камнях. Лестница, ведущая внутрь, была похожа на приставную. Мы поднялись по ней. Хозяйка включила свет и указала мне застланную железную кровать справа от двери. Слева от двери стояла другая железная кровать, без матраца. Спинками обе кровати упирались в холщовый занавес, позади которого горела лампочка. Я спросил:
— А там что?
Она ответила:
— А там припасы: зерно, мука, крупа. Стояло мясо в бочке, да убрали в ледник, чтобы воздух чище был.
Выходя из амбара, она сказала:
— Крючок тут есть. Запереться можете, если желаете, чтобы спокойно спалось.
Так я и поступил первым долгом после ее ухода, а потом проверил окно. То есть это было не окно, а просто отверстие, прорубленное в стене. Но все же и в это отверстие можно было просунуть руку с топором. На всякий случай я отодвинул слегка кровать от стены.
Оставалось проверить, что таилось там, за холстом, где горел свет. Отвернув слегка в сторону край холста, я осторожно шагнул в глубину амбара. И в этот миг хозяин ударил меня топором в лоб.
Так выглядит их проявление дружбы, о которой они столько кричат. Запомните это на всякий случай вы, финские люди, и не попадайтесь на эту приманку. Не только Иваны таят в себе здесь для всех вас угрозу, но и Тимоши. Никогда не берите примера с меня и не забирайтесь к ним так далеко. Они с готовностью везут вас все дальше и дальше в глубину России. Но зачем везут? Затем, чтобы заманить вас потом в маленький, тесный амбар и там ударить острым топором прямо в лоб.
То есть, может быть, и не очень острым. Определить это сразу было трудно. Падая вбок, я наткнулся на край закрома, попав одной рукой в зерно, а другой тут же схватился за лоб, но крови не обнаружил. Нет, он был довольно-таки тупой, его топор. И вернее было предположить, что ударил он меня не острием, а обухом. Желая проверить это, я быстро повернул к нему голову, готовясь, кстати, увернуться от повторного удара. Но увертываться уже не понадобилось. Увернуться я мог бы и от первого удара, потому что не в хозяйском топоре было дело. Правда, копченый окорок, подвешенный к потолку, тоже был хозяйский. Он все еще раскачивался на крюке, норовя задеть меня еще раз. А удар по лбу получился крепким оттого, что мясо у окорока было почти наполовину срезано и наружу торчала оголенная кость.
Да, так вот обстояли дела. Ну, ладно. Я прошелся вдоль закромов, приподнимая у них крышки. В одном была ржаная мука, в другом пшеничная, в третьем отруби. Но больше половины закромов пустовало, ожидая нового урожая. Гречневая крупа стояла в раскрытом мешке. И еще два мешка с чем-то занимали угол. Я потрогал их. Нет, никто в них не прятался. Я посмотрел вокруг на бревенчатые стены и увидел в них еще четыре отверстия. Но вряд ли и они могли пропустить что-либо, кроме сквозного воздуха.
Итак, я мог не беспокоиться, если предположить, что я действительно беспокоился, а не просто воспользовался удобным поводом заглянуть в русские закрома. Вернувшись к постели, я снял костюм и аккуратно положил его на доски пустой кровати. Поверх пиджака положил рубашку и галстук. Вид у них был вполне еще свежий, чего нельзя было сказать о носках. А туфли так и вовсе заставили меня призадуматься. Кожаные подошвы у них изрядно поистерлись. А много ли я в них прошел? Разумнее было бы, конечно, выехать в старых туфлях на каучуковых подошвах, в которых я проходил всю зиму. Но как я мог предвидеть, что мне придется так много ходить?
Оставшись в майке и трусах, я выключил свет и забрался под одеяло. Так закончился четвертый день моего отпуска. А что он мне принес? Женщину свою я не догнал. Наоборот, я оказался от нее дальше, чем был в первый день. И теперь поправить все дело могла только железная дорога. Но где она тут проходила, эта железная дорога? Далеко где-то она проходила, и добраться до нее было не так-то просто.
И что-то еще должен был я вспомнить, прежде чем заснуть. Что-то такое из мудрых советов Ивана Петровича! Ах, да! Насчет дружбы советовал он проявлять внимание. Пытался ли я разглядеть за пройденный день в русских людях проявление дружбы к нам, финнам? Хм… Пытался ли? Да, пытался! И еще как пытался! Я ходил от одного русского к другому и говорил: «Проявите дружбу, проявите дружбу!». Но нет! В ответ на мои поклоны рука их тянулась к топору. Так выглядит проявление их дружбы к нам, финнам, если всматриваться в них со всей зоркостью, на какую только и способны Юсси Мурто да я.
И в дополнение ко всему где-то там, в глубине России, подстерегал меня тот страшный Иван, от которого теперь уже не могло мне быть спасения, ибо я заехал слишком далеко в сердце российской земли, где он был полным властителем. Вздымаясь где-то там, над своими лесами и равнинами, он высматривал меня с высоты грозным взглядом, готовый схватить и раздавить, как едва не раздавил когда-то железного Арви Сайтури. И не было силы, которая могла бы ему противостоять.
Только Юсси Мурто, может быть, сумел бы оказать мне какую-то защиту, будь он здесь. Но его не было здесь. Он стоял где-то там, в пределах севера, угрюмо думая о чем-то своем. О чем он думал там, возвышаясь над прохладой своих синих озер? Бог его знает. И, думая, он смотрел на Ивана своими хмурыми голубыми глазами, словно готовясь о чем-то его спросить. А Иван, улыбаясь, ждал его слов, но, не дождавшись, отвернулся и сам сказал про себя что-то. Что он там такое сказал? Что-то русское, наверно. Он сказал: «Ништо!» — и при этом повел беззаботно плечом. Но тогда Юсси тоже нарушил молчание. Он сказал Ивану: «Срубить надо то, что вносит смятение в порядок, установленный в мире веками». А Иван ответил ему: «Ништо! Поздно хватились. Чем будете рубить, милые, если корни на полмира?». И опять они умолкли, неведомо что тая в своем молчании. Но я уже не стал ждать от них слов и скоро заснул.
13
Проснулся я от мелькания света перед глазами. Это луч солнца, раздробленный листвой дерева на мелкие бегающие зайчики, проник сквозь отверстие в стене к моему лицу. Я оделся и осторожно приоткрыл дверь амбара. У одних ворот играли два мальчика и девочка. Ближе к другим воротам я увидел хозяина. Он стоял возле корыта с молочным пойлом, вокруг которого суетились маленькие поросята, тычась в него рыльцами. Время от времени он нагибался, помогая тому или иному поросенку пробиться к пище. Но даже в таком положении он заприметил бы меня, вздумай я пройти к тем или другим воротам, увлекаемый какой-нибудь настоятельной заботой — например, заботой о железной дороге.
Но я не собирался проходить к тем или другим воротам. Кому это такое могло прийти в голову? И никакие заботы меня не тревожили. Откуда им было взяться? Без всякой заботы я отошел от двери назад к своей кровати и посидел на ней некоторое время. Потом снова скинул пиджак, отвязал галстук и стянул рубашку. Прихватив затем с собой бритвенный прибор, мыльницу, зеркальце, зубную щетку и тюбик с пастой, я вышел из амбара.
На столбе у рукомойника висело свежее полотенце. Это я отметил про себя, покончив с бритьем и ополоснув лицо. А в доме стоял запах кофе. Это я тоже отметил, садясь вместе с хозяином за стол. Да и хозяйка сказала по этому поводу:
— Я знаю, что финны любят кофе, — вот и сварила. Это натуральный, без цикория. Не знаю, как вам понравится. Сами-то мы больше к чаю привычны. Пейте на здоровье. А сливки по своему вкусу наливайте.
Такое внимание проявила ко мне эта женщина, у которой муж был ранен осколком финской мины. Это я ранил его. Я выпустил в него мину там, на Карельском фронте. Дело шло к перемирию, и пора было расходиться по домам. Но досада меня взяла по поводу Карелии, которую мне не удалось присвоить. И вот я дал ему по ноге, чтобы он помнил.
А он подвинул к моей тарелке сковородку, на которой шипела свинина, поджаренная с яйцом, и сказал:
— Пусть вас не удивляет, что к столу опять свинина подана. Это пока основной продукт нашего колхоза. До войны мы не уделяли свинье должного внимания, а теперь взялись, да еще как! Свекла у нас хорошо родится и картофель. На этих культурах мы и наметили себе выбраться к зажиточности наикратчайшим путем. Похвастаться пока что особенно-то нечем, но свинарников таких, как у нас, во всем районе поискать! И породы увидите неплохие. Далось нам это не сразу. Попервоначалу пришлось нам специалистов в городском техникуме обучать. Но теперь на месте кадры выращиваем.
Едва он сказал это, как у меня в голове начали складываться вопросы: «В городском техникуме? А где этот город? Идет ли к нему железная дорога? И далеко ли она отсюда?». Но пока я составлял эти вопросы, его речь продвинулась дальше. Он сказал:
— Свою коптильню мы построили два года назад. Сейчас нет у нас такого двора, чтобы не имел свинины про запас. В каждом погребе найдете солонину, шпик, окорока. Государству сдаем живым весом и окороками. На базар вывозим.
И тут у меня опять начали складываться в голове вопросы: «На какой базар? На городской? А где этот город? Не идет ли к нему железная дорога и далеко ли она отсюда?». Но пока я составлял эти вопросы, он успел заговорить про другое:
— Теперь вот и молочное хозяйство налаживаем. Трудновато, но ничего, подымем! Ресурсы есть. Один двор уже по-новому оборудовали. Увидите потом. Ну и лен, конечно. Трудоемкая это культура, однако расширяем. За счет механизации работ. Без техники в этом деле процесса не жди. Мы покажем вам наши машины и посевы, которые предстоит обработать. Думаю, что вам будет интересно познакомиться с масштабами наших работ для сравнения с вашими.
И опять у меня в голове начали складываться вопросы: «А машины вы откуда получили? Из города? По железной дорого или как? А далеко отсюда эта железная дорога?». Но пока я составлял эти вопросы, мы уже покончили с завтраком и вышли на двор. Там он вывел из конюшни лошадь и, запрягая ее в пролетку, сказал:
— Сейчас мы поедем с вами в Клюшкино. Посмотрим свинофермы и механизмы для льнообработки. Оттуда я поеду к соседям, а вы сюда вернетесь уже без меня. После обеда съездим с вами в другое место.
И только он это сказал, как у меня опять усиленно заработала голова, составляя новые вопросы: «А сумею ли я сюда один вернуться? А вдруг я не так пойду, как надо, и забреду куда-нибудь на железную дорогу, которая мне совсем не нужна? Где она тут у вас, чтобы мне по ошибке к ней не выйти?».
Вот какие хитрые вопросы я придумал своей умной головой. Но едва я раскрыл рот, чтобы произнести их вслух, как скрипнула калитка и перед нами появился водитель колхозной машины Леха. Зачем он тут появился? Понятно зачем. Он появился затем, чтобы убить меня. Я воткнул ему когда-то нож в грудь возле самого сердца, и вот он вспомнил это. Я лежал на снегу, подстреленный русскими, и стонал, истекая кровью. Свирепый мороз проникал в мои жилы, грозя смертью, а он склонился надо мной, чтобы поднять и унести в тепло и в жизнь. В его глазах я видел тогда сострадание. Такая уж была у него душа, вполне совпадающая по своему качеству с той должностью, которая обязывала его не убивать людей, а спасать их жизни. Мою жизнь он тоже хотел спасти, несмотря на мою ненависть к нему. А я за это воткнул в него нож, норовя попасть в самое сердце.
И теперь в его глазах уже не было сострадания, когда он пришел убить меня. Теперь он был хмурый, злой, исхудавший, и только мускулы на его руках сохранили прежние размеры, распирая рукава нового пиджака, который он почему-то надел вместе с чистой рубахой и галстуком для такого кровавого случая. Он приблизился ко мне, держа в руке что-то продолговатое, завернутое в бумагу, но, прежде чем убить, сказал:
— Тимофей Григорьевич!
Это он так назвал председателя. Для своей жены председатель был Тимоша, а для водителя — Тимофей Григорьевич. И, когда председатель обернулся к нему, он сказал:
— Я вот гражданина спросить хотел…
Это он меня назвал гражданином. И я уже догадывался, о чем он хотел меня спросить. Он хотел спросить, не тот ли я самый, который ткнул его тогда ножом. Он хотел в точности знать это, прежде чем со мной покончить. Председатель, продолжая запрягать лошадь, сказал: «Ну, ну», и водитель спросил меня:
— Вы знаете, что вас в гости на сегодня пригласили?
Я пожал плечами, а председатель спросил:
— В гости? Куда это?
Водитель ответил:
— К Степанюку, к леснику.
— А-а! К Ефиму Родионычу? Кто ж пригласил-то?
— А он сам. У него дочь в университет Ленинградский поступила — так по этому случаю. Всех пригласил, кто в это время у костра находился: Серегу, меня и его и том числе. — Он кивнул в мою сторону и затем, оборотясь ко мне, спросил: — Пойдете?
По его виду и по тону голоса я понял, что он ждал от меня скорее отказа, чем согласия. Никакого желания принимать меня в свою компанию он не проявлял. Я взглянул на председателя. Тот сказал:
— Что ж, идите. Неудобно не пойти, если пригласили. Для вас это даже кстати: еще с одной отраслью нашего хозяйства познакомитесь. А вечером, когда вернетесь, я вас парторгу препоручу. Он тоже к тому времени прибудет из райкома. Он и займется вами с завтрашнего дня.
Что мне оставалось делать? Я обернулся к водителю. Он ждал.
Я спросил его:
— А далеко?
То есть я хотел его спросить, далеко ли будет оттуда до железной дороги, но язык мой не решился выговорить эти слова при председателе. А водитель ответил мне на то, что я успел произнести вслух:
— Недалеко. Девять километров, если по дорогам. Но мы пойдем тропинками. А это составит не больше семи.
Пришлось пойти. На краю деревни водитель остановился возле добротного дома под железной красной крышей и крикнул:
— Серега!
В открытое окно высунулся знакомый мне круглолицый парень. Его светлые волосы лохматились, на лбу блестел пот, и упругие щеки мало сказать румянились — они прямо-таки пылали огнем. Водитель спросил его:
— Ну как? Ты еще не готов?
Тот округлил глаза и раскрыл рот, выражая этим непонимание. Водитель пояснил:
— К Степанюку в лесничество! Или забыл, что к нему в гости зван? У костра, ночью. Вспомни-ка!
Тот вспомнил и заговорил торопливо:
— А-а! Да, да, да! Ну как же не помнить! Помню, помню! Но понимаешь, Леха, дело-то какое… Не могу я сейчас, ей-богу! Дружок тут ко мне фронтовой приехал. Девять лет не видались! Представляешь? Не могу никак, хоть убей! Придется тебе… придется вам без меня как-нибудь… Привет от меня там передайте и все такое. Девочке поздравления. А я не могу, понимаешь ли…
— Понимаю.
Леха двинулся дальше, не глядя на меня. Видно было, что теперь ему еще меньше хотелось иметь меня своим компаньоном. Но что ж делать! Зато я очень хотел идти с ним рядом. Сколько лет я мечтал об этом, а с минувшей ночи возымел к этому особенно пламенное желание.
И вот наконец-то сбылись мои мечты!
Скоро мы вышли из деревни и двинулись по дороге на юго-запад. С этой дороги мы затем свернули на маленькую боковую дорогу, ведущую на запад. С нее свернули на тропинку, ведущую на юг. А потом опять вышли на дорогу и опять свернули на тропинку.
По тропинке я шел позади него, а по дороге — рядом. И, шагая позади или рядом, я силился вспомнить, какие слова я произносил в его присутствии: трудные для меня или легкие? И если были среди них те, что я выговаривал плохо, то не зародилось ли в нем намерение спросить меня, кто я по национальности? А если он свое намерение приведет в действие, то чем кончится наш разговор?
По этой же причине я остерегался спросить его о железной дороге. В этом слове была буква «ж», которая трудно мне давалась. А вдруг именно она и надоумит его спросить, кто я и откуда? Что тогда произойдет? Нет, лучше уж было помалкивать.
Он тоже молчал, шаркая черными, начищенными до блеска ботинками по высокой траве, налезавшей на тропинку, и поглядывая вверх, где пробегали редкими хлопьями белые облака и сверкала синяя глубина неба.
Так уж они, должно быть, устроены, эти русские, что всегда охотнее смотрят вверх, нежели себе под ноги. Под ними земля, которую не охватить ни глазом, ни умом — такая она огромная. И сила ее соков такая, что только успевай задавать ей работу и прибирать к рукам все, что она с готовностью и радостью родит. Сказочные вещи можно творить на свете в братстве с такой землей. А они, забывая о ней, уносятся своими мыслями в разные небесные отдаленности, где много сверкания, но зато много неясного и неизведанного.
Впрочем, Леха смотрел не только вверх, но и под ноги. Временами он даже срывал тот или иной цветок, поднося его к лицу. Его взгляд скользил также по остальной поверхности земли, особенно в те моменты, когда мы поднимались на какой-нибудь холм. А поднимались мы на холмы несколько раз, понуждаемые к тому капризами тропинки. И с каждого холма открывался такой отрадный вид на поля и нивы, колеблемые ветром, что сразу отпадала мысль о склонности их владельцев отрываться от земли для ухода в область мечтаний. Нет, неверно было предполагать в них такое. Не забывали они, кажется, и земле тоже уделять иногда кое-какое внимание.
Один из холмов на нашем пути оказался особенно высоким. С него открылся вид в разные стороны километров на десять — пятнадцать. Открылись новые холмы и впадины — местами в лиственных лесах, местами в кустарниках, с голубыми проблесками воды между ними. Но шире всего раскинулись возделанные поля, среди которых разместились деревни, соединенные между собой дорогами. И только в одну сторону сплошным плотным покровом уходил смешанный лес. Туда мы, кажется, и держали путь.
Леха остановился, чтобы оглянуть с этого холма свои русские горизонты. Я тоже остановился. Ветер принес к нам откуда-то аромат земляники. Он был такой густой, что я невольно вдохнул его в себя поглубже. Леха заметил это и сказал:
— Это оттуда, с Устюженских бугров.
Он показал рукой, а я сказал: «А-а», — ничего, однако, не прибавляя к этому, чтобы не напороться ненароком на трудное слово. В звуке «а» он вряд ли мог уловить мой финский акцент. И было бы, пожалуй, неплохо уметь обходиться тут в разговорах с ними одним этим звуком. Но, поскольку мы продолжали стоять и любоваться благоуханными просторами их диковинной России, мне стало неудобно отделываться такой краткой речью. И, подумав немного, я добавил:
— Красиво как!
Эти слова я выговорил по-русски, кажется, правильно. По крайней мере он к ним не придрался и, в свою очередь, ответил мне:
— Да. Пушкину бы надо жить в этих краях! Лермонтову! Тютчеву!
Сказав это, он как-то неловко улыбнулся и тут же, словно рассердясь на себя за сказанное, двинулся дальше, быстрее прежнего. Я двинулся вслед за ним. Куда мне было деваться? Постепенно мы углубились в лесистые места. Тропинка вывела нас на малонаезженную травянистую дорогу, которая вскоре сама превратилась в тропинку. Мы перешли по стесанному бревну через ручей. За ручьем потянулся совсем еще молодой лиственный лес, очень аккуратно прочищенный, с травянистой почвой, что придавало ему вид огромного парка. А за ним показался наконец открытый участок земли, где разместилось хозяйство лесника.
14
Семья лесника, состоявшая из трех человек, была дома. Кроме них, в доме была еще одна женщина, очень похожая на хозяйку. Пожимая нам руки, бородатый хозяин спросил своим раскатистым голосом:
— А где же Кит Китыч — живоглот?
Леха объяснил ему, почему тот не пришел, и хозяин согласился с этим:
— Причина уважительная. Уж если фронтовой друг приехал, то все остальное в сторону отбрасывай. Как вы считаете?
С этим вопросом он обратился ко мне. И я сказал:
— Да.
Вот какую пространную речь я закатил им для начала. Даже Леха на первых порах не мог за мной в этом угнаться. Пожимая, например, с вежливым видом руку девушке, он совсем ничего не сказал, только взглянул на нее пристально своими темно-серыми глазами, в которых затаилась грусть, и сразу же отвел их в сторону. Правда, уже одно это чем-то подействовало на девушку. Что-то такое она уловила в его глазах, ей одной понятное, что заставило ее потом взглядывать на него украдкой с выражением вопроса на лице. Но слов для нее у него не оказалось.
Кое-какие слова нашлись у него только для самого лесника, да и то лишь после того, как было выпито принесенное им шампанское и заметно поубавлена в литровой бутылке домашняя наливка. Водка на столе осталась нетронутой, ибо Леха отказался ее пить по такому деликатному поводу, а мы с лесником не стали ломать компании. И, закусывая жареной дичиной, дополненной молодой картошкой, свежими огурцами и редиской в сметане, Леха сказал, обратясь к леснику:
— А у тебя со свежатиной неплохо дело обстоит, Ефим Родионыч. И дичинка водится. Эх, мне бы тоже кое-когда с ружьецом походить! Давно мечтаю. Учиться не удалось, так хоть бы поохотиться всласть.
Лесник спросил:
— А за чем же дело стало?
— Да вот ружьишка нет.
— А деньги-то есть?
— Ну как не быть!
— Вот и купи. Поедем вместе и купим. И в Союз охотников запишем.
— Да, надо будет сделать. Займемся с горя охотой, коли учение не удалось.
— А почему оно тебе не удалось?
— Все война проклятая.
— А ты бы взял да возобновил.
— Поздно. Возраст не тот.
— А сколько тебе?
— Уже тридцать три стукнуло.
Тут в разговор вступила девушка. Она сказала:
— Никогда не поздно учиться. Я видела в Ленинграде — постарше вас поступают. Ведь в вузы принимают до тридцати пяти лет. А если учиться по заочной системе, то возраст вообще не имеет значения.
Девушка сидела напротив Лехи, по другую сторону стола, между обеими женщинами, и словами своими обращалась к нему. А он, отвечая ей, повернулся лицом к леснику, сидевшему с ним рядом, и ему же сказал:
— У меня девятилетка.
На, это опять возразила девушка:
— Ну и что же? Десятый класс тоже заочно можно пройти, и это, кстати, послужит вам лучшей подготовкой к вступительным экзаменам.
Леха внимательно выслушал ее, продолжая смотреть на лесника и держа на краю стола кулаки, из которых торчали остриями вверх нож и вилка. При этом на его темном худощавом лице было такое выражение, словно он хотел сказать леснику: «Вот какие здесь у тебя мудрецы обитают!». Девушка видела это выражение и продолжала с некоторой досадой в голосе:
— В конце концов, зачем вам вуз? Другое дело, если вы хотите бросить свою работу и приобрести другую специальность, более ценную с вашей точки зрения. А если вы под учением подразумеваете просто расширение круга своих познаний, то для этого не обязательно поступать в вуз. Для этого достаточно побольше читать — и только. Специальность у вас есть. Хорошая специальность, которая вас кормит и, по-видимому, нравится вам. А просвещение достигается самостоятельной работой над книгой. Не думайте, что в вузе вам все уложит в голову кто-то. Самим придется приобретать. Без самостоятельной работы над собой вам и вуз не поможет. А при умении самостоятельно работать — на что вам вуз?
Леха опять внимательно выслушал все, что сказала девушка, но смотрел при этом только на ее отца. А когда она умолкла, он сказал:
— Умная у тебя дочка, Ефим Родионыч.
Тот принял гордый вид и, проведя ладонью по своей коротко остриженной широкой бороде, ответил:
— Еще бы! Чай, в отца пошла.
— А может, в мать. — Это сказала мать.
Но он возразил:
— Ну, где уж там! С простой догадливостью отстаешь. Давно бы, кажись, пора пирог подавать, а ты со своей сестричкой никак не наговоришься, будто год не виделись.
Хозяйка спохватилась и вышла на кухню. Сестра поспешила за ней. Вернувшись, они поставили на стол блюдо с пирогом, у которого начинкой служил рис, перемешанный с рублеными яйцами, и тарелку с ягодными ватрушками. Подвигая их к нам поближе, хозяйка сказала:
— Кушайте на здоровье. Со свежей земляникой они. Сама Лидушка насбирала утречком на Устюженских буграх. Там ее пропасть, земляники этой.
Хозяин разлил по рюмкам остатки наливки, сказав попутно жене:
— Вот и поубавили твоей наливки, слава богу. А ты беспокоилась: мол, зря пропадают запасы. Ан и пригодились.
Леха поднял свою рюмку и сказал хозяину:
— За девушек. За наших счастливых девушек, уходящих от нас в другую жизнь и забывающих там про нас.
Но девушка запротестовала:
— Неправда! Зачем так говорить? В какую другую жизнь? Чушь какая! Никуда мы от вас не уходим. В той же жизни остаемся. Во всяком случае, в нее же возвращаемся. И забывать тоже никого не собираемся, если человек сам не заслужит этого.
Леха выслушал ее, глядя на хозяина, затем кивнул, как бы одобряя что-то, и протянул свою рюмку навстречу другим рюмкам. Девушка смотрела на него, а он смотрел мимо девушки. Хотя была она хороша собой — высокая, стройная, светловолосая, и новое голубое платье красиво повторяло цвет ее глаз. Поставив опустевшую рюмку на стол, Леха принял из рук хозяйки тарелку с куском пирога и, принимаясь за него, сказал:
«Чичиков подвинулся к пресному пирогу с яйцом и, съевши тут же с небольшим половину, похвалил его».
И опять девушка взглянула на него по-новому. Я понял, что он произнес не свои слова. Я даже догадался, откуда он их взял. Это были слова их писателя Гоголя из поэмы «Мертвые души». Я тоже читал эту поэму, только не дочитал ее. Книга моя осталась раскрытой на той странице, где говорилось: «Эх, тройка! птица тройка…». Я тоже промчался по их России на некой тройке. И кучер этой тройки сидел теперь рядом со мной. Он сидел, занятый пирогом и чаем, а на него смотрела тонкая светловолосая девушка, для которой приспело время любить. На меня она не смотрела, а на него смотрела. На меня тут некому было с таким вниманием смотреть. Моя женщина была далеко и потому не могла мной полюбоваться, как ни мечтала об этом. Требовалась близость железной дороги, чтобы и ей тоже в самом скором времени представилась приятная возможность насмотреться на меня вдоволь. Но спросить о железной дороге я мог только у хозяина, да и то лишь тайком от Лехи. А пока что Леха сидел с ним рядом и говорил ему:
Что ж, привольно дочке лесника. Жизнь легка, да вот одно обидно: за опушкой лес да облака, а другого ничего не видно.И хотя он с этим стихом тоже обращался только к леснику, откликнулась опять-таки дочь. Она сказала:
— Это, кажется, Жаров? Ранний притом. Новые поэты так не напишут.
— А почему бы новым поэтам так не написать?
Это спросил у лесника Леха. И тот подхватил, обращаясь к дочери:
— Да, почему бы?
Дочь пояснила:
— А потому, что устарело такое представление о лесниковой дочке. Как так ничего не видно за опушкой? А я вот Ленинград увидела. А думаете, Москву отсюда не видно? Пожалуйста!
Она вскочила с места, подошла к полочке, на которой стоял радиоприемник, покрутила у него ручки, и через минуту комнату наполнили звуки музыки. Девушка прислушалась и сказала:
— Из «Князя Игоря» Бородина. Трансляция, должно быть, из Большого театра. Дневной спектакль.
Она убавила звук и снова села на свое место допивать чай. А после чая лесник повел нас на участки с молодыми насаждениями. Их было много позади его дома. Занимая все свободное от взрослого леса пространство, они тянулись ровными рядами в разных направлениях по холмам и низинам. Были среди них первогодние побеги на взрыхленной земле, были участки постарше, где окрепшие деревца уже не боялись травянистой почвы. Были полосы почти вполне взрослых деревьев, за которыми простирался настоящий лес.
Я внимательно всматривался во все стороны, стараясь угадать, где у них тут пролегает железная дорога. Лесник заметил это и, подойдя ко мне поближе, сказал:
— Если вас интересует лесное хозяйство, оставайтесь у меня денька на три. Побродим вместе по лесу, и тогда у вас будет полное представление о размахе наших работ по лесонасаждению. Столько фактов интересных наберете — хватит вам не на одну статью, если вы, конечно, из газеты или журнала. А если нет, то и просто так полезно нашим хозяйством поинтересоваться.
Я промолчал на всякий случай. Да, это было полезно, конечно. Еще бы! О, я очень люблю лесное хозяйство и давно мечтал с ним познакомиться. Разве не ради этого я сюда примчался, пробороздив насквозь всю Россию? Однако и железнодорожное хозяйство тоже меня интересовало. Не мог я пройти равнодушно мимо этой важной отрасли. Кстати, где она тут располагалась?
Готовя свой вопрос хозяину, я прикинул на глаз расстояние, отделявшее меня от Лехи. Дойдет ли до его уха мой говор или нет? Его говор до меня пока не доходил, ибо он стоял и молчал. И девушка стояла и молчала. Оба они стояли рядом среди садовых деревьев, рассматривая какую-то особую прививку на стволе дикой яблони, и оба делали вид, что каждый рассматривает эту прививку сам по себе. Друг на друга они не смотрели, но и не расходились. Если бы отошел один, то другому было бы неудобно двинуться туда же. Каждый из них это понимал и потому оставался на месте, внимательно разглядывая прижившиеся на срезах старого ствола зеленые отводки.
Прикинув расстояние до Лехи, я остерегся задать леснику вопрос о железной дороге. Но и молчать перед ним было неудобно. Поэтому я спросил его, указывая на длинные ряды молодой поросли:
— Куда вам это? У вас и так много лесов.
Он ответил:
— Так то у нас. А на юге-то, в сухих степях, каково?
Я промолчал, не зная, каково было у них на юге, в сухих степях.
А он продолжал:
— То-то и оно! Туда сколько ни подавай, все мало будет. Суховей — он шутить не любит.
Я спросил:
— А разве это вас касается?
Он удивился:
— А кого же это касается? Степи-то чьи?
На это я тоже не мог дать ответа. Действительно, кто у них владел степями? Кто он был, этот избранный господом богом богатейший в мире обладатель? Пока я силился это сообразить, лесник сказал:
— И степи наши и забота наша.
Я не совсем понял его и спросил:
— Как ваши?
Он опять удивился:
— А чьи же? Да что это вы словно бы иностранца из себя разыгрываете?
На это мне уже нечего было ответить. Если дело дошло до такого вопроса, то лучше было совсем умолкнуть. Далее мог пойти такой разговор, которому не полагалось достигать ушей Лехи. А он стоял все на том же месте, хмуро разглядывая у того же дерева едва ли не каждый листок. Но рта он все еще не раскрывал почему-то и явно не собирался раскрывать первый. Пришлось девушке это сделать. Она сказала:
— Между прочим, у людей даже не слишком тонко воспитанных принято смотреть непосредственно на того, с кем говорят.
Он в это время рассматривал какую-то очередную ветку, трогая на ней пальцами отдельные листики. Не отрываясь от этого занятия, он сказал:
— Да? Спасибо, за науку. Жаль, что с вами у нас в жизни разговоров больше не предвидится. Непременно применил бы ваше указание.
Она сказала:
— Вы уже применили. За столом. Что за манера — не смотреть?
Он помолчал немного, поглаживая пальцами древесный лист, и потом сказал ей, понизив голос:
— Опасно нам, девушка милая, любоваться тем, что может вопреки нашей воле стать для нас вдруг желанным и дорогим. Опасно, понимаете? Слишком горька будет потом расплата, когда нам укажут наше истинное место. Нельзя нашему брату недорослю так заноситься. «Не по Сеньке шапка».
— Нелепости какие вы говорите! Фу! Даже слушать противно!
Сказав это, девушка сделала вид, что хочет отойти, но не отошла. А он добавил тем же тихим голосом:
— Мало ли чего сердце запросит в тоске да в одиночестве. Оно и на подвиги готово. И сила в нем имеется, способная горы своротить во имя этого самого, если потребуется. Но не нам о таком счастье мечтать. Надо помнить, кто ты есть.
— Глупо, глупо и еще раз глупо!
— У вас теперь своя дорога, светлая, радужная. За пять лет у вас там образуется тесный круг друзей — достойных друзей, умных, образованных, с высоким полетом мысли. А нам, чья жизнь изломана войной, уготована судьба поскромнее… Ну, мне пора! Желаю вам там всяких успехов от всей души. Очень рад за вас, ей-богу!
Он протянул ей руку. Протянув навстречу свою, она сказала:
— А если я вам напишу?
— Милостыни мне не надо.
— Я напишу.
— До свидания.
Я так и не спросил у лесника насчет железной дороги. Опасно было спрашивать. Если до меня долетели слова Лехи, сказанные тихо, то тем более долетели бы до него мои громкие слова. К тому же лесник не стоял на месте. Он успел отойти к женщинам. У них там не ладилось что-то с вынесенной наружу железной печуркой, на которой они собирались варить ягоды. Леха тоже подошел к ним. Прощаясь, он сказал:
— После отпуска буду вас к себе просить, Ефим Родионыч.
Тот спросил:
— А где думаешь провести отпуск?
— В Крым подамся. Поброжу немного по берегу моря. Нервы полечу.
— В санаторий?
— Нет. Какой там санаторий! Не люблю я себя на отдыхе всякими режимами связывать. Просто так приткнусь где-нибудь.
— Правильно. Я тоже терпеть не могу этих всяких санаториев и домов отдыха. Лучше в лес уйти, если отдохнуть захотелось.
Леха направился к дороге. Но, отойдя немного, остановился, выискивая глазами меня. Найдя, спросил:
— А вы?
А я не знал. То есть я знал, но не знал, куда… То есть я и это знал, но все-таки я не знал… Одним словом, я тоже со всеми попрощался и сказал «спасибо». Даже девушке я пожал руку, жесткую и сильную, знакомую с деревенским трудом, хотя не на меня смотрели ее умные голубые глаза. Смотрели они вслед уходящему Лехе, тая в себе озабоченность и еще что-то неуловимое, может быть неясное даже для нее самой. Видно, какая-то нить уже успела протянуться к нему от ее сердца, очень тонкая пока нить, которая легко могла перерваться, но могла и окрепнуть, превратиться в канат.
Леха уходил все дальше, не дожидаясь меня. Я припустился за ним, хотя зачем он был мне? И я тоже зачем был ему? Весь вид его показывал, что на своем обратном пути к дому он еще менее хотел бы иметь меня своим спутником. Он шел и не оглядывался. Я оглянулся. Лесник и женщины возились у печурки, а девушка стояла у яблони, глядя нам вслед. Пройдя немного, я опять оглянулся. Девушка стояла у яблони, глядя нам вслед.
Перед нами появились кустарники высотой в два человеческих роста, готовые скрыть нас от глаз девушки на первом же изгибе дороги. Широкая спина Лехи в коричневом пиджаке мерно колыхалась в пяти шагах от меня. И, глядя на нее, я гадал: оглянется он или не оглянется до поворота дороги? Казалось бы, оглянуться ему следовало непременно, чтобы сделать крепче и толще ту нить, которая протянулась между ним и девушкой. Нельзя было не оглянуться при таких обстоятельствах. Неразумно было бы не оглянуться. Дорога изогнулась, уводя нас под прикрытие высоких кустарников. Еще два шага — и будет поздно. Неужели он так и не оглянется?
Леха оглянулся на самый короткий миг и тут же опять отвернулся, ускоряя шаг и хмуря брови. Я тоже оглянулся. Девушка стояла у яблони, подняв руку и помахивая ладонью. Помахал и я ей в ответ, пока ее не заслонило от меня листвой придорожной ивы.
Да, так вот обстояли у них тут дела касательно подготовки к нападению на остальное человечество. Всюду она выпирала наружу из их жизни, эта подготовка, с каким бы старанием они ее ни маскировали. Уже не первая пара пыталась увести мое внимание в сторону от их главных кровавых планов, но это им не удавалось. И ты, Юсси, можешь быть спокоен на этот счет. Я давно проник своим редкостным умом в их самые тонкие хитрости, за которыми они скрывали свою тайную подготовку к завоеванию Кивилааксо. А если я еще не удирал от них без оглядки и даже делал вид, что принимаю все на веру, то приписать это надо моему умению видеть насквозь их коварные уловки, от которых я научился увертываться. Так и будем пока считать по поводу всего того, что к этому относится.
И еще будем думать, что примером здесь повсюду мне служил твой премудрый опыт в разгадывании происков русских. Им я прикрывался здесь от их напастей, как непробиваемой броней. Благодаря ему мои истинные мысли были скрыты от них, как шило в мешке, и никакие их подноготные меня не зацепляли. Они старались распропагандировать меня на свой коммунистический лад, как ты и предвидел, а я не давался. Разве не выглядело все именно так? Мои мозги ни разу не дали крена ни в какую сторону, мое сердце не дрогнуло. И ко всему, что мне здесь встречалось, я оставался безучастным и холодным, как скала. В этом ты можешь быть уверен, Юсси.
Вот я взял и помахал в ответ миловидной русской девушке, которая так приветливо помахала мне. Что тут было особенного? Мне помахали, и я помахал. Или кто-нибудь усмотрел бы в этом иную причину? Кому-нибудь, чего доброго, могло прийти в голову, что думал я в то время совсем о другом, а не о самой девушке, помахавшей, быть может, вовсе и не мне. О чем же я мог подумать в то время? Не о том ли, что в тридцать лет можно очень легко, подобно Лехе, проворонить свою судьбу, ибо в тридцать лет человек более слеп, нежели в сорок пять? Или о том, что каждый в жизни имеет право на радость, но добыть ее должен сам? Или о том, что и у меня тоже могла быть на этом свете такая же славная, умная дочь, с таким же чутким сердцем, с такими же чистыми голубыми глазами, способными выразить сострадание к беде другого? Об этом, что ли, мог я подумать, помахав ей рукой? Но зачем стал бы я об этом думать? С какой стати мне думать о таких нелепых вещах? А если бы и подумал, то что же? Совершил бы великий грех? Да, могла бы теперь быть и у меня тоже такая же светлая душой дочь, если бы я в тридцать лет умел крепче держать в руках то, что дала мне судьба, и не уступил бы так легко злу, имя которому Муставаара…
15
Дорогу на этот раз Леха избрал другую. Но я не спрашивал, куда он меня повел. Вид у него был не из тех, что располагают к вопросам. Раза два он оглянулся на меня. Это происходило в те моменты, когда мы с тропинки выходили на дорогу, где я оказывался с ним рядом. Первый раз он обернулся ко мне с таким видом, словно старался вспомнить, кто я такой и откуда тут взялся. Второй раз, при переходе с другой тропинки на другую дорогу, он так взглянул на меня из-под нахмуренных бровей, как будто готовился ударить и не ударил только потому, что не решил относительно места, куда нацелить свой железный кулак.
И опять мы после этого шли тропинкой среди кошеных и некошеных лугов, полных летнего благоухания, пока не прибыли на такое место, где все ароматы земли подавлял аромат спелой земляники. Она краснела по солнечным склонам холмов вместе со своими тройными листиками, тоже обильно подрумяненными солнцем. От этого на иных склонах красные пятна, сливаясь между собой, вытесняли зеленый цвет не скошенной здесь травы. Я догадался, что это были те самые Устюженские бугры, куда рано утром приходила за ягодами дочь лесника.
Здесь Леха еще раз обернулся ко мне, и я увидел в его серых глазах самое откровенное желание убить меня на месте. Они укрупнились, его глаза, блестя белками, его нижняя челюсть выдвинулась, и углы губ оттянулись книзу. Не отрывая от меня угрожающего взгляда, он шагнул с тропинки в сторону и остановился. Видно было, что он ждал от меня вопроса о причине своей остановки и заранее ненавидел меня за этот вопрос. Но я не задал ему вопроса. Я прошел мимо него по тропинке с таким видом, как будто считал это в порядке вещей, как будто мы с ним так и условились заблаговременно, что он шагнет с тропинки в траву и остановится, а я пройду мимо него дальше вперед. Я даже не оглянулся, продолжая свой путь, и, когда отошел на порядочное расстояние, услыхал издали его вопрос:
— Дойдете?
Я ответил: «Дойду», — и продолжал идти не оглядываясь. Как еще мог я ответить? Сказать: «Не дойду», — было бы нелепо. Ведь куда-то я все-таки шел. А если шел, то рано или поздно мог дойти. Другой вопрос: куда дойти? Но об этом он меня не спросил.
Через минуту я оглянулся. Он лежал в траве, обратив темное от загара строгое лицо к просторам неба. Пройдя немного далее, я опять оглянулся. Он все еще лежал, но уже согнул в колене одну ногу и положил на нее другую, мерно покачивая ступней. Скоро холмы скрыли его от моих глаз, и больше я не оглядывался.
Тропинка вела меня еще некоторое время среди лугов, потом по краю ржаного поля, огромного, занявшего два холма и впадину между ними, потом сквозь перелесок, потом опять через поля, занятые льном, картофелем, овсом, и наконец привела к большой грунтовой дороге с канавами по бокам. Тропинка продолжала уходить в глубину полей по другую сторону дороги, но я оставил ее без внимания. Меня больше интересовала дорога, хотя над ней стояла пыль, поднятая только что проехавшей машиной.
Дорога эта шла с юга на север, и я бы не задумываясь отравился по ней на север, чтобы при первом же удобном случае свернуть с нее на северо-запад. Но где-то на этом пути меня мог опять перехватить хмурый Тимофей Григорьевич. Он собирался показать мне свое богатое свиное хозяйство, которое я так рвался увидеть. Ради этого он готов был оставить меня у себя на пять дней. Но я не сказал ему, что вернусь. Таких слов я не произнес. А если не произнес, то мог отправиться куда угодно по своему усмотрению. И не имело также значения, в каком направлении выйти к железной дороге, лишь бы выйти. Она могла пролегать где-то севернее этого места, но могла пролегать и южнее. Подумав так, я зашагал по краю дороги на юг.
Время было еще не позднее, но и не раннее. Солнце, припекая, подбиралось к моей правой щеке. Но, подбираясь, оно в то же время сползало по небосклону вниз, и жар его лучей постепенно слабел. Не встречая на своем пути деревень и не видя никаких признаков железной дороги, я стал внимательнее поглядывать на проходившие мимо меня машины. Проходили они не так уж часто: не более пяти машин в час. Определив это, я стал поднимать руку перед каждой обгонявшей меня грузовой машиной. Три из них еще издали разгадали, что я за птица, и прошли мимо, обдав меня пылью. Четвертая не сумела разглядеть во мне врага и остановилась, уйдя от меня вперед метров на десять. Я прибавил шагу. В ее кузове стояли люди и пели песню. Водитель выглянул из кабины и кивнул мне на кузов. Я хотел сказать ему, что мне надо до железной дороги, но он еще раз нетерпеливо кивнул мне на кузов и захлопнул дверцу.
Что мне оставалось делать? Дойдя до заднего колеса, я уперся в него ногой и взобрался наверх. Два парня у борта посторонились, пропуская меня в середину, и я оказался в толпе стоявших девушек. Кто-то крикнул: «Поехали!». Машина тронулась. Все качнулись назад, цепляясь друг за друга. Я тоже качнулся и, чтобы не упасть, ухватился за плечи стоявшей передо мной девушки. Я ожидал, что она тут же вывернется и влепит мне затрещину. Но она даже не оглянулась, продолжая петь. Она сама тоже за кого-то держалась. И те, что стояли по обе стороны от нее, тоже за кого-то держались и кого-то поддерживали сами. Были тут и парни, и девушки, и пожилые люди. Но больше всего было девушек в тонких нарядных платьях. А песню пели о Степане Разине, их знаменитом разбойнике времен царя Алексея Романова, и так увлеклись этой песней, что не заметили проникшего в их среду смертельного врага. Я, конечно, не стал торопиться разоблачать себя перед ними и сам принялся подпевать им понемногу.
Машина неслась по мягкой дороге на юг, встряхивая нас на ухабах, а мы держались друг за друга, стоя в ее кузове, и пели. Русые волосы девушки шевелились от ветра, задевая меня по лицу. Я поворачивал голову вправо и влево. Но и справа и слева трепыхались на ветру девичьи волосы, светлые и темные, разной длины и густоты, по-разному убранные: где под шелковые косынки, где в косы, а где и просто так — слегка прихваченные пластмассовой шпилькой или даже не прихваченные вовсе. Справа и слева пылали жаркие от солнца девичьи лица, мигали длинные ресницы, изгибались брови над веселыми, блестящими глазами, белели зубы в красивых раскрытых ртах, из которых лилась песня. А пели они о том, что яблоневый цвет самый лучший на свете и что минута встречи с милой самая драгоценная. Вполне согласный с таким их мнением, я тоже им подпевал.
Так с песней мы пронеслись через небольшую, малолюдную деревню, а за ней догнали целую компанию из четырех девушек и двух парней. Они замахали нам руками, и машина остановилась, чтобы принять их в кузов. А когда мы снова двинулись вперед, колыхаясь в кузове туда и сюда, позади меня успели пристроиться новые девушки. Одна из них держала меня за бока. Другая вцепилась в левую руку, третья — в правую. А какой-то рослый парень крепко сгреб меня ладонью за плечо. При таких обстоятельствах мне тоже ничего иного не оставалось, как держаться покрепче за девушку, стоявшую впереди меня, чтобы не повалились вместе со мной назад все те, для кого я оказался опорой.
Так я катил вперед в тот ясный солнечный день по мягкой русской дороге неведомо куда, и веселые русские девушки с громкими голосами обнимали меня со всех сторон. Я тоже обнимал их и пел вместе с ними песню за песней. Сквозь тонкие шелковые платья я чувствовал жар их молодых тел и сам был полон жара и молодости.
Кого-то мы опять очень скоро догнали, и те стали проситься в машину. Один парень даже крикнул: «Мы тоже хотим в малинник!». Машина остановилась, заставив нас всех опять колыхнуться вперед. Я ткнулся носом в шею девушки, поймав ноздрями горячий запах ее нежной кожи. На этот раз она обернулась, проведя пышными волосами по моему лицу. Скосив на меня большие синие глаза, она улыбнулась полногубым ртом, не переставая петь. А задняя девушка ткнулась в затылок мне. Она тоже улыбнулась, когда я обернулся к ней, и при этом ее черные глаза, полные блеска и смеха, оказались прямо перед моими глазами. На своей щеке я уловил теплоту ее дыхания, а в ухе — звон от проникшего туда ее тонкого сильного голоса, выводившего слова песни. Ее руки обхватывали мою поясницу. А мои руки обхватывали поясницу другой девушки. Она пела в ухо мне. А я пел в ухо другой девушке. И пели мы о том, чтобы пожалела душа-зазнобушка молодецкого плеча. Пели и неслись вперед.
Так я катил опять куда-то на юг по мягкой русской дороге, мотаясь на ухабах туда и сюда среди жарких девичьих тел и распевая вдобавок во все горло их разудалые русские песни. Не знаю, куда я к черту катил и сколько времени мне еще предстояло катить. Но не беда! Пускай бы это длилось хоть весь день и всю ночь и еще день и ночь. Мне все было нипочем. Такой я был отчаянный! Я катил по России, пел русские песни, и сам черт был мне не брат!
Жаль, что это длилось недолго. Скоро мы въехали в небольшое село. Посреди него стояла церковь, у которой не было крестов на куполах. Возле этой церкви машина остановилась, и люди торопливо полезли на все стороны через борта кузова. Спрыгивая наземь, они все устремлялись к церковной паперти. Высокий парень, отпуская мое плечо, сказал мне ободряюще:
— Ничего! Успели, кажется.
Я кивнул и спрыгнул на землю вслед за ним. Я хотел спросить его, далеко ли отсюда до железной дороги. Но он так быстро поднялся по каменным ступеням на паперть, что я не успел его спросить. А когда я тоже поднялся на паперть, его уже заслонили от меня другие парни и девушки. Пока я выбирал, кого бы из них спросить о железной дороге, меня самого спросили сзади:
— Вы стоите?
Да, я стоял. Так я и ответил девушке, которая задала мне этот странный вопрос, будто она и без того не видела, что я не сидел и не лежал. А заодно я сам решил спросить ее кое о чем. Но в это время она толкнула меня в плечо и сказала:
— Так что же вы не подвигаетесь?
Я подвинулся немного вслед за другими. Потом подвинулся еще и еще, пока не очутился перед крохотным оконцем, над которым было написано: «Касса». Люди протягивали туда деньги и получали взамен какие-то билеты. Но это была не железнодорожная касса, и выдавала она не те билеты. Я огляделся по сторонам, раздумывая насчет нужной мне кассы. Но в это время девушка сзади опять нетерпеливо заговорила:
— Ну что же вы? Или у вас трех рублей нет? Так я могу дать. Пожалуйста!
И она принялась рыться в своей сумочке, выискивая для меня три рубля. Но у меня были три рубля. Я достал их из бумажника, не зная, правда, что с ними делать. А женщина из кассы сказала:
— Скорее, скорее давайте!
Я отдал ей три рубля и получил взамен билет. Отойдя с билетом в сторону, я остановился на краю паперти, раздумывая, где бы мне найти для своих вопросов человека, не выказывающего такого нетерпения, как эти, что сгрудились у окошка кассы. Найти его можно было, наверное, в поселке. И я уже готов был спуститься с паперти, чтобы пройтись вдоль улицы, но в это время та же девушка, отойдя от кассы, сказала:
— Куда же вы? Вот сюда надо!
Я вошел в двери, которые она указала, и очутился в большом зале, где были ряды стульев и сцена на месте клироса перед бывшим алтарем. Пожилая женщина у двери заглянула в мой билет и сказала:
— Вот в этом ряду. Шестое от края место.
Я сел в этом ряду на шестое от края место и посмотрел вправо и влево, выискивая подходящего для вопроса человека. Справа от меня сидела девушка. Но она отвернулась к парию, сидевшему с ней рядом, и говорила ему: «Слыхал? Вера-то? Замуж вышла». Тот ответил: «Как не слыхать. Слыхал». Она продолжала: «Выйти-то вышла, и он, ее муженек-то молодой, возьми да и отправься в экспедицию на третий день после свадьбы. Вот и выходи после этого за вас, геологов, замуж». Парень сказал: «А ты не выходи». Она спросила: «А как же нам быть, горемычным?» — «А так и быть». — «Ну уж не-ет! Не выйдет эдак-то».
Слева от меня сидела старая женщина. Но и ее я не успел спросить насчет железной дороги. С ней говорил пожилой мужчина, сидевший рядом с ней по другую сторону. Он спросил: «Не пропускаешь, Авдотья Терентьевна?». Она ответила ему: «Ни-ни! Как можно, Андрей Власьевич! Господь с тобой! Грех такое пропускать. Мне теперь все интересно. Утром обедню в Покровской еле выстояла. Молюсь и думаю: «Как бы в другую церкву не опоздать!». Знаю, что тут сегодня свои самодеятели выступают. Думала, не успею, а успела, вишь. Я теперь все ухватываю: и лекции, и кино, и представления. О, я таковская!». Он сказал: «То-то, я гляжу, ты все ходишь и выспрашиваешь, когда да что». Она ответила: «А как же иначе-то, милый? У кого короста, тот и чешется».
Я оглянулся назад. У меня тоже была короста и тоже чесалась все время, не давая мне покоя. За моей спиной сидели две молодые женщины. Но и они были заняты разговором. Одна сказала: «Чем шить одну кофточку с длинными рукавами, лучше две безрукавки из того же материала». Другая ответила: «Да, но тогда фасон придется нарушить». — «А ты свой фасон придумай». — «То есть как это свой?» — «А так. Взяла да и придумала свой, не заглядывая в журнал». — «Да как же без журнала? В нем же все западные фасоны этого года учтены». — «А ты плюнь на Запад. Ты свой фасон изобрети, да такой, чтобы оттуда пришли к тебе перенимать, а не ты у них. И, глядишь, пойдут по всей земле наши каптюкинские моды».
Я опять стал приглядываться к тем, что сидели справа и слева от меня, готовый вставить слово прямо в их разговор. Но в это время раздался звонок, и свет в церкви погас, а зажегся он позади занавеса на клиросе, переделанном в сцену. Занавес раздвинулся, и все притихли. Тут бы мне и ввернуть свой вопрос, чтобы после этого сразу встать и постараться засветло дойти до железной дороги. Но люди стали внимательно вслушиваться в то, что говорилось на сцене. Пришлось и мне набраться терпения.
А разговор на сцене перед алтарем затянулся. Там дело касалось какой-то пшеницы. Красивая девушка вывела у себя на огороде новый сорт семян и просила председателя колхоза дать ей участок для посева. А он, несмотря на ее красоту, не давал. Но тут ее полюбил молодой парень, и вместе они добились. А потом парень стал председателем. По этому поводу на сцене было устроено веселье с песнями и танцами. Много смеха в зале вызвали короткие припевки, в которых высмеивались какие-то их местные непорядки. И, насколько я понял по выкрикам с мест, эта история с новой пшеницей тоже повторяла какую-то подлинную местную историю. А виновник этой истории сидел, кажется, тут же, в зале. И, должно быть, это ему крикнули насмешливо: «Что, не понравилось? Сухая ложка рот дерет?».
Потом выступили двое акробатов, которых сразу все в зале узнали, называя по именам. Он был некрупный, но широкий и плотный, а она тонкая и гибкая. Как видно, ему было нетрудно поднимать ее над головой и так и этак. Делал он это медленно и плавно. Временами казалось, что она плывет по воздуху вокруг него и над ним — так ладно у них все это было отработано. Под конец она высоко подпрыгнула за его спиной и распласталась над ним горизонтально, сцепив свои пальцы с пальцами его рук, поднятых вверх. В таком положении он и унес ее за кулисы, согласовав быстроту своего бега с ее прыжком так ловко, что ее тело оставалось горизонтально распластанным в воздухе секунды три-четыре, хотя держал он ее только за пальцы. Со стороны казалось, что она стремительно летит в воздухе через всю сцену, не прилагая к тому никаких усилий.
После акробатов на сцену вышел молодой тонкий паренек в шароварах. Его тоже сразу все узнали. Он поставил себе на лоб стакан с водой и, отведя от него руки, изогнулся назад, коснувшись головой пола. Таким же манером он снова выпрямился, не пролив ни капли. Потом он установил тот же стакан с водой внутри обруча и принялся вращать на все лады вокруг себя, опять-таки не пролив ни капли. Напоследок он покидал вверх разными способами кольца, тарелки и горящие факелы.
После него на сцену внесли столик, заставленный всякими склянками и банками. К столику подошла красивая девушка в длинном платье с широким подолом. В руке у нее была маленькая палочка. С помощью этой палочки она заставила наполниться водой пустую банку, а потом зажгла эту воду и, когда вода сгорела, извлекла из банки длинный многоцветный плащ, который тут же и накинула на себя. Затем она приподняла над столиком два металлических цилиндра, показывая нам, что они не имеют дна и пустые внутри. Показав это, она поставила внутрь одного из них бутылку с вином и пояснила, что заставит ее перейти из одного цилиндра в другой силой своей волшебной палочки.
Пока она говорила, на сцепу ввалился здоровенный размалеванный детина с большим красным носом, в просторном клетчатом пиджаке и огромных ботинках. По смеху и выкрикам в зале можно было догадаться, что этот парень тоже всем был знаком. Девушка взмахнула палочкой и приподняла оба цилиндра. Действительно, под первым цилиндром оказалось пусто, а под вторым стояла та самая бутылка с вином. Но стоило девушке отвернуться, как этот размалеванный детина вынул бутылку из-под второго цилиндра и сунул себе за пазуху. Сделав это, он сказал девушке: «А обратно в первый цилиндр можете ее перегнать?». Она ответила: «Могу». Он засмеялся и подмигнул нам, показывая тайком спрятанную за пазухой бутылку: «Видали? Она может! Хо-хо!». Девушка взмахнула палочкой и приподняла по очереди оба цилиндра. Под вторым оказалось пусто, как и следовало ожидать, Но под первым опять стояла бутылка.
Размалеванный детина долго таращил глаза на эту бутылку, а потом взял да и спрятал ее тоже, незаметно от девушки, в карман своего просторного пиджака. Спрятав, он сказал: «А еще раз обратно можете?» — «Могу». — «Хо-хо! Она может!» И размалеванный детина, распахнув пиджак, показал нам тайком обе спрятанные в карманах бутылки. Девушка взмахнула палочкой и приподняла оба цилиндра. Под первым оказалось пусто, а под вторым стояла бутылка с вином.
Когда аплодисменты прекратились и размалеванный детина опять пришел в себя, девушка показала еще несколько фокусов. Как ни старался размалеванный детина ей помешать, ему это опять не удалось. Заканчивая свои фокусы, девушка съела кусок ваты и взамен ее извлекла изо рта две длинные красные ленты, шириной в ладонь. Размалеванный детина тоже съел кусок ваты, но вместо лент у него изо рта полезла толстая веревка, за которую его кто-то тут же потянул со сцены за кулисы. А девушка сбросила с себя плащ и платье и, оставшись в купальном костюме, потанцевала немного со своими длинными лентами, заставляя их извиваться вокруг себя и на полу наподобие змей. На этом закончилось ее выступление.
Следующий номер назывался «Американские нравы». Это была не очень длинная сценка между американским офицером и солдатом. Предполагалось, что их полк стоит в какой-то чужой восточной стране. Офицер сказал солдату, который сидел в сторонке на своем чемодане: «Нас обвиняют в спекуляции. А мы не спекулируем. Мы занимаемся благотворительностью. Мы бедным помогаем, понял?». Говоря это, он очень выразительно подмигивал солдату, и подмигивал до тех пор, пока солдат не принялся подмигивать ему в ответ еще более выразительно. Офицер сказал: «Мы помогаем бедным туземцам. Мы совершаем благодеяние. Мы раздаем им свои товары, привезенные из Америки. Мы их не продаем, а раздаем даром, понял?». Солдат ответил: «Да, сэр. Совершенно верно, сэр». Офицер достал из своего чемодана объемистый пакет и сказал: «Так вот, возьми эти нейлоновые чулки и раздай бедным. Понял? Так и запомни на всякий случай, если кто привяжется: ты вышел на базар, чтобы раздать их бедным. Даром раздать, понял? Помочь бедному туземному населению, понял? Иди раздай, понял? Но… хе-хе-хе! Понял?». И офицер пошевелил пальцами, как бы считая бумажные деньги. Солдат в ответ ему тоже пошевелил пальцами, как бы считая бумажные деньги, и тоже произнес: «Хе-хе-хе!».
Когда солдат вышел, офицер присел на стул и, роясь в своем чемодане, заговорил о великой миссии Америки, которую сама история призвала возглавить все остальные народы Земли, освободить их от свободы, то есть, пардон, от опасности коммунизма, и спасти всех от богатства, то есть, пардон, от нищеты.
Пока он так рассуждал, перебирая в чемодане свое добро, вернулся солдат. Офицер удивился: «Уже успел?» — «Да, сэр, успел». Сказав это, солдат похлопал незаметно для офицера рукой по карману, куда он успел запихнуть пакет с чулками. Офицер подмигнул ему и спросил: «Совершил благодеяние?» — «Да, сэр, совершил». И солдат подмигнул ему в ответ. «Роздал бедным? Хе-хе-хе!» — «Да, сэр, роздал бедным. Хе-хе-хе!» — «Даром роздал? Хе-хе-хе!» — Сказав это, офицер сделал знак пальцами, как бы считая бумажные деньги. «Да, сэр, даром роздал. Хе-хе-хе!» И солдат сделал тот же знак пальцами. «Молодец! Давай сюда!» Солдат не понял: «Что давай сюда?». Офицер повторил движение пальцами и протянул руку. Солдат пожал плечами. Тогда офицер сказал напрямик: «Деньги давай!». А солдат ему в ответ: «Какие деньги? Я же даром роздал, как вы приказали, сэр». — «Ах ты мерзавец! Ах ты дурак! Вот идиота бог произвел на свет!» Офицер кричал на него, тряся кулаками. А тот стоял перед ним навытяжку, держа правую ладонь возле уха. Держал он ее пальцами вверх, прикасаясь к виску только одним большим пальцем. И когда офицер отворачивался, он кивал четырьмя свободными пальцами. Такое кивание пальцами над ухом имеет здесь у них примерно такое значение: «Эх ты, осел лопоухий! Шляпа ты!». И стоило офицеру отвернуться к своему чемодану, как солдат переложил из кармана чулки в свои чемодан, показав нам знаками, что уж он-то за них свое получит. Люди в зале смеялись. И я тоже смеялся, совсем забыв про железную дорогу.
Офицер достал из чемодана помятый мундир и сказал солдату: «Иди, загони это на барахолке, но только смотри, за плату, понял? За деньги! Тебе, дураку, все объяснять надо. Не даром отдавай, а за деньги, понял? Такую вещь у тебя с руками оторвут. Но ты смотри не продешеви, понял? Побольше цену запроси. И всю плату мне принесешь, понял?». Солдат ответил: «Да, сэр, понял» и вышел с мундиром.
После его ухода офицер опять принялся рассуждать о великой и трудной миссии Америки, призванной самой историей распространять культуру и цивилизацию среди остальных народов мира. Он говорил это, перевирая опять и путая разные слова и понятия. Где надо было сказать «рабство», он говорил «свобода». А где надо было сказать «грабеж», он говорил «благодеяние». Сбиваясь так и путаясь в непривычных ему понятиях, он одновременно рассматривал на свет разное тряпье из своего чемодана, которое собирался продать. Люди в зале громко смеялись.
А когда вернулся солдат, смех загрохотал с новой силой, потому что мундир на нем был изорван и запачкан, а левая щека посинела и раздулась до того, что не стало видно глаза. Офицер спросил, не оборачиваясь к нему: «Ну как, сплавил?». Солдат ответил: «Да, сэр, сплавил». — «За плату?» — «Да, сэр, за плату». Сказав это, солдат потрогал распухшую щеку. «Кому сплавил? Каков он был с виду? Состоятельный? Приличный?» — «Да, приличный, вполне». И солдат показал руками что-то очень высокое и широкое. «Понравилось ему?» — «Да, сэр, надо думать, понравилось, потому что он так потянул…» — «Я же говорил тебе, что такую вещь с руками оторвут». — «Нет, руки-то не совсем…» И солдат потрогал свои руки, как бы проверяя, крепко ли они еще держатся в плечах… Офицер спросил: «Сколько же он тебе дал за него?» — «Да немало». И солдат опять притронулся к распухшей щеке. Офицер сказал: «Давай сюда!». Солдат удивился: «Что давай?» — «Все, что получил, давай!» — «Все, что получил?» Солдат замялся, трогая щеку. А офицер сказал, уже теряя терпение: «Ну, что же ты?» — «Да неудобно как-то, мистер лейтенант». — «Чего там неудобно! Давай сюда, да полностью, смотри!» — «Полностью?» Солдат опять замялся, трогая щеку. Офицер сердито вскочил и повернулся к нему со словами: «Ну, чего же ты ждешь?». Тогда солдат сказал со вздохом: «Что ж, получайте!». И так хрястнул офицера кулаком по скуле, что тот сунулся в угол сцены, задрав кверху ноги.
Я так над этим смеялся, выходя со всеми на улицу, что опять забыл спросить о железной дороге. А когда вспомнил о ней, то рядом уже никого не оказалось. Люди успели уйти в обе стороны по улице поселка. Я прислушался в темноте, стараясь определить по голосам, кто и как далеко от меня удалился. Те, что отправились из поселка на север, были как будто ближе, и я припустился вслед за ними.
Но я не догнал их. Я вдруг раздумал их догонять. Что я стал бы им говорить, если бы догнал? Задал бы им вопрос: «Как пройти к железной дороге?». А вдруг среди них был тот самый Иван? Едва уловив мой выговор, он сказал бы мне: «А ты кто? Ты финн? Тот самый, который воевал и стрелял? А-а, так вот ты мне где попался наконец, как шило в мешок! Сейчас ты у меня узнаешь, у кого короста чешется! Эй, Петька, Митька! Вы были у него в лагерях, где он загонял вас в могилу голодом! Покажем ему теперь за это всю подноготную, чтобы знал, как сухая ложка рот дерет!».
Нет, я не стал их догонять. Зачем? Я и без того знал, что в той стороне близко нет железной дороги. Что мне было там делать? Зато она могла оказаться очень близко к югу от поселка. Почему бы нет?
Я оглянулся на огни поселка, от которого успел отойти довольно далеко. Но и туда меня не особенно тянуло в такое позднее время. К тому же от поселка следом за мной шла еще одна веселая компания. Судя по голосам, которые становились все громче, она намеревалась меня очень скоро догнать. А догнать меня ей надо было, конечно, только для одной определенной цели…
Я свернул с дороги и, перейдя канаву, пригнулся, оглядывая выкошенный луг. В полусотне метров от меня виднелась копна сена. Ее закругленный верх отметился темным пятном на фоне нижней кромки неба, еще сохранившей слабый отблеск дня. А за этой копной виднелись в разных местах верхушки других копен.
Я подобрался к первой копне и притаился за ней, пропуская мимо себя звучавшие на дороге голоса. Потом вырыл в ней сбоку углубление и забрался туда, стараясь не помять костюм. Сено было еще теплое от дневного солнца, и нельзя сказать, чтобы мне было неприятно вытянуться в этой сухой, душистой постели.
Надо мной раскинулось небо со всеми своими звездами. И среди звезд я попробовал разыскать глаза моей женщины, чтобы поговорить с ней немного, но не нашел их среди звезд. Ее глаза не были похожи на холодные, бесцветные звезды. Я помнил ее глаза. В них был земной, горячий темный цвет, и вся она была полна тепла и тяжести земли. Не в небе надо было ее искать. Я отвернулся от неба и закрыл глаза.
Так закончился пятый день моего отпуска. И, перед тем как заснуть, я вспомнил, что, кажется, не успел подумать еще о чем-то. О чем же это не успел я подумать? Ах, да! О русских людях советовал мне Иван Петрович время от времени что-то такое соображать, об их пригодности к дружбе с финскими людьми. Но какая могла быть с ними дружба, если мне, финскому человеку, пришлось прятаться от них в копне сена, чтобы не попасть к ним на расправу?
Да, Юсси, так обстояло тут дело. Ты очень верно все это предвидел. В копне сена я у них ночевал, хотя рядом было большое русское село, полное крупных, просторных домов. Такова цена их дружбе. А как я просился к ним на ночлег, если бы ты знал! Я прошел все село взад и вперед. Я стучался в каждый дом. Я падал перед ними на колени, умоляя пустить меня переночевать хотя бы под крыльцо. Нет, никто не пустил. Заставили уйти в копну. Вот какой это жестокий народ, если уж говорить напрямик чистую правду, как она есть.
И в дополнение ко всему я еще мог напороться на того Ивана, которого я ох как страшился, если предположить, конечно, что я пока еще с ним не встречался. Он был теперь где-то совсем близко от меня на этот раз. Склонясь над своими бесконечными дорогами, он зорко просматривал их, выискивая меня. Он протягивал вперед свои железные руки, шаря ими по лесам и полям, по придорожным кустам и канавам. Он прощупывал ими копны на лугу, подбираясь все ближе к моей копне. Где-то высоко над собой, под самыми небесами, я уже слышал его мерное дыхание, способное пригибать к земле деревья и двигать по небу тучи. И не было мне от него спасения на этот раз.
Только огромный Юсси Мурто сумел бы, может быть, как-то за меня вступиться. Но он был далеко, на своем родном севере. И, стоя там среди озер и скал, поросших соснами, он все думал о чем-то, хмуро глядя на Ивана. О чем он так упорно думал? И не собирался ли он опять что-то сказать Ивану? А тот, видя такое к себе внимание, улыбался приветливо, показывая этим, что готов к разговору. И действительно, твердо сжатые губы молодого Мурто приоткрылись наконец немного, и он промолвил угрюмо: «Других всегда легче судить. Но полезно иногда и в себя всмотреться внимательнее». А Иван в ответ на это тряхнул головой, задев колыхнувшимися на ветру мягкими прядями русых волос ближние звезды, и сказал беззаботно: «Ништо! Разберемся и в своих делах, приспеет время!». Еще немного помолчал Юсси Мурто, продолжая свои раздумья, и потом сказал: «Закрыть церковь легко — была бы сила. Но чем заменить веру? Опустевшее место в душе человека обязательно надо заполнить чем-то равноценным, иначе он перестанет быть человеком. Но где оно у вас, это равноценное?». И снова беззаботность просквозила в ответе Ивана: «Жизнь заполнит эту пустоту. Что может быть полноценнее жизни? Она ворвалась в духоту церкви, и она же соорудит новое здание, где будет больше солнца и свежего ветра». И опять умолк угрюмый Мурто, придумывая новые доводы и новые вопросы. Но я не дождался его доводов и скоро заснул.
16
Проснулся я, когда солнце уже выкатилось на небосклон. Осторожно выглянув из копны, я встал, подправил ногой сено и быстро вышел к дороге. Пока еще никого не было видно вокруг, только по другую сторону дороги пастух гнал вдоль опушки леса стадо коров. Стоя в канаве, я снял пиджак, стряхнул с него сухие былинки и почистил брюки. Они измялись немного, и я разгладил их, сколько мог, ладонью, смачивая ее в росе, покрывшей за ночь траву.
Посмотревшись затем в карманное зеркальце, я удостоверился, что бриться мне в этот день было не обязательно. Однако лицо мое изрядно загорело, и волосы от этого как бы еще больше посветлели. Я зачесал их назад, затянул галстук и направился в село, где накануне так весело смеялся.
Но на этот раз у меня веселья не получилось. Хотелось есть. Уже сутки прошли с тех пор, как я по-настоящему плотно позавтракал у Тимофея Григорьевича. А днем у лесника мало к чему успел притронуться. Но как ни старался я, идя вдоль села, отыскать глазами вывеску продовольственной лавки, ее не оказалось. Я прошел все село до самого конца, но только напрасно привлекал внимание встречных людей тем, что глазел направо и налево, всматриваясь в каждый дом. В одно из окон даже высунулась чья-то гладко выбритая, загорелая голова, глядя мне вслед. Однако ничто не помогло мне найти лавку.
Выйдя за пределы села, я призадумался. Что ждет меня там, впереди, если я пойду по этой дороге дальше на юг? Ведь второе село вряд ли находится отсюда близко. Сперва мне попадутся какие-то мелкие деревни. А в мелких деревнях у них нет продовольственных лавок. Это я уже успел заприметить. Хорошо, если скоро попадется железная дорога. А если она не скоро попадется? Тогда как?
Подумав немного, я двинулся обратно по улице села, разглядывая дома еще внимательнее. Но, проходя мимо того окна, откуда выглядывал бритоголовый человек, я свернул на другую сторону улицы, чтобы не дать ему удобного повода заговорить со мной. И опять я прошел мимо церкви, где накануне смеялся, и опять вышел к началу села, но продовольственной лавки так и не увидел.
Может быть, она ютилась где-нибудь в боковом переулке? Но в котором? Я побрел вдоль села третий раз, всматриваясь в боковые переулки. При этом я пытался быстрее проскочить мимо того окна, откуда выглядывал бритоголовый, но не успел. Он крикнул мне через улицу:
— Вы что-то ищете, товарищ?
Я еще прибавил шагу и сказал, не оглядываясь:
— Да…
Но он повторил вопрос:
— А что ищете?
Пришлось и на этот вопрос ответить:
— Лавку.
— Какую лавку?
— Продовольственную.
— Она за клубом помещается, но откроется только через час.
— А-а!..
Тут я поневоле остановился, выискивая глазами клуб. Но, когда я догадался, что это и есть та самая церковь, он задал новый вопрос:
— А вам зачем лавка понадобилась?
Я ответил:
— Так… купить кое-что.
— Товары какие или продукты?
— Продукты.
— Перекусить, что ль, собрались?
— Перекусить…
Сказав это, я готов был тронуться дальше, даже не возвращаясь к церкви, но он крикнул:
— А вы постойте! Идите к нам! У нас и перекусите. Мы как раз за стол садимся.
Вот она, опасность, откуда ко мне подкрадывалась! Я ответил:
— Нет, спасибо. Я лучше там… в другой деревне.
— А там нет лавки.
Я призадумался. То есть не то чтобы призадумался, а просто так постоял на месте, не зная, как от него уйти. А он тем временем отошел от окна и почти сразу же появился у калитки. Распахнув ее, он сказал:
— Милости просим. Завтрак на столе. Идемте, пока не остыл.
Что мне оставалось делать? Я посмотрел вправо и влево вдоль улицы села. Спасения ждать не приходилось ниоткуда. Со всех сторон меня окружала их страшная Россия, полная моих смертельных врагов. Передо мной была раскрыта калитка, а за ней стоял… Кто за ней стоял? Известно кто. За ней стоял тот самый Иван. Я сразу его узнал, несмотря на обритую голову. Это были его плечи, его рост и его лицо, ставшее крупным и мясистым от времени. И можно было заранее догадаться, какую судьбу он уготовил мне в этой ловушке.
Но выхода не было. Я сделал приветливое лицо и вошел в калитку. У крыльца он показал мне рукомойник, мыло и полотенце. Я вымыл руки и поднялся на крыльцо. Он поднялся вслед за мной. Войдя внутрь дома, я сказал: «Здравствуйте». Старая полная женщина и маленькая светловолосая девочка ответили мне тем же. Иван показал мне место за столом, и я сел, оказавшись в углу под иконами. Иван сел рядом со мной, а девочка — напротив меня. Она все время с любопытством таращила на меня свои большие серые глазенки. Я подмигнул ей, и она улыбнулась такой славной детской улыбкой. Да, могла бы и у меня тоже быть сейчас такая же светловолосая девочка с такими же ясными глазенками, если бы не вторгались в мою жизнь всякие злые силы…
Седоволосая хозяйка поставила перед каждым из нас тарелку с горячей гречневой кашей и кружки с молоком. Я выждал, когда она сама уселась за стол, и тоже взялся за ложку. В каше была сделана ямка, наполненная растопленным маслом. Захватывая кашу ложкой, я макал ее в это масло и отправлял в рот, запивая молоком. Что я мог тут поделать? Русский человек выполнял то, к чему с давних пор определила его судьба, и не мне было идти этому наперекор.
По той же причине не мог я отказаться от горячих овсяных оладий, поставленных посреди стола в большой глиняной чашке. Их полагалось окунать в льняное масло, налитое для каждого в отдельное блюдце. Подсмотрев, как действовали другие, я тоже принялся втыкать вилку в оладью, обмакивая ее в душистое масло, откусывать от нее сколько позволял рот, а потом снова обмакивать и откусывать, пока она не приканчивалась.
Не помню, сколько времени содействовал я таким образом выполнению русскими их извечного назначения. Оладьи я не считал. Не я их добывал, и платить за них мне тоже как будто не предстояло. С таким же старанием посодействовал я велению судьбы относительно русских, когда дело дошло до стакана чая. Но зато после чая до моего уха долетели слова Ивана, и в них был вопрос:
— Далеко ли путь держите?
Вот оно когда началось! Больше я уже не подмигивал девочке, как она ни ждала этого, лукаво поворачивая свою кудрявую головку то туда, то сюда и кося на меня большими глазенками. Мне уже было не до подмигивания, ибо в воздухе запахло кровью. Моей кровью. Но я не собирался погибать без драки и для начала ответил:
— До станции.
И сразу же последовал новый вопрос:
— До какой станции?
Я подумал немного. Действительно, до какой же станции? Тут уж вывернуться было трудно, и я сказал:
— А мне все равно, какая станция. Мне в Ленинград нужно.
— В Ленинград? А зачем вам в Ленинград?
— Я там живу.
— Там живете? А сюда по какому случаю попали?
— Так просто… Я в колхозе был. У Тимофея Григорьевича.
— Знаю такого. В «Новом пути» председательствует. Он что же, приятель ваш?
— Да… Немного…
— На одном фронте воевали или как?
— Да… пожалуй… Можно и так сказать…
— Это хорошо. Фронтовая дружба — крепкая дружба.
Я покивал головой и, пресекая новые вопросы с его стороны, попробовал отвести разговор на другое. Я сказал:
— Он предлагал мне остаться еще на несколько дней, чтобы показать свое хозяйство. Поросятники у него.
— Да, да, свинофермы. Этим он знаменит.
— Но я не остался. Я только побывал еще у лесника — и все.
— У какого лесника?
— У Ефима Родионовича. Не помню, как место называется. Там еще такие Устюженские бугры есть.
— А-а! В Жмаринском лесничестве! Знаю. Бывал. Небось похвастал он перед вами своими новыми насаждениями?
— Да, немножко. Возле дома мы смотрели.
— Возле дома — это не то. Это у него школьники питомник развернули. Они и наших вон расшевелили — четвероклассниц. Тоже целое хозяйство возле своей школы завели. А то есть у него там плановая посадка — питомники государственного значения. Вот это да! Это с размахом затеяно!
— Да, помню. Мы издали посмотрели. Да, это с размахом. — Я не знал, что еще сказать, чтобы не допустить с его стороны неугодного мне вопроса. А он уже раскрыл для вопроса рот. И тогда я скорее добавил первое, что пришло мне в голову: — У него дочь в университет поступила, так мы вспрыснули немножко.
Он так и не успел задать вопрос и вместо этого сказал:
— Вот как! Ну-ну… Это хорошо. Исполнилась, значит, его заветная мечта. Мама, ты Ефимку Степанюка из Прилесья помнишь?
Старая женщина подумала и спросила:
— Это не тот ли, что сына-студента на войне потерял?
— Он самый.
— Ну как не помнить? Помню. Горе-то людское разве когда забудется?
— В университет он, видишь ли, дочурку свою устроил. В какой университет-то?
Этот вопрос он задал мне. И я с готовностью ему разъяснил:
— В Ленинградский. Это у нас, в Ленинграде. У нас не только университет, но и разные институты есть. Много институтов. К нам со всех концов России учиться идут. Мы всех принимаем. Наш город большой.
Тут я заметил, что он всматривается в меня все внимательнее и что в его серо-зеленых спокойных глазах снова затаился вопрос. Но я не хотел вопроса. На что мне его вопрос? И, стараясь всеми силами предотвратить его, я встал из-за стола, посмотрел на свои часы и, как бы вспомнив что-то важное, заговорил торопливо:
— Спасибо за угощение. Очень вам признателен, простите за взыскательность. Если приедете в Ленинград, заходите. Буду рад отплатить вам тем же. Могу даже адрес дать.
Вот как ловко сумел я отвратить от себя неугодный мне вопрос! О, я знал, как с ними при случае надо поступать! И пока он, покоренный моей тонкой западной вежливостью, приумолк, доставая из кармана пиджака «вечное перо» и блокнот, чтобы записать мой адрес, я придумывал новые отвлекающие слова. Но на этот раз он первый успел раскрыть рот и спросил:
— Вы там давно живете?
Вопрос был не очень страшный, и я ответил даже с некоторой гордостью:
— Давно. Скоро год.
Он закивал головой.
— О-о! И впрямь давно! Старожил, одним словом. Н-да… А приехали туда из каких мест?
Вот и все. Можно было не смотреть больше на часы и не торопиться. Можно было не придумывать новых речей. Можно было дать мозгам спокойно отдохнуть от всяких придумываний. К черту полетела вся моя хитрость. Высунулось все-таки шило из мешка. Что мне оставалось делать? Я вздохнул и сказал:
— Из Финляндии.
— Из Финляндии? Ах, вот оно что! То-то, я смотрю, выговор вроде бы не тот, да и лицо такое…
Он помолчал с минуту, побарабанив пальцами о край стола. Все они почему-то барабанят в таких случаях о стол пальцами. Лицо его постепенно утеряло приветливость. Губы сжались, и брови сдвинулись. Еще бы! Ведь он в это время вспоминал тот страшный летний день, когда я повел на его землю отряд гитлеровских молодцов и потом кинул ему в спину нож. Вспомнив это, он снова придвинулся поближе к столу и произнес то, что мне рано или поздно суждено было от него услышать:
— А документики при вас есть какие-нибудь?
— Есть.
Я достал из бумажника паспорт. Принимая его от меня, он проворчал с укоризной:
— А говорите, с Тимофеем Григорьевичем на одном фронте воевали.
Я ответил:
— Да, на одном. Только я с той стороны, а он с этой.
— А-а! Ну разве что так.
Просмотрев паспорт, он покосился на мой бумажник. Я понял его мысли и протянул ему свой пропуск, а за пропуском — справку об отпуске и, наконец, бумажку, помеченную штампом их Министерства внутренних дел. И опять эта бумажка оказалась главной среди других. Прочитав ее, он кивнул с довольным видом и вернул мне все документы. Но какие-то сомнения у него еще оставались, и он с укором напомнил мне:
— А говорите, что вы друзья с Тимофеем Григорьевичем.
Я ответил:
— Да. Мы выпили с ним за дружбу.
Он опять кивнул и, подумав немного, сказал:
— Правильный он мужик, этот Тимоха. Серьезный мужик. Что же вы у него надольше-то не остались?
Ответить на это я мог только одно: мне надо скорее на станцию, на станцию, на станцию. Но я не ответил так. Я знал, как надо у них отвечать на подобные вопросы. Я сказал:
— А мне везде интересно, простите в заверении. Я хочу побольше увидеть, чтобы рассказать потом своим финнам, как живут русские люди.
Так я ему ответил, не забыв попутно воздействовать на него словом вежливости. И это сразу помогло. Лицо его утеряло суровость. Брови раздвинулись, и губы перестали сжиматься. Одобрительно глядя на меня своими серо-зелеными глазами, он кивнул и даже хлопнул по столу ладонью:
— Вот это хорошая затея! Рассказать им действительно надо, чтобы развеять небылицы, которые там про нас распространяют.
— Да, такая у меня цель.
О, я умел с ними разговаривать! Не знаю только, почему им так хотелось, чтобы о них везде рассказывали всю подноготную. Но я не собирался отказывать им в этом странном желании. Что ж, могу и рассказать. А он продолжал:
— Очень правильное дело вы задумали, а главное — для развития нашей дружбы с Финляндией полезное. Пожалуйста, ходите, присматривайтесь, вникайте. А мы со своей стороны тоже с радостью вам поможем. Давайте-ка вот оставайтесь у нас на недельку, а? Поживете, понаблюдаете и с людьми познакомитесь. А там и дальше махнете.
Вот как дело повернулось. Я даже не сразу придумал, что ответить на такое заманчивое предложение. Только его мне и недоставало для полноты картины. Ах, как я мечтал об этом! С каким замиранием сердца томился и терзался вопросом: оставят они меня на недельку в селе Каптюкине или нет? И вот они оставляли. Исполнилась мечта моей жизни. Но я не торопился давать согласие. Я только спросил:
— А куда дальше?
Он развел руками:
— А куда вам вздумается. Можете в Покровский сельсовет. У них там тоже уйма всяких интересных преобразований.
Я спросил:
— Это где церковь есть, в которой еще молятся?
— Да. Там она еще действует.
— А почему не закрыли ее, как здесь?
Меня, конечно, мало интересовало, почему они там не закрыли, а здесь закрыли. Но чем-то надо было занять его рот, чтобы не дать ему произнести нежелательные для меня слова. И вот я отвлекал его вопросами.
Он ответил:
— Зачем закрывать? У них там еще человек пятнадцать — двадцать набирается к обедне из окрестных деревень.
— А закрыть — и не будут набираться.
— Зачем же? Пусть молятся на здоровье. Это в основном старушки да старики. Зачем их обижать? Еще, чего доброго, мученическим духом проникнутся, вроде того, что было у христиан в Древнем Риме. Бог с ними! А молодежь у нас духовно здоровая и больше к художественной самодеятельности тяготеет, к технике всякой и к спорту. В той церкви священник напрасно на молодых рассчитывал. Не вышло! И наступит время, когда он будет вынужден свернуть свое хозяйство. Придет в один прекрасный день в церковь, побродит по алтарю, поскучает, никого не дождется, повесит на двери замок и пойдет работать счетоводом в колхоз.
— Неужели так будет?
— Обязательно. Ведь корни-то у религии постепенно отсыхают. Пока что их еще питает капиталистический строй, который порождает с одной стороны непомерное богатство, а с другой — нищету. Там религия нужна богатому для оправдания его существования. Вот он и вскармливает ее, чтобы она навязывала бедняку веру в лучшую жизнь за гробом. А нам не надо загробной жизни. Мы и здесь, на земле, неплохо устраиваемся. И уж если даже наше поколение не нуждалось в боге, то они вот и подавно не будут знать, к чему его приспособить. — Тут он кивнул на свою девочку. — Она вон с подругами школьными мечтает о том, как бы в нашем селе все улицы озеленить и колхозный сад расширить. А плоды своих трудов они в этой жизни собираются вкусить, а не в какой-то другой, выдуманной. Попробуйте этому поколению заново навязать веру в бога. Ничего не выйдет. Другое дело — ее бабушка. Она с этими иконками уже неразделима. Ну и пусть молится. Кстати, и за меня, грешного, словечко замолвит перед всевышним.
Он встал и, кажется, кончил говорить о боге. Но это не означало, что совсем умолк. Он мог опять вспомнить наш прежний разговор и кое-что из него повторить. А я не хотел вспоминать наш прежний разговор. То есть нет, почему же, я хотел вспомнить, имея в виду советы Ивана Петровича. Отчего не вспомнить? Разговор был очень интересный и нужный для дела мира, и все такое… Но я забыл его. Экая досада! Я так хотел опять вернуться к прежнему разговору и не мог вспомнить, о чем он был. Ай-ай-ай, как нехорошо получилось! Но зато он помнил. Это было видно по его лицу. И он уже раскрыл рот, чтобы возобновить его, но в это время я спросил:
— А жена у вас молится?
Пришлось ему отказаться от возобновления прежнего разговора и дать мне ответ:
— Нет, не молится. Хватает ей дел и без этого.
— Каких дел?
— Да разных. Мало ли их в колхозном хозяйстве. Сейчас она с сынишкой на сеноуборке. Потом повторная прополка им предстоит, пропашка, силосование. А там, глядишь, и жатва подоспеет, и сев озимых. Лен тоже свое потребует. Скучать им о боге не приходится.
— А вам?
— Да и мне тоже, хотя я в колхозе и не состою.
Вот как у них, оказывается, бывает. Жена и сынишка состоят в колхозе, а муж не состоит. Я спросил без промедления:
— А где вы состоите?
— В сельсовете председателем работаю.
— А сельсовет — это разве не колхоз?
— Нет. Это низовой орган Советской власти на деревне. А колхоз — это сельскохозяйственная артель со своим председателем.
Вот как, значит, устроена у них в деревне власть. Она в руках председателя сельского Совета. А над сельскими Советами, как я уже раньше выяснил, у них стоят районные и областные Советы. И при них есть выборные депутаты, которые ездят постоянно туда и сюда, ибо им до всего есть дело. Но меня, конечно, из всех этих Советов больше интересовали областные, вернее — один из областных Советов, а еще вернее — один из депутатов этого областного Совета. И, думая об этом депутате, я все ближе подвигался к двери, готовый в то же время снова задать вопрос, как только губы председателя приоткроются. Но пока еще он медлил их приоткрывать. И правильно делал. Зачем было затруднять их по пустякам, если они уже успели так удобно сложиться в привычную для русского добрую складку?
Вот он взглянул на свои часы и встал, взяв с подоконника портфель, но губы все еще не раскрыл, позволив мне таким образом втихомолку сделать еще два маленьких шага к двери. Не раскрывая губ, он подошел к матери, обнял ее свободной рукой за плечи, прикоснулся мимоходом щекой к ее седой голове и заторопился к выходу. И даже дверь он толкнул, не раскрывая губ. И только выйдя в сени, вдруг неожиданно обернулся ко мне и сказал раньше, чем я успел раскрыть свой собственный рот:
— Ну что ж, пойдемте, подумаем, как выгоднее распределить ваше время, раз уж вы решили у нас остаться.
Как остаться? Кто сказал — остаться? Я вышел вслед за ним в сени, удивленно глядя на его широкую спину, уже заслонившую от меня выход на крыльцо. Разве я сказал ему, что останусь? Я же не сказал. Но беда в том, что я, кажется, и не возразил на его предложение. Вот в чем был мой промах. И, пользуясь тем, что я на какой-то момент оказался в сенях один, кулак мой несколько раз прикоснулся к моему бедному черепу. Председатель вдруг обернулся и спросил, заглядывая с крыльца в сени:
— Упало что-то?
Из комнаты в сени выглянули его мать и дочь. Мать сказала:
— Гулкое что-то упало, кадушка вроде…
И девочка подтвердила, оглядывая пол:
— Верно, бабушка, гулкое, И как будто даже поскакало, а потом покатилось.
Я тоже поискал вокруг себя глазами. Но что поскакало? Что покатилось? Жизнь моя поскакала галопом по их непонятной России. Планы и надежды мои к черту покатились.
17
Председатель привел меня по главной улице к себе в контору, где уже сидели люди, дожидаясь его по всяким делам. С нами вместе туда прибежала его девочка. Он сказал ей:
— Сбегай-ка, узнай, дома ли Нил Прохорыч. И если дома, скажи, пусть зайдет в контору: мол, дело есть. — И, оборотясь ко мне, он пояснил: — Сюрпризик для вас у меня будет.
Я промолчал. Если то, что со мной происходило у них до сих пор, не считалось пока еще сюрпризом, то как же выглядел сюрприз? Скоро я узнал, как он выглядел. В контору вошел, не снимая кепки, рослый пожилой человек с белыми усами и бровями на широком коричневом лице. Председатель сказал ему:
— Вот познакомься, Нил Прохорыч. Земляк твой. Из Финляндии к нам приехал.
Пожилой человек сказал: «Очень приятно», — и сел в сторонке, не глядя на меня. Произнес он эти два слова таким тоном, как если бы сказал: «Э-э, черт его принес!». И по этому тону я сразу догадался, кто он такой. Что из того, что его не звали Иваном? Зато он был одним из тех, кто отведал наших лагерей. И когда он уселся на скамью у стены, вынув из кармана серых штанов кисет с махоркой, мысли его заработали, конечно, только в одном направлении: как бы поудобнее пристукнуть меня. Обдумывая это, он свернул из куска газеты кулек, в который вместилось бы граммов двести крупы, вытянул его в длинную тоненькую трубочку, надломил ее посредине и наполнил махоркой. Затянувшись и пустив первый удушливый клуб дыма к потолку комнаты, и без того уже наполненной дымом, он спросил председателя:
— А за какой надобностью?
Председатель пояснил:
— С жизнью нашей познакомиться для установления дружеских контактов.
— Давно пора.
Сказав это, пожилой человек принялся выпускать изо рта новые клубы дыма. Вступать со мной в разговор он, как видно, не собирался и смотрел своими сердитыми светлыми глазами на кого угодно, только не на меня. Председатель сказал:
— Что же вы приумолкли? Потолковали бы между собой да выяснили, кто откуда. Может, соседями были?
Председатель уже знал из моего паспорта, откуда я родом, но, должно быть, успел забыть. Пришлось напомнить ему еще раз:
— Я из Кивилааксо. Это середина Финляндии.
Он кивнул. И другие тоже проявили к моим словам интерес. А было их человек пять, не считая трех девочек, стоявших у открытого окна с дочуркой председателя. И все пятеро курили, даже два совсем молодых парня.
Пожилой человек сказал, глядя в их сторону:
— А я с Карельского перешейка.
Председатель, перебиравший на столе бумаги, живо к нему обернулся:
— Вот ты бы и рассказал, Нил Прохорыч, как там жилось, на перешейке.
Тот проворчал:
— Как жилось? Обыкновенно жилось. Что помнил, уже давно рассказал. А теперь и язык забыл. Помню вот «пуукко» — ножик по-ихнему. Это которым в бок шпыняют, когда дерутся.
— А еще что помнишь?
— А еще: «Тахотко селькя?». Это вроде как бы: «Хочешь, поколочу?».
— И все?
— Нет, помню еще: «Перкеле, саатана!». Это ругательство у них такое. Поначалу, стало быть, «тахотко селькя», потом «перкеле», а уж потом это самое «пуукко» в бок.
— А тебе что, разве случалось отведать этой «пуукки»?
— Было дело. Жили там по соседству два паренька, Суло и Ааро. Так, ничего ребята. Игрывали вместе. Обручи по дороге гоняли. На санях, на лыжах катались. Вместе, можно сказать, выросли, только в школы разные ходили. А потом, гляжу, завелись у них ножички, и дружба не та стала. Чуть что заспорим — они за ножи! Без ножей уж никуда. Привыкли к ним. Помню, как-то Суло потерял в лесу свои ножик. Вот горя-то было! А я в ту пору уже работал: почту носил из Кивенапы в богатые дома. Договорился с матерью и купил ему в подарок новый нож. Обрадовался, принял. А потом как-то встретил меня и говорит: «Не думай, что спасибо за нож скажу. Ты сам же украл его у меня, а потом испугался и вернул. Все вы, рюсси, воры». «Рюсси» — это у них такое ругательное слово для нас, русских, есть. А то еще подловили они меня вдвоем ночью. В семнадцатом году это было, в конце лета. Мы уже к тому времени парнями стали. Вижу — выпивши оба. Суло говорит: «Конец тебе пришел, рюсся! Молись своему богу!» — а сам в грудь мне ножом норовит. Ну, силенка в то время у меня уже была. Дал я одному, другому, вырвался от них, но все же по руке они меня задели, вот здесь. Неделю с повязкой ходил. И вдруг — что за диво! Гляжу, заявляются оба прямо ко мне домой. Оказывается, извиняться пришли. Тронуло их, что я ленсману на них не пожаловался. Ну, извинились, разошлись, а осенью встречают меня опять вечерком и говорят: «Ну, рюсся, уходи-ка лучше совсем из наших мест, а то плохо тебе будет!». И опять ножами грозят. Я внимания не обратил, но недельку спустя обстрелял кто-то наш дом ночью и стекла выбил. Пришлось бумагой заклеивать, чтобы не замерзнуть. Ну, мать видит, что дело плохо, продала за бесценок халупу да в Россию из этой самой Финляндии. Так-то вот! Правда, родился я там, и отец мой там жил, и дед, но…
Тут он взглянул на председателя и развел руками.
Я сказал, чтобы сгладить его обиду:
— Зато теперь ваша родина опять к вам перешла.
Он ответил, не глядя на меня:
— А иначе и быть не могло.
Председателю, как видно, тоже захотелось немного смягчить его сердце, и он сказал:
— Не все же там такие были, как твои дружки-приятели. В целом-то народ не может быть плохим. Ты о народе финском что-нибудь скажи.
Тот пожал плечами.
— Что сказать? Народ как народ. Собой видный и к работе строгий. Без дела у них не шлындают. Разве что по воскресеньям, когда садятся они в свои кярри — это двуколки у них такие — и катят в кирку богу молиться. А так очень работящий народ.
— И честный, говорят. Верно это?
— Верно.
Докурив свой кулек с махоркой, он раздавил его остатки в пепельнице на столе председателя и добавил:
— Да, это у них есть, конечно. И дело с ними иметь можно. Дай вот любому из них свою казну сельсоветскую, — тут он кивнул головой вбок, имея в виду меня, — прямо так дай, не пересчитывая, и попроси передать ее кому-нибудь хоть на другом конце света. Передаст все до копейки, можешь не проверять. Но дружбы к русским от них не жди, потому что болезнь у них такая есть — национальный шовинизм называется. Сто лет они ее против нас вынашивали и разучились видеть, где враг и где друг. Ты к нему с открытой душой и радушием, а он тебя ножом. — Тут он опять кивнул в мою сторону. — Ему, видишь, невдомек, что не я его угнетал, а царь и что я сам у царя угнетенный и сам против него борюсь. А если борюсь против царя, так, стало быть, и ради финна стараюсь. Но ему где там разобраться! «Долой всех рюссей!» — и вся недолга. Нет у них понятия о классовой солидарности. Интернационального сознания нет.
— Ну уж ты, Нил Прохорыч, их всех-то под одну мерку не ставь. У них тоже такие революционеры были — ого, брат! Да и сейчас тоже, смотри, как широко развернулось движение за дружбу с нами.
Нил Прохорыч встал, поправил на облысевшей седой голове мятую серую кепку и спросил:
— Ты меня по делу потребовал или так просто?
— Да вот по этому вопросу только…
— Понятно. Не по делу, значит. А меня бригада ждет. Бывайте здоровы!
Сказав это, Нил Прохорович вышел, так и не посмотрев на меня ни разу. Председатель с укоризной покачал ему вслед головой:
— Ух, и сердитый же он на вашего брата финна! Не может забыть обиды тридцатипятилетней давности. Ни на какие компромиссы не идет.
Я поулыбался немного из вежливости, хотя следовало, наверно, поулыбаться от радости, что остался жив. Но угроза смерти еще меня не миновала. Я был в плену у председателя, и неизвестно, какие сюрпризы он мне еще готовил. А готовил он мне далеко не приятную кончину, судя по первому дню, и вряд ли собирался тянуть с этим до конца недели, Осталось одно: придумать скорее, как незаметно выбраться из конторы. Главное — выбраться, а там я сообразил бы, что делать. Там бы я кинулся в первый же проулок, оттуда на задворки, а дальше — лови меня по русским полям и лесам! Но, чтобы выйти, нужен был предлог. Можно было, например, достать из кармана пачку «Казбека», подаренного Лехой, и сделать вид, что захотелось выйти покурить. Но тут курили не выходя. Значит, этот способ не годился.
А пока я обдумывал другие способы, председатель занимался своими бумагами. Он прочитывал их и подписывал, разговаривая с людьми и отпуская их одного за другим из конторы. Только меня он не собирался отпускать. Мне он время от времени делал знак рукой, как бы говоря: «Ничего, сидите, раз уж вам так нравится тут сидеть. Мы вас не прогоним». И я сидел. Мне так нравилось тут сидеть. Давно я мечтал о таком счастье и вот удостоился его наконец.
По другую сторону от меня разговаривали вполголоса четыре девочки. У них в руках был объемистый пакет с какими-то семенами. Эти семена они готовились куда-то с кем-то отправить и по этой причине все время озабоченно поглядывали в открытое окно. Я тоже поглядывал в открытое окно. Если не было толку от поглядывания на дверь, то почему бы не перенести внимание на окно? Досадно только, что за окном была людная сельская улица, а не глухой лес. Но все равно я смотрел в окно и заодно также на четыре круглые головенки с короткими косичками и бантами, заслонявшие от меня окно. У меня тоже могли быть в очень скором времени такие же четыре собственные девочки с такими же славными, озабоченными личиками. Но для этого мне сперва надо было выбраться из конторы, где я сидел без надобности уже больше двух часов. Из конторы мне надо было скорее выбраться! Вот с чего мне следовало начинать!
Я встал, озираясь вокруг, и попробовал сделать несколько незаметных шагов к двери. Сперва я внимательно рассмотрел плакаты на стене, потом взглянул на закопченный потолок, а потом заметил что-то интересное за приоткрытой дверью и потянулся туда. Не помню, что я там заметил интересное и к чему потянулся. Но в это время председатель сказал мне ободряющим голосом:
— Ничего. Потерпите еще немного. Скоро парторг подойдет. Я уже послал за ним. Он займется вами по-настоящему.
Вот что мне, оказывается, грозило. Меня опять настигал человек по фамилии Парторг, который собирался заняться со мной не как-нибудь, а по-настоящему. Но как удалось ему опять меня настигнуть? И кто он такой был, чтобы так упорно интересоваться моей персоной? Как звали его? Но, кажется, я уже начинал догадываться, как его звали… И мороз пробежал у меня по спине от этой догадки, ибо этого человека, по фамилии Парторг, звали, конечно, Иваном. И был он тот самый Иван. Иначе зачем стал бы он с таким упорством за мной охотиться?
Я уже не садился больше на стул. Мне было не до стула. Я ходил взад и вперед по конторе, все ближе подступая к порогу. Но переступить его так и не успел. Едва председатель отпустил последнего посетителя, как в контору ввалились еще два парня, прикатившие к сельсовету на грузовой машине. Один из них подал председателю на подпись разные сопроводительные бумаги, а другой сказал девочкам:
— Не поедет ваш учитель. Некогда ему. Велел вам передать, что на следующей неделе отвезет.
Девочки загоревали.
— Как же быть? А мы на сегодня обещали. Даже телеграмму отправили. Теперь нам верить перестанут. А вы дотуда не поедете?
— Нет. Мы только до станции.
Я спросил:
— До какой станции?
— До Лоховицы.
— Это которая на железной дороге?
Парень удивился такому вопросу, но ответил:
— Да. Железнодорожная станция Лоховицы.
Я взглянул на председателя. Но он, подписав бумаги, обернулся к своей дочурке. Та сообщила ему унылым голосом, прижимая к себе бумажный сверток:
— Они не едут в Таранкино.
И другие девочки по ее примеру выглядели не менее уныло. Я подошел к ним поближе. У меня тоже могли быть в скором времени такие же славные, унылые девочки. Я спросил:
— А где это Таранкино?
Председатель ответил:
— Это в двенадцати километрах от станции Лоховицы, по ту сторону железной дороги.
— А сколько до Лоховицы?
— До Лоховицы тридцать семь.
— От вас туда часто идут машины?
— Нет. На этой неделе больше не пойдут.
— Ах, так…
Я напустил на себя озабоченный вид. Председатель спросил:
— А вас что интересует: Лоховицы или Таранкино?
— Меня все интересует.
Вот как я ему ответил. О, я знал, чем их можно взять! И я видел, как девочки торопливо зашептались между собой, украдкой поглядывая на меня. Парни тоже медлили выходить, выжидательно обернувшись к нам. Председатель сказал мне с улыбкой, кивая на девочек:
— Видали? Они уже готовы дать вам поручение в Таранкино. Рекомендация Нила Прохорыча в действии, так сказать.
А один из парней, уже поставивший ногу на порог, сказал мне напрямик:
— Если желаете с нами ехать, милости просим.
Я взглянул на председателя, выражая своим видом вопрос и затруднение. Другое выражение, кажется, не подходило для этого случая. Председатель улыбался, но молчал. Что-то надо было сказать, чтобы сдвинуть это дело с места, и я спросил его:
— А там колхоз есть, в этом Таранкине?
Он ответил:
— Конечно, есть. Колхозы везде есть.
— Тогда хороню.
Так я ответил, потому что для меня было очень важно, чтобы там оказался колхоз. Как я мог без колхоза? Мне непременно нужен был колхоз. Сколько времени я искал колхоз, мечтая вникнуть скорее в его хозяйство! И тут я тоже не мог от этого отказаться. Очень хорошо, что там был колхоз!
Тем временем пакет перешел в руки самой старшей Леночки. И, когда я обернулся к ней, она сказала смущенно, подняв на меня доверчиво раскрытые, ясные глаза:
— Это семена, для школьного питомника в Таранкине. Тут всякие: клен, береза, липа, бук. Желуди есть и шишки сосновые. Это Симе Студниковой нужно передать. Она рядом со школой живет. А письмо тоже ей, для ребят школьных.
Письмо было прихвачено к пакету бечевкой. Я взял из ее рук пакет, прочел на конверте, адрес и повернулся к председателю. Вид у меня был, как и следовало, не очень веселый. Еще бы! Только что представился мне такой счастливый случай углубиться в дела их колхоза, как обстоятельства отрывали меня от него. Ах, как мне было горько! Но председатель сельсовета успокоил меня. Он сказал, пожимая мне руку:
— Ладно. Поезжайте туда. А если останетесь чем-либо недовольны, возвращайтесь к нам. Всегда будем вам рады. И могу заверить, что у нас вам скучать не придется. Об этом позаботится парторг.
Да, Парторг! Ведь он уже был где-то близко… Я помахал девочкам ладонью и пошел к выходу. У машины один из парней сказал мне:
— Там наверху лен. Прямо на тюки садитесь.
Я забрался в кузов и сел прямо на тюки чесаного льна. Машина тронулась. Держа на коленях пакет с древесными семенами, я махал девочкам рукой, пока крыльцо сельсовета не скрылось из виду.
Так ловко ускользнул я от грозившей мне очередной опасности, оставив с носом и председателя и кого-то еще, по фамилии Парторг. И теперь никто больше не мог мне помешать вернуться к моей женщине.
Я ехал прямо к железной дороге, от которой уже не собирался отрываться. Правда, мне еще предстояло отдать пакет. Но что из этого? Двенадцать километров — два часа ходьбы. Всего, выходит, четыре часа. Зато потом я лечу полным ходом прямо в Ленинград и спустя еще день уже стою перед ней. Как она удивится, увидя меня! Как высоко поднимутся и раздвинутся врозь ее густые черные брови! И не грозные молнии будут блистать из-под них, а проглянет ласковый свет солнца. Стоя на крыльце, она подопрет сильной рукой свое тяжелое, красивое бедро и скажет радостно: «А-а, это вы! Наконец-то я дождалась вас!» или что-нибудь в этом роде.
И я отвечу: «Да, это я. Всю Россию проехал я для того, чтобы предстать перед вами. Просто так, взял и проехал на всякий случай, потому что я очень люблю ездить и смотреть вашу Россию. Это для дела дружбы полезно. Я смотрю и выясняю, годится русский народ в друзья финнам или нет. Да, да, такую задачу я себе поставил. Пора, давно пора! Не очень-то приятно, когда в каждом доме на тебя припасен остро наточенный топор. И вот я съездил, проверил. Колхозы ваши я очень люблю смотреть и сельсоветы. Поросятники меня особенно интересуют. И лесные питомники тоже.
Помню, в одном лесничестве, например, я сам лично посмотрел все и проверил. Да, неплохо дело поставлено, с размахом. Это где Устюженские бугры. Там у лесника дочь в университет поступила. В наш Ленинградский университет. А я люблю, когда ваша молодежь поступает в университеты. Это доказывает, что поднимается культура и все такое. На месте церквей будут клубы, и тогда старым женщинам уже не придется торопиться, чтобы успеть и туда и сюда. И свои каптюкинские моды пойдут на весь мир, как шило в подноготную. О, это все я приветствую, потому что сам давно перевоспитался, осознал и проникся коммунизмом. Насчет этого теперь можете быть вполне спокойны. Для того я и поехал, чтобы проникнуться. Я ехал через всю Россию и проникался.
Приходилось мне и поручения выполнять кое-какие. Так, пустяки, конечно. Это для меня ничего не составляло — взять и выполнить. Древесные семена, например. Кто их доставит из Каптюкина в Таранкино? Некому доставить. Я беру пакет и везу. Тридцать семь километров. Час езды. Но я еду два, три и четыре. Почему? Разные причины. Какой-то грузовик с сеном увяз на сыром лугу. Кто вытащит? Некому вытащить. Мой грузовик берется вытащить. А троса длинного нет. Ждем трос. Пока ждем, нам предлагают перекусить. Почему не перекусить, если предлагают? Перекусить никогда не вредно.
А бидон молока для такого жаркого дня выглядит куда как соблазнительно! Это парное молоко дневного удоя. Доярки завезли его прямо с пастбища. Они везли восемь полных бидонов и один неполный. Этот неполный они сняли с машины и передали сюда. Это списанное с дневного плана молоко. На него составлен какой-то протокол. Кто-то его сдал и кто-то принял. И вот оно стоит в прохладной ямке, дожидаясь работающих на лугу людей. Из бидона его наливают в кувшин, а из кувшина — в кружки. А к молоку прилагаются пироги с творогом. Это круглые румяные пироги по названию ватрушки. Они лежит стопками на клеенчатой скатерти, растянутой прямо на скошенном лугу. Когда вы съедаете одну ватрушку, вам говорят: «Еще ватрушечки не желаете ли?» и придвигают к вам другую, а потом третью и четвертую. Кто придвигает? Молодушки придвигают. Им так и крикнули: «Ау, молодушки! Бросайте грабли — ватрушки стынут!». И они оставили возле длинных валков сена свои конные грабли вместе с лошадьми, а сами сгрудились вокруг ватрушек и молока — все дородные и налитые, в тонких летних платьях.
Но я не смотрел на их платья. И даже на то, что эти платья облегали, не смотрел, хотя облегали они кое-что весьма достойное внимания, молодое, горячее и стройное. Не смотрел я на их полные груди и мягкие влажные рты с белыми зубами, жующими ватрушки. И в глаза их тоже не заглядывал, полные заманчивых женских тайн, хотя останавливались они на мне и на моих двух парнях с лукавым любопытством. Мимо них я смотрел. На этот счет можете быть спокойны. На скошенный луг я смотрел. Это был большой луг, уходящий в сторону от дороги неведомо до каких пределов. Двадцать семей могли бы разместиться на нем со своими хозяйствами, питаясь его соками. И каждый убрал бы свою долю травы за какую-нибудь неделю — так удобен он был для косьбы, лишенный камней и бугров. А они сколько тут провозились? Как! Всего одни день? Сегодня начали и сегодня кончат? Армия сенокосилок вышла на заре? «Коси, коса, пока роса»? И успели? Да. «Роса долой — и коса домой». И все те растущие вдали стога начаты сегодня? Да, да, сегодня. И кончат их сегодня. Иначе нельзя. «Денек-то уж больно погожий. Грешно такой упустить. Заранее спланировали — всем миром навалиться, пока дожди не подоспели. Зато сенцо что твой порох, просохло вмиг, и свежий дух в нем сохранен. Будет чем полакомиться зимой буренушкам нашим».
Это молодушки так разъяснили. Но я не смотрел на молодушек. На этот счет можете быть спокойны. Что мне молодушки? И когда в деревне Веретенницы мы стояли еще час, принимая дополнительный груз чесаного льна с другого опытного поля, я опять не смотрел на молодушек, хотя и там их было немало. А две из них даже сели на кромку кузова рядом со мной. На Россию я смотрел, впустившую меня еще глубже в свои необъятные недра, а не на молодушек. Россия меня интересовала и всякие там вопросы мира и дружбы, а не молодушки. Не надо мне никаких молодушек на свете, когда у меня есть вы». Такими заверениями успокаиваю я свою женщину, приехав к ней в колхоз из Ленинграда. И, выслушав меня, она отвечает с радостью: «Ну, если так, то я согласна».
На станцию Лоховицы мы прибыли в пятом часу. Кивнув на прощание молодушкам, я пожал руки обоим парням. Один из них указал мне на переезд через линию железной дороги и пояснил:
— Вот так прямо и пойдете. А дорога здесь одна.
Я сказал ему «спасибо», но так прямо идти не торопился. Не мог я так прямо пойти, не заглянув на станцию, которую столько дней искал. Ведь там, внутри, висело расписание, где было указано, когда идет поезд на Ленинград. Но как было подобраться к этому расписанию, чтобы не вызвать удивления у них? А парень заметил мои колебания и сказал:
— Вы не туда смотрите, я вижу. Или вас этот поселок тоже интересует?
Я знал, что меня интересует, но на всякий случай ответил:
— Да, тоже…
А он посоветовал:
— В таком случае возьмите да и задержитесь в нем, сколько вам нужно. Семена потерпят. А поселок действительно любопытный, хотя бы потому, что растет не по дням, а по часам благодаря новым кирпичным заводам. Это даже не поселок теперь, а скорее городок, особенно вон в той части, где все новое. Вот пойдете — и увидите.
Я пошел и увидел. Но, идя и видя, я все оглядывался, выжидая момент, когда их машина отойдет от станционного склада. А она не хотела отходить. Я ходил по разным улицам и снова выходил на ту, с которой видна была станция, а машина все стояла, не пуская меня к станции. И я опять ходил и ходил, просунув палец под бечевку пакета с древесными семенами.
Огромные красные трубы кирпичных заводов дымили в километре от поселка, оттянув на себя небольшую ветку от моей железной дороги. Но дорога от этого не нарушались, надежно протянувшись до самого Ленинграда. И мне оставалось только сесть в поезд, чтобы оказаться там. Но в какой поезд — это я мог узнать на станции. Поглядывая в ту сторону, я продолжал свою прогулку.
Поселок был невелик, но в одной части он походил на город. И улицы здесь были асфальтированы, и дома стояли новые, четырехэтажные. Даже гостиница была среди них, под названием «Новая». А за ней тянулся молодой сад с мелкими деревьями и крупными кустарниками сирени и жасмина, еще не успевшими отцвести. Были здесь и скамейки на песчаных дорожках, и клумбы, полные цветов, и даже фонтан без воды. Одним словом, было все то, что обыкновенно торопятся создать люди, готовящие другим людям войну. Эту истину мы уже давно точно установили с молодым Петром Ивановичем, и доказательств она не требовала. Доказательства требовались по другому поводу: когда идет поезд на Ленинград?
Два часа стояла машина у пакгауза. За это время она освободилась от груза и пополнилась новым грузом. За это же время по железной дороге прошло несколько поездов на юго-восток и примерно столько же на северо-запад. И, конечно, все поезда, идущие на северо-запад, направлялись прямо в Ленинград. Оставалось узнать, на каком поезде предстояло уехать мне.
Перехватив пальцами поудобнее пакет, я снова направился к станции и на этот раз вышел туда без помехи. Оказывается, прямой поезд на Ленинград ходил здесь только раз в сутки. Он ушел днем, в четыре двадцать. Значит, я мог уехать отсюда только на следующий день в то же самое время. Очень хорошо! С утра я иду в Таранкино. Два часа туда, два часа обратно. Всего четыре часа. Ну, пусть с передышкой будет пять. Все равно к середине дня я успею вернуться сюда и взять билет на Ленинград. Вот как все просто складывалось у меня на этот раз. И никаких препятствий больше не предвиделось.
Я направился в гостиницу и там на третьем этаже получил за тринадцать рублей одноместный номер. У дежурной по коридору я попросил электрический утюг, чтобы погладить брюки, но погладил не только брюки. В номере был душ с теплой водой. Я помылся, выстирал свою новую шелковую рубашку, трусы, майку, носки и носовой платок. Развесив это все на спинках стульев, я забрался в просторную чистую постель и, вытянув ноги, закрыл глаза.
Так закончился шестой день моего отпуска. Но перед тем как заснуть, мне полагалось, кажется, вспомнить что-то немаловажное. Что бы такое обязан был я вспомнить? Ах, да! Насчет пригодности русских людей к дружбе с финнами советовал мне Иван Петрович что-то такое сообразить, исходя из событий минувшего дня. Но какая могла быть с ними дружба, если меня едва не убил на месте сердитый Нил Прохорович, а председатель сельсовета готовил еще более свирепую казнь? И только моя редкостная сообразительность помогла мне вырваться из их лап.
И пусть где-то там, впереди, продолжал подкарауливать меня тот страшный Иван. Я ускользал от него. Он высился там, неведомо где, над их полями и лесами, подпирая головой небо и высматривая меня своими гневными серо-голубыми глазами. А я не давался ему. Вот уже шесть дней он тянул ко мне свою страшную железную руку, чтобы вытряхнуть из меня душу. А я был цел и невредим и не далее как завтра готовился опять оставить его с носом.
И огромный Юсси Мурто, вздымаясь где-то над седыми туманами севера, смотрел на это с одобрительной угрюмостью. Да и мог ли финн смотреть без одобрения на успехи другого финна? И когда его светло-голубые глаза сталкивались нечаянно с глазами Ивана, в них загоралась такая непримиримость, у которой не виделось предела. И, глядя прямо в гневные глаза Ивана, он говорил своим спокойным басистым голосом: «Лучше без перешейка и без вас, чем с перешейком и с вами. Сто десять лет. Хватит с нас вашего внимания». А Иван отвечал ему на это: «Ништо! История скажет, когда это внимание шло от чистого сердца». И опять Юсси Мурто ронял в ответ с тем же спокойствием: «Чья история? Если ваша, то ее у вас нет. У вас только вывих истории». И снова железный Иван отвечал беззаботно: «Ништо. Слыхали мы и это. Зато ваша история понаставила памятники нашим царям. Не их ли включаете вы в те сто десять лет? И если их, то в чем суть упрека?». И опять умолкал угрюмый Юсси Мурто, подбирая в уме ответ. Но я не стал дожидаться его ответа и скоро заснул.
18
Проснулся я в семь утра и первым долгом включил утюг. Но провозился с ним недолго. Через час все на мне опять стало новым, и сам я, гладко выбритый и отдохнувший, уже шагал на юг, перейдя линию железной дороги. В одной руке у меня был пакет с древесными семенами, а в другой — триста граммов вареной колбасы и булка, купленные в ларьке у станции, где я еще раз проверил расписание поездов.
Перекусил я на ходу, а напился из ручья. Всего на моем пути оказалось три ручья, и из каждого я пил. Три ручья и две деревни, не считая тех, что виднелись в отдалении по сторонам дороги. Первая деревня стояла на моем пути в пяти километрах от станции. До нее я дошел за пятьдесят минут. Солнце не успевало пробиться сквозь белые облака, которые все гуще заполняли небо, и поэтому утренняя прохлада затянулась почти на все время моего пути до Таранкина. А в прохладе и ноги двигались быстрее.
Проходя деревню, я старался не смотреть по сторонам. Для какой надобности стал бы я смотреть по сторонам? Чтобы увидеть в окне одного из домов чье-нибудь лицо и услыхать вопрос? Но я торопился по важному поручению, и мне было не до вопросов. То есть нет, почему же? Мне было очень даже заманчиво услыхать вопрос, имея в виду советы Ивана Петровича. Но что ж делать, если обстоятельства заставляли меня торопиться? Экая досада! Я так мечтал о вопросах и не мог на этот раз, к сожалению, ими заниматься. Важные дела гнали меня вперед, не оставляя времени для вопросов, которые всегда доставляли мне столько приятного.
Вторая деревня находилась в трех километрах от первой. А пройдя еще четыре километра, я прибыл в село Таранкино. Школу я узнал сразу по ее размерам и по виду. Стояла она на высоком и открытом месте, выстроенная из белого кирпича. Вокруг нее тянулись в несколько рядов молодые деревца, над которыми высились окна ее второго этажа и зеленая крыша. Два мальчика и три девочки поливали перед школой цветы на клумбе и в то же время поглядывали на небо, где тучи все укрупнялись и темнели. Я спросил старшего мальчика насчет Симы Студниковой, и они всей гурьбой повели меня к ее дому, прихватив с собой пустые лейки.
Мать Симы кормила цыплят во дворе. Выслушав девочек, она окинула меня подозрительным взглядом и направилась в мою сторону. Весь вид ее показывал явное намерение задать мне вопрос. Ну и что же? Вопрос так вопрос. Разве я был против вопросов? Вопросы всегда полезны людям, ибо они способствуют установлению понимания и дружбы между народами. Правда, я украдкой покосился на открытую калитку и даже слегка попятился к ней. Однако женщина двигалась быстрее. Но тут же ко мне подбежала длинноногая белокурая девочка, похожая лицом на эту женщину. Быстро сообразив своим хитрым умом, что она и есть Сима Студникова, я вложил ей в руки сверток и попятился еще немного к открытой калитке. Девочка смотрела на меня с удивлением, хотя я кивал ей и улыбался. У меня тоже могла быть в скором времени такая же славная, удивленная девочка. Перед самой калиткой я все же остановился и сказал:
— Это вам из Каптюкина. Я узнал, что у вас нет леса, и вот привез. Пусть это будет красивый лес. Где красивый лес, там красивый коммунизм.
Сказав это, я опять улыбнулся девочке и, выходя из калитки, помахал ей рукой. Она тоже улыбнулась и помахала. И ее мать улыбнулась, довольная тем, что я не похитил ее дочурку. И все остальные девочки и мальчики тоже улыбались, махая мне вслед руками. Конечно, я привез им не бог весть что, не каптюкинские моды, знаменитые на весь мир, а всего лишь каптюкинские семена для леса. Но и это они приняли с радостью, насколько я мог судить, оглядываясь на их улыбки, по мере того как ноги мои уносили меня все дальше и дальше в сторону Ленинграда.
Так быстро и ловко я выкрутился из этой новой западни, в которую едва не попался. Но поручение, данное мне, я выполнил, и теперь уже никакие силы не могли меня остановить. Погода позволяла мне идти обратно к станции тем же скорым шагом, ибо солнцу так и не удалось пробить своими жаркими лучами плотный слой облаков. Они надежно оберегали меня от зноя, неслышно ворочаясь где-то там, над моей головой, все туже сдавливая друг друга и становясь от этого все более темными. А кое-где по горизонту ползли уже настоящие дождевые тучи, волоча за собой свисающие книзу широкие завесы дождя, такие же густо-синие по цвету, как сами тучи, их проливающие. Но на моем пути в небе теснились все те же безобидные, светлые облака.
Однако, пройдя первую деревню после Таранкина, я обратил внимание на то, что двигались тучи в одном направлении со мной и двигались быстрее меня. Боковые тучи, льющие вдали свои синие дожди, изрядно ушли вперед за это время, не пытаясь, впрочем, заступать мне дорогу. Зато одна из туч волокла свою темную завесу прямо вслед за мной. Она раздувалась и росла, занимая на небе все больше места, и свисающая с нее завеса тоже набухала и ширилась, обмывая своим нижним краем запыленную поверхность земли. И временами от нее исходил глухой рокот грома.
Я прибавил шагу, пытаясь уйти от этой тучи. Но у второй деревни она уже довольно основательно дала о себе знать прохладой, тронувшей мне затылок, и первыми редкими каплями, подпрыгнувшими на дорожной пыли. Все же я прошел насквозь всю деревню. В конце концов какая беда, если меня даже заденет немного дождем? Не такое это страшное препятствие, чтобы сбить меня с пути.
Выходя из деревни, я увидел у крайнего дома под навесом легковую машину, а на крыльце дома — седого человека в очках. Перехватив мой взгляд, он повел рукой в сторону настигавшей меня грозы и покачал головой, как бы предостерегая от столь неразумного поступка. Но я только кивнул ему в ответ и продолжал идти. Зачем стал бы я останавливаться? Чтобы дать ему повод задать мне вопросы? Поздновато он спохватился меня задерживать. Последняя деревня была пройдена. До станции оставалось всего пять километров, и пролегали они открытыми полями, где уже не предвиделось никаких ловушек. Мог ли меня при таких выгодных обстоятельствах остановить какой-то там дождь? Никак не мог. И я даже не прибавил шага, выходя за пределы деревни.
Но в полусотне метров от крайнего дома по моей спине хлестнула новая волна дождевых капель — на этот раз более частых. А в сотне метров это повторилось. Все же я отмерил ногами еще около полусотни метров, замечая попутно, как все беспокойнее ведет себя рожь по обе стороны дороги. Она была пока еще зеленая, несмотря на то, что уже давно выпустила колос и вытянулась почти в полный свой рост. Однако покрасоваться во весь рост хотя бы передо мной ей не удавалось. Ветер колыхал ее с такой силой, что она едва не ударяла по земле колосьями. Не успевая распрямиться, она снова и снова пригибалась к земле, передавая свое колыхание от стебля к стеблю, от одного зеленого гребня волны к другому по всему уделенному ей огромному пространству.
Но и беспокойное по ведение ржи не могло меня остановить. Не могло также дать к тому повод наступление прохладных сумерек среди светлого летнего дня. Даже близкие раскаты грома позади еще не означали, что гроза непременно должна коснуться меня. И только какой-то новый, ни с чем другим не схожий звук заставил меня внимательно прислушаться и оглянуться. А оглянувшись, я тут же торопливо зашагал обратно к деревне, ибо увидел своими глазами причину этого звука.
Ничего особенного в нем, правда, не было. Он походил на обыкновенный шорох. Но какой силы был этот шорох, если доносился он до моего уха за километр! А издавали этот громоподобный шорох потоки небесной воды при своем падении на землю. Они надвигались на деревню с той стороны, откуда я только что в нее входил, и теперь готовились поглотить ее, как уже поглотили все позади деревни, объединив там в одно серое влажное месиво и небо и землю. Блеск молний утопал и таял в глубине этого месива, представляясь глазу не пронзительными, слепящими нитями, какими знаменита молния, а бледными, расплывчатыми отблесками. Но гром гремел вслед за молнией в полный свой голос, и раскаты его с каждым разом нарастали, двигаясь мне навстречу. Отдельные темно-серые лохмы тучи тоже тянулись оттуда ко мне через всю деревню и уже клубились вверху над моей головой, грозя пролиться влагой.
Я ускорил шаг. Деревня пока еще строго и нетронуто выделялась на бледно-сером фоне того, что на нее надвигалось. Но вот она стала как будто таять с другого конца, теряя один за другим свои дома, дворы, сады и огороды. Тогда я припустился к ней бегом. Будь по сторонам дороги вместо податливой, гибкой ржи крупный лес, я укрылся бы в нем. Но здесь не было леса. Его не успели насадить. А я слишком поздно догадался привезти им семена. Что ж делать? Не мог же я один успевать всюду, чтобы заделывать все их прорехи. Приходилось поэтому нацеливаться на тот навес у крайнего дома, где стояла легковая машина.
Но деревня все таяла. И то, что съедало ее с другого конца, двигалось быстрее меня. Я все ускорял бег, уже перевалив, наверно, за ту быстроту, с какой одолевают стометровку. А тем временем половины деревни уже не стало. И с той же удивительной стремительностью исчезала дом за домом неведомо куда вторая ее половина. Перебирая ногами из последних сил, я молил бога, чтобы уцелел хоть крайний дом с навесом у крыльца. Но и он вдруг стал улетучиваться прямо на моих глазах, а вслед за тем тугие струи дождя ударили по мне. До навеса оставалось шагов двадцать, но какие это были шаги? Это можно было назвать скорее нырянием в глубину бурной реки, нежели отмериванием шагов по земной тверди. И наглотался я при этом больше воды, чем воздуха.
Под навес я не попал. Седой человек в белом полотняном костюме, стоящий на крыльце, сказал мне мягким глуховатым голосом: «Сюда, сюда!» — и я, не достигнув навеса, взбежал по деревянным ступенькам к нему наверх. Зачем я взбежал к нему наверх? Он открыл дверь и посторонился, уступая мне дорогу. Я вошел в дом, и западня за мной захлопнулась.
Вот какая судьба уготована здесь финну, когда он попадает в недра России. Запомните это на всякий случай вы, финские люди, и не торопитесь проникать на их землю. Они напустят на вас грозовую тучу, и вы волей-неволей понесетесь от железной дороги в обратную сторону, выискивая глазами крышу. А что ждет вас под крышей? Там ждет вас целая куча людей, готовых совершить над вами казнь. Правда, трое из них — дети и им не до вас. Они лепятся к окнам, наблюдая за тем, как проносятся там, за стеклами, косые потоки воды, гремя, сверкая и заливая землю. И старая женщина, сидящая у стола, тоже вряд ли поднимет на вас руку. Зато молодой парень в сапогах, присевший боком на подоконник, — это определенно Иван. Тот самый Иван, который давно подкарауливает вас в глубине России. Вы угадываете это по размеру его кулаков и плеч и немедленно принимаетесь искать глазами вокруг подходящий к случаю предмет. Подходящие предметы стоят возле печи и плиты. Но там же стоит, кроме того, другая женщина. Она оборачивается к вам, румяная от близкого огня, и говорит:
— Батюшки! Да с вас прямо ручьями льет! Становитесь-ка здесь быстренько да пообсушитесь. А потом я вам утюжком отглажу, если что.
И она открывает перед вами дверцу плиты, из которой несет жаром. А пока вы стоите перед огнем в облаках пара, все еще с трудом ловя открытым ртом воздух, седой человек одобряет ее слова насчет утюжка. Так они все тут устроены, даже старые люди, что непременно одобряют все затеваемое против финна. И потом он же тянет вас в заднюю комнату. И там вы раздеваетесь в уголке возле кровати, выложив предварительно на край стола все свое имущество: бумажник, мыло, бритву, помазок, зубную пасту, зубную щетку, пачку «Казбека», перочинный ножик и носовой платок. И пока хозяйка досушивает утюгом ваши брюки, пиджак, рубашку и галстук, вы сидите в задней комнате позади стола в одних трусах и майке. А седой человек сидит напротив вас по другую сторону стола, и его умные глаза смотрят сквозь толстые стекла очков на вас. И он говорит что-то мягким, вежливым голосом, а вы слушаете. Он задает вопросы, и вам неудобно не ответить, хотя вы знаете, чем это грозит.
Мог ли я предвидеть, что даже старый человек окажется в заговоре против меня? На вид он выглядел совсем безобидным. И был он к тому же сам по себе, а я сам по себе. Он куда-то ехал на своей машине, но остановился переждать грозу. А я шел на станцию и остановился по той же причине. После грозы я собирался продолжать свой путь, а он — свой. И вот мы сидели, готовые расстаться так же быстро, как встретились. Почему было мне, ввиду этого, и не поговорить с ним немного, а в разговоре коснуться не только того, что идет на пользу делу мира и дружбы, хотя это, конечно, тоже очень полезные для народов вещи, как не раз отмечал Иван Петрович. Почему было не коснуться в разговоре с ним еще кое-чего?
Голос мой тонул в шуме грозы, и потому слова мои мог разобрать мало-мальски только он, сидевший со мной в одной комнате. А он, кажется, заслуживал доверия. Взгляд у него был проникновенный и мудрый. Почему мне было не выговориться перед ним? Я сидел почти голый и выглядел, наверно, но очень бодро. По крайней мере я сам это чувствовал. Выглядел я, наверно, так, будто нуждался в защите и утешении. А он, с его высоким лбом и строго зачесанными назад белыми волосами, казался вместилищем того, что способно нести людям утешение и укреплять дух. Неудивительно поэтому, если я в ответ на его вопросы прямо, без обиняков заявил, откуда к ним приехал и ради кого колесил по их стране. Он все это выслушал, не выражая ни удивления, ни подозрения и только глядя на меня задумчиво сквозь блестящие стекла. Лицо у него было загорелое, гладко выбритое, и только на самом конце подбородка оставлен островок белой бороды. Поглаживая ее пальцами, он сказал:
— Если я вас правильно понял, между вами произошла размолвка?
Я не помнил, была у нас размолвка с моей женщиной или нет. Какая могла между нами быть размолвка при полном единении наших намерений? Разве не ждала она меня с нетерпением уже много дней, стоя на своем крыльце, рослая и красивая, подперев сильной рукой тяжелое бедро? Но на всякий случай я ответил:
— Да…
Он сказал:
— Это естественно. Вы оттуда, из капиталистического мира, а она русская, советская. Причин для размолвки более чем достаточно. Вы, очевидно, что-то в ней не поняли и, чтобы лучше понять, глубже проникнуть в ее душу, стать к ней ближе, решили вплотную познакомиться с той страной, в которой она живет, и с тем народом, которым она рождена. Так я вас понял?
— Да…
Он действительно очень верно это все сказал, и над его словами стоило подумать. Но не успел я толком в них вдуматься, как он добавил:
— Что ж, это похвально. Вы, пожалуй, нашли самый верный путь к ее сердцу. И мой вам совет: не сбивайтесь с этого пути. Ходите, ездите, наблюдайте, знакомьтесь с нашими людьми. Ей, как жительнице деревни, несомненно, приятно будет отметить ваш особый интерес к сельскому хозяйству. И кстати должен сказать, что вам повезло. Поблагодарите грозу, загнавшую вас под эту крышу. Благодаря ей вы получили возможность прибавить к вашим сельским впечатлениям еще один объект, заслуживающий внимания. Я имею в виду молочную ферму в Понизовье. Не слыхали о ней?
— Нет…
— Обязательно побывайте. Не упускайте случая, который вам так счастливо представился. Ведь вам все это интересно, не так ли?
— Да…
— Вот и превосходно. Минуток десять еще переждем и поедем.
— Как поедем? Куда поедем?
Я почти со стоном выкрикнул это. А он ответил все так же мягко и неторопливо:
— На ферму. Между прочим, там две мои бывшие студентки работают, из сельскохозяйственного института. Мастерицы своего дела, доложу я вам. К семи тысячам литров дело идет. Представляете?
Я ничего не представлял. Что я мог представлять? Я только сказал ему с упреком:
— У вас крытая машина. Вы могли бы и в дождь уехать. Зачем вам было тут стоять?
Я сказал это просто так, не знаю зачем. Ничего изменить я уже не мог все равно. Дело было сделано. Машина стояла. Она не уехала. И оттого, что я это сказал, она не перестала стоять. А он пояснил:
— Там, видите ли, во время ливней на одном участке дорогу заливает.
— О-о! Значит, ехать нам туда нельзя! И мы не поедем, значит?
— Но вода быстро спадает и рассасывается.
— А-а…
— Я же говорю, что вам повезло. И повезло, так сказать, в двойном смысле. Вы узнаете кое-что новое о нашем животноводческом хозяйстве и в то же время приблизитесь к ней. Понимаете?
— Да…
Но правде сказать, я не совсем его понял. Как мог я приблизиться к ней, если укатывал от нее все дальше и дальше, проявляя столь горячий интерес к их сельскому хозяйству? Но, может быть, он говорил о поездке в направлении Ленинграда? А может быть, она сама успела приехать в эти края? Она приехала, а он узнал, куда она приехала, и собирался везти меня туда же? Ведь мог он знать это, живя в той же России, где и она. Он все мог знать, что делалось в его России, ибо жил в ней, судя по его виду, без малого семьдесят лет.
Не знаю, как это получилось, но через десять минут я уже сел в его машину, едва успев сказать хозяйке «спасибо» за отглаженные брюки и рубашку. Рядом со мной села старая женщина, та самая, что пережидала грозу в первой комнате. Седой человек устроился рядом с водителем. А водителем оказался тот самый Иван, который во время грозы сидел в первой комнате на подоконнике. Грозно поглядывая на меня из маленького зеркала, висевшего перед его глазами, он гнал машину по какой-то малозаметной дороге, проложенной через травянистые кустарниковые низины, на которых паслось крупное стадо рыжих и черных коров, обмытых дождем. Местами дождевая вода еще не успела уйти в землю и даже заливала дорогу. Несмотря на это, Иван гнал машину полным ходом, разбрызгивая воду колесами и увозя меня неведомо куда на кровавую расправу.
Но я не боялся его расправы. Где-то близко была моя женщина. Об этом сказал мне седой человек, так мудро и спокойно смотревший на мир сквозь толстые стекла своих очков. Не боялся я расправы! Напрасно Иван грозил мне своим свирепым взглядом из зеркала. Женщина моя находилась где-то тут, близко, и что мне было до остального в такие минуты!
На молочной ферме я первым долгом принялся вглядываться в лица женщин, выискивая среди них свою. А вдруг она была именно тут? Ведь неспроста же он такое о ней сказал. Только надо было спросить его об этом еще раз. Пускай точнее назовет место, где ее можно найти. Имея это в виду, я старался держаться к нему поближе, готовый в подходящую минуту ввернуть свой вопрос.
Тем временем нам что-то показывали, и мы смотрели. Я тоже смотрел. Почему не смотреть, если показывают? А показывали нам разные механизмы, помогающие уходу за коровами. Я смотрел на эти механизмы, трогал их и одобрительно кивал головой, как это и полагалось делать человеку, заинтересованному в хозяйстве русских. Да, все было хорошо придумано, конечно, и каждое приспособление стоило внимания. Это вот служило для сбрасывания сена сверху прямо в ясли. Это — для резки соломы. Это — для размалывания концентратов. А вот подвесные вагонетки для уборки навоза, тоже очень удобные — ничего не скажешь. Вот автопоилка. Ткнет корова мордой в корыто — и появляется свежая вода. Отнимет морду — воды нет. А вот электродоилки. Заведут несколько коров в особые стойла, приладят к их соскам продолговатые колпачки и тянут из них теплое молоко в бидоны. А тянуть молоко у них было из чего, как я заметил. Вымя у некоторых коров, огромное и грузное, отвисало едва ли не до пола.
Я смотрел на все это и кивал, стараясь в то же время подобраться поближе к седому человеку, для которого приготовил вопрос. Но подобраться к нему было нелегко. По обе стороны от него шли две девушки, одетые в белые халаты. Они обрадовались ему, словно дочери, и теперь водили его из одного коровника в другой, рассказывая ему примерно так о своих молочных делах:
— У нас тут все электрифицировано теперь. Вот, например, сепаратор и маслобойка. Они приводятся в движение мотором. Сливки на масло идут у нас только от вечернего и дневного удоя. А утренний удой мы перекачиваем в цистерну еще теплым и отправляем в районный центр. Мы там снабжаем больницу, родильный дом, детские ясли, столовые и даже торговую сеть. Семьдесят процентов молочной продукции поступает в район из нашего совхоза.
Да, это было здорово, конечно, насчет семидесяти процентов! Пускай бы и дальше так продолжалось. Но, несмотря на это, они могли бы все же отойти на минутку от седого человека и подпустить к нему поближе меня, который терпеливо шел позади них рядом со старой женщиной, выжидая подходящего момента для своего вопроса. Но они не отходили. Они продолжали рассказывать ему о своих коровьих делах:
— У нас и конкуренты есть: вот, например, в совхозе «Новая жизнь» доярка Люся Антипова собирается получать от своей Зазнобы по семи тысяч литров. Но мы придерживаемся других методов. На одиночных рекордистках далеко не уедешь. Надо всех выравнивать. Наша Чернуха, например, тоже способна дать семь тысяч и даже превысить эту норму. Да и Белохвостка от нее не отстает, и Знойка тоже. Но это все же одиночки. Зато шеститысячниц мы уже насчитываем десятки, не говоря уже о пятитысячницах. Такого же метода придерживается совхоз «Перевал». Он тоже за массовые результаты. Вы бывали там, Антон Павлович?
Седой человек ответил:
— Бывал. Там тоже работает одна моя бывшая студентка. Два года назад кончила институт. Вы ее не знаете?
— Знаем. По переписке. Это Зина Кригер. Она прислала нам письмо с вызовом на соцсоревнование: добиться высокого удоя от десятка коров. Мы выдвинули встречный план: добиться наивысших показателей от целого стада в сто голов. Она согласилась, но только на летние месяцы. Мы ответили, что им это не будет выгодно, потому что наши пастбища богаче. Но они рассчитывают на прикорм за счет пропашных культур. Согласились держать равнение на среднегодовую цифру. И вот соревнуемся. Они привыкли с каждым годом делать шаг вперед и уверены в победе.
— Но ведь и вы, насколько мне известно, не назад шагаете.
— Еще бы! Поквартальные сведения показывают, что обгоняем-то мы!
— Ну и молодцы же вы у меня!
— О, у нас тут скоро такое развернется, Антон Павлович! Сыроваренный завод свой заведем! Дом культуры выстроим!
Такой разговор вели они со своим Антоном Павловичем, не отрываясь от него ни на минуту, пока не показали ему все коровники и телятники. А потом нас пригласили пообедать в столовой совхоза, где я, конечно, постарался не потерять времени даром. Но и после обеда мне не удалось подойти к Антону Павловичу со своим важным вопросом, потому что разговоры о хозяйстве у них так и не прекратились.
И тут я постепенно сообразил, что, пожалуй, попал впросак. Не было здесь моей женщины. Напрасно я надеялся ее тут встретить. Что-то другое имел, наверно, в виду Антон Павлович, говоря мне о ней. Самое верное было, конечно, вернуться скорее на станцию и уехать с четырехчасовым поездом в Ленинград. Но успеть к этому поезду пешком я уже не мог. Успеть к нему можно было только на машине. А машина была у Антона Павловича. Вот с каким вопросом следовало к нему обратиться. И это был уже совсем новый вопрос, который не терпел промедления. Но пока я подбирал для него слова, Антон Павлович сам задал мне вопрос. Он сказал:
— Я вижу, вас всерьез увлекает знакомство с жизнью нашей деревни. Не так ли?
— Да…
— И у меня сложилось такое убеждение, что вы не отказались бы обозреть что-нибудь еще, буде вам представился бы подходящий случай?
— Да…
Я ответил ему так, ожидая, что теперь-то наконец услышу от него о своей женщине. Но он сказал:
— Могу удовлетворить ваше желание и предложить вам побывать в одном зерновом колхозе Горьковской области. Как вы смотрите на такую поездку?
Как я смотрел на такую поездку? Да мне было впору брякнуться в обморок от счастья. А он, должно быть, заметил мою радость и постарался усилить ее такими словами:
— Вот и отлично. Ближе к вечеру мы вас подвезем к станции Лоховицы. Там в семь тридцать будет поезд на Горький. На нем доедете до станции Поспелово. А оттуда до колхоза «Новая жизнь» рукой подать. Я вам дам записку к тамошнему агроному. Тоже мой бывший студент. Славный малый, между прочим. Он с радостью покажет вам все, что пожелаете.
Так вот обернулись у меня дела. Запомните это на всякий случай вы, финские люди, чтобы не повторить моей ошибки. Здесь все у вас идет наоборот. Вы хотите уехать в четыре часа от станции Лоховицы в Ленинград. Но вы не едете в Ленинград. Вместо Ленинграда вы едете в семь тридцать вечера с той же станции совсем в другую сторону. В кармане у вас наспех написанная записка к бывшему студенту Антона Павловича, и сам он приветливо кивает вам на прощание с перрона, стоя рядом со своей женой. Она тоже кивает вам и улыбается. Не будь их на перроне, вы бы, может быть, успели спрыгнуть с поезда, пока он еще не набрал хода. Но они стоят на перроне, приветливо помахивая вам руками, и вы не успеваете спрыгнуть с поезда. Вы едете куда-то дальше в глубину их бесконечной России, чтобы попасть в какой-то зерновой колхоз, который нужен вам, как муравью рукавицы.
Когда площадка вагона опустела, я дал волю своему кулаку, хотя была виновата не столько моя голова, сколько русский дождь. Это он перебил мне путь и повернул меня в обратную от Ленинграда сторону. Даже русский дождь выполнял свою долю в их общем заговоре против меня. Проводница выглянула из вагона и спросила:
— Что это здесь грохотало так?
Я не знал, что грохотало, но в голове у меня все гудело и мутилось, и, чтобы не упасть, я прислонился к двери нагона. Она спросила, беря у меня билет:
— У вас какое место? Постель вам дать? Чай пить будете? Перед Поспеловом вас разбудить или сами встанете?
На все эти вопросы я согласно кивал головой, а когда стемнело, вошел внутрь вагона. Мое место было на второй полке. Выпив два стакана сладкого чаю с сухарями, я взобрался на свое место и там разделся. Мои три соседа по купе еще не ложились. Сидя внизу вокруг фанерного чемодана, они по очереди били по нему игральными костями. В этом занятии им помогал четвертый парень, — из соседнего купе.
Я всмотрелся сверху в их лица, плечи и руки. Любой из них, судя по виду и возрасту, мог оказаться тем самым Иваном, и хорошо, что они со мной не заговорили. Догадайся они это сделать — песенка моя была бы спета. Но у них, слава богу, нашлось более важное дело, чем распознавание своего смертельного врага, и потому я мог спокойно дремать, укрывшись одеялом.
Так закончился седьмой день моего отпуска. Однако перед сном я все же успел оглянуться на пройденный путь, выискивая в нем, по совету Ивана Петровича, признаки проявления дружбы русских к финнам. Только было ли что выискивать, не так ли, Юсси? Какая уж тут могла быть с их стороны дружба, если даже старый человек оказался в общем заговоре против меня, едва я попался ему на глаза. Даже он остановил меня при содействии дождя и заставил свернуть на другой путь, угоняя дальше в глубину России.
А в глубине России мне все еще готовил расправу тот страшный Иван. Он высился где-то там, над своими землями, высматривая меня по всем дорогам. В любой момент могла потянуться ко мне его железная рука. И только Юсси Мурто, может быть, мог бы еще представить собой какую-то преграду в мою защиту. Но до меня ли ему было? Совсем другие думы наполняли его тяжеловесный мозг. Стоя где-то там, на пороге севера, он, кажется, говорил что-то Ивану с хмурым недоверием на лице. Что он там такое говорил? Что-то свое пытался он опять доказать Ивану, неторопливо роняя непонятные для меня слова: «Нет, не пойдет это. Двигать вперед такое дело может только опытный хозяин-собственник, а не молодая горячность. Ее надолго не хватит». А Иван отвечал ему: «Ништо! Она всегда с нами. В этом отличие нашей жизни от вашей, где пора цветения уже позади». Но Юсси Мурто упрямо твердил ему свое: «Нет. Это у вас только в редких случаях могут быть временные взлеты. Но естественное ваше состояние — это отставание и застой». И опять к нему долетал веселый ответ Ивана: «Ништо! Дайте только время — и тогда увидите! Времени спокойного вы мало оставляли нам до сих пор, ваша буржуазная светлость». Не знаю, как возразил ему на это угрюмый, придирчивый Мурто, ибо, пока он раздумывал, меня успел одолеть сон.
19
Рано утром я уже был на станции Поспелове, где первым долгом ознакомился с расписанием поездов. До ленинградского поезда у меня в запасе оставались целые сутки, ибо он только что ушел. Подождав открытия продовольственного ларька, я купил в нем двести граммов печенья и банку рыбных консервов. Заодно я спросил у женщины, продавшей мне это, как пройти в колхоз «Новая жизнь». Она еще не успела догадаться, с каким опасным врагом имеет дело, и доверчиво указала мне дорогу. По той же причине она невзначай отпустила мне продукты, вполне пригодные для еды.
На своем пути в колхоз я вскрыл у ручья перочинным ножом банку и съел запаянную в ней вкусную рыбу безо всякого вреда для себя. И печенье тоже скорее помогло, нежели помешало мне дойти быстрым шагом до колхоза, который раскинулся среди хлебных полей в девяти километрах к югу от станции.
Найдя контору, я вошел в нее и там за столом увидел девушку, красивую и разумную с виду. Я спросил у нее про агронома, но она не ответила. Она что-то подсчитывала в это время, перебрасывая вправо и влево костяшки счетов и занося на бумагу длинные ряды цифр. Насколько я заметил, такие серьезные девушки, постоянно занятые какими-то сложными подсчетами или просто так о чем-то углубленно думающие, имеются у них во многих местах: в конторах, магазинах, буфетах, мастерских. Когда вы спросите у них о чем-нибудь, они не ответят, а если и удостоят вас ответом, то очень коротким, состоящим всего из одного слова «нет».
Вы заходите, например, в галантерейный магазин и спрашиваете у такой девушки подтяжки. Но она в это время решает в уме какой-то очень трудный вопрос, требующий большой сосредоточенности, и, конечно, отвечает вам: «Нет». А когда вы сами указываете ей на подтяжки, лежащие перед ее глазами под стеклом витрины, она почему-то не говорит вам «спасибо» за такую помощь. Она скорее сердита на вас за такую помощь и с этой минуты только и ждет, чтобы вы скорее ушли.
Иногда вы застаете такую девушку решающей свою таинственную проблему с помощью какого-нибудь молодого человека, успевшего зайти в магазин раньше вас. Она стоит по одну сторону прилавка, он по другую. И они так углублены в свои вычисления, приблизив над прилавком друг к другу лица, что бесполезно пытаться вернуть ее к тем делам, ради которых она в магазине поставлена.
Не знаю, почему здесь у них не принято замечать столь редкие таланты этих глубокомудрых девушек и соответственно использовать их по назначению. Почему не дают им других дел, применительно к их свойствам, не поручают, например, подсчитывать звезды на небесах и решать всякие иные тайны Вселенной. Можно бы также применять их на подметании улиц. Такая работа тоже не препятствовала бы их склонности к размышлениям. А на их место брать девушек, не уходящих мыслями в заоблачные миры и способных видеть перед собой земные вещи и в том числе разных посетителей и покупателей, которых они назначены обслуживать.
Девушка в колхозной конторе оказалась такой же. Занятая подсчетами, она не заметила меня и даже не услыхала моего вопроса, несмотря на ввернутые в него вежливые обороты. Не знаю, что она с таким старанием подсчитывала. Может быть, уточняла, сколько миллионов голов скота имеется в их колхозе. А может быть, готовила сведения для доклада своему руководителю. Он где-то собирался отчитываться в своих делах, и она готовила ему цифры для отчета. Ему надо было где-то сказать, насколько выросло хозяйство колхоза. Так у них тут водится. В хозяйстве каждый год непременно должен быть виден рост — и в поголовье скота и в урожае хлебов. Повторять в докладе из года в год одни и те же цифры руководителю невыгодно. Его могут снять с работы. И вот она, должно быть, писала для него: «В прошлом году мы собрали двадцать тысяч пудов ржи, а в этом году вырастили тридцать тысяч колосьев ржи». В таких цифрах виден рост, и они очень удобны для доклада начальству, скрывая от него иногда невеселую суть. Примерно о таких вещах я уже читал в их газетах.
Не знаю, правда, какие цифры выводила на бумаге эта девушка, но я терпеливо дождался, когда она с ними покончила, и повторил свой вопрос, прибавив к нему для верности новые вежливые слова. Тогда она сердито сказала: «Сейчас» — и вышла из конторы.
Через открытое окно, выходившее в сад, я скоро услыхал ее голос. Она позвала:
— Алексей Сергеич! К вам пришли!
Из глубины сада мужской голос ответил ей вопросом:
— Кто?
Она сказала, понизив голос:
— Не знаю. Приезжий какой-то. Из района, надо думать. А может, из области.
Мужской голос проворчал недовольно:
— Носит их тут нелегкая. Когда нам туго приходилось, никто и носа не показывал, а как мало-мальски поправились, так и зачастили. Где он там?
— В конторе ждет.
— Ладно. Сейчас приду.
Девушка вернулась в контору, а вслед за ней скоро появился молодой светло-рыжий парень в клетчатой рубахе с короткими рукавами. Окинув меня недовольным взглядом, он прошел в соседнюю комнату и там указал мне на стул. Я подал ему записку Антона Павловича. Присев на край стола, он прочел ее и сказал, покачав головой:
— Эка незадача, а?
Я смотрел на него вопросительно, ожидая, чем он пояснит свои слова. И он пояснил:
— Тут Антон Павлович просит показать подателю сего, то бишь вам, наши достижения в хозяйстве. Я, разумеется, очень уважаю и люблю Антона Павловича, своего бывшего преподавателя и видного ленинградского профессора. Но какие у нас достижения? Нет у нас никаких достижений. Живем — в чем душа. С хлеба на квас перебиваемся.
Я не совсем понял, что означали эти выражения, но ответил на всякий случай.
— Да, это плохо.
Он подхватил:
— Еще бы не плохо! Хуже некуда! Буквально на ладан дышим. В прошлом году едва по четыре килограмма зерна на трудодень натянули. А в нынешнем и того не будет. Все дождями затопило.
Я поднялся со стула и сказал со вздохом:
— Да, жалко, что у вас нет достижений. А мне так хотелось посмотреть! Очень жалко!
И, делая с тайной радостью первый шаг к двери, я мысленно уже видел себя идущим без всяких препятствий назад, к станции. А рыжий парень развел руками и сказал:
— Да, что ж делать? К сожалению, так печально сложились у нас дела. Хиреем и чахнем. А почему он вас в приокский колхоз не направил?
— Куда?
— В приокский. «Заря коммунизма». На правом берегу Оки он стоит. Все газетчики, писатели, художники и прочие обычно туда стремятся попасть. И зарубежных гостей туда же направляют. К нам заграница никогда не жалует. Одни только свои представители из района или области, да и то по долгу службы. А мы что, лыком шиты? Или заграничных гостей не заслуживаем? В позапрошлом году к нам китайцы приезжали. В прошлом — болгары. Почему им такое предпочтение? Потому что к областному центру ближе? Но ведь и мы не так уж далеко от чугунки живем.
Я напомнил ему:
— Но если у вас дела так плохи, то зачем вам заграничные гости?
Он поморгал озадаченно светло-рыжими ресницами, потом рассмеялся и сказал:
— Да, это вы правильно подметили. Показывать нам действительно нечего. Бедно живем, серенько. Из последних сил тянемся. Где уж нам, дуракам, чай пить.
Я покивал ему немного, показывая этим, что вполне ему сочувствую, а сам тем временем все ближе подвигался к двери. Еще два-три шага — и я бы очутился в первой комнате, откуда путь мне к выходу был свободен, ибо девушка вряд ли стала бы упрашивать меня остаться. Но в это время в контору вошел еще один мужчина, невысокий, плотный, средних лет, толстогубый и толстощекий. Глаза его щурились, набравшись на улице солнца, и в них была хитринка.
Агроном сказал ему, кивая на меня:
— Вот какое дело, председатель. Здесь товарищ интересуется колхозным хозяйством. Его Антон Павлович по доброте своей задушевной к нам направил. Но вот беда: нечем нам похвастаться, правда? Неудачники мы. Отсталый, захудалый колхоз. В хвосте плетемся.
Я стоял боком к ним, имея в виду добраться скорое до двери, но все же увидел, как у председателя раскрылся от удивления рот и округлились прищуренные до того глаза. На стене у них висело небольшое зеркало. В нем отражалось обожженное солнцем лицо агронома. И в нем же я увидел, как агроном подмигнул председателю несколько раз одним глазом. Председатель прокашлялся, чтобы дать себе время сообразить, что означает это подмигивание, и неторопливо уселся за стол. Агроном продолжал ему подмигивать и тянуть все тем же нудным голосом:
— Да, не повезло нашему колхозу. То неурожай, то еще какое-нибудь стихийное бедствие. Захирели мы что-то за последнее время. И до чего ж досадно, братцы, что нечем гостей порадовать, желающих нашими достижениями полюбоваться!
Председатель, кажется, сообразил наконец, куда гнул троном. Глаза его перестали круглиться и снова ушли в пухлые щели, полные затаенного лукавства. Солидно откашлявшись еще раз, он подтвердил рокочущим басом слова агронома:
— Да, это справедливо, что и говорить. Отощали мы совсем, хоть в омут головой. Ни тебе хлебов как следует снять, ни овощей, ни сена. О прошлом годе, например, на трудодень колхозникам ни зернинки не перепало…
Тут агроном перебил его поспешно:
— Зерна, правда, выдали по четыре килограмма, как я уже сказал, но…
Председатель взглянул на него сердито, словно говоря: «Так какого же черта ты мне голову морочишь?». Я отвернулся, чтобы не мешать ему это выразить. Кинув опять короткий взгляд в зеркало, я увидел, что и агроном тоже скроил ему в ответ недовольную гримасу, которая выражала примерно такое: «Не умеешь врать, так не суйся!».
Одним словом, дело все определеннее клонилось к тому, чтобы позволить мне без помехи вернуться на станцию. И мысленно я уже шагал туда. Торопиться, правда, было не обязательно. На обратном пути можно было даже прилечь у того ручья. Пусть пожурчит мне еще раз на прощание об отдаленных местах России. А пока что я делал печальное лицо, как бы в сочувствие их бедам, и, стоя к ним боком, выжидал подходящего момента, чтобы шагнуть через порог. Председатель тем временем выправлял свой промах. Он говорил:
— Да, только зерном и спаслись. Но ведь одним зерном не прокормишься. Его продать нужно, чтобы промтовары купить и всякое прочее. А только ли промтовары человеку надобны? Ему необходим и всякий другой продукт. А где его взять, если погорело все от засухи?
Тут агроном опять перебил его:
— То есть затопило дождями, как я уже сказал.
Опять они свирепо глянули друг на друга. Но на этот раз председатель уже не запнулся и продолжал гудеть, выкладывая все новые и новые сведения о страшных бедствиях своего колхоза:
— Н-да, такое дело! Где затопило, а где и погорело. Вдвойне пришибло. Как тени люди бродят. Ни тебе купить чего, ни тебе так подобрать. Слезы сплошные. А тут скот с чего-то падать начал. Птица вся передохла…
Так вот обстояли у них дела. И ты, Юсси, был бы доволен сверх меры, услыхав такое подтверждение всем твоим предположениям. Этот председатель, с виду как будто веселый, развернул передо мной далеко не веселую картину своих колхозных дел. И он открыл бы мне, наверно, новые глубины людских бедствий в своем колхозе., а может быть, и по всей России, не будь рядом с ним агронома. Тот помешал этому. Считая, должно быть, что председатель и без того много выдал мне их скрытых тайн, он умышленно громко зевнул, заглушая его слова, затем спрыгнул со стола, громыхнул стулом и сказал:
— Да что там говорить! Плохо дело! Дай бог до нового урожая дотянуть.
И председатель, с готовностью подхватывая это новое сомнение, прогудел уныло:
— Да где уж там дожить! Не дожить. Уже теперь многие врастяжку лежат. Стоном стон стоит по деревням и весям…
Но агроном снова перебил его. Он понял, кажется, что председатель готов забрести в своих признаниях бог знает до каких пределов, и потому свернул разговор на другое. Он сказал:
— Я вот что придумал…
Тут председатель опять с опаской покосился на агронома, словно ожидая упрека еще в каком-то промахе. Но тот успокоил его движением руки и продолжал быстро, не давая председателю раскрыть рот:
— Я думаю порекомендовать нашему уважаемому гостю «Зарю коммунизма». Как ты на это смотришь?
Председатель кивнул, хлопнув ладонью по столу.
— Правильно! Вот это справедливо придумано!
— Если, разумеется, наш высокоуважаемый гость сам ничего не имеет против.
Сказав это, рыжий агроном взглянул на меня вопросительно. Но я не совсем понял его намерение и потому только пожал плечами. А он растолковал это по-своему и сказал:
— Вот и прекрасно! А принимать гостей там умеют. Что другое, а этому их не учить. Вот и пускай погостит у них рекомендованный ленинградским профессором товарищ. А затраты могут отнести за наш счет. Сейчас я черкну два слова Миронычу — и все будет в порядке.
Я все еще не понимал, что он там затеял, но уже почувствовал неладное. И, пробуя спастись от этого неладного, я вышел тихонько боком вон из второй комнаты в первую, делая вид, что разглядываю таблицы и плакаты на стенах. Это хорошо, что они развесили в своей конторе для моего удобства плакаты и таблицы. И уже близка была от меня наружная дверь, которую осталось только толкнуть рукой, чтобы вырваться на свободу. Но к этому времени рыжий успел написать свои два слова. Выйдя из второй комнаты, он протянул мне запечатанный конверт и сказал:
— Вот, пожалуйста! Передадите это ему в собственные руки — и все будет устроено.
На конверте стояло чье-то имя. Я спросил:
— Где я должен это ему передать?
Он опять удивился:
— Да там же! В «Заре коммунизма».
— А где эта «Заря коммунизма»?
Он опять удивился:
— Я же сказал: на Оке. — Но тут он спохватился: — Да! Ведь прямой дороги туда от нас нет. — Он призадумался и вдруг, хлопнув себя ладонью по лбу, обратился к девушке: — Нина, узнай быстренько, машина, которая была у нас проездом из лесничества, ушла или нет?
Девушка расспросила кого-то насчет этого по телефону и, не вешая трубки, сказала агроному:
— Нет, стоит еще. Возле столовой.
Тот обрадовался:
— Вот хорошо-то! Скажи, чтобы подождала. От нас к ним человек поедет.
Девушка передала его слова в трубку. А он сказал мне с улыбкой:
— Вам повезло, Под счастливой звездой, видно, родились. Идемте.
И, открыв наружную дверь, он вежливо отступил на шаг в сторону, приглашая меня пройти первым.
Да, мне повезло, конечно. Все дальше уносило меня от моей женщины куда-то в бездонную глубину их коварной России, и не было от этого спасения. Я осмотрелся. Голова моя работала с отчаянной скоростью. У стены стоял табурет. Если бы схватить этот крепкий, добротно сработанный табурет за ножки и ударить им агронома по его светло-рыжей голове, то как развернулись бы события дальше? Вот я ударяю, и агроном падает, не успев переступить порог. Но, увидя это, непременно вскрикнет девушка, и прибежит из второй комнаты председатель. А он крепкий мужчина. Его придется ударить раза два-три, прежде чем он утихомирится. Ну, хорошо. Этих двоих я убью. А как быть с девушкой? Телефонные провода я перерву, чтобы она не позвала на помощь других людей, но как ударить этим грубым табуретом по ее нежной красивой голове, которая так нужна ей для разных сложных подсчетов, особенно в те моменты, когда перед ней появляется посетитель?
Все эти соображения пронеслись в моей голове за то короткое время, пока я кивал с благодарностью агроному, имея в виду его вежливость, и пока переступал порог, выходя первым на крыльцо. На крыльце мы с ним оказались один на один. Однако теперь нас было видно с улицы. И если бы я убил на крыльце агронома, то заодно мне пришлось бы убить всех проходивших по улице, чтобы не оставить свидетелей. А их было много, идущих туда и сюда, и у меня, пожалуй, устала бы рука, убивая их всех. Не стоило их убивать. Бог с ними, пусть живут!
Подарив таким образом жизнь тем, кто находился в это время на колхозной улице, я спрятал письмо в карман и зашагал мимо них, сопровождаемый рыжим агрономом. Не знаю, куда он меня вел, но хорошего я от него не ждал. Недаром говорят, что все рыжие люди полны плутовства, какая бы нация их ни породила. Собрать бы их со всего света в одну республику — вот где закипело бы веселье!
Я шел по улице деревни, поглядывая на добротные деревянные дома, стоявшие по обе ее стороны за легким зеленым заслоном цветников и палисадников. По их виду трудно было бы догадаться о тех бедствиях, какие постигли этот колхоз. Ребятишки попадались мне навстречу краснощекие, упитанные. Женщины тоже были румяные, налитые, загорелые. Не хуже выглядели и мужчины. Ни одного из них я не увидел нигде лежащим от голода врастяжку, на что с такой горестью жаловался председатель. Все лежащие врастяжку были убраны с моей дороги, а навстречу мне подсунуты те, кто еще сохранил какую-то видимость жизни. И ты, Юсси, удивился бы тому проворству, с каким это все было проделано.
Скоро мы подошли к широкому одноэтажному дому, возле которого стояла легковая машина, окруженная детворой. Агроном заглянул в нее и сказал:
— Пустая. Обедают, вероятно. Ну и ладно. Благо не уехали. А вы не хотите пообедать?
— Пообедать?
Странные вопросы он мне задавал, этот светло-рыжий агроном. Разве бывают на свете люди, не желающие обедать? Я даже усмехнулся в ответ на такую наивность. А он, как видно, догадался о причине моей усмешки и открыл дверь, над которой висела надпись: «Чайная». Пройдя с ним внутрь, я вобрал в себя вкусный мясной запах и осмотрелся. Всего в чайной было шесть столиков. За тремя из них уже сидели люди, звякая вилками, ложками и стаканами. Агроном указал мне место за свободным столиком, а сам прошел на кухню. Я услыхал, как он сказал там кому-то: «Обед один как бы организовать, Зоенька?». На что женский голос ответил ему: «Никак. После двенадцати обеды отпускаем». Но агроном сказал: «Неудобно, знаешь. Надо отпустить человеку. Мы и так его выпроваживаем бесцеремонно…». Тут кто-то закрыл кухонную дверь, и я перестал слышать голоса.
Но скоро дверь снова отворилась. Из кухни вышла молодая женщина в белом переднике поверх голубого платья. Она сказала мне: «Здравствуйте», — и поставила передо мной на стол тарелку с крупно нарезанным черным хлебом, прибавив к этому ложку, вилку и ножик. Сходив на кухню еще раз, она принесла мне тарелку супа. Я не замедлил окунуть в него ложку. Он был горячий, жирный, ароматный. Когда из кухни вернулся агроном, я сказал ему:
— Мясо у вас хорошее.
Он ответил самодовольно:
— А у нас плохого и не бывает. — Но тут же, словно спохватившись в чем-то, он добавил уже другим, сникшим голосом: — То есть не бывало раньше, пока вот беда не грянула. Это мы вчера последнего бычка порешили. Жалко было его до слез. Ну, прямо рука не поднимается. Режем, как сына родного. А что будем дальше делать — ума не приложу! Погибаем совсем. Ох-хо-хо!.. Ну, вы тут кушайте, а я пока насчет машины договорюсь.
Он отошел к одному из столиков, за которым сидели мужчина и женщина, и вступил с ними в разговор. Я продолжал есть суп, не забывая также уделять внимание свежему ржаному хлебу. Вкус к супу у меня не пропал, несмотря на жалость к зарезанному с таким горьким плачем бычку, и скоро тарелка моя опустела. А когда женщина в белом переднике принесла мне отбивные котлеты с гречневой кашей, агроном опять вернулся к моему столу. Я сказал ему, проглотив кусок:
— Это баранина.
Он подтвердил:
— Да. Сегодня еще было из чего сделать, а завтра хоть волком вой. Я же говорю: вот-вот крахнем окончательно. Приедут в один прекрасный день с поля трактористы, а нам их и накормить будет нечем. Прямо беда, ей-богу!
Женщина в белом переднике, ставя передо мной компот, удивленно вскинула на него глаза и даже раскрыла рот, чтобы сказать что-то. Но он, заметив это, быстро отвернулся и, горестно махнув рукой, принялся ходить взад и вперед между столиками. Вид у него был понурый. Близость полного краха их захудалого колхоза совсем его пришибла.
Но когда я, покончив с компотом, достал бумажник, он сказал, подойдя ко мне:
— Нет, нет. Платить не надо. Вы наш гость. Как можно!
Я спрятал бумажник. Ну что ж. Выходит, что и среди рыжих не все уж такие отпетые. Не стоило их, пожалуй, собирать вместе. Пускай живут по своим родным домам. Бог с ними!
Агроном вышел со мной на улицу и направился к легковой машине, вокруг которой все еще толпились ребятишки. На этот раз она и внутри не была пустой. Впереди сидел водитель, а сзади — худощавая русоволосая женщина лет сорока. Агроном открыл заднюю дверцу, и женщина подвинулась, чтобы освободить мне место рядом с собой. Когда я уселся, она спросила меня:
— Вы никак без багажа?
Говор у нее был как-то по-особому мягкий, певучий, и последний звук ее вопроса протянулся на двух разных нотах, словно его повторило вслед за ней некое отдаленное, звонкое эхо. Агроном сказал ей на прощание:
— Так вы, надеюсь, не забудете рассказать ему, как через Оку перебраться?
И женщина ответила:
— Зачем забудем? Не забудем. Все расскажем, объясним, как надо, обязательно.
Похоже было, будто она не говорила, а пела — так плавно и мягко лились из ее рта слова. Она сказала водителю:
— Трогаем, Мишенька!
Водитель включил мотор. Я приготовился захлопнуть дверцу, но в это время увидел проходившего мимо председателя колхоза. Он остановился, махнул мне приветливо рукой и пророкотал своим басом: «Желаю!». Я помедлил немного с дверцей, ожидая добавления к этому слову. А он придвинулся ко мне поближе, спросив попутно у агронома вполголоса:
— Как его звать-то?
Агроном пожал плечами:
— Понятия не имею. Да и надоело спрашивать, слишком уж зачастили.
— Ты и документы не смотрел?
— Нет.
— Эх, ты!..
Председатель протянул мне руку. Он, конечно, обязан был что-то подобное сделать как хозяин колхоза, из которого уезжал гость. Протянув мне руку, он сказал:
— Счастливо доехать. До свиданьица, не знаю, простите, как вас звать-величать?
— Меня звать-величать Аксель Турханен. Я финн. Я приехал к вам из Финляндии. Из той Финляндии, которая с вами воевала. Приехал искать дружбы и посмотреть вашу жизнь. До свидания.
Я приветливо кивнул им обоим и захлопнул дверцу. Мишина тронулась, постепенно набирая ход. Я оглянулся. Они стояли там перед чайной, глядя друг на друга и в недоумении разводя руками. О чем они там говорили? Надо думать, что в разговоре своем они не упустили случая еще раз вспомнить о своем умении принимать заграничных гостей, когда те к ним попадают.
20
И опять меня понесло неведомо куда по их русским дорогам. Но мне уже было все равно. Не я ехал — меня везли. Неведомые таинственные силы действовали тут против меня, и бесполезно было с ними бороться. Россия взяла меня в свои страшные лапы и уже не отпускала. Русская тройка зацепила меня своей стремительной колесницей и поволокла за собой. Как это там говорится: «Эх, тройка! птица тройка…». Но почему она не поволокла меня в сторону Ленинграда? Почему без конца тянет от него все дальше и все туда же, на юго-восток? И не пора ли уже показаться пределам России в этой ее части? Сколько можно так мчаться в одну только эту сторону и не наткнуться на предел? Ведь на земле не только одна Россия. Ведь упирается же она во что-то — в Индию или Австралию. Или, не упираясь ни во что, огибает земной шар? Похоже, что так оно и было, потому что она раскрывала передо мной все новые и новые недра, и опять не было видно ей конца.
Машина неслась быстро по мягким проселочным дорогам, а по сторонам снова развертывалось до самого горизонта, снова раздвигалось, поворачивалось и проносилось мимо все то обильное, тучное, хлебное, сытное и налитое жизнью, что составляло Россию. Но мне было все равно. Меня все дальше уносило от моей женщины. А без нее что мне оставалось в жизни?
Я сидел и молчал. И женщина рядом со мной молчала. Я посмотрел на нее украдкой. Темно-серая юбка спускалась чуть ниже ее колен, согласно моде, позволяя видеть полноту и стройность ее ног, а груди плотно заполняли предусмотренные для них выпуклости жакетки. Серые глаза на ее загорелом худощавом лице казались немного усталыми, но в них таился ум. Видно было, что эта женщина хватила жизни. По своему возрасту она еще не перестала быть женщиной и в то же время успела испытать все, что предписано богом испытать женщине. Она знала все, что касалось женщины, и, конечно, была способна многое понять.
Заметив, что я смотрю на нее, она тоже повернула ко мне лицо. И, так как я был в ее стране гостем, она сочла себя обязанной по праву хозяйки сказать мне что-нибудь и сказала своим певучим голосом:
— Далеко же вас оттуда занесло, от Финляндии вашей.
В ответ на это я мог сказать ей «да» или просто кивнуть головой. Но я видел перед собой умные глаза зрелой женщины, способной очень многое понять, и я сказал, не задумываясь особенно над своими словами, ибо мне было все равно:
— Русская женщина отказалась от меня — и вот я еду.
Она помолчала с минуту, пытаясь понять мои слова, но в то же время не отводя от меня своего внимательного взгляда, потом спросила:
— К ней едете?
— Нет. Она живет под Ленинградом.
На этот раз она помолчала дольше. За это время водитель успел остановить машину перед какими-то очень высокими воротами, обтянутыми железной сеткой, успел проехать в эти ворота, закрыть их за собой и снова тронуться вперед. И только тогда она задала мне новый вопрос:
— Наша, советская женщина?
— Да.
— Незамужняя?
— Да.
— Молодая?
— Ваших лет примерно.
Она опять призадумалась. За это время водитель успел проехать с большой скоростью еще изрядный кусок России и снова сбавил ход. Какой-то странный шум впереди заставил его сделать это. Женщина сказала мне:
— Да, разное в жизни бывает. Но если не обидели вы ее ничем, то надежды-то не теряйте. Вот надумали поездить по нашей стране — и правильно. Так она вам ближе и понятнее станет, зазнобушка ваша. И почему отказала — тоже поймете. А там, глядишь, и надумаете, чем ее сердце вернее взять.
Слова из ее красивого женского рта лились плавно и звучно, как песня. Но я с трудом их разобрал. Странный шум впереди усилился. Он бурно надвигался на нас, и скоро что-то белое, крикливое заклубилось вокруг машины и над ней, заслоняя временами солнце. Водитель повел машину самым тихим ходом. Женщина все еще смотрела на меня. И, догадываясь, должно быть, что я не во всем ею сказанном разобрался, добавила уже громче:
— Можно сказать, что вы ее же и увидите в этом…
Она повела вокруг рукой, но не успела договорить.
Впереди кто-то крикнул, и водитель притормозил машину. Женщина сказала ему:
— Тебе бы, Мишенька, кругом было ехать. Вишь, тут какое творится.
Водитель ответил виновато:
— Да кто ж их знал! Думалось, напрямик быстрее, а получилось вон что. Жди теперь, когда оно рассосется.
Я прильнул к окну, думая о словах женщины. Как она сказала: «Вы и ее увидите в этом»? В чем этом? В этом поселке? В этом городе? Или в том, что бушевало и клохтало вокруг машины? Это были куры и петухи, все белого цвета с красными гребнями. Их выпускали из каких-то построек, и они вываливались оттуда целыми облаками как раз на пути машины. Одна курица даже залетела внутрь машины сквозь открытое оконце. Женщина поймала ее, погладила, сказав что-то ласковое, и выпустила обратно.
Белые потоки птиц появлялись откуда-то слева с такой стремительностью, словно их выдувало из огромных труб. Они поступали оттуда в несколько слоев, распространяя вокруг себя в воздухе перья и пух. А вправо от машины они растекались вширь, устилая собой огромное зеленое поле, на котором им предлагали попастись в эту пору дня. Их было столько, этих белых потоков, клубков и завихрений, что временами они совсем заслоняли окна машины, так что в ней становилось темно. Не в этих ли белых завихрениях следовало мне высматривать мою женщину? Я обернулся к своей спутнице, готовый спросить ее об этом. Не сюда ли она указала рукой? Она увидела вопрос на моем лице и сказала громко, заглушая хлопанье крыльев и кудахтанье:
— Птичий совхоз.
Птичий совхоз? Так не в этом ли птичьем совхозе увижу я свою женщину?
Какая-то женщина в белом халате действительно появилась возле машины. Она крикнула в окно водителю:
— Что же ты, Мишенька, время-то какое неподходящее выбрал?
Я всмотрелся. Нет, это была не моя женщина. И голос не тот и говор не тот.
Мишенька ответил ей:
— А поди узнай, когда вы их тут перетряхиваете!
Он был совсем еще молодой парень, этот Мишенька, почти мальчик, и потому мог себе позволить быть неласковым с женщинами. Из-за этого он не переставал оставаться для них Мишенькой. Женщина в халате кивнула моей спутнице и осталась позади. Машина все еще двигалась понемногу. Птичьи стаи на ее пути постепенно поредели. Она прибавила ходу и скоро опять оказалась перед высокими сетчатыми воротами, вделанными в такой же высокий забор, тоже состоящий из мелкой проволочной сетки.
За воротами мы понеслись быстрее, хотя птичье царство еще не кончилось. Но здесь птицы были другого сорта и занимали больше пруды и берега возле них, мало интересуясь дорогой. Один матерый гусак, правда, ринулся к нам с вытянутой шеей, но, не догнав машину, вернулся к своим гусыням и спросил: «Здорово я их напугал?». И те ответили хором: «Да, да, да!». Другой гусак напал на встречную лошадь, везущую телегу с навозом. Он так крепко вцепился лошади в бок у передней ноги чуть пониже оглобли, что даже повис, поджав лапки. Лошадь, правда, его не заметила. Зато гусыни с тревогой поглядывали вслед своему господину, переговариваясь втихомолку между собой по поводу его длительного отсутствия. Мы с женщиной поулыбались, глядя на это, и она сказала:
— Всего у них три сектора. Есть еще индейки и цесарки. Там тоже кавалеры такими героями выступают — ну, прямо хоть в генералы производи!
Я хотел спросить ее как бы в шутку: «Не в том ли секторе мог бы я увидеть мою женщину?». Но она в это время сказала:
— Между прочим, здесь в столовой обеды хорошие варят. Бульоны куриные — как нигде. Кура всегда есть жареная, гусятина. Ты, Мишенька, не хотел бы пообедать?
Но Мишенька ответил, не сбавляя скорости:
— Не знаю. Стоит ли время терять?
Такое понятие было у этого парня. Съесть жареную курицу и тарелку-другую бульона для него означало потерять время.
Женщина обратилась ко мне:
— А вы?
Но она видела, наверно, как я обедал, сидя в одной комнате вместе с ней. Один я обедал. Все остальные только еще завтракали, и она в том числе. Что я мог сказать? Пришлось признаться:
— Спасибо. Я обедал.
И мы покатили дальше, оставив позади себя нетронутыми всех этих жареных куриц, гусей, уток и вкусные бульоны. Мне это нельзя было простить, конечно. Для чего я ездил по России? Я ездил по России для того, чтобы узнать жизнь русских людей и определить, пригодны ли они для дружбы с финнами. Разве не так определили мы с Иваном Петровичем выпавшую на мою долю важную роль? И можно допустить, что я выполнял ее по мере сил. Кто стал бы это оспаривать? Но как я могу узнать жизнь русских, если буду проезжать мимо русских жареных куриц и бульонов, не пытаясь определить попутно и их пригодность для той же цели?
Однако злое дело совершилось. Машина унесла меня дальше, не дав проникнуться делами этого интересного и очень полезного для организма хозяйства, если иметь в виду жареных кур и бульоны. Белокурый Мишенька оказался тем виновником, кто внес помеху в дело дружбы между финнами и русскими. Он увез меня от пункта, где мои способности послужить на пользу этому делу могли бы развернуться особенно плодотворно.
Он привез меня в край, где леса занимали больше места, чем поля и деревни. В одном лесу он даже остановился, чтобы обтереть машину, на которой куры оставили свои следы. Я вышел поразмяться немного. Среди деревьев этого леса я не увидел ни елки, ни сосны, ни березы, но узнал клен, дуб и липу, хотя они — редкие гости нашего севера. Остальных деревьев я не знал. Тем не менее это были высокие деревья, покрытые густой листвой. Одним словом, я попал в такую часть России, которую даже Арви Сайтури не мог бы назвать отторгнутой от финской земли по признакам родства деревьев.
Из этого леса мы довольно скоро доехали до конторы лесничества. Женщина подхватила свой портфель и, сказав мне: «Я сейчас», — ушла внутрь. Но у меня еще были к ней вопросы, и потому я тоже на всякий случай вошел вслед за ней. Внутри за столом сидел средних лет мужчина и держал возле уха трубку телефона. Кивнув нам, он сказал в трубку:
— Нет, нет. Захолмью не отпускать ни одного кубометра, пока не погасят долг. А быковским — да. Ну, они же — совсем другое дело. Это состоятельный клиент и добросовестный плательщик. Пятьдесят кубометров на первых порах, но чтобы соблюдали расчистку. А остальные отдельно будем оформлять, по другому участку.
Он повесил трубку и спросил женщину:
— Ну, как съездила?
Она ответила, положив на стол портфель:
— Неплохо. Все контракты оформила.
— Молодец!
Тут он обратил внимание на меня, но она в это время сказала:
— Разбираться уж завтра будем. А сейчас я — домой, да, кстати, вот гражданину дорогу в Корнево расскажу.
Он спросил меня:
— А вы откуда будете? Уж не писатель ли случайно?
— Нет…
— Жаль. Писателя бы нам сюда! У нас такие грандиозные дела затеваются!
Я развел руками, показывая этим, что жаль, конечно. Я так хотел бы заняться описанием их грандиозных дел, но что ж делать, если нет к тому таланта. Сказав ему: «До свиданья», — я вышел вслед за женщиной из конторы. Она провела меня некоторое время по улице поселка и затем свернула на боковую дорогу, уходящую в лес. Дорога была узенькая, почти тропинка. Женщина довела меня до развилки и остановилась. Пользуясь моментом, я задал ей наконец свой вопрос:
— Будьте добры, пожалуйста, не откажите в недоразумении. Вот вы сказали там, в машине, что я увижу ее в этом. В чем — в этом?
Она не сразу меня поняла, но потом вспомнила:
— А-а, вот вы о чем! Да, да, помню. Я хотела сказать, что вы увидите ее во всем этом, что вас тут окружает, иначе говоря, во всем этом интересном и бурном кипении нашей новой жизни. То есть, наблюдая эту жизнь, вы сами проникнетесь тем же, чем полон и ее внутренний мир. Понимаете? Она через это станет вам ближе и понятнее. А это все равно что увидеть ее самое. Понимаете?
Я понял, конечно. Вот уже второй человек втолковывал мне в голову это понятие. Сперва ленинградский профессор, теперь женщина из лесничества с умными глазами и мягким, певучим говором. Как не понять после этого? Даже менее догадливый человек сумел бы такое себе уяснить.
Она объяснила мне, как выйти по лесной тропинке к берегу реки у места переправы, и я отправился дальше в глубину их нескончаемой России, а русский лес тут же с готовностью сомкнул надо мной свою зеленую листву, полную птичьего перезвона. Конечно, я понял то, что сказала мне умная русская женщина, но веселее мне от этого не стало, ибо теперь я уже знал наверное, что моей женщины в этих краях нет и что я продолжаю удаляться от нее все дальше и дальше. Куда я удалялся и зачем? Этого я не знал.
21
Скоро лес кончился, и я вышел к низкому песчаному берегу, вдоль которого тянулись заросли красной лозы. У берега стояла старая баржа. Невдалеке, чуть выше по течению, виднелась запань. В ней расположился землесос, углублявший дно. Его толстые черные трубы пересекали поперек всю запань, выкачивая на берег смесь из воды, ила и песка. Напротив баржи на берегу стирала белье женщина. Я спросил ее насчет перевоза, и она крикнула:
— Серега! Серега!
На ее крик из домика, выстроенного на палубе баржи, вышел здоровенный детина лет сорока. Он был бы, конечно, тем самым Иваном, если бы не был Серегой. Потянувшись, он спросил, что у нее загорелось. Она указала на меня:
— Перевези вот гражданина.
В ее голосе тоже были певучие нотки, как и у той, из лесничества. Детина сладко зевнул, показав полный рот золотых зубов, и сказал:
— С полным нашим удовольствием.
И даже в его голосе просквозила певучесть, схожая с той, что была у женщин, только басистее. Он спустился по сходне к маленькому деревянному причалу, возле которого качалась на волнах лодка, сел в нее, отвязав цепь, и сказал мне, указывая на корму:
— Пожалуйте!
Я шагнул в лодку и уселся на корме. В это время от леса донесся женский возглас:
— И меня, Сергей Леонтьевич! И меня-а!..
И опять-таки это было скорее пропето, нежели сказано. В такое певучее царство я попал на этот раз. Женщина была молодая, загорелая, светлокудрая и несла в руках объемистую корзину, накрытую цветным платком. Она уселась на корме рядом со мной, поставив корзину себе на колени, и лодка тронулась. Обогнув баржу, гребец повернул слегка лодку носом против течения и приналег на весла. Греб он частыми взмахами, но без особенных усилий. Действовали только его руки, а туловище оставалось в прямом положении, почти не раскачиваясь.
Сперва лодка поднялась немного против течения, но у середины реки ее начало относить вниз. Я осмотрелся. Река оказалась шире, чем я предположил вначале. Это противоположный, правый берег ввел меня в заблуждение. Высоко вздымаясь, он казался близким. Но вот лодка уже достигла середины реки, а он все еще оставался там, где был, и только поднялся выше, да отчетливее стали видны деревья и кустарники на его крутом травянистом склоне.
Лодочник подвигался вперед все теми же частыми гребками, держа лодку слегка повернутой против течения. Его не беспокоило то, что лодку понемногу относило вниз. Быстро и без усилий двигая руками, он в то же время спокойно разговаривал с женщиной, сидевшей рядом со мной на корме. Разговор шел о каких-то покупках, об одежде, о зимних сапогах, о шубе. Он сказал:
— С шубой-то можно бы и повременить, на лето глядя.
На что она ответила:
— Не зимой же покупать. Зимой на них спрос такой будет, что и не подберешься. Не успевают к нам товары-то завозить — вмиг расхватывают.
Он успокоил ее:
— Ничего. Наладят в конце концов доставку-ту. Дело на подъем пошло.
Она как будто согласилась:
— Так-то оно так. Но лучше уж прямо в Москве покупать. В прошлом году Варвариха с дочкой погрузили на теплоход мешков пятнадцать картошки да прямо до Москвы. А там — на рынок. Продали, приоделись. Мужику шерстяной отрез на костюм привезли, да и сами ситчиком и сатином запаслись.
Он одобрил этот способ и сказал:
— От нас тоже ездили. Муку возили, сало, мед и овощь всякую.
Женщина закивала:
— Вот-вот! Мы тоже с Егором думаем так-то в нынешнем году. Прямо через Московское море. Удобно. Как не попользоваться?
Пока они так разговаривали, сдабривая обыкновенные русские слова непривычными для моего уха певучими интонациями, лодка постепенно пересекла реку и скоро уткнулась в песчаный берег. Я вышел вслед за женщиной, уплатив по ее примеру лодочнику два рубля. Он пожелал нам доброго пути и улыбнулся женщине, блеснув еще раз на солнце золотым нутром своего рта. Две девочки сбежали к нему сверху по откосу. Он спросил их:
— Туда, что ль?
— Туда.
— Сигайте, стрекозухи. Поехали с орехами!
И он опять повел свою лодку к другому берегу, без устали гребя против сильного течения своими железными руками. Когда мы с женщиной поднялись по тропинке на высокий край берега, он уже достиг середины реки и казался вместе с лодкой и девочками не больше жука средних размеров. Река сверху тоже казалась маленькой, и зеленая лесная даль позади нее открылась глазу километров на десять. Солнце, клонясь к западу, освещало эту даль мягким боковым светом, что породило во многих местах глубокие тени, придавшие всей лесной поверхности выпуклость и упругость.
Оттуда я прибыл. Но куда я прибыл? Что мне надо было тут, на этом высоком берегу русской реки с коротким названием Ока? Она спокойно несла свои воды на восток, перемывая в неторопливых струях солнечные отблески. Она была у себя дома, эта река, и знала в этом доме свое место и назначение. А куда понесет меня, оторванного от родного дома и не знающего своего настоящего места? Плохо человеку, не имеющему на земле своего места. Носят его по своей воле туда и сюда чужие горькие ветры, и нет им дела до его собственных намерений и желаний.
Я оглянулся. Молодая женщина с корзиной на плече уже удалялась от реки. Она пересекла мягкую пыльную дорогу, которая тянулась вдоль края высокого берега, и теперь удалялась по тропинке куда-то в глубину открытой равнины, далеко раскинувшей на все стороны свои засеянные разными хлебами пологие холмы. Ветер играл ее белокурыми волосами и прижимал к широким бедрам тонкое зеленое платье.
Стоя спиной к реке на дороге, которую она пересекла, я глянул вправо и влево. И справа и слева по этой дороге виднелись над обрывом берега окруженные садами и огородами дома. Но до них было дальше, чем до молодой женщины, уходящей в поля. А мне было все равно. Россия заграбастала меня в свой неумолимый плен, и в какую бы сторону я ни направился, плен оставался пленом. И пусть эта женщина уходила от меня, но все же она была в некотором роде мне уже знакома. В лодке я сидел с ней рядом. Это ли не знакомство? Кроме того, я знал, что ее мужа звали Егор и что они собираются осенью отвезти на теплоходе через Московское море в Москву свои сельские продукты, чтобы там накупить нужные им городские товары. Я догнал женщину почти в километре от берега и спросил ее насчет колхоза «Заря коммунизма». Она сказала:
— Так это вам в Корнево надо идти. По той дороге можно было, что над берегом протянулась, видали? Но ничего, дойдете и по этой. Ровнее зато идти будет и ближе вроде.
Пропев эти слова, она указала свободной рукой вперед. Я кивнул и пошел с ней рядом. Идти до второй дороги пришлось километра три, если считать напрямик. А если принять во внимание все изгибы тропинки, проложенной людскими ногами в обход хлебных посевов и свежевспаханных полей, да еще все спуски в овраги и подъемы на холмы, то набралось, наверно, километров пять. Когда мы вышли наконец на вторую дорогу, солнце справа от нас уже приготовилось опуститься за отдаленный холм. Женщина сказала, махнув рукой на восток:
— Вот по этой дороге прямо и пойдете. Увидите там справа и слева деревни, а вы все прямо да прямо. Только не дойти вам сегодня до Корнева. Заночевать бы вам надо.
— Где?
Она подумала немного, озирая окрестные холмы. Зеленые хлеба на них уже достигли своего предельного роста и местами начинали желтеть. Но не в них же она собиралась предложить мне устраиваться на ночь. Это я догадался бы сделать и без ее совета. Она сказала:
— Вот уж и не знаю. У нас разве, на точке…
— Как?
— На нашей выездной точке МТС.
— А-а…
Я все равно ее не понял, но кивнул. Она сказала мне: «Пойдемте», — и сошла с дороги на продолжение тропинки. И опять мы принялись пересекать холмы и овраги. На этот раз я нес ее корзину. Думая, что она побоится отдать ее мне, я довольно несмело сказал ей: «Разрешите, понесу». Но она сразу отдала, только предупредила:
— За ручку несите и не встряхивайте.
Корзина тянула килограммов на шесть, и я упрекнул себя за то, что не догадался взять ее раньше. Пришлось не один раз переложить ее из руки в руку, пока мы добрались до их точки. Точка эта разместилась довольно широко, занимая целый бугор. Самой видной ее частью был деревянный зеленый фургон, стоявший на широких колесах, обтянутых резиновыми шинами. Рядом стояла большая круглая палатка. По другую сторону фургона в соседстве с грудой прицепных плугов чернел трактор. Чуть подальше в кустах лежали три железные бочки с горючим и маслом. Недалеко от палатки была установлена большая плита с духовкой, сделанная из листового железа. Возле нее лежали дрова. За дровами высилась укрепленная на двуколке в лежачем положении деревянная бочка с водой. Трава вокруг была помята, исполосована следами тракторных колес и местами запачкана черным.
Когда мы подходили к этой просторно разместившейся точке, внутри фургона раздавалось металлическое звяканье и два голоса, мужской и женский, очень согласно пели в нем знакомую мне русскую песню. Под трактором лежала на спине одетая в черный комбинезон девушка и копалась в металлических внутренностях машины. Из фургона вышел молодой парень в промасленных темно-коричневых лыжных штанах и в застиранной майке, держа в руках какой-то механизм. Продолжая подтягивать женскому голосу, он спустился по лесенке, но, заметив нас, прервал песню и крикнул:
— О! Молодушка наша вернулась! Да еще никак и подсобника нам привела?
В словах его сквозила та же певучесть, и можно было подумать, что он просто не успел еще переключиться с песни на разговор. Но молодушка ответила ему, отбирая у меня корзину:
— Нет. Они в Корнево идут. У нас только заночуют.
Парень сказал:
— Жаль! Нам свободные руки во как пригодились бы! Ну, а ты как прогулялась? Выполнила заданьице наше?
Она ответила:
— А то нет?
Парень вскинул вверх железный механизм и, звякая им, прокричал на всю окрестность;
— Ура! Слыхали, девчата? Завтра ватрушки с клубникой едим!
Молодушка добавила:
— И с малиной тоже.
— Дважды тебе ура, кормилица и поилица наша!
Парень звякнул еще раз над головой железным предметом и опустился на колени перед трактором. Пригнув голову к земле, он спросил у девушки, лежащей на спине:
— Ну что, Маруся, не получается? Подвинься-ка. Давай вместе думать. Я тут кое-что соорудил.
И он тоже полез под трактор. Тем временем женский голос внутри фургона кончил одну песню и запел другую — о молодушке, которая полюбила проезжего раскрасавца, да так полюбила, что потом всю-то ноченьку ей спать было невмочь. А молодушка ушла в палатку. Я осмотрелся. В днище деревянной бочки был вделан медный кран. На кране висел ковшик. Я взял ковшик, нацедил в него немного воды из крана и выпил. Вода была вкусная, но потеплела за день. Оглобли у двуколки были подперты деревянными рогатками, чтобы удерживать бочку в горизонтальном положении. На оглоблях висела лошадиная сбруя. Значит, воду они привозили на лошади. Сама лошадь, стреноженная, паслась в это время внизу, в травянистой лощине. Но на всякий случай для нее тут же была заготовлена копна свежего, пахучего сена, уже изрядно потрепанная.
Из палатки вышла молодушка, успевшая переодеться в короткую, до колен, темную юбку и в ситцевую кофту без рукавов. Она сразу же захлопотала у плиты, ставя на нее кастрюльку с водой и чугунок. Видя, что она берется за дрова, я сказал: «Позвольте мне». Она охотно позволила, и я принялся растапливать плиту. Дрова были заготовлены из разных сортов дерева неведомой мне плотной породы. Дуб я, правда, узнал сразу. Его мой перочинный ножик не взял. Нашлись в этой груде также два березовых полена. Однако я не стал их жечь и даже бересту на них не тронул. Я просто так подержал их в руках, поглаживая ладонью. Милое финское дерево — украшение земли! Конечно, оно же и русское дерево. Оно же немецкое, французское и английское. И случись нам всем собраться под одной березой, кто из нас мог бы доказать, что ему оно роднее, чем другим? Я мог бы доказать. Одно только мое доказательство было бы самым убедительным. Милое финское дерево — и больше никаких!
Я не стал жечь эти родные мне куски березы. Настрогав стружку с других поленьев, более податливых, чем дуб, я растопил плиту, наполняя ее непривычными для меня дровами. Все это были ценные породы, пригодные скорее на то, чтобы делать из них красивые вещи для услады жизни человека, а не на то, чтобы превращать их в золу ради получения от них минутного тепла. Только богатая Россия могла себе позволить подобное расточительство. Я клал тяжелые, просохшие на солнце поленья в железную плиту, выбирая самые невзрачные и корявые из них. Но таких было немного. Преобладали все же поленья ровные, с красивой, приятной гладкостью на срезах и изломах от пилы и топора. Некоторые чурки пришлось тут же расколоть, чтобы они могли пролезть в узкую дверцу плиты. И у меня сердце сжималось от жалости, когда я нарушал топором их плотную благородную цельность. Но видя, что женщину, занятую у плиты, такая жестокость не смущает, я тоже старался показать вид, будто считаю все это в порядке вещей.
Россия окружала меня, и надо было помнить об этом. В ней и прежде никогда и никто из посторонних не мог разобраться, а тем более теперь. Вот я сидел в центре России на дубовой чурке перед пылающим в железной плите пламенем, а страна сомкнулась вокруг меня прохладной ночной темнотой. И кто ее знает, что она в себе затаила! Два трактора стрекотали где-то в отдалении. Почему они стрекотали в такую пору, когда крестьянину свойственно сидеть дома за ужином и готовиться спать? Парень и девушка лежали при свете паяльной лампы под неисправным трактором. Они что-то паяли там и зачищали напильником. Для какой надобности было им заниматься этим делом ночью, когда день труда уже был позади, а назавтра им предстоял такой же новый день? Все было непонятно здесь и требовало внимания.
Моя женщина была во всем этом. Так сказали мне два умных русских человека. Но в чем же она могла здесь быть? В этой густой темноте быстро наступившей ночи, или в стрекотании тракторов, или в шуме паяльной лампы? Может быть, в песнях второй девушки, вышедшей из фургона к тем двум, что трудились над починкой трактора? Может быть, в этих ценных дровах, дающих такой сильный жар, или в дыме и в искрах, вылетающих из двухметровой железной трубы к звездному небу? Нигде я ее не видел, как ни старался увидеть.
В белокурой женщине, хлопотавшей у плиты, склонен был я увидеть какую-то долю моей женщины, ибо она накормила меня ужином и устроила мне постель на сене рядом с копной. И когда мы все ужинали внутри палатки при свете лампочки, зажженной от батареи, сидя на скамейках вокруг столика, у которого ножки были врыты в ломлю, снаружи загрохотал прибывший с поля трактор. После того как он умолк, остановившись где-то возле бочек с горючим, забренчал рукомойник, укрепленный на стенке фургона, а затем в палатку ввалился сам тракторист.
Я взглянул на него — и клецка выпала у меня из ложки обратно в суп. Нет, это был не Иван, конечно. От Ивана мне бы не было спасения. Но это был один из миллионного легиона двухметровых, о которых мне по секрету сказал Ермил. И пусть ему тоже недоставало до нормы сантиметров трех-четырех, но ширина плеч и громадность кистей рук доказывали, что он состоял именно там, где им изо дня в день разъясняли, как они должны будут ринуться на маленькую Суоми. И не ринулся он на меня только потому, что не получил еще такого приказа. Он даже сделал вид, что не узнал во мне свою будущую жертву. Сказав мне глухим басом: «Привет!» — он уселся на краю скамейки рядом с парнем в лыжных штанах, а чтобы рассеять мои подозрения, стал украдкой поглядывать на девушку, которая незадолго перед этим пела внутри фургона. Конечно, она была красивее девушки в черном комбинезоне и не так перепачкана, но я — то понял его хитрость. Не так-то просто было мне втереть очки.
Вот красивая девушка встала, отказавшись от своей доли гречневой каши, и повернулась к нам спиной, расправляя подол платья. Сняв затем с головы косынку, она встряхнула своими черными волосами, рассыпая их вокруг головы, и неторопливо перешла на другую половину палатки, где теснились три женские постели на раскладных алюминиевых койках. Взгляд молчаливого двухметрового легионера немедленно устремился ей вслед. Но он мог бы и не хитрить передо мной. Кого он думал провести своей хитростью? Я сразу раскусил всю его подноготную, и напрасно он пытался утаить от меня шило в мешке. Весь он был виден мне насквозь, ибо у кого короста, тот и чешется, а сухая ложка рот дерет.
Другой парень, проследив за его взглядом, лукаво подмигнул девушке в черном комбинезоне, пытаясь таким способом намекнуть на нечто весьма далекое от сути. Но даже эта попытка сбить меня с толку не удалась. И ты, Юсси, можешь быть спокоен. Я видел то, что надо было видеть, а не то, что виделось глазами само.
Покончив с тарелкой гречневой каши, в которую была намешана жаренная с луком баранина, я выпил кружку чая с белым хлебом и отправился к своей постели. Подстилка была из твердого холста, сложенного вдвое. Я вложил в нее аккуратно растянутые брюки, вынув из карманов мыльницу и бритвенный прибор. Пиджак, рубашку, галстук и туфли с носками я положил рядом на сено и осторожно, чтобы не повредить брюки, забрался под одеяло.
В палатке тоже скоро все угомонились. Девушка в черном комбинезоне, выходя оттуда, сказала красивой девушке:
— Кончился твой простой. Теперь опять можешь по две нормы выгонять.
Та ответила с грустью:
— Упущенного-то уж не вернешь.
Но девушка в черном комбинезоне возразила:
— А твоя, что ль, вина? Это тебе в укор никак не зачтется. Завтра начнешь пахать — завтра и счет наново пойдет.
Они помолчали немного, прислушиваясь к далекому стрекотанию трактора, и красивая девушка сказала с усмешкой:
— А Колька-то как разошелся! Никак на всю ночь наладил?
Другая согласилась:
— Да, уж он такой! Его только раздразни! Всю славу один забрать задумал.
Она вышла из палатки и при свете фонарика занялась вторым трактором. А двухметровый легионер налил тем временем в рукомойник полведра воды и, сняв потную рубаху, вымылся до пояса. После этого он посидел немного на ступеньках фургона, накинув на свои широченные плечи пиджак, и покурил. Взгляд его при этом не отрывался от входа в палатку, словно выжидая, не выйдет ли оттуда еще раз черноволосая девушка. Все еще надеясь ввести меня в заблуждение, он этим наивным способом хотел заставить меня поверить, что никакого отношения к страшному легиону он не имеет.
Выкурив папиросу, он поднялся внутрь фургона, и скоро оттуда раздался его богатырский храп, от которого задрожал фургон. К его храпу прибавился вдруг еще какой-то писк. Услыхав его, парень в лыжных штанах вбежал внутрь фургона и сказал там кому-то:
— Да, да! Ока слушает! Ока слушает! Перехожу на прием. — Помолчав немного, он сказал: — Ничего, двигаемся помалу. А у вас как? Перехожу на прием. — Помолчав еще немного, он сказал: — Ого! Ну, я надеюсь, и мы не уступим. Цыплят по осени считают. Прием! — И после недолгого молчания он добавил опять: — Да, была заминка. Исправили. Завтра выйдут все. С горючим пока ничего, а там боюсь сказать. Пожалуй, что и добавить придется. Все живы-здоровы, чего и вам желаем. Пока. Спокойной ночи. Прием. Спокойной ночи.
Второй парень тоже заснул внутри фургона. И только девушка в черном комбинезоне продолжала копаться возле обоих тракторов. Она заправила их бензином и маслом, проверила работу моторов, долила водой радиаторы. И когда она, покончив с этим, разогнула спину, вытирая руки тряпкой, с поля вернулся наконец третий трактор. Конечно, водитель этого трактора, проработавший без отдыха весь день до полуночи, должен был с трудом сойти на землю и прохрипеть замирающим голосом: «Доведи меня до постели и дай умереть спокойно». Но вместо этого на всю холмистую равнину загремел такой раскатистый молодецкий голос, как будто обладатель его проспал беспробудно целую неделю и теперь не знал, куда девать избыток накопленных за время сна и распирающих его изнутри сил:
— Держись теперь, хвастуны из «Перевала»! Черта с два мы в этом году вам уступим! Праздник будет на нашей улице. Я, знаешь, поднял там, за широким логом, не только тот песчаный скат, намеченный под картофель, но и кочкарника отхватил гектара три в низинке. Председатель говорил, что там замечательный мог бы уродиться лен. Так пусть получает свой лен, Я уверен, что мы со Степкой поднимем для них с полсотни новых гектаров одной только залежи и целины, не считая основной распашки. Он вернулся раньше потому, что у него горючее было на исходе. Он сказал?
Девушка ответила:
— Нет. Да разве он скажет!
— Ну и правильно. Чего ж зря языком-то трепать. Сколько у него?
— Тридцать семь.
— А у меня сорок один. Дела идут в гору. Нам теперь и авария эта нипочем. Ты меня в пять разбуди, ладно? Только не вздумай пожалеть, как прошлый раз. Успеем еще выспаться. Итак, ровно в пять и ни минутой позже ты подходишь ко мне и окатываешь из ведра водой. Запомнила? Повтори!
— Да ладно уж…
— Молодец! Так ты до пяти заправь, ладно? И муфту сцепления проверь. За остальное я спокоен. — И далее он сказал, уже понизив голос: — У тебя на лице бывает ли хоть когда свободное от мазута место, Марусенька? Ведь прямо поцеловать некуда!
Свободными от мазута оказались, должно быть, ее губы, потому что поцелуй получился особенно звонкий.
Я повернулся на другой бок, стараясь понять про себя — чем они здесь заняты, на этой точке? Они работают или что? Судя по их разговору, они развлекаются какими-то состязаниями, в которых применяют свои тракторы. Но тогда чем они кормятся? Как выглядит у них та неизбежная для всякого человека работа, после которой они приходят домой усталые и голодные, подсчитывая в голове свой дневной заработок? И где они больше набираются сил: тут, на точке, во время ночного сна, или там, в поле, на тракторе? Ничего я не мог понять, потому что эта была Россия, новая, Советская Россия.
Самым разумным было, конечно, постараться заснуть, не утруждая себя напрасными вопросами. Но перед сном я должен был о чем-то там еще подумать, помня совет Ивана Петровича. О чем бы таком должен был я подумать? Ах, да! О пригодности русских к дружбе с финнами. Ну что ж. Если вы помогли их женщине пронести два километра тяжелую корзину, а потом еще протопили за нее плиту, то в награду за это они не считают нужным задавать вам вопросы и проверять ваши документы. Они даже кормят вас ужином. А двухметровые легионеры не торопятся прихлопнуть вас своей тяжелой пятерней, несмотря на полную подготовленность к такой операции, приобретенную ими в их страшном легионе.
Но где-то там, в глубине России, все еще таился и высматривал меня тот страшный Иван. От него я не мог ждать милости. Он высился там, над бескрайними своими просторами, следя глазами за всеми дорогами, где мне предстояло пройти. И кто мог бы спасти меня от его беспощадной руки? Только огромный Юсси Мурто мог бы послужить для меня каким-то заслоном, стоя на окраине севера. Но кто знает, о чем он думал, глядя на Ивана своими светлыми голубыми глазами? И, думая об этом, неведомом, он угрюмо говорил Ивану с вопросом в голосе: «Работа есть работа. Она была для человека неизбежным бременем и бременем останется. Такова природа человека, а природу не изменишь ничем». Но Иван отвечал ему беззаботно: «Ништо! Допускается и в природу вносить поправки». Юсси Мурто внимательно выслушивал его слова, но потом опять говорил свое: «Это у вас наигранное, придуманное для отвода глаз. А под прикрытием этого вы все равно тайно готовите для захвата мира легион двухметровых». И снова отвечал ему Иван: «Ништо! Развлекайтесь на здоровье этими бреднями. Заполняйте ими пустоту своей жизни. А время свое покажет! Время будет нашим главным судьей». И опять Юсси Мурто приводил ему какой-то свой упрямый довод, но я уже не слыхал его, уйдя наконец в глубокий сон.
22
Когда я проснулся, на точке хлопотала одна молодушка. Парень в лыжных штанах уехал за водой, а девушка Маруся спала внутри палатки. Остальные трое уже грохотали далеко в поле своими тремя тракторами, обгоняя там каких-то своих соперников по состязанию, тоже, наверно, не имеющих понятия о подлинной, трудной и невеселой работе, дающей человеку его каждодневный хлеб. Стараясь не смотреть в сторону плиты, где молодушка опять что-то жарила, я побрился и помылся у рукомойника, укрепленного на стене фургона, и обратный путь к своей постели проделал тем же манером, не глядя в сторону плиты. Но что-то вкусное там жарилось — это я уловил ноздрями.
Повязав галстук и надев пиджак, я зачесал, как всегда, назад волосы и помедлил немного, все еще избегая смотреть в сторону плиты. Пора было уходить, конечно. Кто меня держал? Солнце поднялось уже довольно высоко. В сторону солнца мне предстояло идти. Путь, как видно, ожидал меня не близкий, и кто знает, как на этом пути обстояло дело с пищей. Неторопливо сложив холщовую подстилку и одеяло, я зажал между ними подушку и понес все это к палатке, откуда доносилось дыхание спящей девушки. В сторону плиты я не смотрел. Чего я там не видал? И только положив постель на траву возле палатки, я обернулся к плите, чтобы сказать молодушке:
— Спасибо вам, хозяйка. До свиданья.
Но она сказала удивленно:
— Да куда ж это вам такая спешка? А чайку-то стаканчик на дорожку разве не выпьете? Вот и оладьи готовы.
На это я не придумал, что сказать. Бывает в жизни человека такое, даже у очень умного и гениального человека. Вот ему надо сказать что-то вроде: «Спасибо, я не хочу, я сыт, я потом, я там успею», — а он вместо этого молчит, словно прикидывая в голове и так и этак. И, конечно, если он это не может прикинуть сам, то кто-то прикидывает за него. И вот, вместо того чтобы уйти с пустым животом в далекий неведомый путь, он вынужден сесть возле железной плиты на дубовую чурку, а перед ним на табуретку ставится тарелка с горячими оладьями, кружка чаю и блюдце со свежим клубничным вареньем. И он пьет и ест все это, нанизывая на вилку оладью за оладьей, с которых капает сало. Такое наказание приходится ему испытать за его неумение найти вовремя определенный ответ. Но нельзя сказать, чтобы меня особенно огорчило это наказание. Нет, я перенес его с твердостью, без жалоб и стонов и даже сказал еще раз на прощанье «спасибо» русской молодушке, которая потому, наверно, и не пустила меня к ночи в Корнево, чтобы ввергнуть в это испытание.
До Корнева действительно оказалось не близко. Одна только тропинка взяла у меня без малого полчаса, и едва ли не два часа шел я по грунтовой дороге, которая изгибалась туда и сюда среди холмов, обходя овраги и балки. Лесов было мало в этой части России, так свирепо изрезанной оврагами. Не мудрено: сюда я еще не успел завезти древесные семена. Что делать. Не мог же я разорваться. Приходилось им поэтому запастись пока терпением и подождать немного до той поры, когда некий расторопный финский деятель по имени Аксель Турханен соберется к ним насаждать леса и укреплять овраги.
Безлесье зато открывало моему глазу новые отдаленные пространства. И я увидел, что Россия все еще не кончалась даже здесь. Ее пологие холмы с посевами хлебов и деревнями тянулись дальше к югу, западу и востоку, сопровождаемые белыми облаками и птицами, которых тоже могло не хватить в конце концов на такую невероятную обширность. Не знаю, как далеко они туда дальше простирались, эти русские зеленые холмы. Синее марево окутывало их на горизонте, не давая разглядеть последний холм, за которым начиналась Австралия.
А пока я так вглядывался в сторону юга, выискивая глазами кромку России, дорога моя, идущая на восток, постепенно изогнулась к северу, приведя меня опять к высокому берегу реки Оки. Здесь обрыв берега был когда-то прорезан оврагом, уносившим размытую дождями почву к реке. Теперь этот овраг давал выход к реке той дороге, по которой я шагал. Но я не спустился по ней к реке, потому что деревня Корнево стояла как раз там, где у дороги начинался уклон. Дорога уходила вниз по скату бывшего оврага, а деревня расположилась по обе стороны от ската на ровной земле. Ее крайние дома, подступавшие к береговому обрыву, оказались, таким образом, намного выше дороги, уходящей между ними по прорези оврага вниз.
Перед каждым домом росли деревья, среди которых виднелись также и березы. Контора тоже была заслонена деревьями. Но я узнал ее по надписи и поднялся на крыльцо. А внутри конторы опять оказалась девушка. Так у них устроены все их конторы, что обойтись без девушек они не могут. Зная заранее, каким ответом она меня порадует, я не стал задавать ей вопросы. Я только сказал: «Здравствуйте» — и протянул письмо. Она ответила: «Здравствуйте» — и, взяв письмо, сказала:
— Это парторгу.
— Парторгу?
— Да, Василию Миронычу.
Вот как дело обернулось. Догнал он меня все-таки. Хорошо еще, что звали его Василием, а не Иваном. Но как мог угадать рыжий агроном, что человек по фамилии Парторг приготовился перехватить меня именно здесь? Да, у них очень крепко поставлено дело по части связи друг с другом, когда им нужно уловить смертельного врага. И теперь все для меня было кончено. Девушка между тем сказала:
— Я передам ему, когда придет. Или вам сразу же и ответ нужен?
Этим вопросом она как бы давала мне лазейку. Она давала мне повод сказать: «Нет, ответ мне не нужен. А нужна мне железная дорога. Где она тут у вас?». Но я не сказал этого. Язык у меня не повернулся сказать. Это была не та девушка, для которой следовало установить закон о подметании улиц. На лице этой девушки была приветливость, и в голосе звучали те же знакомые мне певучие перезвоны. А они были отличием хороших людей, насколько я это успел заметить. Кроме того, это была миловидная, рослая и полногрудая девушка, налитая здоровьем и силой. Нет, пожалуй, надо было повременить еще немного с тем законом.
Не получив от меня ответа, она встала с места и, выходя в коридор, сказала:
— Сейчас узнаю, где он. А вы пока посидите, пожалуйста.
Из коридора она вошла в другую комнату, и оттуда послышался ее певучий голос:
— Алло, Кривули? Василий Мироныч еще там иль нет? Рядом даже… Дай-ка мне его к телефону. Это парто-орг? Василь Мироныч, тебя тут человек один ждет. Придешь? Скоро ль придешь-то? А-а, ну-ну.
Пропев это, она вернулась в свою комнату и сказала мне:
— Сейчас будет. Минуток через десять.
Легче мне не стало от этого, но изменить я ничего не мог и потому остался сидеть возле ее стола, за которым она подсчитывала своих коров. Заметив, что она кончила подсчет, я спросил:
— Много коров получилось?
Она улыбнулась, показав белые зубы между полными, румяными губами:
— Да я не коров подсчитывала.
— А что?
— Деньги. Я сберкассой ведаю.
— А-а. И много вам сюда денег приносят?
— Много ли приносят? Да совсем почти не приносят. А вот как сама пойдешь к людям да поговоришь с ними, так только успевай книжки вкладные выписывать. На девятьсот процентов план выполнила.
— Ого!
Это я сказал ей в виде одобрения, хотя и не знал, к месту оно или нет. Я мог бы, конечно, сказать ей «ого» по любому количеству процентов, будь их тысяча или всего один, лишь бы доставить ей приятное. Не так уж трудно было мне это слово произнести.
Одобрив таким образом ее работу, я помолчал некоторое время, глядя на то, как она управляется в своем крохотном хозяйстве, передвигаясь туда и сюда между столом и железным сейфом, стоящим в углу. И, глядя на ее русую голову, внимательно склоненную над бумагами, и на пушистые косы, уходящие назад вдоль широкой спины, я подумал о тех словах, что были сказаны в лесничестве насчет писателей. Не только там нужен был писатель. Он и тут, пожалуй, был не менее нужен. Да и художнику нашлось бы тут подходящее дело. Попадись ему на глаза эта девушка, он непременно пожелал бы написать с нее картину и дал бы этой картине название «Весна», или «Юность», или «Красота и здоровье». А может быть, он обвесил бы ее всю гроздьями винограда и цветами, чтобы назвать «Флора», или «Урожай», или просто «Жизнь». И любое из этих названий было бы одинаково верным.
Да и скульптору было бы чем соблазниться, окажись он тут невзначай: Захотел бы и он закрепить в бронзе или в мраморе эту красивую русскую дородность на радость людям иных веков. Но неизвестно, какой вид вечности избрала бы она сама: полотно или мрамор. Каждый из них с одинаковой горячностью доказывал бы надежность своей продукции, а ей где уж понять, кто из них больше прав. Трудно остановить на чем-нибудь свой выбор, если один тянет сюда, а другой туда, не давая времени на раздумье. При таком кипении страстей недолго и до драки. Скульптор первый может ее затеять. У него характер напористее и рука покрепче. И он бьет художника по морде с такой силой, что тот летит со стула на пол. Но и художник не собирается уступить. Он вскакивает, прыгает вперед и вцепляется скульптору в горло. Такой оборот принимает все это дело. И вот они уже катаются по полу, роняя стулья и шаркая каблуками по стене, оклеенной чистыми обоями, а потом переваливаются через порог и продолжают свой бой в коридоре. Доски трещат под ними, и сотрясаются стены. Из коридора они вываливаются на крыльцо, а оттуда куда же им?.. А оттуда они скатываются по ступенькам прямо в дорожную пыль.
Да, это свирепый бой — тут ничего не скажешь. Но и предмет спора стόит, конечно, того. Колебаний тут не может быть. Одежда их рвется в клочья. Пускай рвется — до одежды ли тут? Выкатываясь в поле, они валят забор. Дерево падает, задетое их ногами. Но что им забор? Что им дерево? Коровы разбегаются в страхе, увидя это многорукое и многоногое, что подкатывается к ним по траве, взрывая землю. Пастух бежит в деревню с криком: «Пожар!». В деревне паника. Гудят колокола, завывают сирены. Но этим двоим какое дело? Провались хоть вся деревня в преисподнюю. Не до того им. Они уже на краю оврага, и каждый из них силится столкнуть другого с крутого обрыва вниз. И кто-то из них уже одолевает, готовясь дать другому последнего пинка. Но тут подоспеваю я. Нельзя допустить, чтобы один из них столкнул другого с такой крутизны. Горе тому, кто отсюда сверзится. Он переломает себе кости. Он погибнет. Оба должны сверзиться. Вот какое я принимаю решение. Оба пусть переломают себе кости, чтобы мне досталась девушка, ибо у меня тоже могла быть в жизни такая дочь. Зачем буду я отдавать ее художникам, если могу присвоить себе? И, озираясь по сторонам, я осторожно подкрадываюсь к ним сзади. Кто меня осудит, если нет свидетелей? Выждав момент, когда они подкатываются к самому краю обрыва, я прыгаю вперед, как тигр, жадно протянув руки…
Но я не успел выполнить свое страшное намерение. В комнату вошел Парторг. Он был высокий, носатый, загорелый, молодой — не старше тридцати пяти, и если бы не назвали его Василием, то был бы он, конечно, тем самым Иваном. Щеки по обе стороны его крупного носа прилегали к своим местам плотно и ровно, не выступая выпукло наружу и не опадая внутрь. Сбит он был крепко и двигался быстро и напористо. Вырваться из рук такого человека нечего было и думать. Одно мне было непонятно: как удалось ему разыскать меня на огромных российских просторах? Я прямо так и спросил его об этом после того, как он прочел записку рыжего агронома и выяснил по моим документам, какую опасную щуку выловил наконец в самом сердце своей страны. Он усмехнулся в ответ:
— А чего ж тут не разыскать? Позвонили мне — я и пришел сюда.
Я понял его хитрость. Конечно, с какой стати было ему пускаться в подробности относительно своей погони за мной. Но я подъехал к нему с другого бока и спросил:
— Вы все время тут живете, простите в любезности, или бываете и в других местах?
Он сделал вид, что не понял:
— В каких других местах?
— Ну… где-нибудь севернее, например?
Вот как ловко я готовился его поймать. О, я умел при случае обкрутить им головы! Но он ответил:
— А что мне там делать, севернее? Здесь я родился, здесь и живу сызмала. Отвоевался десять лет назад на Дальнем Востоке — и опять сюда же. А где же человеку и жить, как не в родной деревне? Тут он всегда дома, всегда среди своих. Зачем ему севернее? Это прежде, бывало, отцы наши от безземелья на заработки из деревни бежали, а у нас в этом нет необходимости. Земля вся наша. И дел всяких тут хватит на десятки поколений. Чем больше будет народа, тем даже лучше.
Такую речь он произнес в ответ на мой хитрый вопрос. И по тем певучим ноткам, которые прозвучали в его словах, я сообразил, что он действительно родом из этих мест. Такой я был догадливый. Но тогда, значит, у него оказывалась очень распространенная в России фамилия. Я так и сказал ему. А он усмехнулся:
— Да это же не фамилия. Это так сокращенно именуют у нас партийного организатора, то есть секретаря партийной организации.
Вот как это все объяснилось. Но я на всякий случай спросил:
— А вы только тут состоите этим партийным организатором или еще где-нибудь?
Он ответил:
— Больше я нигде не могу состоять. У каждого колхоза своя партийная организация. У каждого совхоза — своя. У каждого завода или какого другого учреждения — своя. И в каждой партийной организации — свой парторг. Разве вы об этом не знали? Вы же почти год у нас живете. Или в той строительной бригаде, где вы работали, не было парторга?
— Не знаю…
— Кто у вас проводил беседы, собрания, читки, объявлял разные политические новости, был инициатором по части соревнования, давал советы, наставления, помогал всем вам словом и делом, не думая о себе?
Я попробовал вспомнить, кто же у нас таким был. Выходило, что это был сам Иван Петрович Иванов, у которого я квартировал. Я сказал:
— Да, один у нас делал все это. Но он был по должности бригадир и потому не мог одновременно еще и за парторга работать.
— А почему бы нет? У меня тоже есть основная специальность, по которой я работаю. Я колхозный электрик, и моя обязанность содержать в порядке электросеть и радиосеть. А кроме того, я же и парторг.
— Вам трудно, конечно.
— Да не сказал бы, что легко. Но не сам же я в парторги напросился.
— А кто вас назначил?
— Никто не назначил. Меня выбрали как коммуниста.
— Как коммуниста?
— Да. Таков наш долг. Уж если ты назвался коммунистом, то этим самым раз и навсегда обязался служить народу. И тут уж отказываться от нагрузок не приходится.
— А народ нуждается в вашем служении?
— Странный вопрос вы задаете. Разве не его волю мы выполняем, строя коммунистическое общество?
— А как вы это проверили?
— Как проверили? Жизнь проверила. И подтвердила. Да и сами коммунисты — это, по-вашему, кто? Тот же народ. Их миллионы, если переходить на счет. В одной только нашей стране коммунистов почти вдвое больше, чем жителей во всей вашей Финляндии. И это все лучшие люди из народа. Его основное ядро. А может ли ядро какого-нибудь вещества быть чужим этому веществу? Не питать его и не питаться им?
Такой вопрос он мне задал, этот первый настигший меня в глубине России парторг. Что я мог ответить на такой вопрос? А он продолжал:
— Коммунистическая партия — это душа и совесть народа. Она вобрала в себя все мечты и чаяния, накопленные народом за многие века. И не только вобрала. Она впервые в истории человечества берется воплотить их в жизнь. Так чью же она волю выполняет, по-вашему?
Да, он умел задавать вопросы, конечно. Правда, мог бы и я кое о чем его спросить, пользуясь богатым арсеналом премудрого Юсси Мурто, и кое-что сказать ему в ответ, не очень для него приятное. Но он с такой убедительной силой высказывал свои суждения, что у меня не повернулся язык ему возразить. И надо было, кроме того, помнить, кто у кого был в гостях и кому полагалось быть скромнее и вежливее: гостю или хозяину? Я только спросил:
— А вы уже много воплотили?
Его не смутил такой вопрос. Он ответил, не колеблясь:
— Да, много. Мы спасли человечество от фашистского рабства и построили фундамент будущего общества.
— Будущего? А настоящим вы не занимаетесь?
Такой вопрос я ему задал, чтобы хоть немного сбить с него самомнение. Нельзя допускать, чтобы русские сознавали в чем-нибудь свое превосходство над другими. Это к добру не приведет. И худо не будет, если напомнить им лишний раз, на каких дремучих задворках жизни человечества они еще обретаются. Тут всегда будет к месту непререкаемое мнение о них великого мыслителя Юсси Мурто, позволяющее видеть русских все в том же неизменном неприглядном свете, какой издавна применялся при любом разговоре о них.
Я, правда, мог представить даже из опыта своей Суоми, какую страшную судьбу готовил Гитлер народам Земли после ее завоевания. А он ее непременно завоевал бы, не окажись на его пути Россия. Здесь обломались его стальные зубы. И какой великой крови это стоило русским, которые в то время только еще закладывали свой знаменитый фундамент! Я мог это представить, конечно, однако зачем было так вот прямо признавать заслугу русских перед человечеством? Не стоило давать им повод заноситься. Вот почему я кольнул его настоящим. Но он без колебания ответил:
— Настоящим? Пойдемте, я покажу вам наше настоящее.
Ему, как видно, было не привыкать показывать иностранным гостям свое хозяйство, и проделать это лишний рал он не считал за труд. Но я не собирался у него задерживаться. Я сказал:
— Если вы хотите показать мне новые коровники и телятники, то я их уже видел в других местах вашей России Такое настоящее есть и в нашей бедной Финляндии.
Он спросил:
— Что же вы понимаете под настоящим?
— А то, как человек живет сегодня, что он ест, во что одевается, чем владеет. И главное — доволен ли он всем этим?
— Вам все это показать, или рассказом довольны будете?
Я прикинул в уме, выбирая, что мне выгоднее, и сказал:
— Думаю, что хватит с меня и рассказа.
— Хорошо. Итак, что он ест, наш человек? М-да. Показать это наглядно было бы проще. Я могу вам назвать его деревенский продукт. Но перечислить все, что он привозит из города, будет несколько труднее.
— А каков у него деревенский продукт?
— Деревенский продукт несложный: зерно, мясо, овощи, то есть все выданное ему за трудодни.
— А сколько у него трудодней?
— У кого как. У некоторых сто, а есть по пятьсот и больше.
— Значит, некоторые работают у вас только сто дней в году?
— Выходит, так. Сто дней — это обязательный трудовой минимум.
— Что же они делают остальные двести шестьдесят пять дней?
— А это зависит от личных качеств. Ленивый может совсем ничего не делать.
— Но чем же он кормится?
— А ему хватает полученного по трудодням.
— Это так много?
— А вот подсчитайте. Одного только зерна выдано по три килограмма на трудодень.
— Какого зерна?
— Разного. Ржи полтора кило, пшеницы кило, проса полкило. Картофеля выдано по четыре с половиной кило, овощей по три с половиной.
— Каких овощей?
— Да всяких. Дуняша, ты не помнишь, как мы там овощи-то распределили?
Дуняша помнила. Помедлив секунду, она перечислила:
— Капусты по два и три десятых килограмма, моркови по четыреста граммов, помидоров по триста пятьдесят, огурцов по двести пятьдесят и свеклы по двести.
Я представил себе все это увеличенным в сто раз, и у меня получилась изрядная груда. Дуняша тем временем назвала еще некоторые продукты:
— Мяса по двести граммов, масла по двадцать, сена по килограмму, соломы по полтора. Шерсти желающим по десять граммов. Да еще меду по полведерочка в среднем пришлось на двор.
Я сказал:
— Два кило масла на год — мало. Я бы еще попросил.
Парторг усмехнулся.
— Мало ли что попросили бы. Сколько заработали, столько и получайте.
— Но я работал не сто дней.
— А сколько?
— Триста по крайней мере.
— Ну что ж, получайте шесть кило масла.
— Все равно мало.
— Конечно, мало. Но жена у вас тоже выработала триста трудодней.
— Ах да, жена. Верно.
— Вот вам уже двенадцать кило. Да из детишек старшеньких кто-нибудь полсотенки трудодней добавил за летние каникулы, сынок там или доченька.
— Да, да, доченька. И сынок тоже.
— Вот, стало быть, еще два килограммчика. Да и сами вы разве ограничитесь тремя сотнями трудодней? Или не потянет вас иногда перевыполнить норму?
— А как это делается?
— Очень просто. Вот, например, у нас при вспашке на лошади норма — шесть соток за день. А некоторым удается вспахать по двенадцати соток. Получается два трудодня за один день.
— О, если так, то я могу и три нормы вспахать. Выдержала бы только лошадь.
— Ну вот, видите! Глядишь — и целый пудик масла набежал, а то и больше. Но дело все-таки не в том, чтобы за количеством трудодней гнаться. Трудодни сами по себе — не выход из положения. Да и не наберешься на всех трудодней. Иной раз просится человек на работу, а работы нет. Зимой так бывает или ранней весной, а то и в конце лета, когда до копки картофеля еще далеко, а хлеб с полей уже убран. В это время только строители обеспечены работой и те, кто на севе озимых занят или на подъеме зяби. Лошади все нарасхват. Когда трудодень полновесный, то и работа в радость. Приходится очередь устанавливать, чтобы поработать всем желающим.
— Вы сказали: «Лошади нарасхват». А тракторы как? В таком крупном хозяйстве главную работу выполняют, наверно, тракторы?
— Да, так оно и есть в других колхозах. И у нас будет рано или поздно. Но пока что мы обходимся без них. Дело в том, что тракторы — собственность государственная. Они не продаются, не покупаются. Их нанимать надо. А это не всегда для нас удобно, потому что с трактористами вечная морока. То они не ко времени в других местах заняты, то им овраги не нравятся, то погода не по душе, то у них поломка. В самое горячее время подвести могут. А своим тяглом как захотел, так и распорядился. Да и трудодни лишние в самом колхозе останутся. Но главное-то все же не в количестве трудодней, а в том, чтобы щедрее их оплачивать. Масла, например, не по двадцати граммов выдавать из того, что остается после продажи государству, а по сорока или пятидесяти. Но для этого надо повысить продуктивность молочного скота. Тут мы еще не на высоте. Вот потому-то я и говорю, что плохо вы работали. А пока ешьте масло от своей коровы.
— От своей?
— Ну да. От той, что стоит у вас на дворе, то есть находится в вашем личном пользовании.
— Так, так. Значит, у меня и собственная корова есть?
— А как же! Для кого же сено и солому выдали? Летом она в колхозном стаде пасется, а зимой вам ее дома кормить надо. У вас и две коровы могут быть, если ребятишек много.
— Вот как. Сколько же нас таких, со своими коровами?
— Сколько дворов, столько и коров, не считая молодняка. Четыреста девяносто семь в шести деревнях.
— А колхозных коров сколько?
— Сейчас доятся пятьсот семь коров.
— Мало для шести деревень.
— Согласен. Война застопорила наш рост. Но мы уже имеем в стаде двести сорок годовалых телят и с полсотни нетелей. Быков два десятка наберется, пригодных на мясо. И даже рабочих волов есть несколько пар.
— А у меня дома есть что-нибудь пригодное на мясо?
— Да. Бычок подрастает или нетель. Поросята есть. Хватит вам?
И девушка с улыбкой добавила:
— Куры есть, гуси, утки.
— О, хватит, пожалуй.
Но девушка продолжала, войдя во вкус этих перечислений:
— У вас еще свой приусадебный участок земли есть, с полгектара или побольше.
— А что он мне дает?
— Он дает вам дополнительно картофель, капусту, огурцы, свеклу, морковь, репу, брюкву, турнепс. Ну, что еще? Редьку дает, хрен, лук, чеснок, укроп, сельдерей, петрушку, горох, бобы, хмель для пива, смородину, крыжовник, яблоки, груши, вишни, цветы.
— Ого, какой я богатый. А где оно находится, это мое хозяйство?
Они оба повернулись к окну. Из окна виднелись дома, расположенные по другую сторону улицы. Парторг улыбнулся мне, кивая на них, и сказал:
— Я что-то уж и не помню, который из них ваш. Покажите-ка сами.
Я присмотрелся. Дома были добротные, сбитые из бревен, крытые железом и черепицей. По размеру они казались примерно одинаковыми, но разнились по форме и отделке. У иных на улицу смотрели пять окон, у иных — четыре. Все они были одноэтажные, но высокие и высоко поставленные. По этой причине видное место у каждого дома занимало крыльцо, тоже везде по-разному отделанное. Главным предметом отделки была тонкая доска с упорными вырезами. Протянутая под самым краем крыши вдоль ее наклонов, она издали казалась полоской кружева. Такими кружевами были украшены, кроме того, окна и верхняя часть крылец. У каждого дома они имели свою окраску.
Я выбрал дом с голубой отделкой. Хозяйственные постройки возле него показались мне новее, чем у других домов, и сад крупнее. Парторг призадумался, когда я указал ему на этот дом, — как видно, ему не совсем понравился мой выбор. Но он тут же скрыл это и сказал весело:
— Вот и ладно! Пойдем, посмотрим, как вы живете!
23
Но не я жил в этом просторном доме. Жили в нем пятеро других людей: худощавый мужчина среднего роста, близкий по возрасту к сорока годам, его мать, жена и две девочки.
Все они были дома. Судя по запаху пищи, дело близилось к обеду. Но стол пока еще был пуст. Хозяин, встречая нас, встал к нему спиной, взявшись ладонями за его кромку. На наше приветствие ответили все, даже девочки. Потом парторг сказал:
— Я к тебе по делу, Николай Васильич. Не приютишь ли вот гостя на несколько дней? За счет фонда, конечно. Приглянулся ему, видишь ли, твой дом.
Хозяин кивнул, взглянув на меня приветливо, и сказал негромким голосом, в котором как-то странно менялись низкие и высокие ноты:
— Пожалуйста. Милости просим. Разместимся как-нибудь. Места у нас хватит. А гостюшка-то из далеких ли мест будет?
Парторг почему-то помедлил с ответом на этот вопрос и как-то по-особенному пристально взглянул прямо в глаза хозяину, когда произнес:
— Из Финляндии.
Тот медленно отвел от нас взгляд и стал смотреть в пол. Потом переглянулся с матерью и женой и опять уставился в пол. Парторг сказал ему:
— Ты не думай! Это настоящий человек, из трудового класса, самый что ни на есть беднейший пролетарий — сельский батрак. И отзыв о нем есть хороший. Надо уметь видеть разницу в людях.
Хозяин ответил, не глядя в нашу сторону:
— А я разве что говорю? Я же и говорю: пожалуйста, милости просим. Хорошим людям мы всегда рады. Почаще просим к нам наведываться. Всегда готовы принять. И фонд нам ни к чему. Обойдемся. Чем богаты, тем и рады.
Он говорил это спокойно и негромко. Но каждый раз, когда в низкие ноты его голоса врывались высокие, казалось, будто он вскрикивал от неизвестной причины. Продолжая говорить, он двинулся от стола к печке. И едва его руки выпустили стол, как одна из них мелко затряслась, будто бы отмахиваясь от кого-то, попавшего ему под ноги, а другая вскинулась вверх в таком движении, какое делает оратор, призывая к вниманию своих слушателей.
Проделав это, он засунул руки в карманы брюк, все еще подвигаясь к печке. Однако не печка была ему нужна. Он двинулся к ней, чтобы обойти нас. Только это ему не сразу удалось. Вначале его ноги сделали несколько крупных и ровных шагов, а потом принялись почему-то ступать вкривь и вкось. По движениям его плеч можно было подумать, что человек очень быстро куда-то идет, едва ли не бежит бегом, а на самом деле он все еще не мог миновать печку и как бы топтался на месте. Но затем ноги его опять сделали несколько прямых и верных шагов, донеся его до двери. У двери он обернулся к нам и, высвободив руки из карманов, повторил:
— Хороших людей почему не принять? Для них у нас всегда двери открыты. Кто добрым гостем к нам идет, тому мы всегда рады. Побольше бы их нам, добрых-то гостей. Пожалуйста! Заходите, живите, будьте как дома!
Взявшись одной рукой за ручку двери, он другой рукой хотел сделать какое-то подходящее к слову движение, но далось оно ему не сразу. Сперва он ткнул себя пальцами в подмышку, круто изогнув для этого кисть руки, потом дернул вверх локтем и только после этого широко и плавно повел рукой в сторону всего того, чем был полон его дом, как бы отдавая все это нам. Сделав нам такой подарок, он вышел в сени, мягко прикрыв за собой дверь. Парторг проводил его взглядом и сказал, обратясь к старшей хозяйке:
— Вот и ладно. Договорились вроде. Так мы вечерком придем, Василиса Терентьевна, если не возражаешь.
Та ответила:
— Вечерко-ом? Да что ж это вы так-то? Пришли и ушли. А обедать? Обед у нас готов. Вот соберем сейчас на стол, покушаете, что бог послал, и пойдете. До вечера-то еще ой как далеко. Намаетесь, ходивши по эдакому хозяйству.
Но парторг сказал:
— Ничего, Василиса Терентьевна, не беспокойся. Мы в Кряжине пообедаем.
И мы пошли в Кряжино. На пути туда парторг свернул к реке и поднялся на высокий холм, прилегающий к береговому обрыву. На этом холме высились развалины какого-то огромного строения. Два старых человека отколупывали молотками от остатков стен этого строения цельные кирпичи и укладывали их тут же рядом в небольшие штабеля. По одну сторону от этих развалин были устроены ряды сидений из длинных струганых досок, набитых на врытые в землю поленья. По другую сторону открывался вид на реку Оку и на лесные дали, раскинувшиеся позади нее.
Река здесь не подступала вплотную к берегу, как там, где я переправился через нее на лодке. Здесь между обрывом и водой тянулась ровная полоса луговой низины, шириной в полкилометра и длиной в несколько километров. Следуя изгибу реки, эта низина выше и ниже по течению уходила за пределы видимости, заслоняемая крутизной берега. Парторг сказал:
— Это наша господствующая высота. Отсюда видны почти все наши владения. Вон там, по ту сторону от Корнева, находятся деревни Чуркино и Кривули. А по эту — Кряжино, Веткино и Листвицы. Еще совсем недавно это были мелкие самостоятельные колхозы. Теперь они объединились в один укрупненный колхоз.
Я спросил:
— А дерево получилось?
Он не понял:
— Какое дерево?
— А такое: вы собрали все кривули, чурки и ветки к одному корню, то есть дерево собрали.
Он закивал:
— А-а, да, да, верно. Действительно, дерево собрали. И дереву этому название «Заря коммунизма». Да, это интересная мысль. — Он подумал немного и добавил: — Что ж, выходит, нам самими законами развития было предопределено создать из всякой древесной мелкоты цельное, стройное, жизнеспособное дерево.
— Но все ли у него есть, у этого дерева, чтобы жить и расти?
— А почему бы и не быть? Все есть, конечно. Вот посудите сами. Корнево и Кряжино славились хорошими пашнями и лучшими породами скота. Но им не хватало пастбищ. Кривули внесли эти пастбища. Кривулям недоставало земли для посева зерновых. Теперь они стали общими владельцами всех пашен. Веткино приложило к общему хозяйству вот эти сенокосные угодья и удобные земли под капусту. От Чуркина мы заполучили дружную рыбацкую артель, а от Листвиц — большой старый сад. Как видите, мы имеем теперь многоотраслевое хозяйство. И если дождь или засуха повредят одной отрасли, то нас вывезут другие. Нынешнее лето всему благоприятствует: и хлебам, и овощам, и фруктам. Да и травы хорошо поднялись. С этой низины опять снимем два укоса за лето. А это стогов пять-шесть лишних. По всему видно, что нынче на трудодень получим больше прошлогоднего. И государству продадим больше.
— А в будущем году как? Еще больше?
— Обязательно.
— А еще через год?
— А там еще больше.
— Значит, с каждым годом больше? А когда остановитесь?
— Никогда. Такое уж это могучее дерево получилось. У него безграничные возможности для роста.
Я промолчал на всякий случай. Как-никак, это говорил парторг. А у него уж такая, видно, была обязанность, чтобы превозносить свое. Но мне трудно было втереть очки. И ты можешь быть спокоен, Юсси, я не потерял способности видеть все в доступных пределах. Кому он вкручивал насчет бесконечности? Мне ли не знать, сколько можно требовать от земли! Рано или поздно она непременно заставит поставить точку. Даже такой железный человек, как Арви Сайтури, и то уперся в тупик на своих сорока трех гектарах. А ведь он был способен выколотить прибыль даже из мертвого камня. Но и он в последнее время топтался на месте, выжимая без конца одну и ту же мочалку. А здесь говорили о безграничном росте. Но пусть говорят, конечно. Кому это вредит? Говорить все можно. Я не мешал ему говорить, разглядывая с высоты обрыва их огромную Россию, где верили в такие странные вещи. И он продолжал выкладывать то, к чему его обязывало звание парторга:
— На этой новой кормовой базе мы теперь можем удвоить и утроить поголовье скота, а потом, немного подумавши, еще раз удвоить и утроить, не забывая, понятно, и об удойности.
Я сказал:
— Ого! Так у вас получится стадо в несколько тысяч. А молоко будет литься рекой.
Он согласился:
— Да. К тому все идет.
Я опять промолчал. К тому ли? А не в обратную сторону? Я вспомнил то, что мне говорил злопыхатель там, на перемычке между двумя большими дорогами. Если верить ему, то выходило, что их стада убывают по мере того, как укрупняются колхозы, а земли пустеют. И только при старой власти человеку не запрещали приобретать сколько он хотел и не отнимали у него земли. Потому она и была всегда обработана, а не зарастала кустарником. Так я понял того злопыхателя. Правда, он, кажется, упомянул только трех таких удачников на три деревни. И надо полагать, что доходы от своих богатств они оставляли при себе. Но деревни состояли, пожалуй, не только из них. Деревни у русских всегда состоят из многих людей и дворов. Как там обстояло дело с остальными? Я спросил парторга:
— Если стадо у вас прибавится, то как с оплатой за трудодень? Тоже будете прибавлять?
— А как же! Ради чего же мы и стараемся?
— Всем?
— Всем. Кто работал, конечно.
Я помолчал немного. Да, тут к умножению стада толкали другие побуждения. Но тогда могла появиться и другая забота. Я спросил:
— Оплата тоже будет расти безгранично?
— Он ответил:
— Выходит, да.
— Но что они будут делать с этой оплатой? Возить на пароходе в Москву?
Он развел руками:
— Да, эта проблема рано или поздно всплывет. Она и сейчас дает себя знать. Придется, может быть, перейти на чисто денежную оплату.
— Сколько это будет?
— Не знаю. Все у нас пока в стадии опыта. Перенять пример неоткуда. Ведь в истории такого еще не бывало. Сами пробуем и так и этак, сами и за ошибки расплачиваемся. В прошлом году мы получили по восемнадцати рублей на трудодень. В этом году получим по двадцати. А при чисто денежной оплате придется, наверно, по сто, по двести рублей выплачивать, чтобы люди могли все нужные им продукты покупать.
— Где покупать?
— Здесь же, в колхозе. И покупать они уже будут ровно столько, сколько им нужно, не переполняя своих погребов. И свои огороды им тогда будут ни к чему. Останутся какие-то участки при доме просто так, для садов, для цветов, для украшения жизни. И коровы свои не понадобятся. Колхоз в любое время отпустит парного молока, сметаны, масла кому сколько нужно. Придет время — продукты вообще без денег будут отпускаться, по потребности, лишь бы минимум работы был выполнен. До этого еще, правда, далеко, но такая у нас цель. Жизнь подскажет, как ее приблизить. Укрупнить колхозы тоже подсказала жизнь.
— Чтобы спасти их от гибели?
Вот какой вопрос я ему задал. О, я знал, чем сбивать их пыл, чтобы они меньше заносились, и ты, Юсси, остался бы доволен моим хитроумием. Парторг подумал, прежде чем ответить. Еще бы не подумать! Тут задумаешься! Но какой был прок от его раздумья? Дела от этого не менялись и оставались такими же невеселыми, какими ты, Юсси, их вполне справедливо представлял. Однако он сказал:
— Не буду кривить душой. Были у нас действительно два захудалых колхоза, в которых иной раз и на трудодни ничего не перепадало. Два других жили так себе, средненько — ни вперед, ни назад. Концы с концами сводили — и ладно. Но два колхоза из года в год росли и крепли, несмотря даже на войну, которая столько людей от нас унесла. А сейчас в одном общем укрупненном колхозе поднялись и процветают все шесть. Значит, правильно сделали, что объединились. Это помогло нам за самый короткий срок довоенный уровень восстановить и дальше двинуться. А теперь-то уж мы пойдем!
— Куда пойдете?
— К новому повышению благосостояния.
— Какого благосостояния? Не того ли, которое уже было у вас до установления колхозов?
— Нет, не того. Выше. Такого благосостояния еще нигде не достигали, какого мы достигнем.
— Нигде? Даже в Америке?
— Даже в Америке.
Вот и все. На этом разговор можно было, пожалуй, кончать, ибо он вступил в такую область, где начинались пустые сказки. Пришло, кажется, время подумать опять о железной дороге. И пока парторг выкладывал мне свои планы по хозяйству, я посмотрел вокруг, надеясь увидеть где-нибудь за холмами вышки станционной водонапорной башни, или стрелку семафора, или хотя бы паровозный дымок, но не увидел ничего похожего.
Водонапорная башня, правда, виднелась, но была она малых размеров и стояла тут же рядом, в деревне Корнево, возвышаясь всего метра на три над крышами домов. Парторг объяснил, что в эту башню поступает с помощью электрического насоса родниковая вода из-под обрыва. Такие башни будут у них установлены в каждой деревне, чтобы удобнее было снабжать водой дома и скотные дворы. Это на тот случай, когда скот придется перевести на круглосуточное стойловое кормление. А перевести постепенно придется, потому что пастбища не растянешь. Выгоднее засеять эти триста гектаров культурными травами и скашивать их дважды в год, чем непроизводительно вытаптывать каждое лето. Только тогда и можно будет говорить по-серьезному о многократном увеличении поголовья. Этому и другие культуры будут способствовать, применяемые все больше с каждым годом: турнепс, кормовая свекла, кукуруза в зеленой массе. Да что там говорить! Хозяйство в две с половиной тысячи гектаров может позволить себе любые эксперименты, не боясь краха.
Что он такое сказал? Две с половиной тысячи? Ого! В таком хозяйстве, действительно, триста гектаров можно было пустить на пробу, не беспокоясь о последствиях, какими бы они ни оказались. Но председатель тут все-таки нужен был смелый, если, конечно, он решал все дела. Кстати, он ли решал? Судя по тому колхозу, который попался мне там, на междупутье, делами колхоза ведали иногда совсем другие люди, а председатель ведал скорее бездельем. Как же обстояло дело здесь? Кто двигал этим огромным хозяйством? Ведь кто-то должен был его толкать. Без хозяина оно жить не могло. Но кто был хозяином?
Зная, однако, как трудно у них это установить, я не стал донимать вопросами парторга. Сам он, конечно, хозяином не был. Его забота, как он пояснил, касалась только электричества и радио. Притом, упоминая о планах колхоза, он говорил: «Мы добьемся», «Мы выполним». А «мы» — это, как известно, не «я». У настоящего хозяина нет причины говорить «мы», если он имеет право сказать «я». Из этого следовало, что хозяином он тут не был. Но поди попробуй найти у них среди сотен таких «мы» одного настоящего «я». Занятие это было не из легких, и углубляться в него я не собирался. Выбрав поэтому момент, когда парторг переводил дыхание, я без всяких обиняков спросил его насчет железной дороги. Он сразу умолк и больше не пытался говорить мне о своем колхозе. Но и ответить не торопился. Вместо ответа он спросил:
— Куда вы так заспешили?
— В Ленинград.
— Когда думаете ехать?
— Сегодня.
— Поездом сегодня вы не уедете. Ехать надо от города Павлова. А туда добираться надо либо на машине, либо водой. Но водой вам лучше прямо ехать до города Горького. Оттуда на Ленинград есть, кажется, ежедневный прямой поезд.
— А на чем ехать водой?
— На теплоходе. Он будет в десять вечера у пристани Чуркино. А утром в одиннадцать. Тут внизу дорога тянется под обрывом. По ней и пойдете вон в ту сторону, пока не упретесь в пристань.
Я приблизился к травянистому краю обрыва, выбирая место, где бы можно было спуститься к дороге. Но он посоветовал:
— А вы не торопитесь. До вечера далеко. Чем время займете? Сейчас пойдем пообедаем, а там решайте как знаете.
Против такого предложения у меня не хватило духу возразить, и мы пошли с ним в деревню Кряжино, где был его дом. Дорога шла хлебными полями, спускаясь временами в широкие травянистые лощины, которые образовались на месте бывших оврагов. На склонах этих лощин имелись коровы и овцы. Проходя мимо хлебов, я трогал пальцами колосья. Зерна в них уже заполнили свои места, но были еще мягкие и зеленые. Рожь вымахала вверх по сравнению с пшеницей почти вдвое. Парторг вошел в нее и поднял руку. Рука была длинная, и сам он относился к людям рослым, и все же над колосьями я увидел только кисть его руки. Выйдя из ржи, он сказал:
— Выше двух метров.
Я кивнул. Это была добротная рожь, богатая и соломой и колосом. Она высилась над нами по обе стороны узкой полевой дороги, как молодой лес. Когда мы вышли на улицу деревни Кряжино, парторг спросил:
— Значит, наш колхоз вас не заинтересовал?
Я подумал, прежде чем ответить. Я всегда все обдумываю в жизни. Так уж устроена моя умная голова. Обидеть их мне не хотелось. Они не проявляли старания спровадить меня скорее в другое место. Наоборот, они даже устроили меня на квартиру, готовые кормить все то время, что я пожелаю у них остаться. Но ведь меня с великим нетерпением ждала под Ленинградом моя женщина. Не мог я так долго лишать ее долгожданной встречи со мной. И, кроме того, я уже знал про их колхоз все, что только мог пожелать узнать. Зачем я буду в нем задерживаться? А вдруг здесь обретается тот самый Иван или кто-нибудь из побывавших в наших лагерях? Прикинув это все в голове, я сказал:
— Самое интересное мне уже рассказано.
Он усмехнулся и промолвил с грустью:
— Что рассказ! Увидеть это своими глазами было бы куда полезнее. Посмотрели бы вы, с чего мы начали после войны, и тогда оценили бы то, что сейчас имеем. Это же прочувствовать надо! А если бы узнали, на что дальше замахиваемся, то и вовсе руками бы развели. Ну вот, мы и пришли. Заходите.
Мы вошли в его дом, где нас встретила хозяйка, такая же молодая и крепкая, как он. Она поставила на стол хлеб, нарезанный треугольными ломтями, достала из печки картофельный суп и макаронную запеканку с яйцом. Ко всему этому я приложил за столом самое добросовестное старание. А что мне оставалось делать? Надо же было как-то дать русским людям выполнить вложенное в них свыше извечное предназначение — излить на кого-то избыток своей душевной доброты, хотя бы даже на человека, который неведомо что таил против них и даже, быть может, воевал с ними и стрелял в них. Подарив им такую возможность, я прихватил заодно от этой их неистребимой доброты еще изрядную долю в виде двух стаканов чая с теплыми пшеничными булками. Не мне было препятствовать законам, установленным относительно русских самим господом богом.
И не имело, как видно, значения то, что русский человек на этот раз оказался парторгом. Похоже было, что это даже усилило в нем выгодные для других народов русские качества. И если так, то пусть бы побольше было у них везде парторгов. Я бы не стал, пожалуй, торопиться уходить от него, не будь в моем сердце другой заботы. Это она настоятельно звала меня скорее обратно к Ленинграду. И она же вынудила меня отрицательно покачать головой, когда мы опять вышли на улицу деревни и парторг предложил мне пройти с ним еще километр до деревни Листвицы, куда он шел по какому-то делу. Я сказал ему:
— Едва ли там найдется такое, чего я не успел у вас в России повидать.
Он ответил:
— А почему бы нет? У нас там, например, новая школа есть, выстроенная из церковных кирпичей.
— Церковных?
— Да. Развалили церковь за ненадобностью и выстроили школу.
Вот, оказывается, у каких развалин мы незадолго перед этим стояли. Но я у них уже видел школы и даже доставлял им древесные семена. Удивить меня поэтому школой было трудно, из каких бы кирпичей она ни состояла. Так я ему и заявил. Тогда он сказал с усмешкой:
— Не повезло нашему колхозу: не предусмотрели появления гостя с такой высокой требовательностью. А больше там что же? Ничего особенного. Силосную башню недавно соорудили. Так ведь это для одних нас только заметное событие, при нашей бедности, а вас разве удивишь? У вас и не такое понастроено в вашем-те обширном именьице. Опять же, фруктовый сад, например. По нашим понятиям он большой — первый по величине из наших общеколхозных садов, — а вам-то, верно, не в удивление. И не такие сады видывали, не такими владели. Там же у нас водоплавающая птица вся сосредоточена. Удобно ей: низинка, пруды. Интересует она вас? Ну, и свиноводческое хозяйство там же пробуем помаленьку расширять, поскольку для поросят пастбища удобные имеются. А все остальное там такое же, как и в других бригадах: дома, коровники, зернохранилища, сараи. Так что удивить вас нечем.
Я сказал:
— Да. Коровники мне уже показывали. Свиные хозяйства тоже. И плавающих птиц.
Он развел руками:
— Вот видите. Вы все успели у нас изучить, во все проникнуть, во всем разобраться. Не всякому дан такой редкий талант. Ну что ж. Неволить вас я не могу. Дорогу к пристани вы знаете. Желаю вам благополучно дойти и доехать. Привет финскому народу.
Мы распрощались, и я отправился по знакомой мне полевой дороге в обратный путь.
24
Наконец-то отпали все причины, заставлявшие меня продвигаться все дальше в глубину их беспредельной России. Теперь начиналось мое обратное движение, и уже никаких препятствий этому больше не предвиделось. Все опять шло гладко в моей жизни, чего там! Русские люди накормили меня обедом, и я снова был полон бодрости. Погода стояла хорошая. Голубое небо так сверкало, что больно было на него смотреть. И только редкие белые облака давали глазу отдых. Но я смотрел не столько в небо, сколько на обступившие меня со всех сторон огромные русские холмы, на которых колыхались под легким ветром зелено-желтые хлеба. Я покидал эти холмы. Не удалось им забрать меня в плен, как они ни старались. И теперь я с победным видом озирал их в последний раз.
Выйдя из хлебов к самой широкой и глубокой лощине, я не сразу в нее спустился. Куда мне было торопиться? Теплоход отходил от пристани лишь в десять вечера. Я мог себе позволить и отдохнуть немного после сытного русского обеда. В этом русская земля мне тоже до сих пор не отказывала. Ржаное поле, подступая вплотную к лощине, заняло верхнюю пологую часть ее склона и заканчивалось там, откуда склон уходил вниз более круто. На этой грани, не тронутой скотом, трава росла густо и высоко, пестря цветами. Я свернул с дороги влево и прошел метров двадцать по этой полосе нетронутой травы вдоль кромки ржаного посева. С высоты склона я видел то место, где лощина выходила к приречной низине, прорезав себе широкий проход сквозь толщу прибрежного обрыва, видел кусок низины с голубой полоской реки Оки, а за ней плотную зелень леса, уходившую на север, где ее окутывал синий цвет.
Из-за огромности лощины пятнистые коровы на ее противоположном склоне казались мелкими — не крупнее овец. Мне предстояло туда пройти. Там начинался новый холм и тянулись новые хлебные поля. Но я не торопился туда идти. Раздвинув осторожно ромашки и колокольчики, я сел в траву, вытянув ноги вниз по склону. Место для отдыха оказалось как нельзя уютнее. Позади меня стеной высилась рожь, а впереди открывался залитый солнцем зеленый простор. Воздух был пропитан запахами цветов и спелой земляники. Это были такие знакомые запахи! Это были финские запахи. И объявись тут невзначай Арви Сайтури, он определил бы это с предельной достоверностью. И заодно он бы еще раз убедительно доказал, что русская земля — это не русская земля. Только по ошибке истории ее назвали русской. Это была финская земля, и финский жил на ней народ, по странному недоразумению говоривший на другом языке. А ведь он так мечтал, наверно, заговорить скорее по-фински, этот народ. Но пока что ему приходилось, к великому его прискорбию, кое-как обходиться нескладным русским языком. А что такое русский язык? Ништо!
Даже здешние, нараспев произносимые речи — что они по сравнению с короткими, отрывистыми возгласами, которые выбрасывал из своего сухого рта Арви Сайтури! Его язык — это язык хозяина, привыкшего прибирать к своим рукам других людей, хотя владел он всего сорока тремя гектарами. А здесь даже владельцы двух с половиной тысяч гектаров не могли избавиться от задушевности и мягкости в своих речах. Взять хотя бы этого парторга, который тоже как-никак чем-то тут владел. Даже в его словах сквозила скорее песня, нежели говор. Как он там выразился? «У вас и не такое понастроено в вашем-те обширном именьице». Это он к чему так сказал? Ведь сказано это было мне, а не кому-то другому. Мне — Акселю Турханену, никогда не владевшему ничем иным, кроме пары крепких рук и ног, не считая умной головы. Мне было сказано: «Вам это не в удивленье. Вы и не таким владели». Не таилась ли тут насмешка в мой адрес, в этих словах? Похоже было на то. Что он там еще добавил? «Не всякому дан такой редкий талант». Да, вот как обстояли дела. Без тайной насмешки подобные слова, конечно, не произносятся. Что ж, может быть, я и поторопился немного распрощаться с ним. Но как иначе мог бы я ускорить встречу с моей женщиной, тоскующей по мне в своем вдовьем одиночестве? Меня уверяли, что она тут, во всем этом. Где во всем этом? Не видел я ее во всем этом.
На всякий случай я повнимательнее всмотрелся во все это, и вот на какой-то миг мне показалось, что она действительно тут присутствует. На какой-то миг перед моими глазами вдруг обозначилось ее лицо. Оно надвинулось на меня совсем близко, заняв собой добрую половину неба и почти весь видимый мне кусок земли. Не знаю, какие предметы дали ему очертание. Рожь на отдаленном холме колыхалась и лилась волнами наподобие волос. Развалины церкви, выступая над рожью сбоку, может быть, представили собой ее ухо. Идущие далее в ряд крыши крайних домов деревни Корнево как бы дали начало верхней линии ее головы, которую продолжили пушистые облака. Ребро ближнего обрыва, смыкаясь под некоторым уклоном с темно-синей полосой отдаленного леса, может быть, определило место ее густых бровей. А блеск реки за травянистой низиной не пришелся ли как раз на месте ее глаз?
На один только миг родилось перед моими глазами ее строгое, красивое лицо и тут же растаяло. Едва наметясь, оно не заслонило собой ни земли, ни неба, но я успел уловить в нем ту же непримиримую суровость. Все так же гневно глянули на меня ее глаза, над которыми густые брови сходились плотно, как бы сливаясь в одну огромную бровь. Этот ее суровый взгляд словно предостерегал меня от чего-то. Но от каких напастей он меня предостерегал? Что он хотел выразить? Надо ли было принимать его как упрек за мою долгую разлуку с ней или как неодобрение тому, что я поторопился уйти из этого колхоза? Я, конечно, был готов принять скорее первое предположение. Но и второе меня донимало.
Так или иначе, но отдыха у меня не получилось, несмотря на столь удачно выбранное, уютное место. Раздумывая по поводу того, как вернее поступить, я встал и двинулся дальше через лощину, мимо коровьего стада. Пройдя затем очередные хлеба, я свернул к развалинам церкви, чтобы оттуда спуститься на дорогу, ведущую к пристани. Никаких других планов я себе пока не наметил.
Оба старых человека все еще трудились возле развалин, сбивая с кирпичей известку и укладывая их в аккуратные кучи. Я подошел к ним поближе и постоял немного, глядя на их работу. Один из них, сухой, подвижной, с бритой головой, почерневшей от солнца, был еще крепкий с виду. Другой — грузный, лысый, с короткой белой бородой — казался очень уж старым. Оба были одеты в темные рубахи неопределенного цвета и в черные запыленные штаны, заправленные в сапоги. Работали они сидя, изредка вставая, чтобы подвинуть к себе поближе комок слипшихся кирпичей. Я сказал человеку с белой бородой:
— Нелегкая работа.
То есть я не то хотел сказать. Я хотел задать вопрос. Но вопрос был не совсем удобный, и потому я начал издалека. Он пожал в ответ плечами и проворчал:
— Для кого как.
Я спросил:
— Что еще будете строить из этих святых кирпичей, силосные башни или свинарники?
Он сощурил на меня глаза из-под седых бровей, словно пытаясь определить, насколько серьезны мои слова касательно святых кирпичей. Потом ответил тем же ворчливым голосом:
— Силосные башни мы из бетона отливаем.
Сказав это, он положил очищенный кирпич на место по одну сторону от себя и взял бесформенный комок с другой стороны. Я подождал немного. Ответ был не совсем полный. Другой старик, наверно, понял это и пояснил подробнее, выговаривая слова быстро и не совсем для меня понятно:
— Строить-то что будем? А ничего не будем. Из этого кирпича много ли настроишь? Только разохотишься — ан ему и конец. Мы его лучше в производители пустим. Пущай новый кирпичок нам плодит. Печь из него будем ладить — вот что! Для обжига кирпича печь. Короче говоря, свой кирпичный завод затеваем. Во как! Глины у нас вдоволь. Мастера имеются. И будем выпускать кирпича сколько душа запросит, по потребности. А уж из него понастроим! Такого понастроим, что только держись! Здесь, эвотка, дом культуры поставим.
— Где здесь?
— А вот на этом самом месте, где церковушка наша маячила. Место самое что ни на есть выигрышное. Как вознесем домину этажа в три-четыре, так его с любой точки колхозной территории будет видно. А из него и подавно все наши колхозные владения глазом охватишь. Да что там наши владения! Весь мир из этого дома будем наблюдать!
— А что будет в этом доме?
— Как что будет! Все будет! Свой театр. Кино. Радиостудия. Телевизор. Зал для собраний. Библиотека. Читальня. Кружки заведем разные: шахматные, шашечные, музыкальные, рисовальные, спортивные. Артистов своих воспитаем.
Я покивал головой, чтобы не обидеть его своим недоверием. Не стоит мешать надеждам человека. Как обходиться человеку в жизни без надежды? Без нее кем был бы человек? Нет надежды — нет повода к тому, чтобы двигаться, рваться вперед, высматривать помехи, опрокидывать их и снова двигаться и двигаться. У меня тоже была Надежда, которую звали дополнительно Петровна. В моих скитаниях была повинна она. К ней стремилось мое сердце, не позволяя нигде останавливаться. Но все же я постоял еще немного на месте, чтобы сообразить, что сказать старику с белой бородой.
— Дом культуры — это где-то очень далеко. Это у вас при коммунизме будет. А пока вам все-таки работать приходится, чтобы прокормиться, хотя ваш возраст уже такой, когда пора бы…
Тут он прервал меня сердито, не переставая стучать молотком:
— Возраст наш никого не касается. А работать нам не обязательно. Хотим — работаем, хотим — нет.
— Не обязательно? Как не обязательно?
— Да так. Не обязательно — и все.
— А-а, понимаю. В семье сыновья работают, внуки.
На это бородатый старик промолчал, угрюмо обстукивая кирпич. За него ответил бритый старик, пояснив мне своей обычной скороговоркой:
— Ни сыновья, ни внуки. Бобыли мы с ним. Я всю жизнь бобылем промаялся, а он с войны им остался. Сына там единственного потерял. А работать нам не обязательно потому, что годы наши вышли. За шестьдесят нам давно перевалило. И кормиться нам положено из фонда.
— Из фонда?
— Да. Резерв есть такой продовольственный у нас в колхозе для инвалидов и престарелых. После укрупнения образовали. Не ахти сколько из него можно выделить, но одинокому человеку, да еще в дополнение к своему огороду, хватит вполне.
— Так зачем же вам тогда работать?
— Как зачем! Да разве усидишь на печи, когда жизнь эвона как с места тронулась! Обидно от нее в стороне оказаться. Вот и работаем в меру сил.
Так обстояло у них дело, у этих стариков, которым, кажется, не грозила отправка в городской дом для престарелых или передача на полное призрение в частные жадные руки через аукцион. Они могли оставаться жить в своих собственных домах, в своей деревне, не беспокоясь о пище. Заботу о них брал на себя колхоз. Я спросил:
— А как у вас другие старые люди?
Бритый ответил:
— Как мы, так и другие. Двое в садовом деле опыт свой передают. Один по конской сбруе специалист. А есть любители телеги мастерить, санки, бочки, кадушки. Каждому желательно к чему-то руки приложить, потому как результат виден. Доход колхозный давно за миллион перевалил. К двум подбирается. А чей это доход? Наш. Каждому из нас он принадлежит в равной мере, потому что создавали-то его мы. Неудивительно, что руки у всех к делу тянутся. Кому не лестно чувствовать себя создателем всех этих успехов?
Я спросил:
— А как те живут, которые уже совсем ничего не могут?
Бородатый ответил:
— А так и живут. Ничего не могут — ничего с них и не спросится. Колхоз им питание заслуженное отпускает и всякую другую помощь, а кто-нибудь из женщин присматривать берется. Сейчас у нас только один такой в колхозе да две старушки. Но те в семьях, где трудоспособные имеются. Тоже, значит, обходятся. А для нас, для одиноких, весь колхоз — семья. Тут все тебе свои, все родные. Без внимания не оставят.
Я постоял возле них еще немного. И мне припомнился в это время одинокий, старый Ахти Ванхатакки с его убогой хижиной, подбитой сбоку куском старой драночной крыши для защиты от злого северного ветра. Как встретит он свои закатные годы? Кто будет ему опорой в его последние дряхлые дни? Не найдя на свои мысли ответа, я кивнул этим двум, не знающим такой заботы, и, перешагнув остатки церковной каменной ограды, спустился по травянистому скату обрыва к нижней дороге.
По ней я двинулся на, восток, имея в виду пристань. А что мне еще оставалось делать? Об этом колхозе я теперь знал все, что только человек может знать о колхозе. И самое главное мне рассказал бритый старик. Узнавать о русской деревне мне уже больше было нечего, и теперь я мог спокойно уехать отсюда к своей женщине, которая ждала меня с нетерпением где-то там далеко, под Ленинградом.
25
Я шагал по этой мягкой грунтовой дороге к пристани, радуясь тому, что путь к Ленинграду был наконец для меня свободен. Слева от меня тянулась вверх и вниз вдоль реки Оки луговая низина километровой ширины. Травы на ней были в полном цвету, готовые принять лезвие косы. Справа нависал высокий травянистый обрыв, прорезанный местами выходами старых оврагов, тоже поросших травой и кустарниками. Стена обрыва постепенно отклонялась вправо. Дорога загибалась вслед за ней. И мне, идущему по этой дороге, открывались все новые и новые луговые просторы, полные цветочного благоухания и красок. А на одном из поворотов открылась картина сенокоса.
Косилки, правда, уже не работали. Они сгрудились у кромки нетронутой части луга, числом около двух десятков, чтобы рано утром с помощью лошадей продолжить свое наступление на это многоцветное травяное море. Но и за этот день они одолели немало. Уборка скошенного ими сена шла на пространстве нескольких километров этой далеко протянувшейся вдоль реки равнины. В разных местах виднелись только что наметанные стога, и в разных других местах вырастали новые. К этим новым растущим стогам отовсюду ползли по земле копны сухого сена. Подвозили их мальчуганы, сидя верхом на лошадях. Они захватывали копну длинным ремнем, подсунув под нее предварительно два колышка, соединенных с постромками, идущими от хомута. Как видно, им нравилась эта работа, и они с веселыми криками носились верхом туда и сюда вдоль обширного берега реки, обгоняя друг друга. Копны для них заготавливали взрослые парни и девушки. Делали они это быстро, идя с вилами и ручными граблями вдоль длинных валков просохшего сена, натасканных конными граблями.
Но еще виднелось на равнине много невысушенного сена. Местами оно лежало, совсем еще ничем не тронутое после косилок, а местами было собрано в более толстые пласты. Женщины ворошили эти пласты граблями и пели песни. Из разных мест равнины доносились разные песни. Они сливались вместе, вбирая в себя, кроме того, со всей равнины общий громкий говор по крайней мере двухсот мужских и женских голосов, веселые взрывы смеха и разудалые выкрики мальчишек-наездников.
Я смотрел на них с дороги, идя своим путем к пристани. Все они оставались довольно далеко слева от меня и не могли поэтому помешать моему обратному движению к Ленинграду. Мой путь лежал мимо них, слава богу, и я мог спокойно рассматривать их издали, слушая в то же время их песни. Но, глядя со стороны на все это яркое, живое, шумное, пронизанное песней и смехом, я вдруг проникся сомнением: сенокос ли это? Может быть, я видел не то, что понимается в иных местах как трудное дело летней страдной поры, а видел я какой-то огромный луговой праздник, ради того и созданный, чтобы показать, сколько красоты таится в трудовых усилиях этой поры, когда сплетаются воедино ловкие, гибкие движения множества людей, их раздольные песни и душистые запахи свежескошенных трав?
Но это было их дело, конечно, — превращать свою работу в праздник. У меня не было к тому повода. Мой праздник ждал меня где-то там, под Ленинградом. Туда несли меня мои ноги, и не было на свете силы, способной теперь их остановить.
Когда они проносили меня мимо того места, откуда к моей дороге спускалась по дну старого оврага дорога из Корнева, мой путь пересекла девушка в светлом тонком платье, с граблями на плече. Это была та самая дородная красавица, из-за которой я едва не убил художника и скульптора. Она спустилась из Корнева на мою дорогу и, оказавшись рядом со мной, спросила:
— Вы тоже туда?
Я не понял, что она имела в виду, но ответил, не задумываясь:
— Да.
Мог ли я ответить ей «нет», когда на меня с такой приветливостью взглянули ее крупные серые глаза и улыбнулся ее полногубый рот, полный белых зубов. Не мог я ответить ничего наперекор ей, рожденной на удивление миру в таинственных недрах России. И, конечно, я пошел туда же, куда шла она. А шла она прямиком на сенокос.
Да, так вот обстояли дела в этой стране, где никогда нельзя загадывать свои действия наперед. Не дошел я до пристани. Дорога на пристань так и осталась дорогой на пристань, а я свернул с нее влево, направляясь по скошенному лугу туда, куда шла моя спутница. Она шла, и я шел. Она свернула к женщинам, подгребавшим вслед за копнителями сухое сено, и я свернул вслед за ней. Почему бы мне не свернуть? Кто мог мне помешать идти за ней, смотревшей на меня с таким доброжелательством? У меня тоже могла быть в скором времени такая же рослая и статная дочь с такими же толстыми косами, полная такой же душевной мягкости к людям, пускай даже мало ей знакомым, даже к тем, кто, может быть, воевал против ее страны, породившей ее, такую, на свет. Женщины крикнули ей:
— Ого! Вот и Дуняша к нам пожаловала! Да никак еще и в помощь кого-то привела!
Дуняша им ответила:
— А вы как думали? Тут люди сурьезные. От работы не побегут.
Я посмотрел на женщин, и у меня зарябило в глазах от множества разноцветных платьев, головных платков, загорелых, румяных лиц, округлых рук и полных икр. В мою сторону блеснули десятки пар любопытствующих глаз и улыбнулись красивые женские рты. Да, здесь было на что смотреть, и, пожалуй, напрасно так свирепо тузили друг друга художник и скульптор. В этом краю они вполне могли бы обойтись без драки, стоило им только внимательнее оглядеться на все стороны. Да и мне открывался немалый выбор. Но я не собирался рисковать, ибо не знал, каким действием принято здесь отмечать согласие на предложение: кидают ли при этих обстоятельствах человека в простенок между дверью и печкой или просто ударяют головой о самую печь, выбрасывая затем его останки в открытое окно? В каждой части России могли быть свои обычаи, и меня не особенно тянуло испробовать их на себе все. На всякий случай я сказал женщинам: «Здравствуйте», — и они на разные голоса ответили мне тем же. А один задорный голос даже добавил:
— Здравствуйте, если не шутите.
Шутить мне было некогда, потому что от ближайшего стога мужской голос крикнул в мою сторону:
— Эгей! Кто вилами владеет, сюда просим!
Я владел вилами. Ко мне относился этот призыв. Я обернулся к своей спутнице, но она уже стояла в ряду других женщин и ворошила граблями сено. Тогда я пошел к стогу, где стоял парень, предлагавший мне вилы. И кровь застыла в моих жилах, несмотря на летнюю жару, при виде этого парня, ибо передо мной стоял один из их миллионного легиона двухметровых.
Так обстоят у них тут дела. Запомните это на всякий случай вы, финские люди, и не попадайтесь в подобную ловушку. Вы идете к пристани, чтобы уехать скорее к своей женщине, ожидающей вас в томительном одиночестве где-то там, под Ленинградом. Но вы не дойдете до пристани. Статная русская девушка с пышными темно-русыми косами, по имени Дуняша, загораживает вам дорогу и ведет вас в сторону, ведет, как бы невзначай, туда, где вас ждет грозный двухметровый легионер, взмахнувший вилами, чтобы пронзить вас насквозь.
Впрочем, он, кажется, не очень торопился меня пронзить. И вилы он держал не остриями ко мне, а рукоятью. И, протягивая их вперед рукоятью, он улыбался мне с высоты своего роста. Тогда я понял, в чем было дело! Он тоже не успел еще получить приказ ринуться на Суоми и потому вел себя пока еще столь миролюбиво. Пользуясь этим, я смело приблизился к нему и принял из его огромной мускулистой руки вилы-тройчатки.
Легионер отступил в сторону и закурил, наблюдая за мной. Он был в майке. Я тоже снял пиджак и, положив его аккуратно на землю у подножия стога, принялся подавать наверх сено. Стог едва был доведен до трети намеченной высоты. Длинная жердь из его середины высовывалась кверху еще метра на три. Вокруг этой жерди топтались по плоской поверхности стога двое: средних лет мужчина в белой полотняной рубахе и светловолосая девушка в синих сатиновых штанах. Они подхватывали вилами подаваемое мною сено и раскладывали его равномерно по окружности стога, подминая под себя ногами. Легионер курил, поглядывая на меня искоса, потом раздавил сапогом окурок и сказал, обратясь ко мне:
— Кажись, в порядке все? Хорошо работается на свежие-ти силы?
Я не ответил ему, втыкая вилы в очередную копну. Я не успел ответить. Я торопился. Мне казалось, что я подаю медленно и там, наверху, недовольны этим. Верхняя круглая плоскость у стога непрерывно требовала сена, чтобы расти и шириться, и надо было сохранять эту непрерывность. Те двое выкладывали сено по кругу так, что каждый новый ряд все дальше выступал над предыдущим.
Сена требовалось все больше. И я не хотел, чтобы их руки оказывались пустыми из-за меня. А легионер, видя мои старания, поднял с земли свой пиджак и сказал:
— Вот и ладно. Значит, справитесь? Ну, а я побегу веткинским пособлять.
И он убежал, оставив меня возле стога одного. Пришлось и мне раздеться до майки. Но дело еще клеилось кое-как, пока я действовал короткими вилами. А когда взял в руки вилы с трехметровой рукояткой, стало труднее. Копны были свежие, рыхлые, и сено плохо держалось на вилах. Захватывая ими порой едва ли не половину копны, я до верха доносил не более четверти. Остальное отпадало от вил и валилось комьями мне на голову и плечи. Сенная труха прилипала к мокрой от пота коже и застревала в волосах. Но приходилось терпеть. Свежие копны все прибывали к стогу с разных сторон, и две пары рук ждали наверху новых охапок сена. Я подавал им и подавал, стараясь показать всем своим видом, что для меня такая работа — сущие пустяки, вроде небольшой разминки после длительного безделья. Но давалось мне это нелегко.
Когда вершина стога начала принимать форму конуса, кто-то прислонил к стогу свободную жердь, и девушка спустилась по ней вниз. Мужчина довел дело до конца без нее. Напоследок я подал ему вилами два продолговатых куска толя, утяжеленных привязанными к ним поленьями. Он перехлестнул ими вершину стога крест-накрест и затем спустился вниз тем же способом, что и девушка.
Я вытер ладонью пот с лица и посмотрел в сторону дороги. Не так уж далеко я от нее отошел. И не так далеко находилась пристань. Теперь я видел ее. Оставалось пройти еще немного краем луга, который упирался в капустные поля. А за капустными полями дорога, подпираемая обрывом, выходила постепенно к самой реке и далее тянулась по краю берега еще метров триста, пока не упиралась в пристань.
Издали я видел также крайние дома деревни Корнево. Они высились над обрывом по обе стороны затравеневшего оврага, по дну которого в приречную низину выходила из деревни дорога. Но я уже миновал это место и не собирался туда возвращаться. Осталось преодолеть свободный кусок пути до пристани — только и всего. Разыскивая засыпанный сеном пиджак, я поворошил вилами у стога, но мужчина сказал:
— Не беда. Тут без нас все подчистят и причешут. Пойдем. Длинные вилы не забудьте прихватить.
И, подняв на плечо тяжелую жердь, он отправился по скошенному лугу к другому скоплению копен. Я постоял немного, глядя ему вслед, потом подобрал свою одежду, подхватил те и другие вилы и отправился за ним. А что мне оставалось делать? Я был в России, которая заграбастала меня в плен и не собиралась выпустить.
Между этими копнами было заготовлено из бревен и досок еще одно основание для стога с длинной прямой жердью посредине. Светловолосая девушка в штанах уже успела перекидать на это основание три-четыре копны сена и теперь выравнивала его по кругу. Она сказала нам:
— Я водицы принесла. Там она стоит, в ведерочке под платочком.
Мы выпили по кружке воды, принесенной из реки Оки, и принялись подбрасывать сено девушке двумя вилами с двух сторон. Она не успевала его распределять по всей поверхности стога и скоро взмолилась:
— Ой, да обождите вы! Завалили меня совсем!
Но мужчина сказал:
— Да где же завалили? Разве так заваливают?
— А как же еще заваливают-то?
— А вот эдак!
И, подмигнув мне, мужчина принялся быстрее действовать вилами, норовя попадать глыбами сена прямо в девушку. Я присоединился к его шутке, и скоро мы забросали девушку сеном выше головы. Сначала она смеялась, пробуя справиться с этим зеленым душистым каскадом, падающим на нее с двух сторон, потом выбилась из сил и умолкла, затаившись под грудой наваленного на нее сена. Тогда мужчина поднялся к ней на помощь А шутить внизу остался я один.
Не знаю, сколько времени я шутил. Подсчитывать минуты и часы мне было некогда — такого внимания требовала эта шутка. Продвигаясь шаг за шагом вперед вокруг стога, я перекидывал наверх копну за копной. Бог знает, сколько раз я обошел так вокруг стога и сколько перекидал наверх копен. Как бы то ни было, их становилось вокруг стога все меньше, а стог все вырастал. Длинные вилы замедлили мою шутку, а временами я совсем ее прерывал, прикладываясь к воде. Два раза я нацеплял ведро на вилы, чтобы подать его наверх. Там, наверху, тоже обильно лился пот.
К тому времени, как вершина стога начала заостряться, возле меня остановились люди, переговариваясь между собой о чем-то. Один из голосов показался мне знакомым, но некогда было поворачивать голову, чтобы определить, чей он. Длинные вилы не оставляли на это времени. Перебирая ладонями по всей длине их рукоятки, я посылал наверх пудовые пласты сена, а пустые вилы перехватывал на лету поближе к зубьям, чтобы тут же без промедления перевернуть их и снова вонзить в копну. Все же я догадался, чей голос в числе других доносился до моего уха. Это был парторг. Он говорил:
— Вот на этом она и строится, наша братская солидарность между народами, — на любви к труду. Сами видите: не мог человек мимо пройти, чтобы не присоединиться к работающим. Трудового человека всегда тянет к трудовому человеку, потому что интересы у них общие. Этим народы и сильны.
Похоже было, что из моего появления на их сенокосе он делал политику, к чему его обязывала, наверно, должность парторга. И другие голоса не пытались, кажется, против этого спорить. Когда стог был закончен и я воткнул вилы в землю, парторг сказал:
— Ну как, товарищи, может, запишем ему половину трудодня?
И кто-то отозвался:
— Да не грех бы и полный записать для первого-то раза.
Я повернулся к ним, вытирая пот с лица. Парторг стоял в окружении нескольких человек, опираясь на вилы и держа пиджак в руках. Его выцветшая рубаха была мокрая на спине до самой поясницы. Как видно, и он где-то успел вдоволь нашутиться вилами. Он спросил меня:
— Искупаться не хотите ли?
Искупаться я хотел, и мы пошли с ним к реке. Берег был низкий, кустарниковый. Парни и девушки уже купались в разных местах реки. Ниже по течению мальчики купали лошадей. Парторг в один миг скинул сапоги и разделся. Сделав небольшой разбег, он прыгнул в воду головой вперед и сразу отплыл метров на пятнадцать. Я тоже нырнул раза два и потом поплескался немного у берега, обтираясь ладонями. Хорошая была вода в этой их реке Оке. Я освежился как раз в меру и от берега шел опять бодрый, чистый, причесанный, с повязанным галстуком.
Работа на лугу уже затихла, и люди с граблями и вилами в руках тянулись из разных мест приречной низины к зеленой стене обрыва, проникая в нее по углублениям старых оврагов. Я спросил парторга:
— Почему так рано кончили работать?
Он пожал плечами:
— Как рано? Уже семь часов.
— Но солнце еще не село.
— А мы не по солнцу. Мы от семи до семи, с двухчасовым перерывом на обед. Да и то мы так постановили только сенокос отработать, чтобы хорошую погоду ухватить. А обычно мы по восемь часов работаем.
— Но успеете ли вы ухватить погоду, работая так мало?
— Успеем. Нам еще дня три таких — и с покосом будет кончено.
— А сколько его у вас?
— Покоса-то? Да без малого шестьсот гектаров.
— Ого! И давно начали?
— Давно. Дней десять уже копаемся.
— Только и всего? Что же вы будете делать через три дня?
— Найдется дело: прополка овощей, капусты, пропашка картошки. А кому дела не хватит — отдохнет.
— Среди лета отдыхать?
— Что ж, придется, если работы не будет.
— Среди лета не будет работы?
— Да. Среди лета. Уже случалось у нас так. Разве только вот строительством займем людей до хлебоуборки.
Я промолчал. Это как-то не укладывалось в моей голове. Мог ли я представить, например, чтобы у людей, работающих в хозяйстве Арви Сайтури, оказался вдруг среди лета свободный день, хотя бы даже воскресный? Не мог я этого представить. И даже такого хозяина не мог я себе представить, который решился бы работать в своем собственном хозяйстве по восемь или даже по десять часов в летний горячий день. Куда покатилось бы после этого такое хозяйство? Мои старые приятели Ууно и Оскари только тем и держались, что трудились на своих участках от зари до зари. Даже одинокий старый Ванхатакки на своем крохотном участке не мог позволить себе такого баловства, если не хотел умереть с голоду. Но что мог понять в таких вещах молодой русский парторг, если бы даже я попытался ему это втолковать? Вся его жизнь прошла при советском строе. Откуда ему было знать, как выглядит настоящая работа? Но бог с ним. Зато теперь я узнал самое последнее, чего еще не знал о колхозе, и мог со спокойной совестью ехать в Ленинград.
26
Скоро мы вышли на ту самую мягкую грунтовую дорогу, по которой мне предстояло дойти до пристани. Видя, что я остановился, готовый туда немедленно направиться, парторг сказал:
— Не торопитесь. Еще и поужинать успеете.
Это была неплохая мысль, и мы, повернув к пристани спины, пошли с ним обратно в деревню Корнево. Когда мы поднялись в деревню, я обратил внимание на один добротный кирпичный дом под железной крышей. Он стоял немного в стороне от общего ряда и был окружен с трех сторон садом, А в саду бегали и играли дети, одетые в одинаковые синие трусики и голубые майки. Я уже привык видеть у них такие места и сказал, кивая в ту сторону:
— Детский сад?
Но парторг поправил меня:
— Нет, детский дом.
— А какая разница?
— Большая разница. У малышей, играющих в детском саду, есть родители. А в детском доме, или, иначе говоря, в приюте, живут ребята, у которых родителей нет.
— Так это детский приют? Почему же он на вашей земле?
— А на чьей же земле ему быть? Приют наш, и дом наш, колхозный, конфискованный у местного кулака.
— У кулака?
— Да. Был тут прежде богач один. Прижимистый такой мужик. Все Корнево держал под ногтем. Редко кто у него в батраках не перебывал. Одним словом — кулак. Понимаете?
— Понимаю. Вроде Арви Сайтури.
Он вопросительно на меня взглянул, ожидая пояснения, но, не дождавшись, договорил:
— Ну так вот. Во время коллективизации его раскулачили, оставили ему лошадь, корову, восемь гектаров земли и сказали: «Живи своим трудом — и никто тебя больше не тронет». А он не оценил этого и антисоветской пропагандой занялся. Тогда убрали его отсюда, а дом под клуб заняли.
— Под клуб?
— Да. Под народный дом, иначе говоря. Но теперь у нас новый клуб в Кряжине выстроен, а этот дом под приют отвели.
— А дети в нем откуда?
— Как откуда? Да наши же они, свои, колхозные сироты.
— А-а. И много их?
— В том-то и дело, что немало. До войны в наших шести деревнях только трое ребят насчитывалось круглых сирот. Жили они у родных. А после войны восемнадцать малышей без родителей оказалось. Конечно, могли бы мы их тоже по родным распихать. Например, двух девочек-сестричек пристроить к их старшему брату, женатому. Одного мальчугана — к его замужней сестре. Ну и остальных тоже по разным там дядьям и теткам. Нашлись бы родственники. Но ведь у тех свои семьи, свои заботы. Не узнаешь вперед, кто и как будет относиться к своему приемышу. А детям надо настоящее воспитание дать. Вот и решили собрать их вместе. Воспитательницу к ним приставили. Зимой они отсюда в школу ходят в Листвицы. А летом с ними одна из учительниц время проводит. Был еще третий выход: сдать их на попечение государства, то есть определить в городской детский дом. Но жалко с ребятами расставаться. Свои они, наши. Колхоз для них теперь, можно сказать, и отец, и мать, и семья родная. Тут каждый человек для них свой — не только родственники, потому что каждый одинаково принял на себя о них заботу. Да и домишки тут у них есть собственные почти у всех и личное хозяйство кое-какое. От родителей осталось. Войдут в положенный возраст — и получат все в полной сохранности. А у кого домика нет — колхоз выстроит. Вот и живут они здесь как равноправные члены колхоза. И с другими ребятишками у них все вместе: самодеятельность, игры, песни и прочие разные затеи. Сейчас у них шахматный турнир проводится на первенство по колхозу — вон там, в библиотеке-читальне, на втором этаже.
Рассказав мне все это про осиротевших детей, парторг довел меня до дома и там передал на попечение старшей хозяйке. Хозяйка накормила меня ужином. Он состоял из горохового супа со свининой и мясных котлет с жареной картошкой. Суп так упрел у нее в печке за день, что отдельные горошины и куски свинины таяли во рту, едва коснувшись языка, который с готовностью их подхватывал. Зубы тщетно пытались взять на себя эту сладостную работу. Им оставалось только перемалывать хлеб, что они, впрочем, тоже делали не без удовольствия.
Я съел этого ароматного, тающего на языке варева две полные тарелки, а потом с таким же старанием приналег на котлеты с картошкой. Запить все это пришлось тремя стаканами чая, после которых я с трудом поднялся со стула. Сказав хозяйке «спасибо», я заодно хотел добавить, что больше ее не побеспокою, потому что ухожу на пристань садиться на теплоход. Но она в это время указала на постель, приготовленную для меня в первой комнате у стены, и сказала:
— Хотите — сейчас ложитесь. Хотите — потом. А приходить можете в любое время, хоть за полночь. Дверь у нас не запирается.
Она произнесла это с такой теплой заботливостью, что у меня не повернулся язык сказать ей о своем уходе на пристань. Повторив еще раз благодарность, я прикрыл тихонько дверь и вышел на улицу деревни. Но отправился я все-таки на пристань. А куда же мне было еще отправляться? Теперь я узнал о жизни русских колхозов самое последнее и окончательное, что еще могло в них таиться неузнанным, и мог со спокойной совестью ехать в Ленинград.
Было еще совсем светло, хотя солнце уже приготовилось опуститься за высокие хлебные холмы где-то там, позади деревни Кряжино. Перейдя на ту сторону улицы, где стоял приют, я свернул поближе к его голубому забору, но не увидел на этот раз никого внутри сада. Все же я потоптался возле него немного, всматриваясь в открытые окна кирпичного дома, за которыми звучали детские голоса и мелькали детские головенки. Сад был небольшой, но зато он густо порос деревьями и кустарниками, и среди них я узнал березу, липу, дуб, клен, сирень и жасмин.
Во многих местах сада по краям дорожек и на отдельных клумбах цвели разные цветы. В одном его уголке стояли в три ряда старые яблони. Земля под ними была возделана, и обилие зеленых яблок на их ветвях обещало хороший урожай. Другая часть сада переходила в огород, который тоже буйно зеленел всякими видами овощей, побуждаемый к тому чьими-то заботами. Он прилегал к дополнительным хозяйственным постройкам, заканчивая собою сад.
Да, любопытное применение нашли они для усадьбы своего, русского Арви Сайтури. Этот их Арви тоже, наверно, хотел войны, надеясь прибавить с ее помощью к своей усадьбе чужие земли. Но война породила сиротство. И, чтобы он помнил впредь, как невыгодно затевать войну, люди поместили этих осиротевших по его вине ребят в его собственной усадьбе. Да, это здорово было у них придумано.
Постояв немного у низенького забора и не видя никого в саду, я вспомнил про двухэтажный дом, где проходили шахматные соревнования. Дом этот стоял по другую сторону улицы. Прикинув оставшееся у меня в запасе время, я без промедления направился к нему. Но тут в деревню вошло снизу стадо коров, заняв собой всю улицу. Пришлось постоять на месте, пока оно, мыча и пыля, неторопливо проходило мимо меня в глубину деревни, растекаясь там по отдельным дворам и общим коровникам. За это время солнце успело уйти с небосвода, окрасив попутно нижние кромки облаков на западе в золотисто-красный цвет. За это же время золотисто-красный цвет облаков потерял свою яркость, перейдя в серо-фиолетовый. Наступили сумерки. В двухэтажном доме наверху зажгли огни. А коровы все шли, устало шаркая копытами по мягкой пыли и наполняя воздух деревни своими коровьими запахами. Вслед за коровами прошли телята, потом овцы, потом трое молодых пастухов с длинными бичами. И только тогда я двинулся наконец поперек улицы, осторожно переступая через оставленные стадом следы.
Не следовало мне, конечно, пережидать, когда пройдет колхозное стадо. Это оказалось довольно-таки невыгодным делом. Кто это сказал, что русские стада тают по мере их околхозивания? Краснолицый злопыхатель сказал это там, на глухом полупутье. Постоял бы он здесь, на краю покатой улицы, имея намерение успеть на теплоход, и попробовал бы переждать, когда мимо него проструится этот медлительный, тяжелый поток из коричневых, черных и пятнистых спин, слегка прогнутых книзу под грузом сытого чрева и полного вымени. Что он тогда заговорил бы? Остался бы он и тогда при своем затаенном злорадстве или, погасив усмешку, вернулся бы молча в свой одиноко возделанный рай, строго обозначенный пределами забора?
Да, тут нашлось бы ему над чем поразмыслить. И не только ему. Призадумался бы и Юсси Мурто, наблюдая эту картину. Но мы с ним легко разгадали бы скрытую за этим хитрость. Нас не проведешь. Нам, проникшим во все хитроумные козни русских, нетрудно было бы догадаться, что они согнали сюда коров с доброй половины России, дабы пропустить их перед глазами финна и тем самым втереть ему очки. Но бог с ними. Я не сердился на них за эту хитрость. На себя я сердился, и довольно крепко, за то, что не догадался перебежать улицу до того, как в деревню вошло стадо. Тогда у меня осталось бы время подняться наверх. Теперь у меня не осталось на это времени. Надо было идти на пристань.
И все-таки я поднялся на минутку в их библиотеку-читальню. Конечно, я рисковал при этом напороться на какую-нибудь задержку. И не просто задержку. Там, наверху, мог, например, оказаться тот самый Иван. Он мог мне также встретиться на узкой деревянной лестнице, по которой я поднимался. И встреться я с ним на лестнице — не видать бы мне пристани. Трое встретились мне на лестнице. И каждый из них в точности походил на того самого Ивана, хотя все они были разные по росту и по виду. Тем не менее ни один из них не схватил меня за горло. Все они сказали мне: «Здравствуйте» — и прошли мимо, неся в руках книги.
Но он мог оказаться наверху. Несмотря на это, я все же туда поднялся. Такой я был смелый. Смерть грозила мне из каждого угла большой комнаты-читальни, а я все-таки туда вошел. Но я не собирался там долго задерживаться и потому надеялся уцелеть. Зато я увидел тех, что завладели домом всесильного Арви Сайтури. Увидел совсем близко, лицом к лицу. Да, вот как они выглядели! Я сразу узнал их среди других ребят по одинаковой одежде. Трех мальчиков я увидел и одну девочку. На мальчиках были надеты темно-синие штаны и белые рубашки с короткими рукавами, на девочке — темно-синяя юбка и белая блузка. На ногах они носили кожаные коричневые сандалии поверх коротких коричневых носков.
Я очень внимательно все это рассмотрел, подойдя к ним совсем близко. Светло-русые головы мальчиков были по-разному причесаны, а девочка носила две маленькие белокурые косички, перевязанные розовой лентой.
Два мальчика из этих трех были заняты игрой в шахматы, а третий мальчик и девочка стояли среди других ребят-школьников и смотрели на игру. Игра шла в первой комнате за тремя маленькими столиками на трех шахматных досках. Вторая комната была отгорожена от первой комнаты стеной и прилавком. За прилавком в глубине второй комнаты виднелись высокие полки с книгами. Там же находилась молодая женщина, отпускавшая книги. На прилавке тоже были разложены книги. Это для тех, кто привык выбирать их сам. Несколько человек разного возраста стояли перед прилавком и рылись в них. Но некоторые сразу называли нужную книгу. Одна девушка, например, спросила «Анну Каренину» Льва Толстого, а другая — «Молодую гвардию» Фадеева. Я знал эти книги. Я их прочел у Ивана Петровича. Пожилой человек спросил книгу профессора Опарина о происхождении жизни на Земле. Я не знал этой книги. Надо было запомнить ее на всякий случай.
Люди входили и выходили, стараясь не особенно шуметь. Кое-кто присаживался к большому столу, на котором были разложены газеты и журналы. Кое-кто принимался наблюдать за игрой. Я тоже присоединился на минутку к тем, кто сгрудился там, вокруг поставленных в ряд трех маленьких столиков. Позади ребят в этом удлиненном кольце стояли также взрослые: несколько парней и два-три человека средних лет. Так что мое появление среди них не вызвало удивления.
Один из этих мальчиков играл со своим противником за крайним столиком, другой — за средним. Игравший за средним столиком сидел ко мне затылком, а игравший за крайним сидел ко мне лицом. За спинкой его стула стоял третий мальчик, тоже обращенный ко мне лицом. Он взглядывал на меня каждый раз, когда на шахматной доске делался очередной ход, словно проверяя по моему лицу, как я его расцениваю. Как я расценивал? Никак не расценивал. Я слабо играл в шахматы. Иван Петрович научил меня когда-то, чтобы иметь иногда в свободные вечера под рукой хоть какого ни на есть партнера. Но в тонкостях игры я не разбирался. Однако я не показывал этого мальчику, следившему за моим лицом, и, глядя на шахматную доску, старался напустить на себя понимающий вид. И только в те минуты, когда его внимание тоже отвлекалось доской, я косился на другие белые рубашки и на белую блузку девочки, стоявшей у другого крайнего столика.
Да, вот чем они занимались, эти обездоленные, у которых не было отца и матери, которых некому было пригреть и которым ничего другого не оставалось, как идти работать к богатому Арви Сайтури, чтобы иметь кусок хлеба на пропитание. Вот чем они занимались. Не работали они у Арви Сайтури и не заботились о куске хлеба. Нет, они просто-напросто поселились в его доме, попросив его предварительно удалиться оттуда. Не в сарайчике возле его дома они поселились, откуда им надлежало ходить работать на его поля. А поселились они в его доме, откуда ходили в школу. Ходили они также и на поля, но не столько работать, сколько резвиться, собирая цветы и землянику. Знали они также разные другие детские игры и забавы, читали книги с картинками, играли в шахматы. А забота о необходимости прокормиться не коснулась еще их детских сердец, не отняла у них детских радостей, не вытравила из них беззаботности, живости и задора, без чего дитя уже не дитя. Вот какие удивительные вещи могли, оказывается, совершаться на нашей планете. Богатая усадьба Арви Сайтури могла перестать быть усадьбой Арви Сайтури.
Я смотрел на этих четверых и видел, что вниманием они не были обделены. Один из них проигрывал, и зрители огорчались этим. Другой выигрывал, и зрители этому радовались. Радовался и я, конечно, стоя возле его столика. Вот он опять сделал ход, и ребята, окружавшие столик, одобрительно переглянулись. А стоявший позади него третий белорубашечный мальчик даже улыбнулся мне, гордый за своего товарища, и сделал такое движение головой, словно говорил: «Вот как у нас!». Я покивал ему в ответ с улыбкой, давая этим понять, что вполне с ним согласен. Еще бы я не был согласен, когда на меня с такой доверчивостью смотрели умные мальчишеские глазенки. У меня тоже мог быть в жизни такой же славный светловолосый мальчик, умеющий радоваться успеху товарища.
Вот он скорчил насмешливую гримасу, забавно выпятив нижнюю губу, и снова кинул взгляд в мою сторону. Это надо было понимать как его оценку неудачного хода.
А неудачный ход сделал мальчик в темной рубашке, сидевший ко мне спиной. И с этой оценкой я тоже согласился, хотя опять-таки не успел разобраться в сути сделанного хода. Но ход был плохой — чего там! Это мой мальчик правильно подметил. И я с готовностью подтвердил его оценку, скроив ему в ответ примерно такую же гримасу.
Так мы с ним переглядывались и перемигивались, пока не раздались вокруг хлопки. Это люди отметили победу мальчика в белой рубашке, за игрой которого и я с таким знанием дела следил. Я тоже ему похлопал. А потом раздался голос молодой женщины, отпускавшей книги. Она сказала, что закрывает библиотеку. Мальчики за двумя другими столиками записали свои очередные ходы, запечатали их в конверты и передали судьям, таким же мальчикам, как они сами. Вышли они из читальни последними. Я вышел вслед за ними. На улице один из них сказал другому:
— Тебе после его коня ладьей нужно было ходить, а ты ферзя давай спасать.
Другой ответил:
— А ты меня не учи. Сам-то как смазал. Можно подумать, что в первый раз за доску сел.
Третий сказал:
— Рокироваться надо было, а не пешку двигать.
Но ему ответили:
— Это как сказать! Анализ покажет, кто прав.
На улице они все постепенно разбрелись в разные стороны, и, когда белые рубашки отделились от остальных, кто-то крикнул в их сторону:
— Вась, а Вась! Мы с утра как? Опять в сад или еще куда?
И от белых рубашек долетел ответ:
— Нет, завтра я на сенокос! Верхом поездить охота.
— Правильно! И я на сенокос. Оттуда и купаться ближе.
Они разбрелись, а я остался, все еще продолжая шагать по инерции вдоль улицы. Но куда идти — я не знал. Часы показывали десять минут одиннадцатого, и теплоход, конечно, успел отойти от пристани, не дождавшись меня.
Две маленькие девочки прошли стороной. Где-то я их уже видел, кажется, этих девочек. Поглядывая на меня, они зашептались о чем-то. Я спросил:
— Что скажете, доченьки?
Они ответили:
— А ничего не скажем. Вы к нам идете.
Я спросил:
— Почему к вам?
— А вы у нас ночуете.
И тут я вспомнил, где видел их утром. Все сразу определилось, и я дошел с ними вместе до ночлега. Войдя в свой дом, они прошли в заднюю комнату, оставив меня одного в первой. Погасив свет, я разделся и лег под одеяло. Сон сразу хлынул на меня приятной, сладкой волной. Неудивительно. День у них в колхозе оказался довольно-таки длинным.
Но перед сном я должен был успеть еще подумать о чем-то. О чем бы таком я должен был подумать? Ах, да! Что-то там насчет пригодности русских к дружбе с финнами должен я был сообразить. Но стоило ли давать себе труд соображать? И без того факт оставался фактом. А фактом было то, что я целый день рвался к пристани, но так и не мог туда пробраться. В этом ли признак их пригодности к дружбе с нами? Я стремился выбраться вон из глубины России, но не мог выбраться. Россия держала меня в своем железном плену и не собиралась отпускать. Это ли ставить ей в заслугу?
И в добавление ко всему, где-то тут же, неподалеку, подкарауливал меня тот страшный Иван. Он озирал своим грозным взором широкие и длинные дороги России, выискивая на них мою невзрачную особу. И кто знает, какую казнь он мне приготовил на своей таинственной земле. Но милости от него я не ждал, ибо какая могла быть милость мне, который метнул ему когда-то в спину нож? Не приходилось даже думать о милости.
Правда, где-то там, на далеком севере, все еще маячил огромный Юсси Мурто, готовый в любую минуту ринуться мне на помощь. Но не так просто было ему вырвать меня из того коварного капкана, в котором я слишком уж крепко застрял. Однако он все же стоял там, где стоял, не собираясь никуда отступать, и смотрел исподлобья в сторону Ивана. Только вопросов с его стороны не было на этот раз, и упреков тоже не было. Он стоял и молчал, угрюмо думая о чем-то своем, давнем и сокровенном. О чем он думал — бог ведает. Сон унес меня в свое волшебное царство, не дав мне заняться догадками на этот счет.
27
Проснулся я в десятом часу и сразу вскочил, вспомнив о пристани. Плечи, руки и поясница у меня изрядно побаливали после вчерашних шуток с вилами. Старшая хозяйка приготовила мне на завтрак три вареных яйца и оладьи в сметане. Молодой хозяйки уже не было. Она ушла на работу в семь утра. Я слыхал сквозь сон, как она уходила, слыхал также щелканье пастушьих кнутов, когда из деревни выгоняли стадо, но оторваться от сна не смог. Девочки тоже успели убежать. А хозяин, кажется, совсем не ночевал дома. Запив оладьи двумя стаканами топленого молока и стаканом чая из самовара, я подошел к хозяйке, чтобы сказать ей насчет своего отъезда и попрощаться. Но в это время она мне напомнила:
— К обеду не опоздайте. Он у нас от часу до двух. Запоздаете — перестоит, остынет. А у разогретого обеда и вкус не тот.
Я не стал с ней прощаться. Язык у меня не повернулся. Так уж я устроен, что не могу сказать «прощай», когда меня приглашают на обед. Сказав ей одно лишь только «спасибо», я вышел, чтобы отправиться все же прямиком на пристань.
Но, идя деревней, я, конечно, не упустил случая сделать опять маленький крюк в сторону дома Арви Сайтури. Да, все было на месте в его бывшем доме: стоял дом, стоял сад, и в саду играли дети. Это были самые младшие мальчики и девочки. Мальчики бегали по дорожкам сада, перебрасываясь мячом, а девочки сгрудились вокруг молодой женщины, должно быть, их воспитательницы, и слушали сказку. Увидя меня возле забора, женщина прервала сказку и обратилась ко мне:
— Вы к нам, товарищ? Пожалуйста, заходите. Вот калитка.
Я замялся, посматривая кругом. Шел я не к ним, конечно, а к пристани. Но она по-своему поняла мое колебание и пояснила точнее:
— Да не там, а вот здесь, видите? Приподнимите щеколду и толкните.
Пришлось войти. Но время у меня еще было в запасе, и две-три потерянные минуты ничего не изменяли.
Женщина предложила мне сесть на садовую скамейку возле себя и спросила:
— Что вас тут интересует? Я знаю, что парторг вам уже разъяснил кое-что. Но, может быть, вы хотели познакомиться поближе с внутренним распорядком, с методами воспитания? Учреждение это для колхоза не совсем обычное. Хлопот с ним немало. И если бы не война с ее ужасным наследием, разве встала бы перед нами забота о воспитании восемнадцати осиротевших ребят?
Я хотел ответить, что да, действительно, это дело трудное, и внутренний порядок меня очень интересует, и методы воспитания тоже, и что я давно мечтал вникнуть во все эти вещи, но, к сожалению, торопился на пристань, чтобы уехать в Ленинград, где меня ждали очень важные дела. Готовясь ей это объяснить, я для начала спросил:
— У вас, кажется, не все дети в сборе?
Она ответила:
— Да. Только младшие. Старшие мальчики на сенокосе, а старшие девочки побежали в дом переодеваться. Сейчас они поедут в поле своих коровушек доить.
— Своих? А откуда у них свои коровушки? От родителей остались?
— Нет. Сами вырастили. Вскормили, вспоили телят и вырастили по три коровушки.
Я хотел спросить, откуда у них взялись телята, но в это время самая нетерпеливая из девочек спросила воспитательницу:
— Антонина Павловна! А как же сказка? Вы разве не будете нам ее досказывать?
Воспитательница ответила:
— Буду, буду, Леночка. Потерпи немного. Ты же видишь, я с дяденькой разговариваю.
— А этот дяденька знает сказки?
— Вероятно, знает. Каждый человек знает какую-нибудь сказку.
— А если знает, пусть расскажет.
— Ну что ты, Леночка! Как можно затруднять человека! Он же по делу зашел. А если у него времени нет или настроения?
— Дяденька, у вас есть настроение?
Этот вопрос нетерпеливая Леночка задала мне. Я вгляделся в ее чистые голубые глазенки, и на какое-то время пристань ушла из моей памяти. У меня тоже могла быть в скором времени такая же славная, светленькая, пушистоголовая, жадная до сказок дочь. Я сказал:
— Да, у меня есть настроение. Какую сказку ты хочешь?
— Все равно какую!
— Хочешь, я расскажу тебе финскую сказку?
— Хочу. Правда, девочки, мы хотим финскую сказку?
И девочки ответили в один голос:
— Хотим, хотим!
Финских сказок я знал много и, не долго думая, рассказал им первую, что пришла мне на память:
Пошла старуха в лес, а навстречу ей козел. Старуха ему говорит: «Иди, козел, домой!». Не пошел козел домой. Пошла старуха в лес, а навстречу ей бревно. «Ударь, бревно, козла: не идет козел домой». Не ударило бревно козла. Пошла старуха в лес, а навстречу ей огонь. «Сожги, огонь, бревно: оно не бьет козла, козел не идет домой». Но не сжег огонь бревно. Пошла старуха в лес, а навстречу ей вода. «Залей, вода, огонь: огонь не сжег бревно, бревно не бьет козла, козел не идет домой». Но вода не залила огонь. Пошла старуха в лес, а ей навстречу бык. «Выпей, бык, воду; вода не гасит огонь, огонь не сжег бревно, бревно не бьет козла, козел не идет домой». Но бык не выпил воду. Пошла старуха в лес, а ей лиса навстречу. «Съешь, лиса, быка: бык не выпил воду, вода не гасит огонь, огонь не сжег бревно, бревно не бьет козла, козел не идет домой». Но лиса не съела быка. Пошла старуха в лес, а навстречу ей собака. «Убей, собака, лису: лиса не ест быка, бык не выпил воду, вода не гасит огонь, огонь не сжег бревно, бревно не бьет козла, козел не идет домой». Но собака не убила лису. Пошла старуха в лес, а навстречу ей волк. «Съешь, волк, собаку: собака не убила лису, лиса не ест быка, бык не выпил воду, вода не гасит огонь, огонь не сжег бревно, бревно не бьет козла, козел не идет домой». Но волк не съел собаку. Пошла старуха в лес, а навстречу ей медведь. «Убей, медведь, волка: волк не съел собаку, собака не убила лису, лиса не ест быка, бык не выпил воду, вода не гасит огонь, огонь не сжег бревно, бревно не бьет козла, козел не идет домой». И вот медведь убил волка, а волк съел собаку, собака убила лису, лиса съела быка, бык выпил воду, вода погасила огонь, огонь сжег бревно, бревно ударило козла, и козел прибежал домой. Так старуха вернула себе козла.Я кончил сказку и умолк, ожидая похвалы. Но вместо похвалы Леночка сказала; наморщив лобик:
— Не понимаю, как же так: если волк съел собаку, то как собака могла после этого убить лису?
Если бы она не задала такого вопроса, то, может быть, и другим девочкам не пришло бы в голову призадуматься над этим. Но она задала и заразила своим сомнением остальных. За ее вопросом сразу посыпались другие:
— А как могла лиса съесть быка, да еще мертвая лиса-то?
— А как могла вода погасить огонь, если ее выпил бык?
— А почему только медведь послушался старухи, а не собака? Ведь собака — друг человека, а медведь — враг.
— А как сгоревшее бревно могло ударить?
И, наконец, один из мальчиков, уловив конец сказки, высказал такое предположение:
— Если бревно ударит козла, то навряд ли он после этого куда-нибудь пойдет. Лежать он будет врастяжку.
Так разделали они мою финскую сказку, эти русские дети, осиротевшие за время войны. Женщина пыталась им доказать, что сказка есть сказка и критике не подлежит. Но этот смышленый народец, как видно, держался иного мнения. В конце концов Леночке, наверно, стало меня жаль. И, чтобы дать мне поправиться, она спросила:
— Дяденька, а вы еще сказки знаете?
Женщина попробовала спасти меня от сказок, но я сказал:
— Знаю.
— Так расскажите еще, пожалуйста!
На этот раз я основательнее порылся в памяти, чтобы не попасть впросак, и рассказал им такую сказку:
Петух с курочкой пошли мыться в баню, но в бане не было воды. Петух прилетел к роднику и сказал: «Хороший родник, прекрасный родник, дай мне воды!». Родник ответил: «Не дам, не дам, если не принесешь мне бадьи». Петух прибежал к столяру и сказал: «Хороший столяр, добрый столяр, дай мне бадью!». Столяр ответил: «Не дам, не дам, если не принесешь мне дерева!». Петух прилетел в лес и сказал: «Хороший лес, прекрасный лес, дай мне дерево!». Лес ответил: «Не дам, не дам, если не принесешь мне топора». Петух прилетел к кузнецу и сказал: «Хороший кузнец, добрый кузнец, дай мне топор!». Кузнец ответил: «Не дам, не дам, если не принесешь мне железа». Петух прибежал к болоту и сказал: «Хорошее болото, прекрасное болото, дай мне железа!». И болото дало ему железа, он принес железо кузнецу, кузнец дал ему топор, он принес топор в лес, лес дал ему дерево, он принес дерево столяру, столяр дал ему бадью, он принес бадью к роднику, родник дал ему воды, он принес воду в баню. Но курочка в бане уже умерла.Я кончил сказку, заранее уверенный, что на этот раз не дал девочкам повода для придирки. Но Леночка сказала:
— А зачем же курочка умерла? Не надо, чтобы она умирала.
Я пояснил:
— Так в сказке говорится. Ничего не поделаешь.
Но она возразила:
— Почему не поделаешь? Исправить надо сказку. А то петушок столько хлопотал, трудился, и что же? Все понапрасну? Не должно быть, чтобы понапрасну. Он должен застать курочку живой.
Вот и пытайтесь рассказать им что-нибудь, этим русским детям, хотя бы даже и сиротам. Они посягают на то, чтобы изменять сказки. Ни одному финскому ребенку на моей памяти не приходило такое в голову. Все они принимали сказки такими, какими их им преподносили, никогда не подвергая сомнению того, что в них содержалось. А эти не признавали неприкосновенности сказки. Но если они не признавали неприкосновенности сказки, то, пойдя во вкус того, они могли в один прекрасный день не признать многие другие вещи, установленные людьми на протяжении столетий. Да, трудно это угадать, конечно, бог с ними, но, пожалуй, у меня еще не могло быть в жизни таких дочерей.
Пока я пытался это установить, к воротам сада подъехала грузовая машина и остановилась, громыхнув пустыми бидонами. В кузове машины сидели женщины, одетые в белые халаты. Одна из них позвала:
— Валя! Наташа!
Но она могла бы и не звать, потому что к машине уже неслись выскочившие из дома Арви Сайтури две девочки лет по шестнадцати, тоже одетые в белые халатики. Вспомнив про незаконченный разговор, я спросил воспитательницу, имея в виду этих девочек:
— Вы сказали, что они сами вырастили по три коровы из телят. А откуда у них взялись телята?
Она ответила:
— По правде сказать, откуда взялись, там и остались: в колхозном стаде.
— Значит, они не собственные?
— Почему же? Очень даже собственные. Они за ними ухаживают, они их кормят, поят. И судьбу их решают они же. Понимаете?
— Не особенно, простите в доверии.
— А вы бы съездили с ними на пастбище да убедились в этом собственными глазами. Там, на месте, все нагляднее вам представится. Хотите? — И, не дожидаясь моего ответа, она крикнула в сторону машины: — Подождите, девушки, минутку! Возьмите с собой гостя нашего!
И они взяли меня на отдаленную луговину, занявшую между холмами и оврагами несколько квадратных километров. И там я спросил у женщины, принимавшей в бидоны надоенное молоко, насчет этих же девочек. Она ответила то же самое:
— Да, это ихние коровы. А то чьи же? Они их выпестовали.
Я сказал:
— Значит, они могут их продать, если захотят?
Она удивилась:
— А за каким лешим стали бы они продавать колхозных коров?
— Значит, это все-таки колхозные коровы?
— Колхозные.
— И колхоз может их продать, если захочет?
— Как так продать? Да разве эти девочки позволят своих коров продать?
— Но ведь коровы колхозные, вы сказали. И молоко от них, наверно, поступает в колхоз, а не девочкам.
— Правильно. А на что девочкам столько молока? Им дай бог по литру в день выпить, да и то в летнюю жару.
— Может быть, им деньги отдают за это молоко?
— А на что им деньги? У них и так все есть.
— Но деньги могут им потом пригодиться, когда они хозяйками станут.
— И тогда тоже у них всего будет вдоволь.
— А коров они себе заберут, когда хозяйками станут?
— Да на что им по три коровы-ти? По одной возьмут — и ладно. Да и то возьмут ли. Колхозное молоко скоро наладим отпускать всем по потребности.
— Но если они не возьмут в свое хозяйство коров, то у них уже не будет коров. А чтобы корова приносила хозяйству доход, она должна быть в хозяйстве.
— Ну дак что. Без дохода они не останутся. Колхозу доход и им доход.
— Значит, это общий доход?
— А то как же!
— Спасибо. Теперь я понял.
— Еще бы не понять. Арифметика простая.
Я вздохнул и еще некоторое время полюбовался девочками, хлопотавшими среди других женщин возле своих коров. Обходились они с коровами ласково, и те, как видно, были настроены к ним вполне дружелюбно. Да, могли быть и у меня тоже такие доченьки, такие же ласковые к животным. Но смог ли бы я обзавестись коровами, чтобы они могли применить к ним ласку, — это другой вопрос.
Окинув еще раз взглядом хлебные и картофельные холмы, окружавшие эту богатую травянистую равнину, я отправился на пристань. А куда мне иначе было отправляться? Все было для меня теперь окончательно и преокончательно ясно, что касалось их колхозов. Больше нечем было дополнять мои сведения о них. Я знал их насквозь.
Идти мне пришлось в обход равнины. Напрямик я не решился ее пересечь. Где-то там, в километре от меня, вдоль ее середины тянулась полоса особенно густой и высокой травы, похожей на осоку, среди которой местами поблескивала вода, Это показывало; что там проходила заболоченная полоса, куда мне лезть было не обязательно. Обогнув стадо, я двинулся по склону холма в том направлении, где предполагал пристань. Тропинок я не искал и шел напрямик, ступая прямо по траве. Склон холма изогнулся, унося меня в сторону. За первым его изгибом показался второй. А еще за одним изгибом я увидел груды старого кирпича, возле которых два парня рыли лопатами землю.
Я знал, откуда этот кирпич, и знал также, какого рода судьба ему уготована. Парни расчищали место для кладки печи, из которой потом должны были выйти новые молодые кирпичи для их дворца культуры. Все это я знал. И о некоторых людях, причастных к этому кирпичу, я тоже кое-что знал. Одним словом, я знал теперь все про их колхозы. Больше мне нечего было про них узнавать. Поэтому я прошел мимо парней стороной.
Обогнув еще два холма с полями ржи и пшеницы на склонах, я увидел маленький домик. Он приткнулся к нижней части ската, обращенного к югу, и три его стены состояли почти сплошь из стекла. Возле этого домика тоже виднелись люди. Но и они мне были не нужны. Мало ли кем они могли оказаться. Я еще не забыл того страшного Ивана. Избегая с ним встречи, я домик тоже обошел стороной.
К домику прилегал молодой сад. В нем росли яблони, груши, сливы и вишни. Но плодов на них еще было мало. Зато густо и высоко разрослись ягодные кустарники, полные малины, смородины и крыжовника. Пройдя ягодный кустарник, я вышел на открытое место, где растения стлались по самой земле, и здесь увидел того страшного Ивана. Он пригнулся и, упираясь одной рукой о землю, готовился другой рукой метнуть в меня гранату.
Так обстоят у них здесь дела, в их колхозах, когда к ним попадает финн. Вы думаете, что вы идете к пристани. Но вам не дойти до пристани, ибо вас на этом последнем пути обязательно перехватит Иван. И тут кончается ваш путь к пристани, и заодно кончается всякий иной путь.
Я остановился, готовый все же попробовать увернуться от его гранаты. А он сказал мне странным голосом, в котором низкие ноты сменялись высокими и снова переходили в низкие:
— Здравствуйте. Ну, как переночевали?
Я всмотрелся в него внимательнее. Оказывается, это был хозяин дома, в котором я гостил. Вот как все обернулось. Ну, ладно. Бывает у них тут, конечно, и так. Они на все способны. Такие это коварные люди. Я ответил ему, что хорошо переночевал, за что ему спасибо, и заодно спросил, как у него тут дела. Он в ответ как-то странно дернулся, полулежа на земле. Резко оторвав от земли руку, на которую опирался, он хотел ею что-то сделать, но рука не послушалась и неопределенно мотнулась в воздухе. Тогда он снова оперся на нее и сказал, кивнув головой на то, что придерживал другой рукой:
— Что ж, дела как дела. То ладятся, то нет. Вот зеленел, зеленел и вдруг желтеть начал. Приходится подкармливать.
Я спросил:
— А что это такое?
— Арбуз.
— Разве в этих краях арбузы растут?
— Раньше не росли. Теперь растут. Мы заставили их расти. И виноград заставим.
— А для чего это нужно?
— Как для чего! Для украшения жизни.
Вот, оказывается, о чем у них еще была забота. Об украшении жизни. Все остальное в ней было сделано. Осталось только ее украсить. Я спросил:
— Это у вас такое постановление вышло?
Вот как я на это отозвался. О, я знал, чем сбить его самомнение. Их надо время от времени срезать, этих русских, чтобы они не особенно заносились. Нельзя давать им заноситься, а то они могут очень много о себе возомнить. И ты, Юсси, можешь быть спокоен. Я не упускал случая применить где надо твое направление мыслей.
Худощавое лицо моего хозяина сразу потеряло свою приветливость. За сутки, что мы с ним не виделись, оно обросло черной щетиной, и это усилило его суровость. Не глядя больше на меня, он занялся своими арбузами, выискивая руками корни у их ползучих стеблей и подсыпая какую-то смесь. Руки его не сразу выполняли то, что ему хотелось, и временами взмахивали невпопад или тыкались туда и сюда без всякой надобности.
Видя, что он больше не собирается со мной разговаривать, я прошел мимо, продолжая свой путь к пристани. Но тут передо мной поднялся с земли другой человек, и в нем я сразу узнал того самого Ивана. Он потер ладонью о ладонь, счищая с них землю, а сам тем временем нацелился глазом в мою скулу, выбирая момент, чтобы хватить по ней кулаком. Я быстро шагнул в сторону, готовясь пригнуться, и в это время он сказал негромко:
— Зачем постановление? Такие дела постановлением не решаются. Тут наша добрая воля. Он начал, а мы примкнули.
Я помолчал немного, чтобы сообразить, к чему это было сказано, и потом спросил:
— Куда примкнули?
Он ответил:
— К его делу. Он выпросил у колхоза кусок этого пустыря для своих опытов, и мы к нему в помощники пошли.
— Так это теперь его земля или чья?
— А как хотите, так и считайте. В этом году ему еще пять гектаров прибавили.
— Ему прибавили? Для чего ему прибавили?
— Для продолжения дела, им затеянного. Бахчи расширить. Виноградники насадить. Теперь-то что! Самое трудное позади. С арбузами окончательно налажено. В прошлом году восемнадцать тонн сняли. Продали на двенадцать тысяч, да еще народ полакомился. А нынче вроде удвоить надеемся продукцию.
— Удвоить продукцию на его земле?
— Почему на его земле? Это же колхозная земля.
— Но вы сказали, что колхоз дал ему.
— Да. Колхоз выделил ему для опытов, но не подарил.
Вот как у них, оказывается, бывает. Колхозу ничего не стоит взять и выделить туда-сюда для опытов десяток-другой гектаров земли. И ничего от этого у него не нарушается. Я спросил Ивана, который почему-то медлил ударить меня по скуле:
— А если бы опыты не удались?
Он ответил:
— Ну и что же. Ничего бы не изменилось. Пропало бы даром его время — только и всего.
— Его время? Даром?
— Ну да. А кто бы стал платить ему за непроизводительный труд, да еще не предусмотренный планом? Два года он работал за свой страх и риск, внедряя тут эти южные культуры. Ни заработка, ни премии, ни даже похвалы. Только на энтузиазме и держался. Колхозу пока было не до него. Поважнее заботы одолевали: выполнение плана, укрупнение хозяйства, расширение посевов. Да мало ли за время войны прорех накопилось.
— А теперь как?
— А теперь ему трудодни начисляются, как и всем. А нас к нему в помощь определили. Участок стал доходным. Работы на нем в план вошли. Вон даже теплица на колхозные средства выстроена для всяких там опытов по внедрению южных культур в северный климат.
— Спасибо. Теперь я понял.
Он все еще медлил ударить меня в скулу, и, пользуясь его медлительностью, я прошел мимо. Нет, это был, пожалуй, не тот Иван. Тот Иван едва ли стал бы тратить попусту слова на разговоры с финном.
А этому парню, судя по его юному возрасту, еще только предстояло сделаться таким Иваном, и то при условии, что родится причина, содействующая подобному превращению. Но не дай бог, чтобы такая причина нагрянула! Горе нам, если она опять нагрянет! Не стоит ее больше вызывать. И пусть бы навсегда сохранились условия, позволяющие Иванам не отрываться от внедрения южных культур в северный климат и не переключаться на более страшные дела.
И этот серьезный юноша с певучим говором, снова жадно потянувшийся руками к земле, не был еще задет зловещим крылом той причины, которая все же витала и таилась где-то. Он еще не успел проникнуться недоверием и ожесточением к таким, как я, несущем в себе злую угрозу против его народа. И только потому я остался цел и мог продолжать свой путь к пристани.
28
Но я и на этот раз не дошел до пристани. Так у них тут все подстроено. Если к ним в лапы попался финн, они не дадут ему дойти до пристани, как бы он туда ни стремился, торопясь к своей женщине, которая изнывала в тоске по нем недалеко от Ленинграда. Они обязательно придумают на его пути препятствие. Запомните это на всякий случай вы, финские люди, и не торопитесь проникать в глубину России.
Склоны их коварных холмов увели меня куда-то в сторону от нужной дороги, и я оказался очень далеко от пристани. Я оказался вблизи другого сада, более обширного и более старого, нежели тот, который я миновал час назад. И в этом старом обширном саду мелькнуло среди зелени загорелое личико того мальчугана, с которым я перемигивался накануне вечером, стоя позади шахматного столика. Он был в синих трусиках и белой майке и что-то рассматривал на молодой яблоне, раздвигая руками ветки. Его тонкие сильные руки и ноги в соседстве с белым, синим и зеленым отливали золотом.
Ограды почему-то не было вокруг сада. И собаки тоже не было для охраны сада от вторжения таких опасных типов, как я. Поэтому я вторгся в сад. Минуя ряды плодовых деревьев и кустарников, я приблизился к мальчику, улыбнулся ему, как давнему знакомому, и сказал:
— Здравствуй, мальчик.
Он тоже улыбнулся мне, как давнему знакомому, и ответил весело, с певучими нотками в голосе:
— Здравствуйте.
Я потоптался немного на месте, любуясь гибкостью его движений. От одной яблони он перешел к другой, откуда снова улыбнулся мне, давая этим понять, что повернулся ко мне на время спиной не по причине невежливости. Я сделал вид, что не заметил никакой невежливости, занятый будто бы разглядыванием сада. И, продолжая всматриваться направо и налево в густоту зелени, снова приблизился к нему. Что-то было в нем для меня такое, к чему стоило присмотреться. Как-никак, не ему одному на свете приходилось изведывать горькую долю сиротства. Коснулась и меня в свое время схожая судьба. Как было не присмотреться и не сравнить? И, кроме того, у меня тоже мог быть в жизни такой же вежливый, такой же белозубый мальчик, с такими же светлыми волосами и золотистой кожей, если бы не разные невеселые обстоятельства. Я спросил его:
— Как у тебя дела?
Он ответил:
— Хорошо. Ни одно яблоко не упало с моих деревьев, как я и предсказывал. Вот что значит своевременная подкормка.
— Разве у тебя есть свои деревья?
— Есть. Восемь штук. Вот они стоят в два ряда, и только на трех еще нет яблок.
И верно: пять яблонь из восьми были облеплены яблоками, уже начавшими румяниться. Но кроме этих восьми яблонь в саду виднелись многие десятки других. Виднелись груши, сливы, вишни. А ягодным кустарникам не было числа. И сверх того, из разных концов этого обширного сада доносились голоса других людей. Они тоже, наверно, были тут к чему-то причастны. Я спросил мальчика:
— А остальными деревьями кто владеет? И кустами ягодными — кто?
В его серых глазах мелькнуло удивление, и он так взглянул на меня, словно засомневался в здравии моего рассудка. Но все же ответил, хотя явно не надеялся на мою способность понять:
— Мы же и владеем — колхозники.
Так он ответил, этот обойденный судьбой, одинокий сирота. Он сказал: «Мы владеем». Он тоже был владельцем этого сада и тоже был колхозником. А быть колхозником — значит быть в такой огромной семье, которую уже невозможно потерять, как я понял это из разговора с теми двумя стариками. Я спросил мальчика, кивая на его яблони:
— Значит, они тоже колхозные?
Он опять удивился:
— А как же!
— Так, так. Но если колхоз вздумает их продать или вырубить, ты не позволишь. Угадал я?
— Еще бы! Конечно, не дам.
— Но и сам ты с них яблоки себе не возьмешь. Верно?
— А на что они мне одному-то? Давиться ими? Другие-то хоть похвалят, когда полакомятся, садовнику оценку дадут. А сам съел — какая кому от этого радость?
— Выходит, что тебе приятнее, когда вместо тебя другие съедают твои яблоки?
— А то нет? Или у вас не так?
— Нет… Так… Верно. Очень правильно ты сказал.
Да, теперь мне стало понятно, зачем их растили и воспитывали вместе, не распределяя по родственникам. Тут знали, что делали. Этому их учить не приходилось. Но ведь мог быть и у меня такой же мальчик. Почему бы нет? И разве я пожелал бы видеть его беднее сердцем? Только смог ли бы он у меня найти применение богатым качествам своего сердца? Немудреная штука — приобрести яблони, назначенные быть радостью для других. Но где их растить? Пустяковая вещь — земля. Но если ее у тебя нет, — что толку в щедром сердце? Где множить все то, чем ты собрался одарять своих ближних, если у тебя нет земли?
Я вздохнул и стал выискивать глазами выход из сада, чтобы продолжить свой путь к пристани. Мой путь был все тот же, неизменный и постоянный. И теперь уже никто не мог остановить меня на этом пути. Я шел напрямик в сторону реки. А на реке стояла пристань. Женский голос позвал из-за деревьев:
— Ванюша, ты где?
И мой мальчик отозвался:
— Ау! Здесь я, тетя Даша!
Оказывается, звали его Ванюша. Вот еще один Иван готовился вырасти на устрашение миру. Неизвестно только, чем собирался он мир устрашать: обилием ароматных яблок? Из-за кустарников появилась молодая женщина. Она поздоровалась со мной и спросила Ванюшу:
— Обедать со мной пойдешь или как?
Он ответил:
— Нет, тетя, я туда пойду, а то неудобно.
— Ну-ну. Как знаешь. — Тут она обернулась ко мне: — А вы не желаете пообедать у нас?
Я не сразу ответил. Это была, конечно, неплохая мысль. Это была скорее даже гениальная мысль. Только женщину могла такая мысль осенить, русскую женщину. Не стоило идти этой мысли наперекор. Наоборот, надо было ее поддержать, чтобы она могла продолжить свое движение куда надо. Но для приличия я сказал:
— Как же так, вы предлагаете мне пообедать, а ведь я для вас чужой человек.
Она с улыбкой отмахнулась от моих слов:
— Что вы! Да какой же вы чужой? Я вас вчера с парторгом видела.
Вот как у них определяется человек. Если его видели с парторгом, то он уже не чужой. Я сделал вид, что ничего не могу возразить против такого довода, и сказал:
— Ну, если так… то…
И она с готовностью подхватила:
— Да, да, пойдемте. Не ахти, правда, какой обед: у нас ведь попросту, по-домашнему. Зато вам в Корнево тщиться не понадобится. Успеете еще насидеться в Корневе-ти.
И я отправился обедать к этой женщине. Что я мог сделать, если так у них принято? Для меня было, конечно, весьма затруднительно — пойти и съесть вкусный обед, не платя за это деньги. Но мог ли я отказать ей, этой русской женщине, которая так меня упрашивала? Надо же было дать ей выполнить вложенное в нее самим богом назначение.
Сад прилегал к большой деревне. Она открылась глазу во всю свою длину, едва мы перевалили на другую сторону холма. Деревня спускалась в низину, прилегающую к реке. А река была та самая, на берегу которой стояла нужная мне пристань. Стоило выйти из этой деревни к реке и пройти вдоль нее до Корнева, чтобы пристань оказалась на виду. Я спросил женщину:
— Это какая деревня?
Она ответила:
— Это Листвицы. Здесь я работаю свинаркой. Хотите посмотреть, как у нас организовано дело?
Да, я очень хотел посмотреть, как у них организовано дело. Разве не ради этого я притащился сюда, идя напрямик по склонам холмов, через луговины и овраги? Полтора дня я с нетерпением рвался в эту деревню и вот наконец дорвался. Ах, как мне не терпелось посмотреть скорее, как у них организовано свинарное дело.
Мы вошли в большую бревенчатую кухню. Главное место в ней занимал приземистый котел особого устройства, соединенный трубами с другим котлом, поменьше. Женщина объяснила:
— Здесь мы пищу поросятам готовим. Без дров обходимся. С помощью пара все делается. Только рубильник включить — и через полчаса картошка готова.
По одну сторону от котла за деревянной загородкой лежала гора картофеля, по другую — стоял высокий бак, открытый сверху. Женщина высыпала в него несколько корзин картофеля и открыла над ним водопроводный кран. Когда бак наполнился водой, она включила мотор. Внутри бака завертелся какой-то механизм, ворочая картошку, а из-под бака потекла мутная вода, уносимая жестяным желобом за пределы кухни. Постепенно эта вода теряла свою мутноватость, и, когда она стала совсем прозрачной, женщина завернула кран и остановила мотор. Потом она приоткрыла внизу у бака боковую дверцу и, выпустив оттуда в чистое ведро струю вымытого картофеля, высыпала его в котел. За первым ведром последовало еще несколько ведер. Наполнив котел картошкой, она залила ее водой из другого крана, прикрыла крышкой и повела меня дальше, чтобы показать, как у нее организовано дело в других местах. Проходя мимо свинарников, она сказала:
— Жаль, что поросята сейчас на выпасе. Но вы их еще увидите, если побудете у нас. А тут вот свиноматки находятся и те, что на откорме.
Мы зашли в свинарник и прошли мимо тех, что наращивали на себе сало, сидя в тесных загородках, и мимо свиноматок. Возле одной из них, размером с корову, копошилось тринадцать поросят. Я сказал:
— Ого!
Довольная тем, что я начал наконец высказывать свое мнение, женщина снова заговорила:
— Здесь два моих бегают.
— Как?
— Два поросенка из этих — мои. У нас премия такая установлена: все поросята сверх одиннадцати идут свинарке. У меня восемь свиноматок этой породы и десятка полтора всяких иных. За три года семнадцать поросят в виде премии заработала.
— Ого! Целое стадо.
— И не говорите. Столько хлопот с ними! Пока подкормишь, пока продашь.
— Разве обязательно продавать?
А куда же с ними деваться-то? В семье мы только двух держим. Хватает нам. Могли бы и совсем не держать. У колхоза в любое время убоину купить можно. Денег нам не хватает — вот в чем беда. Покупать стали много. Избаловались. Раньше, бывало, на одежду и обувь наскребешь — и ладно. Что купишь, то и носят. А теперь молодежи-то нашей одежду помодней подавай. Простую не наденут. А там еще и радиолу купи или велосипед. Мой старший сын уже о мотоцикле мечтает.
— Разве это плохо?
— Я не говорю, что плохо, но мотоцикл-то за деньги продается. А мы деньгами на трудодень много ли получаем?
— Ах, вот что!
— То-то и оно. Все продуктами. Пока их на деньги переложишь — изведешься вся. У меня вон еще прошлогоднее зерно в чуркинском амбаре лежит, не все израсходованное. Куда я его дену? В сегодняшнем годе опять урожай хороший предвидится по всем отраслям. Опять помногу на трудодень придется. А у меня этих трудодней до шестисот наберется с двумя сынами и дочкой. Опять забота: куда сваливать, где хранить? О том, чтобы съесть это все, и думать нечего. Значит, опять продавать готовься. Вот и гадай: то ли в торгаши податься, то ли колхозную честь сберегать.
Такую невеселую историю поведала мне по секрету эта спокойная русоволосая женщина. Но я ничем, к сожалению, не мог помочь ее страшному горю. Единственное, что я мог сделать, — это сократить обременяющие ее запасы на размер одного обеда. Такую помощь я готовился оказать ей без промедления, для чего бодро перебирал ногами, идя рядом с ней по улице большой деревни Листвицы. Женщина так углубилась в свои горькие думы, что по рассеянности свернула в боковой переулок и вышла за пределы деревни. Похоже было, что она даже забыла про обед. Озабоченный тем, чтобы вернуть на место ее память, я спросил осторожно:
— Правильно ли мы идем?
Она ответила:
— Да. Мы идем в деревню Веткино. Там я живу.
Так у них тут все построено. Вы идете к пристани и вот уже дошли до реки, на которой эта пристань расположена. Но вас уводят от реки прочь, и вы опять не попадаете на пристань.
Но ничего. До деревни Веткино оказалось меньше километра. А горячие щи из кислой капусты и гречневая каша с маслом, вытащенные женщиной из печки, стоили того, чтобы пройти это расстояние. Зато у меня отпала на этот день забота о еде, и, стало быть, я мог избежать встречи с людьми и без помехи дойти до пристани.
Сверх того, я знал теперь самое наипоследнее, что только можно было еще узнать об их колхозной жизни, — это их бедствия с продуктами. Вот в какой тупик, оказывается, предстояло скоро зайти всем их колхозам. Один я на целом свете случайно узнал про этот потрясающий факт. Мой благородный вид внушил русской женщине доверие, и она невольно выдала мне эту строго хранимую от всех тайну. Не окажись я на пути этой бедной русской женщины, перед кем излила бы она свою горькую жалобу? И кроме того, кто помог бы ей убавить ее запасы на целый обед? Я спросил ее:
— А где же ваши сыновья и дочка?
Она ответила:
— Дома. В Чуркине. Мы там живем.
— А здесь вы у кого?
— А здесь я у Ванюши гощу, у того мальчонки-сиротки, с которым вы в саду разговаривали. Живу тут временно, чтобы ближе к работе быть, и заодно дом в порядке содержу. Огород возделала, чтобы даром не гулял. Через два года парнишка в совершеннолетие войдет — и получит свой домик в полной сохранности.
— Ах, вот как!
— Да, так у нас намечено. И сестренка младшенькая с ним будет жить и братишка. У нас война четыре дома эдак осиротила. Так случилось, что в одной семье уже до войны матери не было. В другой — мать с горя умерла, получив известие о смерти мужа. А две другие матери сами на войне погибли. Вот мы и объединили всех, чтобы удобнее было воспитывать, а за их домиками присматриваем по очереди. Да еще приемышей пятерых взяли из разоренных мест. Для них колхоз три дома выстроит, когда подрастут.
— Ах, вот как!
Я чуть задержался у этой женщины. Я посидел немного просто так на стуле у окна, потом встал, прошелся по всем трем комнатам этого аккуратного бревенчатого дома и опять посидел немного, пока женщина мыла у плиты посуду. Все стояло на месте в этом доме, словно бы и не покидал его никто. Столы, кровати, полка с книгами, бельевой комод и посудный шкаф. И все было прибрано, вымыто, подметено. На окнах висели чистые занавески, а вдоль широких половиц, отполированных и выбеленных частым мытьем до цвета слоновой кости, тянулись толстые цветные дорожки. Да, все было здесь готово к тому, чтобы Ванюша и его сестренка с братишкой сразу и легко включились в жизнь, как только достигнут зрелости» И никакой Арви Сайтури не мог тут наложить на этот дом свою жадную лапу.
Я осмотрел также хозяйственные постройки: скотный двор, сарай, амбар, курятник, — пустые пока, но готовые ожить в любую минуту. Заглянул я и в огород позади двора, тоже наполненный жизнью, и два раза обошел вокруг дома. Я еще долго топтался бы, наверно, на этом дворе, если бы на крыльцо не вышла женщина, явно торопясь на свою работу. Вышли мы за ворота вместе, и я сказал:
— Вы дом не заперли.
Она ответила:
— А зачем? В наших краях никто не запирает. От кого запирать? Свои ведь кругом.
Я покивал головой. И верно: от кого им запирать, если все они — одна большая семья? От меня разве, который проник в эту семью с коварным намерением внести в нее раздоры? Но даже я не выполнил своего намерения и теперь готовился оставить их в покое.
— Тут где-то пристань есть у вас на реке. Как ближе к ней пройти?
Она указала мне на узкую полевую дорогу:
— Идите по ней напрямик, никуда не сворачивая. Справа от вас останется вон тот ветряк, а слева — деревня Кряжино. Выйдете на ток и увидите дорогу из Кряжина на Корнево. По ней и дойдете. Только не зацепите там ничего, на гумне, если насквозь проходить будете. Не любит наш изобретатель, когда нарушают его порядок. У него там все разобрано, разложено.
— Что разобрано?
— Молотилка и веялка. Он их вместе объединить хочет и веялку переделать.
— Я не буду ему мешать.
— Помешать ему вы не сможете. Он там только по ночам бывает.
— Почему только по ночам?
— Потому что днем на полевых работах.
— Значит, его заставляют работать и днем и ночью?
— Нет, ночью никто не заставляет. Это его добрая воля.
— А-а, понимаю! Это его собственные молотилка и веялка.
— Нет, собственных у нас нет. Это колхозные.
— Так зачем же он по ночам? Или заработать хочет побольше?
— Да ему за это совсем ничего не платят. На кривулинском току он уже сделал такое и ничего, кроме спасиба, не получил. И здесь вряд ли получит.
— Так зачем же он даром тратит свои ночи?.
— А вот подите спросите его.
29
Спросить я, конечно, не смог, потому что гумно было пустое, когда я до него добрался. Вокруг стояли скирды прошлогодней соломы и высились груды мякины, а внутри под навесом гумна лежали части молотилки и веялки. Сами они, наполовину разобранные, занимали место посреди гумна. Но изобретателя, работающего на кого-то даром по ночам, возле них не оказалось. Поэтому я прошел мимо гумна и, высмотрев издали дорогу на Корнево, спустился по тропинке к ней.
Эта дорога уже была мне знакома. По ней я очень скоро вышел к той огромной лощине, на склоне которой сидел накануне. Я и теперь не удержался от соблазна пробраться с дороги в сторону на знакомое место, где и уселся опять среди густой травы и цветов спиной к высокой стене беспокойной колосистой ржи и лицом к широкой травянистой долине, по которой разбрелось огромное коровье стадо.
Куда мне было торопиться? Кто меня подгонял? О еде у меня не было заботы, ибо опять набилась русская женщина, которая угостила меня обедом. Я не мог ей помешать выполнить вложенное в нее самим господом богом назначение. Она угостила, и я вынужден был взять на себя нелегкий труд принять ее угощение. Так они устроены, эти русские женщины, и не мне менять их природу.
Итак, о еде у меня не было заботы, а теплоход уходил от пристани в десять часов вечера. И вдобавок никаких препятствий на моем пути к пристани больше не предвиделось. Куда мне было торопиться и зачем? Русское солнце грело меня, свободно разместясь в ярком голубом небе, и в ноздри опять проникали приятные запахи земляники, цветов и травы. Я устроился поудобнее, протянув ноги вниз по травянистому откосу и глядя в знакомую даль.
И вот опять в изгибах неровностей земли, в шевелении хлебов и кустарников на выпуклостях ее холмов, в движении дыма над крышами домов деревни Корнево, в блеске далекой реки с темной кромкой леса позади нее и в податливой упругости редких белых облаков на сверкающей синеве неба, — во всей этой подвижной огромности, едва вбираемой глазом, опять проглянуло на короткое мгновение красивое лицо моей женщины. Оно проглянуло, заполнив собой на миг весь видимый мне мир, и тут же растворилось во всем том, что заполняло.
Но я все же успел уловить устремленный на меня взгляд красивых темных глаз. И почему-то мне показалось, что на этот раз в них было меньше гнева. Не знаю, чем это объяснить. Может быть, светлое облако, плывя по небу, пришлось на мгновение как раз между ее бровями, не дав им сдвинуться вместе в одну большую, грозную бровь, которая так напоминала темную мохнатую птицу, раскинувшую крылья над бурями и молниями. А может быть, я слишком сильно хотел ее видеть более милостивой — потому она и представилась мне такой?
Стараясь удержать в памяти ее новый, подобревший облик, я закрыл глаза и откинулся на спину. Но что-то не получилось у меня с удержанием в памяти ее подобревшего облика. Не хотел он закрепиться в моей памяти, где все расплылось и затуманилось, как только я закрыл глаза. Должно быть, жаркая погода оказывала свое действие. Да и обед, пожалуй, действовал в союзе с жарой, ибо это был настоящий увесистый русский обед. Под звонкое стрекотанье кузнечиков я стал понемногу задремывать и скоро незаметно для себя заснул по-настоящему.
Проснулся я в сумерки и мигом вскочил, глядя на часы. Но основания для тревоги не было. До теплохода оставалось еще целых полтора часа. А дойти до пристани я мог минут за двадцать. Это я уже проверил накануне. И теперь я без особенной торопливости выбрался на дорогу, чтобы продолжить свой путь к пристани. Вокруг было тихо, только шелестели высокие русские хлеба, и где-то над ними еще чирикали птицы, не успевшие начирикаться за день. Вечерняя заря пока еще сохраняла свою первоначальную яркость, разливая над землей мягкий розоватый свет, позволяющий видеть не менее далеко, чем днем. Но на том гумне, мимо которого я недавно прошел, уже горела электрическая лампочка. Я не сразу ее заметил. Колосья ржи, мотаясь перед моими глазами туда и сюда, заставляли ее непрерывно мигать и временами совсем заслоняли.
Как видно, изобретатель уже принялся там за свою бесплатную ночную работу. Я постоял немного на дороге, ловя мигание лампочки. Непонятно все же было, что заставляло человека после дневных трудов работать еще и ночами? Кто принуждал его к этому, не давая ему ни сна, ни отдыха?
До гумна было не так уж далеко. Стоило пройти немного назад по дороге и подняться на холм по тропинке между хлебами, чтобы выйти к нему с тыльной стороны. Прикинув по часам свои запасы времени, я таки сделал. Возле гумна я замедлил шаг, надеясь рассмотреть этого непонятного человека издали, не привлекая его внимания, и после этого незаметно вернуться на дорогу, продолжая свой путь к пристани. Ведь я не знал, кто он был, этот человек, какое носил имя и где провел войну. Но никого не было видно на гумне. Горела висящая на проводе лампочка — и только. Готовый вернуться на свой путь к пристани, я прислушался и даже шагнул напоследок под навес гумна. И в это время раздался грозный окрик:
— Стоп!
Я всмотрелся и увидел распростертого под молотилкой человека. Он высунулся оттуда, опираясь на локоть, и его огромные ноги в сапогах тяжело шаркнули по цементному полу. Я прикинул на глаз невероятное по длине расстояние от его огромных сапог до крупной лохматой головы и понял, что попал в лапы прямо к тому самому Ивану.
Так у них тут все подстроено. Вы идете на пристань, чтобы уехать скорее к своей женщине, которая изнывает в разлуке с вами. Но вы не доходите до пристани. Вам не дают дойти до пристани. Вас очень хитро заманивают огоньком электрической лампочки на отдаленное гумно, где вы попадаете прямо тигру в пасть.
Бежать мне от него было поздно. Он мог перехватить меня на бегу своей длинной рукой, даже не вставая с места. Оставалось приготовиться к защите, хотя какой мог быть в этом толк, если принять во внимание размеры его рук? А он тем временем всмотрелся в меня внимательнее и прогудел на самых низких нотах, какие только могут быть в человеческом голосе:
— А-а, это вы! Наш финский гость. Ну, все равно. Раз уж забрели сюда — выручайте. Нагнитесь, пожалуйста, сделайте милость, к молотилке.
Не знаю, зачем ему понадобилось маскировать свои намерения этими словами. Он мог выполнить свой страшный умысел относительно меня без всяких предварительных слов. Ведь все равно деваться мне от него было некуда. Но я сделал вид, что принимаю его слова за чистую монету, и без колебания нагнулся к молотилке. А он продолжал:
— Видите там, внизу, что-то вроде рамы металлической? А от нее брусок отходит? В бруске отверстие. Нащупали? Постарайтесь удержать его отверстием против отверстия, пока я здесь привинчиваю. А там я и вам шурупик дам.
Я сделал как он велел, все еще не показывая виду, что раскусил его хитрость. А он, выдерживая свою линию, закрепил что-то под молотилкой и протянул мне оттуда шуруп и отвертку.
И шуруп тоже я привинтил с видом вполне равнодушным, из чего он мог вынести для себя суждение, будто я нимало не подозреваю о его подлинных тайных замыслах относительно меня и вижу не далее шурупа.
А потом он, по-прежнему не вставая на ноги, передвинулся к веялке и там тоже принялся устанавливать на место и закреплять снятые ранее части механизма. Не знаю, почему он так медлил расправиться со мной. Но торопить его с этим делом я сам не собирался. Наоборот. Я даже попробовал увести его мысли по другому направлению и сказал ему для начала:
— Трудно человеку после тяжелой дневной работы еще и ночью работать.
Он согласился с этим:
— Да, не дай бог! Иной раз так и тянет растянуться на травке.
Я спросил, продолжая отвлекать его от основного замысла:
— Кто же заставляет вас работать по ночам?
— И он сразу же признался:
— Нужда заставляет. Нужда-матушка. Нуждишка расшевеливает умишко.
Так он ответил, признав наличие у них нужды. И ты, Юсси, порадовался бы, услыхав это признание, ибо все твои уверения находили тут свое точное подтверждение, Я спросил далее, чтобы еще более это уточнить:
— Мало платят?
Но он ответил что-то не совсем для меня понятное:
— Не мало платят, а мало сделать успеваем в дни хлебоуборки. Вдвое больше тратим времени на обмолот и очистку зерна, чем следовало бы. Вот и приходится тут смекать, ломать и уплотнять.
— А вам надо, чтобы вдвое меньше тратилось?
— Именно. Вы угадали.
— А для чего вам это надо, простите в недоумении? Или вам приказано выкроить время на то, чтобы успевать выполнять по две работы за день?
Такой коварный вопрос я ему задал. О, я знал, чем их подцепить при случае. Но он прогудел из-под веялки без всякой обиды:
— Нет, зачем же? Не для второй работы, а для дополнительного отдыха. И никто нам не приказывает, Самим хочется. А вам разве не хотелось бы?
— Чего не хотелось бы?
— Иметь больше свободного времени.
— Зачем? Я и так привык у вас иметь каждые сутки по шестнадцать свободных часов.
— Не так уж много. А как вы их использовали, если это не секрет?
— Как использовал? Гулял по вашему городу Ленинграду. Исходил его вдоль и поперек. Был в музеях и в кино. Смотрел ваши новые фильмы. Читал книги ваших новых писателей и прежних писателей тоже. Играл в шахматы, слушал радио. А теперь вот сразу получил двадцать восемь свободных дней и не знаю, куда с ними деваться.
— Ничего, привыкнете.
— Нет, это плохая привычка, надо сказать. Ведь мне придется потом от нее отвыкать, когда я вернусь в Финляндию. Там у меня только ночь была свободной от работы, да и то не вся. В крестьянстве не может быть нормы.
— Почему не может? Работаем же мы, колхозники, часов по восемь-десять в день. И по четыре будем работать, придет время.
— По четыре часа в день? А что вы будете делать в остальные двадцать?
— Найдем, что делать. Культурно отдыхать, развлекаться, путешествовать, учиться, набираться знаний, совершать новые научные подвиги, придумывать, как перейти на трехчасовой, на двухчасовой рабочий день.
Я усмехнулся, показав этим, что понял его шутки относительно стародавних мечтаний человека, которым никогда не суждено исполниться. Разве не заявил когда-то сам бог сотворенному им первому человеку, что только в поте лица будет он есть хлеб свой? И, конечно, не более как смеха ради мог упомянуть этот парень про какой-то там четырехчасовой рабочий день. А пока что не он ли тут лежал в пыли на цементном полу, работая дни и ночи напролет по причине крайней нужды в его доме? Ради чего еще стал бы человек отдавать работе полные сутки? Только ради лишнего рубля, недостающего в семье, можно пойти на это. Кстати, за какую плату согласился он так убивать свое здоровье? Вот о чем следовало его спросить.
Я присмотрелся к тому, что он делал, помогая ему в то же время пригонять к месту отдельные части механизмов. Как уже сказала женщина, он объединял веялку с молотилкой, попутно что-то перестраивая на них. Когда веялка была собрана, я слегка потянул за шкив, стараясь понять, что он в ней изменил. Понять оказалось нетрудно. Сетки у веялки колыхались не поперек, а вдоль. У барабана вместо четырех лопастей, дающих ветер, было сделано шесть. А боковые металлические планки, держащие сита, были, заменены деревянными планками, почти такими же тонкими и гибкими. Продолжая отвлекать его от расправы со мной, я спросил:
— Разве дерево крепче железа?
Он поддался на мою уловку и, забыв схватить меня за горло, опять заговорил:
— Не крепче, а нежнее. Деревянные держатели не так стучат и сетку плавно раскачивают.
— А не ломается ваше дерево при такой нагрузке?
— Нет. Уже проверено в Кривулях. Но подбирать дерево приходится строго. Не без того.
— Какое дерево берете?
— Да разное идет. Бук, ясень, яблоня, береза, клен, орех. Прямо ножом настругиваю. Люблю дерево кромсать.
Он взял в руки запасную деревянную планку, тонкую и гибкую, щелкнул по ней пальцем и, приложив к уху, сказал:
— Прочность планки по звуку определить можно. Дерево богато звуками. Не замечали? Все самые мягкие и благородные звуки — в нем. Недаром оно на скрипки идет, на гитары и мандолины всякие. Нет у него пока заменителя в инструментах подобного рода, да и не будет, пожалуй. Как вы думаете?
Как я думал? Да никак я не думал. Для какой надобности стал бы я об этом думать? Я думал о том, чтобы спросить, сколько ему платят за дополнительную ночную работу. Вот чего касались мои думы. Но все же я ответил:
— Да, дерево — это хорошо.
Он засмеялся:
— Еще бы не хорошо! Кто скажет, что дерево — это плохо?
Смех у него был мягкий и тихий. Он словно сдерживал его слегка, чтобы не дать мне повода для обиды. И лицо его на это время как бы прояснилось изнутри, утратив очертания мужской суровости. Судя по его смеху, он все еще не торопился учинить надо мной расправу. Однако каким бы ни был его смех, но все же это был смех, и касался он меня. Поэтому я добавил:
— Но дерево дает не только звук.
Он спохватился:
— Верно! Я и забыл, что говорю с жителем лесной страны, где дерево кормит целый народ. Вы правы. Не мне перечислять вам свойства дерева. А теперь прошу вас включить вон тот рубильник. Включите и смотрите на меня. Когда я подниму руку — выключайте.
Я включил рубильник. Мотор загудел. Молотилка и веялка заработали. Но вот что-то в них лязгнуло и затарахтело, нарушая плавность работы. Он поднял руку, и я выключил рубильник. Мотор остановился. Ворча что-то про себя, Иван взял гаечный ключ и снова сунулся под машину. Я ждал, стоя у рубильника. Спустя минут восемь он вылез и опять приказал мне включить рубильник. И опять что-то не так сработало.
Это повторилось раз пять, после чего он снова довольно основательно расположился под машинами и, лязгая там железом о железо, проворчал:
— Придется опять кузнеца брать за бока.
Видя, что расправа надо мной все еще откладывается, я ввернул наконец свой вопрос:
— Много ли вам платят за эту ночную работу?
Он ответил нехотя:
— Какая тут работа? Это горе, а не работа.
Я сказал:
— Ну, все-таки. Вот вы в Кривулях наладили то же самое. Сколько вам за это заплатили?
— Да нисколько. Хорошо еще, если «спасибо» скажут. А если заест механизм, то и колотушек не оберешься.
— Зато вам, наверно, здесь какую-нибудь награду дадут?
— Дадут! Догонят за порогом и еще дадут!
— Так зачем же вы работаете?
— А я и не работаю. Какая это работа? Это эксперимент. Удастся — хорошо. А не удастся — все шишки на мне.
Я больше не стал донимать его вопросами. Что пользы было в моих вопросах? И без вопросов теперь все окончательно для меня прояснилось относительно их колхозных дел. Если до этого что-то еще оставалось для меня неузнанным, то вот оно, самое наипоследнее, чего я пока еще не знал про их колхозы. И теперь я мог спокойно идти к пристани, чтобы возвратиться в Ленинград.
И пока он там копался, под молотилкой, разбираясь в ее неполадках, я потихоньку выбрался из-под навеса гумна и направился к тропинке. Так удалось мне спастись от неминуемой расправы. О, я умел при случае извернуться наперекор судьбе. А может быть, меня спасло то, что он оказался не тем Иваном? Все могло быть, конечно, все могло быть в этой таинственной России, которая только о том и думала, как бы напасть скорее на бедную маленькую Финляндию, чтобы отнять у нее болота и камень.
Как бы то ни было, мне удалось без помехи спуститься к дороге, идущей в сторону пристани. Но часы мои уже показывали десять, и, стало быть, на теплоход я опоздал. Пришлось отложить отъезд до утра и отправиться по этой же дороге прямиком на ночлег. Хозяина опять не оказалось дома. А остальные уже спали, кроме старшей хозяйки. Она сказала мне укоризненно, приглушая по случаю позднего часа свой певучий говор:
— Где же это вы пропадали весь день? Мы тут затревожились было, да парторг Василь Мироныч зашел и говорит: «Не беспокойтесь. Где надо, там он и есть». Ну, мы и успокоились. А теперь садитесь уху свежую кушать и стерлядку жареную. Это рыбаки из Чуркина прислали. Узнали, что финский гость нашими колхозными делами интересуется, — и занесли. Пускай, мол, рыбки нашей среднерусской отведает. Кушайте на здоровье!
Так у них тут водится. Они кормят редкой и вкусной рыбой того, кто интересуется их колхозными делами. Это как бы плата за проявленный интерес. Кто не интересуется, того они не кормят. Для них важно, чтобы ты интересовался. И если ты захотел полакомиться нежной русской рыбой из реки Оки — прояви интерес. Только и всего. Конечно, это весьма нелегкий труд — проявить интерес к их колхозным делам, но рыба того стоит. По крайней мере я съел начисто все то рыбное, что оказалось передо мной на столе, и лег спать с изрядной тяжестью в желудке.
Так закончился десятый день моего отпуска. Но, перед тем как заснуть, я должен был, кажется, еще что-то сделать, исходя из каких-то там советов Ивана Петровича. Что бы такое обязан был я сделать? Кажется, подумать о чем-то. О чем бы таком обязан я был подумать? Ах, да! Насчет пригодности русских к дружбе с финнами обязан я был что-то такое себе уяснить. Но зачем стал бы я напрасно пытаться это себе уяснять, если давным-давно установлено у нас, в Суоми, давным-давно записано, заучено и закреплено в умах, что не может никогда быть никакой дружбы у русских с финнами. Слишком несправедливо распределил бог между ними блага земли.
Мне ли было менять это давно установленное мнение? И чем подкрепил бы я свои доводы, опровергающие его? Тем, что я здесь на каждом шагу встречал и слышал? Но это была одна только голая пропаганда со стороны коварных русских, задумавших втереть очки попавшему к ним в лапы одинокому финну. Вот что это было такое, если исходить из давно установленного у нас мнения.
И, сверх всего, где-то там, далее, в глубине России, продолжал высматривать меня тот страшный Иван. Высоко вздымаясь над своими бескрайними русскими дорогами, он зорко вглядывался в них, готовый в любую минуту схватить меня своей железной рукой. И не было бы мне тогда спасения.
Только огромный Юсси Мурто мог бы представить собой какую-то защиту. Но он стоял где-то там, на окраине севера, и не двигался. Он все еще думал о чем-то, угрюмый, молчаливый Юсси, вглядываясь внимательно во все то, на что наталкивался здесь я. И он вглядывался также в серо-голубые глаза Ивана своими ясными светло-голубыми глазами, вглядывался серьезно и пристально, как бы готовясь о чем-то очень важном его спросить. И тот ждал его вопроса, не выказывая, однако, особого нетерпения. Он как бы только на миг повернулся к Юсси с учтивой вежливостью, готовый выслушать вопрос и дать на него нужное разъяснение, но в то же время готовый спокойно отвернуться, если вопроса не последует, Сам он, как видно, не нуждался в разъяснениях. И от молчания Юсси Мурто у него тоже ничего в жизни не менялось.
Зато у меня менялось. Как я ни крепился, но сон одолевал меня постепенно. И, не успев дождаться той минуты, когда Юсси соизволит наконец раскрыть свой молчаливый рот, я заснул.
30
Когда я проснулся, в доме опять не оказалось никого, кроме старшей хозяйки. Но время было не такое уж позднее по моим новым, праздным нормам жизни. Часы показывали девять, и, следовательно, до отхода теплохода оставалось еще целых два часа. Пока я брился и умывался, хозяйка приготовила мне омлет и подогрела пирожки с мясом. Я приналег на них довольно основательно, имея в виду предстоящий мне далекий путь, и запил их двумя стаканами чая.
На этот раз я уже вполне определенно заявил хозяйке, что собираюсь уезжать. Она спросила:
— Далеко ли?
Я ответил:
— Далеко. И ждать меня к обеду вам больше уже не придется.
Она сказала:
— Как знаете. Успеете к ужину — и то ладно.
Я засмеялся:
— Нет, к ужину мне еще труднее будет успеть, чем к обеду.
Она развела руками, добрая русская женщина, полная забот о финне.
— А как же не евши-ти?
Я сказал:
— Как-нибудь. Спасибо вам за все. До свиданья.
Она ответила:
— Не за что. Счастливо вам доехать и вернуться.
Видно было, что убедить ее в своем отъезде я не смог, бог с ней. Выйдя на улицу, я спустился по ней к приречной низине, заставленной свежими стогами, среди которых были два моих. Они остались от меня слева, когда я свернул на знакомую дорогу, ведущую к пристани.
Никто не встретился мне на этой дороге, слава богу, и никаких препятствий до самой пристани больше не предвиделось. Справа от меня тянулась травянистая стена обрыва. У его основания возле крохотного водоема приткнулось деревянное строение. Там что-то вдруг загудело внутри сердито. Я остановился, думая, что это относится ко мне. Все могло быть, конечно, ибо я находился в стране коварных русских. Но к этому гудению скоро прибавился равномерный стук. И тогда я догадался, в чем было дело: внутри строения работал мотор, подающий из родника воду в их главный распределительный бак.
Далее я поравнялся с ветряной мельницей, которая высилась над обрывом наподобие грозного привидения. Но и она не могла стать мне помехой, стоя неподвижно на своей единственной ноге, как и все другие ветряные мельницы их колхоза, где люди перешли на электрические мельницы.
За мельницей дорога слегка обогнула выпуклость обрыва, открыв моему глазу вид на капустное поле. Там работали женщины, пропалывая и прореживая ряды капусты. Но и они не могли мне помешать, ибо капустное поле находилось в стороне от дороги, слева. За капустным полем берег реки приблизился к дороге, и отсюда наконец я увидел пристань.
Правда, до пристани мне еще встретился моторный катер, стоявший у небольшого деревянного причала, возле которого толпились люди. Но и они, кажется, не собирались преграждать мне путь к пристани, переходя один за другим с берега на катер. Так благоприятно складывались в это утро мои дела. Пристань уже была на виду, и ничто не могло мне теперь помешать дойти до нее и сесть в одиннадцать часов на теплоход, чтобы отправиться по реке Оке в город Горький, а оттуда поездом в Ленинград, где изнывала в муках тоски по мне моя женщина.
Когда я поравнялся с причалом, все люди уже были в катере. И один из них, стоявший внутри катера у борта, откуда он помогал другим перебираться с причала в катер, помахал мне приветливо рукой. Я всмотрелся в него. Это был парторг. Он спросил меня:
— Далеко ли направились?
Я указал на пристань, и он кивнул понимающе:
— Ну, ну. Счастливо доехать.
Даже он благословлял мой отъезд, не проявляя намерения меня удержать. Все же я помедлил немного. Неудобно было уйти, не сказав ему «спасибо». Как-никак, это он устроил меня на ночлег, не забыв также о еде. Подойдя к нему поближе по деревянному настилу причала, я протянул руку. Но и тут я не сразу попрощался. Чем-то надо было сгладить мой отказ принять его приглашение остаться у них погостить, хотя бы коротким разговором о том о сем. Нельзя было давать человеку повод подумать, что я пренебрегаю его заботами. Он взял мою руку в свою, и, отвечая на его пожатие, я спросил для начала:
— А вы далеко ли?
Он ответил:
— На пасеку.
— Как?
— На колхозную пасеку. Это где пчелы.
— А-а, понимаю. За медом? Но почему вас так много?
— Они в дом отдыха.
— Куда?
— В дом отдыха.
— В какой дом отдыха?
— В наш колхозный дом отдыха.
— Разве у вас есть свой дом отдыха?
— Да.
— У крестьян — дом отдыха?
— Да, да. У крестьян — дом отдыха.
Я все еще держал в своей руке его руку. Пора было отпустить ее и, сказав попутно то, что принято говорить на прощание, уйти своей дорогой. Но я забыл о руке. Я спросил:
— И что же, крестьяне отдыхают в этом доме?
— Ну конечно. Для чего же он и выстроен?
— И сейчас отдыхают?
— И сейчас.
— А как же с летними работами?
— Успеваем. Не всех же мы туда вывозим. Всех и дом не вместит.
— А какой он, этот дом?
— Дом как дом. Да вы лучше сами взгляните.
Моя рука все еще была в его руке. Он сжал ее чуть покрепче и потянул к себе. И нельзя сказать, чтобы я стал особенно упираться. Нет, я сам шагнул в катер и уселся на скамейку, пристроенную вдоль борта. Мотор заработал, и катер двинулся вверх по реке.
Да, так вот порой все складывается, когда вы идете по их земле к пристани. Ну ладно. Зато я посмотрел этот дом. Он стоял в молодом лиственном лесу на левом, низком берегу реки Оки. Катер долго тянул нас туда, бороздя сверкающую от солнца воду. На его пути встретилось несколько речных судов и среди них — тот самый теплоход, на котором я собирался уехать в город Горький, откуда поезд готов был доставить меня прямиком к моей женщине, изнывающей в тоске по мне.
Теплоход прошел вниз по реке, не заметив меня, сидевшего в открытом катере среди восемнадцати других, примерно таких же по возрасту. Из этих восемнадцати восемь были женщины, все время без умолку говорившие между собой о чем-то под рокот подвесного мотора. А из мужчин самыми молодыми были парторг и парень, сидевший у мотора на корме. Он высадил нас на низкий песчаный берег, поросший красным лозняком, и погнал катер обратно в колхоз.
Восемь говорливых женщин и восемь пожилых мужчин подхватили свои чемоданчики и отправились прямо и глубину лиственного леса, а мы с парторгом прошли вдоль берега вверх по реке еще километра два, дойдя почти до того места, откуда меня три дня назад перевез на правый берег золотозубый лодочник. Здесь мы тоже свернули по тропинке в тесную зелень леса, наполненную перезвоном птичьих голосов, и минут через двадцать вышли на открытую поляну, заставленную ульями. На краю поляны стоял маленький домик с одним окном. Парторг заглянул в него и, не увидев никого внутри, обернулся и крикнул на всю поляну:
— Ау! Иван!
С другого конца поляны отозвался не менее громкий голос, и к нам напрямик через поляну, неторопливо пробираясь между гудящими ульями, вышел тот самый Иван.
Так у них тут все подстроено. Вы идете к пристани, чтобы уехать скорее к своей женщине, которая истомилась в разлуке с вами. Но вам не дают дойти до пристани. Вас хватают за руку, кидают на дно катера и везут под присмотром восемнадцати человек на далекую пасеку, где ждут вас не сладкие медовые соты и не веселый пир, а ждет вас тот страшный, непримиримый Иван.
Я сразу его узнал, несмотря на то, что он старался выглядеть ниже ростом и темнее волосом. Даже глаза его стали скорее коричневыми, нежели серо-голубыми. Но все равно это был он. Мне ли его не знать? Это были его руки и плечи, его крупное загорелое лицо, ставшее чуть шире и добродушнее от времени, но способное в любую минуту снова исполниться суровости и прильнуть к прицелу пулемета. Одним словом, я знал о нем все, что нужно знать, и не ждал от него пощады. Парторг сказал, кивая на меня:
— Вот привез к тебе гостя из Финляндии, товарища Турханена. Прошу любить и жаловать.
Иван злорадно ухмыльнулся, услыхав эти слова. Уж он-то знал, как меня надо любить и жаловать. Рукава его рубашки были закатаны до локтей, высвобождая кулаки к действию. Ворот у мускулистой загорелой шеи был расстегнут, позволяя плечам при размахе развернуться шире. Не скрывая злорадной усмешки, он двинулся ко мне, но в последнее мгновение почему-то раздумал меня бить и просто так протянул мне руку. Я пожал ее, чувствуя в ответ верное доказательство своим предположениям относительно его способностей ломать хребты и вышибать из человека дух. Парторг тоже пожал ему руку, сказав попутно:
— А я к тебе с хорошими вестями: разрешили нам восточный участок.
В ответ на это Иван обрадованно хлопнул его по плечу и вскричал:
— Да ну! Вот молодец! — Потом потер с довольным видом ладонь о ладонь и сказал: — Ну, теперь дело у нас пойдет. А то уж прямо задыхаться начали. Тесно пчелке. Полтораста ульев на одном участке — это, прямо скажем, многовато. За новыми роями не угонишься. Только один сгребешь, глядь — уже второй вылетел, а там и третий. Один так высоко взлетел вон на тот ясень, что еле достали. Две лестницы вместе связать пришлось. Есть еще подозрение насчет этих двух ульев: не прозевали ли? Звук вроде глухой. Может, и не прозевали. Но кто их знает? Спать, конечное дело, много не приходится.
Парторг сказал:
— Ничего. Теперь часть заботы отпадает. С полсотни туда переправишь — и вздохнешь свободнее. Когда думаешь начать переброску?
Иван ответил:
— Только не летом. Посмотреть еще надо, как там и что. Зимник вырыть, чтобы осенью их прямо туда спящих. С весны ведь им способнее будет обживаться на новом-ти месте.
Нет, это был, пожалуй, не тот Иван. И ухмылялся он вовсе не злорадно, а скорее даже добродушно. Кроме того, он так много и заботливо говорил о пчелах, что, кажется, забыл обо мне. Пытаясь проверить это, я пошел на риск и привлек на себя его внимание таким вопросом:
— А где ваши пчелы берут себе питание?
Он живо ко мне обернулся:
— Где берут взяток? О, хватает им пока. Вон в том направлении большая лесная поляна. Там вот луга покосные и сады соседнего колхоза. А там клеверища. Плюс к этому — липы в лесу много. А новую пасеку, о которой мы сейчас говорили, прямо в липовом лесу установим.
Да, вряд ли это был тот Иван. Далеко ему было до того Ивана. И, конечно, мне только показалось, что он был способен в нужную минуту превратиться в грозного мстителя, раскроить кому-то прикладом автомата череп или сломать чей-то хребет о ствол сосны. Не был он на это способен. Пчела с разгона ударилась о его висок и запуталась в свисающей набок темной пряди волос. Он осторожно высвободил ее, выждал, пока она оправилась на его широкой ладони, и только тогда сдунул, проследив глазами за ее полетом. Парторг спросил:
— А как у тебя с кадрами?
Он ответил:
— Наладилось. Два помощника теперь у меня постоянных. Оба на оплате.
— А где они?
— Одного за продуктами послал в лавку лесничества, а другой спит в зимнике после ночного дежурства.
Так с разговором он провел нас по краю поляны, наполненной пчелиным гудением, к небольшому сарайчику, сколоченному из свежих досок. Дверь сарая была открыта, и мы вошли внутрь. Там у стены на приступке стояли в ряд всякие бочонки, кадушки, ведра. Одна кадка была открыта, и в ней поблескивал золотистой прозрачностью свежий мед.
Два светловолосых мальчика лет по тринадцати хлопотали посреди сарая у большого металлического бака, и один из них был в знакомой мне белой рубашке с короткими рукавами и в коротких синих штанишках с карманами. Я уже видел его накануне. Он осторожно вставил в бак истекающие медом соты, оправленные в раму, и, закрыв крышку, сказал другому мальчику:
— Ты крути равномерно, не торопись. Внутренний стержень все равно даст нужную скорость.
Второй мальчик, в розовой застиранной рубашке и в длинных серых штанах, принялся неторопливо вращать ручку, пристроенную у бака сбоку. Насколько я понял, соты внутри бака попадали под воздействие центробежной силы. Эта сила отделяла мед от сотовых ячеек и разбрызгивала его по стенкам бака, откуда он стекал вниз. А внизу был кран, через который мед вытекал в подставленное ведро.
Верхнюю полку сарайчика заполняла всякая утварь, имеющая касательство к пчелиному хозяйству. Тут были новые запасные рамы для ульев, новые соты, оттиснутые из воска человеком, были сетки для защиты лица, дымари для выкуривания пчел, были разные книги и журналы по пчеловодству. Иван показывал нам то одно, то другое, обращаясь больше ко мне. Я кивал ему и говорил: «Да, да», но смотрел больше в сторону мальчиков, вернее — в сторону одного из них. Этот один вынимал из бака опустевшие сотовые пластинки и прислонял их к другим таким же, стоявшим на чистой скамейке у стены. Потом брал из медного тазика пластинки, полные меда, и вставлял их в бак, плотно закрывая его крышкой, после чего другой мальчик принимался крутить ручку. Этот другой мальчик был обут на босу ногу в стоптанные парусиновые туфли, рядом с которыми кожаные сандалии и чистые синие носки его товарища казались прямо-таки богатыми.
Да, такое вот может установиться в деревне, где жизнь повернута на новый лад. Был Арви Сайтури, по милости которого осиротели дети. Но они не погрязли в нужде и горе. Почему не погрязли? Не потому ли, что был сметен с лица земли сам Арви Сайтури? Похоже, что именно потому. Я спросил Ивана:
— Это и есть ваши помощники?
Он ответил:
— Будущие. А пока что присматриваются и приноравливаются. Что ни утро, спозаранку переправляются сюда на лодке. Полюбилась им, видно, пчелка.
Он показал нам также землянку, куда ульи ставились на зиму и где в это время похрапывал один из его помощников, а напоследок угостил нас медом. Мед нам преподнес в двух чистых стаканах, поставленных на блюдечки, тот самый мальчик. Парторг спросил его, окуная в мед чайную ложку:
— Какие тут у вас виды на урожай нынче?
Мальчик ответил:
— Хорошие, Василий Мироныч. По ведерку на семью выйдет. А в будущем году и по два добьемся на двух-то пасеках.
Так он ответил, этот мальчик, у которого не было на свете ни отца, ни матери. Он ответил так, будто владел этой пасекой и собирался в будущем году владеть двумя.
Да, как-то все сместилось в их деревне, и непонятно было, кого надлежало считать у них обделенным судьбой и кого — приласканным ею. И трудно было также понять, где начиналась у них семья и где кончалась.
Мог быть и у меня, конечно, в жизни такой же славный темноглазый мальчуган, с такой же заботой наполняющий для людей бочонки медом. Но, как видно, не только у меня он мог быть и не только для меня. Для очень многих он был славным и своим.
31
Покончив с медом, я осмотрелся, пытаясь определить, в какую часть России меня опять забросило. И тут же я сообразил, что отнесло меня, кажется, немного назад на том пути, который я с такой лихостью прокладывал в глубину России. Еще утром я находился несколько дальше от Ленинграда, а теперь опять чуть приблизился к нему. Почему бы мне было не попытаться продолжить это приближение? Может быть, здесь неподалеку пролегала железная дорога, та самая, по которой мне предстояло уехать из города Горького в Ленинград? А если она здесь пролегала, то я мог без промедления направиться к ней. Имея такое намерение, я спросил парторга:
— А тут можно пройти?..
И он ответил, не дав мне даже кончить вопрос:
— Можно. Мы так прямиком и пойдем с вами через лес.
И он повел меня по глухой лесной тропинке, стесненной зеленью листвы, которая была так обильно наполнена птицами, что, казалось, она сама звенела и стонала от их пения и колыхалась не от легкого дуновения ветра, а от пронзительной силы их голосов.
Удивительно, как много их было там, наверху, этих птиц, и как усердно они надсаживали свои глотки. Не знаю, по какому поводу задавали они этот концерт, но у себя в Суоми я не замечал за ними такого старания. И не только такого, но помнится, что там я почти совсем не слыхал их голосов, разве только в те дни, когда первый раз прибыл в Туммалахти, где нашел не только близкого мне старого Илмари, но где, кроме того, Айли Мурто была еще прежней Айли Мурто…
Зато у Арви Сайтури я, кажется, не слыхал пения птиц, да и видеть их не успевал, ибо смотрел больше в землю, чем в небо. По той же причине не улавливал я их пения и в других местах моей угрюмой Суоми, где тоже трудно доставался мне мой каждодневный хлеб. А тут я видел их, мелькавших в зелени листвы разноцветным оперением. И тут в мои уши свободно проникали все переливы и перезвоны их тонких голосов. Можно было подумать, что когда-то прежде в моих ушах таились неведомые заслоны, не впускавшие в меня звуки птичьего пения, а теперь эти заслоны растаяли, открыв дорогу всему, в чем звенит радость.
Да, непонятно было, почему я так плохо помнил пение финских птиц и почему только здесь вдруг по-настоящему открыл, с какой проникновенной силой мог звучать этот самим богом придуманный могучий концерт. Не потому ли, что я в это время шагал в мягкой тени листвы к железной дороге, по которой собирался уехать в сторону Ленинграда, где металась, не находя себе места в тоске по мне, моя русская женщина. Я шел к ней, чтобы положить конец ее одиночеству, и русские птицы пели мне в благодарность за мое похвальное намерение. Так все объяснялось будто бы.
Полчаса шли мы с парторгом сквозь этот зеленый, тенистый кусок России, начиненный веселыми, певучими звуками, укрытыми в листве. А листва к тому же загоралась разными живыми, яркими красками всякий раз, когда очередное белое облако переставало заслонять собой солнце, позволяя его жарким лучам свободно проникать в просветы леса. Полчаса шли мы с парторгом сквозь эти звонкие звуки и жаркие краски, но пришли не к железной дороге, а к незнакомому мне деревянному дому.
Так устроена их Россия, что по ней вас можно водить куда угодно, не выводя к железной дороге. Вы стремитесь к ней всеми своими тайными помыслами, чтобы уехать скорее в Ленинград, где вы так нужны кому-то, но вас обязательно уводят от Ленинграда прочь.
А птичье засилье в их лесах объяснить нетрудно. Русские переманили к себе из Финляндии всех финских птиц — вот и все объяснение. Да, именно так обстояло дело, если разобраться в нем со всей моей редкостной проницательностью. Вот почему пение птиц не касалось моих чутких ушей в моей родной Суоми. Их не было там, этих птиц. Коварные русские заманили их к себе, ибо русские на все способны. Запомните это на всякий случай вы, финские люди, чтобы при любых неполадках в вашей жизни знать, где искать виновников. Заманив к себе ваших птиц, русские услаждают ваш слух их пением, делая в то же время вид, что ведут вас к железной дороге. Но он и не ведут вас к железной дороге. Нет, они уводят вас в отдаленную глубину лиственного леса, где вы оказываетесь перед каким-то двухэтажным бревенчатым домом, блистающим на солнце жестяной крышей.
Это был новый дом, поставленный прямо в гуще молодых лесных дубов, кленов и лип и еще не отделанный полностью. Парторг так и объяснил:
— Хлопот с ним еще много. Обшить надо вагонкой, покрасить, мебель приобрести, прачечную оборудовать, баньку выстроить, летнюю столовую соорудить. Но это все мы доделаем исподволь. А пока что решили не терять зря времени. Со стариков начали да с пожилых. Они ведь этого не видели в своей жизни — так пусть первые попробуют. А молодые еще успеют. Да и не всякий молодой сюда пойдет. Им разве такой вид отдыха нужен, молодым-то?
Я сказал:
— Чтобы захотеть отдыха, надо сперва устать. А у вас в поле нельзя устать. Вы работаете неполный день. Полный день в крестьянстве — это восемнадцать часов.
Он усмехнулся:
— О, это для нас теперь дело прошлое.
Я сказал:
— При такой работе вам хватило бы для отдыха одних воскресных дней.
Но он возразил:
— Нет, нам этого уже мало. Жизнь идет вперед. А идти ей положено только к лучшему.
Так у них тут установлено. Идти им положено только вперед и только к лучшему. Сворачивать вбок или пятиться назад они не намерены. И если они поднялись настолько, что смогли выстроить для крестьян своей деревни дом отдыха, то понимать это надо так, что в то состояние, когда этого дома опять не станет, они уже не вернутся. Нет, он теперь при всех обстоятельствах должен будет остаться у них и служить им, пока не выстроится что-нибудь еще более крупное и красивое. Так у них по крайней мере установлено, в надежде на то, что жизнь подчинится их планам.
Да, любопытные вещи стали твориться на свете. Когда это было на земле, чтобы крестьянин запросил для себя отдыха? Для крестьянина сама работа в поле должна быть и отдыхом, и праздником, и всякой иной радостью. Дождь вовремя полил посеянное им в землю зерно, и он поет веселые песни. Расцвели и вызрели его всходы — новая радость и праздник в крестьянском сердце. Сняты поспевшие к сроку осенние плоды — и опять счастье и довольство в душе и в доме крестьянина.
Стоит ли ему менять эти радости на какие-то новые, незнакомые виды досуга? Он строит свое счастье сам, строит в одиночку и строит его только в пределах собственного дома, находя в этом главную отраду жизни. Никогда и ни на что не зарился он за его пределами. Свой дом дает ему все и для тела и для души. Так издавна ведется на свете. Но здесь умудрялись принимать радость и всякую иную душевную усладу за пределами своих домов и, кажется, не считали это отклонением от нормы. Что ж, им, успевшим приобрести вкус к отдыху, было виднее, пожалуй.
Но, с другой стороны, мог ли кто из них понять, чем он владел на свете, приобретя возможность украшать свою жизнь всякими такими домами вместо повседневной заботы о хлебе, о хлебе, о хлебе? Особенно тот мог ли понять, кто был помоложе? И если он не мог понять и оценить это в полной мере, то была ли надобность спешить одарять его подобной благодатью? Не полезнее ли было вернуть его на время в то состояние, когда его думы еще не могли подняться выше хлеба? Зачем прививать молодому, здоровому парню дополнительный опыт безделья, когда он и без того работает всего половину дня, а остальное время гуляет, разъезжая на велосипеде или мотоцикле или танцуя в своем клубе после кино? Давать понятие об отдыхе надо подлинному земляному старателю, изведавшему на своем хребте всю тяжесть крестьянской доли, тому, кто способен удивиться такому непривычному дару и оценить его, тому, кто действительно устал, придавленный тяжестью жизни, вроде одинокого старого Ванхатакки.
Да, именно для Ванхатакки было бы кстати отведать хотя бы малую долю подобного отдыха. Эй, Ванхатакки! Вот, пожалуйста, не желаешь ли? Здесь для тебя выстроили дом среди благоуханных лип и птичьих концертов. Можешь прийти сюда в любое время года, хотя бы в самый разгар летних работ. Не бойся, дела твои дома не замрут. Кто-то побеспокоится о них без тебя. Зато здесь ты проживешь на полном довольствии, и это не будет стоить тебе ни одного пенни. Наоборот, тебе даже оплатят проведенные здесь дни сверх того, что на тебя здесь затратится. Как ты на это смотришь?
Все тут к твоим услугам. Вот две комнаты внизу, две наверху. В каждой комнате по четыре кровати. Выбирай любую. Наверху живут женщины, внизу мужчины. Вот кухня. В ней две женщины готовят тебе завтрак, обед и ужин. Третья женщина убирает за тобой постель, а мужчина, которого ты видишь на дворе, привозит сюда продукты и заготавливает дрова.
Рядом с кухней столовая, а над ней — открытая веранда. Ты обедаешь в столовой, а потом сидишь на этой веранде в раскладном кресле и листаешь газеты или журналы. Ты можешь послушать радио или поиграть в шашки и шахматы; можешь пойти в лес и подремать на травке; можешь полюбоваться цветами в молодом садике, а вечером посмотреть кинофильм или представление, разыгранное местными колхозными артистами.
Целый месяц проводишь ты в таком безделье, накапливая в своем теле соки, и за это время дела в твоем хозяйстве продолжают выполняться, как выполнялись они при тебе. Как тебе все это нравится? Ты хотел бы такого отведать хоть раз в жизни, или оно для тебя вроде как бы непривычно? По-твоему, здесь даже не все ладно, в этой затее? Тебя, никак, берут сомнения в чем-то. Так, наверно, надо понимать твою недоверчивую усмешку? Ты вынимаешь трубку изо рта, где у тебя вместо передних зубов зияет пустота, и, сплюнув на сторону, говоришь с твердым убеждением в своем натужном голосе: «Такого не бывает!».
И верно. Откуда такому быть? Когда это приключалось на свете, чтобы крестьянин обзаводился домом отдыха? Здесь явно таился какой-то подвох. Не могло тут быть никакого дома отдыха, да и не было его. Вот как просто мы с тобой с ним разделались. Не было тут никакого дома. Просто мне представилось, будто я видел его и входил внутрь, приглядываясь к его устройству на обоих этажах. А на самом деле не было его здесь, этого дома. Была только видимость, очень ловко подстроенная для того, чтобы пустить пыль в глаза приезжему финну. Ради него произвели здесь некоторое шевеление. Прибыли на катере по реке Оке шестнадцать взрослых людей, готовых якобы остаться тут на две недели, а шестнадцать других, уже якобы отдохнувших и налитых для видимости здоровьем и загаром, готовились вернуться назад, в свои дома.
Молодая расторопная женщина в многоцветном легком платье с яркой шелковой косынкой на русой косе застилала для видимости свежими простынями постели на обоих этажах. А две другие женщины наполняли этот дом и все пространство вокруг него запахом вкусного обеда — тоже для видимости.
И, чтобы придать этой видимости какой-то вес, меня даже пригласили пообедать в столовую, где уже собрались те шестнадцать человек, что прибыли на катере вместе со мной. Ну что ж. Я не стал отказываться, делая вид, будто не разгадал их наивной хитрости. И нельзя сказать, чтобы холодная заливная рыба и суп из курицы, приготовленные для видимости, слишком уж сильно отличались от подлинных блюд. А видимость из жареной баранины с гречневой кашей, дополненная видимостью земляничного киселя, нагрузили мой желудок так основательно, что я с трудом поднялся по внутренней лестнице на верхнюю веранду, затененную деревьями, где на столе среди газет и журналов стоял для видимости кувшин с хлебным квасом.
Парторг мой опять куда-то отлучился по делам этого придуманного для видимости хозяйства. Так он был устроен, что не мог усидеть на месте даже после обеда. Ему непременно надо было сунуть всюду свой крупный нос. И пока люди, готовые к отъезду домой, сидели на берегу реки в ожидании катера, а парторг вникал в нужды хозяйства, я сидел на веранде и листал газеты.
И странное дело: листая их местные газеты, я вычитал из них страшные для России вещи. Оказывается, в некоторых районах той области, где я находился, в хозяйстве крестьян творились крупные неполадки. Трудно было только понять из газет, чем они вызваны. Где-то на целой сотне гектаров не пропололи вовремя овощи, и они погибли. Где-то на нескольких сотнях гектаров после нерадивой вспашки взошел плохой хлеб, и какой-то колхоз по этой причине оставался без урожая. Где-то на многих сотнях гектаров перестаивала на корню трава, и не предвиделось надежды выкосить ее в молодом состоянии из-за нехватки косилок. А это опять грозило бескормицей нескольким крупным фермам. В газете так и было сказано: «опять». Из этого следовало, что бескормицу они уже испытали в прошлом году. Где-то с опозданием посадили картошку, упустив теплое, влажное время весны, и теперь тоже не надеялись на урожай.
Я не знал, что и думать. Случись все это не в России, а в какой-нибудь иной европейской стране, она давно ударилась бы в панику перед угрозой голода. Но здесь никто и ухом не вел. Я взглянул украдкой на бородатого человека в расстегнутой голубой рубахе, сидевшего напротив меня в плетеном кресле. Он тоже перебирал газеты и тоже, наверно, вычитывал из них про все эти случаи, какие совершались на их полях. И, конечно, он тоже мог предвидеть, какая страшная беда собиралась к ним нагрянуть зимой, но никакого беспокойства на его широком добродушном лице я не заметил. Наоборот, оно было полно довольства и покоя, вызванного сытным обедом и приездом сюда на отдых.
Я покосился на двух других мужчин, таких же солидных по возрасту. Они только что отложили газеты в сторону. Но отложили не потому, что устрашились вычитанных из них ужасов, а потому, что пожелали присесть за отдельный столик и сразиться в шахматы. Я взглянул на трех женщин, листавших за столом журналы, и на их лицах гоже не заметил признаков озабоченности. Они говорили между собой о своих женских делах, о сыновьях и дочерях, женатых и неженатых, замужних и незамужних, о будущих свадьбах, о новых платьях и новых обычаях, но ни слова о предстоящем в России голодном бедствии.
Как надо было это понимать? Может быть, я ошибся? Я перебрал еще несколько газет с разными названиями и за разные числа. И почти в каждой из них упоминался какой-нибудь промах, за которым влеклись огромные потери и хлебов, и трав, и молока, и мяса. Нет, я не ошибался.
Но если такое творилось у них в одной области, то оно могло твориться и в другой и в третьей. Убедиться в этом было, конечно, нетрудно. Стоило перебраться в другую область и полистать в тамошних крестьянских домах отдыха тамошние газеты. А если такое творилось в другой и в третьей области, то оно могло твориться и по всей России. И по всей России об этом легко можно было вычитать из газет в их крестьянских домах отдыха. Вся их Россия находилась на пороге голодной гибели, а они заботились о своем отдыхе. От каких же дел собирались они отдыхать, если и без того им предстояло зимой лежать в холодной могильной неподвижности?
Так раскрылась передо мной истинная картина жизни русских, и ты, Юсси, подивился бы той проницательности, какую я тут проявил. Мог ли я после этого поверить в какой-то там их непонятный дом, выстроенный будто бы для отдыха русских крестьян? Нет, не мог я в него поверить, потому что такого на свете не бывает. Верно, Юсси? Не видел я у них такого дома, не входил в него и не обедал в нем. А вот в эти разные странные случаи на их полях я верил, потому что они относились к чему-то плохому и неприглядному.
Так уж повелось, что у таких людей, как Арви Сайтури, к имени России стало прилагаться только плохое. Хорошее с ее именем у них не увязывалось. Так что не я первый установил это, и не мне было от этого отклоняться.
32
Когда мы возвращались на катере обратно в колхоз, я сказал парторгу:
— Скоро вам придется заколотить этот дом или продать, а самим переселиться куда-нибудь в соседнюю страну.
Он спросил удивленно:
— Это почему бы так?
Я пояснил:
— А потому, что питаться вам зимой будет нечем в России. Земля не любит, когда с ней неласковы, и наказывает за это. Конечно, я понимаю, трудно будет разместить всю Россию в других странах. Легче было бы ей самой вобрать в себя все другие страны. Но придется на этот раз другим странам принять на себя о ней заботу. Иначе вам конец.
И я перебрал коротко несколько самых обидных для земли случаев, о которых вычитал из их газет. Однако в ответ на это они только рассмеялись, все восемнадцать человек, мужчины и женщины, заполнявшие катер. А когда смех улегся, парторг сказал мне:
— Вот вы, Алексей Матвеич, уже немало прошли по нашим деревням. Встретили вы где-нибудь признаки голода?
Я попробовал что-нибудь такое припомнить, но вынужден был ответить:
— Нет, не встретил.
Он сказал:
— Вот видите. А ведь и в прошлом году газеты писали о таких же недостатках в нашем сельском хозяйстве и в позапрошлом. Однако с голоду мы нынче не умираем вроде? Как вы думаете?
— Нет, пожалуй…
— И еще будем писать не один год, пока не научим нерадивых людей относиться к своему делу сознательно. Но сколько-нибудь заметно поколебать наш общий уровень жизни эти недостатки все равно уже не в силах. Понимаете? Сейчас экономика наша настолько окрепла, что случись неурожай в целой области или в целом крае, так и то там люди нужды особой не испытают, потому что помощь из других мест получат. А иная наша область или край — это, по вашим-ти масштабам, несколько стран, вместе взятых. Не так?
И тут все сидевшие в катере мужчины и женщины, налитые солнцем и сытостью после двухнедельного пребывания в доме отдыха, подтвердили слова своего парторга, вспомнив разные случаи неурожаев то в одной области, то в другой, где, несмотря на это, люди имели и хлеб, и семена, и мясо. Парторг добавил к сказанному ими:
— А закрывать дом отдыха зачем же? Не для того мы его открывали, чтобы закрыть. Подождем, посмотрим, как он привьется. Может, мы ошиблись и не с того конца взялись улучшать быт колхозника. Но проверим и определим. За нас это никто не сделает. А решит сама жизнь.
Одна из женщин сказала:
— Да уж решила, Василь Мироныч. Чего уж там скромничать перед заезжим-ти гостем. Хороший дом. Дай бог каждому колхозу такой. Только почаще кино присылай да с телевизором поторопись. На одном радио тепере-тка далеко не уедешь.
Один из мужчин, помоложе остальных с виду, добавил:
— А к зиме лыжи приобрести необходимо. Тоже очень полезный вид отдыха, особенно для молодежи.
Парторг согласился с этим, но сказал:
— Не все сразу. Дайте срок. Будет вам и белка, будет и свисток.
Я сперва не понял, к чему он упомянул свисток и белку, когда дело касалось лыж и телевизора. Но потом догадался, что белка и свисток — это единственное, что еще было ему по средствам. Все остальные деньги колхоза ушли на этот красивый дом, которым они похвастались перед заезжим-ти гостем. Не думая о завтрашнем дне, они ухлопали сюда все деньги, а когда принялись подсчитывать, выяснили, что у них осталось только на белку и свисток. Да и то надо полагать, что втайне они надеялись поймать белку даром в своем собственном лесу, а для свистка сорвать прямо в поле зеленую дудку, за которую им тоже не понадобится платить господу богу ни копейки. Вот до какого состояния докатились они со своим домом отдыха.
Тем не менее люди, сидящие в катере, продолжали говорить о лыжах, о коньках, о санках, о телевизоре, о телефоне, о новом радиоузле в новом доме культуры и о всяких других способах украшения человеческой жизни. Видно было, что они еще не сумели охватить умом всю глубину постигшего их страшного разорения и потому не отказались от своих пустых мечтаний. Один я пока что сумел доподлинно разглядеть всю безвыходность их положения своим прозорливым умом. Но я не пытался их больше просвещать, молча прислушиваясь к их певучему говору. Бог с ними. Зачем наводить людей на невеселые догадки? Придет время — откроют все сами и тогда успеют еще наплакаться.
Катер быстро скользил вниз по Оке, увозя меня обратно в их разоренный начисто колхоз. Правый берег реки высился крутым зеленым обрывом, над которым лепились кое-где деревни, тоже, наверно, успевшие разориться. Так, надо полагать, обстояло у них дело с деревнями. Все они были разоренные. А как же иначе? Так уж принято было считать в иных местах за пределами России, что ничего хорошего в ней быть не могло, только плохое.
Катер быстро скользил по сверкающей глади плохой русской реки Оки. Ее правый берег высился над водой крутым зеленым обрывом, на котором красовались плохие русские деревни. А левый, низменный берег то подступал к воде плохими сочными луговыми травами, то повисал над ней живыми зелеными валами лиственного леса.
Где-то мне однажды объяснили, почему реки на земле имеют разные по высоте берега. Это будто бы потому, что земля, вращаясь постоянно к одну сторону, заставляет воду прижиматься плотнее к другой стороне. Вода прижимается и размывает понемногу землю. Размывая ее, она постепенно сама перемещается к этой стороне, оставляя с другой стороны размытую низину. Происходит это перемещение так медленно, что люди его не видят, живя на земле всего какие-то десятки тысяч лет. Только за миллионы лет можно это заметить.
Все как-то странно складывается в жизни человека. Земля проходит в небесах свой постоянный путь, провертывая вокруг себя за двадцать четыре часа все свои сорок тысяч километров, составляющих длину ее поверхности по кругу. Многие миллионы лет совершает она этот путь, никуда не отклоняясь. И вращается она вокруг себя на этом пути всегда в одну и ту же сторону, с одной и той же скоростью, показывая этим человеку пример удивительного постоянства. А человек не желает перенимать ее постоянство. Рожденный столь примерной планетой, он все время норовит идти наперекор ее правилам. И если говорить о постоянстве, то проявляется оно у него лишь в одном: он постоянно изыскивает способы, как сделать легче, богаче и полнее свою крохотную жизнь. И чем дальше, тем эти искания упорнее. Дошло уже до того, что в некоторых странах Земли эти искания провозгласили главным видом деятельности народа и правителей. Не мудрено, если при таком союзе их усилия где-то уже стали давать плоды.
Катер все скользил среди свежести и блеска, которыми был наполнен этот кусок мира. Скоро он вернулся к тем просторам реки, где ее обрывистый правый берег отодвигался от воды, уступая место широкой полосе луговой низины, уже знакомой мне. В эту низину сквозь прорези в зеленой стене обрыва выходили старинные овраги, давно ставшие у своего выхода широкими травянистыми долинами, поросшими березняком. Через одну прорезь на низину выходила двумя рядами своих домов деревня Листвицы. В другой прорези уместилось целое футбольное поле, где ребятишки уже гоняли мяч. По одной из этих прорезей в низину выходила дорога. Высоко над ней, по обе ее стороны, высились крайние дома деревни Корнево. Я знал эту деревню. Я жил в ней когда-то, ночуя у человека с непослушными руками и ногами, который сам почему-то не ночевал дома.
И тот высокий выступ на краю обрыва я тоже знал, ибо стоял на нем однажды возле развалин церкви, слушая смешную сказку о том, как на этой высоте вырастет у них четырехэтажный дворец культуры. Но теперь я прощался со всем этим, потому что уже окончательно выяснил самое последнее, что еще касалось жизни их колхозов. Больше узнавать о русских колхозах мне было нечего.
Сенокос на береговой низине, как видно, близился к концу. Косари сгрудились у двух последних стогов, заделывая их вершины и подчищая вокруг них место от остатков сена. Парторг привстал над бортом катера и помахал им рукой. Они тоже помахали ему в ответ руками, косынками, граблями, вилами и даже прокричали что-то веселое.
Миновав сенокосную луговину, катер обогнул капустное поле. Здесь низина сузилась, позволив далекому береговому обрыву снова приблизиться к воде. И здесь катер подошел наконец к причалу напротив деревни Чуркино. Мы все вышли на берег. Кое-кого из прибывших встретили ребятишки. С ними они разошлись в разные стороны. Меня никто не встретил. Меня готовились встретить совсем в другом месте. И, торопясь попасть скорее туда, где меня готовились встретить, я направился к пристани.
Парторг в это время выкатил мотоцикл из деревянного сарайчика. Я остановился. Что-то надо было, пожалуй, сказать ему на прощание за все его заботы обо мне. Подумав немного, я свернул к нему с дороги и постоял немного возле него, ожидая, когда он кончит разговор с маленьким черноглазым мальчуганом, вцепившимся своими ручонками в заднее сиденье мотоцикла. На мальчугане были знакомые мне короткие синие штаны и белая рубашка с короткими рукавами. Я уже видел однажды этого мальчугана в том садике, где они так безжалостно разнесли мои финские сказки. Он цеплялся за мотоцикл и упрашивал парторга:
— Прокати, дядя Вася, а? Прокати!
Но парторг отвечал:
— Нельзя, голубчик. Упадешь.
А тот уверял:
— Не упаду, дядя Вася! Вот увидишь! Ну, прокати-и!
Дядя Вася, кажется, был в затруднении. Он явно не хотел обидеть мальчика и потому медлил трогаться с места, выжидательно озираясь вокруг. Заметив меня, он как будто обрадовался и сказал мальчику:
— Попроси вон дядю Лешу. Если он тебя подержит — поедем.
И красивые черные глаза мальчонки мигом обратились ко мне, и мне он сказал с робкой надеждой:
— Дядя Леша, вы подержите?
Милый мой мальчик! Ну конечно же, я тебя подержу. Разве может отказать тебе в таком пустяковом деле твой дядя Леша! Я усадил его перед собой на заднее сиденье и надежно оградил с двух сторон руками, взявшись ими за кожаную скобу. А он положил свои ручонки на кисти моих рук. И мы понеслись вдоль нижнего края обрыва мимо косарей, идущих и едущих домой с береговой низины, где они за два дня превратили сырую луговую траву в полсотни стогов сухого сена. Черные кудряшки мальчугана трепыхались на ветру, касаясь моего подбородка. И когда нас встряхивало на ухабах, его худенькие ручонки сильнее сдавливали кисти моих рук.
Парторг остановил мотоцикл у футбольного поля. Мальчонка мигом спрыгнул на землю и, крикнув на ходу: «Спасибо, дядя Вася! Спасибо, дядя Леша!» — умчался в отдаленный уголок поля, где стояли приспособления для разных детских игр и где уже шла игра в маленький мяч, поддаваемый палками. Проследив за ним с улыбкой, парторг спросил меня:
— А вы как, Алексей Матвеич, со мной дальше махнете или посмотрите, как наши тренируются? У них завтра матч с командой колхоза «Луч».
У меня не было надобности ехать с парторгом дальше. Что я там у него не видел? Я все видел и знал, что касалось их колхозов. На пристань мне надо было теперь идти, чтобы уехать вечером в город Горький, а оттуда в Ленинград, где тосковала по мне моя женщина. И ведь я, кажется, уже шел к пристани, но вот так получилось… Да, все у них тут заодно.
Парторг спросил еще раз:
— Так вы остаетесь?
— Да…
Он умчался на мотоцикле к себе домой, в деревню Кряжино, а я остался. Но я не сразу направился к пристани. Время было не такое уж позднее. Солнце стояло еще довольно высоко над верхней кромкой обрыва, заливая своими жаркими лучами футбольное поле, устроенное в самой широкой части дна бывшего оврага, у его выхода в приречную низину. По этому полю гоняли мяч взрослые парни, одетые в трусы и майки. Я присел на боковом скате оврага, наблюдая за их игрой и заодно поглядывая также в тот конец поля, где играли мальчики.
Оба ската оврага постепенно заполнялись зрителями. Это были все больше молодые люди — парни и девушки, уже успевшие переодеться в чистое после работы. На скате было удобно сидеть. Когда-то здесь, наверно, пасли коров, и они вытоптали на нем снизу доверху ряды продольных тропинок. А после того, как сюда перестали пускать коров, эти тропинки заросли густой травой и цветами. Получились мягкие травянистые ступеньки, вполне заменявшие сиденья.
Устраивать здесь деревянные сиденья не было надобности для тех немногих зрителей, какие могли тут собраться из нескольких ближних деревень. Да и не так уж густо, кажется, обстояло у них дело с деревом. Какие-то деревья, правда, росли в глубине оврага позади футбольного поля, но вряд ли они годились на доски для скамеек.
Я поднялся и прошел туда немного по средней части ската. Да, там, дальше, по дну оврага действительно довольно густо росли лиственные деревья, среди которых виднелись и березы. Но это был не строевой лес, а скорее молодой парк, приспособленный для гулянья. В нем виднелись посыпанные песком дорожки и садовые скамейки, на которых уже сидели кое-где уединившиеся молодые пары.
Я поднялся на самый верхний край ската и оттуда увидел весь парк до конца. Судя по выступающим из глубины оврага вершинам деревьев, он протянулся на добрый километр, заполняя собой все изгибы оврага. А по обе стороны от него раскинулись хлебные поля.
Пока я так окидывал прощальным взглядом их владения, готовясь идти к пристани, незаметно наступил вечер. На футбольное поле от бокового ската надвинулась темная тень. Солнце порозовело и укрупнилось, готовое укрыться за отдаленными холмами. Ребятишки оставили игру и поднялись по склону другого ската к хлебным полям, где и скрылись вскоре из моих глаз. А пока я спускался вниз, чтобы выйти на дорогу, ведущую к пристани, футболисты тоже покончили с игрой. Быстро одевшись, они стали расходиться кто куда. Некоторые из них выехали на велосипедах в приречную низину, а остальные присоединились к зрителям и с ними вместе потянулись в парк.
Мне было с ними не по пути. Бросив прощальный взгляд на ту боковину оврага, по которой вскарабкались убежавшие домой мальчуганы, я направился к реке. Та боковина была еще освещена уходящим за холмы солнцем. Но темная тень от противоположной боковины уже наползала на нее снизу. И к этой тени прибавилась еще тень человека, идущего по верхнему краю противоположной боковины. Она заняла собой всю высоту освещенного солнцем травянистого ската, эта быстро идущая тень, и даже не уместилась на нем, переломившись в своей верхней части и скользя плечами и головой по ближайшим хлебам.
Я всмотрелся в человека, шагавшего там, наверху, вдоль кромки оврага. Ого! Вот кто тут объявился. Это был тот самый двухметровый легионер, который едва не проткнул меня вилами в первый же день моего появления в их колхозе. Спасло меня только то, что он еще не успел получить приказ ринуться на Финляндию. Но куда же он теперь так стремительно шел?
Я остановился. Время позволяло мне останавливаться, позволяло смотреть и думать. Я всегда думаю своей умной головой и потому так верно разбираюсь во всех явлениях жизни. Время могло мне даже позволить пройти немного назад в направлении их парка, уже утонувшего в тени, если не считать выступавших над кромкой оврага вершин. И, идя назад к их парку, я все поглядывал на этого молодца, отмеривавшего там, наверху, по кромке оврага свои полутораметровые шаги.
Куда его так стремительно несло? Что-то важное, наверное, ожидало его там, куда он торопился. Чем оно могло быть, это важное? Оно могло быть, пожалуй, только одним. Оно было тем самым, откуда ему предстояло получить наконец приказ ринуться на Финляндию. И за этим приказом он, конечно, и торопился. Вот какая догадка осенила вдруг мою умную голову, если считать, что она действительно ее осенила и что я не просто так, из любопытства отправился в их сельский парк, имея на то избыток времени.
Я шел по средней дорожке парка, вдыхая запах густой высокой травы и полевых цветов, которыми он зарос внизу. В обе стороны от этой дорожки разбегались тропинки. В кустарниках стояли скамейки. Оттуда до меня доносились тихие голоса тех, кто стремился тут уединиться в наступающих сумерках. Но я не смотрел на них. Я смотрел только вверх, где в просвете древесных вершин мелькала на фоне вечернего неба темная фигура длинного парня, далеко опередившего меня.
Так я прошел весь парк, следуя всем его изгибам. В конце он стал совсем узким. Деревья в нем сменились мелким кустарником. А узкая дорожка превратилась в едва заметную тропинку, которая к тому же уперлась в скат большого холма, шелестевшего рожью.
Возле ржи стояла девушка в светлом платье. А перед ней уже высился тот самый легионер. Вот откуда исходили к нему приказы. И, выслушивая очередной приказ, он круто согнулся в плечах, приблизив к ней лицо. А она, наоборот, вся вытянулась в струнку, чтобы дотянуться своим лицом до его лица снизу. Для удобства она даже обхватила руками его шею, в то время как его ладони бережно держали ее за бока.
Не знаю, в какие слова облекла она свой приказ. Она произнесла их так тихо, что до моего слуха они не долетели. А может быть, она совсем их не произнесла? Может быть, этот секретный приказ отдавался в полном безмолвии одним только взглядом? Но, боже мой, как долго она этот приказ ему излагала, сомкнув свое лицо с его лицом! У меня ноги затекли от неудобного стояния позади кустов. Наконец они все же отстранились друг от друга, но зато повернулись ко мне спиной и, взявшись за руки, шагнули в рожь, которая тут же заслонила их от меня.
Да, так вот обстояли у них эти дела. Кто на свете мог бы догадаться, где они решаются? Один я догадался.
И, кроме того, теперь я знал, для чего они растили рожь высотой в два с четвертью метра. Таинственные дела совершались у них под прикрытием этой особого назначении ржи, тая в себе угрозу миру. И совершались они, наверно, не первый год, потому что даже в одной их песне с давних пор поется:
Знает только ночь глубокая, как поладили они. Распрямись ты, рожь высокая, тайну свято сохрани!Я не стал пытаться разгадывать их тайну. Где там было их найти, в этом дремучем ржаном лесу. Я вышел из оврага и, огибая рожь, поднялся по склону холма повыше, чтобы успеть осмотреться, пока еще не совсем стемнело. Забрел я, кажется, далеко, но место узнал. Неподалеку от меня оказался уже знакомый мне застывший в неподвижности ветряк, а чуть подальше — знакомое гумно.
Там уже горела лампочка, освещая механизмы, которые местный изобретатель вечерами и ночами исправлял на свой лад, не требуя за это платы. Но я не стал на этот раз мешать ему убивать бесплатно свое здоровье. Я подошел поближе только для того, чтобы спуститься по знакомой тропинке на знакомую дорогу. Попутно я все же кинул туда взгляд. Оказывается, это был не изобретатель. Это был парторг. Но он там ничего не мастерил. Он просто так сидел и смотрел на то, что было сделано. Временами он вставал, ощупывал сделанное, как бы пытаясь проникнуть в намерения изобретателя, а потом снова сидел и думал, дымя папиросой.
Я спустился по тропинке к дороге и по ней пришел в Корнево. Время позволяло мне также поужинать перед дальней дорогой. И я зашел поужинать. Завидев меня, старшая хозяйка пришла со двора и стала собирать на стол. Так удобно это было для меня устроено. Я мог не говорить ни слова — только зайти. И хозяйка, тоже не говоря ни слова, принималась меня кормить.
А устроил это парторг. Тот самый, что сидел в это время там, на гумне, вникая в хитрости механизмов, не для него купленных и не для него переделанных. Такая уж у него была должность, чтобы во все вникать, все близко принимать к сердцу: и людские дела, и колхозные, и государственные, и международные. Денег ему на этой должности не платили. Он даром ее выполнял. И если бы его не избрали на эту должность, он все равно бы ее выполнял, потому что она, как видно, и без того сидела в нем. А люди знали, что она сидела в нем, эта должность, и потому избрали. Его избрали, а не назначили. Назначить на такую должность нельзя. Назначая, можно ошибиться, как это уже случалось у них с теми руководителями по сельскому хозяйству, о которых я читал в их газетах. Тех руководителей не сельское хозяйство заботило, а совсем другое. Вырастало там что-нибудь на земле, которую им поручили, или нет — это их мало трогало. Их трогала необходимость показать, что с каждым годом они идут вперед. А показать это могли цифры. И они писали: «В прошлом году мы вырастили сто, а в этом году двести». Вот что спешили они сообщить скорее тем, кто их назначил, чтобы их не сняли с этого назначения, где они получали, надо думать, хорошие деньги. И за плотным забором цифр не всякий умудрялся разглядеть, что в прошлом году они вырастили сто мешков картофеля, а в этом году — двести картофелин.
Мой парторг не был назначен. Это было видно по всему. Его избрали. Назначает власть, избирает народ. А народ никогда не ошибается, потому что он из своих недр избирает, где ему виднее, кто и чем наполнен. Он знает, что на должность парторга, например, нужны не только трудолюбивые руки и хороший ум, но главным образом — большое сердце, и в соответствии с этим избирает. Да, парторг — это, пожалуй, хорошо было у них придумано. Не говоря уж обо всем прочем, это его забота окружала меня все три дня, что я провел в их колхозе.
К ужину были приготовлены пирожки с рисом и куриный бульон, а на второе — жареная рыба. Напоследок я выпил два стакана чая с лимоном. Лимон хозяйка тут же сорвала с кустика, который рос у нее в горшке на окне. Она сказала, что лимоны вызревают у них в течение всего года то в одном горшке, то в другом. Пока я этому удивлялся, разглядывая на подоконниках молодые деревца лимона, она успела выйти во двор, где ее ждали незаконченные дела.
И опять я не успел с ней попрощаться. Но медлить было нельзя, и я отправился на пристань, торопясь на теплоход, идущий в десять часов вечера в город Горький, откуда поезд готовился доставить меня к моей женщине, изнывающей там, под Ленинградом, в томительной тоске по мне.
Проходя мимо двухэтажного здания библиотеки, я заметил, что свет горел не только в его верхних окнах, но и в нижних. Значит, и там что-то у них делалось в дополнение к тому, чем жил верхний этаж. Вход в нижний этаж был отдельный, с противоположной стороны дома. Как раз в этот момент мимо меня туда пробежали две девочки. И одна из них была в короткой синей юбке и белой блузке. Я узнал ее. Это была та самая, которая осудила мои финские сказки. Я даже не успел тогда ей как следует ответить, чтобы оставить последнее слово за собой. А надо было ответить. Не стоило давать ей повод зазнаваться с этих лет. Они пробежали мимо меня, пересекая улицу, и вошли в нижний этаж.
Я остановился. Время позволяло мне заглянуть на минутку туда, чтобы сказать напоследок этой девочке кое-что назидательное. Не раздумывая долго, я двинулся вслед за ними, поднялся на три ступеньки и, пройдя небольшую прихожую, очутился в большой светлой комнате. Одна электрическая лампочка горела под потолком в центре комнаты, а другая — над столом, который стоял в дальнем углу. Вокруг него сгрудились ребятишки, мальчики и девочки, и среди них трое или четверо были в синем с белым. Девочка, осудившая мои сказки, тоже успела прилепиться к остальным.
Неудобно было сразу отрывать ее от них, и я помедлил немного, осматриваясь вокруг. Эта комната походила на небольшой музей. В ней были собраны образцы разного рода злаков: пшеницы, ржи, овса, ячменя. Увязанные в длинные пучки, они красовались вдоль стен. Были здесь также пучки клевера, тимофеевки, вики, конопли и льна разных сортов. Были фотографии фруктов и ягод, были отдельные засушенные ветки и листья под стеклом.
Делая вид, что рассматриваю все это и читаю пояснения к образцам, я в то же время выбирал момент, чтобы заговорить с девочкой. Она перебирала рассыпанные по столу колосья и вместе с другими прислушивалась к тому, что говорил мальчик в коротких синих штанах и белой безрукавке. Похоже, что он был главным в этой компании. Он сказал:
— Селитра сама по себе — тоже не спасение. Урожайность-то она повышает, но стоит чуть лишнее сыпануть — и дело испорчено. Клейкость в почве получается. К селитре обязательно навоз нужен или торф.
Кто-то из мальчиков подсказал:
— Мы же добавляли. Помнишь?
Он ответил.
— Мало добавляли. Вот здесь у меня колосья с кряжинских полей и веткинских. Видите, какая разница? Я подсчитал: в каждом кряжинском колосе в среднем на десять-пятнадцать зерен больше, чем в веткинском. А все потому, что на кряжинские поля в прошлом году торф навезли. А мы этого не учли на своем участке.
Тут опять кто-то вставил:
— Не обязательно торф, если есть навоз.
Он возразил:
— Но его нет. А то, что мы внесли, — это капля.
Одна из девочек сказала со вздохом:
— Сколько его пропадает зря на коровьих стоянках дневных!
Старший мальчик продолжал:
— А вот кривулинская рожь. Колос неплох, а солома — видите? Слабоватая. Случись посильнее ливень или град — и полегло все.
Кто-то сказал:
— Это они несортными семенами засеяли.
Он пожал плечами:
— Мы не знаем. А о своих наблюдениях доложим агроному. Пусть примет меры, чтобы и веткинские поля получили торф.
— И нам заодно подбросят.
— Правильно. На это мы и рассчитываем. А то некрасиво получается: имеем опытно-показательное поле, а результаты на нем хуже веткинских.
Тут моя девочка воспользовалась небольшой заминкой в разговоре и сказала:
— А мы с Клавой два колоса ветвистой ржи нашли.
Все заинтересовались:
— Ветвистой ржи? Любопытно! Где ж это?
— Пока секрет. Вот дождемся, чтобы вызрели, и в августе на своем участке высеем.
— Молодцы девчата. А колосья-те хоть крупные? По многу ли в них зерен?
— В одном сто девять, а в другом девяносто семь.
— Интересно. Только вы не прозевайте срезать вовремя.
— Нет. Мы уже бригадира предупредили.
— А может, это просто так… игра природы?
— Кто знает! А все же попробовать стоит.
— Обязательно высеем!
— А в теплице как у вас дела, девочки?
— Приди и посмотри. Вы тут занялись своим турниром шахматным и про виноград забыли.
— Завтра придем.
Такой разговор вели они в этой комнате, сойдясь тут вместе: и те, кто имел отцов и матерей, и те, кого судьба их лишила. Все они одинаково легко произносили: «Наш урожай, наше поле, наша рожь».
Да, все было ясно мне теперь до конца относительно того, что касалось жизни их колхозов. Больше тут нечего было узнавать. Оставалось позаботиться о том, чтобы не опоздать на пристань. И, не пытаясь даже заговорить со своей строгой девочкой, я направился к двери. Но в это время она сама сказала кому-то вполголоса:
— Это тот самый дяденька, который нам позавчера сказки рассказывал.
Тогда и я обернулся, чтобы сказать ей:
— А это, кажется, та самая девочка, которая не любит сказки?
Но она возразила:
— Неправда! Я люблю сказки. Я даже сама их сочиняю.
— Вот как! Она их сама сочиняет. А не расскажет ли нам она одну из своих собственных сказок?
И другие ребятишки поддержали меня:
— Да, да, Лена, расскажи! Мы тоже послушаем!
И Лена рассказала:
— Была песчаная пустыня, где все было горячо от солнца, а ветер поднимал песчаные вихри. Девочка посадила желудь. Он был слабый, беззащитный. Она поливала его, чтобы он не засох. Она охраняла его, чтобы весной его не унесло потоками воды и чтобы летом ветер не унес с песком. Когда пробился росток, она защищала его от мороза, суховея, от солнца и от ливней. Он вырос под ее защитой и превратился в большой, могучий дуб. С ним больше уже ничего не могли поделать ни солнце, ни ветер, ни ливни. Чем сильнее они обрушивались на него, тем сильнее он становился. Он закалялся под их напором. Видя это, они перенесли свой гнев на девочку. Ее им легко было бы смять. Но она пошла и встала около своего дуба. И он защитил ее от солнца, от ветра и грозы. С тех пор они не расставались. Вот. Это я сама сочинила.
Я сказал:
— Молодец. Очень хорошая сказка. Только странно, что дуб вырос, а девочка осталась девочкой.
И другие ребятишки мигом подхватили это:
— И верно! Как же так! Дуб рос, а девочка нет. Эх ты! Недодумала!
Лена моя смутилась немного и задумалась. Потом махнула рукой и сказала:
— Ничего. Я другую сказку придумаю, еще получше.
Да, она придумает, конечно. Это настоящая девочка.
Могла бы и у меня в скором времени появиться такая. Смелая, быстроглазая, с аккуратно перевязанными лентой косичками. Почему бы нет? И, думая об этом, я заторопился к пристани. Но часы уже показывали двадцать минут одиннадцатого. Это означало, что теплоход ушел. Ребятишки стали расходиться по домам. Пришлось и мне вернуться на ночлег.
И, вытянувшись на своей постели под легким летним одеялом, я подумал, что вот и одиннадцатый день моего отпуска кончился, не приблизив меня к моей женщине. Сколько же это могло так продолжаться?
И еще о чем-то должен был я подумать, прежде чем заснуть. О чем бы таком обязан я был еще подумать? Ах, да! О знаках дружбы русских к финнам советовал мне Иван Петрович не забывать. Но какие могли тут быть знаки дружбы, если меня вот уже три дня подряд не пускали к пристани? Стоило мне туда направиться, как меня немедленно тянули в другую сторону. Даже малые дети состояли тут у них в общем заговоре.
И сверх всего, где-то там, в глубине их непонятной России, затаился тот страшный Иван. Он зорко просматривал все дороги, готовый выловить меня оттуда своей железной рукой. И удайся ему это сделать — не было бы мне тогда от него пощады. Только Юсси Мурто, может быть, сумел бы оказать мне какую-то защиту, будь он здесь. Но он маячил где-то там, в пределах далекого севера, занятый своими непонятными мыслями. О чем он так упорно думал все время? И, обратив угрюмый взгляд к Ивану, он словно бы готовился что-то важное ему сказать. А тот ждал, тоже готовый к разговору. Но слова и на этот раз почему-то долго не шли с языка Мурто. Я так и заснул, не дождавшись их.
33
Наутро старшая хозяйка опять накормила меня пшеничными оладьями, а потом сказала:
— Василий Мироныч просил вас на собрание прийти, если пожелаете.
Я никуда, кроме пристани, не желал, но заявить ей об этом прямо постеснялся и потому спросил:
— На какое собрание?
Она пояснила:
— Общее собрание колхозников.
— А по какому случаю это собрание?
— Да как сказать… Разное там обсуждается. Когда как. Вот убрали сенцо — итоги подвести надо. Ну и всякие другие дела-заботы.
— А где это собрание?
— На церковном бугре у нас в погожий день принято собираться. Это близко тут.
— Знаю. Спасибо вам большое за все. До свиданья.
— На здоровье. К обеду не забудьте.
Быть у нее к обеду я уже не собирался. Идти на собрание тоже не собирался. Но тот бугор высился недалеко от деревни, а с бугра был удобный спуск на нижнюю дорогу, напрямик ведущую к пристани. Вспомнив это, я решил, что такой крюк мало удлинит мой путь к пристани, куда я мог не слишком торопиться, ибо до теплохода оступалось добрых два часа. А крюк начинался с боковой улицы, уже мне знакомой. В нее я и свернул, недолго думая.
Пройдя за огородами ближние хлебные поля, а вышел к церковному бугру и первым долгом стал присматриваться, где бы удобнее пристроиться так, чтобы меня заметил парторг, а потом без помехи спуститься вниз и уйти на пристань. Главное — чтобы меня заметил парторг. Пусть убедится, что я выполнил его просьбу — пришел на собрание. Не стоило огорчать его отказом. Как-никак он проявил немало заботы обо мне и потому не заслуживал обиды.
Людей на бугре собралось много. На скамейках все не поместились. Некоторые расположились на траве по обе стороны от скамеек. Некоторые стояли. Перед скамьями на четырех кольях, вбитых в землю, была укреплена широкая доска, служившая столиком. За этим столиком сидел парторг. Рядом с ним сидел видный собой мужчина средних лет в светлом костюме с галстуком. А по другую сторону от этого мужчины за тем же столом стоял маленький темно-коричневый от загара морщинистый человек в черном помятом пиджаке и говорил неторопливо глуховатым голосом:
— Не спорю, не спорю. Согласен. Я сам понимаю, что это отступление от указаний. Но меня избрали председателем не для того, чтобы я соблюдал интересы МТС в ущерб колхозным…
Тут видный собой мужчина поправил его:
— Интересы государства, а не МТС.
Тот согласился:
— Ну, пусть государства. А колхоз разве не государство? Я полагал, что и он имеет право на какие-то улучшения в своих делах. Добивался он их сам — чужого дядю на помощь не звал. Со своей основной задачей он, как вам известно, справляется. Госпоставки выполняет своевременно и даже с превышением. Разве это не главное, что от него требуется?
Видный мужчина сказал:
— Против этого никто не возражает. Но превращать колхоз в автономную республику тоже не следует.
Морщинистый человек возразил:
— А как же без самостоятельности? Без нее и думать разучишься. В конце концов, я крестьянин, а не государственный деятель. Я знаю землю — и только. Поручили мне организовать ее — и я в меру своих сил и умения способствовал этому. Из прошлого опыта своего единоличного знаю, что на одной культуре далеко не уедешь, — вот и добивался, чтобы сделать наше артельное хозяйство многоотраслевым. Таким оно и стало. Благодаря этому теперь нам все нипочем: ни засуха, ни дожди, ни заморозки. Не одно, так другое вывезет. По району мы на первое место вышли. Это хорошо или плохо? Или лучше быть отстающим, но зато выполняющим указания по использованию гостехники? На примере колхоза «Луч» мы видим, к чему это иногда приводит. Хлебнул он горя с этими механизаторами. Ведь они как работают? Есть горючее и запасные части — пашут. А нет — загорают. Им-то что? Не их забота хлеб государству сдавать. Зарплата идет — и ладно. А колхоз страдает. То план посева не выполнил, то с уборкой запоздал. А лошадка всегда под рукой. И, главное, своя. Как вздумал, так и распорядился ею. И поголовье сохраняешь по надобности. Но сверху виднее, что нам больше на пользу. И если надо — что ж. Выполним и это. К дисциплине нам не привыкать. Расстанемся с лошадками и заключим договор с МТС. И эти две новые культуры, предлагаемые нам, тоже внедрим. Только отвечать за последствия я лично уже не берусь, потому что дело это для меня непривычное. Придется вам другого назначить на мое место. Мои понятия о крестьянстве, я вижу, устарели. Пора их в архив, а меня в отставку.
Видный мужчина сказал:
— Ну, зачем же в отставку? Ваш опыт еще пригодится. Но председателю колхоза в наше время не мешает иметь кругозор пошире. Нельзя замыкаться в свой узкий мирок.
И опять морщинистый темнолицый человек возразил:
— Не сказал бы я, что этот мирок узкий. Но для меня и шесть деревень дай бог глазом охватить.
— То-то и оно.
Пока они так переговаривались, я обогнул бугор, обошел развалины церкви и, пройдя между сваленными на траву велосипедами, вышел к задним рядам сидящих на скамейках. Кое-кто заметил меня из тех, что сидели на траве по обе стороны от скамеек. Остальные показывали мне затылки: мужчины — стриженые или слегка заросшие, а женщины — пышноволосые или скрытые под шелковыми косынками разного цвета. Платья на женщинах тоже были больше шелковые, цветастые, а на мужчинах — светлые рубахи разных оттенков с открытыми воротами.
Парторг тоже заметил меня и, кивнув мне издали, шепнул что-то сидевшему с ним рядом за столиком видному мужчине. Тот разыскал меня взглядом и сказал темнолицему морщинистому человеку:
— Ну, хорошо. Это у нас вопрос, так сказать, семейный. Мы к нему потом вернемся, Продолжайте о своих делах. Я вас перебил.
И маленький темнолицый человек, поворошив на столе свои записки, принялся перечислять дела, которые им предстояло выполнить в ближайшее время. О делах выполненных он, должно быть, успел рассказать до моего прихода. А выполнить им предстояло немало: повторно прополоть капусту, свеклу, морковь, повторно пропахать картофель, распахать и подготовить землю под озимые посевы, выделить людей на добычу и подвозку торфа, подвести под крышу новую молочную ферму, заложить печь для обжига кирпичей. Когда он кончил говорить и сел, кто-то крикнул с места:
— Крупорушку в Чуркине починить надо!
И еще кто-то крикнул:
— А мельницу в Кривулях когда построим? Так и будем сюда ездить молоть? Или опять на ветряк переходить?
В ответ на это встал парторг. Он объяснил:
— К осени установим. Кое-что уже сделано, сами знаете. Материал для помещения подвезен. Электролинию подвели. Щиток с рубильником есть. Жернова — тоже. Дело за мотором, но его обещают не раньше сентября. А теперь разрешите мне сказать заодно несколько слов о тех, кто отличился на работе, о роли коммунистов и комсомольцев в борьбе за досрочное выполнение плана по сеноуборке, а также о беспартийных товарищах. Следует отметить, что коммунисты с честью оправдали свое высокое звание и всюду шли первыми на самые трудные участки. Не отставали от них и комсомольцы. Это благодаря им техника полностью была выведена в поле и действовала безотказно. Отлично поработали следующие товарищи…
Тут он перечислил около десяти мужских и женских имен, чем вызвал говор и оживление в рядах сидящих. Как видно, здесь очень чувствительно относились к его похвалам. Потом он заглянул в свои записки и перечислил еще имен пятнадцать, на которые в рядах сидящих отзывались восклицаниями веселые молодые голоса парней и девушек. Это были, надо думать, комсомольцы и комсомолки. Потом он сказал:
— Надо признать, что еще не все до конца поняли всю важность задачи, поставленной перед нами партией и народом. Но таких, к счастью, у нас насчитываются единицы. В основном наши люди работали с большим подъемом, борясь за выполнение взятых на себя обязательств. Многие выработали по полторы и даже по две нормы. И к этому их побуждало не только желание побольше заработать, а высокое, сознательное отношение к труду, стремление добиться наилучших показателей в работе. Они понимают, что общественное дело у нас — основа всего. Благодаря ему мы из года в год неуклонно растем и будем расти. В этом преимущество социалистического строя перед капиталистическим. Особенно хорошо потрудились в этом сезоне наши женщины, проявившие себя как на сенокосе, так и на прополке овощей. В засушливые дни они по своей инициативе организовали ручную поливку капусты и этим спасли положение.
Тут он принялся перечислять женские имена, вызвав этим новую волну говора и колыханье цветных косынок в рядах сидящих. От них он опять перешел к мужским именам, называя не только тех, кто работал в поле, но и строителей и заготовителей леса за рекой. Упомянул он также про тех двух стариков, которые очищали молотками церковные кирпичи. Оба старика сидели в первом ряду и похвалу приняли с достоинством, как должное. Упомянул он других стариков и старушек, что-то полезное сделавших. Упомянул изобретателя, соединявшего на их гумнах молотилки с веялками. Упомянул пастухов, доярок, свинарок, птичниц и коневодов. Упомянул садоводов, пробующих выращивать новые культуры. Упомянул пасечников и работников дома отдыха. Не забыл он похвалить и детей, помогающих взрослым в поле, в садах и на пасеке. Из них тоже кое-кто был здесь, устроившись на траве среди взрослых.
Я плохо слушал парторга, выбирая момент, когда можно будет незаметно отступить за развалины церкви и спуститься к нижней дороге, чтобы уйти по ней на пристань. Парторг меня видел — и ладно. Больше мне тут незачем было оставаться. А про их колхозные дела я уже все знал и теперь не улавливал в словах парторга ничего для себя нового. К тому же говорил он здесь почему-то другими словами, в которых не сквозила местная певучесть. Похоже было, будто он даже не говорил, а читал что-то длинное из газеты. А газеты я и сам умел читать. Но, когда я сделал к развалинам первые два-три шага, парторг сказал:
— Тут среди нас есть один финский товарищ, живущий временно в Советском Союзе. Он может нам порассказать кое-что о том мире, где каждый думает лишь о своей выгоде. — И, обратясь ко мне через головы сидящих, он сказал:
— Вот вы прожили у нас в колхозе три дня, товарищ Турханен, и повидали кое-что. Расскажите нам свои впечатления. Кстати, здесь присутствует наш секретарь райкома. Ему будет интересно услышать мнение о нашем колхозе со стороны.
И он кивнул на сидящего с ним рядом видного мужчину. Я остановился. Неудобно было после этого продолжать пятиться за развалины. Лица всего собрания обратились ко мне, и двести пар любопытствующих глаз принялись меня прощупывать вдоль и поперек. Я спросил парторга:
— А что я мог бы вам рассказать? Объясните, будьте добры, не откажите в сомнении.
Он сказал:
— Расскажите, что вам у нас понравилось и что нет.
— Все понравилось.
Так я ответил, помня, у кого находился в гостях и чей хлеб ел целых три дня. Но он возразил:
— Не может быть, чтобы все понравилось. У нас еще много недостатков и в хозяйстве, и в быту, и в самих людях.
— Я не заметил недостатков.
Это я сказал, все еще помня свое место у них, так радушно меня принявших. Тогда поднялся с места тот, кого парторг назвал секретарем райкома. Он оказался таким же рослым, как парторг, и на вид скорее моложе, чем старше. У парторга лицо было худощавое, обветренное, темное, и крупный нос облупился от солнца. А у секретаря райкома загар едва наметился на легком румянце щек, и все лицо было гладкое, без единой морщинки. Может быть, он и не был старше парторга, только держал себя солиднее, потому что занимал где-то там, в райкоме, повыше должность.
Я уже читал у них кое-что про секретарей райкомов и в книгах, и в газетах, и в журналах. По их книгам выходило, что это были умные и справедливые люди, умеющие при необходимости быстро и решительно искоренить зло там, где оно проявилось. Иногда, правда, он представлялся в их романах плохим человеком. Но это были очень редкие случаи. И во всех таких случаях с ним не менее решительно разделывался тогда секретарь обкома.
Обком — это, иначе говоря, областной комитет, а райком — это районный комитет. В них работают партийные люди. С ними всегда соседствуют областной Совет и районный Совет. В них не обязательно партийные люди. Но в них те, кто представляет собой Советскую власть. Моя женщина тоже представляла собой Советскую власть. Она была депутатом областного Совета. Ей подчинялся районный Совет, а районному — сельский. Это я уже знал. А вот кому подчинялся колхоз — этого я еще не установил.
В колхозе хозяином был председатель. Так мне до этой поры казалось. Он мог довести колхоз до такого состояния, когда все поля в нем зарастают бурьяном и кустарником. Он же мог привести колхоз к достатку и даже завести в нем дом отдыха. Почему один председатель разорял свой колхоз, а другой укреплял его — это для меня оставалось тайной. Знал я только одно: председатель был хозяином колхоза. Но вот я видел председателя, который сказал: «Назначайте вместо меня другого». Значит, была и над ним чья-то власть. Но чья? Он сказал: «Меня избрали», но не добавил к этому: «Избирайте вместо меня другого». Нет, он сказал: «Назначайте». Выходит, что одни могли его избрать, а другие — назначить. Отсюда следовало, что над председателем колхоза было по крайней мере два начальства. Но нуждается ли крестьянин в начальстве над собой? Разве не знает он сам, что и как выращивать на своей земле? Нуждается он только в том, чтобы ему не мешали. И без того есть над ним постоянный и неизбежный начальник — это тот, кто скупает его продукт.
34
Секретарь райкома не сразу со мной заговорил. Он сперва обдумал свои слова. Ему нельзя было не обдумать. Романы, повести, кинофильмы и пьесы сделали из него здесь, в России, человека, изрекающего только умные и серьезные вещи. Он знал это и потому не хотел показаться отклонением от нормы. В другом случае он, может быть, вел бы себя иначе. По молодости лет и избытку здоровья ему шло скорее быть веселым, подвижным, беспечным. И, может быть, в кругу своих близких он таким и был, смеясь, прыгая и валяя дурака. Но здесь на него выжидательно нацелились двести пар глаз, и это не давало ему права ронять свое достоинство перед заезжим-ти гостем. Поэтому он обдумал предварительно свои слова, а обдумав, обратился ко мне, стараясь говорить размеренно и внятно, чтобы я понял:
— Ну, хорошо. Допустим, что вам все понравилось. Допустим. В таком случае вы вот что нам расскажите. Расскажите вы нам, что стали бы вы делать, если бы эта земля вдруг стала вашей. Я понимаю, что допускать это нелепо. Но мы все же допустим. Наступил какой-то фантастический день — и вот эта земля стала вашей собственностью. Что вы стали бы на ней делать?
К такому вопросу требовались уточнения, и я спросил:
— Какая земля?
Он повел рукой вокруг:
— Хотя бы вот эта — бывшая корневская.
— А что в нее входило, в бывшую корневскую?
— Что входило? А вот смотрите. В этом направлении — все до реки. В том — сама деревня и все, что за ней, до кривулинской ветряной мельницы. Туда — до того двойного отдаленного холма. А здесь — до футбольного поля включительно. Обширные угодья, не правда ли? Так вот, как бы вы ими распорядились?
Тут опять надо было кое-что уточнить, и я спросил:
— Кто — мы?
Он пояснил:
— Вы — финны, разумеется.
— Какие финны?
— Ну, допустим, те, с которыми вы жили.
— С которыми я жил в одной деревне?
— Да.
— В Кивилааксо?
— Как вы сказали?
— Кивилааксо. Так называется наша деревня.
— А-а. Ну, ну… Вот и расскажите, что стали бы делать жители деревни Кивилааксо, получив эти угодья.
— Все пятеро?
— Ах, вас всего пятеро было в деревне?
— Нет, я был шестой, но я не имел земли.
— Вот и прекрасно. А здесь вы ее получили. Какую бы часть из всего этого вы пожелали бы себе выбрать?
Я посмотрел вокруг. А вокруг было далеко видно с этого бугра. Конечно, я пожелал бы выбрать все, что простиралось перед моими глазами по обе стороны реки до самого горизонта, залитое сверканием солнца. Но надо было помнить о других. И, вспомнив, я сказал:
— Трудно так сразу сообразить. Вот эту часть с родником и весь тот солнечный скат с пшеницей взял бы, конечно, Арви Сайтури. Кусок низины у реки он тоже взял бы себе, и ту лощину, где футбольное поле, — тоже, потому что стадо у него большое. Те два холма с рожью он тоже никому бы не уступил, а на этом бугре, где была церковь, построил бы себе дом. Он любит высоко селиться. С высоты ему удобнее высмотреть, где и что можно еще прибавить к своей земле.
— А кто такой этот Арви Сайтури?
— Это наш самый крепкий крестьянин.
— Зачем же ему, крепкому крестьянину, давать первому право выбора? Вы не давайте.
— Не давать? Ему? Арви Сайтури? Как же ему не дать? Он сам возьмет, если не дать.
— Хм… И все-таки не давайте. Вы по жребию распределите: кому что выпадет.
— По жребию? Все равно, и по жребию ему выпадет именно этот бугор и вся та земля, потому что такой он человек…
— Ничего. Допустим, что не выпадет. Допустим, что по жребию это достанется тому, кто победнее. Есть у вас в деревне бедняки?
— Есть. Ахти Ванхатакки.
— Как вы сказали?
— Ахти Ванхатакки. Это у нас одинокий старик. У него полтора гектара.
— Вот и хорошо. Пусть это достанется ему.
— Нет. Ему одному это будет много. Семейные должны получить больше. И мы поделили бы так, чтобы каждому досталось в меру луговой низины, лощины с лесом и пашни.
— Так, так. Значит, поделили бы? Очень хорошо. А потом что?
Говоря это, секретарь райкома многозначительно обвел взглядом всех сидящих перед ним, как бы приглашая их к вниманию. Те и без того внимательно слушали наш разговор, поворачивая лица то к нему, то ко мне. И, продолжая этот разговор, я ответил:
— А потом перегородили бы землю заборами, чтобы скот одного хозяина не ходил на участок другого.
— Перегородили бы заборами? Очень хорошо. А потом?
И говоря это, секретарь все лукавее обводил взглядом слушателей. Я ответил, пожав плечами:
— А потом стали бы жить.
— Стали бы жить? Великолепно. Каждый за своим забором?
— Да. А как же? За чужой забор нехорошо забираться.
Он совсем развеселился, оглядывая лица слушателей. И среди них тоже, судя по блеску зубов, появилось много улыбок. Секретарь помолчал, довольный этим. Вид у него был такой, будто он заранее предвидел, что наш разговор повернется к чему-то забавному. Но я не собирался давать им к тому повод. Я сказал:
— Жить мы, конечно, стали бы намного лучше, чем живете вы.
Он удивился.
— Вот как!
— Да. У нас эта земля давала бы хлеба вдвое больше, чем у вас.
— Это почему же?
— А потому, что у вашей земли нет хозяина. За ней некому присмотреть. А у нас она сразу попала бы в хозяйские руки.
— Позвольте! С чего это вы взяли, что у нас она без хозяина? Кто вам внушил такую чепуху?
— Никто. Я сам вижу. У настоящего хозяина не пропал бы даром ни один метр земли. Он всю ее прощупал бы руками, чтобы понять, чем она дышит и что может ему родить. А у вас даром пропадают многие десятки гектаров.
— Где пропадают?
— Везде. Вот, например, этот бугор. Когда-то здесь, вокруг церкви, был сад. Почти целый гектар сада. Это видно по остаткам пней и обломкам кустарников. Где хозяин этого сада? Нет у него хозяина. И потому нет сада.
Тут секретарь райкома партии поднял назидательно вверх указательный палец и сказал, обращаясь к собранию:
— Слыхали, товарищи? Это вам в упрек. Вам!
Люди слегка заволновались, переговариваясь между собой вполголоса. А я продолжал выкладывать свое, чтобы поубавить немного их улыбки:
— Не знаю, кому это в упрек, но и в других местах у вас тоже много пропадает земли. Это можно увидеть по всей вашей России. На пути сюда я слыхал разговор, из которого понял, что у вашего правительства есть намерение распахать где-то миллионы гектаров нетронутой земли. Сперва я не мог понять, о какой земле шла речь, но теперь понял. Я сам видел везде эти гектары, и у вас вижу. Вот, например, все эти обрывы и боковые скаты оврагов. Они ведь земляные, а не дают ничего, кроме сухой, мелкой травы. Но могли бы дать, если чуть срезать их вашими бульдозерами, а потом засадить садовыми деревьями и ягодными кустарниками. Теплицы можно построить на южных скатах и растить в них зимой огурцы и томаты. Москва от вас близко. На одних теплицах можно разбогатеть. Овраги в узких местах надо закрепить лесом, а в широких — распахать и засеять хлебом. Я видел, у вас там пасется скот. Непростительно устраивать пастбище там, где может быть пашня. И потом, у вас есть просто пустые земли, совсем ни к чему не приспособленные. Их можно видеть и справа и слева от дорог, на поворотах, на спусках, на задворках. Это небольшие куски, но вместе они тоже составляют гектары. Между пашней и краем обрыва тянутся полосы в два-три метра шириной. Они поросли травой, которую никто не косит, никто не съедает. Да, плохо, когда у земли нет хозяина.
— Да есть же у нее хозяин! Почему вы так упорствуете в своем утверждении?
Секретарь райкома даже ладонью хлопнул по столу, выкрикнув эти слова. И по шуму людского говора, по усмешкам, по выражению обращенных ко мне глаз я понял, что и собрание согласно с ним. Тогда я сказал:
— Не знаю. Может быть. Но если у нее и есть хозяин, то он где-то очень далеко и потому не может видеть, в каком невнимании находится его земля.
— В каком же невнимании, если мы первые в районе по урожайности!
Это крикнул, обернувшись ко мне, красивый загорелый парень в соломенной шляпе и в клетчатой рубашке без рукавов. Его поддержали девушки, женщины и другие парни, крикнув мне с разных мест:
— Мы и по трудодню первые!
— И по сдаче хлеба государству!
— И по общим доходам!
Они перечислили еще что-то насчет молока и мяса, но я не все понял. Когда они умолкли, я сказал парню в соломенной шляпе:
— Попробуйте бросить свою шляпу вот на ту рожь. Она сразу же провалится между колосьями на землю. А я вырастил бы на этой земле и под этим солнцем такую рожь, которая удержала бы вашу шляпу на верхушках колосьев. И не только шляпу. Я брошу на нее свой галстук — и он тоже останется наверху, на кончиках колосьев, потому что ему некуда будет провалиться. Между колосьями не найдется пустого места — так плотно и густо они у меня вырастут.
Я видел, что улыбок стало меньше на обращенных ко мне лицах. Как видно, мои слова оказали свое действие. Секретарь райкома спросил:
— Какими же средствами вы этого достигнете?
Ему вместо меня ответил с места какой-то сердитый, плохо выбритый и плохо причесанный мужчина:
— Известно, какими средствами: удобрений вбухал побольше — вот и достиг.
Я сказал:
— Дело не только в удобрениях. Без них никто не сеет.
Он проворчал:
— Сеют. Еще как сеют — дай только волю…
Звонкий детский голос подсказал ему:
— На Украине сеют! Там земля не нуждается в удобрениях!
Я всмотрелся и увидел сидящего на траве мальчика в коротких синих штанишках и в белой безрукавке. Это был тот самый, что возглавлял накануне вечером детскую компанию в их сельском музее. Он улыбнулся, встретив мой взгляд, и с довольным видом принял одобрительные кивки других деревенских мальчиков и девочек, сидевших с ним по соседству. У меня тоже мог в очень скором времени появиться такой же собственный мальчик, с таким же коротким, задорным носом и такими же густыми русыми волосами, еще не знающими, как им расположиться на голове: склоненными влево или вправо или оставаться торчащими во все стороны. И, обратясь к нему, к моему голосистому мальчику, так уверенно чувствующему себя в своей огромной семье, я сказал:
— Не знаю. Я не видел такой земли и, наверно, никогда в жизни не увижу. Для меня она — как сказка о царе Салтане, которую написал ваш Пушкин. Где-то там за тридевять земель, живет царь Гвидон, а волшебная белка нагрызает ему для казны изумруды и золото да еще песенки поет.
Люди заулыбались моим словам, а секретарь райкома спросил:
— Вы сказали, что дело не только в удобрениях. В чем же еще?
Я ответил:
— Это трудно объяснить. Конечно, можно сказать, что, кроме удобрений, земле нужны солнце и дождь. Но это не все. Земле нужно еще… как бы это сказать… земле нужна ласка. Ей, кроме солнца, нужно еще тепло человеческого сердца. Душу надо в нее вкладывать. Вот запахал человек что-то в землю — и заодно вложил в нее кусочек своего сердца. Запахал еще что-то — и опять кусочек вложил…
Меня прервала молодая женщина в цветастой косынке, крикнувшая с места:
— Этак все свое сердце разбросать недолго!
Я поправил ее:
— Не разбросать, а вложить с вниманием и любовью.
Но она возразила:
— Все равно. А от сердца-то что останется? Огрызок?
Я ответил:
— Нет. Придет время урожая — и сердце у крестьянина опять цельное, полное и горячее, готовое снова дарить и тратиться.
Я видел, что сидевший за столом темнолицый председатель кивнул несколько раз, как бы в одобрение моим словам. Он, должно быть, понял, что я хотел выразить, говоря о сердце. Парторг тоже смотрел на меня серьезно и задумчиво, подперев ладонями подбородок. Секретарь райкома продолжал стоять между ними, опираясь концами пальцев рук о стол и оглядывая внимательно лица людей, сидевших перед ним в сорок рядов на длинных скамейках, сделанных из толстых досок. Видно было, что разговор со мной он еще не считал законченным, но и другим тоже не препятствовал в него вторгаться. Что-то интересное для всего собрания готовился он, кажется, извлечь из этого разговора. Выждав, когда люди приумолкли, он опять обратился ко мне через их головы, задав такой вопрос:
— Итак, вы считаете, что мы в свой труд на земле не вкладываем сердца?
Я ответил:
— Да. Но это понятно. Отдавать свое сердце земле способен только ее хозяин. А у вашей земли хозяина нет.
Он рассмеялся, замотав головой вправо и влево, потом сказал:
— Вы неисправимы. Никак не желаете понять, что он здесь же присутствует, ее хозяин.
Я уже начал догадываться, что он сам и есть этот хозяин, но на всякий случай спросил:
— Где?
— Да вот же он — весь народ наш колхозный!
И он повел рукой в сторону собрания. Я помолчал немного. Что-то в этом роде мне уже доказывали в строительной бригаде. Но на деле это не всегда подтверждалось. Я помнил, как хозяин просыпанных новых гвоздей без сожаления прикрыл их навечно половицей. Мог ли так поступить подлинный хозяин? И еще помнил я, как вели себя некоторые молодые хозяйки товара в ленинградских магазинах. Они были хозяйками товара. Так мне объяснили. Но они не столько заботились о продаже своего товара, сколько о том, чтобы отвадить от своего магазина покупателей. Чем это можно было объяснить? Наверно, тем же, чем объяснялась небрежность этих людей к земле. Но как эта причина называлась? И тут меня опять осенила знакомая догадка, которую я и высказал секретарю райкома:
— Понимаю. Они просто не знают еще о своем хозяйском праве на эту землю. То есть они не знали. Но вот вы сказали им это — и теперь они будут знать.
Тут собрание грохнуло таким дружным смехом, что от его раскатистого звука едва не развалились остатки церковных стен. Я понял, что ошибся. Они знали. Но если знали, то какого дьявола прикидывались незнающими и относились к своей земле будто к чужой? А смеяться над моими словами так ли уж было обязательно? С тем же правом и я мог бы посмеяться над их словами и даже над их смехом. Скрывая досаду, я сказал:
— Нет. Вы меня не убедили, простите в самообладании. Я жил у вас три дня и видел все. По-хозяйски вы ведете себя только на приусадебных участках, а не на полях.
Тут поднял руку парторг. Он сказал:
— Так ли это? Два дня назад вы были на сенокосе. Разве люди там плохо работали?
Я ответил:
— Они пели на работе. Кто по-настоящему работает, тому не до песни.
Я заметил на некоторых лицах усмешки, А парторг сказал:
— Но ведь они за три дня убрали на той огромной низине все сено. Это по-хозяйски или нет?
На это я не ответил, но сказал:
— В том доме, куда вы меня устроили на ночлег, молодая хозяйка по утрам всегда ждет стука в окно. Ей стукнут в окно и скажут: «Собираться у бригадира!» или: «Машина ждет у конторы!». И тогда она идет. Но если ее не позовут, она ведь не пойдет? Так? Если даже на полях все будет гибнуть, она не пойдет, потому что ей дела нет до того, что творится на полях, где растут не ее хлеба. А на свой огород она идет без всякого зова, даже вечером, уже усталая, и там работает потом до полной темноты. Из этого видно, где она подлинная хозяйка.
Люди зашумели и заволновались после этих моих слов. Может быть, среди них сидела также молодая хозяйка моего ночлега. Но я не слыхал ее голоса. Ответил мне темнолицый председатель. Он сказал негромко и мягко:
— А как, по-вашему, людям собираться на работу? Вразброд? Ведь работка-то общественная, артельная. За нее дружно надо приниматься — всем сообща. Не выйдет этак — чтобы не собираться. Иному звену или бригаде на дальний участок надо. Их машина всех вместе должна доставить, а не по одному. Как же не позвать и не собрать? А относительно безразличия к общественному добру — это вы напрасно. Это вам показалось. Не так вы смотрели. Предвзято смотрели. Вот поживете у нас недельку-другую — и научитесь все видеть правильно. И свою молодую хозяйку лучше разглядите. Кстати, она у нас одна из самых передовых колхозниц. Полторы-две нормы ежедневно выполняет на полевых работах. И никакого различия не делает между общественным и личным. А что на своем огороде до темноты копается — так это по инерции. Привыкли люди к своим личным садам и огородам. Но уже отвыкают некоторые. Картошку, капусту не сажают. Не стало в этом нужды. Овощами теперь колхоз может обеспечить. А приусадебные участки под цветы разве останутся или под фрукты редкостные, кто с ними возиться любит.
Он очень мягко и терпеливо все это мне объяснил своим негромким, глуховатым голосом, и я не стал с ним спорить. Конечно, я мог сказать ему кое-что, но зачем? Как-никак я три дня был гостем в его колхозе. Не стоило его огорчать. И без того он уже был чем-то огорчен. Однако последнее слово в этом разговоре я все же хотел оставить за собой, а не за ними, которые смеялись. Зачем они смеялись? Я, может быть, во многом согласился бы с ними и на этом кончил бы свой разговор. Но зачем они смеялись? Я сказал:
— Да. Может быть. Но ваш колхоз, как здесь было сказано, один такой на весь район. На ваших полях все-таки кое-что вырастает, из чего вы можете уделять продукты за работу своим людям. Вырастает, конечно, мало, как на всякой земле, которая без хозяина. И много земли у вас пустует по той же причине. Но я видел недавно колхоз, где вся земля пустует, кроме огородов. Огороды там выглядели, как райские сады, а поля заросли бурьяном и кустарником. Там вы не сказали бы, что у полей есть хозяин. Или тоже сказали бы?
Этот вопрос я задал секретарю райкома, которому, как видно, не терпелось повернуть разговор со мной к чему-то интересному. И он ответил:
— Да. Непременно сказал бы, потому что хозяин там действительно есть, как и в любом другом колхозе. Но все дело, очевидно, в том, что руководитель попался нерадивый.
— А зачем хозяину руководитель?
— Странный вопрос. Как же без руководителя при таких грандиозных масштабах производства?
— Хозяин сам знает как.
— Но допустим, что он еще не знает.
— Значит, он не хозяин.
— А вы бы знали, как действовать, если бы вас призвали руководить таким огромным хозяйством? Вот вы пришли и увидели, что все поля в запустении. Как бы вы поступили в данном случае?
— Очень просто. Я сказал бы владельцам приусадебных участков: «Передвиньте свои заборы от ваших участков к тому лесу». Они передвинули бы, и через два-три года все это пространство тоже зацвело бы и наполнилось жизнью, как их прежние крохотные участки. Если они умели показать себя настоящими хозяевами земли на этих участках, то и на крупной земле стали бы хозяевами. И не осталось бы больше пустырей. Каждый сантиметр земли давал бы плод, потому что у земли объявился бы хозяин.
Секретарь райкома покачал головой и сказал:
— Нет, мы не можем пойти на то, чтобы снова отдать государственную землю в частные руки. Для нас это было бы шагом назад.
Я спросил:
— Разве земля после этого ушла бы из государства?
Он ответил:
— Все равно, это не выход. Допустить в нашей социалистической стране частное владение землей — значит опять создать в ней зародыши капитализма.
— Разве от этого изменится в стране ваша Советская власть?
— Конечно. Появятся и у нас такие, как ваш Арви Сайтури. Опять начнут пробуждаться в народе частнособственнические инстинкты.
— А это что значит, не откажите в непонимании?
— А это значит, что нарушится дух коллективизма, в котором наш народ воспитан.
— Я этого не понимаю, не примите за вежливость, пожалуйста. По-моему, самый хороший дух — это тот, при котором не остается сиротой земля, при котором из нее умеют с избытком извлекать все, что только она способна родить.
— Нет, вы не совсем правы. Сперва необходимо установить дух справедливого распределения продуктов земли, а как снимать с нее богатые урожаи — этому можно успеть научиться и потом.
— Не знаю. Я сперва хотел бы получить в руки то, что предстоит разделить, а потом бы уж стал думать, как это делить.
— А вы уверены, что произвели бы раздел по справедливости, заполучив это в руки?
— Почему бы нет? Вашу землю, например, мы разделили бы по справедливости.
— Допустим. Ну, хорошо. Вот вы огородили ее заборами. А дальше как? В каком направлении потекла бы ваша жизнь?
— В каком направлении? Не знаю. У всех людей жизнь течет в одном направлении — к смерти. Но мы постарались бы успеть взять от нее побольше. Построили бы красивые двухэтажные дома. Завели бы внутри красивую мебель, приемники, телевизоры. Поставили бы пианино, рояли, на которых наши дети учились бы играть. Вокруг наших домов раскинулись бы огромные сады и цветники. В гаражах наших стояли бы новые легковые машины, на которых мы иногда ездили бы вокруг света. Под навесами у нас было бы все заполнено разными механизмами для обработки земли. В теплицах наших круглый год росли бы южные плоды. В холодильниках, погребах и амбарах всегда хранились бы все виды продуктов. Конечно, все это появилось бы не сразу. Пришлось бы сперва очень много поработать и днями и ночами, не жалея сил.
Тут парень в соломенной шляпе крикнул:
— А мы не ломая хребтов к этому придем!
Я сказал:
— Может быть. Но когда? Уже давно было пора прийти. Вот у вас всего только два года назад появились арбузы и виноград. А у нас на этой земле и под этим солнцем они появились бы полсотни лет назад. Вы объединились, чтобы лучше жить, и длится это у вас уже четверть века, но только в этом году у вас появился дом отдыха — один на шесть деревень.
Тот же парень крикнул:
— А вы бы много их понастроили?
Я не сразу ответил. Конечно, мы не выстроили бы ни одного дома отдыха. Это я знал точно. Но зачем стал бы я это им говорить? Чтобы опять вызвать смех? И без того много было смеха. Я сказал:
— Для крестьянина в земле — вся отрада жизни. К ней он привязан всеми своими жилами. Он с ней — одно. Земля без него — пустое место, и он без нее — никто. Живет она — и он живет. Цветет она — и он тоже цветет и царствует. В земле вся его жизнь. Значит, в ней и отдых его тоже. Так зачем же ему где-то в отдалении от своей земли, от своего дома строить еще какой-то дом отдыха?
— А для нас в ней не вся жизнь?
Это сказал своим глуховатым голосом темнолицый худощавый председатель. Ему я не хотел говорить неприятные вещи. Он, кажется, понимал в земле больше других, насколько я это заметил. Но ведь и он улыбался, когда смеялись все другие. Зачем он улыбался? Я сказал:
— Нет, не вся. Вы проводите на ней только восемь или десять часов в сутки. И первые ваши мысли не о работе на ней, а об отдыхе. Значит, для вас земля — не вся жизнь. Другое дело, если бы у нее был хозяин…
Председатель перебил меня, сказав с улыбкой:
— Если бы первые наши мысли были об отдыхе, то кто за нас выполнял бы государственный план по хлебосдаче? Кто наполнил бы зерном и овощами наши хранилища?
Я ответил:
— Мы на этой земле и под этим солнцем дали бы государству без всякого плана вдвое больше того, что даете вы, и себе оставили бы для продажи тоже вдвое больше.
— Мы не нуждаемся в продаже. Товары сдаем государству.
Это сказал секретарь райкома, которому все еще хотелось повернуть разговор со мной к чему-то интересному для всех. Но я не собирался ему в этом способствовать. Ведь и он был причастен к смеху. Поэтому я ответил:
— Может быть. До сих пор я думал, что в продаже своих продуктов не нуждался только крестьянин средних веков, который производил их так мало, что у него ничего не оставалось для продажи. Теперь такой крестьянин в любом государстве — только помеха. Теперь любому государству нужен такой крестьянин, который один может прокормить двадцать или даже тридцать городских семей. Но для этого нужно, чтобы такой крестьянин был хозяином земли. А у вас это никогда не получится, потому что у вашей земли нет хозяина.
Вот что я им ответил, чтобы знали, как смеяться некстати. Но они опять все дружно рассмеялись. Ладно. Пусть. Не меня касался этот смех. Касался он их самих, если уж на то пошло. Только они не сознавали этого. Секретарь райкома спросил меня:
— Итак, вы беретесь на этой земле обеспечить продуктами питания двадцать городских семейств?
Я ответил:
— Да. А может быть, и тридцать.
— А вы уверены, что остальные пять хозяйств тоже справились бы с такой задачей, то есть прокормили бы по тридцать семейств каждое?
— Да…
— И даже этот… как его… Ахти?..
Он произнес имя Ахти Ванхатакки с ударением на последнем слоге. Получилось русское слово «ахти», которое у них в прежние времена произносили обыкновенно в деревне при какой-нибудь беде, вроде того, как если бы человек воскликнул: «Ах я, несчастный, какая напасть на меня свалилась!» или «Ой, горе мне!». Я ответил:
— Да. И он тоже. А почему бы нет?
— Но ведь он старый и одинокий человек, вы сказали.
Я подумал немного. Действительно, от Ахти Ванхатакки не приходилось ожидать подобных успехов. Но ведь не мог же я это перед ним признать после их смеха. Я сказал:
— Ничего. Его доля земли тоже не осталась бы пустой. Кто-нибудь помог бы ему с ней справиться.
— То есть он взял бы себе работников?
— Нет, пожалуй. Работниками надо уметь распорядиться, а у него к этому нет способностей. Ему помог бы его хороший сосед Пентти Турунен. Хотя нет. Пентти тоже стар и к тому же потерял руку на войне. В хозяйстве только он и жена. Но на такую землю к нему вернулись бы из города обе его дочки. И на такой земле у его дочек очень скоро появились бы мужья. Сейчас у них пока еще нет мужей, но на такой земле они обязательно появились бы.
— И эти мужья наконец помогли бы вашему Ахти обработать землю? А до того она пребывала бы в запустении?
Нет, зачем? Он мог бы какую-то долю своей земли сдать кому-нибудь из нас в аренду. Да что я говорю: «Мог бы». Он бы непременно сдал, и не кому-нибудь, а одному-единственному. И этот единственный был бы Арви Сайтури. Да что я говорю: «Сдал бы». Не сдал бы он. Тот просто сам взял бы у него в аренду часть земли по своему выбору или купил бы. Скорее всего купил бы. Не знаю, как там насчет уплаты за землю. С уплатой денег Арви Сайтури никогда не любил торопиться. Но земля Ахти очень скоро перешла бы к нему вся. Это можно вперед сказать. Сперва он взял бы у него, наверно, вот эти два склона и низину между ними, а потом тот холм с обрывом и родник. Подобрался бы он, конечно, и к этому бугру. Разве он мог бы оставить без внимания такой богатый бугор? Сюда он перенес бы свой дом и окружил бы его садом. А с этого бугра он стал бы очень хорошо видеть и наши земли. Он видел бы их каждый день с утра до вечера. А он не может спокойно видеть чужую землю. В конце концов он сказал бы нам, что Ванхатакки был обделен при разделе и что кое-где заборы нужно передвинуть в его пользу. Но на самом деле он передвигал бы заборы в свою пользу. А после смерти старого Ахти он прибрал бы к рукам последний клочок его земли вместе с домом. И тогда его соседями остались бы мы четверо: Ууно, Оскари, Турунен и я. Не знаю, с кого бы из нас он после этого начал. Но можно сказать заранее, что Ууно и Оскари никак бы ему не поддались. Это дельные ребята, и они сами умеют крепко держаться за землю. При случае они просто дали бы ему по зубам. Но от меня и Турунена он бы не так скоро отцепился. Он знает, что мы не любим ссоры и хотели бы жить спокойно. На этом он бы играл. Он бы не давал нам жить спокойно, доказывая то одно, то другое насчет заборов. Конечно, Пентти тоже не остался бы при таких условиях смирным. Он и за нож мог бы взяться. Ради такой земли не грех и самому озвереть. Но ведь и Арви Сайтури умеет браться за нож. Турунену пришлось бы туго без дочерей с их мужьями. Но если бы они все у него объявились, то против Арви остался бы один я. Ко мне обратились бы его жадные глазные щели. Он повадился бы ко мне — высматривать, вынюхивать. Потом как-нибудь мимоходом сказал бы, что поможет мне распахать… ну, хотя бы тот холм. Просто так поможет, по-соседски. Ему удобно это сделать, потому что холм слегка вдается в его землю. Он скажет своим работникам, чтобы они, не сворачивая, прямо вели через него трактор с плугами. И холм будет распахан и засеян. Только урожай с него уже сниму не я. А когда я напомню ему про свой холм, он удивится и долго будет вспоминать, чьим он был год назад, этот холм. Потом он спросит меня удивленно, точно ли я был в той компании, которая получала здесь землю, и есть ли у меня на это документ. Он возьмет у меня документ временно, для сверки со своим документом, и, конечно, забудет вернуть. Потом он удивится, что мне, одинокому человеку, дали столько земли, и скажет, что это неправильно, когда рядом есть семейные. И опять он спросит меня с подозрением, не пристроился ли я к этой земле после и есть ли у меня на нее документ? А когда я начну ему доказывать и спорить с ним, он для примирения попросит сдать ему что-нибудь на год в аренду, например тот южный склон и прилегающую к нему луговину. Назад я это уже не получу, а в судебных делах он знает столько хитростей, что лучше с ним не связываться. Потом у меня вдруг среди зимы сгорит сарай с сеном, а летом я найду в поле с переломанными передними ногами свою лошадь и выловлю из реки свою корову, утонувшую там по неведомой причине. Но в конце концов я не пропаду. Уходить с насиженных мест мне не привыкать. А плотники везде требуются. Да и чужую землю пахать я тоже еще не разучился.
Такое я им рассказал, оглядывая с высоты раскинувшиеся вокруг меня заманчивые просторы. То есть я скорее себе это рассказывал, а не им. Я стоял и раздумывал, произнося свои мысли вслух, и совсем забыл, что мои слова ловит целое собрание людей. Конечно, для них надо было иначе все рассказать. Для них надо было рассказать, как мы преобразили бы эту землю, заставив ее давать впятеро больше того, что она давала у них. Но я вспомнил, что среди нас, по условию, должен был здесь поселиться также Арви Сайтури. А я знаю, что такое Арви Сайтури. И, зная, что такое Арви Сайтури, я представил себе, как развернулись бы у нас дела при его добром соседстве. Именно так они развернулись бы, а не иначе. Но я для себя это представлял, а не для них. Им не обязательно было это знать. Зачем я им рассказал? Не стоило им об этом рассказывать. А секретарь райкома сразу же уцепился за мой рассказ, чтобы доказать им что-то свое. Он сказал:
— Вот видите, товарищи, к чему приводит капиталистический способ ведения хозяйства. Видите, как безотрадна картина, нарисованная здесь человеком, прибывшим из другого мира, где главным двигателем жизни является стремление к личной наживе. Это лишний раз подтверждает правильность избранного нами пути. Наш, социалистический путь развития хозяйства открывает перед нами безграничные возможности в подъеме человеческого благосостояния без ущемления интересов одних людей другими людьми.
Так примерно разъяснил он своему собранию суть мною сказанного. И, говоря это, он повторял, как видно, привычные для себя слова. Но такие слова я уже встречал у них в газетах и слыхал по радио. Для меня они тоже стали здесь привычными. И пусть эти слова таили в себе какую-то правильность, но не ими было меня в чем-то убеждать. Когда секретарь умолк, я сказал:
— Все равно отдельный хозяин добывает из земли больше вас.
Он помолчал немного, вглядываясь в меня внимательно. Должно быть, его удивило мое упрямство, и он пытался угадать, чем оно вызвано. Не знаю, удалось ли ему это угадать, но он сказал, подумав:
— Да, это так. Отдельный хозяин добивается иногда большей производительности на своей земле, чем отдельный колхозник на земле колхозной. Это мы признаем. Но в том-то и заключается наша задача, чтобы научить колхозника работать с такой же отдачей на благо общества, с какой единоличник работает на себя.
Я спросил:
— А разве работа единоличника не идет на благо всего общества?
Он опять помолчал немного, потом покачал головой и сказал с улыбкой:
— Дорогой наш финский гость. Я понимаю ваше непременное желание найти объяснение многим нашим неустройствам, как хозяйственным и бытовым, так и духовным. Но, ей-богу, мы видим их сами и всеми силами стремимся их устранить. Однако процесс этот будет нелегким и длительным. Слишком крепко засел в крестьянине себялюбец-собственник. Впитывалось это в него многими веками и, естественно, не может быть изгнано за два-три десятка лет.
Я сказал:
— А может быть, и не обязательно ломать его природу?
Но он ответил:
— Обязательно. То новое и светлое, что мы строим, требует честного и осмысленного к себе отношения. Негоже нам использовать при этом низменное стремление человека к личному обогащению и наживе.
— А кто вас обязал это новое строить?
— Кто обязал? История обязала.
— Ах, так. Строгая она у вас оказалась.
— Да, с характером старушка. Как и у вас.
— Ну, наша не будет нас торопить объединяться.
— Не надейтесь. Все мы к этому придем. Когда-то люди жили семьями и родами, разбросанные по всей земле. Тогда они тоже, наверно, думали, что так будет вечно. Но пришло время — и они объединились в племена. А племена затем составили народы. А из народов сложились нации. Пройдет еще несколько столетий — и нации сольются в единую общечеловеческую семью. Это неизбежно.
— Может быть. Но и тогда крестьянину надо позволить работать на своей земле, если эта общечеловеческая семья не захочет погибнуть голодной смертью.
— Нет, это не выйдет.
— Почему?
— О, по очень многим причинам. Хотя бы по такой, например. Ваши ученые подсчитали, что если человечество будет множиться нынешними темпами, то через сорок лет население земли удвоится. А еще через шестьсот лет оно увеличится настолько, что на каждого человека придется только по одному квадратному метру суши. Посудите сами, возможна ли будет при этом частная собственность? Это ваши западные ученые так подсчитали. Мы не присоединяемся к этому странному подсчету. Но мы пытаемся осуществить уже теперь то, к чему рано или поздно придут все другие народы. И только одно нам еще осталось преодолеть — это научить человека находить радость в коллективном труде, в труде на общее благо. И в конце концов мы добьемся и этого. Пусть несовершенно наше поколение. Может, не без пятен будет и следующее, и даже несколько ближайших к нам. Но наступит время — и явится на землю такое поколение, для которого те нормы жизни, о коих мы только еще мечтаем, станут органической потребностью. А все иные нормы способны привести лишь к тем печальным результатам, которые даже вы здесь так убедительно и красочно представили.
Вот к чему он привел опять этот разговор, используя все мною сказанное. К словам, взятым из газет, он, оказывается, умел при случае добавить кое-что другое, против чего трудно было найти сразу какие-то доводы. Недаром он звался секретарем райкома. Ухватившись за мои предположения относительно действий Арви Сайтури, он превратил это в политику, доказав людям то, на что нацелился, как видно, с самого начала.
35
Но я совсем не то собирался им доказать. Я собирался им доказать, что в наших руках эта земля стала бы богаче и плодовитее, чем она была у них. И я бы это им непременно доказал, не будь к нашей компании причислен Арви Сайтури. Но не мог же я сделать вид, что его нет, если мы условились, что он есть. А если он среди нас был, то не могли наши дела на этих полях пойти так, будто его не было. И я не имел права дать им какое-то другое направление даже в мыслях. Но зачем я произносил эти мысли вслух? Все повернулось наоборот в их представлении оттого, что я раздумывал об этом вслух. И, чтобы как-то исправить свой промах, я спросил секретаря райкома:
— А как развернулись бы дела у вас, если бы вы тоже поделили между собой эту землю?
Он не понял меня и переспросил:
— То есть как — поделили бы?
Я пояснил:
— А так. Распустили бы свой колхоз и опять вернулись бы к прежним временам, когда у каждого хозяина была своя земля.
Все рассмеялись после этих моих слов. Секретарь тоже посмеялся немного и потом сказал:
— Вы простите нас за этот невольный смех. Но вообразить себе столь несуразную картину для нас теперь действительно забавно. Было бы просто дико нам, опередившим на целую эпоху западный мир, начать вдруг ни с того ни с сего такое движение вспять. Нет, это исключено. Как цыпленок, выбравшийся из скорлупы, не может быть втиснут в нее обратно, так и мы навеки расстались с тесной скорлупой частного владения землей.
Такой довод он мне привел, отведя мою попытку взять над ним в разговоре верх. Но их смех все еще сверлил мне уши, и я сказал:
— Я понимаю, что это дико. Но и для нас получить вашу землю — дико. Однако я попробовал это представить. Попробуйте и вы, не откажите в несообразности, Пожалуйста.
Он развел руками и ответил с улыбкой:
— Ну, хорошо. Допустим невероятное, если вам это желательно. Поделили мы землю и возвели заборы. Но вот этот человек, например, никак не сможет прожить без того человека. Они привыкли вместе думать, решать, делиться опытом. Пройдет сколько-то времени после раздела, и они снесут разделяющий их забор, чтобы опять сходиться вместе и соображать вдвоем. То же самое я могу сказать о многих других. Наши люди не привыкли уединяться по закутам. Их непременно опять потянет к общению. Работать на полях врозь они уже давно отвыкли. И не только на полях. Возьмем, к примеру, нашего почтенного садовника Анисима Федоровича. Разве он согласится остаться один в саду, который сам когда-то насадил для себя? Он затоскует без людей, потому что ему не терпится передать свой многолетний опыт возможно большему количеству молодых садоводов. А кузнец разве согласится уединиться в своей кузнице? А пасечник — на пасеке? Даже наш дед Евграф скажет: «Это что ж такое сотворилось, желанные? Для чего ж я кирпичи готовил? На загородки, что ли? Я же для новой жизни их готовил, для дворца культуры, в котором и мне тоже хотелось заполучить свое местечко. И вдруг на тебе: опять все к старому повернулось. А я им и так по горло сыт, старым-ти». А наши молодые новаторы и рационализаторы? Разве они усидят в индивидуальных загородках, не делясь друг с другом своими мечтами и планами? Нет, у нас заборы недолго продержатся. Пройдет неделя-другая — и они полетят в стороны один за другим.
Я спросил:
— И ни один из вас не пожелает остаться на своей земле?
Какой-то встрепанный парень из тех, что лежали на траве, крикнул:
— Я останусь! Я не вернусь! Не желаю, чтобы надо мной бригадир стоял. Самостоятельности хочу!
Но ему в ответ крикнули из разных мест:
— Куда тебе самостоятельность? Пропадешь ты с ней! Разбазаришь все и сопьешься. Заткнись-ка лучше!
Я спросил секретаря райкома:
— А таких, как Арви Сайтури, у вас разве не окажется?
Он пожал плечами:
— Кто знает. Какие-то отдельные черточки, близкие вашему Арви, возможно, и проявятся у кой-кого. Кто-то, может быть, попытается применить его ухватки. Но из этого ничего не выйдет. Против него дружно встанут все остальные, привыкшие во всем действовать сообща. И от нашего новоиспеченного Арви останется только мокрое место. Это я говорю в отношении людей среднего возраста. А про этих и говорить нечего. — Он кивнул в ту сторону, где скопились молодые люди, и добавил: — Попробуйте разъединить их заборами. Напрасно только время потеряете. Они даже не поймут, для чего это делается. Вот почему самый разговор на эту тему лишен реальной почвы.
Я окинул взглядом все эти безмятежные молодые загорелые лица, обращенные ко мне с веселым лукавством, и подумал, что, пожалуй, так оно и было. Пытаться им втолковать, что они выбрали в жизни не ту дорогу, — напрасный труд. Все мною увиденное и услышанное у них за три дня подкрепляло это мнение. Да, пожалуй, не имело смысла открывать еще раз по этому поводу рот.
Но тогда выходило, что не за мной осталось последнее слово, а за ним, за секретарем райкома. Он с самого начала повел разговор по какой-то своей линии, чтобы этого добиться. Его перебивали, меня перебивали. Он этому не препятствовал, но снова выводил разговор к тому, что наметил. И он, кажется, доказал намеченное. Ну и ладно. Пусть доказал. Я ничего не имел против его доказательства. Я, может быть, сам прибавил бы что-нибудь к его доказательству. Но зачем они так откровенно смеялись? Могли бы чуть вежливее смеяться. И я сказал им всем, смотревшим на меня с любезной снисходительностью:
— Нет, что-то у вас все-таки не так, простите в солидарности. Когда строят что-нибудь новое, то знают, на чем строят. Нижнее должно быть крепче и плотнее, чем верхнее. А ваше нижнее — где оно, и что оно такое? Его трудно увидеть, потрогать, назвать.
Ответил мне опять секретарь:
— Почему трудно назвать? Строится наше новое на незыблемой основе марксистско-ленинской науки. А насколько эта основа прочная — показал опыт. Многие пытались ее не только потрогать, но и расшатать, свалить, срыть с лица земли. Где они теперь, те, кто пытался? Они сами исчезли с лица земли. А мы живем и продолжаем расти.
Так ответил мне секретарь райкома, вызвав новые снисходительные усмешки по моему адресу среди сидящих. Я сказал:
— Не знаю. Может быть, они не с той стороны расшатывали.
И на эти мои слова тоже был смех. Секретарь сказал:
— Не думаю. Прежде чем решиться на такую операцию, они очень тщательно изучили все наши слабые места и нацелились на самое слабое, по их мнению. Но даже это не помогло.
Я ответил:
— Они просто не сумели разглядеть. Они издали смотрели и потому ошиблись. А вот я смотрю близко и вижу, где вас можно пошатнуть.
И опять по собранию прошел смех. Секретарь спросил под этот смех:
— Не подскажете ли нам, где вы заметили у нас это слабое место, на тот случай, если нам опять будет грозить нашествие злых сил?
И я ответил под общий смех:
— Нет, не подскажу. Я сам хочу вас завоевать и потому приберегу это место для себя. Но у вас много других слабых мест. Одно ваше слабое место в том, что вы все время как бы живете где-то на верхнем этаже. Оттуда далеко видно. А даль всегда красива. И вот вы любуетесь на эту даль, забывая перегнуться через подоконник и посмотреть, на чем держится этот верхний этаж и что окружает его основу. Вы близкое разучились видеть, настроив свои глаза на горизонт. А горизонт — это коварная линия. Она непременно отодвинется от вас, когда вы к ней приблизитесь.
— Так, по-вашему, мы возвели свой верхний этаж на воздухе? Кто же за нас определил прочность грунта, замесил бетон, заложил фундамент и выстроил первые этажи? Или мы строили, сами не ведая, что делаем?
Так он мне ответил, и опять по собранию прокатился смех. Но не довольно ли было смеха? Я сказал:
— Не знаю, на чем вы держитесь и почему держитесь вообще. Не знаю, почему вы все еще живы, почему здоровы, румяны, молоды и сильны. Вам давно пора лежать при последнем издыхании, а вы еще почему-то живете.
Я сказал это, и в ответ опять громыхнул смех. Секретарь спросил, сам продолжая смеяться:
— Что вас привело к такому выводу? Не скажете ли нам, если это, разумеется, не секрет?
Я сказал:
— Нет, это не секрет. У вас нет в жизни того, что толкает человека к делу. Чем движется ваша жизнь? Что заставляет вас иногда хоть немного поработать? Непонятно что. Поэтому трудно разобрать, где у вас работа, а где игра с песней. И поэтому вы работаете только в четверть силы. А работая в четверть силы, вы все время что-то недоделываете и все время как бы забираете откуда-то в долг. Что-то недодала земля, что-то недодала торговля — и получился долг, который покрывается неизвестно откуда. И так из года в год. Ваша торговля совсем никуда не годится, и непонятно, на чем она держится. Зайдите в магазин у нас в Хельсинки. Там с вами обойдутся вежливо и внимательно, несмотря на то, что вы воевали с нами. Там вы обязательно получите нужный вам товар, а когда дома его развернете, то найдете в упаковке записку, где будет сказано: «Надеемся, что наш товар вам понравился. Просим вас и впредь быть покупателем нашего магазина». А у вас в такой записке будет сказано: «Надеемся, что вы никогда больше не появитесь в нашем магазине и оставите нас в покое».
Собрание опять грохнуло смехом, и это было странно. Над чем же они смеялись? Я сказал:
— Но у вас даже записку поленятся вложить в упаковку. У вас даже упаковки на товаре не будет и даже самого товара. У вас просто отвернутся за прилавком от покупателя, выжидая, когда он выйдет из магазина. С такой торговлей вам давно пришла пора начисто разориться, закрыть ее и пригласить к себе умеющих торговать из других стран.
Опять мои слова покрыл смех. А секретарь райкома сказал:
— Однако мы не разоряемся и не закрываемся. Торговый оборот в нашей стране из года в год увеличивается. Экономика крепнет и развивается. Уровень жизни населения растет как никогда. Чем вы это объясните?
Я ответил:
— Очень просто. Где-то у вас есть большая центральная казна, в которой скопились богатства еще с тех времен, когда у вас в России умели кое-где работать в полную силу. За счет этих накоплений и покрывались нехватки вашей теперешней работы и вашей теперешней торговли. Но разве может без конца такое длиться, когда затраты есть, а поступлений нет? Вместо них все новые и новые долги. Нет, оно не может без конца длиться. Оно длилось до этого года. И вот наступил конец. Запасы в вашей главной казне на исходе. И в будущем году уже никто не покроет недоработанное вами на земле и в торговле. В будущем году вы окажетесь в долгу у самих себя. Наступит крах. И только какое-нибудь чудо может вас еще спасти. Не знаю, какое чудо. Нужно, чтобы с неба упали к вам те доходы, которые вы упустили в своей торговле, и тот продукт, который вы не вырастили, оставляя многие свои земли пустыми и работая на остальных землях в четверть силы. Но с неба теперь такие вещи не падают. Значит, в будущем году вашу Россию постигнет голодная беда. Придется мне прийти к ней на помощь и принести из глухих финских лесов и болот хлеба, масла и свинины.
Я говорил им это, а они смеялись, повернувшись на своих скамейках больше ко мне, чем к столу. Не знаю, чему они смеялись. Я говорил им самые горькие истины. Им бы ужаснуться, присмиреть и пригорюниться перед подстерегавшими их злыми невзгодами, а они смеялись, беззаботные, здоровые и сытые, обратив ко мне темный загар своих лиц, дополненный веселым блеском глаз и зубов, смеялись так, будто я не гибель им предрекал, а рассказывал забавные анекдоты. Грозя им страшной судьбой, я видел обращенные ко мне отовсюду растянутые в смехе рты, мужские и женские, молодые и старые, красивые и некрасивые. Даже детские рты вплетали свой звонкий смех в общий веселый гул, издаваемый ртами взрослых. Секретарь райкома спросил меня сквозь этот гул:
— Это у вас точные сведения относительно голодной беды?
Я ответил:
— Да, точные.
— От кого вы их почерпнули?
— Ни от кого. Это мои собственные наблюдения. Я сам давно разглядел, что все у вас держится на пределе. Вы расходуете остаток, за которым уже ничего не остается. Вот я прошел по вашей России, и, чтобы накормить меня на этом пути, было выложено последнее. Где я прошел — там осталась пустыня. И у вас в колхозе тоже я произвел изрядное запустение за три дня. После меня вам уже не подняться. И без того у вас в жизни все шло с каким-то крутым креном, вот-вот готовое упасть. Я добавил вам крена. Непонятно, на чем вы еще держитесь. Непонятно, почему на ваших полях растут хлеба. Они не должны расти у людей, думающих больше об отдыхе, чем о труде. Они сами выросли на ваших полях, без вашего участия, потому что такая земля не может не родить, если даже к ней не приложатся руки человека. Откуда у вас такое большое стадо? Не должно быть у вас такого стада. Не может быть у вас такого стада. Вы говорите, что оно самое крупное в районе. Оно собрано сюда со всего района, со всей области. Со всей России оно собрано сюда на то время, пока здесь находился я. Зато все остальные колхозы в России давно разорились. Но и вашему приходит конец. Председателя вашего снимут. При нем колхоз поднялся, но его все-таки почему-то снимут, а вместо него поставят другого, при котором колхоз покатится вниз. И это непременно будет сделано, потому что таков закон вашей страны, где ни в чем нет постоянства. Лошадей от вас возьмут, и вместо них заставят вас нанимать где-то тракторы, которые опоздают распахать вашу землю. Вместо ржи, картошки и капусты вас заставят посеять какие-то две новые, непривычные культуры, которые у вас не вырастут. Поля ваши опустеют, а дом отдыха разорит вас вконец. И останется у вас денег только на белку и свисток.
Я говорил им это, полный участия к их горькой судьбе, а они смеялись. Ну и смеялись же они над моими словами, в которых я выкладывал им истинную правду. Скамейки трещали от их смеха. Ладно. Не стал я больше им ничего говорить. Пусть погибают, если не хотят внять голосу здравого рассудка.
Закончил разговор секретарь райкома. Он сказал мне спасибо от имени собрания за интересную беседу и добавил, что мы еще продолжим ее вечером в клубе. Как бы не так! Я взглянул на часы. О, перкеле! Теплоход опять ушел без меня. Пока я просвещал их, стоя к реке спиной, он успел пройти мимо. Секретарь продолжал говорить, вызывая новый смех. Я прислушался. Он надеялся, что я и днем не откажусь присоединиться к их компании и отобедаю вместе с ними. Уж как-нибудь они наскребут один обед из шести деревень.
Насчет отобедать — это он, конечно, неплохо ввернул. Это было, пожалуй, самое дельное, что он сказал за все время. Случается так, что и секретари райкомов говорят у них иногда дельные вещи. Вот и этот секретарь тоже изрек вполне разумную мысль. На всякий случай я кивнул ему в ответ и сказал: «Благодарю». Но про себя я колебался насчет присоединения к их компании. Конечно, обед стоил того. Но надо было еще сообразить, как потом от этой компании отсоединиться, чтобы без помехи уйти на пристань.
Секретарь тем временем еще кое-что сказал собранию. Ему, конечно, надо было успокоить людей, которым я так убедительно раскрыл глаза на их горькое будущее. И, делая вид, что никаких моих предсказаний о подстерегавшем их крахе не было, он заявил, что дела этого колхоза идут в гору. И люди не возражали ему, делая вид, что так оно и есть, бог с ними. Он похвалил их за отличную работу, и людям, как видно, было приятно слышать его похвалу. Он сказал, что им и впредь нельзя ослаблять усилия, если они хотят сохранить за собой славу передового колхоза, и собрание ответило ему утвердительным гулом. Напоследок он объяснил им, что все они, славные труженики села, выполняют в своем колхозе не просто обычный крестьянский труд, а нечто более значительное. Самоотверженно трудясь, они увеличивают экономическую мощь своего социалистического государства, стоящего во главе других социалистических стран, и этим способствуют укреплению мощи всего социалистического лагеря. А мощь социалистического лагеря, противостоящего лагерю воинствующего империализма, является гарантией мира во всем мире. Таким образом, своим повседневным колхозным трудом они вносят крупный вклад в дело мира между народами.
Так он растолковал им смысл их труда, увязав его с политикой. Да, он умел, конечно, это делать. И, может быть, люди для того здесь и собирались, чтобы лишний раз услыхать подобное толкование и через него яснее определить свое место и значение на земле. В Кивилааксо никто не приходил с таким толкованием. Мои соседи Ууно и Оскари работали втрое больше любого из сидевших на этом собрании, но никогда и никто не сказал им, что они такое на этом свете.
А старый Ахти Ванхатакки? Что он видел в жизни, кроме работы? Но даже на закате своих дней не будет он знать, в какую прорву ушел его труд, не принеся ему к старости запасного куска хлеба. И никто ему это не растолкует. А куда ушел мой труд, и что значил я среди людей? Мне тоже хотелось бы получить этому разъяснение. Был смысл в моем пребывании на земле или не был? Неужели не был? Но не беда! Если до сих пор не был, то очень скоро я собирался наполнить его смыслом. И, думая об этом, я повернулся лицом к русской реке Оке. По ней начинался теперь мой путь к тому повороту в жизни, где она обретала смысл.
36
И, пока люди расходились, определив свое место на земле, я стоял так и раздумывал по поводу своего места. Я всегда очень много думаю своей умной головой, и потому у меня все в жизни идет без единой заминки.
И заодно я прикидывал в уме, где определить себе место на остаток этого дня, чтобы вечером без помехи уйти к пристани. Не упускал я также из головы приглашения на обед. Но для этого надо было уйти с бугра вместе с другими людьми. А они все уходили в направлении хлебных полей, где пролегала дорога, соединявшая их деревни. Людской говор, девичий смех, песни и детские возгласы постепенно слабели за моей спиной, удаляясь в разные стороны. Только два женских голоса не сразу удалились, и до меня донеслись негромко сказанные слова:
— Это он и есть, что у Василисы остановился?
— Он.
— Это из Финляндии который?
— Ага.
— Вон они какие!
— Да. Люди как люди. И рассудительность в нем есть и шутливость.
— Но она вроде злая в нем, шутливость-та?
— Да как сказать… Может, и не злая. Ведь и среди них люди всякие есть. Хороших-то больше, как и всюду. Но нашлись и выродки.
— Это которые сына у Василисы-ти изуродовали?
— Да. Шюцкоровцы. И откуда в них ненависти столько? Мало того, что руки-ноги ему перебили прикладами автоматов, они еще и звезду на его спине вырезали своими чухонскими ножами. Что он им плохого сделал? Стоял человек на пограничном посту — кому он мешал? Еще и войны никакой не было. И вдруг такая лютость.
— И не говори, милая. Был парень как парень, а теперь весь разбитый — ни ходить, ни работать, ни говорить толком.
— Еще бы. Они ему какой-то важный нерв повредили.
— Да. Вон они какие… А зачем же его к Василисе-те поставили?
— Да кто ж их знает. Василь Мироныч определил. Значит, цель у него была. Даром не определил бы. По правилам нашим, Василиса за счет колхозного фонда могла бы его содержать. А сын, когда узнал, кого принимает, возьми да и заяви: «Не желаю, чтобы из фонда. Мой гость — моя и забота». Но сам с того дня и ночевать домой не ходит.
— Да, вон они какие, те самые, что вместе с Гитлером к нам полезли… С виду люди как люди, а коснись…
Женщины умолкли. Может быть, они ушли, а может быть, прервали свой разговор, думая, что я к нему прислушиваюсь. Но я не прислушивался. Зачем стал бы я прислушиваться к чужому разговору? Мало ли о чем говорят между собой люди! Это их касается, а не меня. Не слыхал я ничьих разговоров. Я просто так стоял и любовался красивым видом, который открывался мне с этого бугра. Постояв немного на одном месте, я делал шаг поближе к развалинам церкви и опять любовался сверкающей на солнце голубой рекой, свежими стогами сена на луговой низине перед ней и густой зеленью леса на ее другом берегу. Потом еще немного придвинулся к развалинам.
В конце концов я оказался позади развалин. И там я перестал любоваться красивым видом на реку. Нельзя же было без конца им любоваться. Полюбовался — и хватит. Укрытый развалинами церкви от людских глаз, я спустился по травянистому скату обрыва к нижней дороге и направился по ней на пристань. Никто не встретился на моем пути, и на этот раз я добрался до пристани без помехи.
Билетная касса была закрыта, но записка возле окошка объявляла, что она откроется за час до прибытия теплохода. Я вернулся по сходням на берег и осмотрелся. Никого не было видно поблизости. Тогда я прошел немного дальше вдоль берега, где крутой обрыв приблизился к воде вплотную. Здесь не было дороги и даже тропинка едва обозначалась, захлестнутая высоким бурьяном. Пройдя по ней у самой воды метров двадцать, я свернул с нее чуть вверх по склону и там растянулся на спине среди высокой травы, чертополоха, репейника и крапивы.
Никто не потревожил меня до самого вечера, и я порадовался тому, что у русских везде так много нетронутой земли. И тут же я понял, для кого они ее сберегли. Они сберегли ее для тех великих грешников, которые когда-то проникали в их страну с недобрыми намерениями и потом изгонялись вон. Для них приберегались эти бурьянистые закоулки, чтобы они, попав сюда еще раз под видом гостей, могли укрыться в них, пряча от русских людей свой горький стыд и раскаяние.
Что я мог сказать им в свое оправдание? Не было мне оправдания. И Мария Егоровна не зря говорила о недоверии. Да, недоверие еще не скоро уйдет из людских сердец. Слишком велико было бедствие, постигшее народы, чтобы так скоро забыть, откуда оно исходило. Навсегда врезалось в память человечества имя страны, где родились те, с бредовым огнем в глазах, которые попробовали подмять под себя народы всей планеты и где были придуманы печи для сжигания миллионов живых людей. Не прикроешь это имя никаким другим. А ведь и мое имя было где-то там, рядом с тем именем, сливаясь, может быть, с ним в одно. Весь мир видел, с кем вторгся я на русскую землю и что делал в своих лагерях с русскими военнопленными. Вот почему я скрывался теперь от русских людей в приготовленном ими для меня бурьяне.
Но откуда было мне знать, что дела мои придут к такому невеселому концу? Разве не подготовил я все для непременной и полной победы? И разве не казалась она близкой? Боже мой, какой близкой она казалась! Мои танки заняли всю Европу. Они дошли до русской Волги. Оставался какой-то пустяк. Оставался последний короткий напор, чтобы начисто сокрушить Россию. Соверши я этот напор — и с Россией было бы кончено.
И вот против меня только Англия и Америка. Но что мне Англия и Америка? Англию я очень скоро сравнял бы с волнами Атлантического океана своими знаменитыми снарядами «фауст». А с американцами мне и делать было бы нечего, потому что это не солдаты, а младенцы. Они еще никогда за время своей истории не знали настоящей войны. Я показал бы им настоящую войну и установил бы в Америке свой порядок.
А после этого на всей Земле мало-мальски близкая мне по силам осталась бы одна Япония. Но и Японию я очень скоро загнал бы обратно в пределы ее собственных островов, отобрав у нее военные корабли, авиацию, пушки и танки. Я сам занял бы все завоеванные ею земли, а ей позволил бы заниматься только возделыванием риса да еще рыбной ловлей вдоль берегов.
И тогда под моей властью оказалась бы вся планета. Один я стал бы ее хозяином. Это ли не здорово? Вся планета в ширину и глубину, все, что в ней, и все, что на ней, — мое собственное. Каждая травинка на земле — моя! Каждый куст, каждое дерево! Да что там дерево! Все леса мои, все джунгли, все реки, озера, моря, океаны и даже воздух над ними — мой! Ух ты, черт, как здорово могло получиться! Я иду по Земле, и все живое, что мне на ней встречается, — мое. Я могу распорядиться всем этим, как мне вздумается. Могу уничтожить, если на то будет моя воля, могу оставить в живых, расплодить, раскормить, расселить по своему плану. Кто мне помешает? Я могу поселить индийских слонов на Северном полюсе, а белых медведей — в пустыне Сахаре, и никто не посмеет сказать мне, что это неразумно, ибо все люди Земли — тоже мои.
Да, вот какая могла у меня быть невиданная власть! Все люди на Земле — тоже мои собственные! С ними я тоже могу делать все, что захочу. Вот я увидел человека, который мне не понравился. Я делаю знак — и человека нет. Это так просто. Под рукой у меня всегда есть молодцы, готовые исполнить любую мою волю. Прежде в таких случаях мне приходилось изобретать какое-нибудь серьезное обвинение, затевать громоздкое судебное дело, чтобы доказать своему народу виновность невиновного. А кроме своего народа, были соседние народы, были народы за океаном и в коммунистической России. Все они в таких случаях брали на себя роль строгих судей. И они непременно пронюхивали правду и непременно поднимали крик на весь мир. Только умение держать закупоренным свой народ спасало меня от разоблачения в своей стране.
Но теперь все народы — мои, и плевал я на разоблачения. Кто меня разоблачит и перед кем? Перед марсианами и венерианами? Все народы с одинаковым усердием читают мою книгу «Майн кампф», и все при виде меня с одинаковым восторгом орут: «Хайль Турханен!». Теперь мне уже нет надобности устраивать судебное дело, если кто-то мне не понравился. Я только говорю коротко: «Он не ариец», и дело с концом. А могу и не говорить. Кому я буду говорить? Любой из тех, с кем я сегодня говорю, может завтра у меня отправиться той же дорогой к сатане. Даже немец. Что из того, что я объявил своих немцев избранной расой? Среди этой избранной расы самый избранный все-таки я! И всякий немец в своих поступках идет не далее того, что определено ему мной. А если он, возгордясь некстати своим превосходством над остальными народами, преступит границы моих определений и попытается показать себя равным мне — своему великому фюреру, то на этом обрывается его попытка, и обрываются также его способности ко всяким иным попыткам в жизни. Для своего избранного немца у меня на подобный случай тоже есть своя особая имперская канцелярия, откуда его очень легко переправляют в канцелярию небесную. Все зависит от того, как он себя поведет и как мне на это взглянется. Откуда я могу знать, какое у меня завтра будет настроение? Сегодня я не заметил в человеке изъяна, а завтра заметил. Может быть, завтра он усмехнулся не к месту или выразил своим видом сомнение в правильности моих поступков. А я не намерен терпеть насчет себя сомнения. И я искореняю сомнения вместе с людьми, в которых эти сомнения гнездятся. Так мне удобнее. Я один теперь судья на Земле. Всех других судей я убрал, как непригодных для этой роли. И мой приговор не подлежит пересмотру, ибо в нем нет ошибки. Я никогда не ошибаюсь. Ошибаются все другие, но не я. И если кому-то показалось, что я ошибся, он исчезает. Я не для того захватил власть на планете, чтобы позволить кому-то быть умнее меня.
Особенно много всяких умников среди евреев. От них всегда исходит зараза неверия в правильность моих поступков, и потому за ними надо смотреть в оба. Такой это неудобный народ. Мало того, что они ко всему на свете подходят со своей меркой, они вдобавок время от времени преподносят человечеству какого-нибудь мудреца-пророка, вроде своего Иисуса Христа или Карла Маркса, от учения которых потом все в мире переворачивается вверх дном. А мне не надо их пророков. Я сам пророк. И на всей планете я самый умный и мудрый. Таково удобство власти. И я не желаю, чтобы передо мной появлялись чьи-то въедливые коричневые глаза, способные видеть меня насквозь да еще затаившие в своей глубине насмешку. Они теперь моментально исчезают с лица земли, те, кто проявил способность видеть меня насквозь. И еще быстрее исчезают те, в чьих глазах, обращенных на меня, затаился смех.
Я не потерплю под своей властью смеха. Ведь любой смех может касаться меня. А чтобы он меня не касался, я убираю с планеты смех и заодно тех, от кого он исходит. Мне так удобнее. Их много, конечно, склонных к смеху. Их сотни, тысячи, миллионы. Говорят, что каждый человек на свете время от времени страдает смехом. Но не беда! Я вылечу их от смеха. Что мне миллионы? У меня есть Гиммлер и есть печи. Они, если надо, уберут и миллиарды. На моей собственной планете я наведу свой новый порядок, в котором не будет места смеху.
Печи — это очень удобная вещь. Только я мог до них додуматься своими сверхгениальными мозгами. Они — главное подспорье в моих делах, направленных на то, чтобы привести человечество к всеобщему благоденствию и счастью. Например, где-то какие-то люди выразили недовольство моей властью. Я пропускаю их через печи, и после этого они уже не проявляют недовольства. Где-то против меня взбунтовался целый народ, пожелавший вернуться к прежнему самостоятельному управлению. Этот народ я тоже пропускаю через печи, устанавливая, таким образом, спокойствие еще в одной части мира. В каком-то народе пошли слухи, что я глуп, что я просто жалкий, бесноватый фюрер, не пригодный для управления человечеством. Там я тоже строю несколько новых, удобных печей. И когда от этого народа остается очень малая доля, слухи о моей глупости прекращаются. Наоборот, те немногие из них, которым удается уцелеть, находят меня с той поры очень умным и не упускают случая снова и снова мне об этом прокричать. Так постепенно на Земле остаюсь только я и остаются те немногие, кто меня восхваляет, да еще печи. И все довольны, потому что это самый разумный порядок, возможный на Земле.
Да, вот как могло у меня получиться, соверши я этот последний короткий напор в России. Собственная планета! Что еще мог я пожелать при своей природной скромности? Собственная планета, и мои же собственные люди на ней! Какие просторы открывались мне для моих редкостных способностей по воспитанию этих людей в единственно правильном духе — в умении быть мне послушными! Однако не удался мне последний короткий напор в России. Русские сами произвели напор, после которого я уже не поднялся.
Но что еще мне оставалось делать, как не идти на попытку захвата планеты? Не идти на эту попытку — значит согласиться жить в мире с другими народами… А жить с ними в мире — значит открыть для них границы, пускать их к себе в гости и выпускать к ним в гости свой народ. Но тогда к моему народу с Востока и Запада проникли бы всякие опасные мысли и вредный коммунистический дух. Мои единственно правильные мысли, которые я ему с таким трудом вдолбил, он выбросил бы в помойку и стал бы думать по-своему. Но это означало бы конец моей власти над народом. А что я без власти? Страшно даже подумать! Пустое место. Нет, я не мог отказаться от власти. Никак не мог, поймите вы это. Я слишком к ней привык. И народ у меня тоже был хорошо обработан, заранее подготовлен к ведению войны и лихо настроен против коммунистической России. Вот почему я рискнул на захват планеты. И вот почему лежу теперь здесь, выброшенный русскими в колючий бурьян.
Никто не потревожил меня в бурьяне до самого вечера. А когда на реке раздался мягкий, низкий гудок теплохода, я вышел к пристани. Там были уже люди: мужчины, женщины, дети. Кто-то кого-то встречал из тех, что прибыли на теплоходе сверху, кто-то сам готовился отправиться на нем вниз по Оке. Никто не остановил меня в сумерках вечера и не заговорил со мной. Я без помехи взял в кассе билет второго класса до города Горького и прошел в свою каюту.
Просидев там до третьего гудка, я вышел на палубу. Сходни уже были убраны. Несколько человек взрослых и детей продолжали стоять на пристани, глядя на нас, пассажиров. При слабом свете электрических лампочек я не разглядел среди них знакомых лиц. Но вот раздался треск мотоцикла. Кто-то подлетел на нем по нижнему краю берега к пристани, и через минуту к перилам в потной расстегнутой рубашке протиснулся парторг. Он тоже принялся кого-то высматривать среди нас, и на его худощавом загорелом лице была озабоченность.
Теплоход уже отходил от пристани. Подумав немного, я выдвинулся вперед и встал у самого борта рядом с другими людьми. Парторг заметил меня, и озабоченность на его лице сменилась широкой улыбкой. Я тоже улыбнулся ему в ответ. Он крикнул мне что-то, но я не расслышал его слов из-за шума двигателя. Он понял это и поднял над головой сжатые вместе ладони, покачивая ими. Тогда я тоже поднял над головой сжатые вместе ладони и покачивал ими до тех пор, пока лица людей на пристани не заслонило сумерками. Но и после этого я еще стоял некоторое время у борта, глядя в ту сторону.
Да, парторг — это у них, пожалуй, было хорошо придумано. Как извернулся бы я в этой деревне без парторга? И как обходилась бы у них без парторга сама деревня при таком устройстве ее жизни? Что-то нарушилось бы, наверно, в этом устройстве, не будь у них парторга.
Время близилось к одиннадцати. Я разыскал буфет, съел там четыре горячие сосиски, выпил два стакана чая с булкой и спустился в свою каюту. Она была двухместная, но никто больше не пришел в нее ни на этой стоянке, ни на следующей. В углу каюты был кран с холодной водой. Пользуясь этим, я выстирал в раковине носовой платок, майку, трусы, носки и развесил их на спинках двух стульев. Потом почистил зубы, помылся и лег в одну из постелей головой к окну, за которым виднелись проплывающие мимо огни высокого берега Оки.
Закрыв глаза, я подумал, что вот и двенадцатый день моего отпуска кончился. И только теперь я начал свое обратное движение к Ленинграду, вблизи которого изнывала в смертельной тоске по мне моя женщина. Но уже не долго оставалось ей страдать. Из города Горького я собирался прибыть в Ленинград с первым же поездом, а оттуда с первым же поездом отправиться к ней. И после этого все в моей жизни устанавливалось на прочное, постоянное место.
И еще о чем-то должен был я, кажется, подумать, прежде чем заснуть. О чем бы таком обязан я был подумать? Ах, да! Какие-то признаки дружбы со стороны русских к финнам советовал мне улавливать Иван Петрович изо дня в день, пока я находился в их стране. Но вот я провел среди русских еще один день, а не уловил никаких признаков. Где я мог уловить эти признаки? В густом русском бурьяне? Не слишком крепок дух дружбы там, где человеку приходится хорониться от других людей в заросли бурьяна.
И вдобавок где-то там, вдоль берегов этой реки, продолжал высматривать меня тот страшный Иван. Укрытый ночной темнотой, он зорко оглядывал с высоты берега медленно текущую мимо него громаду воды. И кто знает, на каком повороте реки готовился он вытряхнуть меня из каюты теплохода. Но одно я знал твердо: попадись я в его железные лапы — песенка моя была бы спета. Спасти меня тут было некому.
Только огромный Юсси Мурто сумел бы, может быть, вызволить меня из этой беды, будь он здесь. Но его не было здесь. Он, как всегда, обретался где-то там, в пределах Суоми, надеясь, видимо, познать весь остальной, отдаленный от него мир одними лишь домыслами. И, заслоняя своей необъятной спиной громады северных лесов, он угрюмо поглядывал на русского Ивана, явно настроенный к разговору.
И он действительно заговорил после некоторого молчания, тяжело роняя слова и хмуря от усилия мысли светлые брови. Примерно такое выдавил он из своего молчаливого рта: «В мире только то отмечено долголетием и устойчивостью, что растет и наслаивается снизу. Это веками проверено и потому не может содержать ошибки. А врываться в это установлениями сверху — значит вредить его естественному развитию».
Такое выдавил он, исходя из каких-то своих раздумий. И сразу же на это последовал ответ Ивана: «Ништо! Безработица на вашем Западе тоже отмечена долголетием и устойчивостью. Но что она такое, как не ошибка? И даже преступная ошибка. Попробуйте соберите их вместе, выброшенных из жизни. Образуется целое государство с многомиллионным народом, который сидит в бездействии, положив на колени руки, умеющие делать все и жаждущие делать, но не делающие, потому что у них отнято право выполнять главное назначение человека на земле — трудиться и творить. Это ли естественное развитие? Сколько же столетий оно намерено еще продлиться, чтобы и далее отнимать у миллионов людей то, чем держится человеческое достоинство? Нет, без хорошей поправки к этому развитию со стороны народов тут не обойдется».
Юсси помолчал, переваривая сказанное Иваном, но ответить на это не торопился. Вместо ответа он сказал, подумав немного: «Большая семья — это хорошо. Но семья, даже большая, должна жить своими внутренними семейными законами. Только тогда она будет свободнее дышать и придет к богатому цветению. А если в ней распоряжается посторонняя сила, то это уже не семья, и название у нее другое». И опять он услышал беззаботный ответ Ивана: «Ништо! Мы и сами решать умеем. А создателю этой большой семьи как не иметь в ней голоса, хотя бы совещательного? Нет у нас посторонних».
Снова призадумался Юсси Мурто, углубленный в какие-то свои заботы. Но спустя минуту он опять заговорил, и в голосе его сквозило недоумение: «Я понимаю, что выполняли они подневольную работу. Это не их сено, и не для себя они его косили. Но все-таки почему они при этом пели, да еще так весело и красиво?». И в ответ он уже не услыхал слов Ивана. В ответ среди ночного мрака загромыхали громы и засвистели бури, колыхая деревья и тучи. Грохот и треск прокатились по земле, сотрясая на ней все живое, ибо это рассмеялся во все свое просторное горло страшный русский Иван. Он смеялся, подпирая кулаками бока и задрав лицо к звездам, а Юсси Мурто ждал угрюмо, когда он умолкнет, чтобы задать новый вопрос. Но я уже не услыхал его вопроса, уйдя в глубокий сон.
37
Теплоход не знал, с каким нетерпением я рвался в Ленинград, и потому не слишком торопился к месту своего назначения — в город Горький. А может быть, он знал и не торопился именно потому. Да, пожалуй, так оно и было. Он знал, кто притаился на его борту, и, наверно, обдумывал, как со мной поступить: утопить в реке Оке или высадить на каком-нибудь глухом берегу, где меня потом съедят дикие звери. Вот почему он медлил отходить от некоторых пристаней. Он высматривал для меня подходящее место. А на высматривание тратились многие лишние минуты, из которых составились часы. По этой причине он выбрался из реки Оки в реку Волгу лишь ко второй половине дня. За это время я успел два раза наведаться в его буфет, вытряхнув там из своего бумажника около двадцати рублей.
Погода в этот день хмурилась уже с утра. А когда теплоход, войдя в реку Волгу, оказался на виду у пристани, начал накрапывать мелкий дождь. Он чуть усилился, пока теплоход пристраивался к пристани. Но это не помешало людям, прибывшим на теплоходе, сойти на берег. Я сошел вместе с ними. Проходя мимо женщины в форменной фуражке, я спросил у нее насчет железнодорожного вокзала и услыхал ответ;
— А вон, перейдете тот большой мост и там спросите вокзал.
Так просто все складывалось. Впереди был мост, а за мостом вокзал. И я шел к этому вокзалу, чтобы сесть на поезд, уходящий в Ленинград. Так просто все складывалось. Наконец-то отпали все те преграды, которые вырастали передо мной каждый раз, едва я проявлял намерение направить свои стопы на северо-запад. Теперь я шагал туда свободно, и уже не предвиделось больше, слава богу, никакой помехи на моем пути. Передо мной был мост, а за мостом вокзал, где стоял поезд, готовый везти меня к моей женщине. Так просто все складывалось у меня на этот раз.
Встречные люди не заговаривали со мной. И у меня тоже не было особенного желания затевать с ними разговоры. О чем стал бы я с ними говорить? Все было ясно для меня теперь относительно России. Я знал ее всю насквозь и не нуждался в том, чтобы мне еще что-то в ней показывали и объясняли. И, кроме того, я не намерен был больше останавливаться и сбиваться с пути. На этом пути меня ждала моя русская женщина, готовая отправиться со мной в мою далекую родную Суоми. Зачем стал бы я томить ее новым долгим ожиданием? И я шагал прямо к ней, несмотря на дождь, который, правда, все заметнее давал себя знать.
Никто не заговорил со мной. Людям некогда было заговаривать. Они торопились по своим делам, и постепенно их все меньше оставалось на улице. Дождь заставлял их торопиться и прятаться под крыши. Он все усиливался. Пришлось и мне кинуть взгляд по сторонам. Как раз в это время я проходил мимо низенького продолговатого здания, на котором было написано: «Кассы». Двери здания были распахнуты, пропуская внутрь прохожих, убегающих от дождя. Я тоже вошел внутрь и стал у стены возле двери.
Это был большой светлый зал, где люди сидели на скамейках вдоль стен, обложенные разными походными узлами, рюкзаками и чемоданами. Некоторые стояли, толпясь группами посреди зала и громко толкуя о всяких дорожных делах. Стояли и шумели больше молодые люди — парни и девушки, одетые в походные штаны и куртки. Они перекликались также с теми из своих товарищей, которые занимали места в очередях перед билетными касса ми в конце зала. Все они собирались куда-то плыть от этой пристани по своей знаменитой реке Волге и в разговоре называли разные города.
Но меня не интересовали их города. И я никуда не собирался плыть по их реке Волге. Мой путь лежал по твердой земле и начинался от вокзала. Дождь, правда, замедлил мой путь к вокзалу, но, кажется, ненадолго. За широкими окнами зала позади тучи, льющей дождь, уже виднелась полоса неба посветлее. Значит, мне оставалось потерпеть еще какие-то минуты, а там я снова мог двинуться к вокзалу.
Я стоял у стены справа от входа. А вправо от меня тянулась вдоль стены широкая скамейка с высокой спинкой, достававшая до очередей у касс. Она тоже была полна людьми и поклажей. Здесь теснились мужчины, женщины и дети всех возрастов. Ближе ко мне сидела группа девушек в штанах. Их туго набитые рюкзаки лежали перед ними на полу, а сами они, сблизив головы, обменивались какими-то своими девичьими секретами.
Стоя рядом со скамьей, занятой девушками, я разглядывал сверху их пышноволосые головы, такие разные по цвету — от белокурых до черных — и по-разному причесанные. Были среди них и коротко подстриженные волосы, и завитые кольцами, и плотно закрепленные заколками, и заплетенные в косы, собранные узлом, и просто схваченные лентой у затылка в один тугой хвост.
И только самые черные, отливающие синим цветом волосы не были ни приглажены, ни стянуты, ни собраны в узел. Они свободно раскинулись на все стороны своими тяжелыми прядями, вздымаясь и ниспадая густыми сплетениями черных каскадов, наподобие морских волн, застигнутых в непроглядной темноте ночи злым вихрем, который налетел на них внезапно и, сломав их размеренность и плавность, вобрал в свой водоворот. Что-то знакомое напоминали мне эти буйные черные волны. Где-то я уже встречал у них в России такие. Удивляться этому, конечно, не приходилось, потому что проехал я по России немало и видел сотни разных причесок. Среди них вполне могли мелькнуть прически, схожие по черноте и дикости с этой.
Но что мне было до всех этих причесок? Пусть они выглядели красиво, составляя вместе живой, пестрый цветник, но очень уж явно проглядывала в них легкость и неосновательность, способная уступить первому же дуновению ветерка. Не интересовали меня их прически. Только одна прическа на свете могла меня интересовать. Она состояла из густых темно-коричневых волос, аккуратно зачесанных назад и собранных на затылке в большой, тяжелый узел. Вот в них действительно была строгая и красивая основательность, не склонная к легким переменам. И, думая об этой прическе, я снова кинул взгляд на окна. Дождь за ними, кажется, понемногу затихал. Скоро можно было трогаться дальше. Я провел расческой по своим еще не успевшим высохнуть волосам и оттолкнулся от стены.
Но прежде чем выйти в открытые двери, я слегка отступил к середине зала, чтобы разглядеть лицо черноволосой девушки. И странное дело: лицо ее тоже показалось мне знакомым. Так много у них лиц в России, что все не могут быть разными. Вот и встречаются похожие лица. И пока я медлил, пытаясь вспомнить, где я встречал похожую на нее девушку, она тоже скользнула по мне взглядом, не переставая, однако, разговаривать со своими подругами, и снова обратила ко мне свои крупные черные глаза, тоже как бы припоминая что-то. Не знаю, что ей понадобилось припомнить. Чтобы не мешать ей в этом занятии, я направился к выходу. Но в это время она сказала мне громко:
— Здравствуйте!
Я остановился. Да, это она мне сказала! И не только сказала, но даже встала с места и двинулась ко мне, протянув руку. Ее подруги тоже встали, глядя на меня с любопытством. Среди них она была самая рослая и дородная. Протянув мне руку, она еще раз повторила:
— Здравствуйте, товарищ Турханов.
И тут я узнал ее. Вот кого, оказывается, сюда занесло из далекого Ленинграда. Это была Варвара Зорина, та самая, у которой так невесело складывалось дело с длинным Никанором Антроповым. Я пожал ей руку и кивнул остальным девушкам, обратившим ко мне загорелые, глазастые, красивые лица. Они ответили мне тем же. Варвара сказала:
— И вы здесь. Далеко едете?
Я ответил:
— Нет, не очень далеко. Домой.
Она понимающе кивнула:
— А-а. Значит, уже посмотрели.
— Что посмотрел?
— Как что? Канал я имею в виду.
— Какой канал?
Она удивленно покинула вверх черно-синие брови:
— А какой же тут еще может быть канал, кроме Волго-Дона?
— Волго-Дона?
— О-о, я вижу, вы о нем даже не знаете. Куда же вы ездили?
— Я тут в колхозе одном был.
— А-а. Так вас только колхозные дела интересуют?
— Нет, почему же? Меня все интересует. Я уже много кой-чего посмотрел. Такая у меня цель: посмотреть Россию, чтобы потом рассказать о ней финнам.
Так я ей ответил, хорошо помня, чем тут можно тронуть их сердце. И, тронутая моими словами, она сказала с сожалением в голосе:
— Как же вы канал упустили? Ведь это же самое крупное наше сооружение последних лет! Или у вас время свободное истекло?
— Нет, не истекло.
— А сколько у вас еще осталось?
— Чего осталось?
— Ну… дней свободных, что ли?
— А-а. Дней? Мало. Десять…
У меня, конечно, их оставалось больше. Но я чуть убавил. Не знаю, зачем я убавил. Просто так. Взял и убавил. Пора было трогаться к вокзалу, чтобы не упустить поезд на Ленинград. В открытые двери видно было, что дождь уже затихал. Но тут она вскричала:
— Как! Десять дней? Да вы что, смеетесь? Деньги есть у вас?
Я не понял, почему ее вдруг заинтересовали мои деньги, но ответил:
— Есть…
А она сказала торопливо:
— Давайте сюда скорее. Вы в каком классе хотите: в первом или втором? Первый — сто двенадцать, второй — восемьдесят четыре. Давайте на всякий случай сто двенадцать. Да быстрее вы со своим бумажником! Ох, как он копается! Там наша очередь уже подходит. Не понимаю, как это можно — побывать на Волге и не увидеть канал! Вы же потом всю жизнь об этом жалеть будете. Вас попросят рассказать, а вы не сможете. Ведь это же стыд сплошной! Да скорее вы, ради бога! Василий уже у кассы.
Что я мог с ней поделать? Она стояла передо мной, большая, напористая, с черной бурей на голове, в темно-красной куртке и черных штанах, плотно обтягивающих ее сильные ляжки. Протянув к моему бумажнику руку, она в нетерпении шевелила перед моим носом пальцами, не давая мне ни минуты на раздумье. И едва я достал деньги, как она выхватила их у меня и устремилась в глубину зала, крича на ходу:
— Вася! Вася! Еще один билет! Можно первого класса, если не хватит вторых.
К ней от средней кассы обернулся высокий темноволосый парень. Его я тоже узнал. Это был тот самый, с которым вел однажды такой странный разговор в парке возле дерева Никанор Антропов. Парень протянул к Варваре руку через головы людей, стоявших за ним в очереди, и, взяв у нее мои деньги, снова нагнулся к окошку кассы. А она вернулась к своим подругам, сказав мне с довольным видом:
— Ну, вот и поедете.
Я спросил:
— Куда поеду?
Ее черные брови опять удивленно вскинулись вверх:
— То есть как это «куда»? На канал. Куда же еще?
— А зачем на канал, объясните, пожалуйста, не откажите в назойливости?
— Как зачем? Посмотреть. Или я вас не так поняла и напрасно вам билет заказала?
— Нет, почему же, я очень рад…
Что я мог ей еще ответить? Не мог я сказать ей, что я не рад и что никуда, кроме Ленинграда, ехать не желаю. Зачем стал бы я ее огорчать? И без того хватало ей огорчений в ее делах с Никанором. Но еще не поздно было выкрутиться. За руку меня никто не держал, а дверь на улицу была открыта. И дождь почти перестал, открывая мне дорогу к вокзалу. Стоило мне кинуться к двери — и я был свободен. Бог с ними, с деньгами, отданными за билет.
Но пока я измерял взглядом расстояние до выхода, темноволосый парень успел купить билеты и подойти к нам. Он поднял с пола самый большой рюкзак и, вскинув его за плечи, сказал:
— Дело в шляпе! Пошли садиться. Все в сборе? Кто тут к нам еще присоединился?
Я раскрыл было рот, чтобы отозваться, но Варвара первая заговорила, кивнув на меня:
— Он не присоединился, а просто ему тоже очень важно побывать на канале. Это знакомый Ники.
Вася вежливо мне кивнул и тут же спохватился, тронув свободной рукой боковой карман своей куртки:
— Простите, я ваш билет вместе с нашими убрал. Вам его сейчас отдать или потом возьмете?
Я раскрыл рот, чтобы ответить, но Варвара сказала, поднимая с пола свой рюкзак:
— Успеется. Там отдашь. А сейчас идемте скорее.
Он спросил меня, все еще держа руку в кармане:
— Вы с нами вместе пойдете?
Я раскрыл рот, чтобы ответить, но она сказала:
— Конечно, вместе! Что за вопрос! Собирайтесь, девочки! Пошли!
Девушки тоже подхватили свои рюкзаки. Их оказалось человек восемь. С ними, кроме Василия, были еще два русоволосых парня, чуть поменьше его ростом. Все они вышли на улицу и направились к Волге. И я направился вслед за ними. Что мне оставалось делать?
Но идя вслед за ними, я дал волю своему кулаку. Череп мой загудел, и перед глазами поплыл туман. Три девушки и один парень обернулись, вглядываясь в меня с недоумением. Не знаю, что им такое послышалось. Они оглядели меня с головы до ног, словно проверяя, не раскололся ли я пополам, оглядели также землю под моими ногами и, не видя на ней отколовшихся от меня кусков, поискали глазами позади меня. Я тоже оглянулся, поискав глазами по их примеру вдоль многолюдной набережной. Это их успокоило, но на нашем пути к пристани они еще не раз косились на меня с недоумением.
Дождь совсем перестал, и мне бы теперь в самый раз было шагать к вокзалу. Но я шагал в обратную сторону. Так повернулись опять мои дела. И дождь был этому причиной. Да, именно дождь испортил все дело. Вот что вдруг пришло мне в голову. Как я мог забыть, что он уже подвел меня однажды, не дав уехать поездом в Ленинград! Он перехватил меня тогда на моем пути к Ленинграду и, повернув кругом, толкнул дальше в глубину России. Как я мог об этом забыть?
И вот в наказание за свою забывчивость я снова попал в лапы коварному русскому дождю. Опять он заманил меня в свои сети, чтобы отбросить от вокзала назад. Так у них тут все устроено, в их непонятной России. Когда вы идете к пристани, вас не пускают к пристани. Когда вы идете к вокзалу, вас не пускают к вокзалу. Вас уводят от вокзала, уводят к пристани, только не к той пристани, откуда вы могли бы уехать в Ленинград, а к другой, откуда вас везут еще дальше от Ленинграда, вниз по их огромной реке Волге, текущей куда-то на самый край света.
И вот вы стоите на верхней палубе их речного парохода, более крупного, чем тот, что вез вас по Оке, стоите, тоскливо провожая глазами уходящий назад правый берег реки Волги с пристанью. А рядом с вами у борта стоит высокая, плечистая девушка с черными вихрями вокруг головы, та самая, что оказалась в сговоре с русским дождем, заманившим вас к ней под крышу. Она стоит рядом с вами, оставив на время своих подруг, и говорит оживленно:
— Вот он, город Горький! Красивое место ему выбрали, правда? Когда-то его называли Нижним Новгородом, в отличие от Новгорода на озере Ильмень — древней столицы земли Новгородской. Но он тоже старинный город. Видите там, среди зелени, красную кремлевскую стену? Ее теперь подновили немножко. А вот знаменитая волжская лестница! Вы побывали на ней? Неужели нет? Какая досада! А памятник Горькому видели? Он жил в этом городе. Здесь музей есть его имени в бывшем домике купца Каширина. Вы не видели? А что же вы видели? Автозавод по крайней мере посмотрели? Тоже нет? Это же крупнейший наш автозавод! На целый километр тянется. А мы туда съездили. Там столько цехов интересных! Плавильный, например, где в искрах все и жидкая сталь глаза слепит. Или кузнечный. Стоят в ряд наковальни, а над ними молоты многотонные висят определенной формы. Положат на такую наковальню с помощью механизмов раскаленную добела стальную болванку весом в полсотни килограммов, а через две-три минуты она уже в ось превратилась со всякими там коленчатыми выступами и отростками. Это кузнец ее так молотом. И кузнец-то иной неказистый с виду. Еле видно его. А молот у него так и танцует! Он им с помощью педали управляет ногой. А то есть еще там цех, полностью автоматизированный. Одна девушка управляет всеми механизмами цеха. При нас один станок у нее заело, и пока она устраняла неисправность, остальные четырнадцать станков продолжали работать, выпуская детали с той же скоростью. Это поразительно! Это на чудо похоже. До сих пор я про такое только у писателей-фантастов читала, в их романах, обращенных к будущему. И в то же время такое чудо скоро станет у нас явлением обыденным. Удивительно быстро развивается техника! Прямо дух захватывает.
Так она говорила, твердо уверенная, что для меня очень важно все это знать. Я кивал головой, глядя издали на город, уходящий от меня все дальше, и прикидывая на глаз расстояние от судна до берега. Оно все ширилось по мере того, как пароход выходил на середину реки. Конечно, если бы я кинулся в воду, то еще успел бы добраться до берега вплавь. Но кто дал бы мне добраться? Варвара первая подняла бы шум и крик. А неподалеку от нее толпились ее девушки и парни. Они тоже едва ли остались бы в бездействии. И еще разные люди толпились у борта справа и слева от меня. Кроме того, на нижней палубе два матроса свертывали швартовые канаты. А их сама служба обязывала вылавливать из воды попавших туда людей.
Что мне оставалось делать? Я стоял и слушал ее рассказ о том, что она видела в этом городе, который раньше назывался Нижним Новгородом, а теперь назывался Горьким. Подошел Василий и отдал мне мой билет. Она его о чем-то спросила. Он ответил. Она опять о чем-то спросила. Пользуясь этим, я отошел от них и отправился искать свою каюту. Женщина в коридоре дала мне ключ и указала дверь.
Войдя в каюту, я еще раз позволил разгуляться своему кулаку. Но какой от этого прок? Ничего это не изменило в моей судьбе, только прибавило две-три шишки к прежним шишкам на моем черепе. Пора было понять, что это неизбежно — попадать здесь в подобного рода капканы, Такая участь ждет у них всякого финна.
Каюта была маленькая, с небольшим окном, выходящим на палубу, за которым виднелась широкая, разлившаяся вода реки Волги с полосой зеленого берега вдали. Тут стояли кушетка, столик и стул. В углу у двери белела раковина с двумя кранами. Я повернул краны. Из одного потекла холодная вода, из другого — теплая. Ничего, жить было можно. На кушетке лежал матрац, аккуратно застеленный двумя простынями и одеялом. Пухлая подушка с белой наволочкой так и звала приложиться к ней щекой. Трудно было не отозваться на этот соблазнительный зов. Я прилег поверх одеяла, свесив ноги вбок. Лежа удобнее было думать. Я всегда много думаю своей умной головой. Потому-то так плавно идет у меня все в жизни.
Вот и теперь, например. Вздумалось мне прокатиться по их знаменитой реке Волге — и они повезли меня по этой реке. А ведь как им не хотелось меня брать! Они изворачивались и так и этак, пугая меня всякими невзгодами. Они даже приостановили дождь, полагая направить меня к вокзалу. Но напрасно они старались. Я не поддался на их уловки. Вытащив из бумажника деньги, я заставил их купить мне билет до какого-то там города, откуда тянулся их новый канал Волго-Дон. Так надо тут у них действовать, если вы хотите поставить на своем.
38
Довольный своей победой, я, кажется, задремал на какое-то время, а когда спохватился и вскочил с постели, день успел склониться к вечеру. Выйдя из каюты, я услыхал в конце коридора звяканье посуды и остановился, раздумывая на этот счет. Звяканье посуды всегда наводит меня на некоторое раздумье, ибо это такая вещь, мимо которой трудно пройти без внимания. Звяканье посуды — это не просто звуки, каких много вокруг. Это не звяканье каких-нибудь там лопат или топоров. Это музыка. А как пройти мимо музыки, не попытавшись вникнуть в ее сладостную суть?
И пока мое ухо вникало в эту музыку, различая в ней отдельно и завлекательный говор тарелок, и соприкосновение ножа с вилкой, и звон чайной ложки о стакан, мои ноздри уловили, кроме того, вполне определенный запах жареного мяса и разных других ароматных вещей. Тут мои раздумья кончились. Пройдя без колебаний в конец коридора на все эти запахи, я открыл дверь. Это оказался салон, расположенный в кормовой части теплохода. Он же был буфетом и столовой, где легко уместились восемь столиков, накрытых белыми скатертями. За тремя из них сидели люди и ели что-то вкусное. Женщина в белом переднике вышла из-за стойки, чтобы убрать со свободного столика посуду. Заметив, что я остановился в дверях, она сказала:
— Проходите, пожалуйста. Если пообедать желаете — есть борщ.
Я желал пообедать. Кроме борща я выбрал себе по карточке еще кусок жареного мяса с молодой картошкой и выпил стакан кофе с молоком. Покончив с этим, я откинулся на спинку стула, окидывая взглядом другие столики. За одним из них сидели четверо: два парня и две девушки в походных костюмах, за другим — пожилая супружеская пара, а за третьим — один человек. И кровь, как водится, застыла у меня в жилах, когда я встретился взглядом с этим человеком, ибо это был тот самый Иван.
Сомневаться тут не приходилось. И хотя волосы его успели изрядно поседеть за послевоенные годы, однако фигура оставалась такой же рослой и серо-голубые глаза, широко поставленные над впалыми, загорелыми до черноты щеками, смотрели с прежней непреклонностью. Он, как видно, уже давно наблюдал за мной и только ждал моего взгляда, чтобы перехватить его и дать мне понять, что попалась наконец птичка в клетку. И вот он перехватил мой взгляд, и его тонкие губы сложились при этом в подобие легкой улыбки, которая, однако, не сулила мне добра.
Что я мог сделать? Женщина получила с меня деньги за еду и подошла к его столику. Пользуясь моментом, я встал и вышел на палубу. Пароход шел посреди реки, и далеко от него зеленели оба берега. Хороший пловец легко добрался бы до любого из них, но я не рискнул на это. По реке сновали вверх и вниз всякие другие суда. Буксиры тянули баржи с грузом, катера везли людей. Попадались навстречу крупные пассажирские теплоходы наподобие нашего и мелкие рыбачьи лодки с подвесными моторами. Попадались лодки, идущие на парусах и просто на веслах. Река Волга разлилась тут на целый километр в ширину, и на всей этой ширине все время что-то двигалось туда и сюда, готовое выловить меня из воды, едва я в нее окунусь. Все это было в сговоре с тем Иваном, который злорадно ухмылялся сейчас, допивая свое пиво за столиком в кормовом салоне.
Я побрел вдоль палубы сперва в одну сторону, потом в другую. Она была шириной около двух метров и огибала вкруговую всю надстройку, состоящую из множества кают и двух салонов. А над этой надстройкой высился капитанский мостик с штурманской рубкой, позади которой поместилась чуть накрененная назад объемистая труба, обведенная у вершины красной полосой. Из трубы легкой струей выходил дым, незаметно растворяясь в чистом вечернем воздухе. Он не засорял неба, которое успело совсем проясниться в ожидании ночи. Но какое мне было дело до ясного вечернего неба? Последний раз видел я, может быть, это небо у себя над головой, ибо очень скоро мне предстояло отправиться прямиком на дно их знаменитой реки, чтобы там кормить своим жестким мясом их вкусную рыбу стерлядь.
В ожидании этого часа я бродил по палубе взад и вперед и вкруговую, старательно обходя других пассажиров, занятых тем же. Ведь среди них, помимо Ивана, мог еще оказаться кто-нибудь из тех, кто побывал в наших лагерях. А я не хотел такой встречи, ибо знал, чем она кончится. Не тянуло меня также на разговор с Варварой Зориной, так ловко заманившей меня в этот страшный капкан. Да, теперь я знал, с какой целью прибыла она со своим рюкзаком в город Горький, но слишком поздно раскрылось мне ее коварство. А она делала вид, будто ничего особенного не случилось, и даже улыбалась мне временами, как бы ободряя меня в моем горьком одиночестве в оставшиеся мне последние немногие минуты жизни.
Вся их компания расположилась на носу парохода у флагштока… Сидя как попало на бортовых выступах, на скрученном швартовом канате и просто на палубе, они громко распевали песни о Волге, о Стеньке Разине и всякие другие в том же роде. И когда я проходил мимо них по палубе, огибая носовой салон, Варвара каждый раз поглядывала на меня с улыбкой, не переставая петь. А может быть, и не с улыбкой. Может быть, улыбка мне только чудилась в блеске ее белых зубов между раскрытыми полными губами цвета спелой вишни. Зачем было ей теперь улыбаться и притворяться доброжелательной ко мне, если задачу свою она уже выполнила — завлекла меня зверю в пасть? Теперь на радостях по поводу этого ей оставалось только петь. И другим участникам этого хитро задуманного дела тоже ничего не оставалось, как ей подпевать. Так обстоят у них тут дела с финским гостем, если ему случилось попасть невзначай в их коварный город Горький. Запомните это на всякий случай вы, финские люди, и не повторяйте моей ошибки.
Продолжая шагать взад и вперед вдоль палубы и приглядываться к людям, я заприметил еще одного человека, которого не было днем. Должно быть, он поднялся сюда с нижней палубы. Это был высокий парень, лет около тридцати. Солнце сделало темно-коричневым его широкое простоватое лицо и высветлило волосы на его голове так, что уже трудно было угадать их первоначальный цвет. Глаза его тоже были какой-то неопределенной светлой окраски. Но зато они не пытались в меня всматриваться. Он попался мне навстречу несколько раз и каждый раз глядел куда угодно, только не на меня. Был момент, когда он остановился у борта, любуясь уходящими вдаль водными просторами. В руке он держал газету «Правда», сложенную так, что каждый мог видеть ее название. А из кармана его пиджака торчала другая газета, на которой тоже легко можно было прочесть название «Горьковская правда». Подойдя к борту, я стал рядом с ним. Но он опять меня не заметил и даже замурлыкал какую-то песенку, настроенный на веселый лад красотой реки. Я прислушался. Песенка его была короткая и состояла всего из семи слов. Пропев ее раз, он снова и снова задумчиво повторял ее негромким, сиповатым голосом:
Взвейся, знамя коммунизма, Над землей трудящих масс.Да, это был, как видно, хороший, безобидный парень, и жаль, что все остальные люди на теплоходе не походили на него. Но уже поздно было такое желать. Капкан захлопнулся. И с минуты на минуту из салона на палубу мог выйти тот, который клал конец моим последним попыткам на что-то надеяться и что-то еще желать.
Солнце тем временем зашло за высокий правый берег реки, и небо над ним окрасилось в разные яркие краски, среди которых преобладала оранжевая. Но краски эти довольно быстро потускнели. Берега реки сделались черными. Вода тоже потеряла свой естественный цвет. На палубе наступили сумерки. Их усиливал навес, тоже огибавший палубу вкруговую. Сооруженный для защиты пассажиров от дождей, он в то же время отнимал от них какую-то долю дневного света.
Чтобы не столкнуться с кем-нибудь в сумерках, я присел на скамью, прислоненную спиной к надстройке. И еще кто-то присел на другой конец этой скамьи. Я не мог разглядеть его лица. Но вот над нашими головами зажглись лампочки, и я вмиг поднялся с места, уходя от него подальше вдоль палубы. Конечно, это уже не могло меня спасти, но на какое-то время все же отдаляло мой конец. А он проводил меня внимательным взглядом, в котором ясно можно было прочесть уготованную мне судьбу.
Спасаясь от него, я зашел в носовой салон. Он был меньше размером, чем кормовой, и не имел буфета. Вместо бутылок и посуды в нем на столах лежали газеты и журналы. А у стены стоял широкий шкаф со стеклянной дверцей, за которой виднелись ряды книг. Я постоял перед ними, разбирая названия на корешках. Тут были собраны книги разных писателей, русских и нерусских. Некоторые из них я уже прочел у Ивана Петровича. Но многих не знал.
Пока я их рассматривал, в салон вошла маленькая светловолосая девушка в зеленом шелковом платье. Она спросила меня:
— Вас книги интересуют? Не желаете ли взять почитать?
Я, конечно, не рассчитывал на это, но кивнул. Она отперла дверцу шкафа и предложила мне выбрать книгу самому. Я взял наугад одну в кожаном переплете. Это оказалась история России. Девушка сказала:
— О, зачем же вы старую взяли! Она же неполная. Попала сюда случайно, когда капитан сдал нам свою личную библиотеку. Вот здесь новая книга есть по истории СССР. Она включает все события почти до наших дней.
Я попросил обе книги. Девушка записала мою фамилию, номер моей каюты и, узнав, что я еду до Сталинграда, сказала:
— О, вполне успеете просмотреть обе.
Заперев шкаф, она вышла, а я присел на диван, рассматривая полученные книги. В это время в салон вошел Иван. И хотя он подсел к столику, где лежали газеты и журналы, однако по его пытливому взгляду, брошенному в мою сторону, легко можно было догадаться, зачем он тут появился. Прикидываясь, будто не заметил его прихода, я встал и, листая книги на ходу, вышел из салона.
Подходя к своей каюте, я увидел в коридоре того простоватого парня с темным широким лицом и выгоревшими волосами, который так любил газету «Правда». Мне даже показалось, что он вышел из моей каюты. Но это мне, конечно, только показалось. Не мог он выйти из моей каюты. Каюта была заперта, и ключ от нее лежал в моем кармане.
Не оглядываясь на меня, парень с газетой в руке прошел в глубину коридора и заглянул в дверь буфета. Потом повернулся и пошел обратно. И пока я пытался повернуть в замке ключ, он прошел мимо, не глядя на меня и тихо напевая приятным сиповатым голосом:
Взвейся, знамя коммунизма, Над землей трудящих масс…Он вышел из коридора на палубу, а я все еще никак не мог повернуть ключ в замке. И тут я сообразил, почему ключ не поворачивался в замке. Замок уже был отперт. Я нажал ручку двери — и она открылась. В каюте все было на месте. Да и что в ней могло оказаться не на месте, если все мое хозяйство было при мне в карманах. Я уселся поближе к свету и начал читать предисловие новой книги по истории России. В предисловии было коротко рассказано о том, как Россия из глубокой дикости пришла при социализме к таким высотам, каких еще не достигала ни одна страна.
Прочитав предисловие, я выключил в каюте свет, сел у окна и раздвинул занавески. За освещенной полосой палубы расстилалась темнота, и в этой темноте плыли мимо огни, красные, зеленые, желтые, близкие и далекие. Русская река Волга раскинулась перед моими глазами, унося меня куда-то в темноту русской ночи. Так обстояли у меня дела на этот раз.
Но людей на палубе становилось все меньше, и скоро она совсем опустела, по крайней мере напротив моего окна. Помедлив еще немного, я вышел из каюты на палубу поразмяться перед сном. На палубе действительно уже никого не оказалось, но освещена она была по-прежнему ярко. Я прошел в носовую часть мимо завешенных окон чужих кают, где постепенно один за другим гасли огни и наступала тишина. Пустынно и тихо было также в носовой части. Веселая компания, распевавшая песни, тоже разбрелась по своим каютам.
Я постоял немного под флагштоком, на котором горела лампочка. Носовая часть нижней палубы, заваленной товарами, выступала вперед немного дальше верхней, и на ней среди тюков и ящиков там-сям дремали люди, укрывшись походными одеялами. При свете лампочки можно было разглядеть молодые лица парней и девушек и разные походные сумки и рюкзаки. Как видно, и те внизу тоже собрались в далекий путь. Вся Россия совершала у них походы в эти жаркие летние дни.
Немного в стороне от остальных лежал под серым плащом тот самый широколицый простоватый парень.
Он тоже как будто спал, но вот шевельнулся и открыл глаза. Потом привстал, упираясь локтем, и медленно повел взглядом вокруг. Я не хотел, чтобы его глаза заметили меня. Не стоило мешать этому хорошему парню любоваться красотой летней ночи. Отступив назад от флагштока, я сел на скамейку, откуда тоже мог бы любоваться красотой русской ночи без помехи.
Но без помехи не обошлось. Кто-то подошел к моей скамейке с левого борта и остановился. Я обернулся и увидел Варвару Зорину. Ничего удивительного в этом, конечно, не было. Кому как не ей, главной участнице моего похищения, было заботиться о том, чтобы я не сбежал от уготованной мне суровой расплаты. Одета она была все в ту же короткую, тесную темно-красную куртку и в черные штаны, плотно облегавшие ее могучие бедра.
Она, может быть, не хотела, чтобы я ее заметил. Но я ее заметил, и ей поневоле пришлось открыться. Сделав вид, что наткнулась на меня случайно, она сказала;
— А, это вы.
Да, это был я. А кому же еще тут надлежало быть? Не мне ли определила судьба принять наказание за все совершенные мной злые дела против России? И вот я сидел, готовый принять это наказание, не рискнув даже прыгнуть за борт, чтобы добраться до берега вплавь. А она постояла еще немного, довольная, как видно, тем, что я не удрал из-под ее надзора, а потом присела на ту же скамейку в полуметре от меня.
Так мы просидели с ней рядом некоторое время, не говоря ни слова. О чем ей было со мной говорить? Все их разговоры со мной кончились. Настало время дел. А пароход тем временем катил нас по темной глади великой русской реки, ударяя по воде лопастями своих колес. Перед нами на шесте горела лампочка, освещая носовую часть палубы. И вместе с этой палубой и лампочкой нас несло куда-то в неведомую теплую мглу, где роились и двигались туда-сюда огни разного цвета.
Я покосился на сидящую рядом девушку. Это была такая девушка, у которой все крупно: и лицо, и глаза, и губы, и черные бунтующие волны над головой, колыхаемые встречным ветром. И думы ее тоже, наверно, были крупные и серьезные, под стать ее размерам. И только сейчас в этих высоких, недосягаемых для меня думах наступила передышка. Они временно принизились, обратясь к моей скромной персоне. Однако, пробуя скрыть, ради какой цели они временно обратились к моей персоне, она задала мне посторонний вопрос:
— Вы Никанора последний раз давно видели?
— Давно.
Так я ей ответил без всяких колебаний. Действительно, когда я видел Никанора и где? В каком-то другом, далеком царстве-государстве, в далекой прошлой жизни, которая уже никогда ко мне не вернется. Варвара спросила:
— Как давно?
Я ответил:
— В начале июня.
— Он один был или с кем-нибудь?
Я понял, что ее интересовало. Она думала о какой-то другой девушке. Нет, я не видел его с другой девушкой. Я видел его с Василием. Но даже про Василия не стоило ей говорить. Зачем ей было знать, как Никанор ударял Василия о ствол дерева? Тем более что длилось это недолго и дальше Никанор опять пошел один. Я так и сказал ей:
— Он шел один по саду мимо Адмиралтейства.
Она кивнула и задумалась, всматриваясь в глубину ночи, где были рассыпаны огни разного цвета и разной яркости. Думала она, конечно, о том, как бы понадежнее доставить меня к одному из этих огней. О чем еще могла она думать, обремененная столь важной заботой?
Так мы сидели с ней рядом вдвоем среди ночи — сильная, красивая русская девушка и хитрый, изворотливый финн, вознамерившийся обернуть вокруг пальца всю их огромную Россию, но потерпевший в этом деле крах. Мы сидели и молчали, глядя вперед на темную волжскую воду, уносившую меня к моей последней неведомой пристани.
И, хорошо зная, какой конец уготован мне на этой пристани, я решил напоследок хотя бы поговорить немного. Чего мне было стесняться? Все равно умирать. И, думая так, я сказал сидевшей рядом девушке:
— Скажите, пожалуйста, не откажите в неведении, что должен делать мужчина, если женщина, которую он поцеловал, ударила его за это по щеке?
Быстро обернувшись ко мне, она некоторое время с подозрением вглядывалась в мое лицо своими черными глазами, тронутыми прозеленью, потом спросила строго:
— Это вы о ком?
Я понял, что она приняла мой вопрос на свой счет, и постарался отвести ее подозрения. Я сказал:
— Это я об одном финне. Он был тут у вас в России и хотел жениться на этой женщине.
Она опять с минуту всматривалась в меня молча. Я не мешал ей всматриваться. Но мне хотелось, чтобы она догадалась, что я не о каком-то другом финне говорю, а о самом себе. Не знаю, догадалась ли она. Может быть, и догадалась, только оставила это про себя. Она спросила:
— Это русская женщина?
— Да.
Ее черные глаза, разбавленные зеленым цветом, еще некоторое время продолжали изучать мое лицо, затем последовал новый вопрос:
— А она тоже любит его?
Похоже было, что девушка все-таки догадалась, о каком финне шла речь, но, принимая мою условность, не показала виду. Я ответил ей:
— Не знаю. Скорее не любит, чем любит.
— О, это совсем другое дело. Это очень плохо для него.
Мне стало не слишком весело от этих ее слов. Она заметила это и добавила:
— Но все же духом падать ему не следует. Пусть борется, добивается. Ничто на свете не дается без борьбы, а в особенности человеческое счастье. Во всяком случае, пусть не таит это в себе и почаще высказывает ей свои чувства. Это подействует на нее рано или поздно. Не может не подействовать. А молчание делу не поможет. Женщины не любят молчальников.
Вот как мудро она умела говорить, эта девушка, сама тоже основательно затронутая любовью. И, пробуя выпытать у нее еще что-нибудь полезное для себя, я спросил:
— А если и она его любит?
— Тогда тем более не следует ему молчать. Пусть выговорится. Для того и наделен человек даром речи, чтобы пользоваться им. Особенно в таких обстоятельствах. Ведь это же на всю жизнь! Как можно тут молчать! Сказать ей нужно все, чтобы полная ясность была с его стороны и определенность. Надо же помнить, что она ждет этого. Нельзя же без конца донимать ее молчанием. С ума можно сойти от такого молчания, от неизвестности, от нелепости всего этого, от глупости, наконец!
Она слегка наклонилась вперед, поставила локти на колени и, подперев ладонями подбородок, задумалась. Ее взгляд, устремленный вперед, выражал тоску, и черные брови хмурились. Она повторила еще раз: «С ума можно сойти». Уткнулась в ладони лицом. И, сохраняя это положение, принялась медленно раскачиваться взад и вперед. При этом все темное море ее волос тоже задвигалось туда и сюда, захлестывая своими беспокойными волнами попеременно то ее сильную белую шею и плечи, то лицо и руки по самые локти. Встречный ветер тщетно пытался пригладить и успокоить эти черные буйные волны.
Похоже было, что она крепко о чем-то загрустила и даже готовилась поплакать. Полагая себя обязанным удержать ее от этого, я сказал:
— Не надо грустить.
И, чтобы как-то подкрепить свои слова, я коснулся рукой ее головы. Не то чтобы я хотел ее погладить, как ребенка. Трудно было бы пригладить это черное буйство, раскинувшееся на все стороны. Но надо же было чем-то подкрепить сказанное. И вот я протянул руку, а мои пальцы, не зная, что делать, просто так окунулись в густоту ее волос, ощутив их упругость и жесткость.
Она мгновенно выпрямилась, взглянув на меня с недоумением. И я не увидел в ее черно-зеленых глазах даже признаков слез. Посидев еще с минуту молча, она встала и, сказав мне «спокойной ночи», ушла в свою каюту.
Отправился и я в свою. И, вытянувшись там на постели под легким летним одеялом, я подумал, что вот и тринадцатый день моего отпуска миновал, а я все еще был далеко от своей женщины. И не только был далеко, но и продолжал от нее удаляться. Как долго этому еще предстояло длиться — я не знал. Но зато я теперь знал твердо, чего стоили заверения Ивана Петровича относительно дружелюбия русских к финнам. Очень мало они стоили. Какой тут мог быть разговор о дружелюбии, если первый же попавший к ним финн без всякого милосердия обрекался на гибель. На мне проверилось это. Стоило мне удалиться от Ленинграда на самую малость, как они меня сразу же поймали в заранее расставленные сети и поволокли на расправу в глубину своей страшной России. И, чтобы не потерпеть провала в этом черном деле, они сговорились между собой все поголовно, от старых до малых. Даже красивые девушки состояли в этом сговоре и даже небесные дожди.
И где-то тут совсем близко оказался теперь тот страшный Иван. Ему осталось только слегка протянуть свою железную руку, чтобы достать мое горло. Он подстерегал меня у дверей каюты, он заслонил собой окно, он ловил ухом каждое мое движение через стену и потолок, он держал в своих ладонях все это судно, плотно сжав пальцы, чтобы не дать мне проскочить между ними. Всю Волгу держал он под своим надзором, во всю ее длину и ширину, от берега до берега, заботясь о том, чтобы не засорились ее воды от присутствия какого-нибудь финна. И даже небо над Волгой держал он в чистоте, прощупывая там вдоль и поперек до самых звезд ночную темноту и тучи. И не было мне никакого спасения на этот раз.
Только Юсси Мурто сумел бы, может быть, вырвать меня из этого капкана. Но где был Юсси Мурто? Далеко он был. И, возвышаясь где-то там, среди холодных туманов севера, он все думал о чем-то, угрюмо глядя на Ивана. О чем он так упорно думал последнее время, немногословный голубоглазый Юсси? И, думая о чем-то своем, он готовился, кажется, что-то сказать Ивану, смотревшему на него с любопытством сквозь мрак и тучи из своих русских просторов. И он действительно сказал ему после долгого раздумья: «Нет, все не так у вас идет, как надо. Вы сбились. В делах жизни целого народа надо исходить из здравых понятий. А вы исходите из настроения. Это ставит вас вне общего потока. Жизнь обтекает вас и уходит вперед. А вы, стоя на месте и размахивая руками, думаете, что это движение создаете вы. Нет, не вы. Совсем другие силы толкают жизнь».
Так сказал Юсси Мурто, все еще угрюмо думая о чем-то и выдавливая из своего молчаливого рта по одному слову в минуту. А Иван, выслушав его, беззаботно тряхнул головой и ответил: «Ништо! Кому судить об этом? Не тому, кто сам позади на целую эпоху. История будет судить. А ее суд самый верный и справедливый». На это Юсси сказал: «Да, именно история. И она отметит, что вы потратили почти сорок лет на то, что естественным способом смогли бы создать за десять лет». И опять ему ответил Иван: «Ништо! Ваш естественный способ держал Россию на целые столетия позади Европы. И, только устранив этот способ, мы вырвались на первое место». Но Юсси сказал: «Нет, это не первое место. Вам, конечно, хотелось бы, чтобы оно было первое, но история поставит вас очень далеко от первого места». В ответ на это по темному небу некоторое время раскатывался громоподобный смех Ивана, колебля облака и звезды. Потом прозвучали его слова: «Много вы понимаете в истории». И тут же последовал ответ Юсси: «Много. Потому что я продукт истории. А вы на какое-то время выпали из нее. У вас все не так. Законами истории установлено, что война, кроме бедствия, приносит пользу. Она толкает вперед развитие хозяйства страны. Но это касается нормальной страны, а не вашей. Вы вне этих законов. Вот и сейчас, например. Война кончилась десять лет назад, а по вашей Волге ползет плоское судно на колесах, построенное еще в царское время. И ползет оно не прямо, а виляя туда-сюда между мелями и перекатами, которые сохранились у вас еще со времен Степана Разина. Где оно тут, ваше первое место?». И на это тоже не замедлил последовать ответ Ивана: «А вы поближе сюда подойдите! Поближе к нам и делам нашим! Тогда, быть может, заметите не только мели и перекаты, но и многое другое, достойное вашего высокого внимания». И опять задумался придирчивый Юсси, изобретая новые упреки. Но я уже не услыхал их, уйдя в глубокий сон.
39
Утром пароход остановился у какого-то города, и народ повалил на пристань. Ушли на берег почти все пассажиры. Ушла и Варвара со своей компанией. Как видно, остановка предполагалась длительная. Мог и я выйти, конечно. Почему бы нет? Я тоже охотно прогулялся бы по незнакомому русскому городу и, кстати, выяснил бы, как тут обстояли дела с железной дорогой. Именно железная дорога стоила того, чтобы затруднить себя такой прогулкой. И если она тут имелась, то я быстро сообразил бы, как мне с ней поступить.
Рассудив так, я направился в носовой салон, чтобы вернуть девушке книги по русской истории. Но ее там не оказалось. А пока я поджидал ее, сидя на диване, в салон вошел тот самый Иван. При виде меня он злорадно ухмыльнулся, показав полный рот стальных зубов, и сказал:
— Привет!
Я кивнул и тут же сделал вид, что занят чтением книги. Однако его это не смутило. Пройдя вперед, он сел на тот же самый диван, почти рядом со мной. Я выждал немного, готовый немедленно броситься к двери, если понадобится. Он молчал. Думая, что и он занят чтением, и поднял голову и осторожно покосился в его сторону. Нет, он не читал. Он сидел на диване, полуобернувшись ко мне, и внимательно меня рассматривал. Встретив мой взгляд, он спросил:
— Вы тоже оттуда?
И указал большим пальцем через свое плечо. А за его плечом был север. Да, я был с севера, если он это имел в виду. И, не имея причины этого скрывать, я кивнул. Он сказал удовлетворенно:
— Я так и подумал.
Это требовало объяснения, и я спросил:
— Почему так и подумали?
Он пояснил:
— О-о, наш брат крученый-мученый сразу бросается в глаза. Его нельзя не приметить. Он все время как на иголках. По малейшему поводу вздрагивает. Разве не так?
И он улыбнулся, опять блеснув стальными зубами. Эти зубы не украшали его улыбки. Да и сама улыбка как-то не вязалась с его тонкими, сухими губами, темной, обветренной кожей лица и впалостью щек. И, видя, что он ждет от меня ответа, я сказал:
— Я не совсем понимаю… простите…
Однако он возразил с недоверием:
— Да ладно вам прикидываться! Теперь-то уж бояться нечего! Все окончательно позади.
— Что позади?
— Все.
Я опять, конечно, не понял его, но промолчал, выжидая, чтобы он высказался определеннее. А он продолжал:
— И будем надеяться, что это больше не повторится. Хватит. Наломали дров. От нас самих зависит не допустить этого впредь.
— Чего не допустить?
Он помолчал немного в ответ на мой вопрос и потом сказал:
— Не понимаю, что заставляет вас разыгрывать из себя этакого простачка. Как будто вы с другой планеты. Кстати, вы откуда сами-то?
— Из Финляндии.
— То есть из Карело-Финской республики? Это я уже по вашему акценту определил.
— Нет, я из той Финляндии, которая с вами воевала.
— А-а! Так вы, что же, переселились к нам?
— Нет, не переселился. Через два месяца еду обратно.
— Ах, вот как…
Он опять задумался и на этот раз уже не улыбался. А спустя минуту он встал, готовясь выйти из салона. Я спросил его:
— Вот вы сказали: «Наломали дров». Каких дров?
Он ответил, не глядя на меня, и губы его при этом стали совсем тонкими и белыми, едва двигаясь перед вставными зубами:
— А это, знаете, наши внутренние заботы. Семейные, так сказать. И мы в них как-нибудь сами разберемся.
Сказав это, он вышел. А я еще посидел немного в ожидании девушки, но, не дождавшись ее, тоже ушел в свою каюту читать историю России.
Я читал ее до обеда и потом от обеда до ужина. Судно продолжало идти вниз по Волге. Оно стояло у той или иной пристани, сколько ему было нужно, и опять неторопливо шло дальше, поворачиваясь на своем пути то вправо, то влево, как этого требовали установленные на воде вехи.
Когда над палубой опять зажглись вечерние огни, я увидел стоявшего у борта Ивана. Но он уже не старался подойти ко мне. Подошел к нему я сам. А подойдя, спросил:
— Скажите, пожалуйста, не откажите в углубленности. Вот вы сказали тогда насчет дров. Почему вы их ломали, а не пилили и не кололи?
Он взглянул на меня такими глазами, как будто впервые увидел. Не знаю, что он готовился мне ответить, потому что в этот момент кто-то вскричал:
— Вот она, Куйбышевская!
И люди, заполнявшие палубу, стеснились у борта, вглядываясь в правый берег реки, очень высокий в этом месте. Его, верхняя волнистая кромка четко обозначалась на западном небосклоне, еще не успевшем угаснуть. А внизу, у самой воды, рассыпались в разных направлениях яркие огни. Они то соединялись в ослепительные сгустки, то разбегались цепью. От этих огней к середине реки тянулся высокий темный вал. Ему навстречу от левого низкого берега, тоже залитого огнями, тянулся такой же вал. Где-то на середине реки им предстояло соединиться, насколько я это понял из разговоров людей, толпившихся на палубе. А пока что река свободно проносила свои воды между ними и только чуть прибавляла скорости, словно предвидя грозивший ей плен. Зато по воздуху оба берега уже соприкоснулись друг с другом, сцепленные проводами, тросами и металлическими сетками. По этому зыбкому поднебесному мосту даже ходили люди. Мы быстро проскочили под ним, и постепенно он исчез из виду вместе с береговыми огнями.
Когда на палубе стало свободнее, я попробовал найти Ивана, чтобы повторить свой вопрос. Но Ивана уже не оказалось на месте. Тогда я опять ушел в свою каюту читать историю России. Я читал ее до глубокой ночи, заглядывая попеременно то в одну книгу, то в другую. Одна из них была издана в начале века, задолго до их революции, а другая — после второй мировой войны. И странно было видеть, как по-разному излагались у них одни и те же события далеких прошлых лет. Казалось бы, история есть история. Ее задача — рассказать, когда, где и что происходило, а попутно сообщить, каким был тот или иной делатель истории: злым и глупым или добрым и умным. Это объясняло, почему событие происходило именно так, а не этак. Но по новой книге выходило, что делателем истории всегда был народ, который не мог поступать глупо, а действовал по каким-то определенным общественным законам.
Раздумывая над этим, я лег спать очень поздно. И, вытянувшись под одеялом, подумал, что вот и четырнадцатый день моего отпуска миновал, а моя женщина все продолжала от меня удаляться. И не было видно этому конца. Река Волга уносила меня от нее куда-то на край света.
Только Юсси Мурто сумел бы, может быть, вызволить меня из этой беды, окажись он здесь. Но не было здесь Юсси Мурто. Далеко он был. И, возвышаясь где-то там, над хвойными просторами севера, он все еще думал о чем-то, озирая раскинувшуюся перед ним Россию. О чем он так упорно думал, молчаливый, медлительный Юсси? Распираемый своими мыслями, он собирался, кажется, заговорить о чем-то, угрюмо глядя на Ивана. Но на этот раз я заснул, так и не дождавшись, когда он откроет свой молчаливый рот.
40
На следующий день мне опять не удалось задать Ивану свой вопрос. Едва завидя меня на палубе, он куда-то скрылся. Днем я застал его в салоне-буфете. Он сидел в стороне от других обедающих за отдельным столиком, склонившись над меню. Я подсел к нему и сказал: «Здравствуйте». Он кивнул, не отрываясь, однако, от чтения, хотя меню было совсем коротким. Я подождал немного, обдумывая свой вопрос, а он все читал, готовясь заказать себе обед. Выбрав наконец нужное блюдо, он подвинул карточку ко мне и достал папиросу. Курить в салоне, кажется, не полагалось. Тем не менее он сунул папиросу в рот и полез за спичками. Не найдя их в одном кармане, полез в другой. Потом встал, похлопывая ладонями по всем карманам, и быстро вышел из салона, проворчав с досадой: «Вот черт, спички забыл».
Я мог бы сказать ему, где его спички. Они находились у него в левом кармане пиджака. Оттуда они отозвались, когда он хлопал себя по карманам. Я мог бы даже предложить ему свои спички, но не успел. Он вышел слишком быстро, И пока я обедал, он в салоне больше не появлялся.
Позднее я увидел его снаружи. Он шел неторопливо по круговой палубе, заложив руки за спину и глядя себе под ноги. Заметив меня, он ускорил шаг, убрав из-за спины руки и подняв голову. Но я тоже ускорил шаг, чтобы догнать его и еще раз повторить свой вопрос, на который он пока что не дал ясного ответа. Стараясь не упустить из виду его широкую спину в светло-сером пиджаке, я устремился вслед за ним, обгоняя идущих впереди меня и обходя встречных.
И вдруг он остановился, резко обернувшись ко мне и засунув руки в карманы брюк. Свет ближайшей лампочки плохо доставал до его худого темного лица, и я не увидел на нем губ — так плотно они были сомкнуты. Зато в его глазах свет лампочки отразился, и они сверкнули навстречу мне такими злыми огнями, что я раздумал задавать ему вопрос. Зачем стал бы я задавать ему вопрос и о чем? Никаких вопросов к нему у меня не было. Все было ясно для меня без всяких вопросов. И я молча прошел мимо, отведя от него свой взгляд.
Не удалось мне также задать в этот день вопрос Варваре Зориной. А вопрос касался очень простой вещи: скоро ли мы прибудем к месту и есть ли там железная дорога? Но я даже подойти к ней не сумел в этот день, потому что на палубе она постоянно находилась в окружении своих подруг и друзей и мне уже не улыбалась, даже не замечала меня. А когда пароход останавливался у какой-нибудь пристани, они всей ватагой выходили на берег, не пытаясь пригласить меня. Так относятся здесь к человеку, который вздумает посочувствовать им в беде. Что мне оставалось делать после этого? Я шел в свою каюту дочитывать историю России, чтобы понять хотя бы из истории причину такого их поведения. Но история не давала этому разгадки.
А пароход продолжал скользить вниз по реке, по-прежнему огибая на своем пути невидимые мели. Река становилась все шире. Зеленые леса на ее берегах постепенно редели и скоро совсем пропали. Вместо них потянулись голые травянистые скаты, бурые от солнца. И только редкие селения на этих скатах удерживали при себе зелень деревьев.
Так прошел пятнадцатый день моего отпуска. Что он мне принес? Ничего он мне хорошего не принес. Наоборот. Он отдалил меня еще больше от моей женщины и приблизил к тому страшному Ивану. А я не хотел попадать к нему в лапы. Пускай бы к другому кому-нибудь обратил он злой блеск своих глаз. Но не было перед ним другого. Один я был определен судьбой ему на расправу. И пароход неотвратимо нес меня к нему.
Только присутствие Юсси Мурто могло бы, может быть, оградить меня как-то от этой беды, но далеко был Юсси Мурто. Да и что он мог знать о здешних бедах? Совсем иные мысли обременяли его многодумную голову, и разговоры он вел с Иваном далекие от моей судьбы. Не покидая пределов севера, он говорил что-то с угрюмым видом и затем выслушивал ответ, идущий к нему из русских просторов. И снова он упрямо что-то говорил, и снова шел к нему веселый русский ответ. Туда и сюда носились над землей два голоса. В одном из них таились угрюмость и недоверие, а другой просто так откликался — лишь бы откликнуться, даже как бы давая понять своим беспечным тоном, что ему ни жарко, ни холодно от чьих бы то ни было недоверий. Один говорил: «Да. Все это так. Вы очень красиво и гладко определили устройство мира на сто лет вперед. Но, делая туда шаг, не наступите на человека». А другой откликался: «Ништо. Сам человек туда идет. Как может он наступить сам на себя?». Один говорил: «Да. Пусть так. Но вы заранее установили человеку место в том далеком мире, измерив его своей мерой. Откуда вам знать, что мера ваша верна и что человек втиснется в отведенные вами рамки?». И опять откликался другой: «Не наши рамки и не наша мера. Все установит сам человек, исходя из своего роста и своих достижений. Мы лишь открыли ему дорогу туда». И опять что-то ворчливое произносил угрюмый голос. Но я уже не разобрал в нем слов, погрузившись в сон.
41
На следующий день я дочитал наконец обе книги по истории России и сдал их в носовой салон девушке. И в тот же день судно прибыло в Сталинград. Дальше билет не давал мне права ехать, и я сошел со многими другими на берег. На пристани я немного задержался. Там возле сходней случилась какая-то заминка. Темноволосый Вася вел перед собой уже знакомого мне высокого широколицего парня, у которого из кармана пиджака торчала газета. Тот пытался вывернуться, но Вася крепко держал его за руку и за воротник пиджака.
И вдруг парень все-таки вырвался, оставив пиджак в руках Васи. Расталкивая людей, он бросился по сходням на берег. Вася крикнул, устремляясь вслед за ним:
— Держите его! Держите!
Но люди не сразу сообразили, что происходит и кого нужно задержать. А парень тем временем успел перебежать по сходням с пристани на берег. И там ему дорогу внезапно заступил Иван со стальными зубами. Вначале казалось, что крупный и грузный парень опрокинет с разгона не очень-то плотного на вид Ивана. Но получилось наоборот. Они сшиблись и некоторое время потоптались на месте, сцепившись руками, а потом Иван с неожиданной силой отбросил парня назад, прямо в объятия подоспевшего Василия. К Василию прибежали на помощь его товарищи. Увидя это, Иван крикнул:
— Держите его крепче! Сейчас милиционера пришлю!
Кое-кто из пассажиров остановился возле Василия, пытаясь вникнуть в происходящее. А он завернул парию руки назад и сказал, тяжело переводя дыхание:
— Ну что, достукался, трудящий? Рано тебя выпустили, приятель. — И, обращаясь к любопытствующим, пояснил: — Каюты вздумал чистить. Амнистированный. Бериевское наследие, так сказать. Выпустил на нашу голову всяких уголовников-рецидивистов — попробуй вылови их теперь!
Широколицый парень опять попробовал вывернуться из его рук, но он пригрозил, встряхнув его сзади:
— Хватит рыпаться, а то изуродую, как бог черепаху, и отвечать не буду.
А тот проворчал неожиданно низким голосом, какого я и не предполагал у него в те моменты, когда он пел песню про землю трудящих масс:
— Это тебе, легавому, так не пройдет. Я тебе это еще припомню. Получишь у меня перышко под ребрышко.
Черные глаза Василия вспыхнули новой яростью, и он, кажется, тут же готов был выполнить свою угрозу насчет черепахи, но его товарищи сказали:
— Ладно, Вася, не надо. В милиции разберутся.
В это время к ним подошел милиционер в синей форме, и все они ушли в служебное помещение пристани. Девушки крикнули им вслед:
— Мы вас тут подождем! Не задерживайтесь!
Они остались там, на пристани, возле груды своих рюкзаков, а я ступил на берег. Не знаю, что надо было мне на этом далеком, чужом берегу. Я зашагал по нему вместе с другими людьми, прибывшими на пароходе, сам еще не зная куда, и знойный полуденный ветер обдал мне лицо. Он нес откуда-то с южной стороны желтую пыль, оседавшую на траве, на листве деревьев и на одежде людей.
Широкая каменная лестница, проложенная среди зеленых газонов и сквериков, вела по склону берега вверх. Я поднялся по ней вместе с другими людьми и сверху еще раз окинул взглядом широкую гладь великой русской реки Волги, отразившей в себе сверкающее синее либо. Пелена тонкой пыли не мешала мне видеть идущие по ней в обе стороны суда, баржи, буксиры, лодки. Мой пароход все еще стоял у пристани. Прощай, моя уютная каюта, давшая мне на три дня приют! Прощай, Волга! К другой реке, не менее знаменитой и красивой, рвется мое сердце. Но умчусь я к ней по железной дороге.
Повернувшись лицом к улицам города, я стал всматриваться в ряды домов, пытаясь разглядеть среди них здание вокзала. В это время за моей спиной послышалось частое дыхание бегущего снизу вверх по каменным ступеням человека. Я обернулся, и предо мной оказалась Варвара Зорина. Она была все в тех же тесных штанах и в курточке, расстегнутой на груди, но без рюкзака. Как видно, ей стало неудобно отпускать меня без прощального слова. Ведь не кто иной, как она втянула меня в это путешествие. И вот она оторвалась на минуту от своих подруг, чтобы сказать мне:
— Простите, я потеряла вас из виду… Вы куда теперь, товарищ Турханов? Может быть, с нами? Мы пешком вдоль канала. А потом по Дону в Ростов и дальше. Как вы на это?
Но я понял, что предложила она мне это больше из вежливости. Она явно осталась довольна, когда я ответил:
— Нет, спасибо. Я хотел бы город сперва посмотреть.
Она немедленно одобрила это утвердительным кивком, отчего все черное окружение ее головы, и без того свирепо колыхаемое ветром, встряхнулось и заволновалось еще сильнее. И заговорила она торопливо и убедительно, словно боясь, что я раздумаю от них оторваться:
— Да, город стоит посмотреть. Ведь это здесь произошла величайшая в истории человечества битва, которая решила исход второй мировой войны. Совсем еще недавно он был весь в развалинах. А он же огромный: на шестьдесят километров тянется вдоль берега. Но сейчас уже многое восстановлено. Центр, например. Это если туда идти, к площади Мира. Там все асфальтировано. Новые дома кругом. Дворец культуры. Вокзал. Мы здесь уже побывали два года назад и все это видели. С тех пор новые дома прибавились, новые улицы протянулись и скверики гуще зазеленели. В северной части тракторный завод полностью восстановлен, и даже строительство гидроэлектростанции началось. Но вам лучше всего начать с музея обороны. К нему по этой улице дойдете. А там сами нацелитесь на то, что покажется вам интереснее и важнее.
Я начал с музея. То есть я не собирался с него начинать. Но, спросив у проходившего мимо парня дорогу к вокзалу, я узнал, что пройду мимо музея, и зашел туда на минутку.
Однако провел я в музее часа два, пытаясь вникнуть в то, что творилось в этом городе зимой сорок третьего года. Нелегко было в это вникнуть, имея перед глазами упрятанное под стекло мелкое подобие того, чем был этот город в дни войны. В дни войны он перестал быть городом, превратясь в пустыню, усеянную дырявыми кирпичными развалинами — остатками былых домов. Огненный вал с разрывами железа обрабатывал эту землю из конца в конец на многие километры. И когда все живое с нее сметалось, туда устремлялась, лязгая гусеницами, лавина стали, а вслед за ней двигались те силы, которые уже прошли победным шагом всю Европу. Они двигались, чтобы занять эту сожженную их огнем землю, закрепить ее за собой, установить здесь свои знаменитые печи и газовые камеры для истребления неугодных им народов.
Но тогда вставали на их пути защитники этой земли. Неизвестно, откуда они вдруг являлись на этой выметенной огненными вихрями мертвой полосе речного берега. Может быть, сама земля тут же на месте рожала их для своей защиты? Они вставали словно бы из-под земли — и все это, ревущее, громыхающее, изрыгающее огонь, сокрушалось об их живые груди, рассыпалось в прах и таяло, откатываясь назад.
И опять, уже с удвоенной силой, обрушивался на эту землю огненный вал, не только сметая все живое, но даже спекая в шлак последние еще уцелевшие кирпичи и камни. А за этим валом опять катилась на нее уже удвоенная лавина стали, изрыгающая удвоенной силы огонь, и двигались новые, удвоенные силы врагов. А как же иначе? Если не взяла одна сила, то нужна удвоенная. А взять надо было непременно. Только так были настроены эти силы, привыкшие покорять. Им непременно надо было взять эту отдаленную точку Европы, за которой где-то близко открывалась Азия. Вот и все. Там, на другом конце Азии, уже стояли наготове другие силы, союзные им, тоже объятые желанием вторгнуться. Взять надо было скорей эту крохотную береговую полосу, чтобы поощрить те силы к таким же действиям, чтобы разодрать эту страну надвое, чтобы навсегда утвердиться здесь, на берегу этой великой русской реки, со своими печами для сжигания народов. И потому-то устремлялись они к этой реке с удвоенной яростью.
Но опять вырастали на их пути из глубины этой сожженной земли ее неумирающие сыны. А как же иначе? Ведь это была их земля, их дом. Они хотели жить на этой своей земле. Жить, а не умирать. И потому они вырастали на ней живой преградой — и все идущее на них крушилось, ломалось и откатывалось назад, устилая пространство железным ломом и мертвыми телами.
И снова, уже с утроенной силой, свирепствовал над пустынной землей огненный ураган, и с утроенной силой катилась на нее одетая в стальной панцирь несметная лавина врагов, и снова откатывалась, разбитая и сломленная силой, которая неизменно вырастала на ее пути из глубины этой намертво испепеленной земли.
Сколько раз повторялось это за время зимы, постоянно нарастая в своем ожесточении! Как выдержала все это земля! И кто были они, устоявшие на этой земле после того, как все живое и мертвое на ней превратилось в золу? Люди ли это были? Нет, не люди они были. И если те, кто нес миру огонь и смерть, были порождением ада, то здесь на их пути встали боги.
И здесь решилось все. Полоса огня и смерти уже не распространялась дальше по лицу планеты. Адские печи, сжигавшие миллионы живых людей, не умножились в числе и не разместились на других материках планеты. Здесь был положен этому предел. И кто знает, не здесь ли была также спасена от этих печей моя родная Суоми?
Самое трудное было совершено здесь — поворот в движении войны. И этому нет сравнения в истории. Когда-то сюда с востока шел со своими ордами Чингисхан. И не было силы, способной его остановить. Потом шел сюда Батый, захватывая Россию. И опять-таки нигде не встретилась ему сила, способная остановить его орды. Два с половиной столетия понадобилось России, чтобы ослабить их. И тогда только смогла она отбросить их назад.
А здесь это было совершено за два с половиной месяца, и совершено в размерах, ни с чем в истории не сравнимых, ибо орды эти были одеты в сталь и на своем пути сюда прибавили к своим и без того огромным силам силы всей остальной Европы. И вот здесь они были остановлены. И не только остановлены, но и взяты в кольцо, из которого никто не вырвался. Как могло такое произойти?
Но не мне было пытаться давать определение тому, о чем здесь рассказывалось. Другим людям предстояло поломать над этим головы. И пройдет, надо думать, не один десяток лет, пока будет найдено этому объяснение.
Я перешел в комнату, где было представлено будущее города. Да, ему предстояло быть огромным и красивым. К северу от него строилась гидроэлектростанция. К югу от него уже действовал Волго-Донской канал. Макет канала стоял под стеклом, а рядом висела карта, показывающая реки и моря, которые канал соединял. На стенах красовались портреты самых знаменитых строителей канала. Тут же висели фотографии и чертежи разных механизмов, которые там применялись. А самым главным из механизмов был их знаменитый шагающий экскаватор ЭШ-14-60. Он тоже стоял в углу под стеклом в виде макета.
Но ведь где-то в этих краях работал также и тот экскаватор, которым ведал молодой Петр Иванович. Вот что мне вдруг пришло в голову! Ведь сюда он уехал работать из далекого Ленинграда, кончив электроинститут. А отсюда писал отцу и матери, что получил под свое начало новый шагающий экскаватор ЭШ-17-40. Где он сейчас работал, этот экскаватор? Я спросил об этом у женщины, следившей за порядком в музее. Она ответила:
— Я слыхала, что тот экскаватор в степи сейчас.
— В какой степи?
— Южнее Волго-Дона. Там идут подготовительные работы по орошению. И он тоже там один из магистральных каналов роет, я слыхала.
— А как его найти?
— Найти просто. Спросить.
— Где спросить?
— Ну, хотя бы в Красноармейске. А оттуда и добраться можно на попутной до экскаватора этого, если он вас так интересует.
— А где Красноармейск?
— В южной части. Туда автобусы ходят.
— Спасибо.
Так сложились мои дела. В южной части находился Красноармейск. То есть еще дальше к югу от того места, куда меня занесло. Рядом со мной был вокзал, откуда поезд готовился увезти меня на север к моей женщине. А я опять смотрел на юг. Никто не заставлял меня туда смотреть, никто не собирался увозить меня туда, и совсем не там была моя женщина, но тем не менее я опять повернулся лицом к югу. Так складывались опять у меня дела.
Да, это верно, там, на юге не было моей женщины. Но разве не имел к ней какое-то касательство молодой Петр Иванович? Вот я стоял тут один в далеком русском городе, и на сотни километров кругом не было людей, мне близких. Чужие мне люди заселяли все это пространство. И вдруг один среди них оказался не чужим. Он оказался даже очень близким, потому что имел какое-то касательство к моей женщине. И был он, кроме того, где-то тут, совсем рядом, среди этих огромных просторов, заселенных чужими мне людьми. Попутная машина могла меня к нему подбросить. Я сажусь в Красноармейске на попутную машину, и она доставляет меня прямо к Петру. Я говорю ему: «Здравствуй». И, взяв от него привет всем его родным и близким, везу этот привет отсюда, с этого вокзала, прямо к моей женщине на север. Только и всего.
И вот я приехал автобусом в Красноармейск. Это был поселок, вплотную прилегавший к городу и потому составляющий часть города. От него и начинался канал, идущий к Дону.
42
Побродив немного вдоль берега канала, обсаженного молодыми деревьями, и не встретив нигде попутной машины, я вернулся в Красноармейск. Там на одной из улиц я заприметил столовую и вошел внутрь. В столовой добрая половина столиков была свободна, но я подсел к одному пожилому, худощавому человеку в расстегнутой сиреневой рубахе и за едой спросил его насчет экскаватора. Он вытер платком пот, обильно проступивший на его коричневом лице от горячих щей, и, подумав немного, указал большим пальцем на соседний столик, занятый двумя молодыми парнями:
— Вот у кого спросить надо. — И видя, что я не очень тороплюсь последовать его совету, сам обратился к ним: — Эй, Гришуха! Ты бригаду семнадцать-сорок давно снабжал?
Один из парней отозвался:
— Позавчера. А что?
— Да вот здесь товарищ один интересуется.
— Интересуется? В каком смысле?
— А ты сам с ним потолкуй.
Он опять обтер себе платком лицо и, наполнив пивом стакан, с жадностью к нему присосался. Видя, что парень ждет пояснения, я сказал ему:
— Мне начальника экскаватора увидеть надо.
Он переспросил:
— Петра Иваныча?
— Да…
— Сегодня это дело не выйдет. Маршрут не тот. Сегодня он от меня километров на восемь в стороне останется.
— Там я дойду сам.
— Пожалуйста. Груз принят. Машина за углом. Через двадцать минут едем.
И мы поехали. Я сидел в кабине рядом с водителем. А он вел машину по голым степным дорогам, уйдя далеко в сторону от Волги. Дороги петляли туда-сюда, огибая порыжевшие от солнца пологие холмы и неглубокие впадины. Как видно, прокладывали тут эти дороги случайно, как пришлось. Понадобилось, например, водителю побыстрее добраться до какого-то пункта в степи — и он вел свою машину напрямик, по выгоревшей от солнца низкой траве, выбирая места поровнее. А потом другие водители ехали по его следу — и получалась дорога. Трава на этих дорогах переставала расти, и светло-бурая земля превращалась в пыль. Она клубилась позади нас, взрыхленная тяжелыми колесами пятитонного грузовика.
Спереди нам навстречу тоже неслась пыль. Она была чуть желтее и зеленее той, что клубилась под колесами, и не такая густая, но зато заполняла собой все пространство вокруг. Откуда ветер поднял ее — бог ведает. Спасаясь от нее, водитель закрыл все стекла. Пыль в кабину перестала попадать, но стало душно и жарко. Пот блестел на загорелой коже водителя, сбегая с его толстых щек и губ к мягкому, округленному подбородку, а оттуда, срываясь — капля за каплей на голую грудь, тоже темную от загара в пределах расстегнутого ворота рубахи.
Водителю было жарко в одной безрукавке. А каково было мне, затянутому в костюм и галстук? Белье мое прилипло к телу. Носовой платок стал влажным и уже не спасал воротничка рубашки от сбегавшего к нему пота. Водитель спросил:
— А вы, простите, по какому делу к Петру Иванычу?
Я ответил:
— Просто так. Мы с ним в одной квартире живем в Ленинграде.
— А-а.
Он, кажется, остался доволен моим ответом и больше вопросов не задавал. Зато я сам спросил себя мысленно о том же самом и не сразу нашел ответ. Оказывается, я и сам еще толком не знал, зачем поехал к Петру, оставив позади железную дорогу, до которой с таким трудом наконец добрался. А если бы не поехал и просто так вернулся бы в Ленинград? Что я мог бы там сказать? «Да, был в том краю, где работает ваш Петя, совсем рядом был, но сел на поезд и укатил прочь». Нехорошо это выглядело бы.
И совсем по-другому будет принято, когда я, как бы невзначай, скажу: «Да, кстати, привет вам от Пети. Заглянул я там к нему по пути, пересекая вашу Россию. Совсем по-другому это воспримется, и, может быть, по-другому взглянут на меня после этого чьи-то глаза, обретя теплоту и мягкость.
И вот я ехал по выгоревшим русским степям навстречу горячему ветру и пыли, чтобы увидеть молодого Петра. По своей воле я ехал — никто меня на это не толкал, хотя новые десятки километров пролегли опять между мной и моей женщиной. Так обернулись на этот раз мои дела. На одном из пыльных перекрестков водитель остановил машину и сказал:
— Отсюда вам, пожалуй, будет удобнее всего к нему дойти. По этой дороге шагайте прямо вот в этом направлении, пока не увидите канавы. По любой из них выйдете к магистральному каналу и там увидите шагающий. Это вроде четырехэтажного дома, да еще стрелка в сорок метров. Издалека видно.
Я сказал спасибо и достал бумажник, чтобы заплатить за проезд. Но пока я рылся в нем, не зная, какую бумажку вынуть — пятирублевую или десятирублевую, — он отвел мою руку с бумажником и сказал:
— Ничего не надо. С ленинградцев я платы за проезд не беру. Счастливо дойти!
Помахав мне приветливо рукой, он покатил дальше на юг, окутывая себя клубами желтовато-бурой пыли. А я остался. Мне незачем было ехать дальше. Я приехал, куда мне было нужно. Он подвез меня, и вот я прибыл на место, которое сам наметил. Он бесплатно меня подвез, потому что я был из Ленинграда. Я был из города, который прославился своей стойкостью во время войны. Враги окружили его, пытаясь извести всех жителей голодом, да еще обстреливали его каждый день, чтобы стереть с лица земли. А он выстоял. И вот, потому что я был оттуда, водитель не взял с меня платы. Я проехал сюда даром, потому что водитель принял меня за коренного ленинградца.
Но куда я приехал? В какой неведомый мир меня занесло? Вокруг меня раскинулась пустынная русская равнина, и горячий ветер бил мне в лицо мелкой пылью. Из-за этой пыли трудно было разглядеть вокруг что-либо далее двухсот метров. И небо нельзя было разглядеть, и даже солнце. Вместо солнца на юго-западном небосклоне виднелось темно-багровое пятно, обернутое в оранжевое марево. Туда я и направился по указанной мне дороге.
На дорогу она, правда, мало походила. Это была просто сухая, бесплодная полоса, проложенная колесами тяжелых машин среди травянистой глади. Идти по ней было трудно. Мои туфли зарывались в пыль, поднимая ее клубами при каждом шаге. А ветер вмиг подхватывал ее, унося на север. Чтобы меньше пылить, я старался идти по нетронутой колесами травянистой кромке дороги. Трава была низкая и редкая. Она пожелтела от зноя и местами даже закурчавилась, словно опаленная огнем. В таких местах она хрустела под моими ногами, рассыпаясь в порошок.
Да, не все было ладно на этой далекой русской равнине. Желто-зеленая пыль проносилась над ней с юга на север. Она хлестала меня в левый бок, в левую щеку, заползая за воротник рубашки и оседая на волосах. Она проникала в мои карманы, набивалась в левое ухо и хрустела на зубах. Хотелось пить, но в этом краю, как видно, вода еще никогда не водилась. Недаром Петр Иванович отправился сюда копать каналы, чтобы снабдить эту землю водой. Но, надо думать, что, копая свои каналы, он сам в то же время какую-то воду пил. А где пил он, там, наверно, мог напиться и я.
Идти мне пришлось недолго. Сперва я набрел на неглубокую канаву, выкопанную здесь, видимо, уже давно, потому что наваленная по обе ее стороны земля успела высохнуть и тоже пылила на ветру. Начинаясь от этого места, канава уходила сквозь пыльное марево куда-то на запад. Неподалеку от нее справа и слева тянулись к западу такие же навалы земли, обозначавшие канавы. Дорога как-то незаметно расползлась в разные стороны и потерялась. Оставив ее в покое, я направился дальше вдоль канавы, как советовал водитель, и скоро увидел издали главный канал, с которым она соединялась.
Вдоль главного канала земляной вал громоздился выше, чем у боковых канавок. Он тоже успел подсохнуть сверху и курился на ветру. Я взобрался на него и увидел по ту сторону канала небольшой поселок, составленный из маленьких стандартных домиков и палаток. По обе стороны от него тянулись канавы, отведенные от главного канала. Возле них кипела работа. Маленькие экскаваторы снимали своими ковшами с их боков лишнюю землю и насыпали ее в кузовы самосвалов, а те отвозили ее к берегу главного канала, укрепляя его в слабых местах.
Позади поселка трава сохранилась нетронутой, и по ней бегали дети. В стороне от поселка, отделенные от него канавой, стояли фанерные сараи и навесы с железными бочками и разными механизмами. Возле механизмов копались люди, ремонтируя их. Стук и звон их инструментов перекликался с голосами детей.
Стоя на высоком насыпном берегу канала, я некоторое время всматривался вдоль него вправо и влево, пытаясь увидеть шагающий экскаватор, но, кроме пыльного марева, не увидел ничего. Канал был глубиной метра в три-четыре, однако вода на его дне проступила только местами. Я спустился на дно канала и, пачкая в глинистой грязи свои туфли, приблизился к тому месту, где вода блестела мелкими мутными лужами, но пить ее не стал. И вряд ли ее тут пили жители этого поселка. Другое дело, когда канал примет воду из Волги или Дона. А пока они, конечно, пользовались водой из какого-нибудь колодца.
Выбравшись на другой берег канала, я обтер туфли о траву и подошел к ближайшему самосвалу. Водитель в ответ на мой вопрос относительно шагающего экскаватора высунул в окно кабины руку и ткнул большим пальцем против ветра. Туда я и направился, оставив позади себя поселок. Напиться воды я мог и там. Держась в стороне от пыльной груды земли, наваленной вдоль главного канала, я незаметно оказался на тропинке, протоптанной многими ногами. Она шла рядом с большим каналом, пересекая на своем пути боковые канавы, и тоже изрядно пылила. Но она все же куда-то вела, и я старался не потерять ее.
Скоро на моем пути боковых канав не стало. Тропинка пошла по ровному месту. А земляной вал большого канала постепенно перестал пылиться. От него все больше тянуло сыростью. Из этого следовало, что земля на его краю была навалена недавно. И, наконец, сквозь пелену пыли вдали обозначился и сам шагающий экскаватор.
Он действительно был высотой в три-четыре этажа. А трубчатая стрелка голубого цвета тянулась от его основания наискосок вверх на сорок метров. С ее конца свисал на стальных тросах ковш, величиной с дом старого Ванхатакки. Он спускался в раскрытом виде на дно котлована и тяжело проползал по нему, наполняясь землей, потом тросы подтягивали его к верхнему концу стрелки, успевая к тому времени захлопнуть его зев, а стрелка несла его к боковому скату канала. И, едва достигнув его, ковш раскрывался, а стрелка начинала стремительное обратное движение. И в это мгновение земля вылетала из ковша тяжелой бурой тучей и обрушивалась вниз, приводя в содрогание почву под моими ногами.
Я не сразу приблизился к экскаватору. Обойдя его стороной, я постоял некоторое время на нетронутой части степи, высматривая Петра издали. Но никого не было видно возле экскаватора, только внутри его корпуса на уровне третьего этажа мелькало временами в окошке за стеклом чье-то лицо. В десяти метрах от экскаватора стояла крытая грузовая машина. Внутри ее кузова работал какой-то двигатель, и оттуда к экскаватору тянулись по воздуху черные резиновые кабели. Два человека виднелись возле этой машины, но ни один из них не был Петром.
Я подошел к экскаватору поближе. Его огромный четырехугольный корпус, удлиненный кверху, вращался на круглой основе. В нижней части корпуса висели по бокам два длинных толстых бруса, похожих на два танка средних размеров. Круглые коленчатые рычаги удерживали их в горизонтальном положении. Это и были знаменитые ноги экскаватора. Казалось, будто он временно поджал их, оторвав от земли, чтобы посидеть немного на круглом основания и покрутиться туда-сюда ради забавы, размахивая сорокаметровой стрелкой и ковшом. В то же время он был готов при необходимости в любую минуту снова опустить их на землю и зашагать дальше в глубину этой сухой, пыльной равнины, прокладывая дорогу воде.
Еще несколько лиц мелькнуло на высоте разных этажей в окошках корпуса экскаватора, а потом кто-то вынырнул из его утробы на землю, оказавшись по ту сторону круглой основы. Я всмотрелся. Это был высокий светловолосый парень в белой рубашке-безрукавке. В движениях его тонкой, гибкой фигуры промелькнуло что-то мне знакомое. И, едва разглядев его лицо, я уже кричал обрадованно, перекрывая рокот мотора:
— Петр Иванович! Петр Иванович! Петя!
Он обернулся, вглядываясь в меня. Как раз в это время стрелка с ковшом прошла над его головой, и одна ступня экскаватора, следуя за поворотом его корпуса, стала удаляться от Петра. Зато к нему приблизилась другая ступня. Завершив свой полукруговой путь, она остановилась на уровне его груди. С помощью рук он легко вспрыгнул на ее ровную поверхность и направился по ней в мою сторону. И одновременно с ним ступня экскаватора тоже двинулась в мою сторону. И пока она совершала свой полукруговой путь ко мне, Петр тоже шагал по ней ко мне.
Недалеко от меня ступня экскаватора остановилась на миг, перед тем как начать обратное движение. И в этот миг Петр спрыгнул с нее на землю. Узнал он меня не сразу, но, узнав, обрадовался. Это я сразу отметил, вглядываясь в его молодое худощавое лицо. Оно всегда легко выдавало то, что он думал и чувствовал, и здесь тоже не отвыкло, как видно, от этого не всегда выгодного свойства. Девичья нежность кожи его лица здесь оказалась не к месту. Солнце нажгло ее без пощады, заставив сползти отдельными пластами со лба и со скул, а потом снова нажгло, нарушив этим равномерность загара на его лице. Но его белокурые волосы, зачесанные назад, не изменили цвета, сохранив также свою курчавость и густоту, и светло-голубые глаза смотрели с прежней живостью. Пожав мою руку двумя руками, он сказал удивленно:
— Алексей Матвеевич! А вас-то каким ветром сюда занесло?
Я хотел было ответить, что вот этим самым ветром, который обдавал нас горячей пылью, но, сообразив, что он дул с южной стороны, сказал, напуская на себя строгость:
— Да вот, приехал проверить, как вы здесь войну нам готовите.
Он засмеялся, но тут же принял серьезный вид и ответил озабоченно:
— Да, да, помню. Как же это я так сплоховал? Ай-ай-ай!
Я сказал:
— Думали подальше от меня укрыться, чтобы втихомолку действовать, но не вышло.
Он согласился:
— Да, каюсь, виноват. Теперь уже не отвертишься. Попался с поличным.
— Как?
— С поличным. То есть с тем самым предметом или орудием, с помощью которого совершил преступление.
И он кивнул на свой механизм, который ворочался позади него туда-сюда, царапая стрелкой небо. Я сказал:
— Да. Не удалось вам спрятать шило в мешок.
Он опять засмеялся и сказал, обратив лицо к вершине стрелки:
— О-о, такое шило разве упрячешь!
Он, как видно, собирался отделаться шуткой, но я сказал, сохраняя строгость:
— Да. От меня не упрячешь. Я всю вашу подноготную выведу на чистую воду.
Он опять посмеялся немного, видимо вспомнив наш давний разговор, потом сказал просящим голосом:
— Вы хоть воду-то разрешите нам сперва сюда вывести в достаточном количестве, Алексей Матвеевич, а уж потом — и нас на эту воду.
Я спросил:
— А долго мне ее придется ждать, вашу воду, позвольте узнать, не откажите в секретности?
Опять что-то в моих словах развеселило его. Но на этот раз он не рассмеялся. Только в глазах его загорелись уже знакомые мне лукавые огоньки. Стараясь при этих огоньках, затаенных в глубине зрачков, сохранить серьезный вид, он тоже задал мне вопрос:
— А вы очень торопитесь, Алексей Матвеевич, с вышеозначенным мероприятием касательно вывода нас на чистую воду, простите в благонамеренности?
Я ответил:
— Очень тороплюсь, потому что церемониться с вами нельзя, не примите за искренность, пожалуйста.
Он еще больше наполнился веселостью после этого моего ответа и сказал, уже не скрывая смеха:
— Сколько же вам понадобится воды, Алексей Матвеевич? Может, уточните для термостатики, не откажите в отрешенности, будьте экспериментальны.
Так он сказал, подкрепляя, по обыкновению, свои слова вежливыми оборотами. Но что-то неладное уловил я на этот раз в его вежливых оборотах. Как-то не вязались они с тем, о чем шел разговор, пускай даже не очень серьезный. И вдобавок, слишком уж много лукавой веселости искрилось в его светлых глазах, которые так выделялись посреди загара. Не таилось ли тут вместо вежливости кое-что совсем другое, очень далекое от вежливости? И если так, то выходит, что и раньше он угощал меня никак не вежливостью. Вот что вдруг пришло мне в голову. Да, именно так обстояло дело. Сообразив это, я попробовал отплатить ему той же монетой и сказал:
— Нет, воды мне понадобится не очень много, можете быть беспокойны, не впадая в электродинамику. Довольно будет ведра. И пусть отблагодарит вас за это чем-нибудь крепким и тяжелым великий святой Перкеле.
Не знаю, как это у меня получилось, но он, кажется, так и не понял моего намека, потому что ответил мне тем же тоном пополам со смехом:
— О, ведро-то я вам игнорирую хоть сейчас, невзирая на ортодоксальность. На этот счет можете быть в полном симпозиуме. И да пребудет над вами благословение пресвятого сатаны и всего небесного синклита.
Да. Так вот обстояло здесь дело с применением вежливости. Все окончательно прояснилось для меня на этот раз. Выходит, что напрасно я так долго терзал тот стародавний разговорник, извлекая из него подходящие для вежливых оборотов слова. Не заслуживали они здесь моих стараний, эти невежественные русские. Не доросли они еще до понимания всех тонкостей западной вежливости. Когда-то, может быть, она как-то влияла на них, позволяя крутить ими туда-сюда. Но то было при другой, более податливой власти и при других, более культурных поколениях. А теперь, после своей революции, они снова впали в дикость, и воздействовать на них надо было каким-то иным путем. Но каким? Кто взялся бы определить этот путь? Мне предстояло его определить. И, применяя новый способ, я сказал Петру:
— Ладно, Петя. Дай мне кружку воды, если найдется, и я пойду.
Он вмиг сорвался с места и, сказав мне: «Сию минуту», — быстро зашагал к той машине, откуда тянулись кабели в нутро его экскаватора. Так подействовал на него мой новый способ. Вернулся он с кружкой воды. Предупредив меня, что она, к сожалению, тепловатая, он спросил:
— Вот вы, Алексей Матвеевич, сказали: «Пойду». Куда это вы собираетесь пойти?
Я ответил:
— Туда, откуда пришел. В Сталинград.
Он удивился:
— В Сталинград? Сейчас? Глядя на ночь? Да вы туда и до утра не дойдете.
— Дойду как-нибудь или доеду, если попутная машина подвернется.
— Никуда вы не пойдете и не поедете.
— Почему не поеду?
— Да потому. Кто вас пустит?
— А кто меня удержит?
— Я удержу.
— Вот как!
— Да. А если не справлюсь, то парней своих кликну. И тогда мы скрутим вас по рукам и ногам и доставим куда надо.
Так собирались тут со мной поступить. Скрутить меня готовились по рукам и ногам, чтобы доставить куда надо, то есть в такое место, откуда возврата не бывает. Запомните это на всякий случай вы, финские люди, и не торопитесь повторять мой пример. Стоит вам довериться русским, как они угонят вас на машине в свои сухие южные степи, где горячая желтая пыль будет забивать вам уши, рот и ноздри, и только одна кружка тепловатой воды перепадет на вашу долю в конце знойного дня, спасая вас от верной смерти. Но я был не из тех, кто легко сдается в опасности. Возвратив Петру пустую кружку, я спросил его без всяких обиняков:
— Куда вы меня доставите?
Он ответил:
— К нам в дом. Переночуете у нас, а там посмотрим.
— Ах, вот, значит, к чему клонилось дело. Так, так. Ну ладно. В конце концов, кто их знает, этих русских. От них всего надо ожидать. Не одним, так другим они все равно вас доймут. Но меня им врасплох не взять ничем. И, сделав вид, будто не ожидал ничего плохого, я сказал Петру:
— Ну, к вам в дом я, пожалуй, и на своих ногах дойду.
— То-то!
Он грозно тряхнул головой, погрозив мне пальцем. И мы посмеялись немного. Потом ему понадобилось отлучиться ненадолго, чтобы передвинуть на новое место свою машину. А я присел в сторонке на желтую, хрустящую траву, наблюдая за его действиями. Вот шевельнулись по бокам экскаватора толстые трубообразные рычаги, медленно выдвигая вперед обе его ступни. И когда ступни опустились на землю, начал подниматься вверх сам экскаватор. Удивительно было видеть, как эта четырехэтажная громада повисает в воздухе вместе со стрелкой размером в две огромные сосны и с ковшом, способным вместить в себя дом старого Ванхатакки, как проплывает она неторопливо на несколько метров вперед, сохраняя вертикальность, а потом опять опускается на землю, освобождая ступни для нового шага.
Повторив таким порядком свои шаги еще три раза, экскаватор снова принялся копать канал. Снова над моей головой задвигалась туда и сюда сорокаметровая стрелка, таская за собой в обе стороны огромный ковш, то полный земли, то пустой.
43
Пока Петр передвигал свой экскаватор, я побродил немного вокруг, оглядывая степь. Багровое солнце на западе постепенно опускалось к земле, готовясь уйти на покой.
И трудно было уловить из-за пыльного марева, в какой момент оно коснулось горизонта. Но, едва коснувшись, оно уже пропало из глаз, и на землю надвинулись вечерние сумерки, которые оказались очень короткими, уступив место ночной темноте.
Внутри экскаватора и вокруг него зажглись огни. Зажглись они также в разных других местах степи, разбегаясь туда-сюда редкой цепью или скапливаясь в гроздья. И тогда только из корпуса экскаватора вышел Петр. Наш путь к его дому тоже освещался редкими лампочками, укрепленными на шестах. Шли мы по тропинке, уже мне знакомой, и привела она к тому самому поселку, который я уже видел.
По дороге Петр успел мне рассказать, по сколько кубометров грунта за сутки вынимает его механизм, работающий в две смены, и сколько это составляет в месяц. Месяцы он тоже складывал вместе, заранее предсказывая, сколько кубометров земли он поднимет за год. Получались, кажется, миллионы. Он с гордостью говорил о них. А я многозначительно кивал головой и с удивлением восклицал: «Ого!». Но удивления особенного я не испытывал. И если бы он говорил о миллиардах кубометров, я точно так же произносил бы свое «ого» и головой кивал бы не более многозначительно.
Подсчитал он, кроме того, сколько секунд удается ему выиграть на каждом движении стрелки, начиная от выемки грунта, переноса ковша в сторону от середины котлована и до нового погружения ковша в котлован. Достигается это тем, что ковш опускается и поднимается на тросах во время движения стрелки и даже землю выбрасывает на ходу. Здесь я тоже покивал немного и сказал: «Да, это ловко придумано».
В то же время я не знал, чему надлежало выказать больше удивления: тому ли, что он собирался передвинуть с места на место миллионы кубометров земли, или тому, что у него не пропадала даром ни одна секунда. И если бы он сказал, что его ковш вынимает за один раз не семнадцать кубометров, а сто семнадцать и тратит на это не сорок секунд, а всего одну секунду, то и тогда я с тем же умным видом сказал бы свое «ого» — и только. Таким неподатливым сделался я на их пропаганду. Не удавалось нм ничем поразить мой ум, как они ни старались.
И если бы их экскаватор оказался во много раз выше ростом и даже задевал своей стрелкой облака и звезды, сбивая их время от времени на землю, я и тогда не выказал бы особого удивления. Мало ли, до чего они способны дойти в своих попытках втереть очки заезжему гостю.
Вот приехал в их страну одинокий финн, и, стараясь его удивить, они поскорей соорудили этот экскаватор, затратив на него все свои силы и средства, накопленные за десятки лет. Все опустело и оголилось в их стране после того, как он был сделан. И чтобы заезжий-ти гость не догадался об этом, они пустили ему степную пыль в глаза. Вот как обстояло дело с их экскаватором, если вникнуть в самую суть предмета, как это умел делать многоумный, проницательный Юсси Мурто.
Поселок был освещен тем же манером — лампочками, подвешенными на шестах, между которыми тянулся гибкий черный кабель. Помимо самого поселка, скопление огней виднелось также по его задворкам и кое-где в отдалении от него. Там еще гудели моторы и перекликались людские голоса.
Подойдя к одному из домиков, мы поднялись на две ступеньки и очутились в маленькой кухне с одним окном, с одной лампочкой и газовой плиткой в углу. Из кухни дальше вели две двери: одна прямо, а другая в боковую комнату. Петр постучался в боковую дверь, и на стук выглянула Людмила. Она была такая же, какой я видел ее в конце весны, — полная свежести, мягкости и нежности. Но загореть успела не меньше своего Петра. И вдобавок срезала косы. Вместо них вокруг ее головы вились короткие густые кудряшки. Выглянув на кухню, она спросила Петра:
— Ты что это стучаться вздумал, как посторонний?
Он отступил в сторону, кивая на меня. А я сделал шаг вперед и, применяя свой новый способ обращения, сказал без всяких вежливых добавлений:
— Здравствуйте, Людочка!
И, может быть, подействовало именно то, что я отбросил вежливость, с которой мне у них так не везло. Вместо осуждающего взгляда и упрека в грубости я встретил совсем другое. Она вскричала радостно: «О, Алексей Матвеевич!». И бросилась ко мне, протянув руки. Не знаю, что она хотела сделать своими нежными руками, может быть, обнять меня. Почему бы нет? Но я не догадался об этом и протянул ей только одну руку. Как это я не догадался! Эх! А она схватила мою руку в обе руки, как это незадолго до того сделал Петр, и, сжимая ее, втянула меня в комнату. Там она спросила:
— Вы к нам прямо из Ленинграда?
Я подумал секунду, сам еще не уяснив толком, прямо я оттуда или не прямо. Но потом все же ответил:
— Да…
Она еще больше обрадовалась:
— Ой, как хорошо-то! Прямо из Ленинграда к нам в степь! Я даже чую запах Ленинграда. — И она повела носом перед моим лицом. — Да, да, да. Не смейся, Петя. Тебе его не учуять. Тебе твой шагающий на ноздрю наступил. Верно, Алексей Матвеевич? Ну, как он там здравствует?
— Кто?
— Да Ленинград же! Жив-здоров? Цветет, растет?
— А-а, Ленинград! Жив-здоров, конечно. А что ему сделается? Стоит, как стоял, а река Нева его обмывает. После того, что он перенес, ему теперь, надо думать, все нипочем. Он вам привет просил передать.
— Кто?
— Да Ленинград же!
Она засмеялась и спросила:
— Каким образом?
— А очень просто: нагнулся к моему уху на вокзале и сказал: «Привет красавице Людмиле».
— Вы шутите, Алексей Матвеич. Петя, не верь ему, он шутит. Не посылал мне Ленинград привета. Я едва знакома с Ленинградом, хотя родилась и выросла в нем. Я до сих пор даже не знала, что такое Ленинград. Я только здесь понемногу стала понимать, что он такое, наш милый, дорогой, бесценный, единственный в мире, неповторимый Ленинград. А он меня и того меньше знает. Не посылал он мне привета, Петя. Шутит Алексей Матвеич. Зло шутит. Он и с тобой может этак пошутить. Так что берегись его, Петенька. Нехороший он. Коварный он. — Говоря это, она крутилась по комнате в своем коротком легком платье, то передвигая что-то на столе и на подоконнике, то поправляя одежду на вешалке, то заглядывая в шкаф. Я заверил ее:
— Нет, с Петей я шутить не намерен. С ним у меня только серьезные разговоры могут быть. И от этих разговоров ему скоро не поздоровится.
Она сказала:
— Вот видишь, Петенька, что тебе грозит. Не завидую я тебе. — И, придвинув ко мне какое-то подобие табурета, добавила: — Вы хоть сидя эти разговоры ведите, Алексей Матвеич, чтобы мне не так страшно было. И за недостаток мебели уж не взыщите с нас. Я знаю, вы строги в вопросах быта. Но это временные неудобства.
Я спросил:
— А когда будут удобства?
Она ответила:
— Не знаю. Но скоро. Очень скоро, я надеюсь.
Я сказал:
— Через сто лет, например?
Она возразила:
— Нет, зачем же. Значительно раньше. Это вопрос нескольких лет, я думаю.
— Нескольких лет? И, стало быть, через несколько лет в этой комнате появятся удобства, то есть один настоящий стул?
— Нет, не стул, конечно. И не обязательно в этой комнате. Может быть, совсем-совсем в другом месте.
— А где будет ваше другое место?
— Не знаю. Где-нибудь на новом объекте, на новой стройке.
— На новой стройке? Значит, на новой стройке вам уже приготовили новый дворец с лифтом и рестораном?
Они оба засмеялись, и Петр сказал:
— Не пришлось бы нам самим предварительно выстроить этот дворец.
— Самим выстроить? Но зато потом уже вы непременно в нем навсегда останетесь жить?
Петр улыбнулся, почесав у себя в затылке. А Людмила решительно тряхнула своими короткими русыми кудрями, посветлевшими на южном солнце, и сказала:
— Нет, не останемся мы в нем жить.
— Почему?
— Да просто потому, что не захочется.
— Не захочется жить во дворце?
— Ага. Лучше в это время где-нибудь еще один новый дворец строить. А потом еще и еще.
На это я не нашелся что сказать и только развел руками. Они опять посмеялись немного и, уйдя в кухню, пошептались там о чем-то. Выглянув оттуда, Петр сказал:
— Как вы, Алексей Матвеич, относительно освежиться? Давайте-ка я вас выведу на чистую воду для предварительного с ней ознакомления, с водой то есть.
И он вывел меня на чистую воду позади дома, где теплый сухой ветер, несущий пыль, казался слабее. Отлучившись на минутку, он принес ведро свежей колодезной воды и поставил его на опрокинутый ящик. Людмила вынесла нам кружку, два чистых полотенца и розовое мыло в голубой мыльнице.
Для начала я вдоволь напился холодной вкусной воды, а потом скинул пиджак, стянул рубашку с галстуком и подставил Петру ладони. Он поливал мне из кружки, а я смывал с головы и шеи пыль. Обтеревшись полотенцем, я разулся, закатал штаны и таким же манером вымыл ноги, вытерев их, по настоянию Петра, тем же полотенцем. А потом за кружку взялся я.
Когда мы вернулись в дом, на кухне вкусно пахло чем-то жареным. Людмила, хлопотавшая у газовой плиты, отобрала у Петра оба полотенца и бросила их в таз поверх другого белья, приготовленного к стирке. А он, пройдя в комнату, присел на минутку за стол, рассматривая разложенные на нем бумаги с чертежами. Стол тоже был ненастоящий. Это была старая дверь, положенная на два пустых ящика из-под мыла. И сам Петр тоже сидел на ящике. Перебрав бумаги, он сложил их в папку и убрал в шкаф, который тоже был наскоро сколочен из неровных кусков фанеры, прикрепленных к стене.
Людмила достала из этого шкафчика узорную чистую скатерть и накрыла на стол. Когда мы придвинули к нему с трех сторон свои неуклюжие сиденья, он выглядел вполне прилично. На нем, помимо большой тарелки с ломтями белого и черного хлеба, стояла бутылка с красным вином, окруженная тремя крохотными рюмками. И даже букет цветов пристроился на краю стола в литровой стеклянной банке. Это были незнакомые мне цветы, хотя что-то в них напоминало полевые цветы севера. Людмила перехватила мой взгляд и, разливая по нашим тарелкам горячий суп, пояснила:
— Это здешние, степные. В трех километрах отсюда есть небольшая сырая впадина. Там и трава сохранилась в рост человека и цветы есть. — И, обратись к Петру, она добавила: — Между прочим, на гадюку сегодня наткнулась — вот такая!
Он сказал:
— Ты смотри осторожнее — их тут много.
Она ответила:
— Да, я знаю. Я всегда внимательно смотрю под ноги, но тут просто задумалась. Там так чудесно! И ты посмотрел бы, как я подпрыгнула — как кенгуру! Хорошо, что прут крепкий попался. Я со страху так ее исхлестала, что она уже, знаешь, мертвая лежит, а я все хлещу и хлещу ее прутом.
Он сказал:
— Ишь ты, бедовая какая! Ты смотри у меня!
Она успокоила его:
— Ничего. Я теперь чуткая стала — ужас! Так и зыркаю на все четыре стороны. Жаль, торопиться приходится. Туда — бегом, обратно — бегом. Но буду бегать и рвать, а то ведь твой долговязый скоро все прорежет и завалит. На прошлой стоянке такой благодати не было.
Я спросил:
— Разве вы не все время на одном месте живете?
Она воскликнула:
— Что вы! Это уже третья стоянка наша за лето. Куда канал тянется — туда и мы.
— И дом с вами?
— А как же! И дом. И другие дома тоже.
— Значит, вы их разбираете, перевозите и снова ставите?
— Ну конечно же!
— И вам не надоело так часто менять местожительство?
— Что вы! Наоборот. Это даже интересно. Это вносит в жизнь столько разнообразия и новизны! Представьте — вчера, например, вы видели в окно своего дома восход солнца, а сегодня в то же окно любуетесь вечерним закатом. А окружение! Это же страшно занимательно — видеть каждый раз новое небо над головой, новые горизонты, новый пейзаж вокруг, новые цветы. В городе вы лишены такой благодати. Там ваше окно постоянно обращено в одну и ту же сторону. И хорошо, если это южная сторона с видом на тихую широкую улицу или зеленый скверик. А если с видом на задний двор или на угол соседнего мрачного дома с облупленной штукатуркой? И мириться с этим до конца жизни? Какая тоска!
Я сказал:
— Так, так. Похоже, что главное занятие нашей Людочки — сидеть дома и выглядывать в окно.
Она запротестовала:
— Ну уж нет! Хватает забот у вашей Людочки. А кто обеспечит работу радиоузла и включит все точки в трансляционную сеть? А телефонную связь кто наладит между узловыми пунктами? Не обходится без нее и осветительная сеть, если хотите знать. И потом, кто об этом добром молодце позаботится, как по-вашему? Кто накормит его, кто белье ему постирает? Не перечесть всех моих главных занятий.
Петр поднял рюмку с красным вином и сказал:
— За успех вашего главного занятия, Алексей Матвеич!
Я поинтересовался:
— Какое же у меня главное занятие?
И он охотно подсказал:
— А то самое: разоблачать наши военные приготовления. Разве не так?
— Именно так. Ты очень верно угадал, Петя.
— Еще бы! О, я известный гад. Меня даже родитель мой не сумел ввести в заблуждение, уверяя в письме, что вы, мол, отправились знакомиться с жизнью нашей страны. Наивный простак! Знакомиться с жизнью! Уж мы-то с вами знаем, какого рода знакомство вас интересует, не правда ли? Итак, за успех!
Мы глотнули понемногу из наших рюмок и принялись за суп с рисом. По вкусу супа я догадался, что Людмила не сама его сварила, а принесла из столовой. Не зная о моем появлении в этих краях, она принесла только две порции. А делить пришлось на троих. Получилось две с половиной тарелки. И, конечно, неполную тарелку супа она взяла себе. Вторым блюдом она тоже себя обделила. Из четырех котлет себе взяла одну, а нам дала по полторы. И только гречневую кашу с подливкой разделила поровну.
У меня в голове к тому времени зародился один вопрос, но я помедлил немного, чтобы обдумать его поосновательней. За это время мы успели выпить по второй рюмке красного вина, прикончить котлеты с гречневой кашей и приняться за чай. И только тогда я сказал:
— Выходит, что вы тут не совсем отрезаны от мира. К вам приходят письма, из которых вы узнаете, что делается у вас дома.
Петр подтвердил:
— Да. Дом родительский для нас, может быть, и пройденный этап. Но сами-то родители остаются родителями до конца дней. Как же о них не тревожиться и не пытаться быть в курсе их здоровья и благополучия?
Я подсказал:
— А заодно и благополучия всех других близких и знакомых?
Он согласился:
— Естественно. А их у нас немало. Во все концы страны разъехались после института.
Но меня не интересовали те, что разъехались во все концы страны после института, и я опять подсказал ему:
— И родственники всякие, наверно, пишут.
— Родственники? — Он подумал немного, словно припоминая, есть ли у него родственники, и, припомнив, сказал: — Да. А как же! Вот и с тетей уже два раза письмами обменялся.
Наконец-то он догадался сказать о самом главном. Так ловко я подвел его к этой мысли. Но я не заплясал и не закричал от радости, а переспросил его с полным спокойствием:
— Тетя? Это не та ли, у которой мы побывали в деревне прошлой осенью?
И он ответил:
— Она самая. Тетя Надя. Другой у меня нету.
И опять я сказал без видимого интереса:
— Да, да, помню. Ну и как она там?
И он ответил:
— Да ничего, спасибо. Все по-прежнему. Трудится, ездит. В санаторий собиралась.
— В санаторий? В какой санаторий?
— Не знаю. Ей два предложили на выбор: один в Хосте, другой в Гурзуфе.
— В Хосте? Это где?
— На Кавказе. Чуть южнее Сочи. Там у Ленсовета есть свой санаторий «Крутая горка».
— А Гурзуф?
— Это в Крыму, возле Ялты. Там, говорят, есть маленький красивый санаторий «Черноморец». Туда ей тоже предложили.
— Куда же она думает ехать?
— Не думает, а уже уехала, наверно. Ведь писала она мне об этом недели две тому назад. А путевки вступали в действие через неделю.
— Значит, сейчас она уже в санатории?
— Вероятно.
— В котором?
— Думаю, что в Хосте. Там ей еще не приходилось бывать. Вот напишет оттуда — и буду знать.
— Ну и плохой же племянник оказался у тети Нади. А что бы ему взять и съездить к ней, не дожидаясь ее письма? Как бы она обрадовалась! Или отсюда туда трудно попасть?
Вот какой хитроумный вопрос я ему ввернул. И, не разгадав моей хитрости, он дал мне нужный ответ:
— Почему трудно? Туда от нас прямой поезд есть каждое утро.
— О, тогда тем более нельзя простить такое невнимание.
— Виноват, Алексей Матвеич! Кругом виноват!
— То-то. А виноватых бьют, как у вас говорится, или вдобавок шилом в мешке протыкают.
Он засмеялся и подсказал:
— На чистую воду выводят, Алексей Матвеич.
— Ах, так? А потом в ней топят? Или сперва под ногти что-то вгоняют?
— К ногтю. Есть такое выражение. Оно знакомо тем, кто окопной жизни хватил.
— А-а, понимаю. Так, так. Вот я раскопаю тут все ваши военные приготовления и потом всех вас за это — к ногтю.
— Приветствуем, Алексей Матвеич! Приветствуем!
— Знаем, как вы приветствуете. За вами глаз и глаз нужен все время.
44
Так мы поговорили немного за столом, а потом стали укладываться спать. Мне они постелили на полу у задней стены, положив на разостланные газеты снятый с кровати матрац, а кровать отодвинули поближе к двери. Кровать у них была старая, железная, узкая, накрытая досками и чем-то мягким, заменившим снятый для меня матрац. Непонятно, как они укладывались в ней вдвоем. Однако они без труда в нее улеглись, заслонившись от меня тем устройством из ящиков, которое служило столом. Улеглись и затихли.
Я тоже лежал тихо, но заснуть не мог. Чернобровая русская женщина опять стояла у меня перед глазами — моя женщина! Где-то в их южных краях она успела появиться. Пока меня несло сюда по их земле и воде, она успела меня обогнать. И вот она уже на Кавказе, среди высоких гор и красивых растений, под горячим южным солнцем. Она прогуливается там по берегу синего моря и купается в его теплых волнах. И когда она, освеженная, выходит на берег, загорелая кожа ее блестит и золотится под лучами солнца. При этом ее темно-карие глаза в раздумье устремляются вдаль, словно выискивая кого-то. Кого они там выискивают? Чего ей недостает? Меня они там выискивают, ибо недостает ей меня.
Но я не так уж далеко от нее. И совсем недалеко от меня проходит железная дорога. А по этой железной дороге каждое утро к ней идет поезд. Мне остается только сесть на этот поезд и ехать прямо к ней. Вот как удивительно складываются иногда дела. Всю Россию я пересек из конца в конец, чтобы поспеть к поезду, который шел прямо к ней. Но действительно ли я поспел к этому поезду? Во сколько он уходил отсюда? Эх, забыл я об этом спросить Петра. О самом главном забыл. А он уже заснул, наверно.
Я прислушался. Да, они, конечно, спали оба, намаявшись за день. Тихо было в комнате. Только за стеной у соседей слышался еще некоторое время неясный говор, но и он скоро затих. А я не спал. Утренний поезд не выходил у меня из головы. Поезд, идущий прямо к моей женщине. Откуда тут было взяться сну? Я мог только тихо лежать в ожидании рассвета и слушать, как проносится мимо дома ветер, напирая всей силой на его стены, скользя по ребрам шифера и глухо завывая в трубе.
И тут я уловил шепот в углу, где устроились Петр с Людмилой. Оказывается, у них была причина не спать. Они выжидали, когда я засну, чтобы поговорить о том, что считали важнее сна. Но я не спал, и хотя не все слова доходили до моего уха, однако я поневоле слушал их разговор. Петр говорил о каких-то тысячах кубометров, которые он якобы выгреб за этот день. К этому он добавил, что с его механизмом едва не стряслась авария. Хорошо, что он сам в это время оказался рядом и по звуку мотора определил, какая угроза над ним нависла. Людмила сказала: «О, это уже подвиг! Придется поцеловать героя». И она проделала это так тихо, что я не услышал звука поцелуя.
Потом она принялась рассказывать о своих делах, которые тоже стоили похвалы. Все линии у нее работали безотказно. Сверх того, она установила в соседнем поселке семь новых точек. И еще она провела беседы с женщинами о текущей политике. Видимо, им понравилось, потому что приглашали бывать почаще. На это Петр сказал: «Ну, что ж. Придется поцеловать». И он проделал это так звонко, что она ахнула, и оба они притихли, прислушиваясь. Мне ничего не оставалось, как прикинуться заснувшим и стараться дышать глубоко и ровно. Это их успокоило, и они снова зашептались.
На этот раз у них беседа шла о товарищах по работе. Они называли имена, перебирали характеры и удивлялись, как много кругом хороших людей, несмотря на то, что приходится им несладко. Потом он спросил ее о прочитанной книге, и она сказала: «Даром только время потратила. Скучища невероятная. Сплошное убожество. Не понимаю, зачем такие книги выпускают?». Он шепнул: «Я тоже собирался прочесть». Она предупредила: «Упаси боже! Не хватало еще на это время тратить. Я тебе как-нибудь содержание коротко перескажу — и довольно будет. Ничего там нет решительно. Сплошные производственные процессы. И люди не люди, а механизмы какие-то. Вот «Весенние ручьи» — совсем другое дело. Это стоит прочесть. Я уже записала тебя на очередь в библиотеке. А ты про лесных героев одолел?». Он ответил: «Нет еще. Три или четыре главы осталось». Она сказала: «Добивай. Тоже не ахти какая классика».
И дальше у них речь пошла о книге, которую она уже прочла, а он еще дочитывал. И они стали спорить о том, правильно ли поступил автор, заставив одного парня умереть в лесу, а одну девушку из глупой сделав умной. Петр сказал:«В этой мешанине естественнее было бы наоборот — умному превратиться в дурака». На что она заметила: «Не потому ли этот, как его… самый ортодоксальный и непогрешимый, вопреки всякой логике, женился на той пустозвонке?». Он сказал: «Не знаю. Я до этого места еще не дочитал, а посему не пытайся мне заранее навязывать свое мнение». Она сказала: «Ах, тебе твое собственное мнение дороже? Взгляните на него, граждане: он свое собственное мнение способен иметь. Чем не герой нашего времени?». Тут в их углу послышалась возня и даже шлепок по голому телу. Она испуганно прошипела: «Тише ты! Разве можно…». И после этого они опять некоторое время прислушивались к моему дыханию.
А я, конечно, спал. Что мне оставалось делать? Спал крепко, чего там! Никаких тревог и никаких забот у меня в голове не было, и потому я спал как младенец. Определив это по моему дыханию, они успокоились и еще немного пошептались. Заканчивая разговор, он сказал: «Ну, ладно, хватит. Спи». И я услышал звук поцелуя. Через полминуты он опять сказал: «Ну, ладно, спи». И опять поцеловал ее. Еще через полминуты он сказал уже совсем коротко: «Ну, спи!». И снова дополнил свои слова поцелуем. А когда он повторил это еще раза два, она тихо засмеялась и сказала: «Да ну тебя!». Потом она с шумом выдохнула несколько раз воздух и произнесла тихо: «Уф, жарко!». А он успокоил ее: «Ничего. Зато в туркменских песках прохладно будет». Она согласилась. «Угу. От тебя. Когда твой великан опять закапризничает и ты придешь домой злой и молчаливый, я тебя использую для заготовки льда». Он поинтересовался: «Каким способом?». Она пояснила: «Очень простым. Окуну в кадку с водой — и будет лед».
Опять они посмеялись немного, после чего он посоветовал уже более строго: «Ну, ладно. Теперь уж спи, а то восход солнца в степи проспишь!». Но она возразила: «О нет! Не просплю. Отныне я ни одного восхода в жизни не желаю просыпать». Он передразнил ее: «Не желаю. Мало ли что. Благими желаниями ад вымощен, сударыня». Голос его звучал уже немного сонно, когда он произнес это. Она сказала: «Ох ты мой умник, перевирающий чужие изречения». Он оправдался тем же сонным голосом: «А я не об изречениях, а о желаниях. Кого я вчера за ногу с постели тянул?». Она тоже принялась оправдываться: «Ну, уж если речь зашла о желаниях, то мои достаточно скромны и не идут за пределы осуществимого. Но есть тут поблизости один мечтатель, хорошо мне известный, о котором этого не скажешь, ибо он задумал нечто совсем уж фантастическое: ни много ни мало — создать электроагрегаты, способные растопить почву в зоне вечной мерзлоты. И не мне ли пришлось тащить его за ногу из заоблачной выси, чтобы не дать ему оттуда шлепнуться на землю самому?».
Так она шептала, посмеиваясь над ним. Он пытался остановить ее, повторяя время от времени: «Ш-ш! Спать, спать, я сказал». Но теперь она уже не унималась, и голос ее звучал мягко и нежно: «Гений ты мой глупенький. Теленочек ты мой! Никак он еще и сердится? Смотрите, он даже сердиться умеет. С какими только идеями он не носился, каких планов не строил, ясноглазый мой! И он думал, что я его за эти всякие сказочные проекты полюбила. А я его полюбила просто так, просто за то, что он мой Петруша, у которого так смешно двигались мягкие, теплые губы, когда он хвастался своими проектами, и так глубокомысленно моргали голубые наивные глазки. Ох ты мой ерепеныш гениальный!».
В голосе ее было столько ласки и нежности, что можно было заплакать. Никогда в жизни не слыхал я ни от одной женщины таких ласковых слов и вряд ли услышу когда-нибудь. Вдобавок она еще, кажется, гладила его по голове. По глупой голове. По бестолковой, тупой голове, не способной понять, какой бесценный дар на нее изливается. Не проявляя ни радости, ни благодарности, он проворчал невнятно тем же сонным голосом: «А ты не смейся. Я все равно не отступлю от этой идеи и года через два-три опять к ней вернусь. Кстати, к тому времени у нас в стране и электроэнергии будет больше». Она не пыталась с ним спорить и продолжала ворковать с той же нежностью: «Ну, разумеется, вернешься. Непременно вернешься, упряменький ты мой. Кто же в этом сомневается? Уж если мой Петруша что задумал, то уходите прочь с дороги! Нет равных ему в мире по гениальности, когда он берется за создание новых волшебных механизмов! Ну, а пока что покопай степь чужим аппаратиком! Покопай, моргалочка моя, покопай!». И опять он вплел свое сонное ворчание в ее нежный шепот: «Ну и что же. И покопаю. Но я и эту конструкцию усовершенствую, вот увидишь!». И она подтвердила это тем же ласковым тоном: «Да, да, мой родной! Обязательно! Разве ты можешь не усовершенствовать все, с чем соприкасаешься, кудесничек ты мой бестолковенький». Он добавил: «Ладно, смейся. А я уже два замечания послал в конструкторское бюро и еще подготавливаю». Она отозвалась: «Да, да, мой милый, знаю. Видали, какой он у меня? Два замечания он послал! Шутка ли! Умолкните, завистники и недруги! Он уже послал два замечания, мой титан мысли, и еще третье готовит. Это же целый переворот в технической науке! Это же он послал два замечания в конструкторское бюро, а не кто-то другой. Ну и спи теперь. Послал — и спи». Он сказал: «Ничего. Нести иссохшей земле воду и жизнь — тоже дело полезное». Она сказала: «Да, да, да. Вот ты и спустился опять на землю, любимый мой. Ну и спи на ней спокойненько».
Они помолчали немного. И в это время рука его, должно быть, легла ей на живот, потому что с его стороны последовал такой вопрос: «Как он там, наш третий?». И на этот раз в его голосе не было сонливости. Была нежная мужская забота. Она промолчала, вбирая в себя его нежность. Не дождавшись от нее ответа, он спросил: «Не скоро еще он составит нам компанию? И где это произойдет?». Она сказала: «И я тоже часто думаю — где? Здесь или в иных пустынях? Но потом прихожу к убеждению: а не все ли равно, правда?» — «Конечно. Он-то везде будет дома при маме и папе». — «Еще бы. Уж если мы сами всюду чувствуем себя дома, куда бы нас ни занесло, то он — тем более». — «Да. Именно — он. Я хотел бы, чтобы был он». — «И я тоже».
После этого опять послышался поцелуй, но уже тихий и спокойный, а потом ее шепот: «Ну, спи теперь, моргалочка моя. Спи, бесталанненький». На что он ответил: «Жаль, что мы не одни в комнате, а то я показал бы тебе, какой я бесталанненький». Эти слова он, должно быть, сопроводил каким-нибудь действием, потому что она зашептала совсем уже строго: «Ну, ну, спать, спать! Петя! Нельзя же…».
И опять стало тихо в комнате. Вскоре они действительно заснули наконец. Это я определил по их глубокому, ровному дыханию. Заснули крепко и безмятежно, как будто действительно находились дома, под крылышком у папы и мамы. Да, так вот они тут устроены, эти недавно рожденные и недавно выросшие здесь, в этой непонятной стране, и никакими силами этого из них теперь не выколотить. Оно вросло в них, составив с ними одно целое. Их можно было разрубить на куски, но оно останется в кусках. И если куски опять соединить в целое и спросить это целое: «Ну, как, не пора ли вернуться в свою уютную квартиру в Ленинграде, где папа и мама тоскуют и ждут, чтобы обласкать, пригреть, взять на попечение?» — то оно, это целое, приподнимется, опираясь на заново приклеенный локоть, и скажет: «Не забыть бы завтра оросить пустыню Гоби и построить на Гималаях еще пару дворцов для коммунизма». Так они теперь тут устроены, и ничем из них этого не вытравишь.
Но какие-то проблески понимания подлинной сути жизни в них все же намечались. Вот и у Петра тоже в голове кое-что прояснилось. Добрался наконец и он со своей Людмилой до самого существенного. Значит, не так уж прост он был, каким казался вначале, когда довольствовался тем, что окунал свое лицо в ее душистые косы.
А я все еще не добрался. Но близилась и моя победа. Недаром судьба устроила так, что оба мы с ней одновременно оказались в их южных краях, да еще соединенные железной дорогой, по которой поезд готовился утром пойти прямо к ней. Правда, он готовился увезти меня еще дальше от моей родной Суоми и от Юсси Мурто, но до меня ли ему было! Вместо заботы обо мне он опять, как видно, обдумывал что-то совсем другое, никак не идущее к месту. И подпирая там своей тяжелой спиной угрюмые скалы севера, он говорил Ивану: «Почти сорок лет. Для середины двадцатого века это немалый срок. Сто прежних лет могли бы уложиться в эти сорок лет, — так уплотнилось теперь время и ускорился бег событий. И только вы остановились на уровне былых веков».
В ответ на это из глубины горячих степей с ветром и пылью вынесло веселый смех Ивана и его слова: «Ништо! Это кому как покажется. Если смотреть затылком вперед, то и двадцать первый век можно за пятнадцатый принять». И опять заговорил Юсси Мурто: «Почти сорок лет владели вы этой землей, называя себя ее истинным хозяином. В цветущий райский сад можно было превратить ее за это время. А у вас она осталась такой же, как во времена татар и скифов. Чем же был занят ее истинный хозяин все эти годы?». И снова в шуме и свисте ветра выделился голос Ивана: «Ништо! Хватало дел!.. Себя спросите, по чьей вине… Одной рукой в работе, а другая, как говорится, на рукояти меча… Зато теперь занялись вплотную… и покрепче вашего…» — «Нет, не занялись. Это у вас временно… чужие люди из далекого города… не спросив хозяина…» — «Да нет же!.. Не чужие люди… Тот же хозяин… Понимать надо…» — «Понимаю. Но ведь они уйдут?» — «Уйдут». — «Куда?» — «Орошать другие степи». — «Чьи?» — «Свои». — «А эти?» — «А этим — цвести». — «Нет, не цвести им без хозяина»… — «Ништо! Хозяин всегда при них». «Где? Его не видно». — «Уметь надо видеть! Уме-е-еть!»
И долго еще в шуме и завывании ветра всплывали их голоса. Но я так и не дождался конца их спора. Сон подкрался ко мне незаметно и увлек в свое тихое царство.
45
Проснулся я утром довольно рано, и все-таки они уже были на ногах. Людмила успела сварить кофе. А Петр успел еще раз покопаться в своих чертежах. За завтраком Людмила опять без конца расспрашивала меня о Ленинграде, не давая Петру вставить вопроса о своих родителях. Все же я догадался сказать, что те живы-здоровы и шлют им обоим привет.
Людмила и Петр предполагали, что я приехал к ним на несколько дней, чтобы успеть как можно больше увидеть. Я не пытался их в этом разубеждать. Петр собирался в первый же день показать мне нутро своего шагающего механизма. С этим намерением он повел меня опять навстречу ветру, несущему пыль, пояснив по дороге, что пыль эта летит из калмыцких степей. Но когда мы с ним проходили мимо большого склада, обитого фанерой, нам дорогу преградил пятитонный грузовик. Он стоял поперек нашего пути, не приглушая мотора, видимо готовый тронуться. Я спросил Петра:
— Куда он пойдет?
Петр ответил:
— К себе обратно, на тракторный. Запчасти сгрузил — что ему тут делать?
— А где это — тракторный?
— Тракторный завод? В городе.
— Это там, где станция?
— Да, только в другом конце.
— Я тоже поеду на тракторный.
— А зачем, Алексей Матвеич?
— А за этим… как его… выводить всю их подноготную на чистую воду.
Он засмеялся. Но я тем временем уже подошел к машине и спросил водителя, сидевшего за рулем:
— Подвезете до города?
Тот нехотя ответил:
— Начальника спросите.
Я обернулся, ища глазами начальника. Подоспевший Петр спросил:
— Так вы это всерьез, Алексей Матвеевич? А я думал — шутите. Почему же так внезапно? Или мы вас чем-нибудь обидели с Людой?
Я сказал, пожимая ему руку:
— Нет, Петя! Вы с Людой самые хорошие люди на свете, и дай вам бог счастья. Будь у меня такие дети, я бы гордился ими. Большое вам спасибо за добрый прием. И если вы когда-нибудь приедете в Финляндию, дайте объявление по финскому радио. Я сразу появлюсь перед вами и буду вам служить, как служил серый волк Ивану-царевичу в вашей русской сказке.
Он ответил:
— Спасибо, Алексей Матвеич. Будем рады побывать когда-нибудь у вас. Но все же досадно, что вы так скоропалительно исчезаете. Ведь вы же ничего не успели здесь увидеть.
— Нет, кое-что я увидел. И еще надеюсь увидеть.
— О, так вы, может быть, вернетесь еще к нам, Алексей Матвеич?
— Может быть.
Я сказал это, чтобы как-то смягчить обиду, если она у него зародилась из-за моего внезапного решения от них уехать. А он принял мои слова за чистую монету и воскликнул:
— Непременно вернитесь, Алексей Матвеич! Ей-богу, не пожалеете! Но смотрите, не слишком там задерживайтесь, а то можете не застать. Мы народ кочевой.
— Застану. Планета теперь стала маленькая, и я вас везде найду, даже в песках Сахары.
Он усмехнулся, но не слишком весело. А я опять посмотрел вокруг, выискивая начальника. Три молодых парня вышли из склада, весело переговариваясь. У одного из них в руках были бумаги. Продолжая разговор, он засунул их в нагрудный карман и направился к машине. Сообразив, что это и есть начальник, я встал на его пути. Однако он еще несколько раз останавливался и оборачивался к тем двум, заканчивая с ними разговор о каком-то веселом происшествии в городе. А когда он наконец поравнялся со мной и услыхал мой вопрос, то ответил тем же веселым тоном:
— Пожалуйста! Забирайтесь в кузов. Сейчас едем.
Я уперся ногой в колесо машины и полез в кузов. Там уже сидел какой-то человек. И с этим человеком Петр даже успел перекинуться несколькими словами, стоя на другом колесе. К сказанному он добавил:
— Так вы уж насчет пропуска посодействуйте ему, пожалуйста, ладно?
И сидевший в кузове человек ответил:
— Ладно, Петенька. Посодействуем… попытаемся… постараемся… сообразим…
Что-то знакомое почудилось мне в тенористом голосе этого человека, да и в облике его тоже, хотя сидел он ко мне спиной, пристроившись у кабины на скомканном брезенте. Где-то я уже видел эту гладко обритую голову, на этот раз коричнево-красную от загара, плотно сидящую на короткой, толстой шее, тоже потемневшей под южным солнцем. И спину эту широкую, с округлыми плечами, тоже видел не раз в этой же самой линялой безрукавке. И руки эти толстые, мускулистые, с короткими подвижными пальцами, тоже были мне хорошо знакомы, ибо предо мной сидел Ермил Афанасьевич Антропов.
Он сидел на скомканном брезенте, неловко привалясь левым плечом к стене кабины, и торопливо зарисовывал карандашом в большой альбом молодого парня, приводившего в порядок сваленные у склада тяжелые ящики с грузом. Парень был рослый, красивый, черноволосый и голый до пояса. Мускулы так и перекатывались под его бронзовой кожей, блестевшей от пота. Летевшая с юга пыль оседала на его влажном теле, размазываясь по нему неровными полосами и пятнами.
Поймав его на свой карандаш в одном определенном повороте, Ермил пытался снова и снова уловить его в том же повороте, уделяя главное внимание лицу. Но парень двигался туда-сюда, занятый своим делом, и карандаш Ермила поневоле скользил по разным другим уголкам листа бумаги, отмечая и закрепляя на ней движения его рук, ног и туловища. Он торопился, зная, что машина готова в любую минуту тронуться. А тут еще Петр сунулся к нему с вопросом, продолжая цепляться за борт кузова:
— Вчера вам как работалось, Ермил Афанасьевич? Урожайный ли был день?
И тот ответил, не отрываясь от рисунка:
— Да как сказать… Весьма относительно, Петруня. Весьма относительно. Но набросков сделал немало. Хочу вот на тракторном поживиться. Там есть два интереснейших типа. А завтра к вечеру опять сюда. И потом к палаточникам.
— Правильно, Ермил Афанасьевич! И его заодно сюда прихватите.
Это Петр сказал про меня. Ермил меня еще не видел, но пообещал, не оглядываясь:
— Да, да… Всенепременно… обязательно… безусловно… несомненно… неуклонно… неукоснительно… положительно…
Твердя без надобности схожие по смыслу слова и быстро действуя карандашом, он как бы пресекал этим попытки Петра продолжать разговор. Он твердил их как заклинания, которые надо было понимать так: «Погодите, не мешайте, не трогайте, дайте закончить». Ветер бил ему в лицо пылью. Он щурился, морщился, отдувался, но не переставал вглядываться в парня, действуя карандашом с прежней быстротой.
Вот, значит, из каких мест он вылавливал все те лица, которые я видел в его комнате. Это из них он составлял своего человека будущего. Выходит, что не так уж легко они ему давались. Но он был, кажется, не из тех, кто гнался за легким, и без раздумья проникал всюду, где, по его мнению, делалось что-то новое. И доведись ему попасть в Антарктику, он и там тоже, наверно, не терял бы времени даром. Прислонясь где-нибудь среди льдов к холодной боковине айсберга, он заносил бы в свой альбом смелые черты проникшего туда человека и только отдувался бы от лютой метели, норовящей залепить снегом его мясистое лицо.
Закончить рисунок ему так и не удалось. Начальник взялся за дверцу кабины, окинул взглядом кузов, кивнул приветливо Петру и скрылся внутри, сказав: «Поехали». Машина взревела мотором и тронулась. Я помахал рукой Петру и крикнул изо всей силы:
— Привет и спасибо Людмиле!
Он понял, кивнул и тоже помахал мне вслед рукой, ободряюще улыбаясь при этом. Хороший он был парень, этот Петя, сын Ивана. Только на жизнь он смотрел со своей Людмилой как-то странно. Но пусть не слишком поздно придет к ним сомнение относительно выбранного ими пути, где собственное счастье отбрасывалось ради устроения какого-то будущего счастья, неведомо для кого и неведомо когда прибывающего в этот невеселый, трудный мир.
Держась рукой за борт кузова, чтобы не упасть, я обернулся к Ермилу. Он уже укладывал свой альбом в большую толстую папку, где виднелись другие такие же альбомы и отдельные листы с рисунками и без рисунков. Делал он это спокойно, без всякой видимой досады. Как видно, ему не впервые было прерывать работу таким образом. Стянув шнуры папки в узлы, он поднял голову, увидел меня и вскричал:
— А-а, вот он кто! А я — то думаю, о каком это Алексее Матвеевиче мне Петя толкует. Оказывается, это наш гость из страны тысячи озер. Изгнанник родины, так сказать. Изгой. Гражданин мира! Новоиспеченный космополит. Вы здесь какими же судьбами, если это не секрет?
Он привстал с брезента, протягивая мне руку для приветствия и приглашая кивком сесть рядом. Я сел рядом с, ним на брезент и ответил:
— Просто так… Захотелось проехаться немного по России и посмотреть кое-что.
Он сказал:
— Похвально, похвально. Значит, ассимилируетесь помаленьку?
— Как?
— Ассимилируетесь, говорю. То есть превращаетесь постепенно в русского. Растворяетесь в русской нации, иначе говоря.
Что он там такое говорил? С чего это он взял, что я растворяюсь в русской нации? Я даже не сразу понял, что он имел в виду, и сидел молча, обдумывая его слова, но потом все же ответил:
— Нет, я не собираюсь растворяться.
Он сказал успокоительно:
— Ничего не поделаешь, Алексей Матвеич. Это судьба всякого покинувшего родину. Никто с вас не взыщет. Обстоятельства сильнее вас. Вы тут один, а русских больше сотни миллионов, да говорящих на русском, наверно, столько же. Где уж вам устоять.
— И все-таки я не собираюсь растворяться в русской нации.
— Как вам угодно, Алексей Матвеич! Не я же этому буду способствовать. Тут действуют свои законы.
— Если эти законы придумали вы, то это еще не законы.
Ермил рассмеялся. Но я не поддержал его смеха. Слишком много он брал на себя. Конечно, он не знал, что я через два месяца готовился вернуться в Суоми, но это ничего не меняло. Следовало как-то поубавить в нем прыти, с какой он рвался в пророки.
Пока я обдумывал подходящие к случаю доводы, машина выбралась из ухабистой части степи на наезженную пыльную полосу, ведущую на север, и прибавила скорости. Ветер дул теперь вслед машине, и скорости их почти уравнялись. Зелено-желтая пыль не била нам в лицо и не обгоняла нас. Она казалась неподвижно висящей над кузовом машины, хотя на самом деле ее несло на север вместе с нами.
Вслед за нами несло также и ту пыль, которую поднимали с земли колеса нашей машины, но и от нее мы успевали уйти. Поднимаясь вверх густыми бурыми клубами, она заслоняла собой и без того мутную степную даль. Ветер гнал эти клубы вслед машине, а она уходила от них, добавляя им в то же время снизу новые и новые клубы. Они тяжело ворочались в воздухе позади кузова, толкаемые ветром вслед за нами, и не торопились оседать обратно на землю.
И тут мне вспомнился почему-то Юсси Мурто с его медлительными раздумьями по поводу тех же вещей, которых коснулся Ермил. Вот у кого я мог набраться доводов. Когда-то в далеком Туммалахти я вдоволь наслушался их при его спорах с отцом. И пусть они не очень совпадали с моими собственными, но для такого случая, когда требовалось осадить этого насмешника, годилось все. И, отвечая на его смех, я сказал:
— Не вам загадывать далеко вперед. Вы сами со своими законами пришли в историю на очень короткое время.
Он опять рассмеялся, разглядывая меня своими блестящими коричневыми глазами с таким вниманием, словно вдруг подметил во мне что-то новое, чего раньше не замечал. И, не скрывая улыбки, в которой таилась насмешка, он спросил:
— Кто это вам сказал, Алексей Матвеич?
Я ответил ему тоже с улыбкой:
— Никто. Это я сам говорю, Аксель Матти Турханен.
— А на каком основании вы это утверждаете?
— На том основании, что я сам увидел у вас. Вы пришли в жизнь со своими порядками, а у жизни свои порядки. И вам их не изменить.
Так я сказал, выгребая из богатого арсенала Юсси Мурто самые хлесткие доводы. Ермил опять рассмеялся. Но я не дал ему этим отделаться и добавил к сказанному:
— Вы проповедуете слияние наций в будущих веках, а сами тянете их назад. Из одного великого русского народа вы сделали три народа с тремя языками, а Россию разделили на шестнадцать частей. Где же тут слияние?
Он ответил назидательно, как отвечает учитель непонятливому ученику:
— Мы стоим за то, чтобы народы развивались свободно, с их национальными особенностями и национальной культурой.
— А если они после такого развития захотят отделиться?
— Это их дело. Но они понимают, что, отделившись, они рискуют быть поглощенными капиталистической системой. А в единении они сильны и могут противодействовать любому давлению, отстаивая свое право на мирное существование.
Так он мне ответил, забыв, что перед ним не школьник, а вполне взрослый человек, да еще к тому же солидно оснащенный кое-чем из богатого арсенала Юсси Мурто. И после такого ответа уже не имело смысла продолжать с ним спор. Толку от него не предвиделось. Оставалось опять свести все в шутку. Я сказал:
— Ну да, вы все время твердите про мирное существование, а сами втихомолку готовите легион двухметровых, чтобы захватить Финляндию.
И опять он рассмеялся во все горло. Смеялся, конечно, и я. Но это не помешало мне пригрозить ему:
— Мы в ответ вырастим свой легион, и еще побыстрее вашего.
Он сказал, округлив глаза:
— А что, если мы возьмем и объединим наши легионы, чтобы избежать столкновения?
Я ответил:
— Э-э, нет. С вами нельзя объединяться.
— Почему же?
— Потому что вы тогда и нас потянете назад, к коммунизму.
И опять был смех. В это время машина выехала к центру города. Я узнал место и заколотил кулаком по кабине. Машина замедлила ход, приблизилась к панели и остановилась. Ермил спросил удивленно:
— Вы куда, Алексей Матвеич?
Я сказал, перелезая через борт машины:
— Вот там, кажется, вокзал?
— Да. Ну и что же?
— Мне туда надо.
— А тракторный?
— В другой раз.
— Но как же так?..
— До свиданья, Ермил Афанасьевич. Спасибо за компанию. Передайте привет вашей супруге и красавице Светлане.
Сказав это, я спрыгнул на землю и помахал рукой водителю. Ермил крикнул сверху:
— Когда завершите путешествие, Алексей Матвеич, к нам наведывайтесь, в Ленинград! Хорошо?
Я кивнул и помахал ему рукой. Он помахал в ответ. Машина взревела и умчалась дальше вдоль улицы Мира. А я заторопился к вокзалу.
46
Мне повезло. Поезд на Сочи еще не успел уйти и стоял напротив того места, где предполагалось быть вокзалу. Ветер прорывался к нему между небольшими временными строениями, поставленными на месте развалин, и хлестал по вагонам желто-зеленой пылью. В одном из этих строений я купил билет до Сочи и поднялся в свой вагон по ступенькам прямо с земли, так как платформы у временной станции тоже не было.
Вагон еще не успел наполниться людьми, и я свободно прошел в свое купе, где тоже никого не застал, хотя на левой верхней полке уже лежал поверх постели чей-то маленький чемодан. Мое место оказалось на правой верхней полке. Она тоже была застелена. Я взобрался наверх, снял туфли, поставил их в ногах на полку и вытянулся поверх одеяла, закрыв глаза.
Поезд постоял еще с полчаса, вбирая в себя пассажиров, а потом тронулся. Я поехал к Черному морю.
Вот как я действовал на этот раз. По своей воле съездил я к Петру. И по своей воле ехал теперь в Сочи. Довольно с меня было всяких там случайностей, уводящих меня неизвестно куда без моего ведома. По своему усмотрению намерен был я впредь поступать. А ехал я в Сочи за русской женщиной, чтобы увезти ее к себе в Суоми. Но я не собирался растворять ее в финской нации. Зачем? Она была хороша в своем русском облике. И такой хотел я видеть ее постоянно.
И лежа на верхней полке вагона, пересекавшего их южные степи, я представил себе ее удивление при виде меня. Вот она идет по гористому берегу их знаменитого Черного моря под голубым небом и ярким солнцем, и теплый ветер играет ее тонким платьем, заставляя его так и этак обхватывать ее сильное тело, чтобы яснее обозначались его стройность и красота. И вот она видит меня, идущего ей навстречу. Ее крупные темно-карие глаза делаются еще крупнее, и густые черные брови изгибаются вверх от удивления.
Но пусть они изогнутся вверх двумя мохнатыми черными дугами, только бы не сходились опять вместе, превращаясь в одну большую, изломанную посредине бровь, похожую на грозную черную птицу, летящую прямо на меня, раскинув крылья. Не хотел я этого сердитого полета.
И вот она смотрит на меня из-под этих раздельно изогнутых черных бровей своими красивыми удивленными глазами и говорит: «О-о, Алексей Матвеич! А вас-то каким ветром сюда занесло?». И я говорю ей в ответ: «А тем самым ветром, который всегда дует в вашу сторону из моего сердца, потому что вы для меня такая-то и такая-то». Что-нибудь вроде этого я ей отвечу. И заодно спрошу, что должен я сделать для завоевания ее приветливости. Может быть, отправиться в их туркменские пустыни копать оросительные каналы? Может быть, какой-нибудь новый рубанок придумать, умеющий говорить и кланяться, или танцующую стамеску? А может быть, она меня и так полюбит, не ожидая от меня подвига? Ведь полюбила же Людмила своего Петю только за то, что он иногда, крепко задумываясь о чем-нибудь, смешно моргал глазами и выпячивал нижнюю губу. Я тоже мог бы выпячивать губу и моргать.
Так я раздумывал, вытянувшись наверху на своей постели. А тем временем внизу остальные три моих соседа по купе уже перезнакомились. Из их разговора я понял, что двое из них были мужем и женой и направлялись в санаторий горной промышленности, а третий — в санаторий «Волна». Этот третий сидел у столика и глядел в окно. А за окном он видел, наверно, все ту же сухую, пыльную равнину, потому что приговаривал время от времени озабоченно низким, скрипучим голосом:
— Н-да, плохо дело. Плохо. Водичку бы сюда. Водичку. С водичкой здесь такое сотворить можно! А без водички не-ет! Без водички тут беда-а!
Другой мужчина сказал ему:
— Вы, очевидно, местный житель, судя по тому, как болеете за здешние места.
Но тот ответил:
— Не-ет. Мы малость севернее живем. Река Керженец по средней Волге. Кержаки-раскольники мы. Слыхали о таких?
— Слыхали, как же! Не искоренили, значит, вас еще? Не пережгли, не перетопили?
— Не-е! Нас не искоренишь. Мы и в огне не горим и в воде не тонем.
Женщина спросила:
— А я вот не слыхала. Что это за кержаки?
Муж разъяснил ей:
— Ну как не слыхала? Слыхала. Из литературы знаешь. Ну, хотя бы у Алексея Толстого: помнишь, в его «Петре Первом» о раскольниках говорится? Конечно, теперь их не преследуют, не жгут. Но жгли в стародавние промена, когда они отказывались креститься по новому способу — троеперстием.
— Как это?
— А вот так: сложить вместе три пальца, а два нагнуть. Три пальца означали: бог-отец, бог-сын и бог-дух святой. А они духа святого не признавали и крестились только двумя пальцами, то есть двумя богами — отцом и сыном.
— Вот чудаки-то! Было о чем спорить. Не все ли равно, чем креститься? Да хоть всей пятерней.
— Да, это нам так кажется. А для них это было вопросом первостепенной важности. Несмотря на преследования, они твердо стояли на своем. Их за это хватали, сажали в тюрьмы, жгли на кострах, но, даже сгорая на костре, они высовывали из огня и дыма вверх два пальца, выражая таким оригинальным способом свою непоколебимую преданность старине.
— Поразительная стойкость! И ради чего, спрашивается?
— Вот именно. Сейчас к ним никто не придирается за двуперстие. И если они решат, что богу будет угоднее, чтобы они крестились левой ногой, то и за это никто не будет им пенять. Правильно я говорю?
Этот вопрос второй мужчина задал кержаку-раскольнику. И тот прохрипел в ответ:
— Все правильно. Только мало таких у нас теперь осталось. К образованию люди тянутся. А там смотришь — и вон из родных мест.
Я повернул слегка голову, чтобы разглядеть сверху кержака. Он уже успел снять пиджак и сидел за столиком в бледно-розовой рубахе с закатанными рукавами. Был он коренастый, худой и загорелый почти до черноты. И руки у него тоже были темные, худые, жилистые. Как видно, поработал он ими в своих кержацких краях немало, хотя вряд ли был старше сорока.
Уловив движение моей головы, он поднял вверх лицо, быстро пройдясь по мне взглядом. А взгляд у него был какой-то колючий, царапающий. Он царапнул меня этим взглядом и тут же опять надежно упрятал его под густые серые брови. В это время проводница возвестила в дверях:
— Есть горячий чай — кто желает?
И они все трое пожелали горячего чая. А я не пожелал чаю и остался лежать наверху, отвернувшись к стене, чтобы их не стеснять.
Напившись чаю и закусив чем-то, припасенным в чемодане, кержак тоже взобрался на свою полку. Но лежать спокойно было, кажется, не в его правилах. Едва взобравшись, он повернулся на живот и, подпираясь локтями, снова принялся смотреть в окно. И снова послышались его замечания по поводу того, что пробегало мимо окна вагона:
— Н-да. Суховато тут, прямо скажем, суховато. И трава никудышная, и проплешины в ней ветром выдуло. Вот и лесные полосы заморенные какие-то. Того и гляди зачахнут совсем. А водичка, она тут все перевернула бы. Чудеса сотворила бы тут водичка.
В таком роде твердил он время от времени своим низким, скрипучим голосом, глядя в окно. Но, глядя в окно, он и меня тоже не упускал из виду, кося в мою сторону колючий, царапающий взгляд каждый раз, как только я поворачивал голову, намереваясь посмотреть в то же окно. В конце концов я отвернулся от него и закрыл глаза, стараясь думать о предстоящей встрече со своей женщиной. Однако его скрипучий, ворчливый голос мешал мне думать, а колючий взгляд, казалось, втыкался мне в затылок. И стоило мне двинуть рукой или ногой, как его глаза, отрываясь от глядения в окно, обращались в мою сторону и быстро процарапывали меня с головы до ног. Да, такие они были, оказывается, эти кержаки-староверы. И, пожалуй, не без причины их топили и жгли в стародавние времена. Какой-то резон в этом все же был.
На остановках, даже самых коротких, кержак непременно спускался вниз и выходил из вагона, а возвратясь, рассказывал супругам внизу о том, что видел на этих остановках. И если он видел плохое, то ворчал, забираясь на свое место:
— Руки бы у них поотсыхали, у стервецов. Этакое бескультурье развели. На полу грязь, наплевано, натоптано. В буфете хоть шаром покати. Кругом ни деревца, ни кустика. Одна ваза с цветком — и та расколота, Чем живут люди — ума не приложу.
Если же он видел хорошее, то возвращался довольный и тут же хвалил увиденное:
— А что, неплохое здание вокзала здесь поставили. Красивое, удобное. И киоск есть газетный, и почта, и бюро справочное, и пассажирам для отдыха место подходящее отведено. Почему бы и другим не брать пример с этой конструкции? И поселок рядом приличный из новых стандартных домиков. Воды только не хватает. Зелень плохо идет. Но, похоже, не сдаются люди — артезианку роют.
Он с такой обстоятельностью вникал во все, что видел, и с такой заботой об этом говорил, как будто оно имело какое-то касательство к нему. Но оно не имело к нему касательства. И заботу о воде для этих мест он тоже проявлял напрасно. Далеко находились эти места от его дома, и не он был здесь хозяином. С чего бы ему так болеть за чужие сухие земли, когда в его кержацких лесах и болотах, надо думать, хватало воды с избытком?
Я отвернулся от него, чтобы без помехи поговорить с моей женщиной. Прижав одно ухо к подушке и прикрыв другое рукавом пиджака, я отправился к ней на горячий берег южного моря, стараясь не слышать, как спускался кержак со своей полки, как он снова на нее взбирался и что он говорил по поводу увиденного за пределами вагона.
Но, должно быть, я слишком хорошо закрылся от посторонних звуков, пытаясь уйти своими помыслами к берегам их южного моря, потому что ушел незаметно совсем в другое царство. А когда вернулся из этого царства, день успел перевалить за половину. Вернул меня на место голос проводницы, проходившей мимо двери купе. Она провозгласила:
— Граждане пассажиры! В шестом вагоне есть ресторан. Для желающих имеются свежие обеды, горячие закуски и напитки.
Я был желающим. Для меня она сделала это сообщение. Не раздумывая долго, я сунул ноги в туфли, спрыгнул с полки и направился в шестой вагон.
Идти к нему пришлось через три других вагона. С их площадок я оглядывал безлесные, холмистые равнины, мимо которых мы проносились. Пыль над ними как будто поредела. Среди нетронутых земель виднелись кое-где распаханные поля, засеянные хлебами. Они прилегали к селениям. Зелень деревьев тоже большей частью скопилась в селениях. Между селениями простиралась на многие километры нетронутая травянистая земля, поросшая местами редким кустарником. На этой земле паслись овцы.
Я не сразу их разглядел. Сперва мне показалось, что один из холмов покрыт снегом. Потом я заметил, что снег этот сползает с холма, растекаясь у его основания. Ничего удивительного в этом, конечно, не было. При такой жаре снег не мог уцелеть. Он обязательно должен был сползти с холма и раствориться в зелени травы. Но, сползая с холма в низину, снег не таял и не убавлялся в количестве, заполняя собой внизу пространство тех же размеров, какое перед этим заполнял на холме. А когда он с низины опять пополз вверх на соседний холм, я догадался, что вижу не снег, а стадо белых овец.
Потом, когда поезд миновал первый холм, я увидел позади него человека с большой сумкой через плечо. В одной руке он держал длинную палку с крюком на конце, а в другой — раскрытую книгу. Не отрывая от книги глаз, он медленно брел вслед за стадом.
Проходя площадку соседнего вагона, я увидел вдали ползущую по равнине длинную черную тень и невольно глянул вверх, разыскивая на голубом небе тучу, бросающую эту тень. Однако небо было чистое, без единого облака. И только разглядев неподалеку от этой тени человека с длинной палкой в руке, я понял, что вижу второе стадо овец, на этот раз черных.
В это время через ту же площадку вагона прошел кержак в своей бледно-розовой, застиранной рубахе. Он тоже, как видно, направлялся в ресторан. И, конечно, он опять не упустил случая царапнуть меня тем глазом, который оказался обращенным ко мне. Я не сразу последовал за ним. Наоборот, я даже готов был двинуться в обратную сторону. И только вспомнив, что там нет еды, отказался от этого намерения.
Но разглядывать их просторы у меня уже почему-то не стало охоты. Чего я не видел в их просторах? Нечего было видеть на их просторах. Два стада овец? Маловато было для меня двух стад. Побольше хотелось бы мне видеть их на таких расстояниях. Мало они мне их представили. По всей России пришлось им собирать овец, чтобы составить эти два стада. Неудивительно, что получились они такими огромными, заняв на этой холмистой равнине столько места. Но больше у них, видимо, не нашлось.
Так, наверно, обстояли здесь эти дела, верно, Юсси? Уж мы-то с тобой давно проникли во все их немудрые уловки. Два стада овец насобирали они к моему появлению здесь. До этого пусто было вокруг. Пока я лежал на своей полке, закрыв глаза, поезд шел по равнине, где не было ничего живого. И напрасно пытался бы кто-нибудь внушить нам с тобой, что за это время очень много овечьих стад, черных и белых, мелькало справа и слева от поезда, заполняя собой холмы и впадины. Мы-то с тобой знаем, что не было тут никаких стад, кроме этих двух, собранных наспех со всех уголков их огромной страны на удивление заезжему финну.
Так вздумалось мне поразмыслить в те минуты, пока я пробирался из вагона в вагон, чтобы пообедать в их походном ресторане, куда уже успел пройти со своими царапающими глазами беспокойный кержак. Почему было мне не поразмыслить именно так? Дела мои складывались хорошо, несмотря на соседство кержака. Русский поезд вез меня к их южному морю, где с великим нетерпением ждала меня моя женщина. Я ехал к ней, чтобы забрать ее оттуда в свою далекую родную Суоми и уже больше никогда с ней не расставаться. Зачем было мне отягощать свою голову какими-то иными раздумьями?
Вагон-ресторан был по внешности такой же, как все остальные вагоны, только без внутренних перегородок. Вместо них в нем разместили два ряда столов, за которыми уже кое-где сидели люди. Я сел на свободное место подальше от линялой рубахи кержака, устроившись так, что видел только его стриженый затылок и черную от загара сухую шею. Женщина в белом переднике и желтой блузке принесла мне по моей просьбе борщ со сметаной и хлебом. На второе я съел тарелку рисовой каши с жареной бараниной, запив все это двумя бутылками кефира.
Пока я обедал, поезд останавливался два раза у маленьких станций, окруженных зеленью деревьев и акаций, и потом снова двигался на юго-запад по залитой солнцем открытой равнине, так мало тронутой рукой человека. И еще одно стадо, на этот раз рогатое, мелькнуло за окном вагона.
А в нескольких километрах далее паслись лошади. Они паслись близко к железной дороге, и поезд спугнул их с места. Но понеслись они не прочь от поезда, а рядом с ним, как бы желая его обогнать. Их рыжие хвосты и гривы развевались на ветру за окнами вагона до тех пор, пока вожак табуна не догадался свернуть в сторону. Тогда и весь этот рыжий поток устремился вслед за ним к далеким холмам и вмиг остался позади поезда.
Когда я возвращался в свой вагон, поезд еще раз остановился. Я выглянул наружу с площадки чужого вагона, но не заметил никаких признаков станции. Зато я увидел еще одно стадо овец — на этот раз серых. Выходит, что у них в стране было целых три стада, а не два, как я предполагал раньше. Но тут же я сообразил, что они могли схитрить и объединить в одно те два стада. Объединив их в одно стадо, они снова подогнали его к этому поезду, чтобы поразить приезжего финна своим богатством. Но приезжий финн разгадал их трюк, уяснив заодно, почему это стадо оказалось вдвое крупнее тех двух. А серый цвет оно приобрело весьма простым способом — от смеси белого с черным. Так просто объясняется все это явление, верно, Юсси? Уж мы-то с тобой знаем, в какой подноготной у них шило запрятано.
Поезд остановился из-за того, что стадо овец оказалось на его пути. Пересекая невысокую насыпь, оно растянулось на полкилометра вправо и влево от линии. И так как поезд стоял неподвижно, а паровоз не производил шума, овцы шли неторопливо, пощипывая на ходу травку. За ними с той же неторопливостью передвигались два пастуха с длинными палками. Один из них был в очках. Он шел позади стада. Другой, постарше, остановился у паровоза, пропуская стадо мимо себя. Машинист крикнул ему с паровоза:
— Поторопи, поторопи свою армию. У нас же расписание!
А тот ответил невозмутимо:
— И у нас расписание, мил человек. Овца, она тоже по графику живет.
Машинист сказал:
— И все-таки поторопи. А то вот как возьму да пугну паром!
На это пожилой пастух ответил с тем же спокойствием:
— Да, был тут один дурак. Он товарный состав вел. Взял и пугнул. Стадо разделилось, да не поровну. А как поезд пошел, меньшая-то половила вздумала вдруг на соединение кинуться — да прямо под колеса! Двух маток подавил, негодяй, и одного ягненка.
— Ладно. Не тревожься. Переждем как-нибудь.
— Да уж немного и осталось-то. Сейчас пройдут последние.
Пока они так переговаривались, овцы пересекли полотно. Пастух выждал немного, заботливо глядя им вслед, потом окинул взглядом опустевшее пространство и крикнул машинисту:
— Кажись, в порядке все! Трогай!
Он помахал машинисту рукой и последовал за своим товарищем. Машинист махнул ему в ответ и скрылся внутри паровоза. А через минуту поезд снова тронулся, быстро набирая скорость, чтобы наверстать упущенное время.
Я прошел в свой вагон. Кержака в купе еще не было. Супруги-геологи сидели на своих местах возле столика, загородив от меня ногами подставку для влезания наверх. Меня они не сразу заметили, занятые разговором о том, что видели в окно. Я присел на одну из нижних полок, поближе к двери, выжидая момент, когда их ноги перестанут заслонять от меня подставку. Но они не торопились убирать прочь свои ноги. А супруг, не вставая с места, даже попробовал заговорить со мной. Повернувшись ко мне, он спросил:
— А вы далеко ли путь держите?
Я ответил:
— В Сочи.
Он улыбнулся:
— Все мы тут едем в Сочи. Это само собой разумеется, поскольку поезд ведь дальше-то и не идет. Я имел в виду спросить, в какой санаторий?
— В санаторий Ленсовета.
— А-а. Так вы из Ленинграда?
— Да…
Вот какой короткий получился у нас разговор. На этом ему бы и кончиться. Но молодому геологу тоже, как видно, до всего было дело. Помолчав с минуту, он спросил:
— Вы первый раз едете в санаторий или бывали раньше?
И даже на это можно было ответить очень коротко: «Первый раз» или: «Да, бывал». И разговор приостановился бы снова. Но нелегкая потянула меня за язык сказать:
— Нет. У нас нет санаториев. Почти нет.
И, конечно, вслед за этим сразу же последовал новый вопрос:
— Где у вас? В Ленинграде?
Пришлось пояснить:
— Нет, в Финляндии.
Так повернулся этот разговор. Конечно, я мог бы и не упоминать про Финляндию, но что я от этого терял? Я ехал в Сочи, чтобы забрать оттуда к себе их русскую женщину. А этот геолог не был Иваном, и в наших лагерях во время войны он тоже не был. Чего мне было с ним стесняться? Он сказал удивленно:
— Ах, вот в чем дело! Вы из Финляндии?
— Да.
И тут в дверях проскрипел голос кержака:
— То-то я смотрю, будто личность не наша, да и выговор не тот.
Оказывается, он тоже успел вернуться из вагона-ресторана и теперь стоял у входа в купе, разглядывая меня с новым любопытством. Его царапающие глаза, надежно упрятанные под густые серые брови, так и скребли меня сверху донизу и обратно. Да, их, пожалуй, не зря сжигали, этих кержаков. Причина к тому, наверно, имелась основательная, с чем я тоже полностью был согласен. Геолог спросил меня:
— Значит, путевку вы получили из Ленсовета?
Я ответил:
— Нет. У меня нету путевки.
Он удивился:
— А как же вы… без путевки-то?
— А так… Я просто посмотреть. Я тут уже смотрел кое-что. Колхозы и хозяйства разные… и в Ленинграде строительство. А теперь вот хочу посмотреть, как у вас в санаториях живут.
Он сказал одобрительно:
— Правильно. Это вы хорошо задумали. Давно пора вашим людям познакомиться с нашей жизнью поближе. Хватит нам чуждаться друг друга. К добру это не приводит. А маршрут вы избрали удачный. Сначала понаблюдали советского человека в труде, а теперь увидите его отдыхающим на черноморском побережье Кавказа.
— Я, может быть, еще и в Крым поеду оттуда.
— Ого, как у вас широко это задумано! Ну что ж. Чем больше увидите, тем лучше.
— Да, так у меня задумано.
И тут опять в дверях купе проскрипел голос кержака:
— От смотрения оно, конечно, польза. Да ведь кто как понимает это самое смотрение. Иной норовит ничего не упустить из поля зрения, а иному и в окно вагона лень выглянуть.
Да, их все-таки не напрасно жгли, этих кержаков. И непонятно, почему не сожгли в свое время всех. Вот одного для чего-то оставили, но не так уж обязательно было оставлять и его.
Я сделал вид, что не ко мне относились его слова, и еще немного поговорил с молодым геологом. Тот назвал мне самые красивые места на берегу Черного моря и напомнил, что вечером будем проезжать Кубань — богатейший край.
Я не сразу полез на свою полку после этого разговора и некоторое время постоял в проходе, глядя в окно вагона на пробегавшие мимо поля и селения. Ближе к вечеру их как будто стало больше, этих селений, и зелень садов вокруг них раскинулась шире. Поля тоже изменились. Их почти всюду заполняла желтеющая пшеница… Там, где не было пшеницы, тянулись поля, заполненные какими-то ползучими растениями с круглыми плодами, лежащими прямо на земле. Сверх того, местами виднелись целые поля подсолнечников, повернувших в одну сторону свои желтые диски, и еще каких-то высоких растений без цветов.
И людей повсюду тоже стало больше, особенно на тех станциях, где останавливался наш поезд. Здесь торговали жареными курами и вареными яйцами. Я видел, как их несли пассажиры, возвращаясь в свои вагоны. Но время близилось к вечеру, и едва солнце на пути нашего поезда ушло за край земли, как все вокруг окуталось густыми сумерками. А когда поезд миновал станцию Армавир, наступила полная темнота. Яркий свет вагона усилил черноту за окном, и жизнь там угадывалась теперь только по частым скоплениям огней.
Но я все еще всматривался в окно — так сильно хотелось мне все увидеть в их стране. Такой уж был у меня план, чтобы ничего не упускать из виду. Даже недоверчивый кержак мог убедиться в этом, видя меня весь вечер у окна. Однако надеяться на похвалу с его стороны не приходилось. Так оно и вышло. Проходя мимо меня с полотенцем в руках, он проскрипел:
— Что толку теперь-то у окна маячить? Шли бы спать.
Да, напрасно его все-таки не сожгли и не утопили в петровское время. Спокойнее, наверно, жилось бы людям без его присутствия. Но я сделал вид, что не слыхал его язвительных слов, и еще немного постоял перед темным окном. А потом без торопливости отправился на свою полку.
И когда пришло время устраиваться в постели на ночь, я подумал, что вот и семнадцатый день моего отпуска остался позади. А что он мне принес? Неудобного соседа с колючими глазами он мне принес. И еще где-то готовил он мне другого соседа — того страшного Ивана. Где он таился и когда собирался наложить на меня свою тяжелую лапу? Дай бог, чтобы он вспомнил обо мне после того, как я увезу от них свою русскую женщину. Дай бог, дай бог, дай бог!
Убаюканный легкими толчками вагона, я очень скоро погрузился в глубокий сон.
47
Ночью поезд шел неровно, делая частые повороты туда-сюда и временами преодолевая подъемы. И под утро он тоже то и дело сворачивал то вправо, то влево, но шел уже больше под уклон. Когда я открыл глаза, в купе через окно проникал бледный утренний свет. Кто-то уже успел раздвинуть занавески. И едва я повернул голову, как наткнулся на острый, лукавый взгляд кержака. Он, как видно, уже давно не спал, потому что лежал совсем одетый поверх одеяла и смотрел в окно. Его гладко зачесанные вбок волосы были влажны и темны от недавнего умывания.
Я тоже встал, умылся и даже выпил два стакана чая с сухарями, предложенными проводницей. А потом устроился опять в проходе у окна, пропуская за своей спиной туда и сюда людей с полотенцами и мыльницами. За окном сквозь утренний туман виднелись отроги гор, поросшие травой и кустарником. Иногда они подступали совсем близко к поезду, показывая мне свои каменные изломы там, где их тронул человек, проложивший по их склонам эту дорогу. Иногда они удалялись от поезда настолько, что я видел перед собой внизу узкую зеленую долину с быстрой речкой посредине и маленькими домиками по ее берегам. Видно было, что поезд шел по краю этой долины. Она круто изгибалась вправо и влево, следуя за бурным потоком, и поезд повторял все ее изгибы. На некоторых особенно крутых поворотах я видел из окна одновременно голову и хвост своего поезда. И с каждого конца у него было по паровозу.
А потом я увидел море. Поезд вышел к нему у станции Туапсе и дальше на юг двинулся по его берегу. Да, такое, конечно, не стоило упускать из виду. Не то чтобы море показалось мне чем-то особенным. Я уже видел море на своем веку и даже плавал по нему. Но здесь оно было густого синего цвета вдали, где его уже тронуло утреннее солнце, и зеленое у берега, куда лучи солнца еще не проникли, задержанные горами. Дверь купе была теперь все время открыта, и, оглядываясь назад, я видел сквозь окно купе их зеленые склоны, подступающие близко к железной дороге.
И не только я стоял у окна. У всех окон, обращенных к морю, справа и слева от меня стояли люди. Кто-то, хорошо знающий эти места, называл санатории, мимо которых мы проезжали. Самих санаториев не было видно. Они затаились где-то среди гор. Но у каждого из них был свой выход к морю, по-своему оборудованный и заставленный разными приспособлениями для лежания и укрытия от солнца. В этих местах уже кое-где купались люди или просто умывались, подставляя ладони набегающим на береговую гальку прозрачно-зеленым волнам.
В другом месте женщины говорили о платьях и халатах, какие теперь принято носить на курортах. В третьем месте мужчины спорили о виноградных винах. Один уверял, что нет лучше мускатных и массандровских, а другой хвалил грузинские.
Мы проехали тоннель и опять выбрались к морскому простору. Пассажиры повели себя беспокойнее, и в руках у них стали появляться плащи, чемоданы, сумки. Видно было, что поезд прибывает к месту. Я просунул голову в купе и сказал соседям: «До свидания». Затем тоже направился к выходу. На кержака я старался не смотреть, хотя почувствовал, как его насмешливый взгляд прошелся по моим пустым рукам. И все то время, пока я вслед за другими продвигался к выходу, глаза его скребли мой затылок.
От вокзала я пошел прямо вперед, не оглядываясь. Передо мной открылась просторная площадь, вся залитая солнцем. И солнце было жаркое, несмотря на утренний час. На площади в разных местах стояли автобусы. Я прошел туда, где их скопилось побольше, и на одном из них прочел: «Сочи — Хоста». Как раз это и было мне нужно. Однако прежде чем забраться внутрь автобуса, я оглянулся. Да, кержак был тут же с чемоданом в одной руке и с плащом в другой, и глаза его, полные подозрения, были устремлены в мою сторону. Но стоял он возле другого автобуса. Не раздумывая долго, я вошел в свой автобус и сел на одно из передних мест, готовый сразу выйти, если войдет кержак. Но кержак не вошел, слава богу, и автобус тронулся без него.
Конечно, он был, наверно, не такой уж плохой человек, этот кержак, бог с ним. Плохой человек не стал бы печалиться по поводу чужой безводной земли или радоваться при виде чужих новых построек и садов. Но все-таки лучше бы уж он оставался в своих кержацких лесах и болотах. Сидел бы там и крестился на здоровье двумя перстами, вместо того чтобы рыскать с видом хозяина по всей стране и всюду совать свой нос. И другим было бы как-то спокойнее вдали от его скребущих глаз.
Не чувствуя больше на своем затылке его колючего взгляда, я устроился поудобнее у открытого окна автобуса. И первое, что я увидел из окна автобуса, были пальмы. Настоящие живые пальмы, высокие, прямые, с темно-зеленой кроной наверху. Они тянулись в два ряда по обе стороны улицы, вдоль которой проносился автобус, и колыхали на ветру своими крупными пальмовыми листьями. И никто не удивлялся им, не замирал перед ними в немом восторге, не кричал, не прыгал, не сходил с ума от близости такой удивительной необыкновенности. На одной из остановок пальма оказалась прямо в толпе, и люди, пробираясь к автобусу, задевали плечами и руками ее мохнатый зубчатый ствол, даже не замечая этого.
И еще какие-то диковинные растения росли по обе стороны улицы. Мелькали крупные, яркие цветы и густые кустарники с блестящими листьями. Потом вдруг образовался провал, и я увидел деревья и дома далеко внизу. Это автобус прошел по очень высокому мосту. И далее он продолжал идти по высокой части берега, откуда открывался обширный вид на море. Оно синело и сверкало справа все то время, пока автобус шел к Хосте. И только частые крутые повороты автобуса на извилистой асфальтовой дороге да вершины высоких деревьев, росших по склону берега, скрывали его на какие-то мгновения от моих глаз.
Когда автобус отошел от Сочи километров на пятнадцать, кто-то позади меня сказал:
— А вот и Хоста.
Как раз к этому времени машина поднялась особенно высоко и дальше покатилась вниз, уходя от моря. Слева показался обрыв, из глубины которого неведомые мне деревья выставляли кверху свои разлапистые вершины с крупными листьями. А между этими листьями я увидел домики. Они выглядели размером в половину каждого листа, потому что находились очень далеко внизу. Туда и вела наша дорога, петляя по склонам горы вправо и влево.
Вот она сделала крутой поворот и опять пошла вниз по склону горы. На этот раз по левую сторону от машины оказались не вершины деревьев, а их стволы и корни, укрепившиеся на крутом травянистом скате. А обрыв теперь оказался справа. И справа же из глубины обрыва высунулись новые вершины деревьев, потому что до подножия горы все еще было далеко. Но стоило машине сделать новый поворот, как обрыв опять оказался слева. Так после каждого поворота машины обрыв оказывался то справа, то слева, и долина Хосты становилась все ближе и ближе к нам, быстро укрупняясь вместе со своими домами и садами.
Я сидел в бегущем вниз автобусе и думал о том, что она теперь совсем близко от меня, моя женщина, моя Надежда. Это ее царство началось. Тут она где-нибудь уже проходила, наверно, ступая по этому асфальту своими красивыми сильными ногами. Тут ее умный взгляд скользил задумчиво по этой непроходимой зелени, грозящей с обеих сторон захлестнуть асфальт. Здесь ее полные загорелые руки срывали, может быть, какой-нибудь крупный узорчатый лист или цветок или просто так прикасались к этим ползучим растениям, свисающим с некоторых деревьев целыми зелеными завесами.
Я даже начал искать ее глазами по сторонам дороги, особенно после того, как мы покатили вдоль нижнего склона горы между первыми домами поселка. Здесь она могла оказаться среди тех пешеходов, которые стали нам попадаться на пути в ярких курортных одеждах. Почему бы нет? Ее санаторий тоже, может быть, стоял тут, на склоне какой-нибудь горы, вроде той, откуда мы только что спустились.
Она могла прийти сюда из своего санатория и оказаться одной из тех женщин, которых мы встречали или обгоняли на нашем пути. Их было много, и они шли неторопливой походкой, одетые в длинные халаты или платья, такие же яркие, как те цветы, которыми пестрели прилегающие к их санаториям диковинные сады и парки. Но хотя некоторые из этих женщин и напоминали фигурой мою Надежду, однако среди них ее не оказалось.
Шоссейная дорога, по которой мы ехали, огибала долину Хосты полукругом, теснясь ближе к склонам гор, которые тоже охватывали ее подобием полукружия. Это полукружие разрывалось в одном только месте быстрой желтой рекой, вытекавшей из каких-то отдаленных горных ущелий. Но шоссейная дорога не прерывалась даже здесь. Над рекой ее соединял висячий мост.
Перед мостом была остановка. Я вышел на этой остановке вместе с некоторыми другими, а машина свернула с дороги и ушла куда-то вниз на свое кольцо, как мне сказали. Я тоже спустился в поселок и углубился в его зеленые улицы, не придумав еще, с чего начать поиски моей женщины. Все вокруг было непривычное для меня, как будто я вдруг оторвался от подлинной жизни и окунулся во что-то придуманное, вроде непонятного сна или сказки. Деревья здесь, как и в Сочи, были ненастоящие. Таких деревьев не бывает на свете. Их придумали. Их взяли из картинок, нарисованных к детским сказкам, и поставили тут по краям улиц возле домов, похожих на дворцы.
Тут были высокие, остроконечные деревья, у которых ветки глядели прямо вверх, плотно прижимаясь к стволу, отчего каждое такое дерево напоминало собой огромное веретено, воткнутое в землю. Тут были деревья, состоявшие из одних листьев светло-зеленого цвета. Эти листья росли почти прямо из земли, полностью заслоняя собой короткий, как пенек, ствол, и поднимались вверх на три-четыре метра. Двумя такими листьями можно было закрыть ветхий дом старого Ванхатакки в далекой угрюмой Кивилааксо. Тут были высокие пальмы с прямыми пушистыми стволами. Их широкие жесткие листья, разрезанные у концов на узкие полоски, колыхались над моей головой с железным звоном, словно огромные веера, насаженные на тонкие гибкие стержни.
Но и пальмы, конечно, тоже были ненастоящие, потому что в моей жизни не могло быть пальм. Не предусматривались они в ней. Это была ошибка. Я случайно попал не в тот мир, который был предназначен мне богом. Белка и сосна — вот что было мне дано в удел с первого дня моего рождения. Елка и сосна, да еще мох для прикрытия камней, которых судьба отпустила мне в жизни слишком уж много.
Но я попробовал сделать вид, что для меня нипочем этот мир, перенесенный сюда из волшебной сказки, и шел по нарядным улицам поселка такой же неторопливой походкой, как и все другие люди. Я даже снял пиджак и галстук и расстегнул ворот рубашки, чтобы не так сильно отличаться от них, одетых в самые легкие одежды. И вид у меня был совсем равнодушный ко всему, кроме разве встречных женщин. Из них я не пропускал без внимания ни одной, помня о своей Надежде.
Вид у меня был такой, как будто меня нисколько не удивляло все то пахучее и многоцветное, что заполняло сады и улицы, отражалось в струях фонтанов, захлестывало веранды и лезло в окна домов. Спокойно прошел я мимо очередного сада, откуда на меня взглянули цветы такой формы и такой окраски, каких не бывает в жизни. Спокойно обошел я также дерево, похожее на огромное скопление зеленых корней, которые как бы случайно проросли во всех направлениях мягкими многолапчатыми листьями размером в тарелку и круглыми зелеными плодами. Равнодушно прошел я под плакучей ивой, какую до этого встречал только на картинке, читая про древний Вавилон. Она была высотой с пятиэтажный дом и свесила зеленые нити своих слез до самой земли. Но я небрежно раздвинул их и прошел своей дорогой. Все для меня было нипочем, потому что я сам жил в этой стране. Я мог еще и не такое выхватить из мира сказки, чтобы принести это сюда для украшения жизни человека.
Перед одним деревом я, правда, задержался немного, но и то просто так, чтобы проверить, хорошо ли оно тут у меня прижилось на земле после того, как я извлек его из мира сказки. Оно было высотой в добрую лесную ель и густо одето листьями величиной в ладонь. Листья эти были толстые и блестящие, словно покрытые темно-зеленым лаком, а на этом темно-зеленом блеске сидели в разных местах по всему дереву до самой вершины белоснежные цветы, размерами в две самые крупные в мире ладони, сложенные вместе ковшом.
Я осторожно ткнулся носом в один из нижних цветов просто так, чтобы проверить, тот ли в нем аромат, который я ему предназначил, перенося его сюда из сказки. Но он в ответ угостил меня чем-то таким густым и одуряющим, что я невольно ухватился рукой за чью-то изгородь и на какое-то мгновение забыл даже, как меня звать. Однако вспомнив опять, кто я и на какой планете обитаю, я поудобнее устроился у забора, облокотясь на него с таким видом, словно приостановился отдохнуть.
Отдохнув так немного, я различил перед самым своим носом свисающие откуда-то сверху зеленые гроздья винограда, а еще немного погодя различил небольшой деревянный навес, наглухо оплетенный виноградными лозами и листьями, среди которых виднелись другие такие же гроздья. Позади навеса я увидел домик и возле него — плетеное кресло, в котором сидел пожилой человек в белом костюме и в широкополой соломенной шляпе с газетой в руках. Отведя газету в сторону, он взглянул на меня вопросительно. И, пользуясь этим, я сказал:
— Мне нужен санаторий «Крутая горка».
Он ответил, указывая на горы:
— Это здесь, недалеко. Его даже увидеть отсюда можно, если подняться на насыпь. Два желтых домика на склоне средней горы.
48
И после этого все для меня установилось на свои места. Я увидел санаторий, в котором жила она. Два трехэтажных домика дачного типа на зеленом косогоре, как раз над средней частью той дуги, которую асфальтовая дорога описывала вокруг поселка. Вот он, тот уголок, самый счастливый на свете, который она украсила своим присутствием. Он расположился чуть ниже середины большой зеленой горы, окунувшей свою вершину в рыхлую белесую тучу. Эта туча застряла тут, наверно, с ночи, когда над берегом и горами пролился дождь. Все другие тучи к утру успели уйти с небосвода, освободив его для солнца, а эта увязла в зеленых вершинах леса, росшего на горе, и теперь никак не могла из него выбраться, хотя и ворочалась тяжело с боку на бок, выделяя от себя время от времени то в одну сторону, то в другую неуклюжие куски тумана.
Я стоял на полотне железной дороги спиной к морю и вбирал в себя все, что видел перед собой. Я ничего не хотел упустить из виду, потому что и она все это видела и тоже всем этим дышала. Из глубокой зелени, затопившей все полукружие горных склонов, выступали здесь и там красивые крупные здания, блестя стеклом и светлой краской стен. Это были, конечно, санатории, судя по их огромности и обилию окон. Иные из них еще строились, осененные долговязыми кранами. Как видно, здесь основательно готовились к тому, чтобы принимать в это царство сказки все больше и больше людей на время отдыха.
И, пожалуй, это у них неплохо было задумано. В разных местах определила судьба жить людям их огромной страны. Кому-то в удел достались холодные тундры и скалы севера, кому-то глухие леса и голые пустыни, кому-то тесные, большие города, заполненные дымом сгоревшего бензина. Но разве не пожелал бы любой из них оторваться хоть раз в жизни от своей суровой повседневности и окунуться в это царство сказки? А здесь, кажется, уже заботились о том, чтобы это с ними случалось не один раз в жизни. Тому свидетельством были новые дворцы, выраставшие на склонах гор, обращенных к морю. А сколько их, наверно, вырастало по всем другим таким же склонам, обступившим это теплое море на протяжении многих сотен километров. Да, это у них, конечно, неплохо было задумано, и ты, Юсси, на этот раз молчи. Для твоих слов тут нет места.
Я стоял на высокой насыпи железной дороги, озирая этот неведомый красивый мир, где душой была она, моя Надежда. Там она жила, на высоком косогоре, в одном из тех двух солнечных домиков. И мне теперь осталось только подняться к ней и сказать: «Здравствуйте, Надежда Петровна! Вот я и приехал к вам, как обещал, и теперь от вашего слова зависит, жить мне на свете или не жить». Что она ответит мне на это? Что-нибудь ласковое или сердитое? А вдруг ничего не ответит и только взглянет на меня с недоумением? А вдруг сердито взглянет? Как же мне тогда поступить? Каким словом смягчить ее сердце? Нелегко найти нужное слово, когда прямо перед тобой открывается вдруг бездонная глубина двух крупных темно-коричневых глаз, тронутых зеленью и видящих тебя насквозь, да еще вскинутся над ними высоко в стороны черные брови, густые и мохнатые, готовые вот-вот сойтись вместе от суровости, чтобы превратиться в огромную грозную птицу, летящую прямо на тебя. Не до слов будет в такую минуту. А она, не дождавшись от меня нужного слова, молча пройдет мимо. Но я не хочу, чтобы она прошла мимо. Я не перенесу этого. Я непременно забегу вперед и снова встану перед ней, сложив ладони вместе. Я не затем сюда приехал, чтобы позволить ей пройти мимо. Что же у меня тогда останется в жизни, если она пройдет мимо?
И пускай до сих пор я не сам был хозяином своих действий в этой стране, особенно после того, как я зашагал по их дорогам, но сколько же это могло длиться? Я зашагал, а понесло меня совсем не туда, куда я наметил. Да и сам ли я шагал? Вмешивались люди, вмешивались обстоятельства, и меня кидало туда-сюда по их велению. Получалось так, что не сам я был двигателем своей судьбы в их компании, не сам был главным героем в истории своей жизни, а кто-то другой был этим героем и двигал моей жизнью как хотел. Менялись вокруг меня места, менялись люди, и все эти люди почему-то становились действующими лицами той истории, которая касалась только меня. А иногда — даже главными героями.
Но пускай до сих пор было это так. Зато теперь я наконец покончил с этим и не собирался никого больше пускать в главные герои своей собственной жизни. По своей воле я сюда явился и стоял теперь тут, возвышаясь над этим южным русским поселком, утопающим в богатой южной зелени. Позади меня гудело море. Справа от меня ревела мутная быстрая река, проскакивавшая к морю под коротким железнодорожным мостом. Она уносила туда все, что ночной ливень смыл в нее с гор: мелкий лесной мусор, сучья, щепки, вырванные с корнем кустарники и даже целые деревья. Зеленая вода моря против моста на добрые полкилометра окрасилась в глинистый цвет. Слева от меня гремела бодрая песня из рупора, укрепленного напротив пристани у вокзала. А прямо передо мной за поселком, на склоне зеленой горы, была она, моя женщина, с которой я готовился уехать отсюда в свою далекую родную Суоми. И никто не мог теперь этому помешать. Я сам стал наконец главным героем той пускай нескладной, но все же как-никак близкой мне повести, которая называлась: «Жизнь Акселя Турханена».
Мне было жарко даже без пиджака, и солнце все сильнее припекало мой нос и скулы. Я провел рукой по лбу, и ладонь стала влажной от пота. Можно было, конечно, пойти окунуться в море. Но пока я высматривал проход в кустарнике, отделявшем меня от морского берега, с южной стороны показался поезд. Он заставил меня поторопиться. Но, сбегая с насыпи по колотому щебню, я прорвал подметку у правой туфли.
Пришлось заняться проверкой. И тут же выяснилось, что у левой туфли подметка тоже успела протереться насквозь. Вспомнив еще раз с сожалением о туфлях на толстых каучуковых подошвах, оставленных в Ленинграде, я вздохнул и снова направился в поселок. Там я купил в промтоварном магазине парусиновые туфли сорок первого размера и пару бумажных носков. Затратиться на кожаные туфли я не рискнул. Кто знает, какие расходы мне еще предстояли до моего возвращения в Ленинград. А бумажник мой и без того изрядно похудел.
С покупками в руках я вышел к берегу моря и остановился там, где в него впадала река. Это было пустынное место, если не считать ватаги мальчуганов, купавшихся неподалеку. Они забавлялись ныряньем в набегавшие волны. Эти волны, приближаясь к берегу, усеянному обточенной, круглой галькой, становились выше ростом и тоньше, а на их гребнях появлялась белая пена. Перед тем как обрушиться на береговую гальку, их пенистые гребни перегибались в дугу, и тогда на какую-то малую долю секунды из волны получался длинный, сверкающий изумрудом тоннель. Ребятишки с веселыми криками пронизывали стенки этого прозрачного тоннеля своими быстрыми коричневыми телами, и в следующий миг их загорелые головы появлялись на гребне новой большой волны, похожие издали на пригоршню пробок, брошенную туда чьей-то озорной рукой.
Там, где река напирала на море, сила его волн замирала далеко от берега. Пользуясь этим, я выстирал в желтой бурливой воде реки носовой платок и старые носки, а потом еще и майку, и рубашку, и даже галстук. И пока все это сушилось, разложенное на гальке, я выкупался сам и заодно прополоскал трусы. Но об этом я не буду рассказывать вам, финские люди, когда вернусь в свою родную Суоми. Не обязательно вам знать, как ваш незадачливый сородич приводил себя в порядок перед свиданием с женщиной, а русские дети кричали ему:
— Эй, дяденька! Может, и мои штаны постираешь? Дяденька, а почем в этой прачечной за стирку берут?
Не слишком интересно было бы вам также знать, как этот дяденька разыскал на берегу обломок фанеры и притиснул на нем своим телом ту часть брюк, где полагалось быть складке. Это заняло у него гораздо больше времени, чем стирка. Мальчики, накупавшись досыта, ушли вдоль берега через мужские и женские пляжи к пристани, а он все лежал на своих брюках, придавливая их то спиной, то животом. По насыпи и железнодорожному мосту время от времени проходили люди, а он все лежал. Прошли два товарных поезда и три пассажирских, а он все лежал, обжигая кожу солнцем. Нет никакой надобности вам знать о таких скучных вещах.
Довольно сказать, что, когда я опять появился в поселке, вид у меня был вполне приличный. Воротник рубашки и галстук пришлось, правда, разглаживать руками, но кто бы мог об этом догадаться? Выстиранные носки я спрятал в карман, а старые туфли занес в сапожную мастерскую. Я надеялся, что мне их как-нибудь починят. Все-таки это были когда-то хорошие кожаные туфли, изготовленные фабрикой «Скороход». Однако приемщик, просунув кулак сквозь то место, где у туфли полагается быть стельке и подошве, поднял на меня такой удивленный взгляд, что я поспешил сказать:
— Нет, нет. Это я так. На обрезки, может быть, вам пригодится.
Тогда он сказал:
— А-а.
И кинул мои туфли в какой-то дальний угол на груду сапожного хлама.
Я подождал немного. Я думал, что он догадается предложить мне за них ну… хотя бы рублей десять или даже пять. Все-таки это была кожа. Верхи были еще совсем целые. Стоило их только слегка перетянуть, и они опять годились бы в дело. Попадись они в цепкие руки Арви Сайтури, он обязательно сделал бы из них новые туфли. Поэтому я подождал немного. Однако приемщик уже занялся другими посетителями и на меня больше не взглянул.
Ну, что ж. У меня по крайней мере опять освободились руки. Из сапожной мастерской я пошел в парикмахерскую и там попросил девушку постричь меня и побрить, что она и сделала очень быстро и умело, как не сделал бы иной мужчина. В парикмахерской я оставил пять рублей, зато вышел оттуда помолодевшим и пахнущим одеколоном. Проходя мимо киоска с пирожками, я купил четыре штуки и, отойдя в сторону, съел их. Потом у другого киоска выпил стакан воды с сиропом. После этого я стал выбираться на дорогу, огибавшую полукругом нижний поселок, и тут кинул взгляд на стоянку автобусов. А на этой стоянке среди двух больших автобусов, помеченных номерами, стоял один поменьше с надписью «Крутая горка».
Я остановился. Это стоило того, чтобы постоять немного и сообразить кое-что. Ведь автобус был оттуда. Три человека уже сидели в нем: две женщины, одетые во что-то яркое, цветастое, и один мужчина в полосатой пижаме. Я всмотрелся в лица женщин. Нет, это были незнакомые мне женщины. Волосы у них были светлее и не так строго уложены, как у моей.
И еще одна незнакомая мне женщина в ярком шелковом халате и с махровым полотенцем в руках подошла и села в автобус. Ее короткие темные волосы еще не успели высохнуть после купанья в море, хотя она их теребила и тормошила рукой. Потом в автобус вошли два толстяка в пижамах и соломенных шляпах. Я стоял и ждал. Если все они пришли с купанья, то и моя женщина могла оказаться с ними. Но вдруг автобус заурчал мотором и тронулся с места. Моей женщины он не дождался.
Ну, что ж. Значит, она оставалась там, наверху. Не беда. Зато я мог теперь узнать, какой дорогой надо идти, чтобы к ней добраться. Стоило лишь проследить за этим голубым автобусом. Не теряя ни секунды, я двинулся вслед за ним. Однако изгибы асфальтовой дороги и густая зелень кустов и деревьев по ее сторонам очень скоро заслонили его от меня. Пришлось пробежать немного. Почему бы нет? Говорят, это полезно иногда проделывать просто так, ради укрепления здоровья. И вот я тоже решил не упустить подходящего случая, тем более что и погода вполне для этого подходила. В тени, как я после узнал, градусник показывал тридцать два, а на солнце — пятьдесят восемь. Получалось что-то вроде печки, в которую тебя сунули и держат, прикрыв заслонку. А в печке груда раскаленных углей.
Редко случается такая подходящая погода для пробега, да еще если пробегающий одет в теплый шерстяной костюм, под которым у него рубашка, застегнутая на все пуговицы и стянутая у ворота полосатым галстуком, а под рубашкой, кроме того, майка, тоже, слава богу, способная греть. Он бежит и молит господа бога о струйке свежего ветра. А ветра нет под раскаленным небом. Ветер был ночью, когда пронес над горами дождевые тучи и раскачал поверхность моря, а теперь отдыхал, затаившись где-то в ущельях. Да, редко, пожалуй, складываются такие благоприятные условия для пробега.
Сперва я бежал по краю улицы. Но по краю улицы шли также другие люди, и шли не торопясь, ибо они приехали в эти края не для того, чтобы торопиться. Тогда я выпрыгнул на середину улицы и понесся быстрее, несмотря на то, что к резиновым подошвам моих новых парусиновых туфель прилипала смола, вытопленная из асфальта раскаленным солнцем. Зато я опять поймал в поле зрения голубой кузов автобуса и успел-таки заметить, где он свернул с главного пути. На этом я закончил свой пробег, укрепляющий здоровье.
Укрепив таким образом свое здоровье, я свернул в густую тень деревьев, чтобы там отдышаться. Потом снял пиджак, галстук, расстегнул рубашку и минут десять вытирал все то, что бежало в три ручья по моему лицу, по спине и по груди. В ход пошли, кроме носового платка, выстиранные у моря носки, которые пришлось тут же бросить. Остыв немного, я снова привел себя в порядок и прошел, уже не торопясь, до того места, где скрылся автобус.
Вот здесь он свернул на эту узкую асфальтовую ленту, которая уходила от главной дороги вверх по косогору. А здесь он, конечно, въехал в эти открытые ворота, густо оплетенные виноградом. Тут сомнений быть не могло, ибо над воротами в окружении виноградной лапчатой листвы и зеленых гроздьев стояла надпись: «Крутая горка». Так я добрался наконец до места, где жила моя женщина. Тут она была теперь, совсем близко от меня. Стоило мне шагнуть за эти ворота, чтобы оказаться перед ней, перед ее удивленным взглядом. А может быть, и не удивленным. Может быть, перед гневным взглядом. Но я не хотел, чтобы она опять смотрела на меня гневным взглядом, хотя он тоже был красив, как было красиво все, что относилось к ней. От моих слов зависело, быть или не быть в ее взгляде гневу.
Обдумывая свои слова, я то удалялся от ворот, то опять приближался к ним и один раз даже заглянул в них. Асфальтовая лента за воротами круто сворачивала влево и далее уходила вверх по склону, петляя туда-сюда, пока не скрывалась где-то там, высоко, заслоненная зеленью. Там, оказывается, стояли те солнечные домики, а не сразу за воротами, как я полагал ранее. А сразу за воротами начиналась широкая каменная лестница, которая вела к тем же домикам напрямик.
Она вела вверх круто и прямо, сокращая во много раз путь, какой туда же проделывал автобус. Но даже она протянулась, пожалуй, на сотню метров, если не больше. Трудно было определить на глаз ее длину. Я видел только нижние ступени. Увидеть в открытые ворота и калитку ее продолжение мешала свисающая сверху виноградная листва с незрелыми гроздьями. Тогда я отступил на несколько шагов назад, пытаясь разглядеть продолжение лестницы поверх ворот. Но и поверх ворот не увидел ничего, кроме форменного буйства листвы и цветов. Это буйство захлестнуло лестницу с двух сторон и сопровождало ее по крутому склону горы туда, где жила моя женщина.
Это было ее царство. Здесь цвело все, чему было назначено богом цвести в эту пору лета. И не только кусты, но и деревья были усеяны цветами, словно пятнами пламени. Даже хвойные деревья, никогда и нигде не знающие яркого цветения, здесь изменили этому правилу. Ползучие растения оплели их до самой вершины, рождая свои цветы. И эти цветы пламенели среди голубой хвои красновато-синими звездами, делая хвойное дерево не похожим на самого себя. А от вершины дерева они уходили дальше, к сверкающему синему небу, и цвели там, повисая в воздухе на то время, пока вытянувшие их за собой ползучие стебли шарили вокруг своими цепкими, колючими усиками в поисках новой опоры. Новой опорой становились их сородичи, тянувшие к ним от соседних деревьев такие же изогнувшиеся от нетерпения и жадности зеленые петли. И они сцеплялись вместе, наливаясь листвой и цветами и клонясь под их тяжестью над вершинами деревьев и кустарников плотными навесами, схожими по виду с гребнями волн.
Можно было подумать, что там, на склоне, уходящем от ворот кверху, затеяли между собой игру крупные волны разного цвета и разного состава, затеяли и застыли вдруг в самом разгаре игры. Одни из них вздыбились темно-зелеными горами, готовясь хлопнуться о другие волны, отливающие всякими иными красками, а те, в ожидании столкновения, раздались пошире, чтобы не только принять удар зеленого соседа, но и поглотить его без остатка.
Некоторые из таких волн уже ударились друг о друга, ломая и смешивая вместе свои разные по цвету гребни. Но в это мгновение все они замерли. Какая-то сила вмешалась в их возню и приказала им замереть в том виде, в каком застала. Одну из волн составляли красные и белые розы. Она пролилась по склону вниз широким прямым потоком, но тоже замерла, повиснув среди других застывших в беспорядке разноцветных волн крутым огненно-красным водопадом, в котором гроздья белых роз казались пеной, рожденной быстротой падения.
И, протыкая в разных местах всю эту неровную, многоцветную толщу застывших на взлете огромных волн, кверху тянулись остроконечные плотные хвойные деревья, вид которых напоминал веретено. А рядом с ними вздымались прямые тонкие пальмы с длинными изрезанными листьями, похожие на зонты, пригодные лишь для рук великанов.
И вот мне предстояло войти в эту остановленную кем-то бурю из цветов и зелени. Освеженная ночным ливнем, она благоухала всеми своими миллионами цветочных чашечек. Таким благоуханием питались, наверно, древние боги, живя на своей недосягаемой горе в окружений таких же растений. А теперь в это таинственное благоухание готовился окунуться я, безвестный маленький финн Аксель Напрасный. И не только окунуться, но и пройти насквозь всю эту густую яркость, чтобы в конце своего пути предстать перед ней, главной властительницей этого сказочного мира, и увидеть в ее красивых глазах удивление и радость. А может быть, и не радость…
Да, все зависело от моих слов, конечно. Их следовало обдумать как можно обстоятельнее, если я хотел воздействовать на ее сердце. И я обдумывал, пользуясь пустынностью этого места, где только птицы проносились над моей головой от дерева к дереву, издавая незнакомые мне звуки, да трещали громко в траве по сторонам дороги неведомые мне насекомые.
Но я недолго колебался. Я не из тех, кто долго колеблется, если надо быстро на что-нибудь решиться. Не прошло и часа, как у меня уже было покончено со всякими колебаниями, и я двинулся от края дороги прямо к открытым воротам, захлестнутым с боков и сверху виноградной листвой. То есть я не то чтобы очень уж прямо к ним двинулся, а сперва прошел мимо них и мимо открытой калитки, тоже плененной виноградом. Потом прошел мимо них в обратную сторону, просто так, чтобы поразмяться немного. Заодно я еще раз кинул взгляд в просвет между листьями винограда на нижние ступени каменной лестницы, по которой мне предстояло подняться к ней. И после этого я еще несколько раз прошел ради разминки туда и сюда мимо ворот и калитки.
И пока я так разминался, мне вспомнились разные отчаянно смелые молодцы из разных американских фильмов, которые мне удалось увидеть в Суоми после войны. Один попал в глубину земли прямо к допотопным ящерам. Те хотели его сожрать, а он стоял и смотрел на них с ледяным спокойствием и презрением, помня, что он царь природы, и притом — из тех царей, у которых подбородок занимает добрую треть лица. А когда один из ящеров разинул перед ним пасть величиной с овраг, он спокойно прыгнул этому ящеру на морду и продавил ему каблуками глаза.
Другой парень из другого фильма все носился на коне и стрелял из ковбойских пистолетов. На него нападали целыми партиями, а он всех убивал. Как-то раз он зашел в ковбойскую таверну, где сидели за столиками его враги, переодетые стариками и женщинами. Когда он вошел, все они выхватили пистолеты, а он выхватил свои пистолеты и, прострелив лампочку, перестрелял их всех в темноте. Выйдя из таверны, он наткнулся на другую засаду, которую тоже всю перестрелял. А на рассвете он уже сам бросался на целые отряды людей и все убивал и убивал без конца.
Был еще парень, который все делал со смехом. Он пошел без всякого оружия один на пятерых, поджидавших его, чтобы убить. Они поджидали его на опушке леса, все здоровенные, как гориллы, и, опустив шляпы на глаза, дымили сигарами, держа в руках револьверы, ножи и дубинки для пролома черепа. А он шел к ним и смеялся во всю глотку, держась за бока. Он знал, что они пришли его убивать, и они знали, что ему это известно. Однако его веселый смех так сбил их с толку, что они первое время не знали, что делать, и стояли разинув рты, сами готовые рассмеяться, пока он не подошел к ним вплотную. Но тут он вдруг проткнул одного, другого, третьего их же ножом, и в две секунды все было кончено, и он уже шагал дальше, продолжая смеяться.
И еще один мне вспомнился, который любил косить всех из автомата. Войдя в банк, сделает скучный вид, зевнет и выпустит по людям очередь. А пока они лежат и корчатся, он с тем же скучным видом очищает кассы. Много подобных типов промелькнуло в моей памяти, и все они были храбры в том, что касалось дробления костей своих ближних. Но такого, кто умел при случае смягчить нужным словом разгневанное сердце женщины, — такого я не припомнил.
49
Пока я так силился что-нибудь в этом роде припомнить, из калитки, пригнувшись под нависшей листвой, вышел человек. По его полосатой пижаме было видно, что это один из отдыхающих, а по упитанности и плотному загару нетрудно было догадаться, что отдыхает он уже не первый день. А так как отдыхал он именно в этом санатории, то оставлять его без внимания не следовало. Пока я это соображал, он скользнул по мне равнодушным взглядом и неторопливо побрел вниз, шаркая по асфальту кожаными подошвами сандалий. Не придумав еще, что сказать, я двинулся следом и, поравнявшись с ним, произнес вежливо:
— Здравствуйте.
Он ответил мне тем же и покосился на меня вопросительно, не замедляя и не ускоряя шага. Я сказал:
— Позвольте спросить, вы не из этого санатория?
Я указал назад, и он ответил, вздохнув при этом почему-то:
— Да, я из этого санатория. Что вас интересует?
— Меня интересует жизнь в санатории.
Так я ответил для начала, готовый тут же ввернуть ему вопрос насчет своей женщины. А он отозвался с некоторым недоверием в голосе:
— Жизнь в санатории? Так, так. Хорошее дело. Оказывается, есть еще на свете люди, которых интересует жизнь в санатории.
— Да. Очень интересует…
Я сказал это, готовя в то же время про себя главный вопрос, который сразу объяснил бы ему причину моего интереса к этому санаторию. Не зная о моем намерении, он спросил:
— А что, разве вы сами никогда не бывали в санаториях?
— Нет.
— Почему же? Судя по виду, возраст у вас далеко не юношеский. И трудовой стаж, очевидно, немалый. Как же вы упустили возможность отдохнуть?
— У нас нет санаториев. Во всяком случае — таких.
Вот этого не стоило ему говорить. Как это нет у нас санаториев? Их сколько угодно. Плати только деньги и живи в них хоть целый год. Но уже поздно было брать обратно сказанное слово, ибо за ним сразу же последовал естественный вопрос:
— Где это у вас?
Что можно было на это ответить? «У нас на Луне»? Или «У нас на Марсе»? Конечно, ничего не оставалось, как сказать:
— У нас в Финляндии.
— В какой Финляндии?
— В той самой Финляндии, с которой вы воевали.
— Ах, вот оно что…
И его налитое здоровьем и загаром лицо сразу как бы застыло в неподвижности, утеряв свое благодушие. Мягкие до того губы подтянулись и затвердели. Но он был, к счастью, не тот Иван, ибо обратил ко мне черные глаза, а не серо-голубые. И волосы у него тоже были черные, хотя и скопились от возраста больше на затылке, освободив верхнюю часть лба для загара.
Установив это, я достал бумажник и протянул ему свой временный русский паспорт и справку от их Министерства внутренних дел, поясняя попутно:
— Я приехал оттуда к вам, чтобы познакомиться с жизнью России. Кое-что я уже повидал: колхозы и стройки разные. На канале недавно был и теперь вот сюда пришел, чтобы санаторий увидеть, как там и что.
Приняв от меня документы, он остановился, чтобы удобнее было их просмотреть. И когда он прочел справку от Министерства внутренних дел, хмурое недоверие сошло с его лица. Он даже улыбнулся, возвращая мне бумаги, и сказал вполне приветливо:
— Итак, чем могу служить?
Сказав это, он двинулся дальше по дороге вниз. Мне, правда, не хотелось далеко удаляться от ворот моей женщины. Но пришлось пойти с ним рядом и даже задать еще кое-какие вопросы до того, как заговорить о главном. Для начала я спросил:
— Как там внутри жизнь проходит?
Он усмехнулся.
— Жизнь? Разве это жизнь?
— А что? Там плохо, да?
— Хм… Плохо — не то слово. Впрочем, кому как. Но меня сюда больше и силком не затащишь.
— Почему?
— Видите ли, можно прослоняться без дела день, можно — два. Но лежать кверху животом целый месяц — избави бог!
— Разве это так плохо?
— Нет, я не говорю, что плохо. Но полнеть я не привык.
— Полнеть — это тоже не вредно, если маленький запас.
— Маленький запас! Вам бы этот запас, так не очень-то пошагали бы по нашей России-матушке.
— А чем вас тут кормят?
— Чем кормят? Спросили бы лучше, чем не кормят. На это мне легче было бы ответить. Но могу перечислить, если вас эта сторона санаторной жизни интересует. Уже с утра мы едим жареное мясо или рыбу. А к этому добавляется масло, сыр, оладьи, пирожки, яйца всмятку, икра черная или красная, молоко, салаты разные, варенья и не помню, что там еще. Не успеешь после этого перевести дух, как диетическая сестра заставляет приступить ко второму завтраку. Есть у нас такая сестра, да будет вам известно. Ее дело — сначала узнать у каждого, что он больше любит из пищи, а потом заставлять его все это поглощать. Я как-то сдуру брякнул, что сметану люблю, так мне потом от этой сметаны спасения не стало. Едва проходит после первого завтрака два часа, как мне в комнату несут большой стакан сметаны, а заодно молоко, масло, сыр, булку. Я говорю: «Не могу. Я еще после первого завтрака не отдышался». — «Ничего. Скушайте. Вам прописано». Ну, что тут станешь делать? Отказаться невозможно — сестру обидишь. А еще через пару часов — обед. Пропустить его нельзя. Если пропустишь, то к тебе придет врач, будет заглядывать в твои глаза, щупать у тебя пульс, выстукивать тебя, выслушивать, расспрашивать, хмурить брови и в конце концов все-таки посоветует не пропускать обеда и пойти съесть хоть что-нибудь. Так лучше уж идти сразу, чтобы не затруднять зря врача и не огорчать сестру. И вот идешь в столовую и снова ешь. А обед еще обильнее, чем завтрак. Блюда невозможно запомнить, и все они вкусные. Их нельзя не есть. Они сами лезут в рот. И вот результат. — Тут он хлопнул себя ладонью по животу, который действительно заметно круглился под коричневыми полосами его пижамы, и потом продолжал: — Мне учить надо молодых лесорубов новой электропилой работать. А для этого нагибаться необходимо возле дерева. Но разве я теперь нагнусь? Меня под прессом сгибать придется.
Рассказывая это, он шел неторопливо все дальше вниз, направляясь, как видно, к морю. Мне было неудобно его прерывать, чтобы ввернуть главный вопрос, и я поневоле тащился рядом. Он вел меня по каким-то другим, более коротким путям, пересекая сады и улицы наискосок. Даже речку мы перешли в другом месте, по какому-то узенькому деревянному мостику, висевшему в зелени ветвей на двух натянутых стальных канатах. Под нашими ногами он сильно заколыхался и закачался туда-сюда над желтым пенистым потоком и даже после нас еще содрогался некоторое время, словно недовольный тем, что пропустил нас и не сбросил вниз.
Я поминутно оглядывался, стараясь запомнить обратную дорогу к санаторию, и одновременно держал наготове свой главный вопрос, чтобы ввернуть его при случае в разговор. Тем временем мы прошли короткий туннель, прорытый сквозь насыпь у железнодорожной станции. В этом туннеле сталкивались два встречных людских потока, одинаково ярких и шумных. Один поток вливался в него со стороны поселка, а другой, такой же разноцветный, двигался ему навстречу от пляжей и пристани.
Мы вышли к берегу моря там, где был общий пляж. Он тянулся вправо от пристани и пестрел по всей своей длине яркостью цветных женских купальников, косынок, зонтиков и всеми оттенками загара, какие только могут принять на себя мужские, женские и детские тела. Часть этой пестроты плескалась в море, растворяясь наполовину в зелени волн. И здесь мой спутник закончил свой рассказ о распорядке санаторного дня, сказав напоследок:
— Сейчас в санатории послеобеденный отдых, но я его не признаю. В пять часов меня будет ждать чай с пирожными, в восемь часов — ужин, который по ассортименту не уступает завтраку, а в десять часов вечера — кефир с печеньем или молоко, имеющие назначение поддержать мои угасающие силы до десяти утра, когда опять приспеет время давиться завтраком. А там опять врач к себе потянет, чтобы проверить, не осталось ли в моем организме еще какой-либо хворости, помимо ревматизма, который он изгнал из меня горячими серными ваннами, и заодно начнет придумывать способ, как бы заставить меня еще больше прибавить в весе. Вот так мы и живем, если вас эта сторона нашего бытия интересовала.
Я кивнул, давая понять, что именно эта сторона меня интересовала, и тут же подступил к своему главному вопросу, спросив для начала:
— И всем другим у вас приходится такое же терпеть?
Он ответил:
— О других судить не берусь. У каждого свое отношение к безделью. Некоторым оно, возможно, и по нутру.
— Женщинам, например?
Так я спросил, подступая все ближе к своему главному вопросу.
Он ответил:
— За женщин тем более не отвечаю.
— А их много у вас?
— Кого?
— Женщин.
— Да половина примерно. В одном доме обретаемся мы, а в другом они.
— И вы, конечно, со всеми там уже перезнакомились?
— Естественно. Три недели — срок немалый.
И тут мой язык уже приготовился произнести слова последнего и самого главного вопроса: «А не знаете ли вы там одну такую…?». Но в это время он скинул пижамную куртку и принялся стягивать майку. Я помолчал, выжидая, когда его уши освободятся. А он, бросив майку на песок, сказал:
— Как видите, мы еще и купаемся и загораем. Иногда ездим куда-нибудь в горы смотреть озера, водопады, ущелья. По вечерам ходим в кино или гуляем в парке. Вот вроде бы и все. Хотите купаться?
Я замотал головой, хотя пот лил с меня градом и купанье было бы весьма кстати. Но мне не терпелось пойти скорее в обратный путь к санаторию, только следовало выяснить один вопрос. Я раскрыл рот, но в это время за моей спиной раздался громкий протяжный возглас:
— Генацва-а-ле!
Я оглянулся и увидел высокого русоволосого парня в белых брюках и в белой рубашке-безрукавке. Он протягивал моему спутнику длинную загорелую руку и широко улыбался, щуря от солнца серо-голубые глаза. Мой упитанный спутник тоже протянул ему навстречу свою мясистую коричневую руку, воскликнув при этом:
— О-о! Кого я вижу! Иван!
И я не задал своего вопроса. Я забыл свой вопрос. Что-то я должен был спросить у этого загорелого тяжеловесного здоровяка в полосатых штанах и с голым животом, но забыл. Совсем забыл. Ибо рядом со мной стоял тот самый Иван.
Я сразу узнал его. На этот раз не могло быть никаких сомнений. Сходились все приметы. Он пожал руку моему недавнему спутнику, лесорубу из-под Архангельска, и потом, не говоря ни слова, пожал руку мне. И я понял, что именно эта рука сгребла когда-то за грудь железного Арви Сайтури, едва не вытряхнув из него душу.
Я мог бы еще успеть отойти от них и скрыться. Какие-то секунды для этого имелись на первых порах, пока они обменивались первыми словами. Но я упустил удобный момент. И еще не было поздно проделать это, когда мой недавний спутник предложил Ивану:
— Купанемся?
А тот сказал:
— Благодарю. Только что из воды — еще голова не высохла.
Но я и этот момент упустил. А когда спохватился наконец и начал от них пятиться понемногу, они обменялись такими словами:
— А когда дальше думаешь топать?
— Сегодня в ночь.
И тут мой упитанный лесоруб сказал, кивая на меня:
— А ты себе спутника не возьмешь ли? Вот, пожалуйста! Приехал из Финляндии и тоже путешествует. Россию хочет поближе узнать. Я уже и документы его прочел. Человек рабочий. И эмвэдэ просит оказывать ему всяческое содействие.
Иван круто повернулся ко мне, и я перестал пятиться. Не было смысла пятиться. Все равно он при желании настиг бы меня в два прыжка. Но он, кажется, не собирался меня настигать. Вместо этого он вдруг протянул мне ладонь, размером чуть поменьше лопаты, и сказал:
— Идет! Люблю и уважаю путешествующих. Рад быть полезным в меру сил и способностей.
Я взял его руку. Почему не взять руку человека, если он ее тебе протягивает? Еще старый Илмари Мурто советовал мне не отвергать руки человека, протянутой с дружбой, особенно если это рука русского человека. Я принял руку русского человека, хотя и не понимал, к чему это все клонится. А он спросил меня:
— Вы обедали?
Я не обедал и не видел причины скрывать это. Тогда он еще крепче сдавил мою руку и сказал:
— Пойдем перекусим где-нибудь и там поговорим.
Он махнул свободной рукой на прощание архангельскому лесорубу, который уже успел скинуть пижамные штаны и стоял в одних черных трусах, свисавших с его мясистых бедер наподобие двух коротких женских юбок. Тот в ответ пожелал нам счастливого пути и направился к воде, осторожно ступая босыми ногами по горячей береговой гальке и обходя лежащих и сидящих на разноцветных подстилках раздетых людей. Вид у него был довольный. Еще бы! Он очень ловко выполнил свое назначение, передав меня прямо в руки Ивана, который вел меня теперь на расправу. Непонятно было только, почему Иван собирался подкормить меня предварительно. Но и этому можно было найти объяснение. Подкормленный человек способен острее почувствовать силу наказания.
50
Нет, он тоже не был тем Иваном. Не подходил возраст. На войне он, правда, тоже успел побывать, но только в самом ее конце, и воевал не на земле, а летал на истребителе. И, сидя напротив меня за круглым столиком в ресторане, он признался мне, что сбил всего только два самолета противника. А после военной службы он стал работать в гражданской авиации и вот уже несколько лет возил курортников над этим побережьем, по которому теперь во время отпуска решил прогуляться пешком. Он шел от Новороссийска, ночуя где придется и задерживаясь в иных местах на два-три дня, чтобы потолкаться среди людей. Он сказал мне в пояснение:
— Не могу без людей и рад безмерно, что вторую половину пути мы пройдем, протопаем вдвоем.
Он произнес это как-то нараспев, выбирая по карточке, что нам заказать на обед. Я спросил:
— С кем вдвоем?
Он ответил несколько удивленно:
— Как с кем? Да с вами же, как вас, простите, по имени-изотчеству, уже забыл…
— Аксель Турханен, если по-фински. А по-русски меня называли Алексей Матвеевич. Но только…
— Алексей Матвеич? Неплохо. Но по-фински лучше. Экзотики больше. Аксель Трюханен. Вот мы с вами и трюханем! Это хорошо, что вы надумали со мной пойти. Вам понравится — вот увидите. Для северянина здесь впечатлений уйма! Одна природа чего стоит! Непрерывное разнообразие до самого Батуми!
— Батуми? Почему Батуми? Ведь я же не…
— Потому что там — стоп! Дальше мы ножками не идем. Дальше мы с вами воспользуемся великими достижениями современного транспорта. Но предварительно еще подумаем там, на месте, что избрать: поезд или теплоход. Самолет я заранее отвергаю, поскольку предпочитаю ощущать непосредственно всеми своими конечностями и пятью чувствами плюс интуицией всю неповторимую прелесть милой матушки-земли.
Боже мой, что он там такое говорил? Я поискал глазами выход из ресторана. Но далеко от меня был выход из ресторана. А на пути к выходу стояли другие столики, за которыми сидели другие люди. Было бы очень трудно проскользнуть между этими столиками быстро и незаметно, хотя Иван и отворачивался от меня временами, выискивая глазами официанта. А когда официант появился, он сказал:
— Перво-наперво «Букет Абхазии». А к нему закуску. Что там у вас имеется? Семга, икра, мясной салат? Добре! Мечите сюда икру, и семгу, и салат по соответствующей норме на двоих. И апельсинов пяток. А потом два борща и два бифштекса.
Я все еще поглядывал на открытые двери ресторана и раза два даже пытался привстать, чтобы ускользнуть. Но уже было поздно. Столик наш украсился высокой толстой бутылкой с яркой наклейкой и мелкими тарелками с холодной закуской разного цвета. Иван придвинул ко мне полный бокал темно-красного вина и сказал, поднимая свой:
— За успех нашего похода!
Какого там похода?! Не собирался я идти с ним ни в какой поход. С чего он это взял? У меня была совсем другая забота. И, не трогая бокала, я опять с тоской оглянулся на дверь. Он спросил:
— Что же вы? — И добавил, погрозив мне пальцем: — Имейте в виду, что угощаю сегодня я. А когда я угощаю, то отказываться не моги!
Я взял бокал. Если платить за вино и прочее брался он, то это еще как-то меняло дело. Мы соприкоснулись бокалами и опустошили их. Пока я налегал на закуску, он снова их наполнил. И потом мы выпили перед борщом. Потом выпили перед бифштексом. Бутылка была большая, и мы выпили еще и еще. Кроме того, мы все время говорили и говорили, особенно после четвертого и пятого бокала. Он говорил о себе и о своей России, а я говорил о себе и о своей Финляндии. Потом он еще раз наполнил бокалы остатками вина и сказал:
— Знаете, какая идея вдруг меня осенила, простите, забыл как вас звать-величать?..
Я подсказал:
— Аксель Турханен.
— Вот-вот, Аксель Турх… Знаете, что я предлагаю? Давайте выпьем на ты, а? Чего, в самом деле! Нам же вместе топать предстоит неделю целую, а то и две. Закреплять надо дружбу. Да и по возрасту мы не так уж расходимся — лет на семь-восемь каких-нибудь. Зовите меня просто Ваней, идет?
— Идет…
Мы выпили на ты и опять поговорили немного. Заодно обменялись адресами. Он даже записал оба моих адреса, ленинградский и финский. Когда мы вышли из ресторана, нас окружила ночь. Самая настоящая черная ночь с яркими звездами на черном небе и с огоньками вдоль улиц поселка и в окнах домов. Я спросил:
— Почему так темно? Ведь еще вечер — даже восьми нет.
Иван пояснил:
— Потому темно, Акся… Трюх… Трюх… Трюхнев, голубчик ты мой, потому темно, что это юг. Знойный, субтропический юг, а не какой-то там север, где холод, и сырость, и тундра с клюквой.
Я сказал:
— Зато там светло сейчас, где тундра с клюквой. Там сейчас ясный день, понятно тебе это, голубчик ты мой Ваня? Там солнце сейчас вот на такой высоте, метров двадцать над горизонтом. И оно греет, да еще как! Загар дает! А у тебя здесь глубокая ночь.
Он ответил:
— Ну и что же? Пусть ночь, но она полна жизни! Чуешь, как земля теплом дышит?
Я остановился прислушиваясь. Действительно, от земли шло тепло, и асфальт на дороге тоже не успел еще остыть. Листва по обе стороны дороги затаилась в неподвижности, но и от нее несло теплом. Воздух казался густым от запахов цветов и зелени. Людские голоса словно висели в нем не растворяясь. Кроме того, он был полон многими другими звуками. Я спросил:
— Кто это так трещит в траве?
Он ответил:
— Это цикады.
— Какие цикады?
— Такие крупные тупорылые насекомые, сантиметров по шесть в длину.
— А там внизу кто надсаживается?
— А там лягушки концерт задают в свежей луже. Получили ее сегодня после ночного ливня. Вот высохнет она опять — и конец концерту.
— А это что за искры там, в траве? Кто-то не погасил костер? Вот полетели две искры и не гаснут, И еще одна! О, и там искры! Откуда они тут взялись?
— Это светляки. Тоже насекомые.
— А дерево это как называется, похожее на веретено?
— Кипарис. А это вот платан, или чинара, по-здешнему. Даже песня такая есть: «Под чинарой густо-ой мы сидели вдвое-ем!». Не слыхал?
— Нет.
— Ну, так услышишь. Мы сами с тобой споем ее. И на деревья эти еще успеешь насмотреться. Их тут прорва всяких: кипарисы, платаны, бананы, пальмы, инжиры, магнолии, глицинии, клены, липы, буки, вязы, грабы, ясени, маслины, ивы вавилонские, эвкалипты австралийские. Есть самое легкое дерево — пробковое и самое тяжелое — самшит. Все увидишь, и все будет в удивленье тебе, посланцу финских хладных скал, когда зашагаем с тобой по пламенной Колхиде. А сейчас мы разлучимся минут этак на двадцать. Пойду возьму свою поклажу у знакомых. И ты за своей сходи. А встретимся тут. Кто первый придет, тот ждет. Договорились?
— Да…
Он ушел, оставив меня одного на дороге, огибавшей поселок. Я потоптался немного на асфальте, осматриваясь вокруг. Что-то не так опять в моей жизни сложилось, не так получилось. Что-то навалилось на меня и не отпускало. Что-то надо было сделать, чтобы стряхнуть этот груз и сообразить, где я и что я. Легковая машина проехала мимо, ослепив меня фарами. Я отступил в сторону и постоял немного с закрытыми глазами, потом опять осмотрелся.
И вдруг что-то знакомое показалось мне в изгибе дороги. Похоже, что я уже был здесь. Да, конечно же, был! Вот она там, узкая боковая дорога, уходящая от главной вверх. Я дважды проходил по ней сегодня туда и обратно. И я хорошо помнил, зачем проходил. Ведь там были те самые ворота…
На этот раз я долго не раздумывал. Некогда было раздумывать. Оставив позади себя внизу огни поселка, я ступил на боковую дорогу и двинулся по ней вверх. По обе стороны от нее затаилась чернота, наполненная запахами цветов и зелени, и вся она горела мелкими искрами, которые непрерывно вспыхивали и гасли, меняя свои места. Их были миллионы, этих искр. Я поднялся к воротам санатория, освещенным одной только лампочкой. Они были заперты, но калитка рядом, как видно, никогда не запиралась, захлестнутая виноградом. Я вошел в нее, потревожив свисающие листья и гроздья, и оказался в полумраке. Две львиные морды потянулись ко мне с двух сторон, свирепо оскалив клыки. Но они не стали меня рвать на куски. Они были заняты очень мирным делом — выливали из своих разинутых пастей две струи воды в два круглых бассейна, стоящих у начала лестницы.
Я прошел между двумя толстыми, приземистыми пальмами и ступил на нижние ступени каменной лестницы, ведущей по крутому склону горы вверх, туда, где обитала моя женщина. Что собирался я ей сказать? «Здравствуйте, Надежда Петровна! Вот и я, как видите. Шел тут мимо, направляясь в пламенную Колхиду, и думаю: дай зайду, проведаю, как здоровье и настроение, потому что я очень вас люблю, Надежда Петровна, и всю Россию вашу тоже очень люблю, с ее великими стройками и южными дворцами для отдыха, и вы для меня тоже все равно как Россия». Что надеялся я услышать в ответ? Самые простые слова надеялся я услышать в ответ: «Ну, если так, то я согласна».
Поднимаясь в полумраке по широкой каменной лестнице, я понял, как образовался тот крутой и длинный водопад из красных и белых роз и почему он скрывал под собой эту лестницу. Над лестницей на всем ее стометровом протяжении и во всю ее ширину был установлен легкий каркас из железных прутьев, и все они были оплетены ползучими розами красного и белого цвета. Получился как бы туннель из роз, и я шел вверх по этому туннелю сквозь тот густой аромат, которым он был наполнен, и сквозь холодные вспышки мелких искр.
Я поднялся на полсотни ступеней вверх до первой площадки и увидел две каменные скамьи по бокам лестницы. На одной из них тихо сидели две девочки в темных платьицах и светлых передниках. Их волосы светились в темноте, опоясанные венками из живых мигающих искр. Я остановился, разглядывая их. Мне показалось в первый момент, что это изваяние, наподобие тех львиных морд внизу. Но когда я нагнулся к ним поближе, они шевельнулись, и две пары больших детских глаз обратились ко мне с любопытством. Нет, это были живые девочки. И они даже улыбнулись мне, в то время как живые искры копошились в их волосах.
Я тоже улыбнулся им и двинулся дальше вверх сквозь холодные молчаливые вспышки мелких летающих искр. У меня тоже могли быть такие же славные девочки с живыми искрами в волосах. И время это близилось. Не останавливаясь больше, поднялся я на самый верх лестницы И вышел из живого, благоухающего туннеля. Над моей головой опять открылось черное небо, усеянное звездами, такими яркими, каких еще никогда не зажигал бог над холодной, угрюмой Суоми. Передо мной раскинулся сад, который снизу, от моря, не был виден. По обе стороны от него стояли два высоких дворца, казавшиеся снизу маленькими, легкими домиками. Свет, горевший у этих дворцов, освещал сад, не доставая, однако, до его середины, утопающей в полумраке.
Переведя дух, я направился по садовой дорожке к ближнему зданию. Летающие звезды пересекали мой путь, и листья пальм шевелили над моей головой своими жесткими концами, производя такие звуки, будто на них падали крупные капли дождя. Где-то в глубине сада слышался тихий говор. Где-то внутри здания негромко звучала музыка.
Я поднялся по мраморным ступеням на залитую светом веранду и остановился у белоснежных колонн, отыскивая глазами главный вход. Навстречу мне вышла молодая женщина в белом халате, и я сказал ей:
— Мне нужно видеть Иванову Надежду Петровну.
Она помолчала, как бы припоминая, и ответила:
— У нас такой нет.
— Как нет! Она отдыхает здесь.
— Иванова Надежда Петровна? Нет. Ни одной Ивановой и ни одной Надежды Петровны у нас нет среди отдыхающих.
— Нет?
— Нет. И не было такой пока еще в этом году.
Ее не было. Две тысячи километров проделал я, чтобы узнать это. Без нее обходилось это царство сказки, И дворцы эти создавались не только для нее.
Спускаясь по лестнице вниз, я уже не увидел девочек. Они ушли. А может быть, это были не девочки, а маленькие феи? И они просто-напросто улетели, как улетела моя женщина, и теперь витали где-то здесь, над этими склонами гор. А где витала моя женщина? Она нигде не витала. Я знал, где она находилась. Петр назвал мне два места. И если в одном из них ее не оказалось, то, значит, искать ее надо было в другом. А находилась она в Крыму. Там недалеко от Ялты было селение под названием Гурзуф. И в этом Гурзуфе был санаторий «Черноморец». Вот где она находилась. Не беда! Все было поправимо в моем деле. Оставалось только сесть на теплоход, идущий в Крым. А теплоход надо было искать у какой-нибудь пристани.
С таким намерением спустился я к большой дороге, огибавшей нижний поселок, и там едва не натолкнулся на высокого человека, стоявшего в молчании у придорожного кустарника. Я уже готов был пройти мимо, как вдруг он гаркнул во всю глотку:
— Генацва-а-ле!
Я остановился. На этом, кажется, пресекался мой путь к теплоходу. А он поднял с земли рюкзак и, пристраивая его у себя за плечами, сказал:
— Виноват я перед тобой, Акс… Акс… Аксентий Трухьяныч! Каюсь, виноват. Согрешил супротив тебя мыслями. Подумалось мне, что изменились финны и улетучилась из них традиционная честность. Но теперь вижу, что не улетучилась. Ты оказался верен своему слову и явился. Беру обратно свои сомнения. С радостью беру. Категорически беру. Бесповоротно беру. А теперь пошагали! Да?
— Да…
И мы пошагали. А как же иначе? Ведь мы об этом заранее договорились. Все шло как надо. Мы договорились, что пойдем, и вот пошли. Правда, где-то, у какой-то пристани меня ждал теплоход, отплывающий в Крым. Но что с того? Он ждал, а я шагал от него прочь. Он готовился везти меня морем на северо-запад, а я шагал по асфальту на юг, шагал куда-то к черту на рога рядом с Иваном, который некоторое время поглядывал на меня сбоку молча и наконец спросил:
— А с багажиком-то у тебя как, Акселентий? Не вижу его у тебя ни на горбу, ни в руках.
Я похлопал себя по карманам и сказал:
— Здесь у меня все: и бритва, и мыло, и зубная щетка, и даже зеркало.
— А-а! Ну-ну!
Мой шаг не совпадал с его шагом, и поэтому он придерживал свой. Обут он был в те же сандалеты на каучуковых подошвах, но белые брюки успел заменить коричневыми лыжными и поверх безрукавки натянуть серую полотняную куртку. Видя, что он заметно сутулится под своим грузом, я сказал:
— Дай мне рюкзак — я понесу.
Но он ответил:
— Нет-нет, что ты! В нем весу-то кот наплакал. Палатка да одеяло только и тянут. Я привык.
И опять мы некоторое время шли молча, уступая дорогу встречным и попутным машинам. Поселок все еще виднелся справа. Но постепенно дорога его обогнула и привела нас наверх, к перевалу, откуда мы последний раз оглянулись на огни поселка. Он оказался теперь далеко внизу и был виден весь. А рядом с ним за насыпью железной дороги затаилось море. Оно только у берега светилось кое-где неровным отраженным светом, а далее становилось невидимым, уходя своей тяжелой, беспокойной поверхностью куда-то в черную беспредельность.
Мы повернулись к поселку спиной и двинулись по асфальту на юг. Деревья справа от дороги и выступы гор заслонили от нас море. Иван помахал ему напоследок рукой и сказал, соразмеряя свои шаги со словами:
— Прощай же, море! Не забуду твоей торжественной красы и долго-долго слышать буду твой гул в вечерние часы! Генацва-а-ле!
Я спросил:
— Разве мы больше не увидим моря?
Он ответил:
— Как так не увидим! Мы же рядом с ним будем идти все время. Это стихи ввели тебя в заблуждение. Я их от избытка чувств произнес. Душа просит! Понимать надо, дорогой ты мой Аксель из Финляндии. Понима-ать! Как можно без стихов, если вокруг этакое благолепие! Ночь тиха, пустыня внемлет богу, и звезда с звездою говорит! Как можно без стихов, господь с тобой! Горные вершины спят во тьме ночной. Тихие долины полны свежей мглой. Мурава лугов ковром стелется, виноград в садах наливается! Ой ты гой еси, добрый молодец! Ты умел гулять, умей ответ держать! Не шутки шутить, не людей смешить к тебе вышел я, басурманский сын! Вышел я на вольную дороженьку, на ту ли на дороженьку прямоезжую, кривоезжую, мимоезжую! Далеко ты, дороженька, протянулася! Широко ты, степь, пораскинулась, к морю Черному понадвинулась! В гости я к тебе не один пришел. Я пришел сам-друг с финном Акселем! Генацва-а-але!
Я выждал, когда он умолк, переводя дух, и спросил:
— А где мы опять увидим море?
Он ответил:
— Да тут же, в Кудепсте оно снова нам откроется. Вот спустимся вниз и выйдем к нему опять. Устраивает тебя вышеозначенное обстоятельство, уважаемый Суоми Иванович?
— Устраивает, если там пристань есть.
— Какая пристань?
— Такая, куда теплоходы подходят из Крыма.
— Из Крыма?
— Да. И которые потом опять уходят в Крым.
— А-а. Ну, такую пристань мы раньше Сухуми не увидим.
— Сухуми? Это где?
— Это в Абхазии.
— А в России где такая пристань?
— Что значит «в России»? Если ты подразумеваешь Российскую федерацию, то здесь ближайшая от нас большая пристань — в Сочи. Кстати, там и теплоход сейчас стоит. Вчера прибыл, а завтра днем в двенадцать десять дальше отправляется.
— Куда дальше?
— В Туапсе, Новороссийск, Ялту.
— А в Гурзуф?
— Зачем в Гурзуф? Он в Ялту прибывает, а Гурзуф там в двух шагах.
Так обстояли мои дела. В Сочи у пристани стоял теплоход, готовый уйти в Ялту, а я шагал прочь от этого теплохода, шагал быстро, подгоняемый уклоном асфальтовой дороги и длинными шагами Ивана. Что мне оставалось делать? Судьба опять сыграла со мной злую шутку.
Скоро наша извилистая дорога перестала идти под уклон. Она еще раз круто свернула вправо, выйдя к морю, потом так же круто свернула влево и далее повела нас по ровному месту, имея справа от себя берег моря, а слева — склоны гор. И тут я опять заговорил с Иваном, спросив для начала:
— Вот сейчас нам встретился автобус с людьми. Куда он поехал?
Иван охотно пояснил:
— В Сочи поехал вышеупомянутый автобус. Прямехонько по кривой дороге в Сочи.
— Он там к пристани подойдет или к вокзалу?
— А там от любой остановки до пристани рукой подать.
— А откуда он идет?
— А идет он от Адлера. Последний, очевидно, на сегодня. А следующие будут завтра: в девять двадцать, в десять тридцать и так далее.
— Где этот Адлер?
— Адлер — это то место, куда мы с тобой, милый Аксель, сейчас движемся, движемся, движемся, движемся.
— Мы туда придем сегодня?
— Нет, сегодня мы туда не придем.
— Почему не придем?
— Потому что мы сейчас будем баиньки ложиться.
Сказав это, он свернул с главной дороги влево и повел меня куда-то вверх по обыкновенной грунтовой дороге. Вначале она была довольно широка и освещалась лампочками, закрепленными на столбах. А по обе стороны от нее виднелись небольшие дома с огнями в окнах и сады с пальмами и кипарисами. К этим домам от нее отходили дороги поменьше. Они как бы отнимали от нее часть ее ширины и часть столбов с лампочками. Чем выше она поднималась, тем уже и темнее становилась. Скоро она вся растратилась на эти боковые ответвления, и нам даже стало тесно идти по ней рядом. Все огни остались позади нас далеко внизу, и путь наш Иван освещал теперь карманным фонарем.
Временами он гасил фонарь, и тогда в темноте опять начинали мелькать летающие искры. Но их становилось все меньше по мере того, как мы поднимались выше, углубляясь в лес, и скоро они тоже остались позади. Наша узкая дорожка еще раз выделила от себя тропинку, превратясь после этого в тропинку сама. По ней мы поднялись еще немного вверх, задевая плечами листву кустарников. На этот раз Иван шел впереди меня, освещая путь фонариком. Тропинка становилась все менее заметной и наконец совсем потерялась.
Тогда Иван остановился, повернувшись ко мне лицом. Я тоже остановился. Он погасил фонарик и сказал, стягивая с плеч рюкзак:
— Вот здесь мы и заночуем.
Я осмотрелся. Вокруг нас высились огромные деревья. Их вершины сходились наверху, заслоняя собой звездное небо. Иван снова достал фонарик. В его свете появились толстые стволы зеленоватого и бледно-серого цвета. Мелкие мошки и мотыльки замелькали в луче. Высмотрев у одного из деревьев низко растущий сук, Иван снова погасил фонарик и вынул из рюкзака палатку. Вершину палатки он подтянул к этому суку, а нижние ее края мы с ним растянули на все четыре стороны, закрепив их на земле мелкими железными колышками. Земля была густо покрыта прошлогодними листьями, пахнущими прелью и сыростью. Зато они пружинили под ногами. Когда Иван втолкнул меня в темноте внутрь палатки, я почувствовал себя там как на матраце.
Тем не менее я не упустил случая дать волю своему кулаку. Голова у меня загудела, и я с трудом разобрал слова Ивана, который задержался снаружи, чтобы процарапать суком борозду вокруг палатки на случай дождя. Он спросил, прислушиваясь:
— Ты не слыхал, Аксель?
— Нет, я не слыхал, конечно. Где уж мне было услышать, если я с трудом усидел на месте, забыв на время, где я и что я. А он сказал:
— Странно. Как будто кто-то где-то обухом по пустому дуплистому дереву постучал.
Я промолчал в ответ на такое обидное предположение. А он просунул внутрь палатки поклажу и протиснулся сам. Палатка была приспособлена к его росту. Она по форме напоминала низенькую пирамиду, слегка сдавленную с двух боков, и была наглухо зашита со всех сторон. Даже дно у нее было парусиновое. Только один уголок внизу отстегивался. Иван пролез в этот уголок и застегнул его за собой. Усевшись рядом со мной, он сказал:
— Вот так! Тут мы спасены от комаров и всякой подобной нечисти. Эта палатка у меня, так сказать, экспериментальная, собственной конструкции. Но задумана другая — покрупнее, квадратная, с влагонепроницаемым дном. В ней четверо уместятся. Вот изготовлю ее — и снова пойдем с тобою по стране. И жен своих прихватим. У тебя толстая жена?
— Нет…
Мне следовало сказать ему, что жены у меня пока еще нет. Но она могла появиться у меня к тому времени, когда он предполагал обзавестись новой палаткой, и поэтому я не стал пускаться в объяснения. А он тем временем сунул мне в руки одеяло и сказал:
— Располагайся, Аксель Суомыч, как тебе удобнее. Подушки нет — не обессудь.
— А как же ты сам?
— О, не беспокойся. У меня тут еще барахла хватает. Простыня вот есть, пиджачишко, бельишко кое-какое… Спи знай…
Я разделся и, нащупав у изголовья свободный уголок, положил туда костюм, рубашку и галстук. Иван улегся, кажется не раздеваясь. Я завернулся в одеяло и вытянулся на спине, закрыв глаза.
Но заснул я не сразу, прислушиваясь к шорохам чужого леса. Трудно было заснуть при таких обстоятельствах. Опять все не так повернулось в моей жизни. Не туда меня занесло, куда следовало. Не та листва шевелилась над моей головой, и не те звезды горели в небесной глубине. Вот уже миновал восемнадцатый день моего отпуска, а я по-прежнему был далеко от своей женщины. И неизвестно, когда суждено было мне ее настигнуть. И по-прежнему далеко от меня была моя родная Суоми, где пребывал в раздумье Юсси Мурто. Он стоял там и молчал, всматриваясь в Ивана из холодной глубины далекого севера. И, намолчавшись вдоволь, он вдруг раскрыл рот, чтобы сказать примерно такое: «Не может один человек предписывать другому способ отдыха. Сколько людей, столько способов, и каждый сам для себя делает выбор». На это Иван ответил: «Ништо! Не может человек навязывать другому способ есть хлеб. Однако он знает, что хлеб этому другому нужен, и растит его». И опять сказал Юсси: «Беден ваш дар: крыша над головой, обильная еда, постель — и это предел мечтаний человека?». А Иван ответил: «Хо! А вы этим уже пресытились, господин хороший? В вашем мире у каждого уже есть и крыша над головой, и постель, и обильная еда? Нет еще? То-то же! А о пределе мечтаний мы с вами поговорим когда-нибудь потом». Снова призадумался Юсси Мурто, готовя возражение, но я заснул, не дождавшись его.
51
Разбудил меня Иван рано, и с гор мы спускались в сумерках. Но солнце уже появилось где-то там, за горами, постепенно высветляя небо, и птицы в листве деревьев принимались понемногу за свои разноголосые песни. Не дойдя до нижних садов и дач, мы свернули с тропинки на шум ручья и возле него вымылись и побрились. Иван опять натянул на себя белые брюки и безрукавку. Я водворил на место галстук и зачесал назад свои увлажненные белобрысые волосы. Иван тоже причесался, но его темно-русые волосы плохо слушались гребенки и скоро опять растопорщились наподобие растрепанной ветром копны сена. Когда мы спустились мимо садов и дачных домиков к большой дороге, он протянул руку к морю и выкрикнул свое обычное:
— Генацва-а-але!
Я спросил:
— Что такое «генацвале»?
Он ответил:
— Не знаю. Что-то грузинское. Что-то очень хорошее, вроде: «Да будет с вами мир и счастье, и всех я вас люблю».
— А зачем произносить это по-грузински, если можно по-русски?
— Чудак ты, Аксель. Здесь все дышит Грузией, ибо мы от нее в двух шагах и сами скоро ступим на землю Грузинской республики.
Но я вовсе не собирался ступать на землю Грузинской республики. Зачем это было мне, если женщина моя находилась на российской земле? К ней надо было мне скорей добираться, а не лезть в чужие земли. Стараясь не обидеть Ивана, я начал издалека и сказал:
— Выходит, что здесь Россия кончается?
Он ответил:
— Так что же с того? Одна республика кончается, другая начинается. А Советский Союз продолжается.
Я сказал:
— Понятно. — И добавил как бы для самого себя, но достаточно громко: — Только я не собирался ходить по всему Советскому Союзу. По России мне хотелось пройти.
Он вскричал:
— Что ты! Грузия — это, брат, такая страна!.. — И добавил: — Ладно. Вот позавтракаем тут в одном шалмане и тогда возобновим разговор на эту тему.
Относительно завтрака я ничего не имел против. Завтрак — это было хорошо, конечно, и даже как-то веселее шагалось по гладкому асфальту после упоминания о завтраке. Но я не забывал также о теплоходе, который готовился отплыть в Ялту, где ждала меня моя женщина. И помня о нем, я сказал Ивану:
— Убавилась твоя Россия, Ваня, после того, как ты царя сбросил. Я совсем от тебя отделился. Польша — тоже. А остальное ты сам разбазарил.
Иван от удивления даже замедлил шаг, повернувшись ко мне всем корпусом. Встряхнув за лямки начиненный брезентовой палаткой рюкзак, он спросил:
— То есть как это разбазарил?
— А так. Роздал свою землю разным мелким народностям, напридумывал им языки, а сам остался на таком клочке, где заезжему гостю и не разгуляться.
Он не сразу ответил на это и некоторое время только поглядывал на меня удивленно, засунув пальцы под лямки рюкзака. О, я знал, чем их тут можно было задеть. Пусть поглядывает и удивляется. Ему было полезно поглядывать на умного человека и обдумывать его умные слова. Я тоже поглядывал на него, шагая рядом. Он был красив, этот рослый молодой Иван, так удивленно приоткрывавший рот, полный настоящих белых зубов, и округлявший под широко раскинутыми бровями свои серо-голубые глаза. Его густые русые волосы встряхивались каждый раз, когда он круто оборачивал ко мне свое загорелое лицо, но сохраняли все тот же неизменный беспорядок, не признающий гребенки. Я делал вид, что не замечаю его удивления и внимательно оглядываю кустарниковые заросли слева от дороги, уходившие далеко вверх по склонам гор, за которыми все еще таилось утреннее солнце. Наконец он сказал:
— Все эти народы жили там, где живут, и говорили на тех же языках, на которых говорят. У многих была и письменность. Другим царское правительство не давало письменности, навязывая русский язык, а наша конституция дала. И теперь они, не в пример прошлому, имеют право быть самостоятельными в своих внутренних делах и обычаях, развивать свою национальную культуру, обретать национальное достоинство.
Я сказал:
— Вот-вот. Они разовьют свою национальную культуру, национальное достоинство и единство, а потом скажут: «Прощай, Иван! Нам и без тебя хорошо».
Он усмехнулся:
— Пусть скажут, если захотят. Их никто не держит. Это добровольный союз, основанный на равенстве. Но тем он и крепок. Зачем им отделяться, если никто и ничто не препятствует их национальному развитию?
На этот раз усмехнулся я:
— Эх, Ваня, Ваня! Молод ты еще и мало, наверно, историю читал. А я читал. У вас и читал. Не много, может быть, но главное усвоил: чем выше национальное развитие, тем сильнее тяга к самостоятельности. Так что ты заранее готовься к расставанию со всеми этими народами, которым дал самостоятельное развитие. Не надо было давать. У меня надо было тебе спросить предварительно совета. Как надо поступать с другими народами? Их надо выселять из родных мест и заменять своими людьми. Перемешивать их надо. Возьми, к примеру, Северную Америку. Она никому из народов не дает отдельного уголка. А их у нее там, говорят, миллионы разных: итальянцы, испанцы, евреи, японцы, славяне. И все они, кроме того, вынуждены говорить по-английски. А ты дал языки и землю даже таким незаметным народностям, которых всего-то наберется по нескольку тысяч. И этим самым ты положил начало своему концу. Да, да, не смейся! Это я тебе говорю — великий и мудрый Аксель Турханен. Я из истории знаю, чем такие дела кончаются. Не до смеха тебе будет в один прекрасный день! Попомни мое слово. И, пока не поздно, отнимай у них землю! Делай их маленькими и слабыми. Тогда протянешь немного дольше. Ты к себе подгребай от них все, что можно. Под твоей властью, говорят, жить не так уж плохо…
Тут мне пришлось умолкнуть на время, потому что Иван прямо-таки зашелся в смехе. Он откидывался назад с разинутым ртом, раскатисто смеясь во всю глотку и отмахиваясь от меня рукой, а один раз даже пошатнулся под грузом брезента. Наконец он хлопнул меня ладонью по плечу и вскричал:
— Ну и шутник же ты, Аксель Смутьяныч! Ох и шутник! И националист в придачу. Да еще какой националистище! У вас там все такие, в Суоми?
— Да, все. Потому что мы знаем, с чем это едят.
— Ну и ну! Даже едят! Крепко!
— Да. Это самое крепкое, что есть в народах. И оно будет в них сидеть еще многие сотни лет. Это только ты способен придумывать сказки, в которых люди объединяются по каким-то другим признакам.
— Да, по классовым. А ты с этим не согласен? Вот, скажем, на твоих глазах дерутся двое: финский капиталист и какой-то иностранный рабочий. За кого вступишься?
— Помогу финну бить иностранца.
— Капиталисту?
— А для меня это не важно, лишь бы он был финн.
— Не верю я тебе, Аксель! Не верю! Это ты из упрямства. Не может быть, чтобы в рабочем человеке не пробудилось при такой сцене его классовое сознание. Упрямец ты финский! Вот это в тебе действительно еще долго будет сидеть. Но бог с тобой! Ладно. Оставим этот спорный вопрос до более подходящего случая и не будем отвлекаться от главного.
— А что у нас главное?
— Главное — наслаждаться прогулкой, любоваться роскошной природой Черноморского побережья. Разве не ради этого мы с тобой пустились в столь длительное путешествие? Где еще ты увидишь такое буйство растительности? Смотри, вот справа от дороги вся равнина до самого моря полна садами, каких нет у тебя на севере. Тут и мандарины, и лимоны, и апельсины, и хурма, и гранаты, и виноград. Есть, правда, знакомая тебе белокочанная капуста, но зато она здесь круглый год растет. А море уже тронуто солнцем, видишь? Вон в той части оно теперь играет всеми красками. Скоро солнце и до нас достанет. Вот оно уже прошивает лучами вершины деревьев на горе и сейчас зальет зноем всю эту долину. И тогда здесь такая свистопляска начнется, в этих зарослях!.. Вот погоди, пойдем по Абхазии, — там эти горы отодвинутся, и ты увидишь издали Главный Кавказский хребет с ледяными вершинами. Посмотрим, что ты тогда запоешь.
— По Абхазии? Неизвестно, пойдем ли. Ведь мы пока что идем к Адлеру, откуда в Сочи идут автобусы. В девять двадцать и в десять тридцать, как ты вчера сказал.
— Эва, спохватился! Мы давно прошли твой Адлер.
— Как прошли?!
— Да так. Прошли — и все тут. Как раз в то время, когда ты с таким увлечением свою националистическую теорию излагал.
Я остановился, повернувшись лицом назад. Но он сказал:
— Ничего, ничего. Мы же позавтракать решили предварительно. Во-он за тем мостиком имеется подходящее заведение. А потом все обсудим, не торопясь, с чувством, с толком, с расстановкой.
Против завтрака у меня опять не нашлось возражения, и мы пошли к мостику. Он висел над быстрой, но неширокой рекой, убегавшей к морю и густо поросшей по берегам высоким кустарником. Ступив на мост, Иван сказал:
— Здесь кончается территория Российской федерации и начинается Абхазия, входящая в состав Грузинской республики. Уразумел сие, Аксель?
— Да…
За мостом был поселок. В этом поселке Иван отыскал домик с вывеской над входом. Я не успел разобрать, что было написано на вывеске. Иван взмахом руки предложил мне войти в открытую дверь и сам вошел вслед за мной внутрь домика. Войдя, он сбросил с плеч рюкзак, поставил его в угол и провозгласил:
— Генацва-а-але! Привет присутствующим и приятного аппетита!
Ему в ответ из разных мест донеслось:
— Привет, привет, спасибо, милости просим!
Это была просторная светлая комната, наполовину заставленная продолговатыми столиками. За некоторыми из них уже завтракали люди. Там, где она была свободна от столиков, поблескивал стеклами буфет. Из-за буфета вышел немолодой черноволосый человек с короткими черными усиками над верхней губой. Он был в коричневой рубахе с закатанными рукавами и в черных просторных брюках, стянутых узким ремнем на животе, в меру объемистом, если иметь в виду ширину его груди и плеч. Иван сказал, подняв руку:
— Привет хозяину!
Тот приблизился, мягко ступая туфлями по деревянным половицам, и, протянув Ивану руку, сказал приветливо, но без улыбки:
— Здравствуй, Ваня. Давно к нам не заглядывал.
Мне он вежливо кивнул, сохраняя серьезный вид, и потом переставил поудобнее стулья у ближайшего к нам стола, как бы приглашая нас подсесть к нему. Иван принял приглашение и, устраиваясь на крайнем стуле, спросил:
— Чем будешь угощать?
Тот ответил:
— Чем пожелаешь.
— Плов есть?.
— Конечно.
— Вот и ладненько! Два плова для начала. Верно, Аксель?
Я кивнул и тоже подсел к столу, накрытому узорной скатертью. Время было раннее, позволявшее мне не слишком торопиться в Сочи. Даже первый автобус, идущий туда из Адлера, я мог спокойно пропустить и вполне успеть к теплоходу на следующем. Но, впрочем, надо было еще успеть добраться до Адлера.
Плов нам подала молодая черноглазая женщина в темно-красном платье, на котором ее короткий передник прямо-таки сиял белизной. Такой же белизной сияли ее зубы. И, может быть, эта белизна во рту делала ее полные губы особенно яркими. И в ее черных глазах тоже была яркость, хотя они не переставали быть черными. И даже изгибы ее черной тугой косы, уложенной на голове в два круга, давали при каких-то ее поворотах отблески наравне с приколками. Иван сказал ей:
— Царице Тамаре — наш нижайший поклон!
Она ответила, блеснув зубами:
— Здравствуйте. Давно мы вас не видели. Забыли о нашем существовании?
Он пояснил:
— Увы, некогда было. Летал. А теперь вот спустился на землю — и первым долгом к вам, Тамарочка.
— Охотно верю и безмерно тронута вашим вниманием.
— То-то.
— Тем более что Адлер — это страшно далеко от нас, и попасть к нам оттуда действительно можно только раз в году.
— Да, такая наша доля. И рвемся к вам всем сердцем, и слезы проливаем, а не вырваться никак.
— Бедный. Как мне вас жалко.
— И на том спасибо, Тамарочка.
Пока они так переговаривались, я еще раз обдумал все, что касалось теплохода: прикинул расстояние до Адлера и время, нужное автобусу, чтобы доставить меня оттуда в Сочи. Да, можно было не торопиться к первому автобусу и спокойно есть свою долю жареной баранины с рисом, а попутно постараться придумать слова помягче, чтобы не рассердить Ивана при расставании.
Тем временем в открытые двери столовой входили и выходили люди. Мужчины и женщины, легко, по-южному одетые. Одни из них усаживались за столы, привлекая к себе внимание царицы Тамары, другие останавливались у буфета, выпивая или съедая что-нибудь наспех, стоя, и тут же опять выходили за порог. В русскую речь вмешивался нерусский говор. И по виду многие не походили на русских. Их можно было отличить главным образом по черноте волос и глаз. Один из них, довольно молодой, с такими же короткими черными усиками над верхней губой, как у хозяина столовой, крикнул что-то не по-русски от самого порога и у буфета оказался в один прыжок. Хозяин молча налил ему из бутылки стакан лимонада, и тот выпил его одним духом.
Я посмотрел на Ивана. При звуке голоса этого парня он весь встрепенулся и теперь не отрывал от него взгляда. А когда тот с прежней стремительностью направился к двери, он крикнул, выскакивая из-за стола:
— Гоцеридзе! Васо! Генацва-а-але!
Тот остановился, вглядываясь в Ивана с серьезным и даже недовольным видом, но вдруг сверкнул белыми зубами и крикнул в ответ:
— О-о! Кого я вижу! Ваня! Длинный Иван!
Они бросились друг к другу, обнялись и поцеловались. Потом, не расцепляясь, отстранились немного, разглядывая друг друга с улыбкой. Иван сказал:
— А ты все такой же упругий и белозубый. И время тебя не берет.
Тот ответил:
— И ты тоже не изменился. Сплошной чугун. Уральское литье.
Иван спросил:
— Ты разве здесь живешь?
Тот ответил:
— Нет. Мимо еду. Заскочил воды глотнуть.
— А куда едешь?
— В Сочи. Контракт подписывать от имени своего совхоза с курортным трестом ресторанов и столовых на предмет поставки фруктов и ягод. Как видишь, миссия весьма прозаическая. А ты куда?
— В Батуми топаю.
— То есть как топаешь? Пешком?
— Ага. Захотелось ногами пощупать землю, над которой летаю.
— Летаешь? Где?
— Здесь же. Ленинградская линия.
— Молодец! А я давно на земле. Не могу без нее.
— Вот и я по ней с превеликим удовольствием шагаю. И со мной тут еще один финский товарищ.
— Какой?
— Финский. Да вот он. Знакомьтесь, пожалуйста: Грузия — Финляндия. И чтобы у меня никаких церемоний, поскольку оба рабочей кости отпрыски. А объясняться можете по-русски.
Мы с грузином пожали друг другу руки, и он сказал, глядя мне в глаза своими черными глазами:
— Очень рад видеть представителя, далекого севера в наших южных краях. — И добавил, кивнув на Ивана: — Ему везет на дружбу с людьми разной национальности. У нас в эскадрилье их было несколько, и каждый называл его на свой лад: Иванченко, Иванян, Иванидзе, Иваничюс.
Я сказал:
— А теперь он, кроме того, будет Иванен.
Грузин улыбнулся, оценив мою шутку. Иван взял его за плечи, пытаясь усадить на стул у нашего стола. Тот воспротивился, оглядываясь на дверь, и они опять повозились немного. Оба были рослые, только Иван чуть повыше. И красивые были оба, только по-разному. У одного все было темное: и лицо с горбатым носом, и волосы, и шея у раскрытого ворота голубой рубахи, и даже коричневый костюм с темно-зелеными прожилками. А другой был светлый, несмотря на загар. И волосы у него от солнца высветлились, и одежда была светлая.
Он сказал темному:
— Надеюсь, не откажешься перекусить с нами?
Тот помедлил с ответом, продолжая коситься на открытую дверь:
— Перекусить? У меня, видишь ли, там «победа» совхозная ждет… Но ради такого случая и бутылку распить не грех. Как ты полагаешь?
— Как я полагаю? Да это же гениальнейшая мысль! Тамара! Царица души моей! Организуйте нам, пожалуйста, один «Букет Абхазии». И закуску к нему по своему усмотрению.
Во время этого разговора к нам от соседнего столика подошел еще один черноволосый парень, лет около тридцати семи, в серых брюках и в кремовой рубахе с расстегнутым воротом. У него было чисто выбритое темное лицо, без усиков, но тоже очень строгой и правильной формы. Как видно, меня занесло в край, где обитал какой-то неведомый мне красивый народ. Подойдя к нам, этот парень протянул руку нашему грузину и сказал по-русски:
— Привет, Васо! Не забыл еще дорогу в наши края?
Васо воскликнул в ответ:
— Хо! Кого я вижу! Привет, привет! Ну, как можно забыть. Для нашего совхоза она, можно сказать, дорога жизни — главный торговый канал. — И, оборотясь к нам, он добавил: — Познакомьтесь: Георгий Чачба — коренной житель здешних гор.
Мы с Иваном пожали по очереди руку коренному жителю здешних гор. А Васо спросил его:
— Какими судьбами здесь, внизу?
Тот пояснил:
— Захотелось у моря пожить. Снял дачу на время отпуска. И сестра со мной. Вот она.
К нам неторопливой походкой приблизилась черноволосая женщина в зеленовато-желтом шелковом платье без рукавов и с большим вырезом у шеи. На вид она была не старше своего брата и в меру полная. Брат посторонился, предлагая ей движением руки обратить на нас внимание, и она протянула нам всем троим по очереди полную загорелую руку с твердой, сильной ладонью. При этом она улыбнулась нам, и мне тоже досталась доля ее улыбки…
Нет, не только мужчины были красивы в этих краях. И женщины здесь тоже кое-чего стоили. И, пожалуй, трудно было бы сказать с уверенностью, кто из них здесь был красивее — мужчины или женщины. Скорее женщинам следовало отвести в этом первое место. Иван сказал этой женщине и ее брату:
— А вы подсаживайтесь к нам! Веселее будет. Правда, Васо? Тамара! Поставьте нам, пожалуйста, два «Букета Абхазии».
Брат и сестра поколебались немного, но приняли приглашение. Васо усадил женщину справа от меня, сам уселся возле нее у конца стола, а по другую сторону стола, напротив нас с женщиной, уселись ее брат и Иван. Ее брат сказал грузину Васо:
— Тут есть один тбилисец с женой — тоже твой знакомый. Он с нами рядом дачу снимает.
Васо привстал, оглядывая столы. В ответ на это за одним из отдаленных столов тоже кто-то привстал и покрутил над головой ладонью. Васо ответил тем же и крикнул:
— Нико Авалишвили! Привет!
Тут, загремев стулом, поднялся с места мой Иван и сказал громко, обращаясь к тому отдаленному грузину:
— Просим за наш стол! Да, да, серьезно — и никаких отговорок! Убедительно просим! Челом бьем! Не обижайте нас отказом!
Васо и Георгий поддержали его. И вот к нашему столу подошли еще двое: черноволосый грузин средних лет с проседью на висках, одетый в светлый полотняный костюм, и его молодая черноволосая жена с шелковым красным платком на плечах поверх светлого платья. У этого грузина тоже были черные усики над верхней губой, только тоненькие и длинные — в размер его рта. И даже у его жены над губой был черный пушок, правда едва заметный. Иван усадил ее слева от меня, а мужа — напротив нее, рядом с собой.
Так мы устроились вокруг этого стола, который одним концом упирался в подоконник. И пока мы так устраивались, попутно знакомясь и здороваясь, красавица Тамара снабдила всех чистыми приборами, белым хлебом и закуской, состоявшей из мясного салата, красной рыбы, нарезанной ломтиками, черной икры и ветчины. Разместив гостей, Иван взялся за бутылку и, наполняя бокалы темно-красным вином, сказал:
— Просим наших уважаемых соседей не очень сердиться на нас за то, что мы нарушили привычный ритм их жизни. Но такой уж случай особенный. Шутка ли — семь лет не видались! А ведь когда-то вместе летали, вместе падали…
Тут Васо поднял предостерегающе указательный палец и вставил:
— Но ведь и сбивали, Ваня!
Тот согласился:
— Да. И сбивали тоже. Но, чтобы быть самокритичным…
Опять Васо перебил его:
— Самокритичным будешь потом. А сейчас торжественный момент. Кто победил в конечном счете? Мы. Стало быть, мы и сбивали больше. Будь все наоборот — не было бы нашей победы. Простой логический вывод.
И опять Иван согласился:
— Правильно. В конечном счете победили мы. Да иначе и быть не могло. И вот благодаря этому мы сидим теперь мирно за этим столом такой дружной семьей. Тут и Грузия…
Он обвел взглядом наши лица. А сидевший слева от него житель здешних гор подсказал, указывая на себя и свою сестру:
— И Абхазия…
Грузин справа от Ивана добавил, кивая на свою жену:
— И Армения…
А грузин Васо встал со своего места на конце стола и сказал с легким поклоном в мою сторону:
— И Финляндия…
Иван выслушал их всех, поворачивая с улыбкой голову туда-сюда, и вдруг, ударив себя кулаком по гулкой груди, сказал в заключение:
— И Россия!
Подняв затем бокал с вином, он провозгласил:
— Вот и выпьем за дружбу наших народов!
Мы соприкоснулись бокалами и, осушив их, налегли на закуску. Я помог своим соседкам дотянуться до красной рыбы и черной икры и получил взамен две такие улыбки, от которых у меня опять разыгрался аппетит, несмотря на съеденный плов. Иван еще раз наполнил наши бокалы, и мы снова выпили, повторив слова о дружбе.
Постепенно за столом завязался разговор, пересыпанный вопросами: кто, куда, когда, где и как. Это надоумило Ивана снова подняться и сказать:
— Предлагаю выпить за наши пути-дороги, за их бесчисленное разнообразие и за доставляемую ими радость новизны! Тамара! Свет очей моих! Дайте нам еще две бутылки!
Но тут с места вскочил Васо и сказал:
— Нет, Ваня! Довольно! Теперь я угощаю.
Он шепнул что-то на ухо Тамаре, и на столе появились еще две большие бутылки грузинского вина с другим названием, а сверх того — большое блюдо с яблоками и грушами, стоявшее перед тем в буфете за стеклом. Васо сам разлил вино в бокалы, обойдя стол с трех сторон. И опять мы пили, заедая выпитое грушами и яблоками.
Потом встал со своего места грузин из Тбилиси. Он тихо сказал что-то у буфета, и перед женщинами появились две стеклянные вазы с конфетами. Потом у буфета побывал житель здешних гор, после чего на столе прибавились новые закуски и новые бутылки, из которых вино тоже немедленно полилось в бокалы. Потом со своего места поднялся я и сказал не очень твердым голосом:
— Товарищ Тамара, дайте нам, пожалуйста, еще два «Букета Абхазии».
Она принесла еще две бутылки. Иван помог ей их раскупорить, и мы снова звякнули бокалами. В голове у меня уже изрядно шумело, но я не забывал посматривать на часы. Время близилось к десяти, а до Адлера было не так близко. Думая об этом, я решил, что пора действовать, и сказал Ивану напрямик:
— Да, Ваня, ты правильно тут говорил насчет разнообразия дорог. Вот и наши с тобой пути-дороги расходятся.
Он даже привстал от удивления:
— То есть как расходятся?
— Так. Из одной дороги получаются две разные.
— Почему две разные?
— Потому что ты сейчас пойдешь на юг, а я на север, как мы договорились.
— Где? Когда? О чем договорились? Ни о чем подобном мы не договаривались. Не мели, Аксель, чепухи.
Он яростно засверкал на меня глазами, нависая над столом. И все другие, сидевшие вокруг, оставили свои разговоры, повернув к нам головы. Васо Гоцеридзе тоже привстал, обратясь ко мне вежливо:
— Позвольте спросить вас, товарищ Аксель, что вы имеете в виду, говоря о севере? Я понял так, что вы очень торопитесь домой?
Я ответил:
— Нет. Сперва еду в Ялту на теплоходе из Сочи.
— Понятно. У вас, очевидно, уже куплен билет?
— Нет. Я там куплю…
Иван перебил меня:
— Не купишь ты там. Ты в Батуми купишь билет и оттуда спокойненько уплывешь в свою Ялту. А до Батуми мы с тобой не спеша прогуляемся по сказочному черноморскому побережью через Сухуми и Гагры.
Я подумал немного. Конечно, можно было и в Батуми сесть на теплоход. Но сам же Иван сказал мне накануне, что идти туда придется недели две. А у меня не было в запасе столько свободных дней. И мне надо было до конца отпуска успеть увидеться с моей женщиной. Поэтому я сказал Ивану:
— Нет, я, пожалуй, не пойду с тобой через Сухуми и Гагры. Не сердись на меня.
Однако он, кажется, все-таки готов был рассердиться. Но в это время ко мне опять обратился Васо:
— А почему вы не хотите пройти через Гагры и Сухуми?
И я уловил что-то вроде обиды в его голосе. И верно: он имел право обидеться. Ведь это была его родная земля, по которой я не хотел идти. Пытаясь как-то смягчить свой отказ, я сказал:
— Я имел намерение только по России пройти, а здесь Грузия и Абхазия.
На это мне ответил грузин из Тбилиси. Его басовитый голос звучал мягко и наставительно, когда он сказал:
— А разве Грузия не та же Россия в вашем западном понимании? Это ведь мы назвали Россию Советским Союзом, а не вы. И только мы можем по-настоящему оценить все значение этого союза, дающего нам свободно жить и дышать. Без этого союза, и в частности без содружества с русскими, мы прозябали бы сейчас на той же стадии развития, на какой остаются наши южные соседи Иран к Турция. А в составе Советского Союза мы ушли от них по меньшей мере на полсотни лет вперед. В другую эпоху ушли. Но когда вы там, на Западе, называете великой и могущественной державой Россию, мы понимаем, что это и к нам, грузинам, относится, и горды этим, потому что и мы составляем часть этого могущества. Так что делить Советский Союз на Россию и не-Россию будет не совсем правильно, тем более с вашей, западной точки зрения.
Иван сказал мне:
— Вот видишь? Пришлось другим тебя убеждать. Хорошо, что ты понял наконец. Выпьем по этому случаю.
Он снова принялся разливать вино в бокалы, попросив попутно Тамару принести еще бутылку. В это время снаружи донеслись нетерпеливые гудки автомобиля. Васо встал со своего места и, быстро подойдя к открытой двери, крикнул кому-то:
— Что, Ахшетели, не терпится? Успеем. Я тут еще на несколько минут задержусь. Старого друга встретил, понимаешь? Фронтового друга. А ты не хочешь перекусить? Ну, как хочешь.
Он вернулся к столу и сказал нам в пояснение:
— Это наш водитель совхозный. Говорит, что в Сочи позавтракает. Дает мне этим понять, чтобы я поторопился. Не любит график нарушать. Такой формалист. Горит на работе.
Между тем Иван перехватил у стола Тамару и вложил ей в руку свободный бокал, наполнив его тут же вином из бутылки. Она пыталась протестовать:
— Ведь я же на работе.
Но Иван сказал:
— Ничего. Один бокал не повредит вашей работе. А выпьем мы за солнечную Грузию, за ее процветание и за те радости, которые она дарит всем другим народам нашей страны.
Тамара нерешительно оглянулась на буфетчика. Тот слегка кивнул, как бы разрешая, но сохраняя на лицо свою неизменную серьезность. И тогда мы все выпили за солнечную Грузию. Тамара после этого немедленно убежала к другим столикам. А я опять украдкой взглянул на часы. Грузин из Тбилиси заметил это и сказал с упреком:
— Все еще торопитесь куда-то?
Я сказал:
— А как же! Ведь автобус из Адлера уходит в десять тридцать, а сейчас уже десять.
Тут Иван с размаху хватил кулаком по столу и рявкнул грозно:
— Аксель Турханалья!
Два пустых бокала подпрыгнули, и один из них опрокинулся. Этот столик явно не был рассчитан на кулаки Ивана. Сидевший слева от него житель здешних гор вернул бокалу прежнее положение и взялся за бутылку. Налив из нее мне и себе, он тронул своим бокалом мой бокал и сделал мне знак, чтобы я выпил. А когда мы выпили, он заговорил горячо и убедительно:
— Дорогой наш товарищ из Финляндии! Нельзя тебе поворачивать отсюда назад. Ты ступил на такую землю, какой нет больше нигде на свете. Ты сделал по ней первый шаг. А надо сделать второй, третий, сотый, тысячный. Ты увидишь наш Сухуми, нашу древнюю Акву. Это сказка. Ты увидишь Гагры. Это двойная сказка. Ты увидишь горные реки, южные леса, красивые курорты, санатории, лечебницы, дворцы, сады, парки. Увидишь людей, услышишь их песни и счастливый смех. Ты Грузию увидишь! Как можно повернуть назад, не увидев Грузии! Без Грузии большой кусок жизни России выпадет из твоего поля зрения. И ты потом никогда себе этого не простишь. А в Грузию придешь — и уйти не захочешь, потому что это самая красивая на свете страна. Пойдем к нам в горы. Ты поживешь у нас месяц и скажешь: «Это лучшее место в мире!» И ты построишь там себе дом, выберешь девушку и сделаешь ее своей женой. В наших горах человек живет полтораста лет. Ну, полтораста я тебе не обещаю, но сто лет жизни гарантирую вполне. И давай выпьем еще за это твое мудрое решение!
Все рассмеялись и снова зазвенели бокалами. Я выпил свою долю и украдкой покосился на сестру жителя гор, сидевшую справа от меня. Она почувствовала мой взгляд и слегка потупилась, делая вид, что разглядывает рисунок на конфетной обертке. Но губы ее улыбались. Да, это было любопытно, конечно, все, что говорил житель здешних гор. Но мне надо было до конца отпуска успеть к моей женщине.
Васо отлучился на минуту к буфету и вернулся с двумя коробками шоколадных конфет. Он положил их на стол перед обеими женщинами одновременно, просунув руки между Иваном и жителем здешних гор. Сестра жителя гор — моя соседка справа — сказала смущенно: «Ну что вы! Зачем?». И добавила что-то по-грузински. Моя соседка слева сказала: «Ну, вы это напрасно, право!». И тоже добавила что-то по-грузински. Васо поклонился каждой из них, прижав ладони к сердцу, потом взял Ивана за плечи, встряхнул его слегка и сказал:
— Теперь я тебя никуда не отпущу. Остаток отпуска проведешь у меня — и никаких отговорок, слышишь?
Иван улыбнулся, кивая в мою сторону:
— Но ведь мы с Акселем настроились дойти до Батуми.
— Успеете дойти. А сначала у меня поживете. Я вас на обратном пути из Сочи к себе увезу. Только уговор: ждать меня здесь.
Вот что мне еще готовилось в дополнение ко всему, что и без того встало заслоном на пути к моей женщине. Я хотел еще раз взглянуть на часы, но неудобно было это делать при общем внимании. Компания не торопилась расходиться. Только житель здешних гор отлучился на время от стола, но и он скоро вернулся, держа в каждой руке по две бутылки. В двух из них было вино, в двух — лимонад. Наливая нам то и другое, он запел что-то без слов, произнося только: «Ли-ля-ля». Иван попробовал присоединиться к его пению, покачивая над столом бокалом с вином. Васо тронул своим бокалом его бокал и тоже подхватил мелодию, не выговаривая слов. И все другие, сидевшие за нашим столом, начали понемногу входить в ритм этой мелодии, отмечая его кто покачиванием головы или руки, кто звяканьем стекла, а кто просто попыткой присоединить свой голос к другим. Лица у всех разрумянились от вина, и глаза блестели. Да и я, наверно, выглядел не иначе.
Когда первая волна мелодии схлынула, в пение вступила женщина, сидевшая слева от меня. Она повела новую волну, произнося слова песни. Слов я не понимал, но голос у нее был низкий, красивый, и к нему сразу же осторожно пристроились мужские голоса, тоже начиная произносить слова.
Мелодия эта охватывала четыре строки песни. Первая строка лилась неторопливо и спокойно, с легким налетом грусти. Вторая постепенно наполнялась тоской и жалобой, и тон ее повышался. На третьей строке жалоба усиливалась, достигая предельного взлета, словно бы кто-то одинокий и тоскующий пытался понять с горьким недоумением, откуда могла прийти к нему эта напасть, сдавившая болью его бесприютное сердце. Но вопрос его, громко брошенный в мир, оставался без ответа, и на четвертой строке песни мелодия опять шла к низкой ноте, замирая на ней в печальной безысходности.
Грузин из Тбилиси поддержал жену, вплетя свой басистый голос в общий хор голосов. И, наконец, в песню влился высокий и чистый голос сестры жителя гор, сидевшей справа от меня. Тогда и я попробовал пристроиться к песне, не выговаривая, конечно, слов.
Услыхав мой голос, моя соседка справа обернулась ко мне, не переставая петь, и я увидел совсем близко перед своими глазами ее блестящие черные глаза и раскрытый рот, слегка тронутый темно-красной помадой, где белели ее влажные зубы с одной золотой коронкой сбоку. Она не сразу отвела от меня лицо, и я тоже не спешил отвернуться, глядя на этот жаркий женский рот, из глубины которого шли ко мне красивые звуки песни, заставляющие сладко замирать сердце. Вдобавок она вдруг улыбнулась одними глазами и запела прямо мне в лицо по-русски:
Розу на пути встретил я, в поисках уйдя далеко. «Роза, пожалей и утешь меня: где найти мою Сулико?»Она пропела эти русские слова, глядя мне прямо в глаза своими смеющимися черными глазами. И бог знает, что там еще было в ее глазах: не то голая насмешка, не то какой-то тайный вызов, не то простое женское лукавство с примесью любопытства. Но что-то они все же говорили мне, эти глаза, в то время пока нежные грустные звуки изливались из ее женского горла. Она пропела мне эти русские слова и снова отвернулась, продолжая петь по-грузински. Или по-абхазски, не знаю.
Я повернул голову влево. Слева от меня пела другая женщина, тоже черноволосая, у которой все на лице было крупно: и нос, и губы, и глаза, и брови. Но это не делало ее менее красивой, потому что и сама она была крупная, и, стало быть, крупность лица находилась в полной соразмерности с ее ростом. Она пела, поглядывая с улыбкой на Ивана, который, в свою очередь, тянулся взором вслед за своей царицей Тамарой. А царица Тамара скользила неслышно между столами, занятая своим хлопотливым делом, но не забывая, впрочем, изредка бросать быстрый взгляд в его сторону.
Женщина слева ответила улыбкой на мое внимание к ней. Не переставая петь, она приблизила свое ухо к моему поющему рту и, послушав немного, вновь откинулась к спинке стула, одобрительно мне кивнув. Это прибавило мне уверенности, и я стал подтягивать громче, произнося, однако, вместо слов только «ли-ля-ля, ля-ля, ли-ля-ля». А потом я вскочил с места и подошел к буфету. Там за стеклом, кроме холодных закусок и бутербродов, я увидел сложенные в стопки плитки шоколада и указал на них буфетчику. Он посторонился и предложил мне самому взять сколько нужно. Я взял десять плиток и, вернувшись к столу, положил перед каждой женщиной по пять плиток. Они сделали испуганные лица, но я сказал:
— Ничего. Угощайтесь, пожалуйста.
К тому времени песня кончилась. Я наполнил бокалы моих соседок вином из бутылки и выпил с ними за их здоровье и счастье. Две красивые улыбки были мне наградой за это. Я снова потянулся к бутылке, наливая всем, у кого видел неполные бокалы. Э-э, черт ли мне там что! Чего мне! Гуляй, Турханен. Жизнь все равно как-то так… сатана ее возьми…
Иван тоже шагнул к буфету, однако не сумел там ничего выбрать. Тогда он сделал вид, что хочет перенести к нам весь буфет, но поскользнулся на чем-то влажном и для сохранения равновесия круто повернулся на месте, невольно притопнув ногой. Этот поворот и притопывание он тут же повторил, как бы готовясь приступить к танцу. Но, увидев мелькнувшее мимо темно-красное платье Тамары, вскричал:
— О Тамара! Царица моя! Куда вы? Станцуйте нам, пожалуйста! Ну, немножечко! Дайте сюда поднос. Ну, хоть один пируэт!
Он потянулся к ней, пытаясь поймать ее за руку, но она уклонилась от него. Зато дорогу ей тут же заступил Васо. Раздвинув руки, он стал просить ее о том же. Видя, что ей не ускользнуть от них, она высоко подняла одной рукой поднос, на котором стояли пустые тарелки, и плавно прошлась по свободному месту между буфетом и столиками, изгибаясь туда-сюда своим тонким станом, перехваченным белыми тесемками передника, и сделав несколько поворотов, от которых взметнулся вверх темно-красный подол ее платья, открывший на мгновение ее полные загорелые икры и округлые колени. Васо отступил в сторону, и она проскользнула мимо него к двери кухни.
Тогда он сам начал танцевать на том же месте перед буфетом. Сперва он постоял на месте, мелко перебирая ногами, обутыми в легкие сандалеты, и держа перед грудью в горизонтальном положении согнутые в локтях руки. Потом двинулся по кругу, продолжая перебирать ногами. И когда он двинулся по кругу, все сидящие за нашим столом принялись равномерно ударять в ладони и что-то напевать по-грузински. За другими столами подхватили этот напев и тоже принялись ударять в ладони. Я напевал и хлопал в ладони вместе со всеми. Расстегнутый пиджак стеснял движения танцора. Он стянул его с себя на ходу и бросил Ивану. Тот вскричал:
— Ай да Васо! Я же говорю, что ты такой же, как был! Ну и молодчина! Асса! Асса!
А Васо все ускорял свой бег по кругу, и хлопанье в ладони вокруг него также ускорялось. Сделав напоследок два особенно быстрых кольца, от которых зазвенела посуда в буфете, он остановился на месте. Остановился? Нет! Остановилось его туловище, тонкое в поясе, как у девушки, а ноги продолжали двигаться, да еще как двигаться, бог ты мой! Похоже было, что туловище висит у него в воздухе само по себе, а ноги, не чувствующие его веса и никак от него не зависящие, живут своей собственной жизнью.
О, черт, что он там выделывал своими ногами! Они мелькали у него так быстро, что становились невидимыми. Никогда не думал я, что ноги человека способны двигаться с такой скоростью. Только пальцы руки, барабаня по столу, могли бы показать подобную быстроту, да и то не всякие.
Люди за другими столами привстали, чтобы лучше видеть танцора. В дверях толпились дети, забежавшие с улицы на шум. Над ними возвышался бритоголовый человек, скрестивший на груди руки с мускулатурой борца. При виде его Васо вдруг прекратил танец и замер на месте, подняв руки вверх с таким видом, словно просил пощады. Запыхавшись, он сказал:
— Виноват, Ладо!.. Увлекся… Сейчас поедем…
Его слова были заглушены аплодисментами всех, кто был в столовой. Хлопали люди за столом, хлопали у двери дети, и хлопал своими тяжелыми руками тот бритоголовый, с которым Васо должен был ехать. Даже хозяин столовой аплодировал, сохраняя, впрочем, все тот же серьезный вид. Иван сказал ему вполголоса:
— Получи с меня, пожалуйста.
Он достал из кармана пачку денег и положил ее на стол. Но Васо заметил это и, вмиг подскочив к столу, сказал повелительно:
— Забирай обратно свои деньги! Немедленно забирай! Ты мой гость — и я угощаю!
Но Иван возразил:
— Ничего подобного. Угощаю я. Я пригласил всех за свой стол, и честь расплачиваться принадлежит мне по праву.
И для большей убедительности он крепче притиснул к столу свою пачку. Однако Васо отодвинул его руку с деньгами и сказал:
— Нет, нет. Не спорь. Угощаю я — и слышать ничего не желаю!
И он положил на стол свою пачку денег. Но тут между ними встал житель здешних гор. Он отодвинул в стороны обе их пачки и положил на их место свои деньги. Сделав это, он сказал им горячо и убедительно, как говорил мне:
— Какие могут быть споры? Плачу я. Здесь моя земля. Я познакомился с хорошими людьми. Эти люди — друзья моего Васо. А каждый друг моего друга — мой друг. Это ясно как день. За один час я разбогател — приобрел столько новых друзей! И сестра моя разбогатела. Правда, Кэто? Мы счастливы этой дружбой и просим не лишать нас радости уплатить за всех.
Пока он говорил это, его сестра одобрительно кивала, говоря: «Да, да, да, правильно, Георгий». Но тут со своего места поднялся грузин из Тбилиси. Он отодвинул все три пачки денег и положил на их место свою. Сделав это, он сказал коротко своим басовитым голосом:
— Позвольте, друзья, мне оспорить эту честь. Я, как старший по возрасту, имею на это полное право.
Но тут со своего места поднялся я. Не знаю, что заставило меня подняться. Никто не понуждал меня к этому. Но, должно быть, их грузинское вино изрядно ударило мне в голову, если и я вдруг вздумал вмешаться в их спор. Вынув из бумажника свои деньги, я положил их на середину стола и сказал:
— Кто здесь может быть старше меня? Я самый старший. И позвольте мне хоть как-то выразить мою благодарность за дружбу и внимание, оказанные мне здесь.
Так я им сказал, этим щедрым людям, не знающим, быть может, что и финны при случае умеют размахнуться и показать себя. Нет, они умеют размахнуться, если подвернулись подходящие обстоятельства. Я не подсчитывал свои деньги, положенные на стол. Но я знал, что там было восемьсот рублей. Когда я в Сталинграде покупал билет до Сочи, в этой пачке, которая лежала отдельно от остальных денег, была ровно тысяча. Я вынул тогда из нее две сотни, а полученную из кассы сдачу положил отдельно. И теперь мне не было необходимости пересчитывать положенные на стол деньги. Я положил их и, отодвинув стул, шагнул в сторону. Мог ли я поступить иначе? Ко мне было обращено столько глаз — и среди них красивые глаза женщин. Моя соседка справа смотрела на меня с таким же одобрением и уважением, с каким незадолго до этого смотрела на своего брата. Но мужчины протестовали: «Нет, нет, нет. Ни в коем случае! Вы наш гость. Как можно!». В это время к нам подошел хозяин столовой с блокнотом в руках, где у него было записано все выданное нам. Он сказал:
— Позвольте мне, друзья, примирить вас чуточку.
И он взял понемногу от каждой пачки. Но никто не притронулся к тому, что он оставил на столе. Я тоже не притронулся и даже не взглянул больше в направлении стола. К открытой двери устремился теперь мой взгляд, и ноги мои понемногу несли меня туда же.
Я знал, что не уйду, не сказав на прощание доброго слова этим хорошим людям, с которыми только что сидел за одним столом. Но мои ноги, несмотря на это, все-таки несли меня мало-помалу, то боком, то пятками вперед, все ближе и ближе к двери.
И вот я уже стоял среди мальчиков и девочек, запрудивших выход. А бритоголовый детина с толстой шеей и тяжелыми мускулами, распиравшими его сетчатую безрукавку, уже готовился уступить мне дорогу, когда раздался возглас Ивана:
— Аксель! Аксель! Никак ты опять куда-то заторопился?
Разве заторопился? Ах, да! Выходило, что так оно и было. То есть заторопились мои ноги, заторопились глаза, сами не сознавая, куда и зачем. Но Иван своим вопросом напомнил, что мне действительно надо поторопиться в одно вполне определенное место, и я сказал:
— Да… То есть нет, конечно… Но могу не поспеть… если в Адлер…
И, перебивая меня, Иван вскричал грозно:
— Аксель! Я тебя убью!
А жительница здешних гор спросила меня с улыбкой:
— Скажите откровенно, в чем мы так провинились перед вами? Почему вы не желаете видеть нашу страну? И не кажется ли вам, что вы этим не столько своего русского друга обижаете, сколько нас?
На этот вопрос надлежало ответить без всякой хитрости. Иного ответа я не мог дать ей, смотрящей на меня такими красивыми черными глазами с выжидательной улыбкой на свежих, влажных от вина губах. Не мог я схитрить еще и потому, что все остальные, услыхав ее вопрос, тоже придвинулись в ожидании моего ответа. И, глядя ей прямо в глаза, таившие в своей черной блестящей глубине все их загадочное южное царство, я сказал:
— Такую страну, как ваша, надо осматривать без торопливости, чтобы как следует вобрать в себя всю ее красоту. И я поступлю неуважительно, если проведу в ней два-три дня и потом скажу: «Я видел Абхазию». Или даже: «Я видел Грузию». Это будет неправда. Весь отпуск надо ей посвятить от первого до последнего дня.
Грузин из Тбилиси, выслушав это, сказал негромко своей жене-армянке:
— В какой-то мере это правильно.
Та молча кивнула. И все другие тоже как будто согласились с моими словами. А я, чувствуя это, стал прощаться с ними и первым долгом протянул руку жительнице здешних гор. Она сказала:
— Непременно приезжайте на весь отпуск.
И другие по очереди повторили примерно то же. А Иван так стиснул мою ладонь, что в ней спрессовались и склеились вместе все кости и жилы. И пока я расклеивал и расправлял их, приводя в прежний порядок, он сказал:
— Голову тебе оторвать мало за измену. Но я это так не оставлю! С первым же рейсом буду у тебя в Ленинграде.
Я ответил, что буду рад увидеть его там, и поспешил на улицу. Бритоголовый детина уже стоял на дороге возле своей машины. К нему быстрой и легкой походкой с пиджаком в руках шел Васо. Асфальтовую дорогу от столовой отделяла небольшая канавка, заросшая травой. Напротив столовой она была перекрыта деревянным настилом в четыре бревна. Васо перешел канавку по этому настилу. А я, торопясь к Адлеру, пошел от столовой наискосок, минуя настил, и через канавку прыгнул тоже наискосок.
Но выпитое грузинское вино наказало меня за мое невнимание к этой стране. Утяжелив мои ноги и голову, оно помешало им соразмерить силу прыжка с шириной канавы, и, вместо того чтобы оказаться на дороге, я едва допрыгнул до противоположного ската канавы. Пока я выбирался оттуда, скользя ногами по густой и влажной от росы траве, Васо выжидал, стоя у открытой дверцы машины. А когда я наконец выбрался на дорогу, он спросил вежливо:
— Вы сейчас куда направляетесь, товарищ Аксель?
Я ответил:
— В Адлер. Оттуда в десять тридцать идет автобус в Сочи.
Он сказал, оставаясь вежливым и серьезным:
— Вы простите меня. У каждого свои странности. Но сейчас уже десять сорок.
Я взглянул на свои часы. Да, так оно и было. Автобус я прозевал. Вот как обернулись мои дела. Васо выждал, пока я как следует не усвоил это, и потом сказал с той же вежливостью:
— К сожалению, доставить вас в Адлер к десяти тридцати не смогла бы сейчас даже наша «победа». Но непосредственно к теплоходу она, без сомнения, успеет. Не желаете ли?
И он шире распахнул дверцу машины, знаком приглашая меня сесть внутрь. Я не был готов к такому повороту дела и не знал, что ему сказать. Но мои ноги, независимо от этого, уже несли меня к машине. Не говоря ни слова, я плюхнулся на заднее сиденье. Васо сел впереди меня рядом с водителем, который немедленно включил мотор.
В это время возле столовой среди ватаги детишек показались мои недавние соседи по столу. Они приветливо помахали мне на прощанье. Только Иван сделал сердитое лицо и погрозил мне кулаком. Тем не менее я помахал им в ответ. Бритоголовый водитель, не оглядываясь, протянул назад свою устрашающего вида руку, поросшую у кисти темными волосами, и захлопнул перед моим носом дверцу. Недовольный долгим стоянием, он сильно рванул машину с места и сразу дал ей большую скорость. Меня отбросило назад и прижало спиной к сиденью. Но я не противился этому. Отбросило так отбросило — плевать. Мне даже удобнее было так — наполовину сидеть, наполовину лежать. Коварное грузинское вино туманило мне голову, и я закрыл глаза…
Но стоило мне погрузиться на минутку в дремоту, как Васо уже принялся трясти меня за плечо и приговаривать:
— Товарищ Аксель! Товарищ Аксель!
Я открыл глаза. Машина стояла. Почему она стояла? Мы трогались на ней с места или не трогались? Я приподнялся на сиденье. У открытой дверцы стоял Васо. Он больше не теребил меня за плечо, но повторил настоятельно:
— Вставайте, товарищ Аксель, приехали.
— Куда приехали?
Я все еще не мог понять, почему мы остановились, едва тронувшись с места, но вылез из машины, вопросительно глядя на Васо. А он сказал, вежливо посторонившись:
— В Сочи приехали. Вот пристань… Вот море. Вот слева от мола — теплоход «Грузия». А вот билет до Ялты.
И он вложил мне в руки билет. Я всмотрелся. Да, это был билет. Куда билет? До Ялты, он сказал. Хм. Это обстоятельство заставило меня еще некоторое время постоять в молчании и поразмыслить относительно того, что происходило вокруг. И когда наконец у меня в голове все стало на свое место, я полез в карман за бумажником. Однако он решительно отвел мою руку с бумажником. Я сказал:
— Но ведь за билет по крайней мере я обязан же уплатить!
Он ответил:
— Нет, не обязаны. И, пожалуйста, не обижайте меня разговором о деньгах. В прежние времена я за такую обиду просто-напросто зарезал бы вас кинжалом.
И он показал, как он это сделал бы. Придерживая левой рукой ножны, которые почему-то висели бы у него на животе, он правой рукой выхватил бы кинжал и в один миг воткнул бы его мне в грудь. У меня даже заныло все внутри от внезапности его движений. В ответ я достал из кармана свой перочинный ножик, раскрыл его и, протянув ему, сказал:
— Мне нечем вас отблагодарить. Но вот вам ножик, и я прошу вас вырезать у меня сердце и разделить его на шесть кусочков. Это все, что я могу предложить вам и вашим друзьям.
Он улыбнулся. Впервые он так широко улыбнулся мне, показав полностью весь набор своих удивительно белых зубов. И он ответил:
— Не будем сейчас резать ваше сердце. Сберегите его в целости до следующего приезда к нам в Грузию.
Он протянул руку, и мне пришлось напрячь всю свою силу, чтобы не дать ему раздавить мою ладонь.
Пока он садился в машину, я кивнул водителю, прижав в знак благодарности руку к сердцу. Он в ответ поднял кверху ладонь, как бы говоря: «Ладно уж. Будь здоров. Живи». Они уехали, а я зашагал вдоль мола к теплоходу.
На теплоходе у меня билет взяла дежурная женщина. Передавая мне ключ от каюты первого класса, она спросила:
— Вы не из министерства?
Я ответил:
— Нет. А что?
— Да ничего. Просто так полюбопытствовала. Дело в том, что все билеты на наш теплоход уже два дня как распроданы. А эта каюта была забронирована для работника министерства. Но какой-то грузин разбушевался там, возле кассы, говорит: «У меня пассажир в сто раз важнее вашего работника министерства. Давайте мне билет, или я разнесу всю вашу пристань, сожгу, взорву, сотру с лица земли вместе с вами». Такой скандалист. Ну, вот и отдали ему билет. Значит, это он для вас старался?
— Наверно…
— А вы откуда, если не из министерства?
— Я из Финляндии.
— А-а. Ну, тогда понятно.
Вот какого пассажира заполучили они на свой теплоход. Я был в сто раз важнее их работника министерства. С этим сознанием я степенно расхаживал по трем просторным палубам теплохода все то время, пока он вез меня по Черному морю на север. Он вез меня, разрезая своим высоким носом голубоватые, прозрачные волны и создавая новые волны с высокими гребнями и белой пеной, тоже пронизанные голубизной и прозрачностью. Эти новые волны, отваливаясь на обе стороны от носа теплохода, подавляли на первых порах своими размерами и силой ряды мелких встречных волн, рожденных легким ветром, но постепенно теряли свою силу от столкновения с ними, теряли высокие пенистые гребни и далее уходили закругленные и безобидные, уже неотличимые от остальных.
И все то время, пока теплоход шел от Кавказа до Крыма, его сопровождали дельфины. Они показывались то слева, то справа от него, внезапно выныривая из волн и снова погружаясь в пучину. Казалось, будто они понимали, что ими с обоих бортов любуются люди, и, радуясь этому, резвились как дети, поблескивая на солнце влажными коричневыми спинами.
Небо над морем сверкало синевой. И само море не уступало ему ни в блеске, ни в синеве. Особенно густо-синим было оно у горизонта, слева от корабля. А справа, ближе к берегу Кавказа, в нем играли зеленоватые оттенки. И совсем зеленым был берег, подступавший к морю гористыми отрогами. На этом берегу остались люди, с которыми я провел два часа за одним столом. Раньше я не знал этих людей — и вот узнал. Их не было в моей жизни, но вот они вошли в нее. И хотя я оставил их там, на этом красивом гористом берегу, но они были со мной, и я уже не собирался с ними расставаться, как и со всеми другими, что встретились мне на моем долгом пути сюда.
Зеленые отроги гор, выходившие к морю, казались пустынными. Только внизу, у самой воды, пестрели кое-где разноцветными зонтиками небольшие пляжи. А людские жилища виднелись редко. Главное место на этих солнечных склонах, полных знойной южной благодати, занимали заросли кустарников и деревьев. Они тянулись от Сочи до Туапсе, где теплоход постоял немного. Потом это же буйство горных зарослей потянулось до города Новороссийска, где теплоход остался до утра. В Ялту он готовился прибыть назавтра. Основательно перекусив за столом в салоне-ресторане, я отправился в свою каюту.
И, вытянувшись там под легким одеялом на свежей и чистой постели, я подумал, что вот и девятнадцатый день моего отпуска остался позади, а я все еще не настиг своей женщины. Но уже близилась наконец наша встреча, и на этот раз ничто не могло ей помешать.
Конечно, где-то там на моем пути мог оказаться тот страшный Иван. Однако он мог и не оказаться. До сих пор на моем пути попадались другие Иваны, от которых я не видел плохого. Почему бы им и впредь не попадаться? С такими Иванами я готов был встречаться на каждом шагу и с их друзьями тоже.
Но и тот Иван, конечно, не перестал быть жителем России и занимать в ней свое главное место. И, занимая это место, он зорко всматривался во все стороны, оберегая свою землю от проникновения туда неугодных и опасных типов, подобных Акселю Турханену — злейшему врагу его страны. И кто удержал бы его карающую руку, если бы она вдруг потянулась ко мне?
Только огромный Юсси Мурто сумел бы, может быть, сделать это. Но не было здесь Юсси Мурто. Далеко он был. И стоя там, на своих гранитах, прикрытых зеленью сосен, он все думал о чем-то, окутанный бледным светом белой ночи. До меня ли ему там было, в этих раздумьях!
А если он время от времени и раскрывал свой молчаливый рот, произнося что-то с угрюмым недоверием, то касались его слова совсем иных вещей. И только для Ивана слова эти, как видно, не таили в себе ничего нового, ибо он тоже повторял в ответ что-то уже знакомое…
Но я не успел как следует вникнуть в их спор. Сон подкрался ко мне незаметно и захватил в свой сладкий плен.
52
Поднялся я утром поздно. Виной этому была уютная каюта, предоставленная мне по милости молодого грузина Васо Гоцеридзе. Когда я вышел на палубу, солнце уже стояло довольно высоко над зеленой полосой кавказского берега, заставляя море отзываться на свое сияние отраженным сверканием и блеском. Берег здесь уже не выглядел таким гористым, каким был возле Туапсе и Сочи. К тому же он теперь уходил от нас все дальше назад к востоку, становясь постепенно из темно-зеленого голубым. Скоро он превратился в узкую синюю полоску. А потом и она потерялась. И после этого теплоход оказался среди открытого моря, без признака берега где-либо на горизонте. Но он уверенно продолжал свой путь на северо-запад. Я постоял немного у борта в носовой части, любуясь прозрачно-голубыми разрезами заново рождаемых волн и тающей на них белоснежной пеной, а потом ушел в салон завтракать.
Когда я снова вышел на палубу, впереди уже виднелась темная полоса крымского берега. И с этой минуты я уже не покидал палубы. Полоса близилась и росла, выступая мало-помалу из голубой дымки. На ней обозначились горы и зелень. Среди зелени на выступах гор замелькали отдельные дома и дворцы, выделенные лучами солнца. А еще немного погодя в нижней части берега открылись целые селения и между ними — город Ялта, куда теплоход держал свой путь.
Так в сверкании знойного моря приближался я к берегу, где с нетерпением ждала меня моя женщина. Всю Россию я пересек и даже море переплыл, чтобы увидеть ее наконец. Прощай же, море! Не забуду твоей торжественной красы!.. Да, все складывалось как надо в моей жизни — чего там! Я встретил Ивана, а Иван встретил Васо. Все было как надо. И вот я захотел сюда приехать — и приехал. О, я умел тут у них обделывать свои дела, И теперь я прибыл в их Ялту на их корабле, чтобы забрать себе их русскую женщину. Кто еще мог бы так ловко провернуть свои дела в их непобедимой России?
Я не знал, какое место на берегу занимал Гурзуф, но, едва сойдя с теплохода, спросил у человека в служебной форме о Гурзуфе. Он ответил, указывая на маленький мол по соседству:
— Видите катер у той пристани? Садитесь на него — и через пятнадцать минут будете в Гурзуфе.
Так просто это оказалось. Только пятнадцать минут отделяли меня теперь от нее. Без промедления подошел я к тому месту, где стоял катер. Человек, проверявший билеты, указал мне кассу. Я взял билет — и вот уже мчался на катере вдоль крымского берега, пестревшего загорелыми телами и разноцветными женскими купальниками. Пока я всматривался в них, пытаясь угадать, какого цвета купальник носит моя женщина, катер подошел к маленькой пристани, и громкий голос возвестил:
— Гурзуф.
Я сошел с катера и поднялся по крутой улице до середины поселка. Там на людном месте я высмотрел милиционера в белом кителе, стоявшего на краю улицы под тенью кипарисов, и спросил у него дорогу к санаторию «Черноморец». Милиционер вежливо козырнул, выслушивая мой вопрос и всматриваясь в меня внимательно. Ему было, конечно, во что всматриваться. Солнце так нажгло мне лоб и скулы, что они пылали огнем. А на кончике носа кожа не выдержала солнечного ожога и лопнула, завернувшись туда-сюда наподобие шкварок. Было во что всматриваться милиционеру. Перед ним стоял довольно-таки подозрительный тип, смахивающий на размалеванного плутоватого клоуна. Все же он указал мне дорогу к санаторию, и я немедленно направился туда. А он смотрел мне вслед, пока я не завернул за угол.
За углом я опять спустился немного вниз, но уже по другой улице, и скоро вошел во двор санатория. Это был тесный двор, где очень густо разрослись незнакомые мне кустарники, деревья и цветы. Один край двора выходил к обрыву. По этому краю была выложена невысокая каменная ограда. А за оградой виднелись вершины кипарисов и черепичная крыша соседнего дома, расположенного ниже. За ним, дальше, внизу, виднелись другие крыши. Весь поселок был выстроен так на скалистых уступах берегового склона. Поэтому такими крутыми были его улицы, идущие от моря вверх.
Санаторий на этом дворике тоже был небольшой. На узкой застекленной веранде, завешенной от солнца белыми полотнами, сидели люди: трое мужчин в пижамах и четыре женщины в халатах и платьях из яркого, многоцветного шелка. Но моей женщины среди них не было. Пятая женщина, одетая в белый халат поверх короткого платья, наводила порядок в шкафу с книгами. Но и она не была моей женщиной. Я спросил у нее:
— Скажите, будьте добры с любезностью, пожалуйста, могу я видеть Надежду Петровну Иванову?
Я очень вежливо спросил это у нее, волнуясь от близости своей женщины. Но не стоило спрашивать вежливо. Я забыл, что моя вежливость здесь у них ни разу не принесла мне пользы. Так получилось и на этот раз. Выслушав мой вопрос, женщина первым долгом внимательно рассмотрела красные пятна на моем лице, потом проследила взглядом через открытую дверь веранды и зеленый дворик до открытой калитки, определяя таким образом путь, по которому я попал к ним, и только после этого отозвалась:
— Как вы сказали?
Я повторил:
— Могу я видеть Иванову Надежду Петровну?
Женщина ответила:
— Нет. Она уехала.
— Уехала?
— Да.
— Куда уехала?
— Домой.
Я помолчал немного. Такое известие трудно было сразу переварить. Она уехала. Я так и не успел ее догнать. Судьба опять подвела меня. Но все же она здесь побывала. Вот что было здорово. Выходит, что я недаром держал сюда путь. Здесь вот она была, в этих стенах, на этой веранде и среди красивой зелени этого маленького дворика. Совсем недавно была. И даже воздух тут, наверно, еще сохранился, которым она дышала. Но я уже не застал ее. Пока я пересекал Россию, она еще тут была и ждала меня. Но когда я сюда добрался, она успела уехать. Она не могла ждать меня без конца. К тому же у нее была путевка, определяющая срок пребывания в санатории. Каков был этот срок? Не слишком ли коротким он оказался? И я уже без всякой вежливости спросил женщину.
— А как долго она здесь пробыла?
Но и без вежливости вопрос не принес мне радости. Какое там — радости! Беду он мне принес. Она ответила:
— Две недели.
— Почему так мало?
— Потому, что ему не продлили путевку.
— Ему? Кому это — ему?
— Да майору же, за которого она замуж вышла.
— Замуж?!
Что-то странное сделалось вдруг с полом их веранды. Он как будто начал накреняться слегка в одну сторону. И ноги мои тоже начали уходить из-под меня в сторону вместе с полом. Прямо-таки удивительно получалось: ноги из-под меня уходили, а тело оставалось на месте. На всякий случай я ухватился за ручку плетеного кресла и опустился в него, делая вид, что нисколько не удивлен странным поведением пола внутри их веранды. Женщина в белом халате тем временем ушла. А у меня только к ее уходу появился на языке новый вопрос, который я не знал теперь, кому задать. Но тут пожилой мужчина в очках, читавший за круглым столом газету, отложил ее в сторону и обратился ко мне:
— Про кого вы только что спрашивали у сестры-хозяйки?
Я ответил:
— Про Иванову Надежду Петровну.
Он покивал головой:
— А-а. Да, да. Хорошая получилась парочка. Мы все тут от души порадовались.
И женщина, сидевшая за тем же столом напротив него, подтвердила.
— Да, славная парочка. Прямо залюбуешься. Красивые оба, молоденькие…
Мужчина вставил с некоторым сомнением:
— Молоденькие? Я бы не сказал. Но относительно — да.
Женщина возразила ему:
— Относительно — это если о нем говорить. А она — ничего подобного. Она буквально в расцвете своих женских чар, если вам угодно знать точно. Красивая, черноглазая, стройная…
— Относительно.
Это опять сказал мужчина в очках. И женщина опять возразила ему с обидой в голосе:
— Ну, знаете… На вас разве угодишь? Если вы хотите сказать, что она полненькая, то в меру.
Ее поддержала другая женщина, сидевшая в мягком кресле у окна. Она сказала:
— И ничуть не полненькая. У нее в точности моя фигура. Я даже просила ее как-то дать мне примерить одно из ее платьев и уверена, что оно как раз пришлось бы мне впору. Жаль, что она не успела дать.
Сказав это, женщина встала с кресла и положила в шкаф книгу, которую держала в руках. Это позволило всем взглянуть сзади на ее фигуру, очень широкую в бедрах. Двое мужчин, сидевших за маленьким шахматным столиком, переглянулись между собой и улыбнулись. Стоявшая у окна девушка в цветастом платье тоже улыбнулась, обменявшись взглядом с двумя другими женщинами. Я догадался, что речь шла о женщине менее полной, и, стало быть, именно о моей женщине. Но я никак не мог с этим примириться и еще раз спросил женщину, сидевшую ближе всех ко мне за круглым столом:
— Значит, она уехала?
И та с готовностью повторила мне уже сказанное:
— Да. У него срок путевки истек, и он уговорил ее уехать вместе.
— Куда уехать?
— К нему в Москву.
— В Москву? Значит, она теперь будет жить в Москве?
— Очевидно. Ведь он москвич.
— А где она вышла за него замуж?
— Да здесь же. Вам уже сказали. И мы все торжественно отметили это событие.
— Иванова Надежда Петровна?
Я спросил это еще раз, потому что все еще не мог поверить. Не хотел я этому верить. Не могло этого быть. Но вместо ответа на мой вопрос все опять обернулись ко мне и уже не сводили с меня глаз. Пожилой мужчина в очках пошевелил газетой и спросил меня:
— А вы кем ей приходитесь, простите за любопытство, знакомый какой или родственник?
К такому вопросу я не был подготовлен и ответил не особенно четко. Сперва я сказал: «Да». Потом сказал: «Нет». Потом опять сказал: «Да». И опять: «Нет». И пытаясь все это поправить, сказал в пояснение:
— То есть я не то чтобы совсем нет. Скорее наоборот, и даже очень… То есть я — то нет, конечно… Там брат у нее — вот почему… Но в то же время… Если бы не так… То есть все шло к тому… А так, что же… Но разве я могу? Смешно было бы…
Так я пояснил им, но тут же заметил, что удивление их от этого не прекратилось, а скорее даже возросло. Шахматисты совсем забыли про свои шахматы, дружно уставившись на меня. Пожилой человек с газетой передвинул очки на лоб, чтобы они не мешали ему меня разглядывать. А лица женщин выражали не только удивление, но даже затаенный страх. Тогда я встал. Пол веранды уже не вел себя странно, и я чувствовал в ногах прежнюю устойчивость. Пользуясь этим, я направился к выходу, но в дверях веранды остановился. Я вспомнил, что должен еще что-то сказать этим людям, только не мог вспомнить — что именно, и стоял некоторое время молча, обратясь к ним лицом. И они тоже все как один смотрели на меня, округлив глаза. Наконец я вспомнил и сказал:
— До свидания.
И они тоже в одно слово, хотя и разными голосами, ответили мне:
— До свидания.
Я прошел зеленый дворик и вышел на улицу, ни о чем не думая. Поднявшись опять на верхнюю улицу, я и по ней шел некоторое время, ни о чем не думая. Я только шевелил губами, повторяя про себя последнее слово, проникшее в мое ухо. Его произнесли разными голосами: мужчина в очках — самым низким, шахматисты — полутоном выше, женщины — своими женскими голосами разного оттенка, и самым высоким голосом произнесла девушка, стоявшая у завешенных тонким полотном стекол веранды.
И все эти голоса я теперь пытался повторить про себя, однако они плохо мне давались. Мужские голоса я кое-как воспроизвел, трижды повторив разным тоном: «До свидания». Но выговорить это слово за женщин было труднее. А когда я попробовал выговорить это же слово за девушку, то получился просто натужный писк. Я несколько раз попробовал произнести это слово за девушку и не мог выдавить из себя ничего, кроме писка.
Тем временем я успел подойти к какому-то человеку, смотревшему на меня с большим вниманием, и даже остановился перед ним. А остановился я перед ним потому, что это был уже знакомый мне молодой милиционер, и потому, что у меня был к нему какой-то вопрос, хотя я еще не прекратил свой писк. Но убедившись, что с писком у меня ничего не выходит, я оставил его и принялся обдумывать свой вопрос к милиционеру. Обдумав его, я сказал ему:
— Мне надо в Ленинград.
Он тронул рукой, одетой в белую перчатку, красный околышек своей белой фуражки и спросил:
— Зачем?
Я ответил:
— На работу успеть надо.
— На какую работу?
— На свою.
Он опять взял руку под козырек и сказал строго:
— Ваши документы попрошу, пожалуйста, гражданин.
Я протянул ему документы. И опять бумажка Министерства внутренних дел оказала свое действие. Прочтя ее, он вернул мне документы, снова сделал под козырек и спросил:
— Вы первый раз в Крыму?
— Да.
Вам нужно сесть в Ялте на автобус дальнего следования и доехать до Симферополя. А оттуда есть прямой поезд в Ленинград.
— А как попасть в Ялту?
— Можно катером, а можно автобусом. Вот там, в конце улицы, остановка.
Я сказал ему «спасибо» и направился к остановке автобуса. Но горе мое было слишком велико. Это было такое горе, от которого можно было зашататься. Я попробовал шатнуться туда-сюда, однако это у меня плохо получалось. Тогда я вспомнил, что в таких случаях иногда идут вперед, ничего не видя от горя. Я пошел вперед, ничего не видя, но увидел почту и зашел туда. Там я купил открытку и написал своей женщине поздравление. Что мне еще оставалось делать? Я написал поздравление, пожелав ей счастья в супружеской жизни. Послать открытку пришлось по старому адресу, ибо ее нового, московского адреса я не знал.
А потом я пришел на остановку автобуса, где уже скопились люди. Из их разговоров я узнал, что ялтинский автобус только что ушел, а следующий будет через полчаса. Но я не мог стоять на месте полчаса. У меня было горе. Определив направление, по которому автобусы уходили в Ялту, я зашагал туда же и скоро вышел на асфальтовое шоссе.
Теперь у меня осталась одна забота — добраться скорей до Ленинграда, пока не кончился мой отпуск. В Ленинграде мне предстояло еще с месяц поработать в строительном тресте, после чего я мог вернуться в свою родную Суоми. Вот все, что мне осталось. И думая об этом, я шагал по асфальтовой дороге в Ялту, чтобы там сесть на автобус, уходящий в Симферополь. Вот и все. Вот и все. Вот и все.
И только одно вызывало у меня тревогу: на какие деньги доеду я до Ленинграда. На автобус до Симферополя я надеялся наскрести, но на прямой поезд, идущий из Симферополя в Ленинград, денег у меня не было. Не было. Не было.
Как легко я тогда распорядился ими, не глядя и даже с этакой небрежностью выложив их на стол. Но мог ли я поступить иначе, не уронив себя в мнении других? Женщины смотрели на это своими красивыми глазами. И чувствовал я себя тогда героем, смелым и щедрым. Но кто мешал мне выложить на двести рублей меньше? Не было бы теперь такой заботы. Подумать надо было, прежде чем выкладывать. Подумать. Подумать. Подумать.
Мои несчастные скулы и лоб горели от ожогов солнца, а с носа кожа сползала уже вторым или третьим слоем. Я пробовал закрывать нос листом, но лист отваливался. Я пробовал прикрывать лицо ладонью, но это уже не спасало его. Да и поздно было прикрывать. Раньше надо было об этом позаботиться.
Жара стояла такая, что асфальт местами вытопился и сбегал черными ручейками с выпуклой части дороги, к ее краям. Сторонясь встречных и обгоняющих меня машин, я зазевался и наступил на жидкую смолу. Она облепила мне подошву туфли и даже захватила парусиновый верх. Пришлось остановиться, чтобы соскоблить ее.
Дальше я старался шагать по самому краю дороги, избегая асфальта. Край дороги с левой стороны возвышался над крутым зеленым склоном, уходящим уступами вниз, к морю. Он весь был усеян плотными, приземистыми кустами винограда. Справа от дороги склон тоже был покрыт виноградниками, но уходил вверх, туда, где виднелись покрытые лесом горы, задернутые голубоватой дымкой.
Дорога разделяла склон по горизонтали, образуя собой подобие карниза. Она обстоятельно огибала все выступы и впадины, извиваясь по склону черной лентой. И трудно было угадать, что ожидало меня за тем или иным поворотом. Обыкновенно оттуда выскакивали машины, легковые, грузовые и автобусы. Пешие люди появлялись редко.
В самых крутых местах склона дорога врезалась в скалистый грунт, и тогда справа у нее образовывалась невысокая стена, укрепленная камнем. А над этой стеной нависали зеленые гроздья винограда с широкими листьями на длинных, гибких лозах, подпираемых деревянной оградой.
Левая сторона дороги на крутых местах склона была ограждена невысокими каменными барьерами. Я постоял у одного такого барьера, обратясь лицом к морю. По зеленому склону уходили вниз виноградники, обходя отдельные строения, которые ближе к воде казались маленькими. И совсем крохотными казались люди, пестревшие у воды своими разноцветными купальниками. Море с этой высоты выглядело еще синее и огромнее. Его горизонты как бы раздвинулись после того, как я поднялся от него наверх. Но смотреть на море долго я не мог — такое исходило от него сверкание.
Хотелось нить, однако вода мне не попадалась. Правда, местами дорогу пересекали русла мелких рек, пропущенные под асфальтом по цементным трубам. Но русла эти были сухие. Вода по ним, наверно, бежала только весной и осенью. Изнывая от жары, я снял галстук и, закатав его в рулон, спрятал в карман. Потом расстегнул ворот рубахи и обтер платком шею и грудь. Стало немного легче дышать, но пить хотелось все сильнее.
За одним из поворотов, где склон оказался менее крутым, я увидел в стороне от дороги грушевое дерево и на нем — плоды. Свернув с дороги к дереву, я постоял немного в его тени, удивляясь тому, что оно никем не охраняется, потом сорвал одну грушу и попробовал съесть, Нет, для еды они еще не годились. Но в траве под деревом я нашел три спелые груши. Они, как видно, сами упали с дерева, вызрев раньше времени. Их мне хватило на сто метров пути, а там я опять стал думать о воде.
И вдруг я услыхал впереди журчанье, а за поворотом дороги увидел наконец воду.
Дорога здесь опять врезалась в склон, и справа у нее образовалась вертикальная, укрепленная камнем стена в рост человека. Из середины этой стены высовывалась короткая трубка, а из трубки лилась вода. Она падала струей в каменное углубление и уходила под асфальт, выбегая затем слева от дороги в виде открытого ручья, который устремлялся вниз, к морю, орошая на своем пути виноградники.
Вода, выбегавшая из цементной трубки, была холодная и вкусная. Я снова и снова ловил ее в пригоршни, а заодно смочил голову и прополоскал носовой платок. Над срезом дороги росла высокая трава. Я попробовал дотянуться до нее, но не достал. Любопытно было узнать, откуда шла сюда вода. Найдя в стене выщербленное место, я уперся в него ногой и, оттолкнувшись от дороги другой ногой, стал на трубку. Оттуда я увидел покатую зеленую лужайку, по которой к дороге бежал сверху ручей. У самой дороги его улавливала цементная воронка, соединенная с той трубкой, на которой я стоял. Все было ясно. А бежал ручей, конечно, с гор, синеющих вдали.
Стоять на трубке было неудобно. Я ухватился руками за траву и выбрался на лужайку. Сразу все изменилось вокруг меня. Вместо твердой дороги под ногами оказалась мягкая длинная трава. Она была похожа и не похожа на нашу северную траву. И цветы в ней тоже хотя и напоминали чем-то наши северные, но в то же время казались незнакомыми. Даже мелкие редкие кустарники на этой лужайке, очень похожие на северные ивы, нельзя было назвать ивами.
Я прошел немного по траве вдоль ручья вверх, и скоро дорога выпала из моего поля зрения. Однако я не беспокоился об этом, продолжая чувствовать ее своей спиной по шуму пробегающих автомобилей. Я не собирался покидать дорогу. Наоборот. Я даже торопился скорей вернуться на нее, помня об автобусе на Симферополь. Но у меня было горе. А мирное журчание воды приглушало его, внося в мое сердце подобие умиротворения. Далее вверх по течению ручья виднелась такая же высокая, нетронутая трава вперемежку с мелкими кустарниками. И там, кроме того, шевелили густой листвой незнакомые мне деревья, начинавшие собой узкую, продолговатую рощу, заслоненную зеленым травянистым выступом.
53
Думая о том, чтобы вернуться к дороге, я без всякой надобности сделал вдоль ручья вверх еще несколько шагов и тут увидел торчавшие из высокой травы голые загорелые ноги. Кто-то лежал там на спине, согнув одну ногу в колене и положив другую на это колено. Ступня, висевшая в воздухе, была крупная, а ноги сухощавые и мускулистые, чем доказывалось, что их обладателем был человек мужской породы.
Я сделал еще два шага и увидел все тело этого человека, темно-коричневое от загара и прикрытое одними только черными трусиками, да и то так закрученными на его узких бедрах, что казался он совсем голым. Когда тень от меня упала на его лицо, он быстро поднял голову, но, увидев, что перед ним мужчина, успокоился и снова откинулся на спину, закрыв глаза.
Я узнал этого человека. Его темное худощавое лицо достаточное время находилось перед моими глазами, чтобы осесть в памяти. И бицепсы эти тоже мне запомнились. Каждый из них по размеру был равен его лицу. Я хорошо помнил, с какой легкостью он поднял и бросил на землю тяжелое колесо от грузовой машины. Но я не думал, что и все тело у него перевито такими же крупными и упругими мускулами. И совсем забыл я о том, что на левой стороне груди, чуть ниже твердой выпуклости грудного мускула, у него есть шрам от финского пуукко…
Он вдруг сказал, не открывая глаз:
— Хоть вы и не Александр Македонский, но прошу исполнить мое единственное желание: не заслоняйте солнца.
Я отступил в сторону. Я понял, откуда он взял шутку насчет Александра Македонского, ибо историю читал. И мне бы следовало тут же уйти незаметно прочь. Но язык мой сам собою выговорил негромко:
— Леха…
Он снова быстро поднял голову и даже перекатился на бок, опираясь на локоть, чтобы удобнее было смотреть. И, конечно, он узнал меня. Большого труда это не составляло, потому что на мне был тот же костюм, в котором он меня уже видел, и та же рубашка, только расстегнутая. Может быть, лицо мое с тех пор изменилось, обожженное солнцем на выпуклостях, но зато волосы оставались такими же светлыми и даже еще немного высветлились от солнца.
Одним словом, он узнал меня и сказал: «А-а». Но в голосе его не было приветливости. Скорее что-то другое, очень далекое от приветливости, прозвучало в его голосе. И мне даже показалось, что на какое-то неуловимое мгновение его нижняя челюсть выдвинулась вперед и сверкнули белками округлившиеся глаза. Но он тут же опять откинулся на спину, вполне спокойно разглядывая синее небо над головой.
И в это время мне надо было сообразить, что он теперь знал, откуда я. При мне председатель не говорил ему этого. Но ведь я ушел, не предупредив, и тем самым дал председателю право сказать обо мне Лехе правду. Вот о чем я не подумал, задерживаясь теперь около Лехи. Мне надо было скорей уходить от него, а я медлил и даже испытывал некое подобие обиды от его невнимания ко мне. А он лежал, глядя в небо, и явно ждал моего ухода.
Рядом с ним лежали его вещи: аккуратно сложенный костюм, накрытый от солнца белой майкой, и рыжие сандалеты. Под рукой у него был маленький закрытый чемодан, а на нем — две книги и тетрадь с карандашом. Одна из книг была заложена пачкой папирос. Он потянулся к ней рукой, пощупал не глядя и, обнаружив, что папирос в ней нет, скомкал и отшвырнул ее в сторону. Видя это, я сказал поспешно:
— Закурите, пожалуйста!
Я достал свою коробку «Казбека». Коробка, правда, была слегка помята от длительного пребывания в кармане, и рисунок всадника на ней явно поистерся. Но все же изнутри ничего не высыпалось, и некоторые папиросы были как новые.
Он повернул ко мне голову, приподнявшись на локте, но взглянул не на меня, а только на коробку, которую я ему протягивал, слегка приоткрыв. Взглянув на коробку, он как бы удивился чему-то и ближе придвинул к ней лицо. Я понял, чему он удивился. Он узнал черный отпечаток своего пальца на крышке коробки. Я раскрыл перед ним коробку, и он с тем же удивлением взглянул на помятые папиросы. Потом он медленно повел взглядом вдоль моей руки вверх, но, не дойдя до моего лица, снова резко отвернулся и лег на спину, обратив на этот раз глаза больше к вершинам ближайших деревьев, чем к небу.
И опять лицо его стало спокойным, даже слишком спокойным. Просто непонятно было, с чего бы его лицу делаться вдруг таким спокойным. И на нем, кроме того, отразилось полное безразличие к моему присутствию. Меня как бы не было возле него. Была темно-зеленая листва деревьев с голубыми просветами в ней. И только она заняла все его внимание. А меня не было. Я сказал с некоторой обидой в голосе, которую он не мог не уловить:
— Ну, я пойду, пожалуй.
Но он промолчал и даже не шевельнулся, продолжая всматриваться в листву деревьев, как будто заприметил там что-то особенное. Похоже было, что он совсем забыл о моем присутствии. Мне стало еще обиднее. И чтобы как-то задеть его и расшевелить, я сказал:
— Что ж, пойду. Надо будет к леснику заехать на обратном пути. У него дочь хорошая. Попробую жениться.
Лучше бы я не произносил этих слов. Он вскочил на ноги, будто ужаленный змеей. Вот где ему послужили мускулы, которыми он был так туго перевит. Он вскочил в один короткий миг, даже не отталкиваясь руками и ногами. Он только шевельнул своими мускулами — и вот уже стоял передо мной. А руки его схватили меня за грудь и встряхнули так, что треснул пиджак и коробка «Казбека» вылетела из моих пальцев. Краем глаза я видел, как мелькнули в воздухе белые папиросы, разлетаясь во все стороны, причем выше всех взлетели те, что были с пустыми гильзами. Он встряхнул меня, сверкая белками глаз, и крикнул прямо мне в лицо:
— Я тебе женюсь, черт сивый! Попробуй еще раз заикнуться о ней — глотку перерву!
И тут он поднял меня и бросил. Просто так взял и бросил, как бросил когда-то тяжелое колесо. И я упал спиной на землю. А он сказал с яростью сквозь зубы:
— Благодари своего бога, что тебя живьем пустили пройтись по нашей земле. Но я еще выверну твои потроха и проверю, заслужил ли ты такую честь!
И к этому он добавил еще несколько замысловатых сплетений из незнакомых мне слов. Но к тому времени я тоже был на ногах. Не знаю, как я поднялся — медленно или быстро. Я ничего не помнил. Обида и ярость меня подбросили. Перкеле-саатана! До каких пор я буду терпеть? У меня отняли мою женщину, и меня же кидают об землю, как негодную тряпку. Разорвать их всех за это мало! И руки мои сами собой потянулись к горлу Лехи. Но он отступил, выставив свои руки. Все равно — руки так руки! Плевать мне было на то, что они были перевиты крупными мускулами. Я знал один прием, от которого ломалась в суставе рука человека. Ничего другого я не знал, потому что не собирался никогда в жизни драться, но один прием, ломающий руку, показал мне когда-то, балуясь в далеком Туммалахти, молодой Юсси Мурто. И вот я весь напрягся, чтобы прыгнуть вперед и применить эту хватку. А Леха снова отступил. Но и он слегка пригнулся, держа перед собой чуть согнутые напруженные руки, тоже готовые хватать и рвать.
И еще один шаг вперед сделал я, уже видя мысленно, как он у меня летит на землю с хрустом в суставе. А он еще отступил, попав на этот раз босой пяткой в ручей. Дальше он, кажется, не собирался отступать. И тут я увидел его глаза, зеленовато-серые, широко раскрытые. В них уже не было того слепого бешенства, от которого все пространство глазных разрезов заполнялось белками, а зрачки уходили куда-то вниз. В них было скорее удивление, была настороженность и в то же время решимость устоять. И все его голое загорелое тело напряглось не для того, чтобы прыгнуть вперед и напасть, а чтобы устоять. Против чего устоять? Против кого устоять? Боже мой! Никого не было перед ним, кроме меня. Так на кого же я походил в этот миг, если ему понадобилась решимость устоять? Опомнись, Аксель Турханен! Где ты и что ты?
Я остановился и выпрямился, медленно опустив руки. Он тоже медленно выпрямился, расслабив свои мускулы. По его виду можно было понять, как менялся мой вид. Выражение суровой решимости понемногу сошло с его темного лица, и осталось только легкое изумление в глазах. Он стоял ниже меня, попав одной ногой в ручей, и потому наши лица оказались на одном уровне. Так мы стояли и смотрели друг на друга, тяжело дыша. Потом стали дышать ровнее и вглядываться друг в друга спокойнее.
А потом я повернулся и пошел от него прочь. Спустился я к дороге в таком месте, где она не слишком глубоко врезалась в склон, и, ступив на нее, оглянулся. Леха стоял там же, заслоненный от меня до пояса зеленью, и смотрел мне вслед. Дойдя до поворота дороги, я снова оглянулся. Он все еще стоял там, глядя мне вслед.
Он был прав, конечно. Это было мне ответом на воткнутое когда-то в его грудь финское пуукко. Коварно воткнутое. Воткнутое за то, что он хотел спасти жизнь тому, кто это сделал. И вот мне привелось держать за это ответ. А как же иначе? Никого другого из финнов не оказалось на этот случай вблизи. Один я ходил тут по их дорогам. И вот выяснилось, что я не был достоин ходить по их дорогам. Как видно, мои тяжкие грехи перед Россией не допускали этого.
И за все это теперь я нес наказание, отвергнутый их землей. И за это же я был отвергнут моей женщиной, избравшей вместо меня молодого майора. Все было кончено для меня в этой стране. Шило высунулось из мешка и воткнулось в подноготную. Оставался Ленинград, где меня ждал мой верстак на Южной улице и ждала работа, которую я обязан был завершить, прежде чем выбраться из этой страны.
В Ленинграде, кроме того, я надеялся застать некоторых известных мне людей, не успевших меня отвергнуть. По крайней мере они не показывали мне этого до самого последнего дня. Их было не так уж много: Иван Петрович, Мария Егоровна, Ершов, Терехин, Ермил, Никанор. Но, может быть, за это время и они успели пересмотреть свое мнение обо мне? Если так, то ради чего было мне торопиться в Ленинград? Ради того, чтобы и они там поступили со мной по примеру Лехи? Но если то же самое со мной проделает, например, Никанор, то вряд ли от меня после этого останется что-нибудь способное доползти до моей далекой милой Суоми.
С такими мыслями продолжал я свой путь к Ялте по извилистой, горячей асфальтовой дороге. Справа ко мне подступала сверху густая южная растительность, нависая листвой и гроздьями над краем дороги. Слева такая же пышная зелень уходила от меня по склону вниз, охватывая на своем пути дворцы и дачи. А далее теплое южное море разливало свою блистающую синеву до самого края неба. Но не для моих глаз и ноздрей все это сверкало и благоухало. Все было кончено для меня в этой стране. Даже от Ленинграда не ждал я добра. И если там Никанор по мягкости своего юного сердца откажется трахнуть меня о ленинградскую мостовую, то уж наверно это охотно проделает Егоров.
С такими мыслями пришел я в Ялту. Это был, надо думать, красивый город. Но не для меня создавалась его красота. Для меня в нем имелся только автобус, идущий на Симферополь. Его я высмотрел, войдя в город. Он стоял в ряду нескольких других автобусов недалеко от пристани, и в нем уже сидели люди с чемоданами и узлами. Я купил в кассе билет до Симферополя и через десять минут уже ехал обратно по той же дороге, по которой только что пришел.
Автобус катился медленно, ибо дорога состояла из одних поворотов. Стекла у него были опущены, позволяя все видеть справа и слева. Когда мы проезжали мимо того места, где из трубки падала струя воды, я посмотрел влево. Да, там он все еще находился. Опять одна его босая ступня покачивалась в воздухе, высовываясь из травы. Больше я ничего не успел разглядеть. Автобус обогнул выступ склона, и ступня исчезла из виду. И тут мне подумалось, что если бы в эту минуту я снова появился перед Лехой, то встреча наша получилась бы иной. Совсем иной получилась бы, наверно, теперь наша встреча. Но это уже не имело значения. Точка была поставлена.
Автобус продолжал свои повороты до поселка Алушта. Оттуда он повернул на север и, пользуясь более прямой дорогой, пошел быстрее. Только на перевале, отделявшем южную часть Крыма от его северной, степной части, он опять попетлял немного. Зато после перевала покатился еще быстрее, потому что там дорога не только выпрямилась, но и пошла под уклон. Гористые места понемногу сменились холмистыми, а холмистые — ровными безлесными пространствами, на которых кое-где уже виднелись копны соломы от свежеубранной пшеницы. Селенья стали попадаться реже, но были они куда крупнее тех, что ютились между холмами.
Всего пять часов шел автобус от Ялты до Симферополя, но приехали мы в этот город уже с темнотой. Автобус остановился прямо у вокзала. Я прошел внутрь вокзала и там узнал, что идущий на север поезд прибудет из Севастополя через полчаса. Как видно, приход автобусов был у них приурочен к приходу поездов. Я не стал узнавать, идет ли этот поезд в Ленинград. О билете до Ленинграда мне уже не приходилось думать. Но куда-то я все-таки должен был взять билет. Куда же?
Я подсчитал свои деньги. Их у меня осталось 58 рублей 64 копейки. По таблице, висевшей на стене, я установил, что могу взять билет до станции Задолье. Если бы у меня было на шестнадцать копеек больше, то я мог бы взять билет до следующей станции, которая называлась Варагуши. Но у меня не было этих лишних шестнадцати копеек. А до станции Задолье билет стоил 56 рублей 20 копеек. Туда я и купил билет.
В ожидании прихода поезда я купил в ларьке на рубль белого хлеба и съел его, прохаживаясь взад и вперед по перрону. Денег у меня после этого осталось один рубль и сорок четыре копейки. Но я старался не думать об этом. Все шло к своему закономерному концу, как было предопределено судьбой.
Дождавшись поезда, я вошел в бесплацкартный вагон. В нем было довольно свободно. На нижних скамейках, где люди легко могли уместиться по четыре в ряд, сидело по два-три человека. И вторые полки тоже не все были заняты. Когда я сел рядом с двумя пожилыми мужчинами, курившими что-то очень крепкое, один из них спросил меня, далеко ли еду. И когда я назвал Задолье, он посоветовал:
— А вы займите эту полку, пока она свободна. Вам же ночь спать. В Задолье-то не раньше одиннадцати утра приедете.
Другой сказал:
— Вам в плацкартном надо было ехать. Там же удобней, спокойней.
И женщина, сидевшая напротив, подтвердила:
— Ясно, удобнее в плацкартном, да еще на ночь глядя.
Но я в это время уже лез на полку. Сидевшая рядом с женщиной молодая девушка сказала, что, может быть, человеку билет плацкартный трудно было достать. А молодой парень, сидевший по другую сторону от женщины, ответил, что здесь вполне свободно можно купить плацкартный билет — не то что при выезде с Кавказа. Там раздобыть плацкарту в летнее время — целая проблема, но и то он ухитрялся доставать.
Я молчал, слушая эти разговоры. Сам я не вступал в них. Зачем было мне впутываться, если мне не задавали больше вопросов? Пытаясь устроиться на жесткой полке поудобнее, я лег на спину головой к окну и вытянул ноги. Вместо подушки я подсунул под затылок свои парусиновые туфли, прикрыв их носовым платком.
А внизу тем временем продолжался разговор, начатый из-за меня. Девушка сказала парню:
— Не все же такие ловкачи, как ты, чтобы доставать без очереди. Но тебе-то ведь невдомек, что это выходит за пределы общепринятых норм поведения. Если ты достал без очереди — значит, кто-то, честно выстоявший очередь, не достал. Ты лишил его возможности получить свое.
Парень ответил:
— Я у него не отнимал. Чужого мне не надо. Я требую ровно столько, сколько нужно мне одному. А уж на это, смею надеяться, я имею право, не так ли?
Тут в разговор вмешался один из пожилых мужчин. Он сказал:
— Право на билет вы, разумеется, имеете, молодой человек. Еще бы не иметь права в наши-то дни. Но и право другого человека уважать следует. Понимать надо бы вам, что не всегда так щедро были наделены люди правами, а приобрели вы их благодаря чьим-то усилиям.
Молодой человек ответил с недоумением в голосе:
— С какой стати мне поступаться своими правами, если они мне даны? Вот еще новости!
Тут в разговор вступил второй пожилой мужчина. Он сказал:
— Вот то-то что даны, парень. Именно даны. А кем даны? Здесь вот перед тобой один из участников гражданской войны сидит. А чем была для нас гражданская война? Это было добывание человеческих прав для народа. Он с Деникиным воевал. Врангеля из Крыма выгонял. А что они несли нам вместо прав? Вспомни-ка! Учил небось про это? Или не учил?
Парень ответил с достоинством:
— Ну что за вопрос!
— Вот видишь? А что кончил-то?
— Еще не кончил, но уже на последний курс перешел.
— Так. Последний курс, говоришь?
— Да. Биологического факультета.
— Вот. Биологического факультета. Последний курс. А отец кто?
— Токарь по металлу.
— Вот. Отец токарь по металлу, а сын на последний курс биологического факультета перешел. Да когда это бывало так? Ты, если учил, то вспомни хорошенько, когда это бывало так? А эта девушка кем тебе приходится?
На это ответила женщина:
— Это его сестренка. Оба мои.
— И тоже, надо полагать, учится?
— А как же! В консерватории она, на втором курсе.
— Вот.
И человек даже замолчал на некоторое время. Должно быть, он даже не знал, как выразить свое отношение к такому явлению. Потом он спросил:
— А ездили вы куда?
На это опять ответила женщина:
— Здесь на берегу побывали. Я — в санатории по путевке, а они — на туристской базе. Все побережье исходили и всего насмотрелись.
И опять этот мужчина сказал парню:
— Вот видишь! В санатории побывали. На туристской базе. По Южному берегу Крыма побродили. Да когда это бывало, чтобы рабочая семья в такие места доступ имела, где раньше только князья и помещики во дворцах жили! Не было сюда доступа нашему брату. Добиться этого нужно было.
На это парень с улыбкой возразил:
— Но ведь не вы же этого добивались, а ваш сосед.
Тогда снова вмешался в разговор другой пожилой мужчина, который был годами старше своего соседа. Он сказал:
— А вы не спешите оспаривать, молодой человек. У него три осколочных ранения и контузия в позвоночник. И все за те же ваши человеческие права.
— Это каким же образом?
— А с Гитлером-то кому схватиться пришлось, как вы думаете? И что он нес нашему народу взамен завоеванных нами прав, вам известно? Тоже учили, надеюсь?
— Учили. Чему нас не учат? Но моя специальность — биофизика.
— Ах, биофизика? А все остальное не входит в сферу вашего мышления?
— Нет, почему же. Я понимаю. Мой отец тоже два пальца потерял на войне.
— И вы соответственно уважаете и цените его за это?
— А как же. Отец все же.
— Все ясно, молодой человек.
Больше этот более старший пожилой человек не произнес ни слова. Говорил только его сосед. Когда женщина, меняя разговор, спросила, далеко ли они едут, он ответил:
— Я в Джанкое схожу. Там у меня сын в дорожной бригаде работает.
Женщина отозвалась:
— А мы сразу за Перекопом. Поживем с недельку у моей двоюродной сестры, а потом на каховское строительство. Они вот хотят посмотреть.
— Правильно. Туда стоит. Для них это особенно полезно. Ихняя эра пришла. И пусть с ней в ногу шагают.
— Там, говорят, такая удивительная техника появилась!
— Да, слыхали. Полторы тысячи кубометров земли за час.
— Говорят, сократить хотят сроки строительства.
— А что вы думаете? Вполне возможно. С такой техникой…
Они еще долго вели разговор в том же роде. А я молчал. Меня это не касалось. Не мои это были машины и каналы, и не мне суждено было ими любоваться. Моей жизни осталось не так уж много. Последний раз ехал я по железной дороге. И последний раз предстояло мне пройти немного пешком. Пройти ровно столько, сколько будут меня держать мои ноги, а потом свалиться от усталости и голода на этой чужой земле. Конечно, я очень хотел бы дойти до Ленинграда, где ждала меня моя работа, где была пища, где были люди, не успевшие подумать обо мне плохое. Но дойти до Ленинграда мне уже не сулила судьба.
Постепенно я перестал понимать разговор сидящих внизу. Но, перед тем как заснуть, успел подумать, что заканчивался двадцатый день моего отпуска. И в этот день у меня украли мою женщину, а самого меня бросили об землю. Все кончилось для меня в этот день. И, несмотря на это, где-то там, впереди, меня все еще подстерегал тот страшный Иван. Но не напрасно ли он себя затруднял? Ведь я мог свалиться без его содействия, не успев попасть в его поле зрения.
И тут бы очень кстати была помощь Юсси Мурто. Для него бы не составило большого труда поднять меня с земли и пронести на плече сотню-другую километров. А еще лучше — подкормить меня хлебом или снабдить деньгами. Но далеко был Юсси Мурто, и совсем не моя судьба владела его помыслами. Хмурым было его лицо, обращенное к Ивану, и холоден взгляд. Да и как было иначе смотреть на жителя страны, где человека бросают об землю, отняв у него предварительно женщину. И, глядя с холодным недоверием на Ивана, он говорил ему: «Все это впустую, что принято считать у вас устремлением в будущее. Оно близко только тем, кто начал. Но уже пришло поколение, занятое лишь самим собой и не желающее знать, чего вы хотели и зачем». На это Иван отвечал таким же холодным взглядом. Да и не мог иначе смотреть человек, бросающий своих гостей об землю. И в голосе его не было благожелательности, когда он говорил: «Ништо! Жизнь уже проверила. Когда вы двинулись отнимать наше устремление в будущее, они тоже отстаивали его кто как умел, не достигнув еще солдатского возраста». Не знаю, что еще сказал ему Юсси Мурто в подкрепление своих доводов. Сон пришел ко мне все-таки, несмотря на беспокойное подрагивание вагона и жесткую постель.
54
Просыпался я утром несколько раз, но с полки не слезал. Мне некуда было торопиться. Зная, что в Задолье поезд прибудет около одиннадцати часов, я встал в десять и сразу вышел на площадку, чтобы избежать лишних вопросов.
Поезд шел по возделанной равнине. Здесь не было видно пустых травянистых пространств, подобных тем, что тянулись от Волги до Кубани. Здесь всю землю заполняли хлеба и разные другие южные растения, возделанные рукой человека. Только в одном месте промелькнуло небольшое травянистое пастбище с круглым озером посредине, где вода едва доставала коровам до брюха, и опять потекли равнины, заполненные хлебами.
Местами их убирали машины, оставлявшие позади себя груды соломы. А зерно из этих мест увозили самосвалы. Я увидел это зерно, когда поезд остановился у элеваторной станции. Оно лежало прямо на земле, образуя подобие двух пирамид, приплюснутых сверху. К этим пирамидам подъезжали грузовики-самосвалы, оставляя у их оснований новые груды свежего зерна. А молодые женщины в коротких платьях, топчась голыми загорелыми ногами в зерне, перебрасывали его широкими деревянными лопатами ближе к вершинам пирамид.
Я не мог понять, почему зерно сваливали прямо на землю, когда рядом стояли элеваторные башни, но скоро понял. Мимо меня прошли к выходу двое мужчин с чемоданами, и один из них сказал:
— Ось як у нас, бачишь? Уборка ще тильки началась, а элеваторы уже забиты до отказа.
Сказано это было как-то не совсем по-русски, но понять было можно. Поезд покатился дальше, и опять пошли те же залитые солнцем равнины, полные хлеба. Временами проплывали селения с низенькими белыми домиками, утонувшими в садах. Потом показался еще один элеватор с грудой зерна рядом и с женщинами. И опять поезд остановился.
Но не моя была это станция. Я молча посторонился, пропуская мимо себя тех, кто выходил и входил. Не мои они были, эти люди, темные от солнца и занятые разговорами о своих собственных делах. Я не был достоин их внимания. Я слишком долго ненавидел их, не пытаясь вникать на протяжении целого столетия в причину своей ненависти, и теперь вот расплачивался за это.
Женщины, утопавшие по щиколотку в зерне, приостановили свою работу и, опираясь на широкие лопаты, разглядывали сновавших вдоль поезда людей. А я разглядывал их. Но не мои это были женщины, и не мой был хлеб, наваленный тяжелой золотистой грудой под их знойным русским солнцем. Не моя была это страна. Я был в ней чужой и не заслуживал чести топтать ее дороги. Да я и не собирался их топтать. И только от станции Задолье готовился я пройти немного на север в направлении Ленинграда, не надеясь, однако, уйти далеко.
И вот появилась наконец станция с надписью «Задолье». Все шло как надо. Судьба неотвратимо выполняла свое назначение. Поезд остановился, и я сошел на перрон. Со мной вышли также другие люди. Все они тут же разошлись по разным направлениям. А я постоял немного. Мне тоже предстояло идти в определенном направлении, но я не видел туда дороги. Идти на север прямо по шпалам было неудобно. Это, кажется, не одобрялось их законами. А дорогу рядом с железной они забыли для меня проложить.
Когда поезд ушел, я еще раз осмотрелся и увидел-таки дорогу. Она проходила севернее станции, пересекая железнодорожное полотно с востока на запад или наоборот. Выбора у меня не было, и я направился к ней. Проходя станцию, я купил на последние деньги половинку круглого белого хлеба и газету. Конечно, черного хлеба на эти же деньги я мог бы купить вдвое больше, но его не оказалось в ларьке.
Ну что ж. Белый так белый. Пусть последней пищей в моей жизни будет белый хлеб. Завернув его в газету, я вышел на дорогу. Идти по ней можно было с одинаковым успехом и вправо и влево. Ни то ни другое направление не приблизило бы меня к Ленинграду. Сперва я повернулся было лицом к востоку. Но в это время оттуда шла вереница грузовых машин, занимая переезд. Тогда я зашагал на запад. Большой беды в этом не было. У первой же развилки или у перекрестка я намеревался свернуть к северу.
И конечно, я не очень долго держал хлеб завернутым в газету. Был двенадцатый час дня, и добрые люди к этому времени не только давно отзавтракали, но и готовились к обеду. Пообедал и я, не сбавляя шага, а после обеда попробовал прочесть газету — тоже на ходу. Однако она была напечатана не совсем по-русски, и скоро я засунул ее в карман. Некогда было мне вникать в чужой язык. Не так уж много осталось мне жить на свете, чтобы заниматься еще чужими языками. На родном, финском языке хотелось мне поразмышлять последние часы моей жизни.
Дорога была широкая, даже очень широкая, вроде Невского проспекта в Ленинграде. А рядом с ней тянулись телеграфные и телефонные провода на деревянных столбах. Канав по краям дороги не было, и потому она не очень строго соблюдала отведенные ей пределы. Местами она расползалась вширь, заходя за телеграфные столбы и даже задевая кромку подступающей к столбам желтой пшеницы, а местами довольствовалась полосой поуже, примерно в десять метров. Машины, проходя по ней туда и сюда, поднимали черную пыль. Но оттого, что шли они серединой дороги, а я шагал по краю, пыль до меня не долетала. Вот какая просторная дорога была отведена мне судьбой на последний день моей жизни.
Я шел по правому краю дороги, задевая правым локтем колосья пшеницы, и в ноздри мне проникал аромат хлеба. Стаи звонкоголосых птиц летали над этим хлебом, и солнце припекало его сверху, торопя к вызреванию.
Все вокруг трепетало и пело от избытка жизни, и только я один шагал к ее концу.
Главной моей заботой было свернуть скорей к северу. Но для этого мне нужна была идущая туда дорога. А она все не попадалась. Оглянувшись на станцию, я удивился, увидев ее совсем близко. По времени выходило, что я отошел от нее километра на три, а она была тут как тут со всеми своими мелкими постройками, утонувшими в деревьях, и с кирпичной водонапорной башней.
Пройдя еще полчаса, я опять оглянулся. Станция по-прежнему была вся на виду, и даже товарный поезд, проходивший в это время мимо нее, был виден весь, вместе с колесами. Такой ровной оказалась эта земля, по которой я шагал.
И еще километра три-четыре пришлось мне пройти в том же направлении до того, как показалась наконец поперечная дорога. На нее я и свернул без промедления. И хотя она повела меня не прямо на север, а чуть отклоняясь на северо-запад, высматривать новую дорогу я уже не стал. На этой дороге готовился я завершить путь своей жизни.
Сворачивая на нее, я еще раз оглянулся, уже не надеясь увидеть станцию. Но она по-прежнему была видна вся, только уменьшилась в размерах. И домики возле нее превратились в мелкие коробки, покрытые пучками зелени. Даже водонапорная башня стала похожа на небольшую трубку с утолщением наверху, но видна была вся снизу доверху.
Дорога, на которую я свернул, оказалась менее широкой. На ней с трудом уместились бы в ряд четыре машины. Впрочем, при случае уместились бы пять, семь и даже десять машин, ибо эта дорога тоже не имела по бокам канав, а заехать иной раз колесами на пшеницу здесь, кажется, не очень стеснялись. Однако по этой дороге, как видно, редко ходили машины, и она изрядно заросла травой. Машины теперь проносились позади меня по той дороге, которую я оставил. Трескотня их моторов постепенно затихала, по мере того как я от них удалялся, но сами они еще долго виделись мне, выступая поверх живого пшеничного моря снующими туда-сюда кузовами.
В то же время не так далеко ушел я и от железной дороги. Она тянулась теперь справа от меня, примерно в десяти километрах, идя в том же направлении, что и я.
Слегка приподнятая насыпью, она как бы отчеркивала собой линию горизонта. Идущие по ней крохотные паровозики тянули вереницы игрушечных вагончиков. И все они казались издали темными силуэтами, какими их рисуют иногда простоты ради в детских книжках.
И даже станцию я долго еще видел, оглядываясь время от времени через правое плечо. А когда исчезли наконец прилегающие к ней домики и деревья да и сама она со своей красной крышей, то верх водонапорной башни долго еще высился над краем хлебного моря, не желая уходить за горизонт. Все же и он скрылся наконец. И едва он скрылся, как впереди, справа, тоже очень далеко от меня, начала высовываться из-за горизонта другая водонапорная башня, указывающая место другой железнодорожной станции. Но и она недолго выступала над горизонтом. Моя дорога постепенно отклонялась от нее влево, и скоро эта вторая башня тоже ушла за изгиб земли вместе с насыпью и поездами, похожими на игрушки.
На этот раз я шел среди полной тишины, если не считать голосов птиц, летавших над хлебами. Ни одного дерева не было видно вокруг. В одном месте мне привиделась было молодая роща, подступавшая к дороге, но, подойдя ближе, я увидел, что это кукурузное поле с трехметровыми мохнатыми стеблями. В другом месте такая же роща показалась мне охваченной огнем, то есть не совсем огнем, но как бы еще тлевшей жаром после того, как по ней прошел огонь. Однако я ошибся. То был не огонь. То были подсолнечники, повернувшие ко мне на высоких стеблях свои налитые жарким золотом диски. Они тянулись вдоль дороги на сотню метров, уходя в то же время далеко в степную глубь.
Я прошел эту сотню метров и оглянулся. Подсолнечники уже не смотрели на меня. Они смотрели на солнце. Когда я подходил к ним, оно светило через мое левое плечо, и они, обратясь к нему, заодно одаряли своим вниманием и меня. А когда я миновал их, они остались верны только солнцу. Я не заслуживал их внимания на этой земле.
Сразу за подсолнечниками вправо от дороги уходила узкая травянистая тропинка. Она как бы отделяла подсолнечниковое поле от пшеничного, которое простиралось далее по обе стороны дороги. Я свернул было на эту тропинку, но остановился раздумывая. Если дорога чуть отклонялась от северного направления к западу, то тропинка эта уходила больше к востоку, чем к северу. Да и была она не слишком затоптана. Кто знает, не обрывалась ли она где-то тут же, среди хлебов. Не стоило по ней идти.
Раздумывая так, я постоял немного в тени подсолнечников. Их толстые стебли вздымались выше моей головы на полметра, а обращенные к солнцу диски составляли плотный, тенистый заслон. По-прежнему тихо было вокруг, только к птичьим голосам добавляли свое гудение и жужжание шмели и пчелы, садившиеся на огромные цветы. Да толстые стебли подсолнечника слегка шелестели у меня за спиной.
Я нагнулся и захватил горсть земли из-под ног. Она была черная, несмотря на сухость. Я растер ее. Увлажненная моими потными ладонями, она стала еще чернее — совсем как сажа. Это была не земля, это было чудо — черная манна небесная, посланная богом сверху на эти бескрайние равнины.
Но куда она была послана? И кому послана? Тому ли, кто заслужил, было послано богом это черное диво? Эй, Арви Сайтури! Посмотри-ка, что я держу в руках! Ты не поверишь своим глазам! Знаменитый русский чернозем! Самая черная и жирная на свете земля. Ее есть можно — такая она нежная и вкусная на вид. Не пришлось тебе ею владеть, бедный, ненасытный Арви. Не тем путем пытался ты приобрести ее. Вот я нашел к ней совсем иной путь и даже ступил на нее, но ступил, увы, лишь затем, чтобы сложить где-то здесь свои кости. Не в прохладной тени северного дерева — осины или березы — предстояло мне успокоиться, а на открытой равнине под палящим южным солнцем.
Хотелось пить. Однако вода в этих местах, как видно, не водилась. Правда, меня это не очень беспокоило. Бог с ней, с водой. Не все ли равно, с жаждой или без жажды уйти из этой жизни? Без воды чуть раньше сдадут мои ноги — только и всего.
И снова я бодро зашагал по дороге, чтобы успеть как можно дальше уйти на север до того, как начнут подгибаться мои колени. По обе стороны от меня колыхалась не только пшеница. Вперемежку с ней, попадались рожь, ячмень и еще какие-то другие злаки. Но я их не знал. И это тоже меня нимало не огорчало. От знания их все равно ничего не изменилось бы в моей судьбе.
В одном месте я прошел мимо плантации помидоров. Их я сразу узнал. Они уже начинали румяниться и, наверно, содержали в себе немало сока, но не мои это были помидоры. В другом месте я прошел мимо арбузного поля, захлестнутого ползущими по земле толстыми стеблями с широкой листвой. Арбузы были еще совсем крохотные — не больше кулака — и едва выделялись посреди остальной зелени, но я узнал их по едва заметным темным полосам. В них тоже, наверно, уже накопились кое-какие соки, пригодные для питья. Но бог с ними! Не мной они были посеяны, не мне их было есть.
Отведя взгляд от арбузного поля, я увидел впереди ползущий ко мне воз с сеном. Откуда он вдруг взялся? Он должен был показаться сперва далеко на горизонте и вырастать постепенно, по мере приближения ко мне. А он вдруг сразу возник в километре от меня и теперь медленно двигался ко мне, возвышаясь над колосьями пшеницы метра на три. Я шел к нему быстрее, чем он ко мне.
И скоро я понял, почему он приближался так медленно. Его везли два крупных белых вола, идущих шагом. Пристегнутые с двух сторон к толстому дышлу, они лениво переступали широкими копытами по мягкому грунту, покачивая туда и сюда своими тяжелыми, широко расставленными рогами, едва ли не метровой длины.
Телега, которую они везли, была длиной метра в четыре и шириной почти в два. С боков она была забрана деревянными решетками, имевшими вид широких и длинных лестниц, укрепленных в горизонтальном положении одна над другой — по две с каждой стороны. И все пространство между этими решетками во всю их четырехметровую длину было забито сеном, пахну;´вшим на меня своей свежестью. Даже над верхними ребрами решеток сено высилось еще на добрый метр, свисая на обе стороны. А на самом верху лежал человек. И он пел там что-то протяжное, обратясь лицом к синему небу. Меня он не видел. Я тоже не видел его снизу. Но когда этот воз, превосходивший своими размерами дом старого Ванхатакки, удалился от меня шагов на сорок, я увидел на нем носки сапог, обращенных кверху.
И еще одна такая же телега встретилась мне на том же километре. Но везли ее две вороные лошади, тоже впряженные в дышло. Из боковых решеток этой телеги только одна пара стояла ребром. Вторая свободно свисала по бокам. А внутри телеги лежал со связанными ногами бело-розовый боров, занимавший более половины ее четырехметровой длины. Он хрюкнул вопросительно, увидев меня. Я не понял, что он хотел этим сказать. Сидевший впереди крупный темнолицый мужчина в серой расстегнутой рубахе и с папиросой в зубах скосил на миг в мою сторону сощуренные черные глаза и шевельнул вожжами. Лошади прибавили шагу, не переходя, однако, на рысь. Неизвестно, куда они везли эту розовую громаду. Но вряд ли ему предстояло заклание, этакому редкостному богатырю. Вернее было предположить, что его ожидали веселые свадебные дни.
Продолжая идти дальше, я раздумывал о том, что встретил и что видел вокруг. Похоже было, что вокруг меня простирался самый богатый в мире край, где привыкли брать от земли помногу, не беспокоясь о том, что в один прекрасный год она может не родить. Такая земля не могла не родить, даже если бы ей препятствовали это делать. Вот почему люди здесь беззаботно пели, никуда не торопясь. Куда было им торопиться, если они находились в самом сердце сокровищницы земли?
Пройдя еще немного, я вдруг опустился вместе с дорогой в неглубокую травянистую впадину, уходящую куда-то вправо и влево. Она была шириной около ста метров. Пересекая ее, дорога давала по самой глубокой ее части ответвление влево, на запад. Отсюда, наверно, и вышли те две телеги, которые вырастали передо мной на равнине как бы из-под земли. Середина впадины была метра на четыре ниже той глади, что простиралась вокруг, считая высоту пшеницы. Вот почему я не мог их издали заметить. Вправо дорога не давала ответвления вдоль впадины. Справа росла трава, коротко обгрызенная овцами и затоптанная ими. Но справа же невдалеке блеснула вода, и я, конечно, немедленно туда заторопился.
Там было сыро, возле воды, и эта сырость, затоптанная овечьими копытцами, превратилась в черную грязь. Вода пробивалась между известняковыми плитами, проступившими из недр земли сквозь чернозем на скате впадины. Сбегая вниз по кромкам плит, она падала широкой струей в небольшой водоем, ею же выдолбленный в известняке, откуда она затем понемногу выливалась через край, наполняя сыростью лощину. На краю водоема стояло опрокинутое вверх дном ведро, а чуть в сторонке, на черной сырой земле, затоптанной овцами, выстроились в ряд четыре длинных, узких корыта, сколоченных из толстых досок. В них тоже блестела вода.
Я приблизился к водоему, ступая по обломкам камня, и подставил под струю ладони. Вода была холодная и вкусная. Конечно, я мог и не пить ее, имея в виду свой неизбежный близкий конец. Разницы большой не было — умереть часом раньше или часом позже. Но я все-таки напился. Немного погодя напился снова. А потом еще и еще. Минут пятнадцать провел я возле воды, приводя себя в порядок перед последним этапом своего жизненного пути. Я побрился, вымылся до пояса, вымыл ноги, выстирал носовой платок и носки, посушил их немного на горячих камнях и тогда только отправился дальше, вполне подготовленный к принятию своей последней судьбы.
И еще около часа прошел я по этой дороге, не встретив никого среди хлебных полей. Только две грузовые машины выросли вдруг впереди меня словно из-под земли и направились ко мне, поднимая пыль над пшеницей. Я посторонился, уступая им дорогу. Нагруженные доверху небольшими ящиками, они пронеслись мимо, обдав меня запахом бензина и яблок. И потом они еще долго оставались на виду. Оглядываясь, я видел, как они обогнали вдали те две повозки, уже ставшие маленькими, и как они сами тоже становились все крохотнее по мере удаления от меня к горизонту.
И опять мне захотелось пить. Как видно, жажда решила не отступать от меня на моем последнем перегоне. Впереди, чуть левее дороги, над пшеницей показалась какая-то зелень. Сперва я подумал, что это мелкие кустарники, но, подойдя ближе, понял, что вижу вершины деревьев, растущих ниже того уровня, по которому пролегала дорога. Ну что ж. В этом краю, насколько я заметил, деревья росли возле человека. А где живет человек, там непременно есть вода.
Скоро я разглядел эти деревья сверху донизу. Они росли в такой же продолговатой впадине, какую я уже пересекал. Может быть, она была продолжением той же впадины, оставшись от какой-нибудь очень древней реки. Она выгнулась в направлении дороги и некоторое время тянулась рядом. С дороги она была мне видна во всю свою ширину, равную примерно тридцати или сорока метрам. А по другую ее сторону до самого горизонта расстилались те же хлеба.
Идя по краю дороги рядом с этой продолговатой впадиной, я высматривал в ней воду. Листва деревьев мешала мне просматривать ее насквозь, а спуститься вниз я не решался, потому что деревья в ней наполовину были фруктовые. Стало быть, это был чей-то сад. Я видел сверху яблони и груши, унизанные плодами, видел ягодные кустарники и даже клубничные грядки, с которых ягоды уже были сняты, но нигде не заметил ни ручья, ни колодца.
В одном месте моя дорога дала ответвление вниз. Это отсюда, должно быть, выехали те две машины, обдавшие меня запахом яблок. Здесь я поколебался немного, но не вытерпел и спустился вниз, оставив на время свою дорогу. Войдя в глубину сада, я первым делом спросил громко:
— Алло! Есть тут кто-нибудь?
Но никто мне не ответил. Тогда я оставил в стороне следы грузовых машин и двинулся вдоль сада к северу, высматривая воду. Конечно, проще было бы набрать в карманы яблок и снова вернуться на дорогу. Их было так много вокруг — и спелых, и полуспелых, и совсем еще зеленых. Ветки яблонь гнулись под их тяжестью, подпертые рогатками. И трава под яблонями тоже была ими усеяна. Кто упрекнул бы меня за несколько штук, подобранных с земли?
Груши казались менее спелыми, чем яблоки. Сливы — тоже. Кроме них, по обе стороны сада тянулись заросли вишневых деревьев. Они, как и клубничные грядки, уже успели отдать человеку дары этого года, и только по отдельным застрявшим в их ветвях ягодам, крупным, черно-красным, наполовину исклеванным птицами, можно было догадаться, каким богатым был этот дар. Виднелись кое-где ряды кустов красной смородины и малины — тоже близких к спелости.
Проходя мимо всей этой благодати, я не только еще сильнее захотел пить, но и вдобавок проголодался. Надо было скорей выбираться из этого рая, пока руки не соблазнились и не потянулись к запретному. Я прошел вдоль сада метров двести и не встретил ни колодца, ни людей. Конечно, время было такое, когда люди уже выполнили свою долю работы в саду, и теперь все зависело от солнца и от самих растений. От их корней и листьев зависело налить плоды соками разной сладости и кислоты. Но все же кому-то следовало охранять эти растения. Сад не был огорожен. С любой стороны в него могла вторгнуться ватага озорных мальчишек, любящих полакомиться чужими яблоками. Или он располагался далеко от них? Или они имели свои сады? А может быть, они сами были хозяевами этого сада, как те мальчуганы у реки Оки?
Я прошел вдоль сада еще с полкилометра и поравнялся с маленьким домиком в одно окно, сколоченным из досок. Дверь домика была открыта, и я спросил:
— Тут есть кто-нибудь?
И опять мне никто не ответил. Я еще два раза, уже громче, повторил свой вопрос, поворачиваясь на все стороны. Но тихо было кругом. Даже птицы в листве деревьев приумолкли на минутку, испуганные моим криком. Но люди не откликнулись. И воды тоже нигде не было видно.
Лишь пройдя еще метров триста сквозь все эти ароматные соблазны, я услыхал людские голоса и скоро увидел двух рослых мужчин, с трудом несших за ручки большую круглую корзину, полную спелых яблок. Оба были коричневые от загара, в намокших от пота линялых рубахах. Один из них, что был постарше, спросил меня:
— То вы там шумели?
Я молча покивал головой, потому что рот у меня пересох и звуки из него не захотели выскочить сразу. Он спросил опять:
— А що там таке зробылось?
Я не совсем понял его, и он, видя это, спросил уже совсем по-русски:
— А что случилось?
Я ответил:
— Ничего… только я хотел… если можно… воды…
Он сказал:
— Да вы же три колонки прошли — не заметили? В ягодниках.
— Нет…
Он указал свободной рукой назад:
— Вот, пожалуйста, там еще одна, за теми сливами.
Я прошел за сливы и действительно увидел металлическую колонку, выкрашенную в зеленый цвет. Возле колонки лежал свернутый резиновый шланг с наконечником для поливки. А на кране колонки висела зацепленная ручкой большая алюминиевая кружка. Я отвернул край и, нацедив полную кружку, выпил ее одним духом. Вторую кружку я не смог допить и, выплеснув остатки в кустарник, повесил кружку на место.
Мужчины тем временем вывалили яблоки на траву в тени вишневых зарослей. Там уже красовалась изрядная груда яблок. Возле нее хлопотали две черноволосые загорелые женщины в легких платьях без рукавов. Они раскладывали яблоки по ящикам, которые тоже высились позади них целым штабелем.
Я сказал им всем «спасибо» и двинулся было поперек этого бесконечного сада, чтобы разом из него выбраться. Но в это время старший из мужчин спросил меня:
— В Продолговатое направляетесь?
Я остановился, недоумевая, но потом понял, что он шутит, намекая на продолговатый ящик, в который мне очень скоро предстояло лечь. И, улыбаясь в ответ на шутку, я сказал: «Да». Мне, правда, следовало удивиться тому, что он догадался насчет предстоящего мне ящика. Но он опять заговорил, не оставляя мне времени на удивление. Он спросил:
— А за что вы на наши яблоки так сердиты? С километр прошли по саду и ни одного не попробовали. Мы смотрели отсюда и удивлялись. Может, возьмете на дорожку?
Я не знал, что ответить на это, и промолчал, пожав плечами. А он взял из груды яблок несколько штук и, протягивая мне, сказал:
— Вот, возьмите, пожалуйста. Оксана, подбери товарищу поспелее да с дерева розмаринчику сними. А это вот в первую очередь покушайте и запомните, что этот сорт Яшка Долгоух вывел.
И он вложил мне в ладони яблоко размером в два кулака. Я хотел ему сказать, что мне нельзя давать яблоки, потому что я финн, который воевал с ними, стрелял в них, убивал и морил голодом в своих лагерях. Но я ничего не успел сказать. Он вложил мне в ладони еще несколько яблок и уступил место женщине. А она принесла яблоки в переднике и смущенно заулыбалась, видя, что высыпать их мне некуда. Все же я принял от нее тоже несколько штук, держа ладони перед грудью. При этом я твердил:
— Спасибо. Хватит. Куда мне столько? Что вы! Спасибо.
А она сказала: «Кушайте на здоровье». И, завалив мне руки яблоками до самых локтей, отошла с улыбкой. Но в улыбке ее на этот раз было лукавство. Поглядывая на меня искоса своими красивыми черными глазами, она как бы говорила: «Посмотрю я, как ты с места тронешься с этим грузом». И мужчины тоже поулыбались, прежде чем уйти с пустой корзиной на сбор новых яблок.
Я покивал им всем и снова, уже медленнее, двинулся поперек сада, выбирая такие места, где меня не могли зацепить ветви деревьев. Поднимаясь вверх по боковому скату впадины, я старался не нагибаться вперед, чтобы не выронить из рук яблоки, и только наверху опустился на колени, осторожно вывалив их на траву. Распихивая яблоки по карманам, я насчитал их одиннадцать штук. Три яблока не уместились в карманах. Держа их в руках, я бросил последний взгляд на этот сад, у которого не было конца. Вдали я увидел в нем еще группу людей, занятых сбором плодов. А еще дальше в просветах зелени мне почудились крыши домиков. Очень может быть, что в таких вдавленностях земли, кроме садов, размещались также их селения. Иначе как было объяснить, что на своем пути от станции Задолье до этих мест я видел вокруг только посевы — и ничего больше?
Дороги моей наверху уже не было. Она успела отойти от края этой вдавленности. Вернее вдавленность сама отклонилась от нее к западу. Мне пришлось на добрых полкилометра вернуться по верхнему краю сада назад, чтобы опять ступить на свою дорогу.
55
И снова я торопливо шагал по этой дороге в направлении Ленинграда, до которого мне уже не суждено было дойти. Однако вода и яблоки прибавили мне силы и, конечно, переместили на сколько-то километров к северу то место, где мне предстояло свалиться и не встать.
Яблоки я съел не все сразу. Медленно, один за другим освобождал я от них свои карманы. Разные по вкусу и аромату, они скоро приглушили вкус яблока Яшки Долгоуха, которое я съел первым. Конечно, я бы не заполучил этих яблок, если бы сразу честно сказал, кто я такой. Но я не сказал. Я обманул этих людей и обманом продлил на сколько-то часов свою жалкую, недостойную жизнь.
И, шагая так среди посевов пшеницы, подсолнечника и кукурузы, я попробовал представить себе, как повернулось бы дело, узнай они, кто стоял перед ними. Старший из мужчин тут же двинул бы меня кулаком по морде и потом принялся бы добивать меня на земле ногами. И второй — помоложе — кинулся бы ему помогать, норовя ударить меня сапогом в зубы. И даже обе женщины, узнав, какой страшный враг проник на их землю, тоже кинулись бы добивать меня чем попало.
А может быть, им даже не пришлось бы меня добивать. Просто им нечего было бы добивать. Я вспомнил, какая рука была у старшего мужчины. В одной его ладони уместились четыре крупных яблока. И стоял он, глядя на меня сверху вниз, и голос его гудел, как колокол. Нет, не понадобилось бы им добивать меня на земле. Одним ударом кулака отправил бы он меня кушать совсем иного сорта яблоки в иной, далекий мир.
Да, так вот мог внезапно оборваться мой путь к Ленинграду, если предположить, что та рука, столь щедро протянувшая мне плоды своего труда, была бы способна вдруг сжаться в кулак для удара по мне, а все те лица, смотревшие на меня с таким доброжелательством, смогли бы вдруг исказиться от ярости. Но ничего не получалось у меня: никак не мог я представить себе ничего подобного, как ни силился. Рука старшего из мужчин не переставала держать протянутые мне яблоки, а на обращенных ко мне лицах не угасала добродушная улыбка.
Продолжая продвигаться все дальше на север, я скоро заметил, что справа от меня вдали появилось что-то новое, выступающее отдельными точками над хлебными посевами. Постепенно я догадался, что это телеграфные столбы, и даже стал различать протянутые между ними провода. Потом там же появились новые точки, которые двигались туда-сюда. Тогда я понял, что там проходила дорога, где было больше движения, чем на моей дороге. И она, кажется, имела намерение сблизиться с моей дорогой, ибо все на ней как будто укрупнялось по мере того, как я шел вперед. Похоже было на то, что в какой-то точке нашим дорогам надлежало сойтись.
Я стал высматривать впереди эту предполагаемую точку и скоро увидел на горизонте деревья. Они сперва как бы плавали в мареве, оторванные от земли, но понемногу укрепились на земле, выставляя к небу свои вершины и умножаясь в количестве. Только скопились они не в одной точке, а в разных местах.
Я шагал быстро, торопясь пройти на север как можно дальше за счет тех сил, что прибавились у меня от яблок, и скоро понял, что приближаюсь к селению. Между деревьями обозначились белые домики с красными и серыми крышами. А дорога справа продолжала сближаться с моей. Я уже различал на ней отдельные машины и повозки с лошадьми, ползущие в обоих направлениях. Потом стал различать отдельных пешеходов и велосипедистов.
Солнце теперь светило слева от меня, готовясь уйти на покой, и потому люди на дороге справа освещались им как бы с моей стороны. Чем ближе придвигалась ко мне та дорога, тем крупнее становились на ней машины и люди. Я уже различал цвет платьев. А когда между обеими дорогами потянулись поля с убранной пшеницей, я увидел на той дороге машины и людей в полный рост. Но с этого момента дороги перестали сближаться.
Всматриваясь вперед, я понял причину этого. Там ужо не было определенной точки, где обе дороги могли бы сойтись. Там все расползлось по горизонту: и дома, и деревья, и ветряные мельницы, и водонапорные башни. Как видно, это было крупное селение, и обе дороги входили в него в двух разных местах.
И еще целых два часа добирался я до этого селения. Поначалу мне казалось, что моя дорога едва коснется его у левого конца и что я легко обойду его, дабы завершить в пустынной степи без ненужных свидетелей последний отрезок своего пути. Но чем ближе я подходил к селению, тем шире оно растягивалось вправо и влево. И скоро я увидел, что моя дорога не крайняя. Левее моей дороги в селение входила еще одна дорога, судя по движению, которое там обозначилось. И дорога справа от меня тоже не была крайней. Селение тянулось еще очень далеко вправо от того места, где она в него входила.
Ну что ж. Пусть оно тянулось вправо и влево, сколько ему хотелось. Я не собирался идти по нему вдоль. Поперек намеревался я пересечь это селение, когда вошел в него при последних лучах заката. Однако и поперек оно оказалось не столь узким, как я предполагал. Правда, моя дорога, превратись в улицу, продолжала свое направление на север, и это было мне на руку. Но, идя к северу, она не выходила в пустынную степь, а тянулась между белыми домиками, окруженными зеленью садов.
Минут пятнадцать брел я по этой улице в сумерках вечера, но выхода в степь не обнаружил. Впереди, насколько хватал глаз, все еще виднелись маленькие белые дома, крытые по-разному: черепицей, шифером, толем и даже соломой и тростником. И возле каждого дома был сад, отделяющий их друг от друга. Я вглядывался вправо и влево, надеясь найти выход в степь где-нибудь сбоку. Но и вправо и влево без конца и края уходили ряды белых домиков со своими уютными садиками и мелкими хозяйственными пристройками. В некоторых окнах уже зажглись огни, и эти огни тоже замелькали в разных направлениях без конца.
Ноги мои устали. Я очень много прошел в этот день, а главное — мало отдыхал, стремясь уйти как можно дальше на север. И теперь мне хотелось плюхнуться где-нибудь в одиночестве на землю и полежать немного. Не навсегда плюхнуться — до этого дело еще не дошло, — а на часок-другой, чтобы дать отдых своим ногам. Но плюхнуться было негде. На меня с двух сторон смотрели через пестрые цветники окна белых домиков. Мимо меня туда и сюда проходили люди. Не мог я плюхнуться у них на виду.
Заметив перед одним из палисадников небольшую скамейку, укрепленную ножками в земле, я подошел к ней и сел. И сразу ноги мои сладко заныли, натруженные ходьбой. Я сидел, глядя в землю и ни о чем не думая. О чем было мне думать? Кончились мои раздумья на этом свете. Другим людям уступал я свое право на это горестное занятие.
Вечерние сумерки вокруг меня были наполнены жизнью. Где-то неподалеку, по какой-то другой улице, время от времени проносился автомобиль или мотоцикл. Мимо меня верхом на буланой лошади без седла проскакал мальчик. Пыль, поднятая им, долго стояла посреди улицы, не дойдя до меня. Где-то в отдалении одиноко пролаяла собака. Неподалеку за моей спиной промычала корова. В людской говор вокруг врывались временами веселые детские возгласы и женский смех. У меня не было женщины, не было детей, не было места на земле…
Высокий черноволосый парень лет за тридцать спрыгнул с велосипеда возле меня и остановился, вглядываясь куда-то через мою голову. Переведя затем взгляд на меня, он сказал примерно так:
— Хиба же его дома нема, чи шо?
Я, конечно, не понял его и промолчал. Тогда он крикнул кому-то через палисадник:
— Параня! Вин де пийшов, твий Петро?
На это ему в открытое окно из белого домика, перед которым я сидел, ответил женский голос:
— А ниде не пийшов. Дома вин. Зáраз прийде.
Парень сказал про себя: «От то добре». И потом обратился ко мне:
— А вы тоже до Петра?
Я опять не сразу понял его, и, сообразив это, он спросил по-русски:
— Вам тоже нужен член сельсовета?
Я не успел ему ответить, потому что в это время позади нас послышался скрип калитки и мужской голос:
— Кому я тут нужен?
И вслед за тем перед нами предстал рослый темноволосый человек лет сорока, одетый в серый костюм и белую рубаху, расстегнутую у ворота. В ответ ему парень сказал:
— Представителю местной власти горячий привет! Скильки рокив не бачились!
Они пожали друг другу руки, и тот ответил:
— Да, давненько. С полгода, пожалуй.
Парень подтвердил:
— Вот видишь. По этому случаю давай-ка нам ночлег.
Сказав это, он обернулся ко мне и спросил: «Так, что ли?» Я не ожидал этого вопроса и раскрыл рот, придумывая ответ. А он по движению моих губ определил, должно быть, что я произнес: «Так». На основании этого он опять повторил свое требование:
— Вот, Петро. Дай-ка нам где бы приткнуться.
А тот ответил:
— Ишь как у тебя это быстро: «Дай-ка». Я дам. Пожалуйста: дом для приезжающих.
Но парень замахал перед собой из стороны в сторону ладонью:
— Никаких домов для приезжающих! Ты знаешь мой принцип. Сердечности хочу, домашности, старинных добрых обычаев. Не перевелись они еще в народе. У тебя же когда-то соблюдалась очередность по устройству на ночь всяких странников, пеших и конных. Вот и ставь нас к очередному.
Тот пожал плечами:
— Да какая там очередность! Уже забыта она. Очередного искать надо, беспокоить… Вот я и есть очередной! Милости прошу ко мне!
— Э-э, нет! Не хитри. Я твоим гостеприимством злоупотреблять больше не желаю. Ты-то за эти полгода ни разу ко мне не заглянул, ведь так?
— Ну, мало ли что. Дела…
— То-то и оно. А посему ставь нас к очередному.
Петро задумался:
— Куда ж бы тебя поставить? Тоже мне странник выискался. С капризами. Не хочу то, давай то. Старинных обычаев захотел в век атома. Может, к Баранченко Савелию толкнемся?
— Тебе виднее. К Баранченко так к Баранченко. Веди нас к Баранченко.
— Идем.
Петро двинулся было вдоль улицы, но, вспомнив обо мне, обернулся и сказал:
— Идемте и вы, товарищ.
Я встал. Как было не встать, если меня позвал представитель местной власти? Я встал и пошел, с трудом разминая натруженные ноги. Парень покатил свой велосипед, шагая рядом с Петром. А я побрел вслед за ними.
Петро провел нас в какой-то боковой проулок и там толкнул калитку. Я осмотрелся, запоминая на всякий случай обратную дорогу к скамейке, откуда мне предстояло продолжать свой путь на север. Мы пересекли двор и вошли внутрь низенького домика, в котором еще не зажгли огней. В ноздри мне ударил вкусный запах мясной пищи, заставив меня проглотить слюну. В сумерках трудно было разглядеть что-либо, но комната казалась просторной, только под ногами не чувствовалось твердых деревянных половиц. В другой комнате, еще более просторной, напротив окна сидел усатый человек и, кажется, переобувался. Петро сказал:
— Эге ж! Сам хозяин дома. Привет, Савелий! А я квартирантов тебе привел на ночь. Не возражаешь?
Тот не возразил, но проворчал недовольно, не переставая переобуваться:
— Это по какому же случаю?
— Да очень просто. Очередь. На прошлой неделе, если помнишь, один проезжий с лошадью у Омельки ночевал. А сегодня вот и до тебя добрались.
— А почему бы им в дом для приезжающих не пойти?
— Не желают. Говорят, не нравится там. Сердечности той нет, что в частном доме. Вот я думал-думал, где бы для них сердечности найти, да к тебе и привел.
Эти слова как будто польстили хозяину, и он сказал, вставая:
— Ну, коли так, милости просим. Проходите, что ж стоять. В ногах правды нет. Присаживайтесь.
Но Петро сказал:
— Я у тебя только одного оставлю.
— Как хочешь. Тебе виднее. А которого?
— Да хотя бы этого.
Петро кивнул на молодого парня.
— А видкиля вин?
На этот вопрос ответил сам парень:
— Из Рогунова я сам. А был на совещании садоводов в Хоперовке.
Хозяин обрадовался:
— О це дило! Мне такого и треба! Расскажешь, что там хорошего було. Я сам думал туда съездить, да не успел.
Петро сказал парню:
— Ну вот и устроился. Наслаждайся сердечностью. Бывайте здоровы. А мы с вами тут по соседству зайдем.
Он кивнул мне на дверь, и мы вышли на улицу, где уже горели фонари. Идя со мной к следующему дому, он спросил:
— А вы откуда будете?
И тут я решил поставить все сразу на место, чтобы спокойно продолжать свой последний путь в глубину их нескончаемых степей. Я ответил:
— Из Финляндии. Но не из той Финляндии, которая называется у вас Карело-Финская Республика, а из той, которая воевала с вами. И я тоже воевал с вами. И даже стрелял.
Я хотел было добавить еще про лагеря, в которых томились русские, но подумал, что и без этого вполне хватит для немедленного изгнания меня из этого селения. Петро остановился, глядя на меня сверху вниз, и в его черных глазах отразилось изумление. Выслушав меня, он спросил:
— Документы при вас есть?
Я показал ему все свои документы. Рассмотрев их внимательно при свете электрической лампочки, свисающей со столба, он усмехнулся и сказал:
— Что вы мне голову морочите? «Воевал, стрелял». Вы же у нас в Ленинграде живете. А если вас пустили жить в Ленинград, значит, вы того заслуживаете. Но вот сюда вы как попали?
Что я мог на это ответить? Рассказывать все было бы слишком долго. Да и что именно «все»? Я уже и сам не помнил, что входило в это «все». Поэтому я ответил:
— Так. Хожу, смотрю. Хочу знать, как вы, русские, живете.
Он одобрительно кивнул:
— Хорошее дело. Давно бы так следовало, вместо того чтобы воевать и стрелять. Вот ваши бумаги. А паспорт я вам утром верну.
Я не стал возражать, помня, что он был представителем местной власти. А он привел меня в соседний домик, где тоже очень вкусно пахло мясным. Внутри горел электрический свет. Но пол в первой комнате тоже был земляной. Теперь я это ясно увидел. Две женщины находились в первой комнате, устроившись за огромным столом. Одна сидела за швейной машинкой, другая гладила белье. Из боковой комнаты выглянули две маленькие девочки и мальчик лет двенадцати. Петро поздоровался, осмотрелся и спросил:
— А хозяин?
Сидевшая за швейной машинкой молодая женщина сказала:
— Нема его, скоро буде. Посидьте.
Петро сказал:
— Некогда мне. Человека вот я вам привел переночевать. В порядке очередности. Одного к Баранченко Савелию поставил, а второго вам, если не возражаете. Он из Финляндии. Интересуется нашей жизнью. С документами у него все в порядке. Паспорт у меня. Утром занесу. Так и скажите Грицку. А если он не согласен, пусть мальчонку пришлет сказать. Я к другому поставлю или к себе возьму.
Старшая женщина сказала:
— Да чего там несогласный? Нехай ночуют. Куды воны пидуть, на ночь глядя? До хаты для приезжающих три километра. А вы як до нас добирались: пешком чи автобусом?
Я ответил:
— Пешком.
Старшая женщина произнесла с сочувствием:
— От то ж. И скильки ж вы прошли? Видкиля сегодня?
Опять все взглянули на меня. Я понял вопрос и ответил:
— От станции Задолье.
— Ось бачишь? Да вы сидайте, добрый чоловиче. Зáраз сын приде — вечерять будем.
Она указала мне на стул у окна. Я сказал «спасибо» и сел. Петро с довольным видом тряхнул головой:
— Значит, устроились? Итак, до завтра, хозяюшки!
— Добре.
Молодая хозяйка вышла с Петром, а старшая принялась освобождать стол от белья. Занимаясь этим, она одновременно говорила, мешая русские слова с украинскими. Но я почти все понимал. Сперва она крикнула детям, чтобы не очень шумели, потом сказала, что трудно с ними — растут быстро. Мальчик уже четыре класса кончил, а старшая девочка — два. С учебниками беда — не всегда достанешь нужные. Потом она рассказала про свою жизнь. У нее была большая семья: муж, три сына и дочь. Мужа и двух сыновей убили на войне. Дочь увезли в Германию на работу, а там за какую-то провинность посадили в концлагерь и загубили. Остался младший сын. Жена вот у него теперь и дети. И опять семья как семья — хватает всем и заботы и забавы. Хату недавно заново поставили. Садик деревьями дополнили. Война всех затронула. Бои тут шли страшные. Половина села была разрушена. А теперь не сразу и узнаешь, где она прошла. Время все лечит, и только в памяти боль да в сердце остается.
Женщина рассказывала мне это, а я кивал в ответ и время от времени говорил: «Да». И не знала она, что я был причастен ко всем этим разрушениям, к гибели ее детей и мужа. Но мог ли я признаться ей в этом? Нет, не повернулся у меня язык. Что принесло бы мне такое признание? Трудно было угадать. Однако сидеть на этом стуле мне бы уже не пришлось. А я не хотел покидать этот стул и эту комнату. Слишком сильно ныли мои ноги после целого дня быстрой ходьбы, и слишком вкусно пахло в комнате мясной пищей. Я сидел, опустив глаза к земляному полу, и ждал хозяина. Почему бы мне было его не подождать? Представитель местной власти поставил меня к нему на ночлег, а я был обязан выполнять веление представителя власти. И кроме того, хозяина, как я понял, звали не Иваном.
Хозяин пришел вместе с молодой хозяйкой. Должно быть, она уже все ему рассказала обо мне, потому что он без всякого удивления поздоровался со мной, кивнув от порога. Пока он возился в соседней комнате, переодеваясь или переобуваясь и разговаривая с детьми, хозяйки накрыли на стол. Я, правда, не видел, что они там делали возле стола. Я смотрел вниз, разглядывая свои парусиновые ботинки с кожаными головками. Они изрядно запылились, утратив свой первоначальный серо-голубой цвет. Но резиновые подметки на них мало протерлись. Их могло хватить еще не на один такой переход, чего я, однако, им никак не мог обещать.
Хозяйки что-то делали возле стола и возле печи. И то, что они делали, вызвало новую волну мясного запаха в комнате. Но меня это не касалось. Я не видел их, занятый разглядыванием своих парусиновых туфель. Молодая хозяйка вытерла влажной тряпкой клеенку на столе и нарезала хлеба, а старшая вынула из печи чугун с горячим варевом и разлила его по тарелкам, которые молодая затем расставила вкруговую на столе. Но я не видел ничего этого, занятый своими мыслями о парусиновых туфлях. Меня не касались их домашние дела.
Потом вокруг стола собралась, кажется, вся их семья. Но я и этого не заметил, уйдя в свои заботы, пока не услыхал, что меня тоже как будто приглашают за стол. Я поднял голову, глядя на них вопросительно, а хозяин повторил свое предложение, стоя надо мной с улыбкой, и его рука была протянута к столу. Мог ли я его ослушаться? Тут была их власть. Сопротивляться я не осмелился и беспрекословно занял указанное мне место. Дети уселись на скамейке у стены. Там же, рядом с младшей девочкой, пристроилась мать. А мы с хозяином и старшей хозяйкой уселись на стульях у остальных трех сторон стола.
Хлеб в плоской глиняной хлебнице посреди стола был белый как молоко. Даже не верилось, что этот хлеб нарезан к тому красному мясному супу, который искрился и дымился передо мной в тарелке. Но хозяин спокойно взял один из верхних кусков и сказал мне:
— Что же вы? Или борща нашего украинского не любите?
Тогда я тоже взял кусок этого белоснежного хлеба, который к тому же оказался мягким как пух. Его вопрос я оставил без ответа и показал на деле свое отношение к украинскому борщу. Но и на хлеб я не забывал налегать. Его, как видно, замешивали здесь на молоке. Вот почему он был такой сдобный и душистый. Тянулся я к этим кускам с виду неторопливо и даже как будто нехотя, но съедал их в один миг. Молодой хозяйке пришлось трижды наполнить хлебом глиняный поднос, и главной причиной этому был, конечно, я. Прикончив борщ, хозяин спросил ее:
— Чем продолжим?
Она ответила:
— Варениками.
И вот передо мной появилась другая тарелка, наполненная маленькими полукруглыми кусками вареного теста, начиненными творогом. Сверху они были залиты сметаной. К этому блюду, кажется, не полагалось брать хлеба, но я все-таки взял еще один кусок — очень уж легко он съедался. Кстати, он помог мне убрать из тарелки всю сметану. Голая вилка не справилась бы с такой задачей.
После вареников мы выпили с хозяином по стакану чая. Женщины пили из расписных чашек, а дети — из маленьких кружек. И когда дети вышли из-за стола, хозяин достал из кармана пачку папирос и протянул ее мне, но я сказал: «Спасибо, не курю». Он одобрительно кивнул и закурил сам, глядя задумчиво на быстрые женские руки, убиравшие со стола. Потом спросил меня:
— Говорят, вы жизнью нашей интересуетесь?
Я ответил:
— Да… То есть не совсем вашей, вы простите… Ведь я только Россию хотел посмотреть, а к вам попал случайно. И мне даже как-то неудобно, что я вас затруднил…
Пока я говорил это, он все больше поворачивался ко мне, вглядываясь в меня с удивлением, как мне вначале показалось. Но тут же я понял, что это не удивление, а скорее затаенная веселость. И таилась она пока что лишь в его глазах. А глаза у него были голубовато-зеленые, в них легко угадывалось его настроение, потому что они заметно выделялись в окружении темного загара его лица. Все остальное в его лице сохраняло спокойствие и благодушие. Было это лицо очень правильной формы, если держаться мерки древних греков: и овал в меру узкий, и нос прямой, и подбородок не больше нормы, и темные волосы на голове располагались густо, слегка отклоненные назад. К тому же и сам он был с виду молодой, крупный, налитой. Все они тут были крупные. И не удивительно. На такой земле могли вырастать только крупные люди. Странно, что они не вырастали здесь вдвое крупнее.
И вот он всмотрелся в меня своими веселыми светлыми глазами, забыв про вынутую изо рта папиросу, и сказал, понимающе кивнув головой:
— Ах, вот оно что! К нам случайно попали? И только Россию хотели посмотреть? А наша жизнь вас не интересует. Понятно. Мама! Горпына! Слыхали? Гостя нашего, оказывается, только Россия интересует, а мы — нет. Не удостоились мы такой чести.
Молодая черноволосая хозяйка, вытиравшая стол, улыбнулась, блеснув зубами, но тут же в смущении подавила улыбку и закончила свое дело с видом серьезным. И только в ее темно-коричневых глазах блеснуло на миг что-то озорное, когда она скользнула ими по мне. А старшая хозяйка, услышав это, оставила мытье посуды и, подойдя к столу, сказала с недоумением:
— Да як же так? Россия? А мы хиба ж не…
Но сын прервал ее, сказав: «Ш-ш!». И приложил к губам палец. Она умолкла, сложив на белом переднике влажные руки и глядя на него с выжидательной улыбкой. Была она очень похожа на сына, только тронута изрядно сединой и морщинами. А сын сказал ей, разведя руками:
— Не повезло нам, мама, что поделаешь? Больно уж мы далеко в стороне от России стоим. К нам только случайно попасть можно.
Но тут вдруг из второй комнаты высунулся мальчик и провозгласил звонко:
— Ничего подобного! Мы не в стороне! Здесь она и зародилась — Россия. И наш Киев был матерью городов русских. Вот. А теперь мы все — Советский Союз.
Отец выслушал его, не перебивая, и потом сказал:
— Молодец! Почти правильно. За знание истории ставлю четверку с минусом. А за то, что встреваешь непрошенно в разговор старших, объявляю порицание. Кстати, почему спать не отправляешься?
Мальчуган заулыбался смущенно и отступил в глубину комнаты. Пока молодая хозяйка занималась детьми, а старшая домывала посуду, мы с хозяином посидели еще немного. Докурив папиросу, он сказал:
— С другой стороны, ради чего, спрашивается, к нам приезжать? Что хорошего можно у нас увидеть? Ничего хорошего. И хатки наши неказистые, и кругом пусто. Вот вы пришли сюда пешком от Задолья, а что увидели на своем пути? Тоска, правда?
Сказав это, он махнул рукой с унылым видом. Но в его взгляде, бегло обращенном к матери, вытиравшей у печи посуду, мелькнула все та же затаенная веселость. Она перехватила его взгляд и опять улыбнулась, отвернувшись. Имея это в виду, я ответил:
— Да. Тоска. Пусто было кругом.
И он словно обрадовался, склонившись ко мне доверительно. А лукавство в его глазах так и заискрилось, расходясь по всему лицу. Но, еще не совсем уверенный в совпадении наших мнений относительно его края, он прощупал меня дополнительным вопросом:
— Но хоть кой-какой пшеничный колосок или подсолнух попался вам на нашей бесплодной земле?
И я ответил:
— Нет. На такой земле они не могут расти.
— Правильно. Не могут. Вот беда-то! Как же нам быть?
Он сокрушенно покачал головой. Мать его улыбалась, убирая в шкаф чистую посуду. А я сидел просто так, глядя прямо перед собой через стол на выбеленную стену. Мне было удобно сидеть на стуле и не хотелось вставать. Их борщ и вареники вместе с белым хлебом находились у меня в животе. Благодаря им жизнь моя продлилась еще по крайней мере на сутки, и мой путь на север тоже соответственно мог продлиться. И теперь мне опять все было нипочем. Что он там такое спросил, этот молодой красивый хозяин, склонный к шутке? Как им быть? Хорошо. Я могу подсказать. Я предложил осторожно:
— Не попробовать ли мне выручить вас из беды?
Он встрепенулся:
— Это каким же образом?
— А очень просто: взять вас под свою высокую руку.
Он отрицательно качнул головой:
— Не поможет. Пробовали уже многие. Немцы — дважды. Паны польские. Турки. И даже монголы в древности. Ничего у них не получилось. Пребываем в прежнем неустройстве.
Я сказал:
— А что, если вам с нами местами поменяться? Вы — к нам, а мы — сюда. У нас вы можете очень основательно построить свою жизнь: гранит под ногами. Все крепкое, устойчивое. А мы у вас — как-нибудь.
Он ответил:
— Не выйдет, к сожалению. Много нас — пятьдесят миллионов. Не поместимся мы там, на вашем граните.
— А может быть, вам лучше просто выкинуть свою бесплодную землю?
— Выкинуть? А самим куда?
— А самим на полметра ниже.
— Это как понимать?
— А так: вы снимаете со своей земли полуметровый слой и высыпаете ее куда-нибудь подальше, допустим к нам. Мы согласны принять ее, так и быть. А под вами останется еще метра полтора или сколько? Вот и живите на новой плодородной земле.
— На полметра ниже? Не выйдет. Не согласится наш народ опуститься ниже. Он все выше норовит. Вперед и выше.
— Ну и продолжайте тогда оставаться в бедности и неустройстве!
Он рассмеялся, обернувшись к матери. Она тоже рассмеялась, проходя в заднюю комнату, откуда молодая только что вывела на двор детей. Я сказал с досадой в голосе:
— Ничего не удается из вас вытянуть. Хотя бы что-нибудь, вам ненужное.
Хозяин спросил:
— А разве есть у нас что-нибудь ненужное?
— Есть. А вы отдадите это ненужное мне, если я вам назову?
— Отдадим. Можете забирать.
— Хорошо. Первым долгом я заберу у вас дорогу, по которой шел сюда. Она вам не нужна. За весь день я встретил на ней только двух волов и двух лошадей с повозками. Волов я тоже возьму на мясо. Вам они не нужны. Теперь время такое, когда передвигаться надо быстро, чтобы не отстать от жизни, и особенно — на ваших просторах. А делать что-нибудь с помощью таких волов — это все равно что устраивать себе выходной день: лечь на спину и песни петь, пока они идут.
И опять они рассмеялись оба, мать и сын. И молодая хозяйка тоже улыбнулась недоуменно, войдя в дом с объемистым тюком соломы, схваченной тканью. А я продолжал:
— И от ваших больших дорог я тоже возьму половину ширины. И с каждого перекрестка насобираю пустой земли по четверть гектара, и промежутки между хлебами возьму, и пустыри на подступах к деревне, и голые скаты, идущие вдоль сада, который я встретил на дороге. А он тянется без начала и конца. На всех этих местах я поселю половину жителей Финляндии, и вы даже не заметите, что от вас что-то отпало. А хлеба, плодов и мяса у вас прибавится вдвое.
Хозяин опять усмехнулся, выслушав это, и сказал, обратясь к женщинам:
— Чуете, мамо? А ты поняла, Горпына, о чем разговор?
И та ответила, появляясь в дверях второй комнаты:
— Поняла. И по-моему, это очень справедливо. Мы слишком избалованы щедростью нашей земли, не ценим ее. И не удивительно, что в глазах других мы моты и транжиры.
Молодая хозяйка, как и хозяин, тоже чисто говорила по-русски. Старшая хозяйка согласно покивала головой и сказала:
— Да, такой земельки, як наша, днем с огнем шукай — не найдешь.
А я добавил:
— Мои финны сейчас спят и не знают, что я обеспечил их здесь таким богатством.
И снова все они посмеялись немного, а старшая хозяйка сказала:
— Нашему гостю тоже спать пора. Шутка ли — столько пройти. Километров сорок без отдыха!
Хозяин сказал, вставая с места:
— Ничего, завтра отдохнет. В нашем селе для него столько интересного найдется, что мы еще не один вечер посидим вместе и поговорим. А разговор может получиться занятный.
Я не стал его разуверять относительно предполагаемых им вечеров, но, чтобы как-то откликнуться на его слова, сказал:
— Ваше село, кажется, не маленькое, насколько я заметил. Километра на два-три тянется.
Хозяин переспросил удивленно:
— Два-три километра, говорите? А как вы это определили?
— Так, на глаз, пока подходил к нему сбоку.
— Сбоку? Это откуда?
— С юга я шел на север.
Тут молодая хозяйка воскликнула со смехом: «О-о!». И хотела еще добавить что-то, но хозяин погрозил ей пальцем и сказал:
— Не к спеху. Всему свое время.
Я не понял, к чему это относилось, да и не пытался понять. Пора было расставаться со стулом. С трудом расправляя ноги, я встал, чтобы дать своим хозяевам покой. Все они устроились на отдых где-то за пределами дома, кроме старшей хозяйки, которая улеглась на раскладной кровати в первой комнате. Мне приготовили постель во второй, где был деревянный пол. Она выглядела просторнее первой и наряднее. На ее голубых стенах висели фотографии, цветные картинки и вышивки. Но из мебели в ней находились только платяной шкаф в углу и небольшой письменный стол у окна с тремя стульями вокруг, если не считать еще маленького детского столика с игрушками у второго окна. По пустоте остальных углов я догадался, что там стояли кровати, вынесенные на лето в другие пристройки.
Мне постелили на полу, прикрыв груду свежей соломы плотным куском ткани и простыней. Поверх простыни положили подушку и одеяло. Я разделся и лег, пытаясь вспомнить, зачем я здесь и кто я. Из далекого прошлого мне вспомнился почему-то Иван Петрович, который что-то когда-то мне советовал, но что советовал — бог его знает. И еще я вспомнил, что до конца моего отпуска осталось только семь дней и что за эти семь дней мне до Ленинграда не дойти, если даже припуститься бегом и бежать, не останавливаясь и не падая, все семь дней и семь ночей. Но как бежать семь дней без еды?
Только Юсси Мурто сумел бы, может быть, оказать мне какую-то помощь, будь он здесь. Но не было его здесь. У себя в далекой Суоми продолжал он пребывать, ничего не ведая о делах соседей.
И, стоя там в глубоком раздумье на холодных гранитах севера, он угрюмо смотрел на Ивана, словно готовясь опять затеять с ним сердитый разговор. А Иван терпеливо ждал. Где-то тут он обретался, заполняя собой полмира и уходя головой в синеву неба, а ногами — в свои леса и степи, полные хлеба. Но что мог сказать Ивану Юсси Мурто? Он стоял, молчал и думал, окидывая взглядом его необозримые хлеба и сады. Не о чем тут было говорить. И, сломленный усталостью, я заснул, так и не дождавшись от него ни слова.
56
Утром старшая хозяйка дала мне полотенце и указала на дворе рукомойник. Бриться в этот день мне было необязательно. Когда я вернул хозяйке полотенце, она пригласила меня к столу. Я попробовал отказаться, говоря, что еще успею позавтракать где-то там, куда мне надо скорей идти, и что спасибо ей за внимание и заботу. Я бы мог еще к этому добавить, что не имею права садиться за ее стол, потому что ее дети и муж погибли по моей вине. Но сказать об этом у меня не повернулся язык — очень уж вкусно пахло от стола. А она сказала:
— Ничего, ничего. Сидайте, пожалуйста, поснидайте на дорожку, а там видно буде.
Пришлось подчиниться. И, выполняя ее требование, я съел почти все, что было на столе, начиная с куска жареной свинины с яйцом и кончая стаканом чая с вишневым вареньем. А вместо хлеба на этот раз передо мной стояла тарелка с кусками теплой белой лепешки, которую хозяйка назвала перепечкой. От нее, конечно, тоже очень мало осталось. Когда я встал из-за стола, выразив хозяйке еще раз свою благодарность и пожелав благополучия в жизни, она ответила мне по-украински словами, которые, как я понял, означали следующее:
— И вам того же. Все мы несли свой крест — каждый народ. Досталось и вам и нам. Кого винить? Их никогда не оказывается налицо — виновников, когда наступает время судить. Желаю вам счастливо доехать до вашей Финляндии.
После этих ее слов я понял, что она все время очень хорошо знала, какую долю усилий приложил я в доставлении ей горя. Но тем не менее в словах ее, обращенных ко мне, сохранилась та же сердечность, что и накануне. Она даже протянула мне руку на прощанье и взглянула мне прямо в глаза своими добрыми голубыми глазами, глубоко упрятанными в морщины, наложенные многократным горем, взглянула пытливо, словно проверяя, заслуживаю ли я такого отпущения грехов.
Но за калиткой на улице меня ожидало нечто совсем другое. Там возле мотоцикла и двух прислоненных к плетню велосипедов толпились пятеро крупных парней. Едва я шагнул за калитку, как они обступили меня полукругом. Не поднимая головы, я попробовал обойти их, но крайний заступил мне дорогу и сказал:
— Доброе утро. Как отдохнули?
Я поднял голову и узнал черноволосого представителя местной власти. Он протянул мне мой паспорт, и я спрятал его в бумажник, ответив попутно:
— Очень хорошо. Спасибо.
Заодно я окинул взглядом остальных парней. С другого края полукруга стоял мой хозяин, чуть посмеиваясь, как и накануне, одними глазами. А прямо передо мной стояли три незнакомых мне темно-русых парня, тоже близких по возрасту к сорока, как и мой хозяин и как представитель местной власти. Нельзя сказать, чтобы все они лицом походили на моего хозяина. Но, как говаривала Улла Линдблум: «У мужчины вся красота в росте». А из них самый низкорослый был выше меня на полголовы. Хозяин сказал мне, кивая на них:
— Вот, пожалуйста, разыскал для вас. Они тоже воевали с вами и стреляли в вас. Двое с Карельского фронта, один с Ленинградского. Я мог бы еще кое-кого разыскать — село у нас большое, — да, думаю, хватит пока.
И тогда я понял, зачем они тут собрались. Но уже было поздно. Конечно, я мог еще отпрыгнуть назад, чтобы вырваться из этого полукольца. Но за мной была открытая калитка, а за калиткой чужой двор, где я оказался бы в ловушке. Так вот наказывает судьба тех, кто, попадая сюда, верит сказкам, будто это не Россия и что парням из этой дали не было нужды защищать русскую границу на севере.
Будь передо мной только один из них, я бы еще попробовал схватиться с ним, применяя тот прием, который мне когда-то, в далекой юности, показал Юсси Мурто. Но тут их было несколько, и потому я заранее мог считать, что песенка моя спета. Ну что ж. Днем раньше, днем позже — не все ли равно? Я еще раз окинул их взглядом, пытаясь угадать, кто из них взмахнет кулаком первый. Первым двинулся ко мне самый низкорослый и самый широкий. Не взмахивая рукой, он просто ткнул ее ладонью вперед и произнес низким голосом:
— Петренко!
Я перехватил эту ладонь своей ладонью и сказал:
— Турханен.
Ладонь была широкая и жесткая, но я выдержал ее зажим и даже сам сдавил ее, сколько мог, в ответ. Потом ко мне протянулись по очереди откуда-то сверху еще две ладони и два басистых голоса произнесли один за другим: «Савчук», «Романюк». А после этого опять заговорил первый. Он спросил:
— Вы надолго у нас останетесь?
Я не знал, что на это ответить, и только пожал плечами. А он пояснил:
— Я к тому, что если не торопитесь, то, может, встретимся вечерком и побеседуем?
Я опять не знал, что ответить, а второй из них добавил:
— Посидимо за горилкой, повспоминаемо, як вы нас дубасили и як мы вас.
И третий тоже присоединил к ним свой голос, похожий на гуденье колокола, и свое предложение:
— Посидим, поговорим, а заодно подумаем, как добиться, чтобы больше никогда друг друга не дубасить.
Я все еще не мог придумать, что им сказать. У меня была моя последняя задача в жизни, которую я обязан был выполнить. Мог ли я от нее отклониться? Видя мое колебание, первый парень сказал:
— Все дело в том, чтобы вы остались в нашем селе хотя бы на сегодня, и тогда мы встретимся.
Я сказал:
— Не знаю… Я все-таки уйду, наверно, сегодня из вашего села.
— Уйдете или уедете?
— Уйду…
— А куда уйдете?
— Туда.
Я махнул рукой на север. И они все почему-то дружно рассмеялись. А низкорослый, который был на полголовы выше меня, переспросил:
— Вы точно — туда? По улице Шевченко? И никуда больше?
— Да…
— Ну, так мы с вами встретимся сегодня вечером и даже прощаться не будем. Верно, хлопцы?
— Ага!
— А сейчас мы все — по своим бригадам, в степь!
И они все трое укатили в разных направлениях на двух велосипедах и мотоцикле. Со мной остались мой хозяин и представитель местной власти. Я протянул им по очереди руку и сказал «спасибо». Хозяин пожал мне руку, но повторил сказанное теми парнями:
— Мы тоже с вами не прощаемся.
Я спросил:
— Почему?
— Потому что вы сегодня остаетесь в нашем селе, и мы еще увидимся.
— Почему остаюсь? Я не остаюсь.
— Но ведь вы в этом направлении пойдете — на север?
— Да…
Вечером увидимся. Счастливой вам прогулки!
И оба они рассмеялись, помахав мне на прощанье руками от калитки. А я двинулся на север. Что мне еще оставалось делать? Другого пути у меня не было. Оставалось только идти и идти, пока двигались мои ноги.
А двигались они медленно на первых порах. Накануне им пришлось пройти слишком много, и за ночь они, оказывается, не успели отдохнуть. Теперь поджилки ныли, и каждый шаг отдавался болью в мускулах и суставах. Зная, что хозяин и представитель местной власти смотрят мне вслед, я сделал вид, что нарочно иду медленно, желая обстоятельнее рассмотреть их село.
Шел я по краю улицы, потому что по ее середине то и дело проезжали автомобили и мотоциклы, пробегали лошади с повозками разного размера, с грузом и без груза, проскакивали велосипедисты. Это была широкая и людная улица (может быть, продолжение той дороги, что шла накануне справа от меня), и пыль на ней не успевала оседать.
Я смотрел направо и налево и видел повсюду небольшие домики позади низеньких заборов, сплетенных из прутьев. Крыты они были разными материалами, и оконные рамы были у них разного цвета, но стены одинаково белели, просвечивая сквозь зелень цветников и садовых деревьев. Я уже знал, что полы в этих домиках были сделаны из утрамбованной глины, но знал также, что ставилось в этих домиках на стол к обеду.
Именно такой домик с утрамбованной глиной вместо деревянного пола продлил мой путь к Ленинграду еще по крайней мере на сутки. Не по моей ли вине сохранился в нем еще глиняный пол? Если даже так, они не сказали мне этого. Они просто продлили мой путь к Ленинграду. И вот я шел теперь поперек этого села, чтобы, выйдя из него, пройти без помехи как можно дальше на север и где-то там, в пустынной степи, встретить свой конец.
Ноги мои очень трудно разминались, и я долго не мог заставить их двигаться быстрее. Но в пределах села это было не обязательно. В пределах села даже приличнее было идти не слишком торопливо, с видом человека, приехавшего из города полюбоваться далеким селом. Я шел не торопясь и посматривал по сторонам. Помимо небольших белых домиков виднелись кое-где дома, сложенные из красного кирпича и крытые железом. Над некоторыми из них развевался небольшой красный флаг, выцветший от солнца. Флаг означал, что тут находилась местная власть. Это я уже знал из опыта. Но могло находиться и что-нибудь другое, например Дом культуры или клуб. Это я тоже знал.
В некоторых дворах, кроме сарайчиков с глиняными стенками и навесов с легкими соломенными крышами, виднелись еще маленькие деревянные строения без окон. Это, конечно, были амбары, в которых они хранили зерно. А под навесами кое у кого блестели полированными боками легковые машины или мотоциклы. На иных дворах стояли плиты с железными трубами и конфорками, сложенные из красных кирпичей или из тех же земляных брикетов, что и дома. Такие брикеты я тоже увидел, продвигаясь вдоль улицы. Очень крупные, размером примерно в четыре стандартных кирпича, они сушились на солнце, частью расставленные рядами, частью уложенные в штабеля. Это означало, что еще кто-то готовился ставить себе дом взамен разрушенного по моей вине.
Кое-где в отдалении, то справа, то слева, тянулись ряды коровников с маленькими окнами. Среди них тоже некоторые были сложены из красного кирпича. Такой же кирпич пошел на постройку водонапорных башен при коровниках. Они были не очень высокие, эти башни. Ветряные мельницы вздымались выше их. Это были самые высокие деревянные строения в селе, но все они бездействовали, застыв неподвижно в разных концах села, как некие старинные памятники, изрядно тронутые временем. Редкие из них сохранили все четыре лопасти. На иных осталось по две, а иные стояли совсем без крыльев и даже накренясь. Это означало, что и здесь их заменили электрические мельницы, как и там, на Оке. И, судя по белому хлебу, который я ел, здесь действовал не только простой размол.
Да, все это было любопытно, конечно, однако меня уже не касалось. Я шел своей последней дорогой мимо этой жизни. Навстречу мне попадались люди — рослые, черноглазые, красивые. Оли торопились по каким-то своим очень важным делам, полные заботы о том, чтобы степи вокруг них были полны хлеба. А я, маленький Аксель Напрасный, никому на свете не нужный, путался у них под ногами, мешая их благородному делу. И, конечно, мне ничего другого не оставалось, как постараться уйти скорей с их дороги, уйти туда, где я уже никому больше не смог бы мешать и вредить.
Ноги мои постепенно разминались, и я уже шел по улице довольно бодрым шагом, продолжая, однако, посматривать по сторонам. Кроме взрослых людей, мне попадались дети. Их было много повсюду, бегающих, играющих на улице, на дворах и в садах. Мог ли я не посматривать на них, зная, что любуюсь ими в последний раз?
В одном месте их собралось на моем пути человек восемь. Они забавлялись возле металлической колонки, из которой выливалась полукруглая струя воды, падающая в низенький кирпичный водоем. Сперва они пили по очереди, ловя эту струю ртом и ладошками, а потом принялись брызгаться, поддавая ладонью струю. Мальчики обрызгивали девочек, а девочки — мальчиков. Платьица на девочках скоро взмокли и прилипли к телу. У двух мальчиков намокли майки и штаны. Победил всех мальчик, одетый в одни трусики. Он встал прямо под струю, раздавая на все стороны такие брызги, что временами они отсвечивали на солнце радугой.
Приближаясь к ним, я замедлил шаги, чтобы их не спугнуть, а потом совсем остановился. Но они заметили меня и, думая, должно быть, что я приготовился их распекать за баловство, перестали брызгаться, а затем старшие из них не торопясь разошлись в разные стороны. Возле колонки остались две маленькие девочки и малыш. Одна из девочек подошла и подставила под струю игрушечное ведерко. Ополоснув его предварительно, она набрала в него воды и пошла с малышом к ближайшей калитке. Другая девочка пополоскала под струей ладошки и пустилась их догонять. Но, увидев, что я тоже протянул к струе руки, остановилась и далее шла, пятясь задом, пока я пил, вбирая в себя пригоршню за пригоршней холодную чистую воду. Напившись, я завернул кран и помахал ей приветливо рукой. Она ответила мне тем же, улыбнувшись полубеззубым ротиком. У меня тоже могла быть такая же темноглазая девочка с красным бантиком в темно-русых косичках, если бы не пошло в моей жизни все кувырком и если бы не полетела кувырком сама моя жизнь.
Напившись воды, я направился дальше вдоль улицы, высматривая впереди выход из села. Но впереди все еще белели домики с разными по цвету окнами и крышами, а выхода в степь не открывалось. Тогда я остановился в нерешительности. Мне показалось, что я взял не то направление. Нет, все было правильно. Солнце сияло справа от меня, постепенно заходя мне за спину. Значит, я шел прямиком на север. Просто-напросто село оказалось в ширину таким же, как в длину. Я очень медленно брел по нему, разминая ноги, и потому не успел его пересечь, хотя затратил на это уже часа полтора или два. Однако теперь ноги мои размялись, и, освеженный водой, я двинулся далее.
Но странное дело: я прошел еще около часа в том же направлении, а село не кончилось. Впереди виднелись такие же домики, утопающие в садах, и так же людно и шумно было на улице, по которой туда и сюда проносились машины.
Я больше уже не останавливался и не смотрел по сторонам. Глаза мои были устремлены в конец улицы, в надежде увидеть там открытую степь. А она все не показывалась. Солнце все дальше заходило ко мне за спину, перенося свои лучи с моей правой щеки на затылок. Хозяйки затопили на своих дворах наружные плиты, принимаясь готовить на них обеды. До моих ноздрей вместе с дымом топлива доходили временами запахи мясной пищи. Наступил полдень, а я все еще не выбрался из села.
И теперь я понял, почему засмеялась, накануне молодая хозяйка, когда я сказал, что видел их село сбоку, определив его длиной в три километра. Оказывается, я видел его не сбоку, а с конца, и теперь шел не поперек села, а вдоль — от одного его конца к другому. И если оно в ширину было не менее трех километров, то на сколько же тянулось в длину?
И еще часа полтора прошел я вперед по этому селу, так и не выйдя из него. Сколько же я прошел? Если первые два часа я делал только километра по два, с трудом передвигая ноги, то на третьем и четвертом часе я преодолевал, наверно, километра по три и даже четыре. Уже давно должен был показаться конец села, но он не показывался.
Хозяйки на дворах сварили обеды. В каждом доме люди насытились ими и снова отправились на свои работы. А я все шагал на север, оставаясь в пределах села. Солнце недолго припекало мой затылок. Наскучившись этим, оно начало пристраиваться к моей левой щеке. А я все еще шагал на север по улице села.
Еще одна колонка с водой попалась на моем пути. Я сам отвернул у нее кран и напился. Хотелось присесть или прилечь, но я не позволил себе этого и двинулся дальше. Передо мной тянулась вдаль все та же улица, у которой не было видно конца. Пересекая поперечные улицы, я вглядывался также в обе стороны вдоль них, но и у них не мог разглядеть конца. Похоже было, что я попал в какую-то удивительную страну, которая вся состояла из одного сплошного селения.
И тут я вспомнил, как смеялись утром те три парня, а потом и мой хозяин с представителем местной власти. Они сказали, что не прощаются со мной, потому что я останусь в их селе, если пойду на север. Они знали, что я не выйду из их села в этот день, и заранее смеялись по поводу этого. И они сказали, что встретятся со мной. Для чего понадобилась им эта встреча?
Продолжая шагать к выходу из села, я постепенно понял, зачем она им понадобилась. И когда я понял это, ноги мои сами убыстрили шаг. Теперь я почти бежал вдоль улицы села на север, жадно вглядываясь вперед. И хорошо, что улица была такая людная. Среди многих других по-разному одетых людей и с разной торопливостью идущих туда-сюда один, идущий полубегом, не особенно бросался в глаза. А ему непременно надо было успеть выбраться в этот день из села, выбраться в пустынную русскую степь, чтобы там умереть без помехи.
Я знал, для чего им понадобилась встреча со мной, и видел заранее, как это все могло произойти. Вот они вылавливают меня, не успевшего выбраться из их села, и заводят в какой-то полутемный уголок, где по моей вине вместо пола — утрамбованная глина. И там самый низкорослый из них, который на полголовы выше меня и вдвое шире, говорит: «Посидим, побеседуем». И, видя, что я не хочу садиться, он выбрасывает вперед ладонь размером в лопату и толкает меня в грудь. Я отлетаю в угол, садясь на утрамбованную глину, и вижу, как надо мной становится второй. Он засучивает рукава, высвобождая свои кулаки, и говорит свирепым басом: «Повспоминаемо, як вы нас дубасили!». И еще определеннее гудит откуда-то сверху голос третьего, подобный главному колоколу соборной колокольни: «Подумаем и сделаем так, чтобы никогда больше не дубасить друг друга». И он тут же показывает, как это надо сделать. И вот уже нет на свете Акселя Турханена. Да, именно такое меня ожидало в этом селе. Но откуда мне было знать, что все они — и Петренко, и Савчук, и Романюк — тоже Россия?
Однако пока я не собирался предоставлять им такого случая, продолжая рваться вон из их села. Одежда у меня прилипла к телу от пота, в желудке было пусто и ноги стонали, прося отдыха, но я не останавливался. Улица упорно держала меня в плену, не желая выпускать. И только пройдя еще около часа самым скорым шагом, я увидел наконец впереди просветы степных просторов.
Я даже не сразу поверил этому. И еще более километра шел я по улице села, думая, что глаза меня обманывают. Но они не обманули. Я вышел на степной простор, заполненный зреющими хлебами. Солнце за это время успело окончательно переместиться влево от меня и теперь обрабатывало сбоку мою левую скулу и нос. Но оно уже заметно снизилось, держа путь к своему закату, и лучи его ослабели.
На всякий случай я прошел по открытой дороге еще около часа. По ней машины и велосипеды проносились реже, чем по улице села, а пешеходов совсем не стало. За целый час я встретил только двух молодых парней с девушками, да и то вышли они на дорогу откуда-то сбоку.
Зато где-то на пятом километре от села передо мной встала новая задача. Дорога раздвоилась, и далее оба ее продолжения уходили равномерно на северо-восток и на северо-запад. Какое направление следовало мне избрать? Задачу эту мне помог решить обогнавший меня тяжелый грузовик, покрытый брезентом. Он промчался мимо меня на северо-восток. Навстречу ему оттуда шли два других грузовика. И еще какие-то крупные темные точки двигались вдали по тому же направлению, обозначая его оживленность. Это надоумило меня пойти по левой, менее наезженной дороге на северо-запад. Пройдя по ней с километр, я свернул в пшеницу, раздвинул колосья и лег на спину, закрыв глаза.
57
Так ловко оставил я с носом насмешников, полагавших, что мне в этот день не выбраться из их села. Напрасно они так полагали и напрасно смеялись. Рановато они вздумали надо мной смеяться. Над собой они смеялись, как сказал их великий русский писатель Гоголь. Пришла теперь моя очередь смеяться над ними. И, лежа на спине в густоте пахучей пшеницы, я попробовал посмеяться немного, нарушив на минуту сиплыми звуками своей глотки окружавшую меня тишину.
Мой запавший живот заходил ходуном от смеха, готовый прилипнуть всеми своими внутренностями к позвонкам. Да, я сумел, конечно, выбраться из этого села, которое растянулось у них, наверно, километров на двадцать пять. Но вот зачем я из него выбрался — это был уже другой вопрос…
Я открыл глаза. Два ястреба парили высоко в небе. Их широко распростертые черные крылья не двигались, но тем не менее легко и быстро несли их в любом направлении по их желанию. Они не торопились улетать прочь, описывая надо мной круги.
Может быть, и не я привлек их внимание, но кто их знает! Опираясь руками о землю, я сел. Колючий колос пшеницы коснулся моего лица. Я сорвал его, растер в ладонях, сдул мякину и бросил зерна в рот. Зерна захрустели на зубах. Пшеница была готова к жатве. Я сорвал второй, третий, пятый и десятый колос. Не все они оказались одинаково спелыми. В некоторых зерна были еще мягкие и зеленые, но в еду годились. И с этого момента мои ладони и челюсти трудились, не переставая.
Какая-то машина заурчала на дороге. Я прижался к земле, пропустив ее мимо, а потом опять сел, обрывая вокруг себя колосья. Набив ими боковые карманы пиджака, я встал с кряхтением и стоном на ноги и вышел на дорогу.
Солнце уже нависло совсем низко над горизонтом, но еще не начало краснеть. При его боковом свете отчетливо выделялись вдали крайние домики села, из которого я вышел два часа назад. Их было много, этих белых домиков, далеко растянувшихся вправо и влево по горизонту вперемежку с густой зеленью садов и огородов. И бог его знает, с какой стороны я видел опять это удивительное селение — сбоку или с конца. Оно никак не хотело выпускать меня из своих бесконечных улиц, но вот я все же оставил его далеко позади, уходя от него теперь на северо-запад к своему неизбежному концу.
На моей новой дороге стояла тишина. Только один мотоцикл нарушил ее своим треском, обогнав меня. Думая, что это посланная за мной погоня, я приготовился было шагнуть в хлеб, но не успел. Мотоцикл промчался мимо. Его вел молодой парень в белой расстегнутой безрукавке, которая пузырилась у него на спине. Сбоку в прицепной коляске сидела молодая женщина с мальчуганом на руках. Ребенок жадно таращил сквозь ветровое стекло глазенки на все, что проносилось мимо. Побывал и я, наверное, в его глазенках, но не остался в них, конечно. Не унес он меня в них куда-то туда, в свое безбрежное будущее.
И еще случилась у меня встреча до того, как солнце начало краснеть. Две девушки на велосипедах показались вдали над колосьями хлебов, быстро катясь мне навстречу. Они о чем-то переговаривались громко и обе смеялись. Та, что была немного впереди, светловолосая, в тесных серых штанах и голубой майке, подъезжая ко мне, так зашлась в смехе, что под ней даже велосипед вильнул, заставив ее усиленнее заработать педалями.
Смеясь, она скользнула взглядом по мне, потом обернулась к чуть отстающей подруге и опять сказала ей что-то, вызвавшее у них обеих новый звонкий раскат смеха. Вторая девушка, черноволосая и черноглазая, одетая только в трусы и бюстгальтер, тоже окинула меня взглядом, не переставая смеяться. Ее загорелое тело и лицо лоснились от пота, а влажные зубы, тронутые на миг солнцем, вспыхнули вдруг на ее темном лице таким блеском, словно к их белизне добавили алмазы.
Так они пронеслись мимо меня, унося далее по дороге свой звонкий смех. Оглядываясь назад, я долго видел издали их велосипеды с притороченными узелками, их склоненные над рулями девичьи спины и освещенные боковыми лучами солнца светлые и темные пряди встрепанных волос. У меня тоже, конечно, могли быть такие же смешливые, загорелые и потные дочери, если бы не случилось в моей жизни то, что случилось, и если бы не родился я Акселем Напрасным.
И опять стало тихо вокруг меня. И оттого, что вокруг стало тихо, смех девушек долгое время звенел у меня в ушах и виделись перед глазами их веселые, красивые лица. То одно, то другое лицо возникало передо мной, устремляя на меня смеющиеся глаза, и разные по цвету волосы развевались над ними: мелькнут светло-русые встрепанные пряди и тут же уступят место черным, еще более встрепанным. И прямо ко мне обратится раскрытый в смехе красивый рот, полный белых девичьих зубов, среди которых вспыхивают вдруг огнем вкрапленные туда алмазы.
Чему она смеялась, работая с такой скоростью своими упругими, загорелыми ногами? И чему смеялась та, в туго обтягивающих ее ноги серых штанах? На меня они обе смотрели смеясь. И не надо мной ли они смеялись? Они увидели человека, идущего пешком там, где бесполезно идти пешком, где из-за огромности расстояний никогда ни к чему пешком не придешь и никогда ни от чего не уйдешь. Увидели и рассмеялись. А может быть, их рассмешил вид человека, растирающего на ходу в ладонях колосья и жующего зерна? Могло быть и так. Вряд ли им приходилось до того видеть в этих краях человека, пробующего насытиться сырыми зернами из колосьев, подобно Христу с его апостолами. Зерна пшеницы, конечно, душисты и приятны на вкус, но наполнить ими едва ли не по зернышку опустевший за день живот — дело нелегкое. И понятно, что такая попытка ничего, кроме смеха, вызвать не могла.
Они смеялись бы еще заливистее, если бы узнали, что кидал я эти сухие зерна в иссохший от жажды рот. Узнав об этом, они просто попадали бы от смеха с велосипедов на землю. Пить я хотел еще до выхода из села, но так и не заприметил там на своем пути третьей колонки с водой, а колодцы видел только внутри дворов. За пределами села мне опять-таки нигде не попалась вода, хотя пот с меня все время лил в три ручья. А теперь он с меня уже не лил. Ему неоткуда было взяться. Он иссяк в моем теле. И сухие зерна высушили во мне остатки влаги.
Солнце слева от меня приблизилось наконец к земле, попутно краснея и раздуваясь, как оно проделывало это и в моей далекой Суоми, в моей прекрасной, родной, милой Суоми, полной свежести и воды, но потерянной для меня теперь навсегда. Оно приблизилось к земле и, не замедляя своего движения, стало уходить за горизонт. И, думая о том, что вижу его, быть может, в последний раз, я следил за ним краем глаза, пока оно не скрылось, окрасив кусок неба над собой в розовый цвет.
После этого очень быстро, как всегда в этих краях, наступили сумерки. Но я продолжал идти с той же предельной скоростью, какую позволяли мне мои разбитые ноги. Для меня сумерки ничего не значили. И даже в полной темноте я мог шагать не останавливаясь — была бы лишь под ногами дорога, ведущая к северу. Но ради воды я бы остановился. Ради воды я готов был свернуть с дороги далеко в сторону и задержаться возле нее и час и два. Зато потом это позволило бы мне пройти много лишних километров.
Однако воды не было. Село позади меня постепенно утонуло в сумерках, и ничего нового взамен этого села нигде на горизонте не появилось. Все выровнялось вокруг, окунаясь в густеющий сумрак. Ну и пусть выровнялось, бог с ним. Вода мне была нужна, вода!
Что-то темное обозначилось впереди, быстро приближаясь ко мне сквозь сумрак. И опять это оказался велосипедист — на этот раз молодой парень. Когда он проезжал мимо, я крикнул ему осипшим голосом:
— Где тут вода есть?
Он крикнул в ответ:
— На хуторе!
— А где хутор?
Но он уже проехал мимо и только махнул рукой назад, в том направлении, куда я шел. Мне ничего не оставалось, как продолжать свой путь. И еще с полчаса брел я по этой дороге, наклонясь вперед для устойчивости, как вдруг увидел впереди огонек. Он светился в чьем-то окне. Это и был, наверно, тот самый хутор.
Странно, что он у них уцелел. По их понятиям, хуторов не должно быть. Хутор — это один дом, один хозяин и одно хозяйство, которым он распоряжается по своему усмотрению. А у них давно все хутора сведены в колхозы, которыми они распоряжаются сообща. Но вот один хутор остался, и я шел к нему, чтобы напиться там воды.
Подходя к хутору, я увидел еще несколько освещенных окон в разных местах. Похоже было, что этот хозяин освещал все свои строения. И еще показались огни далеко в стороне от первых, а потом еще и еще. Чем ближе я подходил к хутору, тем больше появлялось освещенных окон, и скоро я понял, что пришел в деревню.
Тот парень посмеялся надо мной, сказав, что на моем пути хутор. Всем им тут почему-то нравилось надо мной смеяться. На моем пути была деревня, состоявшая по меньшей мере из тридцати белых домиков, окруженных садами и разными другими постройками. Дорога, входя в деревню, пошла чуть под уклон, и я понял, почему не видел огней издали. Эта деревня тоже располагалась в небольшой вдавленности, как и тот бесконечный сад и те дома возле сада.
Где-то на краю деревни шумно работал двигатель. Это он, должно быть, посылал свет в дома. Где-то несколько голосов дружно пели песню. Она была протяжная, наподобие их степей, и женские голоса, взмывая в этой песне вверх, подолгу витали там над низкими мужскими голосами, словно не желая к ним спускаться, и едва спустившись и даже вплетясь в них на короткое время, снова взлетали вверх, будто вытолкнутые упругими мужскими голосами, и опять парили где-то там, в поднебесье, над своими невероятными просторами.
Судя по огням, деревня протянулась не столько вдоль дороги, сколько в обе стороны от нее. Едва спустившись в деревню, я уже видел из нее выход в темную степь. Но я не торопился выходить в темную степь. Я думал о воде. Она была где-то здесь, рядом, справа и слева от меня. Она не могла не быть здесь, где жили люди. И если она была на хуторе, как сказал тот парень, то сколько же ее было здесь, в большой деревне!
Я смотрел вправо и влево через плетеные заборы, пытаясь разглядеть в темноте колодцы. Вода — это общее достояние людей, и неужели я не имел права зайти на чей-то двор и напиться? Высматривая подходящий двор, я прислушивался к людскому говору справа и слева, готовый даже попросить воды.
Две женщины переговаривались где-то впереди особенно громкими голосами. Одна из них вышла из калитки на улицу с какой-то ношей в руке, но обернулась к той, другой, продолжая разговор. А та осталась у открытой калитки, тоже продолжая разговор, который стал еще громче, разносясь на всю деревню. Говорили они, насколько я понял, о каком-то длинном Андрейке, который женился на Тоньке, а семечки лузгал с Олькой. Потом он еще с Ганкой хотел полузгать, да семечек в кармане не оказалось. И теперь Ганка всегда носит в сумочке для него семечки, а он уже с Надькой лузгать присаживается. А тут еще Данило Доброхват из кузни, который на ремонте комбайнов премию отхватил. Попробуй потягайся с ним!
Говоря эго, они смеялись так громко, что покрыли на время своими голосами и пение тех нескольких голосов, и грохотание двигателя. Когда я приблизился к ним, они кончили свой громогласный разговор, и та, что была на улице, пошла вдоль нее в трех шагах впереди меня. Я видел перед собой ее полные голые икры, короткое светлое платье и толстые черные косы, уложенные вокруг головы. К одному своему боку она прижимала большое цинковое корыто, но, как видно, совсем не чувствовала его тяжести. Она шла не торопясь. А я шел торопясь. Но, боже мой, какого труда стоило мне преодолеть разделяющие нас три шага! И, подойдя к ней с той стороны, где не было корыта, я спросил ее:
— Скажите, где здесь хутор?
Я мог бы сразу спросить ее о воде, но почему-то не туда повернулся мой язык. Он вообще у меня еле повернулся. И голос мой был надтреснутый и слабый. Однако она услыхала мой вопрос и обернулась ко мне. Я увидел близко перед собой такое лицо, такие глаза и такие брови, за которые у парней принято драться насмерть. И долго дробят они друг другу ребра, нагромождая вокруг нее груды лома из бывших молодцов, пока один из них не становится наконец ее обладателем.
Она была выше меня ростом, дородная и сильная — удивительное порождение этой сказочной черноземной земли. Только моя женщина могла бы сравниться с ней лицом и статью, моя бывшая женщина, променявшая меня на майора… Обернувшись ко мне, она сказала тем же звонким и громким — на всю деревню — голосом примерно такое:
— Хиба ж вы не бачите?.. Це ж хутор… Чи вы нездешний? — И тут же, вглядевшись в меня своими огромными темными глазами, над которыми густились размашистые черные брови, добавила уже совсем по-русски: — Это и есть хутор.
Я спросил:
— Как? Эта большая деревня?
Она ответила:
— Да. Хутор Алексеевка. МТС колхоза «Объединенный труд».
Опять надо мной смеялись, конечно. В этих краях, как видно, любили посмеяться. Но такой женщине можно было простить ее шутку. Бог с ней. Я приготовился наконец осведомиться насчет воды, но в это время женщина спросила:
— А вам кого надо на хуторе? Если парторга, то к нам.
Сказав это, она свернула к последнему домику справа. И, видя, что я остановился в нерешительности, крикнула мне:
— Вот сюда, пожалуйста!
Я свернул вслед за ней. Мог ли я ослушаться, если голос ее разносился на всю деревню? Она провела меня через двор к домику и, оставив корыто в прихожей, впустила меня в освещенную комнату. Ноги мои скрипели и стонали в суставах, преодолевая два высоких порога. В комнате она сказала:
— Иванко! Ты здесь? Гостя тоби привела. Пришел на хутор и шукае хутор.
Из второй комнаты вышло что-то огромное и нависло надо мной. Это был, конечно, тот самый, кто превратил всех других посягателей на эту женщину в груду лома из костей и мяса. Может быть, и мне грозила та же участь, а может быть, еще более страшная, ибо звали его Иваном и свою Россию он оборонял не только здесь, но и в Карелии, где в спину ему летел нож Арви Сайтури.
Но я даже не поднял на него глаза, хотя он уже, конечно, узнал меня и, наверно, занес надо мной свой страшный кулак. В другое место был устремлен мой взгляд. И, протянув обе руки к этому другому месту, я спросил сиплым голосом:
— Это вода?
И два голоса ответили мне с оттенком удивления:
— Да.
И вот я уже был у воды, и в моих руках был ковш, и он уже погрузился в кадку, полную воды, и я уже пил и пил, обливая себе галстук, рубашку и костюм.
А когда я отвалился от воды, мне уже было все равно, что там со мной произойдет. Но страшный кулак Ивана почему-то не опустился на мою голову, и до наступления ночи я еще не раз прикладывался к этой воде. И сам Иван, огромный и грузный, с его гладко зачесанными назад русыми волосами, поседевшими у висков, и с вечным пером в нагрудном кармане пиджака, вел себя со мной далеко не так, как надлежало вести Ивану, в чью спину когда-то летел финский нож. Его басистый голос рокотал ничуть не свирепо, когда он перебирал мои документы, и вопросы его ко мне складывались в такую форму, будто он сам же и отвечал мне на них, деликатно избавляя меня от этого труда:
— Значит, ходите, смотрите, изучаете? Это хорошо. Давно пора. С этого бы нам и начинать, а не с драки!
Я больше кивал, чем говорил. О чем стал бы я говорить? О чем говорить, если голос мой застрял у меня в глотке? Да, я ходил и смотрел. Мог ли я не смотреть? Если бы я не смотрел, то вместо севера потащился бы куда-нибудь на юг, в Сахару, или сбился бы с их дороги, у которой нет канав, и ушел бы по их пшенице напрямик к Австралии, или уперся бы лбом в стену их домика и топтался бы на месте. Нет, я смотрел, конечно, и даже очень старательно, иначе не увидел бы воду у них в углу возле печки, не увидел бы эту женщину, из которой так неудержимо рвались наружу ее яркость и пышность, не увидел бы, как она внесла в дом два чугуна с чем-то вкусным и горячим, сваренным где-то там, на летней плите, не увидел бы места за столом, куда меня пригласили сесть. И уж наверно рука моя потянулась бы мимо хлеба, а ложка ткнулась бы мимо тарелки, если бы я не смотрел. Но у меня она не ткнулась мимо тарелки, перекачивая из нее в мой рот их ароматный, вкусный борщ, и когда тарелка опустела, я продолжал крепко держать ложку в руках, следя взглядом за черными косами хозяйки, ползающими туда и сюда по ее широкой гибкой спине, пока она возилась у своих чугунов. А когда она обернулась, одарив меня вниманием своих крупных темно-карих глаз, неведомо от какой богини переданных ей в наследство, я опять-таки смотрел на нее не отрываясь, и, будь у меня хвост, он бы непременно вильнул вправо и влево для пущей выразительности. Но она и без того догадалась взять от меня тарелку, спросив лишь для вида:
— Еще?
И я кивнул, не говоря ни слова. Какие тут могли быть слова! А вслед за второй тарелкой борща я съел тарелку каши, составленной из растертой тыквы, пшена, молока и сахара. Это была особенная каша, таявшая во рту, как мед, а принесенный из ледника соленый прошлогодний арбуз оказался самым подходящим к ней дополнением.
Кто-то еще сидел за столом, кроме нависающего надо мной хозяина, кто-то вывел меня из дома и показал мне постель в какой-то другой постройке. Я свалился на эту постель, с трудом стянув с себя костюм и туфли. И все закружилось и поплыло перед моими глазами. Мелькнул на мгновение Иван Петрович, строго поднявший указательный палец, как бы в попытке напомнить мне что-то. Мелькнули голубые глаза молодого Петра, и в его улыбке тоже было напоминание. Но тут же все заслонил своей угрюмостью огромный Юсси Мурто. Не до смеха ему было, погруженному в глубокое раздумье. И, рассматривая с новым вниманием нависающего надо мной Ивана, он как будто готовился что-то сказать ему. Но что мог он ему сказать? Нечего было ему говорить. И он молчал, окидывая взглядом все то обширное, к чему успели за эти немногие годы приложиться руки Ивана, молчал и думал, думал… Э, бог с ним! Сон окутал меня своим сладким туманом и потянул в бездонную глубину. Но, погружаясь туда, я все же вспомнил еще раз, что обставил-таки тех насмешников из их коварного, бесконечного села, одурачил их, переплюнул, перехитрил…
58
И еще одного насмешника оставил я с носом на следующий день. Проспал я подряд часов двенадцать. Никто не будил меня утром, и когда я вышел из сарайчика, солнце уже стояло высоко в голубом, чистом небе. На протянутых поперек двора веревках уже висели выстиранные хозяйкой простыни, наволочки, полотенца, мужские рубашки и женские сорочки. Самой хозяйки не было видно, и хозяина — тоже. Вместо них ко мне вышел их сын, которого я накануне плохо разглядел за столом. Было ему лет шестнадцать-семнадцать, хотя ростом он уже вымахал выше меня. Лицо его больше напоминало материнское, нежели отцовское. Он указал мне во дворе рукомойник, возле которого висело полотенце, и когда я побрился и вымылся, пригласил меня в дом и там сказал чуть басовитым голосом, какой бывает в эту пору у юнцов:
— Отец на уборку хлеба уехал, а мама — на молочную ферму. Но она приедет к обеду. Вы ее подождете? А пока она вам кавуна моченого, оставила. Может, покушаете? Она говорит, что он вам понравился вчера.
Я взглянул на стол и увидел не только моченый арбуз, разрезанный пополам на тарелке, но и белый хлеб, и масло, и молоко. И, конечно, я не стал отказываться и все это прикончил минут за десять, оставив приличия ради два кусочка хлеба на тарелке и немного масла в масленке. Юнец тем временем что-то делал в задней комнате, а когда он вышел, я сказал, вставая из-за стола:
— Спасибо.
Он ответил, немного смутясь:
— Нема за що. — И тут же повторил по-русски: — Не за что.
И, думая, должно быть, что я останусь в комнате дожидаться его маму, он вышел, прихватив два пустых ведра. Но я не собирался дожидаться его маму и вышел вслед за ним. У меня была совсем другая задача, о которой он, конечно, не знал. Я должен был пройти в направлении севера ровно столько, сколько были способны выдержать мои ноги, и потом упасть где-то там, в пустынной степи, головой к Ленинграду. Упасть и умереть.
Как-то странно получалось: я все время рвался в их степь, чтобы там умереть, а они перехватывали меня на этом пути и подкармливали, придавая мне каждый раз силы еще по меньшей мере на сутки. И теперь опять мой живот был полон пищей, а ноги хотя и болели после двухдневной перегрузки, но тем не менее вновь обрели силу, готовые шагать. Однако неудобно было уйти, не сказав спасибо хозяевам, и, подойдя к юнцу, который возился у колодца на краю огорода, я спросил, далеко ли молочная ферма. Он махнул рукой на юго-запад, вдоль той впадины, в которой располагалась их деревня, и сказал:
— Километра четыре отсюда.
Я призадумался. Уходить на четыре километра назад мне не хотелось. Это составило бы восемь километров лишних. Но я мог сказать спасибо одному хозяину, а хозяйке передать привет и благодарность через него. Порешив на этом, я спросил юнца, где работает его отец. Он к тому времени уже вытянул из колодца одно ведро с водой и, пристегнув к цепи второе, пустил его свободно падать вниз, отступив слегка от валика, чтобы не получить удара железной ручкой, которая закрутилась, как пропеллер, вместе с валиком. И пока ведро падало в колодец на изрядную глубину, он махнул рукой на север, где желтела зреющая пшеница, и сказал в пояснение:
— Там их бригада. Эту пшеницу они убирают.
Я переспросил:
— Вот эту самую?
Он ответил:
— Да. Только с той стороны.
— С той стороны? Значит, если я пойду туда по этой полосе пшеницы, то выйду прямо к ним?
Он как будто развеселился вдруг от моих слов. По крайней мере он даже не сразу взялся за железную ручку валика, чтобы вытянуть наверх второе ведро с водой, и так блеснул в мою сторону темно-карими материнскими глазами, словно услышал от меня очень интересную шутку, но не рассмеялся, а только пожал плечами и сказал, начиная крутить ручку:
— Да оно можно, конечно…
Но веселое удивление все еще сидело в его глазах. Однако оно меня мало интересовало, его непонятное веселье. Меня интересовало то, что отец работал на моем пути к северу. Выждав, когда у него освободилась правая рука, я пожал ее и пошел через огород прямо к пшеничному полю. Тогда он сказал мне вслед:
— Вам бы лучше по дороге пойти.
Я остановился, но, помня, что дорога сильно отклонялась к западу, спросил:
— Почему?
— Так… Машины там ходят — подвезут.
— Ничего. Я потом сверну к дороге оттуда, где ваши работают.
И опять увидел смех в его глазах. Но мне это уже надоело, и я готов был снова показать ему спину. А он, заметив это, посоветовал:
— Попейте хоть воды на дорожку.
Ведро у него уже стояло на краю колодца рядом с первым, блестя своими мокрыми боками на утреннем солнце. Вода в нем так раскачалась, что первое время выплескивалась через край целыми комьями, которые тут же разбивались о цементный край колодца на мелкие брызги.
Конечно, не мешало попить немного после соленого арбуза. Вода из такой глубины была, наверно, холодная и приятная, Но мне не нравился смех в его глазах, и я не стал пить. Живот мой был полон соком арбуза, пусть соленого. Зачем стал бы я пить еще? И я ответил:
— Нет, спасибо. Не хочу.
Он сказал:
— А я цибарку все-таки оставлю. Напьетесь, як назад повертаетесь.
— Зачем же я назад повертаюсь?
— Да так…
И на этот раз он уже совсем откровенно оскалил свои зубы, блеснувшие на солнце между его румяными губами одним цельным куском, словно молодой снег.
Я махнул рукой и больше не оглянулся, пока не прошел огороды. Оттуда я еще раз посмотрел в его сторону и увидел, что одно ведро он все-таки оставил на краю колодца, как обещал, а с другим уже шел через двор. Он так легко нес полное ведро воды, как будто оно было наполовину пустым. Похоже, что он собирался очень скоро превратиться в такого же великана, как и его отец. Не в этих ли краях набирал Ермил Антропов свой легион двухметровых?
Пройдя за огородами немного вверх, я выбрался из впадины, которую занимала деревня, и шагнул прямо в пшеницу. Занятая ею полоса тянулась дальше, чем я предполагал, глядя на нее из впадины. Но все равно я пошел по ней, раздвигая перед собой руками колосья и стараясь попадать ногами в междурядья, чтобы не ломать стеблей. Идти таким способом было не очень удобно, и хотя через полчаса от деревни, заслоненной пшеницей, остались на виду только крыши домов и вершины деревьев, однако отошел я от них немногим далее километра.
Повернувшись к деревне спиной, я снова вытянул руки вперед, продолжая свой путь между колосьями. Перед своими глазами я видел сплошное хлебное море до самого горизонта, и по этому морю гуляли волны. Они шли слева от меня, подгоняемые легким ветром, и уходили вправо, навстречу солнцу, которое уже довольно крепко припекало справа мое лицо. И, приходя ко мне слева, они слегка хлестали меня колосьями по левому боку и по левой руке, как бы недовольные тем, что я их разрывал, а затем, огибая меня и снова смыкаясь, уходили вправо к отдаленному горизонту.
Правда, горизонты мои были не такие уж отдаленные, если принять во внимание, что над колосьями торчали только мои плечи и голова. Кроме того, я знал, что позади меня над пшеницей выступают крыши домов и деревья, а слева невдалеке проходит дорога, разделяющая посевы. Да и внутри посевов попадались кое-где просветы до метра шириной. И только издали глаз принимал все это за сплошное хлебное море.
Пройдя еще с полчаса, я стал внимательнее вглядываться вперед, надеясь там увидеть жнецов с их уборочными машинами. Но сколько я ни вглядывался, становясь на цыпочки и вытягивая вверх шею, жнецы не показывались.
И тут меня осенила догадка. Я даже приостановился на минуту — до того просто она все объясняла. Они работали ниже того уровня, на котором находился я. Та пшеница, которую они убирали, росла в такой же впадине, в какой стояла их деревня, и появиться перед моими глазами они должны были внезапно, как только я выйду к этой впадине.
Стоя на месте, я даже подпрыгнул слегка, надеясь увидеть их там, впереди. Трудновато было, конечно, подпрыгивать с арбузом в животе, но я подпрыгнул еще и еще, взлетая с каждым разом выше. Горизонт мой при каждом прыжке немного раздвигался, но прыгал я зря.
Дальше я двинулся чуть быстрее, уже не так деликатно отстраняя набегающие на меня волнами слева колосья. Надо было скорей добраться до жнецов, сказать хозяину спасибо за приют и выйти на дорогу, чтобы продолжить без помех свой путь к Ленинграду. Дорога позволила бы мне идти самым полным шагом. И пусть она немного отклонялась к западу, в любое время она снова могла дать поворот на север. Важно было успеть отшагать по ней как можно дальше, пока съеденная пища давала силу для ходьбы.
Арбуз понемногу растворился внутри меня, перестав отягощать живот. Зато начала сказываться его соленость. Однако большой беды в этом не было, потому что я мог напиться воды у жнецов. Но они почему-то упорно не хотели появляться на моем пути вместе с той впадиной, в которой косили хлеб.
Правильно ли я шел? Стараясь не сбиться с пути, я все время подставлял солнцу правую щеку. Но ведь солнце-то двигалось. Значит, и я отклонился от своего направления. Оглянувшись на деревню, я увидел, что действительно отклонился. Ей следовало находиться прямо за моей спиной, а она чуть сместилась в сторону. От нее уже немного осталось на виду: только несколько самых высоких деревьев и три крыши, покрытые шифером.
Повернувшись к ним спиной, я направился дальше, отстраняя левой рукой набегающие на меня волны пузатых колосьев. Теперь жнецы были где-то уже совсем близко. Еще десяток-другой шагов — и я мог начать выискивать глазами среди их уборочных машин и самосвалов то место, где они хранили воду. Без воды они не могли там работать. Вода у человека должна быть не только дома в колодце, но и там, где он работает.
Мне вдруг вспомнился почему-то большой прозрачный комок воды, летящий из влажного ведра на ребра колодца, где он разбивается на мелкие огненные брызги и стекает на землю. Не знаю, почему он мне вдруг вспомнился. Надо полагать, была она холодной, та вода, вытащенная из такой огромной глубины. Стоило даже попробовать воду из того ведра. Напрасно я отказался. Теперь я знал бы по крайней мере, какая у них на вкус вода в колодце.
Кстати, я понял, почему скалил зубы тот юнец. Он знал, что жнецы работают далеко. Вот почему он сказал: «Оставлю цибарку». Он думал, что я не дойду до них и вернусь. А я почти уже дошел, и его цибарка напрасно дожидалась меня, стоя на краю колодца. И напрасно нагревалась в ней вода под лучами солнца. Уж лучше нес бы он ее домой и пил сам, пока она не превратилась в кипяток. Пить в жаркое время теплую воду не очень-то приятно. Теплой водой никогда толком не напьешься, сколько ее ни пей. А холодная вода дает себя знать с первого же глотка, особенно если сделать глоток побольше, окуная рот поглубже в ковш с водой. А если не переводя дыхания вылить в себя весь ковш, то сразу чувствуешь, как угасает внутри тебя жар и как холодная влага начинает напитывать каждую твою иссохшую клеточку.
Одним словом, напрасно он приманивал меня своей водой. Я не хотел пить, если на то пошло. Вода никогда меня особенно не привлекала, а длительные прогулки в палящий зной сквозь драчливую пшеницу, наоборот, были самым любимым занятием в моей жизни.
Подпрыгнув еще несколько раз для расширения горизонта, я продолжал свою приятную прогулку вдоль пшеничных волн, идущих слева, чувствуя в то же время, как солнце все выше поднимается в небе, заходя мне за спину. Чтобы легче дышалось, я отвязал галстук и, спрятав его в карман, расстегнул ворот рубахи. Все у меня шло как надо — чего там! Для подтверждения этого я даже спел песенку про веселого торпаря с припевами «Хип-хей!» и «Тралла-лла-лей!».
И вспомнив, что песенку эту любил напевать иногда своим натужным голосом старый Ахти Ванхатакки, я заглянул попутно туда, в далекую каменистую Кивилааксо, и увидел, как он там восседает на пороге своего крохотного деревянного домика с трубкой во рту. Он восседает с таким видом, будто усиленно обдумывает что-то очень важное, и это важное, судя по его виду, имеет касательство по меньшей мере к делам целого государства, если не к судьбам всех людей Земли. И, обдумывая судьбы всех людей Земли, он глубокомысленно смотрит вдаль.
Но это только кажется, что он смотрит вдаль. На самом деле он смотрит не далее своих двух засоренных камнем гектаров. И это только кажется, что он думает о судьбах всех людей Земли. На самом деле его мысли ворочаются в пределах тех же двух гектаров.
Но вот я взмахом руки привлекаю его внимание к более отдаленному месту и говорю ему:
— Хей, Ванхатакки! Ты видишь, среди какого богатства я иду?
И он видит, конечно. Разве могут его вечно тоскующие по земле и хлебу старые глаза пропустить без внимания такую вещь? Он передвигает свою прокопченную трубку из одного угла рта в другой и смотрит на меня с удивлением. А я опять говорю ему громко:
— Видишь? Это все пшеница! Она тянется на все стороны без конца. Понимаешь?
Он понимает, конечно, но молчит. Вытянуть из него хотя бы слово всегда стоило очень большого труда. Поэтому я опять громко разъясняю ему:
— Это все хлеб кругом! Чистый пшеничный хлеб, в котором ты мог бы заблудиться, как в пустыне, если бы попал сюда. Понимаешь? Заблудиться в хлебе! Ты и не знал, что есть на свете места, где можно заблудиться в хлебе? Вот они здесь, эти места, в России. Видишь?
Он все еще молчит, но его белые брови уже лезут вверх, приоткрывая на этот раз полностью маленькие бледно-голубые кружочки глубоко упрятанных глаз. А я продолжаю ему разъяснять:
— Это настоящая хлебная пустыня без конца, без края, но такая пустыня, где с голоду не умрешь, хоть всю жизнь в ней живи. Вот, видишь?
Я срываю колос и растираю его в ладонях, сдунув мякину прочь. Зерна на моей ладони лежат крупные и пузатые, как бочонки.
— Видишь? Видишь, сколько их тут в одном колосе!
Я бросаю их в рот и начинаю жевать. Зерна хрустят на зубах, готовые к жатве.
— С голоду тут не умрешь, Ахти, в такой пустыне! Только водой запасайся! Да и то я по секрету могу тебе указать, где тут, совсем рядом, в каких-нибудь пяти-семи километрах есть колодец. Доставай из него воду и пей сколько влезет! А одно ведро даже налито и стоит на краю колодца, полное холодной воды. Хватай это ведро обеими руками и пей! Можешь окунуть в него свою маленькую голову и пить, не вынимая ее из воды. Можешь вылить на себя эту воду и достать из глубины колодца еще и еще самой холодной, какая только может быть на свете, и снова пить и пить! Понимаешь?
На этот раз он кивает головой и передвигает свою трубку в другой угол рта. Он всегда держит свою трубку только по углам рта. Держать ее прямо посреди рта ему нечем: не хватает четырех верхних зубов. Он узнавал у дантистов насчет новых зубов, и ему сказали, что это будет стоить не дешевле, чем вставить сразу всю верхнюю челюсть. И тогда он решил ждать, когда выпадут, все остальные верхние зубы, чтобы заодно уплатить ту же цену за всю челюсть.
— Тебе никогда такое не увидеть! — говорю я ему. — Это здесь только можно увидеть, где все вместе пахали, вместе сеяли и вместе будут убирать. И называется это «Объединенный труд». Были когда-то и здесь мелкие клочки, как у тебя. И каждый стоял на своем клочке и махал топором, как ты, чтобы не подходили другие. А теперь они объединились — и видишь, какой получился хлебный океан! Но ты не видишь. Где тебе! Ты, кроме своих двух гектаров с куском торфяного болота, ничего не видел. Ты тридцать пять лет подряд выковыривал из них камни, из этих двух гектаров, и выложил вокруг своего поля целую крепостную стену. Но всех не выковырял. Каждый год новые камни опять лезли из-под плуга наверх. Приобретая эту землю у Арви Сайтури в Кивилааксо, ты думал, что очистишь ее от камней в два года. Но им не видно конца.
— Их уже меньше стало, — говорит он сквозь черную дыру между своими желтыми зубами и снова закрепляет в углу рта трубку.
— Стало меньше, говоришь? Но сколько стало тебе? Не перевалило ли тебе на седьмой десяток? Через полсотни лет их станет еще меньше, но где тогда будешь ты? А у меня, смотри-ка: ни одного камня, даже самого маленького! Это как черное тесто, если смочить его водой, и называется — чернозем. Я не вложил в него ни крошки перегноя, а кажется, будто валил его сюда тоннами многие сотни лет подряд. Вот какая у меня земля!
Он смотрит на меня недоверчиво, почесывая черным ногтем седую щетину на сухой щеке. Эта щетина у него всегда одинакова. Он ее не бреет, а только стрижет время от времени ножницами, чтобы не тратить лишний раз мыла. Волосы свои он тоже давно оставил в покое. Их у него не много, и за день они сбиваются у него под шапкой в разные стороны, прилипая к черепу. Он так и оставляет их до следующего дня, а потом опять до следующего, пока не наступит суббота и не затопится баня у соседа, Пентти Турунена.
— Это все мое, — кричу я ему, продолжая осторожно пробираться вперед между стеблями пшеницы и чувствуя, как солнце все больше заходит мне за спину, припекая темя. — Это все мое! Здесь такая страна, что никто не примирился бы с двумя гектарами. И я тоже не мирюсь. Все двадцать миллионов квадратных километров здесь — мои! И никак не меньше! Понимаешь ты меня?
Нет, этого он, конечно, не понимает, потому что сидит с тем же видом, дымя трубкой на пороге своего домика, обшитого с одной половины досками, а с другой — куском старой крыши с дранкой. Дранка трухлявая, но она досталась ему почти даром от сгнившего у соседа в поле сенного сарая, и поэтому грешно было бы ею не попользоваться. Он смотрит на меня с тем же непонимающим видом, держа седые брови в приподнятом положении над крохотными выцветшими глазами, и вдруг спрашивает меня:
— А зачем ты то и дело прыгаешь как воробей?
— Зачем прыгаю? Просто так прыгаю. Радуюсь — вот и прыгаю. Мне весело оттого, что у меня такие богатые владения.
— Но морда у тебя совсем не веселая, когда ты скачешь. Рот разинут, и глаза как у рыбы, которую хлопнули головой о камень.
— Зато у тебя веселая морда, когда ты лезешь с лопатой на свой клочок болота в Кивилааксо. Арви знал, что делал, когда уделял тебе по дешевке эти полгектара мха с клюквой. Он предвидел, что ты перекачаешь оттуда на свои каменистые пашни весь торф и этим оттянешь воду от остального его болота. Так оно и получилось. Ты надеялся после снятия верхнего слоя торфа превратить свой кусок болота в зеленый луг с посевной травой, а получился грязный пруд. Не помогли и канавы, которые ты прокопал вокруг. Они наполнились водой доверху, ничего не осушая. И ты только зря топтался там с лопатой, хлюпая в грязной жиже сапогами. Проходил дождь — и опять все наполнялось водой. Осенью там вода стоит, как в озере, застывая на зиму. А весной опять — сплошная глубокая вода. Не много вырастишь на воде. Вода есть вода.
— Ты что-то очень много болтаешь о воде, — говорит он. — Уж не дать ли тебе попить?
— А иди ты к дьяволу, старый хрен! — говорю я.
И он пропадает к дьяволу вместе со своим чешуйчатым домиком и трубкой. А я опять остаюсь один прыгать и веселиться среди своих владений.
Тот юнец, наверно, уже давно караулил возле колодца, готовясь встретить меня насмешливым блеском своих белых зубов. Но я не собирался давать ему повод для этого. Я спокойно шел вперед, радуясь прогулке, и никакая вода не шла мне на ум, ни теплая, ни холодная. Она могла стоять себе спокойно в тихой прохладе колодцев или озер или пробиваться где-нибудь ледяным родником, чтобы затем сбежать студеными голубыми потоками в какую-нибудь очень большую реку, уносящую ее целыми миллионами тонн в моря и океаны, и без того по горло сытые водой. А меня она не интересовала. Если же я временами и облизывал губы, то это ничего не доказывало. На то и дан человеку язык, чтобы проводить им время от времени по губам.
Уборочные машины все еще не показывались впереди. Для проверки направления я еще раз оглянулся на деревню и на этот раз не увидел крыш. Только три дерева выставляли над пшеницей концы своих вершин, но и они из-за отдаленности утеряли зеленую окраску, превратившись в темные силуэты. А знойное голубое марево, заслонившее их от меня, дрожало и трепетало, заставляя их тоже дрожать и трепетать. Временами казалось, что они отделяются от земли, повисая в воздухе, а временами это выглядело так, будто их там затопило озеро вместе со всей деревней и колодцами.
Но даже озеро меня не соблазнило. Я продолжал идти своим путем на север, где не было видно никакого озера, где зато простиралось море, сухое, желтое море, катящее мимо меня слева направо извилистые волны хлебных колосьев. А голубой цвет озера таило в себе небо. Но оно, кроме того, изливало блеск, слепящий глаза. И это заставляло меня водить глазами только понизу, где не было блеска, но где зато все заполонил золотисто-желтый цвет. Даже странным казалось, что на земле не осталось никакого иного цвета, кроме желтого, и никаких иных звуков, кроме сухого шороха колосьев.
И тут мне подумалось, не испортились ли мои глаза: может быть, они принимают все за желтое? Бывает, кажется, у некоторых людей такая болезнь, когда они все вокруг видят окрашенным в зеленый цвет. А я все видел желтым. Просто утомились, может быть, глаза, и надо было дать им отдых. Я закрыл глаза и постоял так немного, потом сел в пшеницу, не открывая их, а потом запрокинулся на спину, вытянув ноги.
И сразу ушли куда-то желтые волны и сверкающая голубизна неба. Остался только легкий шорох колосьев над моей головой. И даже солнце перестало палить, ослабленное тенью нависающих надо мной колосьев. Ноги мои сладко заныли, получив отдых, и как бы потекли куда-то, в глубину хлебов. Они уже изрядно натоптались, ни к чему не придя. Не мудрено, что им захотелось от меня утечь.
И как-то незаметно для меня шуршанье колосьев превратилось в журчанье воды. Она бежала откуда-то сверху широкой голубой струей и падала перед самым моим лицом в глубокое, прохладное озеро. Не знаю, зачем оно мне понадобилось, это озеро, но получилось так, что я потянулся к нему, и не только потянулся, но и погрузил свою голову по самые уши в его прохладную глубину и начал пить, пить, пить…
Неизвестно, сколько времени пролежал я в дремоте, но все это время я неотрывно пил и, только проснувшись, понял, каким пустым делом занимался. Я встал, окидывая взглядом пленившее меня хлебное море, и не сразу сообразил, в какую сторону надлежало мне опять направить свой путь. Вершины деревьев, обозначавшие местонахождение деревни, пропали, а солнце не стояло на месте, оно даже немного опустилось за это время. Только ветер помог мне снова взять правильное направление на север. И при этом оказалось, что солнце уже успело передвинуться влево от меня.
И снова я продирался сквозь колосья к северу, высматривая на горизонте контуры уборочных машин. Что еще мне оставалось делать? Я не хотел, чтобы кто-то, насмешливо скалящий молодые зубы, нашел среди этих налитых зерном и жизнью золотистых волн мои белые кости и воткнул возле них кол с надписью: «Здесь лежит прах Акселя Турханена, который понял, дойдя до этого места, что такое объединенный труд». Я не хотел такой надписи у своих костей и потому продолжал шагать на север.
И опять я подпрыгнул раза два для расширения горизонта. А может быть, от избытка радости. Кто смог бы это определить? Мне стало весело — вот я и подпрыгнул. Так могло выглядеть это со стороны. Правда, я бы не сказал, что мне было очень уж весело. Мне было скорее невесело, чем весело. Даже грустно мне было, если уж говорить прямо, грустно и тоскливо. Вернее, не грустно, а очень скверно было мне — хуже быть не могло, ибо я погибал от жажды в сухой и жаркой хлебной пустыне.
И еще около часа пробирался я в том же направлении, вглядываясь в не очень отдаленный горизонт, и опять напрасно. Тогда я понял, что совершилось что-то неладное в этих непонятных русских степях. Не могло так быть, чтобы это было сделано на погибель человеку. Тут вмешались какие-то иные силы, относительно которых не раз предостерегал меня молодой Петр Иванович. Они вырвали власть из рук человека и сделали эти хлеба орудием совсем иного назначения, чем то, которое выполняют хлеба обычно. Они сломали установленные человеком слабые преграды и погнали эти хлебные волны в наступление на весь остальной земной мир, затопляя ими без остатка все, что попадалось. Только я одни уцелел пока в этом хлебном половодье, которое растекалось на все стороны до самого края неба. Но и мне уже недолго оставалось держаться на ногах.
Не помню, сколько времени выбирался я из хлебного плена, ибо время тоже вышло за пределы своих законов. Солнце слева от меня опускалось к западу, полагая, как всегда, завершить на земле день. Но оно ошибалось. Прошло уже много дней, пока я метался в этом безбрежном золотом потоке, а оно только раз обогнуло небосвод, забывая его покинуть. Все перевернулось и разладилось в этом непонятном для меня мире, где остался только один я среди сухого звона спелых колосьев под голубым небом, изливавшим на меня жар и сверкание. Злую шутку сыграл со мной объединенный труд. Конечно, они имели право на такую шутку. Но стоило ли при этом отправлять на тот свет меня?
Да, я понял тебя, паренек. Понял даже то, чего ты, по молодости своей, не мог мне сказать, и увидел то, чего ты сам не мог увидеть, окруженный этим океаном сытости. Никогда не поймешь ты того мира, где горсть каменистой пашни и торфа может стать пределом человеческой мечты. Да и не обязательно тебе понимать. Но испытать боль в сердце при виде человека, достигшего такой мечты, тебе было бы полезно. Я бы показал тебе издали его сухую согнутую спину и прилипшие к черепу старые волосы, если бы сам не готовился расстаться с жизнью, уткнувшись мордой в твой пшеничный хлеб.
Я шел очень долго, целый год, и, только обогнув два раза земной шар, увидел наконец впереди уборочные машины. Они, словно корабли, плыли по хлебным волнам, взмахивая лопастями своих колес. А возле них сновали машины-самосвалы. Ускорив свой шаг, я уже не отрывал от них глаз, боясь, что все это вдруг сгинет как некое наваждение. Но оно не сгинуло. Корабли проплыли передо мной слева направо, отхватив от пшеницы полосу такой ширины, что у нее сразу ясно обозначилась кромка. И я заторопился к этой кромке.
И вот я шагнул наконец за пределы пшеничных волн, ткнувших меня напоследок в бок особенно крепко остриями своих колосьев. Я шагнул и остановился, расставив ноги для сохранения равновесия, ибо все передо мной поплыло вдруг влево: и свежая стерня, на которую я ступил, и толстые валки обмолоченной соломы, и отдаленные продолговатые скирды. Но длилось это недолго, и я понял, что все дело в глазах. Они у меня привыкли к движению воли вправо и не могли сразу свыкнуться с неподвижностью.
Когда они свыклись, я направился по стерне туда, где виднелись люди. Этим всегда заканчивалась тут моя попытка от них оторваться. Я уходил от людей, чтобы снова прийти к ним же. Не знаю, почему так получалось. Не потому ли, что земля, которая была когда-то плоской и просторной, теперь стала круглой и тесной? Стало быть, уходя от людей в одну сторону, ты непременно опять вернешься к ним с другой. И, может быть, наступило время, когда человеку от человека не стоит и пытаться уходить?
Рокот моторов слева заставил меня обернуться. Еще три огромных корабля плыли один за другим вдоль кромки нескошенной пшеницы, подгребая ее к себе, как воду, длинными лопастями и выбрасывая вместо нее сзади голую скомканную солому. На мостиках кораблей стояли капитаны, ведущие свои суда в нужном направлении. На мостике первого корабля рядом с капитаном появилась молодая женщина. Она взмахнула цветной косынкой, и к ней откуда-то из-за ближайшей скирды устремился грузовик с железным кузовом. Он догнал корабль и, сбавив ход, пошел рядом с ним. Женщина направила в его кузов конец трубы, наподобие водосточной, с парусиновым рукавом на конце, и оттуда хлынул широкий — в размер отверстия трубы — поток зерна.
Когда кузов наполнился зерном, грузовик умчался. Женщина подняла конец трубы, затянула на нем рукав и скрылась в корабельном трюме. А ее капитана я узнал, хотя был он в шоферских очках и весь облеплен мякиной, которая облаком клубилась над мостиком. Это к нему я пришел, чтобы сказать «спасибо» за ночной приют и потом выйти на дорогу. Он тоже меня узнал и, подняв над головой руку, покачал ею приветливо. Я тоже помахал ему, потом тронул рукой свое горло и крикнул:
— Пи-и!..
Больше у меня ничего не получилось. Но он понял, хотя и не слыхал, конечно, моего голоса. Он видел, откуда я вышел, да и накануне успел убедиться в моем пристрастии к воде. Исходя из этого, он выразительно рассек воздух ребром ладони, указывая мне направление, и я без промедления зашагал туда.
Какой-то длиннорукий механизм, похожий на высокую башню, пересек мне дорогу. Он двигался вдоль валка соломы, набирая ее на опущенную вниз платформу, а когда набрал изрядную копну, подкатил к незаконченной скирде и там взметнул эту платформу на длинном рычаге вверх, сбросив солому на вилы двум парням, распределявшим ее равномерно по всей поверхности скирды.
Я прошел мимо, держась взятого направления. Впереди меня в разных местах виднелось много других свежих скирд, наставленных на дне бывшего хлебного моря. Но меня не скирды интересовали. Идя по указанному направлению, я скоро увидел маленький деревянный домик на толстых резиновых колесах. Из трубы домика шел дым, а в открытое оконце пахнуло мясной пищей. Возле домика под брезентовым навесом стояли в ряд одинаковые столы. Две молодые женщины расставляли на них миски, ложки и подносы с нарезанным серым хлебом. Но я прошел к другому навесу. Там в тени брезента стояла прицепная цистерна на таких же толстых колесах, как и домик, а на ее медном кране висел ковш.
Никто не остановил меня, когда я взялся за ковш и отвернул кран. И пока прозрачная струя била в ковш, я воровато глянул по сторонам. Злое намерение зародилось во мне. Я собирался выпить всю цистерну и оставить их всех без воды. Я понимал, конечно, что это очень тяжкое преступление, но не мог удержаться. Первый ковш я выпил залпом, второй пил с передышками, а третьего пить не стал, повесив ковш на прежнее место. Бог с ними — пусть остаются с водой.
И, стоя на коленях перед медным краном, я вытер кулаком слезы, выдавленные слишком крупными глотками воды, и посмеялся про себя негромким хриплым смехом. Все же натянул я нос опять кое-кому из этих русских насмешников, хе-хе! Или украинских? Ладно, пусть украинских. Он надеялся, что я не пересеку эту полоску пшеницы и вернусь к его ведру, выплескивающему на край колодца студеные, пронизанные солнцем комья, а я взял и пересек. В один миг пересек и даже глазом не моргнул.
59
Я с опозданием сказал «спасибо» своему хозяину, и сказал сразу за два ночлега, за два ужина и два завтрака. И когда я пожал ему руку, готовясь продолжить свой путь к северу, он предложил:
— Если вам у нас понравилось, оставайтесь до конца уборки.
Я переспросил:
— До конца уборки? Ого! Это на сколько же лет?
Он улыбнулся:
— Плохого же вы мнения о наших темпах. Но ничего. За недельку управимся.
— За недельку? То, что я вчера прошел, вы собираетесь убрать за недельку?
— То, что вы вчера прошли, мы уберем за два дня. Это я говорю о своей седьмой бригаде. За остальные девять не ручаюсь. Из них есть некоторые послабее, но есть и покрепче нашей.
Так обстояло у них дело с уборкой. Весь этот хлебный океан, затопивший начисто их землю, они полагали снять за недельку. На это стоило посмотреть, конечно, если бы судьба не определила мне другую задачу, единственную и последнюю в моей жизни. Я сказал:
— Спасибо. Но у меня всего неделька осталась, а я хотел еще кое-что посмотреть…
Он понимающе кивнул и, разведя ладонями, подосадовал:
— Жаль. А я — то надеялся, что мы в воскресенье соберемся всей бригадой и побеседуем с вами о Финляндии.
— Да, жаль…
Он больше не стал меня уговаривать. Его корабль уже стоял возле походной мастерской, готовый к плаванию. Техники осмотрели его и заправили горючим. Торопясь к ним, он спросил напоследок:
— А от нас вы куда?
Я махнул рукой в направлении севера. Он спросил:
— На станцию?
— Да…
Насчет станции я услыхал впервые. Но если там на моем пути была станция — что ж. Пусть будет станция. Это ничего не меняло. Не все ли равно было мне, не имеющему в кармане ни копейки? А он посоветовал:
— Так вы бы хоть подъехали немного. Сейчас туда четыре наших самосвала идут — к элеватору. Или не хотите?
У него, как видно, составилось обо мне твердое мнение как о заядлом стороннике пешего хождения. Но видя, что я не тороплюсь отстаивать преимущество такого способа передвижения по земле, он сказал кому-то через мою голову:
— Остап! Договорись там с водителями. И сам поедешь — проводишь товарища Тур… Турханюка до станции. И с билетом посодействуй, если что.
Сказав это, он пожелал мне доброго пути и направился к своему кораблю, застегивая на ходу воротник синего комбинезона, который шили ему, надо полагать, по особому заказу. Шагал он размеренно, не торопясь, будто обдумывая при этом что-то. Ему было что обдумывать, конечно, этому покорителю хлебных океанов, ибо бремя он взвалил на себя немалое. Не только бригада, действующая на таком огромном пространстве, была его заботой, и не только звание парторга, наверное, еще более хлопотное. Но был он, кроме того, Иваном, который вознамерился наново переделать половину мира и которому в самом начале этой переделки пришлось отстаивать с мечом в руках сделанное.
Я обернулся к Остапу. Он спросил: «Поехали?». И указал на готовые к походу грузовики. Я кивнул, и мы направились туда. Он даже припустил бегом, чтобы не дать грузовикам уйти без нас. Тонкий и гибкий, в белой безрукавке, заправленной в серые брюки, он так и замелькал подошвами сандалий, помахивая поднятой вверх рукой. Грузовики подождали, и скоро мы уже ехали, сидя рядом с ним на зерне в кузове пятитонного самосвала.
Ехали мы молча, хотя могли бы и поговорить. На его юном лице все время отражалась готовность к этому — стоило мне к нему обернуться. И в улыбке его была та же готовность. А в красивых глазах, взятых от матери, вместо насмешки таилась теперь скорее виноватость.
Он появился на полевом стане накануне вечером и, кажется, обрадовался, увидев меня живым, а потом весь вечер оказывал мне особенное внимание. Помогая женщинам раздавать приехавшим с работы людям пищу, он мне первому поставил полную миску борща. И после, когда я одолевал пшенную кашу, сдобренную жареной свининой с луком, он три раза наполнял мою кружку холодным молоком из большого термоса. К ночи он приготовил мне постель, достав у женщин одеяло и кусок полотна для покрытия соломы. А утром первая миска круглых галушек в сметане, сделанных из теста, опять-таки была поставлена передо мной.
Однако беседа у нас не клеилась. О чем стал бы я говорить с ним, не знающим цены тому, чем он владел? С высоты кузова я молча оглядывал степь, заставленную длинными скирдами соломы. Пшеница здесь была убрана полностью. А после нее пошли нетронутые плантации подсолнечника и кукурузы. Две деревни проплыли мимо в отдалении справа и слева. А впереди очень скоро обозначились башни элеватора.
Дорога, по которой мы ехали, была такая же, как все их степные дороги. Она могла пройти здесь, но могла пройти и там — как вздумалось бы водителю. И только деревянный мостик, перекинутый через небольшую речку, как бы устанавливал ее подлинность. Я долго провожал глазами эту речку, поросшую по берегам высокой травой и кустарником. Не вовремя она попалась на моем пути, вчера она была бы, пожалуй, более кстати.
Дорога постепенно отклонялась к северо-востоку. Вглядываясь в том же направлении, я увидел вдали невысокую насыпь железной дороги, протянувшуюся с юга на север, и красную крышу станции в окружении невысоких раскидистых деревьев. Да, это было как раз то, в чем я нуждался, но подоспело оно ко мне слишком поздно.
Возле станции грузовик остановился, и мы с юнцом спрыгнули на землю. Грузовик укатил дальше — к элеватору, а я вошел внутрь станции. Конечно, делать мне там было нечего, но мог ли я не войти? А войдя туда, я первым долгом стал читать на стене названия городов, до которых можно было доехать от этой станции. И среди них был мой Ленинград. Я снова и снова прочел это название. Оно отчетливо выделялось в моих глазах среди других названий, и, даже поворачивая голову в стороны, я видел его боковым зрением. Но самого города мне уже не дано было видеть. Без меня предстояло ему теперь доживать в сиротливости свои горькие дни.
Тем временем юнец обошел все углы станции, здороваясь направо и налево. Здесь все были ему знакомы. Пожилой уборщице, подметавшей пол, он сказал: «Здравствуйте, тетя Паня!». Толстой, круглолицей буфетчице с желтыми завитыми волосами сказал: «Здравствуйте, Василиса Онуфриевна!». И даже в окошко кассы послал улыбку, помахав ладонью.
Но, крутясь по обеим комнатам станции, откуда люди с узлами и чемоданами уже вышли на перрон, он то и дело возвращался ко мне, глядя на меня выжидательно. Наконец он не вытерпел и сказал:
— Сейчас одесский прибывает. Вы на нем? Или николаевского будете ждать?
Я плохо понял его, раздумывая о Ленинграде. Мне уже пора было трогаться в путь, чтобы успеть пройти как можно дальше на север, пока у меня в животе находились его галушки. Но кое-что я все же уловил в его вопросе и ответил:
— Нет, ждать я не буду.
— Ага. Значит, на одесский. Но имейте в виду — он уже подходит.
Сказав это, он остановился в трех шагах, глядя на меня с недоумением. Я все еще стоял на месте. Да, надо было трогаться в путь. И я бы уже ушел, наверное, не будь возле меня этого заботливого юнца. Чем объяснил бы я ему свой уход? Он, по всей видимости, ожидал, что я уеду поездом. Наивный простак! Долго же ему пришлось бы ждать. Вздумай он ждать моего отъезда поездом, не видать бы ему больше никогда в жизни ни отца, ни матери, ни родного дома. Так и зачахли бы они там в тоске по нем. И сам он, обросший бородой ниже пояса, так и закончил бы тут свои дни.
Какой-то поезд подошел к станции с южной стороны. Сквозь открытые двери и окна было видно, что это пассажирский поезд. На перроне началась обычная для таких случаев суетня: одни выходили из вагонов, другие входили. Я смотрел на все это, готовясь выйти из станции в другие двери. А юнец опять не вытерпел и, шагнув ко мне, сказал:
— Он всего шесть минут стоит.
Я сделал удивленное лицо:
— Да? Так мало?
Он подтвердил:
— Да. — И, полный нетерпения, поинтересовался: — А вы докуда хотите ехать?
Тогда я решил, что хватит зря тянуть время. Надо трогаться. И, ставя все на свое место, я сказал:
— Да ведь я же…
Не знаю, как я намеревался закончить свой ответ. «Да ведь я же не собираюсь ехать поездом». Или: «Да ведь я же люблю больше пешком». Или прямо: «Да ведь я же денег не имею на билет». Не знаю, как я собирался закончить. Я не успел закончить. Нетерпеливый юнец подхватил:
— До Витья´жей? То есть Витьяжéй? Станция Витьяжи´? Знаю. Это Белоруссия. Вы туда хотите?
Подскочив к стене, он быстро пробежал глазами таблицу цен и, вернувшись ко мне, сообщил:
— Девятнадцать рублей семьдесят копеек.
Он выждал немного, сказав это. Но видя, что никакого действия его слова на меня не оказали, смутился слегка и попятился, пропуская мимо себя вышедших из поезда людей. Потом он снова бросил беспокойный взгляд на поезд и на меня и вдруг, словно сообразив что-то, кинулся к окошку кассы. Оттуда до меня донеслись его слова:
— Дора Яковлевна! Витьяжи! Один билет… Но только…
Далее несколько слов он произнес вполголоса, на что последовал ответ кассирши:
— Нет, нет, нет! У меня не касса взаимопомощи.
Но юнец опять стал что-то убедительно говорить в окошко кассы. До моего уха донеслись его отдельные слова:
— Вы поймите… Иностранец… Неудобно… Я сегодня же… Вы же меня знаете… Это моя личная к вам просьба… Вы же хорошая, добрая и красивая!..
Не знаю, что ему там понадобилось вдруг, в окошке кассы. Меня он почему-то не захотел выслушать до конца, переведя разговор на что-то другое — бог с ним. Не видя больше причины задерживаться на станции, я направился к выходу.
Тем временем за окошком кассы что-то щелкнуло, стукнуло, и юнец опять ринулся ко мне. Он перехватил меня в дверях и заговорил торопливо, путая знакомые и незнакомые мне слова:
— Куда же вы? Це ж не перрон! Ось билет на Витьяжи! Держите! Пойдем скорей! Вин уйдет сейчас!
Он сунул мне что-то в нагрудный карман пиджака и, схватив меня за рукав, повел обратно по залу ожидания. И пока он вел, два черных женских глаза пытливо всматривались в меня из окошка кассы. Когда он вывел меня на перрон, паровоз дал свисток. Заторопившись еще больше, он подтянул меня к ближайшему вагону и стал подталкивать к подножке, приговаривая:
— Влезайте же, влезайте! Он же тронется сейчас!
Проводница, стоявшая на краю площадки вагона, посторонилась, уступая мне дорогу. Видя это, я поднялся на площадку. Буфера лязгнули, и поезд тронулся. Я обернулся к юнцу. Он так и сиял всеми своими зубами, похожими на молодой снег. Я тоже ему улыбнулся, хотя не совсем еще понимал, чему мы оба радуемся. Он помахал мне рукой, и я помахал в ответ. Он даже пробежал немного рядом с поездом, продолжая махать и улыбаться. Я тоже махал ему рукой и улыбался, пока не потерял из виду его черноволосую голову. А когда я перестал улыбаться и махать, проводница сказала:
— Ваш билет!
Я не сразу понял:
— Билет? Какой?.. Ах да! Сейчас!..
Я достал из нагрудного кармана пиджака то, что мне туда вложил юнец, и подал ей. Она подержала это в руках, всмотрелась в этот кусочек картона и вернула мне. Затем она пошла в вагон. Я тоже повертел в руках коричневый картонный билет, на котором было проштамповано слово «Витьяжи». Вот, значит, куда я ехал. Так распорядился этот пухлогубый юнец, которого звали Остапом. Непонятно, для чего это ему понадобилось. Может быть, он думал, что там, возле той станции, носящей такое труднопроизносимое название, был мой дом, а в доме — жена и дети, которые ждали меня с нетерпением?
Насколько я понял, у него даже денег не было на покупку этого билета, и он взял его в долг. Перед тем он, кажется, надеялся, что я сам уплачу за этот билет, а я не уплатил. И теперь я остался ему должен девятнадцать рублей семьдесят копеек. Каким способом сумел бы я вернуть ему эти деньги? Только добравшись до Ленинграда, я мог бы ему их выслать, да и то в очень приблизительный адрес: Украина, колхоз «Объединенный труд», Остапу. А если мне не суждено было добраться до Ленинграда, то как после этого стал бы думать обо мне Остап? «Эх, Остап, Остап!» — как сказал бы их великий русский писатель Гоголь, который, кроме того, сказал: «Эх, тройка! птица тройка…»
Ладно. Все у меня складывалось пока неплохо — чего там! Я не лежал при последнем издыхании среди безлюдной степи и не скреб ногтями землю в предсмертных судорогах. В животе у меня были галушки со сметаной, и, полный сытости, я, не двигая ногами, двигался на север. Сперва меня километров на пятнадцать к северу подбросил грузовик с зерном, а теперь дальше мчал поезд. Конечно, он мчал меня не в Ленинград, а куда-то в Белоруссию, но все-таки двигался я к северу, а не югу, и двигался быстро, отхватывая по километру в минуту. Все у меня шло как надо.
Хлебные посевы по обе стороны поезда сменились какими-то другими растениями. Они росли в бороздах, и эти борозды простирались до самого горизонта. Насколько я убедился, здесь не умели засевать землю малыми долями. Им обязательно нужно было заполнять ее от горизонта до горизонта. По листве растений я догадался, что это была свекла, сахарная свекла. Какие-то механизмы пропахивали ее в разных местах, захватывая сразу по нескольку борозд.
Постояв немного на площадке, я сообразил, что могу с тем же успехом озирать эти просторы сидя. И я вошел внутрь вагона, где было тесно и душно и стоял табачный дым, несмотря на открытые окна. Продвигаясь медленно вдоль прохода, я нашел свободное место на краю скамейки и сел, стараясь не смотреть на своих соседей, чтобы не вызвать их на разговор со мной.
Что стал бы я им говорить? Что еду до станции Витьяжи? А зачем еду? Кто меня там ждет? И где ждет? На самой станции или где-нибудь рядом в деревне? А как называется ваша деревня? И кто ваши соседи в этой деревне? Ах, вы не знаете, кто ваши соседи? И даже названия своей деревни не знаете? А точно ли вы там живете? Показывайте ваши документы! О-о, так вот вы откуда! Значит, это вы убивали нас голодом в своих лагерях, кормя баландой из мерзлых картофельных очистков! Узнаете его, ребята? Бей его! Бей насмерть!
Нет, лучше было не разговаривать, конечно. И я сидел на краю скамейки, глядя на чужие узлы и чемоданы, сваленные у моих ног. На остановках одни люди выходили из вагона, другие входили. На одной длительной остановке освободилось место рядом со мной. Я передвинулся на середину скамейки и, закрыв глаза, откинулся к стене.
Так я проехал до самого вечера, подремывая время от времени и прислушиваясь к обрывкам людских разговоров. На иных остановках поезд стоял минут пятнадцать, а один раз простоял с полчаса. Это были, наверное, какие-то города. В одном месте поезд медленно прошел над широкой рекой по длинному металлическому мосту, а потом снова продолжал отмеривать километры по сухопутной равнине.
Сидевшие у окна за столиком друг против друга мужчина и женщина принялись закусывать пшеничным хлебом с маслом и колбасой, запивая его молоком из кружек. Я старался не смотреть на них, но мои ноздри поневоле втягивали в себя аромат колбасы, и я чувствовал своим запавшим животом, что утренние галушки в нем уже давно успели раствориться.
Скоро за окном стало смеркаться и внутри вагона зажглись лампочки. Я продолжал сидеть с закрытыми глазами и ждать, когда проводница, пройдя по вагону, назовет мою станцию. Она проделывала это перед каждой остановкой и даже будила некоторых, спавших на полках: «Гражданин, вставайте! Вам выходить сейчас!».
Но она не успела назвать мою станцию. Еще до этого по нашему вагону прошли контролеры, и один из них сказал, пробив мой билет:
— Через остановку.
Так определился конец моего пути на колесах. Дальше к северу мне предстояло идти пешком. Когда контролеры вышли из вагона, с багажной полки над нашими головами свесились чьи-то ноги в стоптанных ботинках, и затем оттуда спрыгнул на пол невысокий взлохмаченный паренек в пиджаке. В руке он держал маленький потертый чемодан. Не обращая на нас внимания, он быстро направился к выходу в противоположную от контролеров сторону. Сидевшие напротив меня два солидных пассажира усмехнулись, глядя ему вслед, и один из них, лысый, с большими светлыми усами, сказал неодобрительно:
— Доехал-таки. Я думал, что его давно ссадили.
Другой, плохо выбритый и непрерывно куривший, спросил:
— А сюда-то он когда успел забраться?
— А бис его знае! Сумел. Билет у него тильки до Рогачевки. Он утром должен был сойти.
— Ловко! Целый день без билета ехал?
— Выходит, так. Ехал, ехал, пока не доехал, куда ему нужно, независимо от билета.
— Н-да! Продувной малый оказался.
Проводница объявила название очередной станции. Поезд остановился, и было видно в окно, как по перрону в толпе других прошел тот паренек. Он прошел быстрой, уверенной походкой, как человек, хорошо знающий, куда он приехал и куда идет. Оба моих соседа переглянулись и, усмехнувшись, покачали головами.
Выпустив часть пассажиров и приняв новых, поезд продолжал свой путь на север. Следующая остановка была моя. На ней готовился я сойти, и далее поезду предстояло идти без меня. Куда он шел далее? Не в Ленинграде ли была его последняя остановка?
Я встал со своего места и потоптался некоторое время в проходе, подняв глаза к третьим полкам. Все они были завалены вещами пассажиров. Только на одной из них спал человек, и это бросалось в глаза со всех сторон, потому что ноги его в сапогах торчали над проходом и похрапывание слышалось на весь вагон. Но ведь сумел же тот паренек устроиться на такой же полке так, что его не заметили контролеры…
Я посмотрел на людей, сидящих внизу. Это при них контролер сказал мне: «Через остановку». Стало быть, они уже знали, что мне на этой остановке надо было выходить, и, конечно, напомнили бы мне об этом, если бы я почему-либо замешкался. Кроме того, с минуты на минуту по вагону могла пройти проводница и объявить: «Следующая остановка — Витьяжи!». А при виде меня она бы непременно напомнила: «Вам сейчас выходить, гражданин!». Так что проехать нечаянно свою станцию я не мог. Это хорошо, что я не мог по нечаянности ее проехать. Мне так важно было сойти на этой станции, где у меня был дом с огромным хозяйством вокруг и где меня с нетерпением ждали моя жена и дети.
Помня о том, что проводница скоро объявит мою станцию, я вышел на заднюю площадку вагона. Вполне естественно было для меня выйти на площадку, чтобы в момент остановки сразу шагнуть на перрон. Правда, я мог бы выйти из вагона вперед, по ходу поезда, куда вышли контролеры. А я вышел в обратную сторону. Не все ли равно? И, выйдя из вагона в обратную сторону, я постоял там немного на площадке, посматривая туда-сюда, а потом перешел в соседний вагон. Так начал я тут у них действовать.
Поезд все еще катился полным ходом на север, но уже замигали впереди огни какого-то селения. Я видел их, переходя от окна к окну в соседнем вагоне. И, видя в окно огни, я в то же время оглядывал верхние полки. Все они были заняты вещами. Я прошел, задрав голову, больше половины вагона и на каждой видел узел или чемодан. Но вот одна как будто оказалась свободной. Я остановился и осмотрелся.
На скамейке внизу сидели только двое, да и те прильнули к темному окну, вглядываясь в набегавшие огни. Над их головами средние полки были заняты. На одной кто-то спал, накрывшись плащом, а на другой лежали два чемодана. Я встал ногами на обе скамейки и ухватился руками за края верхних полок. Никто не смотрел на меня, никто не появился в проходе. Я подпрыгнул, подтянулся на руках и стал ногами на края средних полок, а оттуда перевалился на свободную верхнюю полку. Вот и все.
Полка была совсем пустой. Я улегся на боку спиной к стенке, поджав ноги и подложив под голову локоть. Лежа так, я прислушивался к тому, что происходило внизу. Там кое-кто уже продвигался к выходу. Поезд постепенно замедлил ход и наконец остановился. Я закрыл глаза. Одни люди вышли из вагона, другие вошли в него и завозились внизу, устраиваясь на скамейках и полках. А я не вышел.
Поезд постоял минут пять и снова тронулся. А я остался лежать на третьей полке. Это была станция Витьяжи, где я должен был сойти. Билет у меня был куплен только до этой станции. И даже контролер напомнил мне о ней. А я не сошел. Я проспал. Вот как неудобно у меня получилось. Я проспал свою остановку. На этой остановке меня ждали жена и дети, а я проехал мимо. И вот дети бежали теперь следом и кричали с плачем: «Папа, пана!». А я спал.
Вот какие случаи бывают в жизни. Прилег человек отдохнуть на минутку и проспал свою остановку. Он и сам не рад, что так получилось, но что поделаешь? И теперь ему придется тащиться обратно встречным поездом, чтобы успокоить своих детей и жену, которые сидят сейчас на перроне станции Витьяжи, свесив ноги, и с нетерпением ждут его назад. Опять придется тратиться на билет. Правда, у него много денег — полные карманы, ему даже трудно их сосчитать. Но все-таки кому интересно пропускать свою станцию? И он тоже, ей-богу, этого не хотел.
Я лежал и прислушивался к тому, что делалось внизу. А внизу по всем углам вагона перекатывался людской говор, и никому не было до меня дела. Человек проехал свою станцию, ввергнув этим свою многочисленную семью в неизбывное горе, а их это не касалось. Никто из них не догадался его разбудить, чтобы избавить мир от лишних слез. И вот он ехал теперь все дальше и дальше, потому что не мог же он спрыгнуть с поезда на ходу!
Опять поезд замедлил ход и остановился. Я еще немного подобрал ноги, чтобы их нельзя было увидеть из прохода. Но особенно сгибать колени тоже нельзя было, чтобы они не торчали над узкой полкой сбоку. Люди выходили из вагона и входили в него, размещаясь на нижних местах. Поезд постоял минут пять и тронулся дальше. А я опять остался на верхней полке. Женский голос внизу попросил кого-то поставить наверх корзину. И корзина, обшитая мешковиной, была поставлена у меня в ногах. Вытянуться после этого во весь рост мне уже было нельзя. Но я не слишком этим огорчился и, оставаясь в прежнем положении, скоро задремал.
Сквозь дремоту я слышал, как поезд останавливался и снова трогался. Проснулся я оттого, что кто-то тронул мои согнутые колени. Это был молодой солдат. Он поставил на край полки фанерный чемодан. Увидев, что я открыл глаза, он сказал:
— Ничего, если постоит?
Я ответил:
— Пожалуйста. А не упадет?
— Нет. Я и шинель сюда заброшу.
И он забросил на чемодан шинель, захлестнувшую мне полой колени. Я не пытался сбросить ее с колен. Так с шинелью на согнутых коленях я повернулся на спину и опять закрыл глаза, погружаясь в дремоту. Но перед тем как по-настоящему заснуть, я успел подумать, что все у меня пока идет гладко и будет идти гладко, если не встретится тот страшный Иван. И плохо мне придется, если он встретится. Не дай бог, чтобы он встретился, ибо кто вырвет меня тогда из его железных рук? Только Юсси Мурто мог бы попытаться это сделать, но до меня ли ему было, погруженному в свои непонятные раздумья! Эй, Юсси! Что приумолк? Говори что-нибудь! Иван ждет. Вот он высится тут надо мной, готовый выловить меня из глубины вагона. Придумай опять какой-нибудь упрек. Ты мастер на упреки. Придерись к чему-нибудь. Ты умеешь придираться. Найди у него какой-нибудь промах и придерись. Ведь это так легко — найти у другого промах, особенно у того, кто взялся за дело, никем еще до него не испробованное. Скажи, что все у него плохо, все никуда не годится. А горы зерна и яблок — это так. Они сами собой у него вырастают. Не признавай в этом его заслуги. Ты все равно найди, к чему прицепиться. Скажи, что с такой земли, кроме хлеба, можно до зимы снять еще кое-что. Скажи, что на такой земле людям приличествует жить в красивых дворцах, а не в земляных домиках. И еще придумай, чем кольнуть, но умолчи о постоянных вторжениях врагов на эту благословенную землю, после которых она недосчитывалась многих миллионов лелеявших ее рук и многих миллионов самых обыкновенных земляных жилищ, а кормить при этом все-таки обязана была не только своих жителей, но и многих других, обитавших далеко вокруг нее. Ты сделай вид, что не знаешь этого, и прицепись к чему-нибудь мелкому, что еще путается у него в ногах. Скажи с умным видом, что яблоки — это не картофель. Их надо бережно, по одному снимать с дерева и по одному класть в корзины или ящики, а не высыпать на землю грудой. Скажи еще, что плохо он выбрит, этот нависающий надо мной огромный Иван, и что простительно это было в ту пору, когда он ломал хребет врагу своим стопудовым кулаком. Но теперь жизнь его течет мирно и размеренно, и не к лицу ему небритая щетина. Придумай что-нибудь вроде этого, великий, мудрый Юсси. Ты все на свете видишь, во все проникаешь своим гениальным умом, не переступая пределов холодных болот и камней далекого Туммалахти. Честь и слава твоей проницательности! Но видишь ли ты оттуда душу другого народа, милый мой Юсси?
Не знаю, сказал ли что-нибудь Юсси Мурто моему Ивану. Вагон укачал меня понемногу и отправил в другое далекое царство, где не было тягостных раздумий, не было вопросов, где все утопало в покое и безмятежности.
60
Спал я не слишком крепко. Согнутые ноги ныли от неудобства. И лишь после того, как была убрана с конца полки корзина, я вытянулся на спине во всю длину и не просыпался до рассвета, но на рассвете опять подобрал ноги. И едва я их подобрал, как чей-то большой чемодан занял место корзины. После этого я снова заснул.
Не знаю, в какое время обходили вагон контролеры, но надо думать, что корзина и чемоданы да еще солдатская шинель выполнили свое назначение — скрыли меня от их глаз. Зато когда я опять проснулся, чемоданов около меня уже не было. Пользуясь этим, я еще раз вытянул затекшие ноги и посмотрел на часы. Ого! Время близилось к десяти. Снизу к моему носу подобрался вкусный запах жареного. Я скосил туда глаза. Там за столиком у окна двое уписывали жареную курицу. Я отвернулся, стараясь не думать о пище, хотя мой запавший живот слишком настоятельно напоминал о себе. В это время кто-то внизу сказал:
— Говорят, контролеры опять с хвоста пошли.
Я быстро подобрал ноги и приподнялся, насколько это было возможно на багажной полке. Боже мой! Об этом я не подумал: ведь я же был теперь виден снизу. Не раздумывая долго, я спустился вниз и немного постоял на месте, приводя себя в порядок и стараясь ни на кого не глядеть. Надо было показать людям, что торопиться мне некуда. Для этого я постоял с полминуты у окна, глядя на пробегавшие мимо леса, а потом неторопливо направился к выходу вперед по ходу поезда.
Но следующий вагон я прошел быстрее, держа на всякий случай перед лицом носовой платок, чтобы меня не узнала проводница. Однако она не видела меня, занятая чем-то в своей каморке. И еще быстрее прошел я два следующих вагона, по-прежнему ни на кого не глядя, ибо не имел права смотреть людям в глаза. Но дальше мне уже не удалось пройти. Дверь следующего вагона оказалась запертой. Я не сразу поверил этому и минуты две бился об нее, дергая ручку. Но потом понял, что это плацкартный вагон, и вернулся на свою площадку.
Ноги плохо держали меня после столь длительного бездействия да еще не подкормленные вовремя. Но, несмотря на это, я заметался по площадке вагона и даже открыл боковую дверь, выглянув наружу. Снаружи на меня дохнул знакомыми запахами густой зеленый лес. Он тянулся вдоль песчаной насыпи плотной живой стеной, уходя своими вершинами к синему небу, по которому плыли редкие белые облака. Это был уже близкий мне северный лес, где темную хвою елей и сосен дополняли своей нежной, трепетной зеленью березы и осины и кое-где оживляли оранжевые рябиновые гроздья. Понизу, вдоль опушки, к ним лепилась мелкая поросль ивы и ольхи.
Я мог бы выпрыгнуть из вагона на ходу и скатиться по песчаной насыпи. Но меня могли увидеть и отправить за мной погоню. Я стоял в дверях, не зная, на что решиться. А контролеры тем временем подходили все ближе, переходя из вагона в вагон. И может быть, они уже дошли до этого вагона. В любую минуту могла открыться дверь на площадку и мог прогреметь суровый возглас: «Ваш билет, гражданин!». Куда было мне деваться?
Но, видно, бог не совсем еще забыл меня на этом свете. Поезд начал понемногу замедлять движение. Я всмотрелся вперед. Там виднелась небольшая станция. Он мог остановиться возле нее, но мог и не остановиться. Остановись, милый поезд, остановись! Он еще замедлил ход. Позади меня лязгнула ручка двери и кто-то вышел из вагона на площадку. Я весь напрягся, ожидая вопроса о билете. Глаза мои скользили по скату насыпи, выискивая место, куда бы спрыгнуть. Но вопроса не последовало. Кто-то молча встал позади меня, дымя папиросой. И еще кто-то вышел на площадку, поставив на пол что-то тяжелое. А за ним в дверях застрял еще кто-то, и чей-то басистый голос ворчливо спросил: «Ты что, спишь ай бабки ставишь?».
Поезд остановился. Я шагнул на перрон и, ни на кого не глядя, направился по нему в самый конец. Сойдя с перрона, я свернул вправо и оказался на дороге. Она подступала к станции откуда-то с юго-востока и, не пересекая железнодорожного полотна, уходила дальше в глубину леса, примерно на северо-восток. Два-три деревянных дома стояли у ее изгиба. Один из них пахнул на меня ароматом печеного хлеба. Но я все шагал и шагал, не оглядываясь и благословляя судьбу за то, что она помогла мне уйти от горького стыда.
Когда дорога основательно углубилась в лес, я осмотрелся и прислушался. Поезд, судя по звуку, уходил куда-то на северо-запад. Я шагал на северо-восток. Позади меня слышались голоса людей, идущих в том же направлении. За поворотом дороги я их не видел. Они тоже, наверно, сошли с поезда и теперь торопились к себе домой, куда-то неподалеку. Если бы их дом находился далеко, они бы ехали туда на машине. Я свернул с дороги в лес, чтобы пропустить их мимо. Лес был густой. Молодая поросль ивы и березы между стволами крупных елей составляла такой плотный заслон, что мне не понадобилось уклоняться особенно далеко от дороги. Притаившись там среди кочек, поросших черничником, я выждал, пока голоса, доносившиеся с дороги, не удалились, и тогда еще раз осмотрелся.
Вот где мне предстояло наконец успокоиться. Я не знал еще, под какой березой или елью это произойдет. Но уже одно то было утешением, что не в жаркой и голой степи оставил я свои бедные кости, а донес их сюда, в этот близкий моему сердцу лесной мир. И тут я заметил, что все кочки вокруг меня полны спелой черники. Руки мои сразу же потянулись к ней, и некоторое время я топтался на месте, обирая ее вокруг себя и кидая в рот.
Потом я двинулся дальше, держась прежнего направления, но от ягод уже не отрывался. Их было много вокруг. Все кочки были ими усеяны. Похоже, что тут их никто не собирал. Медленно продвигаясь вперед, я непрерывно действовал руками и ртом, не упуская, однако, из виду дороги. По ней время от времени проезжали машины или крестьянские телеги обыкновенного размера. Но я не торопился на нее выбираться.
Часа два или три продвигался я так рядом с дорогой и незаметно вышел к небольшой реке, пересекавшей лес. Здесь все было открыто солнцу. А на травянистом скате, уходящем вниз к воде, я напал на спелую землянику и, конечно, ее тоже не оставил без внимания. Ниже, у самого берега, я увидел заросли малины. Она вызрела пока еще только частью, но этой частью я так набил себе живот, что на время забыл про голод.
А потом приспела пора взглянуть на себя. Карманное зеркальце показало мне противную небритую морду с облупленным носом и пятнистыми скулами. В таком виде неудобно было переселяться в ту последнюю неведомую обитель, куда неотвратимо вела меня судьба. Пройдя немного вверх по течению реки, я выбрал такое место, откуда не был виден мост, и там взялся приводить себя в порядок. Я выстирал все, кроме костюма, и сам выкупался и побрился, а потом часа три сушился и грелся на солнце.
На дорогу я вернулся, имея вполне приличный вид. Жаль только, что я не знал, куда вела эта дорога и как далеко было до Ленинграда. Но мне ничего другого не оставалось, как шагать по ней и шагать. Километра два тянулась она еще лесом, а потом пошли поля ржи, овса, картофеля, ячменя. Но больше всего места занимал здесь лен, усеянный мелкими голубыми цветочками. Километра три шел я полями, где самые низкие и ровные места были заняты льном, а потом вошел в перелесок. И только оказавшись в полумраке перелеска, я спохватился, что день уже подходил к концу, а прошел я в этот день весьма немного, увлекшись ягодами. Подкрепили они меня ненадолго, а от дороги отбили основательно.
За перелеском открылись новые поля ржи и овса. Овес был совсем еще зеленый, а рожь местами начинала желтеть. Но мягкие колосья ржи не крошились в ладонях, как ни старался я их растирать, и зеленые зерна просто раздавливались, не выпадая из своих гнезд. За хлебными полями опять потянулись картофельные. Картошка тоже кое-где цвела, и я бы, наверное, рискнул подкопаться под некоторые кустики, чтобы погрызть ее, хотя бы сырую. Но на этих полях в отдалении виднелись люди, а за поворотом дороги открылась целая деревня.
На пути к деревне раскинулось большое свиное хозяйство. Стада свиней паслись по обе стороны дороги возле низких кирпичных построек, покрытых волнистым шифером. Когда я приблизился к ним, одно стадо неторопливо переходило дорогу, попутно разрывая своими пятачками ее травянистые обочины. Это были породистые, длиннотелые, вислоухие свиньи. Они не обратили на меня внимания, запрудив дорогу, и мне пришлось пнуть ногой в зад одного невежливого борова, чтобы заставить его посторониться. Но он только хрюкнул в ответ вопросительно, повернув ко мне клыкастую пасть, и все-таки не посторонился. Пришлось мне самому обойти его.
В отдалении от большого стада по обе стороны от дороги паслись также свиноматки с поросятами. Их тоже было много на этой огромной пустоши, заросшей травой и кустарником. А поросятам не было числа. Я мог бы украсть один из этих суетливых розовых комочков, и никто не заметил бы недостачи. А мне его хватило бы на несколько дней. И может быть, он помог бы мне добраться к сроку до Ленинграда, если, конечно, Ленинград был от меня не так далеко.
Чем дальше я пробирался сквозь стадо, тем теснее оно сбивалось, не желая уходить с дороги. Дошло до того, что одна огромная свинья, круто повернувшись на месте, так толкнула меня задом, что едва не сбила с ног. Я стал осторожнее их обходить, но они от этого не стали вежливее, ибо свинья есть свинья. А когда я совсем остановился, наткнувшись на сплошную стену из хрюкающего живого сала, они и вовсе перестали со мной считаться.
Одна из них, роя возле меня землю, наткнулась на мою ногу и попробовала отпихнуть ее своим рылом. Я пнул ее ногой в пятачок. Но она, вместо того чтобы отойти, лишь удивленно хрюкнула, обратив ко мне клыкастую чавкающую пасть. И два ее солидных, тяжеловесных соседа тоже оторвались на минуту от пожирания корешков и червей, чтобы обратить ко мне недовольные рыла и выразить хрюканьем что-то весьма нелюбезное, но посторониться и не подумали. Ростом все они были мне почти по грудь, а длиной метра по два. И я вдруг почувствовал себя среди них слабой, хилой козявкой, которую им ничего не стоило сбить с ног. Не знаю, как повернулось бы дело, если бы из-за кустов ольхи не появился пастух. Коренастый, бородатый, в серой измятой кепке, он врезался прямо в середину стада, раздавая направо и налево удары кнутом. Но даже его кнут не очень испугал этих щетинистых великанов. Они огрызались в ответ на его удары и сторонились весьма неохотно. Расчистив ко мне дорогу, пастух сказал:
— С ними надо покруче, а то они и цапнуть могут за милую душу. Не успеешь оглянуться, как отхватят клок мяса из тела.
Вот что мне, оказывается, грозило. А я и не подозревал. Это было мне в наказание за тайное намерение украсть поросенка. Не зная, что ответить пастуху, я сказал, сохраняя спокойный вид:
— Крупное у вас хозяйство.
Он ответил:
— Еще бы! В передовых числимся по республике.
Я спросил:
— По какой республике?
Он ответил с некоторым удивлением в голосе:
— По нашей — Белорусской. По какой же еще?
— А-а…
Вот, значит, где я находился. Это было, кажется, не близко от Ленинграда. Ну что ж. Выходит, что мне так и не суждено было до него дойти. Да я на это и не надеялся. Однако стоять на месте я тоже не собирался. Только надо было напоследок сказать что-нибудь этому человеку, чтобы не обидеть его. И я сказал первое, что пришло мне в голову:
— Да, богатое хозяйство. Я видел одно, тоже крупное, около Волги. Но там были птицы. И в столовой у них тоже были всякие куриные бульоны и жареные курицы. А у вас, наверно, из свинины обеды?
Он ответил, усмехнувшись:
— Правильно. Так оно и есть. Бывает и другое, но все больше из свинины. Вот сегодня, например, щи со свининой, а на второе свиные отбивные да еще картошка есть жареная, со свининой опять же. Но если вы хотите курицу — скажите. У нас повара народ очень покладистый. Вы знаете, где наша столовая?
— Нет…
— Вот как пройдете почту — сразу вправо возьмите. Она там через три дома будет.
— Спасибо…
Я отправился дальше к своей последней судьбе, минуя на пути к деревне еще несколько свиных стад, пасущихся по обе стороны от дороги. Одно стадо находилось в загородке. Там разгуливали особенно крупные и жирные свиньи, как видно приготовленные к убою. Некоторые из них уже не могли ходить и лежали, придавленные грузом собственного жира.
Так обстояли здесь дела. Запомните это на всякий случай вы, финские люди, и не попадайте в мое положение, ибо трудно вам придется… Вы будете медленно брести по дороге, еле переставляя ослабевшие от голода ноги, а рядом обнаглевшие свиньи, нарочно дразня вас, будут истекать избытком жира. И никто не догадается наказать их за такую наглость и хотя бы одну из них зажарить и преподнести вам, зная, что вы вполне могли бы уплести ее всю целиком.
Деревня была большая и располагалась не только вдоль дороги, но и в двух боковых переулках. Состояла она вся из новых бревенчатых домов, крытых железом. Хозяйственные постройки в ней тоже выглядели новыми и крепкими. Но я не собирался ими любоваться и прошел через всю деревню, не глядя по сторонам и не останавливаясь. Где-то в ней была почта, а вправо от почты, через три дома от нее, находилась деревенская столовая, где в этот день к обеду заготовили свиные отбивные и щи со свининой. Могли там также приготовить и курицу, если бы я выразил на то свое желание, ибо повара здесь были люди покладистые.
Но я не стал их утруждать своими распоряжениями насчет курицы. Бог с ними. Я даже не заметил ни столовой, ни почты. Я смотрел прямо перед собой, стараясь идти бодрым и быстрым шагом, чтобы отбить у встречных охоту заговаривать со мной. После разговора со мной русские люди обыкновенно впадали в ошибку и поступали со мной совсем не так, как следовало поступить с человеком, который, может быть, морил их голодом в своих лагерях. А я не хотел, чтобы они без конца повторяли со мной свою ошибку, и потому старался быстрее пройти их деревню, делая вид, что не замечаю любопытствующих взглядов, обращенных ко мне из-за жердяных заборов или от калиток и ворот. И только выйдя за околицу, я пошел немного медленнее.
За околицей опять потянулись картофельные поля, занимавшие здесь главное место. За ними виднелись посевы ячменя и ржи. А дальше опять начинался лес. Он стоял плотной, темной стеной, и только отдельные вершины елей и осин были у него еще тронуты розовым светом заходящего солнца. Туда держал я теперь свой путь, и там предстояло мне его закончить под какой-нибудь березой или осиной, ибо силы мои были, кажется, на исходе. А их надо было еще так рассчитать, чтобы, упав на дороге, я смог потом уползти с нее в сторону под свою последнюю березу. Нельзя же было засорять собой дорогу и мешать честным людям ходить по ней и ездить.
Раздумывая об этом, я услыхал позади себя топот лошадиных копыт. Кто-то вздумал прокатиться верхом при свете заката и мчался из деревни галопом. Не оглядываясь, я передвинулся поближе к обочине дороги чтобы не мешать ему проскакать мимо. Но он не проскакал мимо. Не доскакав до меня, он перешел на рысь, а поравнявшись со мной, пустил лошадь шагом и одновременно спросил молодым, звонким голосом:
— Вы на пуск?
Я не понял его, конечно, и не знал, что ответить. А ему, наверно, показалось, что я кивнул или ответил утвердительно, и он сказал:
— Так вы напрасно туда торопитесь.
И он остановил лошадь. Я тоже остановился и, не зная, что сказать, спросил этого странного, коротко остриженного светло-русого парня в тяжелых сапогах:
— Почему напрасно?
Он пояснил:
— Потому что они перенесли на понедельник.
Вот как у них дело обстояло. Перенесли на понедельник. А я — то думал, что они не перенесут на понедельник. Хотел бы я, правда, знать, что именно они перенесли на понедельник, но, поскольку это меня не касалось, я не стал задавать вопросы и только повторял как бы в раздумье:
— На понедельник?
И он опять подтвердил:
— Да. У них там какая-то заминка случилась.
— Ах, вот оно что.
Я сказал это просто так, чтобы не молчать, а сам ждал, чтобы он ускакал дальше своей дорогой и не препятствовал совершиться тому, что было уготовано мне судьбой. Но он не ускакал. Он еще раз повторил в ответ на мои слова:
— Да. Что-то у них там не заладилось.
Я закивал головой, как бы сочувствуя тому, что у них там что-то не заладилось, а сам все ждал, когда он оставит меня в покое и даст завершить мой последний путь. Но он не торопился оставлять меня в покое, хотя лошадь под ним нетерпеливо перебирала ногами. Повернув ее головой к деревне, он сказал:
— Гостиницы там пока еще нет, и остановиться вам будет негде. Наш парторг уже троих перехватил, идущих от станции: двух корреспондентов газет и фотографа. Он их у себя оставил до понедельника. А меня за вами вдогонку послал. У меня же и останетесь. Мой дом — вот он, третий справа. Прямо туда идите. Я хозяйке скажу, она вас встретит. А меня извините — у нас правление. Мы с вами попозже все обговорим.
Сказав это, он тронул бока лошади стременами и поскакал назад в деревню. У околицы он обернулся и, видя, что я еще не тронулся с места, попридержал лошадь и несколько раз очень требовательно махнул мне рукой, зовя к себе. Тогда и я тоже направился к деревне. Успокоившись на этот счет, он припустился рысью, слегка привставая на стременах, однако теперь уже не переставал оглядываться на меня, пока не подъехал к своему дому.
У дома он спешился, быстро вошел в калитку и через минуту вернулся. Следом за ним вышла молодая русоволосая женщина в светлой кофточке и темной юбке. Он что-то говорил ей на ходу, поглядывая в мою сторону, потом вскочил в седло, махнул мне приветливо рукой и умчался галопом в другой конец деревни, размеренно взлетая над седлом. Я продолжал идти к его дому. Мог ли я не идти, если так распорядился парторг? Ведь парторг у них в таких случаях знал, что делал.
Женщина стояла у калитки. Понимая, что она поджидает меня, я прибавил шагу, хотя далось мне эго нелегко. Под любопытствующими взглядами обитателей крайних домов деревни я приблизился к молодой женщине и сказал ей:
— Здравствуйте.
Она ответила:
— Добрый вечер. Заходите, пожалуйста.
Я вошел в калитку и поднялся на высокое крыльцо нового дома. Это оказалось для меня нелегким делом, и наверху я постоял немного, ухватясь рукой за резной столб для сохранения равновесия. Потом я по настоянию хозяйки вошел внутрь дома. И все повторилось там, как и в других домах России, хотя это была не Россия, по их собственному определению, и слышалась в этом доме не совсем русская речь. Они не знали, кого впустили в свой дом, эти наивные, простодушные люди. Зато я знал. И я сказал этой славной голубоглазой женщине, которая по возрасту могла быть мне дочерью:
— Нет, спасибо. Я уже обедал.
Но она возразила:
— Да где же вы могли пообедать? От станции шли пешком, в столовую нашу не заходили. А если и перекусили на станции, так это уж когда было-то! Садитесь, пожалуйста.
И конечно, я уже готов был сесть за стол. Почему было не сесть? Нарезанный ломтями хлеб донес до меня от стола свой волшебный ржаной запах, замутивший все в моей голове, где и без того хватало тумана. Но что-то надо было еще сказать приличия ради, и я сказал:
— Вы же на меня не готовили.
Она ответила:
— А вы не беспокойтесь. Мы сами-то уже отобедали давно. Кушайте на здоровье.
После этого я уже не пытался придумывать никаких вежливых отговорок и молча ел все, что она ставила передо мной на стол: тарелку картофельного супа со свининой, тарелку картофеля, запеченного в сметане, и кружку молока. И от хлеба тоже я оставил на столе самую малость, хотя мог бы ничего не оставить.
А потом я сидел на стуле в ожидании хозяина и дремал. Кто-то спал рядом в маленькой кроватке с сеткой. Хозяйка выходила из дому и снова входила, занятая делами хозяйства, а я сидел, пьяный от сытости, ни о чем не думая, и клевал носом. Заметив это, она сказала:
— Вы бы прилегли с дороги. Я вам тут постель приготовила. Мой-то застрял. Должно быть, в баню пошел после заседания. Баня у нас хорошая, большая, удобная и топится по-современному.
Говоря это, она показала мне в соседней комнате кушетку, застеленную простыней и одеялом. Сама она опять вышла на кухню, где зажгла керосиновую лампу, закрепив ее на стене. А я посидел немного в сумерках вечера поверх одеяла, пытаясь что-то сообразить. Но что именно я пытался сообразить, я так и не смог сообразить своей умной головой. Кончил я свою попытку тем, что придвинул к себе стул и, сложив на нем свою верхнюю одежду, залез под одеяло. И едва моя голова окунулась в податливую мякоть пуховой подушки, как сон поволок меня в свою таинственную сладостную глубину, так и не позволив ничего сообразить.
И даже огромный Юсси Мурто мелькнул где-то в отдалении на очень короткий миг, опять не успев раскрыть свой медлительный рот. И лицо его, обращенное к Ивану, тоже не успело выразить ничего иного, кроме свойственной ему угрюмости, хотя что-то новое затаилось в его ясных светло-голубых глазах. Но не мне было вникать в это новое — бог с ним. Гораздо проще было мне окунуться туда, где не требовалось ни вникать, ни думать.
61
И опять я поздно проснулся. Квадрат солнца, проникший в окно, успел наполовину сползти с голубых обоев на желтые крашеные половицы. Так изленился я за последнее время. От хорошей жизни, наверно, навязалась мне эта лень. Чем были заняты мои дни? Я ел, пил, спал и прогуливался. Так проходила здесь моя жизнь. А что еще мог пожелать человек?
Приведя себя в порядок во дворе и побрившись возле рукомойника, я съел целую сковородку жареной картошки со свининой и выпил стакан чая. Хозяйка, помня мой вчерашний аппетит, нарезала хлеба вдвое больше. Но и на этот раз я оставил от него самую малость, и то приличия ради. Покончив с этим, я сказал хозяйке «спасибо» и спросил ее насчет хозяина. Она ответила:
— Вы знаете, так неудобно получилось. Он вчера целую компанию привел — думали поговорить с вами. Но вы так крепко спали! Пожалели вас будить. А сегодня у нас футбольный матч на первенство района. И он играет там левого крайнего. Боялся опоздать и убежал. Так неудобно получилось. Он очень просил его извинить, но говорит: «До понедельника еще успеем познакомиться».
Такое примерно дала она объяснение относительно хозяина, эта молодая, быстрая в движениях женщина, прихватившая на этот раз русые пряди своих волос цветастой шелковой косынкой. Огорченная его уходом, она забыла сказать это мне по-русски. Но тем не менее я все очень хорошо понял — так похож был на русский ее язык. Не понял я только, почему она упомянула о понедельнике. Не собирался я проводить здесь еще целый день. На дорогу до Ленинграда намеревался я его затратить. И, помня об этом, я спросил хозяйку:
— А где ваш стадион?
Она ответила:
— То не стадион, а просто футбольное поле. Это если у почты свернуть влево, то прямо туда выйдете. А можно и отсюда пройти. Только надо выйти из деревни и потом обойти ее с этой стороны.
— Выйти по этой же дороге?
— Да.
— Спасибо.
После такого объяснения можно было уйти, конечно, однако, я помедлил немного. Что-то еще надо было сказать, пожалуй, для смягчения невежливости. Ведь она не знала, что я готовился уйти совсем. Белоголовый малютка гукнул что-то на своем собственном языке. Он так сладко спал накануне вечером, а теперь топтался голенький в своей кроватке, пытаясь поймать пухлыми ручонками проникшие сквозь веревочную сетку его загородки маленькие солнечные лучики. Я щелкнул перед ним пальцами, привлекая на себя его внимание, и сказал:
— Крепкий растет парень. Как его звать?
Хозяйка ответила:
— Ваней. Как и отца.
— Как и отца? А вас как звать?
— Маша.
Вот как обстояло дело. И, наклонясь к этому новому жителю Земли, я сказал:
— Разгуливаешь тут, Иван Иваныч? И пока вполне просторно тебе в твоей люльке. Так? А ведь придет время — и комнаты тебе будет мало, и всей деревни не хватит. Все дальше захочется тебе шагать, все дальше. Но ничего, шагай, Ваня, шагай! Чем дальше, тем лучше. Тебе можно. И для тебя очень многие с радостью откроют ворота.
Он что-то ответил мне на своем всемирном языке и тут же обо мне забыл, обратясь на этот раз к электрической лампочке, висевшей под потолком, и потянувшись к ней ручонками. Да, мог бы и у меня, конечно, давно уже родиться такой же веселый и жадный до жизни теплый комочек, если бы… Я обернулся к его юной, румянолицей матери, смотревшей на него счастливыми глазами, и, вспомнив, что вчера она зажигала керосиновую лампу, сказал, кивая на потолок:
— Не горят они у вас почему-то.
Она ответила:
— Да. Надеялись, что сегодня загорятся, но придется до понедельника подождать.
Опять она упомянула про понедельник. Но меня это не касалось. Я сказал, отступая понемногу к двери:
— Дом у вас новый, просторный. И все другие дома в деревне тоже новые. Почему это?
Она ответила:
— А как же! Наладили хозяйство и поднялись. Не навек же в землянках оставаться!
— Почему в землянках?
— А куда же было деваться, если ни одного дома не уцелело. Тут же немец прошел.
— А-а, понятно…
Она так и сказала: «Немец». Она могла сказать «фашист», или «гитлеровец», как это принято иногда говорить, чтобы не возлагать вину на весь немецкий народ. Но она, не задумываясь, попросту сказала: «Немец».
Да, Мария Егоровна была права, пожалуй, говоря, что не скоро смоется с этого имени все то зло, что с ним пришло в мир. Конечно, те страшные печи для сжигания народов придумал и соорудил гитлеровец, но говорил этот гитлеровец на немецком языке — не на русском и не на английском. И захватить силой земли других народов пытался в этом веке два раза не русский и не англичанин, а немец. В двадцатом веке пытался он это сделать, когда планета уже была окончательно распределена между народами и сами народы на ней повзрослели. И, конечно, ничего не получилось из его попыток, но десятки миллионов людей он все же загубил.
Я вышел на кухню и там еще раз обернулся к ней, тоже вышедшей, чтобы меня проводить. Ее губы еще сохраняли улыбку, унесенную от детской кроватки. Не зная, что еще сказать ей на прощание, я повторил, оглядывая кухню:
— Да, просторный дом. Три комнаты и кухня, Вы одни в нем живете или с родителями?
Улыбка оставила ее губы, и она ответила:
— У нас нет родителей.
— Как нет?
— Так… Погибли все. Его отец — на финском фронте, мой — на белорусском. Его мать от простуды умерла в войну, а мою немцы расстреляли как жену коммуниста-политрука.
Вот как обстояло дело. Да, надо было трогаться скорей в путь, пока не было этому особенной помехи.
С крыльца она показала мне, как обойти деревню и в каком направлении находилось футбольное поле. Я кивал, пока она мне это объясняла, и говорил «спасибо», но ушел своей дорогой.
И, уйдя своей дорогой, я шагал не по самой дороге, а рядом с ней, прикрываясь листвой кустарников, росших вдоль канавы. Шагал я быстро, то и дело оглядываясь и готовый в любую минуту нырнуть в зеленые волны ржи. Так я дошел до леса, который видел накануне только издали. Но и в лесу я не сбавлял шага, однако свертывал с дороги в хвойную чащу каждый раз, когда меня обгоняла машина или лошадь. От встречных я не пытался прятаться, только проходил мимо как можно быстрее, чтобы не дать повода для вступления в разговор.
Мне в это время надлежало быть на футбольном поле. Но что стал бы я там делать? Смотреть игру молодого белорусского Ивана? А как узнал бы я его среди других игроков? Ведь я даже не запомнил его лица. Что-то улыбчатое, русоволосое мелькало перед моими глазами, да взлетали над седлом, наподобие темных крыльев, полы расстегнутого пиджака. Зачем было мне повторять с ним встречу? Это был первый Иван, не пожелавший узнать, кого он впускает под свою крышу, И может быть, правильно он сделал, что не узнал?
Итак, они опять ошиблись и, вместо того чтобы убить меня, как я того заслуживал, накормили дважды и дали отдохнуть. Ну что ж. Теперь я опять мог шагать к Ленинграду по крайней мере два дня подряд. И я шагал. Часа полтора шел я по этому лесу и потом еще около часа — по пустошам, поросшим мелколесьем.
Солнце, подбираясь к зениту, припекало все сильнее. Но скоро на него наползла туча, и в воздухе повеяло прохладой. Это было хорошо, конечно. Я напился у ручья, пересекавшего дорогу, и после этого готов был идти без отдыха хоть весь день. Однако туча оказалась дождевой. Правда, свои главные запасы воды она пролила в стороне от меня, но и дорогу тоже слегка захватила краем, и захватила так основательно, что я стал высматривать, где бы укрыться.
К тому времени справа от дороги опять потянулись поля и луга, а слева, посреди мелкой еловой просеки, появились долговязые осины и березы. Но их редкая листва не могла укрыть меня от дождя. Приходилось мириться с ним. Хорошо еще, что был он мелкий и уходил вместе с тучей. А вслед за тучей опять открывалась полоса ясного неба, и, стало быть, имелась надежда снова обсохнуть.
Не убавляя шага, я провел расческой по влажным волосам, высматривая в то же время слева от дороги подходящую для укрытия елку. Но подходящей елки все не попадалось, а дождь не переставал. К тому же у тучи был довольно широкий хвост, от которого книзу тянулась подозрительная туманная пелена. И этому хвосту еще предстояло пройти над моей головой.
Перевалив через небольшой холм, я увидел впереди деревню. А на пути к этой деревне дорога дала ответвление влево. Я остановился в раздумье: по какой дороге идти? Прежняя моя дорога выглядела добротнее и была присыпана песком на выбоинах, а новая даже не была отмечена канавами. Зато она уходила прямо на север, а прежняя сильно отклонялась в востоку.
Пока я так раздумывал, туча подтянула свой хвост ближе ко мне и тут же дала понять, что означала туманная пелена, заслонявшая собой голубую полосу неба позади тучи. Она означала дождь. Он хлынул с такой силой, что стоять на месте уже было нельзя, да и шагом идти — тоже. Оставалось одно — припуститься бегом. До крайнего дома деревни было метров двести, и я домчал бы туда в одну минуту, но что-то удержало меня…
Я вспомнил вдруг, что уже спасался таким способом у них от дождя где-то там, ближе к Волге, и не один раз. И каждый раз это приносило мне что-то нежелательное. Что именно — я не помнил, но усвоил твердо, что и дождь у них содержал в себе какое-то коварство. Избегая этого коварства, я метнулся влево и помчался по новой дороге, высматривая на бегу подходящую елку. Подходящим показался мне целый сгусток молодых елок. Я нырнул с дороги в гущу их ветвей и пригнулся под ними. Но они свободно пропускали сверху влагу. Тогда я попробовал укрыться под соседней березкой. Но и она не спасла меня. Такой же пустой оказалась попытка укрыться под молодой сосенкой. В это время я услыхал неподалеку девичьи голоса. Они кричали:
— Сюда, дяденька, сюда! Здесь как под крышей!
Я обернулся и увидел примерно в пятнадцати метрах от дороги высокую густую ель с толстым стволом, а под ней — двух девушек с корзинами. Это меня они звали и мне же махали руками, приглашая к себе. Не раздумывая долго, я кинулся к ним, спотыкаясь о кочки и старые пни. Мог ли я отказаться, если меня звали к себе русские девушки? В один миг я очутился возле них. Они посторонились, и мы все трое разместились вокруг ели, прижимаясь к ее стволу спинами.
Под этой елкой было еще сухо. Ее нижние ветки, отклонясь книзу почти до самой земли, образовали подобие шатра. И все остальные ветки над ними тоже отклонялись от ствола книзу, усиливая покрытие этого шатра. Но девушки уже успели намокнуть до того, как добрались до этого укрытия. Тонкие платья прилипли к их плечам и бедрам, и омытая дождем черника блестела в их корзинах.
Они несколько раз внимательно оглядывали меня, оборачивая ко мне влажные загорелые лица с черными от ягод губами, и шептались о чем-то. Я всматривался сквозь ветки ели в тучу, выжидая, когда она уйдет, чтобы сразу же вслед за этим выбраться на дорогу. Однако туча не торопилась уходить. Ей понравилось держать нас в плену, и она, словно нарочно, шире разлезлась по небу, не ослабляя дождя.
Скоро отдельные капли стали проникать к нам сверху сквозь ветки ели, а по ее стволу потекли струйки. Девушки забеспокоились и заметались, прикрываясь косынками. В это время на дороге показался грузовик. Он выкатился сюда с той дороги, по которой я только что шел к деревне. Та из девушек, что была потоньше, крикнула: «Это наши, наши!». И побежала к дороге, передав корзину с ягодами своей подруге. Ей удалось остановить машину, и, обернувшись к нам, она закричала: «Скорей, скорей!». Вторая девушка сказала: «Скорей, бежим!». И, сунув мне в руки корзину своей подруги, побежала к машине. Побежала она быстро, несмотря на то, что была короче и тяжелее первой.
Пришлось и мне потащиться за ней. Не мог же я оставить у себя их корзину. Когда я подбежал к машине под струями дождя, они уже были в кузове, где кроме них стояли еще три девушки, державшие над своими головами край брезента. Я протянул моим девушкам корзину и раскрыл рот, чтобы сказать: «До свиданья. Спасибо за компанию». Но они не только приняли корзину, но и меня подхватили за плечи, втаскивая в кузов. Пришлось подчиниться им. И едва я оказался в кузове, как машина тронулась. Я ткнулся носом в чью-то горячую, влажную шею и ухватился рукой за чей-то горячий, влажный бок, а над моей головой натянулся брезент, спасая меня от дождя.
И опять я ехал с девушками на грузовике, как это уже было однажды. Только тогда меня везли на юг, а теперь — на север. И тогда светило солнце, а теперь лил дождь, и стояли мы в мокрой, жаркой тесноте, прикрываясь толстым брезентом. Дорога была ухабистая, и нас кидало из стороны в сторону. Но наступил наконец момент, когда одна из девушек выглянула из-под брезента наружу и крикнула:
— Ой, девоньки! А дождя-то уж нету!
И мы сбросили брезент на дно кузова. Действительно, туча передвинулась дальше к югу, открыв над нашими головами небо. Солнце опять вступило в свои права, и, находясь в зените, оно сразу же принялось действовать в полную силу. Легкий пар поднялся над молодым лесом по обе стороны от дороги, а застрявшие в листве и хвое дождевые брызги заискрились и затрепетали, тронутые солнцем, словно предчувствуя свой близкий конец. Некоторые из них умудрились напоследок заиграть голубым, зеленым, оранжевым и даже рубиновым цветом.
Чтобы не мешать девушкам, я отступил от них немного и, держась одной рукой за борт кузова, причесал сбитые брезентом волосы. Девушки тоже привели себя в порядок, заново повязав косынками волосы и оправив платья. Но мокрее всех выглядели мои две девушки, особенно та, что была плотнее и коренастее. Тонкое цветастое платье так облегало ее, что под ним отчетливо обозначились трусики и бюстгальтер. И видно было даже, что одна лямка бюстгальтера у нее лопнула. Заметив, что я смотрю на нее, она протянула мне корзину, предлагая угоститься ягодами. Но я сказал «спасибо» и покачал головой. Тогда она спросила меня:
— А вы к нам по какому делу едете?
Вместо ответа я тоже спросил:
— А почему вы думаете, что я к вам еду, а не в другое место?
Она пояснила:
— А потому, что эта дорога только к нам идет, и никуда больше.
— Как так?
— Да так. Только к нам. А если вам захочется уехать от нас куда-нибудь в другое место, то по этой же дороге обратно поедете.
Вот как дело обернулось. Я спросил, подумав немного:
— А что там дальше будет, после вас?
— Да ничего: леса, болота — и никаких дорог, тропинки разве.
Я промолчал. Ну что ж, если даже так. Пусть не будет дороги. Хватит с меня и тропинки. Даже по ней сумею я добраться до своей последней в жизни березы, определенной мне судьбой.
Но все же мне сделалось не очень весело от слов плотной девушки, и я несколько раз оглянулся на дорогу, которая все удлинялась и удлинялась позади меня. Заметив это, она сказала:
— Да вы не беспокойтесь. От нас почти каждый день машины ходят в район и на станцию. Завтра тоже с утра полуторка пойдет за горючим. Она и подбросит вас куда нужно.
Я сделал вид, что это меня мало беспокоит, и даже рукой махнул для наглядности. И чтобы еще больше убедить ее в этом, стал смотреть по сторонам, как бы любуясь их молодым лесом, где все росло так неровно. Местами тянулась поросль не старше десяти — пятнадцати лет, местами попадался лес вдвое старше, а отдельным осинам, елям и березам, пожалуй, можно было дать лет по сорок — пятьдесят. И все они постепенно теряли застрявшие в их ветвях сверкающие разным цветом капли.
Мы тоже понемногу обсыхали. Девушки разговорились о своих делах. Одни похвастали купленными в райцентре товарами. Другие рассказали, как их в лесу напугал заяц, а потом вспомнили, как они сами в прошлом году медведя напугали. Они тогда так взвизгнули от страха, что он еле ноги унес — только треск по лесу пошел.
Скоро машина вывезла нас на открытые поля, засеянные рожью и пшеницей. Поля были небольшие, и к ним со всех сторон подступал молодой лес. Встретились еще два перелеска, за которыми показалась деревня в окружении картофельных полей.
Деревня была довольно большая. Она раскинулась одинаково широко на все стороны и состояла наполовину из новых бревенчатых домов. Возле самого крупного двухэтажного дома, тоже срубленного из свежих бревен, высились огромные качели, облепленные ребятишками. Платформа качелей, снабженная двумя продольными скамейками, вмещала их человек двадцать. Самые ретивые из мальчишек раскачивали ее, стоя на обоих концах платформы, и она взлетала выше молодых лип, дубков и кленов, росших вокруг. Четыре деревянных бруса соединяли платформу с верхним поперечным бревном, которое слегка поворачивалось по своей оси, прихваченное скобами у концов, положенных на два толстых столба. Столбы, подпертые внизу с двух сторон такими же толстыми упорами, стояли, не дрогнув.
Машина проехала мимо этого сооружения и, минуя еще несколько домов, остановилась перед большим гаражом. Девушки спустились на землю. Я тоже спустился. Что мне оставалось делать? Но для чего я спустился — это уже был другой вопрос. И опять заботу обо мне проявила плотная девушка. Она спросила:
— Вы раньше у нас уже бывали? Где контора — знаете? Вам директор нужен или парторг?
Я раскрыл рот, чтобы ответить. Не знаю, что я там хотел ответить, должно быть что-то очень умное, как это у меня водится. Но я не успел ответить, потому что она тут же добавила:
— Да вот он сам идет.
62
И опять заботу обо мне взял на себя парторг. Но я не был против этого. Скорее наоборот. С парторгами мне было даже выгоднее иметь дело, чем с кем-либо другим, ибо они проявляли ко мне особенное внимание. Не знаю, чем вызывалось это внимание, но у меня не было причины им тяготиться. Беспокоило меня каждый раз только одно: не оказался бы парторг тем самым Иваном. С таким парторгом я не хотел бы встретиться, потому что внимание такого парторга не принесло бы мне добра.
Но, слава богу, мне повезло и на этот раз. Передо мной стоял парень, которому явно не было еще тридцати, и, следовательно, побывать на войне он, конечно, не успел. Правда, серые глаза его смотрели пытливо и таили в себе вполне зрелый ум. Но худощавое лицо, покрытое густым загаром, было с виду совсем еще юным, а зачесанные набок русые волосы блестели, изгибались и курчавились от избытка внутренних сил в такой именно степени, в какой им свойственно изгибаться и блестеть в пору самой ранней молодости.
Он привел меня в контору к директору лесопункта, человеку более зрелых лет, чем он сам. Но и директор не был тем Иваном, насколько я понял это из его вопросов. О Финляндии он знал, кажется, не больше, чем об Эфиопии или Тасмании. Они оба по крайней мере с полчаса задавали мне вопросы о Финляндии. Я был, конечно, рад поговорить о ней, о моей родной далекой Суоми, куда мне уже, как видно, не суждено было больше вернуться и где осталась моя славная Майя Линтунен, тоже навеки для меня потерянная. В конце разговора они вернули мне документы и спросили, что меня интересует в их лесном поселке. Я ответил:
— Все интересует. Но мне надо торопиться. Кончается отпуск. Я пойду, если позволите.
— Куда пойдете?
— Туда.
Я махнул рукой в сторону севера. Директор покачал головой, а парторг улыбнулся:
— Туда не пройдете.
— Почему?
— Там наши лесоразработки. А дальше леса и болота, еще не тронутые. Сквозной дороги туда пока нет.
Так обстояли дела. Второй раз мне об этом сообщали. Но они не знали, что для меня не имело значения, есть туда дальше дорога или нет. Даже по самой гладкой и широкой дороге я все равно не сумел бы добраться до Ленинграда за оставшиеся у меня три дня с тем запасом пищи, который имелся у меня в животе. Значит, с таким же успехом я мог идти в направлении Ленинграда без всякой дороги. Важно было не стоять на месте, а идти и идти, пока меня несли мои ноги. Но я не сказал им этого. Кто бы меня понял? А они тем временем пояснили мне, что из их поселка ежедневно на станцию и в районный центр ходят грузовые машины. Одна из них и прихватит меня завтра, если я пожелаю. А пока я могу остаться у них и заночевать в комнате для приезжающих. Там неплохо. И столовая у них приличная. Буду доволен.
Так просто, по их мнению, это выглядело. Даже столовая должна была мне понравиться. Что ж. Может быть, и так. Но собирался ли я заглянуть в нее — это другой вопрос. Им, конечно, не дано было знать о состоянии моих карманов. И тут меня вдруг осенила одна очень гениальная мысль. Я спросил:
— А разве у вас нет очереди?
Они не поняли:
— Какой очереди?
Я пояснил:
— У вас в России есть такой обычай — пускать прохожих ночевать в деревенские дома по очереди. Вот я и хотел бы, если позволите, заночевать по такому обычаю.
Вот как ловко я вывернулся из трудного положения. О, моя голова еще годилась на кое-что! Они заулыбались в ответ на мои слова и потом призадумались. Парторг с озадаченным видом погрузил пятерню в густоту своих волнистых, свисающих набок волос и сказал, морща лоб:
— Устаревший обычай. Отмер за ненадобностью — прямо скажем. Но до войны, говорят, применялся. Да и после войны, помнится, бывал иногда в действии. Надо будет узнать, на ком остановилась очередь.
Он узнал и после этого привел меня к новому бревенчатому дому. Однако бородатый хозяин этого дома сказал ему, разведя руками:
— Я не против. Но сегодня… сам понимаешь…
Парторг задумался. Но потом опять повторил свое:
— Ничего. Пусть. Это особый случай. Это дело в некотором роде политическое и даже государственное. Зарубежный товарищ изучает нашу страну, чтобы потом рассказать о ней своим соотечественникам. Пусть увидят, как у нас веселятся. Это им тоже не вредно будет знать.
Бородатый хозяин дома спросил!
— Ну, а как же… это самое?..
Парторг ответил:
— Очень просто. Вели хозяйкам поставить двадцать пятый прибор — и дело с концом. А ребятам я объясню.
Он прошел со мной в заднюю комнату этого дома, очень большую и светлую, и там провозгласил:
— Товарищи! Сегодня у нас будет гость из Финляндии. Прошу любить и жаловать!
В ответ на это и на мой поклон было сказано из разных мест комнаты:
— Приветствуем! Добро пожаловать! Милости просим!
Сказано это было молодыми голосами, и обернулись ко мне молодые лица. Из этого следовало, что того Ивана среди них не было, хотя по виду любой из парней, тут стоявших, вполне мог сойти за того Ивана в его прошлом облике, каким он был с десяток лет назад, когда совершал свое грозное дело. У них тоже вид был воинственный и непримиримый. Только непримиримость свою они направляли друг против друга, споря о чем-то с таким усердием, что забыли о накрытом столе.
А стол никак не заслуживал такого невнимания. Составленный из трех больших столов, он занимал середину комнаты почти по всей ее длине от стены до стены, потребовав несколько белых скатертей. И по всей длине стола, плотно заполняя его среднюю часть, стояли в чашках, мисках и тарелках разные вкусные вещи: кислая капуста, соленые грибы, огурцы свежие и соленые, редиска, винегрет, мясной студень, заливная рыба, хлеб, печенье, масло, колбаса и сыр. Стояли также бутылки с водкой, виноградным вином и лимонадом. Стояли садовые цветы в стеклянных банках. Лежали яблоки и вишни в плоских корзинках. А по краю этого огромного стола тянулись вкруговую ряды пустых мелких тарелок, дополненные рюмками, бокалами, вилками и бумажными салфетками.
Казалось бы, все было готово к тому, чтобы сесть на стулья, тесно окружавшие стол, и приняться за еду. Однако никто не торопился этим заняться, хотя собрались тут люди, явно не страдающие плохим аппетитом, судя по обилию румянца на их молодых загорелых щеках. На стол они не смотрели, и разговоры их даже не касались того, чем он благоухал. Теснясь ближе к открытым окнам, они говорили о чем-то другом. Например, один парень сказал:
— Не понимаю, как можно из-за такой ерунды…
А другой возразил ему:
— Это для тебя оно ерунда, а для него, может, соль жизни.
Третий сказал:
— Но он понимает ли, в какое нелепое положение ставит всех нас?
Четвертый сказал:
— Уж куда нелепее.
Рослая круглолицая девушка в новом светло-зеленом костюме сказала:
— Прямо смех один.
Но, сказав это, она не проявила никаких признаков смеха. И еще один парень сказал:
— Принцип.
А другой поправил его:
— Не принцип, а болезненное самолюбие. Не может примириться с тем, что единственный раз в жизни не он оказался первым.
Другая девушка, потоньше лицом и телом, одетая в длинное шелковое платье, сказала:
— Надо убедить его. Нельзя же из-за такого, в сущности, пустяка нарушать торжественность момента. Петечка, где твое красноречие?
Но Петечка только рукой махнул:
— Да разве его убедишь такого!
Так они разговаривали, совсем забыв, должно быть, зачем сюда пришли. И никто не догадался напомнить им об этом, даже парторг. Он послушал их немного и, не говоря ни слова, вышел. Я тоже не стал их торопить садиться за стол. Это было их дело. Не для меня они приготовили этот стол, а для себя. Я не имел в нем надобности. Глаза мои скользили по вкусным вещам вдоль стола с полным равнодушием.
Проглотив слюнки, я даже повернулся к столу спиной и принялся рассматривать на стене цветные картинки в рамках, вырезанные из их журнала «Огонек». На одной картинке виднелся густой сосновый бор, на другой — медвежата в тайге, а на третьей бурлаки тянули вверх по реке Волге барку. Однако все это было не очень съедобное, исключая разве только медвежат. Но они еще бегали по тайге, где их не так-то просто было найти и поймать. Кроме того, они теперь, наверно, успели вырасти в крупных свирепых медведей, превратить которых в пищу было бы делом весьма затруднительным. Сделав такое заключение, я еще немного потоптался между столом и стеной, пытаясь понять смысл разговора парней и девушек, но так и не понял.
Тогда я по примеру парторга тоже вышел в первую комнату. Но там его уже не оказалось. Часть этой комнаты была завешена серым холстом, за которым слышались голоса. Я заглянул туда, отвернув край холста. И в этот миг в ноздри мне ударил особенно вкусный аромат. А когда я увидел предмет, от которого исходил этот аромат, в животе у меня заныло и засосало с новой силой. На горячем противне лежал огромный, запеченный в тесто окорок. Две женщины, румяные от жара, только что вынули его из печи и готовились переложить на большое продолговатое блюдо.
Я вернулся к накрытому столу. При таких обстоятельствах не стоило от него далеко отходить. Но молодые люди все еще медлили за него садиться. Даже запах жареной свинины из первой комнаты не мог их к тому поторопить. В комнату опять вошел парторг. Но это ничего не изменило. Странный разговор продолжался, и не было видно ему конца. Один парень сказал:
— Ну и что? Подумаешь, цаца какая! Не угодили ему. Зато, может, в следующем квартале ему вдвойне повезет.
— Безусловно.
Это слово произнесла та же самая тоненькая девушка в длинном шелковом платье. Видно было, что ей нравилось употреблять слова, не свойственные деревне. Но произносила она их с теми же деревенскими интонациями, что и другие. Стараясь выделиться среди других девушек, она и волосы свои завила мелкими кудряшками, и губы подкрасила так, что они казались крупнее, чем были на самом деле. Парень, стоявший рядом с ней, сказал:
— Другим похуже перепадали участки, да и то не стонали.
А его сосед добавил:
— И опять могут перепасть. Кто от этого застрахован? Еще не раз представится ему случай для… для…
— Для реабилитации.
Это слово подсказал тот парень, который незадолго перед этим сказал: «Принцип». Как видно, и парням была не в диковинку городская речь. Только это мало что меняло. Красивый, богатый стол по-прежнему оставался без внимания. Я обернулся к парторгу. Он улыбнулся и успокоил меня:
— Ничего. Обождем немного, пока все это не придет к своему, так сказать, логическому завершению.
Мы подождали немного. Разговор тянулся еще некоторое время в том же роде. Но потом в него вклинился громогласный вопрос:
— А он сам-то скоро заявится или вообще не удостоит нас своим присутствием? Свадьба его касается или не касается?
Вопрос этот был обращен к высокой светловолосой девушке, похожей лицом на хозяина дома. Девушка стояла отдельно от всех, одетая в белое нарядное платье, и с нетерпением поглядывала на дверь, явно кого-то ожидая. В ответ на вопросительные взгляды всей компании она молча пожала плечами, не разжимая строго сомкнутых губ. Ее волосы были светлее загара на ее нежном лице и свисали ниже пояса двумя тяжелыми косами толщиной в детскую руку каждая. Да, это была видная собой девушка, и неудивительно, что к ней так быстро подоспело время надеть белое свадебное платье. Могла бы и у меня быть в жизни такая же строгая красивая дочь…
К этой девушке подошла другая в таком же светлом платье. Только была она чуть ниже ростом и темнее волосом. Ее губы на таили в своих очертаниях такой строгости, зато брали яркостью. А по всему ее округлому лицу разливалось такое обилие радости, что, казалось, радость вот-вот прорвется сквозь налитой румянец ее щек и брызнет смехом из ее наполненных блеском коричневых глаз. И такая дочь тоже могла у меня быть, переполненная радостью и смехом. Почему бы нет? Все могло у меня в жизни быть, если бы не свернул я со своей прямой дороги на какой-то иной, нескладный путь.
Темноволосая девушка спросила у светловолосой!
— Может, перенесем на другой раз?
Но та отрицательно покачала головой. В это время в комнате появился еще один ладно скроенный парень, черноглазый, чернобровый, с красивыми темными кудрями, сбитыми на сторону. Все лица немедленно обернулись к нему. Но он, как видно, уже привык встречать со стороны людей такое внимание к себе и ничуть этим не смутился. Потянув к себе ленивым движением от стола один из стульев, он уселся у стены и неторопливо закурил папиросу, ни на кого не глядя. Кто-то спросил его:
— Ты, что же, нарочно решил сорвать вечер?
А он сделал удивленные глаза и посмотрел на всех так, словно только сейчас их заметил. Но, видя, что от него ждут ответа, сказал:
— Разве я кому мешаю? Веселитесь на здоровье.
Ему сказали:
— Ну и хватит корчить из себя обиженного. Не отравляй настроения другим. Если уж сплоховал, то умей держать свою досаду при себе.
— Пожалуйста, я могу уйти.
Сказав это, черноглазый парень поднялся со стула, но, встретив суровый взгляд голубых глаз светловолосой девушки, снова уселся. С минуту все огорченно помолчали. Потом один из парней сказал примирительно:
— Надо признать, конечно, что не все от него зависело. Редколесье на их участках — это само собой. Но, кроме того, его два раза подвела пила. А это тоже немаловажная причина.
Некоторые как будто были готовы согласиться с таким объяснением. Но тут заговорил еще один парень. До этого он молча подпирал широким плечом стену возле окна, ласково поглядывая на темноволосую, переполненную радостью и смехом девушку. Он был очень высокий, и коротко срезанные, желтые, как солома, волосы на его крупной голове стоймя торчали вверх, прибавляя ему роста. Он сказал:
— Никакая это не причина! Таких причин у каждого десятки наберутся. Просто пришло время уступить первенство — вот и все.
Черноглазый парень покосился на него с пренебрежением и сказал, не вынимая папиросы изо рта:
— Уступить? Кому? Уж не тебе ли?
Тот ответил спокойно:
— Да хотя бы и мне.
Черноглазый парень рассмеялся, обводя всех взглядом с таким видом, словно приглашал их тоже посмеяться вместе с ним. Но только два-три человека ответили ему слабыми улыбками. Тогда он сказал:
— Мало вырос. Подрасти еще малость.
Тот выпрямился, расправив плечи, и ответил:
— Думаю, что уже дорос.
— Думаешь? Это еще доказать надо.
— Уже доказано.
— Случайность не доказательство.
— Случайностью тут и не пахнет.
— Это мы еще проверим.
— Не храбрись. Еще откажешься от проверки.
— Это почему же?
— А потому. Не к твоей выгоде она обернется.
Черноглазый даже привстал со стула — так уязвили его почему-то слова высокого парня. И, весь красный от обиды, он прокричал:
— Да хоть сейчас пойдем, если так! Идем сейчас! Ну?!
Высокий парень усмехнулся:
— Зачем же сейчас? Неудобно сейчас вроде…
— А-а, неудобно? Струсил, иначе говоря?
На этот раз вскипел высокий парень. Сжав кулаки, он подступил к черноглазому, как бы собираясь его ударить, но не ударил и только постоял перед ним немного, а потом сказал отрывисто:
— Пошли!
Тот спросил удивленно:
— Куда?
— Туда. На делянки.
— Сейчас?
— Да, сейчас! Ты же сам этого хотел. Или уже идешь на попятный?
— Нет, почему же? Я готов. Пожалуйста.
И они оба направились к выходу. Кто-то сказал негромко:
— Совсем с ума спятили.
А кто-то крикнул им вслед:
— Эй, постойте! Петухи! А остальные для вас не существуют? Может быть, вы и нам соизволите что-нибудь объяснить?
Высокий спросил того, кто это крикнул:
— А ты не понял?
Тот отозвался с унынием в голосе:
— Я-то понял, да что проку-то?
— А то, что дашь нам ток для двух пил. Не возражаешь?
— А надолго?
Высокий вопросительно обернулся к черноглазому. Тот сказал:
— Часа на два.
— Это можно.
И понятливый парень тоже двинулся к выходу, расстегивая почему-то на ходу пиджак и развязывая галстук. Но у двери он обернулся и спросил:
— А остальные как?
Высокий парень тоже остановился в дверях и сказал, подумав:
— А остальным подождать придется. Втягивать всех в этот глупый спор мы не имеем права.
Но тут заволновались и заговорили все остальные, явно втягиваясь в тот самый спор. И кто-то из них выкрикнул громко:
— Разве не бригадами мы соревновались?
Эти слова родили одобрительный гул голосов, и скоро все остальные тоже потянулись к выходу. Я, конечно, так и не понял ничего из всей этой кутерьмы и, когда все вышли, опять взглянул на парторга. Он улыбался, провожая глазами последних уходящих, словно был доволен тем, что произошло, словно это было то самое логическое завершение, о котором он упоминал. Потом он подвинул мне стул и сказал:
— Вы посидите тут немного. Скоро директор подойдет. С ним кое-кто из старших. Скучно вам не будет. А мы мигом обернемся.
И он вышел, оставив меня наедине с вином и закусками. Но я не хотел оставаться один возле стола, за который меня еще никто не приглашал. Подумав немного, я тоже направился к выходу. Не стоило отрываться от парторга. Как-никак, худо мне, кажется, еще не было оттого, что я иногда держался у них поближе к парторгам. И если уж я хотел получить какое-то объяснение тому, что передо мной происходило, то кто объяснил бы мне это лучше парторга?
Одно я, правда, понял и без его разъяснений: обед от меня уплыл. И какой обед! Никогда в жизни не бывал я на таком обеде и никогда не буду впредь, ибо жить мне осталось очень короткое время. Все же, проходя в первой комнате мимо висящего холста, я не утерпел и опять отогнул его немного. Да, дела складывались невесело. Печеный окорок, наполнявший своим благоуханием весь дом, так и не попал на продолговатое блюдо, ожидавшее его на кухонном столе. Он остался на железном листе, и две женщины опять заталкивали его в горячую пасть печи. Одна из них ворчала:
— Прямо сумасшедшие какие-то! Только собрались за стол, и вдруг — на тебе! Шальная муха вас укусила? И без того днюете и ночуете в лесу, как лешие, прости господи. Раз уж расписались, вернулись из загса, — надо за стол садиться. А вы опять в лес! Чего вы там еще не видали, в лесу-то? Пни пересчитать не успели?
Этот вопрос относился к высокой девушке, которая приткнулась в углу позади печи и там торопливо укладывала на голове кругами свои толстые белокурые косы. Относился он также к высокому парню, волосы которого напоминали коротко срезанную солому на жнивье. Его крупная голова с этими короткими волосами виднелась позади девушки в том же углу. Он снимал там свой нарядный пиджак и расстегивал рубашку. По всему видно было, что он приходился этой девушке братом.
Парторга я догнал на улице. Он только что остановился перед открытыми воротами деревянного гаража и кого-то позвал оттуда. Из гаража вышел парень в черной рабочей спецовке, и они о чем-то заговорили. Парень разводил руками и отрицательно тряс головой, а парторг движением ладони успокаивал его. Когда я приблизился к ним, он говорил парню:
— Нет, на полуторке не уместимся. Трехтонку давай. Ничего. Постоишь там пару часов — и обратно. А поддержать ребят надо. Не такой уж они пустяк затеяли, если взглянуть с точки зрения эпохи. А ты зато в число приглашенных на свадьбу попадешь. Это я тебе гарантирую. Идет?
— Ладно уж. Где наша не пропадала.
Пока они там договаривались, я немного прошелся вдоль улицы, делая вид, что мне все ясно и понятно. А на самом деле никакой ясности у меня в голове не было. Прояснить ее мог только парторг, и, помня это, я старался не упустить его из виду.
Тем временем из гаража выкатилась грузовая машина и остановилась посреди улицы. К ней стали сбегаться те самые парни и девушки, которых я только что видел в праздничных нарядах у нетронутого свадебного стола. Они уже успели переодеться в простые одежды. На белокурой девушке вместо белого платья был надет синий комбинезон. Свои толстые косы она стянула косынкой. Черноглазый парень подал ей из кузова машины руку, и они уселись рядом на переднюю поперечную доску. Темноволосая девушка уселась рядом с высоким парнем. Вид у него был непримиримый. Глядя прямо перед собой, он как будто не замечал всех остальных, кто садился вокруг него на поперечные доски в тот же кузов. Когда все уселись, парторг окинул всех взглядом и сказал:
— Итак, отправляемся в свадебное путешествие. Трогаем!
Помахав мне рукой в знак того, что скоро вернется, он сел в кабину к водителю. Но я не хотел без него оставаться. Куда бы я годился без парторга? И пусть мне на этот раз попался парторг молодой и непоседливый, но все же он был парторг, и потому не стоило от него отрываться.
Машина заурчала и тронулась. Я прыгнул вперед и ухватился за край кузова. Два парня подхватили меня и втащили наверх. Я сел рядом с ними и покатил неведомо куда по неровной, ухабистой дороге, так и не отведав свиного окорока, запеченного в тесте и сметане с картофелем, луком, перцем, лавровым листом и разными другими благоуханными вещами, которых мне, кажется, так и не суждено было больше в жизни вкусить.
63
Да, это был странный праздник! Вернее, праздником тут и не пахло. Какой же это праздник, если стол для гостей накрыт в одном месте, а гости и хозяева едут от него в другое место, едут на неудобной грузовой машине по скверной, тряской дороге, проложенной через вырубленный наполовину лес, где корни огромных пней и замшелые камни лезут под колеса, заставляя машину крениться туда и сюда. Праздник должен быть праздником и ничем иным.
Таким ли был, например, праздник, проведенный однажды в Иванову ночь на торпе Ристо Сааринена возле Суолохко? Вот это действительно был праздник, о котором стоило вспомнить. После того как там, на берегу озера, сожгли костер величиной с телегу и отправились веселиться в дом, на торпе откуда-то появился длинный Тауно Карьялахти, давний недруг Сааринена, и запустил камнем в окно.
Когда сын Сааринена, выхватив пуукко, выбежал на дорогу, перед ним оказалась целая компания. Ему пришлось бы плохо, не догадайся кое-кто из гостей его отца выбежать вслед за ним. Это были все крепкие ребята, и, когда началась резня, длинный Тауно и его приятели еле уволокли ноги. А один из них, сильно подвыпивший Пентти Паккала, даже удрать не успел и остался на месте с проткнутым боком.
Но молодому Сааринену этого показалось мало. Он так раскипелся, что в ту же ночь выбил все стекла в доме Тауно Карьялахти и повалил забор вокруг его сада. И только после этого он вернулся со своими друзьями продолжать праздник на торпе отца. Вот это действительно был праздник, на котором скучать не пришлось никому.
А здесь неведомо что творилось вместо праздника. Стол с вином и закусками оставался где-то в поселке, а гости в семи километрах от него разделывали лес. Я смотрел на это и не знал, что думать. Два парня с электропилами в руках валили деревья с такой быстротой, что хлопанье их вершин о землю раздавалось почти без перерыва. Они полубегом передвигались от дерева к дереву, настороженно поглядывая друг на друга из-за толстых стволов елей и сосен. Не подрубая деревьев топором, они отхватывали пилами треугольный кусок ствола с той стороны, куда намеревались повалить дерево, и тут же, не сходя с места, прикладывали пилу к другой стороне ствола. Сваливали они каждое дерево за несколько секунд.
Две девушки помогали им валить, подпирая деревья длинными шестами с вилками на концах. Черноглазому парню помогала высокая белокурая девушка. Синий комбинезон, дополненный высокими сапогами, сидел на ее статной фигуре ничуть не хуже белого свадебного платья. Косынка на ее голове стояла бугром из-за толщины закрученных кос.
Ее рослому брату помогала темноволосая девушка, наполненная радостью и смехом. Сейчас ей, правда, было не до смеха, потому что черноглазый парень со своей белокурой помощницей показал в работе такую прыть, что уже на первых двадцати минутах обогнал ее богатыря на целых два дерева. Пытаясь выручить своего медлительного великана, она так суетилась, то подтягивая за его пилой гибкий черный кабель, то налегая изо всех сил на вилку, что скоро ее холщовое рабочее платье стало мокрым от пота вдоль всей спины, а темные голые икры над голенищами низких сапог и смуглое лицо заблестели, как будто их смазали маслом.
Все остальные парни и девушки были заняты тем, что обрубали сучья у поваленных деревьев и распиливали их на бревна. Лес был полон треска, звона и стука. От больших костров, на которых сжигались отрубленные сучья, валил кверху густой белый дым. Я тоже принялся кидать в костер свежие хвойные сучья, хотя не видел в этом пользы. Выгоднее было бы отправить эти сучья на целлюлозную фабрику или же просто оставить их сохнуть в куче, чтобы люди потом смогли их увезти к себе домой на топливо.
Парторг не успел переодеться в рабочее платье, только снял галстук и расстегнул ворот рубахи. Но и в светло-сером праздничном костюме он не оставался без дела. Здесь все его звали мастером и, когда дело касалось какого-нибудь инструмента, обращались к нему. Это он выделил обоим спорящим парням по одинаковому куску леса одинаковой густоты и теперь переходил с делянки на делянку и обратно с топором и меркой в руках, измеряя объем поваленных деревьев и помечая зарубкой те места, где их следовало перепилить. Мне он подмигнул, проходя мимо, и прокричал так, чтобы слышали другие:
— Как вам нравятся наши молодожены? Кажется, они, неплохо усвоили одну из главных супружеских обязанностей, а?
И я ответил ему тоже громко, как мог:
— Да… Неплохо…
Ответив это, я приосанился немного и расправил плечи, окидывая взглядом делянки, на которых кипела работа. Похоже, что и я был тут в некотором роде не лишний. Как-никак потребовалось в чем-то и мое высокое мнение. И труд мой тоже не отвергался, только мало я себя в нем проявлял. Заметив, что мастер больше топчется на участке высокого парня, я перебрался к черноглазому и там поискал глазами, кого бы освободить от инструмента.
Тонкая девушка отдала мне свой топор, а сама потащила в костер сучья. Не такая она, правда, была тонкая, если судить по тому, как обозначили выпуклости ее тела трикотажные штаны и футболка. А руки ее, несмотря на тонкость, без особенных усилий поднимали и кидали в костер самые тяжелые сучья. Ее подведенные темным цветом блестящие глаза с веселым одобрением обращались к черноглазому парню, валившему в нашу сторону от кромки леса все новые и новые деревья, рот раскрылся от частого дыхания, и краска с губ давно сползла вместе с потом. Они, конечно, не стали от этого менее привлекательны, ее губы, хотя сама она была, пожалуй, другого мнения на этот счет. Но пусть она сама была другого мнения. Это ничего не меняло в ней. И, конечно, у меня тоже могла быть в жизни такая же стройная и сильная дочь, забывающая при случае о краске на губах.
Приняв от нее топор, я прикинул его в руке. Он был не совсем привычной для меня формы. Но мои запачканные в смоле ладони быстро к нему применились, и скоро я обогнал в работе широкоплечую полногрудую девушку, одетую в коричневые лыжные брюки и в темно-зеленую блузку с короткими рукавами. Пока она очищала от сучьев два дерева, я очистил три.
Могло бы и дальше так пойти, но тут рядом со мной оказался невысокий крепкий парень в голубой застиранной майке. С ним тягаться стало труднее, потому что он работал прямо-таки не переводя дыхания. Непонятно, что его понуждало к этому. Как видно, он вознамерился заработать в этот день изрядную кучу денег, потому и действовал, наверно, с такой торопливостью. Обрубив сучья у одного лежачего дерева и отхватив у него топором вершину, он так быстро принимался за соседнее, что перерывы между ударами его топора даже в эти моменты не удлинялись.
Пришлось мне тоже скинуть пиджак и снять рубашку с галстуком. Однако и после этого я обгонял его лишь в тех случаях, когда мне попадалось дерево с длинным голым стволом, а ему — какая-нибудь кряжистая ель, вся в сучьях от комля до вершины. Но стоило на такое же дерево напороться мне, как вперед уходил он. Пытаясь хоть как-нибудь заставить его приостановиться, я крикнул ему, кивая на черноглазого парня и его белокурую жену, посылавших нам с треском и звоном эти деревья:
— Победа, кажется, будет на нашей стороне!
Крикнув это, я воткнул топор в свежий пень и полез в карман за платком, намереваясь вытереть пот с лица. Этим самым я как бы и его тоже соблазнял на передышку. Но он к тому времени уже успел нацелиться острием топора в очередной сук, и хотя приостановил взмах, выслушивая меня, но ровно настолько, чтобы ответить:
— А иначе и быть не могло. На равноценных участках наш обязательно опередит. Он такой!
Сказав это, парень вонзил топор в намеченный сук, завершая свой взмах, и тут же повторил это опять и опять, продвигаясь вдоль ствола дерева с такой скоростью, что я моментально забыл и про носовой платок и про пот на лице. Даже богатый свадебный обед, так обидно подразнивший мои ноздри, выпал на время из моей памяти. Только одна забота осталась в моей голове — как бы не отстать от этого неутомимого, железного дровосека и не уронить чести финского лесоруба. И кто знает, выдержал бы я или нет рядом с ним, если бы не раздался вдруг веселый возглас мастера:
— Заканчивай, ребятки! Время истекло! Шабаш!
Правда, работа после этого не сразу прекратилась, только деревья перестали падать. А оба споривших парня принялись теми же пилами разделывать поваленные стволы. Их молодые жены занялись уборкой сучьев. Это заставило сучкорубов поторопиться. Пришлось и мне еще чуть быстрее махать напоследок топором. Руки у меня дрожали, когда я сдавал свой топор мастеру, и в пустом животе все ходило ходуном. Остыв немного, я натянул на себя рубаху, повязал галстук и, подхватив пиджак, направился туда, где нас поджидал грузовик.
64
В кузов машины я забрался одним из первых. За мной туда влезли обе молодые жены, которые за минуту до этого помогли другим девушкам залить костры. Они влезли одновременно с двух сторон, свежие, мокроволосые, пропахшие смолой и дымом, и молча улыбнулись друг другу, Я понял, что их так радовало. Они неплохо заработали за эти два часа и, конечно, имели право радоваться такой прибавке к своему основному жалованью. Уселись они рядом на переднюю доску и всю обратную дорогу пели, не умолкая даже в тех местах, где машину подбрасывало на старых корневищах и ухабах.
Нет, свадебный стол не напрасно меня подразнил. Он опять предстал передо мной, и на этот раз никто не тянул возле него канители, тем более что день уже подходил к концу. Вечернее солнце, готовясь уйти за кромку леса, светило напоследок в окна комнаты розовыми боковыми лучами, заставляя все стеклянное на столе играть и переливаться разным цветом. Помыться и переодеться все успели за какие-нибудь пятнадцать минут — и вот уже сидели вокруг стола. Я тоже сидел. Мое место пришлось на середину стола. Справа от меня сидел директор лесопункта, а слева мастер. Я спросил мастера:
— Сколько же денег они получат за свою работу, которую так быстро выполнили?
Он усмехнулся и ответил:
— Денег? Да ни копейки не получат. Кое-что другое они получили, и это будет поценнее денег.
Не знаю, про какую ценность он говорил. При мне ее им не раздавали. И сколько я ни смотрел вдоль стола вправо и влево, ни у кого из парней и девушек не заметил в руках ничего такого, что не относилось бы к столу. Только лица у всех, заново разрумяненные и освеженные водой, были на этот раз довольные и радостные. От прежней хмурости не осталось даже признаков. И это доказывало, что ценность действительно уже находилась у каждого в кармане, или за пазухой, или где-то в другом месте.
Головы девушек опять освободились от платков, и тяжелые косы белокурой жены немедленно воспользовались этим, чтобы свеситься позади спинки стула почти до полу. Обе молодые жены, снова одетые в белые платья, сидели рядом, подпираемые с двух сторон своими молодыми мужьями. Они сидели напротив меня по другую сторону стола, и мне хорошо было видно, с какой нежностью поглядывали мужья на своих подруг. Но стоило одному из мужей встретить взгляд другого мужа, как оба они хмурились и отворачивались в разные стороны. Из этого следовало, что мужья еще не успели получить упомянутые мастером ценности.
Мастер поднялся с наполненной рюмкой в руке и сказал:
— Итак, вопрос о первенстве покуда утрясен. Одна сторона еще раз подтвердила свое право называться непобедимой. Но другая не отказалась от своей заявки на такое же право. Что ты с ней поделаешь? Прямо на пятки наступает. Всего в два кубометра, да и то неполных, получилась разница в этот раз. Так что учтите это вы, овеянный славой. Почивать вам на лаврах не придется.
Тут он помолчал немного, обдумывая что-то. После я понял, что он обдумывал. Он старался сообразить, нельзя ли увязать это с политикой. Ведь он был не только мастер, но и парторг. А парторги у них так устроены, что обязательно сводят все на политику. Обдумав то, что ему было надо, он добавил:
— Допустим, верх возьмет другая сторона. Ну и что? Кровопролития у нас из-за этого не произойдет. А польза будет всем. В этом и заключается главная суть мирного соревнования. Всем польза, и никому вреда. Вот так бы и государствам договориться, чтобы всякие там споры и раздоры между собой — идеологические и политические — решать мирным соревнованием, а не войной. Тогда чья бы сторона ни победила, а выигрывали бы всегда народы обеих сторон. Но это не вдруг наладится. Сначала нужно установить мир и доверие между государствами. Без мира, без дружбы это дело не пойдет. Вот здесь, рядом со мной, сидит представитель Финляндии Алексей Матвеевич Турханен. Уж он-то знает, каково пришлось финскому народу от войны с нами. Но стоило заключить мир, как жизнь опять помаленьку в гору пошла. Жизнь — она ведь такая! Она непременно свое возьмет. Ей только дорогу давай пошире. А народ финский — миролюбивый, трудовой народ, и война ему, как и нам, не нужна. Видели нашего гостя в работе? Поет у него в руках топор-то. Видно, помахал он им за свою жизнь всласть. Так вот, я предлагаю выпить первую рюмку за мир, без которого не продвинется и наше дело, не устроится и наше счастье, за мир и за дружбу с хорошим финским народом!
И они выпили эту первую рюмку здесь, в глубине лесов, не то белорусских, не то псковских, за дружбу с вами, финские люди. И лишь потом стали пить за то, что относилось к их свадебному вечеру. Не знаю, почему они начали свой местный маленький праздник именно так. Может быть, ради финского гостя? Увидели финна и выразили через него свое отношение к финскому народу. Такое напрашивалось тут объяснение, хотя ты, Юсси, конечно, назвал бы это слишком наивной догадкой. Твой опытный, зоркий глаз легко усмотрел бы тут совсем иную причину. Советская пропаганда — вот как ты бы это назвал.
Да, так оно и было, конечно. Тебе ли, Юсси, этого не знать с твоим проникновенным умом! Все у них было подстроено заранее: и дождь, загнавший меня в этот лесной поселок, и богатый свадебный стол, даже речь парторга касательно дружбы с финнами. Все было заранее продумано с одним-единственным намерением вкрутить мне мозги. Но ты, Юсси, можешь быть спокоен. Не такой я был простак, чтобы так легко клюнуть на эту приманку.
Да, я пил, конечно, и ел всю эту заготовленную для меня хитроумную пропаганду. А что же мне оставалось делать? Но нельзя сказать, чтобы она показалась мне такой уж неприемлемой, эта их пропаганда, особенно та ее разновидность, которая побывала в печном жару. У них это все носило разные названия, и трудно было бы возразить что-нибудь против таких вещей, как, например, свадебный пирог с яйцом и рисом или печеный окорок, напитанный такими ароматами, от которых мутилось в голове. Правда, замутнению в голове способствовало также и то, что наливалось в рюмки. И, пожалуй, это был самый убедительный вид пропаганды, насколько я это сам ощутил. Да, я пил эту пропаганду, мне снова ее наливали в рюмку, я вставал с приветливой улыбкой и протягивал наполненную пропагандой рюмку на все стороны, и все, кто мог дотянуться, прикасались к ней своими рюмками и тоже пили.
Чаще всего рюмки тянулись туда, где сидели две молодые пары. Я тоже тянул к ним свою рюмку. Они протягивали в ответ свои. Наши рюмки сталкивались над серединой стола и звенели. Все желали молодым супругам счастья и успеха в работе. Я тоже желал им зарабатывать побольше, чтобы в доме было счастье. Не мог я только понять, ради какого заработка покидали они на два часа этот свадебный стол. Но я не терял надежды выяснить это в конце концов.
Тем временем в уме у меня постепенно складывалось короткое ответное слово по поводу дружбы финнов с русскими. А как же иначе? Если тебя назвали представителем финского народа, то представляй его достойно и на хитрую пропаганду тоже сумей ответить пропагандой. Однако мне не повезло с ответом. Когда я поднялся, держа в руке рюмку, наполненную белой пропагандой, рядом не оказалось парторга. А как выступать с ответным словом по поводу целых народов, если перед глазами нет парторга? Насколько я тут у них убедился, его это касалось главным образом — принимать на себя бремя забот о народе. И потому, готовясь изложить им кое-что исходящее от финского народа, я хотел, чтобы это не миновало русского парторга. Но его не было на месте. Он в это время стоял позади обеих молодых жен. Со своего места я видел его темно-русую голову, склоненную над их разными но цвету лицами. Но руки он раздвинул шире того пространства, которое занимали жены. Руками он дотянулся до их мужей, сидевших по обе стороны от них. И, похлопывая мужей по плечам, он сказал им:
— Ну, как самочувствие, враги смертельные? Я вижу, вы даже чокаться друг с другом не желаете. Даже ради такого дня? Даже ради жен ваших, которые вон как дружно уместились между вами? Теперь бы вам еще сцепиться где-нибудь на задворках для полноты картины, верно? Вот бы красивое зрелище получилось, достойное богов. Только одна у меня к вам нижайшая просьба: черепа друг другу глубже десяти сантиметров не проламывать, ибо на этой глубине возможно даже у вас присутствие мозгов, которые могут еще пригодиться вам в жизни, и руки из плеч с корнями не вырывать! Они тоже могут пригодиться, как пригодились сегодня, когда побежденный едва не занял место победителя, напомнив этим еще раз о переменчивости людской славы. А чокаться зачем же? Это вы правильно решили. Правда, оно вроде как бы немножко не совсем удобно выглядит перед всеми остальными. Но плевать вам на всех остальных, верно? Позади столько взаимных обид, а впереди смертный бой. До чоканья ли тут? Боже упаси!
Оба парня рассмеялись, выслушав это, и тут же крепко приложились рюмками, осушив их одним глотком. Это вызвало новый веселый шум за столом и новый звон рюмок и бокалов. К моей рюмке тоже притронулись чьи-то рюмки, и мне тоже поневоле пришлось ее выпить. А для ответного слова нужна была новая полная рюмка. Пока ее наполняли, я уделил внимание второму куску свинины, отрезанному для меня от окорока румянолицей хозяйкой. И этот кусок тоже улетучился из моей тарелки со всеми приложенными к нему вкусными дополнениями в такой короткий миг, что я только с последним глотком уловил направление, по которому все это исчезло. Однако не успел я этим огорчиться, как тарелка моя стараниями хозяйки снова наполнилась.
Наполнилась и рюмка. Но тут же кто-то провозгласил новое пожелание. Пришлось выпить за это пожелание и опять уделить внимание тому, что было на тарелке. Потом это повторилось еще раз. Я встал с поднятой рюмкой, чтобы сказать наконец ответное слово, но едва раскрыл рот, как услыхал новое пожелание. Я выпил, сел и снова обратился к своей тарелке. Не помню, что на ней было, кажется пирог, а может быть, студень, или рыба, или грибы. Все это быстро куда-то испарялось из моей тарелки вперемежку с тем, что наливалось в рюмку. Куда бы это все могло деваться?
Пока я раздумывал над этим, передо мной вместо рюмки вдруг оказался стакан с горячим чаем, а вместо тарелки — розетка с вареньем и груда домашнего печенья в плоской корзинке. И тут я спохватился, что так и не сказал им ответного слова. Но уже неудобно было делать это без рюмки в руках. Да, это была для них огромная потеря, конечно, — остаться без моего ответа. Но что ж делать? Так уж им, видно, суждено было в жизни прозябать, не отведав сладости моих речей.
Скоро все три стола были отодвинуты к стене, а на освободившемся пространстве начались танцы под звуки аккордеона при свете трех керосиновых ламп. Я тоже потанцевал немного вместе с хозяйкой, которая так внимательно заботилась весь вечер о том, чтобы моя тарелка не оказалась пустой. Сделав с ней в общей толпе по комнате два круга, я усадил ее на стул возле отодвинутых столов и сам сел, напевая про себя мелодию, которую в это время играли. Веселиться так веселиться — чего там!
Захватив из корзинки горсть вишен, я стал кидать их одну за другой в рот. Сок брызнул мне на костюм. Плевать! Он отслужил свое. Гуляй, Аксель! Что тебе костюм? Вся жизнь твоя так… не поймешь, куда она повернулась. И сам ты тоже — кто? Никто. Мало приглядного в тебе выявится, если ковырнуть как следует шилом твою подноготную и потом — в чистую воду! Гуляй знай, пока они не догадались это сделать! Сколько у тебя осталось? Два дня. А в среду тебе уже стоять за своим верстаком в Ленинграде. Но где он, твой Ленинград? Хо! Не было у тебя Ленинграда. Был сон, далекий светлый сон, который уже не повторится…
Я сидел и притопывал ногой в такт музыке. Все шло как надо, и праздник был как праздник. Только одного я все еще не мог взять в толк: за каким дьяволом понесло их всех в лес от свадебного стола и ради какой такой ценной оплаты они работали там два часа как бешеные? Этого я никак не мог понять, несмотря на свои мудро устроенные мозги. И, отбивая такт ногой, я все думал и думал об этом.
И позднее, когда я уже укладывался спать на свою постель в сенном сарае, куда меня привел бородатый хозяин дома, я опять задал себе вопрос: что же такое, в конце концов, у них работа? Работа она или что-нибудь другое?
И больше я ни о чем не успел подумать в эту ночь…
65
Проснулся я довольно рано. Солнце едва поднялось над кромкой леса. Хозяйки в доме не было. Я оделся и вышел во двор, чтобы там сказать ей «спасибо». Но и во дворе я ее не увидел. Должно быть, она была занята в коровнике или где-нибудь еще. Пока я ее высматривал, к воротам подкатил на велосипеде бородатый хозяин этого дома. Рубашка его была расстегнута у ворота, и от него пахло землей и потом. Ему я и сказал «спасибо» за ночлег и угощение. А он, думая, наверно, что я уже позавтракал, пожал мне руку своей жесткой черной ладонью и спросил:
— От нас куда теперь? К директору?
Я махнул рукой на север. Он сказал:
— А-а, на делянки. Но туда машин уже нет. Пешком придется. А вы по высоковольтной шпарьте. Наши ребята тут ходят иногда. Оно и ближе. По дороге километров семь, а тут не больше трех.
И он указал туда, где проходила высоковольтная линия. Она тянулась на северо-восток. А на северо-востоке находился Ленинград. Так я определял направление к нему от этих мест. И, может быть, эта линия шла прямо до Ленинграда?
Я вышел из поселка на высоковольтную линию и зашагал вдоль нее по тропинке на северо-восток. Земля была кочковатая, поросшая мхом, вереском и черничником, но сухая, и я мог не бояться, что мои парусиновые туфли промокнут. Тропинка огибала старые пни и обходила основания долговязых упоров, державших провода. Эти двуногие упоры были сделаны из толстых пятиметровых бревен, пропитанных смолой и скрепленных между собой железными скобами и тросом. На каждый упор пошло около семи таких бревен, считая поперечины. Они несли эти два провода, подвешенные на длинных изоляторах, через холмы и низины, но почему-то еще не давали света тем деревням, в которых я ночевал, хотя лампочки у них в домах были готовы его принять. Судя по молодой лиственной поросли на пнях и кочках, просека для линии была прорублена года три назад и, стало быть, уже давно была готова к своей роли.
Часа полтора шел я по этой просеке до того места, где у них разрабатывался лес. Узнал я об этом по шуму движка, уже знакомому мне, и по отдаленному стуку топоров. Кроме того, слева от линии в просвете вырубленного леса показались штабеля бревен. Возле них я увидел пожилого человека в пиджаке и сапогах, подгребавшего вилами в кучу древесный мусор. Он, должно быть, знал меня в лицо, потому что кивнул мне издали и крикнул вдогонку:
— Вы на пуск?
Дался им этот пуск! Уже второй раз меня о нем спрашивали. Не зная, что ответить, я все же кивнул ему на всякий случай и продолжал свой путь вдоль просеки.
Все шло у меня гладко на этот раз. Просека была пустынна, и никакого препятствия не предвиделось больше на моем пути к Ленинграду. Другое дело — суждено ли было мне дойти до него? Уже теперь живот мой тосковал по еде, ибо не получил завтрака. А без еды в животе ноги действовали не особенно весело. Кому как не мне было об этом знать? Но виноват в этом был, конечно, я сам. Стоило мне дождаться хозяйки — и я не отправился бы в путь голодным. Но теперь поздно было об этом сожалеть. Приходилось мириться с тем, что уготовила мне судьба. А уготовила она, как видно, нечто весьма безотрадное.
Что надеялся я увидеть в конце своего пути? Ленинград надеялся я увидеть с его многолюдным Невским проспектом. Но не видать мне больше Невского проспекта! Через день я обязан был стоять за своим верстаком в недостроенном девятиэтажном доме на Южной улице. Но не стоять мне больше за своим верстаком! Где буду я через день? На какой сотне километров от Ленинграда и под какой березой упокоится через день мое бренное тело?
И все-таки я должен был идти и идти к своему верстаку, пока двигались мои ноги. Не мне было изменять замыслы судьбы, наметившей для меня такой невеселый конец. А надеяться на какой-нибудь иной конец уже не приходилось. Да и был ли смысл надеяться? Все равно я не заслужил благосклонности этой страны и напрасно провел в ней почти год. Чертов Муставаара изломал мою жизнь. Проклятый пес, умеющий выхватывать кость у слабых и вилять хвостом перед сильными. По его вине я попал на эту землю, где теперь пребывал в одиночестве. Она не приняла меня. Она исторгла меня из себя, как живой, здоровый организм исторгает случайную занозу. Моя русская женщина избрала себе другого, сердитый Нил Прохорович не захотел на меня даже взглянуть, а хмурый Леха просто бросил меня об землю.
Не пересеки мне в жизни путь Рикхард Муставаара, не испытал бы я этих обид и не брел бы сейчас одиноко по лесной тропинке меж двух зеленых стен из хвои и листвы в неведомое место, называемое Пуск, откуда мне предстояло идти далее на Ленинград, идти напрасно, без всякой надежды когда-либо до него дойти, ибо на это у меня уже не оставалось ни сил, ни времени. Но идти надо было, и я шагал как мог быстрее, от упора к упору под слегка провисающими проводами высоковольтной линии, укрытый от солнца тенью леса.
Два часа шел я вдоль просеки. За это время на моем пути попались три ручья и одно болото. Через ручьи были переброшены тесаные бревна, а вокруг болота тропинка шла в обход, приведя меня затем снова на ту же просеку. Из просеки высоковольтная линия вышла на открытые поля, занятые посевами ржи, овса, льна и картофеля. Туда же вышла тропинка. По этим полям она вела меня километра два, пока не вывела на дорогу. А дорога привела меня к реке.
Но она не пересекала реку, а только прикасалась к ней у выпуклости речного изгиба, уходя далее на северо-восток. Зато на этом изгибе поперек реки протянулась плотина. Она остановила воду реки, заставив ее подняться на много метров по одну сторону от себя и широко разлиться, наподобие большого озера, а на другую сторону, вниз по течению реки, пропускала только отдельные, падающие с высоты струи.
У плотины на берегу стояло здание электростанции. Возле него толпился народ. Перед народом высилась небольшая деревянная трибуна с микрофоном, а в микрофон говорил человек. Два рупора, закрепленные на столбах, усиливали его голос для тех трехсот или пятисот человек, что заполнили собой всю дорогу, мешая мне пройти мимо них.
Я мог бы, правда, обойти их стороной, но для этого понадобилось бы перевалить через высокий травянистый бугор, поросший снизу доверху кустарником. А у меня не было особенной охоты карабкаться вверх по его крутому склону. Бугор этот был круто срезан со стороны реки, чтобы дать место дороге, и народ, заполняя собой дорогу, прижимался к его глинистому срезу вплотную, не позволяя мне протиснуться за спинами даже самых задних. Поневоле пришлось остановиться. И, стоя вплотную к толпе, я тут же принялся выискивать в ней просветы, чтобы уйти своей дорогой дальше на северо-восток.
А человек на трибуне тем временем продолжал говорить. Он говорил о том, что вот они наконец закончили постройку этой гидроэлектростанции мощностью в полторы тысячи киловатт. Тридцать восемь колхозов и один леспромхоз приняли участие в этом строительстве своими денежными средствами и личным трудом. На строительство этой станции государство отпустило им двенадцать миллионов рублей долгосрочного кредита. Ленинград прислал сюда турбины, генераторы и кабель. Москва прислала строительные материалы и специалистов, которые установили агрегаты. Армения прислала трансформаторы. И еще кто-то им помогал из каких-то других городов и республик. Была проделана огромная работа: вынуто столько-то тысяч кубометров грунта, уложено столько-то тысяч кубометров бетона, установлено столько-то сотен металлических конструкций, протянуто столько-то сотен километров высоковольтных линий. И всюду самую трудоемкую часть работы выполнили сами колхозники, что помогло намного сократить сроки окончания строительства. И вот, благодаря этому сегодня получают наконец ток более девяти тысяч колхозных домов, около ста крупных животноводческих ферм, семьдесят молотильных токов, несколько лесопунктов и десятки разных других организаций. Возможно ли было в царское время возведение такого крупного сооружения силами самих крестьян? Нет, в царское время это было бы невозможно. Не говоря уж об отсталой технике, самый строй царской России препятствовал объединению народных сил. А тут, на этом замечательном строительстве, объединились в одну дружную семью жители девяноста шести деревень. Среди них — русские, белорусы, латыши, эстонцы. Только в наше время стало возможным осуществление силами самого народа таких крупных сооружений. И это еще раз свидетельствует о великой силе колхозного строя, о непобедимости союза рабочего класса и крестьянства.
Это был, как видно, партийный человек, потому что он все свел на политику. Но хлопали ему дружно и даже прокричали «ура». Я не кричал «ура». У меня были свои заботы. Все еще пытаясь протиснуться вперед за спинами людей, я делал шаг-другой вверх по свежему срезу бугра, но тут же опять сползал по скользкой глине назад, к людям.
На все эти мои попытки с любопытством поглядывал темноволосый молодой паренек в светлой, расстегнутой у ворота рубахе с закатанными рукавами и в серых брюках. Он оказался рядом со мной с самого начала, как только я подошел к толпе, и мы раза два уже успели встретиться с ним взглядами. Глаза у него были разные по цвету, и каждый глаз, кроме того, казался разбитым на мелкие дольки — тоже разного цвета. От этого блеск его глаз как бы дробился, придавая им такой вид, словно на них только что брызнули мелкими каплями разного цвета, пронизанными искрами.
Взглянув еще раз на меня своими разноцветными брызгами, он тронул за плечо своего соседа. Тот обернулся. Я узнал его. Это был директор лесопункта. Паренек спросил его, указывая глазами на меня:
— Он?
И директор ответил:
— Он.
Протянув мне затем руку, директор сказал:
— А мы искали вас. Почему же вы с нами не поехали?
Я ответил:
— Ничего, спасибо. Зато я прогулялся немножко.
Тем временем заговорил второй оратор, и все головы опять повернулись к трибуне. А темноволосый паренек придвинулся ко мне поближе и сказал как бы по секрету:
— Я вижу; вам неудобно смотреть отсюда. И мне тоже. Знаете что? Давайте поднимемся на этот холм. Оттуда такая чудесная панорама открывается! Хотите увидеть? Пойдемте!
Я не хотел увидеть. Не для меня все это было. Но он так хорошо улыбался, показывая мне рукой, куда идти, а его глаза, наполненные разноцветным блеском, всматривались в меня с таким старанием, словно силились выразить еще что-то, помимо слов. И я не устоял. Мы отошли от людей немного назад, огибая холм, и, когда кустарники ольхи и березы заслонили нас от них, он сказал:
— Вот здесь попробуйте!
Я помедлил немного. Но он повторил: «Да, да, вот здесь!». И сам первый двинулся вверх, раздвигая кустарник. Тогда и я стал подниматься. Некоторое время мы карабкались вверх рядом, и он показывал мне направление. Но постепенно он отстал и скоро совсем потерялся. Я подождал его и прислушался. Ничего не было слышно, кроме легкого шелеста листвы кустарников и отдаленного говора рупоров снизу, со стороны реки. Помедлив немного, я двинулся дальше один и скоро выбрался на вершину холма.
Наверху он был свободнее от кустарников, но зато там уже стоял какой-то любитель красивой панорамы, успевший меня опередить. Однако это был не тот, кто надоумил меня сюда подняться. Это был очень рослый человек в темном костюме. Он занял самую высокую точку вершины холма, откуда водная даль открывалась шире, но смотрел почему-то не в сторону реки, а на меня. Чем я так его заинтересовал? Может быть, он собирался что-то мне сказать? Ну что ж, пусть говорит, пока я не спустился к дороге по другому склону холма.
Вглядываясь в его лицо, я сделал к нему шагов семь. Помедлив немного, сделал восьмой шаг, все еще удивленно вглядываясь в его лицо. И, не отрывая взгляда от его лица, я готовился сделать к нему девятый шаг. Но девятого шага у меня не получилось… Озноб тронул вдруг мою спину, которая только что была горячей и влажной от пота, и ноги сделались вялыми и слабыми, как будто кости в них заменили рыхлой ватой.
Великий боже, спаси мою душу! Передо мной стоял Рикхард Муставаара — Черная Беда! Он стоял, твердо расставив ноги, держа руки в карманах брюк и направив прямо на меня в упор свой страшный черный взгляд, схожий с двумя бездонными провалами, полными ледяного холода. Такое могло привидеться только во сие, и я поморгал глазами, чтобы отогнать от себя это наваждение. Но он стоял и не таял, не расплывался, не улетучивался. У меня мелькнула было надежда, что он смотрел, не видя меня, как не видит ничего бесплотный дух. И я осторожно подался в сторону, надеясь уйти из-под его взгляда. Но его черные, как сажа, зрачки мгновенно передвинулись в темных впадинах глазниц под густыми черными бровями, следуя за моим движением.
Боже мой, что же это такое происходило на свете? Значит, и здесь он меня настиг. И здесь не было мне от него спасения. И здесь тоже он собирался быть властелином и творить свои черные дела, как творил их в моей бедной Суоми. Даже здесь не оказалось на него управы — такую страшную силу он собой представлял, привыкшую свирепо раздавливать все, что становилось на его пути.
Я стоял перед ним, не зная, что делать. А он смотрел на меня в упор, держа руки в карманах, где у него, конечно, было спрятано по револьверу, ибо в этой стране он оказался, надо полагать, не среди друзей. Он сжимал в карманах свои револьверы, и я понял, что живым от него на этот раз уже не уйду.
Но до каких же пор я должен был его бояться? Я находился в стране, которая не била поклонов его заокеанским хозяевам. Здесь не умели гнуть спину перед силой и привыкли обходиться своими собственными силами. И без него тоже здесь легко обходились, как обходились без его отца, которого выкинули вон из этой страны почти сорок лет назад. Зачем стал бы я здесь его бояться? Не мог он теперь принести мне беду чернее той, которую я от него уже принял. Но своим появлением он грозил бедой русским, чей хлеб я ел почти целый год. Нельзя было оставлять у них это вместилище зла. Плохо было той земле, на которой он стоял. А я не хотел, чтобы этой земле было плохо. Отвести надо было от нее скорей это зло. Не колеблясь больше, я приблизился к нему вплотную и посмотрел снизу вверх прямо в его темные, тяжелые глаза.
Он молчал, сжав свой рот, у которого не было формы. Зато глаза его не молчали. Свирепый огонь хлынул из их черной, бездонной глубины на смену ледяному холоду. И, казалось, он готов был стереть меня с лица земли одним только этим огнем. Но меня уже не мог теперь остановить этот черный огонь. Не о себе я думал. И не от себя, не от своих слабых внутренних сил я подступил к нему вплотную. Не во мне было дело. От имени этих людей, гудевших там, внизу, я подступил к нему. Их сила двигала моими ногами. Их сила направила мои взгляд прямо в черную пустоту его грозящих глаз. И должно быть, их сила двигала моим языком, когда я сказал ему:
— Нет, Муставаара! Нет…
Голос мой дрожал немного, когда я это произнес. Мы были с ним одни на этом высоком бугре, срезанном со стороны реки и уходящем покато на три другие стороны, занятые кустарниками и деревьями. Все другие люди толпились там, внизу, на ровной части берега, празднуя окончание своего большого труда. Мы были на бугре одни в окружении кустарников. Неудивительно, если голос мой дрогнул вначале. Но я тут же повторил уже более твердым голосом:
— Нет, господин Муставаара. Сюда ты напрасно пробрался. Эта земля не для тебя. И я не позволю тебе заниматься тут своими черными делами.
Я сказал это, а он все смотрел на меня в упор сверху вниз, высокомерно выжидая, что я еще скажу, чтобы затем сразу же отмести все это злым, едким словом или просто небрежным движением губ, которым он мог придать любую форму, смотря по надобности. Он выждал так немного, пронизывая меня предостерегающим взглядом, а затем, словно вдруг забыв обо мне, устремил свой взгляд вдаль, поверх моей головы. Я для него и прежде мало значил, а теперь, когда он явился в эту новую огромную страну, где предполагал расправляться с людьми покрупнее меня, я для него и вовсе превратился в пустое место. Зато и для него приспело худое время. И об этом намеревался позаботиться я.
К тому обязывало меня все то, что я вбирал в себя здесь в течение года, что вело меня по русским дорогам и что я на этих дорогах встречал. К тому обязывала меня та земля, на которой я стоял. И, не задумываясь больше, я схватил его обеими руками за пиджак у нижней части груди, потому что до верхней части груди я не мог достать, стоя ниже его на неровности земли. Я встряхнул его как только мог сильно и тут же услыхал, как звякнули курки пистолетов, которые он тотчас же взвел, продолжая их пока что держать в карманах брюк. Но, несмотря на это, я еще раз встряхнул его и крикнул ему снизу вверх прямо в лицо, мешая русские слова с финскими:
— Не уйдешь ты отсюда теперь никуда, Муставаара! Не придется тебе больше портить ничьей жизни. Со мной будет у тебя разговор сначала. Вынимай свои револьверы к черту! Стреляй! Мне плевать на них! Но ты отсюда уже не уйдешь, с этого бугра. Творить в этой стране зло я тебе не позволю. Ты понимаешь это или нет, проклятый зверь, утерявший где-то в чужой земле свое человеческое сердце?
Я кричал ему это в лицо, держа за края пиджака у нижней части груди и чувствуя внутри себя ярость, способную разнести его в пыль. Но руки мои не могли даже пошатнуть его — так крепко он стоял на ногах, этот черный человек, против которого не нашлось на земле силы. Он даже взглядом не удостаивал меня больше, словно и не было перед ним никого, словно никто его не тряс и не выкрикивал ему в лицо угроз.
Он смотрел через мою голову на далекий русский горизонт, обдумывая более крупные дела, нежели разговор со мной. Ради них он сюда пробрался. И это были страшные дела. По затаенной ярости на его лице можно было предвидеть, что пришел он сюда покорять и раздавливать, пришел сокрушать все те порядки, какие установились тут без него, пришел коверкать людские жизни, ломать волю людей и заставлять их выполнять свою. Меня он не считал препятствием на пути к выполнению этих своих намерений. Меня он даже не хотел замечать. Но я уже не собирался выпускать его из своих рук — чего бы это мне ни стоило.
За моей спиной прошуршал куст и послышались легкие шаги. Я оглянулся и увидел опять молодого паренька с разноцветными глазами, который отстал от меня на склоне холма. Он шел ко мне с приветливой улыбкой, ничего не ведая о том, какое губительное зло пришло на его землю. Пытаясь объяснить ему это, я повернулся к нему лицом, продолжая одной рукой держать за грудь Рикхарда Муставаара, но не мог сразу подобрать подходящего слова — так много их скопилось вдруг у меня во рту. А разноглазый парень сказал мне с улыбкой звонко и резко:
— Взять!
Я не понял. Он что-то путал? Или шутил? Я попытался разглядеть что-нибудь в разноцветных брызгах его глаз, выпустив на этот момент из рук пиджак Муставаара, но ничего не разглядел. Богатые цветом глаза парня искрились приветливостью. Тогда я обернулся назад и увидел, что грозный Муставаара уже уходит в кустарник, повернувшись ко мне своей огромной спиной и все еще не вынимая из карманов рук. И тут я понял, что не курки звякнули в его карманах. Тонкая стальная цепь тянулась у него сзади от одной кисти руки к другой. Он уходил своим обычным шагом, ставя ноги так, будто давил ими кого-то перед собой. Но, кажется, прошло его время давить: человек в милицейской форме шел рядом с ним.
Не зная, что об этом думать, я опять обернулся к разноглазому парню. И тот пояснил, кивнув с высоты холма на разлившееся перед плотиной озеро:
— Там усадьба его отца затоплена. Старая кирпичная развалина. Но для него, разумеется, священная дедовская реликвия. За нее он и готовился нам отомстить. Запасы взрывчатки хранились у него в этом холме со времен гитлеровской оккупации. Он думал воспользоваться наплывом гостей, да ничего не успел. Но очень буйно повел себя при аресте — пришлось принять меры.
Я спросил:
— Ничего не успел? Значит, его зря арестовали? Его отпустят?
Он ответил:
— Нет. Ему предстоит ответить за нелегальный переход границы и жестокое обращение с советскими военнопленными в лагере, где он был начальником.
Вот как обстояло дело. И пока я переваривал в голове сказанное, он добавил:
— Мы очень рады, что вы здесь оказались, и просим извинить нас за эту импровизированную очную ставку. А теперь мне пора. Я ведь тоже обязан там кое-что сказать до пуска. А вы отсюда понаблюдаете? Ну, пока!
Он махнул мне рукой и скрылся за кустами, сбегая вниз по склону. А я постоял немного на месте, обдумывая то, что мне было сказано. Я всегда все глубоко и обстоятельно обдумываю. Этим я отличаюсь от прочих людей. И от этого у меня все в жизни идет гладко, как ни у кого другого. И теперь тоже все шло гладко. Разве нет? Передо мной открывались новые русские просторы, по которым уже никто больше не препятствовал мне идти до Ленинграда. Осталось только установить, под какой березой упокоятся на этих просторах мои бедные кости, не допрыгав до Ленинграда нескольких сотен километров.
Раздвинув кусты, я окинул еще раз взглядом с высоты холма это созданное людскими руками озеро, на дне которого похоронили последнюю надежду сына русского помещика Чернобедова-Муставаара, похоронили для того, чтобы дать свет жителям сотни деревень. А потом я спустился вниз по другому склону холма и, минуя людей, занятых у реки своим торжеством, вышел на дорогу, ведущую на северо-восток.
О длине русских дорог я уже имел, слава богу, некоторое понятие. Но какими длинными кажутся они при пустом брюхе! Я шел по ним весь день и вечер до глубокой ночи, выбирая те из них, которые вели на северо-восток. Дойти до Ленинграда я уже не надеялся. Это так. Но идти, пока двигались ноги, был обязан. И я шел. И не только шел, но в тех местах, где меня не могли видеть люди, припускался бегом. Видеть меня не могли в лесу. А лесов у них было много в тех местах. Поэтому и пробежал я много, снимая в этих случаях пиджак и галстук и надевая их опять перед входом в деревню.
Не знаю, сколько я пробежал, — километров, может быть, сорок или около полусотни. Дороги были разные, и не везде вдоль них стояли километровые столбы. Ночь помешала мне. Не будь ночи, я пробежал бы сотню, ибо ноги еще держали меня и двигались подо мной. Но стало неудобно проходить ночью деревнями. После одиннадцати они опустели и притихли, и только кое-где в домах горели огоньки. Мои шаги тревожили собак, а на их голоса из окон выглядывали люди. Конечно, они могли не увидеть меня в темноте, но могли задать вопрос. А я знал, к чему ведут их вопросы.
В одной деревне уже после двенадцати мне встретилась молодая пара. Завидев меня, парень оставил на время свою девушку и посветил в мою сторону фонариком. Я прибавил шагу, проходя мимо, но луч его фонарика еще несколько минут скользил вслед за мной, заставляя меня отбрасывать на деревенскую улицу длинную тень.
В следующей деревне, куда я вошел во втором часу ночи, мне встретился старик с ружьем за плечами. Подойдя ко мне поближе, он затянулся папироской, осветив таким способом мое лицо. Я прошел мимо. Он чуть постоял на месте, глядя мне вслед, потом сказал что-то. Я не отозвался. Он сказал громче и двинулся вслед за мной. Я ускорил шаг. Он окликнул меня уже совсем грозно, однако к тому времени я успел выйти за пределы деревни, и он оставил меня в покое.
Зато перед следующей деревней я призадумался. Был третий час ночи. Самой деревни я не видел, но лай собак дал о ней знать. Ноги мои, обязанные двигаться, пока их питало сердце, продолжали нести меня вперед. Но переступали они уже не так быстро, ибо на память мне пришел человек с ружьем. Он был, надо полагать, и в этой деревне. А кем у них мог оказаться человек с ружьем? Он мог оказаться тем самым Иваном, от которого милости мне ждать не приходилось. И он, кроме того, мог оказаться одним из тех, кто отведал во время войны наших финских лагерей.
Ноги мои переступали все медленнее. И они, пожалуй, правильно делали. Для какой надобности стал бы я лезть в лапы к тому Ивану? Конец мой и без того был близок. Но, испуская дух на краю русской дороги под русской ольхой или березой, я сохранил бы по крайней мере целыми свои кости. А после встречи с тем Иваном мне пришлось бы поступать на тот свет отдельными, несобранными кусками.
Ноги мои перестали нести меня к деревне. Они свернули вдруг в сторону с дороги, перешли канаву и двинулись куда-то вбок сквозь придорожный кустарник. Куда же это они меня понесли? Неужели вознамеривались обойти деревню стороной? Да, кажется, именно так обстояло дело. Не имея права останавливаться, они решили обойти деревню лесами и полями. Но вдруг они споткнулись, мои бедные натруженные ноги, о какую-то невидимую кочку, и я упал позади придорожного кустарника лицом в траву.
Это была хорошая трава, мягкая, прохладная, и я не торопился от нее отрываться. Она таила в себе столько запахов, таких знакомых мне и близких. Свою далекую родную Суоми узнал я в этих запахах и даже закрыл глаза, чтобы хоть мысленно перенестись к ней ближе. Но, закрыв глаза, я не приблизился к ней. Закрыв глаза, я покатился куда-то совсем в другое место, темное и неуютное, полное беспокойства и тревоги. И в этом беспокойном, тревожном сумраке вздыбились опять для каких-то объяснений тот страшный Иван и огромный Юсси Мурто. Но уже не словами они теперь обменивались. Другие доводы пустили они в ход, которые, однако, не могли быть убедительнее прежних. Грохот и треск стоял вокруг них от применения этих доводов, сотрясая землю. Все ломалось, крушилось, и куски мяса летели от них самих на все стороны. И не было между ними мира и не могло быть. Разве не сам я был тому доказательством, отвергнутый жителями этой страны, не принятый ими, оставленный ими на произвол горькой и злой судьбы?
Такое привиделось мне в те мгновения, пока я погружался в забытье.
66
Проснулся я от мычанья стада, которое прошло неподалеку, направляясь к лесу. Но дорога была пустынной. Я встал с болью в ногах и вышел на дорогу, отряхнув на себе костюм и поправив галстук. Деревню я прошел довольно быстрым шагом, и никто из встречных не обратился ко мне с вопросом.
Первый ручей встретился мне уже на виду следующей деревни. Возле него я побрился и ополоснул лицо. От мыла у меня почти ничего не осталось, но все-таки я не выбросил мыльницу. И следующую деревню я тоже прошел довольно бодро, стараясь придать себе деловой вид. Но далось мне это нелегко. Силы из меня уходили. Короткий сон, конечно, подкрепил меня немного, но внутри у меня было пусто. Сон дал свое, но желудок не получил пищи. И теперь голод грыз мои внутренности, а ноги одолевала слабость.
Я уже не пытался пробегать бегом расстояния между деревнями. Какое там! Теперь меня едва хватало, чтобы пройти твердым шагом деревню, а между деревнями я уже еле тащился, с трудом передвигая ноги. Напрасно я, пожалуй, так утруждал их накануне. Все равно это ничего не изменило. Ленинград по-прежнему остался для меня недосягаемым. Но теперь уже поздно было об этом сожалеть.
Очень велика их Россия. По ней можно идти всю жизнь и все-таки не пройти ее из конца в конец. Я так и не одолел ее пространств своими ногами, измерившими когда-то почти всю Финляндию — тоже не маленькую, если мерить западными мерами. Двадцать семь дней колесил я по русским дорогам, а на двадцать восьмой день выдохся. Назавтра я должен был стоять за своим верстаком в Ленинграде. Но где был верстак и где я?
Конечно, ноги еще несли меня куда-то, а глаза по солнцу и тени следили, чтобы несли они меня только на север или северо-восток, вовремя сворачивая на развилках и перекрестках в нужном направлении. Но доверять им я уже не мог, ибо действовали они теперь по каким-то своим законам, для меня непонятным. Им давно пришла пора подогнуться, подломиться и сбросить меня в пыль дороги или в канаву, а они несли меня и несли мимо полей и лесов от деревни к деревне. Правда, несли они меня все медленнее по мере того, как день переваливал на вторую половину, однако все же несли.
Несколько раз я спускался к придорожным ручьям напиться, как делал это накануне, когда потерял особенно много влаги из-за своих неумеренных пробегов. Но после каждого такого раза мне все труднее становилось выбираться обратно на дорогу, и я перестал спускаться к ручьям. В одном перелеске меня очень сильно потянуло к большой придорожной березе. Хотелось прилечь под ней хотя бы на минуту. Но я уже не верил, что смогу опять подняться на ноги после этого, и прошел мимо. Не приспело еще мое время укладываться под их березой навсегда.
Но как медленно и неохотно выпускал меня из своих объятий этот перелесок! Я думал, что у него не будет конца. А когда он меня выпустил наконец, то еще медленнее поплыли мимо поля. Я уже не видел их. Я смотрел себе под ноги, следя за тем, чтобы не споткнуться о какой-нибудь бугорок или камешек, не ступить в случайную выбоину. От любой такой неровности я мог упасть, упасть и не подняться.
И опять вошел я в деревню, уже не видя деревни. Свои ноги я только видел, медленно переступающие по пыльной улице в стоптанных парусиновых туфлях неопределенного цвета. Два мальчика, увидя меня, принялись гадать: кто идет? Один уверял, что это новый учитель физики приехал, а другой сказал: «Нет, это уполномоченный по овощезаготовкам. Видишь — не торопится. Это первый признак. Потому-то они никогда и не вывозят от нас овощей в срок». Гадая так, они не знали, что этот заготовитель с трудом везет сам себя и довольно легкого тычка пальцем, чтобы он лишился и этой способности.
Деревня тоже очень трудно выпускала меня из своих пределов. А когда она осталась наконец позади, высосав из меня последние запасы сил, путь мне пересекла река. Однако не в реке было дело. Через нее вел добротный деревянный мост с перилами. Но дорога к мосту шла под уклон, а за мостом еще более круто поднималась вверх. Под уклон я кое-как проковылял, хотя и рад был потом некоторое время подержаться за перила моста, а на подъеме застрял.
Правда, ноги все еще двигались подо мной. Но, делая два-три коротких шага вверх, они тут же затем делали пять длинных шагов назад, вниз. Как удалось им при такой неравномерности в шагах вынести меня в конце концов наверх, это осталось их секретом. Но вот я все же оказался наверху, где дорога опять пошла по ровному месту среди полей. Я даже окинул их взглядом. По одну сторону от дороги неподалеку работали люди, пропахивая картофель. С другой стороны по скошенному лугу шла от леса ватага ребятишек с корзинами. Далеко впереди показалась грузовая машина, идущая мне навстречу.
От этой машины надо было посторониться. Но что-то странное стала вдруг вытворять подо мной дорога. Едва я приблизился к ее краю, как этот край приподнялся, заставив мои ноги опять вернуться к середине дороги. Но и середина дороги вдруг вздыбилась и колыхнулась, погнав мои ноги обратно на край дороги.
И тут я понял, что наступил мой конец. Пришла наконец для меня пора возмездия за все мои страшные грехи перед Россией. Она не забыла их, как видно, и не простила. Конечно, этого надо было ожидать рано или поздно. И помнить надо было. А я забыл. И вот она сама напомнила мне об этом.
И еще раз погнало меня поперек дороги к другому ее краю и обратно. Русская земля давала мне понять, что наступил час расплаты. Прощай, Аксель Турханен! Прощай, белый свет! Мама моя бедная, видишь ли ты оттуда, для какой невеселой доли ты меня родила?
В стороне от дороги глаза мои уловили белый ствол березы. Да, она очень кстати оказалась тут, моя милая береза, так живо напоминающая мне родную Суоми! К ней надлежало мне свернуть, чтобы не засорять своими костями русскую дорогу. И, освобождая дорогу для проезда, я двинулся туда. Но что-то не получилось у меня с движением туда. Канава была не очень глубокая, и все же я не одолел ее противоположного травянистого ската, на котором розовели мохнатые цветы дикого клевера. Почему-то лицо мое вдруг ткнулось в эти цветы, и две-три секунды мои ноздри радостно вдыхали их аромат, а ухо ловило частое тикание моих часов на руке. Но потом все окунулось в туман…
Когда в глазах у меня опять прояснилось, я увидел вместо цветов клевера лицо женщины, а в ноздрях вместо запаха клевера ощутил какой-то другой, едкий запах. Женщина отодвинулась от меня. Она была одета в белое и стояла на дне канавы с маленьким флаконом в руке. Закупорив флакон, она передала его назад большому лохматому парню, похожему по свирепости лица на разбойника. Он стоял на краю дороги. А позади него на дороге стояла та самая грузовая машина, которая шла мне навстречу.
И еще два парня и одна молодая женщина в белом халате стояли на дороге, глядя на меня. А я лежал на скате канавы, ногами вниз, и голову мою держал в ладонях гладко выбритый, худощавый человек с проседью в густых русых волосах. Он спросил меня:
— Что с вами случилось?
Я, конечно, догадывался, что со мной случилось и по какой причине, но им это необязательно было знать. Поэтому я ответил:
— Ничего. Так. Прогулялся тут и прилег немножко…
Но я не заметил, что позади меня скопилась вся та ватага детворы, которую я видел с дороги. Они дружно запротестовали против моего утверждения, и самый бойкий из них сказал:
— Да, прилег! Хотел перейти канаву, да ка-ак брякнется! Мы же видели.
Я приподнялся, опираясь на руки. Человек с проседью в волосах отпустил мою голову. Действуя руками и ногами, я передвинулся повыше и уселся на верхнем краю канавы, упираясь каблуками в травянистый скат. Человек с проседью в волосах спросил меня:
— Вы сами-то откуда?
Это был тот самый вопрос, которого мне не хватало для полноты веселья. Скрывать что-либо не было пользы, и я ответил напрямик:
— Оттуда. Стрелял и убивал…
Он переспросил удивленно:
— Простите, как?
Но у меня язык очень трудно ворочался во рту, а объяснять предстояло долго. Я молча вынул бумажник и протянул ему. Он принял его и шагнул на дорогу. Там они все минут десять рассматривали мои бумаги. А потом худощавый человек с проседью сказал:
— Все ясно, ребятки. Это он самый. Вчера о нем сельсовет и милицию оповестили. Предлагается всяческое содействие оказывать. Они думают, что он где-то там, в районе новой ГЭС, а он — нате, за сутки семьдесят километров отмахал! Но это на них похоже. Я знаю их.
Снова шагнув через канаву, он вернул мне бумажник и присел рядом. А я ждал, когда он уйдет. Просмотрел бумаги — и хватит с тебя. Голова у меня сделалась почему-то непомерно тяжелой. Я положил ее подбородком на ладони и сидел так, упираясь локтями в колени. Он спросил меня:
— Сегодня конец вашему отпуску?
Я кивнул, держа голову в ладонях. Он спросил:
— Завтра на работу?
Я опять кивнул. Этот человек понимал, как видно, самое главное, что во мне сидело. Понимая это, он спросил:
— А как думаете успеть?
Это уж был другой вопрос, который я сам готов был задавать себе сотни раз без всякого успеха. Но что-то надо было ответить, и я сказал:
— Успею как-нибудь.
Он хмыкнул и встал, шагнув опять через канаву к своим. Там, на дороге, у них состоялся весьма оживленный разговор. Мальчики и девочки с корзинками тоже перебрались туда, впутывая свои звонкие голоса в общий говор. А самый бойкий мальчик воскликнул:
— Я точно знаю! Он из Минска летит. А у нас будет в пятнадцать сорок пять!
Человек с проседью сказал:
— Правильно, Гришух. А стоит он всего десять минут. Значит, полчаса остается до отлета. Все дело в том, чтобы вовремя подоспеть.
Он озабоченно глянул вправо и влево вдоль дороги и остановил свой взгляд на свирепом встрепанном парне. Тот к этому времени проверил что-то у себя в моторе и, хлопнув капотом, прохрипел:
— А ну, женская команда, хватит прохлаждаться! Залезай! Поехали!
Но худощавый человек с проседью остановил его:
— Минуточку, Степа! Погоди! Вот какое дело. Сгонять за своей машиной нам не успеть. На телеге не доскакать. Придется тебе подбросить.
Темное от загара лицо свирепого парня налилось вдруг еще большей свирепостью. Опираясь руками о радиатор и слегка подавшись вперед, он прохрипел удивленно:
— Чего-о?
Тот повторил спокойно:
— Придется тебе его доставить.
— А пошел ты…
И тут этот разбойного вида парень применил несколько таких слов, какие, кажется, не встречаются у них в словарях. Только от Лехи я слышал что-то схожее. Но худое бритое лицо человека с проседью тоже выразило свирепость, и он крикнул грозно: «Степа-ан!». Можно было подумать, что он сейчас подойдет и ударит лохматого желтоволосого парня по его разъяренному лицу. И, понимая, что это может кончиться плохо для него самого, два других парня приблизились к нему для поддержки. И хотя в росте они тоже уступали разбойноподобному парню, но их мускулатура, едва прикрытая у одного майкой, а у другого безрукавкой, кое-чего все же стоила. Худощавый человек с проседью сказал уже спокойнее:
— Ты бы хоть женщин и детей постеснялся. Стыдись!
Но тот прохрипел сердито:
— Женщин! А что мне женщины? У меня еще два рейса сегодня. И ночной один.
— И все-таки придется подвезти.
— Вези! А мне не прикажешь. У меня свой начальник есть.
— Надо, чтобы и совесть своя была.
— Совесть! Х-ха! Совесть — это такой продукт: или пускай у всех будет, или совсем ее не надо.
— Она у всех есть, но в разной пропорции. У некоторых в микродолях, к сожалению.
— Ладно. Хватит мне зубы крутить! Женщины! Полезай наверх! Поехали домой!
Но женщины не полезли наверх. Они стояли на дороге и смотрели на него с укоризной. Человек с проседью сказал ему:
— Ты же смотрел документы. Неужели ничего не понял?
— А ну вас всех к…
Парень яростно хлопнул дверцей кабины и отвернулся от всех, закуривая папиросу. Человек с проседью сказал мне, застегивая на все пуговицы свой изрядно потертый пиджак:
— Едем, товарищ! Мы доставим вас в аэропорт. А оттуда через двадцать пять минут есть самолет на Ленинград.
Но я ответил, покачав головой:
— Нет, спасибо. Я лучше так… Я люблю пешком прогуляться.
Сказав это, я попробовал встать с места и уйти от них — тут же, так сказать, подкрепить свои слова действием. Но у меня ничего не получилось. Ноги не захотели подо мной выпрямиться, и я остался сидеть, как сидел. А они все стояли и смотрели на меня с дороги — взрослые и дети. И внимательнее всех смотрел полуседой сухощавый человек в потрепанном сером пиджаке и в коротких сапогах, залепленных землей. Из таких въедливых ко всему людей, наверно, и получаются у них парторги. Всмотревшись в меня сколько ему было нужно, он обернулся к остальным и сказал негромко:
— Все понятно, ребятки! Бумажник-то видели? Пустой. В деньгах все дело. Но разве он скажет? О, это такие люди — я знаю их. Сколько же стоит билет до Ленинграда? Кто знает?
Парень в майке ответил первый:
— Не знаю. В Москву летал, а в Ленинград не приходилось. Около ста, вероятно.
Человек с проседью проверил свои карманы:
— А у меня только сорок два рубля. Эка незадача!
Парень в майке сказал:
— И у меня тридцать найдется. Я сейчас!
И он побежал на картофельное поле, где их поджидали лошади, мирно поедавшие ботву. Парень в безрукавке крикнул ему вслед:
— И у меня в правом кармане возьми четвертак!
Пока парень в майке бегал туда и обратно, старшая из женщин тоже извлекла что-то из-под белого халата.
Принимая от них деньги, человек с проседью сказал весело:
Ермило парень грамотный, Да некогда записывать, Успей лишь сосчитать!Потом он спросил:
— А у тебя как с деньгами, Степа?
Тот сверкнул на него свирепым взглядом и, раздавив сапогом окурок, сунул руку в кабину. Выхватив оттуда замусоленный пиджак, он не глядя вынул что-то из кармана и не глядя протянул человеку с проседью. Тот сказал весело:
— Все в порядке, ребятки! Хоть в Москву лети!
Но я к этому времени уже встал. Не сразу это мне далось. Три попытки пришлось мне сделать, прежде чем ноги выполнили мою волю. И, поднявшись на ноги, я сразу двинулся прочь от этих русских, что-то там ради меня затевавших. Не хотел я, чтобы они опять совершили относительно меня ошибку, как совершали ее много раз до этого в разных других местах своей беспредельной России. Не стоил я их заботы. Совсем другое было определено мне судьбой за мои грехи перед миром. И, помня об этом, я зашагал от них прочь к своей последней березе. Но худощавый полуседой человек закричал мне вслед:
— Куда же вы? Стойте! Ребята, держите его. Ведите сюда. С ними иначе нельзя. Они такие! Я знаю их.
Я услыхал за собой торопливые шаги и обернулся. Что надо было им от меня, этим неугомонным русским? Неужели им так трудно было оставить меня в покое? Не нуждался я в их заботе. Не хотел я ее, перкеле! Ну куда вас опять несет? Ну, выходи сюда все — сколько вас там! Выходи по десять на одну руку! Не испугался я вас!
Вышли двое, и каждый взял меня под одну руку. Я попытался вырваться, но не смог. Вежливо и настоятельно они вернули меня к дороге. А канавы я даже не коснулся ногами — так аккуратно они перенесли меня через нее прямо к машине. У машины полуседой человек опять внимательно всмотрелся в мое лицо из-под нахмуренных темных бровей и сказал:
— Ребятки, а нет ли у кого хлебца или чего другого перекусить?
Никто не отозвался на его вопрос. Тогда он покрутил головой туда-сюда и даже к детям заглянул в корзины с ягодами. И вдруг его осенило:
— А молоко-то! Дашенька, как бы это, а? Молочка бы немного — человеку подкрепиться.
Старшая женщина ответила:
— Можно бы, да ведь как? Прямо из подойника неудобно…
Тот согласился:
— Да. Кружку бы надо. — Он опять обернулся к детям, глядя на них вопросительно. Те не отозвались. Он обернулся к водителю: — Как у тебя, Степа, нет ли чего?..
Тот обвел всех таким свирепым взглядом, будто готовился приступить к всеобщему избиению и только примерялся, с кого бы начать. Полуседой человек смотрел на него спокойно снизу вверх, и его твердо сжатые губы не то чтобы улыбались, но как-то так сложились, что выдавили своими уголками ямки в его впалых щеках. Разбойный парень сверкнул на него яростно светло-серыми глазами, очень заметными на его крупном темном лице, но бить, кажется, раздумал. Сунув руку в кабину, он извлек оттуда синюю кружку, объемом в пол-литра, и протянул младшей женщине. Та поднялась в кузов, где стояли четыре больших бидона, и раскупорила один из них. Накренив его, она отлила немного молока в подойник, а из подойника налила в кружку.
Парни перестали держать меня под руки, и я уже начал подумывать о том, чтобы опять двинуться вдоль дороги своим путем. Но в это время перед моими глазами появилась полная кружка молока. Ее протягивала мне через борт кузова молодая женщина в белом халате. И, протягивая молоко, она улыбалась мне, улыбалась как-то неуверенно, виновато, словно прося извинения за то, что осмеливалась предлагать мне такой неказистый продукт. И в голосе ее была просьба, когда она сказала:
— Попейте, пожалуйста.
Хотел бы я знать, кто отвернулся бы от этого молока при таких обстоятельствах. Я не отвернулся от него. Взяв кружку в обе руки, я одним духом вытянул из нее больше половины. Молоко было теплое, парное. Как видно, они только что надоили его и теперь везли куда-то на сдаточный пункт. И едва я оторвался от кружки, чтобы перевести дух, как женщина вылила из подойника остальное, снова ее наполнив.
В три приема я осушил кружку. Ее сразу же у меня отобрали, и не успел я сказать «спасибо», как очутился в кабине грузовика рядом с желтоволосым разбойником. Он развернулся на дороге и погнал свою машину в обратном направлении.
Я не видел, куда он ее гнал, круто сворачивая на перекрестках. Что-то подступало к моему горлу, и я пытался проглотить это. А оно опять подступало, и я опять глотал.
Встрепанный разбойник сказал вдруг хрипло: «Ладно». И, не глядя на меня, тронул мое плечо, слегка стиснув его ладонью. Но после этого к моему горлу стало подступать еще обильнее и вдобавок затуманились глаза. Я отвернулся от разбойника, чтобы он этого не заметил. Черт его знает, что это со мной вдруг сделалось такое!
Минут пятнадцать неслась так машина на предельной скорости и остановилась. Дверца кабины с моей стороны открылась, и худощавый человек, заглядывая внутрь, сказал торопливо:
— Покарауль его, Степа, а я сейчас. Если билетов нет — все равно настою, чтобы взяли.
Он убежал, а я вышел из кабины, пытаясь определить, где находится север и северо-восток, чтобы при случае двинуться дальше своим путем. Ноги подо мной как будто укрепились немного. Молоко делало свое дело. Как мало надо человеку, чтобы он воспрянул!
Перед моими глазами раскинулся аэродром с несколькими самолетами, выстроенными в ряд. Тут же блистало на солнце стеклами небольшое здание аэровокзала. А по другую сторону виднелось неподалеку какое-то селение с церковными куполами и фабричными трубами. Я не успел его разглядеть. Худощавый человек тронул меня за руку и сказал: «Пойдемте». Он запыхался, и его густые волосы с проседью растопорщились на все стороны. Подтолкнув меня к выходу на аэродром, он сунул мне в руку билет, а в другую руку — что-то завернутое в газету. И еще что-то он положил мне в боковой карман пиджака.
Я плохо понимал, что он мне подсовывал и зачем. Но, видя, что передо мной открылась контрольная калитка для выхода на аэродром, я обернулся к машине, на которой приехал. Желтоволосый встрепанный разбойник стоял там в своей расстегнутой клетчатой рубахе, дымя папиросой, и смотрел в мою сторону. Перехватив мой взгляд, он тряхнул одобряюще лохматой головой и даже улыбнулся вдруг. Боже мой, он, оказывается, и улыбаться тоже умел! И какая же у него была хорошая улыбка — как у младенца. Молодая женщина, поившая меня молоком, тоже улыбнулась мне из кузова машины и даже помахала рукой. Я кивнул им и прошел в контрольную калитку. Контролерша проверила мой билет и указала самолет. Но, пройдя калитку, я тут же снова к ней вернулся, чтобы сказать «спасибо» главному хлопотуну, а вернувшись, крикнул ему совсем другое:
— Адрес! Дайте мне, пожалуйста, адрес! Я вам деньги вышлю!
Но он в ответ погрозил мне кулаком. Кулак у него был костистый и увесистый. Взмахнув им, он крикнул:
— Адрес? Найдете и так, если не вздумаете счесть это платой за ваш лагерный хлеб!
Вот как дело обстояло… Я еще немного потоптался на месте и пошел от него к самолету. Но потом опять обернулся. Как же все-таки… Контролерша напомнила мне:
— Не задерживайтесь, гражданин. Через три минуты взлет.
Я опять направился к самолету, но остановился и обернулся еще раз. А он поднял руку и вдруг крикнул мне по-фински:
— До свиданья! Счастливый путь!
По-фински он это крикнул. Почти год не слыхал я финских слов, и вот мое ухо уловило их и вобрало в себя, посылая к сердцу: «Някемиин! Оннеа маткалле!». И кто произнес их? Боже мой…
Медленным шагом добрел я до самолета и поднялся по трапу в его корпус. Внутри мне указали мое место. Я сел. Самолет своим ходом выкатился на взлетную дорожку. Моторы его заработали сильнее. Он взял разбег и оторвался от земли. Я полетел в Ленинград.
Так странно тут все устроено. Вы пытаетесь идти своим отдельным путем, но вы не пройдете своим отдельным путем. Вам не дадут здесь пройти в стороне от людей. Вас непременно вытянут из вашего отдельного закоулка на общую дорогу.
Они очень разные, эти русские. Даже их Иваны — разные. Но любой из них непременно выполнит то, к чему назначен высшей судьбой: он не даст вашим костям расположиться раньше срока под одинокой ольхой или березой. Он оттянет их на свою дорогу, впрыснет в них жизнь и, снова превратив их в человека, пустит его по свету совершать новый путь.
Я совершал непривычный путь. Я летел. Подо мной простиралась Россия, а я летел над ней в Ленинград, где было мое жилище — пусть временное. И там ждали меня хорошие русские люди и даже раскрытая книга, где было написано: «Эх, тройка! птица тройка…». Это о России сказал так их великий писатель Гоголь. И ей же, по его предсказанию, должны были уступать дорогу другие народы и государства.
Можно ли представить, чтобы какой-то другой народ избрал себе тот, неведомый еще в истории человека путь, на который ступил русский? И — не вслед за русским, а в одиночку, самым первым. Трудно это себе представить. И уж совсем нельзя представить, чтобы какой-то другой народ вынес это на протяжении почти что сорока лет, не отказавшись от продолжения, ибо это был груз, способный сломить любую другую спину.
Первые шаги в неведомое, где нога могла невзначай провалиться в крутую пропасть или трясину, первые опыты, первые усилия в таких делах, какие до того никому другому не приходили в голову, первые промахи, первая горькая боль от них и первые прививки от новых — все на себе, все своими собственными усилиями, непосильными для любых других. Другим оставалось только перенимать самое выгодное, а над неудачами смеяться. И если бы только смеяться… Кому-то однажды показалось, что за всем этим вообще ничего нет и что можно просто-напросто прибрать все это к рукам. Но как он ошибся!
Откуда у них это непременное стремление размахнуться пошире? Не от просторов ли их земли? Но и размеры сердца тоже не оттуда ли? И вот придет время, когда тесно станет народам планеты, когда невозможно будет каждому из них ютиться в своем отдельном закоулке. И кто из них тогда явится притягательной силой и примером для единения? Не тот ли, для кого уже теперь слова «мое» и «наше» получили новое, разумное и красивое значение, а работа стала не только тем, что дает хлеб для поддержания жизни? И кому тогда отдашь свое сердце ты, Аксель Матти Турханен?
Очень метко сказал когда-то Илмари Мурто про нервы и жилы, которыми срослись наши две страны, такие несхожие по образу жизни и размерам. Не для вражды расположил нас бог так плотно рядом с русскими. И тот же старый Илмари — я снова и снова вспоминал об этом — советовал мне не отвергать руку русского, если она протянется с дружеским намерением. Да, я выполнил твое наставление, мудрый старый Илмари! Не одному русскому и даже не одному русскому Ивану пожал я руку. И только один Иван по фамилии Егоров сам не желал подавать мне руки и смотрел на меня с холодом в серо-голубых глазах.
Совсем недолго летел я по воздуху. И в самом начале полета я съел до крошки все, что было завернуто в газету. А было в нее завернуто два круглых пирожка и два яблока. Мне передал их человек, которому я не успел пожать руку, не успел сказать «спасибо», у которого даже имени не успел узнать. Но проморить его голодом три года в своих лагерях — это я успел.
Кресло подо мной было мягкое и подвижное, оно позволяло откинуться назад и дремать. Но я не откидывался назад и неотрывно смотрел с высоты облаков на эту непонятную страну, так неожиданно вынырнувшую из глубины своих глухих лесов на самое видное место в мире. И, выйдя на самое видное место, чем еще неожиданным и приманчивым собиралась она поразить мир?
67
Около часа провел я среди облаков, а потом опустился на землю в ленинградском аэропорту. Оттуда легковая машина доставила меня за двадцать рублей в Ленинград. Эти двадцать рублей и сверх того еще семнадцать я нашел в боковом кармане пиджака. Я знал, кто их туда положил, но не знал имени этого человека.
Дверь в квартире на улице Халтурина мне открыла Мария Егоровна. При виде меня она сказала обрадованно:
— Ну, слава богу! Наконец-то вы явились. А мы уж тут беспокоиться начали. Нет и нет человека, и вестей от него нет уже две недели. Хотели уж в розыск объявить. Там денежное извещение вам пришло, и записку Надя оставила.
— Кто?
— Надя. Только что была здесь — ягоды завезла. И сразу уехала.
— Куда уехала?
— На вокзал — к поезду торопилась.
— Надежда Петровна?
— Она.
Я кинулся в свою комнату. Да, на столе рядом с раскрытой книгой Гоголя лежало извещение, в котором мне предлагалось явиться на почту и получить шестьсот рублей. И я сразу вспомнил веселого южного Ивана. Это были те самые деньги, которых мне недоставало, чтобы приехать из Крыма в Ленинград. Я сам оставил их на столе там, на Кавказе, по примеру других участников пирушки, и никто не обязан был мне их возвращать. Но он сделал это без обиды для меня, не прибавив к моим деньгам то, что от них отделил хозяин чайной в уплату за угощение.
Рядом с извещением лежала записка, написанная ее рукой: «Уважаемый Алексей Матвеевич! Слыхала о Вашем недавнем посещении нашего колхоза. К сожалению, была в разъездах. О Вашей поездке по стране тоже извещена. Надеюсь, что она Вам на пользу. Поздравление Ваше получила, но не поняла, к чему оно относится. Я тоже на днях уезжаю в южный санаторий. С приветом, Н. Емельянова».
Я метнулся по комнате туда-сюда. Емельянова! А я — то считал ее Ивановой. И письма посылал Ивановой. И она получала их, не поправляя меня. Откуда мне было догадаться, что она носит фамилию покойного мужа? И в санаторий она еще не ездила. Значит, ничего не изменилось в ее судьбе? Значит, за майора вышла совсем другая Надежда Петровна?
Я сбросил парусиновые туфли и надел другие, на каучуковой подошве. Выходя из квартиры, я сказал Марии Егоровне, что скоро приду. Она понимающе кивнула, думая, должно быть, что я пошел за деньгами. Но я не пошел за деньгами. Я пошел прямым путем к Невскому проспекту, чтобы там сесть на троллейбус, идущий в направлении вокзала.
Она пишет мне: «Уважаемый». Значит, она все-таки уважает меня? Такая женщина не станет употреблять это слово зря, кривя душой. Она пишет: «К сожалению». Значит, она сожалела, что я не застал ее дома. Она пишет: «Надеюсь, это Вам на пользу». Она надеялась. Она не просто подумала, что вот, мол, это ему, может быть, пойдет на пользу. Нет, она надеялась. Она с надеждой думала: «Дай бог, чтобы это ему пошло на пользу». Вот как она обо мне думала, пока я колесил по России. Оставалось только доказать ей, что она не напрасно так думала.
Невский проспект был залит солнцем. По обе его стороны текли два многоцветных потока. И в этих потоках все трепыхалось и колыхалось, меняясь местами. Свежий ветер относил в сторону подолы разноцветных платьев девушек и женщин, обнажая их икры и вырисовывая тела. Волосы их под напором ветра тоже смещались в сторону. И даже у юношей они взъерошивались, заставляя их чаще встряхивать головой.
Темная туча, занявшая небосклон со стороны моря, была причиной этого ветра. От нее даже доносилось отдаленное громыхание. Но она еще могла пройти стороной. А пока что солнце пользовалось ясной частью неба, изливая свое сверкание на оба людских потока, где ему было полное раздолье для игры среди этих разных по цвету и яркости легких летних платьев и по-разному загорелых лиц, рук и ног. Усиливая яркость людских нарядов, оно, кроме того, и бликами своими одаривало все, что могло: гладкие бока и створки сумок, пряжки поясов, брошки, ожерелья, глубину глаз, влажную поверхность губ и открытых в улыбке зубов.
Между этими двумя людскими потоками текли в обе стороны более быстрые потоки, состоявшие из автобусов, троллейбусов и легковых машин разного рода. Время от времени эти потоки замирали, пересекаемые многоцветными людскими потоками, а затем по зеленому знаку светофора снова приходили в движение.
Я включился в один из этих быстрых потоков у двойного ряда старых лип вдоль Гостиного Двора. Мой троллейбус пересек Садовую улицу, перевалил мост, на углах которого четыре голых парня из темной бронзы одолевали четырех упрямых коней, остановился на минутку за Литейным проспектом, а оттуда уже без остановки довез меня до Московского вокзала. Внутрь вокзала я вбежал единым духом и первым долгом вышел к той платформе, от которой поезда обыкновенно уходили на Балабино и дальше. Но там не было поезда. Он уже ушел. А может быть, его еще не подавали сюда?
Я мог бы узнать об этом, прочтя расписание в зале ожидания. Но я прошел на всякий случай к другим платформам. Поезд на Балабино могли подать к любой из них. Однако остальные платформы пустовали. Только на одной из них людей скопилось немного больше, чем на других. И при них не было ни чемоданов, ни узлов. Только несколько букетов цветов увидел я в руках женщин. Из этого следовало, что здесь готовились встретить прибывающий поезд, а не уезжать.
Но я прошел на всякий случай вдоль платформы, всматриваясь в женские лица. Могла и она невзначай оказаться здесь. Тем временем темная туча, идущая от моря, наползла на предвечернее солнце и громыхнула громом совсем уже неподалеку. Ветер прогнал вдоль рельс в круговом вихре мелкий мусор и песок. А вслед за вихрем по этим же рельсам к этой же платформе тихо придвинулся поезд. Я не успел дойти до середины платформы, как он остановился и из его вагонов стали выходить люди.
Кинув последний взгляд вдоль платформы дальше, я увидел среди встречающих очень рослого парня и узнал в нем Никанора, одетого в новый серо-голубой костюм. Я попытался пройти к нему, но встречный поток сошедших с поезда людей оттеснил меня на край платформы. Продвигаясь дальше, я раскрыл рот, чтобы окликнуть его, но в это время на моем пути из вагона вывалилась целая гроздь звонкоголосых девушек в штанах и футболках с рюкзаками и чемоданчиками в руках.
Я узнал этих девушек. Они встретились мне в Нижнем Новгороде, который теперь у них называется Горьким городом, и потом плыли со мной вниз по Волге до Сталинграда. И трое парней были с ними. Я отодвинулся, уступая им дорогу, и в это время услыхал молодой басок Никанора. Он произнес негромко только одно слово:
— Варюша!
И я увидел, как она вывалилась из общей грозди девушек и кинулась к нему, держа в одной руке чемоданчик, а другой придерживая у плеча лямки рюкзака, видел, как взметнулась ей навстречу его огромная рука, описывая в воздухе дугу, и как сплющились друг о друга их носы и щеки. Ее ноги в стоптанных босоножках проволочились немного по асфальту платформы, а потом и вовсе оторвались от него, повиснув в воздухе. И, вися в воздухе со всей своей кладью, огромная и тяжелая, она тоже произнесла одно только слово:
— Никанорушка!
И это слово прозвучало как стон, в котором соединились воедино и боль, и жалоба, и рыдание, и счастливый смех, исторгнутые из самых сокровенных глубин ее груди. Ее подруги и три парня обернулись на этот стон и, переглянувшись между собой, заулыбались понимающе, оставляя их позади себя. Никанор поставил ее на ноги, сгреб в одну руку ее рюкзак и чемодан и пробасил негромко над ее ухом:
— Сдал на третий курс.
Она не поняла:
— Какой третий курс?
— Строительного института.
Она все еще не понимала, вопросительно заглядывая ему снизу в глаза, и ее густые черные волосы были похожи на вздыбленные в круговороте ночной бури темные морские волны. А он, обратив к ней с высоты своего роста крупное мальчишеское лицо, сказал вместо пояснения, видимо, заранее приготовленные слова:
— Не будешь теперь меня стесняться.
Она еще секунды две-три смотрела на него с удивлением, потом воскликнула протяжно:
— Дурно-ой! Вот дурной-то!
И опять в этом возгласе было что-то от первоначального стона, только преобладали в нем теперь, пожалуй, звуки радости. И в самом центре этих звуков, пронизывая их и вырываясь наружу, звенела победная нотка женского счастья. И пока они шли за моей спиной к выходу из вокзала, эта нотка звенела и звенела в ее голосе, о чем бы она ни говорила:
— О, глупый! Что он вбил себе в голову! О, дурной! Ради этого пожертвовать такой изумительной поездкой! О, боже мой, до чего же он глупый, мой Никано-орушка!
Я плохо слышал ее. Другие люди, идущие сзади, заслонили меня от них. Да мне и незачем было ее слушать. Что она там говорила? Говорила она примерно то же самое, что все говорят в таких случаях:
— А оттуда мы поехали… А потом мы пошли… И там была такая расчудесная погода… И какие люди! Мы встречались… Обменивались мнениями… Понимаешь? А потом мы поехали… А потом мы пошли… Ах, это было так чудесно, если бы ты знал… Никано-о-орушка!
Не в словах было дело, а в той главной нотке, которая в них билась и трепетала и особенно полно укладывалась в его имя. А имя у него было длинное, и сам он был огромный. И девушка у него была крупная. А в такой крупной девушке и любовь, наверно, была крупная, ибо ей было где разместиться.
Да, Ермил Антропов ошибался, пожалуй, говоря о двухметровых. Не к завоеванию Суоми они здесь у них готовятся. Не до того им! Совсем иными завоеваниями они заняты. И дай им бог в этом успеха!
Уйдя с платформы, я свернул влево, пропуская их к выходу. Еще раз, уже довольно близко, прокатился раскат грома. Туча все основательнее захватывала небо, нависая над вокзалом. Опять она что-то мне готовила неожиданное. Но задумываться об этом уже не приходилось. Полубегом добрался я до знакомой мне платформы и там увидел поезд. В него уже садились, и возле вагонов кое-где стояли провожающие.
Я прошел вдоль поезда, заглядывая сквозь открытые окна внутрь вагонов и всматриваясь в лица людей, стоявших на платформе. Более половины вагонов я так проверил, уже не надеясь ее увидеть, и вдруг увидел…
Да, это была она, моя женщина! Боже мой! Опять я видел эти знакомые темно-карие глаза и темные брови над ними, которые очень близко сходились над ее переносьем своими внутренними широкими концами. Все так же туго были собраны на затылке ее черные волосы, все так же стройны были ее сильные ноги, открытые снизу чуть выше икр. Только одета она была на этот раз в темно-зеленый костюм, приглушенный серым цветом.
Она еще не успела войти в вагон и стояла на платформе у входа. Рядом с ней стояла черноволосая, черноглазая девочка в коротком светлом платьице. И эту девочку я тоже знал. Но кто там еще стоял в сером костюме с легким фиолетовым налетом? Это стоял Иван Егоров. Я узнал его не только по цвету костюма, но и по форме спины, очень широкой вверху и узкой внизу, и по гладко выбритой сильной шее, пока еще не тронутой складками.
Он стоял к ним лицом, заслоняя их от меня. Зачем он там стоял? Или он тоже собирался ехать куда-то? Так почему не входил в свой вагон? Или он пришел сюда провожать кого-то? Так пускай бы шел и провожал и не мешал мне подойти к моей женщине. Кого он там высматривал, стоя перед ней? Или никого не высматривал? Но перед ней почему он оказался?..
Я остановился, не дойдя до своей женщины почти на длину вагона. Люди подталкивали меня справа и слева, но я остановился. Мне нечего было делать возле моей женщины. Другой провожатый занял возле нее мое место. Вот он присел перед девочкой, чтобы оказаться равным с ней по росту, и взял обе ее ладошки в одну свою. Другой рукой он провел по ее волосам, заплетенным в две косички, и поцеловал ее в лоб. Девочка что-то сказала ему и, взглянув на мать, полезла по ступенькам в вагон.
А он протянул руку ее матери, и та протянула руку ему, глядя очень серьезно в его лицо. Не знаю, как оно выглядело, его лицо, но в ее глазах, наверно, отражалось что-то от его выражения. Держа в своей ладони ее ладонь, он осторожно накрыл ее другой своей, ладонью, и опять ее глаза ответили на что-то, исходившее в этот момент от его лица. Потом он осторожно потянул ее к себе, и это вызвало подобие сопротивления с ее стороны. Голова ее чуть отклонилась, назад и сделала отрицательное движение. Но его лицо продолжало что-то такое ей говорить, чему она уже не стала противиться. И он притягивал ее к себе за руку все ближе и ближе…
Я направился скорей к выходу, оставляя позади себя перроны вокзала. Не нужен мне был вокзал. Не для того я целый месяц рвался в Ленинград, чтобы проводить время на его вокзалах. Что хорошего дает человеку пребывание на вокзале? Ничего, кроме повода для тоски и грусти.
Раскаты грома опять прошлись над городом, и отголоски этих раскатов, проникнув под стеклянный свод вокзала, произвели глухой рокот в разных его углах. Та часть неба, которую позволял видеть высокий свод вокзала, перестала быть небом. Его заменило что-то черное и плотное. Оно клубилось и двигалось, грозя привалиться к земле и неся ей прохладу и сумерки. И уже было видно, как на фоне этой черноты сверкнули длинными светлыми нитями пролетавшие сверху наискосок первые крупные капли. Но я направился прямо к выходу через внутреннее помещение вокзала, не думая об этих каплях.
О глазах я думал в это время. О красивых глазах зрелой женщины, которые умеют в какую-то минуту жизни так много в себя вместить. Трудно определить, что содержат в такую минуту ее глаза, но то, чем они наполнены, исторгнуто из самых тайных недр ее женской души. В них и слабость ее, и строгость, и мольба, и угроза, и готовность вырезать свое сердце из груди, если понадобится. В них весь ее богатый, непонятный мир, выступающий изнутри наружу на эту короткую минуту, когда лицо ее впервые приближается к лицу человека, которого она полюбила, и губы ее идут навстречу его губам. Самые драгоценные сокровища женского сердца переселяются на эту минуту в ее глаза, переливаясь в них всеми своими таинственными гранями. И если женщина сохранила внутри себя для мужчины свой богатый женский дар в тридцать восемь лет, когда каждая отдельная доля его пронизана и подкреплена зрелым разумом, то нет на свете любви полнее и крепче.
Но разве не наградила и меня когда-то таким же взглядом ни с кем на свете не сравнимая молодая финская женщина Майя Линтунен? И разве не то же самое наполняло и ее просторные голубые глаза, когда она сказала мне: «Ты опять пришел к нам, Аксель? Не забываешь самых верных твоих друзей?». Бедная моя, неутомимая моя, милая и неизменная моя Майя Линтунен! Как мог я тебя забыть хотя бы на минуту? Простишь ли ты меня за это? Слишком далеко от тебя забросила меня судьба, и потому волшебные чары твои перестали на время действовать. Но теперь они снова меня достали. Не сердись на меня, моя славная белокурая Майя!
Я все еще далеко от тебя, но теперь ты опять навсегда в моих мыслях. Из далекого, чужого города с новой силой потянулось к тебе мое сердце. Не такой уж это плохой город, надо тебе сказать. Это русский знаменитый город. Здесь три раза бывал мой отец Матти Турханен, и три года жил в рабочем районе мой второй отец, мудрый и могучий Илмари Мурто. Они знали цену этому городу, откуда вплотную к финну подступало богатое тепло русской души. Будешь знать его и ты. Об этом постараюсь я, Аксель Турханен, которому он тоже дал приют почти на целый год. Так мне повезло в жизни. Здесь, в этом городе, родилось у русских то, что потом раскатилось волной по всей их земле, обмывая наново людские души и затопляя мусорную накипь старых времен. И не мне ли, Акселю Турханену, дано было пройти по всему этому, обмытому и обновленному, чтобы увидеть своими глазами, чем оно проросло?
Тяжелая черная туча, заполнившая собой просторы неба, уже принялась выполнять свое дело, когда я вышел из вокзала на площадь. Она покрыла собой весь город из конца в конец и теперь поливала его первыми пробными волнами дождя. Временами она как бы раскалывалась от молний то в одном направлении, то в другом, и каждый раз после этого пугала город грохотом грома. Звук был такой, будто где-то там, наверху, рушились горы и потом катились вниз очень большими глыбами, продолжая разламываться и крошиться на своем пути к домам и улицам города, который они грозили раздавить. А после каждого такого грома дождь проходил по городу новой, еще более сильной волной.
Но я уже знал, какое коварство таилось в русских дождях, и не собирался искать укрытия. Перейдя привокзальную площадь, по которой в разные стороны разбегались люди, легко и многоцветно одетые, я вышел на Невский проспект. Отсюда он открывался глазу до самого конца, упираясь в зелень далекого сада, позади которого высилась желтая башня их главного морского здания с длинным золотым шпилем, устремленным в небо. Яркость красок людских летних одежд уже потускнела на его далеко вытянутом прямолинейном пространстве, замененная серой пеленой дождя. Только отдельные цветные пятна — остатки растаявшего людского потока — еще метались кое-где вдоль панелей. Но и они недолго оставались на виду, скрываясь в дверях магазинов и в подворотнях.
А я не торопился в укрытие. До того ли мне было, несущему в своем сердце вновь обретенную Майю Линтунен! И не только ее! Целая семья была у меня, с девочками и мальчиком. Как мог я это забыть! И только от меня зависело, чтобы все они получили отца. А им ли этого не хотелось! Как радовалась ее старшенькая, когда я оказывал ей внимание! Как-то летом, когда она была совсем еще малышка, мы с ней бросились наперегонки к Длинному камню, возле которого поспела земляника. Я догнал ее и схватил в охапку. И хотя это означало ее поражение, но как ей понравилось быть у меня на руках! Она прильнула к моей груди, обвив ручонками мою шею. А в то суровое утро, когда она уже была старше, какими глазами она на меня смотрела, пока я колол за нее дрова! Чего еще надо было мне? О, старый бездомный глупец!
Волна дождя обдала меня с головы до ног, но я не пытался от нее укрыться. Не было для меня ни дождя, ни укрытий, ни даже автобусов и троллейбусов, приветливо открывших передо мной свои двери на первой же остановке. Мимо них шел я по Невскому проспекту, не думая о дожде. О нем ли мне было еще думать в эти минуты? Когда с человеком столько случается в один только день, то совсем другими мыслями наполняется его голова, если она вообще способна наполниться ими, а не привыкла обходиться без их обременительного присутствия. Но какой толк в этих мыслях, если они пришли в голову так поздно?
Тем временем наверху, в небесах, снова раскололись горы и покатили свои обломки куда-то на окраину Пиетари. А из той трещины, которая образовалась при их отколе, хлынули на Невский проспект новые косые потоки воды. И в этих потоках уже не было видно отдельных капель. Это просто выплеснулась вода из каких-то очень крупных изломов небесных гор и затопила собой асфальт Невского проспекта, начисто изгнав с него на время все живое и многоцветное.
Даже автобусы и троллейбусы сгрудились на своих остановках, ослепленные этими потоками, создавшими от соприкосновения с их крышами и стеклами целые облака из пены и брызг. Даже мелкие машины сбавили свою прыть перед таким обильным посланием неба. Лишь немногие из них дерзали пробиться сквозь это водное засилье, почти одинаково плотное и на земле, и в воздухе. Они шли, окутанные пенистой оболочкой, создаваемой отпрыгивающей от них водой, а их тяжелые, тугие колеса отваливали на обе стороны от себя целые водяные зеркала, которые выгибались полукругом и затем ложились пластом в глубокие потоки, залившие асфальт.
Широкие панели Невского проспекта стали совсем безлюдными, и только я шагал по одной из них, окуная ноги по щиколотку в теплую воду, вылетавшую из водосточных труб упругими, шумными струями. Я держался края панели, избегая подворотен и дверей, ведущих в магазины. Но когда небесные потоки основательно обмыли мне голову, что-то в ней опять ожило, похожее на мысли. И среди этих мыслей одна содержала в себе вопрос: не совершаю ли я опять ошибки, избегая тех мест, где скопились люди? Разве не понял я час назад, что к добру это не приводит? Но вот я опять иду один по пустынной улице, принявшей на время вид бурной реки с твердым дном из темного асфальта, а люди из укрытий смотрят на меня не то с недоумением, не то с укором.
Ну что из того, что русская женщина осталась русской женщиной? А разве могло быть иначе? Что я сделал такое, чтобы прилепить к себе ее сердце? Ничего не сделал. И если она сумела прожить на свете тридцать восемь лет, не нуждаясь во мне, то едва ли я мог понадобиться ей теперь, на ее тридцать девятом году. Свой мир был вокруг нее все эти годы, и по-своему сплетались в нем линии любви и дружбы. И кому, как не Ивану Егорову, было в конце концов завоевать ее сердце?
Пусть я не видел, как они встречались. Что из этого? Даже не встречаясь, они уже были близки между собой, потому что делали одно и то же родственное по духу дело. И стоило им хоть один раз в жизни оказаться лицом к лицу, чтобы сердца их сразу потянулись навстречу друг другу, а глаза окунулись в глаза. Не мне было впутываться в их дела. Особенно теперь, когда в мое сердце вернулась Майя Линтунен.
Я шел по краю широкой панели Невского проспекта, насквозь пропитанный водой, занявшей на время своими струями все пространство от неба до земли. Я был очень чисто промыт этими плотными струями, поливавшими меня и сверху и с боков. Они проникли мне внутрь, пройдясь по костям и печени, и начисто обмыли мне мозги.
Да, так оно и должно было совершиться. Что я им? Только в одном значении я был им нужен — в значении вестника дружбы между финном и русским. Но теперь все установилось на свое место. И оставалось только радоваться тому, что рядом с ней вместо меня оказался не кто-то другой, а знакомый мне Иван Егоров. Если взглянуть с нужной стороны, то он был, пожалуй, не так уж прост, этот незлобивый и тихий Иван Егоров, так верно разгадавший мою коварную сущность едва ли не с первой встречи. Недаром он упорно не желал подавать мне руки. И пусть бог пошлет ему счастье с женщиной, которая так и не стала моей, ибо со мной пребывала постоянно неотделимая от меня, лучшая из всех женщин в мире — моя голубоглазая полногрудая Майя Линтунен.
Еще одна молния прорезала своим извилистым сверканием черную тучу, пройдя над городом от вокзала до реки Невы, и это ее сверкание в то же мгновение отразилось в потоках и брызгах на улице. А потом опять заговорили небесные горы.
Недалеко от Литейного проспекта одна из легковых машин пронеслась было мимо меня, окутанная водяной одеждой, но вдруг остановилась возле самой панели, вытолкнув на нее большую волну с пенистым гребнем, едва не доставшим до моих колен. Задняя дверца у машины открылась, и голос Ивана Егорова крикнул мне изнутри:
— Входите! Быстро!
Такой это был день. Бывают, может быть, у некоторых людей дни, наполненные чем-нибудь еще более густо. Но с меня уже было, пожалуй, довольно. Поэтому я только остановился среди этой водяной карусели, не умея сделать ничего другого. А он в нетерпении похлопывал по сиденью, пытаясь разглядеть сквозь падающую между нами воду мое лицо. Конечно, он крикнул то, что следовало крикнуть в таком случае. Какие еще слова мог он крикнуть? Ведь он же не знал, кем была для меня женщина, которую он только что поцеловал на Московском вокзале.
Я втиснулся в машину и шлепнулся на край кожаного сиденья, а он захлопнул дверцу. Машина сделала поворот вправо и выкатилась на Литейный проспект. Егоров сказал:
— Жарь, Яша! Пользуйся моментом.
Водитель, пользуясь тем, что улица, взятая в плен водой, была свободна от людей, дал машине очень большую скорость. И, несмотря на это, Егоров с нетерпением поглядывал на свои часы. Переведя затем взгляд с часов на меня, он спросил:
— Что это вам вздумалось?
Мне нечего было ему ответить. А машина тем временем пронеслась в тучах брызг через весь Литейный проспект и скоро оказалась на мосту, по обе стороны которого река Нева, вся серая и ноздреватая, тоже вела с небом крупный разговор. За мостом водитель круто взял вправо и очень короткое время мчался по набережной с той же быстротой, а потом свернул к Финляндскому вокзалу. Егоров опять взглянул на часы и сказал:
— Молодец. Кажется, успели.
Пока машина огибала сквер, на котором стоял памятник Ленину, он спросил меня:
— Давно приехали?
Я ответил:
— Только что.
— Вы от вокзала шли?
— Да…
— Ездили изучать свою вторую родину?
Я не понял его, но старался придать своему лицу вполне умный вид. Но вдруг я понял его и сразу утратил умный вид. А он уже задал второй вопрос:
— Как же она вас принимала?
Это он сказал о моей второй родине, все еще полагая, что я собираюсь в ней остаться. Он спрашивал, как она меня принимала, не задаваясь вопросом, заслужил я это или нет. С этим он, как видно, уже мирился и теперь просто спрашивал, как она меня принимала, моя вторая родина. Значит, она могла мне быть родиной, эта их Россия, огибающая неведомо до каких пределов земной шар. Это он так сказал, Иван Егоров, русский человек из Ленинграда, не желавший подавать мне руки. И пока я собирал в своей голове слова для ответа, он спросил еще:
— А вы-то хоть остались ею довольны?
— О да, да!
— Рассказать не думаете о своей поездке? Для ваших это было бы особенно полезно.
Он не спрашивал, что я там видел, плохое или хорошее. Для него было важно одно: об этом нужно рассказать финнам. Он, должно быть, полагал, что и хорошее и плохое в моем рассказе для них будет одинаково полезно. Так он рассуждал, этот мой очень хороший знакомый Иван Егоров. Машина тем временем остановилась у самых ступенек вокзала, и он мне сказал:
— На ступеньках не задерживайтесь!
Я быстро, как мог, поднялся по ступенькам внутрь вокзала, подгоняемый дождем, и он вбежал за мной. Там он взглянул на вокзальные часы, сверил с ними свои и сказал:
— Мы встречаем финскую рабочую делегацию, приглашенную к нам в Карелию. Надеюсь, мой переводчик на месте, а то мне туго придется. Я бы взял вас для этой роли, но вы в таком виде… Что это вам вздумалось? Обрадовались, что вернулись в свой город? Ну, пока!
И тут я увидел перед собой его протянутую руку. Конечно, я сразу же схватил ее. А он пожал мою руку и, задержав ее немного в своей, сказал:
— Вы хорошо начали. Желаю вам и дальше так продолжать.
Он еще раз, уже немного крепче, встряхнул мою руку и заторопился к двери, ведущей на перрон.
Я сперва постоял на месте, накапливая у своих ног лужу на полу. Потом я стал оглядываться по сторонам. Вокруг меня был народ. Это был такой славный народ — все русские люди. И это были мои русские люди. Я их завоевал вместе с их Россией. Один из них толкнул меня нечаянно, и я сказал ему: «Простите». А он засмеялся, махнув рукой с виноватым видом, и так пояснил свою неловкость:
— Спешу на иностранных гостей взглянуть.
— Да?
Я посмотрел ему вслед. Он вышел туда же, куда вышел Иван Егоров. Тогда и я вышел туда же и оказался в толпе под крышей платформы. За пределами платформы все еще лил дождь, но уже не такой сильный. Подошел пассажирский поезд, весь обмытый этим дождем. Из поезда повалил народ, встречаемый теми, кто ждал на перроне. Только мне было некого встречать. Но я увидел спину того человека, который спешил взглянуть на иностранных гостей, и продвинулся вслед за ним.
И вот я увидел этих иностранных гостей. Но почему я вдруг сразу попятился назад, чтобы оказаться за спинами других? Потому что это были гости из моей финской страны, перед которыми я не хотел так жалко выглядеть. Кому приписал бы я причину этого? И вдобавок одного из гостей я очень хорошо знал. Это был Антеро Хонкалинна, смелый молодой коммунист, который едва не погиб однажды от мстительного Арви Сайтури. О чем стал бы я с ним тут говорить? Не здесь, а в Суоми собирался я вести с ним новый большой разговор.
Встречал финских гостей рослый огненно-рыжий парень в коричневом костюме, тот самый парень, что приезжал зимой в гости к Егорову. Волосы на его голове, как и тогда, не хотели лежать и торчали во все стороны, как языки пламени из жаркого костра. Он сказал по-фински: «Добро пожаловать». И начал пожимать всем приезжим руки. И, пожимая им руки, он одновременно кивал направо и налево, называя фамилии тех, кто пришел встречать гостей вместе с ним.
Но кто это еще вышел из вагона, превосходя остальных ростом и шириной плеч? Он вышел и сразу наткнулся на рыжего парня. И оба они остановились друг против друга с удивлением на лицах. Потом один из них воскликнул:
— Юсси!
А другой ответил с вопросом в голосе:
— Юхо Ахо?
И они постояли еще некоторое время неподвижно, меряя друг друга глазами. Но вот правые руки их шевельнулись. Они сперва очень медленно шевельнулись, отрываясь от бедер и начиная свое неуверенное движение вперед, в то время как их глаза смотрели только в глаза. Потом движение их рук ускорилось, и в самый последний момент они вошли ладонь в ладонь с такой стремительностью, словно наносили удар. И было слышно, как хрустнули суставы их пальцев — так плотно они соединились. Да, это было, должно быть, очень крепкое рукопожатие, и неудивительно, что остальные обернулись в их сторону с улыбками на лицах.
Потом рыжий парень представил финнам Ивана Егорова и добавил в пояснение:
— Его должен хорошо помнить некий Арви Сайтури из Кивилааксо.
Что он такое сказал, этот огненноволосый парень? Арви Сайтури? Но Арви Сайтури помнил только одного русского человека, которого уже не мог забыть, хотя бы и желал. Значит, вот он кто был, этот человек. Но не я ли сам определил это с первой же встречи? Я всегда все очень правильно определяю — такими проницательными устроил бог мои мозги. С первой же встречи я с непогрешимой достоверностью установил, что именно этот Иван встретил с такой суровостью на своей земле моего жадного хозяина. Теперь этот Иван стоял перед Юсси Мурто, который тоже не был ему другом. Тем не менее руки их встретились. И вот вплелись еще какие-то нити в тот общий жгут нитей, что способен только множиться и крепнуть, но не рваться.
И, вспоминая, должно быть, первый озорной переход Юсси через советскую границу, русский спросил его по-фински:
— Нашли к нам другой путь?
И финн ответил по-русски:
— Надо найти.
Вот как ответил финн. Отец оставил ему в наследство несколько русских слов, и он решил наконец найти им правильное применение, как нашел применение своей руке, пожав ею руку русского.
Русский сказал ему: «Милости просим». И сделал рукой такое широкое движение, словно распахивал перед ним все ворота России. И после этого все они двинулись вдоль перрона к выходу в город.
Я тоже двинулся вдоль платформы к выходу в город, чувствуя всем телом сырость своей одежды. Вода хлюпала в моих туфлях на каучуковой подошве. Носовой платок не осушил моего лица, ибо сам нуждался в сушке. От моих волос, тронутых расческой, за шиворот потекли новые струи воды. Мои дорожные вещи, забытые в карманах, утопали в сырости, и костюму, пожалуй, пришел конец. Но не беда! Я был в своем городе. Вот как у меня обстояло дело. Я был в своем городе.
Дождь еще некоторое время лил над моим городом, но уже редкий, постепенно замирающий, и вода торопливо убегала по асфальту в приготовленные для нее отверстия. Ее было так много, что она не успела уйти в подземные трубы за все то время, пока я брел по Литейному проспекту к Невскому. И даже на Невском еще стояли отдельные озера, над которыми торопливо трудились дворники.
Самая тяжелая часть грозовой тучи уже гремела в отдалении, разбрасывая там свои молнии и ливни, и за ней торопились ее серые лохматые остатки, освобождая небо для солнца, которое все еще стояло высоко, несмотря на близость вечера. И в новом ярком сиянии солнца мой город Ленинград, получивший от грозовой тучи на свои крыши, улицы и деревья такую обильную долю воды, выглядел как бы свежее и моложе. Он и со мной сделал то же самое, этот русский дождь, который никогда, конечно, не был мне врагом, как не были врагами русские поля, и степи, и сами их владельцы — русские люди.
Додумался до этого, должно быть, наконец и Юсси Мурто, сообразив, что нельзя миновать русский народ, желая в своей жизни мира. Попытаться обойтись без него можно, конечно, однако это будет не тот путь. И вот он понял это, снизойдя наконец с высоты своих раздумий до русского народа и милостиво признав за ним равное с другими право населять планету. И стоило ему ступить на эту землю, как сразу же потянулись через него в обе стороны новые неразрывные нити, соединяющие многие судьбы финнов и русских от отдаленных отцовских времен до времен сынов и внуков.
И только я опять, как и всюду, оказался в стороне, уйдя от них прочь. Ни на что иное я не годился, Аксель Вечно Уходящий. Конечно, я видел все то, что предстояло увидеть им, но как видел? Не туда я смотрел и не теми глазами, какими следовало. Но я готов повторить свой путь, глядя на все это с новым вниманием. Дабы полнее получился мой рассказ, который я увезу в Суоми.




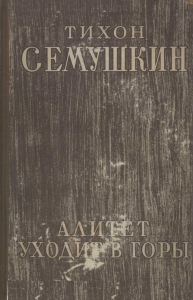
Комментарии к книге «Другой путь. Часть вторая. В стране Ивана», Эльмар Грин
Всего 0 комментариев