Дефицит
1
Сначала Зиновьев подумал, что попал в сауну, — сам голый и его собеседник, персона весьма значительная, тоже гол как сокол, да вдобавок еще пар облаком, но в сауну Зиновьев ходил по средам, сегодня же пока вторник, следовательно… И тут все четче стала проявляться обстановка, притом занятная — оказывается, не пар, а облако самое настоящее, небесное, и собеседник его не сидит, а восседает за столом наподобие канцелярского, только тумбы его зиждятся не на полу, а все на том же облаке, синем и посередине густом, а по краям с белой опушкой. Собеседник его — хотя он еще ни слова не сказал Зиновьеву, но беседа предполагалась — не молод, а скорее стар и даже весьма стар, плешив, вокруг голого черепа белые завитки волос и от них сияние вроде нимба, либо на самом деле нимб, одним словом, модель из забытого прошлого. Старец голый и притом бестелесный, всего лишь очерченный, но четко и убедительно; за розовой его плешью синела бездна со звездами крупными и яркими, как в театре на детском празднике.
Осмотрясь и несколько освоясь, Зиновьев понял, что за персона перед ним, однако не слишком-то испугался, он привык общаться в сауне с большим начальством, так что колени его не стукались друг о дружку. С удивлением и здоровым любопытством Зиновьев продолжал рассматривать обстановку, хотя ничего предметного ему не виделось, одни очертания, намеки, а не сами предметы, к примеру, стол — нет на нем бумаг, авторучек, карандашей, календаря и прочего обильного канцелярского хлама, но в то же время все это предполагается, что захочешь, то и увидишь, не стол, а образ стола, притом не обеденного, а явно делового, министерского, по меньшей мере, и на нем телефоны, опять же образы их справа и слева, легкие такие глыбы минералов или кристаллов, рубиновый, видимо, вселенский, белый — вроде бы местный, а бирюзовый, надо полагать, сугубо личный, интимный,— все честь по чести и взывает к почтительности.
— Здравствуйте, — сказал Зиновьев негромко, но голос его словно вырвался из утробы и понесся вдаль, пока не затих в космическом далеке.
Старец на приветствие не ответил, будто оно булькнуло мимо его ушей. Полагалось, видимо, как-то иначе утвердить здесь свое присутствие, или попросту стоять и ждать, когда на тебя изволят обратить внимание. За спиной старца висели плакаты, опять же образы их размытые, Зиновьев узнал Кукрыниксов, еще что-то сугубо антирелигиозное, формулу «Религия — опиум для народа», а ниже ее кусок старой не то афиши, не то прокламации с ятями еще, он различил две строки: «Кишкой последнего попа последнего царя удавим», одним словом, многолетняя атеистическая графика представлена была здесь довольно полно, листы висели один над другим, чешуей, и уходили вдаль, закругляясь по небесной сфере и даже образуя для нее крылышки. Старец шевельнулся в кресле, глаза его стали требовательными — говори, мол, чего стоишь аки пень. На приветствие он не ответил, понятно стало, он спесив и плохо воспитан, а с такими Зиновьев держался тоже по-наглому, он был не робкого десятка да к тому же и с чувством юмора.
— Вызывали на ковер?
Старец захлопал глазами, видимо, не понимая современного оборота, надо ему бухнуть что-нибудь по-церковнославянски. Зиновьев порылся в памяти и нашел кое-какую архаику из деревенской прозы.
— Призывали, вот я и явиться изволил. Не знаю токмо зачем? — Надо было сказать «пошто».
Тут пропел петух совсем где-то рядом, Зиновьев невольно глянул по сторонам, но петуха не увидел. Старец тоже оживился от петушиного крика и сказал довольно-таки простецки, тенором сельского балагура:
— Профилактика тебе нужна, милок, самое время!
«Что еще за профилактика? — подумал Зиновьев. — Я же пока не «Жигули».
— Вижу-вижу, сердешный, не «Жигули», за слепого меня не считай.
Зиновьев вроде бы не давал старцу повода для столь фамильярного обращения и решил осадить его:
— Коли видишь, так говори, нечего в молчанку играть. «Профила-актика», — передразнил он. — Лучше анекдот какой-нибудь расскажи, только без этой самой. — Зиновьев показал пальцами на его длинную бороду.
— Ты мне не тычь, я с тобой свиней не пас, — припечатал старец внушительно, хотя и без особого пока раздражения.
С Зиновьевым давно уже так не говорили, со времен школьной скамьи, и он возмутился:
— Да знаете ли вы меня хотя бы в общих чертах? Вы, может, не того вызвали, кого надо. — Бывают проколы и на высшем уровне, влепят выговор невиновному, а виновного на повышение.
— Ты Зиновьев Борис Зиновьевич, от рождества Христова одна тысяча девятьсот тридцать седьмого года рождения, беспартийный, женатый, по образованию врач, состоишь в должности заведующего отделением родильного дома номер три, имеешь нагрудный знак «Отличник здравоохранения», — все правильно?
— Допустим, — несколько упавшим от его осведомленности голосом сказал Зиновьев. Когда о тебе слишком много знают, это не всегда не радует.
— Ну а меня ты узнал сразу, — уверенно сказал старец. — Или хочешь сказать, что нет?
— Догадываюсь. Кстати, вы не упомянули одну деталь, весьма существенную.
— Какую же? — глумливо спросил старец, уверенный в своем всезнании.
— Я атеист, к вашему сведению, не верю ни в бога, ни в черта.
— Потому я и призвал тебя. Верующие сами спасутся, ибо в узде держатся, а тебе помощь надобна. Безверию власть нужна, понял?
«Не было печали…» — едва успел подумать Зиновьев, как старец снова его перебил:
— Но-но, полегче на поворотах, понял? Начнем, пожалуй. — И что-то там перед собой открыл вроде досье. — Отвечай, раб божий Зиновьев, зачем положил?
— Что положил?
— Не придуривайся. Шестьсот рублей.
— Куда положил? — уныло проговорил Зиновьев, лишь бы потянуть резину и что-нибудь придумать.
— Я вижу, ты меня всерьез не воспринимаешь, — сказал старец без особой обиды и почесал под столом ногу ногой, при этом Зиновьев увидел пятки его желтые, с буроватой каймой, вполне человечьи пятки, а затем почесал еще и подмышки, он как бы притуплял настороженность Зиновьева, чтобы дальше посильнее огорошить кое-чем весьма неприятным. — Глянь сюда! — велел старец, не повышая голоса, к мановением руки вдавил вдруг возникшую красную кнопку на черном пульте, она погрузилась, внутри что-то щелкнуло, кнопка так и застряла в углублении, грозя бедой, стало жарко, знойно Зиновьеву, и справа от себя, куда ему указал старец, Зиновьев увидел, как разомкнулись небеса и образовался просвет, словно промоина во льду, и в этой промоине как на экране появилась совершенно четкая картина — какое там кино, какое там телевидение, все как есть наяву! — огромный серый и плоский круг, похожий на старую танцплощадку в парке, по краям его заалела краснота медленно, но, как говорится, верно, и на этом круге — женщины, одни женщины, разного, а точнее говоря, зрелого плодородного возраста, в большинстве лет восемнадцати — двадцати, но и постарше некоторые, и все одеты в роддомовские халаты, линялые, нелепо длинные у одних и бесстыдно куцые у других; и все они пляшут странную пляску, высоко вздергивая колени, неистово, с гримасой самозабвения и невыносимой боли, а зловещая краснота растет, и все их лица знакомы Зиновьеву, они прошли через его отделение, иные и не один раз, а хороводит этой архиполовецкой пляской Мар-Сем в белом халате, она ближе к центру круга, а в самом центре чья-то фигура, видимо, самого Кончака, он тоже в белом халате, единственный здесь мужчина, черты его все яснее, и Зиновьев узнает себя, полы его халата в крови и рукава тоже — экая пакость, до чего омерзительно, ему стало не по себе, а круг все накаляется зловеще, словно гигантская электроплитка. «Откуда он берет столь мощное напряжение?» — едва успел подумать Зиновьев, как старец ответил:
— От Братской ГЭС. А если призываю грешников из Соединенных Штатов, или там из Англии, Франции, то беру киловатты соответственно подданству.
— Порядок у вас, ничего не скажешь, — льстиво сказал Зиновьев, глядя на круг, и только тут догадался — так это же сковорода, как же он сразу не допер, пресловутые муки на том свете, — и едва он так неосмотрительно подумал — «пресловутые» — как сразу запекло подошвы, он затоптался, а через две-три секунды уже и побежал на месте, высоко вздергивая ноги, выкидывая те же дикие коленца, что и его пациентки; быстро стало невтерпеж, и он завопил дурным голосом:
— Хва-атит!!
— Теперь все понял?
— Понял-понял, ваше э-э-э высочество и прочее! — прокричал Зиновьев, взмахивая руками как крыльями, пытаясь воспарить над жаровней и надеясь, если останется жив, потаскать старца за бороду.
— Отвечай внятно, вдумчиво и не вздумай егозить, врать, юлить. Зачем положил? Я знаю сколько, шестьсот рублей, знаю куда, не в сберкассу, как полагается честным гражданам, а… — Далее старец подробно, хотя и кратко, описал белый ящик из пластмассы, продолговатой формы, в каких обычно ставят цветочные горшки на окнах, Зиновьев купил его на улице Гоголя в «Тысяче мелочей», и даже указал, где тот ящик стоит: на верхней полке книжного шкафа, а снаружи прикрыт грузинской чеканкой, тоже полученной в порядке мзды от пациентки, но уже, правда, давненько, еще когда подношения были скромнее.
— До вчерашнего дня, — продолжал старец речитативом, — у тебя в том ящике лежало двадцать тысяч, ровно столько, сколько было тобой задумано накопить. Но вчера ты положил еще шестьсот рублей сверху задуманного. Как видишь, все знаю, и сколько, и куда, могу сказать и откуда, одного не разумею — зачем?
Зиновьев потоптался, вроде больше не жжет, вздохнул и сказал примирительно:
— Деньги не люди, лишними не будут.
— Ответ не засчитан, — рассудил старец. — Отвечай конкретно, на какие мирские потребы копишь? Дача у тебя есть, цветной телевизор есть, «Жигули», дубленка и прочие анау-манау тоже есть, так зачем тебе еще златой телец?
— Ну как зачем? — кротко сказал Зиновьев. — Просто на черный день.
— На какой-такой черный день в условиях социализма? Тебе что, зарплаты мало? Ты заведуешь отделением, имеешь еще полставки врача, получаешь за консультации, читаешь лекции во Дворце бракосочетания о гигиене половой жизни, итого в месяц триста сорок рублей. Заболеешь, тебе оплатят больничный, состаришься, дадут пенсию минимум сто двадцать; так о каком-таком черном дне ты изволишь тут разводить турусы на колесах? «Не гневи бога» поговорку знаешь?
— Вам трудно будет меня понять, ваше, извините, высочество. Дело в том, что в одном аспекте, и притом очень важном, мы с вами отличаемся принципиально.
— Само собой, — согласился старец насмешливо.
— У вас есть все то же, что и у людей, но не хватает одного…
— Ну-ну, — с ехидцей перебил старец. — У меня есть кое-чего побольше.
— Я знаю, и все-таки не хватает у вас того, что для людей является главным и год от года становится все главней и главней.
— Чего же? — старец вроде бы заинтересовался.
— Потребностей, вот чего. Вы живете совсем без потребностей, согласитесь.
— Правильно. Так ведь и вам уже было сказано и давно притом: чем меньше потребностей, тем ближе к богу.
— А зачем ближе, если я атеист? И таких на земле миллионы.
— Атеист-матеист, все вы под богом ходите. Но ты вмешался в прерогативу всевышнего, давать жизнь или отнимать ее. «Я славлю мира торжество, довольство и достаток, создать приятней одного, чем истребить десяток». А сколько ты истребил, покайся?
— Я понимаю, папа римский запрещает аборты, но в нашей стране они разрешены законом.
— Разрешены, но есть инструкция «О порядке проведения операции искусственного прерывания беременности», а также приказ есть министерства здравоохранения, по которому запрещается производство абортов в родильных домах. А ты изволишь нарушать и то, и другое.
— Я спасаю людей, помогаю им, а не истребляю, как вы изволили ошибочно заметить.
— Мы не ошибаемся, не предполагаем, а располагаем.
— Если я не применю своего врачебного искусства по удалению плода, то может погибнуть женщина, если не физически, то морально. Я спасаю девичью честь, семьи честь и трудового коллектива.
— Лжец и лицемер. Ты наживаешься, пресекая жизнь. Если беременность десять недель, берешь сто рублей, если двадцать, берешь двести рублей.
— Так ведь риску больше! — возмутился Зиновьев. — Тут и дураку ясно! — При последних словах он сразу ощутил, как нагрелись подошвы. — А-ай! Почему вы не допускаете свободы мнений?
— От свободы мнений конец света грядет. Отвечай, зачем положил?
— Виноват, каюсь, но все-таки прошу понять и нас грешных. Растут потребности, честно вам говорю, и не по дням растут, а, можно сказать, по часам, да к тому же среди всех слоев населения. И чем больше ты их удовлетворяешь, тем больше они растут.
— А это вам нарочно сверху спущено, дабы проверить вашу стойкость и отделить овец от козлищ.
— Да разве можно устоять, когда кругом столько соблазнов? И всего хочется. И везде с переплатой. Потребности одолевают нас как вирус, как грипп, как чума и холера, не знаю даже, как вам еще убедительнее сказать.
— Сказано уже было две тысячи лет назад — блаженны нищие, а богатому попасть в рай, что верблюду пройти в игольное ушко.
— Извините, но у нас рай теперь на земле, — робко сказал Зиновьев.
— Поговори-ка ты со мной, гитара семиструнная. А что касается потребностей, то их надобно удовлетворять по закону. Ты же творишь беззаконие. Зачем берешь взятки? Ты что, пчелка?
— Именно пчелка. Трудовая. Я за дело получаю, а не за безделие, как другие.
— По-твоему, выходит, все берут?
— Да ведь глупо отвергать подаяние, согласитесь. Кому охота дурачком прослыть?
— Честный и праведный всегда выглядит глупее проходимца.
— А мы развиваемся в сторону все большего ума. Как быть, в чем теперь выход?
— В сковороде. Почему хирург Малышев ничего не берет?
— Таких простаков мало на белом свете.
— Но ими земля держится.
— Так было раньше, а теперь Малышевы вырождаются. Как мамонты.
— Почему не сменишь профессию от греха подальше?
— У меня диплом, стаж двадцать лет, государство меня учило, тратилось на меня, стипендию выплачивало. Я обязан исполнить свой долг перед обществом. Вот вы, к примеру, ваше высочество, не можете сменить профессию?
— Человек, который много грешит, всегда умен, ибо грех учит. С таким особливо и не поспоришь, — как бы про себя проговорил старец. — У меня, к твоему сведению, не профессия, а призвание бороться с бесом. Если бы он сгинул бесследно, тогда бы и я отпал за ненадобностью. Но он живуч, сатана, и у нас с ним конфронтация.
— Вот потому людям и трудно, что вы на небе, далеко, а сатана на земле, рядышком. И если вам не понять, зачем я положил, спросите у миллионера в Соединенных Штатах. Почему вы ему не запрещаете класть сверх всякой нормы? У них там акции всякие-разные, дивиденды, купоны стригут, миллионами ворочают, а не то, что я, — двадцать тысяч, и уже у вас бревно в глазу.
— Они по своим законам кладут, а ты по беззаконию, учти, бестолочь. Чинибеков вон хапал-хапал, уличили, выгнали, и ты туда же?
— Чинибеков жалкая личность, алкаш ничтожный.
— Это моя кара ему. И тебе будет вельми скоро, если себя не повернешь на путь праведный. Не будет стадо подчиняться пастырю, что получится? Волки сожрут. Не будут люди подчиняться закону, что выйдет? Хавос!
Никакого уважения к собеседнику, к его культурному уровню, боронит воистину как бог на душу положит.
— А я Пушкина люблю,: — пояснил старец в ответ на молчаливое недовольство Зиновьева: — «Как уст румяных без улыбки без грамматической ошибки я русской речи не люблю». Зачем ходишь в сауну?
Перескакивает с одного на другое, явно от старческого маразма, и не уследишь, не предвосхитишь хода его намерений.
— Я тебе покажу «маразма», — ровным голосом произнес старец, и тут Зиновьева так припекло, что он упал на колени, сразу же оттолкнулся руками и ногами, но пекло и жарило во всех точках соприкосновения с полом, да уже не с полом, подсунул ему старец сковороду, Зиновьев стонал, кричал:
— Вы отвергаете не только свободу слова, но и свободу мысли!
— Свободу хамства я отвергаю, — резюмировал старец. — А доброе дело — пожалуйста, как и доброе намерение. Всякая свобода без нужды, без необходимости, повторяю тебе, ведет к концу света.
Зиновьев уже не стонал, а визжал, верещал от боли, без конца повторяя: «Зачем, для чего? Меня ни одна больница не вылечит!»
— Боль нужна для обнажения твоей сущности.
Старец, наконец, сжалился, сбавил пекло и повторил вопрос, для чего ему сауна.
— Для здоро-овья, — проблеял козлиным голосом Зиновьев.
— Лжец и лицемер. Сауна тебе нужна для уверенности в своей безнаказанности. Ты видаешься там с начальством, нагишом заседаете, бесштанные. Ты ведь знал про Жемчужного?
— Что я знал? Что он сбежит?
— Да, твой приятель по сауне.
— Я ничего не знал. — Опять припекло, и Зиновьев уточнил поспешно: — Я мог только догадываться.
— Догадывался, а валандался с ним, пока он не сиганул за рубеж. Теперь он у меня диктором пойдет в Мюнхен, на «Свободную Европу», а там ему рак горла. Что теперь скажешь, стоило ли ему сбегать?
— Рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше, не мной придумано.
— Заруби себе на носу: всякая мораль, связанная с идеей выгоды, на практике ведет к преступлению.
Далее их вполне мирную философскую беседу нарушил рокот какого-то летящего устройства, рокот перешел в грохот прерывистый, булькающий, с пронзительным тонким писком — пи-пи-пи! Буравя небосвод, совсем низко над головой пронесся космический корабль, ослепительный, с плоскими антеннами для сбора солнечной энергии и всякими пристройками, отчетливо видными с облака; едва он пронесся и грохот чуть поутих, как послышалось суматошное хлопанье крыльев, что-то невидимое свалилось и тут же трижды пропел петух. Старец вскинул бороду и тенором балагура, совсем иначе, нежели он говорил с Зиновьевым, заискивающе, пожалуй, прокричал вслед кораблю:
— Эй, вы там, «Эльбрусы!» Уточните траекторию, шельмецы! Опять мне с крыши петуха сбили! — и погрозил пальцем, но не гневно, а с улыбкой даже, как перед силой, с которой лучше не связываться. А ведь они для старца не просто нарушители, они — сокрушители. Так оно и на земле бывает, замечал Зиновьев, бандиту дружинники погрозят пальцем, а кроткого интеллигента подмикитки берут.
Корабль, однако, уже был далеко, вряд ли «Эльбрусы» услышали пожелание старца, пошалили слегка, развлеклись в своей невесомости, и теперь на облаке стало еще тише, чем было.
«Зачем он меня призвал?» — подумалось Зиновьеву. Стоит он голый, космонавты его наверняка видели, мониторы у них включены, дадут репортаж вечером по телевидению, покажут его встречу со старцем, прокомментируют.
Но зачем он его все-таки призвал сюда?
Старец тут же уловил мысленный его вопрос и дал исчерпывающий ответ:
— Сначала у нас с тобой беседа, а потом последуют выводы, если не учтешь моего совета. Врач не рвач, понял? — скаламбурил старец. — Беседа, а потом выводы, какие? — и поскольку Зиновьев затянул с ответом, старец подсказал: — Ка-а… а дальше?
— Касательные, — неуверенно, но все-таки облегчил себе участь Зиновьев.
— Карательные, — уточнил старец. — Человек предполагает, а бог располагает.
— Что же мне теперь делать, скажите, пожалуйста, научите? — проговорил Зиновьев, топчась, ища ногами прохладное место и с удовлетворением отмечая — нашел.
— Перво-наперво помни, что все твои намерения, а пакостные особливо, станут тут же известны людям, вот как мне. Едва ты подумаешь о недозволенном, так тебя тут же и припечет. — И опять скаламбурил: — Тут же и упекут.
— Но ведь это ужасно!
— С голой задницей тебе сидеть в сауне не ужасно, а с голыми своими злокознями перед честным народом тебе ужасно? Привыкай, это моя первая тебе епитимья.
Выходит, теперь Зиновьеву лучше совсем не думать, ибо по природе своей он человек ироничный, насмешливый, анекдоты любит, и то, что за столько времени он не рассказал ни одного анекдота, для него пытка не меньшая, чем сковорода.
— А полегче нельзя чего-нибудь из вашего же ассортимента? — попросил Зиновьев.
— Здесь не дискутируют. Повторяю: не брать, не класть! В сауну больше ни шагу. Круто сменить, обновить социальное окружение.
— Как Жемчужный?
— Я т-те дам! Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе — дальше сам знаешь. Пойди в друзья к хирургу Малышеву.
— А если он меня не признает, третирует всячески?
— Начнутся в тебе перемены к лучшему, и Малышев изменит к тебе свое отношение.
— Да кто он такой, ваш Малышев, пуп земли? Чего ради я к нему стану в друзья набиваться, если у него один вариант в голове?
— Малышев мужик праведный.
Зиновьев потоптался — не жжет — и сказал смелее:
— Ничего себе праведник. Безбожник.
— Не твое собачье дело меня поправлять. — (До чего обидчив, спасу нет, привык только командовать). — Малышев честен, закон блюдет и в вере своей тверд. Златому тельцу, как ты, не поклоняется. Вопросы есть?
Зиновьев тяжело вздохнул.
— Если позволите, есть некоторые, так сказать, пожелания.
— Валяй, убивец, рвач и взяточник.
— Нельзя ли без оскорблений, хотя бы напоследок?
— Правда — не оскорбление. В двадцать недель плод уже начинает ножками сучить, а ты… — старец брезгливо махнул рукой, но, слава богу, не припек, и на том спасибо. — Валяй, говори.
— Не могли бы вы спуститься с небес на грешную землю, хотя бы на краткий срок, в командировку, по-нашенски говоря?
— Зачем?
— Присмотрелись бы к нашей жизни, оценили бы, пораскинули, может, что-то изменить надо? Глядишь, и послабление вышло бы. — Зиновьев старался подбирать слова обветшалые, взял про запас «кубыть», «надоть», «волнительно» и «благодарю за внимание». — Я осмеливаюсь полагать, что вы инда в отрыве от нашей практики властвуете, а нам тяжело, грехи наши растут денно и нощно. Вы бы постарались к народу поближе, к запросам его повнимательнее, к потребностям нашим нонешним. А то в облаках витаете, критику снизу не слышите, и потому, извините меня и не наказывайте зазря, вы несколько подустарели, да отсохнет мой грешный язык. Прошу вас хотя бы на время изменить социальное окружение, и тогда у нас с вами будет встречное движение.
— Мы подумаем. А наказ исполняй, иначе спохватишься, да поздно будет. Прощевай.
И старец плавно пошел вверх со своим столом, с телефонами и всем прочим интерьером. Зиновьев остался один на облаке посреди бездны, ужас обуял его, он закричать хотел: «Не покидайте меня, стойте!» — но в горле от страха пересохло; а облако легкое, зыбкое, края воздушные, хлипкие, вот-вот он сорвется в бездну, и тут понесло его вниз, аж в ушах засвистело, сами собой появились на нем трусы, майка, потом сорочка, брюки и пиджак и даже галстук, уже завязанный, потом ступни его с маху влезли в прохладную кожу финских туфель, и далее Зиновьев ощутил, наконец, под ногами округлость, нечто твердое и догадался — вот она, земля наша матушка, прими меня, защити и спаси.
2
Малышев поливал из ведра на руки этому подонку дворнику, смывал с них дерьмо и кровь, видел сбоку разбитое зигзагом дверное стекло, осколки поблескивали на плитках пола, а на осколках мерцала кровь, почти черная от слабого света в подъезде, вода ее разбавляла, мутная жижа плыла ему под шлепанцы, сейчас промочит, он переступил чуть назад и пониже согнулся, поднимая ведро за донышко, струя широко лилась на руки, на серые рукава дворникова халата, руки его уже отмылись, можно перевязывать, но тут удар сзади, в затылок, острый, разящий, боль так и пронизала Малышева с головы до ног. Какая же сволочь его долбанула, Чинибеков? С дворником они приятели, вместе алкашат, он и врезал, больше некому, да так сильно — чем, топором? Лопатой? И боль до того невыносимая, что железный Малышев зубами заскрипел и услышал свой тягучий стон, мык сквозь зубы, и тут же голос Марины, она вызывала «скорую», — а надо ли? Зачем суматоха, паника, ведь он даже сознания не потерял?.. Потом пошли отмахи света и тьмы, отворяли и затворяли дверь, будто ею сбивали свет, чтобы он не слепил Малышева, мрак успокаивал, но ненадолго, снова отмашка дверью и свет сжимается в сгусток, в люстру, ломит глазницы и всю голову, голос Марины крикливый, сварливый: «Не знаете хирурга Малышева, кто там у вас дежурит?!» Корила кого-то, а он досадовал — зачем? Все не так, все без меры, с избытком, а боль сковала голову и все тело, даже кровати больно, а затылок будто размозжен, стесан — топором? Лопатой? Силился ощупать голову и не мог шевельнуть рукой, потом уже прямой свет, белые халаты, шприц, комариный укус в плечо и носилки длинные, как байдарка, ему, черт побери, носилки, железному Малышеву, никогда ничем не болевшему, спортсмену, здоровяку, — потащили, покряхтывая. «Да не ногами! — вскричала Марина. — Разверните головой вперед!» Осторожно засунули в машину, щадя его, показательную сделали транспортировку, — и снова тьма, гул машины, поехали, и теперь вся боль от колес, и опять смена тьмы и света от уличных фонарей, розоватых, слегка кровавых. Снова носилки, халаты, но лица чужие, будто его в другой город привезли, и все в пелене ночного мрака. Уснуть бы покрепче и все пройдет, но голос Марины мешает, командует, слегка истерично, нельзя так говорить с персоналом. И еще шум моря — откуда море? И еще укол, уже второй, спешат. Кровоостанавливающее? Обезболивающее? Но какого дьявола медлят, почему голову не перевязывают? Или не видят, кровь заливает ему лицо, окунает его в полный мрак…
Проснулся днем от солнца и сразу понял — в больнице, и не в своей городской, а в областной, где ему приходилось и консультировать, и оперировать. Салатного цвета стены и двери на балкон, в коридор и в туалет, — особая палата, для областного начальства. Попробовал повернуть голову — ломота и боль словно током, даже от движения глазных яблок боль, шандарахнули его крепко, а за что, собственно?.. Странно однако, до сих пор не перевязали, возможно, закрытая гематома. На соседней койке послышался скрип, и над Малышевым возник старик в полосатой голубой пижаме, морщинистый и с длинной седой гривой.
— Добрый день, — сказал он звучным голосом. — Алла Павловна просила ей сообщить, когда вы проснетесь.
Малышев просипел что-то и закрыл глаза, дескать, не возражаю. Скрутило его как, надо же! Старик поднялся, постоял на месте, истратив, видимо, на подъем все силы, затем пошел словно по льду, понес себя, боясь расплескать. Послеоперационный, наверное.
Вошла сестра, неся на ладони шприц в стерильной обертке.
— Укольчик, Сергей Иванович, не надо поворачиваться! — предостерегла она, откинула одеяло и воткнула иглу в мышцу.
— Что это? — просипел он.
— Папаверин с дибазолом, Сергей Иванович.
Вот как, еще и давление подскочило вдобавок. Вскоре нянечка принесла завтрак, он попытался сесть, но она закричала: «Лежите, лежите!» и тоже все время — Сергей Иванович, Сергей Иванович. Тошнило, мутило, выпил чаю чуть-чуть, от завтрака отказался. Боль распирала череп. Дурацкое положение. Никогда ничем не болел, не лежал в стационаре за все свои сорок пять, даже больничного не брал ни разу — и вот тебе на! Досада, шум в башке непрерывный, а сосед пропал, все еще тащит себя по коридору в поисках врача…
Чинибеков, алкаш, мстителен, и отплатить Малышеву есть за что, но не таким же способом, пенсионер уже, неужто рука поднялась? Да не сон ли все это, черт побери? От укола стало полегче. Удар, видимо, тупым орудием, гематома скрытая, нет нужды в повязке. А давление отчего?
Вернулся, наконец, сосед — висячие мешки под глазами, но взгляд ясный.
— Вам приказано не вставать, — сказал он отчетливо, сильным не по возрасту голосом. — Сейчас она придет.
— Кто?
— Лечащий врач Алла Павловна.
Что за Алла Павловна? Кажется, анестезиолог есть такая.
— Фамилию ее не знаете? — голос его окреп, естественно, пора уже. Сегодня он полежит, а завтра домой.
— Родионова. Очень милая женщина.
Он такой не помнил, хотя хирургинь знает всех. Отшибло. Амнезия. У соседа, возможно, грыжа или аденома простаты, судя по походке. Она и оперировала, надо полагать.
— Хороший хирург? — спросил Малышев.
— Алла Павловна терапевт, довольно известный.
Вон как, довольно известный хирург не может вспомнить имени довольно известного терапевта. Старик опустился на свою койку и вытянул худые ноги в черных носках.
Рядом с кроватью столик на металлических ножках, сверху стекло (сразу всплыли осколки в подъезде), над столиком панелька с глазком и шнурок, дернешь — глазок зажжется и на посту у дежурной сестры раздастся трель. Дернуть надо и сказать, чтобы принесли одежду. Но сил нет… Закрыл глаза — ну что за морока, удар, «скорая», носилки, палата — до чего нелепо! Проснуться надо, стряхнуть наваждение и жить как жил… Шум в голове слитный, ровный, будто к уху приложили раковину, и не к одному, а сразу к обоим, и лежит вот рыло на подушке с двумя раковинами вместо ушей.
Вошла врач, она самая, надо полагать. Лицо знакомое.
— Добрый день, Сергей Иванович, — и еще по слогам, отчеркнуто: — Здрав-ствуй-те. — Улыбка не служебная, а как своему, коллеге, а он забыл, никак не вспомнит.
— Здрас-с… — ответил он невнятно, чувствуя усиление шума в ушах — кто же она? Сосед только что сказал ее имя, кажется, Эмма Ивановна? Он попытался подняться, но она быстро к нему шагнула, выставив руки вперед ладошками.
— Полежите, Сергей Иванович, нельзя пока!
Разве он сам не знает, что ему можно и чего нельзя?! — но все-таки лег.
— Спокойнее, пожалуйста, спокойнее.
— Да я и так спокоен! — возмутился он оттого, что она сразу увидела его волнение. — Вы полагаете, у меня есть причины для беспокойства?
— Как вы сразу, быка за рога. — Она снова слегка улыбнулась, но уже натянуто, тоже заволновалась. — Есть причины или нет причин, попытаемся выяснить вместе с вами. — На шее у нее фонендоскоп кулоном, зеленоватые трубки, под локтем черная коробка с тонометром. — Только не встречайте меня в штыки, ладно? Пока я вам ничего плохого не сделала, верно?
— Извините, непривычно. Дурацкое положение.
— Я понимаю. Совершенно здоровый человек и вдруг… — она осторожно смолкла, а он ухватился:
— Что значит «и вдруг»?
— И вдруг в больнице, мало приятного. Но вы же врач, должны понимать.
Черт побери, врач — это совершенно не то, что больной! Но ничего не сказал. Она смотрела на него отчужденно, уже без тени улыбки. Ей был нужен контакт, а он не мог овладеть собой, наскакивал и перечил, и все оттого, что не мог ее вспомнить. Может, сразу спросить, где встречались? Она ответит — на совещаниях, на конференциях кардиологов или пульмонологов, да мало ли где. Только оскорбит ее тем, что не помнит.
— Как вы спали, Сергей Иванович? — Она сняла фонендоскоп с шеи, коробку с тонометром положила рядом с ним на постели.
— Нормально спал. Если не считать того, как меня сюда волокли.
— Что сейчас беспокоит?
— Голова. Шум в ушах. Провал в памяти, не могу вспомнить, где мы с вами встречались?
— Это не провал, Сергей Иванович, просто мы с вами давно не виделись.
— Нет, провал, — сказал он упрямо. — Я вас забыть не мог!
Не вспомнить такую женщину — это черт знает что!
Она пожала плечами, достала тонометр, размотала манжету, но измерять давление не спешила, видно, ждала, чтобы он успокоился.
— Давно у вас головные боли, шум в ушах?
Ей нужен анамнез, чтобы заполнить историю болезни. А он не в себе и отвечать не хочется.
— Дайте вашу руку, доктор. — Он закрыл глаза. Протянул руку, ощутил ее теплую и покорную ладонь, положил себе на лоб, на глаза и как будто успокоился. — Когда вы меня выпишете?
— Скоро… — сказала она неуверенно, он понял, что она к нему подлаживается, успокаивает.
— Когда найдете нужным, тогда и выпишете. — Он пожалел ее, пощадил. — Как вас зовут?
— Алла Павловна.
— Правильно, Алла Павловна, я же знал. А с чем я поступил? — Он все это проговаривал медленно и не открывал глаз, но видел ее, по голосу чувствуя ее легкую растерянность. Она молчала, и он сам предположил: — Посттравматическая гипертония?
— А какую травму вы имеете в виду?
Какую… Да ту самую, по затылку. Однако не сказал пока.
— Давайте измерим давление, Сергей Иванович. — Она подняла рукав его рубашки, осторожно намотала манжету, накачала грушу и, приложив прохладный пятачок фонендоскопа, стала слушать, глядя на стрелку тонометра, отключилась от него, а он смотрел на ее лицо в упор, на ее брови темные, с пушком на переносье, и губы темные, четкие, почти не крашенные, и на щеках пушок в свете солнца, и никаких висюлек, наверное, слышала про капризы хирурга Малышева и все с себя поснимала, — что же, спасибо за внимание. Красивая женщина и серьезная, без кокетства. И очень-очень знакомая. Как же он мог забыть и когда забыл, уже здесь?
— Сколько, Алла Павловна?
Она сняла манжету с руки, смотрела в сторону.
— Пока повышенное, Сергей Иванович. — Посидела, подумала. — Вы переутомились, наверное, много работали, вам нужен отдых, но сначала лечение. У вас был криз. Незначительный, но… тем не менее.
— Кри-из? — переспросил он, чувствуя опять волну раздражения. — Да что за чепуха, какой криз? У меня — криз?! — А в башке боль аж слепит.
Она раздвинула лапки фонендоскопа, повесила его обратно на шею, смотала манжету, не глядя на него, и аккуратно стала укладывать тонометр в коробку, лицо ее было строго, она не одобряла такую его реакцию. Он попытался сказать с усмешкой:
— Выходит, топором по затылку меня не стукали?
— За что же вас, да еще топором? Не за что. — Она улыбнулась и стала совсем-совсем знакомой, ну прямо будто вчера расстались. Да кто же она, в конце-то концов? Они не учились вместе, сразу ясно, она моложе его лет на пять, а может быть, и на десять, и не работали вместе, тоже ясно. Халат, а более того колпак изменяют облик, он по себе знает, бывшие пациенты при встрече на улице смотрят на тебя в первый момент как на незнакомца, иной раз и поздороваться не успевают, в больнице врач замаскирован, вот как она сейчас, колпак совсем закрывает волосы, скрадывает лицо.
— Ладно, Алла Павловна, криз так криз, лежать так лежать, я согласен. Только говорите со мной откровенно, как с врачом.
— Врачей лечить трудно, Сергей Иванович.
— А меня легко.
Хирурги самоуверенны, и он среди них не самый плохой.
— Как часто у вас поднималось давление?
— Никогда не поднималось. — И тут же начал прикидывать — наверняка поднималось, перед трудной операцией, например. Или после нее. — На завтра, то есть уже на сегодня, была назначена операция Леве Киму, долго его готовили и опять отсрочка. От этого у меня и давление.
— Еще кое-какие формальности, Сергей Иванович. Вашу историю болезни заполняли в реанимации, не указали антропометрию — рост, вес.
— Ну вот, еще и реанимация! — возмутился он. — Зачем? У вас что, уже больных нет, и вы здоровыми реанимацию заполняете?
— Сергей Иванович, вы всегда такой… легко возбудимый? — Она наверняка хотела сказать «раздражительный», но смягчила. — Вы слишком понадеялись на свое здоровье, неправильно распределили нагрузку и… — она развела руками, — придется полежать и подумать о своем режиме. Вы не помните свой рост, вес?
— Сто восемьдесят рост, вес около восьмидесяти, все в норме. Лет пять уже бегаю по системе Купера, и раньше постоянно спорт, баскетбол, волейбол.
— Я помню, — сказала она.
Может быть, спортом занимались вместе? Но не хватит ли на сегодня голову себе морочить? А также и ей.
— Боксом одно время занимался, на соревнованиях выступал.
— Нокауты были?
Ищет черепно-мозговую травму, факторы риска.
— Нет, обошлось. Вообще никаких травм.
— Как вы сами думаете, что могло послужить причиной… — она не сказала «криза», — вот такого вашего состояния?
— Если бы жена не вызвала «скорую», мы бы с вами так и не увиделись.
— Без необходимости она не стала бы вызывать «скорую», она ведь и сама врач.
От боли он стал болтлив, не хватит ли? Нет, не хватит, эйфория нашла, ребячество, приуныть он еще успеет.
— Теперь вы каждый день будете приходить ко мне?
— А вы раз в неделю заходите к своим больным?
У него бывают такие больные, что он от них не отходит. Устает, конечно, естественно. Но привезли его сюда не с работы.
— Интересно, что сказала жена в приемном покое?
— Спать вы легли после скандала, однако, уснули, потом, около трех часов ночи застонали во сне, потом… — она явно что-то пропустила, — из реанимации вас подняли сюда. Утром я пришла на работу и узнала, что хирург Малышев положен в мою палату с гипертоническим кризом. Мне даже как-то… не поверилось. Наверное, у вас были какие-то перегрузки в последнее время, отрицательные эмоции?
Были, черт возьми, были, но считать всю эту муть, мелочь причиной криза у хирурга Малышева — это абсурд, это все равно что зубра свалить метлой. Кстати, метла была, «играла роль».
Нет, нанизывать мелкие неурядицы, которые раздражали его в последнее время, он не станет, слишком для него ничтожно, смешно попросту!..
— Возможно элементарное переутомление, — продолжала Алла Павловна. — Ваша жена говорит, что вы в больнице с утра до ночи. И еще депутатские обязанности…
— Да ничего подобного! «Жена говорит». — Он фыркнул. Жена в панике может наговорить семь верст до небес и все лесом. — Я утомляюсь только от одного — от безделья! А работа моя хирургическая мне необходима, физиологически требуется. И депутатские обязанности никогда не были в тягость. Спросите, почему? Отвечу: потому что и там я кое-чего добился, и от этого удовлетворение, понимаете? — Он горячился, будто подогреваемый болью. И еще — присутствием Аллы Павловны. Не ожидал от себя.
Она кивнула, сказала:
— Иной раз увлеченность как раз и не позволяет заметить переутомление.
— Нет, Алла Павловна, только не работа. А жена… — он с досадой махнул рукой, — наговорит.
Живет она с ним без малого двадцать лет и толком его не знает. Вот отдал бы он концы ночью и кроме пошлости — сгорел на работе — ничего от жены бы и не услышали.
— А причину найдем, Алла Павловна, вместе с вами. Я буду называть, а вы будете оценивать: пойдет — не пойдет. Но прежде мне надо подумать, не так уж часто мне выпадало столько свободного времени. Найдем, Алла Павловна, не унывайте. — А она и не унывает, ты лучше о себе подумай. — У вас есть другие больные, вы сейчас пойдете…
— На сегодня вы у меня главный больной.
Зачем она так сказала?
— У вас есть другие больные, — повторил он, — вы сделаете, обход и потом зайдете ко мне еще раз. А я тем временем все обдумаю.
— Только, пожалуйста, не вставайте, минимум напряжений. Вот у вас сигнализация в изголовье, единственное, что вам разрешается, — дернуть за шнурок и высказать просьбу нянечке или сестре, очень вас прошу! — Глаза синие, темные, губы темные, румянец на щеках темный — такая знакомая. — Думайте о чем-нибудь хорошем, не травите себя.
— Хорошо, Алла Павловна, я буду вас ждать.
Она поднялась, а он снова ее придержал:
— Если ждать с большим нетерпением, это отрицательная эмоция или положительная? — Как мальчик, сам себе неизвестен.
— У вас легкая эйфория, Сергей Иванович, а потом будет…
— Ну и что? — перебил он. — Вы не ответили на мой вопрос.
— Если потом будет спад, вы не особенно огорчайтесь. А ждать лучше терпеливо, спокойно, я про вас не забуду.
Она вышла, стараясь не стучать каблуками, и тут же вошел сосед, он как будто пережидал в коридоре их беседу.
— Алла Павловна чем-то взволнована, — оповестил он, выговаривая каждую букву. — Совсем про меня забыла.
— Она еще зайдет.
И Малышев про него забыл, не заметил даже, когда он из палаты вышел.
Сколько же у него давление сейчас, двести? Сто восемьдесят? Почему она не сказала! Впрочем, здесь ты уже не коллега, Малышев, ты здесь больной и отношение к тебе соответственное — ложь во спасение.
«Больной хирург Малышев» — да это черт-те что, даже сравнить не с чем, до того нелепо. Гипертонический криз — как у семидесятилетнего. Выходит, сосуды склерозированы, утратили эластичность. А он-то думал — удар по затылку, недоумевал, почему не перевязывают, утром повязку пытался рукой нашарить. Теперь ему ясно и без Аллы Павловны — диагноз точный. Подвели сосуды. Она не спросила еще про алкоголь и курение пачками, полагая, что Малышев непорочен. Как говорили древние, порок — это не употребление плохого, а злоупотребление хорошим. Были у него и злоупотребления, и стрессы, и перегрузки, но, черт возьми, где же компенсаторные возможности крепкого организма здорового мужика сорока пяти лет? На что они потратились?! Передряги были, а у кого их нет, но не до такой же степени его встряхивало, чтобы повергать в криз. Да еще со «скорой», с реанимацией. Да еще «лежать, не двигаться», жить-поживать с помощью шнурка в изголовье. Кажется, всего ожидал, но только не этого. Лучшим вариантом для себя он считал катастрофу, к примеру, автомобильную, можно авиационную, хотя там нежелательно большая компания, стихийное бедствие, просто случай, кирпич наголову — куда ни шло, одним словом, нечто хирургическое, в крайнем случае остро инфекционное, чума, холера, хотя их нет у нас, грипп какой-нибудь новый, но только не пошлейший пенсионерский криз! Не ожидал он предательства от своих сосудов, прямо скажем. И уверенность была, что он себя преотлично знает. Нет у него слабых мест — и вот такой ляп!
Причины… Кто их нынче не знает, от академика до школьника все талдычат о стрессах. Причиной может стать острая психическая травма, контузия, нервное напряжение, неадекватная реакция на обычные жизненные ситуации. Избыток отрицательных эмоций, дефицит положительных. Перегрузки на работе, дома и даже в промежутке — по дороге туда и обратно. Медики крупных городов говорят уже о новом виде болезни — транспортный невроз.
Не мое все это, не мое! И тем не менее — лежишь вот тут и мы-ыслишь. Влип. И раздвоился. Один ты — сознание, воля, уверенность, и другой ты — тело. Тело — другое дело.
Не по его натуре криз, не по его темпераменту, не по его образу жизни, не по его окружению… впрочем, стоп! — об окружении надо подумать. Окружение как раз и есть та самая закавыка, которая… потом, лучше потом, лечащий врач просила тебя думать только о хорошем.
Оперирует он много, что верно, то верно, и ему так нравится, по душе ему ощущать власть — над смертью. Нравится ему отсекать болезнь, вырезать недуг. Решать судьбу человека. Сознавать себя богом — нравится. Можно допустить, что он увлекался, забывал об отдыхе, можно, но — незачем.
Он догадывался о причине — и не хотел с ней мириться, не хотел возводить ее в силу, способную повергнуть хирурга Малышева. И не хочет.
А на деле — поддался, опустился до мелочей. Когда это произошло? Мало-помалу, изо дня в день давило его и давило, а он вроде стоял, не гнулся, пока не ткнулся мордой в носилки да в красный крест на колесах.
Она не сказала, какое у него давление, видит, что перед ней развалина. Какое теперь имеет значение, двести у него или сто двадцать на восемьдесят? Попал в дерьмо — не чирикай, а он именно в дерьмо попал в самом прямом смысле — с этим придурком Витей-дворником. И лежит теперь перед красивой женщиной некое бревно, треснувшее от стресса.
Дурная все-таки манера, безграмотная, пора бы уже знать, что стрессы бывают не только отрицательные, но и положительные, и вторых не меньше, чем первых. У нормального человека, у счастливого, жизнерадостного положительных встрясок хоть отбавляй. Они и в большом и в малом. Удачное дело, доброе слово, встреча с другом, журчание ручейка, ветерок, солнышко — да бог знает сколько кругом положительного постоянно и каждодневно! Не говоря уже о глазах людей, которых ты лично спас. А любовь, кстати сказать? Тоже ведь стресс и еще какой, наверное, самый сильный.
Встрясок со знаком плюс у него куда больше, чем со знаком минус. Поставил точный диагноз — стресс. Закончил операцию — стресс. Да и на операцию он идет с огромным положительным зарядом — найти и отсечь очаг, избавить от боли, вернуть человеку надежду, возвратить к любимому делу, к дорогим ему людям.
Предательство — иначе и не скажешь! На пустом месте криз. Не с ним все это.
А с кем же, черт побери, с дядей?..
Оставить бы свое бренное тело здесь, а самому — лети без оглядки пока не поздно, пока не привык, не втянулся в болезнь.
А крылья где? Что поднимет, кто выпустит душу из тела? Лежи теперь и молись на шнурок в изголовье.
Непонятно все-таки, почему так принято все валить на работу. Есть, конечно, и немало таких, которые не любят свое дело, не на своем месте очутились, терпят до пенсии и полагают, с другими такая же история. Легкой работы для серьезного человека вообще нет. Легко ли ему оперировать? А другим, легко ли играть в футбол, допустим, в хоккей? Варить сталь, вести газопровод, доить коров, плести вологодские кружева, — все трудно. Даже песни слагать.
Волнуется ли он перед операцией? Да, естественно, как и потом волнуется, послеоперационный период значительно опаснее. И во время операции напряжен, само собой, каждый хирург знает, чем начинается банальный аппендицит, но никто не знает, чем он может закончиться. Даже панариций на мизинце чреват пакостью, бывали случаи, когда от царапины — летальный исход. Уронила портниха ножницы на колено — царапина, от нее сепсис, пока доставили, пока разобрались, начали антибиотики и в мышцу, и в вену — поздно, погибла, выходит, от пустяковой царапины. Рабочее волнение неизбежно, он привык переносить тревоги, и сосуды его привыкли, и сердце. Так какого же дьявола, спрашивается?
Депутатские обязанности тоже задают немало хлопот, но ведь и здесь логика, на то он и депутат, чтобы помогать людям. Чего стоило добиться, чтобы поставили ящики для мусора внутри квартала? А квартиры? Но ведь и результаты есть. Тому же Юре Григоренко выбил секцию в новой девятиэтажке. Или место в детском саду? Или ветерана войны обошли, к магазину не прикрепили? Еще и судебные разбирательства. Уйма всяких хлопот, — так ведь он добивается результата, выводит дело из тупиков и плевать он хотел на расхожее «разве чего добьешься?» — добьешься, если себя уважаешь, действительно депутата в себе видишь, власть, а не пешку. Его знают, и он не позволит, чтобы на его, Малышева Сергея Ивановича, слово и дело кто-то посмел бы глянуть сквозь пальцы, затянул бы бюрократическую волынку, ущемил бы его самолюбие.
Пойдем дальше. «Неадекватная реакция на обычные жизненные ситуации». У него адекватная. Хотя… тут надо еще подумать, что такое «обычная жизненная ситуация». Они все чаще становятся необычными, хотя и весьма жизненными. Цветы врачу, например, флакон духов или бутылка коньяка, — обычное дело вроде бы, а если вникнуть? Велика ли дистанция до конверта с ассигнациями? Именная путевка для Даниловой — обычная ситуация? Для него — преступление, идеологическая диверсия по меньшей мере, а вот главврач внушает ему, что так надо, обычное, дескать, мероприятие, тогда как на самом деле из ряда вон безобразие! И прореагировал он на путевку достойно, отчеканил телефонограмму в обком.
Он не любит молчать, не накапливает в себе гнев, досаду, он не из кротких смиренных, Малышева все знают, для хирургов вообще прямота и резкость — не редкость, и он тут не исключение. Копить эмоции, утаптывать их в мешок и туго-натуго перевязывать ему не приходится, гипертонии тут вырасти не из чего. И тем не менее… криз, так его перетак.
А может быть, ты всего лишь хочешь быть решительным и прямым, а на самом деле? Ведь совсем не редко приходится себя сдерживать, укрощать как необъезженного коня и все чаще в последнее время, между прочим, все чаще. Год от года и день ото дня. Действительно, дефицит растет — дефицит равновесия. То и дело какая-нибудь мура вышибает, не сразу и в себя приходишь. Взять того же Витю-дворника, или опять же путевку Даниловой? А еще Катерину взять, дочь? А еще…
Вчерашняя, к примеру, цепь дерьмовых событий — обычная ситуация или необычная? Жизненная или не жизненная? А реакцию его на всю эту муть можно ли назвать адекватной?
Смотря с какой, смотря с чьей колокольни глянуть. Во всяком случае, вести себя по-другому он не мог. И выходит теперь, что нормальная его реакция стала чуть ли не психической травмой. Да пошли вы все! Он действовал так в силу своего характера, по убеждению, в полном, в полнейшем согласии со своими принципами. Не сдерживал эмоции, а давал им выход. От этого только польза.
По сути — да, польза, а на деле — больница. Значит, перебор? Или накопилось прежде то, чего он осознать не успел. «Дефицит положительных эмоций» — опять нелепость, их всегда дефицит, иначе не было бы у людей жажды счастья, человечество так бы и застряло на стадии гоминоидов.
Давай все-таки самокритичнее, ты слишком самонадеян. Адекватным себя считаешь, нормально реагирующим, а твоя вспыльчивость? Ведь как порох вспыхиваешь, взрываешься дым столбом. А коли вспыльчив, то значит и груб, выражений сгоряча не выбираешь, впрочем, стоп — как это не выбираешь? Именно выбираешь. Из тех, что похлеще, поядовитее, чтобы пригвоздить, да и как не гвоздить, если перед тобой бездельник, разгильдяй, глухая тетеря? Отчитаешь, разнесешь в пух и прах, а потом ведь нередко каешься, самого себя начинаешь корить, когда отойдешь. Еще один дефицит — чего? Опять-таки равновесия.
Хочешь не хочешь, а вспоминай, перебирай, вникай. И оттого, что вчерашнее слишком мелко для криза, легче тебе не станет. Попытайся найти главное и скажи о своем выводе Алле Павловне. Иначе ты перед ней несмышленыш, младенец, у которого, как известно, анамнеза не соберешь, родителей надо звать и расспрашивать.
Он помрачнел, шум в ушах стал ощутимее. Потому что вряд ли что из вчерашнего он сможет рассказать Алле Павловне.
3
Ровно в семь утра он вышел из подъезда в синем спортивном трико с белой полосой, в кедах и с секундомером в руке. Слегка размялся и побежал вокруг квартала как и вчера, как и позавчера, как бегал вот уже почти пять лет — строго полторы мили или две тысячи четыреста метров. По системе доктора Купера из Техаса полагалось не просто пробежать, как получится, а за определенное время, по секундомеру, чтобы потом вывести очки. За неделю следовало набрать тридцать очков. Втянулся он далеко не сразу, усилий приложил немало, только на втором году бега начал выполнять норму.
Бежал он с удовольствием, ощущая крепкое свое тело, мускульную радость в ногах, в спине, в плечах, рассекая пространство, весь пружинистый, собранный, сильный мужик Малышев, и с каждым шагом сила не убывает, наоборот, растет, распирает мышцы; бежал размеренно и сосредоточенно, глядя под ноги, отсекая необходимость кого-то приветствовать, отвлекаться, а знакомых немало, в доме медиков сорок девять квартир, кто-то вышел за молоком в палатку на углу, кто-то в семь утра уже прогуливает болонку, а кто-то уже и на работу спешит. Он здоровался только с костлявым стариком из соседнего дома работников автотранспорта, старик тоже бегал трусцой каждое утро, в тюбетейке и в белом свитере, вокруг квартала по часовой стрелке, а Малышев стал бегать против часовой, чтобы не обгонять его всякий раз, деликатности ради, разные у них возрастные группы, зачем старику на нервы действовать.
Одолев полторы мили (называть расстояние в милях есть свой резон психологический, поскольку систему придумал американец), он остановил секундомер — семь минут пятьдесят шесть секунд, что равняется пяти очкам. Вполне довольный, направился он к своему подъезду, и тут появилось первое облачко на светлом фоне его настроения, облачко в прямом смысле — Витя-дворник начал уборку территории с дальнего угла дома медиков, и начал с таким усердием, будто на конце метлы его пришла в действие дымовая шашка. С дворником уже был разговор на тему мести пораньше и предварительно поливать, он то соглашался и приходил пораньше, то заявлялся в самый пик, приговаривая — как хочу, так и мечу.
Малышев не стал его дожидаться, беседа с дворником не входила сегодня в программу, каждая минута расписана, вошел в квартиру и — под душ, вода попеременно то горячая, то холодная, а мысли только хорошие, все дела предстоящие ориентировать только на успех. После душа включил магнитофон — каждое утро пятнадцать английских слов. Брился, одевался, завтракал, и все утренние действия его сопровождались английской речью, перебиваемой иногда русской, более громкой и не такой бесстрастной — Марина хотела обсудить с мужем то, что забыла обсудить вчера или надумала сегодня на свежую голову, хотя все дела у них принято было обсуждать накануне, за ужином втроем — он, Марина и дочь их Катя.
Жена обычно вставала ко времени его возвращения после пробежки, готовила завтрак, Катерина с вечера заказывала будить ее ровно в семь, утром, как правило, вставать отказывалась, и если Малышев начинал настаивать, Марина всегда принимала сторону дочери — пусть поспит. Сама она на всякую зарядку, разминку и, тем более, систему смотрела свысока, считала все эти прыжки-скачки не только несолидными, но и бессмысленными (что в общем-то теперь подтвердилось). Марина, хотя и сама врач, разделяет расхожее мнение — мужчинам делать нечего, вот они и выдумывают системы то бега, то дыхания, то сыроедения, то голодания. Однако мужу она не мешала, старалась соблюдать заданный им режим, английский изучать не хотела, но терпела, и только в исключительных случаях позволяла себе какое-нибудь нарушение, вот как сегодня, к примеру. Марина о чем-то заговорила, английская речь заглушала ее слова, тогда она подошла к мужу и сама выключила магнитофон, при этом, не зная, какую клавишу нажать, она энергично потыкала пальцем куда попало, пока магнитофон не щелкнул. Малышев только очами повел недовольно, а Марина в ответ очень громко вернула его к звучанию родной речи:
— Есть ли в этом доме мужчина?! Ты посмотри, что творится! — она схватила Малышева за рукав и потащила в спальню, будто мальчика ставить в угол, там в открытое окно слышалось звучное шарканье сухой метлы, а пыль клубом переваливалась через подоконник, лезла прямо-таки нагло.
— Когда это кончится, в конце-то концов?! Неужели ты, депутат горсовета, не можешь пресечь безобразие? Чем прикажешь дышать? А мебель? А постель? — Марина отпустила Малышева и с такой силой захлопнула створку окна, что весь дом загудел, а Малышев, взвинченный ее действиями — и вмешательством в английский язык, и ее криком, упреком, и звоном окна, да и клубом пыли тоже, быстро вышел во двор, обозленно пружиня шаг и почти побежал к дворнику, не собрав пока веских слов, но в избытке желая действовать.
— Сколько можно говорить?! — крикнул он на ходу. — Почему подметаете в неурочное время?! — Обозлился сам на «в неурочное»: — ведь не поймет, лучше ограничиться пустым криком: — Почему, черт возьми, я вас спрашиваю?!
Витя-дворник, худой мрачный мужик, не молодой, но и не старый, неопределимого возраста, серый весь — в сером халате, в пыльной кепочке блином, в кирзовых сапогах, медлительный, но остроглазый и крикливый не от души, а так, по-хамски, он частенько отпускал звонкие матерки возле врачебного дома, интересуясь, какой будет реакция, его будто скипидарили здесь, он как будто ждал, когда это бессловесное племя возмутится и как это будет выглядеть; долго ждал, наконец дождался.
— Когда хочу, тогда и мечу! — заорал он громче Малышева, не останавливая метлу и даже увеличивая ее размах.
— Почему хотя бы не поливаете прежде?! — Малышев вплотную подступил к Вите-дворнику. Мимо прошла бочком женщина, прикрывая ребенка зонтиком, на углу располагался детский сад «Солнышко» и дорога к светилу пролегала через тучу пыли.
— Прекрати безобразие! — вскричал Малышев, показывая на женщину с ребенком — Не видишь?!
— Не мешай мне работать! — криком повторил свое Витя-дворник. — Когда надо, тогда и мету! — И широкими размахами он трижды шаркнул туда-сюда, прямо-таки шваркнул метлой под ногами Малышева, норовя задеть его по туфлям и смахнуть самого крикуна. Малышев поймал ногой конец метлы, наступил, Витя-дворник дернул ее к себе, выдернул черенок, обозлился пуще прежнего и замахнулся на Малышева, намереваясь ударить или скорее всего напугать, но не на того напал, Малышев успел перехватить черенок, вертанул его обеими руками с такой силой, что Витя-дворник потерял равновесие и упал. Малышев переломил черенок о свое колено, отбросил обломки в одну сторону, а метлу отшвырнул пинком в другую.
— Не смей здесь появляться больше! — заорал Малышев вне себя. — Не смей подметать без полива! Иначе я тебе рожу сворочу!
С балконов дома медиков послышались голоса:
— Правильно, Сергей Иванович!
— В конце концов, мы сами будем подметать…
Витя-дворник плюнул, но уже осторожно, на свой сапог, и быстро пошел с таким видом, будто ищет камень потяжелее, чтобы ответить обидчику за сломанный инвентарь.
— Сейчас милицию приведу! — криком пообещал он. — Я т-тебе покажу. И-ишь, он мне рожу своротит, врач хренов.
Малышев пошел домой, тяжело дыша, он от бега так не запыхался, как от этой стычки. Возле подъезда на скамейке уже сидел Чинибеков и с ухмылкой читал газету, мятую, старую, но нужную — заворачивать бормотуху, он ждал открытия гастронома на углу, чтобы опохмелиться с тем же Витей-дворником в конуре под лестницей, где хранился всякий хлам. Ждал Чинибеков своего звездного часа и одновременно собирал материал для сплетен, слухов, подковырок, выискивая возможность — как бы, чем бы с утра пораньше испортить настроение то одному соседу, то другому соседу. Создавал микроклимат. Так начинал Чинибеков каждый свой день — бывший врач-хирург, сотрудник Малышева, ныне пенсионер, если говорить коротко. Они не здоровались, поскольку Малышев изгнал Чинибекова из больницы без суда и следствия, точнее, без суда, а следствие Малышев провел сам и установил, что Чинибеков берет взятки за операцию.
О том, чтобы дворник подметал как положено, Малышев уже звонил в домоуправление, но там оправдывались и притом непочтительно, сварливо, почему-то только так и принято разговаривать в домоуправлениях, такой тон у них вроде служебного, — дворников у них нет, кадров не хватает, никто не хочет идти в подметалы, все хотят в министры, так что Витя-дворник у них нарасхват, тянет на две ставки, так и сказано было — «работает за двоих», — но Малышев знал — от разгильдяйства у них нехватка кадров. Каждое домоуправление имеет свой фонд жилья для сотрудников, редкая возможность привлекать стоящие кадры, да видно разбазаривают, дают квартиры не тому, кому следует. В иных городах дворники весьма в почете, к примеру, молодой дворник из Киева стал даже делегатом Всесоюзного съезда комсомола, у него не только метла, но и кабинет свой и селектор для связи с жильцами — все для народа, а что у этого деятеля? Малышев и в горсовет звонил еще весной, когда пыль пошла, ему сказали, что готовится переход на прогрессивный метод бригадного обслуживания, тогда будет больше порядка и ответственности, но дворника, похоже, приструнили, стал он подметать пораньше, а потом, видно, надоело рано вставать и пошла пыль столбом в самый час пик, когда люди на работу идут, когда детей в садик ведут, причем, возле дома медиков он поднимал пыль с особым остервенением и матерки его слышны были на всех пяти этажах, наверняка его Чинибеков воодушевлял, не зря они пили вместе. Кстати сказать, рядом с врачебным домом стоял желтый дом работников автотранспорта, где жили, в основном, шофера, за ним серый дом актеров, горсовету как-то удалось три дома подряд заселить по профессиям. Возле шоферского дома Витя-дворник почему-то не хамил, не ругался, вел себя тише воды, ниже травы, а вот здесь…
Малышев вернулся домой, снова включил магнитофон — не ломать же режим с утра! — заметив при этом, что руки его дрожат. Марина попросила сделать потише, Катерина еще спит.
— А почему она до сих пор спит? — возмутился Малышев. — Когда же она будет готовиться к экзаменам?
— Весь день впереди, успеет, — отозвалась Марина. — Ты только успокойся, пожалуйста, не поднимай бурю из-за пустяков. Лучше послушай новость.
Он убавил громкость, сели завтракать. Малышев плохо слушал и английскую речь, и русскую, и Марина, видя это, повторила настойчивее:
— Ты слышишь, о чем я говорю? Жемчужный в ФРГ остался, попросил убежища.
— А-а, — Малышев брезгливо поморщился. — Туда и дорога. — Он знал Жемчужного лишь по слухам, да и кто его тут не знал, актер вроде бы неплохой, но Малышев в театре бывал редко, страсти-мордасти зрительские его мало трогали, тогда как Марина была театралкой завзятой, впрочем, как и Катерина, медом не корми, хотя у дочери интерес к сцене понятный — уже пять лет она занималась в балетной студии при Дворце культуры комбината.
— Как это туда дорога? — возмутилась Марина. — Все-таки известный артист.
— Провинциальные актеры — дерьмо, — пояснил Малышев, и театралку Марину это задело.
— А провинциальные хирурги?
— А хирурги, представь себе, золото. И ты отлично знаешь, почему. — Он имел в виду их работу на селе, и не один год. — Ну а в общем-то… — он попытался сдержать себя, — противно, конечно.
— Представляешь, каково у них там, в театре? — примирительным тоном продолжала Марина, тоже пытаясь не взвинчивать перепалку с мужем. — Да и вообще в городе. Ведущий актер, кумир публики, можно сказать, — и сбежал.
Новость рассказала Марине знакомая актриса, которая брала ей обычно билеты на спектакль. Обе стояли в очереди за молоком (палатка открывалась в шесть утра, очень удобно, весь околоток до выхода на работу, до открытия гастронома успевал запастись молоком. Между прочим, это Малышев добился, чтобы установили палатку), в очереди не разговоришься, отошли, актриса в халатике, в косынке на бигудях, неприбранная, сама на себя непохожая, одной рукой держит полу халатика, в другой бидончик; и когда отошли, она вполголоса, как о покойнике, сказала о Жемчужном: «Жена его просто в ужасном состоянии…»
— А ведь получала прилично, и квартира в центре, — продолжала Марина, — в сауну ходил, со всем начальством в друзьях, и всем свинью подложил.
Марина на острой теме любила почесать язык, тут чисто женское, манера такая Малышеву не нравилась, он отмалчивался, но иногда обрывал, если она теряла меру. В компании ей нравилась болтовня с критикой, социальная своего рода щекотка.
— Жена его еще перед гастролями ко мне заходила, — продолжала Марина. — Беременность была двенадцать недель. Каково ей теперь рожать? От кого? Будет ребенок предателя, отщепенца, кому он нужен?
— Матери нужен, — пробурчал Малышев, допил кофе, выключил магнитофон (отъезжающие тоже, кстати, изучают язык), с раздражением отмечая неважнецкое, если не сказать плохое, начало дня, в больницу поехал взвинченный, но по дороге отвлекся, заставил себя успокоиться, отмести эту пыль жизни, в отделение вошел собранным, уверенным в себе хирургом Малышевым, каким его знали не только здесь, но и в городе, не только в городе, но и в области. Впереди обход, назначения, процедуры, перевязки, нормальный рабочий ритм. Однако после пятиминутки опять пошла чертовщина, пригласила его к себе Кереева, главный врач, и попросила о серьезном, как она подчеркнула, деле — составить на Данилову достойную характеристику. Куда, зачем? Для приема ее кандидатом в партию.
— Не дам я ей никакой характеристики! — сразу вскипел Малышев.
А вскипел он потому, что Кереева хлопочет за Данилову не в первый раз, Малышев уже попадал впросак и повторять ошибок не хочет.
Два года назад в туберкулезном диспансере произошло чепе, случай из ряда вон, вспоминать тяжко — давали эфирный наркоз, а операция с термокаутером, с электроножом. Совершенно идиотская несогласованность между хирургом и анестезиологом! Электронож, искра, взрыв эфира, у больной оторвало легкие, остались трое сирот. Велось расследование и довольно долго, по городу мусолили, расписывали случай всячески, хотя и расписывать дальше некуда. Виновных как-то неопределенно наказали, хотя, по мнению Малышева, следовало бы отдать под суд всех причастных. Нарочно не придумаешь такой халатности, тут без языка, знаками можно договориться! Мало-помалу про чепе забыли в быстротекущей жизни, полной всяких случайностей, да и полезно забывать плохое, иначе от перегрузок на стенку полезешь. Потом Кереева попросила Малышева принять в свое отделение анестезиолога Данилову Регину Петровну. «Она с опытом, прошла специализацию в Ленинграде, у нее неплохая характеристика и вообще приятная женщина», — по всем статьям хороша. Малышев согласился, Данилову приняли, явилась она на работу в серьгах, в кольцах, и Малышев сразу же ей заметил, что в его отделении цацки носить не принято. Она послушалась, тут же сняла кольца и серьги, хотя видно было, что дама с гонором. И на первом же собрании, а было она накануне Восьмого марта, выступила и, не жалуясь, а вроде бы с юмором сказала, что она и в Москве была, и в Ленинграде была, в таких-то и таких клиниках, и нигде там смертность не увеличилась оттого, что врачи и сестры носят украшения, там даже мужчины, между прочим, с кольцами, не вводят девушек в заблуждение, и только в нашем отделении монастырь, женщина лишена своего личного счастья, — так и сказала. Выслушали ее сочувственно, посмеялись. Малышев не стал возражать ради женского праздника, пожелал всем хорошего отдыха, они отдохнули и все как одна явились на работу в серьгах и кольцах. Та же Кереева его похвалила, дескать, проявил гибкость и пошел навстречу пожеланиям коллектива. А потом Борис Зиновьев как-то при встрече сострил: «Покрываешь минеров-саперов, тылы готовишь?» Оказалось, Данилова и давала тот эфирный наркоз, Кереева знала, но Малышеву не сказала, а когда он явился к ней с возмущением, просветила — у нее муж в исполкоме ведает культурой, а также здравоохранением, ответственный товарищ и нужный, понимать надо, но не это главное, а то, что не ошибается тот, кто ничего не делает, не станем же мы теперь отнимать диплом, государство ее шесть лет учило, потом она две специализации прошла; работала, случилась ошибка, будем надеяться, последняя. Малышев сказал тогда, что государство ее учило спасать, а не убивать, но все это слова — слова запоздалые, если уж принял — следи за ней, воспитывай, тем более, что сам Данилов никогда не отказывал в помощи городской больнице и впредь не откажет. Если Регина Петровна будет работать в образцовом отделении, каковым является отделение Малышева Сергея Ивановича, то и сама станет со временем образцовой. Напрасно он пошел к Кереевой выяснять отношения, мог бы и сам предвидеть, чем разговор кончится, согласился терпеть Данилову, хотя и заявил: на ответственные операции брать ее анестезиологом не будет. Данилова в свою очередь сказала, что оперировать с Малышевым ей бы не хотелось — он деспот.
Прошлой осенью в Москве был Всемирный конгресс по гипербарической медицине, послали Данилову, она поехала с удовольствием, приехала, собрались послушать ее отчет, рассказывала она живо, подробно, подогретая общим вниманием. Жили они в роскошной гостинице «Космос», сервис на исключительной высоте. «Как нас встречали, обалдеть можно!» Об иностранцах, о женщинах — «одни уродины» — одеты, обуты просто, драгоценностей минимум, только серебро и камни, а наших за километр узнаешь по талиям в три обхвата — тут она прямо обращалась к Малышеву, желая потрафить его вкусу, — и далее, как иностранки пожирали бутерброды с икрой, а наши жеманничали. Жила она в одном номере с узбечкой, доктором наук, та ее просто извела: кто твой муж, да кто твой любовник, почему у тебя золота нет? «Я ей говорю, что золото под ружьем не надену, это не модно, мещанство, посмотрите на иностранок, а она только рукой машет: «Ай, бишара-бишара», — нищая, значит, несчастная». Юра Григоренко вежливо прервал поток ее ювелирной информации, спросил, какая была аппаратура на конгрессе, видела ли она барокамеру. Видела, даже «залезала» в нее и оценила так: «Говорят о ней много, но мнения расходятся, большинство считает, что пользы от нее мало, а вред большой. Не то в Ташкенте, не то в Чимкенте был случай, рассказывали, просто ужас! Барокамера взорвалась вместе с персоналом, семь трупов. Там же кислород под большим давлением!» Тут, наконец, Малышев подал голос, громко переспросил: «Вместе с персоналом?» — «Да-да, представляете, Сергей Иванович?» — «Это в высшей степени справедливо!» — воскликнул Малышев и далее рассказал сам, что знал о барокамере — метод прогрессивный и способствует успешному хирургическому лечению больных с повышенным операционным риском…
— Нужно дать рекомендацию, нужно, Сергей Иванович, — с нажимом повторила Кереева. — Вы не мальчик, Сергей Иванович, понимать надо, гибкость проявлять надо.
— Возражаю категорически. А если без меня дадите, выступлю на собрании с отводом, предупреждаю вас заранее.
Кереева насупилась, взяла сигарету, щелкнула зажигалкой, закурила, сказала сурово:
— Вы рассуждаете не по-партийному.
Малышев фыркнул — а вы — по-партийному?! — но сказал сдержанно:
— Почему мы не можем принять в партию достойного человека, к примеру, Григоренко?
— Ну вы же не мальчик, — повторила она колко. — В партию идут люди убежденные, а Григоренко, что ваш Григоренко? Приходит на работу в джинсах, здесь надевает приличные брюки, чтобы больных не шокировать, а домой снова надевает джинсы. Так он и коммунистом будет — от и до. У него джинсовая психология, у вашего Григоренко.
«У вашего».
— Но вместе со штанами он не снимает своей убежденности, своего честного отношения к работе, своей инициативы. А у вашей Даниловой ничего этого нет. Кроме своей руки наверху.
— А вам не кажется, что оттуда виднее, кого принимать?
— Нет, не кажется. Виднее тем, кто работает бок о бок с будущим коммунистом. Устав партии для всех един, и никому не позволено делить его на два этажа, для верхов и для низов.
Кереева часто-часто задымила сигаретой.
— Ваша принципиальность, Сергей Иванович, у меня вот здесь! — Она провела себе рукой по горлу.
— Ни я, ни вы, Марьям Хакимовна, не собирались рекомендовать ее в партию. Вам это навязали, муж, видите ли. Муж он ей дома, в постели, а в больнице он ей никто! И я не позволю, чтобы в моем отделении распоряжались без знания дела, в обход и меня, и вас. Мы с вами не пешки. Вам должно быть известно, в партию рекомендуют низовые организации, где хорошо знают человека по его работе, видят его гражданское лицо.
— Вы слишком много себе позволяете, — сварливо сказала Кереева. — С вами все труднее работать!
Малышев посмотрел на ее сигарету, подумал — зря он бросил курить.
— У меня время обхода. — Он показал ей часы. — Позвольте откланяться. — И вышел.
Но на обход не спешил, надо было прежде что-то сделать, выпустить пары. Пошел в свой кабинет, держа кулаки в карманах халата. Что-то надо срочно предпринять, иначе пропадет весь день, он не успокоится. Посидел с минуту за столом и — позвонил в обком, помощнику первого секретаря.
— Говорит Малышев, член КПСС, хирург городской больницы, депутат горсовета. Прошу вас записать телефонограмму на имя членов бюро обкома.
Помощник вежливо согласился.
— Слушаю вас, товарищ Малышев, записываю.
— Прошел слух, что в городскую больницу поступила…
— Слух? — учтиво переспросил помощник. — Может быть, лучше начать с факта?
— Нет, прошу вас записать буквально, как я говорю.
И сказал про путевку. Продиктовал свои телефоны, рабочий, домашний, поблагодарил помощника, только теперь успокоился и пошел на обход.
Но не надолго успокоился. Если уж замкнуло с утра, то будет искрить до вечера.
— А что с Кларой? Где Клара? — Малышев четко знал, кто из сестер дежурит, и не терпел, если делали замену без его ведома. Сегодня дежурит Клара, но на обходе почему-то Маша.
— Так ведь Клара в отпуске, Сергей Иванович, — с улыбкой на его забывчивость пояснила Маша. — Она в институт сдает.
— А улыбаться нечему! — одернул ее Малышев.
Кстати о Кларе. Он написал ей отличную характеристику, сам понес ее на подпись Кереевой, та прочитала, покривилась: «Вы прямо симфонию сочинили, — и красным карандашом, будто выжигая огнем, повычеркивала превосходные степени, пояснив свои действия: — Сестра как сестра». — «Позвольте мне самому судить, какая она сестра! — возмутился Малышев и бесцеремонно выдернул листок из-под красного карандаша. — Вы ее совершенно не знаете, извольте прислушиваться к мнению тех, кто знает. Она будет отличным врачом!» Клара окончила медучилище, работала а ауле, прошлым летом приехала поступать в институт, не набрала нужного балла и устроилась в горбольницу. Скиталась по квартирам, нуждалась, на дежурстве не расставалась с учебником и большую часть своей городской жизни проводила в больнице. Редкой самоотверженности девушка при нынешней лености и нерадивости ее сверстниц — внимательная, исполнительная, аккуратная, неутомимая. По всему видно, что она будет настоящим врачом, у Малышева и чутье, и знание, и наблюдение. «Тогда зачем нам разбазаривать кадры? — резонно поставила вопрос Кереева. — Вы идеалист, Сергей Иванович». Малышеву крыть нечем, действительно, ведь он теряет хорошую сестру, станет ли Клара врачом — еще вилами по воде, а он уже отделение оголяет. Но надо же позаботиться о судьбе Клары, черт возьми, мы обязаны воспитывать молодежь! Для Кереевой это не доводы, и оттого, что ему нечем крыть, Малышев вспылил: «Кадрами пусть занимается ваша кадровичка, вместо того, чтобы колготки продавать из-под полы!» Он и впрямь идеалист, судьбу Клары ставит выше нужд своего отделения. «Характеристика идет на бланке, за моей подписью, это ведь документ, Сергей Иванович, что они там про нас подумают? Вместо деловых качеств разводим турусы на колесах». Кереева была, в общем-то, неплохим организатором, деловой, жесткой, практичной, на слово никому не верила. Короче говоря, Клара получила две характеристики — за подписью главного врача и за подписью хирурга Малышева; он был уверен, что приемная комиссия его знает и рекомендации его придаст значение…
Сейчас он сказал Маше, чтобы после обхода она узнала телефон проректора мединститута Кучерова и выяснила, когда он там бывает, Малышев ему сам позвонит.
Обход — шествие, белый визит надежды в палаты, главнее событие в жизни отделения; и смотр, и своего рода парад. «Держитесь, братцы!» Обход сам по себе уже лечебная процедура, повышает у больных тонус, светлее становятся лица, ярче глаза — они надеются. И надежду их надо день ото дня растить словом и делом, от этого всем легче, и пациентам, и персоналу. Малышев замечал — при обходе больные одни, а при случайном взгляде на них, к примеру, из окна кабинета, когда они на прогулке или сидят га скамейке под окнами — совсем другие, серые, вялые, отрешенные.
В пятой палате лежит Лева Ким с абсцессом легкого, завтра ему операция. Если бы он согласился на нее полгода назад, ограничились бы лоботомией, удалением только доли, но Леве тогда было некогда, он заканчивал художественное училище, и некому было настоять, переубедить его, что лучше отложить диплом, чем лечение, хотя родители его люди грамотные, вроде бы культурные, отец экономист на комбинате, мать учительница. Лева защитил диплом по живописи на отлично да еще с похвалой, есть и такая оценка, и тут же — в больницу, сразу предложили операцию, а он сбежал. Смерти, говорит, не боюсь, наркоза боюсь, усну и с концом, не проснусь. Если бы можно было сбежать от абсцесса так же легко, как из больницы! Возили Леву в Москву, консультировались, привезли обратно — не убедили. Лева измотался, сил отказываться больше не было, он принял решение и сразу заметно успокоился. Но время-то шло, процесс не дремал, и теперь уже не долю, а целиком легкое приходится удалять. Сейчас Леве уже и наркоз не страшен, устал он отказываться, а усталость сродни бесстрашию.
— Значит, завтра, Сергей Иванович? — У него чистое матовое лицо, черные с блеском глаза, симпатичный юноша. — Значит, так: откроем, посмотрим, да? — Осторожно напомнил, чтобы хирург не отхватил лишнего.
— Правильно, Лева, откроем, посмотрим и удалим только то, что вредит. Ни грамма здоровой ткани, будь спокоен. Дружеские шаржи на всех сделал? А ну, покажи!
Обступили койку Левы, и он начал показывать карандашные рисунки на листах, наброски своих сопалатников, врачей, сестер, точно схваченные особенности лица, фигуры, не шаржи, а именно наброски, эскизы портретов.
— Молодец!.. Замечательно. — Нахваливали его и от души, и чтобы мобилизовать, собрать Леве силы на завтра.
— А я где? — самолюбиво спросил Малышев.
— Я напишу ваш портрет маслом, — пообещал Лева. — Потребуется несколько сеансов по часу, хотя бы, недолго. Сеанса три-четыре.
— Ого! Я за это время три-четыре аппендицита вырежу.
— Аппендицит дело временное, Сергей Иванович, а искусство вечно, — сказал Лева убежденно.
Вот такой у него милый пациент на завтра.
— Вечером, Лева, подготовка, тебе дадут таблетку, чтобы ты хорошо спал, а утром сделают укол, будешь спокоен и даже весел, — пообещал Малышев.
Вторым на стол завтра пойдет литейщик с комбината, у него аденома простаты, сорок лет мужику, но уже без катетера помочиться не может, опухоль сдавила, как он говорит, канал ствола. К операции он готов, ждет спасения без опасения.
Часа через два после обхода, в перевязочной Маша сказала Малышеву, что к проректору дозвониться невозможно, то занято, то не отвечает, а почему — ясно, начались вступительные экзамены, там такое сейчас творится!
— Вы же знаете, ваша дочь поступает.
Он-то знает, но откуда это Маше известно? Развесила уши.
— А за Клару, между прочим, похлопотать некому, родители у нее далеко, — добавила Маша через паузу, будто за дочь он хлопочет но-настоящему, а за Клару для отвода глаз.
Клара, между прочим, такой сквалыжности, такого тона базарного себе бы не позволила.
— Как это некому?! — повысил голос Малышев. — А мы с вами? Отделение, горбольница?
Неужели он похож на родителя, обивающего пороги начальства, проректора, ректора? Маша попыталась сделать гримасу, дескать, и отделение, и горбольница мало что значат, но под взглядом Малышева осеклась, пробормотала: «Да-да, я понимаю…»
Дома за ужином как раз об этом и пошел разговор. Марина и Катерина сидели за столом одинаково насупленные, похожие, как близнецы. А в чем дело? За сочинение, оказывается, Катерина получила четверку, а это уже опасно, чревато, тревожно, может так получиться, что злополучный один балл, которого вечно не хватает до проходного, именно здесь и потерян, на первом экзамене, тогда как Катерина рассчитывала потерять его на последнем — по физике.
— Если бы я получила пятерку, папочка, я не стала бы тебя ни о чем просить.
— А сейчас о чем намерена просить?
Может быть, и жестоко с его стороны, но не пора ли ей знать и учитывать его установку?
Сказать прямо дочь не решилась, но окольно все же сказала:
— Там родителей больше, чем абитуриентов. Только моих нет. И я этим горжусь. — Подумала и, чтобы отец правильно понял, осторожно добавила: — Что поделаешь?
Отец молчал.
— Слава Сорокин приехал писать сочинение на шестой модели. И весь фирменный, от и до. — Катерина вроде бы сменила тему, или же начала очередной заход издали.
— Что за шестая модель? — поддержал Малышев разговор. — Мопед?
Катерина злорадно рассмеялась.
— Папочка юморист. Это «Лада»! — воскликнула она. — Девять тысяч!
Непременно у них «Лада», будто словом «Жигули» они себе язык поцарапают.
— Таким везде дорога, — продолжала Катерина. — Отец — сила!
Сорокин — директор комбината, фактический хозяин города, ну и дальше что?
— Ты, папочка, правильно делаешь, что рассчитываешь только на мои знания, но прошу не пилить меня, если не поступлю. Знания сейчас не помогут. — И поскольку отец молчал, добавила громче: — Очень прошу!
— Я и не собираюсь тебя пилить.
— Ты и в школе ни разу не был за десять лет, — вмешалась Марина. — Зачем тебе в институт идти?
— Незачем, — в тон ей согласился Малышев.
Надо их пощадить, не отчитывать, обе они в панике и не знают, как к отцу подступиться. Наверняка до его прихода они обо всем переговорили, настропалили себя, учли все мелочи и закавыки, но почему-то не учли главного. Почему, живя с ним без малого двадцать лет, Марина так и не привыкла, не желает учитывать его принципы, привычки, склонности? Черт побери, она хорошо знает, что вилкой, к примеру, нельзя хлебать суп, что на голову не надевают сапог, но не хочет знать, что муж ее, хоть убей, не возьмется за дело недостойное да к тому же, по его мнению, бессмысленное.
— Справедливость, папуля, как всегда запаздывает. Сейчас не поступлю, потом будет поздно, все из головы выветрится. «Комсомолка» уже писала, что взяточники мешают поступить достойным. Заметь — не предположение «могут помешать», а утверждение — «мешают».
Она считает себя достойной, и в этом ее беда. Главная. А может быть, и его…
— Какой-то хапуга займет ее место, а мы будем молчать в тряпочку. — Марина налила чаю сначала дочери, хотя прежде сначала наливала мужу, затем себе, спросила: — Тебе наливать?
Он усмехнулся, кивнул. Далее мать и дочь заговорили между собой, показывая, что с отцом, как всегда, важные вопросы обсуждать бесполезно, мужчины в доме нет. Живут они вдвоем с Катей вполне автономно, тем более в критические моменты, — между собой заговорили, но явно для Малышева.
— Настенька еще не приехала? — спросила Марина, хотя ясно было, про Настеньку они все выяснили до его прихода, и тут просто продолжается психическая атака.
— Нет, Настенька до сих пор не приехала, — ответила Катерина таким удрученным тоном, каким говорят об отсутствии хлеба насущного, тепла зимой, спасительной прохлады летом. — И неизвестно, когда приедет.
Настенька — дочь профессора Сиротинина, завкафедрой госпитальной терапии в мединституте. Катерина с ней дружна по хореографической студии.
— Настенька на стажировке в Большом театре, — пояснила Катя отцу, неудобно все же оставлять его в стороне от их разговора.
— Вот что деньги делают. — Марина знает, что эта ее присказка мужу не нравится, но забыть она ее не может, ибо в ней — правда.
Дочь Сиротинина давно уже у них притча во языцех — Настенька ходит в английскую школу, вот что деньги делают, занимает первые места на смотрах — и опять деньги причиной.
— Ты как-то говорила, что она прекрасная балерина, — мирно сказал Малышев дочери, объясняя тем самым успех Настеньки.
— Бесспорно, талант, балерина божьей милостью, — с чужого голоса вдохновенно запела Катерина. — Что говорить, мамочка, танцует — обалдеть! Да и прехорошенькая вдобавок, видуха у нее не то, что у вашего выродка. Обожателей — стадо. Анастасия Сиротинина — звучит!
Марина ее прервала:
— Если сейчас уже стажировка в Большом театре, то будущее обеспечено. А начинается с малого — отец привел, отец попросил.
Неглупая вроде бы у него жена, но зачем так грубо, так в лоб упрекать его? И сколько лет уже он терпит галиматью — нет в доме мужчины, ни о чем он не хлопочет, ничего он не делает для жены, для дочери, для семьи. Временами действительно они будто врозь живут — от несогласия в простых вещах, от недопонимания. Ему всегда хотелось, чтобы она была девчонкой скромной, честной, доброй, грамотной, жизнерадостной, уверенной в своем будущем. Он постоянно хотел вести ее за собой, воспитывать, а значит, не потворствовать ее капризам. Благая цель, но как-то так получалось, что он не помогал ей жить, а мешал — и то не по ней, старо и пошло, и другое противно, не современно, и третье не в жилу и не в дугу. Выходило в итоге, что не отец с матерью ее воспитывают и не учителя, хотя и стараются, не щадя сил, — улица, брод, компашка сильнее и семьи и школы. Там свои кумиры, ориентиры, своя информация наперекор газетам, радио, телевидению, и каналы ее не поддаются контролю. Даже если дитя дома сидит, по броду не шляется, все равно не избавлено от влияния и воздействия. Будто в форточку проникает вирус, заражая юное поголовье неким зудом. И не частные, не одиночные случаи, а — пандемия зуда на особое тряпье, особые манеры, слова, мысли и чувства.
За Клару он будет хлопотать, а за дочь не желает, — не странно ли? Он что, не любит своего единственного ребенка? Любит, жалеет, и чем дальше, тем острее и беспокойнее. Но выглядит он — безжалостным. Потому что не хочет потворствовать ее заблуждению. Клара действительно станет врачом, по всей ее повадке видно, по ее серьезности, самоотверженности, по ее бессонным ночам у постели больного. Была ли у Катерины хоть одна бессонная ночь? Наверняка была — когда отец отказался доставать ей дубленку. От горя не спала. А в другой раз от радости — когда мать ей эту дубленку достала.
Катерина подала в медицинский только потому, что здесь помогут родители, у них много знакомых, особенно у отца, — и такой-то профессор, и такой-то доцент, а с проректором Кучеровым они в одной группе учились.
Катино будущее обсуждалось не один раз, еще зимой начались выяснения и прикидки, кем быть? «Почему обязательно врачом, почему, к примеру, не балериной?» — «Поздно». — «Но ты ведь с пятого класса танцуешь?» — «У них жизнь в искусстве до сорока лет, а потом сразу на пенсию». — «Будешь учить других. Уланова и в семьдесят лет танцует». — «Так то Уланова!» — «Ее тоже папа устраивал?!» Марина разъясняла мужу, что тогда были совсем другие времена и нравы, будто он этого сам не знает, теперь же родители словно взбесились и дети тут ни при чем, именно папы-мамы начали бешеную суету по устройству своих чад. Если бы не родители, процесс шел бы своим нормальным здоровым путем, как было в дни нашей юности. Выходило по ее логике, что конкурсы теперь — между родителями.
«У тебя призвание стать врачом?» — допытывался отец. «Медицина не балет, папочка, где нужны данные, врачом может стать всякий». — «Плохим — да, как и плохой балериной может стать всякая». Тема поступления любой ценой не снималась с повестки дня всю весну, чуть не каждый вечер по телефону одни и те же речи что у Марины, что у Катерины, советуются, учитывают чужие ошибки, заручаются поддержкой.
«Но почему, почему именно медицинский? — недоумевал Малышев в разговоре с Мариной наедине. — Ведь не выйдет из нее врач». — «Почему?» Да по всему, по равнодушию к своим куклам хотя бы, как это ни смешно. Они получают из года в год «Медицинскую газету», специальные журналы, популярное «Здоровье», и Катерина ни разу — он давно обратил внимание, — ни разу не раскрыла газету, не полистала тот или иной журнал, а это верный, вернейший признак равнодушия, ничто сугубо медицинское ее не интересует. И вдруг такой выбор. Почему бы ей в ПТУ не пойти, есть отличные профессионально-технические училища, через два года она будет работать, а это ведь куда интереснее живой и темпераментной девушке, чем заниматься зубрежкой целых шесть лет. Марина просто взбеленилась: чего она не видела в ПТУ, весь город на уши встанет, дочь хирурга Малышева в маляры пошла, в штукатуры! И тут же привела пример, как в каком-то строительном ПТУ девчонки поколотили подружку — за что? За то, что она отказывалась учиться нецензурной брани. «Так что ты ей сначала найди репетитора по матеркам».
Совсем не обязательно, говорил Малышев, идти ей в маляры, в штукатуры, Катерина любит одежду, тряпки, почему бы ей не стать закройщицей, модельером или там манекенщицей, внешность, манеры ей позволяют, выработала осанку в балете, а главное, она это любит. Всем журналам, кстати сказать, она предпочитает журнал мод, мусолит его, листает, наверное, с пятого класса. Вот и пусть идет в те сферы, которые ее интересуют, притягивают, зачем ей непременно врачом? Малышев насмотрелся на таких горе-специалистов, знает, как порой грубо ошибаются они в диагнозе, как трудно работать с такими, как тяжко слушать какую-нибудь растереху, которая ни в практике, ни в теории ни бе, ни ме, готов провалиться от стыда за нее же. Марина знает, работа врача — не синекура, надо отдать ей должное, здесь она с мужем согласна, но… не все же после окончания медицинского идут в больницы и в поликлиники, можно стать преподавателем, в институте есть разные кафедры, не связанные с практической врачебной деятельностью, фармакология, например, или биохимия, организация здравоохранения, санпросветработа — выбор широчайший, хоть кем она может быть.
«Зачем же тогда идти в медицинский, чтобы быть хоть кем, но только не врачом?» — «Ты не жалеешь свою дочь, единственную, между прочим!» — перескочила Марина на эмоции. Нет, черт возьми, нет, он-то как раз жалеет ее, да и себя, кстати сказать. Он предвидит, как все сложится дальше — в институт за нее хлопочи, позорься, унижайся, при распределении за нее хлопочи, позорься, унижайся, Катерина ведь ни за что не поедет куда-то, ей непременно захочется здесь остаться. А выйдет на работу — и там за нее хлопочи всякий раз в критической ситуации, а их всегда больше у тех, кто работает не по призванию. Поступит в институт, окончит и появится в медицинском мире еще одна Данилова. И опять под прикрытием Малышева…
Поужинали. Марина стала убирать посуду. Раньше он выходил курить после ужина, но теперь, вот уже четвертый месяц, не курит. С Первого мая.
— «Лада» шестой модели, — сказал Малышев с усмешкой. — Ты не знаешь, как пишется «винегрет», а шестую модель знаешь, зачем тебе такое знание? — Его задело, ко всему прочему, он действительно думал, что это какой-нибудь мопед, на машине дети не ездят. Хотя, какие они дети, если уже абитуриенты?
— У меня по русскому языку и литературе пятерка, папочка. И аттестат, к твоему сведению, четыре с половиной.
Помолчали. Все-таки ему непонятно, зачем ей нужно знать про модель, что-то в этом есть плохое, ему враждебное. Он невольно покосился на подоконник, где обычно лежали сигареты, пробормотал:
— Курить, черт возьми, захотелось… А завтра операция Леве Киму.
— Тебе надо отдохнуть, выспаться, — заботливо сказала Марина. Она легко, легче, чем он, могла сменить тему. — Ты сегодня устал немного, ложись пораньше.
— Да сдам как-нибудь, папочка, только ты не начинай курить из-за меня, — сказала Катерина. — Где наша не пропадала. Четверка тоже пока неплохо.
Ну что же, спасибо, дочь. Марина оставила посуду в раковине, вернулась к столу, присела, вытирая руки полотенцем.
— Что-то, наверное, произошло, Сергей, ты озабочен сегодня, — сказала она участливо. Если бы она не умела вот так легко перестраиваться, они бы, наверное, давно расстались. Он был благодарен ей за то, что она любой спор старалась закончить миром.
— Да так… — пробормотал он. — Всегда что-нибудь найдется.
С некоторых пор у него появилась задача — быть гибче, покладистее, всюду ему эту задачу навязывают — дома жена и дочь, на работе Кереева со своей Даниловой, на улице Витя-дворник. Будто сама жизнь трубит ему во все трубы: будь гибче, Малышев, гибче, ты не умеешь, совсем не способен гнуться, учти, тот, кто не гнется, ломается. И он пытается, он старается.
— А все-таки? — настояла Марина. — Выскажешь и сразу же легче. Ты же сам проповедуешь: не держать, не копить, иначе взрыв.
— Или опять закуришь, — сказала Катерина и фальшиво улыбнулась. Похоже, она училась у матери искусству примирения. Не так уж и плохо смирять себя. Сначала через силу, а потом и впрямь успокоишься. Он не стал ломаться.
— Кереева попросила, чтобы я дал характеристику на Данилову, на ту самую.
— Куда-нибудь за границу?
— Отнюдь. В партию, представь себе.
— И ты, конечно, отказался дать. — В голосе Марины легкий укор. Малышев в своем амплуа, всегда католик больше чем папа римский. — А может быть, напрасно это сделал? Я не понимаю, Сергей, что ты теряешь от этой характеристики? Зачем тебе приобретать еще одного врага, да еще сверху? Ты же знаешь, чья она жена? — Марина своего же напоминания испугалась. — До каких пор ты будешь таким принципиальным, таким пионером?!
— Наш папочка твердокаменный, — сказала Катерина, вставая из-за стола. — У меня здоровая, наследственность. — Она одернула кофточку, белую, трикотажную, и Малышев разглядел, наконец, синие буквы на уровне грудей, весь ужин они мозолили ему глаза, но он отводил взгляд, грудастая девица его дочь, хотя вроде бы и поджарая, и вот, наконец, разглядел — расправила как на афише: «I want a man».
— А ну-ка сядь! — зловеще, этаким бреющим полетом потребовал он. — Что у тебя написано?
— Где у меня написано?
Содрать бы с нее кофточку вместе с кожей!
— Зде-есь! — тыча себе в грудь пальцем, пояснил он.
— Просто знаки.
— Не знаки, а слова, черт побери! — «Ай вонт э мэн» — как переводится, знаешь?
— Да какое это имеет значение? Просто фирменные знаки, а кофточка единственная, такой в городе ни у кого нет. — Для нее это очень важное оправдание — уникальность творения.
— Не сомневаюсь! Единственная! И написано на ней: «Хочу мужчину»! — Он так заорал, что Марина непроизвольно закрыла уши.
Когда он негодовал, голос его звенел от ярости, они пугались его бешенства, напора, дочь бледнела, не могла слова сказать, столбенела, а жена беспрестанно поправляла прическу то одной рукой, то другой, вскидывая округлые локти, будто оберегаясь, как бы он не вцепился; если уж мозги потрошит, так хотя бы прическу не тронул.
— Вон отсюда! Сними эту пакость, чтобы я ее больше не видел!
Катерина вышла, приподняв плечи и напрягая спину, словно защищая себя от летящих вдогонку булыжников. Не стала перечить ни словом, ни вздохом. Он чуть остыл, сердито выдохнул через ноздри и снова глянул на подоконник жадно, ищуще.
Марина отвернулась к раковине, начала мыть посуду и выставлять ее на стол сначала тихо, а потом со стуком по нарастающей, каждая чашка, ложка, вилка стучали все громче и громче, свидетельствуя о нарастании ее решимости.
— В конце концов это естественно, — сказала она хриплым от возмущения голосом, вступаясь за свою безропотную дочь. — В восемнадцать лет хотеть мужчину. Если уж на то пошло.
Воистину ж-женская логика! «Гибче надо быть, гибче!..»
Она знала его характер, зорко замечала его усталость, предвидела вспышку его раздражительности, приноравливалась, не перечила и умела его успокоить. Но сегодня она сама не в себе, ее встревожила четверка за сочинение, шансы поступить уменьшились на один балл, риск остаться за бортом увеличился на столько же, а союзника в лице мужа она не нашла. При первой же неудаче он наотрез отказывается помочь семье, ведь поступление Катерины в институт дело не личное, а сугубо семейное.
— Вечно ты активничаешь, лезешь в любую мелочь, Сергей, ты неуживчивый, а неуживчивый, само слово говорит, сам не живет и другим не дает.
— Запела уже под музыку Бориса Зиновьева!
— Все требуешь-требуешь, но должна же быть мера, в конце концов.
— Требую элементарного приличия, черт возьми. «Мера». В порядочности меры не может быть.
— Нет, может. Сам же говоришь, наши недостатки есть продолжение наших достоинств.
Гибче надо быть, гибче. Чего, спрашивается, разорался? Надо было сделать замечание спокойным тоном, как-нибудь с усмешкой, с юмором. Может, она и вправду не знала перевода, не вникла в знаки-зодиаки.
Он молчал, но Марина уже молчать не могла.
— Если эта путевка пресловутая послана сверху, значит, она согласована, сверху виднее. Ты же возомнил себя выше всех, хозяином себя считаешь над всем и вся. На кофточку уже набросился.
Скорее всего, кофточку уникальную она же сама и достала с помощью какой-нибудь добычливой своей пациентки, у Марины их чертова уйма.
Еще одна закавыка — никак он не мог понять, почему девицы и дамочки так обхаживают женскую консультацию? Там ведь не парикмахерская, не маникюр-педикюр, не кулинария, не ателье, чьи услуги нужны женщине часто, почти повседневно, к гинекологу ведь обращаются по случаю вполне определенному, далеко не каждый день и даже не каждый месяц. Тем не менее Марине вечно по вечерам звонят, а то и по утрам и все по делу. И подношения, подношения, цветы в квартире не выводятся, тошнит его от цветов, от хрусталя в глазах рябит, коробки духов штабелями, из чеканки уже можно танк сделать. Рождаемость, между прочим, падает, а жена его все несет и несет дары, как породистая несушка яйца. Другой бы радовался на его месте, а он лишь ужесточает требовательность. В его отделении всякие подношения караются и притом обоснованно, цветы — это контейнеры для микробов, нарушение асептики и антисептики, а насчет духов он придумал хотя и кустарный, но все-таки афоризм: духи, как всякая взятка, ублажают тело и разлагают душу.
— Во все вмешиваешься, всех упрекаешь, — продолжала Марина, решив выдать мужу все, что скопилось. — А Борис между тем прав: ты борешься, не щадя себя, изо всех сил стараешься утвердить лозунг — из унитазов не пить. Без тебя этого, конечно, не знали бы. На кофточку уже набросился, нашел объект.
Он вдруг представил — вот так же за столом, в другой абитуриентской семье, между людьми порядочными, добросовестными, идет сейчас разговор о том, что сын Сорокина приехал в институт на «Ладе» за девять тысяч, а дочь Малышева явилась в кофточке «Хочу мужчину».
— Бедлам! Маразм! Бар-дак! — Изо всей силы, с размаху, как метлой, он шваркнул по столу, и вся посуда, все чашки-ложки со звоном и грохотом — об стенку и каскадом на пол. Вскочил, отбрасывая табуретку, — и прочь, подальше, ко всем чертям! Навстречу перепуганная Катерина из своей комнаты, уже без кофты, ее счастье, в халатике.
— Папочка, папочка, ты чего?!
Он выскочил в прихожую, заметался возле входной двери, на кухню прошел, обратно вернулся, здесь он похаживал обычно прежде и курил после ужина. «Спокойнее, черт возьми, гибче!» В ушах шумело, во рту пересохло. Ну вот что сейчас люди подумают? О нем, о его семье?.. Слышал, как мать с дочерью, ни слова не говоря, осторожно, стараясь не звякать, собирали с пола осколки. По радио на кухне бормотали прогноз погоды — тридцать-тридцать два градуса без осадков. Услышал еще какое-то бормотание, показалось, холодильник слишком громко урчит — нет, холодильник молчал, он вернулся к входной двери, прислушался — шорохи, возня, будто кто-то красит с той стороны сосредоточенно, деловито и притом мурлычет: «Все могут короли, все могут короли…» Малышев выдернул дверную цепочку, она скользнула по желобу с коротким, как выстрел, звяком, рывком дернул на себя дверь, в лицо ударила вонь, будто он опрокинул бочку с дерьмом, и увидел Витю-дворника на корточках, пыльную его кепочку, серый халат, кирзовый сапог, а возле сапога пакет из полиэтилена. Брезентовой рукавицей Витя доставал из пакета нечистоты и мазал дверь его, квартиры Малышева, входную дверь. Появление хозяина дворника не смутило, но поскольку дверь отошла, Витя по-гусиному переставил ногу через порог, не переставая мурлыкать: «Не могут короли жениться по любви», и еще мазнул по двери очередной порцией. Малышева словно током ожгло, он тигром перескочил через дворника. «Как ты смеешь, подонок?!» — схватил его обеими руками, словно щенка за шерсть, и отшвырнул от двери мощнейшим толчком, вложив в него всю злость, ярость, оскорбленное самолюбие. Дворник пролетел четыре ступени серым мешком, рукавицы попадали на лестнице, и он головой вперед, выставив защитно руки, ударился о дверное стекло подъезда, стекло треснуло, со звоном осыпалось.
— А-ай! О-ой! — нутряным голосом завыл дворник. — Убивают!
На шум выскочила Марина, открылась дверь соседней квартиры, появился Женька, школьник, за ним выглядывала перепуганная шумом его мать. Дворник, не переставая громко айкать и ойкать, развернулся и сел, увидел кровь на руках и начал водить ладонями по лицу, размазывая кровь, живописуя картину своего измордования.
— Принеси воды, — распорядился Малышев спокойно, вся дурь мигом вылетела из него.
Марина вынесла ему стакан с водой и, семеня по ступенькам, стала спускаться к Малышеву.
— Ведро воды! — потребовал он, и Марина тут же поспешила обратно, держа перед собой стакан, от растерянности боясь его расплескать. Женька оказался поворотливее, вынес ведро, Малышев обмыл дворнику руки, тот мычал пьяный в стельку: «Все могут короли», плеснул ему на лицо водой, смыл кровь. Марина вынесла лейкопластырь и стерильный бинт, он тщательно перевязал тому руки, остановил кровотечение. Тут уже появились соседи, пока он его обхаживал, и сверху с лестницы послышался вкрадчивый голос Чинибекова:
— Сами лечим, сами калечим.
Поразительна его вездесущность, где бы что ни случилось, он тут так тут, постоянно пьян, но всегда все видит, слышит, запоминает.
Дворников пакет валялся на ступенях, драный, мятый, виднелись облезлые буквы «Marlboro» — и тут фирма! Дворник сидел на мокром полу, свесив через колени руки в белых бинтах, похожих на перчатки, прямо-таки боксер между раундами.
— Что случилось? — слышались голоса.
— Откуда такая вонь?!
— Да это товарищ Малышев, наш депутат, — охотно объяснил Чинибеков. — Нанес телесные повреждения.
— Как вам не стыдно! — набросилась на него Марина. — Посмотрите, как он всю нашу дверь измазал.
— Милицию надо было вызвать, — посоветовал кто-то. — Дружинников. Нельзя прощать безобразий.
— Вставай! — приказал ему Малышев. — Дерьмо за тобой смывать будем.
Чинибеков подошел к дворнику, помог подняться и повел его, приговаривая, чтобы все слышали:
— Я с тобой, Витя, мы это дело так не оставим, Витя, я свидетель.
Малышев, уже совершенно спокойный, молча прошел в квартиру, сбросил мокрые шлепанцы в таз и босой вышел с ведром воды мыть подъезд. Догадливый Женька вытащил скатанный колесом резиновый шланг, бабка его по вечерам поливала из окна цветочные грядки. Малышев натянул конец шланга на кран в кухне и минут пятнадцать хлестал водой по двери, по полу, по ступеням подъезда, пока не смыл все, не вычистил, после чего вышла Марина и опрыскала дверь, стены, ступени югославским (тоже дареным) дезодором, таким едким, что аромат его наверняка поднялся до пятого этажа.
Затем он тщательно помылся в ванной и пошел в кабинет с определенной целью. После того, как бросил курить, он недели две держал на столе раскрытую пачку «Космоса», вырабатывая равнодушие, подавляя в себе искушение, а потом то ли выбросил в мусорное ведро, то ли сунул в ящик стола. Кажется, все-таки оставил, кощунственно выбрасывать курево в мусор, а если нет, придется втихаря обратиться к тому же Женьке, попросить сигарету. И не одну, а как минимум три. Он решил закурить твердо, уже не отговаривая себя. Открыл нижний ящик письменного стола, где лежали обычно конверты, зажигалки, батарейки, авторучки, и увидел синюю пачку «Космоса». С удовольствием выкурил сигарету, прошел на кухню к открытому окну и выкурил вторую. Кереева в сущности права, сказав, что зря он бросил курить, только чаще стал повышать голос и еще больше во все вмешиваться.
Появилась Катерина в длинном халате, черном, с красными цветами, японском, и беспечным тоном спросила:
— Папочка, можно с тобой поговорить на отвлеченную тему?
Наверное, ее послала мать, успокоить буяна. Он закурил третью уже сигарету, дочь и бровью не повела и продолжала тем же легким тоном, как будто ровным счетом ничего не произошло, и непохоже было, что она притворяется, для нее и в самом деле ничего такого особенного не случилось, она так и не вышла в подъезд, возможно, не слышала, впрочем, вряд ли, просто училась себя сдерживать — не у отца училась, а у матери. И на сигарету его нуль внимания. Да она и сама закурила бы, если бы отец предложил за компанию, она наверняка покуривает, не может она пропустить ничего модного, современного ни в одежде, ни в поведении. Но он ей никогда не предложит, будь ей не семнадцать лет, а хоть сто семнадцать, не повезло ей с отцом.
— Понимаешь, папочка… — она сделала умненькое лицо, чуть сдвинула тонкие материнские брови и голову склонила набок. — Ты ведь сам говорил, что вся наша история, — (за ужином у них бывали иногда своего рода семинары на разные темы, когда у Малышева выдавался свободный вечер), — это нужда и выдержка, самопожертвование во имя великой цели, и только в наше время открылась для народа возможность жить лучше, богаче, удовлетворять свои потребности, и все это в политике нашей партии, ты сам говорил, вместо чувства долга сейчас жажда счастья, время такое. — Этого он, положим, не говорил, а если и говорил, то скорее в осуждение. — У всех жажда иметь хорошие книги, хорошие вещи, и это естественно, нельзя же нам умышленно продолжать жить в нужде, ты согласен? Раньше ничего не было, мы терпели, сейчас все появилось, так зачем себя ограничивать, для кого это все производится? Когда все есть, закономерен выбор, погоня за редкой вещью, это увлекает, пора нам жить красиво, по-новому. Ты должен согласиться — вместе с научно-технической революцией изменяется и старый быт, и нравы, и мода в одежде. Все хотят выглядеть оригинально, а ты волнуешься, будто мы с мамой делаем преступление против человечества.
Неглупая у него дочь, логично говорит, доказательно. Мог бы он и порадоваться, если бы… Пока он перевязывал Витю-дворника и смывал дерьмо, она сидела, уединясь в комнате, и собирала доводы в свое оправдание. «Жить красиво, по-новому». Все у нее красивое, новое и прежде всего — невнимательность, черствость, бездушие, — самое новое, последний крик!
— Ты, папочка, не волнуйся, у молодых сейчас идет переоценка ценностей, этот процесс изучается, но пока не все ясно…
И ни слова о дворнике, о мерзком эксцессе, как будто она ничего не знает, не слышала, не нюхала, наконец, — ни слова. У нее своя забота. Защищается до последнего патрона, молодец у него дочь, только с победой она пойдет спать, а ты, папочка, не волнуйся.
Оказывается, можно и так прореагировать, как его дочь, и так можно оценить происшедшее — то есть никак. Что же, ему пример. Надо спокойно ложиться спать, уже поздно, а завтра две операции…
Вот так прошел день, вроде бы день как день, не выходной, не отпускной. Чего-то в нем больше, чего-то меньше, плюсы свои, минусы, — день жизни.
Но не слишком ли часты стали у него такие дни? Как будто собирается нечто, накапливается, сбивается в сгусток дурной силы, а потом шарахает то там, то здесь, сея раздражение, недовольство, разладицу. «Вместо чувства долга сейчас жажда счастья…»
Он выкурил еще сигарету и пошел в спальню. Марина уже спала в белом сугробе постели, слабо светил голубоватый ночник, она открыла глаза на его шаги, блеснули белки глаз, пожелала ему липким шепотом: «Спи спокойно…» — и повернулась на другой бок. Он лег, задремал, вроде бы уснул, прокручивая кино в подъезде, и проснулся в больнице.
4
Перед обедом пришел парикмахер, хроник-язвенник, и побрил Малышева. Марина впопыхах не догадалась положить ему ни бритву, ни зубную щетку, спешила погрузить его, пока жив, и довезти до больницы. После парикмахера зашел заведующий отделением, представительный казах, бесстрастный, спокойный, пожал руку Малышеву и сказал, что ему звонил Харцызов, председатель горисполкома, и справлялся о здоровье Малышева. О звонке завотделением говорил спокойно, как о неизбежной процедуре при госпитализации, он привык уже, к нему кладут ответственных товарищей, и родственники, естественно, мобилизуют других ответственных на авторитетные звонки — озадачить персонал, призвать, обязать и прочее. Еще одно веяние времени, раньше такого не было, а теперь стало обычаем, Малышев по своей работе знает — родственники почти каждого больного стараются, заручиться поддержкой влиятельного человека или учреждения, стараются выйти на знакомых Малышева, но непременно позвонить, напомнить, не думая при этом, что звонки в сущности говорят о неверии персоналу, как бы уличают его в заведомой недобросовестности. Не позвонишь вовремя, так и стащат больного в морг, что называется, не глядя. Можно при желании понять просителей, ходатаев, человек обезличен в потоке больных, поэтому, хотя бы в критическую минуту, необходимо его обозначить. Но даже если поступает «обозначенный», кто-нибудь известный, звонков еще больше со всякими-такими просьбами, предостережениями, а то и угрозами — смотрите там! Одним врачам звонки тешат самолюбие, растят чувство самоуважения — вон кто мне звонит, вон кто меня просит, — другим же звонки мешают, возмущают их недоверием к медицине вообще и к ее служителям в частности.
После завотделением пришла старшая сестра, высокая красавица с черными глазами, представилась: «Меня зовут Макен», и опять о звонках — из глазной больницы, из областной газеты, из женской консультации (тут уже Марина постаралась да и не только тут), — все беспокоятся о состоянии здоровья хирурга Малышева.
— И вам тоже звонили, — сказала Макен седовласому соседу. — Из театра, передавали привет и наилучшие пожелания.
— Спасибо-спасибо, — торопливо поблагодарил ее старик. — Я жив, я здоров, только, пожалуйста, никого ко мне не пускайте! Кроме жены и двух актеров — Ковалева и Астахова. — Он явно заволновался. — Больше никого, прошу вас. Ни в коем случае директора, избавь нас бог от этаких друзей. Предупредите на вахте или на проходной, как это у вас называется. Пожалуйста, не перепутайте — только жену и актеров, если придут, Ковалева и Астахова.
Сосед его, видимо, актер и попал сюда скорее всего в связи с Жемчужным. Еще одно следствие «жажды счастья».
— Хорошо, Константин Георгиевич. Я знаю вашу жену, она уже приходила, и Ковалева знаю, и Астахова, да всех, весь театр. В школе я сама чуть не стала актрисой.
— У вас отличные внешние данные, — сказал старик бесстрастно-любезно.
Она поблагодарила, но темой не увлеклась и ни слова про Жемчужного — замечательная сестра. Вот такие и должны работать в больнице, тактичные, сдержанные, неплохо бы и с внешними данными, как у Макен.
— Какие у вас пожелания, может быть, есть претензии к нам? — спросила она с обезоруживающей улыбкой.
Малышев ответил, что никаких, а сосед опять повторил, чтобы не пускали директора.
— Только, пожалуйста, не перепутайте!
Макен обещала, белозубо улыбнулась и вышла.
«Мои сестры улыбаются редко», — отметил Малышев как недостаток.
— Радио вам не помешает? — спросил сосед.
Малышев помедлил, сказал:
— Помешает. Ливан, Бейрут, бомбежка.
— И беспомощность объединенных наций. Понимаю вас, досадно. — Старик лег неслышно, койка даже не скрипнула, заложил руки за голову и уставился в потолок. — История, к сожалению, ничему не учит… А вы постарайтесь сосредоточиться на чем-то светлом, что-нибудь из молодости вспомните. — Он положил себе платок на лицо и ровно засопел.
Что же, угадал старик, молодость его действительно была светлой — от белого халата и самонадеянности здорового человека. Началась его жизнь с больницы — палаты, халаты, анамнезы, глаза больных с мольбой, с надеждой, со страхом, искаженные болью лица и голоса, — и твоя власть, твоя нужность и твоя значительность. Но вот развернулось нечто, перевернулось нечто — и ты уже пациент. В той же самой среде, но совсем в другой, в противоположной роли, а она невыносимо скучна, бессмысленна, не думал он прежде, что это так плохо — болеть, значит, его больные хорошо перед ним держались. Какое у него сейчас лицо? Ломит глазницы, ломит затылок, тошнит… Индусы делят одну свою жизнь на несколько, четко осознают границы, дробят целое обоснованно и для себя убедительно, и живут дальше с новой надеждой и с новой задачей. Наверное, и у него кое в чем отчетливо началась вторая жизнь. Там была боль извне, а теперь вот — изнутри, там — смотрел, а здесь — терпи и не показывай. И как все это продолжится, чем все будет оправдано, пока неизвестно.
Вошла сухонькая седая старушка, халат внакидку, согбенная, но голову держит прямо, она будто привыкла нести тяготы, не сдаваясь. Сосед бесшумно поднялся, и они пошли на балкон — «чтобы не мешать вам», — прикрыли двери, однако слышно было, что заговорили о чем-то весьма важном, серьезном, особенно горячо и непримиримо говорила старушка — ну зачем? Малышеву хотелось крикнуть туда, за дверь: «Хватит! Говорите о пустяках!» И как врач щадил их, и уже как больной.
Многое меняется от боли, если не все, от угрозы конца тонут различия между абстрактным добром и злом, одно зло остается, конкретное — боль. Слепая, нежданная, неподчиняемая и более всего несправедливая. Выравнивает, а то и переставляет значения, нагло делает правыми тех, кто спешит жить, кто насыщает каждый день счастьем подлинным или мнимым, — не все ли равно? И дочь его права, а он — нет со своими требованиями урезать радости. И Витя-дворник прав, скрашивая свои серые дни бормотухой. «Этот процесс изучается, но не все еще ясно», — сказала Катерина. Ему теперь ясно, видно ему из той щелки, что оставила боль, — живи, дочь, как хочется, больше радуйся и прости меня, грубияна…
Старушка ушла, сказав Малышеву: «Всего доброго, будьте здоровы», голова седая и лицо белое, а глаза черные, ясные, они многое повидали и не померкли, нельзя ее называть старушкой — женщина. Сосед тихо опустился на койку.
— На свете счастья нет, но есть покой и воля. — Он прикрыл глаза опрятно сложенным носовым платком. — Прошу обратить внимание, доктор, — древний способ согревать переносицу при бессоннице. Дарю вам на память.
Малышеву согревать переносицу нет надобности, сейчас ему лучше пятки согреть, чтобы кровь от головы отлила и он бы перестал думать.
— Гений есть дар преодолевать лихую годину, — отчетливым баритоном продолжал сосед, настроенный на бодрый лад беседой с женой. — Если один стал слишком свободным, другому обязательно будет слишком тесно. Преодолеем? — У него, видимо, тоже была своя система. — Спите, доктор, покой и воля.
Малышев закрыл глаза, в ушах стучал пульс, гулко, как метроном, подушка будто полая, он то дремал, то снова просыпался, кровь распирала череп, плыли цветные круги и тошно было, муторно, мешанина в голове и досада на себя, на свое тело, на предательские сосуды…
Появилась Алла Павловна, вошла с улыбкой, Малышев не дал ей и слова сказать, заворчал:
— Где вы так долго ходите? Жду вас, жду. Садитесь рядом и никуда не ходите.
Она подвинула стул к его постели и села близко, он ощутил ее тепло.
— Значит, лежали и сердились на своего лечащего врача?
— Лежал и сердился.
— Вам звонил Петрищев, знатный металлург, Герой Соцтруда и просил, чтобы вы на меня не сердились. — Легко говорит, как со здоровым, а он насупился.
В свое время Петрищев попал под такую травму, что Малышев еле его собрал, но дело не в этом. Дело в том, что Марина с утра сидит на телефоне и обзванивает, черт побери, всех, иначе откуда бы сразу могли узнать и в горсовете, и на комбинате, и в глазной больнице? Вот манера! Названивает, вымогая сострадание к своему мужу, будто сунули его в клетку с тигром, спасите его, помогите. Если уж так, вы бы лучше тигра поберегли. Подняла, конечно, на дыбы свое застолье, а у тех в руках все вожжи города, все пульты слухов, сплетен, прогнозов. Для Малышева тут, кстати, немалый фактор риска того самого, патогенного. Собирала она застолье по праздникам — ни одного врача, ни одного родственника, только лишь нужные, только энергичные люди — завсекцией из ЦУМа, директор гастронома, ключевые дамы из ковровой артели и из книготорга, закройщица из Дома моделей, тут же какой-нибудь нужный командированный из Алма-Аты или, еще лучше, из Москвы. Их скрепляло, цементировало сознание своей взаимополезности. Да и престижно собираться у Малышева, известного хирурга. Слава богу, мужа она от застолья освобождала. Говорили они о рецептах пирогов, пирожков и пирожных, о масках против морщин, тасовали городские слухи, кого снимут и кого поставят — «а он такой самодур», — над столом так и плавали пальцы в кольцах и каждое рассмотрено и обсуждено — цена, проба, фирма, модно-не модно. Он не терпел их ритуала, радения, одних и тех же разговоров, вернее, одних и тех же акцентов. Марина иногда приставала: «Зайди, хоть поздоровайся с людьми», — и он заходил, если выпадало благодушное настроение, мог и посидеть с ними минут пять-десять и даже снисходил до понимания — им легче жить в таком содружестве, у них от этого тверже уверенность в завтрашнем дне. Легче жить, думал он в спокойном состоянии; легче хапать, думал он, усталый и раздраженный. Марина лисичкой подъезжала к нему, угодничала, подмазывалась, чтобы он не разгонял их честну́ю компанию, и он терпел, только в одном был тверд — не ходил в сауну, хотя Марина до смешного упрямо напоминала: сходил бы в сауну, Борис тебе сделает. Он фыркал на ее рваческое «сделает, провернет, устроит», будто Борис там мойщиком, парикмахером, вахтером, или мастер спорта международного класса. Она и сегодня наверняка подключила Бориса, теперь жди: вот-вот раздастся звонок из Минздрава СССР или из Всемирной организации здравоохранения.
Алла Павловна измерила ему давление и опять ничего не сказала. Но в молчанку она пусть с другими играет.
— Сколько? — потребовал он.
— Сто двадцать на восемьдесят.
Он по глазам ее видел, что больше, но говорить правду она не хочет.
— Психотерапи-ия, — проворчал Малышев. Ему все-таки явно легче со своим доктором, даже хочется поблажить. Она хороший врач, если от одного только ее присутствия меньше головная боль. Он так и сказал ей, она смутилась, но попыталась скрыть и строго спросила:
— Надеюсь, вы не думали о делах, Сергей Иванович? Вам нужен полный покой, забудьте о том, что вы чего-то не сделали, не успели и прочее. Вы должны быть беспечным и беззаботным.
— С удовольствием. Но как быть с причинами, Алла Павловна?
— Никаких причин, потом-потом.
Значит, давление у него держится.
— Нет, я хочу сейчас, — настоял он. — Скажите мне, какие чаще всего бывают причины. Не бойтесь, я не так плох, как показывает ваш тонометр.
Она помолчала, но он требовательно ждал, и она стала перечислять как по учебнику: давление может подниматься от заболеваний почек, от нарушений эндокринной системы, не исключаются наследственные факторы, возрастные изменения, климакс, у мужчин, как ему известно, он тоже бывает. Наиболее частые причины — повышенная возбудимость психической сферы, неадекватная реакция, дефицит положительных эмоций, производственные условия. У телефонисток, например, гипертония в три раза чаще.
Он смотрел на нее, следил, как она бесстрастно перечисляет, будто стараясь не наступить ему на больную мозоль, затем сказал, что ни один из факторов ему не подходит. Просто навалились мелочи, которых прежде не было. Перестали подметать вовремя — вот в чем причина. Загрязнение стало гуще, и он споткнулся.
— У вас раньше поднималось давление?
— Нет, никогда!
— Ох, уж эти хирурги! Никаких сомнений и допущений, только резать. А давление у вас поднималось, между прочим, каждый день, особенно перед операцией.
— Но потом ведь приходило в норму! Это функциональная гипертензия, а вы сразу ставите гипертоническую болезнь.
— Ничего я вам сразу не ставлю, у вас элементарное переутомление, Сергей Иванович, я же знаю, каждый требует, чтобы оперировал только Малышев. Прыщик вскочит, какой-нибудь панариций на пальце, непременно подавай Малышева.
— Но мне нравится оперировать, Алла Павловна, при чем здесь переутомление? Если у меня долго нет операций, я плохо себя чувствую, представьте себе, у меня наступает самоотравление организма, и вы не смейтесь. Мне плохо от нерастраченного желания помочь и притом немедленно. Я не могу без своего дела жить, ясно вам? Не вскрыл, не удалил, не соединил, не наладил, а ведь мог. Поэтому я и соглашаюсь оперировать, когда угодно и где угодно. Если я действительно болен, то вылечит меня только работа, моя хирургия.
— Но не моя терапия, да?
— Я не верю, что болен, понимаете?
— Понимаю.
— А вы мне ставите криз. Поставьте лучше переутомление и все. — Она молчала, и он поднажал: — Или все-таки криз, категорически?
Он понимал ее затруднение, ей и успокоить надо больного и при этом правду сказать не мешало бы, поскольку выздоровление зависит не только от медиков. Другого пациента — не врача, легче успокоить, попросту говоря, обмануть, но перед ней человек сведущий. К тому же у врачей — это давно замечено, хотя и не все с этим согласны, — даже простые заболевания протекают как-то особенно, атипично. Ей надо утешить его. Но ведь и предостеречь тоже надо!..
— Я готов ко всему, Алла Павловна, выдавайте сразу.
— Много на себя не берите, Сергей Иванович. Полегче, спокойнее, не нагнетайте, «готов ко всему» — не надо драм. Полежите, подумайте, может, что-то надо пересмотреть в своих привычках, планах, намерениях.
— Понимаю, создать особый режим, не курить, не пить, улыбаться всему по-японски…
Она перебила:
— Что-то глубже, Сергей Иванович, что-то глубже.
— Не знаю, как это понимать, глубже, — сердито отозвался он, именно потому и сердясь, что так оно и есть — глубже. — Говорите прямо! — Перекладывал на ее плечи поиск, хотя сам-то ей ни слова не сказал конкретно, не гадалка же она.
— У терапевтов, к сожалению, все не так просто, как у хирургов. Для вас нет загадок, в жмурки вы не играете, а вскрываете и смотрите. И решаете. А мы отгадываем постепенно. Этим, кстати сказать, мне нравится терапия — все время искать, раскрывать тайну. Вот вы сказали «плохо метут»…
— Это так, мелочи.
— Вам хочется думать, что вы могучий, железный, деревянный, не знаю еще какой Малышев, для которого мелочи, что слону дробина.
— Вы угадали, дорогой терапевт, на мелочи я смотрю соответственно. Криз может быть от чего-то серьезного, от краха карьеры, от невозможности реализовать какие-то свои завышенные установки, претензии, но у меня никаких крахов, одни пустяки.
— Они накапливаются, и количество, как вы знаете, может перейти в качество.
Вот именно!
— У вас есть дети? — неожиданно спросил Малышев.
— Е-есть. — Она улыбнулась и тут же посерьезнела. — Ох, какие это не мелочи, Сергей Иванович!
— Да, «ох, какие», согласен. У меня дочь… — Говорить дальше о дочери не пожелал, и вообще, не хватит ли из пустого в порожнее? — Когда вы меня выпишете?
Она поколебалась, подумала, сказала, что, наверное, дней десять ему полежать придется.
— Много! — возразил он. — Долго. Да и нет смысла.
— Покажем вас консультанту, профессору Сиротинину.
— Зачем? Я верю вам, Алла Павловна, что тут неясного?
— Сиротинин хороший специалист. Ваша жена просила показать вас.
Опять жена.
— Свидания у вас разрешаются?
— Да, она скоро придет, звонила мне. А все другие встречи вам лучше пока отложить.
— Согласен, но пропустите хотя бы Григоренко, хирурга из моего отделения.
— Ну вот, «мое отделение», — обиженно сказала она.
— Пожалуйста, Алла Павловна. — Он взял ее за руку.
— Это называется, прибрать к рукам? Но здесь я командую. — Однако руку не убрала. — Какие у вас еще просьбы?
— Вы можете снять колпак?
Она послушно сняла, не стала поправлять волосы, прихорашиваться, тут же подумала, наверное, что выглядит не так, как ей бы перед ним хотелось, и посмотрела холодно, — не слишком ли многого требует капризный пациент? Затем все-таки тронула рукой волосы, пепельные, густые — лицо ее ошеломительно знакомо! Тревожно ему стало — почему забыл? Такое очень знакомое, такое милое лицо. Глаза ее, взгляд как привет из далекой юности, нет — близкой, никогда юность не была для него далекой, — и вот забыл, тем хуже для него.
— Алла Павловна, все-таки, где мы с вами встречались?
— Не ломайте себе голову, Сергей Иванович, она вам еще пригодится. — Она поднялась, явно обиделась, взяла стул и отнесла к стене.
— Извините, я огорчил вас, но сейчас я маму родную забыл.
— А я вас не забывала, Сережа Малышев.
Назвала его по-студенчески, но учиться вместе они не могли, она заметно моложе его, лет на семь, а может быть, и на десять. Он перестал доверять глазу в определении возраста, иной раз привезут больного, старик-стариком, а ему на самом деле тридцать лет. Изматывает боль, недуг, особенно хроников. Здоровый всегда выглядит моложе больного, что говорить, но осматривать здоровых внимательно ему не приходится, он не кинорежиссер.
— Вы тогда были худенькой, — предположил он и вышло неуклюже, будто сейчас она толстая, какой женщине это понравится. — Вы пополнели слегка и похорошели. — Кажется, вышло еще хуже от комплимента.
— Не слегка, а весьма изрядно, тогда я в два раза тоньше была. — Она простила его забывчивость, а его смущение и ее смутило. — Сейчас старшая мои платья донашивает, мода, говорит, вернулась, ретро.
А он сразу о Катерине — носит ли она платья матери? Да топором не заставишь, даже если мода вернулась, разыщет новое. Марина, кстати, гардероб не хранит, чуть поносила и дарит то родственнице какой-нибудь, то знакомой, то в комиссионку сдает.
— А кофту ваша дочь носит с английским штампом «хочу мужчину»?
— Судя по всему, хочет, если в семнадцать лет замуж выскочила. А что, и такие кофточки есть?
Он с усмешкой, пытаясь быть снисходительным, рассказал ей про вчерашний эпизод: «Сижу, смотрю, надпись по-английски: «Ай вонт э мэн», ну и погнал ее из-за стола». Она слушала внимательно, переспросила: «Вчера? Вечером?» Обобщать не стала, но на заметку взяла.
— Вы очень любите свою дочь, — помолчав, решила Алла Павловна, — поэтому ничего ей не хотите прощать.
Дочь, естественно, как ее не любить? Но надпись-то ни в какие ворота! Или она не хочет этому придавать значения? Во всяком случае, раздувать не хочет, тем более сейчас. Для Малышева сейчас хоть матерщину носи на грудях, на все он должен смотреть наплевательски — лишь бы не стресс, это ему понятно.
Ушла Алла Павловна и вскоре появилась Марина, усталая после бессонной ночи, озабоченная, даже губы подкрасить забыла. Непривычно ему лежать и ей непривычно видеть мужа больным, она постарела сразу. Или так ему показалось в сравнении с Аллой Павловной.
Он не сравнивает, он просто видит, что вместе они не могли учиться никак.
— У меня все в порядке, — сказал он сразу, чтобы упредить расспросы.
— Ну и слава богу. Что ты получаешь?
Она не слышит, как шумит у него в ушах, не ощущает, как подкатывает тошнота, все это можно скрыть.
— Дибазол, папаверин. — И сразу в сторону: — Как у тебя на работе, все в порядке?
— В таком порядке, что… — она слабо махнула рукой. — Борьба идет вовсю в связи с этими поборами, так называемыми.
— Давно пора.
— Ты прав, но знаешь как у нас? Любое начинание надо довести до абсурда. Главный врач объявила приказ: ни духов, ни шоколадок и даже цветы нельзя. Нам все ясно, но как быть с нашими пациентками? Представь себе, написали для них на огромном листе: «Товарищи женщины! Просим не благодарить врачей и сестер». Последнее отнять у персонала — право на благодарность.
Он закрыл глаза — Марину не переделаешь. Как и его тоже. Но сейчас ни спорить с ней, ни убеждать ее он не будет — вредно. Надо пощадить своего лечащего врача.
— И так у нас уже никаких прав, одни сплошные обязанности. Грубость терпеть, хамство, неблагодарность. Нянечки стали самой дефицитной профессией, смешно сказать.
— Как-то надо же бороться.
— Но не так же!
— А ты предложи слово «благодарить» взять в кавычки, только и всего.
Она подумала, он шутит, и рассмеялась, но вышло грубо, потому что он предлагал всерьез.
— Нечего вам прикидываться ангелами непорочными. Ясно же, какого рода благодарность имеется в виду.
— Тебе всегда все ясно. — Она устала, под глазами круги.
— В моем отделении обходимся без поборов — и ничего, живем и работаем. А завелась паршивая овца — выгнали.
— Эта овца тебе еще все припомнит, он уже начал. Ай, да ладно! — она опять махнула рукой, не все можно выкладывать больному, лучше придержать язык. — Катерина просит извинить ее, не может она зайти сегодня, готовится. Второй у них биология.
— Заходить не обязательно, оставь свои этикеты. И щадить меня незачем, я не болен, — сказал он резко. — Что там еще, ведь все равно узнаю?
— Сиротинину тебя показывали?
Тошнило, в ушах шумело, — все идет не так, как ему хочется. Вспомнил вечер, дворника, сигареты, спокойные доводы Катерины, свое ночное кино… Докатилась его семья до ручки. Он в больнице, Катерина мечется, не веря себе, жена удручена, растеряна, — все рухнуло как-то сразу, в один день, от твердыни его ничего не осталось.
— Покажут Сиротинину, обещали.
— Лучше сразу же, в остром периоде.
— Завтра он придет, не волнуйся.
Кто кого щадил, сказать трудно, оба пытались.
Она помолчала, думая о Катерине, о возможности попросить помощи у профессора. Он не откажет Малышеву, тем более в такой ситуации. Острый период не только у отца, но и у дочери, беспомощность их очевидна, а Сиротинин человек благородный. Однако сказать мужу прямо Марина не решилась, она надеялась, что в беседе с профессором он и сам про дочь не забудет.
— Что тебе принести?
Он сказал про бритву, зубную пасту и щетку, подчеркнул «зубную», Марина сейчас в таком трансе, что может принести одежную. Вспомнил про сигареты, но решил не просить — обойдусь. Она погладила его по голове, сказала, чтобы он спал спокойно, и ушла. Ему стало легче. В беде лучше побыть одному.
Уже в сумерках пришел Борис Зиновьев, по глазам измотанный, но внешне как всегда элегантный, чистенький, в отличном костюме. В представлении Малышева все мужчины-гинекологи холеные, всегда ухоженные, от женского внимания, что ли? И лица пышут здоровьем, как у диетологов по меньшей мере, или у дегустаторов вин, Малышев видел такого в погребке в Ялте. Или потому что в институте завкафедрой был холеный, лощеный профессор Янковецкий, всегда румяный, ровно седой, вернее, как говорили девицы, ровно крашенный, в светло-сером костюме, в белоснежной сорочке, все на нем с иголочки, подогнано, выутюжено, хоть моду с него рисуй. Читал он, кстати, весьма недурно, так ведь и предмет его специфичен. На определенном этапе студенческого развития все, что ниже пояса, куда интереснее того, что выше.
— Здравствуй, старина, здравствуй многие лета! — бодро, громко приветствовал он Малышева, тут же зорко вглядываясь в его соседа. — О-о, Константин Георгиевич, какими судьбами?
У Бориса талант общения. Если принять, что нет в городе человека, который не знал бы или не слышал о хирурге Малышеве, то следовало бы принять, что нет в городе человека, которого не знал бы Зиновьев, если не лично, то уж понаслышке наверняка.
— Значит, Жемчужный туда, — Борис покачал рукой над своим плечом, показывая большим пальцем за спину, куда-то далеко, — а вы сюда? Мир жесток и несправедлив.
Опять же, если их сравнивать, то насколько закрыт Малышев, настолько раскрыт, прямо-таки распахнут Зиновьев. Грани между простотой и бесцеремонностью Борис не ощущал, речевой аппарат его действовал словно сам по себе. Соседу, между тем, стало неловко, он покивал Зиновьеву вежливо и молча, похоже, не узнал его, что Бориса отнюдь не смутило.
— Прихватило, говоришь? — шумно продолжал он, со стуком ставя на тумбочку возле Малышева плоскую синеватую банку с черной икрой. — А у меня лет семь скачет, как даст-даст сто восемьдесят верхнее, а то и двести — и ни хрена, еду на работу да еще сам за баранкой. Больничный не брал ни разу, таблетку проглочу — и в хомут, адельфан индийский или триампур, а ходовые, дибазол, резерпин, раунатин мне уже, что мертвому клизма. Главное, старина, надо на все плюнуть, еще Остап Бендер говорил, — слюной, как плевали до эпохи исторического материализма. Не будь занудой, будь все до лампочки, — и вся терапия, живи тыщу лет, правильно я мыслю, Константин Георгиевич?
Сосед вежливо улыбнулся.
С Борисом Малышев никогда не был особенно дружен, но и во врагах не ходил, Борис как-то умел найти к нему подход, и по причине своего таланта общения оказывался иногда нужен Малышеву. Да и жили в одном доме, Борис к нему заходил, рекомендовал блатных, чего Малышев не любил, но Борис умел так подъехать, что не отвяжешься. Надо ему отдать должное, сам он всегда охотно помогал другим, а коллегам тем более. К тому же, они с Мариной работали в одной, так сказать, системе.
Сейчас с ним можно было просто молчать, и то уже хорошо.
— Икру я тебе принес для тела, а для духа тебе нужно побольше юмора. — Борис встал, включил, не спрашивая позволения, свет, запонки его сверкнули лучисто, и снова подсел к койке Малышева. — Я всегда говорил, твоя порядочность не доведет до добра, годы идут, сосуды старятся, а ты в каждой дырке затычка. Бери пример с меня хотя бы, а с меня не хочешь, возьми с другого нашего однокашника, Байрама, к примеру. В отпуск вчера прикатил своим ходом на шестой модели. Он тебе не звонил? Ясно, не успел, гудит на радостях от встречи с альма-матер. Как в сказке, между прочим, живет, и что важно — не прячется.
Шестая модель и для Бориса показатель, некая мета, примета, как и для Катерины, хотя возраст у них разный, модель не машины, а благоденствия по меньшей мере, жизнеспособности. Малышев не стал ехидничать, как с дочерью, но одинаковость его озадачила, хотя понятие модели сейчас распространено везде, даже у футболистов есть «выездная модель» — не играть, а добыть очко в таблицу.
— Расскажу тебе быль, а потом охотно послушаю, чем ты ее опровергнешь и по каким пунктам. — Борис обратился к соседу: — Послушайте и вы, Константин Георгиевич, я постараюсь в лицах разыграть.
Сосед кивнул, он не узнавал Зиновьева, но уже заподозрил, что он, возможно, из приятелей Жемчужного.
— Жил-был молодой хирург, — речитативом начал Борис. — Окончил он институт в нашей благословенной республике, отработал по совести три года на целине и поехал к себе на родину в один большой-пребольшой и южный-преюжный город. Приехал он туда в пятницу, в субботу родственники вручили ему ключи от кооперативной квартиры, в воскресенье новосел принял за столом сто пятьдесят поздравлений, а в понедельник собрался в больницу, устраиваться на работу. «А что ты подашь главному врачу?» — спрашивают его родственники. «Диплом подам и трудовую книжку». Родственники переглянулись. «Диплом с отличием, — уточнил хирург, — а в трудовой книжке две благодарности». Родственники за голову взялись: «И чему тебя там учили, в этом солнечном Казахстане!» Посокрушались они, посокрушались, делать нечего, и пошли сами — один в горздрав, другой к главврачу, как ходят к почтовому ящику, то есть с конвертами. А ему наказали сидеть и ждать и упаси его боже соваться куда бы то ни было с его дипломом и трудовой книжкой. Скоро сказка сказывается, да и скоро дело делается, умеючи-то. Не прошло и дня, как принят был молодой врач ординатором в хирургическое отделение. И вот он сделал первую операцию, простую, не золотую — аппендицит. Зажил шов первичным натяжением, доволен молодой хирург, а пациент и того более, веселый и бодрый входит он в ординаторскую: «Спасибо, доктор!» — и подает конверт. Засмущался молодой хирург, — там, конечно же, благодарность в стихах, по восточному обычаю, принял конверт, заглянул, а там не одна благодарность, а сразу четыре и все сиреневые, по двадцать пять. Покраснел молодой врач как честолюбивый прынц, из глаз искры посыпались: «Да как вы смеете?!» Побледнел пациент, за живот взялся, вот-вот швы разойдутся. «Извините, — говорит, — завтра добавлю. У хирурга из глаз полымя, из ушей дым, прогнал он нечистую силу вместе с конвертом и ушел домой гордый. Приходит он на другой день в больницу, а с ним никто не здоровается. Отслужил главврач пятиминутку и оставил добра молодца для беседы с глазу на глаз. «Ты, — говорит ему, — коллектив нам не разлагай, микроклимат не порть, а не то можешь обратно ехать в свой солнечный Казахстан». И он-таки поехал обратно — в отпуск. На «Ладе» шестой модели, им самим заработанной. И рассказывает здесь коллегам, что живет он словно в сказке, операции у него все не простые, а золотые, и, рассказывая, время от времени поет песню: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью». Можешь мне отрезать язык, хирург Малышев, и переставить куда хочешь, если я хоть в одной детали соврал! Кто-то, понимаешь, ловчит и хапает на всех уровнях, а для нас, понимаешь ли, — борьба с поборами.
Малышев ничего не сказал, да и не нуждался Борис в его словах, он больше для себя говорил. Хочешь — верь его байке, хочешь — не верь, но тогда откуда, спрашивается, появляются у врачей «Жигули»? Сколько лет надо откладывать, честно работая даже на полторы ставки, чтобы накопить шесть-семь тысяч?.. Хотя бы любопытства ради узнать, на какие-такие шиши врач, инженер, продавец, тем более, официант покупают себе машину? Узнать, чтобы успокоиться, — все у них честь по чести, они вот так и вот эдак терпеливо, кропотливо, а главное, честно сэкономили нужные тысячи. Да вот беда в том, что узнаешь — не успокоишься, только душу разбередишь.
— Золотая орда, — неожиданно сказал сосед своим звучным, хорошо поставленным голосом.
— Как понять, Константин Георгиевич, врачи, что ли, золотая орда? — поинтересовался Зиновьев. — Или, может быть, пациенты?
Старик не ответил, будто про себя сказал, мысленно, и Борис снова обратился к Малышеву:
— Запиши меня, кстати, в свидетели.
Малышев поднял брови — какие еще свидетели?
— Витя-дворник взял справку у судмедэксперта и с милягой Чинибековым подали заявление. Да не в милицию, а прямо в обком. Так и так, дескать, Малышев коммунист, заслуженный врач, а избил простого работягу-дворника.
— Бред собачий, — пробормотал Малышев.
— Бред не бред, а если справка есть, то дело заводится, притом уголовное. Так что, бери меня на подмогу. Ты что, не слышишь?
— Ты из другого… — чуть не сказал «из другого мира». Чего вдруг вылезло, при чем здесь «мир»? Сквозь шум в ушах уточнил: — Из другого подъезда.
— Но я там был и все видел! — настойчиво сказал Борис. — Так и дыши, так и пиши. — И простецким тоном спросил: — Ты что, действительно его звезданул?
Трудно представить, на что человек способен, даже если знаешь его много лет. Или же не хочешь вдуматься. Может быть, в глазах Бориса Малышев как раз такой, что может звездануть и, в данном случае, даже должен?
— Просто отшвырнул от своей двери, а он руками в стекло.
Зачем он оправдывается, непонятно, но необходимость такая почему-то возникла. Жа-алким голосом.
— Зря, надо было врезать. Чтобы не писал заявлений. — Все у Бориса просто, так вот и надо жить. — Короче, учти, я свидетель авторитетный, докажу, кому хочешь, что ты его пальцем не тронул, а он — свинья есть свинья. — Он говорил громко, открыто, будто вдвоем сидели, соседа не было, либо он глухой, либо уже помер, — удивительное свойство. Если бы они оказались с Борисом в автобусе, где людей битком, он бы говорил точно так же.
Однако сосед не помер, он опять неожиданно вмешался:
— Скажите, какое, на ваш взгляд, главное зло сейчас?
— На мой взгляд, — Борис подчеркнул «мой», — главное зло, когда сам не живешь и другим не даешь. А вы как считаете?
— Спасибо, — сказал старик и больше ничего не добавил, не ответил на вопрос Бориса, будто лежит без обратной связи. Или у него тоже открытость, только своя — открытость молчания.
Борис цельный по-своему, всегда готов помочь, выручить и говорит о происшествии трезво и приземленно, как и полагается в этом жестоком мире — врежь ему, а меня в свидетели, что пальцем не тронул…
Он совсем не хотел портить настроение Малышеву, хотя мог бы и предвидеть такой результат, мог бы, но зачем, если по его мнению, чем больше знаешь, тем лучше? Пусть Малышев знает, что в критический момент у него будет поддержка, зачем молчать? Если Зиновьеву подобной мелочью нельзя сорвать настроение, то, значит, и другим нельзя. А информация его важна и нужна.
После ухода Бориса Малышеву захотелось курить да так неотвязно, так стало невмоготу, что он дернул шнурок. Сестры долго не было, наверное, нет у них сейчас тяжелых больных, никто не звонит и они невнимательны. Лампочка на панели горела зеленоватым дьявольским огоньком.
…Борис вслепую идет свидетелем защиты, так же как Чинибеков вслепую идет свидетелем обвинения — двое слепых с разных сторон. А Малышеву нужна очевидная справедливость. «Из унитазов не пить», — очень на него похоже. За этой формулой масштаб его личности и сложность его программы я широта души. Все, разумеется, в кавычках. А если без кавычек — догматик, резонер, дуб. Зато самокритичный. Сосед может сказать о нем — фигура не драматическая, а скорее комическая…
Вбежала, наконец, сестра, сразу на панель взглядом, у кого горит, кому плохо? Испуганная, краснолицая, полная и немолодая.
— Что с вами, Сергей Иванович?
— Хочу курить.
— Что-о вы, Сергей Иванович, — она разулыбалась, полагая, что он шутит. — У нас нельзя, а вам тем более.
— Я сам знаю, что мне можно и чего нельзя. Я врач.
— Сергей Иванович, как же это, курить, в вашем состоянии!
— Я вам напишу расписку. — От угрозы отказа жажда его закурить утроилась.
— Давление подскочит, Сергей Иванович, что я с вами буду делать? — Ей не до режима, она действительно боится, а вдруг его кондрашка хватит?
— Только одну сигарету, я вас очень прошу.
— Я сейчас позвоню Алле Павловне, если она разрешит… — Сестра знает, что не разрешит, да звонить нельзя по такому глупому поводу, от этого растерянность ее еще больше. — Может быть, потерпите, Сергей Иванович? Что я с вами буду делать?
Ему жалко сестру, откинет он копыта, а ей отвечать, — все-все прекрасно он понимает, но если не закурить сейчас, немедля!..
— Я вас очень прошу, а то у меня опять будет криз. У меня абстиненция, поймите, синдром отнятия, нельзя так сразу, я вам повторяю, я врач!
Сестра ушла. Звонила она Алле Павловне или не звонила, но минуты через три принесла сигарету. Одну. Встать и выйти он не может, спросил позволения у соседа.
— Курите спокойно, дверь на балкон открыта, до прихода врача все проветрится.
От первых затяжек стало полегче, захотелось поговорить, и он спросил соседа:
— Давно лежите?
— Третий день.
— Тоже давление?
— Нет, страх. Я Телятников, главный режиссер театра. Теперь, вероятно, бывший главреж, в связи с этой историей.
Вон как, сошлись в одной палате главреж и главрез.
— А чего вы испугались?
— Не знаю, страх сильнее сознания. Собрание закончилось, все встали и ушли, а я остался сидеть, отнялись ноги. Миопатия. Ковалев и Астахов привезли меня сюда.
Вот вам, пожалуйста, Алла Павловна, — тоже стресс, но не криз, а миопатия, отказали мышцы, у бога всего много.
— Смешно, уморительно, но я будто навечно прирос к креслу, не желая расставаться с театром. Какой повод для сарказма, вы не находите? — Старик хихикнул мелко и несолидно.
— Ну а при чем здесь вы, собственно говоря? — попытался его утешить Малышев, понимая, что в такой ситуации все при чем, а руководство тем более, уж так повелось, непременно кто-то должен нести ответственность за действия совершенно взрослого самостоятельного человека. Главреж мог ему покровительствовать, не зная, конечно, что будет дальше. — Он был вашим учеником, опорой, надеждой, вы его возносили?
— В таком случае я бы сам ушел из театра и не попал бы в больницу, уверяю вас! Тогда было бы справедливо, взрастил отщепенца — расплачивайся. Но дело-то как раз в том, что я его не любил. Должно быть, вы обратили внимание, ведущей фигурой сейчас как на сцене, так и в жизни стал деловой человек? Деловой по названию и вымогатель по существу. Дай ему блага материальные, это еще куда ни шло, но он вымогает славу себе, признание всенародное, чтобы им восхищались, ему подражали, топча при этом подлинные таланты. Жемчужный всегда бешено налаживал связи, гораздо вдохновеннее, чем играл в спектаклях, — газета, радио, телевидение, вымогал письма зрителей, отзывы. Но этого мало, он навязывал другим свою хватку, свое рвачество, дурно влиял особенно на молодежь. Противостоять ему было невероятно трудно, он пользовался поддержкой и снизу, и сверху.
— Но теперь-то всем видно, что вы оказались правы?
— Теперь я оказался главным виновником. Поднялись на собрании два молодых актера и убедительно доказали, что я, художественный руководитель, не давал в театре никакого ходу ведущему актеру, кумиру публики и прочее, всячески старался ограничить его творческие возможности, не дал ему роль в революционном спектакле, отказался выдвигать на звание заслуженного. Никому не хочется заживо схоронить свой талант, и вот вам результат. И все, между прочим, правда. Я действительно пытался, как мог, ограничить его дурное воздействие на коллектив. Все правда. Я оказался виновным, я его выжил… У Достоевского есть гениальный парадокс, прошу обратить внимание, он говорит: правда, одна только правда, а значит и несправедливо. Неслыханный поворот! В школе нас учили, что нет ничего выше правды, и что она не употребляется через «но» — либо правда и хорошо, либо ложь и плохо. А вот Достоевский нашел, что голая правда несправедлива.
— Почему он от вас, в таком случае, не сбежал в Москву, или допустим, в Ленинград?
— Вот именно. Когда зрители начали звонить в театр, верны ли слухи, директор не нашел ничего лучше, как сказать секретарше: придумай что-нибудь сама. И она придумала, юное создание, — Жемчужный перевелся в Йошкар-Олу.
— А что, тоже выход!
Телятников с укоризной посмотрел на Малышева. А с ним так бывает, инстинкт срабатывает в противовес здравому размышлению. Весной как-то Юра Григоренко сказал: «Поветрие началось, не остановишь — дубленки режут». — «Как это режут?» — «Едет человек в автобусе, на нем дубленка или кожаное пальто, ему сзади бритвой — чик! Знаете, как шпана умеет? Зажмет между пальцами половинку лезвия для безопаски и в толчее нежно проводит тебя по спине. А кожаное пальто — тысячу рублей». В первый момент у Малышева мелькнуло — а что, тоже выход. Тысячерублевое пальто — это вызов большинству, которое одето в сторублевые, наглый вызов, надо его «урезать». Но, подумав, вернее, поостыв, сказал Юре: «Да, это возмутительно», — без особого, между прочим, возмущения. И сейчас, докуривая запретную сигарету под укоризненным взглядом Телятникова, он оправдался:
— Многие вообще не знали о существовании какого-то Жемчужного, так ли уж важно для всех это событие? Для меня, к примеру, он что был, что не был.
«Для меня и театра вашего нет», — мог бы сказать Малышев.
Театра нет, а вот больной, поверженный старик — рядом, поэтому лучше помолчи.
— Для вас, а для нас? А для жены его, Зои Сергеевны, для сына его, школьника? В пятый класс перешел. Для родственников? Это же предательство.
— А не сгущаете ли вы краски? Эмиграция у нас разрешена официально, пусть едет, здесь чище будет.
— Разрешена, но на таких людей мы не можем смотреть как на примерных граждан и патриотов. Отношение к перебежчику у нас только отрицательное. Эмигрантами с первых лет советской власти были только враги, в гражданскую — белогвардейцы, в Великую Отечественную — полицаи, власовцы, виновные в гибели многих людей, отсюда отношение к ним. Эмиграция разрешена, но не запретишь, слава богу, естественную на нее реакцию, как на предательство наших идеалов, наших социальных ценностей, которые завоевывались ценой немалых испытаний. Наверное, ни в одной другой стране не смотрят на эмигрантов с таким позором, как у нас, и в этом особенности нашей истории. Поэтому и на собрании встал вопрос об ответственности, об укреплении руководства, мы должны сами принять меры, пока нет указаний свыше. Директор в своем заключительном слове дал понять, что мне, как главному режиссеру, самое время уйти на пенсию.
— А что коллектив?
— Ситуация исключительная, вы понимаете, и меры должны быть исключительными. А у меня возраст. Если освободить главрежа, который здесь тридцать лет в сущности создавал театр, то это действительно будет мера, а не полумера. Вон какие оргвыводы сделаны, вон какой дорогой ценой мы заплатили за предательство — головой самого Телятникова, попробуйте нам предъявить претензии в мягкотелости. Лежу теперь здесь и гадаю, чего мне ждать и откуда? Смириться — не хочу, бороться, но как? И с кем, с чем? Вот вы, для театра человек посторонний, что можете мне посоветовать?
— Я думаю, все теперь зависит от коллектива театра. Как он решит, так и будет. — Малышев помолчал. Врач все-таки должен утешить. — Он должен за вас вступиться.
Должен — если не весь прогнил, а если весь, то кто же виноват, как не главный режиссер? Все просто в нашей суровой жизни, где мы друг с другом связаны. Мучайся не мучайся, ты сам выпестовал таких птенцов…
— Доверьтесь своему коллективу, — подвел итог Малышев. — Согласитесь с его решением, оно будет справедливо. Так мне кажется.
Телятников увидел, что Малышев ищет, куда бы девать окурок, неслышно поднялся, взял тонкими, слегка скрюченными пальцами окурок и, медленно ступая, будто несет штангу килограммов на двести, вынес его в туалет.
5
С утра, еще до обхода Аллы Павловны, пришел Юра Григоренко, принес палку копченой колбасы, тяжелую, хоть в городки играй, килограмма на три, будто Малышеву лежать здесь месяц. Достать такую палку дело престижное, случай представился, вот Юра и постарался, пусть его шеф оценит. Малышев посмотрел на его брюки — в областную больницу, поскольку здесь он всего лишь посетитель, Юра позволил себе явиться в джинсах.
— Как там Лева Ким?
Лева дал реакцию, чего и следовало ожидать, настроился парень на операцию, а тут снова отсрочка, пригласили пульмонолога, начали курс цепарина. И это добавило Малышеву досады — впервые в жизни откладывается операция по его вине.
— Займите его чем-нибудь, Юра, стенгазету, что ли, пусть нарисует. Ко Дню медика. — Вспомнил, что День медика уже прошел, опять реле времени не сработало, но поправляться не стал, и Юра промолчал деликатно. — Или санбюллетень какой-нибудь… Я через пару дней выйду.
Юра обещал все сделать, просил Малышева не беспокоиться и не спешить с выпиской «пока все не будет о’кэй».
С Юрой Малышеву всегда интересно и на работе, и в свободную, не столь уж частую минуту, хотя они разные, во многом противоположные, тем более занятно Малышеву общение с ним. Юра даже в пустяках интересен, своеобразен. «Зачем тебе, Юра, врачу, взрослому мужчине, непременно джинсы?» Вопрос для Юры нелепый, все равно что, сколько будет дважды два, но приходится думать из уважения к шефу и что-то придумывать на ходу. Без джинсов Юра чувствует себя ущербным, неполноценным, появиться ему на улице в обычных брюках — все равно что без штанов выйти. «А главное, Сергей Иванович, в джинсах удобно!» Сущее вранье, в трико гораздо удобнее и сидеть, и приседать, и бегать, несравнимо удобнее. Если бы ему сказали, что джинсы приняты в наказание телу, аскетизма ради, он бы еще согласился. Попробуйте-ка их надеть не по-пенсионерски, не на два размера больше, а как принято у пижонов, на два размера меньше, напяльте на свои чресла, застегните и присядьте. И если не почувствуете, как вам жмет в коленках, в бедрах, в поясе и особливо в промежности, значит, вы терпеливец великий и операцию при случае вынесете без наркоза. Меняются времена и представления тоже. Когда-то прищемить мошонку дверью было махновским наказанием, а теперь прищемить то же самое джинсами — удовольствие. Красиво и престижно. Одним словом, удобство как первооснову джинсов Малышев не принимает, и тогда Юра говорит: «Полноценность — это когда на тебе редкая вещь, непременно фирменная, а значит и дорогая». Другое дело. Те же ориентиры, что и у Катерины, хотя Юра на десять лет старше. Объяснить трудно, считает Юра, это на уровне подсознания, тут надо проникнуться. А Малышеву не дано. Упрямо и сосредоточенно пытался он проникнуться восхищением к Пикассо, что для интеллигента обязательно как насморк при гриппе, — не получилось, хотя весь мир его превозносит, газеты столетие отмечают. Не дано, и хорошо, что нашим художникам подражать ему не резон. «Тут другое, — считает Юра, — тут эпигонство сразу будет заметно. Репину можно подражать сколько угодно и сойдет, особенно для профана. Чем выразительнее прием, тем виднее подражание. Если мы с вами начнем оперировать, стоя задом к больному, мы создадим новую школу».
Юра жил неспокойной, дерганой, какой-то придуманной, на взгляд Малышева, жизнью, с неожиданными своими оценками и ориентирами, много читал, но упаси боже, не деревенскую прозу и не военную, а все фантастику, «Знание — сила», «Науку и жизнь», знал английский и Малышева заразил изучать, любил поговорить о масштабах и нормах, которые меняются день ото дня, все дальше устремляемся в космос, в галактику, жаждем поймать сигналы иных планет, строим все грандиознее, живем все напряженнее, и все эти ускорения и усиления неостановимы, как рок, отсюда рациональное мышление, поиск выгоды, рассчитанные действия, в итоге притупление чувств, но ты человек, живое существо, тебе хочется остроты ощущений, значит, сила возбудителей тоже должна возрастать, и ассортимент меняться. Нам некогда размышлять и грезить, все предопределено, задано ритмом каждого дня — с утра до ночи дел под завязку. Не успеешь решить свои служебные, лечебные, производственные задачи, как тут же наваливаются задачи общественные — собрания, семинары, политинформация, ДНД, субботники, на картошку, на сенокос, и все это неизбежно вызывает у биологической особи огрубление чувств в порядке самозащиты.
Юра Григоренко неплохой хирург, отлично знает анатомию, освоил технику, навыки, ловкости его пальцев можно и позавидовать, и при всем при том он последовательно, открыто и как будто даже старательно избегает дополнительных забот и тягот, а ситуации в больничной работе далеко неоднозначные, регламенту не поддаются. Если Юре приходится дежурить за другого врача, жди непременно скандала. Почему, спрашивается, Юра, что — несознательный? Да нет, беда как раз в том, что он сознательно, мотивированно не хочет потакать беспорядку, идти на ненужные по его мнению жертвы. Ему ставишь вопрос ребром: а если больной умрет? И тут Юра, сознавая кощунственность своего ответа, тем не менее говорит, что есть нечто поважнее жизни отдельной человеческой особи. Здоровье общества, например, важнее здоровья индивида. — «Но ведь это слагаемое». Слагаемое — это порядок во всех звеньях. На случай замены должен быть предусмотрен горздравом, минздравом подстраховочный дежурный с двойной оплатой, либо с продленным отпуском, либо с какой-то еще компенсацией, — во имя порядка. Юра не намерен выкладываться сверх своих сил, как это делает, к примеру, Малышев. «И вам не советую, Сергей Иванович, времена неурядиц тех самых — временных, прошли». — «Нет, Юра, как видишь, не прошли». — «И не пройдут, если мы им потакать будем! Затем я должен потворствовать разгильдяям, которые все свои прорехи в работе затыкают нашим энтузиазмом? Ведь социализм — плановое хозяйство, откуда же выскакивают внеплановые перегрузки и притом систематически? Есть у нас наука управлять или нет ее? Говорим, что есть, а на деле? Нахрап, накачка, штурмовщина, неразбериха. Врачам на сенокос, академикам на картошку. И наш энтузиазм — это потворство бесхозяйственности и безответственности. Самоотверженность всегда была нравственна, всегда положительна, но нередко она становится ярким показателем плохой организации. И чем больше людям приходится проявлять самоотверженности — на комбинате, в институте, в больнице, — тем неотложнее надо менять руководство комбината, института, больницы, иначе компрометируются наши принципы. Таков Юра Григоренко, философ доморощенный и социолог, проще сказать — читатель, потребитель информации, ибо все это он не выдумал, а прочитал и сопоставил.
— Как там наши, все живы-здоровы?
— Валя Мышкина ушла в отпуск, Клара, как вы знаете, сдает экзамены. — И, зная, что Малышеву понравится, добавил: — Вчера забегала в отделение, говорит, скучаю. Все вам передают привет и наилучшие пожелания.
— Есть у тебя листок бумаги и авторучка?
Юра щелк-щелк, открыл свой дипломат, достал листок, щелкнул авторучкой, удобно положил дипломат перед Малышевым, соорудил ему стол. Малышев написал коротенькую записку.
— Пожалуйста, Юра, отнеси ее сам Кучерову, проректору мединститута. Скажи хорошие слова о Кларе. Если не застанешь его в институте, узнай адрес, скажи, по просьбе Малышева, и поезжай к нему домой, выбери время.
— Будет сделано. — Юра положил листок в дипломат и снова с удовольствием щелк-щелк. — Между прочим, Сергей Иванович, персонал вверенного вам отделения советует вам меньше думать о делах и целиком сосредоточиться на своем здоровье. Просили взять от вас клятвенное обещание.
— Обещаю. Стены обязывают и койка. — Ему захотелось сказать что-то приятное Юре, в его духе приятное, и он поинтересовался, что за часы у Юры, почему с тремя заводными головками вместо одной?
— Заводной ни одной, — в рифму сказал Юра, — они заводятся сами по себе, от качания руки. Вот эта кнопка переводит дни недели, вот эта — дату и стрелки, а вот эта — секундомер. — Он легко отщелкнул браслет, снял часы и уронил их, да не просто уронил, а показательно брякнул об пол, тут же поднял их и поднес к глазам Малышева — часы продолжали идти, секундная стрелка прыгала с деления на деление. — А другие сразу бы рассыпались, и я ползал бы сейчас под койкой, собирал шестеренки, — уверенно сказал Юра, затем взял спички, чиркнул и приставил горящую головку к часовому стеклу, после чего опять сунул Малышеву под нос, торжествующе возвестив: — Никакого следа! А на других была бы красивая паутина и помутнение в виде бельма на глазу.
Малышев заметил ему — не для того же часы придуманы, чтобы их брякать об пол и жечь каленым железом. И тут же помрачнел — опять вспомнилась Катерина. Она мечтает о таких вот часах, а купить не успела, поскольку всю зиму они с Мариной были заняты поисками дубленки, непременно импортной. Дочь его ничего нашего не признает. Отломилась ручка у зубной щетки, ну так пойди, купи, их в галантерее навалом, — нет, она неделю зубы не чистила, пока не нашла щетку из ГДР.
— Юра, сколько может стоить дубленка?
— Вы серьезно, Сергей Иванович, или с подвохом?
— Серьезно. Не представляю — рублей двести, двести пятьдесят?
— Смотря какая дубленка, смотря откуда. По фирме. Такая, как на вашей дочери, минимум восемьсот.
Он удивился, но более того возмутился. Удивился такой бешеной цене на предмет первой необходимости — одежда все-таки, а не бриллиантовое колье, а возмутился, что они без него нашли такую сумму, без обсуждения с ним пошли на такую трату — по меньшей мере трехмесячная его зарплата! Катерина была счастлива, преобразилась вея, похорошела, даже выражение лица стало иным, он заметил, думал, дочь влюбилась, вон как расцвела, а оказалось — от вещи. Правда, одежина великолепная, что да, то да, опушка по всей поле, на рукавах и по бортам сверху донизу, а вместо пуговиц массивные такие застежки, предмет ее особого восхищения. Да еще в талию, стройнит. Не говоря уже о тепле. Но цена-то, цена! «Придет Марина, спрошу».
— Юра, а где ты видел мою дочь в дубленке?
При всех заскоках Юра славный парень. Женат уже, а жаль…
— Ну как же, прелестное созданье!
Опять же нынешняя манера, ответил сразу, но совсем не на тот вопрос, только по интонации ответ, а по существу увертка. Впрочем, Катерина заходила к отцу на работу. Вспоминал-вспоминал, когда заходила, так и не вспомнил. Во всяком случае до дубленки. Да так ли уж это важно? Встретились где-нибудь. Малышев знал, его семьей интересуются, особенно женщины, — как выглядит его жена, как дочь, что носят да как носят, и никому не интересно, о чем они думают…
— Ученые полагают, что в условиях правильной экономики не может быть проблемы дефицита, — продолжал Юра, раз уж Малышев сам нашел тему от больничных забот подальше. — Есть проблема цен. Восемьсот рублей, тысяча рублей считается чем-то средним, ценой ходового товара. Между прочим, в конце прошлого месяца в ЦУМе выбросили кожаные пальто дамские, из Югославии. Три штуки по тысяче рублей каждое. Девицы кинулись примерять, ахали, охали, потом ринулись к автоматам папе-маме звонить, а тем временем подошел небритый кавказец в аэродроме. — Юра описал над головой круг. — И купил все три пальто. «Беру, не глядя».
Догадается Юра, что утомил шефа, или придется ему помочь?
Телятников лежал, молчал, не мешал их общению, но вот возникла пауза после пальто и он задал наводящий, если не сказать провокационный, вопрос:
— А скажите, что на ваш взгляд является в наши дни главным злом?
Юра обернулся, глянул чуть свысока и ответил небрежно комплиментарно:
— Интересный вопрос. А если я скажу, что зла, как такового, нет, тогда что?
— Тогда — ничего. — Телятников ехидненько улыбнулся.
— Зла нет, — продолжал Юра уверенно, — как и добра тоже, все это абстракция, фикция. Если же взять конкретику, практику, есть притязания сторон, вполне обоснованные, причинно обусловленные.
— Логично, — согласился Телятников. — Правильно. При одном существенном дополнении: если притязания не одухотворены, вот как ваши великолепные пуленепробиваемые часы. Вещи нейтральны в отношении добра и зла.
Главреж не знал, что вещь вещи рознь в представлении Юры. Джинсы, к примеру, сущее добро, а вот брюки обычные шерстяные, отглаженные, со стрелками — зло смердящее.
— А как же русское «добру пропадать»? — живо нашелся Юра. — Язык отражает душу народа, добро — это скарб, вещи, одежда и прочее нажитое.
— Это языческое добро. А в христианстве, как известно, блаженны нищие.
— Видите ли, бог, к сожалению, умер. В прошлом веке, сто лет назад. Попытки реанимировать его ни к чему не приводят и не приведут. Возможна только замена его составной, синтетической моделью.
Как хирург Юра убежден, что нужно прекратить все попытки пересаживать сердце от донора — все равно ничего не получится, отторжение чужой ткани неизбежно и не преодолимо. Природа настолько щедра, что двух одинаковых организмов не было и не будет. Поэтому все мировые усилия должны быть сосредоточены на создании сердца искусственного, синтетика переносится организмом легче, чем живая, всегда активная ткань. На первых порах это будет целый агрегат, — не беда, пациент может сидеть в своем сердце, как пилот в кабине лайнера, и рычажками и кнопками регулировать давление, пульс, частоту сокращений, ритм, выход гормонов. Заодно можно ему туда вмонтировать цветной телевизор — все интереснее, чем забивать козла или строчить кляузы на соседей. При этом придется исключить всякие высоконравственные соображения, они лишь тормоз в развитии хирургии вообще и замены органов в частности. Изучение анатомии на трупе в средние века считалось делом безнравственным и преступным, а сейчас?..
Юра, наконец, ушел, а досада у Малышева осталась. Откуда Марина взяла эти восемьсот рублей? Сняла с книжки, допустим, но почему тайком? Пусть не отчитывается, но хотя бы посоветовалась с ним… Кстати, а куртка на Марине, или пиджак, или как там — жакет, что ли, тоже кожаный, сколько он стоит?
Но чего ради ты взялся считать-пересчитывать?.. Зашумело в ушах. Знал бы про ее шмотье раньше, обрушился бы еще тогда, а теперь лежи вот и жди, когда она явится. Да и не поздно ли теперь хай поднимать?..
Достал утку, справил нужду и поставил ее обратно в нишу под койкой. От того, что слегка приподнялся, приложил усилие, подступила тошнота и в голове зашумело. Закрыл глаза, увидел: лежит бревном, беспомощный и ничтожный, хотя по виду мужик целый и невредимый.
— Вынести? — спросил Телятников.
— Не надо, нянечка вынесет.
Раньше возле тяжелых больных постоянно находилась сиделка, сейчас они по штату не положены, вообще исчезли, хотя здравоохранение улучшилось. Да и нянечку ждешь-пождешь, не всегда дождешься. Самообслуживание и здесь прогрессивная форма, роль сиделок берут на себя соседи по палате. Главреж сам еле ходит, но про возможность услужить помнит. А Юра Григоренко лежал бы рядом и уповал на порядок во всех звеньях…
Пришла, наконец, Алла Павловна, без колпака сегодня — учтем, побывала у парикмахера — тоже учтем. Все ради своих пациентов. Вошла с улыбкой, неся сияние.
— Доброе утро, как вы спали?
Телятников ответил ей звучным своим баритоном и проделал процедуру вставания. Малышев вынул руки из-за головы и спросил, можно ли ему вставать.
Она измерила ему давление, опять не сказала, сколько, только дала совет:
— Сегодня вам лучше бы полежать. — И снова улыбнулась как давнему своему знакомому. — Вот вам развлечение, Сергей Иванович, — подала ему книгу в зеленой обложке, итальянский детектив.
— Спасибо. А курить мне можно?
— Нет, конечно. Вы вполне можете бросить, только прикажите себе. — Вон как хорошо она о нем думает. — А что вас беспокоит, почему так уж хочется закурить? — Типичный вопрос некурящего, привычку она исключает.
— Я лучше потом брошу, дождусь момента, — пообещал он.
— А вам не кажется, что момент самый подходящий?
— Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет.
— Как вам не стыдно, Малышев! — Она рассмеялась. — Ну что за чушь!
— Алла Павловна, если мой больной перед самой операцией решает бросить курить, я прошу его этот подвиг перенести на потом. Абстиненция, синдром отнятия, сказывается, как вы знаете, на общем состоянии, а тут еще предстоит наркоз и хирургическое вмешательство. Он у меня на столе дубаря даст.
— Но я же не собираюсь вас оперировать!
Чего, спрашивается, пристал? Три дня назад совсем не курил. Ищет возможности поболтать, поблажить? Да нет, просто хочется курить и все. Не в себе он, а она опять заладила свое, как вы спали, да что беспокоит.
— Давайте лучше поговорим о погоде, — сказал он. — Или о видах на урожай. Хотя с вами, наверное, чаще говорят о любви?
— Почему? — Она недоуменно подняла брови. — Да никогда не говорят. — Она обиделась.
— Извините, Алла Павловна. Эйфория. От повышенного давления. Которое вы от меня скрываете.
Он обидел ее своей вольностью, она посерьезнела, подобралась.
— Что вас беспокоит сейчас, Сергей Иванович?
О причинах она сегодня не говорит, не спрашивает.
— Может быть, курение? — предположил он невпопад, она не поняла, и он пояснил: — Я не курил три месяца, а тут пришлось закурить перед этим самым, перед вашим кризом.
При чем здесь «вашим», почему «вашим»? — несет его без руля.
— После какого-то события, вероятно, вы закурили, от неприятного известия?
Нет, не станет он ей рассказывать про всю эту муру.
— Алла Павловна, пока вы не разрешите мне вставать, я ничего вразумительного не скажу. Лежа у меня котелок не варит.
Он был возбужден, раздосадован непонятно чем и говорил несерьезно.
— Полежите, отвлекитесь, — она кивнула на детектив, — и не думайте о причинах.
Вот так, то думайте, то не думайте, — женщина, что с нее взять. Он так и хотел сказать, но она поднялась и перешла к Телятникову.
Очень быстро перешла, ему стало досадно, — куда торопиться? Но не сидеть же ей возле одного и слушать до вечера его разлюли-малину. Ему с ней приятно, а ей, видимо, не очень, вон как резво перескочила к соседу…
— Движения не резкие, Константин Георгиевич, с плавной нагрузкой… Давление у вас хорошее.
Малышев слушал и подыскивал для нее вопрос какой-нибудь существенный, для него оправдательный, но так и не нашел, не успел, спросил только, когда она уже была в дверях:
— Вы еще зайдете? — таким детски-обиженным тоном спросил, что она рассмеялась:
— Зайду-зайду.
Сегодня день визитов. Они не успели еще от Юры Григоренко отойти, как в палате появился Астахов, держа у живота обеими руками бутыль с мутной жидкостью.
— Не самогоном ли хотите меня потчевать? — забеспокоился Телятников.
— А кто его знает, надо открыть, попробовать. Написано «сок виноградный». — Астахов посмотрел на Малышева, галантно ему поклонился: — Здравствуйте, доктор. Вы меня, конечно, не помните. В семьдесят девятом мою маман оперировали.
Нет, Малышев помнил всех, кого оперировал, особенно раньше, а своих самых первых помнит как первую любовь, которой у него, впрочем, не было. Правда, старики и старухи действительно почему-то легче выпадают из памяти. Больше запоминаются дети.
— Вам дали тогда халат, вы завернули в него бутылку коньяка…
— Армянский, пять звездочек, — подсказал Астахов.
— И ждали меня возле кабинета, — напомнил Малышев.
— Ой, не говорите, двойную муку терпел. Не знаю, что с маман, — раз, а в руках бутылка непочатая, — два. Но терплю, ибо священный долг. Похудел килограмма на два.
Астахов пристроил бутыль на тумбочке возле главрежа.
— Новостей пока никаких, Константин Георгиевич. Кроме той, что я начал проявлять жуткую социальную активность. Или уничтожу этих вьюношей, или опять запью.
Тут на удивление Малышева Телятников загорячился:
— Сразу скажу вам, Слава, не уничтожите, и не думайте! Поверьте моему опыту, они всегда отобьются политической трескотней, на которую вы не горазды. Ставьте себе задачу поскромнее.
— Вы подавали заявление по собственному желанию, Константин Георгиевич?
— Нет.
— А они галдят, что вы подали и что оно уже везде подписано.
— Это их тактика, Слава, прием такой доказать свою силу, деморализовать коллектив. Дескать, захотели убрать и убрали. А что директор?
— Я говорит, не виноват, что так вышло с вами. Пошел к вам на свидание — не пустили, весь театр об этом знает.
— А как Зоя Сергеевна?
— В соответствии с ситуацией… Плохо, конечно. Звонки разные. Мальчишка — где папа? — Астахов махнул рукой.
— Не оставляйте ее одну.
— Гулькевичи с ней. И мы заходим. Хотели номер телефона сменить, она против — а вдруг из Москвы позвонят и скажут, что все не так?.. На грани уже. Да и… беременность. Держим, держим, Константин Георгиевич, на контроле держим. Ничего, как-нибудь. Лия Обалденная, Чингисхан, Леша Ковалев и я записались на прием к секретарю обкома, на пятницу. Плужника помните? Директор Дворца культуры комбината. Мужик серьезный, я его сто лет знаю, вместе в самодеятельности начинали. Говорит, есть мнение в нашу пользу. Тот, кто роет вам яму, сам в нее попадет. А я подтолкну обеими руками, пока трезв.
Боевитость его Малышеву понравилась, хотя Астахов говорил неосторожно, волновал главрежа, и Малышев постарался переключить разговор, спросил Астахова, как здоровье его матери.
— Здоровье отличное, спасибо, доктор. Только вот помирать собралась. Дождалась, говорит, когда сын бросил наконец-то пить, можно и на тот свет спокойно…
После обеда пришла Алла Павловна с профессором Сиротининым, они помаячили в дверях, то она его пропускала вперед, то он ее, рыцарское начало победило субординацию. Малышев тоже не подкачал, поднялся сквозь шум в ушах, но она шагнула к нему с неожиданной резвостью, обеими руками взяла его за плечи и уложила обратно.
— С удовольствием полежал бы с недельку, — начал Сиротинин, подвигая стул к койке Малышева и усаживаясь поближе к нему. Он в сером костюме, в белой сорочке, в черном галстуке, моложавится, да оно и понятно, жена у него лет на двадцать, если не больше, моложе его. — Я совершенно не исключал, что попаду к вам на стол, Сергей Иванович, но совершенно не собирался консультировать вас, как пациента. — Он взял у Аллы Павловны тонометр, фонендоскоп, измерил давление, не стал скрывать: — Сто восемьдесят на сто двадцать пять.
— Опять вы о делах! — сказала Алла Павловна недовольно. — Я не разрешу вам свидания, Сергей Иванович.
Значит, утром давление у него было поменьше.
— Устали, Сергей Иванович, переутомились, а отдыхать некогда, я угадал? — благодушно предположил Сиротинин.
— Пожалуй, нет, не угадали. Я и работаю и отдыхаю, как мне хочется.
— А может быть, вам только так кажется?
— От работы мне всегда хорошо. — Он повторялся перед Аллой Павловной, от этого ему неприятно, полегче надо, поменьше о своем трудовом героизме.
— Вам хорошо, а вашим сосудам, вашему сердцу? Вы спокойны, как будто, а они резонируют, равновесия жаждут, а его нет, баланс отрицательный, нежелательные эмоции, которые вы, как человек решительный, одним махом сбрасываете со счета. Сосуды реагируют молча, с ними особенно не поспоришь, Сергей Иванович. Вам хочется сейчас сказать, что попали вы сюда по ошибке, я угадал?
— Вы правы, не хочу болеть, не смирюсь.
— И не надо! И преотлично! Только не так бурно, Сергей Иванович, не так агрессивно. Мы с вами знаем, что никто из смертных не застрахован от перегрузок, от стрессов, от переутомления. Никто и ничто. Даже металл, бездушный конгломерат молекул, атомов, и тот, как известно, утомляется. Металл! А человек — живое и трепетное. Самое большее, что от нас с вами требуется в повседневной жизни — помнить о возможности переутомления.
— Есть люди, которые без конца говорят, что они больны-больны. Сдаются заранее.
— Но есть люди, которые думают, что они здоровы-здоровы, берутся за дело не по силам, и тут крайности сходятся, они тоже сдаются, не умышленно, а под давлением. Говорят, у мушкетеров не было ни инфарктов, ни кризов, и вы догадываетесь, почему. Чуть что не по нему, сразу дуэль, разрядка. Негодования, злости, ярости они не копили, не держали в себе эти факторы риска, а вот мы…
— Принцип мушкетеров я соблюдаю, — упрямо сказал Малышев.
— Ой ли! — усомнился Сиротинин. — В наших условиях это не всегда возможно, да-алеко не всегда!
— Бывают, конечно, ситуации, но не такие же, чтобы здорового мужика уложить с кризом.
— Капля долбит камень, Сергей Иванович. Капля, мелочь. Наша задача, ваша прежде всего, каплю сию обнаружить и источник ее уничтожить, ни дна ему, ни покрышки, чтобы мелочи перестали долбить. У вас есть дети?
— Дочь, — сказал Малышев, подивясь его догадливости. А может быть, он уже знает про Катерину? Или уже видел ее? И не в той ли кофточке с английскими каплями — тьфу, буквами? Впрочем, кому не ведомо, что такое современные дети, сколько они доставляют хлопот.
— У меня тоже дочь, — сказал Сиротинин и лицо его стало мягче, блаженнее, что ли. — Настенька. Если бы у меня ее не было, я это понял уже в семьдесят лет, если бы ее не было, то грош цена всей моей жизни, простите меня за банальность. Она мне все осветила, Настенька! Нынче перешла в десятый класс, учится посредственно, но меня это, по ее словам, не колышет, потому что она талантлива, она балерина в Народном ансамбле Дворца культуры комбината.
Малышев про Настеньку слышал, он мог бы сказать Сиротинину мнение Катерины — божьей милостью балерина, — но промолчал. Его семья знает про дочь Сиротинина, а вот семья профессора ничего не знает про дочь Малышева — «у вас есть дети?» — и это задевало его самолюбие. Впрочем, всегда как-то виднее семьи тех, кто повыше в должностях и званиях, это естественно. Он пытался представить себе эту Настеньку, существо, видимо, легкомысленное, поскольку она ни словом не обмолвилась со своим папочкой о Катерине, тогда как Катерина, существо тоже не слишком серьезное, прожужжала о ней все уши.
— Приходит поздно, жена спокойна, а я трепещу, воображение рисует мне страшные картины, будто ее обидели по дороге, ночь ведь, темнота, или в автобусе к ней пристали пьяные, я ей всякий раз на такси даю, монеты двухкопеечные для нее коплю, чтобы она непременно звонила, если задерживается. Три вечера в неделю у меня — массаж эмоций. Пока жду ее, ничем не могу заняться, мечусь по кабинету, готов по потолку ходить, все шаги на улице различаю — не она ли? Скоро ли? Священное писание вспоминаю: чего мы страшимся, то и случается. Молюсь — господи, охрани ее, защити! Наконец, звонок, я бросаюсь к двери, вижу ее и счастлив необыкновенно! Никто не дарил мне такого облегченного вздоха.
Малышев тоже ждет свою дочь в те же вечера по вторникам, четвергам, субботам, что и Сиротинин, иногда они вместе ждут еще и по праздникам, в День металлурга или в День строителя, когда ансамбль выступает с концертами, но Малышев не так уж чтобы очень волнуется. Занимается обычно своим делом, хотя и не совсем спокоен, но не мечется, по потолку ходить не собирается, — однако же криз почему-то не у Сиротинина, а у него…
— «Тебя провожают?» — спрашиваю. «А как же!» — и личико ее сияет от моей заботы, она тоже счастлива от коего ожидания, от эманации моей радости при виде ее. «Насколько регулярно тебя провожают?» — «Ой, папочка, настолько, что не могу отвязаться, я им конкурс устрою «а ну-ка, мальчики»!»
— Она у вас хорошенькая? — спросила Алла Павловна.
Сиротинин руки воздел выше плеч, словно перед присягой:
— Она прелестна. Допускаю, отец субъективен, но она само очарование.
— Ой, смотрите, Николай Викентьевич! — сказала Алла Павловна тоном: допрыгаетесь, довосхищаетесь.
— Понимаю вас, но она естественна, как птенец, как ручей, как сама природа. С ней ничего дурного никогда не случится, я все пойму, как надо, и все приму.
Малышев не знал, провожают ли Катерину, и не спрашивал ее. Мать за нее волнуется больше, тоже снабжает ее двояками и просит звонить. В этом смысле заботы родительские одинаковы на всей планете, тревоги за них глобальные. А они все равно сами по себе растут, своенравные и безудержные.
— Может ли она оставить балет ради меня? Нет, не может, и я об этом не прошу. Меня это сначала тревожило, а потом стало радовать. Я не сразу понял магию балета, а когда вник, ощутил его волшебство, я сам был готов танцевать, я открыл, что балетный ген ей через меня достался. В танце своя поэзия, своя философия, я радуюсь, что познал еще один вид наслаждения! — Глаза у Сиротинина блестели, он явно увлекся, забыл будто, зачем приглашен, и благодарен был слушателям, то на Малышева смотрел, то на Аллу Павловну. Она внимала, как показалось Малышеву, без особого интереса, терпеливо-вежливо, беспокоясь, видимо, за своего больного, — балет балетом, но здесь гипертония, профессор, что вы нам можете сказать о кризе?
— У Аллы Павловны тоже дочь, — вставил Малышев, — она вас очень хорошо понимает.
— У меня две дочери, к вашему сведению, но я бы не сказала, что счастья у меня в два раза больше. — Она коротко, с легкой горечью рассмеялась, и Малышеву стало остро жалко ее, он вдруг понял, что она живет без мужа, ставка у нее сто десять, за стаж еще тридцать, полставки в поликлинике, итого двести десять, а на такую зарплату не так-то просто содержать семью, к тому же, у нее девчонки, они то того требуют, то этого, им угодить трудно; не случайно старшая донашивает, как она уже обмолвилась, ее студенческие платья. Алла Павловна наверняка дежурит по праздникам, когда идет двойная оплата.
Сказав про дочерей, она замолчала, но Сиротинин учтиво смотрел на нее и ждал, чтобы она сказала больше, ведь он-то наговорил семь верст до небес, пусть хотя бы немного уравновесит, и ей пришлось продолжить:
— Младшая ходит на фигурное катание, но проблему ожидания я решила просто — сама с ней хожу, а иногда и катаюсь, правда, без тодосов и тулупов. Она у меня еще кроха, в пятый класс пойдет.
Она живет на свою зарплату, потому и висюлек нет. Отошли в прошлое, анахронизмом стали в наших условиях понятия богатства и бедности, сейчас у них синонимы — прожиточный минимум, достаток, обеспеченность, жить не по средствам, тем не менее, Алла Павловна, врач со стажем, живет бедно в сравнении, скажем, с аптекаршей горбольницы, та вызывающе сверкает золотом в ушах, в зубах, на пальцах, разлагает, развращает людей и, прежде всего, женщин, а пресечь ее жульничество Малышев не может, не доходят руки, хотя видно всем, гнать ее надо без всякого разбирательства на месткоме, без суда и следствия. Она сама создает дефицит и на нем живет-наживается. Она заявляет старшей сестре, что такого-то лекарства нет, но из уважения к ней лично, она, дескать, может достать за наличную плату. Сестра о том же доверительно говорит больному, по секрету, «иначе вы меня подведете», а больной родственникам — несите сумму. Медикаменты сейчас все дороже, особенно импортные, а когда их берут на курс да из-под полы, десятку, а то и две надо как минимум. Лекарственная тирания вместо терапии. Занозой сидит в Малышеве эта аптекарша, владычица наглая, но уличить ее, разоблачить он не в силах, — надо бросать больных, устраивать засаду, ловить за руку, криминалистическую лабораторию подключать, следователей ОБХСС, — государству обойдется дороже…
Алла Павловна заметила его отрешенность и сказала:
— Извините, Сергей Иванович, мы несколько отвлеклись.
Сиротинин понял ее слова как упрек в свой адрес и пояснил:
— Я хотел сказать, что всем нам нужна отрада, тихая пристань в житейских бурях, переключение эмоций и очищение от яда перегрузок. Есть у нас неплохие средства медикаментозные, но прежде нужна радость, надежда, именно отрада нужна, а если ее нет, надо искать и найти. Отрада — дети, семейный уют, отрада — книги, музыка, либо огород на даче, продуманный отпуск, альпинизм или по Енисею на плотах. И более всего — любовь, привязанность сердечная, как говаривали в старину.
Есть у него отрада — его хирургия. А все остальное… все остальное он никогда, кажется, не брал во внимание.
— Конечно, работа по душе — чрезвычайно важный фактор, — продолжал Сиротинин, — но этого сейчас, я убежден, мало. При любой работе нужна смена, замена, постоянная надежда на отключение-переключение, несущее радость, отдых…
Но работа его не с машиной, не с железом, не с деревом, а с живыми людьми, каждый раз новыми, разными, неожиданными. Ему несут радость и отдых глаза его пациентов, их лица, вчера искаженные гримасой боли, а вот сегодня, после его помощи, совсем иные, счастливые. Радость у него отраженная.
А любовь, что же… наверное, нет у него любви в том расхожем, романном, что ли, или киношном смысле. Нет ее и отсутствие не особо его печалит.
Просто ему некогда. А это как раз и значит, что нет у него возможности для смены-замены, для гор и плотов, для огорода на даче.
Странно однако… Малышеву вдруг стало Сиротинина жалко. Болезнь, видно, расшатала нервы, чувствительным он стал, шибко трепетным, и сейчас вот пожалел Сиротинина за его иллюзии, которые он себе так ярко создал, вдохнул в свою дочь идею, ему самому нужную, одухотворил ее танцы, относится к ней нетребовательно, пожалуй, не по-отцовски, и тем не только утешен, но даже и восхищен. Предупредить бы надо…
А может быть, Малышев ошибается и несправедлив к профессору, ибо у самого отношение к дочери совсем другое. Требовательность к ней он ставит превыше всего, и возможно, потому они с ней расторжены, отчуждены. Он не разделяет ее увлечения, поскольку сам слышал от нее не раз, что балетом она занимается для осанки и только. Нет в ней страсти, фанатизма. И никакой, конечно, магии, никакой философии ни дочь, ни отец в балете не видят. И если ему что-то надо менять, а менять надо, так это прежде всего отношение к дочери. Нельзя ему оставаться таким бесконечно требовательным, до произвола. Наверное, ему самому следовало бы догадаться, что дочери нужна дубленка, и самому ее купить. Сиротинин вон догадывается и везет Настеньке всякую дребедень из Токио, из Венгрии, Катерина рассказывала за ужином, — привезет, и всем радостно.
Сиротинин догадывается, а Малышеву не надо, у него другое на уме, он хочет, чтобы дочери его легче жилось в будущем, тогда как дубленка этому противостоит, он убежден — ориентация на дефицит чревата разложением, дурной жизнью, подменой истинных ценностей, стяжательством. Но если дочь тебя спросит, в чем они, какие они — истинные? Она покупает вещь зримую, красивую, весомую по цене, а ты ей хочешь взамен подсунуть одни лишь слова-слова…
— Что я вам могу посоветовать, Сергей Иванович? Не только лекарства, повторяю, нужен благоприятный климат семейный, на работе, а также и в себе некое равновесие. Ликвидировать конфликт с самим собой. Время у вас есть, подумайте, покрутите себя, как граненый стакан, присмотритесь к каждой грани. Обращайтесь ко мне, когда захотите, звоните, приезжайте.
Малышев поблагодарил, после чего консилиум перешел к Телятникову, и далее главреж не дал профессору и слова сказать, сам с нетерпением заговорил о балете, как будто только ради этой беседы и лег в стационар. Для врачей такие больные клад, они не застревают на своих жалобах, немощах.
— Любопытно, профессор, что у древних греков танец и музыка объединялись одним словом. На других языках такого слова нет, требуется два, а значит, и два понятия, поэтому у нас нет органического единения танца и музыки, и очень жаль.
— Да, вы правы, очень жаль. Мне порой кажется, что в сфере искусства за века цивилизации мы потеряли больше, чем приобрели.
И пошел у них изящный треп начитанных стариков, способный вызвать улыбку у непосвященного.
Какой конфликт с самим собой имеет в виду профессор? Какие-такие грани в себе должен осмотреть Малышев?..
— Прекрасно пишет об этом Поль Валери: балет — это хоровод граций, телесные волны от дуновения музыки, это освобождение бренного тела от реальности, от скудных наших целей куда-то идти, куда-то бежать.
— Да, это действительно так, — вторил Сиротинин главрежу. — Когда я смотрю на балетное действо, мне так и кажется, что в далеком прошлом все люди были вот такими пластичными, грациозными, а потом их заели заботы, и они стали просто ходить, стоять и сидеть.
«И еще лежать, — мог бы добавить Малышев, — да к тому же на больничной койке».
— Наша беда, знаете ли, в том, что всему мы жаждем дать объяснение, — вдохновенно говорил Телятников. — Появились искусствоведы, уже как профессия, они паразитируют на прекрасном теле искусства, которое рассудку не подвластно принципиально.
— Да, вы правы, рассудок мешает моему непосредственному восприятию. Почему, спрашивается, глазам или ушам я должен верить меньше, чем языку?
Они переключились на прошлое, на двадцатые годы, Айседору Дункан вспомнили, футуристов, Хлебникова, поиски нового языка.
— А помните, было такое слово ХЛАМ? — сказал Телятников. — Оно объединяло в себе художников, литераторов, артистов и музыкантов.
— Да-да, — подхватил Сиротинин. — Было еще слово СОР — старые ответственные работники. А «шкраб» вошло в официальные документы, потребовался приказ Луначарского называть школьных работников полностью…
Сиротинин все-таки умудрился попутно с воспоминаниями выслушать больного и дать кое-какие советы, а когда они с Аллой Павловной удалились, Малышев отметил, что в разговоре с соседом профессор ни слова не сказал о Настеньке. Телятников же заметил другое:
— Вы обратили внимание, он мне ничего не сказал про калики-моргалики. Я имею в виду лекарства.
Малышев знал, чем моложе врач, тем он решительнее ставит диагноз, а назначения выписывает гирляндами, сестры за время дежурства не успевают все выполнить.
Интеллигентно, мило, без паники, но зачем он, собственно говоря, приходил? Что он увидел, нашел, понял как профессор терапии? Что добавил Алле Павловне или ему, пациенту? Пожалуй, — успокоение, не волнуйтесь, больной, за вами зорко и со знанием дела следят. К тому же, надо уважить известного в городе коллегу Малышева. А кроме того, личное — жена, видите ли, просила.
Раньше консультации профессора были делом исключительным, а теперь стали нормой. Каждому больному подавай светило, собирай консилиум, как будто лечащий врач уже не врач, а так, дежурный диспетчер. Почему стали мало верить врачу? Усложнились болезни или просто-напросто возрос эгоизм, побольше хочется жить, подольше. «Бог дал, бог взял» уже не годится, на силы небесные надеяться стыдно, мы материалисты, и потому живем все дольше. В начале прошлого века средняя продолжительность жизни в России равнялась тридцати годам. Нынче она в два раза больше. Во времена Екатерины II в стране было двадцать миллионов жителей, теперь стало двести семьдесят миллионов, несмотря на смертоносные войны — Отечественная с Наполеоном, Крымская, турецкая, японская, германская, гражданская, наконец, Великая Отечественная… Пройдет еще двести лет и сколько нас будет? Философы говорят, что человечество в целом живет само по себе и не управляемо, как стихийные силы природы. Стихия сама себя и задорит, и укрощает, сама себя регулирует, а человек, в частности, врач, вмешивается самонадеянно. Нет, не станет давление нормальным от таких размышлений.
Любопытно, что там написал Сиротинин в его истории болезни? Озадачил Аллу Павловну, обязал. Если больной отказывается от назначений лечащего врача, это еще полбеды, но когда он отказывается от назначений консультанта, тут уже все отделение на дыбы, уже не о больном речь, а о врачебной исполнительности, ответственность переключается.
Нет, не облегчил профессор состояние Малышева, а скорее даже нагрузил. А чем — пока сразу не ухватить. Не по причине же стариковской болтливости он так много говорил о дочери. Он подсказывал тему Малышеву и надеялся, что тот заговорит о своей дочери и что-то в себе приоткроет. Может, так, а может, и не так.
Подозрителен ты стал, мнителен. По-твоему, кто бы теперь о чем ни говорил, все направлено в одну точку — ради успокоения, причесывания, сглаживания эмоционального фона. Занятно, что бы сказал Сиротинин, стань ему известной история с Витей-дворником?
Все-таки, Малышев, ты слабак, импульсивный, слишком вегетативный. Не воспитал в себе чувства достоинства. На худой конец, чувства юмора. Лежишь теперь и выговорить не можешь, чем тебя встряхнуло, мягко говоря, слишком мягко, ибо для криза требуется не мелкая встряска, а потрясение. Досадно, что вот так — с дворником-то… Да и с Катериной тоже… Да и с путевкой злосчастной. Не в одном ли ряду все это?
В одном.
Но тогда вопрос — почему его не поддерживают, не усиливают его созидательный гнев, правоту его, страсть его по наведению порядка? Как раз все наоборот — гасят, успокаивают, советуют изменить жизнь, как будто он хулиган, дебошир и прочее. Изменить с терапевтической, видите ли, с лечебной целью. Смирись, гордый человек, давно было сказано, тысячи лет талдычат, а человек не смиряется. А коли так, то вот тебе неотложка, вот тебе палата, лечащий врач и консультация профессора — последствия твоей социальной активности.
И Алла Павловна улыбается ему с той же целью — с лечебной. Ему и в самом деле легче от ее присутствия. И доза здесь чем больше, тем лучше, интоксикация не грозит. Улыбка как средство обезболивания, — надо бы сказать ей об этом и развить тему вполне научно. Будущее анестезиологии — в улыбке. Станет красна девица за операционным столом и будет улыбкой гасить боль от ножа. При условии, конечно, что ты эту женщину любишь. И преисполнен мужского самолюбия, рыцарства и отваги. Представил Данилову в операционной… Но ведь и ее улыбка для кого-то прелестна! Тем более, если ничего не знать.
Все-таки ничего не знать — лучше, чем знать слишком много. Внедрялась теория лет десять тому назад: отрицательные эмоции, якобы, от дефицита информации. Сущая чепуха — от избытка. От фактов. Каких только не бывает фактов!
Привезли как-то больного с перитонитом, подзапущенным, из района, долго выхаживали, дренаж, перевязки, и в мышцу антибиотик, и в вену, кое-как спасли. Молодой еще человек, тридцати лет, между прочим, учитель. Что выяснилось в анамнезе? В селе у них дед Матвей лечит водой, обыкновенной холодной — водопроводной, колодезной, речной, какой угодно. Приходят к нему с двумя банками, дед над банками пошепчет-пошепчет, перекрестит их сверху, закроет крышкой или тряпкой завяжет, получит по пятерке за банку, после чего дает наказ, как этой водой пользоваться: в первые три дня по полстакана четыре раза из первой банки, во вторые два дня по полстакана три раза в день из второй банки, в третьи четыре дня по стакану два раза из первой банки. Пациент поморгает-поморгает на такую головоломку, пытается переспросить, но сзади его уже очередь подпирает с банками, шевелись-пошевеливайся, выложил червонец и беги лечись. Если же к деду являлись с рекламацией, мол, не помогает твоя вода, он тут же устраивал экзамен, как принимал, по сколько да из какой банки, обязательно собьет с панталыку и прогонит: «Иди в полуклинику». У деда Матвея две новых «Волги», дом выше сельсовета, есть личный шофер съездить в город, положить деньги на книжку. Учитель вынужден был обратиться к деду «из уважения к народу». У него был приступ аппендицита, сельский врач предложил операцию, учитель отказался, вскоре боль в животе прошла без операции, подтвердив, так сказать, правоту больного. Но через полгода второй приступ, врач опять операцию, больной снова отказ и снова «одержал победу», поглотал таблетки бесалола, анальгина, еще там чего-то и выздоровел. А потом уже и третий приступ, да посильнее прежних, к врачу уже идти нет смысла, ничего путного он не предложит, кроме операции, а боли держатся, температура не спадает. Тогда жена его, тоже учительница, повела мужа, да что повела, повезла уже к деду Матвею, поскольку сам дед по вызовам не ходил, принимал только в своих хоромах. Решение везти мужа своего просвещенного к темному знахарю учительница подкрепила цитатой: обманывать можно одного человека, можно обманывать двоих-троих, но весь народ обманывать невозможно. Приехали, а к деду очередь стойкая, по записи, к нему не только из других сел, из других областей едут, телеги вокруг, мотоциклы и даже машины. Устроить дело тайком не вышло, сам дед Матвей всей очереди твердокаменной объяснил, что учителя надо пропустить, он учит внука деда Матвея и сам дед сильно учителя уважает. Вместо тайного посещения вышла громогласная деду реклама. Освятили сеятели просвещения свои банки, начал больной пить, а температура все выше, боли все сильнее, он к врачу уже с мольбой, тот рад бы помочь да поздно, вызвали санитарный самолет и отправили больного в город, усилив тем самым рекламу — пока ходил к деду Матвею, был жив, а обратился к врачу, тут же и увезли помирать на самолете. Малышев расспрашивал потом горе-учителя, как он дошел до жизни такой, тем более, что пациент оказался совсем не таким глупцом, как можно было о нем подумать. Дедово лечение не помогло, как он считает, из-за высшего образования, оно лишило учителя той слепой, но спасительной веры, которую сохранили другие, невежественные люди. Посвятив себя селу, он вынужден был перенимать нравы, чтобы не казаться всем белой вороной. Если раньше прогрессивный учитель вел за собой темных и забитых, то теперь прогрессивный должен понимать, что народ у нас не темный и не забитый, так что не заносись, не выпендривайся, а уважай и цени вековечные мудрости. Началось с автобуса. Из села на станцию, где была библиотека, книжный магазин и прочие очаги культуры, ходил автобус, билеты лежали рулоном возле шофера, клади гривенник, если ты честный, и отрывай, если ты — какой? Вот тут загвоздка. Поначалу учитель клал гривенник и отрывал билет, а потом заметил, что кладут все, а билеты не отрывают. Можно ли их назвать честными? Вполне, поскольку за проезд каждый платит. Но можно ли их назвать сознательными? Нельзя, поскольку билет они не отрывают, а шоферу самому отрывать и подавать некогда, он баранку крутит и за дорогой следит. Следовательно, шоферу идет навар. Учитель понял, что в этом — не отрывать билета — некая порядочность местная. Они сознательные на свой манер. Если шоферу от такой работы польза, зачем лично я буду его такой пользы лишать, что мне, больше всех надо? За проезд мной заплачено, а дальше я ведь не просто билет отрываю, я из кармана труженика гривенник выгребаю. Оторванный зря билет как бы ложится пятном на их совесть. И никакими доводами их не вразумишь, учитель и не пытался никому вдалбливать, как надо ездить в общественном транспорте, они и сами знают. А начни вразумлять, тебе тут же насуют фактов, как порядок нарушается самими его учредителями, пусть не всеми, но отдельными наверняка, и хапают они не гривенниками, а тысячами, пусть даже один хапанул, для молвы на селе хватит и одного. У них не потворство наживе, у них нежелание всякий раз подвергаться испытанию на сознательность, презрение к обузе. Пришлось учителю сделать вывод, что честность и сознательность не одно и то же. Изменилось представление о должном. Если раньше было явным геройством стаскивать трактором купола с церкви, то сейчас такого героя охают и заплюют, хотя сами ни в бога не верят, ни в черта, — не трожь, если не тобой поставлено, не лезь, куда тебя не просят, не заносись, будь как все, слушай, что тебе говорят. «Дед Матвей лечит от всех болезней, дед спасает народ», — твердит стоустая, тысячеустая молва, все идут к нему и едут, выкладывают десятку без сожаления. Бесплатная помощь в «полуклинике» она и есть бесплатная, ничего не стоящая. Одним словом, надо верить слепо, тогда поможет самая что ни на есть чушь.
Малышев знает, мобилизация резервных сил организма, проще говоря вера — великое дело, но если у тебя аппендицит, то сначала все-таки нужен скальпель, и все это обязаны знать, поскольку у нас всеобщее среднее образование. Всеобщее — бесспорно, но можно ли его назвать образованием, просвещением, если растет число обращений к знахарям? На селе — один дед, с крещеной водой или с куриным пометом, в городе уже другой — с биополем, с экстрасенсорным воздействием, и тут уже маху дают не только учителя, но даже именитые академики с широкой возможностью якобы научной аргументации. Малышеву претят все эти премудрости о биополях с невыясненной энергетической основой. Пациент должен идти на стол, веря хирургу, а не как обреченный, не как вынужденный прибегать к устарелому мясницкому способу, тогда как на Филиппинах, видите ли, применяется бескровный метод резекции желудка, почки, легкого и всего, чего хочешь. Малышев верит в скальпель и порукой тому служат сотни, тысячи спасенных им жизней, а все эти биополя для него — игра воображения, поэзия в лучшем случае, но не медицина…
Зачем все-таки приходил Сиротинин? Неужто Малышев так серьезно и так непонятно, замысловато болен, что потребовалась консультация профессора? Посидели, поговорили о том о сем, такого случая не представилось бы вовек, не окажись Малышев на больничной койке. Профессор ему дал совет найти равновесие, но и Малышев мог бы кое-что посоветовать профессору. Зачем, к примеру, он так опрометчиво весь смысл жизни вкладывает в свою дочь-школьницу и живет иллюзией, которую очень легко разрушить?..
Равновесие нужно для устойчивости, спору нет. А если тебя качает, мотает, если ты — маятник у часов с гирями повседневности. От качания маятника стрелки показывают время, наш день. Мотает его и мотает, зато другим пусть будет видно, какое у нас время.
Сиротинин все-таки надоумил тебя поразмышлять. Он высказал свое отношение к дочери, любовь свою к ней, понимание ее дара. Профессор не знает подробностей, особенностей среды твоего обитания, но он видит нежелательный для тебя результат и дает наказ изменить жизнь. Но как, в чем? Начать восторгаться танцами Катерины? Надо бы, да у него не получится, человек он сугубо практический, потому и хирург, а не философ. Хотя бывают и хирурги философы, Юра Григоренко, к примеру, или Амосов.
Вся беда, наверное, в том, что нет у него гармонии между хочется и можется. Хочется упорядочить окружение, а оно сопротивляется, вот вам и конфликт. Хочется ему быть хозяином жизни, а она настолько разнообразна, свободна и в принципе бесхозяйственна, настолько не поддается упорядочению, что конструкция его сломалась. Надо, следовательно, приспособиться, изменить себя, гнуться надо, чтобы не сломаться, а он не умеет, не может, не хочет. Не хочет смиряться перед чьей-то волей, перед тем, кто его будет гнуть — по какому праву? Почему тот выглядит более убедительным, весомым, жизнеспособным, чем он вооружен? Да ничем. Дребеденью цинизма, делячества, беспринципности.
У Юры он взял пачку сигарет. Вредных для будущего, но живительных в настоящем. «Изменил жизнь». Выложил из пачки три штуки, установив таким образом для себя норму. Три белых палочки как вехи его дневного пути. Маяки надежды. Пока он терпит, не закуривает, все три надежды могут сохраниться до вечера. Вот и появился смысл, три бумажных палочки с зельем. Он терпит и не так уж тяжело ему, потому что он знает о своем богатстве, оно не убывает, а наоборот, прибывает с каждым часом. Чем больше пауза, тем больше к себе уважения, и если дело так же пойдет и дальше, то к вечеру у него вместо одной сигареты будет целых три. Он растягивает промежуток и убеждается в своей силе. Знает ли об этом его лечащий врач? «Надежда, мой компас живой, а удача награда за смелость…» Только не покидайте меня надолго…
Настал день, когда Алла Павловна разрешила ему прогулку. После ужина он взял сигарету, первую из трех, спички, влез в махровый халат и вышел во двор. Здесь прогуливались больные, было их немало и показалось, что все они его знают. Стало неловко — не тот на нем халат. Все-таки, если уж врача прихватило, надо как-то особняком его госпитализировать, либо дома уложить, не выставлять напоказ. Простая людская логика — сам болеет, а других намеревается вылечить. Водворение врача в больницу сродни его дисквалификации. Но не сидеть же сидьмя в палате, к тому же есть утешение — здесь, в областной, больше лежат из районов, если не считать отделение для руководящих товарищей, а городские недужные там, у него в горбольнице. Однако утешение тут же было поколеблено, едва он направился было к журчащему фонтану, как послышался оклик:
— Приветствую вас, доктор Малышев! Как говорили наши предки, врачу, исцелися сам?
Малышев едва узнал Гиричева, журналиста из областной газеты — худой, изможденный, сутулый, в блеклой пижаме и с серым, мятым-перемятым лицом язвенника. Года три назад Гиричев ездил к нему «за материалом», чуть ли не книгу собирался писать о Малышеве, видно, не получилось, но статью он написал и довольно пространную, даже премию за нее получил. Для закрепления знакомства Гиричев приводил к Малышеву на консультацию свою жену, затем тещу, затем жену своего главного редактора, потом еще кого-то. Перестал он звонить и появляться с год назад, когда сам заболел, но к Малышеву, ясное дело, пойти побоялся — предложит операцию.
— Давление, — односложно пояснил Малышев свое пребывание здесь и закурил — еще одна польза от сигареты, сунешь ее в рот и можешь молчать по уважительной якобы причине.
— А у меня язва, язви ее.
Прежде Гиричев выглядел иначе — бодрее, живее, не сутулился, а главное — глаза, цепкие, наблюдательные. Не особенно вроде бы вникая в больничные дела, без нудных расспросов многое успел заметить и задавал Малышеву вопросы не в бровь, а в глаз: «Из каких фондов вы получаете белье, простыни, одеяла? Ведь рванье у вас, смотреть страшно».
Вместе пошли к фонтану, сели на скамейку из крашеных жердей, Гиричев тоже закурил, хотя ему-то уж совершенно нельзя, и начал так, будто они с Малышевым только вчера расстались:
— После завтрака сбегал в самоволку через забор, взял три пачки «Медео», одна уже на исходе. А жена считает, я завязал, оставляет мне только копейки звонить из автомата. Пришли коллеги, занял пятерку.
Прежде у Гиричева была уважительная к Малышеву интонация, как и принято у корреспондента к своему персонажу, а теперь никаких таких интонаций, тут, наверное, уважать надо того, кого больше прихватило, чей козырь, так сказать, выше. Они словно бы вышли временно из игры, получили тайм-аут, и теперь можно посидеть, покурить, отдохнуть и не соблюдать правил. Игра у них в жизни разная, роли разные, но вот вышибло из колен, и они стали одинаковыми.
— Пятерку потрачу, скажу, пусть мне сюда зарплату несут, не хочу жене открываться, у нее тоже, кстати, давление. Да и соседу надо долг возвращать. Приголубили с ним вчера бутылец «Пшеничной» — и ничего, хотя у него диабет, ни капли нельзя, как врачи говорят. — (Малышев будто уже и не врач). — А долг платежом красен, завтра моя очередь выставлять бутылец, тем более, что сосед мой из народного контроля, зоркий глаз. — Гиричев докурил сигарету, тут же от нее прикурил другую. — Кстати, спички здесь дефицит, учтите, сестры по тумбочкам шарят, курение, говорят, губительнее действует на тех, кто рядом сидит, лежит и тэ пэ. Так не сиди, кто тебя просит? — Он говорил, говорил, будто дорвался до слушателя после долгого молчания, а может быть, хотел Малышева насупленного развлечь-отвлечь. — Бросил я курить в день поступления — сразу боли усилились. Докторица мне — потерпите, это временное явление! А я ее спрашиваю, что не временно, что вечно? Лошади на Большом театре? Или наша с вами жизнь не временна? Вечны только взяточники-преподаватели, жулики-продавцы. А я вот сижу-куру и тем облегчаю себе остаток — чего? Жизни, той самой, которая прекрасна и удивительна. А вы что, как сподобились, вроде все было в ажуре? Что-нибудь на работе?
— На работе порядок, — сказал Малышев, дескать, не волнуйся, ты правильно написал, что у Малышева в отделении все надежно и основательно.
— На работе порядок, значит, в семье сикось-накось, — утвердительно продолжал Гиричев. — Это наша уже возрастная беда, подросли дети и начинают колбасить. Медицине пора бы уже вплотную заняться биологической несовместимостью родителей и детей. Поистине бич божий! Старший у меня офицер, щит страны, чин-чинарем, зарплата, квартира, а младшему семнадцать лет и уже алкаш законченный, ампулу вшили и бумагу с красной полоской выдали — в случае оказания медицинской помощи спиртовых растворов не применять. Ну да вы знаете, как это делается.
Малышев не стал возражать, хотя про вшивание ампул и бумагу с красной полосой ему мало что известно. Медицина до того расслоилась, специализация до того раздробила некогда единое целое, что не уследишь, как и что применяют смежники. А уж чем заняты психиатры — вообще темный лес.
— За старшего я спокоен, тем более, что он в Панфилове, за тыщи верст, а младший нет-нет да меня госпитализирует. Алкаш-алкаш, а нахватанный, спорит со мной, поносит всех и вся. Зачем мне, говорит, учиться, если диплом за взятку можно купить? Зачем работать, если везде воруют, а я не умею? Тошно мне его слушать, а иногда думаю, что пить он начал от элементарного страха перед жизнью, честно не проживешь, а нечестно — нужны способности, которых нет. Возражаю ему с пеной, хотя сам знаю, действительно, нет профессии, морально не скомпрометированной, даже врачи взятки берут, для вас это не секрет.
— Болтовни больше. — Малышев докурил сигарету и, черт возьми, захотелось тут же, вот как его собеседник, закурить и вторую. Но просить сигарету не стал, а свои, слава богу, оставил в палате.
— Да не-ет, доктор, дыма без огня не бывает, — продолжал Гиричев возбужденно, курение его заметно взбадривало. — Вот настанет у вас день выписки, чего я вам поскорее желаю, и не станете вы своему лечащему врачу тюльпанчики дарить или гвоздички, а непременно духи, да подороже, французские или на худой конец арабские. И так оно везде, что говорить! Зараза какая-то, отрава. На что книги, святой товар, духовная пища. На продавцов в книжном я всегда смотрел с почтением, а то и даже с сочувствием — никакой у них прибыли, выгоды, не мясной у них товар и не сливочно-масляный, а сейчас и они гребут. Стоит сиротинушка с постным личиком, на прилавке собрание сочинений какого-нибудь нашего всемирно известного, никто не берет и задаром, зато под прилавком у нее «Анжелика — маркиза ангелов», тираж полтора миллиона и цена по номиналу три с полтиной, значит, минимум целковый за экземпляр ей на лапу положь. Приемщики макулатуры с наваром, приемщики стеклопосуды с наваром, о таксистах и официантах говорить не будем, у хозяйственников приписки, у строителей недоделки. А потом детей обвиняем, совсем как по старику Некрасову: «И видя в детях подлецов, и негодуют, и дивятся, как будто от таких отцов герои где-нибудь родятся». Только и вкалывают на совесть шахтеры и металлурги, наш брат-газетчик, да еще, пожалуй, рыцари метлы — дворники.
Дворник у Гиричева оказался уже чище врача, возьми себе на заметку, Малышев.
— А вы не думали, доктор?..
Он забыл имя Малышева — «доктор» — и Малышева это задевало, ведь столько раз Гиричев обращался к нему и как журналист, и как протекционист, а вот теперь доктор «упал с коня» и утратил право на имя и отчество.
— А вы не думали, доктор, над проблемой — почему бы врачам не разрешить частную практику? Или хотя бы узаконить отвод врачу, о чем «Литературка» уже писала? Сразу будет видно, кто действительно врач, а кто всего лишь дипломированный специалист, народ с ходу разберется.
— Частная практика, которой занимаются знахари, шарлатаны, мошенники, показывает, что ваш хваленый народ невежествен, склонен распускать и поддерживать всякий вздор, так что вы напрасно наделяете обывателя компетенцией решать, кто врач, а кто не врач. Я, как вам известно, консерватор, установившийся порядок не мешает мне нормально работать, даже наоборот. Плата за услуги врачу на мой взгляд бесчеловечна. Врач во все времена обязан был лечить безвозмездно и раба, и хозяина, и друга, и врага, и черта, и ангела.
— Мне всегда нравилась ваша последовательность, — признался Гиричев. — Ваша способность к простой раскладке явлений довольно сложных. Но вы действительно консерватор со всеми вытекающими отсюда выводами. Вы пытаетесь отстраниться от требований жизни, а это бесперспективно. — Он докурил вторую сигарету и тут же прикурил от нее третью.
— Да хватит вам! — не удержался Малышев. — Смалите одну за другой, а потом приступ.
— Нет, доктор, нет, я себя уже знаю.
— Меня зовут Сергей Иванович. — Малышев помнил имя Гиричева, но называть его не хотел.
— Я знаю, знаю, — без обиды отозвался Гиричев. — А вот грядут еще два пикейных жилета.
Подошел тучный, бритоголовый, в синей пижаме старик лет семидесяти и с ним, словно для контраста, худой и значительно моложе, с длинными жидкими волосами, в синем трикотажном костюме, в домашнем, что Малышеву сразу же не понравилось. Пустяк в сущности, но больница есть больница, тебе здесь служат, изволь подчиняться и надевать то, что тебе выдано, коли сюда попал. Оба кивнули Гиричеву как своему, как кивают при сборе партнеры для преферанса. Все они хроники, понял Малышев, привычные собеседники, взаимные утешители и информаторы. Малышева они не знали или не узнали, да и не актер же он, не Джигарханян и не Миронов, чтобы все его в лицо знали. Тем не менее анонимное его присутствие вызывало у него ощущение неловкости, ему не хотелось сливаться с ними, он не мог представить себя вне врачебных обязанностей.
Теперь их стало четверо, но разговор, под привычным дирижерством Гиричева, с его репликами и монологами, не изменился, — все больше о недостатках, о головотяпах и бюрократах. Да и где, в какой компании у нас говорят о достижениях? В достижениях не может быть никакой новости, потому что об этом постоянно говорят по радио. А в тесном кругу, тем более в больнице, куда интереснее поделиться информацией неофициальной. Разве только глупец отважится здесь говорить прописные истины. Здесь свой такт, своя манера, свои оценки.
— Долбанули мы в прошлом месяце автосервис ВАЗа за взятки. Материал готовили основательно, не только по письмам трудящихся, но послали туда специально своего литсотрудника на папином «Жигуле», и он подробнейшим образом дал отчет, как вынужден был совать рубли, трешки, пятерки, начиная с вахтера при въезде. Дали мы материал и сразу поток писем с гневом и возмущением — давно надо эту лавочку разогнать. Откликов хоть пруд пруди, священный гнев читателей полыхает, одного только отклика не можем дождаться — от самого автосервиса, чтобы дать «по следам наших выступлений». Ждем-пождем, подготовили в печать напоминание, а им тем временем присудили первое место по итогам соцсоревнования, да еще знамя вручили. Утерлись мы со своим гвоздевым материалом! Если на первом месте такой бардак, то можно представить, что там творится на втором, на третьем. А тут еще звонок — вы поспешили с этим материалом, некрасиво получилось. А возразить смельчака не нашлось, что не мы поспешили, а вы промедлили. Разве критическое выступление областной газеты не повод для того, чтобы отказать в каком бы то ни было поощрении рвачам и взяточникам? Всегда был повод, я тридцать лет в газете! А теперь, видишь ли, поспешили, людей насмешили.
— Направили бы материал в ЦК, — сказал Малышев.
— Через голову начальства прыгать? А мне до пенсии еще вкалывать да вкалывать.
— За городом дача стоит в райском саду, — сказал в синем трико и продолжительно, с перекатом рыгнул. — Продана за сорок тысяч. Кто ее строил? Начальник СМУ. А кто купил, выложил такую кругленькую сумму? Начальник автоколонны. Где он их взял, сорок тысяч, с какой зарплаты? У нас вообще кочуют из рук в руки десятки, сотни тысяч и даже миллионы, минуя государственный бюджет.
— Наша страна богатейшая в мире. Если я себе возьму малую толику, ее не убудет, такова психология, — пояснил Гиричев.
Бритоголовый в разговор не вступал и по виду его, несколько сонному, нельзя было понять, задевает его такой разговор или оставляет равнодушным. Старый, больной, том не менее молчал он как-то значительно, возможно, ждал своей темы, но пока ничего подходящего не услышал.
А Малышеву стало скучно. Почему? Ведь говорят остро, говорят правду, приводят факты, он верил — не выдуманные, значит, все это возмутительно, однако же «правда, одна только правда, а значит, и несправедливо»…
— На зарплату нельзя прожить, потому и воруют, — убежденно сказал в трико и опять раскатисто рыгнул, словно сила рыгания у него прямо зависела от степени убежденности, хотя на самом деле у него анацидный гастрит. — В среднем сто двадцать в месяц, как человеку жить? За квартиру плати, за питание, за одежду. А дети?.. Потому и воруют.
— Но почему воруют не на кусок хлеба, а сразу на вагон масла? — поставил проблему Гиричев. — Телевизор ему обязательно цветной, гарнитур Людовик Шестнадцатый за три шестьсот, ковер индийский за две пятьсот, на велосипеде пусть во Вьетнаме ездят, а мне «Жигули» подавай. Откуда такие запросы?
— Но это же естественно, он хочет жить как все, — пояснил в трико.
«Как все» — главный довод Катерины.
— Кто они такие, ваши «все»? — подал, наконец, голос Малышев. — Я специалист с двадцатилетним стажем, нас таких много, если не большинство. Но я ничего этого не имею, мало того, я не помышляю об этих прелестях. Полагаю, что и вас не особо прельщает этот джентльменский набор. Так кто же они такие, эти ваши «все»?
Тощий поморщился, будто Малышев в общем хоре пустил петуха, а тучный посмотрел на Малышева так, будто он только что подошел и с ходу влез в беседу. Однако ничего не сказал, видимо, жару еще пока маловато, чтобы зажечь его, флегматичного.
— Тут не в зарплате дело, — решил Гиричев. — Народ в общем и целом живет в достатке, с этим спорить не будем. С продуктами туговато, с мясом, с маслом, но все как-то умудряются, ухищряются и отнюдь не голодают, что там говорить. — Он стал осторожнее, поняв, что Малышев принял стойку. — Дефицит постоянно то на одну вещь, то на другую, всем чего-то хочется. Но, спрошу я вас, почему дефицит не на примусные иголки, как было когда-то, не на копеечную вещь, не на рублевую, а именно на сотенный, на тысячный товар? Как-то был в столице, иду, гляжу — очередь. За чем? — врожденное любопытство. За шапочками из белой норки по триста пятьдесят рублей. Очередь! Такая же, как в сороковые-роковые за хлебом. И не академики роятся, не артисты народные, не высокооплачиваемые трудяги, а все одни и те же гости столицы.
Малышев сидел будто на экзамене, ему задают вопросы, а он молчит, его стыдят, а ответа у него нет. Он закипал медленно, но верно, словно упреки звучали не вообще, не разговора ради, а ему лично за неверно прожитую жизнь, за безучастие, за попустительство там и сям.
— А загранкомандировки возьмите, — не унимался Гиричев и повернулся к тучному: — Федор Тимофеевич, а вы что молчите, будто вас не касается?
— Я на пенсии, — тучный неожиданно улыбнулся ясной детской улыбкой.
— Наготовили нам делов, а теперь за пенсией хотите спрятаться? — грубовато-ласково продолжал Гиричев. К толстяку он относился с почтением, как понял Малышев, видимо, тот занимал прежде важный пост.
— Я на пенсии, — повторил тучный уже без улыбки. — Читать стал много, раньше времени не было. Журналы, газеты и все подробно. — Говорил он мягко, с явным украинским акцентом. — Попалась как-то критика на поэта.
— А что я вам говорил, Федор Тимофеевич?! — перебил его Гиричев восклицанием. — Начали писать стишки для внука, через год потребуете книгу издать, а там потянет вас и в Союз писателей.
— Не потянет, — серьезно ответил тучный, юмора не принимая. — Так вот, про того поэта. У него стихотворение — идет дама и в каждом ухе по «Волге», серьги такие дорогие. Поэт возмущается, жаль, пишет, что нет милиции! Не знаю, как тут с поэзией, но позиция его мне понятна. А критик с ним не согласен. Слава богу, говорит, что нет милиции, носить дорогие серьги не преступление. Очень так ядовито его одернул. «Может быть, — тучный поднял палец перед собой, прося особого внимания, — может быть, говорит, это бабушка подарила ей свои бриллианты». У меня что-то вот здесь засвербило, — он покрутил пальцем возле сердца. — Раньше так не писали. Бабушки с бриллиантами были, но про них в газете, — он подчеркнул «в газете», — никогда не писали в таком оправдательном тоне. И в газете и по радио писали и говорили только о тех бабушках да дедушках, которые свои сбережения отдавали в фонд мира, или для детей Вьетнама, а еще раньше в фонд обороны. Точно знаю, на восстановление Сталинграда поступило от частных лиц тридцать два миллиона рублен, в сорок третьем году банк открыл особый счет. Об этом писали и говорили с гордостью. А теперь критик уже и от поэта требует, чтобы он оправдывал личное бабушкино накопительство. Ты вот как думаешь с точки зрения своей газеты? — обратился он к Гиричеву, и в его «ты» было не пренебрежение, а скорее доверие, равенство.
Теперь и Малышев посмотрел на бритоголового с интересом.
— В нашей газете ни про бабушек, ни про дедушек, — ответил Гиричев. — Всякие-такие нравственные сопли-вопли шеф не признает. — Лицо его пожелтело, он уже не курил, а обеими руками держался за живот, будто прижимал грелку, растопырив пальцы. — Давай ему одни только достижения, тогда как пресса должна выявлять, бичевать, громить порочную практику, мешающую нашему продвижению.
«Моя врачебная практика тоже порочна? — хотелось Малышеву спросить Гиричева. — Вы и про меня писали как болтун и демагог?» Сам тон Гиричева, его позиция вызывали у Малышева протест. Разве не обидно ему и за себя, и за других врачей, которые, выходит, доброго слова не заслужили? «Бичевать, громить, выявлять». Выявляй, бичуй, кто тебе не дает? Только увертки свои не оправдывай тем, что тебе до пенсии вкалывать да вкалывать… В ушах сильнее зашумело, он недовольно откинулся на спинку скамейки, не слушая Гиричева, без намерений вступать в пустой разговор.
— Вы не согласны, доктор? — правильно понял его Гиричев.
— Не согласен! — отрубил Малышев.
— Вам нравится, что врач отказывается принять умирающего только потому, что тот с другого участка? Вам нравится такая практика?
— Не нравится! — со злостью ответил Малышев. — Но не в этом же, черт возьми, суть моей работы! Есть же высший счет. Когда я еду в автобусе и слышу объявление водителя…
— Вот, пожалуйста! Известный хирург, заслуженный врач республики ездит в автобусе, а заурядный кожно-венеролог или средней руки гинеколог раскатывает на «Жигулях»! — ликуя, перебил его Гиричев. — Вам и это нравится?
— Дайте хоть слово сказать! — Малышев повысил голос, закипая от точных его попаданий. Не отсутствие собственной машины его злило, а стремление Гиричева заметить это и подчеркнуть. А когда долбят в одно место, что-нибудь да выдолбят, порода у людей разная, как и у камней. — Все, что вами тут собрано, правда, но суть, повторяю, не в этих мелочах. Я все-таки расскажу про автобус. Когда я слышу объявление водителя — граждане, приобретайте билеты, в салоне контроль, — меня это злит не меньше, чем ваши правдивые слова о драном топчане. В автобусе едет полсотни несомненно честных людей с билетами, допускаю, что среди них один-два без билета, но почему хамят в лицо большинству, оскорбляют их человеческое достоинство?
— Не вижу связи, — признался Гиричев, продолжая растирать живот обеими руками.
— Нельзя по одиночным фактам оценивать всю жизнь. Угроза водителя — из той же категории, что и ваше бичевание. Обывателя все это радует, а труженика раздражает и злит, не помогает ему, а мешает.
— А вы на место водителя встаньте, — посоветовал трикотажный. — После смены он сдает кассу, от безбилетников у него недостача, его лишают прогрессивки.
— А мне плевать на его прогрессивку! — Малышев не привык спорить, не умел да и не хотел учиться, полагая, что истина должна быть ясна без слов. — Плевать, если он по два раза в день хамит мне в пути на работу и обратно. Мне плевать и на заботу журналиста прослыть правдолюбцем, таким смелым, таким принципиальным на одних только мерзостях нашей жизни. Потому что я знаю, как работает большинство, как оно действительно вкалывает в поте лица — подавляющее большинство! Строят они. И практика у них не порочная и надо ее поддерживать, освещать, воспевать, нравится вам это или не нравится. Они этого заслуживают и пример их должен быть известен, показан и даже, если хотите, навязан тем, кто принять этого не желает.
— Кто же против этого возражает, доктор? Вы ломитесь в открытые ворота. Я сам писал о вашей работе именно в таком плане. — Гиричев перестроился на ходу — служебная привычка. Потом, словно вспомнив, что здесь не редакционная летучка, продолжал убежденнее: — Но без критики совсем — нельзя! Маразм растет и крепчает. Скрывать незачем, скрывающий болезнь умирает, медицине это известно.
— Медицине известно, что не скрывающий болезнь, а кричащий о ней, тоже умирает. Лучше не на смерть ориентироваться, а на жизнь.
— Вот вы сказали, большинство честно вкалывает, я согласен, — вступил трикотажный и в тоне его — камень за пазухой.
Малышев отвернулся, не слушая.
Но почему подобная болтовня задевает его лично? Как будто он на скамье подсудимых и за все в ответе или будто он некий самодержец, премьер-министр или, по меньшей мере председатель колхоза, а не просто хирург с определенной своей ответственностью, с ограниченным кругом задач. Дело совсем не в том, что он депутат горсовета, это как раз не причина, а следствие его отношения к жизни, такой у него характер, в нем есть социальное честолюбие, и оно не с луны свалилось. Пусть не принято нынче выглядеть ортодоксом, — а он выглядит, ему наплевать на крайности правых и на крайности левых, ибо что те, что другие одинаковы под ножом хирурга, и силы его и способности они забирают одинаково. Обязанность его такая святейшая — исцелять без деления на своих и чужих, близких и дальних. Однако же профессия его пристрастий не растворила. У Гиричева как раз в силу профессии должен быть подход резко разграничительный в оценке событий и суждений о них, но этого нет, и вот это несоответствие Малышева и раздражало. Воровать сверх зарплаты плохо, но и не оправдывать свою зарплату — то же самое жульничество.
Наступила пауза, Малышев своей горячностью внес заминку, без него они еще долго балабонили бы все о грехах да о грехах наших, как вчера и позавчера, а тут к больным подсел врач и повел оздоровительный разговор. Гиричев перестал спорить, все сильнее болело под ложечкой, он сидел и все тер и тер живот, трикотажный, глядя в сторону, усмехался и шевелил губами, перебирая в уме вопросики один язвительнее другого, но не решаясь подать голос. Настал черед вступить в разговор бритоголовому, как самому старшему, вроде бы для заключения дискуссии.
— Грехи людей мы чертим на скрижалях, их доблести мы пишем на воде, — он по-школьному четко выговорил каждое слово, цитируя. — Молодые вы, ребята, и горячие, за деревьями леса не видите. «Достаток губит, денег завелось много, тысячами швыряемся». Так разве не к достатку мы стремились годами и десятилетиями? В чем тут противоречие? Если воруют отдельные, так они и есть отдельные, они всегда были и, мое мнение, всегда будут в той или иной форме. Будут они, но общего дела изменить не смогут, куда мы шли, туда и будем идти. Это вам кажется, что беспорядок везде, вкруговую, что мы куда-то не туда зашли и конца-краю безобразиям не видать. Кажется! Я вот всю войну военным юристом был, в трибунале служил, молодым был, помоложе вас. Так что вы думаете? У меня голова кругом шла, временами так и считал — возьмет нас фашист. Там самострел, там дезертирство, там перебежчики на ту сторону, листовки на нас сыплются вражеские, они мне страшнее бомбы казались. Каждый божий день, или почти каждый, то одно преступление, то другое, и не только на нашем фронте, на других тоже, трибунальцы-то знали. Но войну мы все равно выиграли, все равно победили. Сейчас и я знаю, и любой школьник знает, почему мы победили, но тогда мне, вот как вам сейчас, не дано было понять по моему конкретному положению, высоты не хватало для понимания. А в ней все дело. Надо высоту занять. Если не по должности, так по своему размышлению, умом пораскинуть, с высоты панорама шире. А нет возможности занять высоту, что остается? — Он выразительно помолчал. — Верить надо! А чему и кому, вы про то и без меня знаете. Все хорошие люди идут в ногу, а другие суетятся, под ногами путаются. Но движения не собьют.
— Ну-у, Федор Тимофеевич, не ожида-ал, — протянул Гиричев о притворным осуждением. — Вы же Кафку цитируете, почти дословно: «Все хорошие люди идут в ногу, а другие этого не знают и пляшут вокруг них танец времени».
— Значит, Кафка тоже хороший человек, — благодушно согласился бритоголовый и обратился к Малышеву. — Вот вы про автобус говорили. Есть у нас понятие — презумпция невиновности, заведомое признание всякого, даже преступника, невиновным до тех пор, пока не будет доказано обратное. Это гуманно. Докажи сначала, а потом и обвиняй. В транспорте и в самом деле иной раз получается презумпция наоборот — виновности. Но с другой стороны, не опущенные пятаки оборачиваются миллионами рублей убытка. Тут надо тоже высоту занять.
— Презумпция сволочизма для нас предпочтительнее, — уточнил Гиричев. — В универсаме — покажи сумку, в редакции — предъяви пропуск. Со дня основания газета жила и здравствовала без пропусков, входи, трудящийся, рабкор, селькор, кто хочет, излагай нужды. Теперь у входа милицейские девочки, а что толку? Прихожу я утречком на работу, а в приемной уже поэт сидит, Колька Молодцов, выпиши ему срочно гонорар на опохмелку или взаймы дай без отдачи. Пропускная система для него что есть, что нет.
— Живем мы лучше, — продолжал бритоголовый, не споря, а как бы расставляя акценты в понятиях для него бесспорных. — Потребностей стало больше, и ничего тут плохого нет, радоваться надо. А дефицит — он всегда будет. Чем живее, предприимчивее, расторопнее население, тем шире круг интересов. Спрос велик, ну и замечательно. Главное, не надо разделяться на «мы» и «они», пусть будем одни только мы. А то выходит, что мы имеем потребности, а они их не удовлетворяют, как будто они рабы наши, пленники. Они — это мы все. Голодали и бедствовали, жилья не имели, а сказка всегда была, мечта жила, ждали, когда ее можно осуществить и дождались по многим статьям. А то, что хватают сейчас, покупают да накапливают и счастье видят только в этом, так это временное явление, оно пройдет, уверяю вас. От внешнего народ обязательно обратится к внутреннему, попомните мое слово.
— Пока он обратится, Федор Тимофеевич, от народа останутся одни людишки, растопчет орда золотая и серебряная, дубленочная и «жигулевочная», та самая, которая исповедует — было бы здоровье, а остальное мы купим. Чингисхан хребты ломал прямо, пятки к затылку, хрясь — и готово, издыхай с переломанным позвоночником. А эти — души ломают, по вере-то как раз и бьют. Вера, конечно, великое дело, но ее подкреплять надо.
— Какая вера? — полюбопытствовал трикотажный. — Христианская, мусульманская, буддийская?
Гиричев, будто опомнившись, снова перескочил на циничную свою стезю:
— У нас есть молодой сотрудник в сельхозотделе, дока, подсчитал, сколько эшелонов мяса и масла было бы сэкономлено, если бы вся страна соблюдала великий пост, а также постилась бы по средам и пятницам.
— Хватит вокруг экватора, — ввернул трикотажный. Он перестал рыгать от действия таблеток, но симпатия Малышева к нему не возросла.
«Реагирую неадекватно, привычки нет, — думал он. — А привыкать не хочется, хотя и приходится вот сидеть, выслушивать. Больничные разговоры также неизбежны как режим, пижама, уколы, передачи». Нормальная его работа не позволяла вот так сидеть и разглагольствовать, не нужно было убивать время, а здесь вынужден. И вместе со временем убивать заодно и наивность в себе, однобокость и предрассудки. Вспомнил Марину, она говорила, что первые уроки жизни молодая женщина получает тогда, когда попадает в гинекологическое отделение. Уж там ее просветят, окунут в мерзости по макушку. Каждая женщина сама по себе вроде чиста и порядочна, но, собираясь в палате, они словно аккумулируют все плохое и культивируют цинизм, жестокость, разврат, не женщины лежат в гинекологии, а сущие ведьмы, — побуждения низменные, разговоры грязные. Потом выписываются и снова становятся добропорядочными мамашами, возлюбленными женами, нежными подругами, но отметина, наверное, остается.
Взял бы магнитофон, занялся английским, но не взял, занимайся русским, той его разновидностью, которая без костей.
Первым поднялся бритоголовый, за ним сразу Малышев, а Гиричев и трикотажный, одинаково держась за впалые животы, как послушники, пошли следом.
— Градусник надо держать семь минут, — пресно говорил трикотажный. — Передержу до десяти, вылезает тридцать семь и одна. Кому это нужно?
— Градуснику, — сквозь зубы просипел Гиричев.
Вот и вернулись рысаки в хомут.
Едва Малышев вошел в палату, Телятников сообщил:
— Вас искала Алла Павловна, только что заходила.
Малышев настроился прилечь, но теперь раздумал, взял сигарету, вторую уже, и пошел в ординаторскую, может быть, она еще не ушла. Зачем она так поздно заходила? Она сидела за столом, без халата и читала книгу.
— Дежурите? — спросил Малышев, оглядывая ординаторскую, сразу прикидывая, что здесь лучше, а что похуже, им в его отделении. — У нас таких дежурств не бывает, с беллетристикой.
Она отложила книгу.
— Как вы себя чувствуете, Сергей Иванович?
— Можно мне допустить, что вы просто так зашли, повидаться?
— Можно. — Она несколько смутилась, в ее представлении он человек более серьезный. — А на мой вопрос вы не ответили.
— Чувствую себя отлично, Алла Павловна, тем более под вашим надзором.
Сам он обязательно заходит к своим послеоперационным, естественно, он хирург, но зачем терапевту навещать больных в неурочное время. Она будто уже знает, что ему приятно ее внимание.
— Звонят. — Она кивнула на телефон. — Обеспокоены ваши друзья и знакомые. Если к Малышеву никого не пускают, значит, дела его плохи. Знают, что вас привезли в реанимацию, а для обывателя реанимация о-го-го. Тот свет. Что прикажете отвечать?
— Так и отвечайте — Малышев на том свете.
— Тогда и мне пожелают того же. Как лечащему врачу.
А что, тоже выход — вместе на тот свет. Временно. Пока не сдаст экзамены Катерина. Пока не утихомирятся дворник с Чинибековым. Пока Данилова, пока… А может, лучше не временно, а уж навсегда?
— Отвечайте, Алла Павловна, что самочувствие его вполне удовлетворительное.
— А почему к нему не пускают?
— Ему, скажите, и без вас хорошо — со своим лечащим врачом.
Она напряженно на него посмотрела — зачем он так говорит? Настойчиво проговаривается. Или это такие комплименты у него неуклюжие.
— Говорите, что я уже выписался.
— Думаете, вам домой не звонят? Не меньше, чем сюда, я уверена.
— Да пусть звонят, Алла Павловна, какое это имеет значение?
— Большое. Вас помнят, ценят и любят, о вас беспокоятся. — Она говорила серьезно, ведя какую-то свою тему. «Какую-то» — вполне определенную, психотерапевтическую.
— А я знаю, — сказал он. — Скромностью меня бог не обидел. — «Или обидел? Как тут правильно сказать? Надо спросить у Гиричева, он меня изучил».
— Что-то вас гнетет, Сергей Иванович, — неожиданно сказала она.
— У меня такой угнетенный вид?
«Не только вид, — могла бы сказать она, — но и общее ваше состояние, сосуды, ваше сердце. Да и вид тоже, весь ваш облик. Даже голос». Другая так бы и сказала, но ей нельзя, она врач. Слово лечит и слово калечит.
— Что-то вам мешает в последнее время. — Она чуть склонила голову, глядя в пол задумчиво, чуть прищуренно, будто не о нем речь или его здесь нет. — А признаться не хочется. Или, скорее всего, вы не придаете этому никакого значения. Хотите не придавать. По инерции здорового человека.
— Вы у каждого больного доискиваетесь до причины?
— Уберите причину и не будет дурных последствий. А вы как считаете?
— Так же… — Она серьезнее его, целеустремленнее, что ли, а ему остается лишь поддерживать разговор. — Собственно, общая тактика здравоохранения — убрать причину, создать чистый социальный фон.
— А также и бытовой, — подсказала она, — тогда прогноз благоприятнее.
Сейчас она не выглядела врачом, тем более без халата сидела, с книжкой в руках. Но не было в ней и просто женщины в разговоре с мужчиной. Она вроде бы проста и открыта, но держится на дистанции и его держит. Она видела, что говорить о причинах ему не хочется, по его лицу видела, по чуть заметной, клеймом застывшей усмешке: да пустяки все это! Он опытный и знающий хирург, но как больной — начинающий, не привык, не успел вжиться в случай и думает о себе как о прежнем, здоровом. С одной стороны это помогает, не дает раскисать, ну а с другой — недооценка факторов риска, подскоки давления, повторный криз, а там…
— Не хотите со мной говорить, может быть, потому, что я женщина? Вам нужен другой врач? Я знаю, хирурги так самолюбивы.
— Нет, вы мне нравитесь и как врач, и как женщина.
Ну почему он так говорит, зачем? Это же не проходит бесследно.
— Мне кажется, вы меня не воспринимаете всерьез.
Он улыбнулся, а она от этого нахмурилась и продолжала строже:
— Бывают срывы от больших претензий.
— Не люблю. Человек с больным самолюбием мне противен. Никаких у меня претензий, никаких таких самолюбий.
— Почему вы спорите, Сергей Иванович? Из-за пустяков. Самолюбие — это совсем не плохо, даже у моей кошки есть самолюбие.
— И кошек не люблю, они коварные.
Нет, он все-таки не воспринимает ее как надо. Может быть, потому, что она слишком старается быть серьезной.
— Того не люблю, другого не люблю, а вы полюбите. Тогда и давление, может быть, перестанет скакать.
— Любовь тоже дефицит, Алла Павловна. Где ее взять? И кто составит протекцию?
— Дефицит для тех, кто любит только себя. — Ей стало жарко, щеки раскраснелись. — Я слишком, наверное, привязываюсь к вам с расспросами, пришла вот не вовремя, когда мне дома надо сидеть, но вы… задеваете мое самолюбие. Вы будто отвергаете меня как врача. — Говорила обиженно, не глядя на него. — Как будто вас привезли сюда силком, уложили, потом появилась какая-то женщина и пристает. Может быть, это глупо с моей стороны, но я… возвращаюсь к вашему анамнезу постоянно.
— Почему же глупо?
— Глупо признаваться в этом.
Она волновалась, он попытался ее успокоить:
— Алла Павловна, вы очень милая. На все ваши вопросы я буду отвечать исчерпывающе, задавайте их побольше. Больного самолюбия у меня нет, больших притязаний тоже нет, хотя… самооценка высокая, согласен. А вы — вы очень хорошая. Врачи бывают приятные и неприятные, как и все люди. Интересно, а вы делите своих пациентов на приятных и неприятных?
— И еще на нейтральных, — добавила она.
— И каких у вас больше?
— Приятных, как ни странно. Возраст, наверное.
— Нет, это потому, что вы сама такая. От вас — излучение, и в ответ те же самые флюиды. Как зайчик от зеркала. А к какой категории вы меня относите?
— А еще говорите, что нет самолюбия.
— А на мой вопрос вы не отвечаете.
— И не отвечу. — Она улыбнулась, посмотрела на него ласково. — Вы противный, упрямый, своенравный и… даже не знаю, какой еще. — Своих же слов испугалась, перестала улыбаться, как будто он и впрямь такой несносный, неисправимый, рывком придвинула к себе коробку с тонометром, щелкнула кнопкой, вытянула манжету, но чего-то как будто испугалась, застыла. Ему показалось — начни она обычную процедуру, прикоснись к нему — и пробежит искра, короткое замыкание произойдет и случится нечто сверх всякого ожидания. Она посидела оцепенело и сложила манжету обратно неловкими короткими движениями.
— Сергей Иванович, закончим разговор об анамнезе вот на чем. Постарайтесь про себя, втайне, раз уж вам так хочется по какой-то, я допускаю, уважительной причине, перебрать все факторы патогенные, создающие дискомфорт, и продумайте, что вам следует изменить. — Механически произнесла, словно бы по учебнику.
— Давайте вместе, Алла Павловна, чтобы больше не возвращаться. По принципу исключения. Работа, как я понимаю — главный фактор. Здесь мы с вами ничего менять не будем, правильно? Я этим живу, без своей работы умру немедленно.
— Может быть, как раз и не надо так уж возвышать свою работу, придавать ей такое сверхисключительное значение? Полегче бы, вдруг что-то не совсем так получится, и сразу спад.
— Нет, полегче не выйдет, работа для меня все. Что дальше? Семья? Но и здесь перемены исключаются.
— Вы так подчеркиваете, будто я на этом настаиваю.
А может, лучше было бы настоять? Пусть не ей, но кому-то другому решительно настоять, потребовать, — что тогда? Пусть бы ему горздрав приказал сменить семью. Или еще лучше, более обязывающе, пусть бы исполком вынес такое решение.
— Очень хорошо, что ни работа, ни семья вас не тревожат, — продолжала Алла Павловна, прямо и честно глядя ему в глаза. — Именно здесь чаще всего горячие точки. Пойдем дальше — взаимоотношения с друзьями, общественная работа, здесь какие конфликты?
— А если на работе или в семье нелады, что вы рекомендуете?
— Сменить работу, представьте себе. И я знаю немало фактов…
— И семью сменить?
Она затруднительно помолчала, собираясь, скорее всего, возмутиться такой постановкой вопроса, затем сказала:
— Не может врач взять на себя смелость давать такие советы.
— Почему? — спросил он с напором.
— Как это почему? — Она пожала плечами. — Глупый вопрос.
— А я знаю, почему. — Он отчеркнуто помолчал. — Потому что у нас матриархат. Да-да, не улыбайтесь, я говорю серьезно. Всем заправляет женщина. Все делается для нее, ради нее. Работу сменить — пожалуйста, хотя от этого может быть ущерб обществу. Но сменить женщину?! Да упаси боже! Ни в коем случае! Все наши социальные институты на дыбы встанут в ее защиту, причем, не вникая, не разбираясь, а слепо. И в этом, между прочим, одна из причин того, что средняя продолжительность жизни у женщин на десять лет больше, чем у мужчин. Почему вам не смешно?
— Не знаю. Наверное, вы правы.
— Бегу утром вокруг квартала, вижу впереди самосвал, на кузове трафарет: «Берегите мужчин». Вы думаете, это женщины придумали? Нет, они это воспринимают как юмор.
— Я уже заметила, что с возрастом мужчина и женщина как будто меняются ролями. Женщина становится сильнее, а мужчина, наоборот, слабее. Мой опыт еще не так велик, но и Сиротинин говорит о том же — мужчина сдается первым перед тяготами жизни. А вот почему?
— Он меня имел в виду?
— Нет-нет, зачем вы сразу так? Просто зашел разговор, он сказал, что когда приезжает в родное село, где-то под Москвой, — ни одного старика не осталось, представляете? И такое положение во многих селах, ни одного деда, сплошь одни бабки. — Она помолчала и вернулась к прежней теме. — Иногда меняют квартиру, порой даже на худшую, но состояние улучшается. Меняют город, климат — и прогноз хороший, особенно для сердечно-сосудистых. Да что я вам, как студенту, вы же сами все отлично знаете.
— Знаю… Что-то надо менять, вы правы. Ну а если такой возможности нет?
— Возможность можно найти всегда, нет решимости. Тогда надо менять внутреннюю установку, пересмотреть оценки, переориентировать себя, то есть, не внешнее изменить, а внутреннее. Неспроста же у вас, Сергей Иванович! — Она свела брови, лицо ее потемнело, она спросила, не поднимая взгляда от стола: — Скажите, у меня не проскальзывает… личная заинтересованность?
Он слегка опешил от ее поворота.
— Нет, вы сдержанны, тактичны, все как полагается.
— Значит, владею собой. А если честно, мне вас жалко, Малышев. Вы хороший мужик, но вам трудно, я чувствую, понимаете? Мне сердце подсказывает. Я же вас давно знаю. — Глаза ее заблестели, ее волнение передалось ему.
— Можно мне закурить? — в упор спросил, словно используя ее сочувствие, врасплох застал.
— Ну, пожалуйста, — проговорила она растерянно, — что с вами делать…
Он закурил, жадно затянулся, стало вольнее, проще, спокойнее. Как же так получается, что она его давно знает, а он — не может вспомнить, где они могли встречаться. Из-за криза, надо полагать, забыл. А спрашивать ее нельзя, можно обидеть. Хирурги не только самолюбивы, они еще и бестактны со своей пресловутой прямотой.
— Может быть, мне планету надо сменить, Алла Павловна?
Она улыбнулась чуть-чуть, деликатности ради, дескать, неплохо, когда есть чувство юмора.
— Все-таки, какой вы упрямый, Малышев, честное слово! Все в одиночку хотите, сам. Я еще не встречала таких замкнутых. Люди как-то сразу доверяются, раскрываются, а вы…
— Алла Павловна, все так мелко, ничтожно, что я ни слова не скажу. Тем более вам.
— Вот, пожалуйста, тем более мне… Закончила я прием в поликлинике, пошла домой, и вдруг мне совершенно отчетливо показалось, что вот сейчас, в эти минуты вам захотелось поговорить со мной. Явилась сюда, у сестер глаза круглые — в чем дело? А дело в том, что я просто ошиблась. — Она достала из стола рецептурный бланк. — Вот вам мои телефоны, Сергей Иванович, ординаторской, поликлиники и домашний. — Она заранее их приготовила, аккуратно вывела цифры.
— Значит, можно мне отправляться домой?
— Отправляйтесь. На все четыре стороны.
— Ладно, Алла Павловна, не сердитесь, — хмуро сказал он. Или ее признание глубоко задело, или сигарета дурно подействовала, в голове зашумело сильнее. — Вы молодчина, спасибо. — Взял ее телефоны, кивком поблагодарил и вышел.
Телятников, лежа на койке, встретил его свежей информацией:
— Вы сегодня неуловимы. Только что сестра заходила, спрашивала.
Пора бы уже прилечь, он устал, но надо к сестре. Где тут у них процедурная? Телятников объяснил, тут же и посоветовал:
— Да она сама придет, что вы будете за ней бегать?
Нет, если приходила и не застала, значит, он должен сам ее найти. Не по нутру ему заставлять ждать, заставлять искать, обязывать по своей вине кого бы то ни было. Пошел в процедурную, сестры не было, но стерилизатор открыт, горячий, парит, видны шприцы, иголки, пинцет; сестра где-то в палате, сейчас вернется…
Сидел одиноко на топчане и грустно ему было оттого, что не может вспомнить Аллу Павловну, забыл ее, самого себя стало жалко. Прозрачный стеклянный шкаф с медикаментами, флакончики, упаковки, ампулы, на столике у кушетки клеенчатый валик с песком, подкладывать под локоть при внутривенных, на стене памятка: «Первая помощь при анафилактическом шоке». Тишина, чистота, все наготове и вдруг — острое понимание, осознание, озарение: болен. Одинок. Смертен…
Пришла сестра, молодая, рыжеватенькая, забеспокоилась:
— Сергей Иванович, вы давно здесь? Да я бы сама, зачем вы…
Он, не слушая, лег на топчан ничком, откинул халат, оттянул резинку пижамных штанов, покорно заголился.
Потом лежал в палате и слушал соседа. Продолжалось заполнение пустого больничного времени.
— К вечеру у меня прилив активности, это профессионально. — Телятников поднялся с койки, причесался, одернул пижаму и сел к столику. — Хочу поделиться с вами, как с врачом, своим открытием. Старикам надо умирать пораньше. Хотя, какое в этом открытие? Вышел тебе срок — и сходи, как сходят с автобуса. Вместо разговоров о долгожительстве, лучше бы воспитывали, как вовремя умереть, как правильно умереть. Когда-то этому учила трагедия, как жанр, но сейчас и она вымерла сама.
Малышев возразил — все-таки живем мы так, будто смерти нет, о неизбежности ее не думаем и правильно делаем. Если же наоборот, зачем тогда врачи и вся система здравоохранения?
— Вы молоды, вам рано подводить итоги, а мне пора. Только вот жену оставлять одну не корректно. Она мне говорит — именно сейчас мы должны жить твердо, вопреки сложившейся ситуации. «Жить твердо». Две старые черепахи. «Из чего твой панцирь, черепаха? Из мной пережитого страха». Сейчас я волей-неволен думаю: вот уйду из театра, и что изменится? Да ничего.
— Давно надо было, — отозвался Малышев безжалостно. — Нельзя быть главным с таким сознанием, что вы третьестепенный. Разве не на вас все держится, не на ваших вкусах, взглядах, принципах?
— Прежде я был в этом убежден, я знал, если уйду, все рухнет. Глупо, ах, как глупо. Как ставили спектакли, так и будут ставить. Тот же репертуарный план, те же афиши, те же зрители и аплодисменты. Это потрясает. — Он не искал сочувствия, просто делился.
А если Малышев покинет свое отделение, что изменится?.. Наверное, на любом посту хочется человеку быть незаменимым, неповторимым, единственным — естественное желание. И в лучших случаях это действительно так, люди замечают потери. Если же не заметят, значит, был ты пустым местом и не сетуй на неблагодарность живых. И еще, наверное, не замечают утраты ради собственного же спокойствия. Пропадет хирург Малышев, найдется другой, вон сколько медицинских институтов в стране, а врачей у нас на тысячу населения больше, чем в других развитых странах. Общество не может зависеть от одного индивидуума, будь он хоть семи пядей во лбу. Тем не менее горько, что без тебя обойдутся, кисло, не хочется думать, что жизнь потому и не останавливается, что если один гибнет, все другие живут себе дальше. Трагедия одиночного сознания.
— У меня и раньше была мысль, — продолжал Телятников, — что старикам надо уходить самим не по возрасту, а в момент осознания своей ненужности. Усиленно прошу вас обратить внимание на следующее. Вся наша культура сориентирована на молодых, молодости адресована, ее отражает, ее обслуживает, обеспечивает всеми своими отраслями — литературой, наукой, театром, фильмами, телевидением, зрелищами и спортом. Те, кому за пятьдесят перевалит, неизбежно начинают день ото дня ощущать свою покинутость, вы это тоже почувствуете со временем.
— Не почувствую, — отозвался Малышев. — Мне будет некогда.
— Уверяю вас, появится свободное время, вот как оно появилось сейчас, одинаковое с моим ваше свободное время. — Старик тоже не очень-то его щадил. — Неизбежны с возрастом отключения от своего дела, недомогания, отлежка, передышка, а значит, неизбежно и время для оценок и переоценок, воспоминаний, сопоставлений и прогнозов. Вы станете замечать, что все чаще вам не к чему прислониться, не во что вовлечься. Вы столкнетесь с повсеместной, глобальной тиранией молодости, все узурпировано ею, вы не сможете к ней пристроиться ни с какого боку, да и сейчас вы с ней вряд ли гармонично смыкаетесь, если вы не лицемер и не ханжа. Старики вынуждены жить отражением, подражанием, отголосками, подголосками молодежной жизни. Восклицаем и вопием — ах, где наша молодость?! И живем, выходит, вперед затылком. Но разве не идиотизм жить возвратом? Всякое сожаление о прошедшей молодости должно стать дурным тоном. Раньше стариков почитали, сейчас их культ сохранился только у так называемых дикарей, которых не коснулась цивилизация. Старость — это мудрость. Скажите мне, разве мудрость не выше молодости, которая еще в плену инстинктов, в цепях зоологического начала, ей надо еще развиться до человека. Сент-Экзюпери отлично сказал: жизнь — это медленное рождение. Так что молодость и мудрость — понятия несовместимые, взаимоисключающиеся. Тем не менее во всем объеме культуры нет обращения к пожилой, к старческой жизни, ей ничего не брезжит, кроме заслуженного отдыха, ни надежд, ни мечтаний, ни горизонтов, потому что наши — стариковские. — горизонты просто-напросто не создаются. Если старик, так он либо несчастный король Лир, либо Собакевич, Плюшкин, Гобсек, Бармалей или Кощей Бессмертный. Преклонный возраст перестал существовать как нечто положительное, эстетически значимое. — Телятников поднялся из-за столика и начал ходить возле коек, привычка двигаться на репетициях словно подзаряжала его. — Иные именитые старики выступают с воспоминаниями, но опять же говорят не так, как им помнится, как пропущено через их судьбу, а так, как подгоняет их под текущий момент молодой современный пропагандист. Допустим, геронтологи правы, человеку отпущено природой лет сто двадцать, сто пятьдесят, а он этим даром не пользуется, и знаете, почему? Прежде всего потому, что не видит смысла, прежде всего поэтому! Целым десятилетиям на склоне жизни не придано смысла. — Он топтался почти на месте, туда два шага и обратно два, палата тесная, не разбежишься, зато и дыхание не сорвешь. Он отвергал молодость не только словом, но и видом своим, бороздами морщин, дряблой шеей, иссохшим окостеневшим телом, спина прямая, но это уже не осанка, а остеохондроз, окостеневшая статность. Толчками едва перемещает себя в пространстве, будто на излете опавший лист, встречные вихри день ото дня плотнее, только и осталось силы на раскачку мысли, а много ли для этого нужно? Перед сном он будет клацать и брякать, опуская челюсти в стакан из пластмассы с такими звуками, будто кавалерист отстегивает саблю или гусар шпоры.
И все это ждет меня, думал Малышев, надо ли доживать до такого состояния? Многих он повидал стариков — как хирург, но сейчас перед глазами маячил не пациент его, а его сопалатник, собрат по несчастью, некое предостережение — и ты таким будешь. Словно ты на стажировку попал.
— Раньше старики работали до самой смерти, ремеслом владели, да не одним, а главное — обратите внимание! — дела мирские решали, упорядочивали молодежный хаос. Бабки сказки внукам рассказывали, велича-айшее, скажу я вам, дело, когда у каждого своя Арина Родионовна. Однако же сейчас они сидят шпалерами возле подъезда с утра до вечера, лясы точат, косточки перемывают, то есть не замыкаются в презренном кругу семьи, участвуют в жизни народа и государства таким вот образом. А как же иначе, она хочет быть молодой, в бассейне плавает, на стадионе бегает, такая пенсионерка двинет тебя в автобусе задом, не знаешь, какой растиркой суставы смазывать. А внуков нянчить они не желают, другие ценности культивируют, тогда как бабка для внуков незаменимое существо, а для страны в целом — хранитель национального достояния…
Малышев молчал, слушал. Здесь в неволе, в безделии длинные речи не в тягость. Прежде он мало думал о чем-либо постороннем. Как постоянно занятый человек, он обречен на недомыслие в сравнении с тем же Телятниковым, у которого есть возможность поразмышлять о том о сем и в театре и вне его, или в сравнении с Гиричевым, который собирает всякую информацию по долгу службы. Малышев живет без сомнений и такой, в общем-то, легкий взгляд на жизнь облегчает ему работу. Для восприятия чего-то стороннего у него, опять же, нет свободных минут, все — больным, своему отделению. Сомнения, оценки-переоценки, скепсис его мало трогали, он ни к чему особенно не прислушивался, кроме как к пульсу, к сердцу своих пациентов, к жалобам на недуги телесные, а не душевные. Однако же не работа его повергла в криз, а именно душевный дискомфорт, и скальпелем его не отсечешь. «Что-то вас гнетет я вижу», — говорит ему Алла Павловна. Существенны не только клинические проявления болезни, есть еще и не клинические.
Он мало читал, надо себе признаться и, наверное, еще и поэтому консервативен, восстает против новизны, ибо в ней много зла, а значит, и больше хирургического подспорья, болезней, травм, увечий. Одним словом — поскорее бы ограничиться кругом своих привычных задач и ни во что больше не вмешиваться, не дробиться на пустяки…
Нянечка принесла передачу, сегодня уже третью или четвертую — яблоки, арбуз и даже виноград, что для августа рановато, и опять цветы, за день столько цветов, будто он уже умер и вполне можно завалить могилу знаками признательности. Несут ему, тащат, а ведь он был резок со всеми и требователен, не очень-то прислушивался к чужому мнению, не старался понравиться, настаивал на своем эгоистически, и уж чего-чего, а нежных цветов не заслуживал, да и трат на виноград тоже, рублей, наверное, восемь за килограмм. Круглый год не забывают их промышленный город усердные узбеки в черных тюбетейках с белым узором.
От свиданий он отказался умышленно — зачем заставлять людей говорить одни и те же слова — будь здоров, не волнуйся, не беспокойся. Он знал, зачем прежде был нужен людям — спасать их, и это логично, естественно для его натуры, а теперь он им нужен совсем для другой цели — высказать соболезнование. Такая роль ему не годится, не хочет он вести прием состраданий.
Днем сигарет ему не приносили, а сейчас — сразу пачек десять, тут и «Ява», и «Столичные», и даже «Герцеговина-флор», в зеленой с черным коробке. Видимо, поступило разрешение лечащего врача сделать для Малышева исключение, — не рано ли?..
Съели с соседом арбуз («На ночь? — усомнился было Телятников. — Впрочем, как молодые!» — и махнул рукой), после чего главреж пошел смотреть какую-то нужную ему передачу по телевизору.
Малышев полежал-полежал, взял третью, последнюю сигарету, влез в халат и пошел искать, где можно спокойно покурить.
«Больничные запахи» — как будто их много и все лекарственные, а их всего один-единственный, запах кухни, невероятных каких-то щей, каких и в меню-то нет.
…Причина ему давно известна — не лезь на рожон. А он и не лезет. Просто он противостоит дерьму и, видимо, мало противостоит, слабо, иначе не оказался бы здесь поверженным. Надо противостоять сильнее, только и всего. Не то сляжешь с чем-нибудь еще худшим. Гадай не гадай, а себя ему переделывать поздно.
В холле очередь возле телефона напомнила ему, что надо бы позвонить домой. Он приостановился. Ему разрешат позвонить из ординаторской, но… пусть домашние отдохнут от него, от голоса его тоже. Он, конечно же, не удержится, спросит, готовится ли Катерина к экзаменам и следит ли за ней Марина. Голос его, вечно взыскующий, для них тоже стресс, надо их пощадить. А про его самочувствие они знают больше, чем он сам, во всяком случае, миллиметры его давления Марине известны. Звонить домой, чтобы узнать, как там его дела — лучше не надо.
Во дворе было темно и пустынно, больные сидят у телевизора или укладываются спать. Возле фонтана, на ближней скамейке тесно сидели подростки, человек пять, голова к голове, доносилось едва слышное бормотание, а потом сразу хохот и головы будто взрывом в стороны — травили анекдоты и балдели совсем не по-больничному. Он прошел мимо них, сдерживая себя, чтобы не разогнать весельчаков, и сел на дальней скамейке под одинокой елочкой. Днем здесь бегала белка, сейчас где-нибудь спит в укромном месте. Фонтан уже не бурлил, плоская вода лежала в нем тихо, как в пруду, и в зеркале его с самого края отражался молодой месяц, — вполне успокоительная картина. Вскоре вышла сестра из подъезда и разогнала в палаты хохочущую братию. Малышев остался один в неплохой компании с елочкой, тихой водой и молодым месяцем. Однако от тишины, покоя и темноты стало как-то не по себе, подумалось, что вот закурит и стукнет его снова в затылок, свалится он здесь на глухой скамейке под темной елочкой, и никто его не хватится до рассвета, а Телятников подумает, что сосед его — по молодости — сиганул в самоволку через забор. Жутковато стало от такой возможности, тем не менее закурил и решил каждый вечер приходить сюда, в укромное одиночество. Много ли, кстати, будет их, таких вечеров? Два-три еще, максимум четыре. Хорошо бы возле дома где-нибудь найти вот такой укромный уголок. Без Чинибекова, разумеется, и без Вити-дворника.
Курил осторожно, делая подлиннее паузы между затяжками. Всякое лекарство — яд и всякий яд — лекарство, все зависит от дозы. Не то себя берег, не то растягивал удовольствие себе же во вред.
Как он будет работать дальше? Почему прихватило его на середине жизни, сорок пять как раз середина для него, на другую раскладку он не согласен. Куда ни садись, как ни уединяйся, а мысли все об одном — почему и за что? Просто так, без причины, на пустом месте ничего не бывает, это некое тебе возмездие за излишества в чем-то, где-то, за какую-то твою неправильность. Надо что-то менять, прежде всего прекратить бег по утрам. Не странно ли, что первым делом бросать приходится именно оздоровительные твои действия? Не они же тебя уложили…
А если бы ты не проснулся, так бы и ушел в мир иной, тогда что? Да ничего, дорогой, человечество в целом не пострадало бы. И даже не заметило бы твоего отсутствия, такое уж оно, человечество. Стояла бы вот так же эта милая елочка, тихо лежала бы вода в фонтанном круге и светил бы молодой месяц. А в отделении нашелся бы другой хирург и оперировал бы со временем не хуже Малышева, Юра Григоренко, к примеру. Или перевели бы сюда кого-нибудь из района, есть там неплохие мужики, работящие и отважные, готовые на полевом стане сердце пересаживать.
Если бы Марины не оказалось рядом? Или она бы крепко спала и ничего не услышала, проснулся бы он сам или уже нет? Собственно говоря, она ведь его не разбудила, она просто доставила его в реанимацию, а проснулся он уже сам. Она его спасла.
А благодарности в нем нет, досадно ему от всякого напоминания о семье, о доме, о дочери, обо всей этой дерготне последних дней. Да только ли дней? Уже и не месяцев даже, а нескольких лет. Если менять что-то дома, так не мебель и не обои, хотя экстрасенсы советуют именно мебель передвигать, а всю атмосферу, погоду, более того, климат. Домой с работы он идет не как к месту своего отдыха, в уют, в приют спокойствия, а как на какое-то дежурство, по меньшей мере, где постоянно надо за чем-то следить, что-то устранять, от чего-то предостерегать, в чем-то переубеждать. Именно дежурство, притом бессменное, без права на отключение, даже не о праве тут речь — без возможности внутренней.
Ладно, дома нехорошо, но только ли дома, а на улице? Ведь и с дворником ты схватился как постовой на дежурстве. И с Кереевой говорил как ответственный дежурный, и телефонограмму в обком фуганул в той же роли. Бессменный часовой, не слишком ли много на себя взял? И кем ты поставлен на пост, чем поставлен?
Глупый вопрос — существом своим, воспитанием, историей своей страны, если уж по большому счету.
Часовой. Охранитель. Хранитель. «Стой, кто идет, руки вверх!» А где результаты?
Но какие могут быть результаты у часового? Не растащили достояние — и уже хорошо.
Так ведь растаскивают, вот в чем беда. А ты все равно стой — на страже здоровья, на страже порядка, нравственности, морали, на страже семьи, которая для него источник стрессов. Однако врачи не дают рекомендаций сменить семью, не выписывают таких рецептов.
«Неправильный выбор». А он не выбирал, не перебирал, поставил себе задачу жениться на самой красивой девушке с их курса и цели своей добился без особых, кстати сказать, трудов, поскольку и у Марины была цель выйти замуж за самого надежного парня.
А Малышев таким представлялся не только ей, и она не ошиблась, ей было легко с ним, особенно на первых порах, она верила в его надежность, в его силу и непреклонность, и он ее веру оправдывал. По распределению поехали на целину без колебаний — он заранее предупредил ее, что намерен начать врачебную жизнь там, где труднее, чтобы потом хоть где было легче. А целину он уже знал, студентом ездил туда и не один раз, там отличная школа, там всего полно — и работы, и бед, и радостей. Мотались по району, она принимала роды не только в стационаре, но, бывало, и на полевых станах, чуть ли не под копной, как в старину, а он делал операции, где придется, бывало, что и в палатке. Самая светлая то была пора в их врачебной да и в семейной жизни. Целина — гарантия роста, не зря говорится, люди поднимали целину, целина поднимала людей. Года через три они стали работать в районной больнице, через пять уже в городской, в большом промышленном городе, областном центре. Здесь у них пошла полоса ожиданий — ждали квартиру и довольно долго, года три, ждали друг друга — то он уедет на специализацию в Москву, то она на усовершенствование в Ленинград, потом начали ждать, когда Катерина окончит школу. Он вступил в партию, избрали его депутатом райсовета, в комиссии разные пошел, потом — горсовета. И опять то в Москву, то в Ленинград, то в Киев, то она, то он. Но если Малышев больше следил за тем, как там работают, то Марина больше следила затем, как там живут. Каждый вечер она ходила в театр, знала наперечет актеров, кто на ком женат, кто с кем развелся, из какого меха шапка у Людмилы Зыкиной, с кем вместе пьет Владимир Высоцкий, на какой машине ездит Тарапунька, не пропустила ни одной выставки, даже отстояла положенные секунды возле «Джоконды», и, конечно же, лихорадило ее от разговоров о замше и коже, о мехах и мебельных гарнитурах, о комиссионках и сертификатах. Постепенно эти длительные поездки изменили, усовершенствовали отношение ее к своей семье, к своему житью-бытью, — оно стало не удовлетворять Марину, она стала говорить, что он, Малышев, заслуживает большего по всем статьям.
Каждый совершенствовался по-своему. Марина меняла прическу, меняла одежду, облик ее стал вполне столичным, покупала все только импортное, навязывала и ему свой вкус, к одежде он был всегда равнодушен, занялась мебелью, опять же импортной. Менялось и отношение ее к своему городу — дыра, провинция, скептически отзывалась о том о сем, он же больше молчал или коротко огрызался. Он как бы остановился в своем развитии, а Марина росла и доросла до того, что решила переехать в Москву, где была возможность устроиться участковым врачом, но прежде они должны развестись — для прописки. Она поедет одна, поживет некоторое время в общежитии для лимитчиков, работа ее вполне устраивает, всего два-три больших московских дома — и весь твой врачебный участок, совсем не то, что здесь, бегай по всему околотку. А потом, когда она получит уже постоянную прописку, он приедет в Москву, они снова зарегистрируются и будут жить-поживать в столице. Ничего предосудительного в этом простом маневре она не видела, так многие делают, условия заставляют. «Поезжай, — сказал он ей, — ко всем чертям! Ищи там себе другого мужа». Марина передумала, но рубец на их отношениях остался и время от времени давал о себе знать. Малышев терял в ее глазах все больше и больше. Потом и самому Малышеву предложили работу в Москве, предупредив, правда, что потребуются терпение и выдержка, прежде чем ему добьются прописки, а квартиру он уже будет пробивать сам. Он согласился — еще бы, с такими хирургами, с таким оснащением, с такими методиками поработать! — вернулся в свой город и ходил, как в воду опущенный, дезертиром себя чувствовал, отступником, работа не ладилась, настроился уже на Москву, но там решение затягивалось, и месяц прошел, и два, и уже три, его утешали, говорили, что таков обычный путь, сначала дело идет к министру и надо ждать, потом в Моссовет и опять ждать, ну и квартиру потом ждать само собой. Он нервничал, звонил, торопил, надоедал, в конце концов плюнул и отказался. Хватит ломать комедию. Нужен вам хороший хирург — берите, прописывайте, обеспечивайте жильем. Ах, вам трудно. Так разгребите кучу дельцов, которые там у вас ловчат, комбинируют, устраивают фиктивные браки, заселяют столицу не теми, кем надо, а не можете разгрести — живите с ними, ему и здесь неплохо. Здесь он — Малышев, а там никто. Вскоре назначили его заведовать отделением, поняв все-таки, что терять такого хирурга не следует и надо ему предоставить больший простор. Потом почистили кадры в медицинском институте, Кучеров позвал его на кафедру хирургии, читать студентам лекции. Малышев отказался по причине в общем смысле нелепой — не хотелось ему тратить время на преподавание. Кто умеет, тот делает, а кто не умеет, тот учит. Грубо, несправедливо к ученым, но надо же что-то придумать в собственное утешение. Да и преподаватели, как загнанные лошадки, днем бегают по аудиториям, а вечером по общежитию, следя за нравственностью своих подопечных кроликов, устраивая собрания, обсуждения-осуждения, турпоходы, готовя стопроцентную явку на субботники, на сельхозработы, на демонстрацию. Он остался в своем отделении и будет в нем до конца дней — решено. Потому что здесь он нужен людям без всяких там лимитов, прописок, ухищрений — нужен прямо, срочно и безотносительно. Марина говаривала при случае, что он со своими способностями мог бы уже стать и доктором наук и профессором, ставила ему в пример того же Веньку Кучерова, их сокурсника, серого из серых, а ведь он уже кандидат наук, доцент, и докторская у него наготове. Он орал на нее за такие речи, будь его воля, он бы декретом запретил ученые степени, разложения от них больше, чем пользы. Как-то в Москве рассказали ему историю, с которой пошла знаменитая фраза Бурденко: «На вашей диссертации только портянки сушить». Дело было вскоре после войны, приехал как-то в клинику Бурденко молодой хирург из Сибири, человек редкого трудолюбия и упорства. Бурденко ему благоволил, как сибиряку, сам он когда-то учился в Томском университете. Молодой хирург успешно делал операции, а жил плохо, ютился где-то на окраине, одежонка как у всех сразу после войны, сапоги дырявые, вечно в них хлюпало, а дело было осенью. Сибиряк не только днями бывал в клинике, но нередко оставался и на ночь, уработается за день, а ехать до своего приюта далеко. И вот однажды ночью вызвали Бурденко по срочному случаю, приехал он в клинику, прошел в кабинет и видит такую картину: на диване сном младенца спит его сибирский коллега, раскисшие сапоги стоят рядом на персидском ковре, а на письменном столе профессора, между пухлыми томами диссертаций растянуты бурые портянки и на них направлена включенная лампа-рефлектор. Бурденко на цыпочках прошел к столу, взял, что ему надо было, и тихонько вышел. После этого случая, говорят, и вошла в обиход его знаменитая фраза. Кстати, он приглашал этого молодца работать у себя в клинике, но тот наотрез отказался — там, в Сибири, в родном поселке, он как хирург, нужнее. Малышева эта история растрогала — будто о нем самом…
Марина в конце концов смирилась и стала налаживать здешнюю жизнь по образу и подобию столичной. Наверное, она любила мужа. Смирилась, но с каждым годом отвоевывала себе все больше прав, а он терпел и прощал ей многое, прежде всего застолье ее, о котором ни в сказке сказать, ни пером описать — завсекцией из ЦУМа, администраторша из театра, директорша гастронома, какие-то еще доставалы дефицита и еще лектор, политический обозреватель — для неофициальной информации, сколько у нас того, да сколько у нас этого, тогда как в Америке в два, а в Японии в три раза больше. Ну а в общем он благодарен ей за то, что дом, семья целиком были на ее плечах, что правда, то правда. Она забыла про Москву, делала сложные и многообразные свои дела с охотой и увлечением, не роптала и не корила мужа.
Сложилась его жизнь или не сложилась? В сорок пять уже пора ответить на такой вопрос. И он отвечает: да, сложилась. И продолжает складываться так, как ему хочется. Достиг ли он своего потолка? Определенно нет, потолка у него вообще не будет, ибо он практик.. Чем больше он делает операций, тем лучше и ему лично и людям. А то, что кому-то может показаться примитивной его установка, не его беда, а их. Для ученого есть потолок — степень, должность, звание. «На трех ногах пуще хромать станешь». Пусть у них будет десять званий, а у него — тысячи операций…
Месяц на небе подвинулся и заглянул в фонтан, теперь на воде было уже два месяца — еще фонарь со столба, отражались оба одинаково, соперничали и как будто иллюстрировали мысли Малышева о практике и науке — свет естественный и всеобщий и свет искусственный, местный. Тихая вода усиливала ощущение покоя, хотелось думать о вечном, о себе и о своей долгой жизни. «А месяц так же будет плыть, роняя весла по озерам, и Русь все так же будет жить, плясать и плакать у забора». Не станет его, унесут в морг, а месяц так же будет плыть…
Алла Павловна какая-то необычная, особенная, пришла после работы, заботливая… А ты — чурка с глазами, забыл, где виделись. Можно позвонить ей сейчас и сказать, что нашел причину. Она в том, что месяц так же будет плыть, а это несправедливо. Других причин он искать не будет. Ему не хочется вспоминать, рассказывать, волновать себя снова. Не от выдержки он молчит, не от замкнутости, как она думает, а от инстинкта самосохранения.
Надо менять, надо, сердце стучит, требуя перемен. А менять, между тем, нечего. Дожил до сорока пяти, а излишков не накопил и отбросов нет, ибо жил крепко, сгущая, себя, концентрируя. Все, что у него есть, неразменно. На куски не разрубишь. Не разделишь. Не оторвешь. Не менять надо, а сохранять, удерживать, отстаивать то, что есть. Иначе вымрешь как мамонт — от изменения среды обитания.
Рекомендация в выписном эпикризе: в целях дальнейшего выздоровления и благоприятного прогноза сменить планету Земля на планету Венера на такой-то срок.
Ладно, хватит городить-нагораживать, надо позвонить и пожелать милому доктору спокойной ночи. Она о нем помнит, он о ней тоже не забывает, пусть ей приснится цветной сон. Тем более, что пациент ее доволен собой — за весь день всего три сигареты и уши не опухли, все о’кэй. Нет ничего хуже для врача, чем больной, который не поправляется, лечишь-лечишь, из кожи лезешь, а он будто окаменел в своем недуге. Она там одна с двумя дочерьми, что делает? Наверное, сидит с младшей и помогает ей готовить уроки. Но почему он решил, что она одна, без мужа, что за придурь такая?..
У Катерины завтра экзамен по биологии. «Как ты провела отпуск, подружка? — А я не в отпуске была, я дочку в институт поступала».
Поднялся и пошел в корпус, глядя на воду и следя, как месяц поплыл в другую сторону, словно привораживая, обещая вот-вот показать картинку из ближайшего будущего. Малышев остановился, подождал, что-то и впрямь стало вырисовываться на воде, но он отвел глаза — сам знает, сам спланирует и распорядится. Не надо подсказывать. Навязывать. Предрекать.
Очереди у телефона не было, серый ящик прилип к стене и черная трубка на жестком шнуре торчала под углом предлагающе — бери меня и звони, разговаривай. Слева от автомата замызганное пятно от множества прикасаний. Пожалуй, он позвонит отсюда, незачем тревожить сестру, чтобы она открыла ординаторскую. Нашарил в кармане монету, Юра Григоренко снабдил, подошел к автомату, вставил монету в овальный вырез «2 коп» и снял трубку. Достал из кармашка ее бланк рецептурный с телефонами — а что, тоже лекарство, — и усмехнулся, он запомнил ее номера без бумажки, и служебный, и домашний. Со страху, будем считать, чтобы сразу звать на помощь. Из чего твой панцирь, черепаха? Главреж не прав, панцирь у нее не от страха, а от равнодушия ко всему, от бесстрастия. Плохая память тоже от равнодушия. Он телефоны ее запомнил, память у него отличная и панциря никакого нет.
Держал трубку, а номера не набирал, смотрел на диск с дырками, будто он сам должен вращаться под его взглядом. Наверное, он еще не так болен, чтобы звонить врачу. Но и не так здоров, чтобы отважиться позвонить милой женщине.
Повесил трубку, поднял руку за монетой, но тут что-то в ящике щелкнуло и монета скользнула в его утробу, ступенчато звякая, как будто автомат все-таки сработал. Намерение его осталось невысказанным, но уже оплачено. Малышев усмехнулся, довольный — неспроста же эта мистика с автоматом. Хорошо все-таки, есть кому позвонить, и он ей позвонит непременно. Завтра. Есть такое благое намерение. Вернее сказать, надежда. Как там в песне? «Надежда мой компас живой, а удача награда за смелость…» Смелости у него хватит. И награда будет. А пока — в палату. И спокойно спать.
6
Можно ли считать жизнь прекрасной и удивительной, если биологию Катерина сдала на четверку? Можно ли сидеть в бездействии, сложа руки, когда уже два балла потеряно? Говорил ли отец с Сиротининым или забыл? Или умышленно не захотел, он и такое может отколоть. А отсев меньше, чем Катерине хотелось бы, она ждала большего вышибона. Солдаты как шли ратным строем, так и идут, две медалистки уже зачислены, у многих стаж работы, есть и целинники, — сплошные льготы, у всех подпорки, у одной лишь Катерины ничего нет, кроме фамильной драгоценности. Неужели в приемной комиссии ни один член не знает, что она дочь именно того Малышева? Домой звонят, спрашивают, выражают сочувствие, дают советы попробовать иглоукалывание, один резвый может свозить уважаемого Сергея Ивановича к известному травнику, словом, внимание всестороннее, но никто не может догадаться, что лучшей помощью Малышеву была бы помощь его дочери. Ведь два горя сразу в семье — и отец тяжело болен, и дочь под угрозой вылета. Названивать по телефону есть кому, а рот дело провернуть некому, бейся, Катерина, сама. Конкурентов-абитуриентов хоть хлорофосом трави, кроме солдат и спортсменов есть еще и колхозные стипендиаты, новая форма закрепления молодежи на селе, да и национальные кадры все еще надо растить. С Катей познакомилась Клара из горбольницы, сама к ней подошла: «Ты дочь нашего Сергея Ивановича?» — «Вашего», — ответила Катерина не слишком приветливо, зато точно, он действительно больше больничный, чем семейный. Клара не уловила холодка или сделала вид, все-таки она постарше, уже год работает и второй раз поступает, пожаловалась на невезенье — опять тройка за сочинение. Но Катерина знает, по биологии у нее пятерка, значит, шансы выровнялись, если брать во внимание одну цифирь, но за Клару горбольница хлопочет, а за Катю — некому, по всем статьям она без костылей, не медалистка, не баскетболистка, не солдат само собой, стажа нет да к тому же и пол не предпочтительный, мальчишкам прямо был дан намек, что на лечебный факультет им зеленая улица, слава богу, их не так уж много. Плюс еще отец фанат твердокаменный. Говоря короче, Катерина идет в хвосте, зато на вышибон первая, следовательно надо поработать всем, чем можно, прежде всего мозгой пораскинуть.
Вечером, едва дождавшись прихода матери, Катерина изложила ей свои опасения. Ситуация взрывоопасная. Мать понимает дочь с полуслова, не то, что папочка золотой, драгоценный, сразу в панику:
— Ты мало готовилась, я тебя предупреждала!
— Говорил он с профессором? — прямо поставила вопрос Катя.
— Должен был.
— Мамочка, мне надо наверняка, а не «должен был». Надо все меры принять и притом срочно, а он там…
— Ты хотя бы поинтересовалась, как он себя чувствует!
— Ну хорошо, мамочка, как он себя чувствует? — Будто не хватает ему сочувствующих, или мать не понимает, кому больше грозит крах. Досадно да ладно, надо быть тактичной. — Надеюсь, у него все в порядке.
— «Надеюсь», — покривилась мать. — Он тебе все-таки отец.
— «Оте-ец», — в свою очередь покривилась Катя. — У других вон действительно отцы так отцы! А что он сделал для меня в трудный момент?
— Твоя грубость, Катерина, в конце концов…
Слава богу, зазвонил телефон, прервав материнскую накачку, ничем она не лучше отцовской.
— Опять сочувствия, опять сострадания, — сказала Катя и пошла к аппарату.
— Если это он, передашь мне трубку. И не смей говорить с ним таким тоном!
Катя сняла трубку, сказала вежливо:
— Вас слушают.
— Это квартира Малышевых? — Женский голос, уважительный, несколько даже подобострастный.
— Да, да, Малышевых, — небрежно ответила Катя и, прикрыв трубку ладонью, сказала матери: — Пациентка. Аж падает от чюйств.
— Мне бы хотелось поговорить с дочерью Малышева, — продолжала женщина, пытаясь быть сдержанной, но телефон всегда выдает волнение больше, чем разговор с глазу на глаз, Катя это знала с чужих слов.
— Я у телефона, — несколько удивленно и с любопытством отозвалась она.
— Здравствуйте еще раз, — продолжала женщина растерянно. Почему «еще раз», если она сразу не поздоровалась? — С вами говорит… вы, мне кажется, знаете Настеньку Сиротинину, дочь профессора Сиротинина?
Катю словно током дернуло, она мгновенно сообразила, что к чему, подхватила с подъемом:
— Да-да, конечно, мы с ней подружки!
— Тем лучше, это говорит ее мама, Елена Леонидовна. — Голос ее стал спокойнее и увереннее, Катерина сразу ее представила — черноволосая и черноглазая моложавая дама, не люкс, не Голливуд, но со следами былой красоты и к тому же властная и решительная.
— Очень приятно, Елена Леонидовна, очень приятно! — от души обрадовалась Катя. — Настенька уже приехала?
— Как вам сказать?.. Да, приехала, приехала, — спохватившись, продолжала Елена Леонидовна. — Но мне необходимо поговорить с вами.
— Пожалуйста, Елена Леонидовна, я вас слушаю, сколько угодно.
— Разговор не телефонный. Прежде всего я хочу вас попросить, чтобы вы ни слова ни папе, ни маме.
— Папа в больнице.
— Я знаю, знаю, но… на всякий случай, никому ни слова, если вам это не трудно. Нам с вами необходимо встретиться.
— В любое удобное для вас время, Елена Леонидовна. Хоть завтра.
— Вас, кажется, Таней зовут?
— Нет, Катей.
— Извините, Катя, лучше бы сегодня, вас это не очень затруднит? — Голос просительный, так это не похоже на Елену Леонидовну, Катя ее отлично представляет, этакую надменную, самоуверенную профессоршу.
— Что вы, что вы, не беспокойтесь, Елена Леонидовна. — У Кати в коленках дрожь, вот-вот запрыгает у телефона. — Скажите только, где вам удобно?
— Допустим, в скверике, напротив ЦУМа, вам туда недалеко?
— Доберусь, ничего, — успокоила ее Катя.
— Тогда приходите к восьми, успеете?
— Успею, Елена Леонидовна, ровно в восемь я буду в сквере.
— Минутку, Катя, а как я вас узнаю?
— Да я сама вас узнаю, Елена Леонидовна, я же была у вас помните, на шестнадцатилетии Настеньки?
— У меня плохая зрительная память, к сожалению. Возьмите с собой что-нибудь броское, заметное.
На столике перед Катериной лежали неразобранные без отца газеты и сверху журнал.
— Я буду в джинсах и в руках журнал «Юность», седьмой номер, на обложке большая цифра семь.
— Договорились, Катя, вы очень милая девушка, — Елена Леонидовна вполне собой овладела. — До встречи.
Катя положила трубку, постояла мгновение, стиснув руки на груди, затем ликующим голосом вскрикнула:
— Мамочка! Пляши, мамуля! Наш отец — молодец! — Она сделала пируэт один, еще один и еще. — Мы с тобой его недооценивали.
— «Мы с тобой». — Марина удивилась Катиному преображению. — Кто звонил?
Дочь кружилась, резвилась и даже запеть пыталась «ля-ляй-ля-ля, ля-ляй-ля-ля».
— Да в чем дело, Катерина, кто звонил? — Невольно и Марина Семеновна озарилась от ее радости.
— На ловца и зверь бежит, мамочка. Нет, папуля у нас положительный молоток. Без болтовни, без лишних слов взял да и дело сделал. — Она приблизилась к матери и даже обняла ее слегка за плечи как в те счастливые дни, когда мама покупала ей ценную игрушку или что-нибудь из нарядов. — Я его отлично понимаю, конечно, надо дочь воспитывать в духе, но и помочь дочери тоже надо в критический момент, это по-родительски и по-мужски. Завтра же побегу к нему и поцелую в щечку, скажу, что больше не буду бузить, своевольничать, перестану быть черствой, буду сплошная чуткость. Заболел, бедненький, а я действительно веду с ним себя нечутко.
— Лучше поздно, чем никогда, — прервала ее излияния мать. — Но в чем все-таки дело, кто звонил?
— Дело в том… Но меня просили никому не говорить, она подчеркнула — ни папе, ни маме.
— Ну пожалуйста, не говори. — Марина Семеновна приподняла брови, вроде бы понимая дочь и соглашаясь с ней, но видно было, что она неспокойна и намерена хоть что-нибудь да выведать. — О чем речь, можешь не говорить, но хотя бы кто звонил, можно узнать? Или тоже секрет?
— Пожалуй, можно. — Катя свела брови, делала она это точь-в-точь как мать, она очень на нее похожа. — Даже пожалуй, нужно, — очень серьезно продолжала Катя. — Звонила Елена Леонидовна.
— Я поняла, но кто она?
— Не догадываешься? Ну-у, мамочка, какая ты у нас длинношеяя. — Она глянула на часы. — Мне пора выходить, мамочка, к восьми надо быть на месте встречи. — Катя подошла к зеркалу, присмотрелась к своей кофточке. — Как ты думаешь, по-английски она тоже читает?
— Кто такая она, ты же не говоришь?
— Мамочка, но ведь она просила так.
— Ну и не надо. Сама же спрашиваешь, читает или не читает. Зачем тогда спрашивать? — Марина Семеновна искала, за что бы еще зацепиться, ухватиться, ей хотелось все-таки выведать, отчего так возликовала дочь и как бы она не испортила чего-нибудь по молодости, по глупости.
— Гос-споди, жена профессора Сиротинина! — наконец призналась Катя. — Нет, я все-таки надену блузку. — Катя одним движением стянула с себя кофточку и, голая до пояса, без лифчика, заспешила в свою комнату. Марина Семеновна поморщилась — ну как это они все ходят теперь без ничего?! Ей стало жалко дочь, давно ли она была розовым младенцем, и вот уже трясет телесами. Через минуту Катя вернулась в синей польской блузке, взяла со столика журнал, опять посмотрела на часы, пробормотала: — Минут через пять надо выходить.
— Я понимаю, секрет, тайна, — осторожно сказала Марина Семеновна. — Ну вот вы, допустим, встретились, а дальше что?
Катерина повела бровью — действительно, а дальше что?
— Поговорим. Не я же инициатор, а она, я пассивная сторона. Хотя, как сказать…
— Ты полагаешь, жена профессора просит тебя о свидании, чтобы рассказать тебе свежий анекдот? Моды на зимний сезон или что-нибудь в том же духе?
Катерина задумалась.
— Я полагаю, она намерена обговорить мое поступление. По телефону такие дела не делаются.
— Допустим, начнете вы разговор. Ты ей будешь ставить условия или она тебе?
Действительно, кто кому и какие условия? Почему она просила не говорить родителям? Вот тебе первое условие, не совсем понятное, даже совсем непонятное.
— Повтори подробно весь ваш разговор, — потребовала Марина Семеновна, видя Катину растерянность. — Ты могла что-то не так понять.
Дочь повторила, выделяя главное:
— Я сказала, папа в больнице, а она мне: знаю-знаю, то есть ей профессор сказал. О просьбе отца она ни слова, это понятно. Разговор не телефонный, она подчеркнула, тоже понятно. Нам надо обговорить с глазу на глаз, ровно в восемь в скверике возле ЦУМа, где она мне все скажет.
— Как понять все?
— Очень просто, мамочка. Профессор Сиротинин не может один все дело решить, иначе она бы не стала звонить. Там ведь приемная комиссия мощная, он в нее, кстати говоря, не входит. Следовательно, есть препятствия, которые надо преодолеть, а это чего-то стоит. Видимо, речь пойдет о сумме? — Катя вопросительно посмотрела на мать. — Именно так, о чем же еще? Я как-то сразу и не подумала, спасибо тебе, мамочка.
— Больше она ничего не говорила? Конкретно никакого намека?
— Разговор не телефонный — куда еще конкретнее? Она не так глупа, мамочка.
— А может быть, это ты не так умна?
Катя посмотрела на часы — половина восьмого, времени на прения у нее нет, пора выходить. Не забыть «Юность» седьмой номер. Катя взяла журнал, и тут ее осенила догадка: она наивна, если не сказать большего, она действительно не так умна, как того требуют обстоятельства. Елена Леонидовна говорила намеками. Слова ее: «Захватите с собой что-нибудь заметное» следует понимать вполне определенно, нужна ей «Юность» как рыбе зонтик.
— Мамочка, она намекнула, чтобы я захватила с собой сумму. — Катя в растерянности прижала журнал к груди.
Марина Семеновна отрицательно покачала головой.
— Сиротинин, Катя, не из тех людей.
«Начинается!» — встревожилась Катерина и возразила запальчиво:
— Ты не знаешь, мама, каким может быть человек в сложной ситуации. Он не может обойтись без посредника, это же естественно, и кто, как не жена, сможет ему помочь? Риск в таком случае сводится до минимума, понимаешь?
— Все-таки ужасно, как ты думаешь о людях! Уверяю тебя, Сиротинин не такой, чтобы говорить о каких бы то ни было суммах. Он человек не от мира сего, — уверенно сказала Марина Семеновна.
— Ты рассуждаешь, как отец, и оба вы заблуждаетесь, потому что не представляете всей картины. Ведь не вы поступаете, не вы там отираетесь, а я поступаю, все вижу и все ловлю. У меня нервы обнажены, я каждой клеточкой ощущаю, как тянут за уши того же сынка директора комбината. У него уже две пятерки, а за душой ничего, кроме какого-то там разряда по самбо или по скалолазанию, уж не знаю.
— Катя, пойми меня правильно, — Марина Семеновна начала нервничать. — Сиротинин вполне может тебе помочь, я с этим не спорю, отец с ним поговорил. Но профессор никогда не пойдет на взятку, тем более помогая коллеге. Ты недооцениваешь авторитет своего отца.
Катя недолго думала, сразу додумалась:
— Сиротинин не такой, пусть, я тебе верю. Но жена его — такая, и тут уж поверь мне, я ее знаю! Подобные дела она ловко обставляет без его ведома. Вот почему она просила ни слова не говорить родителям. Теперь тебе все ясно?
Да уж куда яснее. Теперь и Марина Семеновна задумалась. А Катя продолжала наседать:
— Деньги ей нужны сегодня, мамочка. Когда я ей предложила «в любое удобное для вас время», она подчеркнула: «давайте лучше сегодня». Мамочка, мне надо спешить. — Катя показала на часы.
— Ну хорошо, — сдалась мать, — сколько? — Ну а как ты думаешь?
— Рублей… триста? Четыреста?
— Девчонки говорят, две тысячи, если уж наверняка.
— Прямо так сразу уж и две тысячи! — возмутилась Марина Семеновна.
— Такая такса, мамочка, международная. Ты пойми, там не один человек, у них система, синдикат своего рода. Как же они такую мелочь, триста рублей, будут делить? И что ей самой останется? Она должна сразу же кого-то озадачить суммой, обязать, чтобы он почувствовал всю меру ответственности, как ты не понимаешь?!
— Но две тысячи! Прямо так сразу и выложить. Можно ведь потом внести, они же тебе верят. — Марина Семеновна была крайне растеряна.
— Нет, мамочка, вносят заранее, чтобы была гарантия.
— Хотя бы какую-то часть сначала?
— Нет, я хочу сразу! — воскликнула Катя. — Я все-таки дочь хирурга Малышева!
— Но такая сумма!
— Мамочка, зато я сразу буду спокойна. А ты разве нет?
Марина Семеновна не знала, что тут делать, как тут быть.
— Катя, я допускаю, если поступает круглый болван, в аттестате одни тройки, тогда и такса может быть, как ты сказала, международная. Но ведь у тебя аттестат четыре с половиной, ты уже два экзамена сдала на четверки, зачем же сразу?..
— Ну чего ты торгуешься, нашла время? — прервала ее Катерина уже на грани истерики. — Я буду идти на четверки, а на последнем экзамене мне влепят двойку, физики я как огня боюсь!
— Но две тысячи! — сокрушенно сказала Марина Семеновна. — Вынь да положь. Это же грабеж среди бела дня.
— Неужели у нас не найдется каких-то жалких двух тысяч?! — вскричала Катя вне себя.
— Как ты смеешь так говорить?! — на той же высокой ноте ответила Марина Семеновна. — Ты хоть представляешь, что это за сумма? Это годовая зарплата врача, го-до-ва-я! «Жалких». С каких это пор такая сумасшедшая сумма стала жалкой? Да ты просто отвратительна! Две тысячи не валяются на дороге, их надо заработать в поте лица, я тебе уже сказала — год врачебной работы, целый год! — Марина Семеновна стала поправлять прическу то одной рукой, то другой, пытаясь привести в порядок потревоженные мысли.
Катя, надо сказать, плакала чрезвычайно редко, но сейчас в ее глазах стояли слезы.
— Мамочка…
— У меня же не банк, в конце концов, не сберкасса, так прямо и выложу я тебе такую сумасшедшую сумму, — сказала Марина Семеновна тоном пониже.
— Займи, в конце концов, мамочка, пойди к Зиновьевым, еще к кому-нибудь, врачей полон дом. Смотри, уже сколько времени, судьба решается, а мы с тобой дискутируем.
— Я тебе дам тысячу, — решилась Марина Семеновна. — Сейчас. А остальные потом.
— Никуда я не пойду! — Катя с размаху швырнула журнал на стол, тут она уже подражала отцу. — Иди сама, неси эти жалкие крохи!
Марина Семеновна зажала уши пальцами, чтобы не слышать Катиного визга.
— Не каждый же год твоя дочь поступает в институт! Отец скоро выйдет, найдет денег, расплатимся, ну что ты в самом деле?! — Катя шагнула к матери, взяла ее за обе руки, чтобы она не вздумала и дальше затыкать уши. — Зато все будет наверняка, я стану студенткой, мамочка, разве ты против? А если только провалюсь, я не знаю, что я с собой сделаю, вот посмотришь!
Марина Семеновна тяжело вздохнула. Ох, до чего же умело гнула дочь свою линию, нагнетала доводы один другого убедительнее. Когда только научилась и где? Год назад ей дубленку оставили импортную, через полчаса отдадут другой, если Катя не принесет восемьсот рублей, и у нее уже никогда не будет такой дубленки, «мамочка, или у тебя дюжина дочерей? Я ведь у тебя одна-единственная. Если не куплю сегодня, то я не знаю, что я с собой сделаю!» Год назад были «эти жалкие восемьсот рублей», теперь уже «эти жалкие две тысячи», а что будет дальше, жалкий миллион?..
Что будет, то и будет, а сейчас она не отвяжется, да и в самом деле легче потом будет всем, у отца гипертония пойдет на убыль, тут сразу решение всех проблем. Если же провалится дочь, кого винить? Кроме родителей, некого.
Марина Семеновна пошла в спальню, прикрыла дверь перед самым Катиным носом. Катя ждала по часам ровно две минуты, следя за стрелкой, после чего постучала в дверь.
— Мамочка, скоро? Я уже и так опаздываю.
Может быть, ей там стало дурно от беседы с дочерью, и она слегла? Может быть, у нее тоже криз? Катя выждала еще тридцать секунд и взялась за ручку, но тут дверь распахнулась, вышла мать, неся в руках старую сумку из мятой кожи, вместе прошли на кухню, Марина Семеновна задернула занавеску, села за стол, раскрыла сумку и стала выкладывать пригоршнями по десятке, по двадцать пять, две-три попались по пятьдесят.
— Считай эту жалкую сумму, — сказала мать с обидой. Катя порывисто обняла ее и поцеловала в щеку, затем с удовольствием стала складывать стопочки по двадцать пять, по десять — фиолетовенькие и красненькие, мимоходом тщательно их разглаживая. Где мамуля их набрала, будто торговала редиской на рынке и совала за пазуху. От отца, что ли, прятала?
— Нужен конверт, мамочка, так полагается.
— В какой, интересно, конверт ты затолкаешь такую пачку?
— В чем же тогда? Давай просто в газету и перевяжем ленточкой.
— Ты внимательно считаешь?
Катя старалась, ей такое занятие доставляло поистине детскую радость.
— Мамочка, ты у меня прелесть! Пересчитай на всякий случай сама.
— А ты пока возьми у меня на столике коробку из-под арабских духов.
Катя бросилась в спальню, на столике возле зеркала схватила самую большую коробку, желтую, выставила из нее флакон, оторвала атласную подкладку, с хрустом отодрала картонную подставочку для флакона и — бегом к матери. Сама аккуратно вложила в коробку разнокалиберную пачку, лучше было бы, конечно, по сотне, или хотя бы по пятьдесят, но у них действительно не банк и не сберкасса, Елена Леонидовна должна понять.
Марину Семеновну вдруг осенило:
— Катя, а если это шантаж?! Какая-нибудь цыганка узнала телефон Малышева и звонит, думает, у нас денет куры не клюют.
— Оставь, мамочка, о деньгах и речи не было. При чем здесь цыганка, я же знаю голос мамы Настеньки.
— Я пойду вместе с тобой.
— Ни в коем случае, все провалишь. Такие дела делаются без свидетелей.
— Да откуда, в конце концов, ты все знаешь?! — возмутилась Марина Семеновна.
— Как будто ты сама, мамуля, не смотришь телевизор. Мне пора.
Катя вынесла из своей комнаты дипломат, сунула в него желтую коробку так небрежно, будто там не две тысячи рублей, а пачка сигарет, защелкнула замки и — к двери.
— Будь с ней вежлива, деликатна, придумай, что сказать ей при этом.
— Ой, мамочка, деньги сами за себя скажут.
— Осторожнее, смотри, чтобы кто-нибудь дипломат не выдернул. Возьми его под мышку.
— Возьму-возьму, мамочка.
Катя за дверь, а Марина Семеновна к окну, посмотреть, как она пошла, ничего не заметно? Не успела она дойти к окну в спальне, как в дверях звонок и нетерпеливый стук. Марина Семеновна заспешила обратно, открыла — Катя.
— Журнал подай, мамочка, «Юность» седьмой номер. — Дочь нетерпеливо трясла рукой, стоя за порогом. — Скорей!
Марина Семеновна заспешила за журналом, протянула его дочери, но Катя отступила в коридор подальше, жестом показывая матери, чтобы и та вышла.
— Нельзя через порог, мамочка, горе мне с тобой!
Схватила журнал и ринулась бегом, размахивая дипломатом в одной руке и журналом в другой.
Почти всю дорогу она бежала, боясь опоздать, боясь, что Елена Леонидовна не станет ждать и минуты, но в скверик вошла спокойным деловым шагом. Здесь уже было пустынно и тихо, универмаг закрыт, покупатели и спекулянты разошлись и час пик уже спал. Навстречу прошла молодая пара, толкая перед собой коляску со своим чадом. Возле клумбы девочка нюхала цветок, присев на корточки, ей очень хотелось сорвать его, но недалеко сидела бабушка и следила. Девочка украдкой поглядывала на нее и усердно нюхала, передвигаясь на корточках, тянулась к другому цветку, явно выжидая момента. В кустах слышались воровато приглушенные голоса, алкаши делили бутылку (стакан у них, между прочим, называется аршином). Катя пошла резвее и на середине широкой аллеи увидела черноволосую женщину в кремовом костюме с короткими рукавами, с черной сумкой и в черных туфлях. Катя узнала Елену Леонидовну, помахала ей журналом и приложила к груди, цифра семь выглядела спортивным номером. Елена Леонидовна скупо улыбнулась при Катином появлении. Они сели неподалеку от клумбы.
— Не знаю даже, с чего начать, — призналась Елена Леонидовна.
Все на ней такое аккуратное, пригнанное и, конечно же, дорогое, на пальцах, в ушах, на шее, конечно же, серебро и с камнем, наверное, своим, по гороскопу, и сумочка не из кожзаменителя, Катя сразу увидела, и вообще вид профессорши, фирменный по самому высокому счету, вызвал у нее сложное чувство. Она ровесница Катиной мамы, но выглядит явно моложе и ясно, почему — сидит дома весь день возле зеркала и выходит только на прогулку, даже парикмахершу по телефону к себе вызывает, и потому вальяжнее, аристократичнее, породистее ее мамы-труженицы. Увидев набухшую сероватую вену у нее на щиколотке, Катя несколько успокоилась.
— Я вас узнала, Катя, ваше лицо мне знакомо.
— Я была у вас на шестнадцатилетии Настеньки, девятого мая.
Девчонка все-таки сорвала цветок, как и следовало ожидать, и, оправдываясь, дескать, он уже был сорван, понесла его бабушке, вытянув вперед ручонку.
— Не знаю даже, с чего начать, — повторила Елена Леонидовна, нервно передвигая сумочку на коленях.
— Да вы не волнуйтесь, что тут такого особенного? — сказала Катя, чувствуя себя хозяйкой положения. Желтый куб в дипломате давал ей такое право. «Кубышка от слова куб», — мимоходом придумала Катя.
— Не часто такое бывает, — рассеянно сказала Елена Леонидовна, присматриваясь искоса к своей собеседнице.
— Я понимаю, не часто, но что же, если так принято, — помогла ей Катя и тут же заметила, как Елена Леонидовна насторожилась.
— Что значит принято, Катя?
— Я, может быть, неправильно выразилась, но как говорит Маяковский, смотри на вещи просто.
Елена Леонидовна метнула на нее быстрый взгляд, дернула верхней губой, будто девушка ей неприятна, а Катя подумала, что она переигрывает в своем стартовом волнении, как будто у нее и в самом деле первая финансовая операция. Но может быть, мама права, профессор Сиротинин и впрямь не от мира сего, вот почему жена его дрожит, без притворства трусит.
Елена Леонидовна еще раз глянула на Катю своими черными обворожительными очами, губа ее снова чуть заметно дернулась, может быть, оттого, что Катя уж слишком прямо ее успокаивает, как ровня. Надо быть сдержанней и скромнее.
Но может быть и другое — она ждет, что Катя сама заговорит на нужную тему. Кто из них абитуриентка, ведь не жена профессора? Хотя инициатор — она. Ждет, притвора, мнется, ломается. Катя — что остается — двинулась ей на помощь:
— Вы можете мне смело довериться, Елена Леонидовна, я же не маленькая, в институт поступаю, правда, со скрипом.
— Катя, потребуется помощь твоей мамы. Но я решила сначала поговорить с тобой.
Почему мамы? Впрочем, естественно — откуда у самой Кати столько карманных денег?
— Мама согласна, мы с ней уже все обговорили.
— Как обговорили?! — Елена Леонидовна повернулась к Кате всем телом. — Как… решили? Без меня?
Все-таки она актриса великолепная, ловкая притвора. Или же паникерша, трусиха отчаянная.
— Нет, почему же, с вами. После вашего звонка.
— И что вы решили?
— Мы догадались.
Елена Леонидовна недоуменно приподняла брови, плечи, руки, все, кажется, что можно было приподнять. Может быть, назвать ей сразу сумму и тем ускорить дело? Ну а если она обморок разыграет, тогда что? Лучше выждать, что она дальше скажет.
— Как вы могли догадаться, Катя? Ты виделась с Настенькой? Она тебе звонила?
— Не-ет. — Тут уже и Катя подрастерялась — при чем здесь Настенька? Или она тоже выступает в роли посредника? Ничего пока не понятно, надо помолчать, не называть сумму, пусть уж Елена Леонидовна сама выкручивается, называет. Даже интересно, как она это сделает. Владеет же она каким-то приемом.
— Да вы спокойнее, Елена Леонидовна, что тут такого?..
Сиротинина перебила ее, видимо, набралась решимости:
— Настя попала в беду, Катя, и требуется твоя помощь. Вернее, помощь твоей мамы. Но я решила сначала поговорить с тобой, как со взрослой и, прежде всего, как с подругой Насти. Я боялась, что твоя мама сразу мне откажет, и решила заручиться твоей поддержкой.
— Пожалуйста-пожалуйста, — торопливо отозвалась Катя, не улавливая пока ее замысловатого хода.
— С Настей, Катя, случилась беда, — голос ее дрогнул.
— Да что вы, Елена Леонидовна? Там? На стажировке в Большом театре? Что, травма?
— Нет, Катя, все гораздо хуже.
Наверное, вот он, ее прием — попала в беду и нужны деньги на выручку.
— Ни на какой стажировке она не была. Только великое дитя Николай Викентьевич может такому верить. И мне внушил. Настя приехала, но не может показаться дома. Потому что она… — Елена Леонидовна раскрыла сумку, достала платочек и тут же положила его обратно, раздумала пускать слезу. — Она беременна.
У Кати перехватило дыхание, сердце так и заколотилось, она испугалась. Чего, спрашивается? Сразу и не поймешь. Испугалась беременности своей юной подружки, но более того своей грубой, грубейшей ошибки. Надежда рухнула — вот чего она сверх всего испугалась.
— Я надеюсь, Катя, с тобой можно говорить, как со взрослой. Беременность у нее не меньше пяти месяцев, уже виден живот. А у Николая Викентьевича спазмы сосудов головного мозга, его удар хватит, если он ее увидит. Он ее до умопомрачения обожает. В декабре у него юбилей, семьдесят и сорок пять научной деятельности. Я все сделаю, чтобы он не увидел ее в таком положении, я обязана его беречь. — Елена Леонидовна хотя и достала опять платок, но и слезинки не проронила, не всхлипнула даже, она волевая, деятельная особа, она действительно охранит своего профессора. — Она все от меня скрыла, — продолжала она ледяным голосом, без тени сочувствия дочери. — Она тайком сбежала со своим, не знаю даже, как его назвать, дружком, сожителем, соблазнителем. Теперь, Катя, требуется помощь твоей мамы.
Катя инстинктивно прижала к себе дипломат, желтая коробка перекатилась внутри беззвучно, но Катя услышала — деньги ее на месте. А ведь чуть было не потеряла. Хорошо, что не ляпнула сразу, выдержка, что ни говори, полезное свойство характера. Теперь она согласна, две тысячи — это сумма.
— Только твоя мама ее спасет, ее и Николая Викентьевича. — О себе она не говорила, в спасении она не нуждается, обойдется своими силами.
— Я не совсем понимаю, Елена Леонидовна, почему именно моя мама?
— Я знаю, Катя, в таком случае — только твоя мама! — наступательно проговорила Елена Леонидовна.
— Насколько мне известно, я уже взрослая, вы сами сказали, — в пять месяцев уже поздно.
— Да, Катя, поздно — по правилам. Но нет правил без исключения. Существуют специальные операции по спасению выкидышей, разные патологические случаи, резус и тому подобное. Здесь у нас, я повторяю, никто, кроме твоей матери, не поможет. Умоляю тебя, Катя.
Вон какая мамуля у нее уникальная, Катя и не подозревала.
— Насколько мне известно, мама не занимается этими самыми… — Вот уж не ожидала она от себя, что не сможет выговорить — «абортами».
— Но она дает направление куда надо. Не будем вникать в подробности, но я об этом знаю, Катя. Я очень тебя прошу, поговори с мамой. Я готова стать перед тобой на колени. — Она сказала это так твердо, что Катя поверила и еще подумала: зато меня теперь вы не поставите на колени.
Что-то Елена Леонидовна безусловно знала, но далеко не все. Не знала она в частности, какой великий шанс выдавала она самой Кате в создавшемся положении. Итак, семья профессора Сиротинина отныне целиком в ее, в их с мамой власти. Такого оборота Катя и представить себе не могла при всем богатстве своего воображения.
— Успокойтесь, Елена Леонидовна. — Катя настолько теперь уверилась в своих возможностях и осмелела, что положила ей руку на плечо. — Я поговорю с мамой, обещаю вам. — И тут же прикусила язык, нельзя так сразу соглашаться, транжирить свой шанс почем зря. — Я думаю, она… если только она в силах помочь, конечно.
— Спасибо, Катя, у тебя чуткое сердце.
Правильно, чуткое, оно чует, что надо спешно возвращаться туда, к началу, где Елена Леонидовна — просительница, надо срочно исправлять свой промах.
— Я, конечно, поговорю с мамой, повторяю — если она сможет. Хотя я не уверена. Честно говоря… я не ожидала. Как это могло случиться, Елена Леонидовна?
— Я всего ожидала, но только не этого. Она ведь еще рожать собирается, вот подарочек к юбилею отца. Ей нужно еще в десятый класс идти, сопливая школьница, а она — рожать! Несовершеннолетняя, только в мае паспорт получила, получила и укатила. Куда? С кем? Какой-то, она говорит, кавказец, якобы из органов. Значит, уже совсем взрослый мужчина? Нет, говорит, не совсем, ему двадцать пять лет, и наш ребенок, говорит, будет такой же красавец.
Действительно, в последнее время Настеньку встречал какой-то кавказец на «Жигулях», весь фирменный, похлеще сынка Смирнова, черный, стройный, белозубый, часы с компьютером. Но говорить о нем Елене Леонидовне Катя не станет, весь ансамбль его видел, не одна она, кому хочется, тот пусть и докладывает. Может быть, он и в самом деле из органов, хотя «Жигули» этому противоречат, у них пистолеты, овчарки, самбо, но чтобы собственная машина!..
— А домой не идет, — продолжала Елена Леонидовна. — Да я и не пущу ее в таком виде, упаси боже, она убьет Николая Викентьевича.
— Где же она живет? Уже у него дома?
— Здесь я вообще ничего не могу понять, Катя. Они снимают номер в гостинице, я у нее была. Спрашиваю, как вы оказались в одном номере, если не зарегистрированы? А она мне: он оперативный работник, ему по службе положено, предъявил свои корочки — и все. Может быть, и правда, но как ей теперь верить, если сказала, что на стажировку поехала, а приехала — аппендицит с ножками? Но с другой стороны, все-таки их поместили в гостиницу, да еще в номере-люкс, три комнаты, туалет, ванная, ковры, только министры в таких живут. Ждала его, ждала до десяти вечера, хотя бы посмотреть на него. Если он из органов, значит, серьезный, ответственный товарищ. Так и не появился. Где же ты была, спрашиваю, вместо Большого театра, почти три месяца? Мы-то думали, она по дому скучает, извелась там без нас, а она!.. Были мы, говорит, в Баку, в Ереване, в Тбилиси, в Сочи купались, потом во Львов поехали, там почти месяц жили, у него командировки такие, он специалист по этим самым… борцы, торцы? Дефицит перепродают.
— Фарцы, — подсказала Катя. — Фарцовщики.
— Да-да, он их выслеживает, ездит по их маршруту, разоблачает и задерживает. Одет всегда в гражданское, а Настенька, получается, с ним для отвода глаз. Театр! Большой театр! И это наша дочь, профессора Сиротинина! Он умрет, в тот же час, как только узнает. Но я, Катя, я поклялась перед зеркалом, что не допущу этого, я все сделаю, чтобы Николай Викентьевич не узнал. Теперь представляешь, насколько важно, чтобы ты молчала?
Катя кивнула солидно, озабоченно. Разговор ушел в сторону от экзаменов, совсем в сторону, тем не менее, все это весьма занятно. Если уж быть честной, Катя Настеньке позавидовала — Сочи, море, номера-люкс и свобода полнейшая. Все-таки талант великое дело, все у Настеньки получается само собой, легко и естественно. Как птица летает, как рыбка плавает.
— На Кавказе, кажется, регистрируют в шестнадцать лет? — предположила Катя.
— Да ничего подобного, я узнавала! «Мы зарегистрируемся через два года, а сейчас я буду рожать». А кто за тебя в школу пойдет, Николай Викентьевич? Тебе же аттестат зрелости чадо получить. «Пойду в вечернюю». И давай меня просвещать: все этнические группы пошли с Кавказа, потом смешались и выродились, теперь только на Кавказе осталась чистая раса, истинно библейские типы, эталон красоты. «Ты его дождись, он скоро придет, я вас познакомлю, сама увидишь. Такой же красивый у нас будет ребенок». Что меня поразило — она спокойна, даже весела, хорошо выглядит. А я все стараюсь выпытать, терзает меня сомнение, может быть, он тебя обманывает, мошенник какой-нибудь, а морочит тебе голову, что из органов? Нет, она говорит, у него не только документы, но и пистолет есть, он мне давал его подержать, я даже с ним поиграла, только сначала обойму вынул, тяжеленький такой брикетик с пульками. «С пульками!» Беременный ребенок! Везде, говорит, нам предоставляли гостиницу, лучшие номера, такая у него работа ответственная, и он много зарабатывает, потому что смертельный риск. Значит, и ты с ним рисковала, ходила везде? Нет, говорит, на операции он меня не брал, инструкцией запрещено, все в тайне. Во Львове он конфисковал тридцать пар джинсов, все в упаковке, только что с фирмы. За эти тридцать пар спекулянты получили бы шесть тысяч, представляешь? Он их сдал, естественно, в ОБХСС. Я спрашиваю, почему вы в гостинице, он что, не здешний? А она мне — мамочка, он всесоюзный, у него квартира в Москве, еще где-то, а работает он в МУРе, как капитан Жеглов. Мы с ним будем жить в Москве, так что Большой театр не исключается. Тут у меня терпение лопнуло и я ей красочно расписала всю ее дальнейшую судьбу — у тебя будет вот такой живот, вот такие губы распухнут, по лицу желтые пятна, подурнеешь как смертный грех, потом родишь, обабишься, он уедет в Москву и поминай как звали, даже алименты платить не будет, вы не зарегистрированы. А главное, танцевать не сможешь, мышцы разойдутся на животе, ноги отекут, кому ты нужна будешь, несчастная мать-одиночка, у которой даже аттестата зрелости нет. Тут ее проняло, ребенок есть ребенок — «я во сне танцую каждую ночь» и прочее. Катя, если ты нам не поможешь!..
— Я поговорю с мамой, — осторожно, после паузы, сказала Катя. Если Сиротинина была уже на пределе, то Катя эмоциям не поддалась и ответила с холодком.
Елена Леонидовна раскрыла сумочку с двумя металлическими шариками сверху и сказала приказным тоном:
— Катя, открой свой дипломат.
Катя машинально щелкнула одним замком, другим, приоткрыла, увидела там желтую коробку и снова прикрыла.
— Зачем, Елена Леонидовна?
— Так надо, Катя. — Она протянула ей белый пухловатый конверт. — Здесь тысяча рублей, десять купюр по сто.
Катя отвела ее руку и поставила дипломат себе за спину.
— Нет-нет, Елена Леонидовна, ни в коем случае!
— В чем дело, Катя?
— Мама обидится, возмутится, что вы?! — Катя лихорадочно соображала, каким путем ей перейти на себя, каким приемом. — Ну и дочь у меня, скажет, вместо того, чтобы сидеть химию зубрить, она бродит по городу да еще, извините меня… — все-таки «взятку» она выговорить не смогла даже с извинением, — …деньги берет. Вы только представьте себе: вместо того, чтобы готовиться к экзамену! — Катя пытливо посмотрела на собеседницу, но та ни о чем не догадывалась, поглощенная своей заботой, хотя могла бы из вежливости спросить, что за экзамен и куда Катя поступает.
— Значит, ты отказываешься нам помочь, Катя?
Профессорша настолько удручена своей бедой, что сама догадаться не сможет, надо Кате брать инициативу в свои руки целиком и полностью, не быть тюхой-матюхой.
— Дело в том, Елена Леонидовна, что мама поможет вам и так, без этого, — она кивнула на белый конверт, который Сиротинина держала, не пряча. — Я ее уговорю, уж в этом вы можете на меня положиться.
— Я тебе верю, Катя, но ты не знаешь всего. Мама в свою очередь должна передать…
— Нет-нет! — перебила Катя. — Вы тоже всего не знаете, Елена Леонидовна. Дело в том, что у меня… то есть у нас с мамой, да и с папой тоже есть, как вам сказать… встречная просьба.
— Какая? Говори смелее.
— Я поступаю в институт, в медицинский, сдаю на четверки и аттестат у меня четыре с половиной, но знаете как бывает? В последний момент кого-то надо пропихнуть по звонку, и ты вылетаешь как пуля из ствола. Я не солдат, не спортсменка и не герой целины. Если профессор Сиротинин…
— Понимаю, Катя, но Николай Викентьевич исключается.
«Тогда и мама моя исключается!» — чуть не выпалила Катя, едва-едва сдержала себя.
— На подобные темы с ним говорить практически невозможно.
— Я вообще-то по баллам прохожу пока, достаточно ему спросить в приемной комиссии, как там успехи дочери моего коллеги Малышева, и все будет в порядке.
— Ты недооцениваешь приемную комиссию, — жестко усмехнулась Елена Леонидовна, — и переоцениваешь возможности Николая Викентьевича.
— Так как же тогда мне быть?.. — Катя растерялась. Если ей отказываются помочь, то сейчас придется отказать и Настеньке, а ведь она уже обещала.
— Обойдемся без Николая Викентьевича, — не очень уверенно сказала Сиротинина. — У меня есть кое-какие возможности. Только ты давай не жеманься, а возьми конверт.
Катя подумала-подумала и рассудила:
— Если я возьму, значит, мы в расчете, вы мне ничем не будете обязаны. Нет, так я не согласна. Я боюсь, понимаете, я ужасно боюсь физики! А она под занавес. Я могу вылететь, а у вас все будет в ажуре.
— О, как ты грубо судишь! Я обещаю тебе помочь, наша встреча с тобой не последняя. А конверт возьми.
— Мама будет возмущена, оскорблена и вообще! Если исключается Николай Викентьевич, то и Марина Семеновна исключается, вот так!
— Катя, пойми, операцию будет делать другой врач, она только оформит направление и договорится. Но договориться как раз не просто, риск очень большой, пять месяцев, уже плод шевелится. При таком сроке ни один специалист за просто так не станет рисковать. А для нас это вопрос жизни и смерти.
— Для меня тоже, и для всех нас. Мама волнуется, отец в больнице, Николай Викентьевич сам его консультировал. Ну что ему стоит слово сказать, тут ведь никакого риска? Из уважения к профессору Сиротинину для него все сделают.
— Катя, обойдемся без него, я тебе уже сказала. Но ты пойми другое — из одного уважения к профессору никто не согласится помочь его несчастной дочери. Слишком большой риск, и он должен оплачиваться. Делают за меньшую мзду, я знаю, но поскольку случай исключительный, я прошу тебя передать сумму более значительную, профессор не обеднеет. Возьми, прошу тебя!
Катя положила дипломат на колени, щелкнула замками, но не раскрыла, а на мгновенье оцепенела. Она представила себя на физике: ей попался трудный билет, а для нее они все трудные, увидела себя беспомощной заикой перед экзаменатором, а потом перед щитом с фамилиями тех, кто принят, себя она не нашла. Ее охватил озноб, как на краю черной пропасти.
— Елена Леонидовна, если я не поступлю, я обо всем расскажу профессору Сиротинину, — сказала Катя отчаянно и отважно. — Я вынуждена.
— О, какая ты! — глухо воскликнула Елена Леонидовна, лицо ее перекосилось. — Ты убьешь его.
— Мне тогда будет все равно, — упрямо и ровно проговорила Катя.
— Ты поступишь, — сказала Сиротинина, едва разжимая челюсти, не глядя на девушку, сама приоткрыла крышку дипломата, наверняка увидела желтую коробку в нем — ничего особенного, арабские духи всего-навсего, подарок маме ко дню рождения, — и положила рядом с коробкой белый конверт.
7
Работу «не бей лежачего» Алик не признавал, ему требовалось, чтобы все кипело и в руках, и под темечком — сколько будет с посудой, сколько без, плюс пачка сигарет, коробка спичек, считал он играючи, в полное свое удовольствие, а когда товара не было и покупатель подходил со скоростью два человека в час, Алик уставал смертельно, зевота сводила скулы и глаза сами собой слипались. Отдел у него не простой, а винно-водочный, приняли они его вместе с Вахом на равной материальной и всякой прочей ответственности, но за прилавком чаще стоял один Алик, а Вах сам себя сделал старшим продавцом, возился с бумажками, сальдо-бульдо, брутто-нетто, он помогал заведующей:-магазином, ездил на базу, выбивал дефицит, Вах вообще очень деловой человек, джентльмен удачи. Алику он не мешал, Алику он целиком и полностью доверял. Алик мог работать сколько угодно, лишь бы его уважали, просили его помочь сделать то-то и то, кличка у него Безотказный. У него не возникало никаких сложностей ни с напарником Вахом, ни с заведующей магазином Мусаевой, никогда он не базарил, не старался урвать, попросят — сделает, не просят, сам предложит услугу, экспонат своего рода, не жмотничал и не калымил, может быть, потому, что жил один и ничего ему не надо было ровным счетом, продмаг 7/13 был ему роднее дома, поскольку дома как такового у него не было, жил он у Василь-Василича, тоже одинокого мужика, телемастера, с одной стороны, а с другой, тихого алкаша.
Алик без проблем проработал всю зиму и, может быть, работал бы и дальше спокойно, да наступила весна, заиграло солнышко, зазеленела трава, Алику стало не по себе, захотелось ему куда-то, непонятно куда, захотелось ему чего-то, непонятно чего. В апреле он отметил круглую дату, двадцать два года ему исполнилось, всех позвал, всех уважил, подарили ему чешскую дипломатку и югославские сабо, а когда поднимали тост, много не думали и в одну дуду желали ему поскорее жениться, если он, конечно, на это дело способен, и даже поручили Лильке Горлышке найти ему достойную пару не позднее конца квартала.
В самом деле, почему бы ему не жениться, армию он отслужил, специальность у него есть, да, кстати, и не одна, он уже после армии окончил курсы радиотелемастеров, а главное — возраст, его ровесники все уже переженились, а если некоторые и порасходились, так и это тоже надо испробовать, чтобы не отстать от жизни; одним словом, давай, Алик, шуруй, сказал он себе, пришла желанная пора, требуется подруга жизни. И вот, стоило ему только так настроиться, как искать даже и не пришлось, невеста пожаловала к нему сама, как в сказке про Иванушку-дурачка. Пива с утра не подвезли, водки не было, вермут белый, «Талас» и прочая ходовая бормотуха кончились вчера, в день получки на комбинате, Алик скучал за прилавком, покупателей никого, зайдут, носом поведут и, гремя пустыми бутылками, отваливают, одно сухое стоит. Вах поехал выбивать нужный товар вместе с Мусаевой, Алик наводил порядок на своей самой красивой, между прочим, витрине, поправлял этикетки, стирал пыль, то-се, и тут подвалила девица, ямочки на щеках, глазки как черносливы, смазливенькая такая кадра, пухленькая вся и крепенькая, как футбол, лет семнадцати от силы, в голубенькой кофточке без лифчика.
— Привет, шеф. — Она улыбнулась Алику, будто они вместе учились.
— Мое почтение, — отозвался Алик вежливо как работник прилавка.
— Вчера попала под кайф, а сегодня кочан раскалывается. — Она поморщилась и приложила к голове пухленькую свою лапку с красными ноготками.
— Сочувствую, — сказал ей Алик. — Подлечить?
— Ой, обожаю понятливых.
— Обойди кругом, зайди в подсобку.
Лилька Горлышко кипела за прилавком, ей подвезли сосиски, моментально собралась очередь. Не было ни Мусаевой, ни Ваха, девица будто знала, когда к нему явиться на смотр. Он взял у Ваха начатую бутылку коньяка, хотел налить ей граммов сто для начала, но она сама взяла бутылку из рук Алика, налила, правда, по-божески, выпила, торопясь, мордашка перекосилась как у японской маски. Алик схватил шоколадку, начал срывать обертку поспешно, словно шоколадка была чем-то вроде валидола при сердечном приступе, но девица, едва раскрыв глаза, выдернула у Алика шоколадку целиком, поправила обертку и сунула плитку в сумочку.
— В долг или как? — спросила она и, видя, что Алик тугодум, сама же и ответила: — За дружбу, лады?
Он не возражал, спросил только, вытирая потный от неожиданности лоб:
— Тебя как зовут?
— Роза, а что? — Могла бы и спросить, а тебя как?
— Сколько тебе лет?
— Сколько есть, все мои. — Как будто ей пятьдесят, и уже есть, что скрывать.
— Короче, паспорт у тебя есть?
— В залог, что ли? Так я же у тебя ничего не прошу.
— Зато я прошу, — решил Алик. — Приходи вечером, дело есть.
Вечером он сказал, что хочет на ней жениться.
— Обалдеть! — воскликнула Роза. — А если я еще погулять хочу?
— Погуляй неделю, — согласился Алик, — потом во Дворец брака.
Жена она будет само то, не надо перед ней стелиться, жилы из себя тянуть, уха-аживать. Алику некогда, надо работать, она сама все сделает, сама за себя постоит хоть где, именно такая и нужна жена Алику. Вечером она выпила чуть побольше, чем днем, с полстакана, приняла еще одну шоколадку, стала ее жевать как хлеб, глаза ее заблестели, она повеселела, и когда Алик снова сказал про Дворец брака, Роза поцеловала его коротко, поверхностно и сказала:
— Зачем тебе жениться? Давай так.
— Как это так? — не понял Алик.
— Ты что, из-за угла мешком?
Короче, она ему все показала в тот же вечер. Молодая, а уже такая грамотная. Учится она в ПТУ, скоро будет маляром-штукатуром, а живет возле автовокзала, но поскольку папа ее выгнал из дома, она теперь ночует у бабушки на улице 8 марта. Ко всему, Роза честная, не темнит, когда Алик ее спросил, за что тебя папа выгнал, она сразу призналась — не ночевала дома. А где она ночевала и с кем, Алик спрашивать не стал, с таким вопросом ей свои родители надоели. Алик ей сказал на прощанье, чтобы в понедельник она пришла с паспортом, а он договорится с Вахом, тот подменит его за прилавком. Надо жениться и поскорее, а то девчонка испортится без присмотра. Сходят во Дворец, зарегистрируются, а потом он вплотную займется ее воспитанием. Но в понедельник Роза не пришла ни днем, ни вечером, не пришла и во вторник, Алик заскучал и на себя обозлился — даже фамилию ее не знает, где искать не знает, а ведь не шалтай-болтай, жениться собрался, избрал подругу на всю свою дальнейшую жизнь. Но с другой стороны, удивительное дело, что за кадры пошли, ты ее в загс, а она линяет, тогда как во все времена было наоборот — женихи сбегали.
На третий день Роза явилась, наконец, но не с паспортом, а с фингалом под левым глазом.
— Кто тебя обидел? — спросил Алик, готовый тут же бежать мстить за невесту.
— Кто меня обидит, тот до вечера не доживет, — ответила ему Роза. — Я об дверь стукнулась, ночью в туалет вставала, нельзя что ли?
— Можно, — позволил Алик. — А паспорт где?
Роза ответила ему матерком, и далее выяснилось, что шестнадцать ей исполнится осенью, в сентябре, а на июнь один друг зовет ее с собой на плотах по Иртышу, жениться ему не к спеху, поскольку у него уже есть жена и двое детей. Роза оказалась тоже безотказной на свой манер, и как тут строить семью из двух безотказных, пропадут же!.. Но жениться Алику надо, и если уж смотреть серьезно, Роза такое дело не потянет даже и с паспортом, и вообще она не тот товар, который выбирают один раз и на всю оставшуюся жизнь, кое-чего в ней с избытком, а кое-чего не хватает, но вразумлять ее с помощью фингалов Алик не мастер. Ну и еще момент — Роза не девушка, чего нет, того нет, тогда как Алику нужна прежде всего девушка, а все остальное потом. Тут не на кого надеяться, надо самому шурупить и брать судьбу в свои мозолистые руки. «Выбирай жену не на броде, а в огороде», — эту народную мудрость Алик усек, еще когда торговал в палатке огородными культурами. Короче, лучшего места для выбора невесты, чем магазин, ему не найти, да и некогда ему шарить по каким-то другим местам, если уж честно.
Винно-водочный углом примыкал к бакалейно-гастрономическому и, когда у Алика не было ни пива, ни ходовой бормотухи, а у Лильки Горлышки выстраивалась очередь за сосисками, за маслом или за колбасой, то все они были перед Аликом как на параде, и он то на одну глаз положит, то на другую, а у Алика глаз — алмаз и прейскурант у него простой, на первом месте, чтобы скромная, на втором — не слишком красивая, чтобы не как актриса или цирковая лошадь. Ну и еще, чтобы не студентка, с такой часто спорить придется, она думает, что все знает. Ну и еще, чтобы нуждалась во всем, чтобы каждому рублю была рада. Есть и другие важные показатели, например, как одета, должна быть в юбке или пусть в платье, лишь бы не в джинсах. Алик уверен был, девушка джинсы не наденет. Розу в юбке он не видел и не увидит, она только в джинсах, а когда вылупится из них в нужный момент, ляжки изнутри красные, как ошпаренные, натирает их, потому что джинсы у нее настоящие, «друг достал». Джинсы у нее кордовые, ими побриться можно, шоркни по роже туда-сюда — и чисто-гладко, не хуже электробритвы «Москва-Олимпийская». Джинсы Алик не признает по сугубо личным соображениям, у него подгуляли копыта и в узких джинсах Алик похож на стул из арабского гарнитура — вид сзади, а в широких брюках ничего, вроде ближе к шкафу.
Выбор, в общем-то, был каждый день, правда, небогатый, очередь больше из семейных и уже в возрасте, тем заметнее во цвете лет. Выбирал он зорко и требовательно, как минер, который, всем известно, ошибается только один раз, хотя Алик служил в десантных войсках. И вот однажды… Не будем спешить, постепенно осмотрим. Ну, во-первых, в юбке, снизу начнем, в светлой такой приличной юбке, ноги — ничего, прямые по всей длине, не как у Алика; пойдем выше — кофточка красненькая без рукавов, и сама такая светловатая, глаза не то серые, не то зеленые, хорошо, что не черные. Она уже как-то попадалась Алику под обзор, но он ее отправил в отсев — слишком худая, прямо скажем не Роза, и шибко серьезная, похоже, студентка. Если даже и не студентка, все равно серьезная, из тех, кто замуж не спешит, прежде чем не обеспечит себя правом на труд. Шибко на себя надеется, от мужа не хочет зависеть, а с такой жить тяжело. Тем не менее — скромная, не скандальная, без дефицита на себе, без импорта, сумочка через руку, наверняка сама ее сшила. Сегодня она стояла за маслом, а у Алика никого, и он беспрепятственно мог следить за ней минут двадцать. Она стояла и читала книжку, спина назад, живот вперед, шея дугой и сзади на позвонке пушок. Изредка выпрямится, глянет, много ли впереди, передвинется на шажок и опять спину назад, живот вперед, и ест книгу глазами. Жаль, если студентка. С бабками ни слова, ни полслова на тему хватит масла или не хватит, — все это ничего, приемлемо, плоховато вот, что читает, опасно для Алика, затруднения создает, сам он мало читает, если по-честному, ничего не читает, кроме инструкции или схемы по телерадиодеталям. Хотя опять же, смотря что она читает, допустим «Кройку и шитье» или там «О вкусной и здоровой пище», тогда само то. Короче, надо пытать счастья. Не первый сорт, но Алику надо подгонять коней, а то он до самой пенсии просидит холостым. Алик подошел к Лильке Горлышке и дал знать, чтобы она оставила ему полкило.
— Бу-сделано! — гаркнула Лилька. Нормально она говорить не может, орет хоть на кого, хоть где, хоть когда, а если требуют книгу жалоб, Лилька оправдывается — у нее голосовые связки врожденные, она может вам справку от лорврача принести.
Вернулся Алик в свой отдел, оглядел на всякий случай свою куртку, местами белую, застегнул пуговицу, встал как инспектор ГАИ и смотрит. А она себе читает, но уже как-то так стоит, будто хочет спрятаться от Алика, замечает его взгляд, да и как не заметить, если у него взгляд десантника, сверлящий, все замечающий, способный в энную долю секунды, как учил его лейтенант Зайцев, оценить обстановку и принять решение. Вот она заметно выпрямилась, подобрала живот свой и волосы сзади слегка взбила тоненькими пальцами, Алик аж вздохнул, будто из воды вынырнул, — сечет она его взгляд, реагирует! Двигалась она, двигалась, читала она, читала, а масло возьми да и кончись, и Лилька уже орет:
— Что я вам его — рожу?!
Остатки очереди рассыпались с разными нехорошими словами, а эта читательница сложила книжку, сунула ее в самодельную сумку и, ни на кого не глядя, в том числе и на Алика, пошла из магазина молча, как будто даже и не раздосадованная, Алику это тоже понравилось. Ну что же, попытка не пытка, он кликнул Ваха, чтобы тот постоял минут пять-десять, схватил у Лильки желтый сверточек, выбежал из магазина и четко сразу сориентировался — вон она, идет себе, ничего не подозревая.
— Я извиняюсь, конечно, можно вас на минуту? — Алик встал на ее пути, держа сверток возле пупа.
Она остановилась, посмотрела на него несколько испуганно, и ни слова в ответ, можно ли на минуту или нельзя, только стоит и смотрит довольно-таки холодно, как ревизор. От взгляда такого у Алика вылетела простота подхода, он понял, от масла она с ходу откажется, уйдет и потом уже к ней не подвалишься, нужен срочно какой-то маневр с фланга или даже с тыла.
— Слушай, твой брат просил меня достать армянский коньяк, я это сделал, — с достоинством, в манере Ваха сказал Алик и отвел руку с маслом за спину.
— Моему брату пять лет. — Глаза ее изменились чуть-чуть в сторону потепления, ей стало даже немножко весело.
— Ну и что? — машинально сказал Алик, лишь бы поддержать разговор, но быстро поправился: — Значит, не брат, извини, отец, наверное? Вот такой. — Алик показал чуть выше своей головы.
— Давно? — Глаза ее стали совсем спокойными, она угадала его вранье, но не рассердилась — еще один плюс.
— На той неделе. — Алик незначительно сморщил лоб, вспоминая. — В пятницу.
— Мой папа скоро год как на БАМе.
Опять промах, но даже удивительно, что она не уходит, мало того, улыбнулась слегка, и у Алика рот сам собой так и растянулся до ушей.
— Все правильно, перед отъездом на БАМ он мне сказал: Алик, ты безотказный, помоги моей дочери, если что. Кажется, он сказал Светлане, правильно?
— Меня зовут Жанна. — Ей весело, но она не смеется, только губы чуть-чуть изогнулись и так красиво, так привлекательно, а главное, она совсем его не боится. — Когда папа уезжал, вы еще здесь не работали.
На вы с ним, ну что же, Алик грамотный, знает — покупатель и продавец будьте взаимно вежливы.
— А вы заметили?
— Что?
— Что меня здесь не было?
Она пожала плечами, ничего не сказала, повернулась к Алику боком.
— Мне уже надо идти, можно?
— Нет, нельзя, — решительно сказал он. — Я все придумал, торопился, бежал и не те слова говорю.
— Бежали? За мной? А зачем?
Определенно девушка, но все-таки, наверное, студентка. Там, где все ясно, у них обязательно вопрос.
— Я всем помогаю, такой человек. Меня зовут Алик, кличка Безотказный, хоть у кого спросите. Вы стояли за маслом, правильно? Но сегодня у нас получился перебой в снабжении, не всем хватило, вот возьмите ноль пять кэгэ. — Алик подал ей сверток, а она вместо того, чтобы взять его и, не привлекая внимания, тут же сунуть в свою сумку, не взяла, а полезла в свой плоский кошелек, темный по краям от пота, видно, подолгу держит его в руке, пока стоит в очереди и переживает — хватит или не хватит?
— Спасибо, — и протянула Алику трешку.
Алик хотел было вознести руки к небу, возмутиться хотел — да вы что?! Мне?! Деньги?! — однако не вознес и не возмутился и даже похвалил себя, молодец, сообразил, она совсем не такой человек. А какой? С ней надо играть очень честно, лучше совсем не играть.
— Один момент! — Алик отвел ее руку с трешкой. — Я бежал, торопился, сдачу забыл. — И он опрометью бросился обратно в магазин, чуть не сбил Ваха за прилавком, протопал как налетчик и на бешеной скорости успел подсчитать: три шестьдесят кило, полкило будет рубль восемьдесят, значит, с тройки сдачи рубль двадцать, — схватил и бегом обратно, как на стадионе, даже руки к бокам прижал. Она стояла на том же месте, держала сумку перед собой обеими руками и легонько стукала ею себя по коленкам. Опять сказала ему спасибо, подала деньги и спросила:
— А может, не надо?
— Правильно, не надо. — Алик отвел ее руку с трешкой.
— Да нет же! — Она рассмеялась. — Сдачу не надо.
— Ну?! — только и смог произнести Алик, оскорбленный с головы до ног, и так на нее глянул и таким жестом подал сдачу, что она приняла безропотно. Алик сунул руки в карманы своей местами белой куртки, не зная, что теперь дальше сказать, засмущался ни с того ни с сего, доброе дело сделал, а как-то стыдно.
— Может быть, я вам тоже могу чем-нибудь помочь? — спросила она.
— Что вы, что вы! — Не нуждается он, мужчина, в помощи слабой женщины, тьфу-тьфу, девушки.
— Может быть, у вас ребенок есть?
— У меня-я? Да вы что?! За кого вы меня принимаете?
Она рассмеялась:
— Разве плохо иметь ребенка?
— Этого еще не хватало! — возмутился Алик. — Разве я похож? Почему вы так спросили? — «Наверное, у нее есть ребенок! — молнией пронеслось под темечком Алика. — Опять я подзалетел». Упавшим тоном он еле выговорил: — А что, у вас есть ребенок? Такая молодая… — Он так укоризненно это выговорил, что подтвердись ребенок, он заберет свое масло обратно.
— У меня двадцать два ребенка, — сказала она и посмотрела на Алика, как он такую новость воспримет.
— Ого, сборная по хоккею! — воскликнул Алик, готовый подпрыгнуть на двадцать два метра. — Вы кто, тренер?
— Я работаю в детском садике, у нас иногда освобождаются места, родители, например, получают квартиру в другом районе, я могла бы вас устроить.
— Меня — с большим удовольствием. А вы кем работаете?
— Воспитателем.
— Такая молодая… — Дальше вполне можно было задать самый главный вопрос, примерно так: «Такая молодая, еще девушка…» — затем сделать паузу и дождаться ответа, но он только сказал: — а уже воспитательница.
— Мне нужен педстаж.
Еще одна молния — неужели студентка? Можно и спросить, чего тут такого, но огорчаться ему пока не хотелось.
— Если сосиски привезут, вам взять?
Она поколебалась, слегка нахмурилась.
— Да нет, я сама. Не люблю зависеть. Спасибо, Алик. Пока, до свидания.
— Вам спасибо! — от души сказал Алик, а за что и сам не знал, за то, хотя бы, что у нее двадцать два ребенка, а не один, слава аллаху.
Вечером приканала Роза в джинсах, конечно, и в накидушке из марли, а лифчика нет и видно все, как на витрине, потребовала пачку сигарет и стограмешник, ей, видишь ли, не повредит в такую жару. Алик угостил, безотказный же, но без энтузиазма. Если на горизонте появилась Жанна, с Розой надо прощаться, но как? Надо найти техническую причину и без нанесения оскорбления дать ей от ворот поворот.
Но не рано ли исключать Розу, если с Жанной все вилами по воде? С Розой легко, не надо за ней бегать вдогонку, о чем-то просить, она сама тебе все предложит, ты и вспотеть не успеешь, а с Жанной пять минут постоял и пять потов сошло, как будто в первый раз идешь к выходу за борт с парашютом и не знаешь, раскроется он или нет. Приняла Роза сто граммов и сказала, что на плотах по Иртышу она ехать раздумала, ей и здесь хорошо, своего друга с двумя детьми она отшила и, если Алик не возражает, она согласна жить с ним под одной крышей, то есть замуж согласна. Вот такие сюрпризы жизни — то ни одной невесты, то сразу две. Алик поколебался и сказал — надо повременить, а то могут наклепать ему за связь с несовершеннолетней, да и ей надают по одному месту, к тому же жить им пока негде, Василь-Василич разрешает только временное пребывание на его жилплощади, но не постоянное, он взял халтуру и просил Алика помочь ему вечером паять по схеме, так что Розу он к себе не зовет, а Роза уже под кайфом и сильно огорчилась, хотя и знает, что Алик и вправду помогает Василь-Василичу как телемастер, он курсы окончил, а в продавцы попал потому, что до армии учился в торговом техникуме.
На другой день он ждал Жанну с утра, но она не пришла, ждал после обеда — не появилась. Привозили сосиски, Алик взял полкило для нее, а она не показывается. Горит на работе, оправдал ее Алик, двадцать два короеда — это вам не сахар. Ну а раз такое дело, не будем ее винить и подождем терпеливо, Алик даже на очередь перестал смотреть, потеряла она теперь для него значение. Так ли, этак ли, но день пропал, пятница, кстати, рыбный день. Но и в субботу Жанна не появилась, а это уже ни в какие ворота. Была у Лильки колбаса по два сорок, он взял полпалки и опять зря, холостой пробег, не пришла… Алик задумался — почему? Может быть, он слишком по-наглому к ней пристал и она теперь обходит 7/13 по большой дуге? После перерыва привозили масло, он еще взял полкило у Лильки, снова ждал-ждал — и снова холостой пробег. Спокойно, Алик, сказал он себе, если бы она каждый день съедала полкило масла, то была бы не такой худой. Да не в продуктах дело, в конце концов, она могла бы и просто так зайти, для закрепления знакомства, надо же ей не только себя кормить, но и братишку, еще и маму, есть же у нее мама, а может быть, еще и сестренку… И тут Алика осенило, какой он топор, какой ишак карабахский, всю семью называл, а про мужа забыл, а как раз муж-то и запретил ей таскаться по гастрономам, придет к Алику сам и скажет: ты тут кое-что обещал моей Жанне, так давай, выкладывай…
Нет, про мужа как-то не верилось, не похожа она на замужнюю, у тех вид совсем другой, более самоуверенный и ко всему равнодушный, с мужем у них все проблемы снимаются с повестки дня, на таких пустой номер за километр видно. Нет, Жанна совсем другая, она девушка, Алик уверен на все сто. Однако же вот не пришла…
Он был слишком с ней «извините-простите», сдачу принес, копейки считал, зачем ей нужен такой мелочный друг-приятель? А если он в женихи начнет прилаживаться, а потом станет законным мужем, так из него же копейки лишней не выбьешь. Эх ты, Алик-Алик, темнота ты и простота, надо было вести себя вот как Вах с ними ведет, швыряет деньги пачками, не считая, рубашки не стирает — выбрасывает, о носках и говорить нечего, они для него как сигареты, надел один раз и все равно что выкурил и выбросил. Нет, надо было к ней по-другому подъехать, не брать с нее деньги, рогами упереться.
Ну а с другой стороны, разве девушка, если она настоящая, бросится на дармовое масло? Да и зачем Алику такая жена, перед которой надо каждый день сотенными швыряться, где он их брать будет? А тут еще ходовой товар подвезли, пива навалом, «Яблочное» по рубль восемьдесят и «Талас» по два десять, суббота, конец дня, и они с Вахом за каких-то сорок минут наторговали пятьсот рублей, Алик устал к закрытию до того, что прогнал Розу без всяких-яких и тем закончил свою трудовую неделю. Завтра воскресенье, 7/13 закрыт, в понедельник уже исполнится три дня, как они с Жанной не виделись, забудет она его внешние данные, придется снова к ней подкатывать, а с какими словами? Потом его сразила молния — у Алика все только молнией — молнией сразила его мысль: она его избегает, он ей противен, да и кому может понравиться торгаш алкашеского отдела? Дать ему прямо от ворот поворот она не может, поскольку девушка скромная, ей будет стыдно, поэтому лучше не показываться ему на глаза, чтобы не приставал — и точка.
Но зачем она так хорошо улыбнулась ему, один раз, правда, но очень хорошо улыбнулась и сразу стало видно, что она ему целиком и полностью доверяет. Хотя, кто ее знает, человек ведь может и сам себе улыбаться…
В воскресенье Василь-Василич собрал пустые бутылки, ушел с утра и пропал, Алик сидел один, пить он не пьет, хобби у него нет, жены нет, детей нет, — хоть пропади со скуки, так что, когда под вечер подвалила Роза, он ей честно признался, что старый друг лучше новых двух. Не будет он ее прогонять, подружка она что надо, даже Вах на нее глаз положил, предлагал Алику на той неделе: «Продай ее мне дней на десять». Алик что — безотказный, но тут уперся, сказал, что намерения у него серьезные. Вах все понял и больше не приставал. Пусть она пока побудет с Аликом, может быть, он к ней привыкнет, Роза скоро получит паспорт, а там, глядишь, и в самом деле через два года в загс. Роза осталась ночевать, все было в полном ажуре, а утром в понедельник Алик увидел Жанну в очереди к Лильке Горлышке. До того ему стало обидно, что он молниеносно вспотел, куртка его, только что надетая и вся чисто белая, так и прилипла к лопаткам. Было еще только десять утра, Алик и в голову не мог взять, что Жанна придет так рано, да и вообще он Розе сказал, что больше с ней не расстанется, а теперь вон что получается — вспотел и притом молниеносно. Он и думать забыл про Жанну, просто глянул на очередь — стоит в платье таком голубеньком, спина назад, живот вперед и опять читает, какой была в тот день, такой и осталась. Воспитанная девушка могла бы подойти к Алику и просто поздороваться как со знакомым человеком, — нет, стоит, читает и все, Алика, можно сказать, в упор не видит, правда, у Алика покупателей сегодня порядочно, понедельник для них день тяжелый, так она могла бы хоть издали ему знак подать, сделать ручкой, — нет, стоит себе, в книжку уткнулась. Масло у Лильки в расфасовке, очередь продвигается быстро, может так выйти, что расфасовка Алика подведет и Жанна уйдет без его помощи, со снабжением у нас всегда так, когда надо, не достанешь, а когда не надо, хоть завались. Он надеялся, что Лилька вот-вот заорет на весь магазин кассирше: «Масло не выбивать!», но Лилька как назло молчит, а очередь движется прямо как на посадку в автобус, и Жанна шагает, но все как-то боком норовит к Алику и глаз от книжки оторвать не может, и вот настал последний миг, она взяла желтый брикет и положила его в сумку, — Алик все до мелочен видел, хотя алкаши окружили его прилавок китайской стеной, — положила и пошла себе на выход среди других прочих. Что делать? И Ваха как назло нет, все одно к одному. Алик молниеносно содрал с себя белую куртку.
— Принимаю товар! Пять минут перерыв! — и через двор бегом, а на улице спокойным шагом, даже руки в карманы, будто шел-шел и случайно ее увидел.
— Приветствую, — небрежно сказал Алик, останавливаясь перед Жанной и глядя круто в сторону.
— Ой, здравствуйте! — притворилась она, будто он с неба свалился, она его не видела за прилавком. — Как ваши дела, Алик? — интересуется таким тоном, будто ни в чем не виновата.
— Помаленьку дела, — сказал Алик с вызовом. — А вы бросили свою хоккейную команду? Они там на голове ходят, а вы целый час зря в очереди стоите, что-то мне доказываете, правильно?
— Никого я не бросила, у меня день с утра, день с обеда.
Намек про «мне доказываете» она либо не поняла, либо сделала вид, но с Аликом такой номер не пройдет.
— Почему вы ко мне не подошли?
— Алик, у вас что, живот болит?
— Почему живот? — Алик опешил.
— Вы такой сердитый.
Алик повращал глазами, не находя слов.
— Я не сердитый, я безотказный, хоть кого спросите.
— Ну и плохо, что безотказный.
— Другим хорошо, почему вам плохо? — возмутился Алик.
— Все на тебе ездят! — тоже возмутилась Жанна. — А я не хочу, вот и не подошла. — Видя, что Алик растерян, она смягчилась: — Мне неловко, как ты не понимаешь?
Определенно, девушка!
— Правильно, — сказал Алик. — Ты хорошая. Если мне повезет, у меня будет точно такая жена, как ты.
Она пожала плечами.
— Ты же меня совсем не знаешь.
— Знаю, — убежденно сказал Алик. — Очень даже хорошо знаю. Давай сегодня вечером встретимся.
— Я до восьми работаю, а потом еще буду ждать, пока родители разберут детей.
— А где садик твой находится?
Она объяснила, как пройти — мимо военкомата и сразу направо, там будет большой серый дом, за ним игровая площадка, можно сесть на скамеечку и поиграть в песочек.
Вечером он без труда нашел ее садик, он мимо него раньше проходил тысячу и один раз, смотрел всегда на беседки и скамеечки, на крашеного деревянного жирафа, его всегда тянуло туда, он даже удивлялся, почему ему, взрослому человеку, так хочется посидеть на маленькой скамеечке, зайти в маленький домик, — теперь же все стало ясно, его тянуло сюда к Жанне. Он принес ей коробку конфет ассорти шоколадное и сразу предупредил, что это подарок и пусть она не вздумает деньги ему совать. Жанна взяла коробку, пригласила Алика сесть, детей уже почти разобрали, еще минут пять-десять, и она сможет уйти.
— Алик, ты устаешь на работе?
— Когда как. Сегодня сильно устал, все на часы смотрел. Стрелки остановились.
— Я тоже устала, — призналась Жанна.
Могла бы и не говорить, он уже сам заметил, какая она худенькая, ему стало жалко ее, устала, а домой придет и там полно всяких забот-хлопот. Алик решительно ей сказал, чтобы в магазин она больше не ходила, в очереди не стояла, он ей легко достанет все что нужно, и принесет. Он проводил ее до самого дома, оказалось, она жила совсем рядом с его 7/13, что не удивительно, не стала бы она ездить сюда из микрорайона.
Теперь он стал приходить к ней в садик через день вместе с папами и мамами, те забирали домой детей, а он — воспитательницу Жанну, и она нравилась ему все больше. Оставался один-единственный нерешенный вопрос, но Алик боялся задать его преждевременно, чтобы не испортить все дело.
Дней через десять Жанна ему сказала:
— Меня какая-то девица встретила, по-моему, из вашего магазина, черненькая такая, здесь вот так и здесь. — Жанна показала руками две горки перед собой и еще две горки ниже талии. — В джинсах.
Алик допер молниеносно — Роза.
— Ну? — угрожающе спросил он. — Дальше что?
— Отстань, говорит, от Алика, а то я тебя опарафиню.
Алик зарычал, как лев, — пусть только попробует!
На другой день он сказал Ваху.
— Забирай Розу, можно насовсем, без возврата.
— Беру не глядя, — согласился Вах. — Что с меня причитается?
Алик мог бы и за так отдать, но неприлично, не уважаешь меня, скажет Вах.
— За тельняшку! — придумал Алик. Тельняшка ему и раньше нравилась, а сейчас тем более, то один кент в ней появится, то другой.
Ваху уже скоро тридцать лет, точнее, двадцать восемь, но он все почему-то не женится, хотя у него все есть для дома, для семьи — и квартира, и «Жигули», и денег у Ваха полно, и друзей во всех сферах и на всех инстанциях. Вах может молниеносно достать любой дефицит, фарцы его уважают, он их может закупить хоть оптом, хоть в розницу, тельняшка для него семечки, попроси Ваха по-дружески, он тебе вертолет достанет, хотя Роза, конечно, вертолета не стоила, если уж торговать честно. Короче, Вах человек надежный, поэтому Алик и вкалывает за него безвозмездно. Вах может по три дня в магазине не появляться, но — никто ни слова, и Мусаева его уважает, наиболее ответственные дела в торге ему поручает, Вах оформит все в лучшем виде.
Дня через три Алик получил тельняшку, за Вахом не заржавеет, но странное дело, Алик не обрадовался, а скорее огорчился, — ведь жениться на Розе хотел, планы строил, а она круть-верть и к другому. Ладно, с Вахом ей будет лучше, он ее хоть на «Жигулях» прокатит, шашлыком угостит, пусть Роза срывает цветы удовольствия.
Теперь у него Жанна и только Жанна, и приставать к ней с угрозами опарафинить больше никто не будет. Оставалось задать Жанне главный вопрос, но чем дальше, тем непреодолимее казалось Алику это препятствие. Он уже раза три предлагал: «Давай поговорим откровенно?» — «Давай, а о чем?» А он опять — только откровенно, начистоту. И напоролся однажды, Жанна ему откровенно сказала:
— Мама говорит, будь с ним поосторожнее, продавцы на руку нечисты.
— Как это понять?! — Алик сначала побледнел, потом покраснел, потом вообще цвет потерял.
— Очень просто — воруют, поэтому и живут не по средствам.
— Зачем им воровать?! — вскричал Алик вне себя. — Они что, замок ломают, чемоданы крадут, стекла выставляют, да? Они берут свой товар, у них все под рукой лежит, открыто, свободно, зачем им воровать, скажи, пожалуйста? Твоя мама считает, если поступил дефицит, продавец не имеет права себе немножко взять? Мама твоя кто, бюрократ? Труженики прилавка берут свой товар, вносят свои деньги в кассу, все по-честному. Имеют право на дефицит, работа такая, только ненормальный не берет, но чокнутым в торговле делать нечего. — Алик не находил слов от возмущения, от оскорбления. — Надо — берут, не надо — не берут. Замки не ломают, пломбы не срывают, почему — жулики? Кто проживет на сто рублей?
— Я живу, Алик, на сто рублей и ничего, не умираю.
— Не умираешь, по… — хотел сказать «но и не живешь», но сдержался все-таки. — Работа у продавца нервная, если он начнет себе отказывать, друзьям отказывать, совсем психом станет. Сволочь, скажут ему, а не человек, кому попало продаешь направо-налево, а друзьям жалко, правильно? Я хочу поговорить с твоей мамой, она ничего не знает, а обвиняет. — Так появился повод зайти к Жанне домой. Она пригласила, только предупредила, чтобы никаких таких разговоров Алик с мамой не заводил, когда надо будет, Жанна сама заведет. А что касается честности продавцов, то давай раз и навсегда не спорить, — есть честные, но есть и жулики, наживаются, используя свое служебное положение.
Алик попросил Ваха достать ему фирменный галстук и фирменные носки срочно, только срочно, и Вах не заставил ждать, привез Алику французский галстук с косой полосой и две пары бельгийских носков с узором зигзагом. В воскресенье Алик приоделся. Взял с собой бутылку шампанского, шоколадный торт, бисквитный с кремом в автобусе раздавить могут, еще того-сего, но скромно, без икры и без армянского коньяка, чтобы мать ничего такого не подумала, и явился к пяти часам, как договорились. Едва переступив порог, сразу снял туфли на каблуке в четыре пальца, уравнялся с Жанной в росте, зато показал бельгийские носки. Вежливо, за ручку поздоровался с ее мамой, потом с ее братишкой, спросил, как его зовут.
— Тимур, — ответил мальчик и уставился на дядю, ожидая другого, более интересного вопроса, а у Алика их нет, о чем говорить с детьми, он пока не знает, и для начала спросил, какую игрушку ему принести. Тимур замялся, отвернулся в смущении, видать, скромняга, весь в сестру, молчал-молчал, наконец выпалил: — Велосипед. И еще жирафа, как у Жанны в садике, только чтобы живой. И еще собачку!
М-да, скромняга дальше некуда.
— Как тебе не стыдно, Тимур? — перебила братца Жанна. — Дядя Алик как раз такой, что возьмет и жирафа тебе притащит.
Тут и Алик засиял — от похвалы, и Тимур засиял — от надежды. Крути-верти, а велосипед придется ему купить, но прежде надо развеять ложные представления у его мамы.
Прошли в комнату. Телевизор простой, «Рекорд», Алик сразу к нему, будто пришел по вызову.
— Работает?
— Работает.
— Нормально работает, картинка не прыгает?
— Нормально.
— Жалко! — от души сказал Алик, после чего мать улыбнулась, а Жанна рассмеялась.
Ему очень хотелось сразу же, с первых шагов починить что-нибудь сложное, показать какой он умелец, золотые руки, пусть они спросят, если не верят, у Василь-Василича, с похмелья у того руки трясутся, паять не может, схему не видит, все доверяет Алику. Очень захотелось Алику купить им цветной телевизор вместо ихнего простецкого, привезти, занести, включить, настроить, — и все сидят, смотрят и радуются, не надо никого вызывать, ждать, просить, не надо оформлять в кредит, Алик все сделает сам — как в сказке, вы только пожелайте! Он мог бы сделать это хоть завтра, взял бы в кассе семьсот рублей запросто, как берет тот же Вах, как Мусаева берет, а потом легко поправляют все за счет дефицита, взял бы и привез им на такси «Витязя», или еще лучше «Электрон» и сразу со стабилизатором, только вот жаль, что мама ее зуб против него имеет, очень жаль… Он сразу ощутил, что мама приняла его как-то не так, ни одного вежливого вопроса не задала, ушла почему-то на кухню и не возвращалась. Делать нечего, Алик выложил перед Жанной кое-какой дефицит, сервелата палку, баночку крабов, сыр российский. Жанна, конечно, ах и ох, да зачем так много, на весь детский сад хватило бы, только и забот у нее про своих короедов, но глаза, правда, заблестели, все-таки женщина, то есть, вернее, девушка, а впрочем, кто знает, может быть и… не дай бог, конечно. Посидели-посидели, мама так и не появляется, что-то там на кухне делает, Алик вспотел, распустил свой французский ошейник, занервничал, засуетился, — может быть, он пришел не вовремя? Жанна пыталась его успокоить, мама, мол, нарочно их вдвоем оставила, у Жанны нет своей комнаты для приема гостей, но Алику не терпелось поговорить с мамой, просветить темноту, а тут и в самом деле стемнело, Жанна щелкнула выключателем раз, другой и только после третьего щелчка свет включился.
— Отвертка есть? — обрадовался Алик. — Фонарик есть или свечка? — Сбросил пиджак, завернул рукава слегка, мигом все починил, Жанна стояла рядом, держала свечку и дышала в щеку Алика — вот так бы оно всегда. Алик дал свет с первого щелчка, потом мама позвала их на кухню и стала угощать Алика каким-то вкусным салатом и курицей из духовки. Алик откупорил шампанское, чуть смочил губы, сказав при этом: «Я совсем не пью, клянусь честью». Мама говорила мало, была не очень приветливая, но не сказать, чтобы сердитая, просто серьезная женщина, без хи-хи и ха-ха, однако он помнил про ее вредное влияние на Жанну, ждал момента завести разговор, не дождался и пошел напролом:
— Вот вы опытный человек, мамаша, пожилой, знаете жизнь, скажите, как по-вашему, можно прожить на зарплату?
— А на что же еще жить? — Она как-то нехорошо усмехнулась. — И мы живем на зарплату, и другие, а как же иначе жить?
— Разве это жизнь? — хотелось сказать Алику. Где мебель? Где ковры, где хрусталь? А телевизор у вас какой? А пол — скрипит под ногами, ступить страшно, доски хилые, вагонка, а нужен паркет, если себя уважаешь. Вместо яркого паласа лежит дорожка протертая, ей в обед сто лет, — вот вам масса доказательств, что на зарплату жить нельзя. Папа Жанны наверняка понимает больше, неспроста же он подался на БАМ, хоть немного по-божески квартиру обставить. Да, живут они на зарплату, слепому видно, но разве, извините, это жизнь? О «Жигулях» или даже о захудалом «Запорожце» и думать не могли.
— Ну вот вы сколько получаете? — напористо обратился Алик к матери.
Она опять как-то невесело улыбнулась и сказала, что с прогрессивкой у нее двести сорок.
— Да еще и у меня сто, — добавила Жанна.
— Ну это еще туда-сюда, — заколебался Алик и тут же обозлился: — А у меня девяносто, как мне жить? А если я женюсь, дети будут, надо всех одевать, кормить, велосипед покупать?
— Но не воровать же, — сказала мама. Жанна сделала ей знак украдкой, мол, Алик обидится, не сболтни лишнего, после чего мама заговорила о еде, стала предлагать Алику, чтобы он вот это попробовал и еще вот это.
— Нельзя жить на зарплату, — угрюмо сказал Алик. — Хоть на какую!
Мать с дочерью только переглянулись, но спорить не стали. Алик, конечно, догадывался, что доводов у них наберется с избытком, о мещанстве и в газетах пишут и по телевидению говорят, в том числе и по черно-белому, они могут его переспорить, но вот молчат, чтобы гостя не оскорбить — и на том спасибо. А тут еще молниеносно Алика осенило — не хотят обидеть блатного продавца, который может им все без очереди достать; у Алика аж глаза запекло от обиды, не стал он больше сидеть-рассиживаться, сказал, что ему пора домой и пошел, глядя на свои носки бельгийские и глубоко их презирая. Только один Тимур проникся к Алику должным уважением, у порога долго держал Алика за руку, пока не решился спросить:
— А собаку вы мне сможете достать?
— Какую тебе породу?
— Пуделя… — неуверенно сказал Тимур.
— Пудель — это семечки, — решил Алик. — Проси верблюда, дадут ишака.
— А зачем верблюда? — не понял его Тимур.
— Поговорка такая. Больше надо просить, понял? Максимум, тогда минимум обеспечен.
— Алик, ну чему ты учишь ребенка? — упрекнула Жанна, совсем как жена мужа, таким тоном.
— Нет, верблюда не надо, — решил Тимур. — Лучше пуделя. Или еще лучше пинчера, ма-аленького с большими ушами, как у кролика.
Алик твердо ему обещал, все-таки хорошо иметь такого друга, как Вах, он и жирафа достанет, не только пинчера с ушами кролика. Жанна вышла его проводить, Алику было не совсем хорошо, он взял ее за обе руки, сейчас он или задаст ей последний вопрос, или навсегда с ней распрощается, на веки вечные. Сейчас или никогда. Пока он набирал разгон, Жанна его опередила:
— Алик, ты русский?
— Почти что. — У нее тоже есть свои проблемы. — А что, ты признаешь только русских?
— Мне просто интересно. Спросить нельзя?
— Я полтинник.
— Это еще что за нация?
— Мать русская, отец башкир. По паспорту я Алим.
— Выходит, я тоже полтинник, мама у меня русская, а папа казах. Два полтинника собрались.
— Или один неразменный рубль, — начал заход Алик, сейчас он спросит ее вот так же просто, как она его — ты русский, а он ее — ты девушка? Ничего в этом оскорбительного нет, ровным счетом ничего. Но он опять опоздал.
— Алик, а у тебя нет знакомых джинсы достать?
— Кому-у? — Алик чуть не сел, где стоял.
— Мне, а что? Только не за двести, мама не согласится, а по магазинной цене.
Вот уж чего не ожидал, того не ожидал, уж такую она ему свинью подложила, хуже некуда.
— Тебе? Джинсы? Что же ты сразу мне не сказала?!
Обманывала, притворялась. Главный вопрос Алика теперь отпал сам собой.
— Сразу было неловко просить, а теперь…
— Что теперь?! Теперь еще хуже, чем сразу!
Как он ошибся, как жестоко ошибся, ну за что ему опять пустой номер! Снова надо искать невесту и притом по-быстрому, без невесты он уже жить не может, Жанна сильно его раззадорила, он уже на загс навострился, а теперь вот — джинсы.
— Что ты замолчал, Алик? Нет знакомых, ну и не надо, буду мечтать дальше.
— Есть знакомые, — убито сказал Алик. — Достану. Сколько пар?
Жанна рассмеялась.
— Да одну хотя бы единственную.
Он безотказный, достанет, он даже подарит ей эти джинсы и рубля не возьмет, даже полтинника, а потом гордо скажет — все, нам лучше расстаться.
— Ты чего, Алик? — Голос у нее сладкий, она рада, что скоро влезет в свою мечту, ну а ему что за радость? Сама себя разоблачила, а ведь так ловко прикидывалась, заморочила ему голову. — Алик, ну ты чего? — Она ладошкой приподняла его голову, а он отворачивался, тогда она обеими руками повернула его лицо к себе. — Да в чем дело, скажи? — А голос как у лисы, как у змеи, еще даже хуже.
— Я думал, ты еще девушка. А теперь — джинсы… — Он чуть не заплакал.
— Если я девушка, значит, мне нельзя джинсы надеть? — изумилась Жанна. — Ну, Алик, ты даешь.
Домой он ушел счастливый. Хорошо ему после встречи с любимой девушкой идти по ночному городу, который может спать спокойно и видеть сны и зеленеть среди весны. Алик здесь служил в армии, после дембеля поехал к себе домой в Чишмы, те самые — «деньги есть, Уфа гуляем, денег нет, Чишма сидим», прожил там с месяц, огорчился за свой маленький город и вернулся сюда. Окончил курсы, поселился у Василь-Василича, от него как раз ушла жена и ребенка с собой взяла, бегал по адресам, чинил-паял, велосипед купил, чтобы быстрее обслуживать, потом захотелось ему машину, и он пошел в торговлю, благо, что есть у него два курса техникума.
Маленького пинчера Вах привез в тот же день, как Алик попросил, взял он его за пятьдесят, но без навара Вах даже для друга ничего не делает, сказал — восемь червонцев. Джинсы он обещал через пару дней. И что еще Алика поражает — денег у Ваха и так полно, но чем дальше, тем больше они ему требуются как для алкаша опохмелка. Но Алик его уважал, что говорить, слово Ваха закон, сказал — сделает, болтать не любит, не как Мусаева, например: сегодня пообещает, а завтра напомнишь, у нее глаза шесть на девять, мол, впервые слышу. Живет Вах смело, слегка по-наглому, но через край не хватает, квартира у него, машина, в кармане каждый день не меньше трехсот рублей, иначе Вах себя за человека не считает. Очень хотелось Алику научиться вот так же жить. И с Мусаевой Вах говорить умеет, она его даже побаивается, хотя у Мусаевой муж шишкарь, в прокуратуре работает, иногда на «Волге» в магазин приезжает с личным, само собой, шофером.
Почему он так ни с того ни с сего про Ваха задумался? Потому что сегодня Мусаева с Вахом вели очень громкий разговор, Алик кое-что слышал и на всякий случай запомнил, да и как не запомнить такие новости. Другой бы на его месте заметал икру, но Алику глубоко наплевать на Мусаеву, у него есть невеста Жанна, и она девушка. Теперь он уже не ждал в магазине, а спокойненько шел к ней прямо домой. В один прекрасный день он сказал Жанне:
— Я хочу поговорить с твоей мамой.
— Зачем? Она уже знает, что не все продавцы воруют.
— У меня другой разговор. Хочу на тебе жениться.
— Сначала надо со мной поговорить, как ты думаешь?
— Ну давай с тобой. Предлагаю тебе руку и сердце.
— А где мы будем жить?
— Найдем квартиру.
— Нет, давай лучше у нас. Тимур с мамой в одной комнате, а мы в другой.
Он не ожидал, что она так легко согласится да еще и навстречу пойдет.
— Только у меня есть условие, — сказала Жанна.
— Любое!
— Ты должен учиться, должен восстановиться на третий курс. Тогда мы вместе окончим через два года. — Жанна училась на факультете дошкольного воспитания.
На нужное дело Алика уговаривать не надо, собрал он документы и отнес их в торговый техникум. Там он узнал, что конкурс будет бешеный, абитуриентов тьма, все в торговлю ринулись, непонятно, что с народом творится. Вопрос о его восстановлении будет решаться в августе, но хорошо, что ему не на первый курс, иначе был бы заведомо пустой номер — двенадцать человек на место.
Настал день, когда они подали заявление в загс и получили талоны в салон новобрачных. Жанна к тому времени написала отцу, и он прислал ей с БАМа триста рублей, у Алика само собой нашлось не меньше, они ходили по салону и покупали все, что хотели, кольца прежде всего, затем туфли, платье подвенечное белое, вместо фаты Жанна пожелала шляпку из гипюра, потом взяли такси и поехали за город на природу. Им было хорошо, весело, беззаботно, через два месяца они получат свидетельство о браке, сыграют свадьбу, а до этого купят себе надежную двухспальную кровать, ковер на стенку и обязательно цветной телевизор. Затем будут пробиваться в кооператив на квартиру, отец написал с БАМа, что если зять у них будет работящий и непьющий, он подарит молодым две тысячи к Новому году. Домой к Жанне они приехали в тот день поздно, устали, еще посидели чуток вдвоем на кухне, Тимур уже спал и мама спала, ей на работу рано вставать, и тут Жанна сказала:
— Почему-то тревожно мне, Алик…
— Да ты что, Жанна, бро-ось.
— То ничего не было, а теперь как будто все есть. Без всяких усилий… Так, мне кажется, не бывает.
— Как это без усилий? — возмутился Алик. — У меня даже седой волос появился, один, когда я за тобой бегал.
Мусаева отпустила его на три дня, как положено по закону, но Алик вышел на другой же день, сильно беспокоился за отдел, потому что Вах куда-то пропал и Алика не предупредил. Все его поздравили, и Мусаева тоже, она его уважала, не один раз говорила: «Таких продавцов, как ты, Алим, надо искать да искать».
Сегодня Мусаева пригласила его в свой кабинет, поздравила с законным браком.
— На свадьбу пригласишь? Достанем тебе балык, икру черную, индюка живого, если хочешь.
— На свадьбу приглашаю весь магазин, — сказал Алик. — А вас с мужем персонально.
— Спасибо, дорогой. Заранее скажи, какой тебе надо подарок. Гарантирую. А теперь о деле, Алим.
Оказывается, Вах уехал в командировку аж на две недели, а тут с бумагами непорядок, надо, чтобы Алик подписал заборные листы на две тысячи шестьсот рублей. Товара пока нет, но все будет в ажуре в самое ближайшее время.
— Нет проблем, — сказал Алик. — Если моя подпись действительна, хоть сейчас.
Мусаева в торге на хорошем счету, ей доверяют, она отличник советской торговли, дело свое знает четко и ведет магазин 7/13 от победы к победе. Алик здесь уже девять месяцев и настоящей ревизии при нем не было еще, хотя ревизоры раз пять наведывались. Зимой женщина-ревизор подписала акт со слов, даже смотреть ничего не стала, правда, Вах сказал Алику, чтобы он положил в карман ее пальто сто пятьдесят рублей в виде премии. В другой раз Мусаева сама дала Алику двести рублей и велела сбегать в ювелирный, взять золотое кольцо поприличнее. Алик сбегал, купил за сто девяносто три, отдал Мусаевой, но через пять минут побежал обратно, менять размер на девятнадцать с половиной. Зато торговля шла без лихорадки и премиальные были, а то с одной стороны тебе покупатель нервы мотает, а с другой стороны ревизоры жить не дают, и все это при зарплате ниже среднего.
Короче говоря, Алик подписал заборные листы на две шестьсот. Он верил Мусаевой больше, чем самому себе. И пошел работать.
Но куда подевался Вах, какая-такая командировка? Он же продавец, а не снабженец. В отпуск Вах собирался в конце лета, а сейчас только начало. Как бы так не вышло, что после своей командировка липовой Вах не ушел в отпуск, тогда и свадьбу как следует не подготовишь. Кто теперь достанет Алику джинсы сорок шестой, второй рост? Без Ваха прямо-таки как без рук. Вертеться за прилавком Алик привык один, но теперь с бумагами придется дело иметь, всякие сальдо-бульдо. Тяжело стало Алику, и Мусаева пошла навстречу, оформила помощником продавца своего племянника, здорового амбала, молодого, но волосатого на руках, на груди, на шее, весь будто каракулевый, хотя лет ему семнадцать-восемнадцать. Она его оформила, чтобы Алику было полегче, но амбал сидел как пень весь день, да еще и на Алика смотрел начальником.
— Ты джинсы не можешь достать? — спросил его Алик между делом. — Сходи, поищи фарцов, богом прошу, сорок шестой…
Амбал даже договорить ему не позволил:
— Я на работе, понял? Зачем «сходи-поищи», я тебе не шестерка.
А сам Алик не может вырваться, свободной минуты нет, да теперь еще две шестьсот повисли, надо их отрабатывать, касса ждет-не дождется. После работы он поехал домой к Ваху, узнать в чем дело, там жили какие-то гости из Тбилиси, вся квартира была заставлена до потолка одинаковыми ящиками, пахло фруктами; гости сказали, что Вах уехал с девушкой на Черное море, и тут дураку ясно, что вернется не скоро, а если пораскинуть мозгой и кое-что сопоставить, то — совсем не вернется.
Ладно, до свадьбы Алик потерпит, осталось не так уж много, а там придется искать другое место, без Ваха сразу стало плохо, по всем швам затрещал не только винно-водочный отдел, но, кажется, и весь 7/13…
Понедельник тяжелый день, но этот в жизни Алика оказался самым тяжелым из всех понедельников. Прямо с утра Мусаева позвала его в кабинет, закрыла дверь на ключ изнутри, села за стол и поставила на него свои голые локти.
— Ответственное дело надо решить, Алим. — Глаза у нее желтые, как у кошки, лицо круглое, прическа гладкая, сильно она на кошку похожа и говорит мягко, мурлыкает: — Очень ответственное дело, Алим. Тебя касается, меня касается, всего нашего трудового коллектива касается. — Она выложила перед Аликом целую кипу заборных листов. — Надо подписать, дорогой, а потом покроем. За счет дефицита.
Если бы на Алике не висели две шестьсот, он бы подписал, не глядя, но — висели, и еще он теперь не один, а с Жанной. Алик молча взял пачку обеими руками, перебрал один за другим все листы, голова у него башковитая, не нужны ему ни счеты, ни электронные калькуляторы, быстро подсчитал все и получилось ни много ни мало — сто тринадцать тысяч с какими-то там рублями. А товара на такую сумму и близко нет. Откуда такой бешеный остаток? Когда он вырос?..
Не хотел бы он вспоминать про тот скандал Ваха с Мусаевой, но теперь волей-неволей пришлось вспомнить. Обычно разговор Ваха с Мусаевой был спокойным, деловым и коротким, но в тот раз бубнящие, сердитые их голоса привлекли внимание Алика, тем более, что и его имя было помянуто раза два-три. Он вышел в коридор, непривычно было слышать здесь базарную ругань, будто Вах собирался ее зарезать как минимум. Горячий человек Вах, грузин, но и Мусаева, хотя и не грузинка, тоже кавказская женщина, нашла у них коса на камень. Алик, сам не зная, зачем, потянулся на скандал, подошел к двери и услышал, как Вах кричал: «Сначала ты положишь, а потом я положу!» — ему нипочем, он с ней, как с Розой, в гробу видел ее заслуги, даже прокурора ее не боится. Впрочем, Алик знает, Вах может никого не бояться, есть у него для этого оч-чень веские основания. На крик Ваха Мусаева заговорила потише, все пыталась убедить его: «Ты подпишешь, а я тебя в психбольницу положу, там у меня знакомый врач, дадут справку, что невменяемый и все». Но Вах не соглашался: «Сама иди в психбольницу! Положи свои восемьдесят, тогда и я положу свои сорок». Тут и думать нечего, речь у них шла не о копейках. Теперь выходит, Вах листы не подписал и укатил с девушкой на Черное море, а Мусаева взялась Алика обрабатывать, хотя прежде Алик никогда ничего не подписывал, все делал Вах.
Впрочем, как это не подписывал? А две шестьсот на той неделе? Тоже сумма, она еще не покрыта, а ты давай уже новые листы подписывай, «ответственное дело надо решить», а сумма такая дикая. Опять вспомнил, как Вах оскорблял отличника торговли, да и как ее не оскорблять, если она, заведующая, должна своему магазину восемьдесят тысяч, шутка ли?!
— Я тебе честно скажу, Алим, мы с тобой попали в критическое положение. Вахтанг не в командировке, он позорно сбежал. Он должен магазину сорок пять тысяч. Кое-что я должна, кое-что ты должен. Подпиши листы, иначе нам с тобой будет плохо. Вахтанг подлец, сильно нас подвел, но ты не такой, Алим, я тебя знаю, ты честный человек.
Алик только вздохнул и опустил голову.
— Мы покроем, — сказала Мусаева обещающе, — за счет дефицита. На базе есть твердая договоренность.
Он бы подписал, если бы… Много сейчас у Алика всяких-разных «если бы» — если бы не собрался жениться, если бы он не слышал тогда скандала с Вахом, если бы Мусаева не стала бы в его глазах драной кошкой, которой хозяин дает пинка.
— Не буду подписывать, — сказал Алик. — Просить бесполезно.
Вот вам и безотказный.
— Да чего ты испугался, Алим? Все гладко пройдет. В крайнем случае я тебя в психбольницу положу, у меня там свой врач, доцент, близкий родственник.
— Зачем мне ваш врач-доцент? Я жениться хочу, заявление подал, на свадьбу вас пригласил, зачем мне психбольница?
— Правильно, зачем? Давай так подпиши. Ты не мальчик, Алим, жениться собрался, я тебе всеми силами помогу.
— Не надо. Сказал — не просите. Бесполезно! — И ушел за прилавок.
Вечером, после закрытия, когда Алик уже переоделся, в подсобку вошли трое — муж Мусаевой, его личный шофер и амбал племянник.
— Разговор есть, — сказал муж Мусаевой. — Садись.
Алик послушно сел на ящик из-под пива.
— Ты меня знаешь? — Муж Мусаевой ткнул себя пальцем в грудь. — Я прокурор.
Алик озадаченно молчал, прикидывая, чем может дело кончиться. Шофер сказал:
— Встань, когда с тобой старший говорит.
— То садись, то встань, — проворчал Алик. — Много начальников. — Однако встал, прицелился, как шмыгануть к двери, если они вслед за языком пустят в ход кулаки.
— Если заборный лист не подпишешь, в тюрьму пойдешь. По трем статьям — семьдесят вторая, часть вторая…
Минут пять муж Мусаевой втолковывал Алику, какая жизнь ему «карячится» — веселая, в общем, жизнь, двенадцать лет он будет ходить на охоту каждый что ни на есть день, притом налегке, поскольку ружья будут носить сзади ребята с красными погонами, — вот такую приблизительно картину нарисовал ему прокурор.
Алик пытался ему объяснить, что остаток неимоверно большой, сам он тут не виноват нисколько, к делу он не причастен, закон должен быть на его стороне, зачем товарищ прокурор толкает его на преступление? Если Алик не подпишет, то срок ему то ли будет, то ли нет, а вот если подпишет, то уж будет наверняка, а он не брал эти тысячи, да и зачем брать, он жениться хочет, у него невеста есть, девушка, — короче, все им объяснил начистоту, откровенно.
— Дисциплина твоя где? — сказал личный шофер. — Заведующая приказ дает, ты должен выполнять, соображаешь? Почему не выполняешь?
Алик молчал.
— Когда подпишешь? — спросил прокурор негромко и веско.
Алик только головой помотал, не желая больше повторяться.
— Отвечай, падла! — повысил голос шофер.
Алик посмотрел на часы. Жанна уже ждет его и беспокоится, а они тут ему лапшу на уши вешают. Он безотказный, что правда, то правда, но когда его оскорбляют, когда ему угрожают и все такое прочее, у Алика появляется характер, и не простой, а железный. Он прекрасно видит, что пришли они заставить его любой ценой, что могут они его отметелить за милую душу, и тем не менее он их в гробу видел. Всех троих в гробу и еще в белых тапочках.
— Последнее слово подсудимого, — торжественно сказал Алик, обращаясь к мужу Мусаевой. — Два последних слова: не подпишу!
— Небо в клетку хочешь? Получишь.
Как понял Алик, прокурор обещал ему уже второй вариант веселой жизни — сядешь ты за решетку и, когда глянешь оттуда на небо, то будет оно перед твоим взором в клетку.
— Какое вы имеете право меня заставлять? — возмутился Алик.
Неужели сама Мусаева просила их заняться воспитанием подчиненного ей работника прилавка? Без нее никак не обошлось, иначе откуда бы им знать про заборные листы. Они пришли заставить Алика силой, но не на того напали. Пока не дошло до мордобоя, надо поближе к двери, чтобы вовремя рвануть. Звать на помощь Алик не может, не тот характер, да и зови не зови, никого уже в магазине нет, Алик сам проверил охранную сигнализацию и уходил последним. Завтра прямо с утра он с глазу на глаз поговорит с Мусаевой и, примерно, в таком же духе, как говорил с ней Вах. А сейчас мелкий шажок к двери, будто переступил с ноги на ногу, и еще шажок. Но тут прокурор сказал по-своему одно слово шоферу, тот широко шагнул к Алику вплотную, и тут Алик четко понял, что шофер — тоже племянник Мусаевой, копия амбала помощника, только постарше; едва успел он понять, что все они родственники, одна шайка, как шофер быстро взмахнул рукой, словно кот лапой на мышь, и вцепился в густые курчавые волосы Алика, не промахнулся и пальцы не соскользнули, с Алика будто начали шкуру сдирать живьем, сразу всю, с головы через спину и до пяток; его так и ожгло всего, в глазах искры, он взвыл. Шофер легко выволок его на середину подсобки, поставил на колени, еще тряхнул и только тогда разжал пальцы. Алик закрыл лицо, стиснул свои скулы руками, рот его перекосило от слез, но он все-таки прокричал:
— К-козлы вонючие! Т-трое на одного! Трусливые шакалы. Не подпишу-у. Вах приедет, перестреляет вас всех!
Если бы они были любителями, то могли бы разозлиться и врезать ему за такие слова от души, но они были профессионалами и знали меру.
— Завтра ты подпишешь заборные листы или тебе крышка.
Вот когда понял Алик, зачем Ваху пистолет в мирные безоблачные дни на вполне мирной торговой работе. Вах с пистолетом почти не расставался, носил его сбоку под мышкой, как в кино, и однажды даже позволил Алику подержать пистолет, но прежде нажал кнопку и вынул обойму, осторо-ожный Вах человек, все знает и все предусмотрит, он и с Мусаевой и со всей ее прокуратурой умел себя поставить. «Зачем он тебе?» — наивно спросил тогда Алик, намереваясь выпросить, у тебя, мол, и так всего полно, а у меня хоть эта игрушка будет. «Для комплекта», — ответил ему Вах солидно…
— Мы предупреждаем только один раз, — сказал шофер. — Понял?
Шерстяной амбал закинул ногу на ногу и, нагло глядя на Алика, вытянул снизу из-под узкой штанины финку, лезвие ее блеснуло рыбкой, и далее амбал, по-хамски осклабясь Алику как последнему слабаку, взялся за лезвие пальцами и, выставив вперед красивую полированную ручку, начал чистить свои ногти, скоблил так, будто чистил молодую картошку. «Почему они меня за щенка принимают? — негодовал Алик. — Или я так похож? Да режьте вы меня, гады, хоть на дунганскую лапшу, а я не подпишу».
— Двадцать четыре часа даем, — сказал прокурор.
— Бежать не думай, дадим всесоюзный розыск, — предупредил шофер. — Сто тринадцать тысяч не шутка. Под землей найдем. Братья наши везде есть, ты знаешь, и в Москве, и на Колыме, и в Казахстане, и в Узбекистане, где хочешь, понял? Повтори!
— Понял, — сказал Алик, думая, что так оно и есть, везде их навалом, братьев-разбойников.
Все трое разом встали и пошли во двор, там сели в «Волгу» и поехали, оставив Алику бензиновый дух. Только сейчас он заметил номерной шифр — как на «Жигулях» у Ваха, не служебная машина, частная.
Уехали и через двадцать четыре часа приедут. В западню Алик попал и некому его выручить, нет у него братьев, вот как у них, он один, если не считать Жанну. Он не думал обзаводиться никаким-таким братством, хотел жениться, семья, дети пойдут, зачем ему еще какие-то братья? Оказывается, нужны свои люди, чтобы помогли в трудный момент, выручили, своя шайка нужна, а еще лучше, конечно, свои порядочные люди. Но как-то так получается, что все порядочные живут сами по себе, а все шакалы собираются в стаю. И везде они по злачным местам. Плодожорки. Травить их надо негашеной известью. В апреле как-то были они с Вахом у Мусаевой на даче, помогали ей травить плодожорку. Алику понравилось это слово, очень для них всех подходящее.
Братство у него, конечно, было, самое большое в стране — комсомол, но Алик выбыл из него механически, не платил взносы и не стал восстанавливаться, могли выговор дать, а сейчас вот вспомнил, — куда пойти, где просить руку друга? Были еще армейские товарищи, но давно он уже никому не писал, ни командиру взвода лейтенанту Зайцеву, ни рядовому Азизу в Наманган, ни Ване Фирсову, бывшему комсоргу, в Вологду. Чем он их порадует? Нечем. А одному никак нельзя оставаться, один он Жанну не защитит, семью свою молодую не оградит от плодожорки. У них и торговля в руках, и прокуратура, — что делать, где искать выход?
Ну а если были бы у него друзья, чем бы они помогли сейчас Алику, если за ним хвост? Он уже подписал две шестьсот, а это вам не два шестьдесят. Ты и на рубль не имеешь права подписывать, если товара в наличности нет. Вот и будет ему статья семьдесят вторая вместо Дворца бракосочетания, следственный изолятор и срок. А Мусаеву прокурор спасет, даст ей для отвода глаз два года условно с отбытием по месту работы. А Жанна будет ему передачи носить, если, конечно, захочет, если не плюнет на него за обман, чего он вполне заслуживает.
Двадцать четыре часа дали ему шакалы, потом дадут двенадцать лет. И не выкрутишься, если уже подписал две шестьсот. Не имеет значения, что ты отказался подписать сто тринадцать тысяч, им на твою честность плевать, им срочно нужен козел отпущения. Как только Алик подпишет, прокурор тут же пошлет ревизию и сгорит Алик ярким пламенем, чтобы спасти Мусаеву. Где выход? Для десантника не бывает безвыходных положений, как учил его лейтенант Зайцев, только надо крепко-крепко подумать.
Алик подумал-подумал и решил — вместо того, чтобы самому гореть, пусть лучше сгорит 7/13, логово преступников. Сделает это Алик технически четко, у него золотые руки, такое замыкание сообразит, что заполыхает в один момент с четырех сторон, и пока приедут пожарники, останутся от хозрасчетного одни головешки, а от заборных листов — серый пепел.
Однако Жанне ничего говорить нельзя, ни про сумму, ни про беседу с прокурором, иначе подтвердятся подозрения ее мамы и тревоги самой Жанны. Не скажет он и про то, как ему прическу сегодня попортили, хотя не помешало бы Жанне знать, какой он стойкий, никакие братья-разбойники его не сломят.
Жанна была дома и мать ее дома, обе сразу заметили и спросили, в чем дело, почему Алик сегодня такой мрачный. Он объяснил, что такова работа в сфере торговли, покупатель бывает разный, у одних не хватает вежливости, у других — денег, третьи требуют книгу жалоб, короче говоря, он немножко устал. Потом мать пошла с Тимуром смотреть «Спокойной ночи, малыши», а они с Жанной уединились на кухне.
— Алик, я тебя изучила, лучше сразу скажи, в чем дело?
Пришлось рассказать ей в общих чертах, и картина получилась такая — в магазине у них недостача по вине заведующей Мусаевой, но она хочет все свалить на продавцов, в том числе и на Алика, заставляет его подписать заборные листы на энную сумму, покрыть, вернее, прикрыть растрату до поры до времени.
— Если бы я был один, я бы подписал, плевать, но теперь у меня семья будет, я должен быть честным на всю катушку.
— Правильно, Алик, ничего не подписывай, стой на своем. И зря из-за этого не расстраивайся.
Жанна не очень-то испугалась, это хорошо, тогда он еще добавил, что муж у Мусаевой прокурор, это Алика малость огорчает, жену тот выручит любыми путями, а она — жулик, товара нет, а требует подписать заборные листы.
— А что это за листы? — спросила Жанна.
Век бы ему не знать их, но пришлось объяснить, что это такой документ, вроде ведомости, в котором перечислено, сколько и какого товара получено продавцом и на какую сумму. И вот эта сумма должна быть в кассе, а где ее взять, если товара такого не получено или получено и налево продано.
Жанна посидела-посидела, поморгала-поморгала и сказала:
— Алик, тебе надо увольняться срочно! Ты с ними не справишься. Тем более прокурор! — Жанна даже руками замахала, так сильно за него испугалась. — Я тебе уже говорила, мне тревожно, сердце чувствует, вот и начинается.
Он закипел от ее слов, сжал кулаки, — нет, он еще им покажет!
— Уволиться надо, Алик. И вообще от торговли лучше подальше, прошу тебя.
Так-то оно так, Алик теперь и сам понял, лучше подальше, но почему все так рвутся в торговый техникум, хотел бы он знать? Продавцами все хотят быть, товароведами, дефицитом распоряжаться, миром править. Молодые, а уже ранние. Кое-что на первых порах они заимеют, но потом конец у всех один, как сказал прокурор, небо в клетку. Удивительная все-таки лихорадка, непонятная: самый большой конкурс — учиться на жуликов. Получить диплом хапуги. Раньше продавец — шестерка, услужник, холуй, покажи, подай, получи чек, заверни. За профессию не считали, все лезли в физики, в атомщики, в киноактеры, а сейчас в жулики лезут, ломятся с пеной у рта. «Окна разинув, стоят магазины». Не окна, а пасти разинув, стоят магазины, сожрут всякого честного с потрохами и пуговиц не выплюнут.
— Надо уходить, Алик, по собственному желанию. Один ты с ними не справишься, — в третий раз уже повторила Жанна.
А он не один, кто сказал, что один? У него есть верные друзья. По всей стране, и не простые — десантники, один к одному боевые ребята в Иркутске, в Намангане, в Вологде и в других городах. Он им всем напишет письма, напомнит об армейском содружестве, о верности до конца, не зря же они два года служили плечом к плечу.
— Жанна, у нас есть бумага и конверты? Давай сюда.
Первому, как и положено по уставу, он написал командиру взвода в воинскую часть номер такой-то. «Здравствуйте, товарищ лейтенант Зайцев! Пишет вам рядовой Алим Санаев. Я жив и здоров, честно работаю, как и положено бойцу Советской Армии. Я вас вспоминаю часто и прошу меня тоже не забывать, чтобы я имел право говорить всем, что я не один, у меня есть друзья по всему Советскому Союзу. Желаю вам больших успехов в боевой и политической подготовке, а так же и в личной жизни. Гвардии рядовой Алим Санаев». Поставил число, расписался и заклеил конверт. Точно такие же письма, короткие и важные, он написал Азизу в Наманган и Ване в Вологду. Адреса он их помнил без бумажки, всякие цифры он вообще здорово запоминал, разбуди его среди ночи, он назовет вам цены на весь ассортимент. Заклеил конверты, сейчас по дороге домой он бросит их в почтовый ящик и через пару недель придет ответ.
Подумал-подумал, спросил Жанну:
— А побольше бумаги у тебя нету? Вот такой, — он показал величиной с газету. Такой у Жанны не оказалось. — Тогда давай клей.
И он склеил из бумаги лист, какой ему нужен, у Тимура нашлись краски и кисточка.
— Только ты меня не отговаривай, Жанна, я знаю, что делаю. Воззвание будет. К народу. Так надо.
Большими красными буквами он написал: «Дураки»! Куда ломитесь? Вас ждет тюрьма! Всех!!! Я продавец, знаю!» Распрощался с Жанной, с матерью и с Тимуром, скоро они станут для него тещей и шурином, взял с собой письма, свернул рулоном воззвание к народу, сунул в карман тюбик клея и пошел во мрак ночи. Жанна прощалась с ним чуть не плача.
— Алик, я прошу тебя все до капельки мне рассказывать. Ничего не скрывай. Одна голова хорошо, а две сам знаешь!..
Он доехал до торгового техникума на автобусе. Возле здания пусто и тихо, черные окна смотрят зловеще, в подъезде светлеет доска объявлений, вот туда он и присандалит свой душевный порыв. Огляделся на всякий случай — ни прохожих, ни милиции, ни дружинников, да и кому придет в голову охранять это заведение именно сейчас, не лучше ли направить все силы на охрану выпускников? Уверенный в правоте своего дела, Алик подошел к доске ровным шагом. Он не врет, не выдумывает, не вводит в заблуждение никого, он честно делится с народом своим личным опытом. Развернул рулон, выдавил по капле клея на все четыре угла, прислонил лист, разгладил его в обе стороны и пошел дальше своей правильной дорогой. Пусть читают, не может быть, чтобы ни один человек не поумнел и не забрал свои документы обратно.
Василь-Василич пьяно храпел, Алик выпил крепкого чая, чтобы лучше соображать, посидел, прикинул. Завтра в обеденный перерыв, когда все соберутся перекусить в бакалейно-гастрономическом, Алик установит свои хитрые приспособления в трех местах. Перед закрытием он уйдет первым, чтобы все видели. А ночью… короче говоря, он им весь их поганый кайф поломает, он стопорнет ваше дальнее плаванье, братья-пираты, рубите мачты на гробы. После пожара начнут всех трудоустраивать, вот тогда Алик подаст заявление и уйдет в телеателье. Свои двести на бутерброд он всегда заработает, не фонтан, зато Жанна будет спокойна.
На работу Алик явился, как часы, надел белую куртку, пошел за прилавок, но тут Мусаева позвала его в кабинет. Он зашел, поздоровался и внимательно смотрит — как она после вчерашнего, дрогнет мускул? А она — никак, сидит себе за столом, волосы черные блестят, серьги золотые блестят, кольца на руках блестят, и как нив чем не бывало проявляет руководящий интерес:
— Ну как дела, Алим, как жизнь молодая?
Как будто про налет банды ничего не знает!
— Нормально дела, — пробурчал Алик и добавил с намеком: — Вашими молитвами. — Больше ей Алик ничего не скажет, не такой он человек, чтобы с перепугу жаловаться. Да и незачем начальству все свои карты выкладывать.
Мусаева глаза опустила, брови свои черные подняла, как орел крылья, и говорит:
— Скажу тебе честно, Алим, плохо наше дело теперь.
— Почему теперь? — удивился Алик. — Всегда так было. Как работали, так и работаем.
— Ты молодой, а уже хитрый, Алим, притворяться умеешь, как будто ничего не знаешь.
— Не знаю и знать не хочу! — выкрикнул Алик, чтобы голос его услышали в торговом зале.
— Зачем кричишь, я не глухая, — негромко, ровно продолжала заведующая, поднимая свой желтый кошачий взгляд на Алика. — Я последний раз тебя предупреждаю со всей строгостью. Если ты не подпишешь заборные…
— Не подпишу! — еще громче закричал Алик, чтобы хоть одна живая душа его услышала, не может быть, чтобы все они там оглохли.
— Не кричи! — зашипела Мусаева и заговорила почти шепотом: — Я с тобой, как друг, понимаешь, всегда тебе помогала, всегда выручала, на свадьбу приду, ценный подарок принесу.
— Не надо на свадьбу, не надо подарок. Я подаю заявление. По собственному желанию.
— Соображай хоть мал-мал, Алим. Тетрашвили сбежал, а ты заявление подаешь, кто от тебя отдел примет с такой недостачей. Думать надо, Алим, соображать. — Затем она поманила Алика пальцем, чтобы он придвинулся поближе, сама опустила голову почти к столу и тихонечко ему так сказала: — В прошлом году ресторан сгорел, слышал?
Алика будто током дернуло — как она узнала, как догадалась?!
— Жертв не было, разговор был, следствие, анау-манау. Дали электрику два года за халатность, условно, и все. А люди не пострадали, работают, пользу приносят обществу. У нас с тобой, Алим, нет другого выхода. Надо подойти к этому делу со всей ответственностью. Собери побольше пустых бутылок в свою кладовку, зайди в приемный пункт стеклопосуды, тут недалеко, на улице Лумумбы, забери, заплати, можно с ящиками, лучше гореть будет. Только прошу тебя — со всей ответственностью! Не как заведующая прошу, как друг.
Вот какая ситуация получилась, она ему вроде как встречный план предложила, инициатива его подхвачена на лету, радоваться бы надо, но Алику кисло.
Ладно, делать нечего, надо идти на Лумумбу. За прилавком остался амбал племянник, встретил он, кстати говоря, Алика вполне мирно: «Привет, дарагой». Алик хотел ему с большим удовольствием в рожу плюнуть, но раздумал. Им, должно быть, стало стыдно за свое грубое обращение, они раскаиваются. Допустить можно, хотя плохо верится. Амбал молодой, но уже настолько обученный, пробы ставить негде. Первый срок отбывал он в утробе, это уж точно. Хамить умеет, а сколько будет дважды два не знает, сдачу покупателю сдавать не спешит, да оно и понятно, его учили только отнимать и делить.
Стеклопосуда оказалась закрытой, можно было съездить к центральному гастроному, но Алик плюнул и пошел к Жанне советоваться. Увидел ребятишек, живых и веселых, остановился и внимательно присмотрелся. Что их ждет впереди? Неужели у них сердечко не чует, какая у взрослых мерзопакостная жизнь? Годы детства пролетят как из пушки, не успеешь оглянуться, а тебе уже приделают козью морду вместо честного симпатичного личика. А ведь кто-то из них пойдет в торговлю. Вот эта щекастенькая, губастенькая определенно дочь продавщицы. А вон тот черноголовый, доверчивый, как кутенок, похожий на Алика, куда он пойдет? Попадет не дай бог в лапы Мусаевой, а она всем миром правит.
Тяжело стало Алику. Родится у них с Жанной ребенок, как его уберечь? Или с пеленок его так воспитывать, чтобы он никому и ничему не верил, был ко всему готовым? Сделать ему небо в клетку своими средствами. Лишить его детства. Тяжело в ученье, говорил Суворов, зато легко в бою…
Жанна увидела его, быстро подошла.
— Ты что, Алик, уже уволился?
— Нет пока, собираюсь.
— А почему не в магазине?
Алик промолчал. Они сели на детскую скамеечку, очень низкую, у Жанны обнажились колени, и Алик помрачнел еще больше — не дадут они ему девушку Жанну, отнимут.
— Почему ты хмурый, Алик, что-нибудь еще произошло?
— Бутылки нужны, пустые.
— Зачем пустые?
— Дачу строить.
Не может он ей ничего рассказать, вынужден врать, сказал, что много тары побилось, швыряем, бросаем, торопимся, а потом недостача тары, он прикрылся от Жанны этим словом — тары-бары-растабары.
— Надо достать много пустых бутылок, магазин их закупит оптом. Иначе крышка.
— Кому крышка? Ой, Алик, ты опять что-то от меня скрываешь.
Вокруг гомонили дети, беспечные и всем довольные, птичий гвалт стоял, рядом сидела Жанна, он хоть и не смотрел на нее, но видел голые коленки, руки ее и вырез на кофточке, — и такая тоска охватила Алика, что хоть плачь.
— Ну в чем дело, Алик, в чем дело?!
— Мусаева сказала, надо магазин сжечь, другого выхода нет, а потом она подпишет мне по собственному желанию. Товар реализуем, а пустые бутылки подбросим.
— Как сжечь?! Вот этот наш угловой-продуктовенький? А куда все бабки пойдут? Куда все мы будем ходить? Да я с самого детства люблю наш угловой-продуктовенький.
— Мелочи, Жанна, там через дорогу дом заканчивают, на первом этаже гастроном будет в три раза больше.
— Алик, они тебя посадят! Давай уедем к моему папе на БАМ. Я уже все обдумала.
— Бесполезно, Жанна, дадут всесоюзный розыск. Мусаева и в торге авторитет, и в прокуратуре у нее все свои.
— Ты такой доверчивый, как мои дети! — возмутилась она. — Я звонила в прокуратуру, никакой Мусаев там не работает. Мне сказали, кто-то вас шантажирует, напишите заявление и приходите к нам. Теперь ты все понял?
Алика новость не удивила, он допускал, что с прокурором у них нечисто, но все-таки напрасно она туда звонила, как бы не вышло еще хуже. Если бы Мусаев там работал, то это его бы хоть как-то сдерживало, а если не работает, то тормозов никаких.
— Алик, давай вместе пойдем, и все, как есть, расскажем. Прокуратура поможет.
— Поможет, конечно, — согласился Алик, — но сначала они мне кишки выпустят. А я, как ты знаешь, жениться хочу.
Они везде — племянники, дяди, тети, братья Мусаевой, и везде воруют тысячами, десятками тысяч, у каждого из них уйма денег, это они устанавливают цены на дефицит, развращают людей своими деньгами, своими ценами — дачу за двадцать тысяч, «Волгу» за тридцать, краденого им не жалко, это они придумали застольный тост — было бы здоровье, а остальное мы купим. Плодожорки. Весной Алик с Вахом ездили на дачу к Мусаевой, двухэтажный домина с подвалом, с погребом и с бассейном. Разводили килограмм табака на ведро воды, добавляли мыла и опрыскивали яблони от плодожорки. Она ему представлялась толстой жирной гусеницей с огромной пастью, способной заглотить яблоко величиной с кулак, хотя на самом деле — мелкий червячок. Мелкие, но все пожирающие племянники Мусаевой ползут по телу страны с юга на север и с запада на восток, по долинам и по взгорьям, по дорогам железным и воздушным. Травить их надо, но чем? Разведи табак с мылом, они табак выловят, тебе же его продадут втридорога, а твоим мылом тебе же шею намылят.
Сначала они его обманули, втянули, что было, то было, но Алик все-таки раскумекал, что к чему, и вовремя стал честным и несгибаемым. Магазин он поджигать не будет, бутылки собирать не станет. Пускай они его убьют, но Жанна будет помнить честного человека.
— Ладно, Жанна, мы с тобой пойдем в прокуратуру, я тебе обещаю. Только не сегодня. — Алик решительно, категорически и молниеносно поднялся. — Вечером увидимся, Жанна, пока. — И пошел твердым и широким шагом в поход на Мусаеву, в контратаку на превосходящего силами врага.
Чем платить за возврат к честной жизни? Нечем. Две шестьсот на нем висят, а возмещать нечем, денег у него нет, значит, плати свободой, плати разлукой с любимой девушкой, — вот какую цену установили для него плодожорки.
Он пришел к Мусаевой, предварительно в дверь тук-тук, как положено. Она смотрела на него сочувственно, она жалела его прямо-таки как мать, но теперь-то он знал — она его отдаст под суд, отправит на самую позорную казнь, не моргнув своими желтыми, своими лживыми глазами и будет приговаривать при этом: я тебе хочу помочь, дарагой.
— Вчера мне угрожали тюрьмой, — сказал Алик. — Двадцать четыре часа дали на размышление.
— Кто тебе угрожал? — возмутилась Мусаева. — Почему со мной вопрос не согласовали?
— Ваш муж угрожал, прокурор. А я молчать не буду.
— Какой муж, какой прокурор? Язык у тебя без костей, да-а?
— Ваш муж не прокурор, а бандит.
— Да кто тебе сказал, что он прокурор? Я тебе говорила? Ты от меня хоть один раз слышал? — еще больше возмутилась Мусаева.
Нет, она так ни разу не говорила, но каким-то путем создала общее мнение, весь магазин уверен был, что муж ее сотрудник прокуратуры, никто даже не сомневался, может быть, кроме Ваха.
— Он совсем не прокурор, ты что, дарагой, он совсем больной человек, у него язва желудка и двенадцатиперстной кишки, у него была очень трудная жизнь, ты не знаешь, у него было… — Мусаева едва удержалась, чтобы не сказать, что у него было пять судимостей, и уголовный кодекс он знает не хуже любого прокурора, что верно, то верно.
— Последнее слово подсудимого! — торжественно и громко, пусть его слышат за прилавком, пусть его слышат и в очереди в торговом зале, пусть отпрянет, как от плевка, Мусаева за своим руководящим столом. — Заборные листы подписывать не буду! Магазин поджигать не буду! Концерт аякталды! — Затем, словно выключив себя из розетки, Алик шагнул ближе к Мусаевой, оперся обеими руками о стол и сказал ей с мольбой, негромко и откровенно: — Я буду работать с утра до ночи, все сделаю, давайте мне дефицит, то-се, анау-манау, день и ночь буду работать, чтобы покрыть недостачу. Давайте!
— Ничего я тебе не дам, поздно, дарагой. Если не подпишешь листы, пойдешь под суд.
— Если пойду, то всю вашу братию поволоку за собой, сделаю вам всем небо в клетку!
Глаза Мусаевой пульсировали, то чернели, то желтели, как у рыси, честное слово, хотя Алик живую рысь не видел, Мусаева шевельнула руками, возможно, хотела вцепиться ему в глаза, но только оттолкнула Алика от стола и сказала сугубо официально:
— Кататься любишь, а сани возить не хочешь. Иди, Алим, за прилавок, не нарушай дисциплину.
8
Малышев снова счастлив, бежит по системе Купера, кеды на нем, трико, секундомер в руке, и хорошо ему вдыхать емкой грудью утренний колкий воздух, мускульная радость кипит в его теле, бежит он, не глядя вокруг, несется вслепую, все дальше и дальше, но вот глянул нечаянно — и оказалось, напрасно, словно шилом проткнули мяч и воздух так и осел, — нет никакого бега, дергает он руками, ногами, всем корпусом, силится, а ноги не слушаются и земли под ногами нет, оттолкнуться не от чего, будто в невесомости он; и далее видит причину, оказывается, все, что его окружает, движется гораздо быстрее. Ночь вокруг, но без мрака, обилие длинных струящихся огней, его обгоняет улица, дома на ней, мелькают окна этажей, троллейбусные столбы, деревья, огни автомобилей гирляндами, то желтые навстречу, то красные уходящие, и все это урбанистическое месиво несется с бешеной скоростью мимо него, а он словно завис на месте со своими телодвижениями, только имитирует бессильный бег. Свет не точками и не пятнами, а линиями, свет трассирует, чертит стрелы в даль бесконечную, минуя Малышева стороной, не касаясь его, надо догнать и влиться, непременно догнать и поскорее, он — головой вперед, все мышцы вздуты — впере-е-ед! Но ка-ак медленно, тя-ажко как, он рвется изо всех сил, сухожилия как струны, вот-вот лопнут со звоном, но ему надо срочно влиться в поток и возглавить, иначе он уйдет в бесполезную бесконечность, еще усилие, еще рывок, поток света уже рядом, еще миг и он сольется и понесется, только миг! — он грудью падает на косую старую света, как на финишную ленту, а струя тугая, плотно водяная, скользяще отбрасывает его и с такой силой, что он — волчком на месте, узлом связался и откатился в темень. Нет, не расшибся и не погиб, снова вскочил в тревоге, еще больше прежней — уходит поток, не догнать, не влиться и не подправить — и он снова бежит изо всех сил, и снова медленно догоняет, сейчас пробуравит тугую струю и вольется, и предложит свою скорость, так у него было всегда, вот она — стена скорости — рядом, он мощно падает головой, норовясь пробить ее, но струя тверже прежнего, обжигающе хлестко сбрасывает его как песчинку, и он снова волчком, голова взбухла от крови, тошнота жмет горло, муторно ему, но надо вставать и снова бежать, не может он камнем лежать вне гона, ему крайне нужен этот ускользающий от него ритм, иначе ему не жить. Он встает и бежит опять и сожалеет горько, что это, увы, не сон, это вчера был сон точно с таким вот гоном, со сбросом его, с тщетой, а сейчас явь, четкая и огорчительная, и нужно еще усилие, не может он оставаться один, и он снова рвется вперед, до скрежета стиснув челюсти, он даже стонет сквозь зубы — и слышит свой стон в палате, уже проснувшись, как бы успев догнать и сон свой, и стон включенным сознанием. «Просыпаюсь со скоростью больше звука…»
Утро, солнечно, Телятников уже на балконе, видна его седая голова за дверным стеклом. М-да, не побежишь теперь, а телу хочется… Он перейдет на ходьбу, есть у доктора Купера и для ходьбы свои советы, мили, секунды и подсчет очков.
Встал, голова тяжелая, умылся, побрился и снова лег. Преследует его бег, суета, хотя он, кажется, совсем о беге не думает.
Вошла старшая сестра Макен, стройная, затянутая и красивая как древняя египтянка, на колпаке алый крестик влажно блестит, не вышитый, а эмалевый.
— Настаиваете на выписке, Сергей Иванович, или это нездоровые слухи?
— Настаиваю, Макен.
— Есть ли у вас какие-нибудь замечания, пожелания или, может быть, жалобы? — Она улыбнулась ослепительно, нейтрализующе — у кого хватит мужества на жалобы при такой улыбке? — Мы вас не обижали, Сергей Иванович?
— Нет, Макен, мне у вас нравится.
В его отделении таких вопросов не задают — этикетные излишества. О пожеланиях не спрашивают — им конца-краю не будет.
— Тогда я выписываю вам больничный лист. Скажите, кому позвонить, чтобы за вами приехали?
— Спасибо, Макен, я уже позвонил. А где вы взяли такой крестик?
— Правда же, симпатичный? — Макен засияла. — Муж привез из Алжира, на соревнования ездил.
— Он у вас спортсмен?
— Тренер, команду возил.
Снабдить бы каждую сестру — опять он о своем отделении — вот таким крестиком, и уже порядок, система, а то вышивает каждая на свой манер, одна крупнее, другая мельче, а у третьей после стирки линялое пятно вместо крестика. Но не поедешь же за ними в Алжир. Там почему-то есть, а здесь почему-то нету. И вот уже пробежала искра и замкнула цепь, застрял на мелочи, хоть зови Гиричева и пополняй его коллекцию.
— Хотите, я вам его подарю? — Макен изящно, как в танце, подняла руки над головой и застыла, явно выжидая помилования. Малышев рассмеялся.
— Не надо, Макен, он вам очень идет.
— Больничный я вам выписываю, Сергей Иванович, не возражаете?
Макен ушла, сверкая зубами, глазами, а он подумал опять, что его сестры мало улыбаются — почему?..
— Вот вы и здоровы, — сказал Телятников непонятно, как будто с сомнением. — Придет Макен, скажет выписываем, и я тоже буду здоров, все просто. Есть у вас ощущение, что подлечились?
— Да. Бегаю во сне.
— А я все хожу. По инстанциям. Желаю вам сюда больше не возвращаться.
Разумеется. Просто нелепый случай. Шел-шел и споткнулся… головой. Сердцем. Натурой своей споткнулся о действительность. Подсказать надо кардиологам, чтобы вместо «аритмии» писали «сердечный спотыкач», чем плохо? Старые терапевты были поэтами, при болезни почек выслушивали «похоронный звон брайтиков», а у прокаженных отмечали «фацес леонина» — львиный лик, гордиться можно. Впрочем, опять мелочи…
Копились они копились, образовалась куча, он споткнулся о нее и слегка расшибся. Мелочи были и будут, важно, чтобы ты больше не спотыкался. Увидишь — перешагни и шагай себе дальше, не спеши разгребать всякий навоз, ты не петух и не искатель жемчуга. Либо врежь такого пинка, чтобы под ногами стало чисто, и не требовалось перешагивать ни тебе, ни другим. Он так, собственно говоря, и жил, по второму варианту, в результате — на больничной койке. Чего-то не учел. Либо сам ослабел, либо препятствие стало выше, тверже, и надо теперь это учесть. Как там поживает Витя-дворник, заботят ли его проблемы навозной кучи?..
Итак, с бега по утрам он перейдет на ходьбу, себя замедлит. На медленной скорости виднее подробности. Сон ему говорит — не гонись, отбросит, усмири свое хочется. Ему хочется успеть, преуспеть, а коли так, надо спешить, время не растянешь. Но можно и медленно перебрать надежды и принуждения и отбросить часть, чтобы время не так властвовало.
«Просто нелепый случай». Но есть история твоей болезни, Макен выпишет больничный лист, Алла Павловна его подпишет, заверит печатью, бухгалтерия оплатит — обрастет его криз документами, подтверждающими неслучайность. Тем не менее, криз — в архив, а он снова за дело.
Долго не идет Алла Павловна, одиннадцатый час уже, время обхода, а ее все нет. Сидит, наверное, и сочиняет выписной эпикриз, краткий роман на тему его пребывания здесь. Сегодня пятница, он покидает палату, субботу и воскресенье он посидит дома, а с понедельника трудовая неделя. Сразу же назначит операцию Леве Киму, каждый отложенный день ухудшает его состояние. Юра Григоренко регулярно докладывает о делах в его отделении. О делах дома ему никто не докладывает, тайны мадридского двора.
Катерина побывала у него дважды. «Если надо, папочка, я могу каждый день приходить». — «Не надо! Готовься к экзаменам». Если надо… Стремление навестить близких, если они в беде, должно возникать без принуждения, без всяких «если». Такой потребности у Катерины нет. Если бы лежала в больнице Марина, Малышев заставил бы дочь ходить к ней каждый день. И не потому, что так нужно Марине, а потому, что так нужно самой Катерине — для развития в себе человека из обезьяны. Не имеешь чуткости, получай ее с оскорбительным напоминанием и тащись каждый день на свидание с матерью, отдавай неразменный долг породившей тебя и вскормившей.
В одиннадцать Телятников пошел на токи Бернара и появилась, наконец, Алла Павловна. На шее фонендоскоп, под мышкой коробка с тонометром, обычные атрибуты, но сегодня в руках у нее какая-то еще папка малинового цвета. Что в ней, уже больничный лист? Без лишних слов, деловито Алла Павловна измерила ему давление — лицо внимательное, брови сдвинуты, слушает. Если давление высокое, она его не выпишет, не возьмет на себя ответственность… Нет, милая, поздно, от задержки ему здесь будет только хуже.
— Сегодня вы пойдете домой, но в понедельник — ко мне в поликлинику с больничным листом. От шестнадцати часов до девятнадцати. Вы остаетесь в полном моем распоряжении, прошу учесть. — «Если бы так…» Она свернула манжету, закрыла коробку, сложила руки на коленях. — Сколько сигарет в день?
Деловая она сегодня, официальная, без улыбки.
— Держусь на пяти, стараюсь.
— Насколько мне известно, курильщики, чем лучше себя чувствуют, тем больше начинают курить. — Посмотрела на свои руки, помолчала. — Но вам к этому не нужно стремиться. — И неожиданно попросила: — Измерьте мне давление, Сергей Иванович.
Положила малиновую папку на тумбочку, подсела ближе и протянула руку. Он вставил в уши рога фонендоскопа, накачал грушу и приложил тяжеленький кругляш фонендоскопа к ее округлому локтевому сгибу с косой синей венкой. Тук-тук-тук — нарастая, громче и громче застучало у него в ушах непонятно чье сердце, его или ее, или оба вместе? Снова накачал, послушал.
— Сто пять на семьдесят всего-навсего.
— Видите как, волнуюсь, а давление пониженное, — сказала она. — Берите пример. А вы прошлое любите вспоминать? Знаю, не любите. Меня во всяком случае вы совсем не помните. — То была шибко деловой, а то вдруг задергалась с одного на другое. — Не ломайте голову, — опять повторила она, — я вам, так уж и быть, помогу. — Взяла малиновую папку, раскрыла ее и подала ему фотоснимок. — Узнаете?
Еще бы, не хватало, чтобы он уже самого себя не узнал. Хотя прошло лет двадцать. Двадцать три, если быть точным. Потемневший архивного вида снимок, он в телогрейке и в кепке. На целине в Кокчетавской области. Теперь все яснее ясного — это было перед шестым курсом, они работали в совхозе «Донской» вместе с первокурсниками, среди которых была Алька, не Алла Павловна и не Родионова, просто худенькая девчушка Алька, задорная, с немалым гонором и языкастая, совсем не такая, как сейчас, совсем не такая. Он ее неспроста забыл, а по какой-то веской причине. Тогда он был командиром своего отряда, а она своего, между ними была командирская солидарность и вообще контакт. Вместе ездили на совещание в Кокчетав, тряслись на газике по колдобинам, дорога была ужасной, кидало их и подкидывало, будто колеса не круглые, а треугольные, они хватались за руки, за плечи, валились друг на друга, а впереди, рядом с мальчишкой-шофером незыблемо сидел директор совхоза, держась обеими руками за поручень, сизая бритая голова и уши в стороны, он ни слова не говорил мальчишке и даже как будто поощрял скачки и прыжки, Алька потом призналась: «Мне так хотелось схватить его за уши и держаться обеими руками». На Малышева она смотрела уже как на врача, и разница в пять лет обязывала его соблюдать дистанцию — вчерашняя школьница и завтрашний врач. Она ему нравилась, но он постоянно скован был тем, что старший, невероятно, как ему казалось, взрослый в сравнении с ней. А она задевала его, играла с ним — расскажите про то, про это, а кем вы будете? Серьезных его ответов не слушала, смотрела на него насмешливо. Потом вернулись с целины и больше не встретились — курсы разные, медики кочуют по всему городу, одна кафедра там, другая здесь, а инфекционных болезней вообще за городом. Несправедливо, что они так быстро расстались, думалось ему, он старший, должен ее проведать, узнать, как ее успехи. Месяца через два он поехал к ней в общежитие, узнал, в какой комнате она живет, дело было под вечер, общежитие гудело, какой-то бал готовился с танцами, возле ее комнаты он увидел трех парней, тоже первокурсников, они были навеселе, а дверь заперта, девушки им не открывали. При появлении Малышева ребята завопили: «Нас уже четверо, баш на баш, открывайте!» Девушки не сдавались, из-за двери слышался голос Альки, она гнала всех четверых, «пусть вас будет хоть четырежды четверо, у нас санитарный день» и что-то еще в том же духе. Малышев, надо сказать, высоко ставил себя, шестикурсника, перед салагами, якшаться с ними на равных было ему не к лицу, через год, с дипломом, он уже мог стать теоретически преподавателем у этих юнцов. Постоял в сторонке, поколебался — подавать голос или не подавать? Алька ему откроет, узнает по голосу, но с ним вломятся и эти салаги, сыграет Малышев роль троянского коня. Ушел, не стал срамиться, самолюбие не позволило повидаться. Получилось, что она и ему дала от ворот поворот. Если бы что-то было в ее сердце, оно бы почуяло. Значит, ничего не было, так он решил, и вообще, лучше бы ему не приходить… Потом все-таки еще надеялся встретить ее где-нибудь, когда-нибудь в институте, но так и не встретил. И год прошел, и десять, и еще десять. Она укрылась от него, спряталась — за временем, за возрастом, за отчеством и за фамилией мужа…
— У нас тогда возникли какие-то токи притяжения, — сказал Малышев. — Во всяком случае, с моей стороны. Я ведь приходил к вам в общежитие, комнату до сих пор помню.
— Да? — усомнилась она. — Какая же?
— Сто шестнадцатая, третий этаж.
— Интересно! — Она удивилась, обрадовалась. — Жалко. Не очень-то вы оказались настойчивы. Жалко, Малышев… Мне тогда казалось: вот настоящий парень, мой идеал. Влюблена была в вас и, представьте себе, страдала, — с неловкой усмешкой, задето продолжала она. — Теперь можно сказать, не страшно. Расписание ваше знала, вы были во второй группе лечфака, подкарауливала раза три, а потом дала себе клятву, — она коротко рассмеялась. — После того, как он прошел нос к носу со мной и — нуль внимания.
— Да исключено! — вскинулся он. — Не может быть!
— Что было, то было. С ума сходила. — Она смотрела на свои руки, сложенные лодочкой, улыбалась себе прежней. — Неужели я так сильно изменилась? Вы первый, кто меня не узнал. Надо же — именно вы! Обхохочешься. — Грубое слово, не к лицу ей, и она спохватилась: — Лизавету свою никак не отучу — «обхохочешься» по любому поводу. Так глупо!
Он прежде был с ней на ты, а она с ним только на вы. А сейчас вот и он на вы, и не переступишь грань.
— Значит, это вы, Алька! — сказал он радостно. — Простите меня, я вас всегда помнил, как свою молодость. Я так люблю те годы!
Она протянула ему другой снимок, групповой, они с лопатами на току, одеты кто во что, уже холода, небо в тучах. Он узнал всех своих той поры, неожиданное свидание с юностью. Где она взяла эти карточки, почему у него таких нет?
— Потому что я сама их снимала. В том году в главном учебном корпусе весь первый семестр висела целинная фотогазета. Вы все-все позабыли, Сережа Малышев.
Не надо спорить, он действительно все забыл — но странно ли?
— Своих я узнаю́, — сказал он, разглядывая снимок. — А кто здесь из ваших, интересно, кто где сейчас?
Она показала: вот это Вадим Резник, кожно-венеролог, вот Инна невропатолог, и поныне ее подруга, а вот в центре Сакен Муханов, Малышев его отлично знает, главный хирург области, тогда он еще не был, конечно, главным, но на фотографиях всегда в центре, и на лекциях Сакен всегда сидел на почетном, как он считал, месте, то есть не на Камчатке, а непременно в первом ряду. А вот Регина, анестезиолог, такая была замухрышка, а сейчас Регина Петровна Данилова, а вот Жамалка, жена Сакена, чумолог, уже шестерых родила…
Он перебирал карточки, смотрел-рассматривал, то на себя, то на Альку посмотрит, и подумал вдруг: именно с того лета жизнь его могла пойти по-другому. Марина не ездила на целину, и с ней они сошлись позже. Да, именно с того лета… Никогда он не жалел о прошлом, ошибок, промахов никаких не видел, а вот теперь задумался. Что-то получилось не так, как ожидалось, мечталось, что-то не совсем так… Он был свободен тогда, совершенно свободен выбирать и решать, — вот еще что вспомнилось.
— Сожалеете? И часто так думаете? — Просто так спросила, но можно подумать, что и ради анамнеза, как лечащий врач, тянуть-наматывать свой клубок причины.
— Нет, не часто. Сейчас впервые подумал.
— Разве вы не стали бы хирургом? Стали бы. Вообще, вам жалеть не о чем, свои годы вы прожили без утрат, у вас одни только приобретения, я знаю. — Помолчала, подняла перед ним свою карточку. — У этой девицы тоже могло все сложиться иначе. Именно с той поры.
— Разве вы не стали бы терапевтом? Вы об этом мечтали, я помню ваши «загадки-отгадки».
Утешают друг друга — словами. Иногда этого бывает недостаточно.
— Стала бы. Но для меня не в работе суть, а… в другом.
Другое для нее — семья, дети, любовь или нелюбовь, и здесь у нее немало утрат — погиб муж, похоронила мать, выдала замуж дочь и проводила ее в свою отдельную, далекую-предалекую жизнь, подрастает вторая дочь и тоже уйдет с кем-то со временем.
— Теряешь, теряешь, каждый день, иногда кажется, что-то теряешь. — Ей грустно, сегодня она вот его теряет, хотя как будто и не приобретала, но сказать ей так хочется, чтобы он свою вину, хоть крохотную, ощутил, не был таким твердокаменным. После школы, в самом начале ее взрослой жизни как раз он, Сережа Малышев, стал ее первой утратой, но тогда еще верилось — будет долгая-предолгая жизнь впереди, полная самых разных встреч и исполнения желаний. А теперь?.. Наверное, держаться нужно за того, кого полюбишь в молодости, остальные встречи пройдут, не касаясь сердца, в порядке словно бы общественной нагрузки. Он был для нее мечтой тогда, она ждала, он придет, и на первом курсе ждала, и на втором, на третьем. Не дождалась, вышла замуж, родила дочерей и стала жить только для них, ради них. А тут и он пришел, приехал, примчался под вой сирены. Словно себе в наказание — не пожелал прийти здоровым, привезли больного, выхаживай его и спасай, ты своего добилась.
— Надо держать судьбу в своих руках, — сказал он. — Изменить жизнь можно всегда, никогда не поздно. — Если обоим грустно, мужчина должен первым взбодриться.
— А вы пробовали?
— Не было нужды.
— И теперь нет? — Лечащий врач может задавать любые вопросы.
— И теперь нет, — сказал он упрямо и сказал чепуху, неправду, всем надо менять жизнь, постоянно стремясь к лучшему. Только ему не надо, видите ли, такой он целенаправленный, идет, не спотыкается, предусмотрительный и мудрый — не такой же, выходит! — А как вы понимаете, Алла Павловна, что значит, изменить жизнь? Попробуйте мне дать совет.
— Ничего нового я вам не скажу. И вам, и мне, и всем нужно жить так, чтобы была надежда. Откроешь утром глаза и сразу вспомнишь — меня ждет сегодня вот это и это, и завтра будет ждать.
— Понимаю.
— У меня был больной с бронхиальной астмой, долго не мог найти, что ему провоцирует приступы, какой аллерген. Квартиры менял, потом начал города менять, к нам сюда приехал, все поменял — ковры, меховые шапки, воротники, как возможный аллерген, а приступы не проходят. Возил с собой только любимый цветок жены в горшке, а когда сделали ему кожную пробу с цветочной пыльцой, он от микродозы дал нам почти шоковое состояние. Я это говорю к тому, что сам человек не всегда может найти причину своего дискомфорта.
— У меня, слава богу, не астма.
— Потому причину найти еще труднее, пробы нет, а сразу криз.
— И не надо искать. Нелепый случай — и все. От магнитной бури, допустим.
— Допустим, что остается. — Вид у нее грустный.
— Алла Павловна, я выписываю своих больных с радостью. — Он подбадривающе улыбнулся ей.
— А я разве нет? — Услышала свой голос и убедилась, что нет. — Привыкаешь, естественно… Просыпаюсь утром — и сразу что-то хорошее. В больницу приду, меня там ждут мои пациенты. А они, оказывается, узнав про выписку, скачут до потолка.
— Больница есть больница. А вы должны гордиться — вылечили.
— Вы своих выписываете после операции, они вами избавлены от болезни, практически здоровы, а мы своих — с улучшением. Я буду вам надоедать время от времени, патронажная сестра будет звонить вам и приглашать на профосмотр. — Она помолчала, вроде все сказала на прощанье. — А вы мне так и не позвонили ни разу.
— Собрался, к телефону подошел, монету уже опустил и испугался.
— Да не верю я вам! — воскликнула она. — Малышев испугался?
— Зато я помню ваши телефоны.
— Уйдете и забудете. — Ей как будто сладко было корить его, развенчивать, перечить ему. — Выпишетесь — и вон из памяти. Как несчастную первокурсницу.
— Нет, я буду вам звонить.
Она стала внимательно рассматривать свои пальцы, затем вздохнула:
— А вот это, пожалуй, вы зря сказали.
— Почему же зря?
— Буду ждать, а когда ждешь и телефон молчит… Вам было хорошо здесь?
Будто он у нее дома жил, в гостях. А если бы они поменялись ролями, хорошо бы ей было? Но сказал другое:
— Вы приходили не так уж часто.
— А я боялась. Пришла вечером тогда, помните? Вы так странно на меня смотрели.
— Напрасно. Нечего было пугаться.
— Сейчас мне тоже кажется, что напрасно. Теперь жалею.
Как девочка. Бывают же ситуации. А он как мальчик. Дети любят играть во взрослых, а взрослые… они тоже вынуждены играть взрослых, а по сути остаются детьми.
— Вчера по телевидению шел фильм «Сорок первый», — сказала она, — из старых. Хороший фильм, Чухрай режиссер, вы, наверное, видели. Двое оказались на острове в Аральском море, он белогвардеец, а она красная, его конвоирует. Вдвоем на необитаемом острове. Полюбили друг друга. Потом появилась лодка с белыми…
— Она его застрелила, я помню.
— Да, она его застрелила. Я все знала, но смотрела вчера и волновалась. Знаете, о чем подумала? — Она глянула на него стесненно, как на препятствие, которое надо преодолеть, губы ее подрагивали, самые уголки. — Она застрелила бы его в любом случае, белые бы пришли, или красные, все равно. Знаете, почему? Они отнимали его, кончилось их счастье вдвоем, их обособленность. Остров их кончился, и он уходил в другую жизнь — без нее. А у нее любовь, она отпустить не может. Жестоко, правда? — Он не знал, что ответить, пожал плечами — любовь! — а она продолжила: — Жестоко, но я подумала вчера, что вот здесь у нас. — она легким движением обвела палату, — тоже остров.
— Я понимаю, Алла, понимаю. — Он взял ее руку, чтобы успокоить ее, но она мягко высвободилась.
— Еще заплачу… — Поднялась. — Я зайду потом. — И ушла.
Остро кольнуло его чувство сострадания к ней и еще своей вины — не вспомнил сразу, забыл ее. Не пришел тогда снова и снова в 116-ю комнату на третьем этаже. Да и сейчас, здесь, был так мало внимателен к ней… А если представить, что не было этих двадцати с лишним лет, и что они здесь впервые встретились, и вся их жизнь впереди и только впереди, только в будущем, без прошлого?..
Малиновую свою папку с карточками она оставила раскрытой на его тумбочке, он еще долго перебирал, разглядывал общий снимок, — многие изменились, особенно девушки, редко какая стала выглядеть лучше, чем была, как правило хуже — семья, заботы, тяготы. Исключение, пожалуй, Регина Данилова.
Вчера она приходила к Малышеву сюда.
За две недели у него побывали поголовно все из его отделения — и врачи, и сестры, и санитарки, заходили кое-кто из других отделений, одна только Кереева не зашла, главный врач, ей по протоколу не положено. Она четко знает, к кому надо идти, а кому достаточно позвонить, календарь на ее столе испещрен заданиями, кого и когда поздравить, к кому зайти, да и без календаря она держит в памяти на удивление много всякой отношенческой чепухи — кто где раньше работал и с кем, чьим покровительством пользуется, кто чей родственник и в каком колене, кого можно и нужно критиковать по любому поводу и без повода, а кого даже и за промахи лучше не трогать. Кереева звонила, справлялась, как у Малышева здоровье, но не пришла и бог с ней, он и не ждал ее, — а вот заметил-отметил и дуется, как индюк. А сам бы ты пошел, если бы, к примеру, слегла Данилова? Закисает он тут, ржавеет, всякую чушь мусолит. К Даниловой он бы не пошел, но — до вчерашнего дня. А вот она взяла да и пришла к нему, жена ответственного работника, оскорбленная, к тому же, Малышевым публично, можно сказать, но пришла, и он даже не сразу узнал ее от неожиданности. Она вполне могла бы явиться вместе с другими, слиться с массой, так сказать, отбыть повинность, если уж так принято, — нет, пришла особняком, элегантная, стройная, в летнем платье, легкая такая, молодая, он и не предполагал, что такая ничего себе женщина работает в его отделении. Принесла цветы, положила ему на тумбочку.
— Как вы себя чувствуете, Сергей Иванович? — Волнуется заметно, и оттого тон у нее ледяной.
— Спасибо, ничего. — Он тоже слегка напряжен, но старается быть приветливым.
— Вид у вас вполне здоровый, скоро на выписку?
— Да, на днях уже…
Обычные вопросы, обычные ответы, но главреж сказал потом: «У вас с ней отношения, учтите, между прочим, заметно». Да, но какие? Тем не менее он обрадовался ее визиту, не тому, что она оказала ему персонально внимание, а тому, что она себя подчинила. Делу подчинила, ведь им вместе работать. Переломила гордыню, спесь.
— Можно, я поставлю цветы вон в ту банку? — она кивнула на подоконник.
— Можно-можно, — отозвался Телятников, это его посуда из-под компота.
Главреж приосанился с ее появлением, голос его стал гуще, Малышев тоже приободрился, встал, подал стул гостье, воспряли мужички, словно два петуха боевых, а она спокойно ходила возле них, постукивая каблучками, хлопотала, украшала им жизнь, взяла банку, подошла к раковине, налила воды, воткнула в нее цветы, расправила, — и все изящно, опрятно, очень как-то по-женски.
— А я к вам еще и по делу, Сергей Иванович, если можно?
— Пожалуйста, Регина Петровна. — Он любезен, приветлив, он здесь хозяин, а она гостья.
— Можно было и потом, не обязательно сейчас, но я так решила. Во-первых, навестить вас, а во-вторых, сказать, что вы правы.
Он кивнул чуть заметно и ничего не сказал. Она выждала слегка и спросила:
— Вам неинтересно, в чем вы правы, вам безразлично?
Он улыбнулся и спросил, в чем же он прав?
— Но почему вы улыбаетесь? — спросила она с недоумением. — Это достаточно серьезно. — Она насторожилась, напряглась, боясь, что он снова, как тогда, отпустит что-нибудь ядовитое.
— Все просто, Регина Петровна, я рад, что вы пришли, вот и улыбаюсь. Красивое у вас имя, между прочим, — Королева. Гуттэ регис Дание, помните? Капли датского короля.
Это ей не понравилось — какие-то капли, опять! Малышев в своем репертуаре.
— Я решила повременить с заявлением. Вы знаете, о чем я говорю.
Прежний Малышев спросил бы с ехидцей: «Вы решили? А может быть, за вас решили?»
— Напрасно. Это я был неправ, погорячился, — сказал он сразу после ее слов, не совсем осознанно. Она смутилась, а он повторил уже осознанно: — Я поступил неверно, извините меня.
Тут вмешался Телятников:
— Прошу прощения, я совсем забыл, мне на токи Бернара. Склероз, извините великодушно. — Говорил он, играя и даже переигрывая, чтобы можно было понять и оценить, как он мило лжет, старясь оставить их наедине.
Данилова встала, отодвинула свой стул с прохода, затем, когда Телятников вышел, уже не садилась, отошла к окну на балкон и, заложив руки назад, оперлась о подоконник.
— Кажется, я опять вам не угодила, — сказала она холодно. — Вам так трудно угодить, между прочим. — Отошла подальше, чтобы легче на расстоянии перенести его колкости, на которые он всегда горазд, особенно по отношению к ней, испуганно ждала, чего он еще нагородит, — капли, видите ли, датского короля!..
А ему вспомнилась злосчастная барокамера и рассказ про случай не то в Ташкенте, не то в Чимкенте. Как она мило, с чисто женским страхом перед техникой рассказывала, увлеклась, забыла и свои прегрешения и козни Малышева, была искренна и беззащитна, а он ее — льдиной своего сарказма. Ну не зануда ли?
— Я решила повременить. Я еще слишком мало работаю на новом месте, вы правы. — Она боится его, но пришла сюда не подпевать ему, показывать свои лапки кверху. Пусть он брякнет что-нибудь снова, она вытерпит. — Я подам заявление обязательно, только потом. Через год или через два. Или я опять, по-вашему, не права?
— Вы правы, Регина Петровна, вы очень хорошо сделали, что пришли. Этим вы доказали, что я был не прав. — Он говорил с расстановкой, подбирая слова. — У вас есть силы переломить себя, и есть убеждение, что так надо для общего дела. Сам я так не всегда могу, к сожалению. Вы мне преподали урок, поверьте. Вы очень мне угодили, да и себе тоже.
— Мне даже не верится! — она нервно отрывисто рассмеялась. — Я ждала, вы будете спорить и осуждать меня снова… — Она, скрестив руки перед собой, взяла себя за плечи, очень женственно, будто замерзла после купания. — Ну а как вы себя чувствуете, Сергей Иванович, уже получше?
— Во вторник будем оперировать Леву Кима. Юноша в четвертой палате, вы его знаете, художник. Удалим легкое. Вы поможете?
Она сжалась вся, плечи приподняла, будто он ее ударил.
— Вы приглашаете меня, как специалиста по удалению обеих… обоих!.. — Она смешалась, замахала руками перед собой. — Не знаю, как правильно сказать!
— Нет, Регина Петровна, я приглашаю вас без всяких-таких намеков. — «Все-таки болен, не слежу за словами, горожу, что попало». — Будем оперировать вместе.
— Спасибо…
— Я хочу, чтобы вы убедились, что я не деспот.
— Я с удовольствием… я знаю.
Он забыл, навсегда забыл про эфирный наркоз и термокаутер, а если кто-нибудь вспомнит, то он Регину Петровну Данилову будет защищать и отстаивать. Перед той же Кереевой, случись что-нибудь с мужем Даниловой…
— Мне, наверное, пора уходить? — спросила она, как школьница спрашивает учителя. — Я вас утомила, наверное?
— Нет-нет, Регина Петровна. Мне теперь легче, я буду о вас хорошо думать.
— Я тоже… я постараюсь.
— Посидите еще немного. Сейчас придет мой сосед, Телятников, главный режиссер театра. Он всем задает один и тот же вопрос: в чем, на ваш взгляд, главное зло сейчас. Вот как бы вы ему ответили? Можете не спешить, подумайте.
— Когда один не понимает другого, — сразу же ответила она. — А как вы считаете? — Она помешкала. — Война, конечно, главное зло, но она ни от вас, ни от меня не зависит. А нежелание понять — зависит от нас.
— Это верно, вы молодчина. Я бы к вам не пришел, каюсь. Спасибо вам за урок.
Она отошла от окна, приблизилась к нему с легким шелестом.
— Можно, я вас поцелую? — Он не успел ответить, она обеими руками повернула его голову, как ей удобнее, и поцеловала. — Я так решила.
…А к Телятникову в тот день приходил актер Ковалев, крепкий загорелый молодой человек в тесных брюках из вельветона, в тенниске без ворота, и рассказывал про визит в обком. На Малышева он как будто не обращал внимания, но явно играл перед ним этакого победителя, удалого и убежденного в своей правоте героя, уверенного, что только так и должно было все обернуться, если уж Ковалев за это дело взялся. Секретарь выслушал их внимательно, задавал вопросы, причем обнаружил удивительную осведомленность о положении в театре. Ни о каких оргвыводах не было речи, сказал только, что Константина Георгиевича «мы в обиду не дадим», — и на этом расстались. Но Астахов уверен, что директора отправят возглавить творческий коллектив Дворца культуры комбината, а в театр придет Плужник, мужик, что надо, твердая рука, Астахов его знает. Главреж от неожиданного заступничества обкома как-то сник, сказал жалким голосом, что он совершенно согласен, театру нужна твердая рука, чего у него самого никогда не было. «Ну-ну, Константин Георгиевич, вы на репетициях просто тиран», — сказал ему Ковалев…
Без пяти двенадцать заявились в палату Катерина и Юра Григоренко. Малышев переоделся, сменил больничное на домашнее. Утром, бреясь, заметил седину возле уха, сейчас глянул на Катерину — а она ничего не заметила? Нет, он белокурый, может весь поседеть и незаметно, а все же… Вспомнил своего отца, до глубокой старости он не седел, да еще поговаривал: седина от трусости. На фронте воевал, огни и воды прошел, а не побелел. Малышев, видать, не в отца, особых переделок не было, а он уже начал — трусит? А чего? Да ничего. Режет, режет, спасает, спасает… От тщеты своей поседел. И дочь к нему невнимательна.
— Дарю вам на память строку из Пушкина, — сказал ему Телятников на прощанье: — «На свете счастья нет, но есть покой и воля». Запомните!
Алла Павловна обещала зайти, но что-то не появляется. Макен принесла ему больничный лист, затем он сам пошел в ординаторскую с малиновой папкой — Аллы Павловны там не было. Постоял в коридоре, подождал, спросил у сестры — «да где-то здесь!». Стоял, ждал. Больные, проходя мимо и видя его уже в своей одежде, прощались, желали ему сюда больше не возвращаться. Все желали, кроме лечащего врача — она не показывалась.
Но зачем, собственно говоря, ей к нему заходить? Забрать папку со снимками? А может быть, она их ему нарочно оставила. Не надо ее искать, надо ее пощадить. Она и так уже сказала ему больше, чем нужно. Не появится она, чутье ему говорит, так что, давай, шагай, Малышев со своими провожатыми, не мешай ей жить и работать дальше. Остров кончился…
Значит, счастья нет, а есть покой и воля? Сомнительно, хотя и Пушкин, скорее все-таки покоя нет в нашем-то веке, а счастье вполне может быть когда-то, где-то, с кем-то. Вот как у него в больнице…
Пошли к воротам, с одной стороны Катерина с цветами, с другой Юра Григоренко с портфелем Малышева (бритва, мыло, зубная щетка и прочее). Катерина похудела и загорела, будто к экзаменам на пляже готовилась, на отца нуль внимания, посматривает на Юру Григоренко, причем, не смущаясь, как на девчонку, так сейчас принято, форма такая новая, хотя содержание старое. Ни слова о его здоровье, о его самочувствии, будто на вокзал пришли и встретили гостя по поручению месткома и комсомольской организации. Возвращайся на круги своя, Малышев, и принимай дочь такой, какой ты ее оставил. И попусту не ерепенься, ничего не изменишь, кроме уровня своего давления.
Завтра суббота, послезавтра воскресенье, а в понедельник они встретятся в поликлинике, не так уж и долго ждать.
9
Марина весь день звонила Зиновьеву, не могла застать и нервничала. Первый раз она позвонила ему в отделение патологии родов около десяти утра. «Борис Зиновьевич занят». Она позвонила в одиннадцать, — занят, что ему передать? Она не нашлась сразу, что сказать, положила трубку. Они условились прежде, что Марина не должна называть по телефону ни себя, ни свою консультацию, а если уж крайне нужно, «придумай что-нибудь от фонаря». Борис предупреждал, чтобы женщины направлялись к нему в отделение без всяких предварительных ее звонков, ходатайств, протекций, поступали бы леге артис — по всем правилам, с направлением женской консультации или с помощью неотложки. Пусть другие ему звонят, просят, уговаривают, грозят, возносят или поносят, что угодно, но — другие, а не Марина, о ней никто в отделении патологии родов знать не должен, а то, что под направлением стоит ее подпись, мало кого касается, подпись неразборчива, вслух не произносится, а тут важно уши не прожужжать.
Позвонила в час, опять его нет. Позвонила в три часа.
— Борис Зиновьевич занят, что ему передать? — Прямо-таки автоответчик в кинотеатре.
— Передайте, что звонили из консультации.
— Из какой? Дайте ваш телефон, он вам позвонит.
Марина бросила трубку, она уже поняла, Борис прячется, такого еще не бывало. Раньше, если он не мог подойти к телефону, обязательно ей звонил потом и справлялся, не она ли его разыскивала. Сегодня же не отвечает именно на ее звонки, потому что с другими, насколько ей известно, у него нет сговора (фу, противное слово!) — уговора нет, условленности.
Что там у него могло случиться? Он всегда отзывался, мало того, ждал ее звонка, за которым следовало направление и… и все прочее. А сегодня молчит. Если бы еще в отъезде был, понятно, но он же на работе. Странно по меньшей мере.
Домой ему звонить бесполезно, трубку берет Анюта, стокилограммовая его пушинка. Анюта ревнива и не без оснований, но шашней у Бориса все-таки меньше, чем она думает, а денег больше, чем она знает. Борис не любит тратить время попусту в том числе и на дам. Тем не менее, если позвонить Зиновьевым домой, Анюте ничего не стоит внести Марину в поминальник борисовых потаскушек и обсудить очередную пассию со всем домом медиков. Толстухам положено быть добродушными и снисходительными, но Анюта желчная и злоязыкая, ничего никому не прощает. Из-за нее Марина не приглашала Зиновьевых на торжества, хотя Борис был нужным человеком не менее других застольников, не говоря уже о том, что он весельчак и балагур. Впрочем, лучше им с Борисом держаться на расстоянии — просто знакомы, просто коллеги и не более того.
Она позвонила ему в отделение после четырех, решив в случае неудачи использовать крайнее средство — их условный разговор («Если цито, сказал Борис, звони по коду»). Трубку взяла та же дежурная и Марина сварливо, не своим голосом потребовала:
— Мне Зиновьева вашего!
— Борис Зиновьевич занят, — не очень любезно ответила сестра.
— Занят да занят, а когда он будет свободен?
— А в чем дело, кто это говорит?
— Из отдела доставки говорят! — Марина нагнетала, форсировала базарность. — Пусть он придет на почту и заберет посылку. Срочно!
— Вы что, не можете ему послать извещение? Зачем сюда звоните?
Резонно, можно и растеряться, и Марина терялась, когда говорила от своего имени, но вот когда ей изредка, но все же приходилось входить в роль, тут она сама удивлялась своей находчивости.
— Мы уже посылали ему сто раз, а он не идет. Потом является и скандал устраивает, книгу жалоб требует, будто вы его не знаете!
— Как вы сказали, куда ему зайти? — слегка оробела дежурная. — Какой отдел вы сказали?
— Отдел доставки, девятое почтовое отделение. — Марина бросила трубку и потерла виски, ей стало не по себе от страха, от своего промаха. Борис такой болтун, он мог ради хохмы сказать ей про отдел доставки, а она всерьез приняла это как условный знак, пароль и прочее. Звучит-то как — доставка, она ему как раз и доставляет. Сразу не догадалась, пока не произнесла вслух, услышала себя и убедилась как оно предательски звучит…
Потом ждала, что он позвонит ей домой, догадается, ждала в семь — не звонит, в восемь — не звонит, а ведь ему наверняка передала дежурная, немолодая, судя по голосу, а значит, исполнительная, — так почему же он не мычит, не телится?! В девять она решила все-таки позвонить ему домой, как раз шел фильм по телевидению, авось Анюта смотрит не оторвется. Набрала номер, ждала, он сам подойдет, — ничего подобного, подошла пышнотелая его отрада и аллокает на пределе любезности. Марина бросила трубку, зло копилось в ней весь день, он унижал и оскорблял ее с самого утра, ведь наверняка знал — именно она трезвонит, и дело очень серьезное, если пришлось отважиться на отдел доставки, вдобавок она вот уже и домой к нему ломится и молча кладет трубку, тут самый бестолковый догадаться должен, а Борис отнюдь не такой, он догадлив и проницателен, обязательно свяжет все детали, обрывки, намеки и сделает вывод. Такое зло взяло, что хоть иди в тот подъезд, звони в дверь и отчитывай его как последнего разгильдяя. Она позвонила еще раз, мстительно помолчала на голос Анюты и положила трубку, — пусть она ему устроит головомойку: «Опять тебя какая-то сучка домогается, когда это кончится?!»
Озадачивала его с утра и так и этак, а с него как с гуся вода. И послать его ко всем чертям невозможно — на той неделе у Катерины последний экзамен, физика, дочь может всего лишиться, у нее никаких подпорок, кроме голословных обещаний профессорши. Ну а с другой стороны, у Марины тоже пока одни обещания. А если Борис вздумает отказаться? Нет уж, дудки, ей тогда умереть легче, чем пережить все. Да еще Катерина, дуреха, настолько уверовала в помощь Сиротининой, что совсем не берется за учебники — «поздно, мамочка, не врубаюсь». Зачем репетитору платили по десятке за урок всю зиму?..
Из дома Борис позвонить не сможет, Анюта не даст ему рта раскрыть, но он может из автомата, когда выйдет прогуливать своего Лобанчика, спаниеля, весь город знает, какой у него Лобан умница, понимает все анекдоты, выйдет прогуливать и позвонит, если не случилось что-нибудь уж совершенно невообразимое. Он должен позвонить, обязан позвонить, понимает же, что у Марины очень срочное, цитовое дело, цитиссимо!
В половине одиннадцатого раздался, наконец, звонок, — Борис, лапочка, вышел со спаниелем, — увы… Звонил муж, сказал, что выписывается, как дела у Катерины? Еще один контролер появится, там Анюта, а здесь Малышев собственной персоной. Она не ожидала, что так быстро выпишут, не обрадовалась, да и вообще не до того ей сейчас, когда ждешь не дождешься совсем другого звонка.
— Давление у тебя нормализовалось?
— Да, все в порядке.
— А ты не торопишься? Смотри, лучше бы еще полежать.
— На том свете полежу. Дела ждут.
— Какие могут быть дела, когда у тебя криз?! — рассердилась Марина. Если бы у нее был нормальный муж, как у других, ей не пришлось бы сегодня нервничать, звонить, унижаться и лицемерить. Да разве только сегодня?
Уже месяц, как она дрожит, зависит от кого угодно, лебезит, холуйствует с тех пор, как Катерина пошла сдавать экзамены. Да и только ли этот месяц, а что с ней было последний год? Да только ли последний?.. Ну чего ему стоило поговорить с Сиротининым там, в палате, с глазу на глаз? Достаточно было намека. Уж кому-кому, а Малышеву профессор не отказал бы. Но муж ее, видите ли, принципиальный, порядочный, видите ли, считает ниже своего достоинства и прочее, а ты, жена дорогая-ненаглядная, крутись-вертись, унижайся и хлопочи, чтобы всем им было легко и удобно. Вот так все годы она пластается за дочь, за мужа, за себя, за каждого в отдельности и за всех вместе. И если капризы Катерины обходятся ей в копеечку, то бескорыстие мужа обходится ей куда дороже.
Борис так и не позвонил. Спала она плохо, зато придумала четкий план его перехвата.
Утром, в семь тридцать, Марина уже вышла из дома. Сегодня он от нее не спрячется, она должна его взять живым или мертвым. Брать, конечно, надо только живым — и пусть он попробует увильнуть! У Катерины физика, и этим все сказано. Встала на дороге, на выезде между домами и стояла, как автоинспектор, принимая приветствия знакомых из дома медиков, из дома актеров — не соскучишься. Взяла бы газету, уткнулась бы, но нельзя, надо смотреть в оба, проскочит мимо, не догонишь, не докричишься. Сегодня она шлагбаумом ляжет на его пути, но не пропустит. Не выпустит его из своих цепких объятий. Стояла, ждала, нервничала. А если он не один поедет, если Анюту повезет на рынок за свежей говядиной с утра пораньше, а тут она стоит на дороге, ждет — чего, спрашивается? Того, чтобы Анюта прямо здесь, на улице, устроила им театр драмы и комедии?
А Бориса все нет и нет. Не вздумает ли он поехать другой дорогой? Она резвой козочкой быстренько проскакала между домами, держа в поле зрения дорогу, выбрала место, откуда видны были гаражи, — все они пока еще заперты, слава богу, — и стала вести наблюдение. Если он выйдет один, Марина ляжет под колеса, но его не упустит. Если же он выйдет с Анютой… ничего не остается, как лечь опять же под колеса, чтобы уже не вставать.
Двери его гаража закрыты, значит, он еще дома. А может быть, уже уехал? Посмотрела на часы — пять минут девятого, еще рано, а ей уже показалось, что она часа полтора тут мается, каблуки сбивает. Пальцы в туфлях ныли, поясницу ломило — попробуйте-ка уже тридцать пять минут стоять и смотреть-смотреть, да еще психовать на тему: уехал или не уехал? Наконец забрезжило вознаграждение за муки, появился Борис, чистенький и наглаженный, один, слава богу, не спеша открыл гараж. Но женушка его может и потом выйти! Борис вывел машину, сейчас он поедет. Марине предстоял срочный выбор — или дождаться выйдет-не выйдет Анюта, или опрометью бежать к месту выезда из квартала? Предпочтительнее второй вариант, от Анюты Марина как-нибудь отбрешется. — Спотыкаясь, заспешила через газон напрямую, сокращая путь, успела. Встала у обочины, заметила, что он ее увидел, но еще и сумкой помахала, чтобы не вздумал он слепым прикинуться. В том, что он прятался от нее вчера, она уже ни капли не сомневалась.
Борис притормозил машину, перегнулся за стеклом, открыл дверцу.
— Доброе утро, Мариночка. Садись, не проходи мимо.
Она еле втиснулась, никак не могла приспособиться к этим «Жигулям», хоть боком влезай, хоть задом, хоть так, хоть этак, все равно прическу собьешь или юбку по шву распустишь. Ногой снаружи опираешься, чтобы влезть, и юбка скользит, задирается до самых трусов, идиотская машина, кто придумал такую модель, провалиться бы ему и не вылезть. Момент посадки, одним словом, не добавил Марине успокоения.
— Доброе утро, Борис, — ответила она сквозь зубы, захлопнула дверцу изо всей силы и опять же ощутимо задела себя по бедру и чертыхнулась.
— Я собирался звонить тебе прямо сейчас, — сказал Борис, оправдываясь. — Из дома, как ты понимаешь, невозможно. Вчера завертелся, хочешь верь, хочешь не верь.
Видно было, что он лжет, не стал бы звонить с утра, а сразу бы дал команду своей дежурной отвечать на звонки, как вчера. Чем же она ему не угодила? Почему он так обнаглел? Да и с какой стати она должна ему угождать? Кто кому должен быть благодарен, в конце концов? Вот поймала его, уселась в машину и не отпустит теперь, пока своего не добьется. Первым делом следовало отчитать его за вчерашние прятки.
— Ты должен был догадаться, что если я так настойчиво трезвоню, значит, есть на то веская причина!
— Откуда же мне знать, Мариночка? Я думал, Анюта звонит, а мне этого счастья и без телефона хватает.
— Но если я вынуждена была пустить в ход придуманную тобой глупость про отдел доставки, следовательно…
— Ты не торопишься? — перебил Борис.
— Причем здесь торопишься-не торопишься? — Вместо того, чтобы спросить, в чем дело, он снова виляет. — Я могла ожидать от кого угодно, но только не от тебя.
— Глянь сюда! — опять перебил он и показал пальцем на приборы перед собой. — Бак пустой, стрелка на нуле лежит, давай на заправку заедем, видишь? — Он тыкал пальцем, как будто она разбирается, пусть Анюте своей показывает, она его проверяет по всем стрелкам и цифрам, километраж записывает и расход бензина, а по грязи на колесах может еще и определить, по какому маршруту он возил за город свой «пэрсик».
Поехали на заправку, хотя Марине хотелось ему сейчас запретить все на свете.
— Как там Малышев, оклемался? — спросил Борис невозмутимо.
— Заставил весь день меня волноваться, рвать и метать!
— А что с ним опять?
— Да не с ним, а с тобой что?! Звоню-звоню, как…
— Как пономарь, — подсказал Борис.
— На тот свет легче дозвониться, чем к друзьям, которые от тебя прячутся, как собака от мух.
— Нехорошо, Мариночка, неэстетично.
Он и сегодня намерен увильнуть от разговора, а ведь прежде первым делом спрашивал, как там контингент, подбирается? Однако же, не надо подражать Анюте, у него иммунитет к бабьему визгу. Марина скрестила руки на груди и потерлась спиной о сиденье. Сказала мирно:
— Нам надо поговорить, Борис.
— Всегда готов, но сначала заправимся.
Возле заправки длиннющая очередь, неужели он будет ждать, это же до вечера?
— Потом заправлюсь, — решил Борис. — Ты, я вижу, спешишь, поехали.
— Нет, давай подождем! — Ишь ты какой, «ты, я вижу, спешишь». Никуда она не спешит, не прикидывайся.
Пристроились в хвост каравана в сизой вонючей дымке.
— Частников развелось, пора уже раскулачивать, — флегматично заметил Борис. — И все «Жигули», «Жигули». Тебе не кажется, Мариночка, что на «Жигулях» одни жулики? Добрая машина, слов нет, но стала символом жулья капитально. Раньше татуировка была «не забуду мать родную», а теперь «Жигули», тебе не кажется?
— Не кажется!
— Напрасно. Жулики и хапуги. Вон впереди рожа вылезла с бакенбардами, в вельветовом пиджаке. Наверняка официант, слесарь из автосервиса или продавец мясного отдела.
Марина пока потерпит, очередь большая, а он пусть поизрасходует свой запас уверток.
— Или помидорами торгует рубль кило, — неутомимо продолжал Борис — Нет, что ни говори, развелось, хоть хлорофосом трави.
Когда он изволит поинтересоваться, почему она звонила? Из уважения к женщине, хотя бы, из обыкновенной любезности, на которую он всегда мастак. Всегда, но не сегодня. Сегодня он намерен мотать ей нервы, как и вчера, но она потерпит, а потом выдаст ему сполна.
— Раньше как было, кто ездил на своей машине, помнишь? Знатный металлург, Герой соцтруда, профессор или народный артист, люди привилегированные. Единицы ездили. А сейчас? Откуда такие деньги?
Она только набрала воздуху, чтобы остановить поток премудростей, как он снова покатил-поехал:
— Вот, пожалуйста, из-за всякого быдла, взяточников и спекулянтов, труженики здравоохранения простоят минут сорок. На работу не опоздаем, Мариночка?
Она смерила его молчаливым, уничтожающим, как ей хотелось, взглядом. До чего же ты нагл, Борис, спокойно можешь молоть ерунду, видя, что она терзается! Да еще учтив и любезен. «Прикидывайся, прикидывайся, посмотрю я, как ты запоешь при виде конверта Сиротининой!»
— Сменить мне надо «Жигули», чтобы не сказали, что я тоже жулик. На «Москвича» или на «Волгу», как ты думаешь, Мариночка?
— На «Волге» ты будешь хапугой с размахом, — сказала она не без удовольствия.
— Размах — это хорошо, — подхватил Борис. — Без размаха только дураки живут. — Кажется, он готов был поссориться с ней.
— На «Волгах» как раз-то жулики и ездят, — немножко сбавила пыла Марина, чтобы особенно его не задорить. — Пятнадцать тысяч нельзя труженику накопить, можно только наворовать. Но не хватит ли нам про всякую ерунду, Борис? Если я тебе вчера весь день звонила-названивала, то…
— Ничего себе ерунда! — громко перебил он, как будто их кто-то подслушивает и следует говорить только о пустяках. — Мне из-за этого жулья, из-за мясников с бакенбардами, официантов, из-за сферы обслуживания житья нету. Ни бензина, ни запчастей, да они еще и гаишников развратили, теперь за каждый свисток рубль плати. О смотри! включили вторую колонку, дело быстрей пойдет.
«Дело». Дело как раз ни с места. Сейчас они подъедут, зальет он свои баки, отвезет ее в консультацию и не даст слова выговорить. Постучит ногтем по своим швейцарским часам: «Спешу, Мариночка, дымлюсь, привет семье!» — и высадит ее. А у Катерины впереди физика.
— Борис, я должна направить к тебе двух женщин.
Раньше он радовался ее предложениям, ждал их, но что скажет теперь?
— Надо вовремя уйти, Мариночка, из большого спорта, — сказал Борис — Возьми Ирину Роднину. Неоднократная чемпионка мира, трехкратная олимпийская, выступает с блеском, богиня, люкс, равных и близко нет на всей планете и даже за ее пределами, а вот взяла и ушла, почему?
— Борис, ну в конце-то концов!
— Или возьми хоккеиста, этого, как его? Морды бил канадцам, защитник наш, ну как его? — Как будто Марина только и создана отвечать на спортивные викторины. — Васильев! — воскликнул Борис и даже ладонью себя по лбу щелкнул. — «Комсомолку» читала? Уходит из большого спорта лучший защитник мирового, подчеркиваю, мирового хоккея, не то, что мы с тобой. Вовремя! Чует! Все чуют. И мы должны чувствовать.
Он увиливал, ерничал, городил чепуху, а машина продвигалась шажками, и вот уже совсем близко тяжелые стояки, похожие на крашеные холодильники со шлангами и брандспойтами, как у пожарников.
— Да выслушай ты меня в конце концов!
— Все знаю, Мариночка, лучше ты меня выслушай. Кончать надо, скажу я тебе, и притом немедленно. — Он посмотрел на нее, осадил взглядом и осудил. — Не толкай меня больше на это самое…
— Борис, как ты смеешь?!
— Да-да, на преступление.
Она ощутила в горле комок обиды, отчаяние, Сиротинина уже ждет ее со своей Настенькой, ждет-пождет и дождется ли? Что ей скажет Марина сегодня? Откладывает и откладывает, завтраками кормит, а у Настеньки живот все больше, и профессор уже начал хлопоты по ее всесоюзному розыску, не говоря уже о том, что у Катерины физика. Все рушится!
— Борис, в конце концов, это свинство с твоей стороны! — возмутилась она.
— Вылезай из машины, — сказал Борис.
— Борис, ты что?.. Прошу тебя… — Голос ее задрожал на грани слез, Марина совсем не плакса, но до того измотана в последние дни, что вот-вот заревет белугой.
— Вылезай, тебе говорю, нельзя с пассажирами подъезжать к заправке. Пройди вон туда, — и показал ей рукой на выезд впереди.
Она достала платочек, наспех осушила глаза, кое-как вылезла из машины, опять сбив прическу, и пошла, обходя черные мазутные пятна, к выезду из заправки, где ожидали, переминаясь с ноги на ногу, такие же, как она, высаженные, и эта компания ее несколько успокоила. Вскоре подъехал Борис, открыл дверцу, она села, поехали дальше, пора бы ему посерьезнеть, но он опять за свое:
— Раньше я за трояк мог полный бак залить, сорок литров, а сейчас шестнадцать рублей отдай, подорожал бензин, девяносто шестой скоро будет как коньяк стоить. Энергетический кризис в масштабах планеты, и это теперь уже не кончится, Мариночка.
Если бы она отстранилась хоть чуточку от своей заботы, она вспомнила бы, что Борис вообще такой, любит побрюзжать, это ему крайне нужно, иначе у него с пищеварением будет не все в порядке, — но отстраниться Марине сейчас трудно, просто невозможно.
— Выслушай меня, ради бога, Борис, очень тебя прошу. В последний раз.
— В последний? Конца-краю не будет, Мариночка. Демографический взрыв, опять же глобальное явление, как и энергетический кризис. Последние волосы покидают мою плешь, это верно, последние дни хожу на свободе, тоже недалеко от истины.
— Почему ты меня не предупредил, если отказываешься? Ты меня попросту подвел, я обещала людям, ничего не зная о твоих ужимках и прыжках. Я бы не договаривалась с женой Сиротинина.
— Ого, на старуху проруха!
— Она не старуха, к твоему сведению, но дело не в этом, помощь нужна не ей, а ее дочери.
— Уволь, Мариночка, уволь, мне уже сны снятся содержательные.
— Борис, помощь нужна прежде всего мне. Я Сиротининой обязана.
— И чего ты перед ней стелешься?
— Твой сын в Москве учится, тебе хорошо, а я свою в паршивый местный институт не могу устроить.
— А муж у тебя на что? Именитый, знаменитый, авторитетный.
— Как будто не знаешь!
— «Твой сын», говоришь. Мой Санька голова, на всех математических олимпиадах первые призы брал, из Новосибирского Академгородка персональное приглашение получал. Я тут палец о палец не ударил, — проговорил он ей с упреком.
— Я тебе верю и завидую, ты не ударил, а мне вот приходится, как видишь, ударять и еще как. Вчера я смотрела дочь Сиротинина, двадцать недель, сейчас они меня ждут, а ты мне словеса плетешь, когда у меня сердце стынет. Я же не знала о твоих уходах-переходах из большого спо-орта! — растянула она саркастически.
— Мой Санька голова, стервец. Прислал мне свой реферат, я на уши встал.
— Поможешь ты или нет?! — вскричала она вне себя.
— Не кричи, а лучше послушай, это имеет прямое отношение к нам с тобой, наберись терпения. Так вот, Санька пишет, что в Принстоне ученые разработали проект космической колонии полтора километра в диаметре. Все у них там будет свое — овощи, фрукты, заводы, фабрики. Жить там будут не двое-трое-пятеро, а десять тысяч человек, — вот такая колония. Мой Санька уточнил ее название: исправительно-трудовая. Я вижу, тебе уже не так скучно, Мариночка, пойдем дальше. Мой отрок делает гениальное обобщение. Как раньше каторжных отправляли на галерах в море, так теперь закоренелых преступников следует отправлять в космос. Логично и целесообразно. Вместо расстрела или электрического стула — туда его, и это будет актом высокой гуманности, мы ведь не пресекаем жизнь. Там будет модель нового общества с высокосознательным коллективизмом. Стоит только одному нарушить режим, как вся колония в пух и в прах, это обяжет всех к высокому чувству ответственности. На земле места заключения, называемые, кстати, тоже колониями такого или сякого режима, сплошь убыточны, одна охрана столько бюджета пожирает, а там — все сами, не потопаешь — не полопаешь.
— Все это остроумно, Борис, и намек твой понятен, но я сейчас в таком положении…
Но он снова перебил:
— Не подать ли нам заявление, Мариночка? Срок брезжит достаточно долгий. От восьми до пятнадцати лет. Ты, допустим, этого не знала по женской слабости, но незнание закона от ответственности не избавляет. От уголовной, я имею в виду.
— Ты просто трус! Еще не было случая, чтобы судили врача за то, что он спасает людей!
— Дадут нам с тобой красный свет рано или поздно. — Он притормозил перед светофором, показал Марине пальцем — красный свет. — А вот дождемся ли зеленого, бабушка надвое сказала.
Засиял подсолнухом желтый кругляш, Марина придержала дыхание, испуганно ждала, а вдруг и вправду зеленый провалится, замкнет светофор или что-нибудь там сломается, — нет, слава богу, четко загорелся зеленый и очень приятный, изумрудный такой, весенний цвет. Борис передвинул рукоятку с прозрачным набалдашником (в набалдашнике застыл паук), поехали дальше.
— Не было случая, так он будет, Мариночка. «Кто не был, тот будет, а кто был, тот не забудет». Фольклор такой. Все в духе времени — сын готовит проект, отец его реализует, тебе не кажется? Ретро, мода такая.
— Борис, умоляю тебя. — Она достала из сумки конверт. — Здесь тысяча, передала сама Сиротинина, отказаться я не смогла, да и не видела необходимости. Операция трудная, ты сам знаешь, она тоже знает и ценит, как видишь. Больше я тебя ни о чем подобном просить не буду. Борис! Честно тебе признаюсь: она обещала устроить Катерину.
Он подумал, покряхтел, посмотрел на нее со стоном.
— Э-эх, Мариночка, только ради тебя! Слушай анекдот про твоего Малышева. Сидят двое, француз и русский, приговорили их к смертной казни. Как видишь, у меня нынче сюжеты одни и те же. Волокут первым француза и спрашивают: какую казнь выбираешь, гильотину или виселицу? Он говорит, гильотину, патриот попался. Сунули ему голову под гильотину, нажали кнопку — не сработала, второй раз нажали — не сработала, третий — то же самое. Все, помилован. Ведут его в камеру, он доволен, шепчет на ухо русскому: «Учти, гильотина у них не работает». Волокут русского на казнь, спрашивают, какой вид выбираешь, гильотину или виселицу. Он говорит, виселицу. А почему? — задают вопрос. И он отвечает: так ведь гильотина у вас не работает. Таков твой Малышев.
Она рассмеялась безудержно, смех душил ее, она увидела отчетливо, как в кино, своего мужа в полосатой, как арестантская одежда, пижаме, его сумрачное лицо, она услышала, каким голосом он отвечает судьям, с каким упреком за разгильдяйство произносит он эту фразу: «Так она же у вас не работает», — и все до того правдиво, до того явственно, что она скорчилась, стиснула обеими руками горло, не в силах унять идиотский смех, слезы так и брызнули из глаз, она зарыдала, забилась в истерике.
Зиновьев свернул к бровке, остановил машину, достал из ящичка какой-то пахучий флакончик, дал понюхать, Марина кое-как успокоилась, закрыла глаза, закрыла лицо платком, с горечью покивала головой — да-да, это он, ее муж, с его пресловутой честностью, ему стыдно будет, позорно словчить даже на эшафоте. Он будет даже перед палачами совестлив — они тоже люди, и у них есть память. А она, жена его, его половина, будет унижаться, изворачиваться и лгать ровно столько, на сколько он честен и порядочен… Она убрала платок, увидела у себя конверт на коленях, протянула его Борису. Он покосился, спросил:
— Триста тридцать три себе отложила?
— Нет, тут особый случай.
— Ну и кадры Минздрав готовит, я за тебя буду отсчитывать?
Она достала из конверта три сотенные бумажки, пальцы дрожали — от слез, а не от денег, протянула ему конверт, а он долго не брал, заводил машину, руки заняты, завел, тронулись, он переключал, двигал пауком в набалдашнике, а она сидела с протянутой рукой и дрожала — а вдруг не возьмет? Раньше с ним было проще, он сам спрашивал, как насчет тити-мити, ни слова о кодексе, о статьях, а сейчас она совала ему конверт, как будто на самом деле назойливо совращала его суммой, втягивала в преступление. Наконец он рывком взял конверт, сунул его под сиденье, видимо, в тайничок от Анюты, спросил:
— А вторая кто?
— Жемчужная. У нее еще больше, двадцать две педели. Пыталась покончить с собой.
— Ты совсем чокнулась, дорогая, тут же политика!
— Она себе кухонным ножом живот распорет, и все равно к тебе привезут, а мне нагоняй будет, что не дала направление. Зачем ей рожать, от кого рожать?
— Но зачем ее таким же каналом?
— Она меня умоляла, передала сто рублей, я отказывалась, а она в слезы, боюсь, говорит, что никто не возьмется, положат на сохранение, — ну ты должен ее понять.
— Почему они вовремя не обращаются, все эти сучки, хотел бы я знать? У меня впечатление, что у них после случки сразу двадцать недель, скоростной метод.
— У тебя такое отделение, Борис, чему удивляться? — стала она его успокаивать, сама уже успокоенная. Если он взял, значит, сделает все, что требуется, и сделает как всегда чисто.
— Сегодня красный свет нам в два раза чаще, — он притормозил перед светофором. — Только ради тебя, Мариночка, а потом бежать надо. Скорее бы Санька открывал свою колонию, пойду добровольно, хоть санитаром, тут жизни нет. Откажемся мы или согласимся, ничего не изменится, все равно все знают, что в такие сроки делаем только мы с тобой. Откуда Сиротинина узнала? Я ей не говорил и ты, надеюсь, тоже. Глас народа, глас божий, аж из Семипалатинска везут, и там про Зиновьева знают.
— Ты хороший специалист, Борис, чему тут удивляться?
— Хотя бы тому, что оплата моих трудов идет из-под полы. Я не врач, я известный подпольщик. Люди ценят мою работу, а государство не желает. Я хочу иметь высокий моральный облик, а меня заставляют идти на преступление. Чувство благодарности свойственно даже собаке. Врач не может бить по рукам тех, кто ему подносит, этим он убивает надежду. Пациентка думает, что без оплаты ты ее только изуродуешь, не так чисто сделаешь, или вообще не возьмешься. Они знают, что я рискую, и потому платят. Все правильно, но где мой моральный облик? Извольте мне его обеспечить, я не ворую, не граблю, я тружусь в поте лица, извольте узаконить оплату моих трудов праведных, оплату добровольную, между прочим.
— «Моральные», «подпольные», тебе это не идет, Борис, — продолжала она его успокаивать, — Ты делаешь все леге артис, совесть твоя чиста, а остальное мелочи.
— Ты на мелочи не размениваешься, взяла сразу тысячу.
— Я не брала! — возмутилась Марина. — За кого ты меня принимаешь?! — Однако потише надо, потише, зачем скандалить, зачем перечить ему. — Здесь, Борис, особый случай. Дочери Сиротинина, только ты не пугайся, пожалуйста, не делай ложных выводов, шестнадцать лет, она еще школьница.
— Сучки, стервы, проститутки! — Он явно имел в виду в числе прочих и свою собеседницу. — Обеспечивай им счастливое будущее! А когда мне делать? С кем делать? В субботу на сенокос всех сестер, акушерок и санитарок, приказ горздрава. С кем я буду оперировать? Поеду лучше сено косить на лоно природы.
— Ты шутишь, Борис, я понимаю. У нас тоже назначили двенадцать человек на сено, но дежурные остаются, как везде.
— Дежурные, — проворчал Борис. — Зачем такие суммы берешь? Зиновьев, скажут, совсем охамел.
— Никто ничего не знает.
— Сказки для бедных! Нет ничего тайного, что не стало бы явным, древние евреи давно заметили. Она хоть сама на тебя вышла или через посредников?
Марина подумала — как бы тут не испортить все неосторожным словом.
— Сама, без посредников. — О телефоне лучше ему не говорить, напугается. — Пришла ко мне домой, разговор был наедине, просила никому ни слова, профессор узнает, дня не проживет.
— А кто школьнице козу заделал?
Она чуть не сказала «кто-то из органов», вовремя спохватилась, не то Борис тут же выложил бы конверт обратно.
— Сиротинина ничего толком не знает. Молодежь, современные взгляды. Известно только, что он рубашки не стирает, выбрасывает.
— Больше сведений и не нужно — фарцовщик. Или картежный шулер хороший. С такого и тысячу содрать не грешно. Ну и попал Сиротинин на старости лет, ну и подзалетел! А Жемчужную из театра, конечно, поперли?
— Ничего подобного, работает.
— Как она может работать, если театр разогнали? Соскину, директору, еле место нашли в каком-то клубе.
— Подробностей я не знаю, Борис, но она говорит, что в театре как раз дело налаживается к лучшему, все на месте, только директора заменили и главный режиссер в больнице. — Ей стало легче от согласия Бориса, есть что сказать сегодня Сиротининой, теперь можно и пару слов на отвлеченную тему. — Лежит он в одной палате с Малышевым и задает всем один и тот же вопрос.
— Знаю. Главное зло в глупых вопросах. А Жемчужная твоя дура, подождала бы вызова и спокойно уехала. Бежать надо, Мариночка, давай вместе куда-нибудь двинем, а? У тебя кубышка, у меня кубышка, на проезд, на прокорм хватит, чего мы раньше с тобой не стакнулись? Ты не кривись, не кривись, вполне серьезное предложение делаю.
— Язык без костей, — уклончиво сказала Марина.
— А что? Ты бы меня не пилила, не следила бы за мной денно и нощно. А Малышеву — мою Анюту, в аккурат!
Трудно понять, шутил он или говорил всерьез, но Марине стало тоскливо. Малышева своего, увы, она не променяет ни на кого. Хотя Борис удобный и выгодный. Не только муж, он прекрасный был бы отец. Стало досадно и за себя, и за своего непутевого мужа. Ничем он ей никогда не помог. А вот Борис — даже спальный гарнитур достал, на котором она спит с Малышевым. И все-таки она даже представить себя не может с кем-то другим. Может быть, любовь, может быть, привычка или просто-напросто женское тщеславие, — не имеет значения, он ей нужен, и все, какой есть. На зависть другим, хотя бы. Хотя на самом деле все гораздо серьезнее. Если бы он ушел — а был такой период, момент в их жизни, он загулял было, — если бы ушел, то…
Да пережила бы как-нибудь, господи!
— Нет, Борис, Малышева я держала и держать буду.
10
Суббота и воскресенье тянулись как наказанье. Марина уезжала на заготовку сена, Катерина пропадала в институте и у своих новых друзей, а он сидел дома один и маялся. Прежде по субботам он набирал наибольшее количество очков, в воскресенье подсчитывал и добавлял круги вокруг квартала, чтобы получилось тридцать очков, недельная норма аэробики по Куперу. Не каждый ее наберет, отнюдь не каждый, он мог бы гордиться, но вот уже третью неделю живет без очков. Отобрали у ребенка игрушку, и ему обидно, хочется плакать. Вместо бега теперь ходьба всего-навсего, удел униженных и оскорбленных природой.
В понедельник стало полегче, сегодня он закроет больничный. Завтра будет еще легче — операция Леве Киму.
Марина приехала с заготовки кормов усталая, голодная, красная, ночью раза три протирала спиртом обожженные плечи, а сегодня ушла на работу. Катерина вернулась из своей компашки в двенадцать ночи, будет спать до двенадцати дня, а он опять будет один пережидать длинное утро. Взял «Новую аэробику» Купера, полистал, нашел отчеркнутые строки: «Если обнаружится сердечная слабость, надо понизить норму физических требований до безопасного уровня. Врач может порекомендовать ограничиться лишь ходьбой. Однако не огорчайтесь! Добросовестно выполненная, согласованная с таблицами аэробики ходьба может дать вам столько же, сколько и более напряженные упражнения. Разница заключается только в том, что ходьба более продолжительна…»
Аэробика развивает способность организма к усвоению кислорода, чем больше бегаешь, тем выше твое потребление кислорода. М-да, нарушился ритм его жизни, ходьба не бег, мускулы, все тело его не получат прежней радости, пешком за радостью не угнаться, снесло Малышева с коня. Теперь Купер советует ему подождать три месяца, прежде чем начинать упражнения, да и то под контролем врача. Последним, как ни странно, сдается сознание, не хочет мириться с замедлением ритма, считает, что ты резв как прежде. Самомнение — это сознание или инстинкт?
Под контролем врача… Он согласен оставаться под ее контролем, тем более, что она сама говорила: «Вы остаетесь в полном моем распоряжении». А пока пройдемся.
Надел синее трико, обул кеды, зашнуровал, взял секундомер, вышел из дома. На скамейке сидел Чинибеков, читал газету, при звуке шагов отставил ее, как лист фанеры, глянул из-под очков и неожиданно поздоровался.
— Здравствуйте-здравствуйте, — торопливо ответил Малышев и едва удержался, чтобы не подсесть к нему на скамейку. Тренировочный костюм помог ему пройти мимо, вроде по делу, а то подсел бы и сочувственно заговорил с новых ценах на бормотуху. Кажется, еще одним врагом меньше. Осталось помириться с Витей-дворником и можно ждать медали за мир и дружбу. Но дворника пока не видно, он уже или отмел свое, или еще не начинал. А может, и ушел на пенсию. По инвалидности, которую ему обеспечил хирург Малышев. Пожалуй, сейчас он бы подошел к дворнику и спросил, как дела, причем, спокойненько, без всякой издевки. Если по-мужски, то можно ему простить лепнину на малышевской двери в тот вечер — мало ли что бывает по пьянке?
Не спеша пошел по своему маршруту, сразу ощущая — не то-о, э-эх, совсем не то! Ни вдоха тебе, ни выдоха, скукота. «Под контролем врача». Шла бы она рядом, может быть, и дышалось бы лучше.
Сыроедением, что ли, заняться? Еще в палате, когда он вслух пожалел, что вот теперь не будет бегать, набирать очки, Телятников заметил: «Мало двигаемся, это плохо, но много ли мы чувствуем и думаем? Гиподинамия наш бич, но почему недомыслие никого не тревожит, ничему не грозит?» Он отвергает сыроедение, голодание, вегетарианство. Если жареный цыпленок не может сделать твою жизнь содержательной, то как это сделает сырая свекла? Зачем человеку особый режим по изъятию малых радостей? Для чего твоя, и без того убогая, жизнь должна быть еще и длинной? Безнравственно тянуть-растягивать свои годы, придавая им необоснованно большое значение.
Прошел пешком весь маршрут, на секундомер так и не глянул — зачем? Вернулся домой, прикинул дела на день. Алла Павловна в поликлинике будет с четырех, а до четырех он сможет зайти в свое отделение, допустим, часам к двенадцати, есть еще свободное время, чем его заполнить? Сел за свой стол в гостиной, включил магнитофон с английской речью, послушал, выключил — скука. Отворил окно, закурил. Хорошо, что можно покурить, а то бы совсем хана. Утро прохладное, пока не жарко, тянет в окно свежестью. В следующее воскресенье надо бы съездить на рыбалку…
Послышались очень знакомые звуки, сразу его встревожившие, как вой сирены. Он выглянул в окно — и отшатнулся назад. Прикрыл створки и сел подальше, чувствуя, как застучало сердце и во рту стало сухо. Их было шестеро, четыре бабы в серых халатах, парень лет восемнадцати, видно, студент, и уже знакомый Малышеву персонаж. Они шли как косари в ряд, с новыми метлами из длинного желтого чия, и махали дружно, раззудись, плечо, размахнись, рука, и пылили они в шесть раз гуще и выше. Правофланговым шел Витя-дворник, живой, здоровый и невредимый. Это был обещанный горсоветом прогрессивный бригадный метод. Спрятался Малышев не от пыли, а от позора своего поражения. Докурил сигарету спокойно. Приказал себе не обращать внимания, пусть их будет не шесть, а шестьдесят шесть, ему до лампочки. И давление у него не подскочило, он уверен. А если подскочит, завтра он выйдет с ружьем и с шестью патронами…
Алла Павловна могла бы и позвонить, справиться, как там ее пациент. Она поставила бы ему пятерку за поведение. Перед стрессом он незыблем как скала.
А патроны лучше бы зарядить солью.
Ладно, хватит дурить, хватит курить, пора выходить из дома. Надел белую сорочку, галстук в полоску, самый эффектный свой синий костюм, черные туфли — пижон пижоном, будто из отпуска возвращается, из загранпоездки. Между жизнью и смертью тоже граница, между прочим, оттуда он и приехал.
Вот и его больница. Малышев присмотрелся, сравнивая ее с областной — двор поменьше, пыльный газон, желтая листва скопилась в сухом арыке, и фонтана нет, в общем, труба пониже, дым пожиже. Надо взбодрить Керееву на воскресник по благоустройству, деревья подбелить, клумбы почистить.
Он вошел в свое отделение, по-хозяйски распахнув двери, в ожидании радостной встречи с персоналом, и едва переступил порог, как перед ним словно из-под земли возник худой, тощий старик в одном нижнем белье.
— Куда без халата?! — с ненавистью, злобно сказал он Малышеву.
— Сейчас надену. — Малышев с усмешкой попытался обойти старика.
— А я тебе говорю, куда! — вскричал больной. — Здесь хирургия, без халата нельзя! — С маниакальной настырностью он встал перед Малышевым и даже руки растопырил, будто курицу собрался ловить, лицо серое, все из морщин и складок. — Заразу тут разносят всякие, понимаешь ли!
Появился на шум другой больной, подобострастно поздоровался с Малышевым, потянул старика за рукав и, когда Малышев прошел, за спиной его пошло объяснение — ты на кого напал? и прочее, но старик, не сдаваясь, продолжал вопрошать: «Ну и что?.. Тем паче», — раза три повторил свою «пачу». Очень похож на Витю-дворника, но чем, сразу не скажешь, — слепой озлобленностью, что ли, какой-то личной ненавистью, будто Малышев корову у него увел или хату его спалил. Непонятно и, тем паче, необъяснимо, чего набросился? Или у Малышева такой уж здоровый вид, что можно на него орать, кому вздумается? Не подпускать к больнице «тем паче»? Шир-рокая демократия. Слабода слова. И вразумить нельзя. Без лечения его не выдворишь, прогрессивки — тем паче — не лишишь, ни с какого боку хама не урезонишь, одна для него подходящая мера — порка на конюшне, так ведь упразднили давно.
Быстро, почти бегом направилась к нему дежурная сестра Наташа, приглушенно, зная, что Малышев не любит в коридоре шума, сказала:
— Здра-авствуйте, Сергей Иванович, с выходом вас!
Он хотел было сразу пройти в ординаторскую, но передумал, надо успокоиться прежде, а то сорвет зло на ком-нибудь из-за пустяка. Попросил сестру открыть его кабинет, она сбегала за ключом.
— Кто этот старик, интересно, в первой палате, без меня поступил? Дворник?
— Почему дворник? — Наташа улыбнулась, как шутке. — На комбинате работает, Филимонов, с опухолью. А кем работает, я сейчас посмотрю.
— Потом, Наташа, не срочно.
Сестра ушла, он сел за стол, ощутил пульс в виске. Хамло, черт возьми, и ведь прав, нельзя без халата, но что за манера? Делает замечание, притом справедливое, но таким вонючим тоном, что сначала хочется ему в рожу плюнуть, а потом уже принять к сведению. Вцепился аки пес в онучу — за что?
Увидел чистый халат на плечиках, накрахмаленный колпак — его здесь ждут. Посмотрел на рыбок в аквариуме — чистая вода, следят. На столе порядок, молодцы, спасибо. Возле аквариума «живое дерево» в аккуратном бочонке, на стене портреты Пирогова, Склифосовского, Бурденко. Так было в кабинете профессора, его учителя, — и аквариум, и корифеи, и еще полка позади стола с книгами, с хирургическим атласом и журналами. Хорошо у него здесь, все под рукой — пепельница хрустальная, календарь, авторучки, фонендоскоп. Уютно, прохладно, чисто. Только вот муха пленная на окне жужжит. Он открыл окно. Закурил, постоял…
А ведь мог бы и не вернуться сюда. Могли бы уже девять дней справить. И уже кого-то искали бы на твое место. Сам ты о замене не позаботился, не видел нужды. А теперь? Однако вернулся — и хватит.
Хорошо, что пришла Данилова. Дело не в самом факте, а в том, что она оказалась лучше, чем ему думалось. Примирение его радует, хотя опять же не в примирении дело. Истина, говорят, познается в борьбе, в противоречиях, но почему не в дружеском согласии? Не хватит ли ему борьбы и противоречий? Важно правильно думать о людях, оценивать их без предвзятости. Человека без репутации не бывает. Ты сам в числе прочих создаешь ее, иногда опрометчиво.
Муха исчезла, в аквариуме плеснулась рыбка, словно приветствуя хозяина. Плохое все-таки слово «хозяин». Однако так говорят, собственническая лексика почему-то неистребима. Он здесь обитатель, как рыбка в аквариуме, только не сознает, что находится под надзором — будущее следит за ним, глаза судьбы, и забавным выглядит его смятение от мелочей.
Надел халат, отутюженный, жестковатый и окончательно вернулся к себе, в среду обитания, хотя серый привратник и не хотел его впускать сюда. Неспроста, можно и так подумать. Но он без суеверий. Завтра сразу же операция Леве Киму. Непременно. Обязательно!
И незачем так настойчиво заверять себя, словно к небесам обращаешься за поддержкой. Будто ты в себе не очень уверен. Будто тебя не пустят сюда. Да кто не пустит, что?..
Прислушался к отделению — ни суеты, ни беготни, ни паники в связи с его появлением. Либо всегда готовы встретить грозного шефа, либо вообще решили больше его не встречать.
К Леве Киму зашли вместе с Юрой Григоренко, Лева обрадовался, встал с койки, руки по швам, как солдатик. Он заметно сдал, жалко Малышеву, две недели отсрочки сказались на состоянии Левы, оперировать будет труднее, особенно анестезиологам.
— Как у вас, Сергей Иванович, полный порядок? — Лева улыбается, не верит, что доктор болен, просто так, срочная командировка.
— Порядок, Лева, полный порядок. Врачи заставили принять курс, пришлось подчиниться.
— Значит, завтра? Откроем, посмотрим?
— Завтра, Лева, с утра. Хорошо и спокойно, ты ничего не заметишь.
Лева верит Малышеву, Лева радуется, чему? Тому, что завтра сделают его инвалидом, без одного легкого? Нет, тому, что спасут его от болезни, от больницы, от вздохов родителей.
Когда Малышев вернулся к себе в кабинет, вошла Наташа и сказала, что Филимонов, тот самый, о котором Малышев уже забыл, работает счетоводом-кассиром. Все правильно, он тоже при власти, два раза в месяц садится он в свой дзот и выстреливает из амбразуры то одним хамским словом, то другим, будто зарплату выдает из своего кармана. Удивительная у кассиров манера грубить, прямо-таки профессиональная. Как у жуликов вежливость.
Скоро четыре, пора направить стопы к лечащему врачу, но прежде надо зайти за цветами. Пошел по городу праздный в рабочее время, будто в отпуске. Неожиданно много людей на улице, они что, тоже все на больничном? Впрочем, август — время летних отпусков. Цветами торгуют возле кинотеатра, по пути. Какие взять? Самый сезон, выбирай на свой вкус, а вкус-то и подкачал. Куст бурьяна на старой стене, травка между бетонными плитами на дорожке Малышеву милее, беззащитны они, непритязательны, в цветах же много претензии, вызова. Яркость, чрезмерность, показуха скромного лика земли, некое пижонство флоры. Бульдонежи — это сокращенные бульдожьи нежности. Он не любит цветы — мужик, а она, наверное, любит, и цветам от него обрадуется. Малышев представил, как понесет ей пышный букет через всю поликлинику мимо страждущих, стонущих, ожидающих, в кабинет к ней наверняка очередь, и он будет сидеть с букетом, как дурень со ступой, — нет, так не пойдет, не для него такая процедура. Он подарит ей не цветы, а колечко, да-да, колечко, и не пошло золотое, а скромно серебряное, Данилова ему подсказала в своем отчете о конгрессе в Москве. И направился в галантерею.
— А какой размер? — спросила продавщица в платье с кружевным воротничком, как школьница.
Вон как, у них еще и размеры есть.
— Примерно, как на вашем пальце.
— Семнадцать с половиной — восемнадцать.
Он выбрал колечко с голубым камнем — под цвет глаз. А может быть, надо под цвет платья? Или под цвет волос? Нет, раз уж он выбрал такое, пусть она подгоняет все остальное под его цвет.
— Какой это камень?
— Бирюза.
Прекрасно, и коробочка ему понравилась, этакий сельский домик под соломенной крышей. Он вручит ей колечко и скажет, чтобы она не снимала его ни дома, ни на работе, ни в гостях. Посмотрел на часы — половина пятого, сейчас у нее разгар приема, придется ждать очереди, а потом в кабинете даже и не поговоришь, торопит очередь в коридоре. Надо иначе, он придет к самому концу, к семи часам, последним пациентом, а до семи… Чокнуться можно за два с лишним часа ничегонеделания. Инфаркты, кризы, раки бывают не только от напряжения, от непосильного ритма гонки, но и от непосильной скуки.
Пошел в кинотеатр «Сары-Арка», встал в очередь за билетами, кругом молодежь, он прятал глаза в газету, как Чинибеков, хотя стояли не только молодые, впереди него пара лет по сорока, мужчина в вельветовом пиджаке с блекло-зеленоватым отливом, с круглой плешью на темени и с самоуверенным лицом приезжего, на комбинат часто командируют из главка, из министерства, да и центральная пресса не обходит его вниманием. В Москве легко отличить приезжих от столичных — по их неуверенности и пристальному ко всему вниманию; в провинции тоже легко отличить столичных от местных — по их уверенности и полному пренебрежению к окружающим. Рядом с вельветовым стояла молодая хрупкая женщина с сумкой на ремне, явно местная, с постоянной, будто приклеенной улыбкой, не женской, вымученной, этикетной. Ответственный, видать, товарищ, и она от него зависит. Малышев от нечего делать не только замечал больше, но и больше брюзжал. Бывает, приедет сюда москвич, неделю водишь, возишь его туда-сюда, выпьешь-закусишь не один раз, другом он тебе станет закадычным, а приедешь через полгода в Москву, зайдешь к нему в кабинет — не узнает. И не прикидывается слабым на голову, нет, он и в самом деле тебя забыл, кто ты и откуда. Ты его в тысячной толпе разглядишь, а он тебя в упор не видит, — в чем тут дело? Наверное, в том, что ты ему не нужен, — провинция. Он тебе тоже, в общем-то, не так уж и нужен, но — столица, некая магия, неосознанная зависимость.
Шел фильм «Троих надо убрать», французский, в главной роли Ален Делон, в годах уже, но все еще, а может и более прежнего, симпатичный, обаятельный. В итальянском кино, на взгляд Малышева, все мужчины так себе, больше ерники, хотя в прошлом римляне и красавцы, воины и мудрецы, — выродились, вероятно, хотя хвалят их не нахвалятся, а вот во французском кино все мужчины поголовно отменные — и Жан Габен, и Жан Марэ, и Бельмондо, и Ален Делон.
Расселись, Малышеву неловко сидеть среди бела дня, кто-то пропадает, истекает кровью, с жизнью, может быть, прощается, а он в кино сидит сложа руки. Глупо так думать, суетно, тем не менее ощущение такое у него есть. Вспомнил, как однажды в театре — приезжал на гастроли московский «Современник» — сидели они втроем, он, жена и дочь, шел спектакль и вдруг занавес посреди действия, выходит администратор и — «Хирург Малышев Сергей Иванович, вас просят срочно в больницу, машина у подъезда. Хирург Малышев?» В зале включили свет, он поднялся и быстро пошел к выходу. Марина и Катерина — за ним, как будто они втроем оперируют. Кто-то захлопал, потом еще и еще, из зала он вышел под дружные аплодисменты, как футболист после красивого гола. Но зачем нужно было вставать Марине и Катерине? Показательно…
Вельветовый с плешью и дама с улыбкой оказались рядом, свет, наконец, погас, Малышев, довольный тем, что в темноте растворился, вытянул ноги под переднее сиденье и предался разврату. Сразу же интригующее начало — военный самолет, солдаты подвешивают ракеты, выстрел, огненный шар летит, но не прямо, как ему положено, не как снаряд из пушки, а ломаной кривой, хищно преследуя самолет, лавируя вслед за ним, самолет в сторону и шар в сторону, и по настигающей, — черт знает что, неужели есть такие ракеты? Как стервятник за жалким кроликом, — и догнал! Взрыв, огонь, черный клуб дыма и кувырком обломки. Потом появились люди, дельцы, воротилы, негодяи, как водится, всех мастей, убийцы, и Ален Делон начинает с ними борьбу за справедливость — преследования, стрельба, Париж, Трувиль, непохожие на наши автомобили, непохожие на наши квартиры, — все цветное и незнакомое, как сон, занятно все и, надо сказать, убедительно. Малышев увлекся, забылся, и все было бы отлично, если бы не сосед тот самый, вельветовый. Он то и дело громко гмыкал и лающе посмеивался, показывая свою реакцию спутнице, дескать, какая чушь, какой наив, стреляют, убивают, пугают, а ему не страшно, ему смешно, ибо у него хороший вкус. Что ни выстрел, то рядом смешок ернический.
— Не мешайте смотреть! — внятно сказал ему Малышев.
— Да тут и смотреть нечего, — вполголоса, интеллигентно оправдался плешивый.
— Тогда уходите отсюда! — Малышев даже ноги подобрал, дорогу ему освободил. Тот гмыкнул и глянул на спутницу, ища поддержки, она смотрела на экран, улыбка ее стала еще более терпящей. На голоса обернулись девицы впереди, призвали к порядку, можно спокойно смотреть дальше, но плешивый не унимался, теперь он изводил Малышева молча, одними жестами, то вперед подастся, то назад откинется, то рукой этак выразительно поведет, то вздохнет надсадно, всеми телодвижениями словно бы вопрошая: ну не чушь ли, не глупость ли несусветная?! Малышев терпел, не станешь же соседа связывать по рукам по ногам, терпел, крепился, и когда Ален Делон схватил рыжего злодея за волосы и выбил тому мозги выстрелом, Малышеву очень захотелось, чтобы следующим выстрелом он продырявил интеллектуальную плешь соседу, — не пожалел бы ничуть! Но Алену Делону было не до плешивого, ему самому грозили крупные неприятности, и у Малышева оставалась одна надежда — на спутницу, вот-вот она уберет свою прокисшую улыбку и врежет соседу между глаз, поскольку Ален Делон ей очень нравится. Кончился фильм, зажегся свет, пошли к выходу сонно и не спеша, без давки, молча, и только вельветовый не унимался, право голоса получил, гнул-догибал свое:
— «Литгазета» уже писала по этой киношке, критиковала за пошлость, бездуховность и вредность, особенно для молодежи, я читал…
Мог бы говорить потише, нет, он вещает на публику, ждет отзыва. «Не читай, дураку грамота вредна», — хотел сказать Малышев, обернулся, спутница того сняла, наконец, улыбку, устала и вот-вот погонит зануду, глянула она на Малышева с опаской — что он выкинет? А он свойски подмигнул ей, хулиган, вертопрах, и на том успокоился.
На улице стало прохладно, время к вечеру, Малышев вздохнул свободнее. Хочешь не хочешь, пришлось отметить, что он стал ко всему цепляться. Застревает в конфликтной ситуации, либо сам же ее создает. Возраст? Ерунда, оптимальный у него возраст, в сорок пять как раз все должно быть в ажуре, юношеские порывы укрощены, а старческая дряхлость еще не брезжит, самая середина золотая, ничем не отягощенная. Полагалось бы ему равновесие, а его нет. Нервозность может быть от гипертонии, от многих других причин и ни от чего, просто так. Почему-то все больше стало возникать поводов для недовольства, досады, злости. Куда ни глянь, куда ни кинь, везде что-то не по душе, и не только одному ему, но, кажется, всем другим тоже. Какой-то спад, остывание, обветшание. «Поражает новизна зла», — сказал как-то Телятников. Какая-такая новизна, наоборот, дряхлость зла, застойность. И не поражает, а возмущает всеохватность застоя, одряхление, усталость. И оттого готовность номер один идти на конфликт, дай только повод, а повода и просить не надо, вот он, плешь в вельвете, та искра, которая падает на сухой порох, и новизна тут не обязательна, любая искра годится, старая, новая, хоть от кресала, хоть от лазера. «Надо держаться». Надо-то надо, да вот зачем?..
В поликлинике он прошел мимо зеркала в холле и, не останавливаясь, увидел себя вполне здорового, даже элегантного, почти как Борис Зиновьев, отнюдь не помятого больничным пребыванием, одним словом, такого, каким ему хотелось предстать сейчас перед Аллой Павловной. Возле ее кабинета пустые стулья, он приоткрыл дверь — она сидела за столом в халате, без колпака, перед кипой амбулаторных карт, озабоченно что-то писала.
— А я уже хотела вам домой звонить. Как давление? — И взялась за тонометр.
Он снял пиджак, видя себя снизу, с ее точки зрения, рослый здоровый мужчина в хорошей сорочке, в обтянутых брюках (а ведь раньше было наплевать на одежду), отстегнул запонку, чуть помедлил и… снова застегнул. Надел пиджак и сел за стол перед Аллой Павловной, не на стул для пациентов, а на место сестры перед картонным ящиком с диспансерными карточками.
— Хватит прикидываться, давление у меня нормальное, разве не видите?
— Совсем измерять не будете? — звонко спросила она, как будто даже обрадованная его шалостью.
— Совсем не буду, всю оставшуюся жизнь.
Она повертела шариковую ручку в пальцах, с тупого конца на острый и обратно, заполняя таким движением паузу, спросила:
— А что мне записать?
— Запишите сто двадцать на восемьдесят. Или, если вы такая добросовестная, пишите, что пациент отказался измерять давление да еще, нахал, грубиян, намерен говорить врачу комплименты.
Она повела бровью, дескать, послушаем, что за комплименты, что-то все-таки записала, а он смотрел на ее лицо, молодое, ему казалось, лицо, лет восемнадцать ей, а ему двадцать три, как тогда, много лет назад, так много, что… целая жизнь прошла. Где она жила эти годы? Двое детей уже, а осталась такой же. Темный румянец, губы четкие, пушистые брови, вся какая-то цельная, собранная на своих дочерях да на своей загадочной терапии.
— Закрывайте больничный, Алла Павловна.
— Что это вы разошлись, Сергей Иванович? Врачу виднее. Погуляли два дня, и вас уже не узнать. Вам так трудно зайти сюда?
— Не трудно, если на правах здорового.
— Вот и отлично, милости прошу через три дня. А сейчас не закрою.
— Тогда позвольте вас проводить? В отместку.
— Попробуйте.
Пошли. Вечер уже, прохлада. Час пик спал, им легко, просторно идти по улице, все люди навстречу добрые, изумительные люди, — будьте счастливы, пусть вам будет вот так же легко и хорошо, вот как нам. Идут вдвоем, слегка смущенные, словно десятиклассники, впору задать вопрос, глядя на них: а если это любовь? Он видит встречных прохожих, а она нет, будто парит над всеми и осознает только его присутствие рядом.
Кафе «Космос», у входа пять-шесть ожидающих, молодежь.
— Может быть, зайдем? — предложил он. — Посидим?
— Поздно, Сережа Малышев, — она улыбнулась чуть грустно. — Наши места заняты. Идемте лучше ко мне, там и посидим.
Шли-шли, не спеша (где его обещанные комплименты?), свернули за угол, длинный дом, прошли под высокой аркой, и тут навстречу галопом мохнатый пудель, болтая ушами, за ним, шлепая подошвами, девчонка в коротком платье, будто привязанная к пуделю, мгновенно остановилась столбиком, звонко выстрелила:
— Здрасьте! — Сверкнула белозубо улыбкой, быстро, дядю осмотрела с головы до ног и прижалась к матери. Пудель вернулся, запрыгал возле них, поскуливая, девочка взяла его на руки. — А я колготки надела, которые Лиза прислала.
— Жарко же!
— Ну что ты, мама, я немного поношу и сниму. До свидания! — спустила пуделя на асфальт, и опять побежали.
— Это моя Алена.
— Я догадался. Милая девочка.
Алла Павловна покраснела.
— Лизавета прислала ей вчера конфет и колготки. Первый самостоятельный шаг моей старшей, я ее не просила. — Ей было приятно сказать об этом.
А Катерина сделала бы такой шаг? Вряд ли. Впрочем, он не знает, на что способна его дочь. И виноват сам. Хотя помнит о ней всегда, сравнивает и всегда требует от нее лучшего. Замуж она не хочет, во всяком случае, на словах, она в институт рвется. Ему вдруг стало жалко свою дочь. И себя тоже…
Вошли в квартиру.
— Надо разуться? — спросил он и поднял ногу, берясь за шнурки.
— Терпеть не могу! В одних носках, что за мужчина?! — Взяла его за руку, провела в комнату, он сразу обратил внимание на портрет в рамке, догадался — муж, хотел мимо пройти, но подумал вдруг: «Вот так и мимо меня пройдут». Но почему мимо тебя, если ты жив, а он мертв? Ни с того, ни с сего какая-то одинаковость возникла в сознании, он остановился перед портретом.
— Это муж?
— Да. Родионов.
Удлиненное лицо, легкая улыбка, отчаянные глаза, волосы густой прядью вверх ото лба и затем полукругом вниз, к уху. Можешь смотреть, можешь не смотреть, а они сейчас будто втроем.
— Выразительное лицо. И кажется, знакомое.
Она ничего не сказала, помолчала, показала на кресло:
— Садитесь, Сергей Иванович. Чаю вам или кофе?
— Все равно, Алла Павловна, что себе, то и мне.
Знать бы, что она испытывает, спустя годы, после смерти мужа. И что будет Марина испытывать…
Он знал историю с Родионовым, да и кто ее не знал в городе? Из заключения вернулся уголовник по кличке Рига. Его судили за грабеж, в разоблачении и задержании его принимал участие отряд ДНД комбината, начальником отряда был Родионов, инженер-механик. Дали Риге восемь лет, а он вернулся через три, как уж он так быстро исправился, остается на совести начальства исправительно-трудовой колонии. Вернулся якобы к жене и поселился где-то на окраине города, в Самострое. Мало того, что вернулся, не отсидев, он еще и начал действовать в прежнем духе, даже еще опаснее — создал шайку, нашел себе подручного «пацана», боксера восемнадцати лет, который сбежал из дому, чтобы не идти в армию. Этот «пацан» (не по возрасту, а так сказать, по блатному сословию) тиранил ПТУ, забирал у ребят половину зарплаты, держал в трепете молодую смену, тварь была жестокая и опасная. Опять Родионов взялся за это дело. Дружинники выследили и арестовали «пацана», вышли на след самого Риги, долго, надо сказать, следили, месяца два, искали, нашли его логово, окружили дом вечером, а Рига открыл стрельбу из ружья и заявил, что застрелит свою жену, если ему не дадут возможности свободно покинуть город. Приехал наряд милиции, вращалась мигалка на крыше машины, гремели выстрелы в тиши летнего вечера, истошно кричала в избе женщина, а в перерывах уголовник нагло диктовал городу свои условия. Родионов пошел в избу сам и, как стали говорить потом, взял огонь на себя. От смерти на месте Ригу спасла милиция, а суд приговорил к расстрелу…
— Кстати, а кофе вы много пьете? — Она и здесь, кажется, не забывает об анамнезе.
— Нет, только утром чашку. А закурить после кофе можно?
— Конечно, — сказала она ласково, зная, что доставит ему удовольствие. — Вот вам пепельница.
Если бы они поменялись местами, он бы ей курить не позволил. Почему он такой? Запрещает, требует, гнетет-угнетает — пусть сейчас будет трудно, чтобы потом было легче. Но будет ли это «потом», вот вопрос!..
Она ушла на кухню, а он сел в кресло и стал оглядывать комнату, довольно просторную, темную стенку с бронзовыми ручками и накладками, узкий стол, видимо, раздвижной, ваза на нем и цветы. Они напомнили о колечке, он вытащил маленький сельский домик и зажал в руке, чтобы не забыть. Все-таки странно, что у нее дочь, даже две дочери, и уже зять есть, значит, скоро она бабушкой станет. Не верится. Почему-то кажется, она одна-одинешенька и не была замужем. Как-то так себя сохранила, будто в оцеплении прожила.
Она вошла, переставила цветы, легко передвинула стол к дивану, Малышев даже помочь не успел, только дернулся, потерял равновесие и сел обратно.
— Чуть не забыл, — сказал он и подал ей теплый домик.
Оно раскрыла.
— Колечко? — Глаза ее заблестели. Она вертела кольцо в руках, любовалась камешком, вкладывала обратно в коробочку, вынимала и почему-то не решалась надеть.
— Да вы примерьте! — скомандовал он. — Семнадцать с половиной-восемнадцать, ваш размер.
Легонько поворачивая, она надела кольцо на палец — как раз, полюбовалась коротко, посмотрела на Малышева смятенно, на носу появились мелкие морщинки, губы дрогнули, но она не отвернулась и не опустила взгляда, сказать что-то хотела, а может быть, наоборот, услышать.
— Серебро очищает, — сказал Малышев, лишь бы не молчать. — Хочу, чтобы вы меня помнили.
Она рассмеялась.
— А я и так помню. — И опять ушла на кухню, за кофе или за чаем. Без халата она стройнее. Старшая сестра Макен за ней не следит, только свой халат ушивает и подгоняет.
Сели пить чай, она сказала:
— Я так рада за Лизавету! Лишь бы войны не было, муж у нее офицер. Вот прислала бандероль, конфеты и Алене колготки. — Она была счастлива, повторялась, делилась с ним, как с подругой, а не как с мужчиной. Которого следовало бы приворожить.
— Хорошо у вас.
— Я рада. Мне так хотелось.
Она смелее его, открытее. «Настоящие мужчины — это женщины».
— Столько лет мы живем в одном городе, а я не знал о вас ничего.
У него тоже смелость — в бестактности.
— А я про вас все знала. Относительно все, конечно.
— Тем более странно.
— Как сейчас говорят, жила без обратной связи.
Откуда она знала о нем, из каких источников?
Молчали довольно долго. Губы ее подрагивали, она еле удерживала их от улыбки, или вертелось на языке что-то смешное, и она ждала момента сказать.
— Мне кажется, мы думаем сейчас об одном и том же, — предположил он, хотя сам ни о чем не думал.
Она посерьезнела, губы успокоились, стала вертеть в руках бумажку от конфеты, сгибала, разгибала, разглаживала в пальцах, ждала, что он уточнит, о чем же таком особенном они думают вместе, не дождалась.
— Я подумала, может быть, мне лучше уехать?
— От меня сбежать? — Он усмехнулся. — Все равно найду.
— А зачем?
— С лечащим врачом спокойнее.
— Пациентов у меня достаточно и в больнице. — Она его игру не приняла, обиделась.
— Ладно, Алла, больше не буду.
— А я буду. Не говорить, но… думать, помнить. Не запрещается, правда же?
Ходит она по краю, на острие, и его водит. Сейчас у них у обоих давление двести, как минимум, но кризы им не грозят. Ему легко и отрадно от нечаянных ее признаний. Он закурил, не глядя на нее, уставясь в пол задумчиво. Еще на три дня она продлила ему больничный. Она не хочет освобождать себя от заботы о нем, но разве сама она не нуждается в его заботе? Нуждается, но кто ему даст право такое? Никто. Только сам ты его можешь взять, но как? Отвернувшись от своей семьи. И она все понимает: «Может быть, мне лучше уехать?» И если не забыть, то хотя бы не видеть, знать, что он далеко.
Нет, он ее не отпустит. Теперь не отпустит. Он должен уйти.
Почему «должен»? Уйти он всего лишь «может», а «должен» остаться. В семье. Не зря же подумал «уйти» вместо «прийти».
Нужна очень уважительная причина, чтобы снять с него долг и дать ему право. Может ли криз стать причиной, лишить долга и дать право? Нет, брат, он как раз показатель твоего бесправия, знак бессилия что-либо изменить. Терпи дальше, дождешься второго криза и тогда будет в два раза больше резона принять решение. Какое? Он не знает. «Если бы мужик не терпел, а сразу лопался от беды, как чугун, тогда бы и власть хорошая была». Какой мужик имеется в виду — муж? Да и муж в числе прочих, поскольку он под властью семьи. Брак — это связанность, привязанность, семейные узы. Но брак условен, бывает долгим и коротким, верным — неверным, счастливым — несчастливым; даже незаконный брак — тоже власть: мы отвечаем за тех, кого приручаем.
А предательство безусловно и только под знаком падения.
Но ты уже сам предан — твоими артериями, сосудами, твоим сердцем!.. Предан, но остаешься верен жене, дочери, семье, тобой созданной, тобой охраняемой, опекаемой. Ты верен двадцати годам, совместно прожитым, верен чужим надеждам. Хотя и своим тоже. Верен времени, жене, работе и государству, — без награды и даже без мысли о чем-то подобном.
А может быть, криз твой и есть награда?
Награда — это оценка, а криз просто итог чего-то и положительно его никак не оценишь. Тем не менее, чем больше у него будет кризов, тем большей станет необходимость выйти из подчинения, стать неподвластным…
Пришла с улицы Алена, пудель ринулся обнюхивать Малышева, прыгал, болтал, ушами, балдел, на зависть беспечный, резвый. Алена бегала за ним, ловила, тискала, вынуждала пса лаять и огрызаться.
— А вы когда к нам придете? — спросила Алена, когда Малышев уже стоял у двери. Милая такая девочка, ясноглазая, белозубая, не сознает своего обаяния, того, что ребенку нельзя отказывать, если он так просит.
— Скоро, — пообещал Малышев, — скоро приду, Алена. — Погладил ее легонько по волосам, а она приникла к его руке, приняла его жест, терпеливо смотрела исподлобья, пока он гладил, и тут же, едва он убрал руку, тряхнула головой, как бы освобождаясь от его прикасаний, сверкнула улыбкой и поднесла ему пуделя, чтобы он и с ним попрощался.
А Катерина собак не любит, у нее аллергия, и погладить ее по голове нельзя, отстранится резко — «папуля, несовременно!»
Алла Павловна вышла его проводить, он думал, за порог, — нет, прошли вместе под аркой, а потом до угла длинного дома и опять по улице. Темно уже, поздно, фонари на столбах и автомобильные фары напомнили ему тревожный сон с трассами света, с гонкой. Сейчас огни спокойные и отчетливые, они его не оттолкнули, мало того, он будто укротил их, подчинил себе… Потом он проводил ее обратно до арки, распрощались.
— Можно мне опять до угла? — спросила она и как-то жалко, не по-своему улыбнулась. Дошли до угла, показалось такси с зеленым глазком, она кивнула Малышеву, мол, останавливай, он только пожал плечами — зачем? Успею. Снова пошли обратно к арке и так, наверное, раза четыре. Потом она быстро ушла, словно торопясь унести какое-то свое опрометчивое решение. А может быть, все ждала-ждала каких-то его слов? Нет, не надо подозревать ее в такой уж практичности, нет, она другая. Загадочная, как ее терапия. Но он теперь знает ее дом и семью, представить может, куда она возвращается после работы, где и с кем проводит свои вечера. Она скрылась, а он еще постоял в темноте, в тишине, посмотрел на край неба, срезанный полукружием арки, — и тоска его одолела, сознание и неправоты своей и бесправия своего, беспомощности, и жалость к ней, и сострадание.
Но больше, почему-то, к себе. Счастья ему хотелось — себе, ей, всем-всем другим — только счастья. Но на свете счастья нет, как ты слышал, а есть покой и воля. «Покоя нет, покой нам только снится». А вот счастье, хоть проблеском, да бывает.
11
В больницу он пошел пешком — вот и все на сей день, что осталось от его аэробики. Бригаду с Витей-дворником не встретил, с Чинибековым пришлось поздороваться, однако настроение не омрачилось, явился он в отделение ровным, спокойным, в готовности номер один — сегодня операция Леве Киму. Все хорошо.
А что плохо?..
Посмотрел книги по хирургии легких, полистал атлас.
В предоперационной тишина и сосредоточенность. И строгость как перед наивысшим смотром. Сестра хирургическая уже вымыла руки и оделась в стерильное, теперь моются Юра Григоренко, хирург-ординатор Галиева и сам Малышев. Мытье рук по Спасокукоцкому, привычные запахи нашатырного спирта, мыла. Прибытие сил от возвращения на круги своя. Журчит вода, жестко шуршат щетки, ни анекдотов пока, ни шуток, собранность. Данилова доложила, какой будет наркоз, попутно спросила о его самочувствии, она очень внимательна, — все хорошо, одним словом. А что плохо?..
Легкая тошнота бывала у него и прежде в моменты волнения, это естественно, норма, а не патология, можно было бы обойтись и без больницы. Попусту провел там время, столько дней отделение оставалось без него. Имеет смысл, правда, появление Аллы Павловны, а остальное… Ну еще, может быть, Телятников ему не во вред, беседы с ним, а остальное… Ну еще и на больных посмотрел не сверху, а вровень… Нет, немало ему дала госпитализация, что говорить.
— Юра, напомни нам весь ход операции от кожного разреза до последнего шва.
— Пожалуйста, Сергей Иванович. — Юра четкой скороговоркой начал перечислять…
— Спасибо, Юра, все хорошо.
А что плохо? Плохо то, что поташнивает и не меньше, а больше. Ну так что, снова откладывать? А Лева Ким пусть загибается?
— Юра, скажи, пусть пригласят на операцию Сакена Муханова. Малышев просит лично.
Он не смотрел на Юру, но видел, как тот выпрямился над раковиной и глянул на Малышева сложно — недоуменно, несогласно, с обидой. Однако прошел к двери, держа обе руки кистями вверх, будто новые протезы, толкнул ногой дверь и сказал:
— Позвоните Сакену Мухановичу и попросите его приехать на операцию. По личной просьбе Сергея Ивановича. — И вернулся обратно к раковине.
Сам Малышев просить Сакена Муханова не может, Юра это знает, и вообще, если по уму, просить надо было не сейчас, а еще вчера. Но понял ли Юра, что шеф его боится рухнуть на стол во время операции? Лева Ким тогда останется вроде бы без хирурга, и потому на всякий аварийный — Сакен Муханович. Как будто ассистенты Малышева — беспомощные салаги. Однако Юра — ни слова.
— Чем больше будет специалистов, тем лучше, — пробурчал Малышев. — А вам я верю.
Сакен Муханов — главный хирург области, доцент кафедры мединститута. К помощи его Малышев старался не прибегать без крайней нужды, да и при нужде тоже. Он не игнорировал главного хирурга, но и не ставил особенно высоко. Они были соперниками не столько по своей воле, сколько по воле пациентов. Тот же Лева Ким по неизвестной причине отказался оперироваться у Муханова. А теперь вот Малышев сам его зовет в помощники. Хотя главный хирург неудачи его комментирует подробнее, чем удачи.
Не звал никогда, а теперь вот позвал. Данилова показала ему пример, как надо ломать гордыню, пресловутую принципиальность.
Со всеми готов помириться-перемириться. Кроме семьи.
Теряет себя, могут сказать, яркость свою утрачивает, а что взамен?
Широту. И не взамен, а как дополнение. Отдает часть своей личности, присовокупляет ее к общему делу всех. Примиряется, потому что противопоставление было ложным — маска, фикция непримиримости. Отбросил мелочи и стало легче, хотя и сдал как будто позиции. Криз как вспышка осветил дорогу, камни, ямы и колдобины, могущие помешать движению.
Позвал Сакена Муханова. А что делать? Врежет ему Чинибеков в затылок над операционным столом, как тогда ночью, — и все. Все не все, но Юре Григоренко с Галиевой придется попотеть, и что получится в итоге для Левы Кима, совсем неизвестно. Все мы знаем, чем операция начинается, но никто не знает, чем она может закончиться. Смерть на посту почетна, если только она не чревата гибелью других людей. Вспомнил, как давно уже был в Алма-Ате на специализации у Сызганова, и взорвалась возле парка машина с двумя солдатами. Ехали они с гор со стороны Медео, тяжелый военный грузовик, отказали тормоза, а дорога под уклон, вся Алма-Ата стоит на уклоне. Машина быстро набирала скорость, умерить ее бег было невозможно; один солдат оставался за рулем, тревожно сигналил, а второй вылез на подножку и кричал: «Дорогу! Авария! Дорогу!..» — кричал изо всех сил и размахивал широко фуражкой, а скорость все больше, ракетой уже летит машина по городской улице, и впереди тупик, парк, и по аллее там идет вереница детей, взявшись за руки, — на взгляд с небес они будто решили остановить машину. У входа в парк, чуть вправо — кряжистый столетний дуб, посаженный еще во времена генерал-губернатора Колпаковского. Солдат вывернул руль чуть вправо, и столетний дуб в три обхвата срезало, как лозу саблей, машина взорвалась и оба солдата погибли. Женщины потом приносили цветы к срезу со следами взрыва, в газету писали пожелания открыть здесь памятник, солдат вспоминали, как героев, ведь они могли бросить машину, выпрыгнуть и сохранить себе жизнь, но они остались в ней до конца. Памятник не открыли, пожелания постепенно заглохли. Возможно, потому не открыли, что будто бы, когда машина набирала разгон, на дорогу вывернул с проспекта Абая нерасторопный «Москвич» с пассажирами, его смяло и отбросило, как консервную банку…
Пусть все-таки придет Сакен Муханов, Малышев просит руку помощи. И сам протягивает руку доверия и взаимовыручки. Во всех отношениях хорошо. А в каком плохо?..
Ладно, к чертям сомнения, хирурги во время операции не умирают, природа тут позаботилась, мобилизует ресурсы и все-таки дает им возможность закончить дело спасения. Хирурги умирают после операции, или до, но не во время оной.
— Анекдот позволите, Сергей Иванович? — искусственным голосом спросил Юра Григоренко.
— Надеюсь, без матерков? — Знает же, что Малышев не любит анекдотов в такой момент, но предлагает. От обиды, видимо.
— Что вы, что вы! К молодому и энергичному хирургу обращается главный врач: доктор, вы уже испортили четыре операционных стола, пожалуйста, режьте не так глубоко!
Галиева рассмеялась, а Малышев нет, Малышев видит — сердится на него Юра, пригласил-де шеф палочку-выручалочку.
Ждать они Сакена не будут, естественно. Начали.
И закончили через три часа десять минут. И за все эти часы и минуты он ни разу не вспомнил ни о Сакене, ни о Чинибекове, ни о своей тошноте, и только когда уже накладывали кожный шов, вспомнил о своем милом докторе, представил, как скажет ей про операцию, несмотря на больничный лист.
— Спасибо, друзья! — сказал он звенящим голосом. Удивительно, что не устал даже. Даниловой особо: — Спасибо, Регина Петровна, все хорошо!
В предоперационной стянул перчатки, снял маску, черный халат, затем белый, взмокший на спине, сестра подала ему чистый и сухой, он влез в него и пружинистой легкой походкой бодрого и здорового человека направился в свой кабинет, к рыбкам и к «живому дереву». Едва он подошел к столу и еще не успел сесть, как зазвонил телефон.
— Малышев слушает.
— Да вы с ума сошли! — закричала на него Алла Павловна. — Кто вам разрешил оперировать?
— Милый доктор, вы так хорошо меня вылечили, что я сразу вошел в график. — Он вернулся с того света и уже сделал трудную операцию, ни о чем большем он и мечтать не мог. А тут еще и звонок ее.
— У вас такой голос, — сказала она спокойнее, — все передает на расстоянии.
— Вы чуткая, Алла Павловна. — Ему так легко сейчас, что можно и поиграть. — Вы подозрительно чуткая.
— Ох, Малышев-Малышев, никакой дисциплины, нуль благоразумия, и он еще подозревает! — Помолчала, спохватилась: — А в чем, кстати сказать, вы меня подозреваете? — Не дала ему ответить, вдруг он что-нибудь такое бухнет, спросила: — Когда придете? У вас еще не закрыт больничный.
— Да хоть сейчас!
— Вы что, серьезно? Может быть, потом, после работы?
— К семи часам буду у вас.
— Сегодня, надеюсь, вы не будете больше оперировать?
— Нет, Алла Павловна, обещаю.
— Ой, смотрите!..
Сакен Муханов так и не приехал на операцию, да и мудрено ему было приехать, если он еще не вернулся из круиза по Средиземному морю, в Италии где-нибудь сувениры собирает, на Везувий смотрит, — раньше надо звонить о помощи, Малышев, а то ведь анекдот получается. Нежданно-негаданно остался город без двух ведущих хирургов, один в кризе, другой в круизе, и не знали о том ни горожане, ни сами хирурги.
Алла Павловна как в воду глядела — привезли пенсионера с ущемленной грыжей, с дачи, боли начались вчера, он терпел, глотал анальгин, пенталгин, — какой пенсионер сейчас без своей аптечки? — ночь не спал, утром соседи пошли к дороге ловить машину, остановили парня на мотоцикле и уговорили его доставить больного в город. Почти сутки ущемления, начался некроз, и Малышеву, конечно же, снова пришлось встать за операционный стол. А потом его пригласила к себе главный врач Кереева, и тут выяснилось, что рано Малышев решил, будто у него нет врагов.
— Впрягаетесь, Сергей Иванович? — встретила его Кереева широкой улыбкой. — Выглядите вы замечательно. Как дома, как семья?
— Все нормально, спасибо, — ответил он вяло, уже порядком уставший.
— Теперь вам надо следить, чтобы поменьше конфликтов. — Она закурила.
— Хотелось бы, — согласился Малышев и тоже закурил.
— Давайте будем советоваться, прежде чем принимать какие-то ответственные решения.
— Давайте…
— Давайте уж меня не подводить.
— Что вы имеете в виду?
— Дело прошлое, но я вынуждена о нем сказать чисто для профилактики. Я в отношении вашей телефонограммы в обком. Это по поводу Даниловой.
Запоздалая профилактика.
— Я действительно поспешил, — сказал Малышев.
— А то мне звонят, знаете ли, говорят, так и так, а я не в курсе. Представьте мое положение руководителя, который не знает, что вытворяют его сотрудники.
«Вытворяют».
— Сейчас я думаю о ней иначе. Мы сегодня вместе оперировали.
Кереева будто не слышала, продолжала накачку:
— Если каждый будет действовать через голову, такой начнется шурум-бурум!
«Каждый»!
— Сейчас, я возражать не буду! — резко сказал Малышев. — Но против путевок буду возражать всегда. Вы обязаны ставить меня в известность, как коммуниста и заведующего отделением, а не химичить что-то там за моей спиной.
— Видите, как вы рассуждаете? А Регине Петровне пришлось забрать свое заявление, — неприязненно сказала Кереева, потом взяла с края стола бумагу с какой-то сопроводиловкой на скрепке: — Что там у вас за история с дворником? Будто вы избили его, справка от судмедэксперта есть, свидетели. Что мне с этим прикажете делать?
У него зашумело в ушах, сразу подступила тошнота, хотел что-то сказать и только махнул рукой.
— Я не верю, конечно, что наш лучший хирург мог себе такое позволить, я порвала бы эту бумагу, — она брезгливо поколыхала листок с сопроводиловкой. — Но ведь народ сейчас знаете какой? В обком написали, в милицию написали, а оттуда по месту работы требуют: разберитесь, дайте характеристику и все такое. Вы хотя бы меня ввели в курс.
Он встал и хотел было уйти, но сдержал себя, снова сел. Она слушала рассеянно, видимо, все уже знала, тем не менее, вставляла сочувственно: «Да они везде так метут», «Ну да, если справка есть, дело заводится…»
— Характеристику мы дадим, Сергей Иванович, кадры свои не позволим компрометировать. Если дело до суда дойдет, я сама пойду общественным защитником. Только прошу вас, ставить меня в известность, не подводите руководство.
Ушел от нее злой — зачем рассказывал, распинался?
Но как же иначе? Вместе работаем, она главный врач и за тебя отвечает.
Около семи часов он позвонил Алле Павловне, сказал, что выходит, она заметила:
— Голос у вас… вы устали, меня не слушаетесь. Жду вас.
Только положил трубку, позвали в приемное отделение срочно — доставили парня, машина сбила, возможно, внутреннее кровотечение (а значит, и операция). Могли обойтись и без Малышева, есть дежурный хирург, но поскольку он еще не ушел… Спустился в приемной покой, — парень лежал на кушетке, скорчившись, глухо стонал. Черноволосый, кудрявый крепыш, кожные покровы бледные. На вопросы не отвечал, мычал бессвязно, был в шоке. Привезла его девушка, худенькая, заплаканная, с раскосыми испуганными глазами.
— Вы видели, как это произошло? — спросил ее Малышев.
— Н-нет, он мне сам сказал.
— Где сказал, на месте происшествия?
— Н-нет, он домой пришел… Еле-еле, — голос ее дрожал. — Он дополз.
Подозрительный наезд, ни одной ссадины и крови не видно, — вряд ли тут «попал под машину». К тому же еще сам до дома добрался. Хотя иногда бывает, даже после смертельного ранения человек еще некоторое время очень активно действует.
— Доктор, а вы можете определить, случайно его машина сбила или он сам?
— Что значит сам?
Девушка всхлипнула, еле выговорила:
— Пытался п-покончить…
Два симметричных кровоподтека в области почек, гематома в области ребер справа и слева, два ребра сломаны, гематома от удара в пах. Не под машину он попал, а под чьи-то жестокие, нацеленные на увечье пинки.
— Успокойтесь, девушка, как вас зовут?
— Жанна.
— Он кем вам приходится, мужем, родственником? Или просто знакомый?
— Мы хотели пожениться, уже подали заявление в загс. — Она говорила с трудом, вся дрожала от пережитого. Сестра подала ей валерьянки и воды.
— Скажите, Жанна, а у него были враги? Может быть, кто-то не хотел, чтобы он на вас женился? Соперник какой-нибудь?
— Нет, что вы! А почему вы так спросили?
— Дело в том, Жанна, что его, по всей вероятности, избили.
Она так и рванулась к Малышеву, схватила его за халат.
— Я так и знала! Я говорила ему, они тебя убьют за эти сто тринадцать тысяч! Теперь я все знаю, это они, плодожорки. — У Жанны глаза высохли, она сжимала кулачки, теперь ей надо мстить за Алика.
— Расскажите подробнее, как он к вам пришел, что сказал?
— Пришел не он, пришла соседка…
Пришла соседка и говорит Жанне: «Выйди, там твой жених пьяный на ступеньках валяется». — «Он не пьет!» — сразу закричала Жанна сорванным голосом, не только голос, у нее сердце оборвалось — он не может быть пьяным, значит?.. Она сбежала по ступенькам, Алик лежал внизу, согнувшись, прижимая к животу сумку с продуктами, и стонал. Тогда он еще был в сознании, сказал ей, что попал под машину, он даже еще подняться смог на ноги, Жанна вместе с соседкой привели его в квартиру, здесь он уже свалился, вызвали «скорую», он начал бредить, все просил: «Дай мне, Жанна, ракету». — «Какую ракету, Алик?» — «Средней дальности», — зубами скрипел, несколько раз произнес слово «плодожорки». Приехала «скорая», первый вопрос — пьяный? Потому что крови не было и только когда рубашку задрали, увидели на спине следы тупого удара, так и подумали, что машина.
— Теперь мне все ясно, доктор! — Жанна не выпускала из рук халат Малышева. — Он отказался подписать большую растрату! Мой Алик честный и очень смелый, он их не боялся вот ни сколечки! Они ему отплатили, они требовали, чтобы он поджег магазин, но он отказался, вот они и решили его убить! — Жанна была в отчаянии. — Спасите его, доктор!
Убить не убили, но избили зверски и даже хуже, зверь кусает и рвет, как попало, а здесь калечили продуманно, по-человечески били, сволочи, чтобы инвалидом сделать, — по почкам, по печени и еще в пах, мошонка распухла и стала багрово-синей. Сестра сделала Алику укол, он перестал стонать, нянечка осторожно его переодела, положили Алика на каталку и повезли. Жанна хотела пойти за ним, но Малышев попросил ее остаться здесь и позвонил в милицию — так и так, большая растрата, магазин хотят сжечь, в больницу поступил избитый продавец, срочно примите меры. Дежурный заверил его, что немедленно выезжает наряд и в гастроном 7/13 и в горбольницу, пусть свидетельница дождется.
— Дайте мне халат, — требовала Жанна. — Я пойду его охранять. Очень вас прошу, дайте мне халат. — Как будто халатом она убережет Алика от этой нечисти.
Вскоре прибыла милиция, но прежде чем она прибыла, Малышеву пришлось крупно поговорить с Юрой Григоренко. Он попросил Юру поскорее, до приезда милиции, заполнить историю болезни, на что Юра ответил:
— Есть дежурный врач, Сергей Иванович.
— Ну и что? — машинально возмутился Малышев.
— Мой рабочий день давно кончился. — Юра показал на часы, те самые, феноменальные.
— Ну и что? — повторил Малышев, закипая. — Не видите этого скотского избиения?! — Жанны рядом не было, ей разрешили пойти узнать, в какую палату положили Алика.
— Вижу и сочувствую, — непреклонно отвечал Юра. — Но здесь, повторяю, дежурный врач, а мое время давно вышло. У нас с супругой сегодня бассейн.
Бассейн решительно вышиб из Малышева остатки выдержки.
— Снимайте халат и отправляйтесь домой! — отчеканил он. — А завтра извольте дать оценку себе — вслух! От нее будет зависеть, сможем ли мы с вами работать дальше.
Юра Григоренко устал, понятно, с восьми тридцати в больнице, две операции, тяжелый день, и Малышев тоже устал, просто дьявольски, не меньше Юры, оба были несдержанны, но, наверное, в усталости как раз и проявляется то, что удается скрывать в состоянии бодрости.
…Не надо изменять жизнь — она сама собой меняется день от дня, час от часу. Начал он с врагами мириться, а с друзьями ссориться.
Поднялся в отделение, зашел к Леве Киму — пока ничего тревожного, — затем сестра сказала ему, что дважды звонили из поликлиники, спрашивали, когда Малышев освободится. Было уже начало девятого, и он позвонил ей домой.
— Вы просто умышленно заставляете меня волноваться, — сказала она отчужденно. — В конце концов, элементарный такт должен быть. Обещали звонить и ни слуху ни духу.
— Извините, не смог…
— У вас плохой голос, — сказала она тоже плохим, тусклым голосом.
— Работа, Алла, дорогая — моя работа.
— Сейчас получше, — заметила она чуть бодрее.
— У вас тоже.
— Завтра придете?
— В любом случае, Алла.
— Мне уже и не верится. Позвоните, хотя бы…
Она положила трубку, и он положил. День окончен. Он выдержал его неплохо. Все было хорошо.
А что не совсем? Разговор с Юрой, например, и еще кое-что.
Он поехал на дежурной машине в микрорайон, к Юре Григоренко. Без труда нашли новую девятиэтажку, Малышев сам добивался квартиры для своего сотрудника. Лифт не работал, как водится в новом доме, на четвертый этаж Малышев поднимался расчетливо, с паузами. «Нуль благоразумия» — это не про него. Звонил-звонил — ни звука в ответ. Вспомнил про бассейн, спустился вниз… Как ни суров был Малышев с подчиненными, Юра все-таки держался своей системы. Два раза в неделю у них с женой по распорядку бассейн, и хоть перемрите вы там все в горбольнице, графика Юра ломать не будет.
В машине попросил шофера найти клочок бумаги и написал: «Юра, прошу меня извинить. Малышев». Почтовых ящиков еще не повесили, надо приклеить записку прямо к двери, чем? Шофер предложил солидолом. Малышев попросил его подняться на четвертый этаж и приклеить записку к двери четырнадцатой квартиры. Шофер что-то буркнул, отрывать ему себя от сиденья все равно, что пень корчевать, но пошел, минуты через три вернулся, сердито влез и завел двигатель. Молодой, а тоже запыхался.
— Еще извиняться! — проворчал он, с хрустом, через кучи щебня выруливая на дорогу.
— Надо, — умиротворенно сказал Малышев.
— Он вообще с приветом, аля-улю, — поделился своими наблюдениями шофер. — В шортах пришел в больницу, как американец в Африке. Гигиенично, говорит.
— Его дело. Для этого надо не только шорты иметь, но и характер.
— Правда, жара была градусов тридцать, — чуть осадил шофер.
— Он хороший хирург.
— Мо-ожет быть, вам виднее. Теперь куда, домой?
Малышев кивнул. День он хорошо закончил. Просто замечательно, что приехал к Юре и оставил записку.
12
В воскресенье Алла отмечала свое сорокалетие. Не очень хотелось, но настояла Инна, позвонил Сакен Муханов — все равно приду, позвонил Вадим Резник, пропел в трубку: «Ну а будет сорок пять, баба ягодка опять», заодно пожаловался на притеснения со стороны жены и сказал, что явится к Алле в гордом одиночестве. Друзья словно сговорились и пришлось Алле готовиться всю субботу и половину воскресенья.
К четырем часам собрался, можно сказать, кворум — прежде всего Инна, подруга Аллы, невропатолог, с мужем Валерием Петровичем, инженером-обогатителем, затем Сакен, главный хирург, с женой, Вадим, кожно-венеролог, без жены, Галина, замглавного на «скорой помощи», с мужем судмедэкспертом, Регина Данилова без мужа, он ходил с ней только на каток и на премьеры в театр. Стали рассаживаться, только расположились, — звонок, явился Ваня Цой, психотерапевт, один.
— В третий раз холостому разрешите присутствовать?
Подтвердился слух, что Ваня опять развелся, не везет мужику. Что же, приняли сироту, раздвинулись. Только Сакен скомандовал наливать, как опять звонок, это уже не сокурсники, пришла старшая сестра Макен с красавцем мужем, высоким уйгуром по имени Бахтияр. Опять отсрочка и веселое оживление. Вадим с мужем Инны перенесли в гостиную стол из кухни, вертели его в дверях то на один бок, то на другой, под стол забрался пудель, оглушительно гавкая, протестуя против разгрома квартиры, за пуделем туда же ринулась Алена, спасать.
— Он так и лезет на неприятности!
Нарастили стол, Вадим объявил, что он здесь и сядет, в протезной части, затем произнес риторическую фразу — он не видит Сакена как всегда на почетном месте.
— Зато я вижу Резника на задворках, где ему и положено, — отозвался Сакен.
Начался традиционный между ними культурный обмен, и тут же обычные для всякого застолья, незамысловатые реплики:
— А можно мне сюда, поближе к черной икре?
— От икры склероз, в ней холестерина много.
— Рассаживайтесь, кто куда хочет.
— Лучшая рыба — колбаса.
— Только не со своим мужем.
Не все врачи города собрались за столом, но можно не сомневаться, что все новости, и не только медицинские, здесь будут произнесены и оценены по достоинству.
Расселись, осторожно заклацали посудой, ножами, вилками, в репликах у каждого заметен свой стиль.
— А где, не побоюсь этого слова, хрен? — это стиль Вадима на грани фола, а иногда и без грани.
— Мальчики, а кто тамада? — это Инна, только «мальчики» для нее и никаких-таких «девочек».
— Мы не в Грузии, мы в Казахстане, зачем тамада? — это Сакен в своем стиле.
— Друзья, а вы заметили, как вымирает поговорка «лучшая рыба — колбаса»? — это стиль мужа Инны, Валерия Петровича, с несколько философским уклоном.
— Вымирает вместе с рыбой, — сказал Ваня Цой, скептик по преимуществу, сделали его таким жены.
— Мальчики, не вижу порядка, так и будем болтать?
— Тамадой будет Резник, — объявил Сакен, — иначе он все равно никому слова не даст сказать.
— Прошу заметить, я прохожу по деловым качествам, а не по национальному признаку, — согласился на тамаду Вадим. — У всех налито? Первое слово Сакену, моему, я не побоюсь этого слова, другу.
Сакен поднялся, сурово уставился на Аллу.
— Дорогая хозяйка, дорогие гости, я предлагаю выпить прежде всего за здоровье нашего замечательного, известного терапевта Аллы Павловны. Мы все тебя уважаем, Алла, и все любим. Желаю тебе прежде всего личного счастья, чтобы ты в ближайшее время…
— И так далее, — перебил Вадим.
— Никаких и так далее! — настоял Сакен. — Надо говорить конкретно. Желаю прежде всего, чтобы Алла в ближайшее время вышла замуж, категорически требую. Ты у нас молодая и самая красивая. Даю тебе слово, если бы конституция учитывала наши национальные традиции, я взял бы тебя второй женой — токал.
— Ты не в конституцию смотри, бандит, а в уголовный кодекс, — посоветовал тамада.
— Я признательна тебе, Сакен, — отозвалась Алла, — но что скажет твоя Жамал?
— Для одного глупого мужа, — сказала Жамал мелодичным голосом, — две умных жены большая роскошь.
— Все слышали? — Сакен не обиделся. — Когда меня спросили в Стамбуле о положении казахской женщины, я сказал — свобода слова у нее на первом месте.
— А янычары в Стамбуле есть? — полюбопытствовал Валерий Петрович. — На каких они правах, интересно?
— Да выпьем мы, в конце концов, или так и будем лясы точить? — вскричала Инна.
Выпили, наконец, и замолчали на минуту-другую.
— Жамал, а что тебе Сакен привез из круиза? — поинтересовалась Регина Данилова.
Жамал проглотила салат, вытерла губы.
— Пятьсот рублей долгу…
Сакен никого не боялся, кроме своей жены, а Вадим говорил при случае, что всем, что есть и что еще будет в Сакене хорошего, он обязан Жамал. Она главный врач противочумной станции и от диссертации отказывается: «У меня без кандидатской четыреста рублей и шестеро детей, заимейте вы столько со своей степенью».
— Однокашники и однображники, я не могу пускать юбилей на самотек, — заявил Вадим. — Я хочу поставить перед столом, не побоюсь этого слова, проблему.
— Мы должны найти ей хорошего мужика, — начала Инна, и Алле пришлось ее перебить:
— У меня есть больной, который задает всем вопрос: какое главное зло сегодня?
— А что, это интересно.
— Направь его ко мне в диспансер, — посоветовал Ваня Цой.
— Друзья, зачем вообще говорить о зле? — воскликнул Валерий Петрович.
— Ваня, ты не можешь и моего мужа к себе забрать?
— Зачем говорить о зле? — не сдавался Валерий Петрович. — Чем жить, проклиная жизнь, не лучше ли жить, восхваляя ее?
— Разумеется, лучше, — согласился Вадим, — этим мы сейчас и займемся. Прошу восхитительную Инночку сказать свое мнение на тему добра и зла.
Пока Инна прихорашивалась, оглядывалась, чтобы, поднимаясь в тесноте, не зацепить что-нибудь на столе, Вадим заполнил паузу, поглаживая живот:
— Главное зло — утка в яблоках.
— Уток в яблоках не бывает, — серьезно отозвалась Регина Данилова. — Бывают кони в яблоках.
— Сакен, это по твоей части, конина в яблоках.
— Нет такого блюда, ручаюсь. А конина, к твоему сведению, от рака предохраняет.
Инна наконец встала.
— До революции говорили: бабий век сорок лет.
— Инночка, мы же не на партсобрании.
— С каких это пор на партсобраниях про бабий век?! Не перебивайте мне мысль. Так вот, сорок лет, много или мало? Для женщины, я считаю, золотая середина. Пятнадцать лет после института позади, правильно? И пятнадцать лет впереди до заслуженного…
— Я не побоюсь этого слова!
— Да, отдыха, — закончила Инна.
— А я жду-не дождусь пенсии, — призналась Галина.
— Я считаю, у Аллы все хорошо, — продолжала Инна. — На работе ее ценят, дети у нее растут, одна уже замужем, слава богу. Но сорок лет есть сорок лет. Я хочу присоединиться к Сакену и пожелать ей личного счастья, да!
— Ты тоже берешь ее второй женой? — поинтересовался Вадим. — Человечество изо всех сил борется с институтом брака, а вы мне тут позволяете!
— Никаких жен, никаких мужей, на свалку истории! — вскричал Ваня Цой.
— В конце концов, что мы за друзья, если не можем найти ей хорошего мужика?
— Ради бога, Инна, — взмолилась Алла.
— Инночка, лишаю тебя слова. Скажи всем «благодарю за внимание» и сядь на место.
— Но я еще про зло не сказала, Вадим!
— Давай, только напряги интеллект.
— По-моему, главное зло — это обогащение.
— Моя специальность, между прочим, — сказал Валерий Петрович.
— Мой обогатитель принес на восьмое марта талон на ковер, радуйся, говорит, мы получили право на роскошь. Я очень рада, но кто мне принесет тысячу рэ? Муж меня утешает: чем больше будет прав у честных людей, тем меньше будет прав у жулика.
— Он обогатил тебя философской мыслью.
— У честных пусть будет талон без ковра, а у жуликов ковер без талона, все правильно!
— Но где тут добро, где зло?
— Я вот сдам макулатуру, которую он читает вместо того, чтобы помогать жене, и обогащу его талоном на «Трех мушкетеров».
— Это называется личное счастье, Алла, ты обрати внимание!
Регина опять пристала, чтобы Сакен рассказал о круизе — Данилов обещал ей путевку на следующую весну.
— Что тебя интересует?
— Даю ориентиры, — подсказал Вадим. — Про стриптиз не надо, про ночной бар не надо, про порнографию мы сами знаем, про безработицу тоже.
— А больше и рассказывать нечего! — Сакен руками развел. — По родине я скучал, как положено, приехал с радостью, а здесь новости. Коллега Малышев подрался с дворником и залег в больницу, чтобы избежать суда.
— Но это чушь, Сакен, извини меня! — вспыхнула Алла. Наступила подозрительная тишина, но она ее не заметила. — Он у нас лежал. Переутомление, небольшой криз. Представь себе, все требуют хирурга Малышева, панариций, фурункул, непременно Малышева. — Она совсем не хотела задеть Сакена, само собой получилось.
— Но зачем дворников избивать, на них и так дефицит.
— Да что вы вцепились в Малышева! — воскликнула Инна. — Это хирург от бога. И мужчина, каких поискать.
— Как ты определила, Инночка, пальпаторно?
— Визуально достаточно.
— Факт есть факт, я его не люблю, — сказал Сакен.
— Сакен Муханович, а янычары, интересно, в Турции сохранились? — попытался Валерий Петрович сменить тему.
— Янычары были от Сакена в восторге, — сказал Вадим.
У Аллы горели щеки, на лице застыла улыбка, она не ожидала от Сакена таких слов о Малышеве. И в перепалке с Вадимом у них ни такта, ни осмотрительности.
— Друзья, минуту внимания, все сюда! — Валерий Петрович все еще не терял надежды выровнять крен. — Скажите, чем отличается старая интеллигенция от новой? Не хотите подумать?
— Не хотим, — решила за всех Инна.
— Тогда я скажу тост! — Валерий Петрович чуть не с ногами вылез на стол. — В сорок лет женщина расцветает, гляньте на нашу Аллочку Павловну…
«Неужели Малышев и вправду подрался с дворником?» Лицо ее горело, пусть думают — от комплиментов.
— У нее замечательные дети, — продолжал Валерий Петрович. — В нашем замечательном городе есть улица Родионова, по ней мы ходим и ездим. У Аллы Павловны было прошлое…
— Аллочка, ты, оказывается, женщина с прошлым?
— … есть настоящее и будет будущее!
— Хватит, Валера, мозги компостировать, — прервала мужа Инна, красная от вина. — Мы должны ей найти хорошего мужика. Остальное все прах и тлен.
…Он мог бы ей сейчас позвонить. Ну чего ему стоит поднять трубку и набрать номер? Подарок был бы для нее самый что ни на есть щедрый. Почему бы ему не прийти сюда в такой важный для нее день? Бабий век действительно сорок лет. Пришел бы, поздравил с окончанием века… Разговор за столом был бы совсем другим от его присутствия, это точно. Он не позволил бы им такой пошлый, уличный уровень перепалки. Но он не знает про круглую дату.
Пусть не знает, но позвонить бы мог. Сердце ему должно подсказать, оно у него чуткое — раненое. Пусть сейчас, сию минуту подскажет… Или лучше потом, когда все уйдут, и ей станет особенно грустно.
Сакен с Вадимом, похоже, выдохлись или поняли, что не интересны, и всем стало как будто легче дышать. Галина завела разговор о сыроедении и голодании, рассказала, как слушала в Москве знаменитую «сыроежку», которая ходит на встречи со свитой приверженцев, все они болели самыми ужасными болезнями, а теперь как огурчики. Самой сыроежке семьдесят, но выглядит она моложе нас.
— Если бы она ела свеклу вареную, а не жрала бы сырую, то выглядела бы еще моложе, — допустил Вадим, и Сакен его поддержал:
— Свеклу пусть свиньи едят. У меня в клинике две группы выздоравливающих. Одна каждый день пьет кумыс, а другая отказалась пить и составила контрольную группу. Результаты превосходные, на кумысе раны заживают гораздо быстрее, кровь восстанавливается, аппетит улучшается, растет вес.
— Ты бы не открывал Америку, Сакен, кумысом до нашей эры лечились, ты бы лучше добился, как главный хирург, чтобы все больницы снабжались кумысом.
— А где я тебе лошадей возьму?
Галина перешла с сыроедения на экстрасенсов и насела на Ваню — что думают психотерапевты? Почему высказываются в печати все, кому не лень, математики, философы, журналисты, звездочеты, а специалисты как в рот воды набрали?
— Я верю, — с вызовом сказал Ваня.
— Он верит! — воскликнул Вадим. — А где твоя материалистическая, не побоюсь этого слова, наука?
— Вера моя основана на знании, — Ваня несколько высокомерно улыбнулся. — Есть люди, наделенные огромной психической энергией, возьмите Гришку Распутина, или известных в прошлом колдунов и шаманов. Они лечили!
— Когда-то мы отвергли теорию относительности.
— Когда-то и гипноз отвергали и притом весьма умные люди, а теперь без него не обходимся, хотя материалистического объяснения, к сведению Вадима, этому явлению нет. И владеют им по-разному, у одних получается больше, у других меньше. Как и пациенты по-разному реагируют на гипноз.
— То, что они снимают боль наложением рук, — бесспорно. Но шарлатанов тьма. Надо клеймить.
— Не очень-то сейчас заклеймишь. Читатель наловчился из минуса делать плюс. Разругают кино в газете, на другой день полный кассовый сбор.
— Запретить их дороже обойдется, завалят все инстанции жалобами и заявлениями, подключат академиков, балерин, космонавтов.
— Но ведь научный эксперимент отрицает всю эту муть, сколько раз «Литературка» писала!
— Целебные прикасания неповторимы и невоспроизводимы. На них тратятся все силы психики, поэтому сеанс невозможен в эксперименте, все равно, что стрельба в воздух. Попробуйте повторить в эксперименте любовь.
— Любовь не научное понятие, это поэзия.
— Гипноз тоже поэзия, воздействие словом, волей, симпатией, силой своей животной.
— Любовь можно онаучить, лабораторию подключить к партнерам, датчики присандалить на все места и — фиксируй, есть между ними любовь или нет ее. По уровню адреналина, по вегето-сосуднстым реакциям, по зрачкам и прочее, все показатели сыграют, будьте уверены.
«Я его спрошу завтра, как он относится к гипнозу. Однако, что там за чушь с дворником, почему он ни слова ей не сказал? Если и было что, так Сакен раздул из мухи слона. Надо позвонить завтра и все выяснить…
Алла подсела к Макен, беспокоясь, что им с Бахтияром скучно в малознакомой компании. Участия в разговоре они не принимали, не могли попасть в тон и, если Макен выпила коньячку и сияла, то Бахтияр — только минеральную с пепси-колой и внимал болтовне по-трезвому внимательно, вежливо вертя головой от одного оратора к другому. Они здесь самые молодые, им еще нет тридцати, хотя уже трое детей и все мальчики — шести, семи и десяти лет, плавать они начали раньше, чем ходить. Квартира у Макен из двух комнат, в одной она с мужем, а в другой сыновья на трехэтажной кровати с лесенкой, причем вся комната оборудована как спортивный зал — канаты, шведская стенка, кольца, перекладина, Бахтияр все сам сделал. К ним уже экскурсии ходят опыт перенимать. Алла с Аленой тоже у них были и тоже восхищались, но вместе с тем Алле показалось, что они слишком много взяли на свои плечи и на детей взвалили тоже немало, смогут ли выдержать? Как бы потом не было разочарования, спада, — но так она думала от своих уже сорока лет…
— Старая интеллигенция страдала оттого, что живет лучше народа, а новая страдает оттого, что живет хуже.
— Махровый жулик, растратчик, спекулянт, а жил по гостиницам в лучших номерах.
— Сиротинин его выручает, нанял адвоката Зундиловича, не простого, а золотого. Ходит по судам и прокурорам со своей Настенькой, чтобы ему поменьше дали.
— На халяву ему дали бы лет семь-восемь, а под надзором профессора отвалят все пятнадцать.
— А у жены несчастной инсульт, рот перекосило.
— «Реве-ела бу-уря, гром шуме-ел…»
— Опять же Малышев это дело распутал.
— А ректорат представил его к ордену в честь семидесятилетия. Теперь получит.
Алле стало жалко Сиротинина. Прав был Малышев, говоря о его беззащитности. А может быть, Настенька для него опора в любом случае, даже в таком?..
— Реве-ела бу-уря, гром шуме-е-ел…
— Шумел камыш, в конце-то концов, а гром гремел!
— «Мариям Жагор орыс кызы-ы», — запел Сакен известную «Дударай», о том как русская девушка Мария, дочь Егора, полюбила казаха Дудара и сложила о своей любви песню. Вадим подхватил припев — «Дударари-дудым» — пели они, как в степи, не щадя ни своего горла, ни чужих ушей, довольно сносно исполнили, им даже похлопали, затем Вадим предоставил последнее слово виновнице торжества, — за что она хотела бы выпить?
— За счастье своих дочерей, — сказала Алла без раздумий. — Лизавета сейчас с мужем в Прибалтике, пишет — мамочка, как я скучаю по своему городу, там у нас много солнца, а здесь все дожди да тучи. Я горжусь, пишет, тем, что из Казахстана, нашу республику все уважают, у нас целина, хлеб, в недрах вся система Менделеева, у нас стартуют корабли в космос. Вот так, друзья, дети учат нас, взрослых, ценить и любить край, где мы живем. Я хочу выпить за Казахстан, где я родилась, где выросли мои дочери, за его благословенную землю и за его прекрасный, добрый и щедрый народ.
— Алла, можно, я тебя поцелую?! — воскликнул Сакен растроганно.
— Алла, ты молодец, — вполне серьезно, без всяких смешков поддержал Вадим. Вот так она урезонила их и помирила на прощанье…
Ушли гости и в квартире стало особенно тихо. Инна посадила обогатителя дремать возле телевизора и стала помогать Алле убирать со стола и мыть посуду, а заодно и продолжила тему личной жизни — как у Аллы отношения с главным инженером, на какой они стадии?
— Он мне надоел, — призналась Алла, — не знаю, как эта стадия называется.
— Ох, Алка, Алка, об Алене подумай.
— Но почему все об Алене да об Алене? А если о себе хоть раз в сорок лет — нельзя?
— Он же тебе вроде нравился?
Да, он ей нравился тем, что ухаживал за больной женой, сам измотанный, загруженный заботами комбината, все равно выкраивал время и каждый день хоть на минуту заезжал в больницу навестить жену. Болела она недолго, саркома, вот у кого действительно сошлось — бабий век сорок лет. Алла была на похоронах, видела его сыновей, старшего вызвали из армии, младший был на год старше Алены. Через сорок дней главный инженер приехал в больницу снова и сказал Алле Павловне, что намерен на ней жениться. «В доме нужна хозяйка», — он как бы нанимал ее. Нельзя сказать, что для Аллы его предложение явилось неожиданностью, хотя она его и не ждала, но такой оборот допускала, потому что пока они вместе выхаживали больную, они подружились. Но Алла не ожидала, что он так быстро придет в себя и уже через сорок дней начнет решать проблему «хозяйки дома». За все эти сорок дней он ей ни разу не позвонил, кстати сказать, будто отсиживал взаперти присужденное обрядом время. Не хочет она хозяйкой в чужой дом, когда у нее есть свой. И еще — он ни разу не спросил ее о детях.
Допустим, она переедет в его квартиру, отличную, кстати сказать, четыре комнаты в самом центре, не поедет же он к ней, из лучшей в худшую, и получится полноценная семья, два сына и две дочери, все в ажуре, но… не лежала душа, не было у нее ни волнения, ни желания что-то менять и вообще чувство не очень приятное — альянс вдовца со вдовицею, одинаковость пострадавших, оттенок какой-то несчастливый, она будет про мужа вспоминать, на кладбище ходить, он будет про жену вспоминать и тоже ходить. Во второй раз он хотел купить Аллу благодеянием, сказал, что удочерит младшую, но она опять — я подумаю, все так неожиданно и прочее. В третий раз он сказал, что у него, к сожалению, нет времени на бытовые дела, — бытовые! — он даже не пришел к ней, а все ограничивался телефоном и так требовательно говорил, будто она поставки для комбината задерживала или срывала его квартальный план, штурмовщиной ее хотел взять.
«Нет, я не могу, — наконец, сказала она. — Я все обдумала и решила». «Женщине вредно много думать, я бы на твоем месте не раздумывал». Вот эта его уверенность и била, что называется, по рукам.
Сейчас она мыла посуду, стояла над раковиной в углу и плакала, приподняв плечи, пряча лицо, перенося жалость к себе на свою посуду, мягко обмывала ее в теплой воде, поглаживала пальцами свои тарелки, чашки, ложки. Инна заметила, когда она уже проревелась.
— Ты чего?!
— Ничего…
— Чего плачешь, спрашиваю?
— Малышев подрался с дворником. — Она улыбнулась сквозь слезы.
— А-а-а, так он же у тебя лежал! — осенило Инну. — Как же я сразу-то не вспомнила! Ой, Алка, ну ты даешь. — Тут же все поняла без признаний, и даже успела испугаться за подругу, подошла к ней вплотную, будто намереваясь оградить, защитить. Алла взялась мокрыми руками за край раковины и уткнулась Инне в плечо.
— Ничего не могу поделать… Радуюсь и все.
— Да уж вижу, как ты радуешься! У вас уже что-нибудь было? — спросила Инна не только из любопытства, но и с тревогой; если что-то было, значит, Алла пропала, потому что непривычная, целиком всю душу отдаст и для дочери ничего не оставит, на все пойдет, — отчаянная по неопытности.
— Да нет, что ты… Кому-то надо было сказать, вот я и сказала. — Хотя она ничего не сказала. Но показала.
— Ох, Алка, Алка, — забеспокоилась Инна. — Это же Малышев, что хочет, то и делает, с него как с гуся вода. Но если что! — Инна показала кулак в сторону, к окну. — Я его! Только ты от меня не скрывай, советуйся, ты ведь наивная, Алка. — И, видя, что Алла посмеивается на ее страхи пополам с угрозой, сама успокоилась, да и любопытство одолевает, куда денешься. — Слушай, Алка, может, вам встретиться негде? Я устрою все в лучшем виде, располагай мной, как собой. — Инне тоже хотелось бы подружиться с Малышевым, втроем им легче будет соблюдать тайну и вообще выкручиваться из ситуаций, а Инна такая пройда, кого хочешь обведет вокруг пальца. — Ты как-нибудь сведи меня с ним, Алка, я ему сразу выдам: мы отвечаем за тех, кого приручаем. Он у нас не отвертится.
— Оставь, Инна, ты совсем не туда поехала.
— Алка, милая, я так рада! — Инна уже сама готова была пустить слезу.
Явился полусонный обогатитель, попросил сто грамм на посошок, и они с Инной ушли домой.
«Найти хорошего мужика», — так все просто, как найти настройщика пианино или слесаря краны починить, найти сотрудника на вакантное место, хоть какого, лишь бы найти. Лизавета перед свадьбой просвещала мать: «Пусть бы пил бы, пусть бы бил бы, лишь бы был бы, так поэты пишут. А мои не пьет и не бьет, так чего мне раздумывать?» Аллу огорчило, что дочь ее восемнадцатилетняя слишком уж по-бабьи все это произнесла — мой не пьет, в особенности вот это «мой». И какое в сущности допущение жалкое — лишь бы был бы, унижающе так, обижающе — лишь бы. Будто крохи жалкие с пира природы. Дочь как будто на корню смирилась, приняла роковую женскую второстепенность, неполноту без мужа, как будто сама по себе ты не человек, а придаток некий, друг человека. Сама Алла никогда не хотела так — лишь бы, ни в юности, ни потом, а хотела бы, так давно сошлась бы с кем-нибудь. Вдовой она осталась в тридцать два года, тогда думала — старуха уже, все кончено, только бы дочерей вытянуть, а сейчас думает, какая тогда была молодая, не знала, что и в сорок еще не все потеряно. Замуж надо было ради дочерей хотя бы, чтобы они привыкли к мужчине в доме, знающие люди считают, что из неполной семьи, когда нет отца или матери, выходят неспособные жить в браке, несчастливые — они не приучены с детства соподчиняться, ладить с другими. Предложения Алле были, но ей хотелось не мужа, а прежде всего отца своим девочкам, ей все казалось, что и тот будет груб с ними и этот к ним несправедлив, постепенно стала смотреть на мужчин с вопросом: отец он или отчим? Не только на знакомых, а вообще на всех, и в кино, и по телевидению, игру себе такую нашла. По каким-то признакам, ей самой неясным, выходило, что больше все-таки отчимов, чем отцов, даже Сиротинин со своим преклонением перед Настенькой не отец, а отчим, а вот Малышев… Ничего толком не зная о его семье, о житье-бытье, она отнесла его к категории отцов. Таким она видела его еще двадцать лет назад. Таким она увидела бы его еще мальчишкой в школе, а почему, не знает. Это и восхищает ее, и удручает. Он был отцом и останется — отцом своей дочери…
Друзья не забывали ее, часто наведывались, тот же Вадим Резник приходил пожаловаться на семью, сидел как-то на кухне и плакал и не в переносном смысле, Алла вытерла лужицу на клеенке, и еще подумала, у женщин таких обильных слез не бывает, они их чаще выплакивают. Приходили друзья, уходили, а она и при них, и тем более без них не могла избавиться от ощущения своего одиночества, несмотря на Алену и Лизавету. А мужа искать не пыталась. Можно было объяснить ее одиночество памятью о погибшем, — можно было бы, и добрые люди так и объясняли. Но как по-разному оценивают память о погибшем. Вот сегодня, пока она сидела с Макен и старалась их развлечь с Бахтияром, пошел какой-то двусмысленный разговор о жене Джона Кеннеди, убитого президента, о том, что первая женщина Америки не должна была выходить за грека, пусть он будет трижды миллиардер. «Но это бесчеловечно, — возмутилась Инна, — так только дикари поступали». «Как это так?» — спросил ее Ваня. «Сжигали на костре жен после смерти мужа». «Я бы их сжигал при жизни», — помечтал Ваня. Женщины вступились за вдову Кеннеди, рассудили, что она права, и только Регина сказала: «Как хотите, а я бы в такой ситуации держалась». Алла делала вид, что поглощена разговором с Макен о ее спортивных мальчишках. Слова Регины ее задели, они прозвучали укором, хотя Регина косвенно как раз защищала Аллу, объясняла ее одиночество памятью о Родионове. Потом вдруг кто-то сказал: «А я бы с Малышевым недели не прожила!» — что за бред? Чего ради вдруг такие допуски? И не слишком ли много о нем говорят сегодня — на ее дне рождения? В разной связи, с разной оценкой, но то один вспомнит, то другой.
А если бы он не попал в больницу?..
Он появился опять в ее жизни, как черта подводящая, как итог. Напоминание о молодости, которую уже не вернуть. А может быть, можно вернуть, есть какие-то силы небесные? Он мог бы и дальше жить сам по себе, но все-таки его привезли к ней, а коли так, раз уж ты попался, дружок, то… я тебя отпускать не стану.
Что там за дворник, памятник ему поставить? Ни слова ей не сказал, но теперь пусть скажет, самому будет легче.
Скажет, так он тебе и скажет, раскрывай уши. А вот, она скажет, снова ляпнет что-нибудь как в прошлый раз, когда чуть не сорвалось с языка: «А не уехать ли нам отсюда?» — нам, хотела сказать, нам с тобой, Малышев, но сказала «не уехать ли мне?» — как всегда одна, такая самостоятельная, намеренная и дальше пребывать в одиночестве.
И что же теперь? Лучше бы не знать, что теперь, лучше судьбе довериться. Страшна беда, пока не пришла, а уж коли пришла, она ничего не боится, да и не беда это, а счастье, пусть горькое, но другого у нее всю жизнь не было, — только горькое счастье. Инна, конечно же, не утерпит, поделится радостью за подругу, и одной расскажет, и другой — пусть узнают все, она не станет прятаться, как жила, так и будет жить. Но прежде всех должен узнать он сам.
Но неужели он до сих пор не знает, не догадывается? Неужели ему мало того, что она уже сказала? Да и без слов ясно, господи!..
Не ломай голову, она тебе еще пригодится. Да уж лучше бы не пригодилась. Лучше бы потерять ее совсем, вот хоть сегодня, хоть сейчас. Вот пришел бы, переступил порог…
— Мама, а почему не пришел тот дядя в синем костюме?
Ее будто жаром обдало, она так и вперилась в дочь — как ты смеешь?
— А у него сегодня дежурство, — спокойно солгала Алла.
Только теперь увидела, какой была ее дочь весь вечер, — она ждала, ждала и прислушивалась, стоило только раздаться звонку, как она первой вскакивала и, глядя на мать заговорщицки, бежала к двери или к телефону. Возвращалась уже посерьезнев и смотрела на маму — как она, не очень расстроилась? И все это в одиннадцать лет. Удивительно, что за дети пошли, с пеленок все понимают. Алла в своем детстве ни о чем таком и думать не могла, а вот Алена!.. Акселерация — это когда все понимают и всего хотят, но ничего не могут.
— Он тебе понравился? — спросила Алла.
Алена схватила пуделя на руки, запрыгала с ним.
— Мне вот кто понравился, вот кто понравился! Барбос, красный нос, глупый пес, а больше мне никто не понравился, правда, песик? — Попрыгала-попрыгала, увидела, что мама уже не обращает на нее внимания, и сказала: — Но ты ведь отпрашиваешься с дежурства, если у меня ангина.
— Но ведь у меня нет ангины.
— У тебя еще хуже, день рождения. — И, глядя, как мать рассмеялась до слез, пояснила: — У тебя еще более уважительная причина.
13
Рано, часов в десять, не став даже смотреть по привычке программу «Время», Малышев ушел на диван в гостиную, ушел не просто вздремнуть здесь, а — насовсем, переселился, ушел таким образом от жены. После громкого разговора на кухне содрал в спальне покрывало с кровати, свернул кое-как одеяло, стянул простыню, дернул за угол подушку, под мышку ее и пошел, словно беженец от бомбежки, шоркая о косяки тряпьем и спеша, будто за ним гнались и, догнав, могли водворить обратно. Ободранная его кровать осталась как в комиссионке на распродаже. Теперь рядом с пышной постелью его супруги останки брака, спи одна, отдыхай от мужа, сама себе хозяйка, властительница, распорядительница, был муж и нету его, с глаз долой, из сердца вон. Не знал, что мешал ей жить, оказывается, столько лет, не хватит ли?
В гостиной он разложил диван и аккуратно постелил себе сам — не надо злиться, привыкай ухаживать за собой спокойно, буднично, тут не просто скандал, а решение, результат пожеланий, притом обоюдных. Обоюдосторонних. Обоюдоострых.
Так закончилось их торжество по случаю поступления Катерины, скромное, чисто семейное, хотя Марина, конечно же, планировала очередное застолье с полным поголовьем. Давно она не собирала нужных людей, до седьмого ноября долго ждать, а тут есть повод, надо собрать, напоить, накормить, заказать, обязать, навязать. Малышев стал возражать — пощади, дай мне оклематься, уеду на рыбалку в субботу, тогда и соберешь. Она не стала настаивать, тем более, что и у Катерины оказались свои расчеты, у них уже сколотилась компашка, все чада шишкарей, то бишь знатных людей, вместе решили отмечать поступление, но только не за столом со старперами, пойдут в кафешку, нужны деньги, и не рупь-два, а где их взять, как не у мамули. Вместо гостей пусть-ка она лучше раскошелится на студентку первого курса, она у мамы одна-единственная.
Уселись втроем, скромно, по-семейному. Бутылка на столе и бутерброды. Сухой паек Малышева разозлил сразу, Марина будто в отместку ничего не приготовила. Для гостей пластается, жарит-парит, а для мужа с дочерью сыр, колбаска, давитесь и радуйтесь. Да и зачем ей распинаться, ни муж, ни дочь не заметят и не оценят ее стараний. А Малышев устал сегодня, затылок ломило, сделали ему дибазол на работе, — так себе, не помогло. А сегодня еще депутатский день. Можно позвонить и сказать, что болен, но — кому-то можно, а ему нельзя, только добавишь себе досады. Избиратели придут, у каждого трудное дело, а депутата нет, кругом, скажут, бардак, если уж Малышев от приема отлынивает. И он поехал и принимал граждан до девяти вечера — там тоже своего рода «скорая помощь». Домой пришел усталый, еле волоча ноги, и это сказалось на разговоре с женой и дочерью, ускорило развязку…
Он называл гостиную кабинетом, но царил здесь не его стол с двумя тумбами, втиснутый плотно в угол, царил тут гостевой стол, тяжелый, широкий как каравелла, с гнутыми ножками и с дюжиной задвинутых под него стульев, фигурные спинки их торчали как гигантские уши, и оттого стол выглядел чудовищем на покое, в дремоте — втянул под себя лапы и оставил настороже уши, шесть пар. Стоит недвижимо, молчит, но молчит зловеще, как мина, как бомба замедленного действия — до первого праздника, а там рванет, да так, что осколки-слухи-толки будут по всему городу.
Слабо светило бра над диваном, Малышев лежал, заложив руки за голову, словно пытаясь обеими руками удержать бурлящий котел, чтобы он не лопнул. Варит котелок или не варит? — вопрос вполне своевременный. На темном столе, на пустынной глади одиноко стояла бутылка и рядом маленькая рюмка, от них на полировке тень, будто человек встал у храма, ища утешения. Он приподнялся, налил рюмку, сделал глоток и снова лег. Ничего ему больше не надо, оставьте его в покое. Даже бутерброды ее жалкие не нужны…
При желании Марину понять было бы можно, домой она пришла поздно, готовить роскошный ужин не было времени, почему она не приготовила чего-нибудь загодя, еще вчера? Почему не поручила Катерине купить что-нибудь в кулинарии? Почему бы самой уже студентке не ознаменовать свое новое качество хоть какой-нибудь кулинарной поделкой? Пусть будет блин комом, пусть ворота в тесте, важна хотя бы попытка. Уже не девочка-школьница, уже студентка, хотя в других семьях и школьницы так умеют готовить, что пальчики оближешь.
Перед тем как звать свою деловую свору, Марина за неделю устраивает в квартире блокаду, ни пройти, ни проползти, чтобы локтем не влезть или полой пиджака не зацепить то холодец, то заливное, то торт с жидким кремом. Перед маем, придя с работы, он бросил на газету перчатки, а под газетой оказался торт «ласточкино гнездо», слепленные горкой кремовые шарики, два верхних лопнули, архитектура нарушилась, — что тут было! Холодильник в такие дни не открывай, заставлено все, забито, к столу на кухне не приближайся, тарелки (сколько раз ему хотелось сделать их летающими!) одна на одной этажами, в них нарезанная кружками колбаса, ветчина, сыр, все в симметрии и гармонии, не смей тронуть, не приведи господь нарушить ансамбль. Жратвы дома навалом, но лучше поесть в столовой или в ресторане, спокойнее. И не пытайся в такие штормовые дни усомниться в правомерности, в необходимости такой мобилизации всех сил и средств — на бога ропщешь! Мелочи, но из таких и подобных им вся ее жизнь. Остальное рутина, скука. Отказаться от гостей значило бы лишить свою жизнь смысла, стимула. Она согласилась не звать гостей в этот раз только из уважения «к твоей гипертонии».
Ладно, вернемся к торжеству по случаю поступления Катерины. «Мы волновались, мы страдали, теперь все вместе порадуемся». Сели за стол, откупорили бутылку, и не какого-нибудь сухого белого, красного, или шампанского, а коньяка, и Марине стопку, и Катерине стопку да приличную, наравне с отцом, и дочь, юное создание, прямо-таки дербалызнула до донышка, иначе и не скажешь. Она не школьница, она уже студентка, почему бы ей не принять стопочку? Можно, он сознавал, но лучше бы воздержаться, тем более в его присутствии.
Но, черт возьми, почему ты такой к ней придирчивый, шагу не даешь ступить?!
Он не знает. Неприятно стало, что она так легко, привычно шандарахнула стопаря, и опять завела речь про сынка Смирнова, про дочь хирурга Муханова и ее потрясные бананы, «все на уши встали, ей папуля из Марселя привез», и опять про сынка Смирнова, как едет он больше ста кэмэ, останавливает его ГАИ, а он сует им визитную карточку, где на трех языках, не считая русского, отпечатаны папины должности, звания и телефоны, гаишники ему козыряют и он мчится дальше со скоростью больше ста.
Чего тут, спрашивается, такого особенного в ее рассказе? А он психует, готов ей рот заткнуть чем попало, не по нраву ему восторги черт знает чем, наплевательство ее на порядок и установления, на которых держится общество и будет держаться вопреки ее хамству молодеческому. А бананы, оказывается, не фрукт заморский, мечта обезьян, а штаны, сверху широкие, а книзу суженные да еще с лямками, вроде комбинезона. Слушал ее восторги, видел ее ликование. Да если бы только слушал, да только видел, а то ведь терпел и закипал медленно, но верно, поскольку у всех, видишь ли, папули (непременно у всех!) в загранкомандировки ездят, тот в Японии побывал, тот в ФРГ, а тот на худой конец в Болгарии, шишкари все и доставалы, а вот ее, несчастную, судьба вроде бы обошла. Он бурлил, как в завинченной скороварке, а выпустить пар не мог, значит, взрыв неизбежен. Он мог бы сказать ей, к примеру, о том, что последствия скорости по городу больше ста, вызывающей ее сопливый восторг, приходится регистрировать не только службе ГАИ, но прежде всего хирургам, да еще служителям морга. Да если бы страдал только сам болван нарушитель, но ведь как правило страдают ни в чем не повинные люди, несчастья не ожидающие, перед бедой бессильные. Говорить ей об этом — дурной тон, запредельные для нее доводы, родительский скулеж и скрипеж, кого такими резонами усмиришь, кого напугаешь?..
Главное — поступила, думал он, теперь гора с плеч. Все-таки дочь при всем своем легкомыслии выдержала конкурс, ты ее недооцениваешь. К тому же, они с матерью пошли навстречу тебе, не стали собирать застолье, цени и благодари. А ты недоволен. Спрашивается, чем? Уж не тем ли, что родная дочь поступила, а какая-то Клара из аула опять провалилась? Да, представьте себе, и этим. Потому что Клара не «какая-то», она из персонала Малышева, заслуженного врача республики, он за нее просит, он за нее ручается, а ему не верят, на хлопоты его нуль внимания, чему тут радоваться?..
Катерина, излив, наконец, восторг своими новыми друзьями, наполнила еще всем по рюмке и предложила:
— Теперь давайте решим проблему попроще — как мне отвертеться от сельхозработ, на целину посылают.
— Я бы на твоем месте радовался и поехал бы.
Катерина поджала губы — ну чего еще можно ожидать от ее папули? Марина тут же вступилась:
— Как будто не знаешь, впервые слышишь, что у нее хронический тонзиллит!
— От тепличных условий. А там, на свежем воздухе, все как рукой снимет.
— Да с какими друзьями, папочка, если никто не едет, у всех справки? Что я там буду делать одна? «Во поле березонька стояла». Ведь не только я не хочу, все не хотят.
— Все?! — вскричал он, теряя выдержку. — Как только речь о маразме, подонстве, сволочизме, так у тебя непременно «все»!
— Наш отец вечно что-нибудь! — Марина встревожилась. Чего доброго, он и в самом деле заставит дочь поехать, а она там простынет и прощай, институт.
Малышев проговорил, отчеканивая слова:
— Если ты не хочешь ехать на целину и тебе даже не стыдно отказываться, значит, ты не моя дочь.
— Я — мамина дочь. — Катерина улыбнулась, надеясь успокоить отца, показать улыбкой, что нет тут никаких таких особых проблем, однако, видя, как задергались у него желваки и сейчас он скажет резкость, добавила: — Я дочь своего времени, папочка, сделай скидку и не горячись, нервные клетки не восстанавливаются, ни твои, ни мои.
Сделай скидку, разумей, что ты уже вне времени, отстал и зарос, коростой покрылся. «Дочь своего времени». Хотел бы он знать, что это за время такое, не вытекающее из предыдущего? С неба, что ли, упавшее? Или из-под полы возникшее? Откуда оно, это ее «свое время», с иных планет? Поистине мы обращаемся к прошлому, встревоженные угрозой будущего. Вот она, сидит с ним за одним столом, носительница угрозы. Не хочет ехать на целину, где прошла молодость ее отца с матерью. Где она сама родилась. Она предает наше прошлое, перечеркивает его.
— Я знаю, как там работают местные, — сказала Марина. — Сама ездила на сенокос. Водку пьют, хризантемы в город везут на продажу и только над нами смеются. На целине давно все сложилось, как ты знаешь, свои кадры, механизаторы, техника. Зачем туда посылать лишние руки, тем более не квалифицированные, зачем лишние рты?
Логично и убедительно, но почему тебя ее логика не убеждает, а только бесит?
Потому что твоя жена, прежде чем отправить дочь, критически все обдумает, семь раз отмерит, потом отрежет, а ты готов послать ее хоть к черту на рога, несешься, сломя голову, на любой призыв, потому что привык.
К чему привык, к тому, что за тебя думают? Да, представьте себе, к этому. Ах как это ужасно звучит для воинствующего обывателя, который убежден, что он один умнее всех инстанций. Малышеву нужен порядок, а не хаос. Порядок держится на единстве, а не на пресловутой свободе мнений. Да, он подчиняется традиции, указаниям, требованиям свыше, и к тому же призывает дочь. Дело не в указаниях самих по себе, а в том еще, что дочь твоя должна быть готова к любым трудностям — к жизни должна быть готова, и потому ей надо и в ДНД участвовать, и нормы ГТО сдавать, и на субботниках вкалывать, а уж на целину ехать ей сам бог велел. Легче будет жить, если все пройдешь и освоишь. Потому что жизнь тяжела — да, тяжела, несмотря на все радости, забавы, развлечения, все песни и пляски, — тяжела! Неизвестно, когда она выйдет замуж и за кого. В каком коллективе будет работать. Какие родятся дети и чем будут болеть. Как они будут учиться… э-э-эх, сколько забот всяких и горя ляжет на ее плечи. Но вместе со всеми ей будет легче все пережить. С его всеми, а не с ее «всеми». А ему будет легче умирать, видя, что дочь уверенно живет, открыто и достойно, а не пережидает, забившись в угол, когда она — сама жизнь — пройдет мимо…
— У нее слабые легкие, хронический тонзиллит, — продолжала Марина. — Ты забыл, какое было осенью обострение? Из-за какой-то бессмысленной поездки она может оказаться в стационаре с пневмонией или с ревматической атакой, и что тогда, прощай, институт? А сколько нервов потрачено, чтобы поступить?
Опять она как будто права, но его возмущали доводы жены не «за», а «против». Не за то, чтобы поехать и там как-то поберечься, не торчать на сквозняке, одеваться, как следует, а за то, чтобы не ехать. Ты хоть тресни, муж, а она против. Хотя простыть можно везде, даже не выходя из дома.
— Я мог бы тебя понять, Катерина, если бы ты действительно была больна и сожалела, что не можешь поехать. Вместе со всеми! — подчеркнул он. — Но ты наоборот, жаждешь быть больной, лишь бы не ехать. Ты не хочешь быть со всеми, а все — это не пижоны из твоего окружения, все — это сотни тысяч молодых людей, они работают на целине, на БАМе, на КАМАЗе, служат в армии, владеют сложнейшей техникой, и все они — твои сверстники. Им тоже по восемнадцать лет. Ты заставляешь меня говорить прописные истины, потому что не видишь очевидного, умудряешься не видеть, у тебя совсем другие «все»! Мне больно, представь себе, что моя дочь отличается от большинства не в лучшую, а в худшую сторону. Ты посмотри, как они идут каждое утро на комбинат к началу смены, хоть раз остановись неподалеку от проходной и посмотри, очень тебе советую. Мне самому хочется идти вместе с ними, шагать в потоке, хотя без дела я не сижу, как тебе известно, но мне острее хочется ощутить единение, сплоченность. От этого жить лучше и, представь себе, легче. Ты же бежишь, укрытия ищешь то за тонзиллитом, то за мамой, то за папой. Не дороже ли обходятся все эти ухищрения? Привычка отсекать все общественное очень опасна, не зря говорят, посеешь привычку, пожнешь характер, посеешь характер, пожнешь судьбу. Так и будешь болтаться, зависеть от звонков, знакомств, ходатайств, от связей — как кукла на ниточках, ее кто-то дергает, а она изображает жизнь.
Они молчали, не возражали, обеим были понятны его доводы, понятны и — неприемлемы. Но переубеждать отца тщетно, да и нет у них в арсенале веских контрдоводов, о которых бы писали в газете или говорили по радио. Молчали, не возражали и тем слегка его успокоили.
— Я всегда вспоминаю именно студенческие годы. Не только лекции, семинары, сессии, — все наши поездки помню, походы, соревнования, дискуссии. И как мы с твоей мамой начинали жить на целине, невозможно забыть такое. Ты ведь родилась там, гордиться бы надо, а у тебя никакого чувства. Тут не только мое отцовское желание воспитывать дочь, мне больно за свое прошлое, представь себе.
Катерина свела брови, сказала сосредоточенно:
— Я бы рада вспомнить про свою родину, если бы про нее меньше талдычили.
— Вижу, ты приобщилась к ненужным людям. Ты можешь возразить, что, нет, ты самостоятельная, у тебя своя голова на плечах. Но приобщение идет постоянно помимо твоей воли, хочешь не хочешь, но ты вовлекаешься в какое-нибудь сообщество. Человек стадное существо. Одни живут интересами государства, партии, комсомола, другие сбиваются в разные группы, секты, банды. Рвачи, отщепенцы, хапуги лепятся один к другому по образу своему и подобию, других вовлекают и уподобляют себе. Но всегда были вехи, маяки для заблудших, высокие устремления, труд сообща, наши пятилетки, всесоюзные ударные стройки. Пусть не всем туда ехать, не всем там работать, но осознать это как ценность необходимо поголовно всем.
— Я понимаю, папуля, ты по-своему прав, но ты совсем не делаешь скидок на время, никаких! Так нельзя. Сейчас даже школьники не выносят программу, устают и ничего не усваивают. У человека сейчас слишком много обязанностей. Знаешь, кто-то из писателей сказал: если я начинаю говорить, что в наше время было совсем не так, а лучше, значит, я старею.
— Не густо у тебя с доводами. А насчет старею, что же?.. Возможно.
Действительно, он стал часто обращаться к прошлому, словно ища в нем опору. Так и хотелось ему сдвинуть, повернуть некий рычаг обратно. Или в самом деле захотел стрелки времени остановить?..
— В общем, я прошу тебя, Катерина, не увиливать, а поехать. Уверяю тебя, будешь довольна.
— Поедут одни дураки! — в сердцах сказала Марина. — Простаки, у которых одна извилина и та, как говорит Борис, вдоль спины.
Что-то похоже на правду в ее словах, что-то похоже… Дурак, говорят, сложное явление, включающее в себе честность, бедность и простоту, — как раз то, что по душе Малышеву, что ему симпатично, куда денешься. Циник всегда умнее, он много знает, но неосведомленный честный, искренний принимает жизнь, а циник ее отвергает, вот в чем суть. Глупец верует, не вдаваясь в подробности, любит жизнь, а умник — ничего не любит, кроме пресловутого знания того, что не надо никому и ничему верить.
— Ты просто деспот, — продолжала Марина, видя, что он не мытьем, так катаньем заставит Катерину поехать. — Наша дочь отправится, а другие будут отсиживаться. Сынок Смирнова или дочка Муханова, ты думаешь, торопятся-собираются? Кукиш с маслом! А наша дочь — первой. Ты не отец! Ты никогда и ни в чем ей не помогал. Ты палец о палец не ударил, чтобы дочь поступила в институт. Ты не знаешь, сколько мне пришлось пережить, сколько ходить, просить, унижаться, но я тебя и словом не потревожила, зная твою натуру. Ты не хочешь помочь, у тебя свои принципы — пусть будет так, но ты хотя бы нам не мешал самим как-то действовать!
— Мы же ни о чем тебя не просим, папочка, живи спокойно, — запела тоненько Катерина. — Я все-все понимаю, но и ты хоть чуточку меня пойми. У молодежи сейчас совсем другие оценки. Я не спорю, целина в ваше время была героизмом, романтикой и все такое, а сейчас…
Бунт обеих, сговор.
Да какой, к чертям, сговор, это их натура, уровень их бытия. Раньше они такими не были, пока дочь была маленькой, а потом вдруг выросла — «аттестат зрелости» — шагнула на очередную ступень и стала виднее отцу. А вместе с Катериной прояснилась и мать ее. Вдвоем они будто таились от него годами, втихомолку набирались умения ловчить и вот, наконец, показали себя. Он не заметил, просмотрел процесс и сразу увидел итог. А ведь они самый близкие ему люди, семья его, — и вот что себе позволяют. Он противится, считая их действия безнравственными, а они считают его глупцом. Нравственность наша тоже, выходит, опирается на таких, как он — простых, честных, искренних, принимающих все на веру.
— Тебе легко утверждать свои принципы, когда ты живешь на всем готовом. — Давно у Марины не было такого решительного порыва высказать ему все, чем бы ни закончился разговор. Если раньше он тиранил только ее одну, то теперь он безжалостен уже и к дочери, а этого все материнское ее существо не потерпит, глаза Марины посветлели от готовности идти до предела и даже дальше. — Да-да, на всем готовом! За моей спиной. Ты утверждаешь свою правоту на моих мытарствах, как вас хорошо накормить, получше одеть, вовремя постирать, навести в квартире порядок. Ты в своих идейных небесах витаешь, а я на постылой земле кручусь в черной заботе. Ты уже давно мог бы доктором стать, профессором, машину иметь, домработницу, дачу, все — как у людей, но ты доволен никчемным малым, тем, что ничего не имеешь!
— Все имею! — рявкнул он. — Кроме семьи!
Не слышал он от нее таких упреков, не ожидал. Чем возразить? Тем, что он имеет сотни, уже тысячи спасенных жизней, так разве она этой демагогии не знает? Она и сама врач, и тоже спасает. Да еще и на борьбу поднялась против тирании супруга, прорвало ее. Почему прежде кривила душой, лицемерила, ни словом, ни намеком, что муж ее паразит, захребетник, играет в свои идеи, как в преферанс, на полном ее обеспечении, — почему?
— В другом месте тебе бы цены не было, у тебя золотые руки, а здесь паршивый дворник тебя по судам затаскает, вчера опять из милиции приходили.
— Почему ты мне раньше не говорила, что я иждивенец и прочее? — Как будто вовремя предупрежденный, он еще успел бы к сегодняшнему дню исправиться.
— Я ждала, что ты сам поймешь, в конце концов, увидишь, что по-твоему жить нельзя, я пыталась тебя переубедить, но ты как скала! Твой идеализм хорош на моем практицизме.
Вон какие брезжут для него перемены — не он их, а они его начнут теперь переделывать. Слишком много ты захотел и всегда хотел — влиять на окружение здесь и там, и около, возомнил себя сердечником в индукционной катушке, а на деле оказался просто сердечником, пошлым больным.
— Другим я не стану, поздно, нам лучше расстаться.
— Лучше расстаться, — согласилась Марина. — Хотя бы на время, для твоего успокоения. Ты постоянно раздражен, по любому пустяку мечешь громы и молнии.
Он поднялся тихо, без грома и молнии, и ушел из-за стола. Ни мать, ни дочь не сказали ни слова, хотя Катерина могла бы попытаться погасить ссору, из-за нее ведь весь сыр-бор, и она не была так взвинчена, как отец с матерью. Промолчали обе. Как будто только и ждали его окончательного решения. Как будто даже заранее сговорились довести его до белого каления…
И вот он лежит один, уже разведен без суда и загса и спать будет в одиночестве на холостяцком диване. И ему не скучно.
Ему досадно, между прочим. Вечно у них за столом куча проблем, накачки и требования. Не семейный ужин, а рабочая летучка, планерка, оперативное совещание. Рассказывать анекдоты не в его манере, да бог с ними, с анекдотами, не было просто задушевных бесед, обмена мнениями, как у него, к примеру, в палате с Телятниковым. Все время их совместного пребывания дома уходило на решение каких-то совершенно идиотских проблем. Ну почему-у?! Ни слова о любви, например, о добре и зле, об истине, черт возьми, — никогда. А кто виноват! Разве не ты глава, голова семьи, не ты ли должен направлять, подсказывать, режиссером быть такого общения? Не мог. Не хотел. Не видел нужды. В голове нет, ко лбу не пришьешь.
Нет режиссера, потому что нет сценария, смысла нет — для них. Так ты найди его. А где, как? Для них, судя по всему, — с черного хода. Еще один дефицит — смысла.
Отказывается и тем борется. С кем, с женой и дочерью? Маловато для борца, прямо скажем. Не хватает ему врага конкретного. Где-то он наверняка есть, но — невидимка, хотя и постоянно мешает. Дефицит на врага. Он растворился, рассредоточился среди людей и даже в семье, разошлась чернота по светлому полю, не выловишь, не выудишь, разве только выпаривать надо, чтобы увидеть зло в осадке. Допустим, в 20-е годы он строил бы новую жизнь а борьбе с пережитками старого, с мещанством и с классовым врагом. А теперь? Новая жизнь построена, общество у нас бесклассовое, нет враждующих сторон и не может быть, ибо нет социальных причин для этого. Причин нет, а ненависть есть к стяжательству, рвачеству, хамству, слепая ненависть, безадресная, значит, надо указать врага, он живет и здравствует, но не признан за такового…
Наверное, он устал. Режет, режет, вспарывает и зашивает, высоко думает о своем деле, будто спасает человека для ценной содержательной жизни — каждого. А в действительности у каждого ли она ценна? Не добавляет ли он нуль к нулям? Но как ты, всего лишь хирург, сделаешь из нуля единицу? Чем, скальпелем?..
«Тебе легко утверждать свои принципы на всем готовом». Отсиживался за ее спиной столько лет. Порядочность свою лелеял за счет ее непорядочности. Не пора ли кончать?..
Скука. Уйдет он. Уходят же другие мужья. Сотни уходят. И тысячи. И совесть не мучает. Смертоносное тут житье. Иванушке-дурачку здесь не место, победы ему, как в сказке русской народной, не видать — никто его в дураках оставлять не хочет, так и рвутся переделать в умного.
Не хочешь понять, что своя рубашка ближе к телу, — и ты уже из ряда вон выпадаешь. Свободы от них хочется, независимости от их поганой дрожи, алчного трепета — то достать, другое приобрести, чтобы «все как у людей». А независимость — это уже твоя отдельность, ты уже враг их сообщества и даже хуже — какой ты враг, будто они тебя боятся, ты просто-напросто пустое место.
Ты дурак — дуют в одну дуду Марина и Катерина. Руки золотые, а мозги оловянные, думаешь, да все не о том, все не туда. Будто гонка накоплений страшна не меньше гонки вооружений. Да если разобраться, она страшнее — по ракетам главы государств могут договориться, будем надеяться. Но вот с золотой и серебряной ордой договориться нельзя, сладу с ней никакого, ни министров у нее, ни правительств, а владеет всем миром…
Увезли на «скорой», ясно было, что не пустяк, погрозила ему пальцем безносая, — а он что? Коньяк расширяет сосуды, а значит, снижает давление. Он поднялся с дивана, налил стопку и выпил, поставил бутылку — гулкий звук, срезонировал стол, завибрировал, сбитый, крепкий, монолит с мощной чревоугодной программой. Жральня — иначе и не скажешь. Со своим могучим биополем. Стоит в ожидании сборища, дремлет, подобрав лапы под брюхо. Не стол, а ракетоносец. Придет час, выдвинет он по бокам свои двенадцать боеголовок и на каждой — четверолапое, двадцатипалое, с челюстями стальными и золотыми, с желудком луженым, с языком наждачным, — спасись, попробуй, одинокий честный, одинокий стойкий! Не гостиная, а бункер с оружием, хуже нейтронной бомбы — жральня. Она не рушит ни дома, ни города, она и людей не косит, оставляет их вроде бы в целости, да только вот душу из них вынимает и заменяет мя-асом, смазывает ма-аслом, предметами первой, второй, а также третьей, пятой и десятой необходимости.
Ладно, Малышев, полегче давай, прими еще из бутылки. Им тоже трудно, инфарктов у них не меньше и кризов тоже, не говоря уже о сроках усиленного режима, конфискациях и запретах занимать определенные должности. Смилуйся, «дарагой», и представь, сколько надо локти ковать, сколько глотку драть и ночей не спать из-за этих благородных тупых честняг, которые сами не хотят жить и другим не дают. Ладно, прими еще и порадуйся за дочь. Хотя лезть в институт не по призванию — первейший признак мещанства! Но — лезут, взятки суют, разлагают, а потом, получив диплом учителя, строителя, геолога, филолога, идут в продавцы, в таксисты, в официанты и в парикмахеры. Дипломированная золотая орда. Дети своего времени.
Полегче надо, полегче. Иначе уложат в гроб вот на этом прочном столе. Отодвинут на время боеголовки в стороны, поскорбят пышно, с размахом, и снесут на кладбище. А стол останется и еще сто лет будет служить жральней. Отвратно ему не только чревоугодие, но более всего те речи, которые они произносят, жуя и глотая, — и того нет, и другого нет, и когда эти безобразия кончатся. Обжираясь, сетуют на нехватку, и обязательно анекдоты да непременно с душком, а ты слушай и хохочи до упаду. Если же тебе не смешно, если не клеймишь ты наши порядки последними словами, значит, ты холуй, консерватор и мракобес. И упаси тебя боже слово сказать, что люди наверху тоже вкалывают, работают на износ, что там поистине герои бьются, налаживая порядок, представьте вы себя на их месте, — тебя заплюют. И фактов приведут кучу, потому что и там нерадивые попадаются, бюрократы и волокитчики, даже если один засядет такой, и то он уже бревно в глазу. Слетают они, вылетают и брюзжать незачем, что власть мешает тебе мошну набивать, чулок утрамбовывать, к «Жигулям» еще «Волгу» добавить, особняк построить за сорок тысяч.
Почему все это задевает тебя лично, будто власть — это ты сам? Тебе что, больше всех надо?
Нет, мне надо меньше всех — в вашем-то понимании.
По-твоему, у нас все хорошо?
Нет, далеко не все.
Так чего же ты мне рот затыкаешь, правду не даешь сказать?
Мне противно тебя слушать и вдвойне противно тебя поддерживать. «Правда, одна только правда, — а значит, и несправедливо».
Просто он верует, хотя вера его не всегда оправдывается. Значит, верует он мужественно, верует стоически и плевать ему на ваше дай-подай и немедленно, не завтра-послезавтра и не в следующей пятилетке, а сию минуту, а не то — куда идем и куда заворачиваем.
Измерять завтра давление или лучше не надо?
Почему он ее раньше не выбрал, ведь была же такая возможность сначала, давным-давно, на заре туманной юности? Почему не искал, не нашел потом? Привезли его к ней черной ночью под красным крестом, сам бы он никогда не пришел, не нашел, не осмелился бы рвануться навстречу ей. Не дерзнул бы полюбить…
Пусть теперь и жене, и дочери, и ему, всем троим — четверым уже, если с Аллой — станет легче на белом свете.
— За твое счастье. — Он наполнил рюмку. — За твое и твоих дочерей. — Выпил, опустил бутылку со стуком, будто из меди кованный стол, колокол прямо-таки, даже в дверях стук отозвался — тук-тук, — дверь сама приоткрылась — а-а, Катерина, милости просим.
— Можно к тебе? Ты еще не спишь? — Уже и папулей не называет, растет, делает выводы. — Извини меня, но… как мы квартиру поделим? — Красивая у него дочь, глаза большие, личико нежное, волосы пушистые, светлые, сущий ангел. — Ты возьмешь себе две комнаты, а нам с мамой одну, я правильно поняла? Горсовет тебе поможет?
— Ложись спать, Катерина, я оставлю вам всю квартиру. Пусть тебе приснится хороший сон.
— Зачем такие жертвы? Мы за справедливое решение.
— Иди спать, мое решение окончательно.
Поразительно все-таки ее спокойствие, или как это назвать, расчетливость, трезвость, что ли, в критический ситуации. От какой она яблони яблоко? «Дочь своего времени». А он чей сын, какого времени? Уже прошедшего? Или все еще, все еще не наступившего?
Очень уж она современна. Не за семью беспокойство, а за квартиру.
А если она пришла по другой причине? Может быть, ждала его извинений, надеялась, он остыл и успокоит ее, сказав, что все это чушь собачья, прости, дочь, я погорячился, вышла жалкая свара, — может быть, ждала?.. Но если и так, ничем она себя не выдала. А вот беспокойство за квартиру явное, не могла уснуть, представляла себя с матерью в однокомнатной секции где-нибудь в панельном доме. Сама черствая, она и от него не ждала ничего другого.
Почему-то никогда его дочь не была жалкой, беспомощной, а сейчас тем более — грудастая, хотя и тонконогая, вся в мать, подвижная, вызывающе телесная, так и пружинит у нее все видимое и невидимое. И своенравна сверх всякой меры. Она и маленькой была упрямой, уговоры его отвергала, участливые слова ее раздражали, — он просто диву давался, не понимая, в чем дело. Не понимает и до сего дня, когда дочь выросла, а он уже готов состариться, — так и пойдут теперь жить-поживать в стороны…
Засыпая, он думал, что черствость ее и неуязвимость внешняя — от инстинкта самозащиты. Она будто знала, что рано или поздно отец их бросит, и незачем в отношениях с ним разводить телячьи нежности.
Рано или поздно… Терпи, Малышев, терпи.
14
Смотрел Зиновьев и глазам не верил — как сильно все здесь переменилось! Небо вокруг то же самое и звезды хоть пересчитывай, кромка облака белеет на синеве, правда, опушка по краю слегка загрязнилась. Место встречи прежнее, но вот обстановочка и вид у старца, прямо-таки видуха! Зиновьев явился на сей раз не по вызову, а по собственному желанию, возникла такая острая необходимость.
Свет синеватый, потусторонний, как и положено, очертания предметов не четкие, а всего лишь намеком — кресло с высокой спинкой, стол письменный роскошный со всякими антикварными безделушками, темного дерева книжные шкафы сбоку, интерьер всего лишь угадывается, не предметы присутствуют, а их образы, сам же старец виден отчетливо — и каков шельмец! В тот раз он был как в сауне — голый, брюшко в складках наплывом, без пупка, разумеется, голова лобастая в седом венце, облик имел мыслителя профессионального и с о-очень большим стажем, а сейчас он — грешно сказать — как на броде. Во-первых, в джинсах, штанины подвернуты, на коленях белесая потертость, на заднице нашлепка под бронзу, знак фирмы, не то бугай с пологими рогами, не то орел с простертыми крылами, на ногах кроссовки, опять же замызганные, как и положено хиппаку, тельняшка моднячая в широкую полоску и на шее бранзулетка редчайшая, похоже, из сокровищ Тутанхамона (Зиновьев их видел прошлым летом, простояв с Анютой у врат музея на Волхонке с пяти утра до пяти вечера), — одним словом, перед ним был дед в дефицит одет. Да и атмосфера вообще другая, учуял Зиновьев, микроклимат не тот, не такой взыскующий, без напряженки, к тому же Зиновьев уже ученый, он принял три таблетки баралгина на случай, если старец начнет лихачить и включит сковороду. Дышалось вроде бы легче, чем в тот визит, от космического ветерка колыхались шторы на окне и разносило воздух, причем попахивало, как Зиновьеву показалось, вроде бы даже перегарцем. Сначала Зиновьев не поверил своему зрению, теперь хоть не верь обонянию, а впереди предстояли испытания и слуху еще, и осязанию.
Старец сидел, согнувшись, на краешке кресла, локтями опершись в колени и, судя по позе, страдал одновременно духом и телом, будто с похмелья, и посетителя перед собой не замечал. День был явно не тот, не приемный, Зиновьев понял, но не поворачивать же обратно. Да ведь и не скуки ради он сюда вознесся, а по делу важному, можно даже сказать, общественному.
Зиновьев кашлянул и переступил с ноги на ногу, отметив, что и сам он сегодня не голый, а при параде, в костюме и даже при галстуке, кашлянул еще раз, но старец, как сидел плешью вперед, так и остался сидеть.
— Лет до ста расти вам без старости! — громко приветствовал его Зиновьев, глядя на джинсы.
Старец шевельнул кроссовками, закинул ногу на ногу, согнул руку в локте и подпер ладонью голову. Брови его были сведены от великой думы. Значит, кроссовки не зря в такой бешеной моде, даже невесты во Дворец брака не в туфлях идут на каблучке, а вот в этих дерьмодавах, о чем «Комсомолка» писала с недоумением.
Старец поднялся, скрипя в суставах, прочикилял мимо стола, штаны его брезентово шуршали при каждом шаге, и там, куда он направил стопы, Зиновьев увидел доску, черную и прямоугольную, вроде обыкновенной школьной, и на ней письмена мелом, кривоватым почерком нетвердой руки. Над доской сверху что-то посверкивало, мельтешило рекламным светом, на секунду обозначились дрожащие буквы бегущей строки и пропали, но Зиновьев успел прочесть: «Нео-заповеди на Третье тысячелетие». Он понял, что застал старца как раз в творческом процессе. Тот подошел к доске, написал мелом: «Шайбу! Шайбу! Мо-лод-цы!» — помешкал и поставил сбоку знак вопроса, то есть вариант для обдумывания, а Зиновьев тем временем быстрым скоком окинул все написанное: «Своя рубашка ближе к телу», «Умный в гору не пойдет», «Хочешь жить, умей вертеться». Старец вздохнул, вроде бы устав от писанины, и пошел опять в кресло, недовольно что-то мыча или стеная, сел в кресло, почесал под мышкой и закинул обе ноги в кроссовках на стол, оказавшись боком к Зиновьеву, вполне к нему пренебрежительно.
— Я с вашего позволения, прибыл, извините за беспокойство, — сказал Зиновьев заискивающе.
— Чего тебе? — Головы не повернул и ни один мускул его не дрогнул.
— Нужен совет, ваше э-э-э, космическое высочество.
Старец убрал ноги со стола, оперся о кресло обеими руками, встал с кроватным скрипом в суставах, опять пошел к доске, написал: «Ушла на базу», подумал-подумал, взял тряпку и стер последние афоризмы про шайбу и про базу, после чего вернулся в кресло и, не глядя на Зиновьева, углубленный в свои мытарства, спросил:
— Чего тебе надо, хиляк? Я тебя не вызывал.
Ну и ну, что еще за хиляк? Хоть ушам не верь.
— Нужна помощь, ваше высочество, наставления, указания и неотложные меры.
— Ходют тут всякие.
Не только одеяние старца, но и лицо у него было иным — не умудренным и не взыскующим, как в тот раз, а сугубо земным и ультрасовременным — губа брезгливо от-квашена, в глазах тупое, прямо-таки тупейшее равнодушие и рот постоянно открыт, будто у него аденоиды или полипы, морда дебила, ни дать ни взять, что как раз и модно в миру-то, на броде и на эстраде, и тут Зиновьев наконец-то вспомнил: да ведь он же ему сам советовал! Старец на земле побывал, в нужды населения вник, как всякий неофит усвоил то, что сверху лежит, — и вот вам, пожалуйста, любуйтесь на него и радуйтесь. Зиновьев поискал еще земные приметы, в окно выглянул — так и есть, «Лада» стоит шестой модели и номерной знак белый «АД-666». Что же, тогда этикет меняется, с такой публикой надо вести себя понаглее.
— А вежливее со мной нельзя? — сказал Зиновьев и ногами ощупал облако под собой, не нагревается ли? А то ведь и баралгин не поможет, если такого хиппака раззадоришь, они же ведь без руля и без ветрил. Кстати, и сковороды что-то не видно. — Послушайте, а сковороду вы что… отключили?
— Энергетический кризис, балда, — пояснил старец.
Да тот ли перед ним старец, в конце концов? Может быть, у них пересмена, скользящий график, и Зиновьев не к тому попал? Да нет вроде, сменщик ему по штату не полагается, он один, един, всеблагой, всевышний. Ну а коли так, неужели он забыл про свои наказы, угрозы и требования в прошлый-то раз? Такую прожарку Зиновьеву устроил, век не забудешь, а что теперь? Настроил, мобилизовал, накачку дал, распекачку и все забыл. Надо же контролировать исполнение, — растил в себе негодование Зиновьев. — Пусть ты на земле побывал, переоделся, рожу свою, извините, лик свой под дебила перестроил, но сущность-то твоя первозданная должна сохраниться?!
Злись не злись, а если уж большое начальство тебя в упор не видит, то делай вывод. Составляет старец заповеди, прими посильное участие и не суйся со своим личным под видом общественного. Зиновьев зычно, как в степи, откашлялся, привлек внимание и изрек на пробу:
— Языком мели, а рукам воли не давай! — В словах его и намек содержался особливо не бесчинствовать, если что.
— Ла́жа, — отозвался старец лениво, но все-таки плешь свою поднял и на Зиновьева посмотрел, значит, клюнуло.
— Моя хата с краю, — увереннее предложил Зиновьев.
— О, да ты молоток, смотрю, волокешь. — Старец прошагал к доске, четко выписал зиновьевскую подсказку, отряхнул руки от мела. — Ну, чего там у тебя протекло? — небрежно спросил, как слесарь-сантехник.
— Поговорить бы надо. Желательно по душам.
— Валяй, только покороче.
— В прошлый раз вы со мной вели разговор, между прочим, поучительный. Я его принял к сведению, но есть определенные трудности. Вы должны меня понять правильно и помочь мне. Поможете? — повысил голос Зиновьев.
— Все для блага населения, — как заведенный, сказал небесный старец совершенно земным голосом.
— Ситуация сложилась такая: я уже не беру.
— Ну? — сказал старец, глядя на Зиновьева с приоткрытым ртом, ну прямо с брода чувак или с эстрады этот, как его, из кулинарного техникума.
— Я даже не намекаю, мало того, я категорически отказываюсь, — не помогает! Сами суют, силком суют, вы понимаете, силком? Что прикажете делать? — Зиновьев даже шагнул вперед, требуя усиленного внимания; и тут старец оживился, легонько хлопнул себя по лбу, кажется, даже произнес: «Эврика», пошел к доске и написал четко: «Только бульдозер от себя гребет».
— Не хватит ли? — сказал Зиновьев, теряя уже терпение. — Пора подвести черту.
— Фигня, — отозвался старец. — Надо семь как минимум, иначе не комплект. Чего там у тебя еще есть, пошарь во лбу? Только чтобы верняк, актуальное.
Зиновьеву тут и думать не надо, чего-чего, а такого добра у него навалом.
— «Ты мне, я тебе», — предложил он. — Иначе говоря, любовь к ближнему, если по-старому.
Старец охотно принял эту максиму, мало того, поставил ее на первое место, затем, возвратясь к столу, сказал:
— Утрясем вопрос и провентилируем тики-так. — Похлопал себя по карманам, ища закурить, вытянул пачку «Кента», щелкнул зажигалкой «Ронсон», выпустил дымок, и пижонское колечко сизым венцом повисло над его головой, как на картинке Жана Эффеля.
— Вы, я вижу, на земле побывали на грешной и вкусить кое-чего изволили, — заметил Зиновьев.
— А как же? Ближе к массам. Нельзя отрываться, изучать надо нужды, потребности и чаяния.
— Надо бы людей к порядочности призвать, совесть окончательно потеряли. — Возможно оттого, что подобная фраза была Зиновьеву не совсем к лицу, она как бы свернулась в нуль и легким таким флером ускользнула в космическое пространство, не задев головы старца.
— Толкуют, вишь ли, что бога нет, что он умер и всякую-такую лапшу на уши вешают. А я докажу! Это вы там умираете да не сдаетесь, а я гибкий, тики-так. — Он самодовольно ухмыльнулся и выпустил еще два колечка дыму.
Зиновьев тяжело вздохнул, не видя признаков для своего утешения. Старец на земле насмотрелся, наслушался, принял все некритически и решил возглавить движение вместо того, чтобы поставить ему заслон. Пошел на поводу у толпы ради дешевого авторитета.
Зиновьев с тоской огляделся — куда теперь обращаться за помощью, кому высказать покаяние и попросить всепрощения? — увидел, наконец, сковороду пресловутую, но, бог ты мой, в каком она состоянии? Бесхозный инвентарь, осиротело пустынный, с ошмотьями горелой ржавчины в сизом полумраке заброшенности; с дальнего его края доносилось слабое шарканье метлы, словно по асфальту. Зиновьев вгляделся и сквозь облачко рыжей пыли различил призрачное созданьице с острыми крылышками за спиной, вот оно взмахнуло метлой — звякнула и покатилась пустая бутылка, еще взмахнуло — затарахтела консервная банка, облачко вздымалось и отходило в сторону, и одно, и другое, и третье.
Старец между тем докурил сигарету, загасил ее о подошву и щелчком пульнул окурок в пустоту.
— Сатане теперь кранты, дорогуша, конфронтации никакой. А что помогло? Связь с земными нуждами помогла. Не отрывайся, познавай, изучай запросы — такая, вишь, злоба дня.
— А кто тебя надоумил, как не я? — возмутился Зиновьев. — Хотя бы спасибо сказал.
— Спасибо, дарагой. Ты мне, я тебе. Хошь, судьбу предскажу?
С поганой овцы хоть шерсти клок. Зиновьев увидел сбоку полки с тяжелыми фолиантами, полная батарея от «А» до «Я», корешки кожаные с выпуклыми полукружьями, и на них бронзовые буквы — «Книга судеб», — прочитал Зиновьев, склонив голову набок.
— Как твое фамилие? — спросил старец.
Раньше знал, маразматик, досконально все.
— У тебя склероз, дед, переходи на сыроедение.
— Ничто человеческое мне не чуждо, страдаю провалами.
Он опустился, — вот в чем главная его беда, — до земной нужды снизошел, пал долу. Люди тянутся к небесам неспроста, в космос взмывают по извечной тяге к возвышенному, а эта орясина старая, наоборот, опустилась до простого смертного и слышишь теперь, что боронит? Вместо того, чтобы взять человека за уши и тянуть из рутины на высоты духа, он сам скатился и погряз в болоте, поддался заразе разложения и подобающе принарядился, каналья.
— Стадо без пастыря разбредется, — сказал ему с упреком Зиновьев. — Вести же надо его.
— Хочешь, чтобы я зазнался? — подозрительно спросил старец. — Чтобы оторвался? Хрен тебе. Я демократичный и общедоступный. А стадо из отдельных голов состоит и каждая запрограммирована и внесена, куда надо, все тинь-тили-линь. Как фамилие, спрашиваю?
— Так для чего ты сидишь тут? Вахтером устроился, синекуру нашел, халтуру?
— В длинной поле запутаешься, длинным языком удавишься, — беззлобно парировал старец. — Подай фолиант.
Зиновьев, делать нечего, шагнул к стеллажу, учуял мышиный запах, пылесос тут еще не освоен и про хлорофос не ведомо, посмотрел по корешкам «Зан, Зен, Зин», вытащил тяжелый, как аккумулятор на «Жигулях», том и подал старцу, тот положил книгу перед собой, водрузил на нос очки, опять же тонированные и со значком фирмы на стекле, раскрыл, послюнявил палец, полистал.
— Ну вот, Зиновьев Борис Зиновьевич, одна тысяча девятьсот тридцать седьмого года рождения, — старец отколупнул наклейку фирмы — мешала, но не выбросил, а положил на стол. И снова в книгу. — Учился, женился, про то ты знаешь, а вот про это не ведаешь, милок, огорчу я тебя крепко, под суд пойдешь! — старец словно бы обрадовался неожиданной для слушателя вести. — Четыре статьи указаны с консифи… конфиси… кацией, — еле выговорил он, — имущества. За злоупотребление служебным положением, раз, за незаконное производство абортов, два, за служебный подлог и подделку документов, три, а главное тебе — за получение взятки должностным лицом, занимающим ответственное положение. По совокупности узилище тебе на девять лет строгого режима. — Старец поднял на Зиновьева голубые свои, небесные глаза со светлыми, вполне можно сказать, поросячьими ресницами, скукоженные щеки в морщинах, как печеные яблоки. — Написано пером, не вырубишь топором.
— За что?! — Зиновьев захлебнулся от негодования. — Опиум для народа! Головотяп! Бездельник!
— Постой-постой, как тебя там, интеллигент паршивый, прослойка, чего ты на меня бочку катишь? Думаешь, бессмертному легко? Понавешают на тебя собак, не соскучишься, да еще будут тут всякие с критикой возникать. Истина конкретна, понял? Давай мне факт, разберемся, обсудим, а то ишь — слабода слова!
— Люди от тебя поддержки ждут, а ты, разложенец, самоустранился, фолианты завел, досье, инвентаризацию, будто мы ведра, чайники. Но где твой перст указующий? Я тебя как бога просил умерить потребности, сократить жадность бесовскую, алчность ненасытную.
— А что я с этого буду иметь?! — возопил старец словно находке и посмотрел на свои скрижали — а не добавить ли еще одну заповедь?
— В джинсы влез, развалюха, бодягу тут всякую сочиняешь, — на чью мельницу воду льешь?
— Чего разбухтелся? Все тут будете.
— Хочу жить по-старому, понял?! Чтобы тот свет был, чтобы сковорода на полную мощь работала, чтобы возмездие было и страх кары не покидал. — Зиновьев шагнул к доске, схватил тряпку и замахнулся стереть одним махом все нео-заповеди, но тут старец проворно подскочил к нему, дернул за рукав, и когда Зиновьев обернулся, он с возгласом: «А вот хрен тебе!» залимонил Зиновьеву в ухо, в левое — дзинь! — срезонировало у Зиновьева в голове, но он не унялся: — По-старому хочу! — изо всех сил закричал Зиновьев. — Если бьют по левой щеке, подставляй правую. На, бей!
Старец не стал упрямиться, поплевал в кулак и звезданул Зиновьева в правое ухо, — дзи-инь, более продолжительно отозвалось в голове, словно в органном зале…
Зиновьев открыл глаза. Звонили в дверь. Настойчиво.
Было светло, солнечно, хотя еще рано, кого там принесло, почтальоншу? Анюта сопела, раскрыв рот, ничего не слышала, голые груди горой. Набросил халат, подошел к двери, один ключ повернул, второй ключ повернул, дернул на себя дверь — стоят четверо: старший следователь такой-то, просто следователь такой-то и двое понятых для обыска — Витя-дворник и миляга Чинибеков.
15
Только на работе, в больнице он чувствовал себя уютно, при деле, а дома словно отбывал повинность. Отношения с Мариной выровнялись, стали ровно отчужденными, без претензий и требований. Он чего-то ждал, непонятно чего. Ну хотя бы возвращения Катерины, чтобы не оставлять Марину одну. Дочь все-таки поехала на целину, сделала ему одолжение. Пока собиралась, довела Марину до истерики. Сначала заставила ее прострочить в клетку нейлоновую куртку, чтобы получилось под телогрейку, Марина сделала, но клетка оказалась мелкой, дочь все распорола и уговорила мать прострочить снова, крупнее, потом носилась по городу в поисках особых сапог под названием апрески. Марина обзвонила свое застолье — достали. За сколько, он уже не стал выяснять, но диву дался, как увидел — на толстенной, как шина у самосвала подошве, нечто вызывающе уродливое. Потом сшила себе подобие комбинезона, еще одну имитацию рабочей одежды, и все спешно, срочно, с невероятной энергией. И поехала имитировать целинные подвиги, хорошо, что не у него на глазах. Сначала подделка рабочей одежды, а потом подделка трудовых движений, от этого, как известно, и родился в древности танец как вид искусства.
А в больнице все шло своим чередом — обходы, операции, перевязки, выписки и новые поступления.
Лева Ким поправлялся, приносили ему передачи и палата на веки вечные пропахла корейским блюдом с едкой приправой для аппетита. Малышев ему дал задание набирать вес, и Лева старался. Он должен жить долго, он обязан, он призван написать тысячу и один портрет своих современников для людей XXX века. Он обещает уважаемому Сергею Ивановичу не курить, не пить и все время отдавать творчеству.
Алим Санаев тоже поправлялся, жаловался — «наел морду» — и улыбался редко. Жанна приходила к нему то с утра, то после обеда, они подолгу сидели рядышком и старались не говорить про суд. Алик держал под подушкой отрезок железной трубы, пряча ее от нянечек и сестер, как дополнительное средство лечения. В магазине 7/13 работали уже и другой заведующий, и другие продавцы в винно-водочном отделе. Мусаева со своим «прокурором» и обоими племянниками содержались в следственном изоляторе, писали жалобы и поочередно симулировали сумасшествие, определенно на кого-то надеясь.
Вах тоже сидит. Кроме растраты, ему будет статья за спекуляцию дефицитом и еще за хранение огнестрельного оружия. Если бы он меньше швырялся деньгами, то мог бы служить представителем новой категории жуликов. Хапанет такой тысяч сто, припрячет надежно и после суда идет в колонию с ощущением хорошо проделанной работы. Энное время пробудет он колонистом — тут не жаргон и не издевка, именно колонистом, сейчас нет ни тюрем, ни лагерей, ни конвоя, а есть следственный изолятор, колония и сопровождение, не арестанты и не зеки, а прямо-таки дипломатические представители, — поживет на всем готовом, робу ему дают, едой обеспечивают, за здоровьем его следят, сон и покой стерегут неусыпно. Поработает он на совесть года три-четыре из тех десяти-двенадцати, которые ему определены приговором суда, скостят ему за труды оставшийся срок и выйдет колонист на свободу к своим припрятанным тысячам, извлечет из тайника нахапанное и спокойно будет говорить всем любознательным, будто он из загранкомандировки вернулся.
Но зачем туда идти Алику, для которого вся эта история — похмелье во чужом пиру! Взяли с него подписку о невыезде и он перестал улыбаться, потому что знает — на суде ему быть не только свидетелем, но так же и обвиняемым. Может быть, дадут условно? Если что, Жанна поедет вслед за Аликом хоть на Колыму, носить ему передачи и ждать его освобождения. Грудная клетка у него до сих пор в гипсе, ребра на рентгене срастаются, была еще гематурия сильная (кровь в моче), но теперь прошла. Беспокоило Алика еще одно обстоятельство — будет ли свадьба? Снимут ли ему гипс, или так и пойдет он в загс в броневом жилете? В таком случае никакая сволочь ударом в спину не застигнет его врасплох, а из трубы Алик сделает тросточку на случай встречи с другими племянниками Мусаевой.
Настенька Сиротинина пошла в десятый класс и снова танцует в ансамбле Дворца культуры, теперь ее провожает другой поклонник с проверенным социальным положением и моральным обликом, о чем постаралась Елена Леонидовна. Профессор Сиротинин жив и вполне здоров, по-прежнему обожает свою единственную дочь и спокойствию его в такой ситуации могут позавидовать многие.
Какие еще новости? Трудно стало работать с Кларой, но Малышев надеется, что она отойдет, успокоится. Она не скрывает свою обиду на Сергея Ивановича, хотя и знает, что он болел в те дни, как раз в больнице лежал. Известно ей и про две характеристики, и про записку проректору Кучерову, к которому ходил Григоренко, но… дочь Сергея Ивановича поступила с первого раза, а верная его помощница вторично уже оказывается за бортом. Малышев посоветовал ей пойти на подготовительное отделение при мединституте, оттуда как правило поступают все.
С Даниловой у Малышева отношения прекрасные. Одним словом, на работе все как будто в порядке, все ясно, понятно, определенно, а вот дома…
Спит он в спальне, на прежнем месте, но спокойствия нет. Он устал от семьи, он ощущает свою ненужность здесь, а сил уйти — нет. Он знает, кому он нужен, но не может принять решение, кажется ему, что еще есть силы тянуть лямку дальше. Не могут короли жениться по любви…
Тебе нужен отпуск, говорила Алла, ты не можешь сейчас так много работать. Не возражала против отпуска и Кереева, — идите, Сергей Иванович, а то я сама пойду, а вас за себя оставлю. А ему не хочется пи в отпуск идти, ни за главврача оставаться. «Поедем вместе куда-нибудь», — предложил он Алле, но она использовала свой отпуск в июне, когда выдавала Лизавету замуж.
С Мариной не о чем говорить, если договорились уже до развода.
Но не ей же уходить надо, а тебе. И он уйдет. Когда — не знает пока. И куда — тоже не знает. Чего-то ждет, знамения свыше, что ли? Или, может быть, истечения срока своих депутатских полномочий, — неприлично разрушать семью, когда сам призываешь к порядку. Так ведь еще полтора года ждать. Да и не попы депутаты, чтобы жениться один раз в жизни.
Однако надо ждать Катерину, она приедет в октябре, не раньше, без нее будет бегство, не может он оставить Марину одну.
Алла ничего не знает. Спрашивала его, поступила ли Катерина, сказала: «Вот и хорошо, я рада за тебя, будешь спокоен». Ничего не знает и ничего не узнает, пока он не останется один. Останется он один, и тогда слова придут сами — свободно.
Осень будет, дождливая ночь, мрак — в самый раз уезжать при такой погоде, только в дождь и при ночном мраке, чтобы острее была жажда рассвета и уюта.
Дом медиков ему опротивел, удивительно, как он мог тут жить раньше? Чинибеков, Витя-дворник, да и Борис Зиновьев, — отвратны все. Он так и не знает, какую характеристику написала ему Кереева на запрос милиции. Спрашивать — гордость не позволяет, а забыть про нее не может. Почему-то из милиции ничего ему не сообщают, не вызывают, так уж трудно, черт возьми, разобраться! Это тоже сидит в нем занозой.
Терпит пока и ждет. Прислушивается к самому себе, как идет перемена в нем. У него инкубационный период решимости, не вспышка краткая, не молодежный бзик, а продуманное и пережитое отречение зрелого.
Ну а почему бы не сказать Алле, почему бы не посоветоваться? Он на нее надеется, но не знает, как она к этому отнесется. Тебе вредны стрессы, Сережа, подожди, скажет, успокойся, потом. Наверное, ей тоже потребуется время принять решение, она тоже не девочка…
Нет, лучше потом. Когда оба они станут одинокими. Двоим одиноким легче решить проблему быть или не быть.
Сегодня он обещал позвонить ей без четверти четыре, — застать ее в больнице перед уходом ее в поликлинику, там ей говорить труднее. Ждал этой минуты и волновался. С каждым днем волновался все больше — а вдруг сегодня все само собой скажется? А она с каждым днем все ласковее, она будто чует что-то, голос ее дрожит. Возьмет трубку после его звонка, скажет обыденным голосом: «Да, слушаю» — и тут же, узнав его, смолкает, у нее перехватывает дыхание, будто совсем не ждала его, врасплох он ее застал. Нет, она что-то чует и тоже ждет.
Без четверти четыре он вошел в свой кабинет, протянул уже руку к трубке, как телефон зазвонил.
— Хирургия, Малышев, — сказал он радостно, для нее сказал, и услышал мужской незнакомый голос:
— Здравствуйте, Сергей Иванович. Вас беспокоит следователь горУВД Крухмальный.
— Слушаю вас.
— Мне хотелось бы с вами встретиться, Сергей Иванович, поговорить. В удобное для вас время.
Молодцы, ребята, предельно вежливы, всегда корректны, как главы правительств, умеют позолотить пилюлю.
— Я к вашим услугам.
— Можно мне зайти к вам завтра, лучше бы с утра?
— С утра я занят. Давайте сегодня, я сам к вам приеду, вот прямо сейчас, в шестнадцать тридцать. Мне это уже надоело, я вашего звонка ждал.
— Так-так, — следователь помедлил и спросил с некоторым удивлением: — Вы знаете, о чем речь?
— Догадываюсь.
— Тем лучше, Сергей Иванович. — Нет, удивление в его голосе Малышеву почудилось. — Где мы находимся, вы представляете? По улице Мира ниже Алтынсарина. Кабинет двадцать третий. Жду вас, Сергей Иванович.
Малышев положил трубку и подумал, что Марина была права, советуя зайти к Харцызову в исполком, чтобы разобрались, в конце концов, и решили. Взыскание так взыскание, только не тянуть волынку, не железные у него нервы. Зря не зашел, теперь вот придется со следователем обмениваться любезностями…
Ладно, спокойнее, все идет своим чередом. Заявление написано, есть какие-то резолюции, заодно он узнает, какую характеристику дала ему главный врач. Не верит он Кереевой, а надо верить, вместе работают, пусть ему покажут все бумаги для ясности. После беседы он позвонит Алле и наверное все скажет. Пора уже.
Но она ждет его звонка сейчас. Набрал ее номер — какие новости, Алла?
— Никаких, Сережа, это у тебя всегда новости. Сижу, гадаю — позвонит, не позвонит?
— У меня встреча в шестнадцать тридцать, я тебе потом позвоню. Ты до семи в поликлинике?
— Да. Если не успеешь, звони домой, только обязательно.
— А если я сегодня зайду к тебе? И что-то скажу.
— Что, например?
— Мне пора, не хочу опаздывать.
— Ну хоть чуточку — о чем? Я не вытерплю до вечера. На какую тему хотя бы?
— Пусть всегда будет солнце, пусть всегда буду я.
— А я?
— Скажу вечером, потерпи, я больше терпел.
— Ла-адно. — Она вздохнула. — Куда ты все-таки идешь, у тебя в голосе напряжение?
— Да так, пустяки, Алла. Устал слегка.
Вышел из больницы. Вовремя он пожелал, пусть всегда будет солнце, как раз набежала туча и стало как будто уже семь вечера. До улицы Мира он доехал троллейбусом, там пешком резво еще квартал, вот и горуправление.
Вот сегодня и развяжется узел, думал он, шагая по ступенькам неторопливо, ритмично, прислушиваясь к своему сердцу. Видно, узел был стянут крепче, чем ему думалось. Прошел один марш, на повороте окно, по стеклу били струйки дождя и стекали потеки пыли, ему повезло, успел пробежать до дождя, повезет и дальше. К вечеру станет прохладнее, они с ней сядут возле окна, будут смотреть на дождь и говорить неторопливо.
В том, что следователь уже во всем разобрался, можно не сомневаться, принято, наверное, какое-то решение, Малышеву надо с ним ознакомиться, расписаться. Какой бы ни была характеристика Кереевой, Малышева она не огорчит, — так он себя настроил, не огорчаться.
Поднялся, вздохнул, пульс ровный, ритмичный, а вот и дверь с номером двадцать три и фамилия на табличке «Крухмальный Л. С.»
— Можно войти?
Из-за стола поднялся молодой, вернее, моложавый человек в сером костюме, в голубой сорочке, рыжеватый, с четким пробором, шагнул навстречу Малышеву, подал руку.
— Прошу садиться. — Указал на стул, корректно, хотя и не очень приветливо — служба, и от тона его у Малышева сразу собранность, как-никак перед ним следователь, а не артист разговорного жанра.
— Мы с вами не знакомы, Сергей Иванович, ни я у вас не бывал, слава богу, ни вы у нас. Я старший следователь горуправления Крухмальный Лев Сергеевич.
Малышев кивнул.
— А я заведующий хирургическим отделением горбольницы. Имя, отчество и фамилия вам известны.
— У нас возникла необходимость побеседовать с вами, Сергей Иванович. Это не допрос, не следствие, просто беседа, даже, можно сказать, не обязательная. Я по своей личной инициативе решил с вами встретиться.
— Спасибо за личную инициативу, Лев Сергеевич. Я готов, слушаю.
Малышев уже замечал, любезность у них особенная, она им удивительно легко дается, у врачей, к примеру, так не получается, может быть, потому, что любезность следователя не столько этикетная, сколько профессиональная, деловая, сначала он тебя усыпит вежливой формой, а потом эффектнее шарахнет неожиданным содержанием. Малышев частенько встречался с сотрудниками милиции, прокуратуры, следователями, работниками ГАИ, особенно после праздников, имел возможность понаблюдать.
— Для начала, Сергей Иванович, вернемся к нашему разговору по телефону.
— Давайте вернемся.
— Когда я спросил вас, знаете ли вы, о чем пойдет речь, вы мне ответили: догадываюсь. Скажите, о чем вы догадываетесь?
— Догадываюсь, что к вам поступила кляуза, будто…
— Кляуза? — перебил Крухмальный. — Сергей Иванович, мы обычно пользуемся нейтральными формулировками — сигнал, допустим, или там заявление. А оценку этому сигналу пли заявлению уже дает суд. Может быть, это и кляуза, может быть, даже и клевета, но — суд, а не мы с вами.
— Это именно кляуза, — подчеркнул Малышев недовольно. — Я и сам пока в состоянии определить, что к чему.
— Вы ее видели?
— Да.
— Где, у кого?
— У главного врача Кереевой.
— И что там, в этой, как вы говорите, кляузе?
— Полагаю, вы изучили ее не хуже меня.
— И все-таки, Сергей Иванович, я вас прошу. Я могу знать одну точку зрения, а у вас она совсем другая. Требуется, как известно, две стороны медали.
Крухмальный, однако, ничего не пишет и не собирается, хотелось бы знать, почему? Или он надеется, что Малышев будет ходить к нему девяносто девять раз по этому вонючему эпизоду и давать показания, пока не собьется и не поймается? Полегче, Малышев, ты не с луны упал, должен знать, что такая у них работа, спрашиваешь же ты анамнез у больного, и вопросы, бывает, задаешь нелепые, у него рези в животе, спасу нет, а ты ему — чем болел в детстве?..
— По утрам дворник подметает у нас во дворе в самое неподходящее время, когда люди идут на работу, когда ребятишек ведут в детсад, все вынуждены пыль глотать, кому это приятно?
— Понимаю-понимаю, — кивнул Крухмальный.
— Я звонил в домоуправление, просил призвать дворника к порядку, а он как мел, так и метет, ну я и взорвался, вышел и погнал его со двора вместе с его метлой.
— Понятно, терпение лопнуло.
— Вечером он явился пьяный и обмазал двери моей квартиры дерьмом. Я схватил его за шиворот и отбросил. Или надо было милицию звать?
— Я бы на вашем месте поступил бы так же.
Что же, и на том спасибо.
— Отбросил, а он руками в стекло, у нас дверь в подъезде застекленная. Порезал себе руку, кровь, пришлось мне помощь оказывать, перевязку делать. Потом он написал заявление вместе с Чинибековым, которого я выгнал из своего отделения за безобразия. Вам все понятно?
— Личные счеты?
— И счеты, и талант пакостить. Якобы Малышев жестоко избил дворника, приложили справку судмедэксперта и пошло-поехало. Вот и все мои сведения.
Крухмальный сочувственно покивал, и Малышева от его сочувствия потянуло за язык дальше:
— История выеденного яйца не стоит, но на меня подействовала, наслоились мелочь на мелочь, и я после этого инцидента загремел в больницу с кризом, давление подскочило. — «Жа-алуюсь!» — он поморщился. — Закурить можно?
— Да, пожалуйста. Вы в каком районе живете?
— В Пролетарском.
— Одну минуту, курите пока. — Он поднял трубку, набрал номер, подождал совсем немного. — Мажит? Приветствую тебя, Крухмальный. Как жена, как дети, я спрошу потом, а сейчас, что тебе известно по поводу заявления на хирурга Малышева Сергея Ивановича? Там дворник что-то написал, со свидетелем, со справкой экспертизы. — Слушал, отвернувшись от Малышева, глядя в окно. — Та-ак… та-ак… Ясно, а ему не сообщили, правильно. Все, спасибо, Мажит, привет! — Положил трубку. — Вы правы, Сергей Иванович, там действительно кляуза. — Глаза, однако, холодные, строгие, хотя полагалось бы улыбнуться с облегчением — как-никак разобрались и сделали кому надо внушение. А Малышеву должно быть стыдно, опустился до нелепых предположений. Его смутили обывательские суждения, запугали его этой кляузой и Марина, и Борис Зиновьев, и главный врач раздула, а он поддался, утратил достоинство, вздору поверил…
Одна волна схлынула, можно и успокоиться, но тут же другая волна наросла, повыше и помутнее, — зачем же его позвали сюда?
— Можно было бы мне сообщить! — сказал он с растущей досадой, чувствуя, что говорит не то, тревожно ему стало, будто пол под ним кренится, и он не знает, за что ухватиться. Зачем его пригласили на пределе любезности, для какой-такой беседы? — Разбираетесь, ковыряетесь втихомолку, а мне ни слова!
— Зачем, Сергей Иванович, сообщать вам про эту кляузу, отрывать вас от дела, мешать вашей работе? К нам порой такие сигналы поступают на честных граждан, что их расстрелять мало — они и жулики, и взяточники, и дачу строят не нетрудовые доходы, и воруют тысячами, и трех жен имеют. Мы все проверяем, обязаны. Если надо, принимаем меры, но если сигнал не подтвердился, стараемся не тревожить честных людей. Как раз на самых активных и деятельных, наделенных ответственными полномочиями, немало бывает всяких наветов, инсинуаций, с ними пытаются свести личные счеты, льют на них всякую грязь. Мы проверяем, ищем, где правда, где ложь, делаем выводы, выявляем анонимщиков, привлекаем к ответственности клеветников. А честных граждан, ставших объектом нападок, мы не оповещаем без надобности, зачем? Мы оберегаем их труд и отдых, стараемся не создавать излишней нервозности, тут мы с вами, с системой здравоохранения, можно сказать, смыкаемся. Так и в вашем случае. Разобрались. А потом, Сергей Иванович, у нас же есть закон, сравнительно новый, не все еще о нем знают — о статусе депутатов. Если раньше личной неприкосновенностью пользовались только депутаты Верховного Совета, то сейчас депутаты любого Совета, и сельского, и поселкового, пользуются личной неприкосновенностью.
— Понятно! — нетерпеливо перебил его Малышев. «В чем же тогда дело? Зачем он меня пригласил?»
— Без согласия органа, в который вы избраны, вас нельзя привлечь к уголовной ответственности.
«Тянет время? Готовит почву? Но для чего?» Малышев молча курил, сумрачно ждал, решив ни о чем не спрашивать. Напоминание о статусе как бы добавило ему солидности, призвало не суетиться, он молчал и чуть свысока, прищуриваясь от дыма, смотрел на Крухмального. А тот сплел пальцы в замок, шире расставил локти на столе и глянул прямо, сурово в спокойные глаза Малышева.
— Речь пойдет не о вас, Сергеи Иванович, и разговор, прямо скажу, не из приятных. — Он расцепил пальцы, откинулся на стуле и тоже закурил, затянулся дважды и со стуком бросил зажигалку в ящик стола. — Статус о личной неприкосновенности не распространяется на вашу жену, Малышеву Марину Семеновну. Есть основания полагать, что она замешана в серьезном преступлении. — Он положил сигарету на край пепельницы, устало сощурился, миссия его нелегка, огорчать Малышева ему не хотелось, но приходится. — Некто Зиновьев…
— Почему «некто?» — перебил его Малышев. — Известный в городе врач, хороший специалист, почему сразу «некто?»
— Прошу вас, выслушайте меня. Зиновьев, заведующий отделением патологии родов, производил незаконные операции по прерыванию беременности, получал за это взятки, а направляла ему пациенток врач женской консультации Малышева Марина Семеновна. Она же являлась посредником при даче взяток, как нами установлено, а также и сама получала взятки.
«Все правильно, абсолютно верно!» — сразу же ожгло Малышева. Слова следователя, как магнит опилки, мгновенно собрали воедино разрозненные прежде детали, ее звонки, поступки, покупки, высветила всю ее, он сразу все понял, убедился и принял, но — про себя, а вслух — неожиданно — усомнился:
— Так ли уж она виновата на самом деле?
— Это покажет суд, а мы пока ведем расследование.
— Зачем сразу суд?! — возмутился Малышев. — Надо еще доказать! — Теперь уже не слова следователя, встревожило его собственное несогласие, поперечность, ярость, накатило валом — не совладать.
— Она систематически направляла Зиновьеву женщин с большими сроками беременности. Она грубо нарушала инструкцию. — Крухмальный поднял листок из раскрытого ящика стола и заглянул в него. — Инструкцию о порядке проведения операции искусственного прерывания беременности, утвержденную Министерством здравоохранения.
— Она не могла прерывать беременности! — перебил его Малышев. — У нее совсем другая работа.
— Но она выдавала, как я вам уже сказал, направления к Зиновьеву. Инструкция в пункте два запрещает вмешательство, если беременность свыше двенадцати недель, вы, как врач, понимаете почему. Ввиду особого риска и вредного влияния на здоровье.
— Она не занималась абортами, вы русский язык понимаете?!
Кто его остановит? Помогите хоть кто-нибудь, где вы?..
— Не занималась, но, повторяю, она оформляла направления, поймите это, Сергей Иванович. И при этом являлась посредником в получении взяток.
— Это надо еще доказать! — вскричал Малышев грубо, громко, сварливо, пытаясь заглушить, отогнать прочь ясную ему правду — да-да, нарушала, брала, посредничала, вот оно — возмездие за слепоту его и наивность; но он кричит, не соглашаясь, орет, лишь бы не оказаться лицом к лицу с правдой и ясностью.
— Пожалуйста, спокойнее, Сергей Иванович, для вас же лучше все знать заранее, прошу вас.
— А я не прошу вас, я требую! Где доказательства?
— Эпизодов несколько, они установлены следствием. Один из последних — Марина Семеновна направила в роддом Зиновьеву несовершеннолетнюю, школьницу Сиротинину, беременность двадцать две недели. При таком сроке, как вы знаете, уже есть шевеление плода. — Крухмальный опустил взгляд в свою омерзительную бумажку. — При этом лично сама передала Зиновьеву…
— Это еще надо доказать! — снова вскричал Малышев, жаждая криком заткнуть себе уши, а следователю глотку.
— …передала Зиновьеву взятку в размере тысячи рублей, — жестко продолжал Крухмальный, тоже теряя выдержку, — из которых тут же, по предложению Зиновьева, взяла себе триста, как свою долю.
— Не позволю! — заорал Малышев и ударил кулаком по столу. — Все это ложь, вранье! От начала и до конца — Страстно ему захотелось скандала, свалки, ответного крика, острого безобразия, чтобы тут же вбежали и скрутили его. — Все это чушь, бред! — Да что он городит, что он несет, помогите же ему, вразумите!..
Крухмальный подошел к тумбочке, там у него графин, стакан, своя неотложка, налил воды, поднес Малышеву, но тот резко отстранил рукой, вода плеснулась на пол.
— Успокойтесь, Сергей Иванович, прошу вас.
Все правда, абсолютно все! Так надо же сказать ему, пусть так и запишет, что он, Малышев, подтверждает. У него еще и косвенных доказательств чертова уйма.
— Я понимаю ваше состояние, — ровно, внушительно продолжал Крухмальный, стоя рядом с Малышевым со стаканом в руке, словно бы уже на поминках. — Вы известный в городе человек, прославленный хирург, кроме того ответственное лицо, депутат городского Совета.
Все верно, все правильно, все-все!
— Я посчитал своим долгом побеседовать с вами заранее, хотя официально делать этого не обязан. Я пошел на определенное служебное нарушение из уважения к вашей личности, Сергей Иванович. Неприятное известие, понимаю. Вы ничего об этом не знали, я вижу, собственно, я так и предполагал.
— Почему вы раньше не сделали этого, не сказали мне?
— Мы сами не знали. — Крухмальный поставил стакан на тумбочку и сел на свое место.
— Я прошу вас не арестовывать ее. Я отвечаю! Где там, что там нужно мне подписать? О невыезде, на поруки, или что там еще? — Жалкая роль просителя, мелкое притворство, ведь ничего этого ему не позволят, он знает, но просит.
Собери себя, Малышев, удержи себя.
— Я ничего вам не могу обещать сейчас, Сергей Иванович. Но я передам вашу просьбу прокурору, и если он найдет нужным…
Вспомнил Катерину промельком — ах, как все гадко, она не только жена твоя, она же мать твоей дочери, ах, как мерзко, — и как она сама жалка, беспомощна, арестуют ее, увезут.
— Еще и к прокурору?! — взревел Малышев. — К чертям вашего прокурора! — Он с грохотом отодвинул стул и пошел вон, толкнул дверь пинком и пошагал вниз, не видя лестницы, скользя по стене рукой, ощущая шаги падения по ступеням, безудержное свое падение, неуклонное.
Дождь кончился и светило солнце, у киоска «Союзпечати» стояли люди, уткнув носы в стекло, парень в джинсах с сумкой через плечо разворачивал газету, будто выпуская крыло для взлета, — что там может быть интересного, если суда еще не было, вы, безучастные, к его беде равнодушные? Вот появится там фельетон из зала суда: «Были врачами, стали рвачами», тогда читайте и улюлюкайте. Где автомат, ему срочно надо позвонить. Навстречу девушка, голые ноги и сумка по низу на длинном ремне, подол платья колышется с каждым шагом, она резво спешит к счастью, старик с палкой шаркает по асфальту, некуда ему спешить, тук и еще тук, на палке резиновой оконечник, резина жмет и палка тукает, сердце его жмет и тукает в голове, вон там автомат на углу, надо туда дойти, и он идет по самому краю, касаясь рукой деревьев, будто взялся их пересчитывать, ладонью ощущал шершавую живую кору, отпускал и снова нашаривал через три-четыре шага ствол уже другого дерева, постоять немного и — дальше, к ярко крашенной будке на углу. «Я ее не оставлю. Никогда не оставлю одну… Только и знала она хлопоты изо дня в день — с ним, с дочерью, с толпой просителей, а теперь тюрьма».
Шагов полсотни до автомата, он их пройдет, жаль, секундомера нет. Врачей не судят, пока он себя помнит, ни одного не судили. Но Борис-то, Борис! Так и качнуло от ярости. Наглость, легкость, уверенность, что только так и нужно жить-поживать-наживать… Постоял возле дерева, девочка пробежала с черным пуделем, волосы взмахивают хвостом с каждым ее подскоком, не узнала его и не остановилась, только бросила взгляд испуганный и дальше за своим пуделем, совсем другая девочка, не Алена, и снова злость жаркая — они его предали, тайно, нагло и самовольно обрекли его на позор!..
Но кто ты такой, иждивенец и чистоплюй, жил за ее спиной, как в раю, не заботился ни о чем, птичка божия, не выполнял просьбы ребенка, не капризы, нет, если ребенку хочется иметь все, что имеют другие дети, не одно только право на счастье, но и предметные его выражения, кому приятна обойденность, обездоленность? Грубо ты жил, плохо, требовательно и жестоко, надо было жить нежнее, душу вкладывать, а не кормить одними лишь поучениями-нравоучениями… Но ты — один и к тому же не бог. Оставил их в окружении своевластной среды, изворотливой, алчной, деятельной, с яркой радугой притязаний. А ты, что такое ты? Беден, честен и прост. Брезжила тебе воля, рванулся было, но тебя за руку, за ворот — стоп, вернись и держи ответ, ответственное лицо. У-у, как он плохо вел себя там, как омерзительно он кричал! Надо вернуться и попросить прощения..
Вон она, будка крашеная, на углу, еще шагов семьдесят. Встал возле дерева, навалясь плечом, лицом к дороге, к потоку машин, полез в карман, выгреб мелочь, ладонь мокрая, копейки прилипли, как в бане листки от веника, оторвался от дерева, покачнулся и улица тоже качнулась, радуга снизошла на серый асфальт, троллейбус вынырнул из-под радуги, солнце в стеклах его и лица, капустные кочаны с глазами, с носами, и все обращены к нему взглядом и знают все, как он гнусно вел себя у следователя, как дурно ему теперь от самого себя, от приступа спеси, безоглядного своего хамства, вернуться надо немедленно и все сказать, он поймет, не дурак малый. Но прежде надо позвонить, он обещал Алле, набрать надо цифры на диске с дырками, вот они, две копейки в пальцах, отколупанные с мокрой, в пару́ ладони. Седая женщина с вислыми авоськами в обеих руках приостановилась, глядя сумрачно и внимательно, развернулась в его сторону, описав дуги авоськами с картошкой, а он оттолкнулся от дерева, оставив потный след, и шагнул к автомату, верх будки алый, а низ голубой. Больше он таким не будет, он станет нежным всегда и везде, и сейчас вот начнется самая нежная полоса в его жизни, немедленно начнется и неотложно. «Надо все пережить, Марина. Вместе. Я тебя не оставлю, Марина». Тугая дверь, он потянул ее, пробил пространство телом, нагретая солнцем будка приняла его в душное чрево с запахом эмалевой краски, снял трубку на тугом кольчатом проводе, вставил в вырез монету.
— Марину Семеновну прошу, срочно…
— Она уехала по вызову. А кто спрашивает?
За что ему наказание? С таким ненужным, таким запоздалым предупреждением. Перед кем столь очевидна вина его, за что возмездие грядет уже тяжелым стуком, боем колоколов? Не знал всего, не подозревал, потому что верил — каков сам, таковы и другие. Хотел быть честным и чистым — перед кем опять же хотел? Того света нет, а он нужен, необходим тот свет для каждого персонально — получить в меру своих заслуг и прегрешений… Снова полез в карман, нашел еще монету, поставил ее в вырез стоечки «2 коп», повернул диск, цветные послышались гудки в ушах, фиолетовые, красные, желтые, и сквозь них ее голос.
— Алла…
— Что случилось?! — сразу вскричала она.
— Ни-че-го… — Трудно ему дышать, не может он говорить, вдоха нет, выдоха, выхода нет, кто заткнул, заложил, замуровал?
— Где ты, Сережа, где ты сейчас?
— Мира и-и… — хрипло дышал, но откуда хрипы? — Алтынсарина. — Надо ей сказать: позвони «ноль-три».
— Я буду через три минуты, Сережа! У подъезда машина, я выхожу. А ты — ни шагу! Сережа, слышишь? Жди меня там! — и отбой, трубка рвано запикала, ухо вспотело, круги в глазах гуще и в голове четко — там-м-м. Только там он ее и дождется, воздаянием она ему запоздалым, только там и уместным, только там и доступным. И другие тебе простят, и сам ты себе простишь — там-м.
Потянулся тяжелой рукой повесить трубку, слепо помахал, ища рычажок, и не попал, выронил трубку, еще мог услышать, как она гулко ударила по стенке, отозвалась в голове его пульсом реже и реже, но ему легче, она приедет вот-вот, через три минуты, он склонится на ее руки и вздохнет с облегчением превеликим; он шагнул назад — хотел шагнуть и выпал из будки, повалился спиной мягко и лег на тротуар навзничь.
Тяжко было прохожим видеть такую картину, словно будка родила человека. Дверь осталась распахнутой и повисшая в крашеном нутре трубка качалась оборванной пуповиной.
Быстро собралась толпа. С визгом тормозов остановилась машина и тут же, словно продолжив ее движение, побежала женщина в распахнутом белом халате, выставив вперед руки словно слепая.
Человека переложили с тротуара на носилки и понесли к машине. Кто-то вошел в будку звонить по своим делам. Публика разошлась, и спустя минуты те, кто проходил здесь, уже ни о чем не спрашивали и жили себе дальше.
Октябрь 1982 — ноябрь 1983

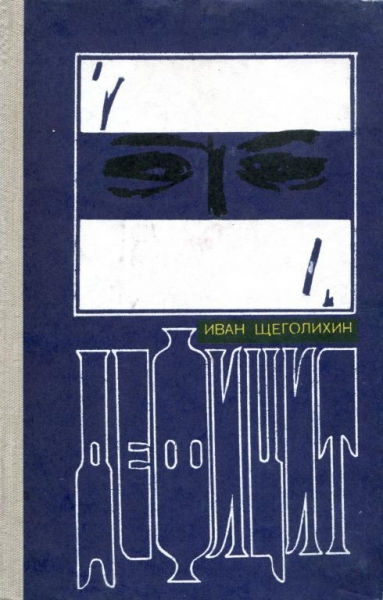


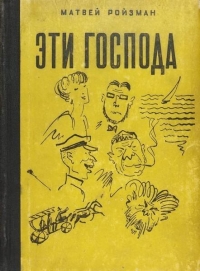

Комментарии к книге «Дефицит», Иван Павлович Щеголихин
Всего 0 комментариев