Анатолий Левченко ПЯТЬСОТ ВЕСЕЛЫЙ Повесть
Это был отверженный. Беспризорник образца 1948 года. Пасынок Великой Транссибирской магистрали. Его никогда не принимали на первые пути больших станций и не объявляли о прибытии или отправлении. Не входящий ни в какие графики, он обладал необузданным нравом.
На сортировочных станциях он впадал в меланхолию, понуро стоял на ржавых рельсах, поросших бурьяном и лебедой, потом вдруг срывался с места, дерзко проскакивал мимо осанистых вокзалов и с разбойным посвистом, лязгом и грохотом мчался вперед, цепляя гривой дыма верхушки придорожных сосен и елей, надменных и суровых, которые видели все на своем веку и уже ничему не удивлялись.
Останавливался он неожиданно, иногда на подступах к городу, а порой и просто на неведомом и невидимом разъезде, посреди луга, и стоял, словно собирался скатиться вниз по откосу, чтобы пощипать сочную, еще не перестоявшую августовскую траву.
Его называли Пятьсот Веселым. Эта кличка, по-русски бесшабашная, наглухо пристала ко всем товарно-пассажирским поездам, имеющим номера от пятисот и выше.
Генка Майков метался по Красноярску между вокзалом и городскими билетными кассами. Уже два дня потерял он в тщетных попытках закомпостировать билет. Пусть не до Москвы, хотя бы до Омска, даже до Новосибирска, только бы не сидеть на месте, только бы двигаться вперед!
На вокзале, у касс, кипела распаренная толпа. Крики, шум, брань. Особенно жалкими казались женщины: взлохмаченные, потные, они толкались и вопили еще яростней, чем мужчины.
— Человека задавили! — вдруг хриплым голосом заорала толстая тетка, отпихивая могучим плечом хиловатого парня. — Расступитесь, черти!
Толпа неохотно раздвинулась, из нее выпал низкорослый мужичонка, и Генка впервые в жизни увидел, как выглядит человек, когда на нем лица нет. Лицо у мужичка было не просто бледное, а обесцвеченное. Меж посиневших губ виднелись неровные прокуренные зубы…
Человек упал на грязный пол, и толпа снова слиплась, заколыхалась с сопением и руганью.
— Помогите, он умрет, — Генка пытался остановить проходившую мимо женщину с двумя сумками в руках.
— Мне надо в Новосибирск! — тупо и требовательно крикнула женщина. И понесла свои сумки дальше.
Что же делать? Генка бросил чемодан, дрожа от страха, брезгливости и сострадания, наклонился над мужичонкой и только тут увидел в своей руке стаканчик с мороженым.
— Черт! — выругался он вполголоса, поставил стаканчик прямо на грязный пол и расстегнул на рубашке упавшего две большие пуговицы разного цвета.
Притронуться к нему было страшнее, чем к покойнику. Но Генка зажмурился и несколько раз ударил обморочного по лицу одеревеневшей, непослушной ладонью.
— На воздух его! — посоветовала старушка в рваном полушалке мышиного цвета. — На улицу его, горемычного, надо. Здесь не оклемается.
Генка в отчаянии еще раз ударил ладонью по известковому лицу. И вдруг выгоревшие ресницы мужичонки задрожали мелко-мелко, показались белки глаз. Губы раздвинулись в жалкой улыбке. Генка схватил стаканчик с мороженым и вылил сероватую массу между разжавшимися желтыми зубами.
— А ведь оклемался! — скорее удивленно, чем радостно, воскликнула старушка в сером полушалке. — Ишь, глаза-то яснеют. Только воздух-то тут попользованный, кислый, в нутро ему не идет…
Но человек все-таки вздохнул и приподнялся, оглядываясь вокруг с бессмысленной улыбкой.
— Эй, парень! Не твой чемодан убегает?
Генка вскочил с колен и увидел солдата. Тот показывал пальцем на двери вокзала, в которые метнулась тонкая фигура с чемоданом в руках.
Все Генкино состояние — сухари, деньги, костюм и аттестат зрелости — было в этом чемодане. Даже труба, на которой он играл в школьном духовом оркестре…
Генка с воплем рванулся к двери.
Выскочив на площадь, он увидел тощего парня: тот, неловко выкидывая вперед длинные ноги, бежал к автобусной остановке.
Генке почему-то бросилось в глаза, что у парня драные ботинки.
— Стой! — заорал он, со злорадством чувствуя, что расстояние между ним и воришкой сокращается. А парень оглянулся, и Генка с ненавистью увидел его бледное веснушчатое лицо.
Воришка понял, что ему не уйти, бросил чемодан и остановился.
— Бей! — вдруг пронзительно взвизгнул он. — Бей, буржуй проклятый!
Генка сорвался. Десять дней, тоскливых, одиноких, проведенных в потной давке и толкотне, расшатали его поселковую сдержанность. По всем правилам науки, пройденной еще в детстве, Генка сделал ложный выпад левой, а когда парень прикрылся руками и откачнулся, не очень резко выкинул вперед кулак правой руки, уверенный, что точно попадет в подбородок воришки.
Парень запрокинул голову и полетел на асфальт, задрав длинные ноги в рваных ботинках.
— Чучело! — презрительно кинул Генка, взял чемодан и, не глядя на воришку, чтобы не разжалобиться, быстро пошел к вокзалу.
— Буржуй проклятый! — понеслось ему вдогонку. — Рыло отъел, гад!
— Еще хочешь? — Генка остановился и оглянулся назад.
Парень сидел на асфальте и держался рукой за подбородок. Пальцы были в крови. «Сильно ударил», — с сожалением подумал Генка.
— Зубы целы?
— А тебе какое дело! Топай отсюда!
Парень поднялся, и Генка понял, что ему не больше шестнадцати. Длинный, нескладный. Даже сквозь пиджачишко и брюки угадывались тощие руки и тонкие ноги. На таких ногах с чемоданом не убежишь.
— Голодного бьешь! — Остренькое личико парня с измазанным кровью подбородком не выражало раскаяния. Маленькие синие глазки сверлили Генку. — Еще милицию позови!
— Заткнись, — миролюбиво предложил Генка. — Иди лучше к колонке да сопли отмой.
Он с удивлением подумал, что совсем не чувствует злобы к воришке, хотя мог бы, наверно, запросто погибнуть как раз на середине пути между домом и Москвой, если бы этот доходяга утащил чемодан.
Парень сплюнул кровь на мостовую. Теперь было видно: он еще моложе, чем вначале показалось. Тощие узенькие плечи, грязная шея с косичкой засаленных, давно не стриженых волос, яркие веснушки на чумазом лице, удивительно синие глаза — все это подсказывало даже неискушенному Генке, что паренек — наверняка начинающий воришка. Потрепанный серый пиджачишко, заляпанные грязью брюки и ботинки, просящие каши… Ну ясно: парнишка нездешний, не красноярский, и это окончательно расслабило Генку, вдруг осознавшего, что все эти десять дней он был страшно одинок. Хотелось поговорить хоть с кем-нибудь, может быть, даже пожаловаться, переложить хоть капельку тяжести и неудач на сочувствующего, на живого человека…
— Ты куда едешь? — спросил Генка, стараясь, чтобы его голос звучал как можно равнодушнее. Но это у него явно не получилось: воришка насторожился и недоверчиво стрельнул в Генку синью своих глазок.
— А тебе-то какое дело? — он почесал пятерней кудлатую рыжую голову. — Я уже давно еду.
— Я тоже. Десятые сутки…
— Фью! — ухмыльнулся парень, показывая неровные, но белые и остренькие зубы, делавшие его похожим на зверька из семейства грызунов. — Я уже почти месяц еду. Со жратвой-то можно и три месяца…
— А ты откуда?
— Из Читы.
— Из Читы? — удивился Генка. — Здорово! Говорят, интересный город. Жалко: мы его ночью проезжали…
— А мне надоело! — сердито выкрикнул парнишка. — Какое мне дело… — Он запнулся, подозрительно вгляделся в Генку и добавил: — Я в Ригу хочу. Там у меня дядя живет.
— А родители?.. — начал было Генка, но по глазам читинца понял, что расспрашивать сейчас не стоит. Может, сам потом расскажет.
— У тебя пожрать что-нибудь есть? — неожиданно спросил парнишка. Голос звучал просительно-вызывающе.
— Есть сухари, — Генка почему-то обрадовался этой просьбе. — Воды бы только достать.
— Воды! — парнишка проглотил слюну. — Пойдем на Енисей. Там воды на весь мир хватит!
На Енисей? Но вдруг, пока они разгуливают, начнут продавать и компостировать билеты на Москву?
— Ну и деревня ты! — выслушав Генкины опасения, развязно заявил новый знакомый, но Генка заставил себя не обидеться, чувствуя, что этот мальчишка из Читы смелее и опытнее его в житейских делах. — Билет на Москву! Да ты видел, что на вокзале творится? А я хоть без билета, но уеду! Сегодня же!
— Как? — крикнул Генка и в приливе надежды схватил парнишку за худенькие, острые плечи.
— Пойдем на Енисей. Там я тебе все выложу. А то будешь киснуть в очереди, пока не съешь все сухари.
Август стоял превосходный. За десять дней, которые Генка провел в дороге, не выпало ни одного дождичка. И сейчас с чистого, голубого неба светило солнышко, прогоняя утренний холодок и согревая большой сибирский город. Они пересекли центральные улицы Красноярска, с завистью поглядывая на местных городских людей, хорошо выспавшихся, более или менее сытых, пахнувших душистым мылом и чистотой.
— Тебя как зовут? — спросил Генка, ожидая, пока проедет тяжело нагруженный грузовик.
— Арвид, — отозвался парнишка.
— Арвид? — удивился Генка. — Что это за имя?
— А тебя как? — ожесточенно почесав голову, отозвался обладатель странного имени.
— Меня Генка зовут. Геннадий.
— А я Арвид. Латыш я. Понятно?
— Латыш? — Генка хотел сказать, что Арвид и говорит и выглядит как обыкновенный русский пацан, но раздумал и только спросил: — Как же ты оказался в Чите?
— А тебе какое дело? — Арвид остановился. Его дерзкие синие глазки, остренькое смышленое лицо выражали насмешку. — Эх ты! Деревня! Хутор!
Генка хотел обидеться, но подумал, что этот ершистый загадочный парнишка в общем-то прав: поселок, в котором жил он, Генка, и впрямь полудеревенский. Большинство шахтеров так и писали в своих анкетах — «из крестьян», после работы все копались на огородах, спасших поселок от голода во время войны, косили сено для коровенок в маленьких распадках между сопками, поросшими мелким дубнячком и багульником. Генка вспомнил свой милый деревянный поселок, такой убогий и прекрасный, и у него сладко и больно защемило в груди.
Арвиду не было дела до сентиментальных размышлений спутника, он хотел есть и потому шел, пожалуй, даже быстрее, чем убегал с ворованным чемоданом.
— А вот у нас в поселке латышей нет, — миролюбиво сказал Генка. Хотелось, правда, поставить на место этого самодовольного воришку, но сознание, что он старше и сильнее читинца, сдерживало. — Русских, украинцев, татар, мордвы полно, а вот латышей — ни одного. У нас в поселке даже австриец хромой живет. Попал в плен в первую мировую войну, да так и остался в России.
А солнце между тем начинало припекать. Генка уже успел на себе испытать, что такое упоминавшийся в учебниках географии «резко континентальный климат». Ночью он дрожал, приткнувшись к вокзальной стене, которая к утру высасывала из тела все тепло, а днем, бегая от городских билетных касс до вокзала, задыхался от злой жарищи.
— Он рыжий? — спросил Арвид. — Блондин?
— Кто?
— Да австриец твой.
Генка вспомнил одноногого австрийца, который работал конюхом в коммунальном хозяйстве поселка.
— Нет, наш австриец черный.
— Значит, он не австриец, а венгр, — авторитетно заявил Арвид, продолжая смешно выкидывать вперед свои тонкие, плохо сгибающиеся в коленях ноги.
— Наверно, — охотно согласился Генка.
До Енисея они так и не дошли. На пути им встретилась колонка, из нее брала воду симпатичная стройная девушка в коротком выцветшем платье. Девушка наклонилась, чтобы поднять наполненные ведра, и платьице стало совсем коротким, обнажая на ногах полоски, которыми кончался загар и начиналась волнующая, запретная белизна.
Арвид присвистнул. Его остренькое лицо стало нахальным и самоуверенным.
— Пойдемте купаться, девушка! — крикнул он. — На Енисей!
Девушка испуганно оглянулась, одернула платьице, быстро взглянула на ребят и на свои босые забрызганные водой ноги. У нее было свежее личико, еще румяное после сна. От нее веяло теплом, домашним уютом, недоступным для Арвида и Генки.
— Вам в баню надо, а не на Енисей! — выпалила вдруг девушка, чисто женским чутьем угадав их бесприютность. И, не дав им опомниться, молодым движением нагнулась, схватила ведра и, ловко покачивая всем телом, победно заструилась по тихой улочке, чувствуя на себе восторженные взгляды ребят.
— И-эх! — восхищенно взвизгнул Арвид, подталкивая Генку локтем, а тот только отмахнулся, провожая глазами девушку, которую уже никогда не придется увидеть и которая поэтому казалась еще милее и недоступнее.
— Давай поедим здесь, — предложил Арвид, когда девушка скрылась в переулке. — Кружка у тебя есть?
— Есть. — Генка подошел к колонке, присел на корточки и открыл свой ободранный чемодан: сухарей было еще много, почти полный мешочек, один вид его сразу вызвал в душе образ матери…
Хлопочет сейчас на кухне или в огороде и не знает, что ее сын бродит по Красноярску, который она видела только на карте — той самой, где вся семья отмечала отбитые у фашистов города, там, на западе.
Вода в колонке была обжигающе холодная, от нее сразу заныли зубы. Арвид хрустел сухарем, даже водой не запивал.
— У меня и так слюна выделяется, — с набитым ртом пояснил он, расправившись с десятком крепких, как кирпич, черных сухарей, от которых, казалось, еще пахло войной.
Генка тоже не отставал от своего нового приятеля, но ему не терпелось узнать, каким образом Арвид надеется вырваться из этого города, с вокзала, битком набитого пассажирами.
— Как же ты думаешь уехать? — спросил Генка, когда Арвид стал жевать чуть медленнее.
— Очень просто, — важно отозвался тот, поскребывая косичку волос на шее. — Какой сегодня праздник?
— Праздник? — удивился Генка. — Никакого праздника сегодня нет.
— Есть, — Арвид засмеялся. — Сегодня самый лучший праздник для безбилетников. Соображаешь?
— А-а, — догадался наконец Генка. — День железнодорожника! Точно?
— Слава богу, догадался, — снисходительно изрек Арвид, и его остроносенькое лисье личико стало высокомерным. — Вчера я слышал на вокзале — важный такой дядька в железнодорожной форме говорил другому: «Завтра наш праздник, а на вокзале творится черт знает что. За это нас не похвалят. Выход один — пустить два пятьсот веселых. Один — на запад, другой — на восток. И эта толкучка прекратится хоть на несколько дней». Вот что я слышал.
— А что такое пятьсот веселый?
— Не знаешь? Вот хутор! Это пассажирский товарняк.
Генка видел такие составы, но не знал, как их называют.
— А быстро едет этот… пятьсот веселый?
Арвид захохотал так, что даже поперхнулся крошками сухаря.
— Он едет не по графику. Но бывает, неплохо шпарит.
— Ну и черт с ним! — Генка махнул рукой. — Лишь бы двигаться. Я готов хоть на лошадях, только бы ехать.
— А куда ты торопишься? — поинтересовался Арвид, он развалился на травке и казался сейчас вполне довольным судьбой.
— В Москву. В геологоразведочный институт.
— Десять закончил? — с завистью спросил Арвид, приподнимаясь. — Покажи аттестат, я еще ни разу не видел.
Генка пошарил в чемодане и на самом дне нашел гладкий твердый листок. В аттестате были круглые пятерки. Генка исподтишка наблюдал, какое впечатление произведут его оценки на читинца.
— Здорово! — воскликнул Арвид, снова опускаясь на траву. — А что это за справка? Та-а-к, прочитаем. «Дана настоящая Майкову Геннадию Сергеевичу в том, что данный аттестат подлежит обмену на аттестат отличника». Так тебе медаль еще не дали?
— Нет. — Генка еще раз пережил это огорчение. — Ведь сочинения рассматриваются сначала в районо, потом в Благовещенске и Хабаровске. А мне что — ждать, пока там везде рассмотрят?
— Ну и правильно, — поддержал Арвид. — Нечего ждать… Значит, и по немецкому у тебя пятерка? Проверим! — И он произнес по-немецки какую-то длинную фразу.
— Что, что? — напрягаясь, чтобы выловить из фразы хоть одно знакомое слово, растерянно забормотал Генка.
— Я сказал, что ты в русском ни черта не понимаешь, а лезешь изучать немецкий. — И Арвид засмеялся, довольный тем, что посадил Генку в лужу.
— У нас немецкий только один год преподавали, некому было, — пытался оправдаться Генка. — Я сам учил, читал немного. Но говорить совсем не умею.
— Анна унд Марта баден, Анна унд Марта фарен нах Анапа, — поддразнивая, прокартавил Ар-рид. — Вот что ты умеешь!
— А ты откуда знаешь немецкий? — с завистью спросил Генка, почти силой вырывая из рук Арвида аттестат, которым он все-таки гордился. — У вас хороший учитель был?
— Натюрлих, — самодозольно отозвался читинец, с особым шиком чуть грассируя «р» и произнося в конце что-то среднее между смягченным «ш» и «х». — Почти все латыши знают немецкий.
— Ну, ладно. — Генка захлопнул чемодан. — Ты особенно не задавайся. По математике и другим предметам я тебя в лужу посажу так, что и ушей не видно будет. Понял?
Арвид неожиданно загрустил. Даже веснушки у него поблекли, посерели.
— С математикой у меня худо, — вздохнул он. — Но в Риге пришпорю.
— А в каком ты классе? — спросил Генка, удивленный тем, что нахальный Арвид может быть и грустным.
— В девятый перешел. Эх, быстрее бы в Ригу! Там у меня дядя…
— Пойдем на вокзал, — заторопился Генка. — Может, уже начали билеты компостировать.
— Компостировать? — Арвид даже присвистнул от удивления. — У тебя билет есть?
— До самой Москвы. В Иркутск я приехал на пассажирском Владивосток — Иркутск. А из Иркутска до Красноярска на пригородных добирался.
— Покажи билет, — попросил Арвид.
Генка достал билет от маленькой дальневосточной станции до самой Москвы.
— Здорово! — Арвид уважительно подержал билет и даже понюхал его. — Тебе легче. А у меня всего двести рублей в кармане.
— А сколько билет на пятьсот веселый стоит?
— Не знаю. Может быть, и хватит денег до Москвы. А от Москвы до Риги рукой подать. Доберусь… Пойдем на вокзал. Эх, жаль, что до Енисея не дошли. Красивая река. На нее смотришь, как ночью на звезды, — сам себе таким маленьким кажешься…
Они вернулись на вокзальную площадь, знойную и бестолково многолюдную. И вдруг Арвид замер, потом умоляющим голосом произнес:
— Говори что-нибудь! Ну, говори же!
— Что говорить? — не понял Генка.
— А хорошо было купаться в Енисее, — быстро-быстро забормотал Арвид, приближая к Генке меловое лицо с оспинами веснушек. — А ты плаваешь хорошо! Молодец!
— Ты что, свихнулся? — уставился на него Генка. Мимо прошли два милиционера. Арвид сразу отвернулся от Генки и сказал обычным голосом:
— Пошли. Что стоишь как истукан?
— Ну, знаешь! — взорвался Генка. — Мне твои фокусы надоели! Пошел ты ко всем чертям!
— Тише! — Арвид испуганно оглянулся на милиционеров. — Не кричи. Я потом тебе все расскажу.
В голосе его слышалось что-то жалкое, лицо было растерянное, беззащитное.
— Черт с тобой! — мрачно отозвался Генка, которого раздражали эти превращения Арвида — от самодовольной хвастливости до какой-то непонятной трусости. — Пойдем узнавать насчет пятьсот веселого.
И опять — вокзал. Здесь ничего не изменилось, только стало еще больше людей, душнее и бестолковее. Но Арвид как будто обрадовался этой толчее, личико его оживилось, веснушки заблестели. Он как угорь скользил в толпе, штопором ввинчивался в людское месиво, весело переругиваясь с тетками и мужиками.
Генка сразу отстал от Арвида, скованный угловатым чемоданом и вежливостью, которая здесь была явно не в цене. Он нашел местечко, где было поменьше людей, и старался не терять из виду остренький затылок читинца. Арвид появился так же быстро, как исчез. Он вывернулся из толпы, даже не вспотев, синенькие глаза сияли торжеством.
— Пойдем на улицу, подышим, — Арвид зашагал к двери. — Билетов хватит на всех. Через полчаса начнут давать.
Действительно, через полчаса над одной из касс появилась картонка с надписью «На восток», а над другой ребята с ликованием увидели надпись «На запад».
Дежурный по вокзалу, издерганный вопросами пассажиров, худой унылый мужчина с красной повязкой на руке, торжественно прокричал:
— Уедут все! Прошу соблюдать очередь и порядок!
Надписи и это объявление сразу преобразили толпу. Люди будто разрядились, напряжение упало до самой низшей точки. Все подобрели. Тетка, с самого утра таранившая толпу могучим телом и руганью, сначала растерялась, не зная, куда направить еще не израсходованный запас энергии, потом смущенно улыбнулась и попыталась привести в порядок свои растрепанные, слипшиеся от пота волосы. Рядом с ребятами оказался мужичонка, что упал в обморок и невольно послужил причиной встречи Генки с Арвидом. Он виновато улыбался, крутил разномастные пуговицы на рубашке и приговаривал:
— Ослаб я. Три ночи не спамши. Вот и конфуз вышел, елочки зеленые!
Впрочем, мужичонке и не нужно было оправдываться: все стоящие в очереди относились к нему теперь как к пострадавшему за общее дело.
Тут же приткнулась старушка в серой шали, разговорчивая, общительная, но себе на уме. Она быстро завязала обширный круг знакомств. Особое расположение обеих очередей старушка снискала тем, что уже несколько раз рассказывала о мужичонке, упавшем в обморок.
— Смотрю я, а он лежит, сердешный, — умильным голосом изливалась она, и сразу можно было представить ее среди других таких же старушек, которые не пропускают ни одних похорон в своей округе и испытывают интимный, томительный интерес ко всему, что связано со смертью. — Глядь, а на нем и лица-то нет. Белешенький, ну что твоя известка. Вот, думаю, преставился, маетный. А он оклемался, сидит и смотрит вокруг, как дитя, так благостно, светленько, аж у меня на душе елейно стало…
Мужичок зябко поеживался, вытягивал губы трубкой и разводил руками, будто извинялся за то, что так быстро оклемался и не дал старушке побольше материала для ее рассказов, а потом удивленно восклицал тонким голосом: «Елочки зеленые!»
Генка с подозрением посматривал на словоохотливую старуху: вдруг она вспомнит о его участии в этом инциденте и сделает очередной жертвой своих воспоминаний. Но, слава богу, старушенция обошла Генку своим вниманием.
Как хорошо после хаоса и беспорядка стоять в приличной дружелюбной очереди! Генка и Арвид болтали обо всем и ели дешевое фруктовое эскимо странного серого цвета, не очень сладкое, но зато холодное.
Когда наконец окошечко открыли, очередь подозрительно завозилась, но у самой кассы непоколебимо стоял здоровенный дядька, которому поручили охранять порядок. Два суетливых типа, от которых веяло перегаром, попытались «качать права», но строгий дядька положил на плечо одному из них волосатую руку и сдержанно пророкотал:
— Осади!
Типы смешались, сникли и затерялись где-то в хвосте очереди.
Касса начала бойко выдавать билеты. Арвид нервничал: боялся, что у него не хватит денег.
— Да не суетись ты, — успокоил его Генка, — я доплачу.
И вот наконец оно, заветное окошечко. Первым туда сунулся Арвид, его остренькая голова на длинной шее совсем исчезла в проеме, и только по худой напряженной спине и по тому, как он переминался с ноги на ногу, можно было догадаться о его волнении.
— Порядок! — Читинец вывернул голову из окошечка и потряс билетом. — Даже сдача есть! Живем!
Генка отмахнулся от приятеля и сунул в окошко свой билет:
— Мне закомпостировать до Москвы! Кассирша удивленно посмотрела на Генку и сказала:
— Вам не нужно компостировать. Просто садитесь и поезжайте.
Она возвратила билет.
— И доплачивать не нужно? — удивился Генка.
— Вы даже переплатили, — засмеялась кассирша. — Следующий!
Счастливый Генка отошел от кассы и бережно спрятал свой могущественный билет на «нормальный» пассажирский поезд.
— Пойдем за жратвой! — Арвид ловко протискивал тощее тело сквозь толпу. — В нашем распоряжении целых три часа.
— Главное — хлеба надо купить, — сказал Генка, едва успевая за читинцем, — А то на этом пятьсот веселом пропилим до Москвы дней семь-восемь.
— Фью! — свистнул Арвид. — Ну и хватил! Если за десять дней доедем — считай, что повезло!
Генка загрустил. Так можно опоздать и к началу занятий. Да к тому же неизвестно, как отнесутся в Москве к его аттестату, «подлежащему замене на аттестат отличника». А вдруг заставят сдавать экзамены? А там немецкий… Тогда целый год пропадет.
Но грустные мысли недолго осаждали Генку. В общем-то все прекрасно — через три часа он поедет вперед, туда, куда стремится каждой клеточкой своего тела, хотя не проходит и часа, чтобы он с отчетливостью не видел перед собой лица матери, отца, братишек и сестренок, оставленных там, в оторванном от самого сердца поселке. Хотелось хоть краешком глаза взглянуть на свой дом, на мать, которую он так часто огорчал, особенно в последние годы, и чем явственнее ощущал Генка тысячи километров-разлучников, чем невозможнее было его желание, тем сильнее хотелось его осуществить…
— Ты чего как лунатик шагаешь? — Арвид прервал Генкины мысли. — С виду физкультурный, а всего стесняешься. Тьфу! — Арвид сплюнул. — Если б я был такой тюря, то давно бы уже загнулся…
Генка остановился, нахмурил брови:
— А ты чего хотел? Чтобы я чужие чемоданы хватал и старух отпихивал от кассы? Нет уж, обойдусь без твоей вшивой пронырливости.
— Вшивой, это точно, — неожиданно подтвердил Арвид и, словно для убедительности, почесал свои грязные космы. — Но мне на это наплевать. Я хочу в Ригу.
— Ну что с тобой, дурошлепом, говорить? — Генка махнул рукой.
— Ладно. — Глаза Арвида засинели, а на лице опять появилось лихое выражение уличного мальчишки, узнавшего много такого, чего не стоило бы знать в его лета. — Пойдем за хлебом. Хлеба нужно побольше.
Хлеб… Даже Арвид, насмешливый и плюющий на приличия, говорил о нем с военной уважительностью, словно о чем-то живом. Говорил так, будто боялся спугнуть этот ждавший их где-то в магазине хлеб, могущий вдруг исчезнуть с прилавков, снова закрыться решеткой продовольственной карточки, из каждой клеточки которой выглядывал уныло бесконечный голодный день.
— У меня есть сумка, — сообщил Арвид и действительно вынул из кармана зеленую противогазную сумку.
— Ну и карманы у тебя! — удивился Генка. — Целый склад!
— Это весь мой багаж, — беспечно засмеялся Арвид.
Они шли по знойным улицам Красноярска. Город нравился им теперь гораздо больше, чем несколько часов назад. Но на местных жителей они уже смотрели не с завистью, а с сожалением: ведь они, красноярцы, остаются на месте и не увидят просторов, сквозь которые пронесет их, Генку и Арвида, Великая Транссибирская магистраль.
Булочную они услышали еще за несколько домов по запаху.
— Вкусно пахнет, — Арвид раздул ноздри так, что веснушки наехали одна на другую. — Почему, когда я голодный, мне хочется только черного хлеба? — спросил он, сам удивляясь такой простоте желаемого. — Ни о масле не думаешь, ни о мясе, а только о хлебе, и обязательно черном.
— Еще бы! Сколько лет не ели хлеба досыта, — подтвердил Генка. — А вот и булочная. И народу не так уж много.
— Хлеба! — тоном загулявшего купца потребовал Арвид, лихо ворвавшись в магазин. — На все!
— Становись в очередь, конопатый! — крикнула дородная продавщица.
— Спрячь свои деньги, — сказал Генка Арвиду, когда они послушно заняли очередь. — У меня еще четыреста рублей есть.
— Живем! — восхитился Арвид. — Я человек негордый. Бери на свои.
На прилавках магазина лежали булки пшеничного хлеба, даже с виду казавшиеся увесистыми и сытными. Продавщица не разрезала булки, отпускала их целиком, по нескольку штук, небрежно кидая на весы.
— Недовешивает, стерва! — шепнул Арвид. — Во время войны ей бы патлы выдрали за это.
Продавщица действительно обвешивала — нагло, откровенно и пренебрежительно. У нее было лицо человека, привыкшего сознавать свою власть над другими и уверенного в своей безнаказанности. Еще и сейчас, спустя почти год после отмены карточной системы, вся фигура ее дышала сознанием собственной значительности, прочно усвоенным в недавние голодные времена, когда люди считали, что у продавцов может быть излишек хлеба. Могло, конечно, и не быть. Но сама возможность, даже предположение излишка казались многим если не счастьем, то, во всяком случае, огромной привилегией.
Генка с неприязнью человека, уже успевшего наголодаться, смотрел на толстую продавщицу, на ее брезгливо отвисшую нижнюю губу.
— Следующий! — продавщица мужским голосом словно отшвыривала «отоваренного» покупателя.
— Пять булок! — потребовал Арвид и, по обыкновению, протянул голову чуть ли не за весы. По его голосу Генка понял, что читинец не позволит охмурить себя.
— По пять булок в одне руки не отпускаю, — отрезала продавщица и колыхнула перед носом ребят мощной грудью.
— Нас двое, — заявил Арвид, положив руку на Генкино плечо.
Продавщица небрежно скользнула взглядом по неказистой одежонке приятелей и бросила на весы пять булок.
— Десять пятьсот, — она мгновенно сбросила булки с весов на прилавок.
— Десять ровно, а может быть, и меньше, — вкрадчивым голосом поправил Арвид, не притрагиваясь к хлебу.
— Что? — взвизгнула продавщица. Она не испугалась, не смутилась. Она захлебнулась яростью, и это подстегнуло Генку.
— Хватит обвешивать людей! — Генка со стыдом услышал, что его голос звучит слишком уж торжественно для такой простенькой ситуации. Но в продавщице для него воплотилось сейчас все зло мира, и он не сошел бы с места, если бы даже толстуха швырнула в него самой тяжелой гирей, которую как раз держала в руке.
— Чо пристали? Чо мешаете работать? — заверещала какая-то тетка, по привычке пытавшаяся снискать расположение продавщицы.
— Пусть снова взвесит, — упрямо сказал Арвид, и веснушки четко заиграли на его побледневшем лице.
— Ах так! — продавщица схватила одну булку и швырнула ее под прилавок. Потом взяла четыре остальные и по всем правилам взвесила хлеб, дав весам успокоиться. Сосредоточенность стерла с ее лица брезгливо-надменное выражение, даже отвисшая губа подобралась, и в продавщице проглянуло что-то, сделавшее ее похожей на обыкновенного работающего человека.
Генка заплатил и с подчеркнутой скрупулезностью сосчитал сдачу.
— Вот так-то! — победно произнес Арвид, и они, взяв по две булки, пошли к выходу. Покупатели провожали ребят не очень одобрительными взглядами и возгласами, но во всем поведении очереди чувствовалась неловкость.
Арвид и тут остался верен себе. На пороге он остановился и скорчил рожу продавщице. Сдавленный хохоток покупателей был для обоих наградой за их крохотную победу.
— Ну и рожа самодовольная! — скривился Генка. — А эти стоят, помалкивают. У нас бы в поселке ее живо…
— О-о, отличник опять разговорился, — усмехнулся Арвид и запел по-латышски какую-то песенку.
Они вышли на привокзальную площадь и сели на бетонное ограждение фонтана. Фонтан, разумеется, не работал. А на дне бывшего бассейна валялись обрывки газет, окурки и всякий мусор.
Солнце било прямой наводкой в центр площади. По-купечески приземистый, вытянутый в длину вокзал даже с улицы казался тесным и душным.
И паровозы, казалось, тяжело ухали и пыхтели от жары.
Две булки Арвид затолкал в противогазную сумку. Третья не входила.
— Давай свой шикарный чемодан, — Арвид с нахальной усмешкой похлопал по облезшему чемоданному боку. — Это целый комод. В него можно весь хлеб вместе с продавщицей затолкать.
В чемодане нашлось место для одной булки. Арвид с усердием начал впихивать и вторую.
— Тише ты, — Генка отстранил его, — трубу погнешь.
— Какую еще трубу? — удивился Арвид.
— Обыкновенную. На которой музыканты играют.
— Покажи! — глазки Арвида засинели, а его лисье личико еще больше заострилось от любопытства.
Генка осторожно вытащил продолговатый сверток, развернул тряпку и показал новенькую изящную трубу, сразу ответившую солнцу своим никелированным раструбом.
— Ты умеешь играть? — завистливо допытывался Арвид, потянувшись рукой к трем клапанам, на которых сквозь никель чуть-чуть просвечивала медь.
— Немного, — скромно ответил Генка, и перед ним промелькнули лица ребят из школьного духового оркестра. И этот чужой город, и эта поездка показались вдруг сном, который вот-вот окончится и вновь перенесет его в прошлое — к маленьким деревянным домикам и огородам, где сейчас буйно росли спасительница-картошка, помидоры, огурцы, синела еще не оформившаяся в кочаны капуста, доверчиво тянули к солнцу свои рыжие простецкие мордашки незатейливые и бесхитростные подсолнухи…
— Поиграй! — приставал Арвид, не замечая, что «отличник» находится не рядом, а за тысячи километров отсюда.
— «Поиграй»! — передразнил Генка. — Что это тебе — баян или балалайка? На меня будут как на дурачка смотреть.
— Ну и пусть смотрят! — не унимался Арвид. — Плевать мы хотели на всех!
Генка представил себе, как звуки трубы прорежут душный воздух, заставив встрепенуться всех людей, сбившихся на тесном вокзале. Слушая победное серебро трубы, выделявшееся даже в большом оркестре, он всегда с наивной гордостью думал о том, что нет на свете ничего красивее и благороднее этих звуков.
Но играть на вокзальной площади было бы просто нелепо. Другое дело — баян или гармонь. Пока Генка добирался до Красноярска, он вдоволь наслушался и скверного пения и игры на двухрядках, трехрядках, баянах, модных трофейных аккордеонах. Чуть ли не на каждой остановке в вагон входили инвалиды, может быть, вовсе и не фронтовики, и пели сиплыми, неверными голосами жалобные песни о солдатах, не вернувшихся с войны. Бабы, сидевшие в вагоне, шмыгали носами, торопливо искали мелочь или измятые рублевки и бросали деньги в протянутую грязную пилотку или фуражку.
Эти песни, неумело сложенные и скверно спетые, трогали душу, напоминали Генке погибших друзей старшего брата, знакомых. И чем хуже пел калека, чем сентиментальнее были слова песни, тем сильнее хотелось помочь несчастному…
Арвид, кажется, согласился, что играть на трубе не стоит.
— Ты купил ее? — В его голосе появились уважительные нотки. — Дорого стоит?
— Нет, в школе подарили, на выпускном вечере.
— Везет всяким отличникам, — вздохнул Арвид, и это получилось у него вполне искренне, но, чтобы Генка не заподозрил его в слабости, он тут же добавил: —Труба, трубач, трубочист! Ха-ха!
— Ух ты, остряк! — обиделся Генка. — Завидки берут?
Удивительно, что посадка в пятьсот веселый была объявлена по станционному радио. Так в первый и последний раз заявил о своем существовании поезд № 527, следовавший по маршруту Красноярск — Москва.
Объявление всколыхнуло всю привокзальную площадь. Сразу же началась беспорядочная суета, какая бывает в муравейнике, когда его чуть разворошат. Но потом движение упорядочилось: все устремились к дверям, через которые выпускали пассажиров на перрон.
— Здесь не пробьемся. — Арвид озабоченно поморщил узенький лоб. — А надо обязательно захватить место на верхних нарах. Там теплей и чище.
— Что же делать? — спросил Генка, с ненавистью глядя на свой нелепый и огромный чемодан, не оставлявший ему никаких надежд на успех.
— Пойдем! — Арвид решительно выдвинул вперед остренький подбородок. — Обойдем вокзал и хоть от семафора выйдем на перрон! Как это я раньше не допер?
И он ринулся в обход. Генка едва поспевал за ним. Когда Арвид скользнул в какую-то щель в заборе, а чемодан застрял, Генка рванул его с таким ожесточением, что выломал сразу две доски, и теперь в эту дыру при желании могла протиснуться даже корова.
Они обогнули ряд жилых вагончиков, украшенных гирляндами развешанного для сушки белья.
— Давай сюда! — Арвид, придерживая противогазную сумку с хлебом, сложился пополам, как перочинный ножик, и нырнул под длиннющий состав.
Генка тоже прополз по шпалам, от которых остро пахло мазутом. В том, что это именно мазут, он убедился, мельком взглянув на сразу залоснившиеся локти и полы своего пиджачка. Но жалеть об этом было некогда, и Генка вслед за Арвидом взлетел на тормозную площадку пассажирского вагона.
Наконец Арвид остановился у паровоза, из окошка которого выглядывал машинист.
— Дяденька! Это пятьсот двадцать седьмой? Машинист покрутил голубоватыми белками глаз, жутко выделявшимися на чумазой физиономии, и ответил:
— Ваш поезд, жулики, ваш.
— А почему жулики? — некстати обиделся Генка.
Машинист сильнее высунулся из окна, повращал глазами, словно выискивал что-то жульническое и в Генке, потом пробасил:
— Ну ты, возможно, и не жулик, а твой дружок — наверняка!
Только тут Генка увидел, что Арвид поспешно запихивает в противогазную сумку какую-то серую рубаху. Наверно, ухитрился стащить ее с веревки у тех сонных жилых вагончиков с белыми казенными занавесками на окнах… Вот чертяка!
— А ты, дядя, вези нас! Только хорошенько! — весело завопил Арвид и побежал вдоль состава. Противогазная сумка с двумя булками хлеба и ворованной рубашкой ритмично била его по тощему заду.
Генка бежал мимо вагонов, груженных лесом, и спиной чувствовал, что машинист провожает их презрительным взглядом. «С этим Арвидом влипнешь в какую-нибудь историю, потом не выпутаешься», — подумал он и еще раз подивился тому, как устроены люди, которые воруют. Неужели их совесть не мучает?
Но думать было некогда: впереди показались вагоны, возле которых уже суетились пассажиры с узлами, мешками, сумками и чемоданами.
— Сюда! — крикнул Арвид, оборачивая назад потное лицо с золотой россыпью веснушек.
Расчет его был точен: они прибежали к составу с тыла и теперь могли занимать вагон, отделенный от других тремя цистернами. Сюда еще никто не успел добраться. А может, другие пассажиры вообще принимали издали этот выкрашенный темно-коричневой краской вагон за груженый, тем более что за ним до самого паровоза виднелись платформы и вагоны с лесом?
Поперек приоткрытой двери вагона красовался свежий толстый брус, вставленный в крепкие железные скобы.
Арвид ловко перемахнул через брус и радостно закричал:
— Красотища! Никого нет!
Генка швырнул свой чемодан Арвиду, ухватился рукой за железную скобу и очутился в желанном вагоне, который показался ему вполне комфортабельным. По обеим сторонам, примерно на уровне Генкиной головы, были устроены нары — сплошные полки из новеньких, но совсем неструганных досок.
— Ляжем головами вперед. — Арвид взобрался на полку и облюбовал себе местечко возле окошечка, положив в углу противогазную сумку.
Генка устроился рядом и попробовал лечь, вытянув ноги. Красота! Шершавые доски пахли смолой, вагон отлично проветривался сквознячком, и хотя крыша за день нагрелась, здесь было прохладно, и ребята почувствовали себя удачливыми и богатыми.
— А вдруг больше никто не сядет в наш вагон? — спросил Генка, он все еще лежал на спине, расслабив уставшее тело. — Вот будет здорово! Делай что хочешь!
— Жди! — возразил многоопытный Арвид. — Сейчас набегут. Так что давай пока полежим, пригреем местечки.
— Слушай! — вдруг вспомнил Генка. — Зачем ты стянул рубашку?
— А тебе какое дело? — огрызнулся Арвид.
— Может, рубашка у человека последняя была, — настаивал Генка, надеясь увидеть в глазах читинца хоть признаки угрызений совести или замешательства.
— Чепуха. — Арвид лег на спину и положил лохматую голову на противогазную сумку. — У меня все украли, а я не плачу.
— Что у тебя украли? — удивился Генка.
— Долго рассказывать… Еще побежишь в милицию. Ты же отличник, чистюля.
— Повтори еще разок! — Генка оскорбился и приподнялся на локте.
Арвид лежал не шелохнувшись. Четкий профиль лица был правильный, почти красивый, и даже голова не казалась сейчас маленькой.
— Я уже второй раз удираю из дому, — сказал он. — Первый раз сцапали в Свердловске и отправили назад. Хотя я тогда и не воровал. Просто ехал в Ригу. Дядя у меня там, понял?
— Ну, допустим, дядя. И что из этого?
— А то, что хочу юнгой на корабль. Или сразу матросом… — Арвид искоса посмотрел на Генку: не смеется ли, но Генка только вздохнул. В детстве он тоже завидовал юнгам, наверно, потому, что жил в поселке, возле которого не было и узенькой речонки.
— Ну и поезжай себе, — сказал Генка. — Кто тебе запрещает стать юнгой?
— Все запрещают! — почти выкрикнул Арвид и привстал так резко, что больно ударился о потолок, но даже не охнул, не почесал ушибленное место. — Мать с отчимом заявили в милицию — вот и сцапали… Но я стану моряком, назло им стану! Дома все равно житья нет. Отчима терпеть не могу. А мать все под его дудку… Тебе бы понравилось?
— Не знаю, — растерянно признался Генка, выросший в семье, где все любили друг друга без особых нежностей, но преданно и крепко.
— Не знаешь! Ты везунчик. — Арвид только теперь ожесточенно потер затылок. — А если бы тебя лупил чужой человек, тебе было бы приятно? Да еще при матери…
— Может, за дело?
— А хотя бы и за дело. Какое он имеет право! — Арвид снова лег на спину и заложил руки за голову. — Да ну тебя! Лезешь со всякими вопросами. И без тебя тошно.
— Ладно, Арвид, не сердись. Может, ты правильно сделал, что удрал… А мать тебе не жалко?
— Жалко, — буркнул Арвид и лег на бок, лицом к стенке.
Тут они услышали громкий голос:
— Елочки зеленые! Да здесь еще пусто, за цистернами-то!..
Сначала на пол вагона хлопнулся туго набитый мешок, к которому шпагатом была привязана телогрейка, такая изодранная, что вата держалась в ней каким-то чудом. Потом хозяин мешка и телогрейки поставил на пол прокопченный солдатский котелок и наконец с веселым покряхтыванием поднялся сам. Мужичок — тот самый, что упал в обморок на вокзале, — оглядел вагон с видимым удовольствием и улыбнулся:
— О-о, да тут целые хоромы! Елочки мои, зелененькие! Летом в таком вагоне ехать одно удовольствие. Только по нужде умей бегать вовремя и будешь кум королю, государю крестник!
— Точно, папаша, — поддержал разговор Арвид. — Залезай наверх. Вот и будет у тебя королевский трон.
— А я не папаша, мне только тридцать пять годов, — доверчиво сообщил мужичок. — Это я с виду заморенный. После госпиталя кое-как оклемался, да снова простуду схватил, чуть вовсе богу душу не отдал.
— Давай, папаша, расскажи свою автобиографию, — подзадоривал Арвид, чувствуя, что мужичок необидчивый. — Только сначала устройся.
— Правильно, елочки мои зеленые, — согласился мужичок. — Я рядом с вами. У окна-то сквозняком прохватит. И станешь себе и людям обузой.
Он забросил мешок на нары, поставил рядом котелок, потом проворно взобрался наверх и начал отвязывать телогрейку.
— Эту, рваненькую, под себя, а новенькой укроемся. Мешок — под голову. Вот и вся недолга!
Мужичок, такой бесхитростный, откровенно-доверчивый и наверняка беззлобный, сразу понравился Генке, хотя несколько часов назад, в обмороке, он был страшноват.
— Вот и свили себе гнездышко, елочки зеленые, — довольным голосом пропел он. — А вам занозисто будет, ребятки. Доски-то неглаженые. Эх, мне бы рубаночек какой-нибудь завалященький, я бы эти доски за час острогал!
— Ничего, — сказал Генка. — Вытерпим, лишь бы только поезд шел побыстрее.
— Это так, товарищ дорогой, — согласился мужичок. — Но человек-то хитро устроен. Сегодня ему ничего вроде бы не нужно, а завтра захочется. Вот она, какая штука. Раньше думали: вот быстрее бы война кончилась, больше и желать нечего. А кончилась она — хлебушка вольного, не по карточкам, захотелось. Одеться получше. Народ за войну по жизни истосковался.
— А ты… дядя, воевал? — Арвид хотел опять назвать пассажира папашей, но вовремя удержался.
— Как же я мог не воевать? — искренне удивился мужичок. — Само собой, воевал. Как же иначе?
Генка слушал мужичка и удивлялся: неужели вот такой человек воевал с немцами? Его и сердитым-то представить невозможно.
А.тот вдруг спохватился:
— Елочки зеленые! Воды-то не набрал! Вы, ребята, присмотрите за мешочком моим, а я водички на всех запасу, кипяточку. Дело к вечеру, а ночью вдруг пить захочется.
— Не волнуйтесь за свой мешок, — сказал Генка, которому новый пассажир все больше нравился, от него веяло какой-то домашней добротой, уживчивостью и доброжелательством.
Мужичок скользнул вниз и, громыхнув котелком, с довольным кряканьем спрыгнул на землю.
Видно было по всему: все, что делал мужичок, он делал с удовольствием. «А что, — подумал Генка, — он, наверно, и солдатом был толковым».
— Давай посмотрим, что у него в мешке, — прервал Генкины размышления Арвид и сделал движение, чтобы встать.
Генка не смог совладать с собой, толкнул Арвида так, что тот отлетел к стене и захныкал:
— Я же нарочно сказал, а ты драться…
— С тобой по-другому нельзя. Слизняк паршивый! Человек тебе доверяет, а ты ему, как вошь, за воротник лезешь. Убрался бы ты куда-нибудь!
— И уйду, — неуверенно пробурчал Арвид. — А лучше сам убирайся, я первый здесь место занял.
Генка презрительно хмыкнул:
— Вон какой ты собственник. Своего не отдашь. А у бедняка последнюю рубаху… Барахольщик! Если еще стянешь что-нибудь, пеняй на себя. — Он показал читинцу кулак.
— А меня вши заели, — заявил Арвид. — Вот смотри! — Он запустил руку в лохматые волосы и показал Генке ладонь. На ней копошились две сероватые вши, огромные, матерые. — Надо хоть рубашку переменить, а то старая совсем расползлась.
— Вот развел! — только и смог выдавить из себя Генка.
— Дома их у меня не было, — сказал Арвид. — И в прошлый раз, когда убегал, тоже сначала берегся. Но что толку! Это тебе не пассажирские вагончики с чистыми постелями, а товарняки…
— Эй, давайте сюда, елочки! — раздался совсем рядом голос мужичка. Генка спрыгнул с нар и перегнулся через брус. У вагона стояла женщина с двумя девочками, похожими друг на друга как две капли воды. Даже ревели девчонки одинаковыми голосами.
Мужичок подал Генке котелок и начал помогать женщине, которая казалась болезненной и очень усталой. Ноги ее были обезображены вздувшимися изломанными венами.
— А ну, цыц, сопливая команда! — весело закричал Елочки Зеленые, подхватывая на руки одну из девчонок, а та, не переставая реветь, отбивалась от незнакомца руками и ногами и тянулась к матери. — Принимай, юноша, невесту!
Генка нагнулся как можно ниже и подхватил упругое извивающееся тельце девочки. Она колошматила его пухлыми мокрыми от слез ручонками, а рот, широко растянутый в беззвучном крике, занимал, казалось, все лицо девчушки. Генка, когда-то нянчивший младших братишек, знал, что делать с малышами, когда они «зашлись». Он быстро поставил девочку на пол вагона и легонько похлопал ее по спине. Та наконец глотнула воздуху и сразу заревела нормально, со звуком, а это означало скорое успокоение. Со второй девчонкой Генка проделал такую же процедуру и крепко держал обеих сестриц, потому что они продолжали тянуться к матери и наверняка бы ухнулись вниз с полутораметровой высоты.
Тем временем мужичок, подбадривая женщину, помогал ей подняться в вагон.
— Шустрые у вас девчушки! Как их звать-то?
— Вера и Надя, — отозвалась женщина. Она сунула дочкам по куску хлеба, и те со вкусом начали есть, тараща глаза на незнакомых людей. — Тройня у меня была…
— А мужик-то где твой? — спросил Елочки Зеленые.
Женщина задержалась с ответом. Она постелила для девчушек разноцветный половичок и с оханьем поднялась на своих больных ногах.
— Нет у меня мужа. Одна с ними разрываюсь… — Женщина охнула и заплакала: —Любочку вот не уберегла…
Девчонки, увидев плачущую мать, разом перестали жевать и заревели совершенно одинаковыми голосами.
— Ладно, молчите, надоедливые! — Женщина с трудом проглотила слезы. — Выпили вы из меня все соки, всю кровушку! — А сама присела к детям на коврик и начала целовать зареванные мордашки.
— Ох ты, жизнь наша! — мужичок покачал головой.
— Есть здесь места свободные? — послышался сиплый голос, и перед дверью вагона выросли широкие плечи и перепаханное морщинами лицо. На лоб человека была надвинута маленькая кепочка с пуговкой на макушке.
— Мест сколько угодно, — сказал Генка, которого удивил контраст между литыми плечами, мощной шеей и таким морщинистым лицом.
— Давай сюда, Володя! — широкоплечий кричал, но из груди у него вырывалось какое-то сипенье, голос, будто клочками, выдавливался из легких. — Здесь лафа. Почти пусто.
— Ну и отлично! — раздался звучный молодой голос, и тот, кого сиплый называл Володей, появился у вагона. Это был красивый человек лет двадцати восьми с рюкзаком за плечами. Таких рюкзаков Генка еще не видел. Одни ремни чего стоят — черные, сверкающие, будто покрытые лаком. А два чемодана, которые молодой пассажир поставил рядышком на земле, были сделаны из кожи с причудливыми выпуклыми разводами.
— Ну и вагончик! — без всякого выражения произнес Владимир и сделал глубокий вдох, словно заранее готовился к тесной затхлости. — Потрясет нас дней десять-пятнадцать!
Генка обиделся за свой вагон, пахнувший вольной волей и сосновой стружкой. Однако новый пассажир все равно ему нравился.
— Ладно тебе интеллигентничать, Володя! Довезет тебя эта клетка до самой Москвы, — просипел широкоплечий. И попросил Генку: — Помоги, парень.
Генка принял неопрятный тяжелый мешок.
— Ну вот и порядочек. Давай, Володя, свое имущество!
Владимир провел пальцами левой руки от бровей до подбородка, словно отгонял какие-то мысли, и небрежно швырнул в вагон сначала оба чемодана, а потом и рюкзак. Но сам не торопился влезать, только попросил сиплого:
— Николай, займи мне местечко. Постели одеяла, они в рюкзаке.
— Сделаем. — Николай отнес чемоданы и рюкзак в противоположный от Генки и Арвида угол вагона и начал деловито копошиться. Слышалось только его неровное дыхание.
— Генка! — позвал Арвид.
— Чего тебе? — Генка с неохотой отошел от двери, ему хотелось получше рассмотреть Владимира. Матовый цвет лица, нос с породистой горбинкой, тонкие, изящно изогнутые брови, четкий подбородок — именно таким, по мнению Генки, и должно быть лицо настоящего мужчины. А глаза — черные, большие, блестящие.
— Смотри, какие одеяла! — шепнул Арвид на ухо Генке.
— Ну и что? — как можно равнодушнее спросил Генка, хотя одеяла, которые сиплый вынул из рюкзака, даже на глаз были теплыми, мягкими, пушистыми.
— Из верблюжьей шерсти, — авторитетно зашептал читинец. — А чемоданы! За один такой чемодан знаешь, сколько денег дадут!
— Собираешься стянуть? — усмехнулся Генка, пристально вглядываясь в засиневшие от повышенного интереса глаза приятеля.
— Да ладно тебе! Тоже мне, следователь нашелся! — Арвид спрыгнул на пол и выскочил из вагона. — Побереги место, отличник! Пойду погуляю! — Он скорчил рожу, мельком взглянул на стоявшего у вагона Владимира и пошел вдоль состава смешной журавлиной поступью. Без Арвида сразу стало скучно.
— Давайте я помогу, — послышался голос Владимира.
— Благодарю вас. — У дверей вагона появился аккуратный старичок в темном костюме. Волосы и бородка клинышком были совершенно седые, но держался старичок на удивление прямо, не сутулился и не горбился.
Владимир подсадил старичка. Тот выбрал себе место у стенки, рядом с Николаем. И через минуту Генка услышал, как Николай просипел:
— А в твоих краях, папаша, барсуки водятся? Старенький пассажир охотно и с полной серьезностью начал рассказывать о барсуках и почему-то о енотах. Рассказывал он, наверное, интересно, потому что Николай внимательно слушал, даже его порывистое дыхание стало словно бы ровнее.
— Давай сюда, мамаша! — крикнул кто-то. Генка обернулся и увидел огромного человека в темно-синем кителе. Ну и рост у него! Наверняка метр девяносто, не меньше.
— Лесоруб я, — еще стоя на земле, счел нужным представиться рослый пассажир. — С самого Приморья еду, так сказать. Лесопункт наш Муравейка называется. Может, слыхали?
— Нет, не слыхал, — Владимир, к которому были обращены слова лесоруба, улыбнулся. — Но мне очень приятно познакомиться с вами.
— Иван Капитонович Корнев. — Лесоруб протянул Владимиру огромную ручищу, а когда тот назвал себя, с удовлетворением проговорил: — Вот и познакомились, так сказать.
Потом лесоруб посмотрел вдоль состава и гаркнул:
— Живей, мамаша! Второй раз тебя кличу.
Мамашей оказалась знакомая Генке старушонка в мышиной шали. К вагону она прискакала резвенько, бодро. И откуда берутся силы у этих старушонок! Совсем вроде развалюшка, а ни черта ей не делается — бегает по вокзалам, толкается в очередях. Вот и сейчас она улыбается, приговаривает что-то ласковое, а по хитреньким глазкам видно, что бабка себе на уме и не позволит провести себя никаким ловкачам, отирающимся на буйных послевоенных вокзалах.
Лесоруб легко поднял старушонку вместе с лукошком и сумкой. Бабка лихо, по-девичьи взвизгнула, длинная цветастая юбка задралась, и Генка, не успев отвернуться, с досадой увидел убогую наготу. Помогая старушенции утвердиться на полу, Генка отвернулся, а та поняла причину его смущения и хихикнула, прикрыв рот сухоньким кулачком.
В углу вагона шипел и кудахтал Николай — смеялся. Интеллигентный старичок тоже посмеивался. В этот момент лесоруб влез в вагон, увидел, что все смеются, и сам захохотал, показав огромные прокуренные зубы.
— Ржут, как нехристи, — оправив юбку, сказала старушка. — Не девка я вам. Неча зубы скалить. До войны больно много ржали, вот и наказал господь, наслал на нас этого антихриста, Гитлерюгу!
— Да мы ничего, мамаша, — примирительно пробасил лесоруб. Он не знал причины веселья, а просто присоединился к общему смеху за компанию. — Почему бы и не посмеяться? Сели в вагон, скоро отчалим, так екать. Вот и веселимся от души.
Все занялись своим устройством. Готовились ехать долго, основательно, не рассчитывая на курьерскую скорость.
Елочки Зеленые, который успел уже всем сообщить, что его звать Матвеем, свернулся калачиком на нарах и моментально заснул. Спали, сладко причмокивая губами, двойняшки. И только мать, оберегавшая их сон, знала, кто из них Вера, а кто Надя, настолько они были похожи. Николай постелил шикарные верблюжьи одеяла с красивым рисунком и что-то искал в своем тяжелом неопрятном мешке.
Владимир курил. И хотя поза у него была самая спокойная, Генка чувствовал, что красивый пассажир думает о чем-то невеселом. Как-то уж слишком сосредоточенно следил он за тем, как синеватая струйка дыма поднималась от папироски и, расплываясь, таяла в знойном, неподвижном воздухе.
На Владимире была белая новая рубашка, шелковая, почти прозрачная, и синие, тщательно отглаженные брюки. Шик! И туфли тоже новенькие. И как только ухитрился даже не запылить их!
Наверно, Генка очень уж внимательно наблюдал за элегантным пассажиром: тот вдруг недовольно посмотрел на парня. Но, видимо, провинциальный и добропорядочный вид Генки подействовал на Владимира успокоительно, он улыбнулся уголками губ и снова сосредоточенно принялся наблюдать за дымком папиросы.
— Далече едешь, парень? — к Генке подошел Николай, он снял рубашку и остался в одной майке. Ну и ручищи! Мускулы, не спортивные и эластичные, а жесткие, рабочие, так и бугрились под кожей, почти сплошь покрытой татуировкой.
— В Москву, — коротко ответил Генка.
— Учиться, что ли?
— Учиться, — Генка еще раз удивился контрасту между лицом Николая, похожим на старый гриб, и его могучим телом.
— Учиться — это хорошо, — просипел Николай и закашлялся. Лицо его налилось кровью. Воздух свистел и хрипел в широкой груди. Наконец он справился с приступом и прохрипел: — Замучил кашель проклятый! Вот приеду домой, во Владимирскую область, буду горячее молоко с маслом пить. По сто грамм масла прямо в стакан швырять и выпивать. Говорят, помогает.
— Наверно, — поддержал разговор Генка, хотя и не представлял себе, как можно пить горячее молоко с маслом.
— А еще мне сказывали, что жир барсучий очень пользительный, — маленькие красноватые глазки Николая заблестели надеждой. — В наших краях про барсуков я что-то не слыхивал. Но найду!
— Конечно, — подтвердил Генка. Он достал из пачки последнюю «беломорину» и закурил, чтобы заполнить паузу в разговоре.
— И меня курить тянет, — сказал Николай, явно довольный тем, что попутчик слушает его внимательно. — Но бросил. Потому как жить прямо по-зверскому хочется. Жить, как все люди. Жениться, детишек завести, дом хороший построить. Барахла нажить побольше.
— Женитесь, вон какой вы здоровый, — покривил душой Генка.
Николай хрипло вздохнул.
— Это я с виду здоровый. А изнутри подточился. Легкие совсем барахлят. Но ничего! Вышибу я этот кашель из себя, будь он трижды проклят! Денег подзароблю и в Москву подамся. Вон Володька Астахов обещал помочь. Знаешь, у него кто отец? Профессор самый лучший по разным болезням. Володька поможет — это точно. Скажет — не соврет!
Николай помолчал, прислушался к собственному дыханию. Потом спросил:
— А ты барсуков видел хоть раз?
— Конечно, видел. Их легко ловить, — ответил Генка, хотя сам только слышал о том, как поселковые охотники ловили барсуков. — Главное, нору найти. Поставить капкан — и все в порядке.
— В институт едешь? — обратился к Генке поднявшийся в вагон Астахов.
Генка кивнул.
— А разве в Красноярске нет институтов?
— Я не из Красноярска, — доверчиво признался Генка и сам не заметил, как рассказал Владимиру о себе, о своем желании учиться только в Москве.
Тут появился Арвид, нескладный, взъерошенный и сияющий.
— Живем, отличник! — крикнул он, потрясая пачками «Беломора». — Последнюю тридцатку на табак спустил. Живем!
Веснушки Арнида золотились, он был беспечен и весел, а с Генкой разговаривал так, будто между ними не было никаких недоразумений. И странно, Генка обрадовался его возвращению.
— Скоро поедем? — бесцеремонно обратился Арвид к Владимиру, покачиваясь перед ним на длинных тощих ногах.
Астахов взглянул на часы:
— Час и пятнадцать минут осталось.
— Ох и часики! — Арвид цокнул языком, глаза его хищненько блеснули.
Владимир со снисходительным пренебрежением посмотрел на конопатого вертлявого мальчишку и вдруг брезгливо поморщился:
— Слушай, у меня есть мазь против вшей, смотри, они у тебя прямо по голове ползают!
— А-а! — Арвид небрежно махнул рукой. — Не сожрут!
— А я тебе говорю: сейчас быстренько умойся горячей водой и натрешься мазью, — жестко, едва раздвигая губы, сказал Владимир, и было видно, что этот человек умеет отдавать приказания. — А свою одежонку выкинешь к чертовой бабушке. Я тебе чистое белье дам. Ясно?
— Да чего ты привязался? — огрызнулся Арвид. Но Владимир не слушал. Он открыл один из чемоданов и сунул Арвиду баночку с мазью.
Лесоруб, стоявший у бруса, слышал, о чем идет речь, и решил внести свою лепту в очищение Арвида от скверны.
— Ребята, у меня котелок есть, почти ведерный. Наберите кипятку и помоетесь, так скать. А еще у меня машинка парикмахерская есть. Могу твой шарабан наголо оскубать. Ни одна вша на черепушке не удержится. — И лесоруб дружелюбно загоготал, заставив старуху вздрогнуть и перекреститься.
Но Арвида уже не нужно было упрашивать. Он оценил предложение Владимира. Перспектива иметь чистую одежду показалась ему стоящей. Он помчался вдоль состава к вокзалу, специально громыхая огромным котелком возле пассажиров, которые шарахались в сторону и посылали проклятия вослед долговязому и конопатому нарушителю спокойствия.
Как ни странно, людей в вагоне почти не прибавилось. Состав был длиннющий, теплушки разделялись платформами и грязными цистернами. Видимо, пассажиры находили себе место в вагонах, стоявших ближе к вокзалу, и не пытались искушать судьбу беготней в голову поезда.
Пришла еще лишь одна пассажирка, молодая женщина, аккуратно причесанная и скромно одетая. Губы у нее были подкрашены чуть-чуть, самую малость.
Владимир заинтересованно посмотрел на женщину, она ответила незащищенным взглядом и немножко покраснела, что не укрылось от Генкиного внимания.
— Я вам помогу, позвольте, — предложил Астахов, но женщина торопливо протянула чемоданчик Генке:
— Помоги, пожалуйста, мальчик!
Она очень понравилась Генке, хотя обидно, когда тебя, вполне взрослого человека, называют мальчиком. Но обида была не очень глубокой. Генка принял чемодан, потом спрыгнул вниз и помог пассажирке подняться в вагон, с волнением чувствуя литую упругость ее тела.
— Спасибо! — женщина благодарно улыбнулась.
— Давай, милая, в наш бабий закуток, — пожала старушонка в серой шали. — Будем вместе держаться, а то мужики заедят.
— Ух, бабуся! — просипел Николай. — Ты сама еще зубатая. Об тебя любой зубы поломает.
— Не слушай его, милая, — старуха отмахнулась от Николая. — Вишь, он весь иголками расписанный. Всю свою кожу попротыкал, испоганил. И черти рогатые, и… Тьфу! Нехристь, да и только. И матерщинник небось. Недаром господь его голосу лишил.
— Мели, бабка, мели, — беззлобно просипел Николай, но все же критика подействовала, и он стал натягивать сероватую рубашку, фабричную окраску которой невозможно было установить из-за ветхости и многочисленных стирок.
— Как тебя зовут, милая? — старуха, видимо, решила разузнать все о новой пассажирке.
— Марина, — красивым глубоким голосом ответила женщина, еще не зная, что занимает место рядом с Владимиром.
— Мария, значит, по-русски, — уверенно поправила старушка и подвязала покрепче шаль. — А ты, Мария, на мужиков сердитей покрикивай, а то у них один срам на уме.
— Но почему же? — спросила Марина, бросив украдкой взгляд на Владимира, а тот уже не смотрел на нее, задумчиво покуривая.
— Все они греховодники, — старушка продолжала развивать свою нехитрую житейскую мысль. — Вот тот, что у вагона стоит, шальной, сразу видать. Зыркает своими глазищами. У самого нет мира в душе, так еще и других смущает. Антихрист, да и только!
— Зачем вы так, бабушка? — с укоризной произнесла Марина. Она села на чемодан и с видимым удовольствием вытянула красивые полные ноги.
Старуха подняла вверх острый подбородок, непримиримо взглянула на Владимира, который и не подозревал, что речь идет о нем, и отрезала:
— Шальной он, по всему видать, хоть и грамотный.
Генку раздражало, что старуха говорит тоном, не допускающим возражений. Видно, уверена, что всегда права и не может ни в чем ошибиться.
— На работу едешь, Мария, иль родню проведать? — требовательным голосом продолжала она расспрашивать молодую женщину.
— Буду работать в школе, в младших классах.
— Ребят чужих, значит, учишь? А свои-то есть у тебя?
— Нет, — быстро ответила Марина и покраснела, потом с озабоченным видом открыла чемодан и снова закрыла его.
Но отделаться от настырной старухи ей не удалось.
— Это плохо, что своих нет. А муж-то есть?
— На фронте пропал без вести. Только в прошлом году через военкомат узнала, что погиб мой Вася в Орловской области, возле города Малоархангельска…
Женщина, баюкавшая близнецов, горестно вздохнула и с понимающей бабьей жалостью взглянула па Марину. Лицо старухи немного смягчилось:
— Бывала я в тех краях. Ох, сколько же там народу полегло! Страсти господни! Место там ровное — ни леска тебе, ни кустика. Вот и полегли солдатики во поле во чистом… А ты, Мария, так всю войну и ждала своего?
— И после войны ждала… В прошлом году съездила в Малоархангельск, зашла в школу, и директор пригласил меня работать, учителей там не хватает.
— Поближе к мужу хочешь? И правильно, а то ему одиноко без своих в земле лежать. Никто не придет, не проведает, не поплачет…
Вот чертова старушонка! У Марины задрожали губы, она опять открыла чемодан, порылась в нем и снова закрыла. А лесоруб, который слышал этот разговор, сказал необычным для него тихим, голосом, обращаясь к старичку:
— Хорошая, крепкая женщина, так скать. Очень приязненная!
— Улю-лю-лю! — донесся издалека пронзительный дурашливый голос Арвида, и Генка увидел его нелепую тощую фигуру. В руке читинца болталось ведерко, а сам он успел обрызгаться водой с головы до ног и потому казался еще смешнее и нелепее.
— Расступись! Разойдись! — верещал Арвид и размахивал ведерком так отчаянно, что бабы прижимались к вагонам и, хотя провожали разухабистого мальчишку бранью, казалось, были довольны этим неожиданным развлечением.
— Ну и дурында! — с улыбкой покачал головой Астахов. — Но симпатяга, черт его подери!
— Горячая, почти кипяток! — Арвид поставил ведерко на землю. Его лицо смеялось всей сотней веснушек, каждая из которых жила и улыбалась сама по себе, подсвеченная и подзолоченная изнутри. — А где обещанная одежонка?
Бесцеремонность Арвида только посмешила Владимира, уголки губ у него поползли вверх.
— А все-таки сними шевелюру перед банькой, — предложил он.
— Ладно, буду стричься под нулевку! Давай машинку, дядя!
— Порядок! — прогремел сверху лесоруб и спрыгнул на землю.
Лягушачья мордочка машинки казалась совсем крохотной в его корявой ручище с толстыми ногтями.
Под общий смех пассажиры усадили Арвида на высокий сундучок лесоруба, и гигант сосредоточенно и даже мрачновато принялся за дело.
— Ты только не вертись, — лесоруб сделал несколько пробных движений ручками машинки. Арвид вздрогнул, заранее сморщился так, что веснушки набежали друг на друга, жалобно шмыгнул носом.
Весь вагон наблюдал за эти процедурой. После вокзальных мытарств и неустроенности люди чувствовали себя наконец настоящими пассажирами, «обилеченными», как выразилась старушонка, и потому могли позволить себе чуть-чуть позабавиться, тем более что до отхода поезда оставалось еще порядочно времени.
Арвид страдал и блаженствовал. Страдал потому что опыта у лесоруба было не очень много, но чувствовать, что на тебя смотрит весь вагон, было приятно. Арвид нарочно вопил даже тогда, когда машинка шла сравнительно гладко, но все же старался не шевелиться, чтобы не причинять себе лишних страданий.
— Ну и закуршивел ты, парень, — пробасил лесоруб, проделав на голове «клиента» неровную просеку от лба до затылка, потом решительно повел вторую полосу, и лицо его было, наверно, таким же сосредоточенным, как в тот момент, когда он подпиливал ствол сосны.
Владимир запрыгнул в вагон и скоро вернулся, держа в руках белую футболку с красным воротничком, трусы и великолепную рубашку, синюю, как небо, раскинувшееся в тот день над Красноярском.
После стрижки голова Арвида уменьшилась, а уши будто выросли и стали похожи на звукоуловители. Обладатель этих лопухов вертел остренькой мордочкой, весело скалил зубы и пожинал всеобщее внимание.
— Ну а теперь мыться! — скомандовал Астахов и потрогал Арвида за ухо, будто хотел убедиться в том, что такие огромные лопухи действительно выросли на такой маленькой голове. — Вымыться полностью, с головы до ног. А старую одежонку выбрось!
— Зачем выбрасывать? — зажадничал Арвид. — Можно потом постирать при случае.
— При случае! — передразнил Владимир. — При первом же случае вши разбегутся по всему вагону!
— Да, парень, ты уж, того-этого, сделай доброе дело, брось напрочь свои вещички, — поддержал Астахова лесоруб, любуясь результатами своей парикмахерской деятельности. — Вша, она войну да грязь страх как любит.
Генка толкнул Арвида локтем:
— Что ты жадничаешь? Хватай одежонку да пойдем. Я тебе помогу.
Они захватили с собой ведерко, кусок мыла, мочалку и пошли подальше от вагона, к пустым платформам.
— Я бы и сам с удовольствием помылся, — сказал Генка. — Уже десять дней в бане не был.
— Десять дней! — Арвид презрительно фыркнул и смешно пошевелил ушами. — Я уже больше месяца не моюсь.
Они шли вдоль состава, унылого и неподвижного. Казалось, он вовсе не в силах тронуться с места, но в голове состава обнадеживающе дымил паровоз, способный вдохнуть жизнь в эти понурые коричневые вагоны, грязные цистерны и потрепанные платформы.
— Давай залезем в вагон с высокими бортами, — предложил Арвид. — Там можно раздеться догола и ни один черт нас не увидит.
Он полез по железным скобам, и скоро стриженая голова исчезла за бортом.
— Красота! — послышался веселый голос. Генка взобрался на борт вагона и с этой высоты
увидел весь состав, длинный, неровный, разномастный. Рядом с породистыми зелеными вагонами пассажирских поездов пятьсот веселый напоминал разухабистого беспризорника, щеголяющего своими лохмотьями. Даже не верилось, что эта нелепая громада, похожая на давно вымершее доисторическое чудовище, может передвигаться по дисциплинированным, строгим рельсам.
— Что сидишь, как петух на насесте? — Читинец уже разделся и стоял, переминаясь с ноги на ногу, худой, незагорелый и жалкий, похожий на цаплю, отощавшую после долгого перелета.
— Ну и силен ты! — Генка, смеясь, спрыгнул вниз. — В чем только душа держится?
— Держится, и ладно, — сердито буркнул Ар вид, стараясь побороть смущение, которое всегда испытывает голый человек перед одетым. — Давай, лей мне потихоньку, чтобы воды хватило.
Он взял бесформенный кусок вязкого мыла, мочалку из рогожи, и омовение началось. Арвид тер свое синеватое, тщедушное тело ожесточенно, остервенело и даже постанывал от удовольствия.
— Потри спину, будь другом, — попросил он, сморщив лицо из-за мыльной пены, попавшей в глаза.
Генка постарался на славу. Арвида мотало из стороны в сторону, спина его моментально покраснела.
— Потише ты! — завопил он, хватаясь руками за борт вагона. — Живодер чертов!
— Помалкивай, вшивый! — веселился Генка, но все же стал действовать осторожнее.
Потом Арвид опрокинул на себя остатки воды и, приплясывая на тонких голенастых ногах, начал вытираться.
— А этот черный — прямо как граф Монте-Кристо! Таких шмоток надавал!
Вещички действительно были отличные. Когда Арвид натянул футболку, трусы и новые носки, он прямо преобразился, и даже нескладная фигура и стриженая голова не мешали ему стать симпатягой.
— Старые штаны противно надевать, — Арвид брезгливо сморщился, двумя пальцами поднял свои брюки, грязные, залатанные, с бахромой на манжетах.
— А ты хотел, чтобы Владимир тебе и шубу со своего плеча пожаловал, и туго набитый кошелек? — съехидничал Генка.
— А почему бы и нет? — хохотнул Арвид, надевая свои древние ботинки. — Он не для меня — для себя старается. Вшей боится.
— Ох и неблагодарный! Хоть спасибо скажи ему!
— Еще чего! — Арвид вздернул вверх остренький, теперь уже чистый подбородок. — Мне бы столько барахла, я тоже раздавал бы его направо и налево.
— Так тебе и поверили! Ну, выбрасывай свое тряпье и пойдем.
Арвид с сожалением посмотрел на ветхую одежонку и полез из вагона:
— Пусть валяется здесь. Куда ее сейчас выбросишь?
— Погоди минутку, — придержал Генка Арвида за локоть, когда они спустились на землю. — Ты не договорил тогда… Почему мать не отпускает тебя в Ригу?
— Интересно в замочную скважину заглянуть, да?
— Подумаешь, секреты! За тремя замками! У нас пацаны тоже из дому удирали. Потом возвращались как побитые собачонки. И ремня от отцов получали.
— Мать не хочет, чтобы я был моряком, — сказал Арвид, задетый тем, что его сравнивают с пацанами, которые убегали из дому без всякой цели да к тому же, наверно, на два-три дня. — Говорит, что сначала надо кончить школу, а там видно будет.
— Правильно говорит, — одобрил Генка. — Ну куда ты без аттестата? Уж потерпел бы два годика…
— Посмотрел бы я, как ты с моим отчимом потерпел! Да и причем тут аттестат? Хоть десять аттестатов получи — все равно меня мать в моряки не пустит. С тех пор как отец утонул, она о море и слышать не хочет…
— Утонул? Давно?
— Мне было четыре года. А может, пять. Он рыбаком был.
— Ты его помнишь?
— Конечно, помню. Он был большой, от него пахло рыбой, табаком и чем-то таким… хорошим. Наверно, морем, Он подкидывал меня под потолок. А волосы у него были желтые…
— Желтые? — удивился Генка.
— Желтые, — подтвердил Арвид. — Не рыжие, не белые, а желтые, как солома, это я, как сейчас, помню. А когда он утонул, мы с матерью жили вдвоем. Потом она вышла замуж за этого и родила девчонку. А тут война, и мы эвакуировались в Читу.
— Почему так далеко — в Читу?
— Почему да почему! — ни с того ни с сего разозлился Арвид. — Надоело!
Но потом не очень охотно объяснил:
— Бабка у меня в Чите и две тетки — мамины сестры. Вот к ним и поехали. Отчима-то в армию не взяли — хромой…
— Так у тебя мать, выходит, сибирячка?
Арвид кивнул.
— Интересно! А в Латвию как попала?
— Отец воевал тут в гражданскую. Слыхал про латышских стрелков? С ним и уехала… Ох и доставалось потом отцу за службу у красных! Я-то, конечно, не помню — мать рассказывала.
— А отчим кем работает?
— А ну его! — махнул рукой Арвид. — И говорить не хочется. Бьет, да еще при матери. Вот стану матросом, напишу ей, чтоб приезжала ко мне. Только бы не сцапали, как в тот раз…
— Сцапают, — жестко сказал Генка. — Как пить дать. — Но, вспомнив слова Арвида об отчиме, устыдился и смягчил удар:
— Дурошлеп ты — вот что. Думаешь, матери не больно, что ты ее бросаешь?
— Она поймет. Пусть не сразу, но поймет. Она у меня умная, умнее, чем двадцать таких вот отличников. — Арвид помолчал немного и добавил:
— Все равно к отчиму я не вернусь.
— А они сами-то в Латвию возвращаться не собираются?
— Собирались. А сейчас обжились, наверно, уж и не стронутся. Отчим шишкой заделался по торговой части. И родственники мать отговаривают: дескать, вместе надо, и так двадцать лет врозь…
Арвид замолчал, а Генке вдруг так захотелось представить себе его отца-рыбака, ту жизнь, которой жили они в Латвии, но, как он ни старался, ничего не вырисовывалось. Генка подумал, что мир усложняется для него с каждым днем. Все, что раньше казалось простым и понятным, приобретало какие-то новые, не ясные пока оттенки. Вспомнилось, как его раздражали и отпугивали перемены тональности в тех несложных музыкальных вещичках, которые он постигал самоучкой в школьном духовом оркестре: играешь себе спокойненько чистую партию трубы, и вдруг — на тебе! — откуда ни возьмись, появляется парочка диезов. Генка чертыхался, проклинал музыкальных сочинителей. Знаки диезов казались колючими решетками, из которых поскорее хотелось выскочить. Потом все стало на свои места.
Генка почувствовал вкус разнообразия и сам же смеялся над своим тупым консерватизмом. Но в жизни бемолей и диезов, наверно, гораздо больше, чем в нотах, и разобраться в них не так-то просто!..
Они шли вдоль состава. Пока Генка размышлял о хитросплетениях жизни, Арвид напевал какую-то латышскую песенку. Голос у него был не ахти какой, но верный — это Генка сразу определил. В песенке почему-то часто повторялось слово, похожее на имя Юра.
— О каком Юре ты поешь? — спросил Генка.
— Эх ты, хутор! — небрежно отозвался Арвид. — Я пою о море.
И опять запел. Генка жадно ловил непривычный мотив, надеясь постичь ускользающую от него суть песни. О чем, интересно, поется в ней? Наверно, о рыбаках, ушедших в море, об их женах, оставшихся на берегу в привычном напряженном ожидании. В неискушенном воображении Генки возникали красивые картины, но он сам уже догадывался, что они не имеют ничего общего с действительностью. Ведь Генка никогда не видел моря, а всех латышей представлял себе немногословными светловолосыми гигантами, суровыми, похожими на знаменитых латышских стрелков, о которых рассказывалось в книгах про революцию.
Но Арвид почему-то не походил на латышей, живших в Генкином воображении. Может, потому, что латыш только наполовину? Он вообще не походил ни на кого, кроме самого себя.
Лесоруб встретил Арвида громовым возгласом:
— Совсем человеком обернулся! Все как у людей, так скать!
Лицо таежника дышало искренним восхищением, он любовался Арвидом, радуясь, наверно, еще и потому, что внес свою лепту в обновление запущенного мальчишки. Лесоруб широко улыбался, как могут улыбаться только бесхитростные, доброжелательные люди. И Генка подумал, что его товарищам по работе в тайге надежно и крепко с этим простым и сильным человеком. Даже одежда лесоруба — парадный френч из темно-синего сукна, огромные сапоги из грубой кожи — все казалось надежным, основательным.
Арвид был доволен своим положением и радовался всеобщему вниманию. Лишь Владимир отошел от вагона и даже не поинтересовался, как выглядит его «крестник» в новом одеянии.
— Ах, елочки зеленые! — мужичок, оказывается, уже успел проснуться. Он о чем-то беседовал с Николаем, но, когда увидел чудесное перевоплощение Арвида, не мог удержаться, чтобы не высказать свое мнение. — Вона как тебя прополоскали, отшвабрили! Ну прямо пассажир первого класса, растерзай тебя блоха! Теперь, елочки, до самой Москвы можешь не умываться!
— Постараюсь, — хихикнул Арвид. — С детства умываться не люблю.
— Но-но, — лесоруб предостерегающе поднял указательный палец с желтым выпуклым ногтем. — Ты, это самое, соблюдай. Вот, к примеру, у нас, в лесу, если человек перестает, скажем, руки мыть или лицо споласкивать, портянки не стирает, — считай, что пропал человек.
— И на фронте так, — согласился с лесорубом Матвей — Елочки Зеленые.
Он спрыгнул на землю. Видно было, что мужичок успел выспаться, даже землистые щеки порозовели. Он был неказист, но не так уж хил, как показалось Генке на вокзале. Но, главное, Матвей воевал на фронте, и это сразу поднимало его в Генкиных глазах.
— Узнать бы, скоро тронемся или нет? — сказал мужичок. — Время, наверно, уже вышло.
Владимир Астахов взглянул на часы.
— Сейчас половина седьмого. Уже на полчаса опаздываем.
— Давай сбегаем к паровозу, — предложил Арвид Генке. — Машинист точно знает, когда поедем.
— Топай один, — отмахнулся Генка. — Только смотри, чтобы тебя хозяин рубашки не сцапал.
— Фига с два! — отозвался Арвид уже на бегу.
— Лихой парень! — одобрительно воскликнул Матвей. — А куда он едет, елочки зеленые?
— В Ригу, — сказал Генка.
— К латышам, значит? — проговорил Николай.
— Он и сам латыш.
— Не похож, — убежденно просипел Николай. — По-русскому он не хуже нас с тобой шпарит.
— Ну и что же, елки-палки, — возразил Матвей. — Он, видать, давно при России живет, среди русских. Сгладился, как камешек речной. Вот и не отличишь от русского пацана. Но парень лихой!
Генка хотел сказать, что мать у Арвида русская, но тут вдруг раздался голос Астахова:
— Внимание, идут блюстители порядка!
Все с любопытством посмотрели в хвост состава и увидели двух мерно шагавших милиционеров. Какое-то смутное беспокойство овладело Генкой, хотя сам он никогда в жизни не имел дело с милицией.
Милиционеры подошли к Астахову, и один из них, высокий, с длинным лицом, о чем-то тихо спросил.
— Мальчишку? — громко переспросил Владимир. — Не видел никакого рыжего мальчишку. Есть у нас парень, только вроде без веснушек. — И показал на Генку.
Коренастый чернявый милиционер в плохо подогнанной форме подошел к Генке, оглядел его быстрыми черненькими глазами.
— Не тот.
— Кто видел мальчишку лет шестнадцати? Рыжего, высокого, худого? — заученно вопросил высокий милиционер.
«Попался Арвид!..» — успел подумать Генка и с отчаянием увидел, что честное лицо лесоруба напряглось, кустистые светлые брови удивленно поднялись, и весь его вид выражает высочайшую степень внутренней борьбы.
— Нет у нас рыжих, — сказал Генка и сам ужаснулся неестественности своего голоса.
— А вы сами посмотрите, — Матвей проворно вскарабкался в вагон и отстранил лесоруба, продолжавшего стоять с открытым ртом. — Публика у нас степенная, с детишками люди. Нам не до баловства, елочки-сосеночки!
— Стой, Корзухин! Я буду проверять. — Коренастый милиционер с привычной ловкостью залез в вагон и цепкими глазами ощупал всех пассажиров.
— А что натворил этот рыжий? Убил кого ай своровал? — застрекотала старушка в серой шали, бросая пронзительные взгляды на Николая, тихо покашливавшего в стороне. Она сразу оживилась, на сухоньком благообразном личике отразилась неподдельная заинтересованность.
— Не трещи, старая, — выдавил из себя Николай. — У меня с милицией все в норме. Я давным-давно свое отсидел. В бегах не бывал.
— А тебя и не спрашивают, — отозвалась старушонка. — Мне надобно знать, что тот малый, которого ищут, натворил.
— Пойдем, Шарафутдинов, — позвал высокий. Но чернявый милиционер нес службу исправно.
По заинтересованности старушки и скованности лесоруба он почуял, что в воздухе витает какая-то недосказанность. Генка с усиливающимся беспокойством наблюдал за тем, как ретивый страж заглядывает во все углы.
— Пойдем, Шарафутдинов, а?
Шарафутдинов не удостоил товарища ответом, а только презрительно сверкнул азиатскими черными глазами.
— А что натворил этот парень? — не выдержал мужичок.
— Не твое дело, — четко отрезал Шарафутдинов, спрыгивая на землю. — Приказано задержать, значит, надо.
Милиционеры ушли.
— И что наделал наш латышонок, елочки-палочки? — задумчиво протянул Матвей.
— Воришка он, — непоколебимо заявила старушка. — Но нам остерегаться нечего: у них, воришек, такой закон — где живут, там не крадут.
— Да ничего он не крал, — покривил душой Генка.
— Направлять надо мальчонку, это самое, — проговорил наконец лесоруб, молчавший до сих пор и томившийся своей немотой. Теперь ему явно полегчало. — Веселый, так скать, парнишка. Но может от рук отбиться, туды-сюды.
— Да непохоже, чтобы этот мальчуган натворил что-нибудь серьезное, — вступил в разговор интеллигентный старичок. — Я учитель и немножко разбираюсь в ребятишках.
Генка попытался угадать, какой предмет может преподавать старичок. Физик или математик? Скорее всего. Наверно, сухой и педантичный старикан, на экзаменах такого не проведешь!
Пока Генка размышлял, лесоруб уважительно посмотрел на старичка и изрек:
— Правильно, так скать, говорит папаша. А дров могут и милицейские наломать. Могут и ошибку совершить. Ведь и они люди, так скать…
Арвид появился неожиданно. Все ждали его с правой стороны состава, а он с воплем влез в вагон слева, успев измазать в мазуте шикарную небесно-голубую рубашку.
— Едем! Через пять минут. Ура!
Он, кривляясь, подбежал к правому брусу и завопил:
— Граждане пассажиры! Поезд пятьсот двадцать седьмой отправляется с черт его знает какого пути!
— Тише ты, шалопай! — Старушка в шали заткнула уши, но сообщение Арвида, видимо, обрадовало и ее. — За ним милиция по пятам гоняется, а он скоморошничает.
— Ты, бабушка, того. Не порти радость человеку, — пробубнил лесоруб, смущенно теребя пальцами нос, казавшийся огромным даже на его лице.
Но Арвид не слышал возгласа старушки, он верещал так, что разбудил двух сладко посапывающих близнецов.
Вдруг вагон с лязгом дернуло назад. Мужичок, стоявший у двери, чуть не упал на Арвида.
— Едем, елочки зеленые! — закричал он по-бабьи тоненьким голосом. — Садись, ребята, в эшелон!
Астахов затянулся последний раз, бросил сигарету и резким движением, в котором чувствовались сила и упругость, взлетел в вагон.
— Ты, парень, не мельтеши на остановках и поглядывай в оба, — тихонько сказал он Арвиду. — Приходили здесь по твою душу.
Читинец поблек, втянул голову в плечи.
— Да ты не огорчайся, — Владимир подошел к одному из своих чемоданов и протянул Арвиду аккуратно свернутые брюки: — Переоденься. Извини, я совсем забыл о брюках.
Арвид встрепенулся, синенькие глазки блеснули:
— Не надо мне ничего. Сам найду брюки, если потребуются.
— Как хочешь. Одень все-таки для маскировки. Ведь твои приметы уже по Москве гуляют. Наверняка.
— Нашелся богатей, — буркнул Арвид. Но брюки взял. Они были хороши — темно-синие, отглаженные. И веснушки снова легкомысленно заиграли на лице читинца: — Шик, блеск, красота! Покорнейше благодарю вас, граф Монте-Кристо!
Владимир хмыкнул. Видно было, что нелепый и жизнерадостный парнишка отвлекал его от каких-то невеселых мыслей.
И тут раздался гудок.
Едва он замер, как послышался нарастающий лязг и скрежет. Вагон встрепенулся. Это был прекрасный миг! Старушонка в серой шали перекрестилась и, заметив, что Марина с удивлением посмотрела на нее, перекрестилась еще раз, уже с вызовом. Лесоруб улыбался, показывая два забора желтоватых крепких зубов.
— Поразительно, но мы, кажется, едем, — сказал учитель.
Николай, с почтением относившийся к старичку, который так интересно рассказывал про барсуков, вежливо просипел:
— Главное, с места тронуться, а там как-нибудь докатим до своих краев.
Генка пробрался к брусу, выкроил себе местечко между Арвидом и Матвеем и провожал прощальным взглядом уходящие назад составы и пути.
Щелкали колеса на стыках и стрелках, и поезд, наконец, с ликующим воплем вырвался из душной суеты и многорельсовой путаницы станции на открытый двухколейный простор. Мимо проплывал город, который уже не казался чужим. Жаль только, что Красноярск, как и другие города, выставлял вдоль дороги приземистые унылые склады, захламленные пустыри, сараюшки, будочки, покосившиеся дома.
А поезд разошелся не на шутку. Подбадривая себя гудками, он стремительно катил на запад, и когда на изгибах пути можно было видеть маленький паровозик и уцепившуюся за него нескончаемую очередь цистерн, платформ и вагонов, казалось, что не локомотив тащит состав, а ожившие, беснующиеся вагоны толкают вперед упирающийся и тормозящий паровозик.
— Поехали, елочки зеленые! — Матвей зачарованно смотрел на проносящиеся мимо таежные красоты, целомудренные, неприступно суровые, еще не открытые художниками-пейзажистами. Мелькали придавленные к железнодорожному полотну маленькие покосы с островерхими стожками недавно скошенного сена, виднелась дорожка, боявшаяся шагнуть в лес и пугливо прижимавшаяся почти к самой насыпи. А все остальное сливалось в одно емкое слово — тайга. Тайга нетронутая, молчаливая и бесстрастная. Осмыслить ее бесконечность было невозможно. И лучше всего подчеркивал эту величественную бесконечность босоногий мальчонка с микроскопического разъезда, загорелый и простоволосый. Он доверчиво и прощально махал рукой вслед проходящему поезду. В сердце Генки вспыхнула нежность к этому мальчугану, по воле судьбы родившемуся на разъездике, где, наверно, так редко останавливаются поезда.
Ощущение скорости пьянило Генку, он впитывал в себя проносившиеся мимо деревья и речушки, станционные домики и всем своим существом с ликованием рвался вперед, навстречу прекрасной и бесконечной новой жизни.
Стремительно бежал поезд за уходящим солнцем, но никак не мог догнать его. С востока незаметно и неотвратимо надвигались сумерки. Становилось все прохладнее, солнце то пряталось за верхушки деревьев, то появлялось вновь, но уже не раскаленное добела, а красное, утомленное, сомлевшее от собственного жара. Холодок, притаившийся в тайге, теперь выползал и на открытые места, окутывал низинки туманом, стлался над речушками.
— Сквозняк! — просипел Николай, зябко кутаясь в рваную телогрейку. Он встал с пола и пошел закрывать левую дверь вагона. Заржавевшее колесико с визгом покатилось по желобку, и в вагоне сразу стало темнее.
— Давай поедим, — предложил Арвид, — да и поспим как следует. Ух, буду зверски спать! До самого Новосибирска!
С трудом оторвался Генка от двери вагона. Оказалось, что все пассажиры ужинают. Владимир Астахов с Николаем открывали консервные банки, перед ними лежали на газете нарезанные вдоль огурцы и булка хлеба. Старушка, скорбно поджав губы, очищала от скорлупы яйцо. Интеллигентный старичок откусывал от тоненького ломтика хлеба и тщательно жевал, запивая водой из фаянсовой кружки с полустертым рисунком. Близнецы, успевшие немного поспать, сидели рядышком возле дремлющей матери, сосали большие колючие куски сахара и таращили на пассажиров влажные черненькие глаза.
Лесоруб успел подружиться с Матвеем, которого в вагоне иногда в шутку называли Елочки Зеленые — по его излюбленному присловью. Фронтовик на прозвище не обижался, а просто на всякий случай сказал своему новому приятелю:
— Просеков у меня фамилия. Матвей Иванович Просеков.
Тут он смущенно улыбнулся, словно говорил: вот уж какой я есть и другим быть не могу, а если никто не называет меня Матвеем Ивановичем, то это не столь и важно. В эту минуту его некрасивое, скверно выбритое лицо излучало столько искренности, добродушия и приязни к окружающим, что казалось очень симпатичным.
Лесоруб слушал и согласно кивал головой. Он сидел на полу, наверное, так, как привык сидеть в тайге возле костра, сложив калачом ноги в сапогах из яловой кожи. Нарезал большие ровные куски хлеба, прижимая булку к кителю, потом достал из промасленной тряпицы квадрат свиного сала с золотистой корочкой и отрезал несколько ломтей, отливающих розоватой белизной. И хлеб, и сало лесоруб аккуратно разложил, полюбовался своей работой, остался доволен, а когда Елочки Зеленые высыпал из кулька купленную на базаре рассыпчатую, еще не успевшую затвердеть картошку и поставил котелок с остывшим кипятком, лицо великана смягчилось широкой улыбкой.
— Все как у людей, — прогудел он. — Жаль, что заварочки нет, но перебьемся, пожалуй, и без чайку.
Генка, подстегнутый общим ужином, полез на шершавую полку, колючую, но отлично пахнущую смолой, и присоединился к Арвиду, который уже ожесточенно жевал хлеб, отрывая куски от целой булки.
Неприхотливые, забывшие вкус многих довоенных лакомств, они с жадностью уплетали хлеб, даже не запивая его водой. У них были крепкие зубы и непритязательное гастрономическое воображение, суженное войной до самого жалкого предела.
— У меня еще есть сухари. Хочешь? — спросил Генка, пережевывая хлеб так, что он становился сладким. — Хорошие сухари…
— Знаю, что есть. Прибереги, — с набитым ртом хозяйственно прошепелявил Арвид. — Сухари не испортятся. А хлеб может заплесневеть.
— Не успеет, — убежденно заявил Генка и разломил пополам оставшуюся от булки горбушку. — А на остановках попытаемся колбасы или сахара достать.
Арвид не успел ничего ответить, потому что послышался голос Матвея:
— Эй, ребята, елочки зеленые! Возьмите-ка котелок. Да еще Иван Капитонович велел вам передать два шмата сала. Чтоб ехалось веселее.
— Дельно! — Арвид встрепенулся и на четвереньках, чтобы не удариться о крышу вагона, подполз к краю нар, бережно принял котелок и два замечательно огромных куска сала, от которого призывно веяло чесноком и сытостью. — Покорнейше благодарим, граждане пассажиры!
— Давай, давай, так скать, — послышался добродушный бас дарителя, и Генка опять увидел широкую улыбку лесоруба, довольного своей щедростью и тем, что не только он сыт и устроен.
— Не пропадем! — ликующе произнес Арвид, протягивая Генке розоватый кусок сала с мягкой корочкой, на которой едва чувствовались крохотные колючки от опаленной щетины.
Когда во рту растаял последний кусочек, Генка услышал короткий визг задвигаемой правой двери. Вагон притих, погасла звездочка сигареты Астахова, еще немного поерзал на шершавых досках и ровно задышал Арвид.
А Генка долго не мог заснуть и перебирал в памяти все события этого необычного и счастливого дня. Почему-то опять вспомнились насмешки Арвида насчет немецкого. Ну разве он, Генка, виноват в том, что в школе не преподавали немецкий? Разве виноват в том, что в поселке не хватало книг?
И только раз он нашел настоящее сокровище: все книги, которые написал Джек Лондон.
…Это было примерно за год до начала войны, когда соседями Майковых по четырехквартирному дому стали плановик Лазарев, его жена и маленький сын.
Сам Лазарев — высокий, широкоплечий, с молодцеватой походкой. Она — молоденькая, тоненькая, с завитыми — что в то время было редкостью! — темными волосами, в туфельках на высоких каблучках.
Они шли по двору, а в середине вышагивал белоголовый голубоглазый мальчик. Генку поразило то, что мальчик был «настоящим блондином». В поселке жило много белоголовых пацанов. Но у них была простецкая, деревенская белоголовость. А у мальчишки волосы отливали удивительным солнечным блеском и были причесаны с пробором на боку, как у взрослого.
Потом во двор въехал грузовик, доверху нагруженный всякими вещами. Лазарев и его жена не занимались разгрузкой. Все делали знакомые Генке дядьки с конного двора.
— Осторожнее, пожалуйста, — приговаривала Лазарева с натянутой улыбкой.
— Не волнуйтесь, все сделаем по правилам! — бодренько заверил один из дядек по фамилии Рыжов. Из кармана у него торчало горлышко четвертинки, видимо, уже не первой, потому что у Рыжова и его напарника Курочкина были не совсем четкие движения и веселые голоса.
Они сняли с машины громоздкий гардероб, и тут Курочкин подкачал — наступил на обломок кирпича, уронил гардероб и сам упал, неловко подвернув ногу. Зеркало на дверце гардероба задребезжало.
— Что вы наделали! — закричала Лазарева. — Пьяницы несчастные! Ни копейки не получите!
Генка с удивлением увидел, что лицо его новой симпатичной соседки, в которую он успел влюбиться со всей страстью третьеклассника, вдруг стало острым, углы губ опустились, глаза побелели и даже кокетливо завитые волосы как будто распрямились.
— Ваня! Ну, Ваня же! — Соседка бросилась к мужу, выскочившему на крыльцо. — Они уронили гардероб!
Крупное большеносое лицо Лазарева закаменело.
— Убирайтесь прочь! — сказал он, подходя к гардеробу.
Курочкин, все еще сидевший на земле, сделал попытку подняться, но снова упал. По его запыленному лбу ползли ручейки пота, сразу заполнившие все морщины.
— Ты чего? — Рыжов осторожно обошел гардероб и наклонился над товарищем.
— Наверно, вывихнул. — Курочкин снял с головы кепку и вытер ею пот.
— Давай помогу. — Рыжов суетливо и неумело помогал приятелю подняться.
А Лазаревы ходили вокруг гардероба и отыскивали трещины. Кажется, никаких повреждений не оказалось, но это не успокоило новых соседей.
— Пойдем, Курочкин, допьем четверку с горя. — Рыжов потащил хромавшего приятеля со двора. — Эти ни черта не заплатят, я таких за километр чую.
— Да мы же грузили, потом обливались! — запротестовал Курочкин. — Я вот ногу вывернул, а кто мне бюллетень будет давать?
— Пьяницам бюллетень не положен, — четко проговорил Лазарев и остановился возле грузчиков, большой, широкоплечий, не поселковый.
Генке было жаль Курочкина и Рыжова, которые уходили со двора, так ничего и не получив за свой труд. Ему хотелось сказать новым соседям, что Курочкина в поселке не принято обижать, что, хотя последнее время он и стал выпивать, оставшись вдовцом, все относятся к нему с сочувствием: ведь Курочкин был в молодости храбрым партизаном, штурмовал Волочаевку, брал Хабаровск и Спасск и чудом остался жив после страшных ранений в голову и грудь. К тому же Курочкин был лучший штукатур в поселке.
Но в это время супруги Лазаревы начали разгружать машину сами, пригласив на помощь шофера. Ох, и здоров этот Лазарев! Всякие чемоданы и тюки он брал легко, с нежностью, словно это были не чемоданы и тюки, а малые ребятишки.
Потом грузовик уехал, а через час приехал снова — с книгами.
Лазарев крикнул жене:
— Зина, все дорогие книги отнесем пока на веранду, а дешевенькие — в сарайчик. Я там фанеру подстелил, чтобы бумага не отсырела.
Книги в красивых обложках перекочевали на веранду, а Генка с завистью следил за тем, как новый сосед, по-мужицки крякнув, брал связки каких-то тоненьких книжек и нес их в сарай. И тут Генка вздрогнул от неожиданной мысли: можно посмотреть эти книжки, когда соседи уйдут на работу! Одна половина сарая принадлежала Майковым, а вторую занимали сейчас соседи. Две доски в перегородке подгнили снизу, их легко отодвинуть и…
Через два дня, улучив момент, когда соседи ушли, Генка с бьющимся сердцем отодвинул доски и пролез на чужую половину сарая. В дощатых стенах было много щелей, и при скудном свете он с жадным торжеством увидел кипы книг на огромном куске фанеры.
Дрожащими от нетерпения и страха руками Генка развязал одну кипу. Журналы по технике! В одном из журналов были фотографии и рисунки всех знаменитых мостов в Германии, Англии, Америке и других странах. Но рассказывалось о мостах слишком научно, почти в каждом предложении встречались непонятные слова, а некоторые страницы пестрели чудовищно длинными многоэтажными формулами. Это не то!
И тут Генка увидел несколько стопок с бледно-коричневыми обложками. На обложках были нарисованы пальмы, парусники и собачья упряжка, бегущая навстречу северному сиянию. Выпуски полного собрания сочинений Джека Лондона! Не веря своему счастью, Генка нашел первый выпуск, просмотрел все заголовки и почему-то взял три книжки «Мартина Идена», хотя на глаза попадались и более заманчивые названия. Остальные книжки он аккуратно завязал и поставил на место, уверенный, что хозяин ничего не заметит.
Генка осторожно вышел из сарая, проскользнул в свою комнату, и для него начались самые счастливые дни. «Мартина Идена» он проглотил мгновенно. Понял, конечно, не все, но то, что понял, было прекрасным. А потом пошли северные рассказы, оторваться от которых было невозможно. Генка испытывал почти любовь к скупым Лазаревым, всегда здоровался с ними и оберегал «настоящего блондина» Валерку от поселковых пацанов, которые терпеть не могли всяких маменькиных сынков и при случае могли бы просто так, для знакомства, расквасить новенькому нос или вывалять его в грязи в знак презрения к Валеркиному безукоризненному пробору и городской одежде.
А Лазарев действовал.
Первым делом он решил разделить забором великолепный обширный двор, где так хорошо было играть в футбол и лапту.
Забор ставил Рыжов, трезвый и мрачный. Он вкопал толстые, заостренные, как карандаши, столбы и прибил к ним параллельные брусья, идущие от дома до середины заветного сарайчика.
Генка с грустью смотрел, как вдруг съежился двор, стал куцым и не пригодным ни к чему толковому. И зачем это нужно Лазареву? Генка вспомнил, как решился попросить какую-нибудь книгу у соседей, чтобы придать хоть немножко законности своей незаконной операции в сарайчике.
— Нет, Гена, — сказала Лазарева с милой улыбкой. — У нас твердое правило — не давать книги чужим…
Рыжов уже навешивал аккуратную маленькую калитку, когда появился Курочкин в своей кепчонке, забрызганной известкой.
— Остановись, Рыжов! — патетически воскликнул он, сдернув кепчонку с головы. — Ты не ведаешь, что творишь! Ведь, правда, Елизавета Ивановна? — Этот вопрос Курочкин адресовал Генкиной матери, которая как раз вышла из дому.
— Не знаю, о чем вы говорите, Савелий Петрович, — с улыбкой сказала мать, укоризненно покачав головой.
Оказывается, у Курочкина были имя и отчество! Удивительно! Генка, как и все поселковые мальчишки, был уверен, что Курочкина звать просто Курочкин, и все. После смерти жены Курочкин продал свой дом и снимал угол у страшноватой старухи Анисихи, у которой было бельмо на глазу, и которая умела ворожить. Старуха подкармливала квартиранта, готовила для него целебные настои из трав, стирала забрызганную известкой одежонку. А Курочкин в минуты просветления водил старую колдунью в кино. В такие торжественные моменты он бывал абсолютно трезв, тщательно выбрит и галантен. От него оглушительно пахло тройным одеколоном.
— Нет, вы посмотрите, Елизавета Ивановна, на этого товарища Рыжова, — объявил Курочкин, нахохлившись и выставив вперед острый кадык на тонкой морщинистой шее. — Что вы делаете, Рыжов! Вам не стыдно ставить этот кулацкий забор? Вы омрачаете детство этого умного ребенка. — Тут Курочкин протянул руку в сторону Генки.
Мать смеялась. Рыжов помрачнел и тяжело опустился на оказавшийся лишним столбик, чтобы свернуть «козью ножку». Он выглядел несчастным и виноватым. А Курочкин воодушевился еще больше. Он присел рядом с Рыжовым и обнял его за плечи.
— Разве для этого мы боролись за коммуну? Нет, брат! Мы боролись за то, чтобы всяк человек жил с открытой душой, с чистым сердцем, а не прятался за глухим забором…
Рыжов потускнел совсем. Он, правда, не воевал за Советскую власть (хотя и против тоже не воевал), однако Курочкин так часто и великодушно повторял эти слова по отношению к приятелю, что тот иногда начинал верить, что и он, Рыжов, сделал кое-что для Советской власти.
А Курочкин распалялся все больше, словно подстегивал себя собственными словами:
— Да разве можно тянуть к себе то, что принадлежит всем? Ведь двор — общий. А если каждый из четырех соседей поставит свой забор? Тогда Лазарев в свою квартиру просто-напросто не попадет. Так я говорю, Рыжов?
— Ну, так, — уныло согласился Рыжов, которому в общем-то было все равно — ставить забор или не ставить.
— Воистину так! — воскликнул Курочкин таким голосом, будто постиг все тайные пружины, движущие корыстолюбивыми людьми. — Но Лазарев знает, что соседи не будут ставить заборы, и пользуется этим. Он жаден по-дореволюционному. Для него «мое» — это царь и бог. А ты, товарищ Рыжов, видел плановика Лазарева позавчера на воскреснике?
— Нет вроде бы…
— «Вроде бы»! — передразнил приятеля Курочкин. — Точно не было его и не будет. Такой бесплатно и шагу не сделает.
Он сделал небольшую паузу и продолжал:
— Вот придут, положим, ко мне из партъячейки и скажут: «Давай, Курочкин, отработай бесплатно на побелке школы или детсада». Курочкин пойдет.
— И я пойду, — угрюмо пробурчал Рыжов, ожесточенно теребя синюю заплату на серой штанине. — Но у меня дома шесть рыженят — старшему четырнадцать — по лавкам сидят. Их кормить надо? Надо, я спрашиваю?
— Надо, — погрустнел и Курочкин. — Я бы для ребят все отдал. Чтобы все наши ребятишки имели рубахи получше, чем вот у этого мальчугана. Так я говорю, сынок? — Курочкин встал.
Генка обиделся за свою рубашку. Она была почти новая: мать купила материал на простыни, а из остатков совсем недавно сшила рубаху, красоту и прочность которой Курочкин, видимо, не сумел оценить.
— Ладно, Курочкин, ты иди отдыхай, а мне калитку навесить надо, — сказал Рыжов, не глядя на товарища.
Когда под вечер Рыжов ушел, Генка с грустью оглядел двор. Теперь осталось место только для девчачьих скакалок, да и то…
А Лазарев действовал. Каждый день после работы, а в воскресенье с самого утра он подметал, разравнивал привезенный шоферами песок, прикатывал его огромной тяжелой чуркой, на которой обычно отец и старшие братья Генки кололи дрова.
Однажды Генка услышал, как мать говорила отцу:
— Хозяйственный сосед. Все так красиво сделал. Только зачем он тебе деньги за эту несчастную чурку предлагал? Нет, чтобы по-соседски взять или попросить насовсем…
— Меня всего передернуло, — отозвался отец. — А когда новоселье праздновали, она гостям картошку кислую подала. На закуску! Я выпил чарку, а она таким миленьким голосом: «Закусите, Сергей Павлович!» Мне в атаку на японские окопы было ходить не так страшно, как проглотить эту распроклятую картошку. А она смотрит. Зажмурил я глаза и проглотил. Авось, думаю, водка все продезинфицирует.
— А сам он не пьет и не курит, — в голосе матери звучало то ли одобрение, то ли удивление: нужно было видеть лицо, чтобы точно определить ее чувства, но Генка притворялся спящим и не мог этого сделать.
— Хорошо, если он и водку и табак презирает, но если от жадности… — проговорил отец, который и курил много и, случалось, выпивал, за что ему здорово нагорало от матери.
— Скупость не глупость, — неуверенно сказала мать и вздохнула, потому что была хорошей хозяйкой, но «копить добро» не умела, хотя частенько поговаривала о бережливости. — Быть скупой плохо, транжирой — тоже. Как найти тут середину? Ума не приложу.
— И не прикладывай, — беззаботно отозвался отец. — Будем жить, как жили. Ребята вырастут умнее нас.
— Дай-то бог. Не могу я деньги копить, от ребят отрывать. Не могу и не хочу.
А Генка в эти дни читал «Морского волка». На этой книжке он и попался. Не слышал, как в комнату кто-то вошел, а когда оторвался от книжки, увидел, что мать и сосед смотрят на него. Мать — с испугом и жалостью, сосед — с веселым торжеством, довольный тем, что шел по правильному следу.
— А как это называется — лазать в чужой сарай? — ласково спросил Лазарев. — Это называется…
— Не надо! — крикнула мать. — Он вернул бы эти книжки! Правда, Гена?
Генка смог только кивнуть головой. Говорить он не мог. Он плакал потому, что не успел прочитать всего Джека Лондона, потому, что действительно возвращал книжки на место, и еще потому, что человек, имевший такие благородные книги, никогда не читал их, а сам, большой и сильный, угощал гостей кислой картошкой, обидел Курочкина и по-кулацки испортил замечательно просторный двор.
Лазарев взял все три книжки, внимательно осмотрел их, сдул с обложек невидимые пылинки, вежливо простился и ушел. А на следующий день приехал на телеге Рыжов, сгрузил отлично оструганные толстые доски, привязал к новому забору ослепшего в шахте унылого грязно-серого коня и принялся разламывать перегородку в сарае. К вечеру он закончил новую перегородку и сделал это добросовестно, восстановив неприкосновенность личной собственности плановика Лазарева и удержав Генку от соблазна нарушать права владельца даже самым невинным образом.
…Все давно уже спали. Через несколько минут и Генка растворился в тряском беге вагона.
Вагон дернуло так, что спящего Генку протащило по нарам. Он открыл глаза и увидел, что сквозь щели и неплотно прикрытые окошечки пробиваются веселые солнечные лучи, в которых беспорядочно барахтаются мельчайшие пылинки.
Арвид еще спал, подтянув колени к стриженой голове, пытаясь таким образом спастись от ночного холода. Пиджачок и новая рубаха задрались, и была видна хрупкая мальчишеская спина с острыми холмиками позвонков.
Справа от Генки свернулся калачиком Матвей — Елочки Зеленые. Он спал, беззвучно дыша, и на его лице блуждала, то исчезая, то появляясь вновь, безмятежная улыбка.
Снизу доносился мощный храп лесоруба, и слышалось клокочущее и свистящее дыхание Николая.
В воздухе чуть пахло дымком сигареты, и Генка понял, что Владимир Астахов уже не спит. Он лежал на спине рядом с Николаем, а от Марины его отделял барьер из двух шикарных чемоданов.
Марина спала в позе бегуна, на правом боку, выбросив вперед согнутую в колене левую ногу. Лица ее не было видно. Уже поднявшаяся, чем-то озабоченная старушка увидела, что нога Марины оголена чуть выше колена, и, укоризненно покачивая головой, поправила платок, которым укрывалась молодая женщина.
Близнецы и мать еще не вставали. Вера и Надя лежали мордочка к мордочке, руки их переплелись. Спал и интеллигентный старичок, положив под щеку ладонь левой руки, и даже во сне его лицо было сдержанным и строгим.
Генка осторожно спустился вниз, подошел к двери вагона и выглянул в щель. Слева по ходу поезда он увидел проплывающий мимо примерно вчерашний пейзаж — сосны, ели, небольшие полянки со стожками сена и робкие тропинки.
Поезд остановился с грубой бесцеремонностью. От головы до хвоста прокатился лязг буферов. Пассажиры сразу завозились, заговорили. Надсадно закашлялся Николай.
— Открой, парнишка, двери, — к Генке подошла старушка. Голос ее звучал требовательно. — Надо мне.
Генка откатил двери, и щедрое, отдохнувшее за ночь солнце хлынуло в вагон. Утро было таким свежим и радостным, что каждая клеточка молодого Генкиного тела возликовала, запросила радости движения.
Старушка проворно сползла на землю, серой мышью юркнула куда-то. Через несколько минут она вернулась в вагон с замкнутым, строгим лицом.
Протирая глаза, к Генке подошел Арвид, он выглянул из вагона и сразу практично оценил обстановку.
— Эй, отличник! Видишь прошлогодний стожок? Давай наберем сена, а то у меня вся спина в занозах.
Они скатились вниз под откос и побежали к стожку.
— Красотища! — Арвид ухватил огромную охапку сена и с воплем помчался к вагону.
Генка не отставал от читинца.
— Молодцы, ребята! — в дверях улыбался посвежевший после сна Матвей. — Пожалуй, и мне надо сбегать, елочки зеленые!
Вагон сразу наполнился чудесным запахом сена. Подстилкой запаслись все. Последним вернулся с охапкой лесоруб.
— Принимай, папаша! — ласково рявкнул он. — Чтоб костями об пол не греметь.
Старичок учитель суетливо подхватил половину охапки, бегом отнес ее в угол и так же бегом вернулся за остатками сена.
— Вот уж, так скать, понежимся мы, — лесоруб вырос в дверях вагона, и Генка еще раз подивился росту и ширине плеч таежника.
Не забыли пассажиры и о женщинах. Николай и Владимир Астахов предложили сена старушке и Марине.
— Так-то будет помягче, — строго сказала старуха, принимая помощь как должное. Она даже не поблагодарила, а только стрельнула зорким глазом в Николая. Видно, помнила, старая, как тот накануне смеялся над ней.
Зато Марина наградила дарителей милой улыбкой, потом наклонилась, чтобы разровнять сено, а Николай, наблюдая за ее ловкими, по-домашнему уютными движениями, с хрипом втянул в себя воздух — вздохнул.
В это время мать потащила Надю и Веру к двери вагона. На краю площадки она подняла Веру, поддерживая ее за ноги, и скомандовала «пс-с-с», призывая дочь к действию. Но первой отозвалась на призыв Надя, пустившая теплые, дымящиеся в свежем воздухе струйки по обеим ногам.
— О, боже мой! — горестно запричитала женщина, но не успела шлепнуть Надю, потому что в этот миг Вера с ликующим криком пустила фонтанчик, сверкающий в лучах утреннего солнышка.
Пока мать воевала с близнецами, старый учитель и лесоруб сделали для них шикарное ложе из большой охапки сена, прикрытого пестрым половичком. И вернувшись к своему месту, женщина даже ахнула.
— Ну, спасибо, люди добрые! — Ее некрасивое одутловатое лицо осветилось улыбкой.
А за стенами вагона ликовало светлое солнечное лето, такое удалое, размашистое, бесшабашное, как будто золотым и зеленым разгулом оно хотело вознаградить людей за свою сибирскую мимолетность. На левой стороне по ходу поезда не было видно ни домика, ни будочки, и только далеко-далеко горел в вышине красный запретный глазок семафора.
Генка и Арвид, опьяненные сияющим утром, вольной зеленью некошеной травы, бегали по лужку, толкали друг друга. Попробовали бороться. Ох, и слабак этот Арвид! Бороться с ним было неинтересно: читинец ловился на любую подножку, сразу подламывался и нескладно падал на траву. Но зато он не обижался, тоненько верещал, и это получалось у него весело и смешно, даже степенный лесоруб, стоявший в дверях вагона, улыбался и что-то говорил старому учителю, показывая на ребят крепким пальцем.
Когда, набарахтавшись в мягкой зеленой траве, Генка и Арвид вернулись в вагон, все пассажиры внимательно слушали Матвея.
— …Они, немцы, поначалу-то крепко напуганы были. — В застиранной, но чистенькой гимнастерке, которую он надел с утра, Елочки Зеленые сразу стал как-то солидней. — Набрехал им про нас Геббельс черт-те что. Дескать, русский Иван — хуже зверя. У меня вот такая история получилась…
Матвей скрутил «козью ножку», закурил со вкусом.
— Догоняли мы с Гришкой Неверовым свой полк. Пленных в тыл конвоировали, а наши за это время вперед ушли. Ну, топаем по дороге, а уже темнеть стало. Видим, хутор немецкий. Дорога к нему идет мощеная от шоссе. Дом двухэтажный, с подвалом, с балкончиками, сараи всякие добротные, коровники, конюшни — все есть, как на духу. Думаем: может, тут и заночевать? Устали мы, как черти, жрать хоцца! Зашли в дом. Хозяйка, лет ей под сорок, а может и меньше чуток, увидела нас, испугалась, но пригласила в самую наилучшую комнату. Битте, говорит. А комната, елочки зеленые! Буфеты там всякие стоят, зеркала посверкивают, пианина коричневого дерева. Я спрашиваю немецкими словами, руками себе помогаю: мол, есть кто еще в доме? Нет, говорит, никого. Только две дочки маленькие, кляйне. Но Гришка, недаром у него фамилия Неверов, не поверил, обошел весь дом, в подвал заглянул, а там девки хоронятся. Оказалось, взрослые уже. Лет по шестнадцать-семнадцать.
Ну, поели мы с Гришкой, что у нас было. Хозяйка сала принесла и хлеба хорошего, домашнего. Красивая баба, в белом фартучке, волосы блондинистые, кудрявые, Гришка и говорит: «Спать хочу. Пойду в сарае залягу. Там спокойнее, надежней». Ушел. А хозяйка говорит, что злой он, Гришка, девок, мол, напугал. Я ей, дурехе, объяснил кое-как, что не злой Гришка, а разозленный. Отца его, говорю, шиссен, мать тоже расстреляли, детишек, киндер, — в фойер, в костер, значит. Здесь любой озлобится, остервенеет. Но немцам, которые без оружия, Гришка не пакостил. Это точно, елочки зеленые! Обгорел он внутри, обуглился, это так. Но мирных немцев не обижал. Нет. Только страх напрочь потерял. И как его не убило, понять не могу до сих пор. Лез в такие пекла — все думали, клочка от него не останется. А он под конец войны Героя получил. Жив, черт, остался…
Матвей рассказывал, будто вернувшись в то недавнее прошлое, забыв о «козьей ножке», прилипшей к нижней губе. Генка и Арвид легли на нары, свесив головы вниз, чтобы лучше видеть и слышать рассказчика. А тот раскурил самокрутку, несколько раз затянулся, и снова послышался его округлый мягкий говорок:
— Ну вот, значит, собрался я к Гришке в сарай спать и углядел тут в буфете красивую бутылку с разноцветной картинкой. А хозяйка заметила мой взгляд и сама ту бутылку достает. Плеснула в чарочку, пригубила чуток: мол, доброе вино, не сомневайтесь. Ну, опрокинул я стаканчик. Красненькое вино, не сказать чтоб крепкое, но так мне что-то от него легко стало, даже спать как будто расхотелось. Увидел я пианину, и блажь мне в голову пришла. Говорю: пусть, мол, дочки на пианине побренчат. Как я про дочек упомянул, она сразу побелела, в лице изменилась и вдруг — бух на колени. Плачет, руки воздевает. Мол, убей меня лучше, только дочек не трогай.
Злость тут меня взяла. Соскочил я с кушетки, схватил автомат и замахнулся на нее. Катись, говорю, ты к чертовой матери! Поняла она, что у меня в башке никакой пакостной мысли не было — и как засмеется, и краска ей на лицо вернулась. Ну, говорит, ты, Иван, гут, зер гут. Я ей объясняю: иди, фрау, и спи спокойно. У меня дома невеста, я ее ни на кого не променяю…
— Ну а потом? — с нетерпением поинтересовался Арвид.
— Что потом? — переспросил Матвей. — Все нормально. Утром позавтракали мы с Гришкой и пошли свой полк догонять. Немку ту, понятно, больше не встречал. Но сейчас вот думаю — хорошая немка была. Мужа у нее, объясняла, бомбой убило. А после войны, наверно, замуж снова вышла. А что — не старая еще, волосы у нее, как лен…
Матвей снова раскурил забытую самокрутку.
— Вот фашисты распроклятые! Сколько жизней порушили, поломали. Я такие их злодейства своими глазами видел — кровь стынет. Ну, думал, приду в ихнюю Германию — лютый буду. А пришел — и все во мне перемешалось: и злость, и жалость, и помочь захотелось тем, кто от войны пострадал. Потому как я совецкий человек, по-нашему воспитанный. Правда, бывает, елочки, что и сейчас думаю: «Эх вы, немцы-германцы! Что ж вы натворили! Гитлеру поддались. Как за это простить можно?»
— Наверно, время нужно, чтобы простить, — задумчиво сказал седой учитель. — Народ у нас незлопамятный, отходчивый. Только тем, кто эту войну затеял, нельзя простить. И время тут не поможет…
Проходили встречные поезда, мелькали составы, идущие на запад, а пятьсот веселый все стоял, словно исчерпал запас сил в бешеной ночной гонке. Здесь он никому не мешал, никого не укорял, никому не жаловался.
Генка и Арвид решили позавтракать. В ход пошла вторая булка хлеба, чуть затвердевшего, но еще пахучего, вкусного. А Николай вдруг загорелся: увидел вдалеке двух коров и решил во что бы то ни стало раздобыть на этом захудалом разъезде целебного молока.
— Володь, будь другом, дай деньжат, — подошел он к Астахову, который о чем-то оживленно разговаривал с Мариной. — Молочка хочу раздобыть.
Владимир дал деньги.
— Знаешь какое оно пользительное! — Николай хотел что-то рассказать, но закашлялся, схватился обеими руками за грудь. Приступ кашля будто подстегнул его, он взял котелок Матвея и флягу, спрыгнул вниз и торопливо зашагал туда, где журавлем возвышался семафор.
Примерно через полчаса Николай появился довольный, радостный.
— Парного молочка целый литр выпил, — просипел он удовлетворенно. — Такое пользительное, прямо сразу силу чувствуешь. — Тут Николай поставил котелок и флягу на чемодан, несколько раз согнул и разогнул руки, показывая наглядно, как благотворно подействовало на него выпитое молоко.
— Будешь пить? — спросил он у Владимира, читавшего книгу, название которой тщетно пытались подглядеть Генка и Арвид.
— Дай лучше девчушкам по стаканчику. — Владимир показал глазами на женщину с близнецами.
— Пил бы сам! — сердито прогудел Николай. — Весь состав не напоишь!
Однако тут же ополоснул две эмалированные кружки, налил в них еще пенящееся свежее молоко и попросил лесоруба:
— Будь другом, Капитоныч, передай близнятам.
Лесоруб торжественно поднес кружки Вере и Наде.
— Дя-дя! — одна из девочек ткнула пальцем в таежника, а ее сестренка сделала то же самое и повторила:
— Дя-дя!
— Ух ты! — обрадовался лесоруб, и его лицо просияло. — А я-то думал, что вы совсем немтырки, так скать. Пей молоко, бесштанная команда!
— Да что вы беспокоитесь! — слабо отказывалась мать. — Нам уж недалеко осталось. В Новосибирске сойдем. А там, в деревне, у бабки-то, матери моей, и корова есть и куры.
Вера и Надя, захлебываясь, пили молоко, поливая им подолы одинаковых платьиц.
А Генке запах молока опять напомнил о доме, о матери. Вспомнил он и о корове по кличке Зорька, которую они держали до войны. У Зорьки была черная блестящая шерсть и лишь между фиолетовыми кроткими глазами светилась белая звездочка.
Генка залез на полку, положил голову на жесткий край чемодана, закрыл глаза и с теплой волной счастья увидел так отчетливо, так осязаемо, как мать брала его, совсем еще маленького, за руку, и они шли к небольшому Зорькиному сарайчику.
Мать ласковым голосом приговаривала что-то, омывая теплой водой вымя коровы, а иногда легонько прикрикивала на нее. Потом мать садилась на низенькую скамеечку, и первые струйки молока звонко и весело ударяли о дно подойника. Скоро струйки теряли упругость, быстро гасились и шинели в молочной пене, а сквозь запах травы, навоза, прошлогоднего сена пробивался теплый, живой и летучий аромат парного молока.
Но первая лютая военная зима стала последней для Зорьки. Осенью простудился и заболел младший братишка Генки — Павлик, кудрявый, быстроглазый, звонкий. Осматривая и простукивая Павлика, бледного, с черными кругами вокруг глаз, врач сказал матери:
— Ему нужно хорошее питание. Мясо, яйца. Калории, одним словом.
В доме уже давно не было ничего калорийного. Зорька в это время как раз не доилась, и участь ее была решена…
Генка ясно увидел небритое лицо соседского дядьки Гаврилы Кургузикова с цигаркой, постоянно висевшей на нижней губе. Гаврилу всегда приглашали резать коров, телят, кур, и он умел это делать с отточенным безжалостным мастерством.
Когда все свершилось, Гаврила сидел за столом вместе с грустным, потускневшим отцом и пил чай. И по всей квартире головокружительно пахло давно забытым запахом жареной печенки.
Гаврила что-то громко рассказывал, крякал. Генке почему-то особенно запомнились его руки — большие, корявые, с запекшейся черной кровью под ногтями.
Павлику, конечно, ничего не сказали о гибели Зорьки, которую он очень любил и частенько, вооружившись пинцетом, выбирал из ее шерсти серых, чудовищно разбухших лесных клещей. Генка и старшие братишки объявили голодовку, но голод был сильнее, и уже к вечеру они сдались…
Генке вдруг почудилось, что он опять гонит Зорьку в стадо. Так, значит, она не погибла в тот зимний жестокий день! Ах ты, Зорька, Зоренька! Но куда же ты? Зорька быстро уходила от Генки, вот она совсем скрылась в дубняке за знакомой сопкой. Генка побежал за ней, звал ее, умолял вернуться, но Зорька быстро уходила вдаль, через мокрую топкую падь…
— Что ты дрыхнешь средь бела дня? — раздался рядом резкий голос Арвида. — Приехали!
Оказывается, поезд давно покинул маленький разъезд и теперь стоял на станции с чудесным названием Тайга. Сколько таких станций уже проехал Генка! Он с удовольствием читал на станционных вокзалах названия с удивительным азиатским привкусом — Могоча, Магдагачи, Амазар, Тайшет…
— Пойдем быстрее! — торопил Арвид. — Прогуляемся хоть.
— А не отстанем?
— Не трусь. Вперед! — завопил Арвид. — На деревню, к дедушке!
Они побежали к вокзалу, прыгая через рельсы, пролезали под вагонами, которые могли в любой момент покатить вперед или назад, карабкались на тормозные площадки. Арвид, по обыкновению, нелепо расставлял колючие локти, спотыкался о рельсы и шпалы, но каким-то чудом ухитрялся сохранять равновесие.
На самом краю платформы они увидели двух мужчин и двух женщин, стоявших возле целой пирамиды из тюков, саквояжей и чемоданов.
— Вы, ребята, не с пятьсот двадцать седьмого? — спросила одна из женщин, совсем молоденькая, черноволосая, стройная. И, услышав утвердительный ответ, попросила: — Не поможете нам поднести вещи? Здесь нет носильщиков.
— Нужно еще кого-нибудь, — проговорила вторая женщина, тоже красивая, с рыжими волосами и нежно-белым лицом.
Генка оглянулся и увидел шагах в десяти Николая и Астахова.
— Ребя… дяденьки. — Он чувствовал, что оба обращения никуда не годятся, и смущенно закончил:
— Помогите чемоданы донести.
— Твои? — Владимир вынул сигарету изо рта и насмешливо сдвинул красивые брови.
— Новые пассажиры. — Генка показал на гору багажа, которую уже деловито ворошил Арвид.
Владимир подошел к пассажирам, поздоровался, скользнул взглядом по лицам женщин, которые как по команде стали взбивать руками и без того аккуратные прически, потом выбрал самый большой чемодан и огромный тюк и спокойно преподнес их одному из мужчин — в очках, с округлым розовым лицом.
— Мы вам заплатим, — мужчина отступил на шаг.
Владимир ничего не ответил, выбрал еще два больших чемодана и поставил их перед вторым пассажиром — высоким представительным мужчиной. Потом весело подмигнул Генке и скомандовал:
— Расхватывай остальное, ребята!
Сам он взял два тюка и зашагал через пути к пятьсот веселому.
— Поработайте, муженьки! — засмеялась черненькая пассажирка. — Займитесь хоть разок физическим трудом!
Арвид, любивший всякие скандальчики, лихо присвистнул, схватил два саквояжа и заспешил за Владимиром. Николай потоптался на месте, потом подошел к начальственному пассажиру и взял чемоданы, поставленные Астаховым. Генке тоже достались довольно тяжелые вещи. Он быстро зашагал вслед за Николаем и оглянулся только тогда, когда уже подходил к своему вагону. Сзади, неловкие и потные, пыхтели новые пассажиры.
— Лови, Арвид! — крикнул Генка и бросил один из тюков в вагон. Но Арвид не удержал. Тюк плюхнулся на пол, и в нем что-то зазвенело.
— Что вы делаете! — закричала рыженькая женщина. — Там хрусталь!
Генка растерялся. Он увидел, что рыженькая со злобой смотрит на него. На ее белом лице появились красные пятна.
— Ну, я им устрою веселую жизнь! — вдруг заявил Арвид, и его синие глазки заблестели. — Подумаешь, нос задирают. Видали мы таких!
— Не вздумай что-нибудь стянуть у них, — вяло предупредил Генка, но Арвид презрительно хмыкнул и исчез куда-то.
А новые пассажиры начали устраиваться. Они сделали что-то вроде заборчика из чемоданов под полкой, на которой обосновались Генка, Арвид и Матвей.
Из разговоров новых пассажиров можно было без особого труда понять, что рыженькая и черненькая — сестры. Обитатели вагона узнали также, что две супружеские пары едут только до Новосибирска, а там для них забронированы билеты до Москвы.
Всем своим видом четверка подчеркивала, что ее пребывание в пятьсот веселом — просто досадное недоразумение.
Генке вначале показалось, что главным в этой родственной группе был высокий пассажир. У него был внушительный рост, крепкий голос, солидные манеры. И одежда тоже подходящая — френч из хорошего дорогого материала, галифе и высокие хромовые сапоги.
Но скоро стало ясно, что главное лицо в четверке — рыженькая. Как только новые пассажиры поднялись в вагон, она с возмущенным изумлением оглянулась вокруг.
— Ну, Александр. — Женщина злобно посмотрела на мужа. — Этого вагончика я тебе никогда не прощу!
Она даже не заботилась о том, слышат ее другие пассажиры или нет, она их просто не замечала. А муж что-то виновато забубнил, и было странно видеть его начальственное лицо таким угодливым и беспомощным.
Генке даже жалко стало этого человека. «Ох, и злая эта рыженькая, — удрученно подумал он, — такая красивая, а злая».
Но в черненькой Генка не разочаровался. Она ничуть не задавалась, а поездка в неудобном вагоне, казалось, только забавляла ее. Она посмеивалась, поглядывая на расстроенных родственников. Славный у нее был голосок — веселый, по-мальчишески звонкий.
— Не злись, Рита! — обняла черненькая сестру. — Неужели ты не понимаешь, что немножко проехать в таком вагоне — это даже романтично!
— После такой романтики нужно неделю в бане отпариваться, — успокаиваясь уже, произнесла старшая и, глядя в зеркальце, начала припудривать прямой ровненький нос.
Лесоруб по простоте душевной, услыхав, что женщины говорят о бане, взял котелок с теплой водой и предложил высокому пассажиру:
— До баньки вашим девушкам далеко, так екать. А умыться можно и сейчас.
— Спасибо, спасибо, — осанистый пассажир недовольно повернул к Ивану Капитоновичу озабоченное лицо. — Не видите, мы заняты!
Лесоруб неловко потоптался на месте, лицо у него стало по-детски обиженным.
Две новые пассажирки уже успели причесаться, подновили краску на губах. Они тихонько, но оживленно разговаривали, и по их взглядам на Владимира можно было догадаться, что речь идет о нем. Это заметила и Марина, она сразу замкнулась, а потом слишком горячо и оживленно начала развлекать близнецов, для которых еще утром смастерила две куклы из тряпок и сена.
В это время к вагону подошел одноногий инвалид с двухрядкой. Он присел на черную от мазута шпалу и запел жалобную поделку на мотив песни «Огонек». В песне говорилось о том, что солдату «оторвало все ноженьки, раздробило лицо».
Инвалид еще не кончил петь, когда черненькая Валентина, набравшись смелости, подошла к Владимиру. Тот оторвал глаза от книги.
— Мне неловко, — начала Валентина. — Мы пообещали заплатить вам за багаж…
— Вон как! — Владимир удивленно поднял свои четкие брови, но голос его звучал негромко и спокойно. — И сколько же мы заработали?
— Возьмите, пожалуйста, шестьдесят рублей. Мне неловко предлагать деньги человеку нашего круга, но…
— А я — человек не вашего круга, — серьезно сказал Владимир. — Я — человек более высокого круга. Но деньги все равно давайте. По социалистическому принципу — каждому по труду.
Бедная брюнеточка растерялась, краска залила ей щеки, на глазах выступили слезы. Она бросила деньги на черный породистый чемодан, потом забилась в свою крепость. Теперь настала очередь рыженькой утешать сестру.
А Владимир пожал плечами, подобрал деньги, спрыгнул вниз и положил их в фуражку инвалида. Певец, не ожидавший такой щедрости, с готовностью предложил:
— Я еще вам спою.
— Не надо, земляк. — Владимир присел рядом с калекой на ржавый рельс. — Давай покурим…
— Вы, конечно, в институт едете, — неожиданно сказал старичок учитель, обращаясь к Генке. — И в какой же, позвольте полюбопытствовать?
— В геологоразведочный. — Генка смутился, потому что относился к старому учителю с почтительной боязнью: а вдруг тому придет в голову проверить его, Генкины, знания — вот тогда придется, наверно, покраснеть!
Но старичок и не думал экзаменовать юного попутчика. Ненавязчиво и доброжелательно он расспросил Генку о поселке, о жизни шахтеров, а потом сказал:
— Мне вот тоже приходилось бывать под землей. Правда, не по своей воле. На ногах у меня были кандалы. В первый раз страшновато, конечно. Вода льется, кровля потрескивает, кажется, вот-вот рухнет на тебя. А потом привыкаешь. Меня только после Февральской революции из-под земли вытащили…
— А на Дальнем Востоке вы, дедушка, бывали? — спросил Генка.
— Меня зовут Василий Сергеевич, — проговорил учитель, избавляя Генку от неловкого слова «дедушка». — А на Дальнем Востоке я и в японскую войну бывал, и в гражданскую тоже.
— Вот здорово! — вырвалось у Генки, и он торопливо начал рассказывать старичку, что и у них в поселке партизаны воевали с японцами, а на кладбище есть братская могила, в которой похоронены четверо партизан.
— Лежать бы и мне в могиле, — вздохнул Василий Сергеевич. — Под Благовещенском попал в плен к белякам — из-под расстрела убежал. Лихое было времечко. Да и я тогда был сорвиголовой…
В голосе старичка зазвучало смущение, словно он немного стеснялся того, что был когда-то сорвиголовой и смог даже убежать из-под расстрела.
Генке хотелось о многом поговорить со старым учителем, но тут откуда-то возник Арвид, который бесцеремонно прервал их беседу, прокричав:
— Завтра будем в Новосибирске!
— Прекрасно, — сказал старичок. — А с вами, юный дальневосточник, мы еще обо всем потолкуем.
Он вернулся на свое место и начал что-то записывать карандашом в тетрадку, которую уже не раз вынимал из чемодана.
— Вечно ты прискачешь, когда тебя не просят, — с досадой сказал Генка Арвиду. — Не дал с человеком поговорить.
— И не надоели тебе учителя за десять лет? — Арвид хихикнул. — Хотя учителя любят отличников…
— Дурачина, что с тебя возьмешь! — Генка махнул рукой. И тут заметил в руках читинца какой-то бумажный сверток. «Неужели опять что-нибудь украл?» — подумал Генка, но проверить свою догадку не успел: Арвид исчез так же неожиданно, как и появился.
Генка решил залезть на полку, он уже ухватился рукой за скобу и тут почувствовал на своем плече чью-то руку. Оглянулся, увидел осанистого пассажира и только сейчас заметил, что у него какие-то угнетающие глаза. Да, именно угнетающие, это Генка понял мгновенно.
— Я попрошу вас подниматься на полку с той стороны. — Пассажир показал рукой вправо. — Там тоже есть скобы.
— Александр Александрович! — укоризненно воскликнула Валентина. — Почему этот мальчик должен выполнять ваши указания?
— Валентина, — оборвала сестру рыженькая. — Александр прав, эти мальчишки будут постоянно мельтешить перед глазами. Нетрудно ведь влезть на полку с другой стороны.
А Генка все еще стоял растерянный и чувствовал на себе взгляд человека, который мгновенно стал ему неприятен. Тут он увидел, что на него выжидательно смотрит Владимир Астахов, наверняка слышавший похожую на приказ просьбу нового пассажира.
И Генка взглянул прямо в немигающие властные зрачки Александра Александровича, собрав всю свою волю.
— Я могу забираться на полку с любой стороны, — сказал он, и осанистый пассажир сначала моргнул, а потом и вовсе опустил свои противные светлые глаза. — Но если женщины меня попросят, то я буду залезать и слезать только справа.
— Ай да мальчик! — Черненькая Валентина хлопнула в ладоши.
А Генка, будто подстегнутый этим возгласом, подошел к середине полки и совсем смело заявил:
— Можно и здесь залезть. — Он крепко ухватился за доски и ловким гимнастическим движением забросил свое натренированное тело на полку. Уже сверху он увидел, что Владимир, смеясь, что-то говорил Марине. Она тоже улыбалась.
А в вагоне с приходом новых пассажиров уже не стало сердечности и теплоты, так ощущавшихся всеми в первый день. Все ушли в себя, в свои думы, даже разговорчивый Матвей что-то пригорюнился, сначала слонялся неприкаянно по вагону, потом залез на полку, пытался заснуть, но ничего у него не получалось, и Генка слышал его досадливое бормотанье и вздохи.
Генка тоже не мог заснуть. Сверху ему было видно, как спали близнецы, положив лохматые головки на колени матери. Владимир о чем-то рассказывал Марине, с его лица уже сошла тень напряженности. Он улыбался. И улыбка у него была очень хорошая, неожиданно добрая. Белые зубы так и сверкали. Жаль, что смеялся Владимир редко.
Лежать на полке надоело, и Генка спрыгнул вниз, чтобы найти Арвида. Он подошел к брусу, но читинца не было видно.
Мужчины, расположившиеся в чемоданной крепости, вели серьезный и, видимо, интересный для обоих разговор, в котором то и дело проскальзывали солидные слова — «контора», «главк», «продвижение». Говорил в основном осанистый пассажир, особенно часто и со вкусом употреблявший слово «дилемма».
— Вот такая дилемма! — с удовольствием восклицал он и на двойном «м» прямо-таки причмокивал, словно лобызал это слово.
Муж Валентины уважительно внимал родственнику — тот был старше и по возрасту, и наверняка по должности.
Генка смотрел на их серьезные важные лица, слушал их полуслужебный разговор, и ему было скучно и обидно за красивых сестер, которые почему-то вышли замуж за этих явно неинтересных людей. А сестры тихонько разговаривали о чем-то между собой и, видимо, совсем не думали о том, хороши их мужья или нет.
Лесоруб, Николай и старый учитель сидели кружком и ели хлеб с салом, запас которого у таежника был, вероятно, основательным.
— Я в Свердловск еду, к сыну, — неторопливо говорил Иван Капитонович. — Один он у меня, так скать, единственный. Да вот, значит, не повезло ему: всю войну прошел, а под самым Берлином на мину нарвался. Позвонки повредило. Вот беда какая приключилась!
— И с той поры в госпитале? — удивился Николай и присвистнул, или это у него просто засвистело в легких. — Позвоночник — дело нешуточное. Хребтина! На нем весь человек держится…
— Главное, чтобы спинной мозг не был поврежден, — осторожно проговорил Василий Сергеевич: он, видимо, боялся тревожить лесоруба.
— Всех профессоров обойду! — В подтверждение этих слов Иван Капитонович рубанул воздух огромным кулаком. — Я Мишку свово на ноги поставлю. Нельзя ему умирать. Невозможно, так екать.
— Да, сколько парней война загубила, прямо ужасть! — неожиданно тонким голосом произнес Николай и закашлялся.
— А парень у меня хороший удался, — прогудел лесоруб, деликатно подождав, пока Николай справился с приступом кашля. — Десять классов перед войной завершил и курсы на офицера закончил уже в войну! Капитан! Шутка ли сказать. Фотокарточку прислал, так на одежде живого места нет — все в наградах.
Лесоруб помолчал, пожевал еще хлеб с салом.
— Нет, умирать Мишке никак невозможно. Поговорю с профессорами, до самых академиков дойду, так скать. Все расспрошу до предела, все разузнаю. А вдруг Мишане воздух нужен? А? Тут я и скажу профессору: у нас, мол, товарищ дорогой, в Приморье — не воздух, а мед натуральный. Лесной, духовитый. И корень женьшень у нас есть, и панты берем, и сало медвежье не переводится. Уж таких дохлых, господи прости, в наших краях на ноги ставят. А Мишка-то меня поздоровше будет. И ростом повыше, и в плечах повольнее. Нет, не позволю ему по госпиталям валяться. Ему жить надо, жениться, род наш корневский продолжать…
Лесоруб, видно, здорово переживал, но на его грубо высеченном лице почти не отражались глубокие движения души, и лишь в спрятанных под кустистыми бровями глазах притаились грусть и тревога.
— Мишка у меня — правильный парень. — Лесоруб свернул цигарку и раскурил ее. — Под Сталинградом в партию вступил, когда там самое пекло, так скать, заварилось.
— Хороший у вас сын, это по всему видно, — сказал Василий Сергеевич. — Обрадуется он, что отец приехал.
— Спасибо вам, так скать, на добром слове, — поблагодарил Иван Капитонович и добавил:
— А еще, к слову сказать, везу я Мишане женьшенью настойку и панты. Жена моя, Степанида, настойку сделала. А она уж умеет! Ох, и полезнющая настойка!
— А сын часто тебя, Капитоныч, письмами балует? — поинтересовался Николай.
— Он сам-то не пишет, — лесоруб озабоченно покачал головой. — Видать, трудно ему еще писать. Его руку я из тысячи узнаю. А вот после ранения другие почерки пошли. Хорошо пишут — красиво, разборчиво.
Старый учитель, услышав о «других почерках», поскучнел, загрустил, а Генка сразу вспомнил о Павке Корчагине. Неужели у Михаила такая же беда, как и у Павки? Генка вспомнил слова лесоруба: «А Мишка-то поздоровше меня будет». Он хотел представить молодого парня, который был бы здоровее и выше лесоруба, но не смог. Воображения не хватило.
А Иван Капитонович подошел к брусу на левой стороне вагона, встал, широко расставив ноги в яловых сапогах, и задумался, опустив голову на грудь.
Размышления таежника прервал хорошо поставленный голос представительного Александра Александровича.
— Вы с Дальнего Востока, товарищ? Александр Александрович прямо-таки светился
дружелюбием и вниманием, и лесоруб обрадовался новому собеседнику.
— Точно так, товарищ дорогой. Леспромхоз наш в райцентре находится, контора там. А мы в Муравейке лес валим, так скать.
— Далеко ваша Муравейка от Владивостока? — Александр Александрович открыл пачку «Казбека» и протянул ее лесорубу. — Курите, пожалуйста.
— Благодарствую. Хоть и махоркой пробавляюсь, но уважу, попробую легкого табачку. — Иван Капитонович неловкими пальцами с трудом взял папиросу, осторожно размял ее, прикурил. — Приятственно. Но вроде как по поверхности скользит, не пробирает, это самое. А от Владивостока мы далековато будем, ближе к Уссурийску. На машине часов десять добираться надо, а на лошадях — и того поболее.
— Бывал я и во Владивостоке, и в Уссурийске.
— По армейской службе? — поинтересовался лесоруб, которого, наверное, вводили в заблуждение полувоенный френч, галифе и хромовые сапоги собеседника.
— Нет. Я был в командировке по линии наркомата, — солидно сказал Александр Александрович и почесал рукой второй подбородок, казавшийся странным на его довольно худой шее.
— Ну, конечно, — поддержал разговор лесоруб. — Дела, они везде есть.
Осанистый пассажир склонил голову, словно соглашаясь с такой оценкой, скрестил пальцы рук и сделал несколько ловких круговых Движений большими пальцами. Потом осторожно, почти не заинтересованно проговорил:
— Вы говорили о настойках, о лечебных настойках. Это очень любопытно.
— Пользительные штуки. И женьшень и панты, проверено это. — Лесоруб стойко докурил папиросу и лишь потом заменил ее самокруткой. — Вот супруга моя, Степанида, приготовила и наказала мне: если Мишане они, так екать, не понадобятся, то отдать товарищам его, кому на пользу пойдут.
— А вы не могли бы уделить нам какую-то часть этих лекарств? — спросил Александр Александрович, а большие пальцы его рук продолжали вертеться с завораживающей быстротой.
— Мы вам заплатим, разумеется, — вступил в разговор второй пассажир. У него было нежно-розовое лицо, а тенорок звучал музыкально и приятно.
— То есть вы про настойки, так скать, говорите? — переспросил, растерянно моргая, Иван Капитонович. — Так вы же, это самое, не квелые, не заморенные.
— Мы очень хорошо заплатим, — опять высунулся вперед розовый бодрячок в очках, который почему-то все время потел, вытирал пот с лица, отчего щеки его становились еще розовее. — А можем и продуктами вас отблагодарить.
Лесоруб обиделся:
— Да я задаром готов, но Степанида, супруга, наказала: для Мишани первоочередно или для фронтовиков, которые раненные.
Лесоруб переживал: ему, видимо, не хотелось обижать таких солидных грамотных людей.
— А вы, видать, на фронте бывали? — Иван Капитонович с надеждой обратился к осанистому пассажиру. — Так, может, вас ранило?
Александр Александрович задержался с ответом, он строго взглянул на розового бодрячка, который всем своим видом показывал, что надо солгать во имя достижения цели, и с достоинством произнес:
— Я был нужен в тылу. И у моего родственника тоже была бронь.
Лесоруб поскучнел, вздохнул.
— Броня и у моего Мишани была, — голос таежника дрогнул, — но он добровольным записался на фронт. А вы, товарищи дорогие, видать, за войну лиха не хватили. Только это не в обиду сказано, а для правды, значит.
— Тыл — тот же фронт, папаша! — опять вынырнул из-за спины осанистого пассажира пухлый бодрячок.
Лицо Ивана Капитоновича помрачнело.
— Для раненых везу, а вы… — Таежник сжал руками брус так, что пальцы побелели. — Живите сами по себе, а меня, это самое, за душу не тревожьте…
— Вы не переживайте, Иван Капитонович. — К лесорубу подошел старичок, слышавший разговор. — Пойдемте лучше в дурачка сыграем.
Александр Александрович с раздражением взглянул на старого учителя, он еще не мог смириться с тем, что ему не удалось такое пустяковое дело.
— Нужно было женщин подослать, — тихонько проговорил розовый. — Этот дуб не отказал бы Валентине. Она бы его в два счета обработала.
— Оставь, Петр! — резко, своим обычным властным голосом произнес старший. — У тебя слишком сдобный вид. И никто не просил тебя вмешиваться в разговор.
— Ну, разве я виноват? — обиделся тот, кого назвали Петром. Он хлопал белесыми ресницами, и даже сквозь стекла очков было видно, что сдобный вид вызывает у него искреннее сожаление.
— Иди сюда, Петруша, — сказала черненькая, услышав упреки Александра Александровича и оправдательный лепет мужа. — Ты всегда обедню испортишь.
Рыженькая Рита ничего не сказала. Она только скользнула небрежным взглядом по лицам мужчин, досадливо поморщилась и с подчеркнутым вниманием принялась подпиливать ногти.
Поезд, наконец, тронулся, и в тот же миг в вагоне очутился Арвид. Под мышкой он по-прежнему держал подозрительный бумажный сверток.
Как только поезд начал набирать скорость, Николай натянул на себя телогрейку и попросил Генку закрыть двери.
Арвид остался у второй, пока открытой двери, а Генка взобрался на полку, где уже сладко посапывал Матвей, отсыпавшийся после долгих бдений на Красноярском вокзале.
Генка с закрытыми глазами грыз сухари. Лежать было уютно. И запах прошлогоднего сена казался очень приятным — он напоминал то весенний день в лесу, когда новые ростки-стрелочки едва пробиваются сквозь старую, жухлую траву, то страдную сенокосную пору.
— Товарищи, — послышался тенорок розовощекого пассажира, — нельзя ли как-нибудь поосторожнее шевелиться? В щели сено сыплется.
Генка глянул в проход, увидел обиженное лицо бодрячка и услышал, как откровенно хихикает Арвид.
— Мы же не нарочно сыплем сено в щели, — сказал Генка вполне доброжелательно, потому что очкарик казался ему, в общем, безобидным,
— А не могли бы вы в другой угол перебраться? — с теми же ласковыми интонациями спросил розовый. — Ведь это нетрудно.
Если бы Генка был один, он наверняка бы перебрался в другой угол: почему не сделать людям приятное. Но тут подал голос проснувшийся Матвей:
— Вот ведь как получается, товарищ хороший! То вам не понравилось, как наш Гена на полку взбирается, то труха от сена к вам полетела, елочки-палочки. Просите, чтобы мы насиженное место покинули. А завтра вам вдруг захочется вообще нас из вагона попросить…
— Ну, зачем же так? — смутился очкарик и зарумянился еще сильнее.
— Тогда потерпите, — рассудительно заключил Матвей. — А не нравится вам под нами, переберитесь сами в другой угол — и вся недолга. Вот и будет по справедливости!
Розовый, видно, почувствовал в округлом говорке твердость и замолк под хихиканье Арвида.
— Эй, конопатенький! Хватит тебе посмеиваться! — просипел Николай. — Лучше двери затвори. Такой сквознячище — всю поясницу продуло!
— Будет исполнено! — Арвид вытянулся в струнку и по-солдатски приложил руку к стриженому виску. — Отбой, граждане пассажиры!
Ржаво взвизгнула дверь, в вагоне сразу стало темно, и снова все зашевелились, устраиваясь на ночлег.
— Ну, завтра будет потеха! — шепнул Арвид, добравшись в темноте до своего места.
— Что у тебя за сверток был? — полюбопытствовал Генка.
— Много будешь знать — скоро состаришься. — Арвид захрустел сухарем. — Ты, отличник, и так много знаешь.
— Помалкивай, сверчок! — беззлобно отозвался Генка.
— А ты уж красавчик! — противненько засмеялся Арвид. — Я видел, как ты на нижних теток глаза пялил. А они на тебя, как на Ваньку Жукова, смотрят. Умора!
— А тебе разве эти тетки не нравятся? — спросил Генка.
— Нравятся, ну и что? — вдруг со злобой сказал Арвид. — Они думают, что все для них. Да моя мать в сто раз умнее и красивее. А эти… нос задирают.
— И чего вы грызетесь, ребятки! — послышался голос Матвея. — Дались вам эти нижние, елочки-палочки. Пусть едут своей дорогой. А завидовать им не стоит. Они вам должны завидовать. Молодость у вас есть — вот что главное, елочки-сосеночки!
Матвей вздохнул, пошелестел газеткой, сворачивая цигарку, потом долго чиркал спичками, которые только дымили, но не зажигались. Наконец огонек выхватил из вязкой темноты его лицо.
— А вот у меня война всю молодость, всю жизнь поломала. — Удивительный был у Матвея голос: даже грустные слова звучали у него как-то покойно, будто рассказчик давно уже пережил все, что может пережить человек, и теперь смотрит на себя со стороны. — Стариков моих бомбой накрыло и сестренку младшую вместе с ними. А невеста, Настенька, меня не дождалась… Потерялись мы с ней. Я по фронтам, по госпиталям мотался, а она в эвакуацию уехала. Только вот недавно отыскал я Настю в Иркутске. Да поздно уже, елочки зеленые! Живет она с другим человеком. Ребенок у них есть. Хороший такой парнишка. Славиком назвали. Похож он на Настеньку, прямо жуть как похож.
Матвей помолчал. А когда сделал затяжку, было видно, что он лежит на спине, положив под голову обе руки.
— Ну и как невеста вас встретила? — осторожно спросил Генка, боясь, что воспоминания будут неприятны рассказчику.
Снова засветился красноватый огонек цигарки. Фронтовик вздохнул, но голос его, как и прежде, был ровен и покоен:
— Не нужно мне было приезжать. Чувствовал я это, елочки зеленые. Но больно уж хотелось увидеть Настеньку. А как появился я на пороге, Настя чуть на пол не грохнулась: давно меня мертвым считала. Потом как заплачет — и ко мне. Обняла — это при муже-то! — заплакала в голос… А как успокоилась, поговорили, погоревали все вместе. Вижу я, что жизнь у них налажена как следует. Муж у Настеньки — толковый мужик, не дурак, не пьяница, с душой вроде бы человек. Серьезный, машинистом на паровозе работает. Настю он за прежнюю любовь не укорял. И тут так больно мне стало! Подумал, что и у меня с Настей жизнь могла красивая получиться. И дом бы завели, и детишек. Но все Гитлер поганый поломал, все вверх тормашками перевернул. А сейчас вот вижу, что жизнь понемногу налаживается, и думаю про себя: не зазря мои товарищи погибали, не зазря. Жизнь теперь должна пойти интересная. У меня судьба не удалась, а у вас, ребятки, все будет чин чинарем!
Фронтовик притих, снова зажег спичку, закурил, и Генка успел увидеть, что он улыбается.
— Вот как я соображаю, — продолжал Матвей после небольшой паузы. — Во время войны об одном человеке мало думали: нужно было всю страну спасать. А сейчас наша власть к одному человеку повернулась — ко мне, к тебе, к Настеньке.
Чтоб жили мы все как люди. Ведь заслужили это, елочки зеленые! Вон года еще нет, как карточки отменили и реформу денег сделали, а народ-то, гляди, как повеселел. Нехваток, конечно, еще полно, из них сразу не вылезешь, но основное-то все в магазинах есть.
— Если бы не засуха, карточки еще в сорок шестом отменили бы, — поддержал разговор Генка.
Внизу послышалась какая-то возня, приглушенные возгласы.
— Блохи здесь, что ли? — голос розового звучал по-детски обиженно.
Арвид хихикнул.
— Затолкали нас в этот свинарник! — громко сказала рыженькая. — Не мужчины вы, а ничтожества.
Что-то, оправдываясь, забубнил ее муж.
А рядом кашлял Николай, иногда сладко стонали во сне близнецы, и чуть слышно доносились приглушенные голоса Марины и Владимира Астахова.
Генка закрыл глаза и представил себе смуглую Валентину, ее большие глаза, гибкую фигуру, нежный журчащий голос. Конечно, не вписывается она в этот убогий тряский вагон. Но тут же Генка подумал о Марине. Чем она хуже? И разве ей место здесь? А близнецы? А Владимир? А сам он, Генка? А все остальные? Ведь все люди равны — в это Генка свято верил, но вот почему-то подумал, что не «вписывается» именно Валентина. Нет, так нельзя. Нельзя быть несправедливым. И колеса мчащегося вагона все твердили: «Нель-зя, нель-зя, нель-зя…»
Утром Генка открыл глаза, когда сварливо заскрежетала дверь вагона. И тут же раздался вопль рыженькой пассажирки:
— Боже! Что это за гадость? Александр! Немедленно выбрось эту рухлядь!
Арвид, тоже проснувшийся, корчился от смеха. Генка дурашливо лягнул его ногой и спрыгнул с полки, чтобы узнать, что так расстроило высокомерную пассажирку.
Сестры забились в угол и с отвращением смотрели, как розовый здоровячок с брезгливой миной двумя пальцами подбирал с пола какое-то тряпье. Ну, ясно! Теперь-то Генка догадался, что было в свертке у Арвида! Ну и фрукт, этот читинец! Не поленился найти свое грязное тряпье, а ночью подкинул его новым пассажирам.
Пухлый очкарик, наконец, подобрал с пола все лохмотья и вышвырнул их из вагона. Потом достал платочек и, вытерев руки, тоже выбросил его в открытую дверь.
Рыженькая метала злобные взгляды.
— Вшивая команда! — громко сказала она, и на ее белом лице выступили красные пятна. — Уголовники проклятые! Ненавижу!
Никто не принял эти слова в свой адрес, все смотрели на разъяренную пассажирку с недоумением и неприязнью. Тогда она переключилась на мужа:
— Это все ты виноват! Не мог достать билет! Убожество! Ты никогда ничего не добьешься!
— Успокойся, Рита! — просил муж, зачем-то переставляя чемоданы с места на место. — Скоро Новосибирск. Мы сегодня же пересядем в нормальный поезд.
— Ненавижу! — еще раз выкрикнула рыженькая и истерично заплакала.
— Да перестань, Ритка! — Валентина обняла сестру. — Сами вы виноваты, корчите из себя аристократов. Ну, не плачь! В Новосибирске сядем в чистенький вагончик, приведем себя в порядок…
Рыженькая начала понемногу успокаиваться. А за дверями вагона уже начали появляться бараки, сараи, огороды, которые всегда появлялись, когда поезд приближался к какому-нибудь городу.
Осанистый Александр Александрович, нахмурившись, стоял у бруса. Генке почему-то стало жалко его. Видно было по всему, что он привык командовать людьми, но почему же он так унизительно боится собственной жены?
А розовый не горевал. Он все пытался отвлечь родственника от невеселых размышлений, опять завел разговор о главке и о каком-то могущественном Спиридонове, от которого многое зависит в их будущей московской жизни. Постепенно и Александр Александрович увлекся разговором, и опять в его речи замелькало излюбленное слово «дилемма».
Почувствовав приближение Новосибирска, засуетилась женщина с близнецами. Марина помогала ей переодевать Веру и Надю в одинаковые чистые платьица.
— Право слово, херувимчики, — заявила старушка и сунула девчушкам два больших куска сахара, оглянувшись на пассажиров, чтобы все при случае могли подтвердить ее щедрость. — Херувимчики, да и только. А крещеные они у тебя?
— Как это? — удивилась женщина. — Зачем их крестить-то? Ведь не старое время нынче.
— Надо окрестить, — сурово сказала старуха. — Мало ли что может случиться. А с христианской душой — все легче.
— Зачем вы так, Анна Поликановна? — проговорила Марина. — Молитесь, верьте в своего бога, но зачем же людям мешать?
Генка и Арвид в первый раз услышали имя старушки. Арвид тут же хихикнул и шепотком назвал ее Анной Полкановной с явным намеком на не очень кроткий нрав богомольной пассажирки.
Старуха обиделась на замечание Марины, оскорбленно потупилась, ее бесцветные губы сжались в тонкую полоску, челюсть выдвинулась вперед. Она еще туже завязала платок и перестала интересоваться близнецами. Но тут к девчушкам подошел лесоруб и прогудел:
— Ну что, скворушки, так скать, покидаете свое гнездышко неуютное? И правильно, это самое. Не по вас такие вагоны, не по вас. Давайте, это самое, добирайтесь к бабушке, к молочку поближе.
Вагон начало бросать из стороны в сторону на станционных стрелках.
— И далеко вам от Новосибирска ехать? — спросила Марина у женщины, которая сидела на навязанном мешке, прижимая к себе детей.
— Далеконько, — тоскливо отозвалась женщина. — Километров семьдесят. Но как-нибудь доберемся.
— Доберетесь, — подбодрил Иван Капитонович. — Всегда что-нибудь попутное подвернется, так скать. Не без этого.
Все пассажиры уже знали, что женщина едет к матери, которую не видела с начала войны, что она немного боится и не знает, как ее примут в отчем доме, без мужа, с двумя несмышленышами на руках…
Хотя поезд прибывал на очень далекий от перрона путь, Генка издалека увидел беловато-зеленое здание вокзала, который показался ему гигантским, самым огромным зданием из всех, какие он видел до сих пор.
— Большой вокзал, — восхищенно сказал лесоруб. — И сколько же в нем людей уместится!
— Пойдем, проводим женщину, — предложил Генке Владимир Астахов, каким-то образом успевший побриться и переодеться в свежую рубашку.
— И я с вами, — тут как тут оказался Арвид, быстренький и беззаботный.
Владимир подмигнул ему, улыбнулся:
— А не сцапают тебя и не отправят к маме? В прекрасную Читу?
— Не сцапают, — хвастливо заявил Арвид, историю которого уже знал весь вагон.
В этот момент раздался голос рыженькой:
— Александр! Нужно нанять носильщиков. Я не притронусь к этим чемоданам. Хватит!
— Я найду носильщиков, — услужливо заверил розовый, вытирая потное лицо. Он был бодр и деятелен.
С верхней полки слез и Матвей, посвежевший, отдохнувший. Он приветливо поздоровался с четырьмя пассажирами, но только Валентина и розовый очкарик ответили ему. Александр Александрович смотрел поверх головы мужичка, а жена его демонстративно отвернулась. Матвей покачал головой, но ничуть не обиделся, всем своим видом показывая, что он лично выполнил долг вежливости, а как это было принято — не столь важно.
— Начальство сегодня сердится, — громко сказал Арвид.
— Эй, конопатенький! — сипло крикнул Николай. — Не хулигань. Имей ко взрослым уважение!
Арвид дурашливо присвистнул. Потом посадил себе на плечи одну из двойняшек и с дикими воплями начал прыгать по вагону. Девчонка радостно взвизгивала, а ее сестренка тянула руки к Арвиду, чтобы он взял на плечи и ее.
Поезд остановился. Генка взял на плечи вторую девочку, которая сразу радостно заверещала, уравнявшись в правах с сестренкой. Владимир Астахов попросил у женщины мешок, и они пошли через расходящиеся и сходящиеся вновь, параллельные и пересекающиеся рельсы к огромному вокзалу.
Мать шла рядом с Мариной налегке, и лицо у нее было счастливое и растроганное.
На вокзале, который буквально кишел людьми, Генка впервые в жизни увидел узбеков в халатах и тюбетейках, меднолицых молчаливых алтайцев, услышал разноязычный говор. Толпа, казалось, разбухала на глазах, растекалась по перрону, привокзальной площади, по этажам вокзала.
— До свидания, спасибо вам большое, — женщина прослезилась.
Марина обняла ее за плечи, расцеловала девчушек.
— Счастливо вам добраться, — сквозь слезы сказала женщина, и толпа закрутила, завертела ее и девчушек и навсегда оторвала от пассажиров пятьсот веселого.
— Пойдем, побродим по вокзалу, — предложил Арвид, но Генка не захотел и вместе с Владимиром и Мариной направился к своему составу, который он научился уже узнавать издалека по причудливому и нелепому сочетанию цистерн, платформ и «жилых» вагонов.
Они шагали, перебрасываясь редкими фразами, и Генка вдруг почувствовал себя «третьим лишним». Он видел: Марина и Владимир тянутся друг к другу, им приятно быть вместе и конечно же хочется поговорить без свидетелей. Генке стало немножко грустно, но больше — радостно. И чтобы оставить этих двоих наедине, он гикнул и помчался к пятьсот веселому, перепрыгивая через рельсы.
Ему очень хотелось поближе познакомиться с Мариной и Владимиром, но мешала собственная застенчивость, отчужденность Астахова и чуть снисходительная и ласковая доброжелательность Марины, которая хотя и не обидно, но все же подчеркивала разницу в возрасте между собой и Генкой.
И когда только эта Марина успевала и переодеться, и умыться, и причесать свои прекрасные густые волосы! Генка ни разу не видел ее неприбранной, непричесанной. Это заставляло его более критично относиться к своей одежде, к чистоте лица и рук, хотя условия существования в пятьсот веселом не взывали к опрятности. Ну а Владимир вообще в Генкиных глазах был щеголем. От Красноярска до Новосибирска он успел уже сменить две рубашки, всегда чисто выбритый, подтянутый. Генка не очень-то жаловал щеголей, но щегольство Владимира было не показным, сам он как будто не обращал особого внимания на свою внешность — и в этом, как понял для себя Генка, был высший шик.
Генка подбежал к вагону, возле которого все еще стояли четыре пассажира и бесформенной грудой возвышался их многоместный багаж. Эх, ради черненькой Валентины Генка перенес бы всю эту груду без отдыха! Но он не мог сделать этого, потому что нарушил бы какое-то молчаливое соглашение, которое, не сговариваясь, заключили между собой все «красноярские» пассажиры.
Тут Генка увидел Матвея и чуть не ахнул от изумления. Матвей стоял в дверях вагона в новеньком офицерском кителе при всех наградах, в новеньких сапогах, надраенных с солдатским рвением.
— Скажите, пожалуйста, — Иван Капитонович восхищенно покачал головой. — Прямо-таки ферт, так скать! Жених, да и только!
Матвей потупился, поправил широкий ремень со сверкающей бляхой и сказал, будто извинялся за свой нарядный вид:
— Комбат мне эту форму подарил. Перед последним ранением. Пора себя в порядок приводить. А то распустишься, расхлябаешься. Дисциплину над собой потеряешь, а это ни к чему, палочки-моталочки!
Фронтовик бросил взгляд на подошедшую Марину, но та успела погасить одобрительную улыбку и посмотрела на Матвея так, будто считала это перевоплощение вполне ожидаемым и естественным. Елочки Зеленые приободрился, поднял голову и, молодцевато звякнув орденами и медалями, прошелся от бруса к брусу уже не скованной, а обычной походкой.
— Эх! В парикмахерскую бы попасть! — заявил он мечтательно.
— Машинка у меня есть. Давай, так скать, постараюсь, уважу, — серьезно предложил Иван Капитонович.
И все засмеялись, вспомнив мрачноватую деловитость лесоруба и мучения Арвида. Генка впервые услышал, как смеется Марина — молодо, открыто. Наверное, вот так она смеялась до войны…
Иван Капитонович несколько мгновений стоял, делая корявыми пальцами странные движения, будто сжимал и разжимал ручки машинки, а потом запоздало загоготал, развеселив всех еще сильнее, даже старый учитель снял очки и вытер платком выступившие от смеха слезы. И в вагоне дохнуло душевным ладом, готовностью к незлой шутке, к доброму разговору. В такие моменты Генка всегда думал о том, что люди, едущие с ним, заслуживают хорошей, красивой жизни и счастья.
А возле вагона по-прежнему стояли сестры и Александр Александрович. Генка услышал голос Валентины:
— Я вам говорила: не задирайте нос перед пассажирами. Они бы нам помогли.
Владимир и Марина, прогуливавшиеся возле состава, обошли пирамиду чемоданов и, разговаривая, поднялись в вагон.
— Пойдем поможем, — подошел к Астахову Николай, со свистом втягивая в себя воздух.
— Кому? — Владимир скользнул невидящим взглядом по лицам пассажиров, стоявших у вещей. — Обойдутся и без нас. Не маленькие.
Однако Николай все же слез на землю и предложил:
— Подсобить?
— Долго раздумывали! — резко ответила рыженькая. — Вон идут носильщики. Обойдемся и без вас.
Действительно, по путям колобком катился розовый, на ходу вытирая потное лицо, а за ним поспешали два носильщика с бляхами на груди.
— Долго же вы прохлаждались, товарищ Лыткин, — осанистый пассажир решил благоразумно перенести свой гнев на розового здоровячка, официально назвав его по фамилии.
Здоровячок виновато улыбнулся, всем своим видом показывая, что сделал все, что мог.
Наконец процессия двинулась к вокзалу, впереди шли Александр Александрович с Лыткиным, за ними следовали носильщики, увешанные гроздьями чемоданов, а замыкали шествие две сестры. Валентина на прощание оглянулась, поискала глазами Владимира, но тот оживленно разговаривал с Мариной. Тогда она чуть заметно кивнула Генке и улыбнулась. А может, это только показалось Геннадию Майкову, потому что ему очень хотелось, чтобы Валентина попрощалась с ним.
— Не пойму я таких людей. — Лесоруб покачал головой. — Грамотные, видать, а как чужие…
— И зачем они тужатся-пыжатся? — проговорил Матвей. — Я так понимаю: раз ты совецкий человек, то веди себя как следует, по-совецки, а не как буржуй, которому в семнадцатом году хвост прижали. Так я говорю, елочки-моталочки?
Прошло около получаса. Генка случайно глянул в угол, который занимали ушедшие пассажиры, и вдруг в обрывках газет увидел плоский коричневый прямоугольничек. Бумажник!
— Смотрите! Они потеряли кошелек! — крикнул он, поднимая находку.
Арвид оказался тут как тут. Он выхватил из рук Генки бумажник из гладкой коричневой кожи и быстренько открыл его.
— Паспорта, какие-то бумаженции, — с удовлетворением перечислял читинец, явно довольный происшествием, — карточка рыжей. Вот нарядилась, кикимора! С лисой-чернобуркой. Э-э, братцы, деньги! Красотища!
— Да что ты чужие деньги считаешь! — возмутился Генка и вырвал из рук Арвида бумажник.
— Тебе что, жалко? — Арвид скорчил рожицу. — Они бы тебя не пожалели!
— А, правда, Ген, сколько там у них деньжат? — спросил Николай. — Интересно взглянуть…
Через минуту весь вагон знал, что пассажиры, которых все не очень-то жаловали, потеряли бумажник.
— Вернуть бы надо, — сказал Иван Капитонович, почесав ногтем затылок.
— Конечно, надо вернуть, — заволновался старый учитель. — Но как это сделать?
— Может, они уже укатили? — высказал предположение Матвей. — Тогда, елочки, надо в милицию сдать. В милиции кого хошь разыщут.
— Володя, может, по радио объявить? — спросила Марина и покраснела: она впервые громко, при всех, назвала Астахова Володей.
— Точно! — оживился тот. — Арвид, Гена, пойдемте на вокзал. Они наверняка еще не уехали.
— Буду я из-за всяких бегать по вокзалу! — покуражился читинец, правда, больше для вида, потому что и он понимал: бумажник надо возвратить, хотя где-то в глубине души, наверное, успел подумать, что если бы сам нашел бумажник да без свидетелей, то поступил бы с ним поинтереснее, чем предлагает этот граф Монте-Кристо. — Они здесь корчили из себя черт знает что, а я должен, как собачка, за ними бегать…
— Не стрекочи, а делай, как старшие велят. — Это старушка внесла свою лепту в событие, взбудоражившее вагон.
— Пошли, пошли, — Владимир сгреб Арвида за шиворот.
По дороге Астахов взял у Генки бумажник, достал паспорт и прочитал фамилию, имя и отчество владельца:
— Курганов Александр Александрович. Звучит недурно.
Они выбрались на перрон и вошли в здание вокзала, битком набитое людьми, которые сидели и спали в самых невероятных позах и в самых неожиданных местах.
— Подождите меня здесь, у почты, — сказал Владимир, сообразив, что в такой сутолоке невозможно никого отыскать. — Возьми, Гена, бумажник. Ты нашел, ты и вернешь.
Вокзальная дикторша объявляла о посадках, отправлениях, прибытии и опоздании поездов, и голос у нее был такой безнадежно-тягучий, что, казалось, если бы она вдруг объявила даже самую радостную весть, никто бы и не обрадовался.
Но вот в репродукторе что-то щелкнуло, как всегда перед очередным объявлением, и все тот же унылый голос возвестил:
— Гражданин Курганов Александр Александрович, потерявший документы и деньги, просим вас подойти к почтовому отделению. Повторяю…
Не прошло и нескольких минут, как Генка увидел пробивающегося сквозь толпу Курганова. Волосы упали ему на лоб и прилипли к переносице. Глаза были жалкими, испуганными и радостными! И странно — лицо это показалось Генке более человеческим, чем прежде, впрочем, может быть, просто потому, что за Кургановым шла Валентина, раздавая улыбки тем, кого она просила посторониться.
— Это вы! Это вы! — бессмысленно крикнул Александр Александрович, налетая на Генку и Арвида. Лицо его было вытянуто вперед, и даже второй подбородок куда-то исчез, словно рассосался по шее. — Давайте же бумажник! Скорее!
Арвид откровенно хихикал, не стесняясь Курганова, а Генка, глядя на Валентину, чуть не забыл, зачем он торчит у этой почты, в душном вокзале.
— Возьмите. — Генка наконец опомнился и протянул бумажник Курганову.
Тот схватил его обеими руками, торопливо проверил бумаги, пересчитал деньги.
— Все цело. Слава богу! — бормотал он радостно и удивленно. — Но как я мог потерять бумажник! Какая беспечность!
— Какие хорошие ребятки! Просто прелесть! — прожурчала Валентина и вдруг порывисто шагнула к Генке и звучно поцеловала его в щеку. — Давай и тебя поцелую, рыженький!
— Еще чего! — Арвид надменно вскинул голову, но покраснел. — Целуйте этого отличника, а я пошел. Адью!
Валентина засмеялась. А Генка был счастлив. — Ой, помада на щеке! — Валентина всплеснула руками. — Дайте я сотру!
Но Генка отстранился, чтобы сохранить как можно дольше прикосновение ее губ.
— Вот вам, — раздался в этот момент совсем ненужный голос Курганова. — Купите себе пряников и конфет.
Он протягивал счастливому Генке жалкие оскорбительные бумажки! И вдобавок улыбался.
— Сами ешьте свои пряники! — зло выдавил из себя Генка, понимая, что его слова звучат по-детски.
— Не сердитесь, пожалуйста, — пропела Валентина, бросив пренебрежительный взгляд на родственника. — До свидания! До встречи в Москве! — Она протянула свою маленькую ручку.
Подойдя к вагону, Генка сразу понял, что Арвид уже успел все рассказать, выставив его, Майкова, в самом невыгодном свете.
— Обойми, поцелуй, — громко и фальшиво запел читинец, перегнувшись через брус, и сразу согнал с лица Генки счастливую улыбку, которую он донес от самого вокзала.
— Все в порядке, Гена? — спросила Марина. Она улыбалась, наверное, заметив след помады на его щеке.
— Все в порядке, — ответил Генка и проскользнул в вагон. Ему хотелось сейчас побыть в одиночестве, полежать на полке и подумать обо всем происшедшем.
Но Арвид и не думал оставлять его в покое.
— Наш Гена благородно отказался от награды, — заявил он громогласно, чтобы слышали все. — Важный давал ему деньги, а он отказался.
— Много денег? — сразу же поинтересовался Николай.
— Откуда я знаю: много-мало? — Генка пожал плечами. — Что я, из-за денег бегал на вокзал?
— Из-за красивых глазок! — хихикнул Арвид.
— Взял бы деньги-то, — произнес Николай, явно разочарованный Генкиной непрактичностью. — Не украл ведь. Заслужил.
— Дают — бери, бьют — беги, — скрипнула из угла старушка.
— А ну вас всех с вашими деньгами! — Генка вконец рассердился и полез на свою полку.
— Эх, и перепугался этот важный! — снова раздался насмешливый голос Арвида. — Дрожал как осиновый лист. Умора!
— Видать, и служебные документики были, — поддержал разговор Николай. — За них взгреют — не возрадуешься. А, видно, строгий по службе этот высокий.
— Не строгий, а дутый, — сердито сказал Матвей, ему явно не понравились уважительные нотки, звучавшие в голосе Николая. — Видывал я таких, елки-палки! Убери его от должности — станет он как кур ощипанный: ни ума, ни ремесла никакого… Осанка-то она — обманка. Вот был у нас в роте старшина, Колесов Иван. Так он только толстых генералов признавал. Если нетолстый или хотя бы невысокий — значит, так себе, а не генерал. Я ему, дундуку, Суворова в пример ставил: вот, говорю, фельдмаршал, однако до самой старости был легкий, как молодой петушок. А Иван Колесов все на своем стоит, хоть кол на голове ему теши!
— Я и сам начальников уважаю, которые пофигуристей, — просипел Николай.
— Эх, темнота ты, Коля-Николай, — вздохнул Матвей. — Для тебя хоть пять Октябрьских революций совершай, ты все будешь как таракан за печкой…
Владимир еще не вернулся в вагон, и было заметно, что Марина беспокоится, то и дело поглядывает в сторону вокзала, невпопад отвечая на вопросы старушки.
А Генка решил, что сейчас самый подходящий момент, чтобы узнать у Николая хоть что-нибудь об Астахове.
— Николай, а ты как попал на Север? — спрыгнув с полки, спросил он, хотя, в общем-то, кое о чем уже догадывался.
— Эх, паря, как наш брат туда попадает? — Николай махнул разрисованной рукой. — Своровал я, понял? Что тут скрывать! Позарился, думал, авось проскочу… Не тут-то было. Загребли, застукали и отправили, куда Макар телят не гонял. В тридцать пятом это еще было.
Николай вздохнул, и в его широченной груди будто заиграли на расстроенной губной гармошке. Эта игра не понравилась Николаю, он прокашлялся, вздохнул еще раз, прислушался, отрешенно глядя в потолок вагона и вроде немного успокоился.
— Срок мой вышел, когда война уже началась. — Николай, видимо, обрадовался случаю поговорить о своей прошлой жизни, которая уже не казалась такой страшной, потому что была позади. — Ты садись, паря, в ногах правды нет.
Николай присел на свой мешок, а Генка пристроился на уголке астаховского чемодана. Ну и кожа! Так и хотелось погладить ее, но Генка все же удержался: он слишком часто видел, как это делает Николай — любовно, с каким-то плотоядным выражением лица.
— Так вот, значит, кончился мой срок, а тут война, — продолжал Николай, глядя на Генку красноватыми глазами. — Хотели в армию взять, да я и сам просился, но посмотрели врачи меня со всех сторон и говорят: трухлявый внутри. И решил я тогда: останусь на Севере до конца войны, а там видно будет. Да и привык там уже, верь не верь, а привык. Это поначалу было страшно, дни считал, томился, а потом утих, прижух, и все пошло, будто так и надо.
Николай помолчал, развязал мешок и вытащил какой-то сверток. Генка подумал, что его попутчик начнет сейчас показывать документы: такое Генка уже не раз видел в поезде, когда добирался до Иркутска. Все освобожденные обязательно по нескольку раз показывали документы. То ли сами еще раз хотели убедиться в том, что они действительно на свободе, то ли желали уверить попутчиков, что отпущены по всем правилам, а не находятся в бегах. Генку почему-то больше всего удивлял невзрачный вид документов об освобождении — обыкновенная справка, напечатанная на скверной бумаге. Но освобожденные, давно не имевшие никаких документов, обращались с невзрачными бумажками благоговейно, держали их с цепкой осторожностью, словно эти справки могли вдруг выпорхнуть из рук.
Однако Николай не стал показывать документы, он повертел тоненький сверточек в руках, крякнул и снова спрятал его в мешок.
— Всю войну, значит, и оттрубил в Норильске. Потом и война кончилась, а я все вкалываю да вкалываю, Защиплет другой раз сердце по дому, но вспомнишь, что маловато еще деньжат подсобрал, и снова вкалываешь.
Тут Николай надолго закашлялся, схватившись руками за грудь. Смотреть на него в этот момент было страшновато. Наконец приступ кончился, но Николай еще долго сморкался и вытирал слезящиеся от натуги глаза серым большим платком.
— Все жилы вытянул этот кашель, — произнес он, виновато взглянув на Генку. — Так вот, паря. Понял я, хоть и поздно: пора отчаливать с Севера. И подался до родных мест, как раненая зверюга в свою берлогу. Чую — только дома смогу сил набрать и больше нигде.
— Дома и стены помогают. — Генка чувствовал, что надо как-то поддержать Николая, но на ум не пришло ничего, кроме этой затасканной фразы. Однако Николай улыбнулся, уловив в голосе собеседника искренность и сочувствие, и Генка еще раз убедился в том, что иногда даже лучше сказать какую-нибудь избитую истину: привычные слова успокаивают.
— Отдохну я дома чуток, подправлю кой-чего по хозяйству, а потом в Москву махну, к Володькиному папаше. Он профессор, а может и вовсе академик. Знаешь, кто у него лечится? — лицо Николая стало почтительным, и он почти шепотом произнес, придвигаясь поближе к Генке:
— Генералы, а может, и маршалы! Понял? А они, паря, к кому попало не пойдут. Володька обещал все устроить. У него слово не полова!
— А ты, Николай, работал вместе с Владимиром? — спросил Генка, предвкушая, что сейчас, наконец, узнает, что связывает этих двух столь различных людей.
— Какой там вместе! Володька — не нашего поля ягода. Он инженер. Кумпол у него варит, не то, что у нас! Но дурак, я тебе скажу, ох и дурачина. Я так разобрал его: он по жизни хочет напрямик пройти, без хитринки. Да разве таким путем можно прожить? Ни за что на свете! Таких бьют!
— Вряд ли Владимир позволит бить себя, — возразил Генка, который действительно не мог представить, что такого человека, как Астахов, может кто-то безнаказанно обидеть. — Он не из таких!
— Я бы тоже не поверил, да знаю кой-что. Не от Володьки. Из него-то клещами не вытянешь. Любой разговор наладить может, а как о себе — сразу рот на замок. Но шила в мешке не утаишь. Узнали на стройке: жена от него укатила. Обратно в Москву. Они там вместе институт кончали, вместе в Норильск приехали, да, видать, совсем разные оказались. Жена-то понюхала, почем фунт лиха, да и рассудила: на что мне этот мерзлый Север, когда в Москве квартира хорошая, дача с прудом, кино на каждой улице показывают. Звала она, говорят, его, сильно звала, да Володька ни в какую. По книжке жить хочет…
— По книжке? — не понял Генка. — Это как же?
— А вот так… Чтобы, значит, самым правильным быть. Оттого и с начальством у него наперекосяк пошло. Из-за какого-то проекта, говорят, поцапался. Ему велят: строй! — а он твердит, что чертежи надо переделывать. Устарели, дескать, и строить по ним нельзя. Будто он, Астахов, умнее всех. Ну и дождался: турнули его с должности и под суд хотели…
— За что?! — ужаснулся Генка.
— Да нет, до суда дело не дошло, — успокоил Николай. — Честный он, это-то все видят. И на фронт добровольцем ушел.
Это была самая неожиданная новость: Генка и не подозревал, что Астахов — тоже фронтовик.
— Ранило его быстро, — объяснил Николай. — В общем, списали подчистую. Ну и вернулся доучиваться. А потом — на Север… Шебутной парень, ох и шебутной! Знаешь, как мы с ним познакомились? Пурга начиналась, а он на лыжах пошел кататься. Ногу вывихнул, чуть не замерз. Я случайно на него наткнулся, до дому дотащил… Да, пора бы уж, кажется, смирнее стать, покладистей, а этому все неймется. Думаешь, сейчас он в Москву за каким чертом едет?
Генка пожал плечами — откуда он мог знать, зачем Астахов едет в Москву? Домой, наверно, к родным.
— А едет он в самое главное московское управление свою правоту доказывать, — в свистящем голосе Николая слышалось откровенное осуждение, и это не понравилось Генке.
— И я бы поехал, — сказал он. — А может, Владимир прав и докажет это?
— Прав? — Николай криво усмехнулся. — Ну и что? С жиру он бесится, понял! Ну, на что ему этот Север сдался, скажи? За таким папашей он бы в Москве — как кум королю! У него от рождения все было. Ну и живи, раз счастье само далось! Пробовал я втолковать ему это. Да разве он слушает! Эх, не пойму я таких людей!..
— Ладно, Николай, я пойду покурю, — сказал Генка, которому противно стало слушать эти рассуждения.
— Погоди, паря. — Николай встал, его красные глазки обшарили Генку с ног до головы. — Ты Володьке про мои слова ничего не говори…
— Я никому ничего не скажу, — с решительностью, которая сразу успокоила Николая, отрезал Генка и пошел прочь.
А Николай тут же подошел к Ивану Капитоновичу, со свистом втянул воздух в широкую грудь и сказал, словно сообщал новость:
— Вот приеду домой, попью молочка, лучше всего козьего, оно пожирней, в баньке попарюсь и в Москву-столицу катану. К Володькиному отцу. Он у него профессор, а может, и академик самый главный.
— А по каким болезням отец его работает? — заинтересованно спросил Иван Капитонович.
— Говорил мне Володька, да я запамятовал. Мудреная такая специальность. Легкие лечит и сердце вроде бы.
Лесоруб разочарованно вздохнул:
— Эх, сердце у Мишани крепкое. По наследству от меня досталось. Вот ежели он был бы специалист по позвонкам, это самое… Но на всякий случай адресок надо бы и мне взять. Даст мне адресок твой друг-товарищ?
Старый учитель поддержал Ивана Капитоновича:
— Обязательно возьмите адрес. Владимир вам не откажет. Он очень порядочный человек и добрый. Я в этом уверен.
Марина, не пропускавшая ни одного слова о Владимире, благодарно взглянула на старичка.
— Поберегись! Прочь с дороги! — раздался дурашливый голос Арвида. Он бежал к вагону, смешно выкидывая вперед голенастые ноги в разбитых, стоптанных набок ботинках с порванными шнурками. Остриженная голова болталась на тоненькой шее.
Увидев Генку, читинец закричал:
— Давай сухарей пожуем, я жрать здорово хочу!
— Явился баламут! — изрекла старушка, но голос ее прозвучал хотя и сварливо, не беззлобно. Когда в вагоне появлялся неунывающий Арвид, сразу становилось как-то веселее.
— Между прочим, мы скоро поедем, — хрустя сухарем, авторитетно заявил читинец. — Я сам спрашивал машиниста. Через полчасика отчалим. Красотища!
Марина сразу забеспокоилась, подошла к брусу и посмотрела в сторону вокзала.
— И-эх, какая приятная женщина, елочки мои!
Марина наверняка услышала приглушенный голос Матвея, она покраснела, но не обернулась, чтобы не смутить говорящего.
— Хорошая женщина, — подтвердил Иван Капитонович. — И не мотыльковая, так скать. Я бы Мишаню свово глазом не моргнул бы сосватал.
— Я бы и сам посватался, — вздохнул Матвей, — да рылом не вышел. И-эх, не везет. Посмотришь в кино — у человека и голос, и стать, и красота, и талантов всяких куча. А тут…
Матвей прикурил цигарку, с удовольствием затянулся крепким дымом, подумал о чем-то и вдруг обратился к учителю:
— Вот вы, Василь Сергеевич, по всем статьям ученый человек…
— Ну, положим, ученый я относительно, — улыбнулся старичок и отбросил назад седые волосы, открывая красивый лоб, который был главной частью его лица. Все остальное взяли годы — подсушили, съежили, сделали маленьким, но лоб был хорош, даже морщинки и тронутая увяданием кожа не мешали ему быть благородным и красивым. — Ученым меня называть не стоит… Но все равно спрашивайте, если смогу, — отвечу.
Матвей предварительно развел руками, а потом задал мучивший его вопрос:
— Вот скажите вы мне, почему не все люди красивы? В кино посмотришь — красивые все, здоровые, умные. А в жизни больно уж много неказистых, вроде меня. Почему так выходит, елочки-палочки?
— Это вы некрасивый? — удивился учитель. — Я бы этого не сказал.
— И правда, что ты на себя клепаешь? — поддержал Василия Сергеевича лесоруб. — Иконы с тебя, прямо заявим, не напишешь. Но в форме и с наградами вид у тебя вполне подходящий.
— А вообще-то некрасивые люди, конечно, встречаются, — сказал Василий Сергеевич. — Почему? Жизнь пока еще очень нелегкая. Сами понимаете — заботы, войны, голод и холод не красят человека. Но наши дети будут красивее нас, а внуки еще красивее. А главное, умнее, добрее и великодушнее.
— Фью! — насмешливо свистнул Арвид. — А я вот в книжке читал, что люди когда-нибудь станут хилыми-хилыми. Голова у них будет большая, а ножки кривые и тоненькие, как у рахитиков.
Старый учитель засмеялся, да так весело, заразительно, что даже Иван Капитонович внушительно поддержал его. Лесоруб любил слушать ученых людей и доверял им.
— И кто мог написать такую глупость! — воскликнул Василий Сергеевич и поглядел на Арвида так, будто очень сожалел, что мальчишка напрасно потратил время на чтение такой нелепой книги.
Он заговорил о медицине, которая будет творить чудеса, о физкультуре и спорте, о свободном времени, которого будет полным-полно у каждого. По его словам, получалось, что при коммунизме люди будут настоящими гигантами и силачами, а жить они будут по сотне и больше лет.
Генка с восторгом слушал старого учителя. Как прекрасно, маняще звучали эти слова в бедном вагоне, который стоял сейчас примерно на середине длиннейшей в мире магистрали, протянувшейся по израненной войной стране.
— Хорошо бы так-то, только, когда это будет! — недоверчиво произнес Николай.
Помолчали.
— В дурачка, может, сгоняем? — предложил Матвей.
— И то дело, — согласился лесоруб. — В дороге можно и картишками разговеться, так скать.
Играть согласился и Николай. Но Василий Сергеевич с деликатной решительностью отказался.
— Не умеете, товарищ дорогой, или, так скать, осуждаете? — поинтересовался лесоруб, любивший во всем ясность.
Старый учитель улыбнулся:
— Азартные игры осуждаю. А так — почему же — играйте на здоровье, а я по своей стариковской привычке почитаю немного.
— Да вы небось и так мильон этих книг перечитали, — сказал Николай.
— Мало я читал. — Старичок вздохнул. — Преступно мало. А времени мне отпущено не так уж много…
Они играли азартно, с прибаутками, с шуточками, которые употребляют все игроки в подкидного дурака. Чаще всего проигрывал Иван Капитонович, к концу игры у него скапливалось столько карт, что они валились из крепких неумелых рук. Лесоруб смущался, краснел, прямо-таки наливался свекольным цветом, а потом громогласно хохотал над собой, над ловкостью своих партнеров:
— Ну, злодеи! Ну, аспиды! Вот я вам ужо! Всыплю, так скать!
Николай играл крепко, основательно. Он умел запоминать вышедшие из игры карты и даже без козырей ухитрялся не остаться дураком. А Матвею карта шла. Но когда партнеры завидовали, он говорил:
— Повезет в картах — не повезет в любви. Это уж точно, елочки зеленые!
Старый учитель заметил в руках Генки учебник логики.
— Изучаете?
— В нашей школе логику не преподавали, — пояснил Генка. — Хочу сам немножко разобраться.
— Нравится?
— Суховато, — признался Генка. — Разные посылки, силлогизмы, доказательства, выводы. Скучно!.. А вы куда едете, Василий Сергеевич?
— В Омск. Там я живу и преподаю в школе, — охотно ответил старичок. — А ездил в Шушенское. Хорошая была поездка!
В Шушенское! Там, где жили Ленин и Крупская!
Генка посмотрел на старого учителя с удвоенным уважением.
— Вас посылали в командировку?
— Нет, просто сам поехал. Понимаете, я собираю материалы о революционерах, которые были вместе с Лениным в ссылке. Хочу книгу написать…
— Здорово! — вырвалось у Генки. — Счастливый вы!..
Старичок усмехнулся. И Генка испугался, что его искреннее восклицание Василий Сергеевич принял за лесть. Но, оказывается, старый учитель усмехался совсем по другому поводу.
— Я вспомнил, как один мой знакомый профессор говорил в прошлом году: «Найти бы мне хорошую домработницу, и я бы считал себя счастливым человеком». А если серьезно, мне вообще не нравятся люди, которые говорят: «Я счастлив». В этом есть какое-то самодовольство, что ли. Так что, молодой человек, я не могу считать себя счастливым. Не имею права. Хотя бы потому, что рядом со мной живет множество людей, которые пока не чувствуют себя счастливыми. Хотя однажды… — Выцветшие глаза Василия Сергеевича вдруг молодо блеснули. — Однажды я почувствовал себя по-настоящему счастливым. Было это в двенадцатом году, в тюрьме…
— В тюрьме? — удивился Генка.
— Представьте себе! В то время я уже был большевиком. И вдруг арест. Упрятали в одиночку. Несколько дней метался я, как птица в клетке. Молодой был еще, вспыльчивый, нетерпеливый. А потом как-то сел на койку и задумался: «Ну, посадили меня в тюрьму, продержат здесь год, два, три. И что они добьются? Что могут сделать с моей душой, с моими убеждениями? Ровным счетом ничего! Все равно выйду на волю и снова буду бороться за правду!» Подумал и почувствовал себя так, будто сбросил с плеч тяжеленную ношу. Сижу на тюремной койке и улыбаюсь. Улыбаюсь как блаженный, честное слово!
«Интересно, как он выглядел тогда?» — подумал Генка. Он попытался представить себе Василия Сергеевича молодым, здоровым и сильным — и не смог.
— И как раз, когда я сидел в таком состоянии, — продолжал старый учитель, — заявилась комиссия: два каких-то важных чиновника, а сзади начальник тюрьмы. «Какие жалобы есть?» — спрашивают. А я смотрю на них и смеюсь. «Эх, думаю, червяки вы сушеные! Это вы должны жаловаться, потому что вы рабы, верноподданные». И говорю им: «Здесь прекрасно, господа! Тут я почувствовал себя свободным человеком!» У чиновников разом лица вытянулись.
Старый учитель рассмеялся, а Генка вспомнил со стыдом, что при первом знакомстве зачислил Василия Сергеевича в разряд педантичных и скучных людей. Вот ведь как бывает: встретишь старого человека и думаешь, что он всегда был старым…
— Эй, Генка! — Арвид лежал на нарах, свесив вниз лукавое личико. — Историю ты и так знаешь. Иди сюда, я по немецкому тебя погоняю, а то тебя в институт не примут.
— Вы знаете язык? — оживился Василий Сергеевич и спросил что-то по-немецки. Арвид ответил: «Яволь!» — что было понятно и Генке, но старичок тут же разразился длиннющей фразой, а Арвид, скаля маленькие острые зубки, так же длинно ответил, победно поглядывая на Генку.
— Во шпарят, елочки зеленые! — восхитился Матвей. — А я вот немецкий язык терпеть не мог. Такой он был для меня, как нож острый. Будто в душу гвозди холодные забивают. Но пришли мы в Пруссию, и услышал я, как мальчонки, крохотные совсем шпендрики, между собой говорят. Ну, прямо как колокольчики! Вот, думаю, елочки зеленые, такие пацанишки крохотные, а уж по-немецки разговаривать могут.
— Да ведь они же немцы! — вполне резонно прохрипел Николай.
Матвей смущенно пожал плечами:
— Умом-то я это понимал. И когда взрослых немцев слышал, то не удивлялся. А вот когда карапузики меж собой говорили, как бубенцами звенели, тут я прямо-таки умилился. Вот, думаю, чудо-то какое!
Матвей, говоря это, даже забыл прикрыть карты, и практичный Николай деловито изучил их и только потом сказал, чтобы закончить разговор:
— А все равно лучше русского языка нет на свете. Это уж точно!
— Мать родная всегда всех дороже, — согласился Матвей. — Но мать-то, понимаешь, у каждого своя… — И обратился к Василию Сергеевичу:
— Вот вы, папаша, человек ученый. Скажите, какой язык самый что ни на есть лучший в мире?
Учитель кивнул Арвиду: потом, мол, поговорим, и ответил:
— Какой язык самый лучший? Честное слово, не знаю, товарищи. А знаю только, что все языки по-своему хороши. И еще, если плохо знаешь русский язык, очень трудно изучать другие. Просто невозможно.
— Вот и я так думаю, — сказал фронтовик, довольный тем, что уважаемый всеми человек поддержал его.
— Внимание! На горизонте граф Монте-Кристо! — закричал вдруг Арвид, подошедший к брусу.
И все действительно увидели Владимира Астахова. Он шел к вагону с какой-то девочкой, а рядом два человека в белых халатах несли носилки.
Арвид мигом сбросил вниз свое длинное тощее тело. Зашевелилась и старушка в серой шали, которую она, кажется, еще ни разу не снимала с головы. Марина вздрогнула и покраснела, услышав о «графе». А игроки, даже не закончив партию, поспешили к дверям вагона.
— Несут болезного, — заявила старушка и на всякий случай перекрестилась.
Дядьки в белых халатах поставили носилки на землю, и все пассажиры увидели сухое пергаментное лицо, заострившийся нос, серые и редкие волосы, прилипшие ко лбу. Под стареньким байковым одеялом угадывался жалкий остов этого человека, иссушенного болезнью. Глаза больного были закрыты, но когда носилки опустили на землю, он с усилием поднял веки и показал желтоватые белки. Взгляд какой-то выпитый, не выражал ни боли, ни страдания, ничего, кроме обреченности.
— Помогите, — попросил один из санитаров, обращаясь к пассажирам.
— Это могём! — быстро отозвался Матвей. Носилки осторожно подняли в вагон. Старушка наметанным взглядом осмотрела высохшее тело и перекрестилась.
— Внизу его поставьте, — решительно заявила она таким властным тоном, будто самолично взяла все хлопоты о больном на себя. — Головой — куда поезд идет.
В это время Арвид лихо втянул в вагон девочку. Генка взглянул на новенькую и вдруг увидел, что это совсем и не девочка, а вполне взрослая девушка, небольшого роста, нарядно одетая, в туфельках на высоких каблучках. Она появилась в вагоне и будто осветила его огромными синими глазами.
Арвид подтолкнул Генку локтем и тихонько сказал, косясь на девушку, которая вместе со старушкой устраивала больного в том самом углу, где еще недавно находилась четверка пассажиров:
— Вот это да! Как кукла! А глазищи!
Девушка присела на чемоданчик, и Генка почувствовал на себе ее взгляд. Его как будто обдало ласковой теплой волной. Новенькая пассажирка смотрела на него с интересом и одобрением! Она улыбнулась, и Генка со сладкой готовностью почувствовал, что влюблен, что все его прошлые увлечения — сущая чепуха, а будущие… их не будет!
— Иди, милая, погуляй, — скрипнула старушка. — Я посижу с отцом-то. А твое дело молодое. Иди, осмотрись, на людей погляди.
Девушка прошлась по вагону, доброжелательно поглядывая на всех пассажиров. Она ни капельки не смущалась откровенно любопытных взглядов, держалась свободно и раскованно.
А Генка глядел на новенькую во все глаза, и в его душе звучал веселый и захватывающий мотив. Эту румбу он слышал дома по радиоприемнику. Именно румбу, веселую, искрящуюся, напоминала ему эта девушка с наивным кукольным личиком.
Генка невольно сравнил ее с Мариной и Валентиной. Как они отличаются друг от друга! Марина в Генкином воображении была песней, чуть печальной, глубокой, обязательно русской песней. Черненькая Валентина, со своей стремительной и в то же время плавной походкой, осталась в его душе как танго. А теперь для Генки звучала румба…
— Эй, чего размечтался, отличник? — Насмешливый голос Арвида спугнул музыку, звучавшую в Генкиной душе. — Слышишь гудок? Сейчас поедем.
И, правда. За шальным гудком паровоза раздался уже ставший привычным и желанным лязг сцеплений. Пятьсот веселый начал пробираться между другими составами, а грузный, тяжеловатый вокзал помигал ему вослед отблесками своих бесчисленных окон.
Ах, каким чудесным было начало пути от Новосибирска до Омска! Пятьсот веселый раскочегарился, как выражался Арвид, и мчался вперед, небрежно проскакивая захолустные полустанки, прилично мало простаивая на крупных станциях: он словно замаливал перед пассажирами свои прошлые и будущие грехи. И светило солнце, и зеленела, не думая об осени, трава, и чистыми синими блюдечками мелькали вдали озера, и ласково струился навстречу поезду свежий ветерок, рожденный скоростью, и было легко, радостно, счастливо! И даже грусть, налетавшая иногда, как порыв ветерка, была легкой и мимолетной.
Генка жаждал любви. Он думал, что любовь придет к нему в Москве, но она пришла раньше и захватила его в свой сладкий плен. Накануне он долго не спал, лежал с открытыми глазами и замирал от сознания того, что она совсем близко, что если бы не храпел Иван Капитонович, не кашлял Николай, он обязательно услышал бы светлое дыхание Леночки Новиковой.
Да, ее звали так — Лена Новикова. И не было на свете лучшего имени, лучшей фамилии. Генка произносил их мысленно десятки раз, и они отдавались в его душе музыкой, быстрым, стремительным ритмом румбы, в которой даже протяжные звуки подстегивались причудливыми синкопами аккомпанемента.
Как просто, как неожиданно просто и доверчиво подошла она к нему!
— Меня зовут Лена Новикова, — она тряхнула кудрявыми светлыми волосами и смелым жестом протянула Генке руку. — Давайте знакомиться. Все равно мы узнаем друг друга. Лучше раньше, чем позже. Правда?
Генка растерялся от откровенного синего тепла ее глаз, и только ехидный смешок Арвида, который замечал все, заставил его торопливо и бережно пожать маленькую ручку с неожиданно длинными ногтями. Ручка была теплая, крепкая, мальчишеская.
— Скоро начнутся степи, — Лена высунулась за брус: ей нравилось, как ветер треплет ее волосы. — Давай смотреть, как начинается степь…
Генке вдруг стало легко, так легко и свободно, как не было еще ни разу в жизни.
А как быстро она познакомилась со всеми пассажирами, успела узнать, кто, куда и зачем едет, и сама просто и кратко рассказала об отце и о себе.
Оказалось, что они едут в Свердловск, в клинику, где лечат какими-то новыми методами. Прежнее лечение не помогло.
— И давно он мается, сердешный? — поинтересовалась старушка.
— Четвертый год, — по лицу Лены было видно, что она уже не раз отвечала на этот вопрос.
— Так пластом и лежит? — не унималась старушка. — А мать где?
— Мать бросила нас, — с презрительной гримаской сказала Лена. — Сбежала, вот и все.
— Доченька, — послышался тихий, как шелест прошлогодних листьев, голос больного. — Попить…
Лена торопливо подошла к отцу, напоила его и вытерла ему лицо чистым полотенцем.
— Вот досталось-то девчушке, — тихонько сказал лесоруб. — А жена, видать, у него была неустойчивая, так скать.
— Как знать, — возразил Николай, прислушиваясь к хрипу в груди. — Кому с больным охота возиться?
«Ну как он может так говорить!» — возмутился Генка.
А старую Поликановну неотразимо тянуло туда, где лежал больной. Утром она, так же как и накануне вечером, буквально прогнала Лену от отца, приговаривая сварливо-заботливым голосом:
— Мне, старухе, сподручнее за ним ухаживать. А ты иди, иди. Молодым жить надо.
Больной разговаривал очень редко, а когда все же произносил несколько слов, казалось, что это не он говорит, а шелестит на чахлых щеках сухая, пергаментная кожа. Глаза его почти всегда были закрыты, но как-то неплотно, и сквозь разомкнутые веки жутковато просвечивали затуманенные желтизной белки.
Генка не мог понять, как Лена могла оставаться оживленной и даже кокетливой, когда здесь, рядом, лежал ее беспомощный отец. Это было противоестественно, Генка нашел бы еще более резкие слова, если бы… на месте Лены была не Лена.
Но все же эта мысль мучила Генку, и он, волнуясь и боясь рассердить Лену, спросил:
— Ты… любишь отца?
Она отодвинулась от Генки, посмотрела на него как-то отчужденно, и он с пугающим холодком в груди понял, что Лена слишком хорошо знает, что такое горе.
— Разве я была бы здесь, если бы не любила его? — тихо спросила она.
— Я не про то… — смешался Генка.
— Или тебя интересует, как я могу улыбаться, почему все время не плачу? А ты не подумал, что я, может, наплакалась на много лет вперед. И часто сама не понимаю, как смогла выдержать эти три года…
— Извини, — пробормотал Генка. Мучительно покраснев, он чувствовал себя так, словно хотел непрошеным заглянуть в чужой дом.
— Не извиняйся, — успокоила Лена, потрогав маленькой упругой ручкой его руку. — Я вижу, тебе можно все рассказать. Ты не похож на всех этих любопытствующих…
В голосе ее звучала доверительная, незримо соединяющая их нотка, и это заставило гулко застучать Генкино сердце.
— Знаешь, — снова заговорила она, словно бы без всякой связи с предыдущим, — я смотрела, как вы шли к станции с этим рыженьким мальчишкой. Походка у тебя такая: кажется, сделаешь еще один шаг и полетишь по воздуху. Честное слово!
Она засмеялась, довольная смущением Генки. Зубы у нее были великолепные, белые, крупные, казалось, кто-то тщательно подгонял их один к другому и только забыл сдвинуть поплотнее два верхних. И этот крохотный изъянчик нравился Генке больше всего, он как будто делал Лену проще и ближе.
А она, продолжая улыбаться мечтательно и загадочно, прижалась к брусу грудью, чтобы ощущать на лице биение встречного ветерка.
— Я тебе все о себе расскажу, — Лена посмотрела на Генку. — Но сначала ты расскажи о себе все, все. Я люблю слушать. А я заметила: у тебя слова как будто через душу идут. И говоришь ты не гладко. Ух, не могу терпеть, когда говорят как по маслу, без единой закавыки. Такие люди считаются умными, а я их терпеть не могу. Сама не знаю почему.
И Генка забыл обо всем, что его окружало. Неожиданно домашний, теплый голос Лены заставил его раскрыться так свободно, так естественно, будто разговаривал он с девушкой, которую знает давным-давно, столько, сколько помнил себя. Он рассказал о маленьком поселке, приютившемся между сопками, о матери, отце, братишках и сестренках. Рассказал даже о деде, которого никогда в жизни не видел и о котором впервые узнал в те тревожные дни…
Генке тогда было лет семь, но он навсегда запомнил страшную ночь, когда зазвонил телефон. Отец соскочил с постели, взял трубку, ахнул и сказал чужим голосом:
— Лиза, мастерские горят!
Мать в длинной рубахе до пят испуганно метнулась к окну. И все увидели зарево, багровое, зловещее.
Механическими мастерскими заведовал отец…
Он убежал и появился только в полдень, черный, с обгоревшими бровями. Не снимая сапог, рухнул на кровать и заснул.
И в тот же день по поселку поползли слухи, от которых Генке становилось жутко.
А назавтра мать достала откуда-то желтую фотографию.
— Смотри, Гена, и запомни — это твой дедушка, — сказала она, прикусив вздрагивающую нижнюю губу. — Вот какой красивый был мой папа!
Генка с любопытством посмотрел на фотографию и увидел действительно красивого военного с четырьмя крестами на груди и с саблей на боку. Но тут…
Погоны! На дедушке были погоны!
— Он белый? — чуть не плача спросил Генка.
— Нет! Дедушка был прапорщиком русской армии. Видишь эти кресты? Они назывались Георгиевскими. Крест давался только очень смелому человеку. А все четыре креста — самому смелому. Твой дедушка был настоящий храбрец! За храбрость он был награжден золотым оружием.
— И эта сабля у него вся из золота? — спросил Генка, довольный тем, что у него такой замечательный дед.
— Не знаю, — печально сказала мать, прижимая фотографию к груди. — Папа все оружие сдал. Он не хотел больше воевать. Он пришел с германского фронта в свое село, сеял хлеб, разводил пчел, садил деревья…
— А он живой? Где он сейчас? — Генка уже готов был выскочить на улицу и рассказать закадычным друзьям о своем замечательном деде.
— Его убили белые, — сказала мать. — Они ворвались в село. Есаул пришел в наш дом с двумя казаками и говорит: «Что же ты, Юрьев, русский офицер, полный Георгиевский кавалер, не борешься против большевиков?» А отец отвечает: «Хватит с меня. Я свое отвоевал, есаул». Тот глаза выпучил, выхватил из кобуры наган и завопил: «Предаешь отечество! Трус!» И тут никто опомниться не успел, как отец вырвал из рук есаула наган, а самого есаула выкинул в окно — он был очень сильный, твой дед. Крикнул казакам: «Оружие на пол!» Те совсем ошалели, побросали на пол карабины. Отец вытолкнул их с крыльца, запер двери на засовы и крикнул мне: «Беги, Лиза, на заимку! В село не приходи, пока казаки не уйдут!» И я выпрыгнула из окна в сад, потом ползком по огородам — и в лес. Бегу по тропинке, слезами обливаюсь, а на селе уже стрельба поднялась.
Матери было трудно рассказывать. Генка сам чуть не заревел. Но она все же докончила:
— На заимке я прожила десять дней. Казаки два раза приезжали, но я в лес убегала, пряталась. Все деревенские мне помогали, они очень уважали отца за храбрость и справедливость. Да к тому же половина села — наши родственники. А вернулась я в село, когда партизаны прогнали белых. На месте дома одна труба от русской печки торчит. Отец отстреливался, убил трех казаков. Белые поняли, что не взять им его живьем, и подожгли дом с четырех сторон…
— Да как же ты без мамы, без папы, без дома жила? — спросил потрясенный Генка.
— Так и жила… Односельчане помогали. А в партизанском отряде был твой отец, тогда совсем молодой. Мы с ним подружились, а когда гражданская война закончилась, он вернулся из Приморья, и мы поженились. Потом переехали жить в этот поселок.
Мать немного помолчала и добавила:
— Только ты никому пока не говори, что дедушка был прапорщиком. Некоторые могут неправильно понять. Но если… если услышишь о нем плохое — не верь. Я рассказала тебе правду.
Вечером пришел отец, осунувшийся, усталый.
— Все, Лиза, — сказал он, тяжело опускаясь на стул. — Больше не могу так жить. Утром пойду. Не могу слышать эти шепотки… Не могу, понимаешь ты это или нет? Если меня подозревают, пусть скажут прямо.
— Не ходи, — мать заплакала.
— Пойду.
И отец пошел. Выбритый до синевы, в новой белой рубашке, в начищенных сапогах. Бледный и спокойный. И мать перестала плакать.
Отец вернулся возрожденный. Даже по походке можно было понять, что страшное бремя свалилось с его плеч.
— Ты понимаешь, Лиза, увидел он меня и удивился: «Да вы, товарищ Майков, с ума сошли? Идите и работайте спокойно. А всяких болтунов и сплетников не слушайте, прошло их время, чтоб им пусто было!» Прямо так и сказал: «чтоб им пусто было!»
И отец радостно засмеялся, будто именно эти слова означали самое важное.
Мам, бросилась на кровать и спрятала лицо в подушках, а когда снова встала, глаза у нее были сияющими и прекрасными.
Отец подошел к Генке и подбросил его к самому потолку.
— Вот так-то, малыш! И никак иначе. Будем жить долго и счастливо! Всем чертям назло!..
— …У вас хорошая семья, — вздохнула Лена. — Вы дружно жили?
Перед Генкиными глазами мелькнули родные лица, у него опять сладко сжалось сердце.
— Очень дружно. С братишками, правда, иногда ссорился. Но без злости.
— Ты, наверно, дома был любимчиком? — Лена лукаво посмотрела на него снизу вверх, показывая трогательную щелочку между влажными зубами. — Любимчиком, да?
— Вовсе нет. Мать и отец ко всем относились одинаково. И вообще слышать не могу — «любимый сын», «любимая дочь», когда в семье есть другие дети. Противно…
— Может, ты и прав. Но я была одна в семье. Отец меня страшно любил… любит, — поправилась она и чуть покраснела.
— Вы жили в Новосибирске?
— Под Новосибирском. Отец работал инженером на заводе. А мать не работала! Она очень похожа на меня. Внешне… Посмотреть со стороны — семья как семья. А оказалось, как карточный домик, — до первого толчка. Отец заболел, и через год мать укатила от нас с новым мужем. Теперь-то я понимаю: никогда она отца не любила…
— А что с ним? — Генка невольно оглянулся и увидел обращенный на него тусклый взгляд больного.
— Нервное истощение. Потом паралич. Потом еще куча всяких болезней. Я их все изучила. Могу свободно поступить в мединститут…
Генке понравилось, что Лена быстро подружилась с Мариной. Приятно было видеть, как они оживленно разговаривали, рассказывали что-то друг другу. Казалось, что вокруг них возникает какой-то свой женский мир, удивительный, таинственный. Особое очарование для Генки таили в себе их голоса, вернее разница между ними — глубоким виолончельным голосом Марины и звонким голоском Лены.
— Лен, о чем это вы секретничали? — не выдержал Генка после одного их разговора, когда Марина и Лена то и дело переходили на шепот.
— Ишь, ты, какой любопытненький. Мало ли о чем надо поговорить женщинам! — с шутливым высокомерием воскликнула Лена. — Ну, ладно, так и быть, скажу: мы говорили о гадании…
— Вот еще! — удивился Генка. — Нашли о чем говорить!
— Марина рассказывала, как ей одна старушка гадала…
— Марина? — не поверил Генка, он был убежден, что Марина никогда не позволит себе связываться с гадалками.
— Ничего ты не понимаешь! — сказала Лена, посерьезнев. — Марина решила погадать, чтобы успокоить мать. Ведь Марина всю войну ждала своего мужа и после войны ждала. А мать мучилась, глядя на нее.
— Ну и что гадалка наговорила?
— Гадалка сказала, что Марина будет счастливой и у нее появится куча детей, — со смехом сказала Лена. — Это было как раз то, что хотела услышать мать.
В этот момент к ним подошел Арвид и дурашливо запел на весь вагон:
Вы видали жениха? Хи-хи-хи да ха-ха-ха! А невеста тоже На него похожа!— Ну и конопатенький! — воскликнула Лена. — Иди сюда, я тебя поцелую!
Частушка понравилась всем обитателям вагона, и Арвид, ободренный успехом, продолжил визгливым голосом:
Лена Гену полюбила, Гена Лену полюбил. Только Гена очень хилый Целоваться нету сил!— И-эх! — диким фальцетом взвизгнул Арвид и прошелся по вагону вприсядку, нелепо, по-гусиному выкидывая ноги в ветхих башмаках.
Лена звонко смеялась, Владимир и Марина улыбались, поглядывая друг на друга. Матвей заливисто хохотал, хлопая от удовольствия по железному плечу лесоруба, который не преминул присоединить крепкий гоготок к общему веселью.
— Ай да парень, елочки! — покачал головой Матвей. — Пушкин, да и только! Ишь как вывернул, палки-моталки! Прямо-таки жук навозный, забодай тебя овца!
Николай тоже смеялся, но осторожно, чтобы не разбудить кашель, притаившийся в легких. Тихонько, сдержанно посмеивался старичок. Только один Генка сердился на Арвида за то, что тот обратил на них общее внимание. Быть в центре внимания Генка не хотел, но его самолюбие сладко щекотало сознание, что Леночка не одернула Арвида и тем самым как бы признала, что между ней и Генкой действительно что-то есть.
А Арвид продолжал выкидывать коленца, смешной, нескладный. Усердствуя, он так сильно выбросил ногу вперед, что брякнулся на спину, это еще больше развеселило весь вагон, и даже больной на секунду открыл глаза, но тут же снова опустил веки.
— Он очень забавный, твой приятель, правда? — сказала Лена. — Где вы с ним познакомились?
— В Красноярске, — буркнул Генка, недовольный тем, что Лена проявляет слишком много интереса к Арвиду. Его так и подмывало рассказать о том, с чего началось их знакомство, но Генка все же не стал делать этого.
— Не обижайся на него. — Лена опять взглянула снизу вверх, и это чуть запрокинутое лицо волновало Генку. — Насчет твоей слабосильности он явно сфальшивил. Видно, что ты спортсмен!
Генка тщеславно покраснел. Первый раз его назвали спортсменом, хотя он действительно занимался спортом, но бессистемно, без тренеров, потому что таковых в поселке не имелось.
— Ну, ладно, расскажи еще что-нибудь о себе, — попросила Лена. — Мне хочется знать всешеньки-все.
— Я уже и так много рассказывал, — смутился Генка. — Да и что интересного может быть в маленьком поселке? Ведь я еще ни разу по-настоящему не видел города…
— Неужели? — искренне удивилась Лена. — А откуда тогда ты знаешь музыку из опер и оперетт? Я слышала, как ты их насвистывал.
— Ну и что? — Генка пожал плечами. — Я ведь слушал радио и играл в духовом оркестре. У меня даже здесь есть труба.
— Правда? Это такая дудочка, похожая на горн? — Глаза Лены радостно заблестели, будто она, наконец, нашла то, что долго искала. — Что бы ты ни говорил, меня чутье никогда не обманывает. Я знала, что ты не такой, как все!
Эти слова опять польстили Генке, но он все же возразил:
— Мне кажется, что в нашем вагоне только Владимир Астахов не такой, как все. Я всегда думаю, что у него есть какая-то тайна.
— Владимир Астахов? Это красивый дядечка, который ухаживает за Мариной? Он интересный, но… Как бы тебе это сказать? Он… какой-то перегоревший.
Удивительно, но точно такое же ощущение было у Генки, когда он впервые увидел Владимира. Правда, теперь слово «перегоревший», пожалуй, уже не так подходило к Астахову: в последние дни он заметно изменился. А вслух Генка сказал:
— Все равно ты посматриваешь на этого «красивого дядечку», это даже Арвид заметил.
— Что может заметить мальчишка! — запальчиво и высокомерно воскликнула Лена и пальчиками потрогала Генкину руку. Это неожиданное ласковое прикосновение электрическим разрядом прошло сквозь тело Генки. — Нет, Владимир не мой герой. Мне нравятся такие, как ты. Знаешь почему? Потому, что ты… как будто летишь вперед. В тебе есть парус…
Лена говорила лестные для Генки слова, не глядя на него, она лепила его портрет из первых впечатлений, своего женского чутья и прозорливости. Генка был на седьмом небе.
— Но я бы не вышла за тебя замуж, — вдруг со смехом сказала она, а глаза были грустные.
— Почему? — Генка сразу упал с небес.
— Ты совсем еще маленький. — Это были остро ранящие слова, потому что для Генки в тот момент не было ничего обиднее сознания своей постыдной молодости. — Тебе еще надо расти и расти.
Если бы Лена смотрела на него с насмешкой, это еще можно было бы вынести, но она глядела ласково, даже с долькой зависти к его молодости, которой сама же и укоряла, и это было невыносимо.
— Владимир, конечно, старше, — мрачно проговорил Генка, невольно оглядываясь: не слышит ли кто-нибудь этот унизительный для него разговор.
А Лена почувствовала его беззащитность, она понимала: ей можно говорить что угодно — ей все простят.
— Скажи, Гена, сколько мне лет?
Генка растерялся. Он думал, что ей примерно столько, сколько и ему, — семнадцать.
— Семнадцать? — Лена невесело покачала головой. — Мне уже двадцать!
Двадцать! Ну и что же! Лене можно было простить и двадцать!
— Двадцать, — повторила она. — А иногда я чувствую себя раза в полтора старше. Ощущение, что жизнь проходит мимо… Уже четвертый год не отхожу от отца. И порой начинает казаться, что не выдержу…
— А с матерью вы переписываетесь? — неосторожно спросил Генка.
— Нет, конечно. Но я разыщу ее. Я ей поднасолю!
— Зачем? — удивился Генка.
— Как зачем? Она меня, как собачонку, бросила.
— Теперь, наверно, ничего не поправишь. Да и мстить нехорошо…
— Вон, какой ты добренький! — зло бросила Лена. — Она мне еще заплатит. Она жила в свое удовольствие, а за удовольствие надо платить!
И снова Лена отдалялась от него, уходила в какой-то холодный, неуютный мир, не похожий на тот, я котором жил Генка Майков. Леночкин мир казался переплетением геометрических фигур — треугольники, призмы, пирамиды пересекались там между собой с унылой и недоброй правильностью. И как Лена, которая могла быть такой женственной, такой ласковой и искренней, как она могла уходить в этот холодный, скрежещущий мир!
— Ты о чем думаешь? — спросила Лена. — У тебя лицо такое, будто ты в яму падаешь.
— Я? Я ничего… — смутился Генка.
— Завидую я тебе! Знаешь, когда я вижу студентов, мне всегда становится грустно. Наверно, потому, что знаю: мне-то уж студенткой не быть.
— Я еще не студент, — Генка попытался уравнять их положение.
— Ты обязательно поступишь в институт. Потом пойдешь работать, откроешь какое-нибудь новое месторождение. А я… я буду просто чьей-то женой, домохозяйкой. Ты хоть поздороваешься, когда встретишь меня на улице с толстым, солидным мужем?
Слушать это было невыносимо. «Ну как она может жить с такими мыслями?» — думал Генка. И чтобы заглушить горечь, он торопливо заговорил:
— Вот увидишь, еще все у тебя изменится. Подлечат отца — и поступишь куда-нибудь… — Он хотел сказать: «Приезжай в Москву. Я буду ждать тебя. Хоть всю жизнь», но устыдился этих слов, вспомнив, что и Москва и институт для него еще вилами на воде писаны. Может, приедет — а прием уже закончен… И Генка, краснея, спросил:
— Ты дашь мне свой свердловский адрес?
Лена покачала головой.
— У меня нет никакого адреса. Я вообще не знаю, где буду жить. Если устроюсь на работу, может, дадут общежитие…
— А где ты работала в Новосибирске?
— Лаборанткой на заводе. — Она помолчала. — И ничего не видела, кроме работы да больного отца. Все девчонки на танцы, в кино, в парк, а я… я ведь тоже живая! Вот ты влюблялся в девчонок в школе? Говори!
— Влюблялся, — торопливо пробормотал Генка, силясь представить себя на месте Лены: что бы он делал, как жил? Это и представить-то было страшно!
— И я хотела, чтобы в меня влюблялись. Я ведь уже была совсем взрослая. Неужели вы все не понимаете этого? Или вы все чурбаки, а только прикидываетесь живыми людьми?
— Я не прикидываюсь… — беспомощно и жалко сказал Генка. — Эх, если бы ты жила в нашем поселке! Я бы помог тебе, я бы сам пошел работать!
— Если бы, если бы… А мне без «если бы» встречались почему-то подлецы. Одному поверила, а он попрекнул меня больным отцом. Обожглась. Думала: ну теперь уж никому не буду верить. Но снова, дуреха, поверила… Ведь хотелось мне верить, понимаешь ты это или нет?!
Генка сник. В его воображении возникли эти люди, эти обязательно мерзкие люди. Мордастые, с бегающими глазками, с потными руками. Генку передернуло от ярости и отвращения, и разом все потухло, померкло, но он отважился взглянуть на притихшую Лену, увидел, что губы у нее чуть вздрагивают… И любовь, и жалость, и благородство всепрощения захлестнули наивное и открытое добру сердце Генки. И если бы Лена сказала сейчас: «Прыгай!», он мгновенно перемахнул бы через брус и, распластавшись, полетел в упругую от скорости пустоту.
— Отец тебя кличет, — подкралась сзади старушка и потрогала Лену за плечо, стрельнув все понимающими глазками в Генку. — Белья чистого мне приготовь. После Омска, как стемнеет, переодену его, горемычного…
Но до Омска пятьсот веселый в тот вечер так и не дотянул, вконец выбив из колеи уже попрощавшегося со всеми старого учителя.
Заскрипели тормоза, и знакомый лязг буферов прокатился по составу до последнего вагона. Если бы пятьсот веселый забросили на правую сторону разъезда, это было бы понятно и обнадеживающе. А здесь, слева, кроме высокой насыпи и луга, ничегошеньки не было.
— Тут мы и будем куковать, — объявил Арвид, быстро оценив обстановку. — Эх, пятьсот веселый, черт бы тебя побрал!
Видно, не только Арвид угадал длительную стоянку, намерения пятьсот веселого по мельчайшим приметам распознали и обитатели других вагонов. Предприимчивые пассажиры, соскучившиеся по горяченькому, развели костры, смастерили рогатки, и скоро в закопченных котелках и ведерках забулькало, задымилось походное варево.
Деловито засуетились Николай и Матвей. У Ивана Капитоновича в сундуке-чемодане оказалось штук десять сырых картофелин, прошлогодних, чуть сморщенных, но еще вполне пригодных в пищу. Лесоруб извлек еще вдобавок две золотистые луковицы, такие огромные, что каждый обитатель вагона счел своим долгом потрогать и подержать их в руках. Арвид даже понюхал лук и восхищенно причмокнул.
— Сварим супец! — поблескивая глазами, объявил Матвей, разжигая аппетит и любопытство пассажиров. — Заправим салом, пальчики оближете, елочки зеленые!
— Это уж перво-наперво, чтоб похлебка была. Мы в лесу без горяченького не обходимся, про гудел лесоруб и спрыгнул на землю, чтобы размять ноги. — И чаек обожаю. Только покрепче и погуще, и всон тогда не тянет, и настроение доброе. — Тут Иван Капитонович основательно крякнул, выражая таким способом свое хорошее отношение к былым таежным пиршествам и сетуя на ограниченность вагонных возможностей.
А место, где остановился пятьсот веселый, было чудесное. Высокая насыпь сбегала прямо на лужок, совсем зеленый, нехоженый и некошеный. Метрах в пятидесяти от железной дороги уютно кудрявился лес, охвативший небольшое заболоченное озерцо, по берегам которого росла неправдоподобно зеленая трава, какая обычно бывает на топях, и красиво, стройно вздымали вверх свои коричневые бархатные булавы прибрежные камыши.
Возле вагона поднялась веселая суетня. Все выползли на свет божий, в вагоне остался только отец Лены. И его хотели вытащить на свежий воздух, но больной отказался, прошелестел: «Не надо».
Пока Генка и Арвид по заданию Ивана Капитоновича собирали сухие щепки и куски угля, упавшие с проходящих поездов, Владимир и Марина не оглядываясь тихо пошли по лугу. Сначала они держались шагах в полутора друг от друга, потом, уже совсем далеко от вагона, взялись за руки. И вскоре синее платье Марины и белая рубашка Владимира слились в одну точку и исчезли из виду.
Поликановна в это время набросилась на лесоруба за то, что тот неумело и расточительно чистил картошку.
— Дай-ка сюда ножик, — потребовала она и Иван Капитонович безропотно отдал свою финку, на рукоятке которой виднелись коряво выжженные буквы «И. К. К.», удостоверявшие принадлежность ножа Ивану Капитоновичу Корневу. — Чистишь так, будто войны на тебя не было. Полкартошки загубил, ирод ты здоровенный!
И старушка, поджав блеклые морщинистые губы, показала класс. Почти не отрывая ножа от картофелины, она проворно сняла серпантинно-тонкий слой кожуры, свисавший спиралью чуть не до земли, потом выколупала острием глазки и повертела чистенькую, влажно сверкавшую картофелину перед большим пористым носом восхищенного лесоруба.
— Во дает наша мамаша! Елочки мои зелененькие! — восхитился Матвей, который с утра побрился и выглядел прямо-таки молодцом. — Как она тебя подрубила, Капитоныч! Под самый корешок подгрызла!
— Так, стало быть, — захохотал лесоруб, явно любивший находить в людях таланты, понятные и приятные ему. — Руки у меня, так скать, одеревенели в лесу. Другой раз жену надумаешь погладить, а она сердится: цепляешь, мол, своими мозолищами. Вот такая штука, туды-сюды!
А старушка разохотилась и очистила всю картошку, подогреваемая восхищенными взглядами и восклицаниями, потом властным голосом дала указания — когда и сколько солить, как нарезать лук — и опять пошла в вагон, к больному, демонстрируя свою самоотверженность и самоотречение.
Костер разжигал Иван Капитонович, он делал это обстоятельно, со знанием всех тонкостей, и можно сразу было представить его среди огромных сосен и елей, в глухой и пахучей дальневосточной тайге.
Генка, Арвид и Лена затеяли играть в салочки. Удивительно, но маленькая Лена оказалась быстроногой, увертливой и неугомонной, так что в роли догоняющего почти все вримя приходилось быть Арвиду. Бегал он совсем плохо, злился, что никого не может догнать, и скоро совсем выдохся, в изнеможении упал на траву. Чтобы поддержать игру, Генка поддался ему, Арвид шлепнул его рукой, а сам снова с воплем упал на землю:
— Лежачего не салить!
А Генке было того и надо. Он помчался за Леной, которая перед игрой сбросила туфли и теперь стремительно убегала от преследователя.
— Догоню! — завопил Генка, ощущая в каждой клеточке своего тела разбуженный древний зов охотника.
— Слабак! — Лена обернула к нему разгоряченное лицо и вдруг споткнулась о кочку, упала, покатилась по траве и замерла, лежа на спине и раскинув руки. Короткое ситцевое платьице задралось.
Генка замер как вкопанный. Загар на ногах Леночки, золотистый, нежный, постепенно таял и переходил в молочную белизну…
Это было наваждение. Нужно было немедленно отвернуться, чтобы прогнать его, но Генка смог отвести глаза только тогда, когда рядом раздался чужой и ненужный голос Арвида:
— Жених и невеста поехали за тестом!
Услышав голос читинца, Лена замедленным движением, словно нехотя, протянула руку:
— Помоги!
Наваждение медленно отступало, освобождая Генку из своего цепкого, навязчивого плена. Лена встала, незнакомо посмотрела на Генку синими до черноты глазами и улыбнулась.
Арвид очутился рядом с ними, почуяв, что «жених и невеста» сделали еще один шаг к сближению.
— Лю-бовь, лю-бовь! — противным голосом запел он, подняв одну руку вверх, а другую прижав к сердцу.
Лена улыбнулась, а Арвид, польщенный этим, сделал стойку на руках, задрыгал ногами, на которых чудом держались ветхие башмаки, но потерял равновесие и упал на спину.
— Эх ты, чучело! — Генка обрадовался возможности показать свои физкультурные таланты. — Смотри, как надо работать!
Он разогнался и сделал сальто вперед, чувствуя во всем теле удивительную упругость и легкость, зная, что рассчитанно взлетает в воздух и точно опускается на землю.
— Здорово! Браво! — Лена захлопала в ладоши.
А Генка, разгоряченный похвалой, сделал еще одно сальто, но теперь уже назад. Тут уж и Арвид не выдержал.
— Вот черт! — В его голосе слышались и восхищение, и досада, и зависть. — Ловко!
— У тебя много талантов, Гена, — с улыбкой заметила Лена. — Только смотри, не разбрасывайся по мелочам, а то потеряешься!
— Липовые таланты! — заверещал Арвид, которому явно хотелось развенчать приятеля и хоть в чем-то перещеголять его. — Давай, Лена, я принесу тебе камышовые палочки? Хочешь?
— Давай, неси, — вместо Лены сказал Генка, чтобы отделаться от Арвида. — Только если потонешь в болоте, я тебя вытаскивать не буду!
— Фью! Не потону! — И Арвид по-журавлиному зашагал к болоту.
— Слушай, Гена, ты все-таки жил в городе. Ты меня обманываешь, — сказала Лена и посмотрела на Генку своими огромными синими глазами.
Только сейчас Генка понял, в чем необычность этих глаз: они располагались не перпендикулярно к переносице, а образовывали как бы небольшой угол, и это расширяло лицо, делало его скуластеньким и таким неожиданно симпатичным, что Генка радостно улыбнулся своему открытию, не обратив внимания на вопрос Лены, в какой школе он учился. И как она только не понимала, что его открытие в сто раз важное школы и всего прочего!
— Обыкновенная школа, — ответил он, наконец, все еще продолжая улыбаться. — Деревянная, двухэтажная. Ничего интересного.
Но Лена по-прежнему удивлялась, что Генка и книг много прочитал, и на трубе умеет играть, и спортом занимается. А что тут удивительного? В поселке было мало развлечений, а потому и книги, и музыка, и спорт неотразимо привлекали Генку, они казались отблесками большой настоящей жизни, к которой ему хотелось хоть чуточку приобщиться.
Потом они говорили о разных пустяках, таких милых и таких значительных, и Генка был счастлив, что Лена не вспоминала о прошлом, не говорила о будущем, она как будто стала совсем девчонкой, и они разговаривали как равные по возрасту и житейскому опыту.
Лена рассказала, что ей приснился ночью страшный сон.
— Я проснулась, а в вагоне темным-темно. А этот, Николаем его зовут, дышит так страшно, вагон на ходу скрипит, качается. Я почему-то очень испугалась, и знаешь, что мне захотелось?
— Не знаю, — сказал Генка, с умилением слушавший Лену. Он живо представил, как она проснулась ночью, такая маленькая и беззащитная.
— Мне захотелось, чтобы ты был рядом… — Лена быстро взглянула на Генку и рассердилась:
— Ну, ты и обрадовался, покраснел! Не буду тебе ничего рассказывать!
— Да я… — Генка оправдательно замямлил что-то в ответ. Он хотел сказать, что не думал ничего плохого, что сам в детстве просыпался вдруг ночью после страшного сна и звал мать, а она будто ждала — обнимала мягкой теплой рукой, и он сразу засыпал, успокоенный и надежно защищенный от всех опасностей, какие только может коварно приготовить ночь для маленького мальчика…
К Лене и Генке приблизились два подвыпивших парня. Один — невысокий блондин с бледно-голубыми нагловатыми глазами, довольно красивый, в хорошем, но слишком просторном пиджаке. Второй — коренастый крепыш — был одет похуже, на нем были несвежая белая рубашка с засученными рукавами, армейские брюки и сапоги.
— Ничего себе красоточка? — громко произнес блондин, останавливаясь в нескольких шагах от Лены и Генки.
— Конфетка, — неожиданно тоненьким голосом отозвался крепыш, оценивающим взглядом обшаривая Лену. — Мы ею займемся на досуге. Вплотную займемся. Ишь ты! Глаза-то — прямо блюдца! — И крепыш засмеялся, довольный таким сравнением.
Лена прижалась к Генке. Шепнула, почувствовав, что он весь напрягся:
— Не надо. Не связывайся. Прошу тебя.
— Боялся я их! — громко сказал Генка, возмущенный наглой бесцеремонностью парней, которые, казалось, его вовсе не замечали. — Видали мы таких!
Блондин остановил на Генке жидко-голубые глаза.
— Леша, ты слышишь? Этот мальчик хочет наколоться. Поможем ему?
— Натурально, — пискнул здоровячок Лешка, поигрывая квадратными плечами Только пойдем еще выпьем да на девочек посмотрим, здесь есть кой-какой товарец. Ауфвидерзейн!
— Мы не прощаемся, — улыбнулся блондин, и они пошли по лугу, наглые, уверенные в себе.
— Гена, зачем ты связываешься? — Лена с тревогой посмотрела вслед пьяным парням. — Ведь они могут избить, изуродовать тебя ни за что ни про что.
— Из-за тебя я готов и пострадать, — засмеялся Генка, хотя ему было не очень весело.
— Я не хочу, чтобы ты страдал. Их двое, а ты один. Они злые и сильные.
— А я что, слабак? — обиделся Генка. — Я их не боюсь. Меня один пленный японец таким приемчикам научил — ай да люли!
Генка не любил драться, но если уж отступать было некуда, умел постоять за себя. В поселке жили здоровенные парни, встречались там и отпетые буйные головушки, кроме крепких кулаков, ничего не имевшие за душой, но и они никогда не трогали Генку Майкова.
Лена слушала его с иронической улыбкой.
— Ладно, ладно, — проговорила она. — Но все-таки давай не будем с ними связываться.
Генка отрезвленно посмотрел на Лену, увидел, что ничуть не успокоил ее, и ему стало стыдно за свое легкомысленное хвастовство, где-то в глубине души Генка почувствовал, что ребяческой похвальбой отрезал себе все пути к отступлению: если раньше можно было избежать стычки с парнями без всякого ущерба для самолюбия, то теперь он просто обязан не бояться их…
— Эй, ребята, елочки зеленые! — раздался голос Матвея. — Давайте-ка сюда! Супец хлебать! Вкусный, просто жуть!
— Пойдем! — Генка взял Лену за руку. — Только давай Арвида прихватим, а то он утонет в болоте.
Но Арвид уже бежал к ним, хлюпая водой в ботинках. Новая рубаха и брюки были в тине. Но чумазое личико излучало победное тщеславие.
— Это тебе, Лена, — торжественно сказал он и припал на одно колено, протянул ей целый пучок камышовых палочек с красивыми бархатными головками. — Чуть не погиб ради Елены Прекрасной!
— Иди к костру, рыцарь, — улыбнулась Лена, принимая подарок. — Кстати, приглашаю вас на торжественный обед!
— А-а! — Арвид поднялся и алчно втянул воздух. — Бежим быстрее, а то нам ничего не достанется!
— А вот и ребятки! — обрадовался старый учитель, уже успевший поесть. — Возьмите мою миску и ложку. Я их очень тщательно вымыл. А вашего отца, девушка, кормит бабуся.
— Толковая у нас Анна Поликановна, — сказал лесоруб. — Жаль, что, это самое, в религию верит. Но старому человеку это прощается, так скать.
Иван Капитонович, Матвей и Николай ели из одного солдатского котелка, строго соблюдая очередность. Особенно сосредоточен был Иван Капитонович. Дождавшись своей очереди, он подносил ложку ко рту, подставив под нее огромный ломоть хлеба, не проливая ни одной капли. Жевал лесоруб неторопливо, основательно, желваки мерно вздымались под коричневой задубелой кожей. Матвей хлебал суп со вкусом, щеки его порозовели. Один Николай ел суетливо, шумно дул на ложку, разговаривал с набитым ртом.
— Давайте есть из одной чашки, — предложила Лена, — устроимся здесь, поближе к костру.
— Нет, я подожду, — заявил Арвид. — Из котелка вкуснее.
Лена поставила миску прямо на траву, принесла четыре огромных куска хлеба, предложенных лесорубом, и положила их на газетку. Генка благоговейно следил за этими нехитрыми приготовлениями. Есть с Леночкой из одной миски — это казалось ему неслыханной близостью!
— Ну что ты? — нетерпеливо позвала Лена. — Давай есть. Или ты неголодный?
Генке казалось, что он никогда не ел ничего вкуснее этой незатейливой похлебки. Они ели весело, обжигались, не очень-то тщательно пережевывали, ели так, как едят молодые люди, не знающие никаких диетических запретов.
Потом был чай, гениально приправленный дымком костра. Оказалось, что «супруга Степанида» положила в сундук Ивана Капитоновича пачку заварки, и он с детской радостью обнаружил это.
И теперь лесоруб пил уже третью кружку, еще больше подобрел и смотрел вокруг ясным взглядом большого ребенка.
Арвид, как всегда, отличился. Он уплел целый котелок похлебки, у него лоснились губы, щеки, руки и даже глазки блестели маслянистой блаженной сытостью.
Самыми последними принялись за ужин Марина и Владимир. Они, наверное, не замечали никого, хотя вполне доброжелательно разговаривали со всеми. Марина стала словно бы еще красивее и моложе. Но было заметно, что она еще не верит своему счастью, что скорее удивлена и встревожена, чем обрадована любовью, которая так неожиданно встретилась ей в этом поезде.
— Я рада за Марину, — тихонько сказала Лена, а потом вдруг вспомнила:
— Ты обещал мне поиграть на трубе.
— Может, не сегодня? — попытался увильнуть Генка. С оркестром он бы играл сколько угодно. Но играть одному…
— Ну, хоть немножко, — настаивала Лена. — Самую чуточку. Знаешь как это интересно!
— Ладно, сыграю, — сдался Генка. — Только я уже дней двадцать не брал трубу в руки, звук будет плоховатый.
— Пустяки! — И Лена обрадованно хлопнула в ладоши.
Генка быстренько взобрался в вагон, вынул из чемодана трубу, любовно протер раструб носовым платком и пробежал пальцами по упруго податливым клапанам.
У бруса он задержался и оглядел луг, усеянный людьми, которые казались веселыми и беззаботными. Вольно дымились костры. «Похоже на цыганский табор», — подумал Генка и тоже почувствовал себя свободным и беззаботным.
А вечер был чудесный. Солнце еще не село, хотя тени от вагонов и цистерн уже захватили большую часть луга.
— О-о, — увидев Генку с трубой, протянул Иван Капитонович. — И музыка у нас есть, это самое. Все как у людей. Живем по всем правилам, так скать.
Даже Марина и Владимир, видящие, казалось, лишь друг друга, проявили некоторое любопытство, и до Генки долетели слова Владимира: «Славный парень, даже завидно». Это и обрадовало и немножко обидело Генку: в слове «славный» ему послышалось что-то добренькое и покровительственное.
— Пойдем подальше, а то толпа набежит, — Генка махнул в сторону головы состава.
— Поиграй здесь, Гена, — попросил Матвей, в глазах которого при виде трубы зажглись искорки мальчишеского любопытства. — Все развлечение будет. А то мы от этого дурака и впрямь одурели, елочки-сосеночки!
Генка почувствовал, что будет играть хорошо. Бывали у него моменты, когда он был уверен в этом. Так было в самый первый День Победы. Ах, как легко и красиво игралось в этот желанный, выстраданный и гордый день!..
Генка сел на шпалу, лежавшую у насыпи, потрогал пальцами клапаны, почувствовал знакомое и волнующее прикосновение мундштука к губам и «прогнал» гамму от нижнего вибрирующего «соль» до пронзительного, почти невозможного «ре» третьей октавы. Этот звук повис в вечернем ясном воздухе как туго натянутая струна. Продержав высокую ноту столько, сколько было нужно, Генка так же стремительно скользнул вниз и снова протянул нижнее контральтное «соль».
— Как здорово! — Огромные синие глаза Лены сияли.
— Лихо ты сварганил, туды-сюды, — одобрительно пробасил Иван Капитонович. — Прямо как на гору взобрался и вниз стреканул. Лихо, что тут и говорить!
— Ай да Гена наш! — Матвей от избытка чувств похлопал вагонного музыканта по плечу. — Давай-ка еще что-нибудь, уважь нашего брата!
А Генка сидел, перебирая клапаны, и не знал, что сыграть, чтобы понравилось всем. Потом взглянул на удлиняющиеся тени и заиграл малороссийскую «Солнце низенько», протяжную, чуть грустную песню, варьируя ее при каждом повторе. А последний раз лихо разбавил мелодию синкопами и оборвал на высокой ноте.
Неожиданные на этом полустанке звуки трубы привлекли целую толпу слушателей, среди которых Генка с тревогой увидел ухмыляющегося здоровяка Лешку и его приятеля блондина. С ними был еще какой-то тощий, высокий, но согбенный субъект в кепке с вывернутым вверх козырьком. Под козырьком виднелась челка, по диагонали разрезавшая убогий прямоугольничек лба. Лена тоже заметила парней и с тревогой взглянула на Генку.
— Все будет в порядке, — Генка подмигнул Арвиду, хотя эти слова предназначались Леночке. Он заиграл мелодии из «Сильвы».
— Молодец, — прошептала ему на ухо Лена, и он почувствовал ее теплое нежное дыхание. — Ты жуткий симпатяга. А на губах у тебя колечко отпечаталось.
— Это от мундштука, — пояснил Генка.
— Ну, потешил ты нас, парень, так скать, — растрогался лесоруб. Он даже развел своими ручищами, показывая всем: смотрите, мол, радуйтесь.
И тут Генка явственно услышал сдавленный голосок Лешки:
— Этого духача нужно приструнить. Научился дудеть, маменькин сынок, и задается.
— Дударь, мой дударь молодой! — гнусаво пропел субъект в кепочке, и только сейчас Генка увидел, что у него явно перебитый, свороченный набок нос.
«Наверняка в драке своротили, — подумал Генка. — А если он боксер? Худо мне будет…» Но внешне постарался ничем не выдать своего растущего беспокойства, поднес трубу к губам и заиграл «Неаполитанскую песенку» Чайковского. Жаль, что не было хотя бы баяна для аккомпанемента, приходилось просто выдерживать паузы. Но грациозная «Песенка» понравилась всем пассажирам пятьсот веселого, которые давно не слышали ни музыки, ни песен. Даже старая Поликановна несколько секунд постояла у бруса и, ослабив платок, прислушалась к звукам трубы.
А вечер наступал незаметно, мягко, такой домашний, теплый, обволакивающий. Солнце освещало только верхушки деревьев, а над дальним, еле видным отсюда озерком уже парил легкий туман. Генка понял, что играть больше не нужно, к такому вечеру подходила бы музыка, прилетающая издалека, волшебно смягченная расстоянием.
— На сегодня хватит, — сказал он, поднимаясь, — когда-нибудь еще сыграю…
— Эй, комсомолец, а в ящик сыграть можешь? — громко прогнусавил парень с челочкой.
Лешка и блондин засмеялись.
— Ты зачем так, это самое? — растерянно спросил Иван Капитонович, и блаженная улыбка сползла с его лица. — И парень ты вроде как все, толковый, так скать, а глумишься. — Лесоруб по доброте душевной даже польстил блатному парню.
— Не обращайте внимания, Иван Капитонович, — сказал Генка и вместе с Леной прошел мимо парней, ощущая на себе их взгляды.
…Поздним вечером Лена пошла помогать Поликановне переодевать отца, а Генка сидел на откосе и вспоминал о доме. Внизу сидели двое, но в сумерках Генка не мог разобрать кто. Голоса звучали приглушенно. Он прислушался. Да ведь это Марина и Владимир!
— Твоя жена была красивая? — Марина спрашивала так, будто заранее знала, что Владимир ответит утвердительно.
— Красивая, — помедлив, подтвердил Астахов.
— Может, встретитесь — и все уладится?
— Нет!
— Почему же?
— Она любила не меня. Теперь-то я понимаю: ей нравился сын известного профессора Астахова.
А я хочу быть не только чьим-то сыном, но и самим собой.
— Ты поссорился с отцом?
— Просто не хочу быть его тенью. Ему это не нравится. Возможно, он в чем-то и прав… Но мне надоело еще со школы: «Володя, а профессор Астахов случайно не твой отец?» Мой, конечно, мой! Но разве я от этого лучше, умнее? Ума, как видишь, не хватило даже на то, чтобы доказать свою правоту…
— Не мучай себя. Ты сделал все, что мог. И я уверена: в Москве тебя поддержат. Это же нелепость — строить по проекту, который устарел еще вчера.
Астахов что-то ответил совсем тихо, Генка не расслышал. Он хотел уже уйти, но тут голос Владимира стал чуть громче:
— …Я вот пришел в свою пустую комнату. И в душе — тоже пустота. Никогда еще не было со мной такого. Бессильным себя почувствовал, ни на что не годным. Был бы, думаю, на моем месте настоящий сильный парень, он бы им доказал. А я…
— Володя! Зачем ты так говоришь!..
Ах, какой голос у Марины. В нем было все — и боль, и любовь, и укоризна. Так вот каким голосом говорит женщина, когда сна любит! Что-то дрогнуло в Генке, как будто этот прекрасный голос был обращен к нему.
А Владимир продолжал:
— …И вдруг стук в дверь. Пришел человек, которого я меньше всего ожидал увидеть. Прораб Кузеванов. Здоровенный упрямый молчун. Он был мне почему-то неприятен. Но делать нечего, гость все же, пригласил его в комнату. Посидел он, помолчал и говорит: «Рабочие об вас жалеют». И снова умолк, только хлебный шарик в руке катает. Так мы и просидели с ним минут сорок. Стал прощаться. А на самом пороге опять: «Рабочие, Владимир Борисович, об вас сильно жалеют. И я с ними заодно». И сразу мне легче стало…
— Все будет хорошо, вот увидишь…
Голоса стали тише, невнятнее. А Генка был счастлив, он радовался за этих двоих, так нежданно нашедших друг друга. В его душе звучал прекрасный любящий голос Марины…
Пятьсот веселый не двинулся и на следующее утро. Он стоял на прежнем месте, теперь уже освещенный солнцем с левой стороны. И снова синевато задымились костры, и снова по мягкому лугу бегали ребятишки, бродили женщины, сидели кружками и покуривали мужчины. Но уже не было вчерашней безмятежности и спокойствия. Безделье, ожидание, неуверенность томили и нервировали пассажиров, спешивших добраться до цели.
К вагону подошли двое мужчин, которых Генка приметил еще в Красноярске. Они пытались взять билеты без очереди, но были с позором изгнаны пассажирами. Оба, видимо, уже давно не были трезвыми. Закисшие глаза, многодневная щетина на щеках, неопрятная одежда…
— Слушай, парень, — обратился к Генке один из мужчин, дохнув гнусным запахом перегара. — Мы собираем деньги на телеграмму. Самому министру пошлем!
— Распишем, как железная дорога над нами измывается, — добавил второй, тщетно стараясь свернуть цигарку дрожащими руками. От похмельной слабости на висках у него выступили толстые извилистые вены, несвежее лицо воспаленно блестело от липкого пота.
«Может, и впрямь пошлют телеграмму, — подумал Генка. — Ехать надо. Ой, как надо ехать!» Он нашел в кармане два рубля и сунул мужчине. Тот бросил неподдающуюся цигарку и довольно проворно схватил деньги.
— Вы прямо скажите, что собираетесь в Омске похмелиться, — раздался сзади язвительный ломкий голос Владимира Астахова. — Вот вам трешка, и топайте отсюда, чтоб духу вашего не было!
Дружки исчезли, а Генке стало не по себе — опять эта дурацкая доверчивость…
— Хорошая погодка? — у бруса появился старый учитель.
— Даже слишком хорошая, Василий Сергеевич, — отозвался Владимир. — Давайте выходите на прогулку.
Смешно и трогательно было смотреть, как старичок с отчаянной решимостью парашютиста спрыгнул на землю. Не стоило бы ему этого делать — ноги у него были уже неверные, неупругие. Но Василий Сергеевич не разрешал помогать себе. Старался все делать сам.
Вскоре они с Астаховым прогуливались возле вагона и оживленно разговаривали. До Генки иногда долетали слова «вечная мерзлота», «грунты в оттаявшем состоянии», «торфомоховой покров» и всякие малопонятные термины. Владимир говорил о каких-то новых принципах строительства на Севере, об устаревших проектах, и Генка был уверен, что старый учитель будет убеждать Астахова бороться до победного конца. Ну и правильно! Если Владимир прав, ему надо доказать свою правоту во что бы то ни стало.
К брусу просеменила Поликановна, посмотрела на старого учителя и заявила с явным одобрением, что для нее было редкостью:
— Наш старый-то! Каким молодцом ходит! И спина у него не круглится, в горб не идет. Ох, а у меня спина прямо колесом к земле пошла. И хотела бы разогнуться, да моченьки нет…
— Опять запела старушенция! — засмеялся Николай, не упускавший случая ее подковырнуть. — У тебя, бабуся, сил на четверых хватит. По вокзалам шастаешь в одиночку, подмоги ни у кого не просишь. До ста лет прокоптишь за милую душу!
Старуха ужалила Николая колючим взглядом, но тут же покачала головой, примолкла, наверно, прикидывала про себя, что до ста лет прожить не худо бы.
— А что ему горбиться? — продолжала она после маленькой паузы, не отвечая на выпад Николая. — Жизнь у него ученая, спокойная. Благодать!
Генка хотел возразить ей, что Василий Сергеевич и в тюрьме сидел при царе, и с белыми воевал, но тут в вагон взобрался тот, о ком шел разговор.
— Вот, папаша, наша бабушка говорит, что у вас не жизнь, а малина, — сказал Николай старому учителю, который, по обыкновению, сразу же взялся за книжку. — Дескать, одна тишь да благодать…
— Да, да, — рассеянно сказал Василий Сергеевич. — Обыкновенная жизнь. Работаю, учу ребятишек…
Генка был обижен таким ответом. «Обыкновенная». Если бы ему, Генке, испытать хотя бы половину того, что испытал старый учитель!..
Тут Генка увидел Лену — и забыл обо всем остальном.
На Лене были туфельки на высоком каблуке, и Генка простодушно похвалил их.
— Обожди, вот приедешь в Москву, оденешься так, что к тебе не подступишься, — с улыбкой сказала Лена, все же довольная, что Генка заметил обнову.
— А разве я сейчас плохо одет? Лена прыснула в кулачок:
— Ты наивный. Просто жутко наивный. Вот Владимир хорошо одет. У него есть вкус.
— Ну и ладно. — Генка, никогда не обращавший внимания на одежду, был слегка обижен. — Подумаешь! Плевал я на все ваши наряды. Мне и так хорошо. — Он вспомнил, с какой любовью мать собирала его нехитрые вещички. Пусть они не очень хорошие, но других не было, и поэтому никто в семье не думал о том, красивы эти вещи или нет.
— Ну, прости, я пошутила. — Лена положила руку ему на плечо.
— Ладно, — буркнул Генка, оттаивая.
— А где ты успел загореть? — спросила Лена. — У тебя загар прямо-таки южный, как будто ты из Сочи едешь, а не с Дальнего Востока.
— Наш поселок на одной параллели с Харьковом находится, — похвастал Генка. — У нас только зима холодная, а летом загорай сколько хочешь.
— Да ты вообще смуглый, как цыган, — Лена пристально взглянула ему в глаза. — Я тоже хочу стать такой. Пойдем позагораем?
— Пойдем! — обрадовался Генка.
И они побежали к леску, который кудрявился совсем недалеко, рядом с озерком.
Местечко они нашли замечательное. Кусты со всех сторон окружали уютную полянку. Мягкая трава приятно освежала босые ноги, туфли оба сняли, когда бежали сюда.
— Пусть только ноги у меня загорают, — Лена легла на траву и, ничуть не смущаясь, вздернула платье до самых плавок. — А лицо я буду защищать.
— А мне все равно, — Генка снял с себя рубашку, майку и сжал кулаки у плеч.
— Ты и вправду сильный. — Лена с откровенным восхищением разглядывала атлетическую фигуру Генки, его крепкие округлые плечи, рельефные мускулы на груди, четкую сетку мышц на животе. — Действительно, одежда тебе не очень нужна.
— Опять про одежду! — отмахнулся Генка и лег рядом с ней. — Терпеть не могу эти тряпичные разговоры.
— А знаешь, я сейчас закрыла глаза и представила тебя в шикарном костюме, в белой рубашке с галстуком, в блестящих черных, обязательно черных, туфлях. Ты просто не представляешь, каким бы ты был парнем!
Генка не успел представить себя таким элегантным, потому что услышал голос здоровяка Лешки:
— Они где-то тут. Я сам видел.
Генка мигом надел туфли, натянул майку и рубашку. Лена испуганно одернула платье и встала рядом с ним.
— Пойдем быстрее к вагону! Но было уже поздно.
— Обожди, дорогуша, — из кустов вышел парень с челкой, за ним показался квадратный Лешка, а последним на полянку выскользнул блондин, которого Лешка называл Юркой.
Парни лениво, гуськом шли через поляну. Юрка держал руку в кармане. «Только не нож!» — взмолился Генка, и лицо матери, доброе, озабоченное, мелькнуло в его памяти.
В этот момент сзади хрустнули ветки, Генка оглянулся, и ему показалось, что в кустах мелькнул стриженый затылок Арвида…
— Загораете? — спросил парень с челкой и вдруг схватил Лену за руку.
Генка не услышал вопля Леночки, он видел только острый подбородок парня, и правая рука как будто сама нашла цель. Генка даже почувствовал податливое движение челюсти, перекошенной точным ударом. Парень упал на спину, крестом раскинув руки.
— Беги к вагону! — крикнул Генка и с дикой первобытной радостью понял, что Лешка совсем не умеет драться. Здоровяк левой рукой ухватил Генку за воротник рубахи и по-деревенски размахнулся правой, доверчиво и роскошно подставив все лицо. Прямой удар — и лицо Лешки как будто осело на Генкину руку, прилипло к ней, здоровяк сделал маленький шажок вперед и мягко повалился набок, уткнув в траву блаженное лицо, какое всегда бывает у нокаутированных.
И тут же жгучий скользящий удар в щеку заставил Генку отпрыгнуть в сторону — это подоспел Юрка, перепрыгнувший через упавшего парня.
— Бежим, Гена! — крикнула Лена.
Но бежать было некуда. Путь к вагону отрезал Юрка, умеющий драться. И хотя Лешка все еще валялся на траве, парень с челкой пришел в себя и осмысливал происшедшее.
Нельзя было терять ни секунды.
— В-же-ех! — взвизгнул Генка так, как учил его пленный японец, пружиной подбросил все тело и ударил Юрку ногой прямо в грудь. Юрка отлетел назад, упал и извивался на траве, хватая воздух побелевшими губами. Генка и сам после выпада поскользнулся и упал, больно подвернув ногу, и тут же почувствовал страшный удар в плечо: это парень с челкой подло метил ботинком в лицо, но промахнулся.
Генка стремительно вскочил на ноги.
— Ах ты, гад! — сжав зубы, он бросился на бандита, уже не думая об обороне. Даже ложный, раскрывающий удар левой парень не смог отразить, как следует, а удар правой, в который Генка вложил всю тяжесть корпуса и всю свою ненависть, опять пришелся в нижнюю челюсть. Парень упал на четвереньки, голова его бессильно повисла между руками.
Но удирать было нельзя. Сбоку на Генку шел ошалевший от удара, а потому еще более страшный Лешка. А блондин Юра, бледный как смерть, хищно изогнулся и вытащил из кармана нож.
— Сюда, сюда! — послышался где-то за кустами голос Арвида.
Это был спасительный голос, но тут Юрка прыгнул вперед, Генка хотел схватить его за руку, но не сумел, и лезвие с треском, будто это было полотно, распороло ему мышцу возле локтя. Генка все же успел ударить Юрку в грудь. Блондин отскочил, и это дало Генке выигрыш во времени, а может быть, и спасло его. Рядом Лена туфлями молотила здоровяка Лешку по лицу, но тот поймал ее за руку и отшвырнул в сторону.
И тут на поляну с быстротой, которую от него трудно было ожидать, выскочил Иван Капитонович. Остервеневший Юрка замахнулся и на него, но лесоруб легко перехватил руку бандита, вывернул ее, и нож воткнулся в траву. Юрка завизжал от боли.
— Готов, — спокойно произнес Иван Капитонович. — Дней пять драться не будешь.
Тем временем Матвей и Владимир Астахов прижали махавшего кулачищами здоровяка Лешку к березе, и тот взмолился:
— Он первый полез!
Матвей врезал ему разок, но уже без злобы, и Лешка завыл, размазывая по щекам слезы и кровь из разбитого носа:
— Чо деретесь? Он первый полез!
А Генка стоял, зажимая рану. Он только сейчас содрогнулся, вспомнив парализующий блеск ножа.
— Хватит с них, — еле выдавил Генка, чувствуя, что у него дрожат ноги и кружится голова. — Им тоже досталось…
— Нет уж, — деловито заявил Иван Капитонович, — мы еще с третьим, так скать, по душам не поговорили.
Третий — парень с челкой, не ожидавший такого разгрома, — стоял, дико поводя глазами, и словно ждал, что вот-вот кто-нибудь ему поможет. Лесоруб сгреб его ручищей за шиворот, повернул задом и дал пинка. Кривоносый покатился по траве, потом поднялся и побежал прочь, ломая кусты.
Иван Капитонович взял за руку Лешку, который сразу стал меньше и как будто уже в плечах, подвел его к блондину и внушительно произнес:
— Попробуйте еще напакостить. Прибью, это самое. Ох, и больно прибью, так скать. Это вам не с Генкой драться, туды-сюды, паршивцы вы этакие! Трое на одного да еще с ножом. Глаза б мои на вас, паразитов, не глядели. Брысь отсюдова! — Иван Капитонович даже сплюнул в сердцах, потом поднял финку, брезгливо повертел ее и швырнул далеко в кусты.
Побитые, сникшие, Юрка и Лешка побрели к составу. Они переругивались, наверно, укоряли друг друга за то, что не смогли проучить какого-то «маменькиного сынка».
— Давай я перевяжу тебя, — сказала Лена. Ее всю трясло.
Владимир разорвал Генкину майку, сказав, что даст ему другую, и подал лоскутки Лене.
— Если ранили друга, пе-ре-вя-жет подруга горячие раны его, — гнусавенько пропел Арвид, перевирая нарочно мотив песни.
Генка хмыкнул, махнув здоровой рукой, ему были приятны целебные прикосновения ловких Леночкиных рук.
— Э-э, Гена, ты Арвиду скажи спасибо — это он нас позвал, елочки зеленые, — проговорил Матвей, со знанием дела следивший за тем, как Лена бинтует руку.
И только тут Генка вспомнил шум за своей спиной в начале драки. Так это все-таки был Арвид!
— А как ты тут оказался? — спросил Генка.
— Гулял! — беспечно отозвался Арвид, однако покраснел.
— Нехорошо шпионить, мальчик! — усмехнулась Лена. — Но ты нас выручил. Спасибо, рыженький!
— Ох ты и жук навозный! — догадался наконец о миссии Арвида и Матвей, хлопнув парнишку по плечу. — Но позвал ты нас вовремя. Я эту шпану знаю. Им человека измордовать — что раз плюнуть!
Возле вагона их с нетерпением ожидали Николай и старый учитель.
— Без потерь? — пошутил Василий Сергеевич, он сразу заметил повязку на руке Генки.
— Вернулись все на свои базы, — отозвался фронтовик и тут же расписал учителю и Николаю, как Генка мужественно сражался с бандитами.
Но, к общему удивлению, старичок отругал Генку.
— Вы знали, что они могут на вас напасть, — сердито сказал он. — К вашей храбрости надо бы прибавить и предусмотрительность.
Генке пришлось проглотить этот упрек. А Василий Сергеевич подумал несколько секунд и вдруг забеспокоился:
— Я видел этих хулиганов. Они мимо нас проходили. Мне кажется, они будут срывать злобу на других пассажирах. Я знаю уголовников, правда, дореволюционных. Но и после революции они вряд ли лучше стали.
— Это точно, — поддержал Матвей. — Они думают, в таком поезде нет ни Советской власти, ни милиции. Наверняка не бросят пакостить, елочки!
— Не позволим, это самое, — сказал лесоруб. — Пойдемте навестим наших «крестников», так скать. Проверим ихнее поведение.
К «крестникам» пошли все, кроме женщин. Лена сказала Генке:
— Ты не ходил бы. Смотри, какой бледный!
— Ничего! — бравирнул Генка, хотя чувствовал себя неважнецки. — Схожу.
Хулиганы, оказывается, обосновались в предпоследнем вагоне. Об этом охотно сообщил встретившийся мужик, у которого из носа буйно клубились волосы.
— Они уже всем обрыдли. Такие бандюги, что не приведи господь. Девок гоняют, а студентика одного совсем зашпыняли.
— А вы что смотрите? — сердито спросил Владимир. — Собрали бы мужчин и сдали этих бандитов в милицию.
— Э-э, брат. Они могут ножичком чик-чик сделать, — начал оправдываться мужик. — А кому охота на тот свет раньше времени попадать?
— Эх, — закипятился Матвей. — Попались бы мне такие на фронте…
— Спокойно. — Василий Сергеевич поднял вверх руку. — Разберемся без горячки.
Старый учитель шел бодро, решительно, и Генка просто гордился им.
По дороге, узнав, в чем дело, к «делегации» присоединились еще несколько человек: видно, хулиганы уже всем надоели.
Первым в вагон взобрался Иван Капитонович. Генка вскарабкался последним — побаливала рука. Юрка, Лешка и кривоносый сидели в углу и настороженно смотрели на визитеров. Вид у них был не очень воинственный.
А в другом углу сидел на чемодане тощенький паренек в очках, явно растерянный, ничего не понимающий.
— Говорят, обижают тебя, парень, эти жулики? — спросил у паренька лесоруб.
Парнишка вскочил.
— Пусть, пусть издеваются, — лицо студентика пошло пятнами. — А я все равно их не боюсь! Я их презираю!
Паренек кричал, а вид у него был жалкий и затравленный. С верхней полки подала голос какая-то лохматая тетка:
— Ой, студент! Лихо тебе аукнется. Молчал бы уж, бедолага.
— Хватит молчать! — рявкнул лесоруб, да так, что сидевшие бандиты вскочили. — Правильно, сынок, говоришь, это самое. Они рады, когда их боятся.
— А что с ними делать? — Матвей почесал затылок. — Куда их девать? Кругом лес да поле, елочки зеленые! Не будешь всю дорогу за ними надзирать.
— Да-а, — протянул Василий Сергеевич. — Положение у нас глуповатое. — Он немного подумал, а потом предложил:
— Пусть они идут пешком. До Омска уже не очень далеко. Пусть прогуляются, подумают обо всем…
— Правильно! — воскликнул мужик, показавший вагон с хулиганами, и даже бросил кепку на пол. — Правильно, братцы! Ей-богу, правильно!
А непокоренный студентик сначала стоял и хлопал близорукими глазами, потом взволнованно заговорил, чуть заикаясь:
— Я знал, товарищи! Я знал, что они трусы. Знал, что их накажут! — Тут он подбежал к Ивану Капитоновичу и протянул свою тонкую руку:
— Спасибо вам!
— Пустое, так скать, — расплылся от похвалы лесоруб. — Просто все хотят, чтобы все было как у людей. Хоть где ты, это самое, хоть в вагоне, хоть в тайге таежной. Правильно я говорю?
— Правильно, чего там, елочки зеленые, — поддержал лесоруба Матвей и прикрикнул на хулиганов:
— Собирайте монаточки — и прости-прощай, Маруся! Ножками пройдитесь, елочки, раз котелки плохо варят!
— Чо пристали? — заныл Лешка, наверное, самый бестолковый из тройки.
А Юрка и парень с челкой быстро сообразили, что спорить бессмысленно.
— Пойдем, — буркнул Юрка, и они, нагнув головы, пошли к двери.
Бабы и девчата хихикали, глядя им вслед. Возле первого вагона Юрка все же обернулся и погрозил всем кулаком. Но это было уже только смешно.
— А ты, Капитоныч, прямо-таки красивую речь сказал, елочки зеленые, — засмеялся Матвей. — Оратор, да и только!
— Ну, какой там оратор, это самое, — скромно потупил взор лесоруб и начал крутить пуговицу на своем парадном кителе. — Но бывает, что надо сказать слово. Могу произнесть. Складно там или не очень, но глупостей не скажу, уволь, так скать.
А Генка едва дошел до вагона: у него опять закружилась голова. Лена сразу заметила перемену:
— Пойдем, у меня есть бинт, сделаем тебе настоящую перевязку. Жаль, что йода нет.
— Спирт у меня имеется, так скать, в наличии. — Иван Капитонович обрадовался возможности предложить свою помощь. — Спиртом можно промыть рану, это самое. Мы в лесу всегда так делаем.
В вагоне Лена осторожно сняла повязку, которая еще не успела присохнуть к ране. А Иван Капитонович с бутылочкой спирта стоял рядом и качал головой в такт каждому движению девушки,
— В грудь, видать, хотел, аспида этакая, — определил лесоруб. — Но ты, Гена, молодой, все заживет быстрее быстрого.
Когда Лена, прикусив от старания язык, начала промывать рану спиртом, Генка невольно замычал от резкого пощипывания.
— Больно, конечно, больно. — Кукольное личико Лены сморщилось, как будто больно было ей. — Потерпи немножечко.
— Вот и порядок, — удовлетворенно сказал Иван Капитонович, он спрятал спирт в чемодан и пошел на вольный воздух, где его уже поджидали партнеры по игре в дурачка.
— А ты здорово дрался, — проговорила Лена. — Губы у тебя стали как ниточки, а лицо белое, страшное. Ты испугался?
— Не помню. Честное слово, не помню. Наверно, испугался. Особенно вначале и когда нож увидел. Я вообще драки ненавижу. Сейчас мне кажется, что это не я дрался, а какой-то другой человек…
— Я за тебя боялась. — Лена прижалась к его плечу, потом вдруг запрокинула голову:
— Ну, поцелуй же…
Но потрясенный Генка как раз в этот момент увидел, что на него смотрит отец Лены. И было в этом взгляде такое, что заставило Генку отстраниться от девушки.
— Ты что? — еще не открыв глаза, слабым, ждущим голосом спросила Лена.
— Не надо, только не сейчас… — Генка не мог определить, что выражал взгляд больного.
Лена резко оттолкнула его, посмотрела в сторону носилок и поняла все.
— Ну и ладно! И зачем я только связываюсь с малышами!
Она спрыгнула вниз, почти скатилась по насыпи на траву и пошла вдоль состава, маленькая, разгневанная и решительная.
Генка, растерянный и униженный, стоял на середине вагона. «Что же я наделал? — в отчаянии подумал он. — Но неужели я должен был поцеловать Лену на глазах у отца?..»
От огорчения у него заныли раненая рука и плечо. Генка сразу почувствовал себя одиноким и забытым. Даже Арвид, надоедливый Арвид, гулял где-то. Ну и пусть! Все это не имеет никакого значения, главное, быстрее бы добраться до Москвы!
И Генка уныло полез на свою полку. Ну как Лена не могла понять, что он не может, не смеет поцеловать ее на глазах у отца! А как у нее было с теми? Все в Генке содрогнулось от жгучих и обидных видений ревности. Еще недавно казавшийся себе сильным и отважным, он чуть не заплакал от жалости к себе.
— Спит наш паренек? — послышался голос Василия Сергеевича.
— После такой передряги неплохо и поспать, — усмехнулся Владимир Астахов.
Генке не хотелось ни шевелиться, ни говорить, и он притворился спящим.
— Вы знаете, Василий Сергеевич, — снова заговорил Владимир вполголоса. — Когда этот Гена смотрит на меня, мне становится даже как-то неловко.
— Отчего же?
— Я и сам не знаю, как это объяснить. Он смотрит так, будто я какая-то знаменитость, будто ждет от меня чего-то необыкновенного…
— А это, пожалуй, неплохо, — заметил старый учитель.
Они спустились на насыпь и ушли, разговаривая. До Генки долетело только слово «наивный». И хотя старичок произнес его скорее даже с одобрением, Генка расстроился: «наивный» — ну разве это не обидно! Эх, как хорошо начался этот день, и как плохо он заканчивался!
Поезд, видимо, готовился продолжать свой путь. Пассажиры начали заполнять вагон.
— Эй, Генка, ты не захворал, елочки? — Это Матвей неслышно залез на полку.
— Нет, не захворал, — буркнул Генка. В бесхитростном вопросе попутчика ему почудился какой-то намек. Может, тот уже знает о его позорном положении отвергнутого?
А Лена сейчас наверняка стоит с Арвидом у бруса. Можно даже и не проверять. Генка приподнялся — и точно: Лена стояла с Арвидом, а тот размахивал своими бестолковыми руками, такой противный, веселенький.
— Ты, парень, прихворнул или так отдыхаешь? — услышал Генка голос Ивана Капитоновича. — Рука ноет небось, это самое?
— Да ничего у меня не ноет. — Генка с досады дернулся всем телом.
— Может, тебя лихорадит? Так у меня спирт есть…
— Ничего мне не надо. — Генка хотел сказать это грубо, но голос его прозвучал, действительно, как у больного.
Лесоруб еще что-то предлагал, но Генка замотал голову пиджаком, чтобы отрешиться от всего. Надоедливый этот Иван Капитонович! Сидел бы себе с Николаем да про барсуков рассказывал. «Так скать», «это самое», «все как у людей». Откуда он знает, как все должно быть у людей? Даже вон старый учитель и Владимир не очень-то знают, как должно быть у людей…
«Да чего это я?! — вдруг спохватился Генка. — Может, правда заболел? Как я мог подумать плохо об этих людях! Как мог!»
Генке стало стыдно.
…В Омске провожали старого учителя. Николай суетливо помог ему собрать вещички и вызвался сам отнести чемодан Василия Сергеевича до вокзала.
Иван Капитонович загрустил. Когда Василий Сергеевич подал ему руку, лесоруб бережно пожал ее, потом порывисто обхватил старичка за плечи.
— Вот и туды-сюды, так екать, — пробормотал он и быстро отошел к другому брусу, на ходу доставая похожий на простыню, накрахмаленный и тщательно выглаженный платок.
— Прощайте, Василий Сергеевич, спасибо вам за все, — сказал Владимир.
— Я верю, что у вас все будет в порядке, — проговорил старый учитель.
Тут вперед высунулся Арвид.
— Старикам везде у нас почет! — воскликнул он и подал руку.
— До свидания, Арвид. Хотелось бы с тобой встретиться лет через десять. Очень любопытно посмотреть, каким ты станешь.
— Поживем — увидим, будьте обо мне спокойны, — высокомерно и солидно заверил Арвид.
Подошла и Генкина очередь.
— До свидания, дружок. Как ваша рука?
— Чепуха. До Москвы заживет.
— А в институт вы поступите. Позвольте мне вас заранее поздравить.
— Спасибо. — Генка осторожно пожал сухую руку старого учителя. — До свидания, Василий Сергеевич.
Старичка пошли провожать Николай и Астахов. Все смотрели им вслед. И только Иван Капитонович махнул рукой:
— Да ну вас совсем, это самое. — И опять пошел к другому брусу. Через минуту он вернулся и виновато сказал:
— Ослаб я душой, это самое! Слезы сами наружу лезут, без спросу, туды их сюды. К старости это, думаю. Не иначе, так скать…
Арвид и Генка уже хорошо изучили капризный, взбалмошный нрав пятьсот веселого и могли почти всегда довольно точно определить, что взбредет в безграфиковую голову этого сумасброда.
А поезд мчался по степям, по безупречно ровной колее, лихо заломив дымную кепку-гриву. И, глядя на проплывающие равнины, ребята воображали себя то лихими конниками, то ковбоями, мчащимися на горячих конях по бескрайней сибирской прерии.
— В Ишиме будет смена бригады, — авторитетно заявил Арвид, вытянув шею, которую он ухитрился не отмыть даже в санпропускнике в Омске. — Надо провизией запастись, а то на одном хлебушке долго не протянем.
— О, Ишим — хорошая станция, елочки зеленые, — заулыбался Матвей. — Когда я ехал в Иркутск в культурном поезде, вышел в Ишиме — и глаза разбежались. Вот базар так базар! И караси, и окуни, и всякая рыба без названия!
— Мяса бы сейчас! — Арвид хищно клацнул зубами. — Строганинки. Ох, и рубанул бы я!
— А из рыбы строганину тоже делают? — спросил Генка.
— Отличник должен все знать! — нарочно громко возвестил Арвид и оглянулся на Лену. — Только где деревенским знать про строганину!
Но Генке неинтересно было даже и ругаться с Арвидом. После размолвки с Леной он чувствовал себя одиноким и никому не нужным.
А Лена кокетничала, как казалось Генке, со всеми, особенно с Владимиром Астаховым. Так и вертелась возле Марины. Ну, ясно для чего: чтобы попасть на глаза «этому красивому дядечке»!
Генка страдал. Ему казалось, что все видят, как он страдает, и от этого было еще больнее и обиднее.
Арвид, черт полосатый, радуется. Все время заговаривает с Леной, и она смеется, слушая его дурацкие шуточки.
Первый раз в жизни ревность больно сжала Генкино сердце.
— Гена! — вдруг услышал он голос Марины. — Гена, подойди, пожалуйста, сюда.
Марина сидела на чемодане рядом с Владимиром. При виде унылого Генки Астахов хотел сделать недоумевающее лицо, но у него ничего не получилось, и он пошел к двери курить свои шикарные сигареты. Ну, ясно, и Астахов знает об его, Генкином, позоре.
— Что случилось? — спросила Марина, когда Генка подошел к ней и стал так, чтобы Лена не видела его лица.
— Ничего не случилось. — Генка хотел сказать это спокойно, но голос предательски дрогнул. — Все в порядке.
— А ты помирись, — горячо шепнула Марина, обдавая его теплом карих глаз. — Леночка ведь тоже переживает. Я это чувствую. Не веришь?
Генка не верил. Но он обрадовался сочувствию. Добрая душа, Марина! Вот человек, ради которого можно сделать все. Если бы она только попросила о чем-нибудь!
— Спасибо, — поблагодарил Генка, немного воспрянув духом.
— Ура! Ишим! — заверещал Арвид. — На горизонте Ишим! Да здравствует ишимский базар!
Лена подошла к брусу и стала рядом с Арвидом, а тот разошелся пуще прежнего и без остановки сыпал свои плоские шуточки.
Генка пошел к другому брусу, где курил Владимир Астахов.
— Страдаешь? — спросил вдруг Владимир, хотя он никогда первым не заговаривал с Генкой.
— Я? Ничуть, — храбро соврал Генка. — Просто надоело ехать.
— А ты не горюй, — Владимир не поверил бодрому голосу Генки.
— Я и не горюю, — рассердился Генка, хотя Владимир говорил с ним очень мягко и доброжелательно. Раньше Генка обрадовался бы этому. — Все чепуха, кроме Москвы.
— Ну, ладно, страдай в одиночестве, — проговорил Владимир. — Иногда это полезно.
Поезд остановился, как всегда, бесцеремонно. Лена с испуганным криком повалилась на Арвида, а тот, счастливый и довольный, уберег ее от падения и победно оглянулся на Генку, чуть придержав девушку в своих объятиях.
— Пойдем, — буркнул Генка Арвиду, когда Лена пошла проведать отца. Она так и не взглянула на Генку.
Паровоз, пыхтя, отвалил от пятьсот веселого, а это означало для всех: можно не спешить, спокойно дойти до базара, никто не отстанет.
Солнце все так же нещадно палило с высоты, раскаленное добела. Генка посмотрел себе под ноги, и сердце его отметило, что и здесь, за тысячи километров от дому, растут такой же жилистый подорожник, та же лебеда и неприхотливая полынь. Ах, эти милые знакомые травы! Как они ухитрялись прорасти сквозь песок и гравий железнодорожного полотна? Как стойко они выживали там, где, казалось, невозможно было выжить.
— Вот так базар! — восхитился Арвид, окидывая взглядом прилавок под легкой крышей. — Чего здесь только нет!
Весь прилавок был заставлен ведрами, кастрюлями, горшками, кринками, чашками и тарелками. Для всей этой посуды, разномастной и разнокалиберной, даже прилавка не хватило, и многие торговки разместились на земле под открытым небом.
— Картошка! — завопил Арвид таким голосом, будто увидел не обыкновенную картошку, а ананасы или бананы. — Смотри, какая разваристая! И пар идет!
Сидевшим в основном на хлебе и воде ребятам базар показался сказочно роскошным. Дебелые тетушки в платочках на все голоса расхваливали свой товар, но без этого можно было и обойтись, потому что пассажиры пятьсот веселого хватали все подряд.
Генка купил большущую чашку картошки у тетки, которая показалась ему наиболее опрятной.
— Берите, ребятишечки мои, — скороговоркой застрекотала тетка, опрокидывая картошку на свежевымытый огромный капустный лист. — Картошечка у меня сладкая, земля на огородике с песком, вот картошка и получается вкусная да рассыпчатая…
А в это время Арвид уже ожесточенно торговался с теткой, перед которой стояла гигантская чугунная сковорода с жареными карасями. У торговки было плоское лицо, напоминавшее по форме рыбу, которой она торговала, а выпученные глаза тоже были как у рыбы, только что вытащенной из воды.
Ну как можно было после сухомятки, после многодневного поста устоять при виде золотистой поджаристой корочки, которая даже на взгляд казалась хрустящей и удивительно вкусной! Арвид торговался азартно, с плосковатыми шуточками-прибауточками. Тетка еще сильнее вытаращила глаза, ошеломленная таким потоком красноречия.
— Да бери ты, черт говорливый! — рассердилась, наконец, она, от злости маленькая пуговка ее носа зарделась, как вишня. — Бери или не мешай торговать. Не засти свет другим людям.
Арвид ловко схватил со сковороды двух самых лучших карасей, приблизил их к остренькому носу и зажмурился от наслаждения:
— Красотища! Вкуснятина! Но я шее равно хочу мяса. Мяса и зрелищ!
Последние слова Арвид выкрикнул так, что соседние торговки вздрогнули. А старуха, торговавшая чудовищно дорогими малосольными огурцами, перекрестилась и ахнула:
— Припадочный! Припадочный как есть!
Мяса на прилавках не было. Но тут ребята увидели устроившегося на отшибе мужика в кепчонке, такой рваной, будто он снял ее с огородного пугала и надел на себя специально для того, чтобы привлекать покупателей.
— Мясо! Свежая говядина! — ржавым голосом скрипел мужик. — Покупайте свежую говядину.
Он сидел на старом ящике, а на другом ящике лежал самодельный противень из толстенного железа. На противне виднелась груда жареного мяса, разрезанного на маленькие кусочки.
За торговцем, спиной к спине, сидел какой-то мужик, здоровый и молодой, судя по широким плечам и крепкой толстой шее. Мужик выпивал прямо из бутылки, запрокинув кудлатую голову.
— Почем? — поинтересовался Арвид, жадно оглядывая горку мяса, которое показалось Генке подозрительным, по крайней мере, оно мало походило на «свежую говядину».
Мужик медлил, не называл цену. Короткими пальцами, на которых поблескивала рыбья чешуя, он разворошил горку мяса, прикидывая на глазок покупательную способность по-тюремному остриженного долговязого мальчишки. Внешность покупателя не показалась ему внушающей доверие, и он лениво процедил сквозь зубы:
— Не возьмешь ведь. Топай отселева.
Но Арвида было не так-то легко отшить. Скороговорка его прямо-таки мелкой дробью посыпалась на продавца.
— Тьфу, анафема проклятый! — выругался мужик, улучив паузу. — Закрой свое поддувало! — Тут он разделил мясо на три кучки и назвал такую цену, что даже видавший виды Арвид позеленел от негодования.
— Ты шутишь, дядя?!
— Не хочешь, так топай туда, откуда принесло, голь перекатная. — Мужик безразлично поскреб щетину на щеках, медных от загара.
Генка стоял рядом с Арвидом, обе руки у него были заняты свертками с картошкой и рыбой. Он хотел вмешаться в спор, но тут подошли Владимир Астахов и Матвей.
— Мясо покупаете? — спросил Владимир, бросив брезгливый взгляд на неопрятного мужика и его товар.
— Говядинка у меня свежая, — заторопился мужик, прихорашивая руками кучки на противне: он сразу почуял денежного человека.
Владимир вдруг поднял тяжеленный противень и понюхал «товар».
— Говядинка, говоришь? — Слишком спокойный голос Астахова заставил торговца прижаться спиной к спине здоровенного мужика, опять запрокинувшего голову. — А почему она у тебя тухлая?
— Пшел отселева! — заверещал мужик. — Ходют тут всякие умники! Проваливай своей дорогой!
— Выбрось эту гадость, пожалуйста, — совсем тихо произнес Владимир, и даже Арвид, любивший скандальчики, растерянно отступил и прижался к Генке.
Торговец, схватив сидевшего сзади мужика за плечо, завопил:
— Гришаня! Твово дяденьку родного забижают!
— Кто это? — лениво отозвался пьяный, даже не оборачиваясь. — Вот я ему покажу кузькину мать.
— Пойдем со мной в милицию, — едва разжимая зубы, сказал Астахов. — Там с тебя хорошо спросят.
— Ой, лихо, Гришаня! Ой, лишенько! — взвизгнул торгаш, воздев к небу обе руки. — Допоможи своему дяде родному! — А сам в это время отходил, освобождая дорогу заступнику.
— Га! — зыкнул Гришаня и, наконец, тяжело встал, повернулся к Владимиру. Генке почему-то запомнились четкие черные брови на расплывшемся красном лице с толстыми губами.
— Этот, что ли? — спросил Гришка и сделал шаг в сторону Владимира.
— Этот, — услужливо и мстительно залепетал сзади торгаш. — Этот, Гришаня, этот!
Гришка в рубахе, обсыпанной рыбьей чешуей, навис над Владимиром бесформенной глыбой.
— Кыш отсюда! — рявкнул он. — Сгинь, гнида интеллигентская!
Остальное произошло почти мгновенно. Гришка левой рукой сгреб рубашку на груди Владимира, притянул его к себе, а правым кулаком, скорее, не ударил, а толкнул его с такой силой, что тот пролетел метра три и упал на спину.
— Подержи-ка, — Генка сунул Арвиду свертки, но тот даже не успел взять их.
Нечеловеческим прыжком, будто внутри у него была сжатая и вдруг отпущенная пружина, Владимир подбросил себя на ноги, схватил тяжеленный противень и бросился на ухмыляющегося Гришку.
— А-а! — заорал Гришка, пытаясь защититься рукой, но острый угол противня обрушился ему на голову.
Гришка еще несколько мгновений стоял, потом ноги его подогнулись, голова и руки судорожно мотнулись вперед, и он упал, уткнувшись лицом в жирную мягкую пыль.
— Гришаню убили! — завыл торгаш бабьим голосом и почему-то не побежал, а пополз в сторону на четвереньках.
А Владимир, бледный, безмолвный, стоял и разглядывал противень, который все еще не выпускал из рук. Потом отбросил железо в сторону и только тогда увидел Генку и Арвида. Лицо его передернулось.
— Уходите, ребята. Прошу вас. Уходите, — голос у Астахова был потухший, и Генка увидел, что глаза у него почти белые.
— Оклемается. Не боись, Володя, — уверенно сказал Матвей, потом бросился в сторону и извлек из-за груды ящиков упирающегося торгаша. — Не уйдешь, пакостник паршивый, елочками ты прорасти! Будешь отвечать по закону!
Толпа хлынула к месту происшествия.
— Изверг! Убил ведь насовсем! — кричала какая-то баба. — Взаправду убил. Головной череп проломил насквозь!
— Пропустите, граждане! — раздался деловитый возглас.
— Милиция!
Два милиционера пробирались сквозь толпу.
— Бежим, а то в свидетели потащат, — Арвид потянул Генку за руку. Генка отмахнулся от приятеля, в этот миг он уже не помнил, что Арвиду надо избегать встреч с милицией.
Один из милиционеров, черноволосый и строгий, бросил оценивающий взгляд на Гришку и произнес так, будто ожидал другого исхода:
— А ведь жив. Э-э! Да это ведь Гришка Харламов, старый знакомый!
Потом поглядел на Владимира:
— Ты?
Владимир ничего не ответил.
— Вижу, что ты. А зачем? Убил бы насмерть — схлопотал бы срок за такого… — Черноволосый милиционер несколько секунд подбирал подходящее слово, но так и не нашел и только махнул рукой, показывая, что Гришка — совершенно отрицательная личность.
Подошел и второй милиционер, высокий, веселый, с пшеничным чубом, выбившимся из-под фуражки.
Тут выступил вперед Матвей:
— Вот они вместе гнильем, пакостью торговали. А потом этот Гришаня драться полез, ну и ответ получил! — Матвей все еще держал за шиворот торгаша, который притих и только озирался.
— Пусти его, — сказал веселый милиционер. — Теперь никуда не убежит.
Матвей неохотно отпустил торгаша.
Гришка вдруг зашевелился, с пьяным мычаньем приподнял кудлатую голову и показал измазанное пылью и кровью страшное, бессмысленное лицо. Потом сел и прохрипел:
— Чо тут такое? Га?
В толпе засмеялись.
— Достукался, Харламов? — строго спросил смуглый милиционер. — Предупреждали ведь тебя не раз и не два.
— Га! — Гришка опять обхватил голову руками и начал раскачиваться.
Тетке, которая кричала про пробитый насквозь «головной череп», сделала поворот на сто восемьдесят градусов:
— Так ему и надо, этому Харламову! Хулиган наипервейший. Тюрьма давно по нем плачет.
Милиционер с пшеничным чубом поднял руку, призывая к тишине:
— Кто свидетель правового нарушения, то есть форменной драки?
Толпа быстренько стала рассеиваться. Генка оглянулся — Арвида как ветром сдуло.
— Я свидетель, елочки зеленые! — бодро заявил Матвей и тихонько сказал Генке:
— Иди в вагон. Тебе ехать надо!
— Мы больше не будем! — завыл торгаш, зачем-то снимая с головы убогую кепчонку.
— Откуда вы, граждане? — строгий милиционер обращал свой вопрос к фронтовику, поняв, что от человека, ударившего Гришку, ему пока ничего не добиться.
— Мы с пятьсот веселого, — с готовностью пояснил Матвей. — А если по-правильному, то с пятьсот двадцать седьмого. Вон он на путях стоит…
— Придется вам сделать остановочку, — заявил милиционер, а потом посмотрел на Гришку, который продолжал сидеть на земле. — Поднимайся, Харламов, хватит прохлаждаться.
Гришка, кажется, немного пришел в себя, он со стоном начал подниматься и после долгих трудов встал наконец на ноги.
Владимир очнулся от оцепенения и сказал Матвею:
— Возьмите мой рюкзак. А чемоданы пусть ребята довезут.
— Можно мне за вещичками сбегать? — спросил Матвей.
— Давайте, гражданин, да побыстрее, я вас провожу.
— Что Марине передать? — Матвей потрогал Владимира за рукав.
— Если захочет, пусть возьмет адрес у Николая, — тихо проговорил Астахов и отвернулся.
Фронтовик покачал головой и огорченно крякнул.
— Я схожу к поезду, а ты, Сидоров, отведи этих граждан в нашу комнату, — сказал милиционер с чубом и пошел рядом с Матвеем к пятьсот веселому.
А Генка решил обогнать их, чтобы предупредить Арвида.
Молодец Арвид! Он догадался исчезнуть из вагона и без Генкиных предупреждений. Но перед тем как исчезнуть, Арвид успел наговорить с три короба, и когда Генка подходил к вагону, до него долетел встревоженный голос Марины:
— Что же с ним будет?!
Генка не успел ничего сказать Марине — у бруса появились милиционер с Матвеем.
— Его арестуют? — спросила Марина упавшим голосом.
— Может, и срок дадут, — жизнерадостно ответил милиционер. Он окинул вагон профессионально внимательным взглядом. — Наверняка срок дадут. Этот Гришка Харламов у меня давно тут сидит. — И милиционер похлопал себя сзади по шее, показывая, где у него сидит Гришка.
— Какой Харламов? — в глазах Марины затеплилась надежда.
— Отъявленный хулиган. Бьемся с ним года два, а к стенке припереть не можем. Без улик его не ухватишь.
Марина и все пассажиры поняли, наконец, что Владимиру вряд ли грозит опасность. И только Поликановна, оживленная всем случившимся, заявила:
— Чуяло мое сердце — набедокурит этот Владимир. Такой он, без мира в душе. Бедой от него несло…
Слава богу, Марина не обращала внимания на скрип старухи, но Николай не удержался:
— Ладно тебе, старая. Хоть бы тут свой язык присупонила.
— А я что? — Старушка почуяла, что ее никто не поддерживает, и решила достойно отступить. — Это я так, к слову.
Матвей подошел к Марине:
— Просил он передать: адресок московский у Николая имеется.
— Адрес? — Марина даже отступила на шаг и взяла за руку Лену, стоявшую рядом с ней.
— Тут пока разбираться будут, так… чтобы не разминуться, значит, — проговорил Матвей, не глядя на Марину.
Громко вздохнул Иван Капитонович. Обидно было лесорубу, что не все в его вагоне получалось «как у людей».
— Не надо никакого адреса. — Марина быстро собрала в чемодан вещи и сказала погрустневшим обитателям вагона:
— До свидания.
Она поцеловала Лену в щеку и опустилась на землю, где стоял милиционер, не успевший вникнуть во взаимоотношения людей, ехавших в этом вагоне.
— И мне надо идти, елочки зеленые, в свидетели записался, — проговорил Матвей. — Скинь, Гена, мои вещички.
— Да куда ты? — всполошился Иван Капитонович. — Зачем посередь Сибири спрыгиваешь, это самое?
— Прощевай, Капитоныч. — Матвей улыбнулся. — Сибирь — тоже земля советская. А раз советская, я тут не пропаду, елочки-палочки! Специальность моя плотницкая — везде нарасхват.
Он собрал свои вещи, взял рюкзак Владимира:
— Счастливо всем доехать!
И спрыгнул вниз. Пошел, не оглядываясь, за Мариной и милиционером.
— Ну, дела… — прогудел лесоруб и отвернулся. В вагоне сразу стало пусто и неуютно. Даже появление Арвида никого не оживило.
— А чемоданы? Одеяла? — вдруг запоздало вспомнил Николай. — Куда их?
— Владимир просил меня завезти, — отозвался Генка.
— Правильно, — согласился Иван Капитонович. — Гена — парень, который исполнит, так скать.
Потом лесоруб опять погрустил молча и сказал:
— Вот и осиротели мы, это самое. Судьба так распорядилась. Ни этак, ни иначе, а вот так. И не попрешь против нее. Эх-ма!
А Николай, покашливая, подошел к Арвиду и просипел:
— Ты бы, парень, на время схоронился где-нибудь. Милиция и второй раз пожаловать может. Очень даже может. — Как и все в вагоне, Николай уже знал историю беглеца и сочувствовал ему.
— Куда же смотаться-то? — задумался Арвид. — О-о! Вспомнил. За цистернами вагончик, где мылся, там меня никто не застукает!
— Хлеба возьми и карасей, — напомнил приятелю Генка.
— Одного карася я уже съел, — смущенно признался Арвид.
— Возьми второго, я не хочу. — Генка, подавленный и опустошенный, махнул рукой и пошел к другому брусу, чтобы не видеть Марину и Матвея, идущих к вокзалу.
— Гена, — услышал он тихий голос Лены. — Не сердись, пожалуйста…
Твердый комок в груди Генки немножко смягчился.
— Не сердись. Ну…
Она стояла рядом, совсем маленькая, трогательная и незащищенная, и Генка увидел, как вспухли ее губы, как грустно глядят огромные глаза. Этого было достаточно, чтобы переполнить нежностью жаждущее любви сердце Генки.
И теперь уже никто не мог помешать ему прошептать:
— Я тебя люблю…
Он прошептал эти слова и обиделся на них: какие они блеклые, разве они могут выразить все, что творилось в его душе! Встретившиеся руки были умнее, одухотвореннее всяких слов…
А пятьсот веселый понял их, он рванулся вперед, чтобы умчать Генку и Лену от грустной станции, которая отняла у них трех хороших попутчиков.
— …Как хорошо, что ты будешь студентом!
— Еще неизвестно. А вдруг не примут?
— Тебя? Обязательно примут! Завидую студентам! Они всегда веселые, самоуверенные. Посмотришь на них и думаешь, что из жизни, как из книги, вырваны самые лучшие, самые интересные страницы. Обидно…
— И ты можешь стать студенткой! — великодушно воскликнул Генка, для которого в этот момент не существовало никаких преград. — И обязательно станешь! Приедешь ко мне… Мы будем учиться и работать. Ведь многие так живут. А разве мы хуже?
— Нет, Гена. Для студентки я уже старая. Иногда мне кажется, что я прожила целую сотню лет.
Но Генка не слушал эту чепуху. Он убеждал Лену, что их будущее прекрасно, и говорил так горячо, так искренне, что она уже не прерывала его, с мечтательной улыбкой слушая такие милые, такие глупые, такие упоительные слова…
Они не замечали времени и удивились, увидев перед собой Ивана Капитоновича. Лесоруб положил свою огромную руку на плечо Генки и ласково прогудел:
— Ко сну пора, так скать, ребятки. Двери, пожалуй, надо прикрыть. А то дождь-гроза надвигается. Во всю, это самое, полоскать будет. Как бы наш Арвид там не продрог…
И правда, пятьсот веселый неудержимо мчался к горизонту, откуда мрачновато надвигалась тяжелая черная туча.
Генка с трудом отпустил Леночкину руку. Неужели нужно расставаться — это казалось несправедливым и жестоким. Расстаться до самого утра — это невыносимо!
Когда Генка взобрался на полку, в окошечко уже били первые крупные капли дождя, которого жаждала иссушенная зноем Сибирь.
Смолкли разговоры внизу. Уже слышались богатырский храп Ивана Капитоновича и хрипловатое беспокойное дыхание Николая.
Дождь яростно барабанил по крыше вагона, несущегося во мраке. И вдруг Генка почувствовал легкое прикосновение.
— Тише, — прошелестел голос Лены. — Ради бога, тише…
Ожесточенно сверкнула молния, и Генка с восторгом увидел близко-близко лицо девушки. И все исчезло.
— …Ты как будто прощаешься со мной. Я никуда тебя не отпущу.
— У тебя будет другая девушка.
— Не надо мне никого-никого!
— А я исчезну…
— И я с тобой.
— Не говори глупостей. Тебе надо в институт. А мне — в прежнюю жизнь…
— Замолчи! Мы все равно будем вместе! Я напишу тебе сразу, как приеду. До востребования… Слышишь?
— Да… Поцелуй меня. Еще… Креп-че…
А пятьсот веселый с лязгом и грохотом летел в дождливом мраке, подгоняемый ударами грома и синим блеском молний.
— …Мне пора. Ой, уже светает.
— Не уходи!
— Ах, Генка, Геночка. Милый ты парень… Прощай! — Лена вырвала свою крепкую мальчишескую руку из его рук и неслышным гибким движением скользнула вниз.
А Генка еще долго лежал с открытыми глазами, переполненный счастьем, пока пятьсот веселый не убаюкал его стуком колес, который становился все ритмичнее, мягче, неслышнее…
— Разоспался, отличник! Подъем! — резкий голос Арвида заставил Генку открыть глаза. — Подъем! Уже Свердловск!
Генка тряхнул головой, чтобы проснуться окончательно, и все, что произошло ночью, вновь властно овладело им.
Поезд стоял на большой станции. Хотя его приняли не на первый путь, других составов между перроном и пятьсот веселым не было, и взгляду открывалось внушительное темное здание Свердловского вокзала.
Генка быстренько спрыгнул вниз, предвкушая счастье встречи с Леночкой, но ее не было в вагоне. В углу по-прежнему стояли носилки. Нос больного заострился еще сильнее, а щеки облепила серая щетина.
Старушка вдруг воскликнула, всплеснув руками:
— Удрала ведь девка-то! Ах ты, господи, прости! Бросила отца родного!
Генка метнул взгляд в угол, не увидел чемоданчика Лены и похолодел. Так вот почему она прощалась с ним! Что же она натворила!
— Упорхнула птичка! — закричал Арвид. Он, видимо, только что вернулся в вагон, проведя ночь в своем укрытии.
— Молчи! — оборвал его Генка. — Кривляка несчастный!
Генка срывал зло на Арвиде. Зло, недоумение и растерянность. Но он не хотел верить случившемуся, подошел к двери и жадно высматривал знакомую легкую фигурку. Может, побежала на вокзал и сейчас вернется? Но почему с чемоданом?..
— Как же быть, это самое? — Лесоруб, уже совсем готовый покинуть вагон, теперь топтался на месте, не зная, что делать с бедой, какую совсем не ждали. — Куда его-то девать? — кивнул он на больного.
— Снять надо, — просипел Николай. — Да побыстрей. Долго здесь не простоим — даже паровоз не отцепляют.
Как бы в подтверждение этих слов поезд дернулся, протащился вперед несколько метров и опять остановился.
— У-у! Нехристи! Души в вас нет, — вдруг вскинулась старушка. — Снимайте носилки, я с ним останусь. Устрою в больницу. Ах вы, нехристи окаянные!
— Не ругайся, бабка, — виновато сказал Николай и облизнул морщинистые губы. — Снимем счас, снимем. Мы не виноватые. Каждый своим путем едет. Я сам, к примеру, дома уже сто лет не был.
— Берись, так скать, Гена, — Иван Капитонович поставил свой чемодан-сундук на землю. — Берись, пока Поликановна, туды-сюды, соглашается. Я снизу приму. Арвик, подсоби-ка.
Генка с Николаем подняли носилки. И Генка увидел, что из глаз больного ползут на виски слезы — отец Лены понял все.
Иван Капитонович с Арвидом приняли носилки, поставили их рядом с вагоном.
Старушка собрала вещи, перекрестилась, потуже затянула шаль и сползла вниз — слезла сама, отбросив руку, протянутую Арвидом. Каждое движение она делала демонстративно, с таким видом, будто все пассажиры остались перед ней в долгу, который им никогда ничем не отплатить.
— Ну, я пойду к Михаилу свому, — Иван Капитонович смущенно пощипал кустистые пучки бровей. — Всего вам желаю. И тебе, Никола, и тебе, Арвик, это самое. А тебе особливо, Гена, потому как все время ты душу мне тревожил. Похож ты на мово Мишку, здорово похож, аж сердце щиплет. Вот она какая штука. Прощай, сынок.
— До свидания, Иван Капитонович. — Генка достал из кармана «беломорину» и закурил, чтобы не расчувствоваться.
— Иди, иди, Иван, — проскрипела старушка, подсеменив к лесорубу. — Иди с богом. У тебя самого горя хоть отбавляй. С богом иди. — И она перекрестила лесоруба.
Иван Капитонович вздохнул, взял свой сундук и, не оглядываясь, пошел вместе с пассажирами только что прибывшего дачного поезда к подземному переходу, большой, широкий и напряженный. Говорливая шумная толпа дачников охватила лесоруба со всех сторон, и он скоро исчез из виду.
А Генка все еще надеялся, что Лена вернется. Но мимо проходили только дачники, загорелые, одетые с приятной небрежностью. Они чуточку задерживались у носилок, бросали взгляд на восковое отрешенное лицо больного.
И тут пятьсот веселый медленно пополз вперед. Генка заскочил в вагон. Сначала он смотрел на скорбное лицо старушки, но потом по счастливой случайности посмотрел на толпу, текущую в одном направлении с пятьсот веселым, и заметил в этом ровном движении какое-то завихрение. Неужели?! Глаза Генки ввинтились в людскую массу. И — о счастье! — он увидел Лену, она тщетно пыталась пробиться к уходящему поезду.
— Лена! — диким голосом закричал Генка. — Лена! Носилки там, там!
Показывая рукой в хвост поезда, Генка так высунулся за брус, что едва не вывалился из вагона. Лена услышала его, повернула запрокинутую вверх голову, и он только несколько мгновений видел ее заплаканное, напряженное и жалкое лицо.
А пятьсот веселый катился все быстрее и быстрее.
— Что кричишь? — Арвид, конечно, не видел Лену. — Она уже давно по Свердловску гуляет.
— Дурачина ты, она вернулась! — ликующе крикнул Генка.
— Вернулась? Жди! — не поверил Арвид. — Ну, если и вернулась, тебе разве легче?
Только после этих отрезвляющих слов Генка понял, что уже никогда не увидит Лену. Никогда! И никогда не повторится та ночь, такая пронзительно прекрасная… Генка попытался успокоить себя: его письмо найдет Лену, они будут переписываться и обязательно встретятся. Он верил в это, хотел верить. Но колеса железно и неотвратимо выстукивали: «Ни-ког-да, ни-ког-да…»
— Что, Генка, нос к самому низу опустил? — Николай подошел к брусу. — Любовь твоя сбежала? Плюнь, паря! Да таких баб у тебя тыща будет!
Генка ничего не ответил.
А пятьсот веселый все прибавлял скорость и долго-долго мчался во весь опор, как будто за Уралом уже чувствовалась притягательная сила Москвы.
…На следующий день все еще грустный Генка стоял рядом с Арвидом у бруса и смотрел на проплывающие желтые поля, где шла страда. Колхозники вручную вязали снопы. Видно, комбайнов здесь не хватало. Но день был солнечный, радостный, спело золотились нивы, и крестьянский труд издалека казался празднично красивым и приятным.
Пятьсот веселый остановился на маленьком разъезде.
— Слушай, Генка, а почему в наш вагон никто не садится? — спросил Арвид.
— Не знаю, — отозвался Генка, уловив в воздухе запах только что скошенных хлебов. — И пусть не садятся. Нам спокойнее.
— А может, наш пятьсот веселый — это последний пассажирский товарняк? — предположил Арвид. — Тогда мы последние пассажиры пятьсот веселого.
Предположение Арвида было, пожалуй, слишком оптимистично, но оно понравилось Генке.
— Может быть, — согласился он, отметив про себя, что слова Арвида прозвучали так же красиво, как «последний из могикан». — И слава аллаху, что мы последние. Ну что хорошего в этом паршивом товарняке!
Сказал это Генка, и ему стало стыдно. В товарняках действительно не было ничего хорошего, но Генка подумал о своем пятьсот веселом, о людях, которых он узнал здесь, и понял, что уже никогда не забудет это нелепое вымирающее чудовище и будет вспоминать о нем с грустной нежностью.
На свободный путь не очень быстро заходил пассажирский поезд.
— Обгоняет, паразит! — в крике Арвида звучала обычная его неприязнь ко всем поездам, обгонявшим пятьсот веселый.
«Новосибирск — Москва», — прочитал Генка на одном из пассажирских вагонов и вдруг вздрогнул от крика:
— Гена! Арвид! Милые!.. Марина! Неужели?
— Ах вы, елочки зеленые!
— Привет, черти полосатые!
Ну конечно, это были они, бывшие пассажиры пятьсот веселого! Марина, Владимир Астахов и Матвей стояли на высокой площадке у открытой двери, кричали, махали руками.
Генка и Арвид вцепились в брус и тоже завопили что-то ликующе-несуразное.
— Что вы? — подбежал испуганный воплями Николай, но увидел только хвост убегающего поезда, тормозную площадку, на которой скорчившись сидел то ли безбилетник, то ли железнодорожник в брезентовом плаще с капюшоном.
Ребята еще долго не могли успокоиться.
— Эх-ма! — вздохнул Николай, направляясь к своему месту, где стояли чемоданы Владимира Астахова. — Хороший парень Володька. Но гордый, строптивый. А зачем, к чему? Жил бы себе поживал да добра наживал. Да добра у него и так хватает: папаша — профессор, а может, и сам академик. У него этого добра — мне век работать — не заиметь.
— Опять пошел деньги считать, — сказал Арвид.
— Да откуда у него деньги? — удивился Генка. — Он всю дорогу у Владимира просил…
— Много ты знаешь! Есть у него деньги. И еще сколько! Смотри!
Генка без особого интереса посмотрел вниз. Николай действительно пересчитывал деньги. Выражение его лица поразило Генку. Морщинистые губы шевелились, обычно тусклые, глубоко запрятанные глаза теперь красновато поблескивали, а все лицо, сосредоточенно-восторженное, показалось Генке жутким, хотя Николай улыбался. Никогда еще Генка не видел улыбки скупца, не думающего о том, что эту улыбку могут увидеть другие люди. Ох, какое это было полубезумное, сладострастное, страшное и жалкое лицо!
Николай вел какой-то свой, особый счет. Отсчитав несколько бумажек, он засовывал их в один карман, потом снова считал и клал деньги уже в другой карман пиджака, а одну пачку почему-то затолкал в мешок. Толстые пальцы его вздрагивали мелко-мелко.
— Эй, Николай, припрячь подальше! — насмешливо крикнул Арвид.
Николай вздрогнул. Лицо его как будто захлопнулось, запоздало припрятывая пробившуюся наружу суть.
— Вот черт рыжий! Помешал! — с досадой просипел он, потом отвернулся от ребят, запрятал несчитанную пачку денег глубоко в мешок и долго возился, завязывая его.
— Зачем тебе деньги, Николай? — настырничал Арвид. — Без денег ведь лучше, спокойнее.
— Дурак ты, — кудахтнул Николай — он так смеялся иногда. — Вот поживешь с мое, тогда узнаешь, зачем люди живут на белом свете. А зачем люди живут? Чтоб жить-поживать и добра наживать. Раньше все сказки такими вот словами заканчивались. А кто эти сказки сочинял, не дурак был, а в корень глядел.
Арвид посмеивался, ему было все равно, как развлекаться: все лучше, чем ехать молча. А Генка не знал, что сказать Николаю, потому что сам никогда не имел денег и не думал о них. Было только противно: слова Николая казались мокрыми, скользкими и унизительными.
…Будто оправдываясь перед пассажирами за все свои прежние задержки, пятьсот веселый резво домчал их до Казани. Город запомнился Генке кремлем, видневшимся вдалеке, и симпатичной смуглой татарочкой, стоявшей с велосипедом возле переезда. Правда, обидно, что татарочка посмотрела на ребят не только с любопытством, но и с жалостью. Это немного расстроило Генку. И опять встала перед глазами Лена…
— Арвид, а ты хоть немножко помнишь Ригу? — спросил он приятеля, чтобы отвлечься.
— А как же, — отозвался тот. — Конечно, помню.
— А я только на открытке Ригу видел. Башни там красивые — тонкие, как копья…
— Точно, — оживился Арвид и вдруг настороженно спросил:
— Хочешь, я тебе стихи про Ригу прочитаю?
— По-русски или по-латышски?
— По-латышски ты, отличник, не поймешь. Но есть одно на русском…
— Сам сочинил? — поинтересовался Генка.
— Сам, — высокомерно заявил Арвид, чтобы прикрыть свое смущение. — Только ты, хоть и отличник, не поймешь ничего!
— Ну, читай, послушаю.
И Арвид начал читать. Генка не был знатоком, но сразу почувствовал, что в этих стихах идут в обнимку искренность и наивность. Особенно запомнились две строчки:
Башни Риги, вы целились а небо,
А вонзились вы в сердце мое.
— Ну как? — Арвид даже покраснел, что с ним случалось не так уж часто.
Генке стихи, в общем, понравились, но он постарался ответить как можно суше и нейтральнее:
— Ничего. Даже не подумаешь, что оболтус вроде тебя может так сочинить.
Они немножко поругались, но без злости, скорее просто для разнообразия.
— Чего опять не поделили? — просипел Николай, который, как ни странно, стал меньше кашлять, по крайней мере днем. — Заняться вам нечем, вот и плетете… Эх, быстрее бы домой добраться, к мясу, к молочку поближе!
И Николай опять забубнил о барсучьем жире и медвежьем сале, о «пользительности» молока, о том, как добротно и здорово он устроит свою жизнь дома, где, возможно, и женится, если найдет толковую, работящую жену… А Генка в который раз со сладкой грустью вспомнил о Леночке. Эх, пятьсот веселый! Эх, разлучник!.. А колеса беспечно отстукивали километры, тщетно пытаясь убедить Генку в том, что время и расстояние — лучшие лекарства от любви.
Вечером Николай подошел к Генке.
— Слушай, возьми себе костюм, и парнишка пусть себе выберет, что пожелает…
Лицо Николая, перепаханное морщинами, было напряженным, казалось, кашель вот-вот набросится на него.
— Ты о чем, Николай?
— Да о барахле об астаховском.
Генка отступил на шаг и протестующе замахал руками:
— Мне ничего не надо, я все отвезу по адресу. Николай сжал руки перед грудью и зашептал прямо в лицо отступающего Генки:
— Ну, скажи, паря, зачем тебе везти барахло?
Володьке оно и не надобно. Отец у него профессор. Академик! А для меня это — богатство. На курорт мне надо, масло, молоко покупать. И сало барсучье небось дорогое. А, Генка?
— Да замолчи ты! — крикнул Генка, и ему самому стало стыдно за свой визгливый голос: он никогда так еще не кричал. — Ты действительно… — Генка хотел сказать «раб», но едва-едва сдержался. — Я все отвезу по адресу, — твердо повторил он.
Николай вдруг надсадно закашлялся. Лицо его стало почти черным.
Генка залез на полку, где уже сладко посапывал Арвид.
Они проснулись от тишины. Ни разговоров, ни криков, ни топота ног, слышался только звук молотка, которым железнодорожники проверяют колеса вагонов. А вот и сам путеец.
— Какого черта вы здесь отираетесь? — закричал он, случайно заглянув в вагон и увидев ребят. — Приехали. Уже Москва! Шуруйте быстрей в электричку! — И железнодорожник пошел вдоль состава, постукивая молоточком, открывая крючком замасленные буксы.
Неужели Москва? Радость встрепенулась в Генкиной душе. Почти тридцать дней добирался он в этот город своей мечты.
— Арвид, Москва! Ты понимаешь, Москва!
Полусонный Арвид сначала бессмысленно хлопал глазами, а потом с криком «Ура!» спрыгнул вниз, Генка — за ним.
Николая в вагоне уже не было, астаховских чемоданов тоже.
— Шляпы мы с тобой, — запоздало укорил Арвид. — На полку их надо было…
Но, здраво рассудив, они пришли к выводу, что и на полке чемоданы вряд ли были бы сохранней: скорее всего Николаи исчез еще ночью и ребята все равно бы не услышали.
От этих мыслей было, конечно, не легче — не смогли уберечь.
Пятьсот веселый стоял на маленькой дачной станции. Но пустили его, бедолагу, в столичный град Москву. Генка бросил прощальный взгляд на опустевший состав и побежал за Арвидом к платформе, на которой толпились легко, празднично одетые дачники.
Стремительно и ровно подошла электричка. Генка и Арпид, неумытые, нелепые в своей потрепанной одежонке, но совершенно счастливые, развалились на скамейке в полупустом вагоне и жадно вглядывались в лица людей, для которых Москва была привычна, как дом родной. Напротив них сидели старушка, опасливо косившаяся на Арвида, и парень, молодой, ухоженный, красиво причесанный.
Электричка мчалась к Москве, останавливаясь у перронов станций лишь на считанные секунды, потом гудела непривычной сиреной и с породистой мягкостью снова трогалась в путь.
Вместе с толпой они выплеснулись на площадь трех вокзалов, и Генка, забыв все дорожные невзгоды и печали, обнимал Москву. Москва! Его охватил сладкий эгоизм обладания, причастности к Москве.
А Москва была прекрасна. В утреннем воздухе еще пахло хлебом, который недавно развозили по булочным. Веселыми крикливыми стайками стояли мороженщицы — они были прекрасны. Даже выбоины на тротуарах казались чудесными и значительными. И небо, опутанное проводами трамваев и троллейбусов, было приветливым и синим.
— Ну, Арвид, ты куда? — спросил Генка.
— На Рижский вокзал! — гордо заявил читинец, веснушки его сияли.
— Пойдем на прощание съедим по мороженке, — предложил Генка.
Он купил два эскимо и протянул Арвиду три рубля — все, что у них оставалось:
— Я уже добрался, а тебе пригодится.
— Это точно. — Арвид сунул деньги в карман. Они перешли большую вокзальную площадь.
— Пока! — крикнул Арвид и вскочил на подножку трамвая. Трамвай сразу же тронулся, и Генка только на мгновение успел увидеть тонкую шею и стриженый затылок дорожного приятеля.
Генке стало обидно — такое скупое прощание. У него все еще было такое чувство, будто пассажиры пятьсот веселого наказывали ему быть последним опекуном и телохранителем Арвида. Генка вздохнул. Он знал: ему будет не хватать этого ершистого, неунывающего парня. А мир так огромен, что, наверное, уже не встретиться…
Трамвай скрылся за поворотом, и Генка снова увидел Москву и пошел вперед, не зная куда, чтобы окунуться в этот город, в эти желанные улицы.
И тут издалека донесся гудок паровоза. Что-то дрогнуло в груди у Генки: ему показалось, что это гудит пятьсот веселый. Знакомые лица промелькнули в его памяти и прошли через душу. Генка еще раз вздохнул, улыбнулся грустно, и Москва обняла его.
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg

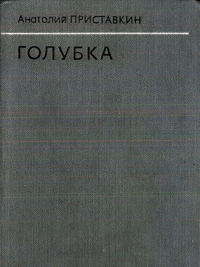

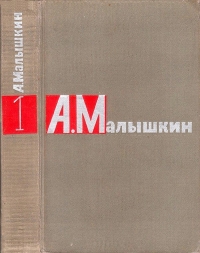
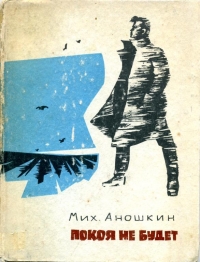
Комментарии к книге «Пятьсот веселый», Анатолий Арсентьевич Левченко
Всего 0 комментариев