Дмитрий Холендро Где-то есть сын Рассказ
1
Он был такой старый, что никто не знал, сколько ему лет. Он и сам забыл. Звали его Харлашей, и кто-то вспоминал, что в былые времена на рыночной площади стоял кабак с зелеными буквами на вывеске: «Харлаша». Тогда купцы солили рыбу в ямах, наспех вырытых возле моря, а какой-то догадливый делец, плюнув на рыбу и на соль, поставил на самом пупке, среди торговой сутолоки, свое питейное заведение.
Продав рыбу, люди шагали — одним шагом — прямо в кабак через сырую чешую на пороге. Мимо «Харлаши» не проходили.
Говорят, кабак назвали в честь его деда, бесшабашного хамсолова и забулдыги, старшего из рода Харлампиев.
Но и Харлаша, живущий ныне на краю Голубиного, был уже таким, что его путали с дедом.
За Голубиной горкой, в трех километрах от села, в море тянулся мысок Харлаши. Две бухты ополаскивали его своими солнечными водами. Они были мелкими, и вода в них светилась. Там любили купаться сельские девушки, скрываясь от ребят. Рыбача на том мысу с бечевой, вроде бы и выследил себе нечаянно Харлаша невесту.
Ходил по морю и катер «Харлаша», таскал скуластые дубы, груженные рыбой из ставных неводов, сипло дудел встречным сейнерам, надо и не надо... С этого катера начиналось товарищество «Сельдь», переросшее в нынешний колхоз.
Но и мыс и катер, кажется, назвали по имени отца Харлаши, лихо поджегшего в свой час кабак на базаре, чтобы оберечь семью от позора. В этой семье не мудрили с именами: всех называли одинаково. И профессию выбирали одну: все шли в море.
Жизнь Харлампиев была простой и несмелой; от моря не отрывались (если можно назвать несмелой жизнь на море).
А может, был Харлампий всего один и это про него одного рассказывали так много, и одной его жизни хватило на все: и на кабак, и на мыс, и на катер.
Хотя Голубиное — большое село, Харлаша жил одиноко, на отшибе. Дом его словно закатился за гору, облепленную с другой стороны ладными домами рыбаков. Как после обвала, у самого моря лежали две каменные глыбы — две неприступные с виду скалы. Угловатые, с трещинами, мрачные... В трещинах росли скользкие зеленые водоросли и жили крабы. Наверху, на острие одной скалы, нашелся пятачок ровного места, и на этом пятачке поставили дом. Кто и когда поставил, этого не мог припомнить даже сам Харлаша. Верно, какой-то чудак.
Однако раз стоял дом, в нем и обитать должны были. Вот здесь и жил Харлаша. У него был сын, но он не знал, есть ли у него внуки: сын ему не писал.
За что обрушилось на него это немыслимое несчастье, он не понимал. Может быть, сын думал, что отца нет в живых?.. Кто знает! А отец все жил.
В доме было две комнаты, совсем пустынных. После смерти жены коверчики, скатерти, салфетки — все, что она нанесла в дом, постепенно загрязнилось, запылилось и улеглось в сундук, словно отслужило свой срок. Цветы на окнах высохли. Одним словом, зайди в дом без хозяина, не узнаешь, бывает ли тут живая душа. Почти всегда открытые настежь окна пропускали сквозные ветры всех направлений, и под крышей дома не удерживались никакие запахи: ни тушеной или жареной рыбы, которую Харлаша готовил в угольно-черном казанке, ни хлебной корочки, которой сладко пахнет всякий дом с утра, ни даже табака, переводимого Харлашей в несметных количествах.
Ветры все выдували.
И только одна вещь говорила о жизни, о любви, о тоске, бушевавших в доме. На старом комоде, опираясь на сухой кирпич поплавка, стояла карточка. Она загибалась в трубку от солнца. Поплавок был выше карточки, серый старый поплавок, оторванный от гигантского невода.
Веселыми, шальными глазами из-под черных бровей Виктор смотрел на отца. Смотрел в короткой — на тот миг, что щелкнул аппарат фотографа, — улыбке. Но миг промчался, и годы промчались, а Виктор все улыбался в комнате, где вырос.
На нем была наглаженная матерью косоворотка. И гитара в руках. С гитарой ходил он к городскому фотографу перед призывом в армию. Это было за год до войны, и Виктору тогда едва стукнуло двадцать. Песни он пел отменно, и Харлаше его хвалили, но старик отмахивался:
— Сам он петь не умеет. Гитара у него — она поет.
А слушать сына очень любил. Отцом он стал поздно, когда бы уж и в деды пора, и никого у него не было теперь, кроме Виктора.
Провожали Виктора в дождь. Говорили, счастливая примета. И верно, на войне его не убили. Может, потому, а скорее всего нет. В приметы Харлаша не верил, хотя дождь хлестал тогда крепкий.
Старик помнил: дождь загнал людей с сельской площади в дома, но молодежь осталась под дождем, и пела, и плясала. И все, кто смотрел на них в окна, сквозь струи воды на стеклах, не слышали ни гармошки, ни пения, а только видели, как открывали немые рты парни и девушки и беззвучно хлопали ладоши.
Было не по себе немного.
После войны Виктор написал, что пока не приедет. Первым из этого дома ушел он от грозного и нежного моря. Не показавшись, женился. Задумал учиться на автодорожного инженера: в армии за баранкой научился сидеть. Что ж, и тут мог бы возить рыбу из Голубинского цеха на станцию, да ведь на инженера выучиться куда лучше!
Мать умерла, не повидав сына, и Харлаша посылал ему все деньги в город, названия которого раньше никогда не слыхал. Он еще плавал в ту пору на буксире своего имени, страшно сердито командовал: «Полный вперед!» — во всю силу голоса, но сила была уже невелика, голос слабел и слабел.
Сын не звал к себе отца, и отец не звал к себе сына, только раз написал, что скучает, сильно грустит без музыки. Виктор не понял и ответил, что обязательно пришлет отцу патефон, чтобы музыка у него в доме была.
До сих пор, однако, еще не прислал.
И письма прекратились.
Первый год старик прожил с затаенным страхом, словно прислушивался ко времени: вот оно скажет ему что-то.
В начале второй зимы собрался было в город, но заставил себя подождать еще немного, не горячиться. На вопросы односельчан: «Сын пишет?» — отвечал: «А как же!»
Весной поехал в город и на почте, чтобы никто не знал, попросил незнакомую девушку написать запрос в далекий край. Оттуда пришел ответ, что такой-то проживает все там же...
Очень хорошо, что проживает.
Старика долго переманивали со скалы в село. Звали в рыбацкие семьи, давали ему дом ближе к людям и потеплее. Не соглашался.
На скалу все еще не провели электрического света: слишком уж много надо было ставить по склону да по ложбине столбов, а они очень дороги здесь, в безлесных краях.
— Я спать рано ложусь, — успокаивал старик.
Не могли и радио подвести, чтоб гремела в доме музыка, которую так любил Харлаша.
— Подожду, — твердил старик. — У меня патефон будет.
Ночами он не спал. Ночи были разные: с безумным грохотом моря, с детским плеском волны под окном, с шепотом степной травы, с протяжным свистом диких ветров. А утром одно и то же: улыбался с карточки молодой Виктор и держал гитару в руках.
Дом на скале издавна имел свой номер, и Харлаша ни за что не хотел менять адреса.
2
Что бы он ни делал, он ждал. Он ждал не письма, не подарка. Он ждал сына. Иной раз, возвращаясь из села в пустой дом на скалу, он останавливался и смотрел в море.
Оно было морем красок и морем звуков. Лепет и грохот жили в его голосе рядом, розовое и черное в нем перемешались. Море умело буйствовать и умело думать — тогда оно затихало.
Харлаша мог смотреть в море сколько угодно. Он заранее угадывал, каким оно будет.
Солнце красно поутру. Рыбаку не по нутру.И ждал шторма, хотя волны, лениво шелестя, казалось, собирались уснуть. Но наступал миг, и где-то всхлестывалась одна волна, а там другая, дрожа, издали несла на себе белый хохолок. И вот они уже бежали... И вот быстрее... взмахивали, взлетали! Ай да волны! Сила, сила, сила гуляла! Не сила! Силища!
Старичок смотрел и смотрел, а думал все о сыне.
Подлетала чайка, била крылом над его головой, с беспокойством падала на кривых, режущих воздух крыльях и кричала:
«Чикир-чикир!»
— Здравствуй, знакомая!
— Она тебе знакомая? — спрашивал маленький Виктор.
— А как же, мне все чайки знакомые!
— А зачем чайки?
— Людям рыбу показывать.
— А она тебе покажет?
— Мне покажет.
— А шторм для чего?
— Тех, кто боится, с моря гнать.
— А ты не боишься?
— Нет.
Под скалами, внизу, уютно жила лодка. Гладкая, широкая, перевернутая вверх дном, она грела черное пузо свое на зимнем солнце, укрывалась редким снегом, падавшим на берег, а с первых дней весны до поздней осени нетерпеливо терла носом песок в глубокой щели между скалами. В этой лодке Харлаша впервые возил сына вдоль берега по водоплеску, показывал, как в прозрачной воде стоит, тычась рыльцами в мшистые камни, быстрая и осторожная кефаль, как прячется в песчаной желтизне бычок-жабоед и бычок-кругляк, объяснял, по какой погоде какую рыбу ловят. Рано объяснял. Сынишка не понимал еще, наверно, даже боялся моря, спрашивал:
— А такое большое море для чего?
— Чтобы нас кормить.
— А горы?
Они фиолетово синели где-то очень далеко, и лишь в ясные дни их силуэты обманчиво вырисовывались там, за морем, путаясь с облаками. Виктор смотрел на них из окна.
— Горы для орлов.
— А люди там не живут?
— Люди живут дома, — отвечала мать.
— Все для людей. И горы и степи, — поправлял Харлаша. — Вся земля для них, но у каждого есть свой дом...
«И я тут доживаю век один, как краб под камнем, в дыре...»
До него часто доносились их голоса, и он отвечал им:
— Сейчас еще ничего, а вот когда болел!..
Это случилось нынешней весной... Харлаша трудно дышал, метался в постели, как в путах, звал в бреду жену и сына.
Когда в открытых глазах растаял туман, Харлаша увидел возле своей постели женщину. Была она длинная, с большими руками, с крупными рябинками на щеках. И еще через мгновение он узнал в ней вдовую сельчанку лет тридцати двух, Надю Дубровину. Видно, Карпов, председатель колхоза, прислал ее.
— Полегчало вам, дедушка? — спросила она.
— Полегчало, — ответил он и испугался, что она уйдет.
Но она не ушла, поставила чайник, сунула больному градусник — доктор велел — и принялась рассказывать, как он маялся в жару и кричал что-то сыну.
Потом вытянула градусник, поглядела, очень удивилась:
— Откуда у вас такая температура?
Харлаша еле улыбнулся беззубым ртом:
— Из подмышки.
— Но все же не так горите, как три дня подряд, — улыбнулась и Надя.
— Три дня, как с огня, а четвертый — с печки, — пошутил Харлаша, чтобы ей было нескучно с ним.
И в следующие дни, поднявшись, он прикидывался еще очень слабым, просил Надю подать ему табачку из ящика.
— Вон оттуда, где карточка стоит.
Надя, доставая крупно резанный табак, все смотрела на карточку.
— Говорят, у вас жена в молодости красивая была.
— И две ямочки на щеках, точно в тесте продавлены, — отвечал Харлаша. — Глаза у Виктора ее. Ослепла перед смертью она. Пришел к нам Сенька-почтальон, парнишка тех же лет, что и наш тут, на карточке. Она зовет его подойти. Сенька подходит, а она, веришь, щупает, говорит: «Это мой сын, его нос, его губы». Я говорю: «Нет». Она не слышит. Тяжко помирала. Она глуха. У меня от старости в тот день голос совсем пропал. Так и не поговорили перед смертью.
— Курили бы вы поменьше.
— С папироской я вдвоем, а так один.
— Вредно много курить, — сказала Надя.
— Скоро брошу, — ответил Харлаша, виновато помаргивая и прикрывая на миг, словно бы от дыма, желтые белки своих глаз. — Все брошу. Помру.
Надя посматривала то на него, то на фотокарточку.
— Вот еще! Сколько вам лет?
— Пятьдесят.
— Ну?
— На море плаваю... А когда родился-получился, — это не в счет.
— Нет, верно, сколько?
— Тридцать пять. Или сорок. Не считая ночи.
Он сидел на постели в ватных штанах, продранных на коленках, а она стояла, привалясь к дверному косяку, и фыркала. Если бы кто знал, как не хотелось отпускать ее!
— Эх, была б у меня дочка, она бы меня ласкала!
3
Летом, в соломенной шляпе, такой старой, что сквозь нее пробивались его белые волосы, он повадился ездить в город, на вокзал. Стоял в уголке, на перроне, встречал поезда, вглядывался в лица прохожих и смотрел, как проносили почту.
Однажды с подножки вагона осторожно спустился инвалид, невысокий, но мордатый, грудастый, с бородой. Под тужуркой — тельняшка. Заскакал по перрону на одной ноге да двух костылях. Позже увидел его Харлаша на базарной площади, где кончались каменные рыбные лотки, заваленные султанкой и красными рачками. Инвалид сидел у стены, поджав ногу, и кричал так, что жилы у него на шее надулись и стояли торчком, как трубы:
Истерзанный, измученный Проклятою войной. Без обех ног оторватых Вернулся я домой. Вернулся я калекою В родительский свой дом, А там семья несчастная, И я лишен трудом.Харлаша подошел, послушал, вглядываясь в его лицо. Черные брови, белые зубы... Хромой перестал петь, незло спросил:
— Чего так смотрите, отец?
— Борода у тебя таежная, — ответил Харлаша. Поухмылялся и подсел рядом: — Пахнет от тебя противно, матрос. Водки натрескался?
Матрос взялся за костыли.
— А вы не пьете?
— Почему же! Когда выпью, — сказал Харлаша, — и от меня так же противно пахнет.
И прижал его костыли рукой к земле.
— Где тебя?
— В Севастополе.
— Как?
— Был засыпан в блиндаже.
— Зачем вылез?
— Жить хотел.
— Ну и живи, а не ной!
— Как не ной? — удивился матрос. — Где я ною?
— Вот здесь, — сказал Харлаша. — Сейчас ныл. «Без обех ног оторватых...» А голос у тебя, между прочим, хрипит, как паровоз.
— Так ведь грудь тоже простреленная, отец.
— А не врешь?
— Вру, — сознался матрос. — Голос у меня не удался с детства. Плясал я... Была б нога, я бы вам чечетку отбил.
— Я тебе на слово верю.
— Нет, жалко, отец, ногу отобрали.
— А родители где?
— В Севастополе жили.
— Не искал?
— Их не найдешь.
— Вот что я думаю, — сказал Харлаша. — Пойдешь жить ко мне. Я один. Постой, не взвивайся. Меня все тут знают. Забуянишь — я милицию позову, меня послушаются. Я один, говорю. У меня места много. В колхозе работу дадут. Глядишь, так и наладишься. И я буду рад... до смерти.
...С матросом ему стало жить веселее, но через два месяца сказал ему матрос:
— Прости меня, отец, ухожу я от тебя.
— Куда, разреши узнать? — обеспокоенно спросил Харлаша.
— Женюсь, кажется.
И ушел к вдове Наде Дубровиной, а Харлаше подарил белого, с черным пятном кутенка.
4
В ту ночь, когда волны, нависая друг над другом, стали с осенним громом осыпаться на беper, когда чернота неба, слившись с чернотой моря, ожила и заревела ненастьем, на скалу к Харлаше пришел председатель колхоза Карпов. Скинул мокрую фуражку, стряхнул с нее капли, сказал, что пробирался береговой тропой, едва не сбило волнами, ругнул погоду и поставил на стол две темные бутылки с бумажными пробками. Харлаша понюхал:
— Откуда молодое вино?
И стал закуривать, обжигая пальцы об огонек спички. Он радовался гостю.
— Не твое дело. Пей!
Они выпили и спели рыбацкую песню, которую многие забыли, про измену невесты. Пока рыбак в море был, она с другим укатила...
— Решил я тебя, черта лешего, отсюда выдернуть, — сказал Карпов.
Ветер за окном дул в хриплый свисток.
— Слышишь?
— Как волну гонит? — схитрил старик.
— Хватит притворяться, Харлаша, — попросил Карпов.
Хлебал он лиха с этим народом, крутым и дерзким. Ни к одному рыбаку в селе нельзя было подойти, забывши, что у каждого под ребром порох да гордость. Но и сам он был, хоть и не видного роста, а крепкий, с ровной, как каменная плита, спиной, прямыми плечами и головой, посаженной на широкую, короткую шею, так словно бы для того, чтобы любого переупрямить. Случалось, один вид его настораживал других.
— Будет дурочку валять, — повторил Карпов. — Это ж известно, как ты мучаешься. И все. И ладно.
— Не понимаю, — сказал Харлаша.
— А я понимаю! — заревел Карпов. — Ты думаешь, мне легко? У меня дома тепло, семья, а я должен знать, что старый рыбак ждет погибели на скале. Да я сам тут с тобою мерзну каждую ночь!
— А ты не мерзни, — усмехнулся старик. — Вот тебе и весь совет.
Чужому горю трудно прорваться к чужому сердцу. Но и чужому сердцу, если оно даже захочет, к чужому горю пробиться нелегко.
— Ты зачем вино принес? — спросил Харлаша.
— Оно слабое.
—- Старого, как малого, чем бы ни потешить, лишь бы унять? — В голосе старика обида мешалась с угрозой.
— Старый да малый два раза глупые бывают! — остервенело рявкнул Карпов. — Надоел ты мне, Харлаша! Будь ты проклят! Ведь не пишет он тебе, не пишет, гад!
— Кто?
— Витька! — И Карпов кольнул глазами фотокарточку на комоде.
— Как не пишет? — залепетал Харлаша. — Кто тебе сказал?
— И Надя и матрос.
— Надя... матрос... — язвительно бормотал старик. — Язык некупленный, пусть брешут! Почему это не пишет? Ты не знаешь! А вот его письма, вот они, они... — Подбежав к комоду, Харлаша вытащил из ящика жестяную коробку из-под чая и перевернул ее над столом. Из нее посыпались на стол письма. Те, которые Виктор присылал когда-то... Карпов хватал их и читал вслух. Строки были торопливые, точно Виктор все время спохватывался: «Да, папа, приехать сейчас не могу... Да, мама, шлю вам свой скучный привет... Да, папа, эти деньги получил, и надеюсь на вас еще... Если вам будет трудно, я перебьюсь. Почему мама сама не пишет?.. Патефон пришлю и пластинки, где поют под гитару...»
— Старые ведь это письма, Харлаша, старые! Трудно тебе, понимаю! Но нехай ему перед людьми будет стыдно, а не тебе! Я убил бы его!
— Не надо! — испуганно сказал Харлаша. — Я виноват, мне и стыдно.
Он сгорбился еще больше, точно в него молния ударила, почернел, схватился за край стола, вслепую сел на табуретку.
— Я ему какой-то тайны не раскрыл. Я ему много тайн берег. Как низовка косяки держит, знаешь? Как хамса задкует? От других крепко прятал, для него. Не то, не то! Говорил, степь — для хлеба, холмы — для деревьев, а как я жил и живу, передать не успел! Думал, не надо
— Тайны твои, — глухо сказал Карпов, — про хамсу да ветер низовой и не тайны давно. Их сейчас все мальчишки знают.Тайна у тебя одна. Про письма. И той нет.
— Что же мне делать? — жалобно спросил Харлаша.
— Жить будешь у меня. Или у матроса, как хочешь.
— Нет, — горько прошептал Харлаша, едва выдавливая из себя слова, — С ним что делать? И ты не знаешь?
Размахнувшись, Харлаша сбросил со стола бутылки, словно не рукой, а плетью ударил по ним. Звякнув, они полетели вниз, и темная струя завилась по полу и стала лужицей в углублении. Из-за комода выполз кутенок, подтопал к лужице, понюхал, странно пискнул, не открывая рта. Харлаша поднял его на руки, прижал к груди гладкими, как культяпки, пальцами с шишками на концах, со сбитыми большими ногтями.
— Уходи, Егор, — сказал он Карпову.
Карпов натянул фуражку, потоптался, грохнул, уходя:
— Смотри, слезьми умоешься!
— Оботрусь, — сказал старик и заплакал.
Кутенок лизал его гладкие пальцы, а он шептал:
— Вишь, какие, на гитаре ими не сыграешь!
Потом покормил его с руки хлебом, размоченным в молоке, и уложил спать.
И сам улегся.
Ночь все выла, все хлопала оконными створками. В грохот, в вой ее тихо вплелся тоненький голос: «О-о-о!» Сначала Харлаше показалось, что в море песню поют. Ветер летел на скалу и нес к ней комариное, ласковое, иглою лезущее в сердце «О-о-о!». Видно, начал с ума сходить старик.
Вдруг страшная догадка согнала дрему, и он приподнялся на локтях, Долго ничего не было, потом снова повторилось.
И еще через минуту Харлаша скатывался, ссыпался вниз со скалы, к лодке.
5
Из черной бешеной ночи, из мокрого ветра, из ревущей воды вытащил Харлаша двух подростков и молодого белокурого парня, оказавшегося младшим братом председателя соседнего (Опасненского) колхоза Игната Разуваева.
— Тебя как звать? — спросил старик, когда продрогших, обессиленных, синих от холода и страха мальчишек подняли в дом.
— Федор, — отжимая рубаху на плечах, ответил молодой Разуваев.
— А-а!
Харлаша о нем слышал. Этот Федор уже плавал на сейнере, но чем-то проштрафился и теперь выгружал рыбу из ставных неводов вдоль берега.
— Какая ж радость тебя нынче в море понесла? — спросил Харлаша, доставая табак.
— Испугался, сеть сорвет. — Сейчас, когда опасность миновала, зеленоватые глаза Федора озорно блестели, и он рассказывал легко и даже весело: — Как пошел на нас девятый, я встал, слышу, будто воздух поплотнел и прет на очи. И ребята встали. Я кричать: «Майнай, ребята!» Поздно. Вмиг приподняло нас и перевернуло. Раз подплыли к лодке — отбило! И так три раза. Тут увидел я огонек в доме, мысль у меня явилась, что спасут. Давай кричать!
Подростки отогревали друг друга на постели, свернувшись под одеялом калачами.
— Ты об них подумал, когда за сетью кинулся? — спросил Харлаша. — Это ж чьи-то сыновья!
За спасение ребят рыбаки Опасного мыса решили подарить Харлаше патефон. Так им Карпов посоветовал.
И вот они привезли новый патефон в малиновой пупырчатой оклейке под кожу и две коробки пластинок.
— Щедро, — заметил Карпов и послал проверить, дома ли Харлаша.
Но Харлаши дома не было. Кто знает, куда его могло унести в солнечный осенний денек, сверкавший на дворе.
— Да вот он ковыляет! — первой увидела его из окна Надя. — Харлаша!
Цыплячий выводок громко зацвенькал под окном в ответ.
— Не слышит старик, — сказал матрос, стоявший возле жены.
Тут, в правлении, много людей собралось сегодня.
Харлаша остановился на обрыве, к которому подбегала сельская улица. Он стоял лицом к морю... Смотрел на волны или просто грел в лучах солнца старые глаза, прикрыв их веками.
Море сверкало, как жестяное; пробеги — загремит. Чайки мерцали над ним.
— Совсем он съежился, — сказала про Харлашу Надя.
Он носил теперь вытертую кожаную ушанку, овчинную тужурку с коричневыми клочьями точно бы прокуренного меха, тяжелые, в непоправимых морщинах сапоги.
Хорошо было ему стоять так, у моря. Край здесь ветреный — телеграфные столбы и те накренились, а сегодня тихо, ясно.
Вот он повернулся, пошел по улице, мимо ржавых после дождя деревьев.
— Сыну его всем миром писать надо, — сказала Надя.
— Я конверт с адресом прихватил, — ответил Карпов. — Да ведь тут вопрос, как писать, каким он приедет, чтобы старичка не обидеть.
— Писать — пустое дело, — вмешался в их разговор матрос. — Я скатаю туда, я его привезу, какого надо, можете не сомневаться.
Надя, помедлив, добавила:
— Пусть увидит, что его отец давно с патефоном. Харлаша!
На этот раз старик услышал, улыбнулся ей, вошел в дом.
Пластинки в коробке были разные, и чуть ли не все их проиграли старику. Тут было два симфонических концерта, бодрая песенка «Веселый день», арии, частушки, трио баянистов и, наконец, два романса под гитару. Харлаша слушал, вздернув голову, поджав губы. И пластинки матрос менял тихонько, чтобы не мешать ему. Гости с Опасного мыса сидели радостные, улыбались.
Наконец старик встал.
— Хорошая музыка, — сказал он с легким поклоном и пошел к двери, натягивая на ходу треух.
— А патефон? — зычно спросил Карпов.
— Какой патефон? — ответил Харлаша. — Чегой-то вы? Не надо ничего. Зачем? Не возьму. — Он вышел и старательно закрыл за собой дверь.
Матрос опустил малиновую крышку патефона.
— Опять ошибку дали? — сердито спросил Карпов. — Ушел!
Может, Харлаша считал, что за сделанное им не берут подарка.
Может, так загордился, что отказывался от людского добра.
А может, больше всего на свете боялся, как бы у него не отняли ожидания.

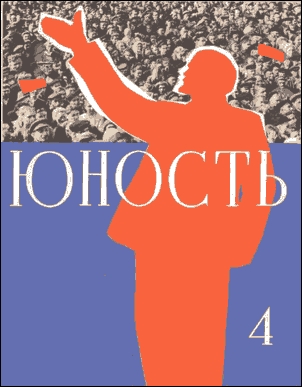


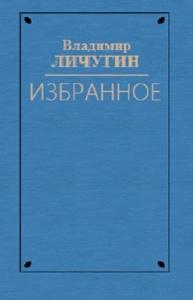
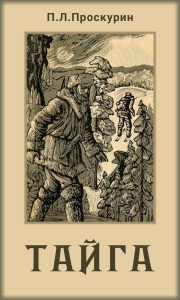
Комментарии к книге «Где-то есть сын», Дмитрий Михайлович Холендро
Всего 0 комментариев