Илья Маркин На берегах Дуная
Часть первая
I
Чем ближе подъезжали к фронту, тем большее волнение охватывало Настю. Она уверяла всех: и свою подругу Тоню, и случайных дорожных попутчиков, и начальников воинских эшелонов, и военных комендантов на пересадочных станциях, и даже себя, что спешит как можно скорее попасть на фронт, увидеть своих боевых друзей и товарищей, честно довоевать войну и не просидеть долгожданный день победы в далеком тылу, а встретить его на фронте, где провела она три тяжелых незабываемых года.
Это была правда, но правда неполная. Настя даже самой себе боялась признаться, что ее волнения и стремление как можно скорее попасть на фронт вызывались еще одной причиной.
Причина эта заключалась в том, что суровая и кровопролитная война, само понятие о которой внешне было несовместимо с тем, что переживала Настя, свела ее и сроднила с человеком, который стал ей дороже и ближе всех людей на свете. Она встретила его в первый год войны в глухом лесу под Минском тяжело раненного и еле живого, как могла облегчила его страдания и, когда он окреп, подлечился, вместе с ним выбралась из вражеского тыла. Звали его Николай Аксенов. Был он тогда молодой, совсем юный лейтенант в грязной порванной гимнастерке с двумя кубиками на петличках и неизменным биноклем на груди.
Расстались они под Смоленском, но через месяц им довелось встретиться в Москве, а спустя год оказались в одной армии под Сталинградом. Дружба их крепла и закалялась, как закалялись и крепли они сами, проходя сквозь огонь войны. Но совсем недавно, всего три месяца назад, в их дружбе появилась первая трещина. Что произошло, Настя объяснить не могла, но чувствовала, что все пошло совсем не так, как она мечтала.
Началось из-за пустяков. В один из августовских дней Николай заехал в стрелковую роту, где служила Настя, но разыскать ее не мог и уехал, сказав девушкам — подругам Насти, — что на днях, если удастся, он снова заедет. Настя нетерпеливо ждала его и волновалась. Но случилось так, что и в следующий его приезд ее не оказалось в домике, где жила она с двумя девушками-санитарками. И он уехал, так и не повидав ее.
Огорченная Настя написала ему записку, но Николай не ответил. Она послала еще несколько писем, но ответа так и не последовало. В это время роту отправили на передовую, началось наступление советских войск под Яссами и Кишиневом. Настю, раненную, увезли в тыловой госпиталь. Немного окрепнув, она написала письмо Николаю и скоро получила ответ. Это письмо было теплым и ласковым, какими были все его прежние письма и записки. Одно за другим она получила еще несколько писем, забыла о недавней размолвке, быстро поправилась и вскоре выписалась из госпиталя.
В тыловом запасном полку, куда отправили Настю из госпиталя, она встретилась и подружилась с Тоней Висковатовой. Вместе они готовились ехать на фронт. Пройдя очередную медицинскую комиссию и узнав, что ей разрешили вернуться в строй, Настя сообщила Николаю, что скоро догонит свою роту, встретится с ним и все пойдет попрежнему. На это письмо она получила неожиданно резкий, оскорбивший ее ответ. Николай писал, что незачем ехать ей на фронт, что война кончается и людей хватает без нее, что на фронт рвется она совсем не потому, что хочет воевать и встретиться с ним, а по причинам другим, что он узнал о ней много такого, о чем не хочет писать, а расскажет при личной встрече после войны.
Это странное, видимо написанное в возбужденном состоянии письмо ошеломило Настю. На следующий день она получила еще одно письмо. Николай требовал, чтобы она не просилась на фронт, а уже если она так хочет воевать, то пусть едет в любую другую часть, только не в ту, где командует стрелковой ротой капитан Бахарев. В каждой строке этого письма она чувствовала оскорбительную и неизвестно чем вызванную ревность. С командиром роты капитаном Бахаревым у нее были чисто служебные, простые и дружеские отношения.
Теперь Настя думала, что Николай совсем не такой, каким представляла она его себе, что он злой, бездушный эгоист, думающий только о самом себе, что она без сожаления порвет те связи, которые соединяли их, и забудет о нем, забудет окончательно и навсегда. Последняя мысль казалась ей особенно важной и убедительной. Она вспомнила, что и раньше ей было стыдно своих отношений и встреч перед другими людьми, перед теми, кто воевал, отрешившись от личной жизни на целые годы.
Приняв это твердое и, как думала Настя, окончательное решение, она с еще большей энергией и настойчивостью собиралась на фронт и намеревалась ехать именно в ту часть, где служила раньше. Обычно солдат и сержантов, — а Настя была сержантом, — на фронт отправляли не одиночками, а маршевыми ротами и батальонами и не туда, куда хотел каждый, а куда нужно было командованию, но упорство и настойчивость Насти преодолели все препятствия, и они вдвоем с Тоней поехали самостоятельно, получив документы о назначении в тот же стрелковый полк, где находилась она до ранения.
В пути Настя стремилась не задерживаться и поскорее добраться до фронта. Даже в шумном и пестром Бухаресте, несмотря на решительные и настойчивые уговоры Тони, она не хотела оставаться ни одной лишней минуты и до слез умоляла военного коменданта посадить их на быстроходную «матрису», которая, как она узнала, уходила к венгерской границе. На последней станции, где кончался железнодорожный путь, они разыскали грузовой автомобиль, на котором ехала группа летчиков, устроились с ними. Но дорожные мучения на этом не кончились. Летчики, проехав километров сто по территории Венгрии, сворачивали в сторону и направлялись в Югославию, а Насте с Тоней нужно было добраться до венгерского города Мохач на Дунае. Пришлось распрощаться с веселыми, приветливыми летчиками и одним остаться на пустынной дороге в ровной, словно проутюженной степи.
Во все стороны пластались жалкие, узенькие полоски чахлой кукурузы, поникшей пшеницы, бледнолистой, совсем не такой, как на Украине и в Молдавии, свеклы. Только на взгорке, у самого кювета одиноко возвышался старый каштан. Его ветви клонились к земле, а подрубленная снарядом кудрявая макушка безвольно повисла на сучьях. Густая дорожная пыль толстым слоем покрывала листья. Дерево казалось пепельно-серым великаном, задремавшим на перепутье дорог.
— Вот это богатырь! — звонко прокричала Тоня и, подхватив вещевой мешок, побежала к каштану.
Настя машинально пошла вслед за ней, напряженно всматриваясь в туманную даль, где, по рассказам коменданта и летчиков, протекал Дунай и на его берегах наступали советские войска. Теперь, когда окончился тяжелый и изнурительный путь, Настю охватили неожиданные сомнения. Нужно ли было ехать туда, где она обязательно встретит Николая? Не лучше ли было, как предлагал командир запасного полка, остаться в тылу и готовить молодых снайперов?
— Настенька, ну что с тобой? — участливо заговорила с ней Тоня. — Ты что мрачная такая? Не рада, что приедем скоро?
— Устала что-то, — ответила Настя и, бросив на землю вещевой мешок, присела на край полуобвалившегося окопа.
— Эх, лучше б с летчиками дальше поехали… — безнадежно махнула рукой Тоня и, достав зеркальце, улыбнулась. Ее широко открытые ясные глаза задорно смеялись, на припухлых щеках круглились ямочки, полные розовые губы кривились в лукавой усмешке.
Невдалеке послышался легкий шум. Он постепенно нарастал, и не успели девушки осмотреться, как на них надвинулся сизовато-бурый туман. С земли со свистом взлетели листья кукурузы, солома, стебли пожелтевших трав.
Тоня вскочила, хотела запахнуть шинель, но ветер рванул ее, сорвал берет и ударил в лицо пылью. Она взмахнула руками, испуганно вскрикнула и присела на землю.
Настя, борясь с ветром, слегка подалась вперед, откинула голову. Ее спокойные глаза прищурились, на худощавом лице вспыхнул румянец, небольшие сильные руки сжались в кулаки.
Ветви старого каштана с гулом ударялись друг о друга. Все могучее дерево, сотрясаясь, стонало. Рядом что-то тяжелое ударило о землю и с шорохом покатилось к дороге.
Внезапно скрежет и свист стихли. Вихрь так же, как и надвинулся, поспешно удалился к западу.
Не понимая, что случилось, Тоня вытерла слезы и с удивлением смотрела на каштан.
Яркозеленые, местами тронутые желтизной листья замерли под лучами неяркого солнца. Подрубленная макушка свалилась на землю, и вековое дерево казалось теперь молодым, обновленным. Вся земля вокруг толстого, изрябленного ствола была усеяна пожелтевшей листвой. Сквозь нее янтарными самородками проглядывали спелые плоды. Настя набрала целую пригоршню прохладных отполированных плодов. С минуту она любовалась ими, потом осторожно нагнулась, разгребла свежую землю на краю окопа и в образовавшуюся канавку высыпала все плоды каштана. Засыпав их, она поднялась и вздохнула:
— Ну что ж, пойдем.
— Пойдем, — согласилась Тоня и в последний раз взглянула на каштан. Легкий ветерок ласково теребил его помолодевшие листья. Тонкие, длинные ветки тихо раскачивались, будто засыпая.
— Машина! — вскрикнула Тоня.
Настя подняла голову. По шоссе, поблескивая на солнце, плавно катился легковой автомобиль. Позади него нырял на выбоинах вездеходик с солдатами.
— Не останавливай, начальство какое-то, — устало проговорила астя, привычным движением поправив ремень и убрав волосы под берет.
— Ну и что? Подвезут, — упрямо возразила Тоня и побежала к дороге.
— Грузовика дождемся, — остановила ее Настя.
Автомобиль приближался. Настя не хотела смотреть на него, но любопытство пересилило, и когда машина поравнялась с ними, заглянула в кабину.
— Командующий генерал армии, — прошептала она.
— Куда направляетесь, девушки? — раскрыв дверцу, спросил генерал.
Настя вытянулась, торопливо шагнула к машине и, приложив руку к берету, отрапортовала:
— Снайперы сержант Прохорова и рядовой Висковатова возвращаются в свою часть.
Тоня смотрела на генерала и ничего, кроме золотого погона с четырьмя большими звездами, не видела. Впервые в жизни так близко встретилась она с генералом. A Настя, к ее удивлению, невозмутимо говорила:
— Это Висковатова Тоня. Снайперскую школу окончила.
— Хорошо. Теперь у вас и напарница будет, — отозвался генерал и протянул руку.
Тоня видела длинные коричневые пальцы и никак не могла понять, зачем он так далеко протягивает руку.
— Здравствуйте, Тоня, — услышала она и поняла, что генерал обращается к ней.
Она поспешно схватила вещевой мешок, но тут же бросила его и подбежала к машине.
— Вот и знакомы. Моя фамилия Алтаев.
Тоня смотрела на генерала и никак не могла поверить, что перед ней тот самый командующий гвардейской армией, о котором рассказывала Настя. Генерал Алтаев представлялся ей высоким, мужественным, с непроницаемым взглядом стальных глаз, громовым голосом и грозным лицом. А сейчас она видела пожилого человека с простым, совсем не строгим лицом и добрыми голубоватыми глазами. Невысокая фигура его с широкими плечами не отличалась ни мужеством, ни грозностью. Только золотые погоны и красивая генеральская фуражка напоминали о его высоком военном звании.
— Ну что ж, садитесь, подвезу, — говорил он хрипловатым баском, — шагать-то вам далековато. Дивизия Чижова к озеру Балатон подошла.
Тоня подхватила мешок и влезла в машину. За ней последовала и Настя. Адъютант командующего, молодой капитан, помог им сесть, и машина помчалась.
Тоня быстро оправилась от смущения и, глядя то на генерала, то на его адъютанта, оживленно заговорила:
— Ох, и натерпелись мы!.. Сначала поездом ехали, пассажирским. От Воронежа до Курска с шиком добрались. А потом в теплушках с зенитчиками до Киева… Гармошка, песни, веселье… А как приехали в Румынию, тут и пошли мученья. То поездом, то матрисой — знаете матрису: два вагончика, такие маленькие, быстрые? — то на грузовиках, а теперь вот — пешком!
Командующий положил левую руку на спинку сиденья и, полуобернувшись, внимательно слушал. Тоня рассказала, как в сорок втором году добровольно пошла в армию, как ей не повезло и пришлось два года просидеть в запасном полку, выполняя обязанности писаря в продовольственной части, как мечтала она научиться хорошо стрелять и пойти на фронт снайпером, как тайком убегала на стрельбище «стрельнуть хоть разочек», как упрашивала начальство разрешить ей заниматься в снайперской команде.
Тоня по взгляду генерала чувствовала, что рассказ заинтересовал его, что он хочет еще слушать.
— А потом, вот знаете, Настя в полк приехала, и мы подружились. Это она помогла мне уехать. Ее у нас в полку все так уважали…
Настя больно ущипнула ее за руку, и Тоня, ойкнув, смолкла.
Генерал едва заметно улыбнулся:
— А не боитесь на фронт ехать?
— Что вы, — вспыхнула Тоня, — ничуть! На учениях настоящими снарядами стреляли, и я не боялась.
— На учениях одно, а на фронте совсем другое, — глубоко вздохнув, ответил командующий и закрыл глаза. Он долго сидел молча, видимо забыв про девушек.
Тоня смотрела на его выбритую до синевы левую щеку и пыталась представить, о чем сейчас думает генерал.
— На фронте тяжело, — не открывая глаз, проговорил Алтаев, — и особенно вам, девушкам.
— А кому сейчас легко-то, товарищ генерал? — вновь торопливо заговорила Тоня. — Четвертый год воюем.
— Да! Четвертый год, — ответил командующий и, резко расправив плечи, осмотрелся по сторонам, — четвертый год!..
Только сейчас Тоня заметила, что на дороге все изменилось. Машина мчалась по шоссе, обгоняя грузовики, повозки, цистерны с горючим.
Все, что двигалось к фронту, напоминало большую праздничную колонну. На радиаторах машин развевались красные флажки. В гривы многих лошадей были вплетены разноцветные ленты. На машинах и повозках сидели солдаты, сержанты, офицеры, большинство в новом обмундировании, с веселыми праздничными лицами, гордо и торжествующе осматриваясь по сторонам. Даже ездовые, всегда отличавшиеся от других солдат неряшливым видом, сейчас преобразились. Они залатали и починили обмундирование, до блеска начистили сапоги.
Настя с первого взгляда заметила перемену и во внешнем виде и в настроении армии, вступившей на чужую землю, и эта перемена радостью отозвалась в ее душе.
Все тяжелое, что накопилось в сознании за последние месяцы, вдруг исчезло, и ей было радостно, весело и бездумно. Размолвка с Николаем казалась мелкой случайностью, и у нее вдруг появилась уверенность в том, что стоит им только встретиться, взглянуть друг на друга, как все станет попрежнему ясным и понятным. Она знала, что Аксенов служит в штабе генерала Алтаева. Командующий к ней относился хорошо. Он несколько раз приветливо разговаривал с ней, дважды вручал ей ордена и, видимо, знал о их взаимоотношениях с Аксеновым, потому что при вручении последнего ордена он, пожав настину руку, улыбнулся и, как показалось Насте, приветливо кивнул Аксенову.
Настей овладело нетерпеливое желание расспросить генерала об Аксенове, узнать, не случилось ли что с ним, но гордость и стремление скрыть свои чувства удерживали ее.
— Ну как, Настя, понравилось в тылу? — неожиданно спросил генерал.
— Да нет, не особенно, — не успев собраться с мыслями, невнятно проговорила девушка.
— Она все время на фронт рвалась, — ответила за подругу Тоня, — у нее, товарищ генерал…
Настя стиснула руку Тони и сурово взглянула на нее.
— …душа фронтовая, — невозмутимо закончила Тоня и рассмеялась. — Как только она после войны жить будет? Наверное, все время в кино будет ходить, где войну показывают.
— А что, фронтовая привычка — очень серьезное чувство, — сказал генерал. — Вот побудете на фронте и на себе испытаете. Фронт, знаете, переделывает людей, всю их психологию перестраивает. A вот и Дунай…
Машина бежала по улице какого-то местечка. Справа и слева почти без промежутков елели дома под красными черепичными крышами. Серые, наглухо закрытые ставни придавали местечку угрюмый, неприветливый вид.
По широкой булыжной мостовой тремя рядами шли автомобили, по обочинам ехали повозки, из переулков выползали тяжелые гусеничные тракторы. Сквозь клубы пыли тускло проглядывал багровый диск солнца.
— Влево, к обрыву! — отрывисто приказал генерал и грузно скрипнул пружинами сиденья.
Шофер резко бросил машину в сторону, проскочил между двумя грузовиками, ловко отвел машину от вылетевших из переулка повозок и выехал на взгорок.
Командующий хмуро смотрел куда-то вперед, изредка переводя взгляд на небо.
Машина остановилась. Крутой спуск уходил вниз и заканчивался дощатым настилом переправы. Настя не сразу разобрала, что творилось внизу. В узкой горловине между двух заросших деревьями холмов ревели моторы, кричали люди, скрипели повозки.
Командующий вышел из автомобиля, остановился на пригорке и, махнув рукой, что-то крикнул адъютанту.
— Что это, Настя? — спросила Тоня.
— Дунай, переправа…
Тоня разглядела понтонный мост. Он казался ленточкой, которая бежала по воде и скрывалась в туманной дымке. Река в этом месте была широкая, на ее противоположном берегу в синеватой дымке виднелись смутные очертания не то гор, не то какого-то селения. Ленточка моста была настолько тонка и беспомощна, что казалось, стоит только чуть привспухнуть дунайским волнам, как она порвется и поплывет по течению вниз. И к этой ленточке с трех сторон устремились сотни автомашин, тягачей, повозок. Нельзя было понять, кто и как руководил этим движением.
Возле командующего собралась группа офицеров. Он что-то говорил им, резко взмахивая рукой. Офицеры стояли молча, не глядя на командующего. Прислушавшись, Настя сквозь гул неугомонного движения уловила отдельные слова:
— Авиация налетит… забыли… Людей погубите… Переправу сорвете…
Последние слова командующий почти выкрикнул. Настя увидела, как из сада по крутому склону спускалась вереница повозок. Ездовые с трудом сдерживали лошадей. Вначале повозки шли медленно, но чем ниже спускались они по круче, тем движение их все убыстрялось.
— Остановить! — приказал командующий. — Застопорят все.
Кто-то из офицеров метнулся вперед. Глянув на него, Настя сразу же узнала Аксенова. Он бежал, пригибаясь почти к земле, и через мгновение скрылся в густой пыли. Вскоре повозки на горе остановились и одна за другой медленно поползли в сторону от переправы.
Командующий неторопливо прохаживался около машины, посматривая на мост. К нему подошел полковник с эмблемами сапера и доложил:
— Товарищ генерал, ваше приказание выполнено!
Алтаев сурово взглянул на него.
— А раньше почему порядка не навели?
Полковник что-то хотел сказать, но, видимо, не решился и едва слышно выдохнул:
— Виноват.
Командующий молча смотрел в сторону переправы.
К нему подбегал Аксенов. Лицо его раскраснелось, мокрые, слипшиеся волосы закрывали высокий лоб.
Еще не добежав до командующего, Аксенов поднял голову и встретился взглядом с Настей. Несколько секунд он удивленно смотрел на нее, потом сурово нахмурился и, отвернувшись, неестественно прямо вытянулся перед генералом.
— Имейте в виду, — глядя то на Аксенова, то на полковника, заговорил Алтаев, — вы оба отвечаете за переправу. К двум часам ночи чтобы ни одной машины на этом берегу не было. А завтра к вечеру переправить все повозки. Движение только одностороннее — и никаких остановок. Вы, Аксенов, сейчас же поезжайте и перехватите все обозы на подходах к переправе. Переправлять только по графику. Ясно?
— Так точно, — отчеканил полковник, лихо прикладывая руку к фуражке.
— Разрешите ехать? — устало спросил Аксенов.
— Да, — ответил генерал.
Аксенов резко повернулся и, даже не взглянув в сторону Насти, стремительно побежал вниз.
Насте хотелось встать, броситься вслед за ним, но странное бессилие заставило ее сидеть на месте. Она прислонилась к спинке сиденья и, боясь разрыдаться, стиснула зубы.
Стремительно проносились поля неубранной кукурузы, разбросанные по холмам виноградники. Машина свернула к помещичьей усадьбе. Здесь, видимо, располагался штаб армии. Под деревьями стояли замаскированные легковые и грузовые машины. Где-то невдалеке хлопал движок походной электростанции.
Машина остановилась возле домика, от земли до черепичной крыши заросшего густой повителью дикого винограда. Командующий повернулся к Насте и, протянув руку, ласково сказал:
— Желаю счастья.
Он пожал ее руку и прищуренными голубоватыми глазами посмотрел на нее. Потом повернулся к Тоне и, улыбаясь, прибавил:
— А вам желаю вашу веселость пронести через все трудности. С большой радостью выпью рюмку вина на вашей свадьбе… Отвезите их в штаб Чижова и быстро возвращайтесь, — приказал он шоферу.
II
После долгой езды в автомобиле ломило спину, хотелось вытянуть ноги и хоть на несколько минут прилечь. Алтаев медленно привстал, прошелся по комнате и устало опустился в кресло.
Множество впечатлений складывалось в его сознании в общую картину положения гвардейской армии. Позавчера армия подошла к заранее подготовленному, сильно укрепленному рубежу обороны противника между озерами Веленце и Балатон. Еще за неделю до этого Алтаев, предупрежденный разведкой, начал в ходе наступления группировать войска для прорыва вражеской обороны с ходу. Однако гитлеровцы успели подвести крупные резервы и встретили наступление советских гвардейцев организованным сопротивлением.
На рассвете передовые части гвардейцев завязали бои, но вклиниться в оборону противника не смогли. В середине дня Алтаев ввел в бой главные силы, но и они решительных успехов не достигли. Враг сопротивлялся ожесточенно. Гитлеровцы непрерывно подбрасывали все новые и новые резервы, переходили в контратаки, с яростью дрались за каждый метр земли. Бои приняли затяжной, изнурительный характер. Создалась угроза тяжелых потерь в бесплодных сражениях, и Алтаев под вечер приказал остановить наступление и закрепиться на достигнутых рубежах. Командующий фронтом и Ставка Верховного Главнокомандования утвердили решение Алтаева. Гвардейская армия временно перешла к обороне.
Два дня Алтаев с рассвета до сумерек объезжал войска, проверял их состояние, изучал противника, анализировал особенности местности. Теперь нужно было принимать новое решение и докладывать о нем командующему.
Командарм подошел к окну По асфальтированной дорожке неторопливо шагал начальник штаба армии генерал-лейтенант Дубравенко. Откинув назад белокурую голову, он плавно нес свою высокую, почти двухметровую, фигуру с широкими, как у борца, плечами. За ним, припадая на правую ногу, спешил начальник оперативного отдела генерал-майор Воронков. Лицо Воронкова было желтым. Видимо, эти двое суток он совсем не спал.
Глядя на Дубравенко, Алтаев вспомнил вдруг, как лет двенадцать назад во время одной из инспекторских поверок он попал в роту Дубравенко. С первого взгляда чутьем опытного командира он отметил в подразделении Дубравенко тот особый порядок, который бывает обычно в больших коллективах, где люди живут дружно, строго и непринужденно. В казарме, в служебных помещениях роты и на занятиях все было точно по уставам, но эта пунктуальность не была формальным выполнением уставов.
Дубравенко ходил за Алтаевым, настороженно присматривался к нему и за все время не сказал ни одного слова. Только когда вошли в ротную канцелярию, он смутился, хотел подойти к столу, но тут же остановился и застенчиво проговорил:
— Занимался. Убрать не успел.
Алтаев улыбнулся, осматривая кабинет ротного командира. Все здесь говорило об увлечениях Дубравенко.
На застеленном зеленой бумагой столе лежал раскрытый томик военных произведений Фрунзе. Рядом с ним синел объемистый «Справочник альпиниста». Всю стену канцелярии занимала физическая карта мира. На ней четко выделялись обведенные коричневым карандашом горы. На другой стене висели две пары боксерских перчаток, а напротив них — портреты Чайковского и Глинки. На маленькой полке в углу виднелись ноты и два песенника, а под ними на полу стоял целый набор гирь.
Так и не мог в тот день понять Алтаев, чем же в особенности увлекается Дубравенко. Вечером он видел его в самодеятельном спектакле в роли Паратова из «Бесприданницы», а на другой день он возглавлял нападение в футбольной команде.
Через несколько лет Алтаев прочитал статью в «Красной звезде», где описывалось восхождение группы альпинистов на высокогорный хребет в Средней Азии. Среди альпинистов был и майор Дубравенко. А перед самой войной в одном журнале были опубликованы статьи полковника Дубравенко по технике штабной службы и ведению боевых действий в горах.
Алтаев и Дубравенко встретились снова только в сорок третьем году в Корсунь-Шевченковском. Дубравенко был уже генерал-майором и руководил штабом армии.
Он стал еще более строгим и внушительным, голос погрубел и звучал глуше, серые глаза всегда были спокойны и невозмутимы. Но и теперь Дубравенко попрежнему увлекался спортом. Каждое утро при любой погоде он выходил на улицу и то упражнялся с гирями, то занимался на турнике…
Дубравенко и Воронков вошли в комнату. Вслед за ними пришел начальник разведки армии полковник Фролов. Тревожно осматриваясь сквозь очки в массивной роговой оправе, он неловко повернулся, уронил стул и, поспешно подняв его, отошел к окну.
Алтаев заметил волнение начальника разведки, хотел заговорить с ним, но Дубравенко опередил его:
— Обстановка, по самым последним данным… — Дубравенко развернул большую, всю испещренную условными знаками топографическую карту.
— Подождите, — остановил его Алтаев, — еще не все пришли. Вот и Дмитрий Тимофеевич.
Алтаев шагнул навстречу члену Военного совета генерал-майору Шелестову, пожал обеими руками его руку и спросил:
— Как поездка? Что венгры?
— По рассказам пленных, настроение подавленное, — проходя к столу, ответил Шелестов. — Большинство не хочет воевать. Многие боятся нас, но еще больше боятся немцев. Гитлеровцы жестоко расправляются с ними. Никаких судов. Малейшее подозрение — и расстрел. За последние две недели в венгерских частях все крупные должности заняли немцы. Позади боевых позиций — немецкие карательные отряды…
Шелестов говорил четкими отрывистыми фразами, подтверждая свои мысли резкими взмахами руки.
Эту манеру Шелестова Алтаев узнал еще до войны, когда ему пришлось присутствовать на большой дискуссии в Академии наук. Тогда разгорелись споры по вопросам планирования народного хозяйства. Слушая быструю, переполненную цифрами речь одного известного в то время экономиста, Алтаев с трудом улавливал содержание. Экономист говорил почти одними цитатами, внушительно откашливался и победителем смотрел в притихший зал.
После его выступления долго никто не брал слова. Угрюмую тишину зала нарушал только легкий шорох бумаги и бульканье воды, которую экономист наливал в стакан. Председательствующий с тревогой всматривался в глубину зала и спрашивал:
— Кто следующий? Следующий кто, товарищи?
Но желающих выступать больше не было.
— Разрешите, — раздался, наконец, в тишине зала отчетливый голос.
Все обернулись. Из дальних рядов поднялся высокий, широкоплечий человек с открытым спокойным лицом и густой шевелюрой. Он прошел между рядами и взошел на трибуну.
В простой косоворотке, без объемистых папок и конспектов, он был совсем не похож на тех ораторов, которые выступали до него. Первые же слова он произнес сильным спокойным голосом. Аудитория замерла.
Все взгляды сошлись на выступающем. Он, взмахивая рукой, чеканил отточенные мысли, по пунктам разбивая теорию старого экономиста. Смуглое лицо его с резко очерченными полными губами и слегка выдающимся подбородком было спокойно. Изогнутые, почти сходящиеся, негустые брови то поднимались, открывая большие, умные карие глаза, то вновь опускались — и тогда лицо его старело на мгновение. Но вот брови опять взлетали вверх, на губах появлялась улыбка — и он казался совсем юным.
— Шелестов Дмитрий, Митя наш, — шептал сосед Алтаева, — умница, большая умница. Подумать только: рабочий, слесарь, всего семь лет назад вечерний рабфак кончил. А теперь доцент. И смотри, как этого зубра на лопатки положил…
После этой дискуссии Алтаев внимательно следил за молодым экономистом Шелестовым. Его статьи часто печатались в журналах и газетах, а перед войной вышла большая книга, посвященная хозрасчету и экономике кооперативного хозяйства…
Вокруг командующего и члена Военного совета собрались генералы и полковники, прибывшие на заседание Военного совета.
— Кажется, все пришли, — осматриваясь, заметил Шелестов.
— Прошу садиться, товарищи, — пригласил Алтаев. — Нам нужно оценить создавшуюся обстановку и выработать новое решение. Времени мало, в двадцать два часа решение должно быть доложено командующему войсками фронта. Докладывать прошу коротко. Полковник Фролов, ваше слово.
Пока член Военного совета говорил о венграх, Фролов в глубокой задумчивости молчаливо стоял у окна. Обстановка на фронте резко изменилась, противник оправился после недавнего поражения и теперь в Будапеште сосредоточивал крупную группировку войск для контрудара. В ближайшие дни должно произойти что-то очень важное, решающее судьбу боевых действий на южном фланге советско-германского фронта. И теперь на заседании Военного совета Фролову нужно доложить о планах тех, кто находился там, за огненной линией фронта, в гитлеровских штабах и войсках.
Глядя на карту, Фролов заговорил о тех тысячах пушек и пулеметов, которые стояли против гвардейской армии, перечислял номера полков и дивизий, подсчитывал количество людей.
Склонясь над столом, Алтаев вслушивался в доклад. Его отточенный с обеих сторон карандаш плавно передвигался по карте вдоль красной линии, которая с северо-востока на юго-запад рассекала Венгрию. Начинаясь у чехословацкого города Лучинец, она круто опускалась вниз, окаймляла Будапешт с востока, пересекала Дунай и, извиваясь, ползла по равнине, подходя ровной, почти прямой линией к восточному берегу озера Балатон. От западного берега озера линия фронта тянулась к востоку, выходя на северную границу Югославии, на берег реки Драва, вновь пересекая Дунай на территории Югославии.
А рядом с этой красной линией тянулась синяя зубчатая линия, то приближаясь почти вплотную к красной, то несколько отдаляясь, но нигде не обрываясь и не уходя от нее.
Между двумя голубыми разливами озер Балатон и Веленце располагались полки, дивизии, корпуса гвардейской армии. Перед ними была сильная оборона противника. Все пространство между озерами, шириною около сорока километров, вдоль и поперек искромсали траншеи, ходы сообщения, окопы, противотанковые рвы. Они запутанным лабиринтом, как в задаче-головоломке, ползли на северо-запад, сгущаясь у города Секешфехервар и скрываясь западнее Будапешта, в отрогах лесистых гор Вертэшхедьшэг.
Слова Фролова оживляли эту застывшую многоцветную картину. Вместо едва заметных синих стрелок Алтаев видел вражеские пулеметы, сплошь усеявшие межозерное пространство; позади них вырастала стена закопанных в землю танков и противотанковых пушек, а еще дальше, в глубине вражеской обороны, стояли минометные и артиллерийские батареи, штабы, резервные батальоны, полки и целые дивизии.
Слушая доклад начальника разведки, командарм подумал о том, как трудно было собрать все эти данные. Когда первые подразделения гвардейцев подошли к оборонительному рубежу, названному гитлеровцами «линией Маргариты», они ничего не могли увидеть, кроме серых кольев проволочного заграждения на унылых, размытых дождями холмах. Только летчики снабжали командование данными о начертании траншей, выявленных огневых точках и передвижениях вражеских войск. Но воздушное наблюдение и фотографирование не могли вскрыть всей системы обороны противника. Враг умело маскировался и применял различные хитрости. То, что с воздуха казалось безобидным холмиком, на самом деле было закопанным танком; то, что имело вид кучи взрыхленной земли, — огневой точкой. Основная часть работы по выявлению системы вражеской обороны легла на плечи наземной разведки. День и ночь на сотнях наблюдательных пунктов дежурили офицеры всех родов войск, всматривались в каждый кустик и бугорок, по неуловимым признакам распознавали огневые точки, инженерные сооружения, различные заграждения противника. В кромешной тьме ненастных осенних ночей разведчики подбирались к переднему краю, заползали в тыл противника, бесшумно захватывали пленных и так же невидимо и неслышимо возвращались.
В штабах, забыв, когда кончается день и начинается ночь, беспрерывно трудились офицеры-оперативники, разведчики, танкисты, летчики, артиллеристы, инженеры, связисты, снабженцы.
С разных концов в штабы непрерывным потоком текли сведения о противнике. Часто одни данные противоречили другим, и нужно было выявить истину, отбросив все ложное, ошибочное и второстепенное.
Труд многих сотен людей был заложен в тех данных, которые докладывал сейчас полковник Фролов.
Алтаев на секунду оторвался от карты и взглянул на начальника разведки.
Полное, розовощекое лицо Фролова стало почти бурым, на лоб спадала прядь поседевших волос, глаза сурово смотрели то на карту обстановки, то на командующего, то куда-то в раскрытое окно.
Малоподвижный, внешне нерасторопный и рассеянный, полковник Фролов почти двадцать лет прослужил в армии. Он командовал взводом, ротой, батальоном. И массивные очки в роговой оправе, и одутловатое лицо с ярким румянцем, и особенно походка — неторопливая, вразвалку — делали его похожим не на кадрового военного, а на научного работника, всю жизнь просидевшего в тиши кабинетов.
Однако это впечатление было ошибочным. За неторопливостью и рассеянностью Фролова скрывались глубокомысленное раздумье и постоянное отыскивание ответов на сложнейшие вопросы, которых у начальника разведки армии всегда бывали сотни.
— Самой главной и серьезной особенностью обстановки, — заканчивал Фролов, — является то, что противник сосредоточивает в районе Будапешта крупную группировку пехотных и танковых дивизий. Эта группировка имеет задачу нанести удар вдоль Дуная на юг, отрезать и разгромить наши войска в районе озер Балатон и Веленце. Наступление намечено на двадцать первое декабря…
Взгляд командующего потянулся по карте к Будапешту. Большой город, разбросанный по правому и левому берегам Дуная, был в сорока километрах северо-восточнее гвардейской армии. Вся западная часть города, пригороды и леса вокруг него сплошь синели кружками и овалами районов сосредоточения немецко-фашистских дивизий и полков. На мгновение Алтаеву показалось, что эта лавина двинулась на юг, все сметая на своем пути. Она катилась вдоль Дуная, отрезая гвардейскую армию и ее соседей от тыловых баз снабжения и окружая на равнинах между Будапештом, югославско-венгерской границей и озером Балатон.
— Но какую же цель преследует командование противника, подготавливая удар из района Будапешта? — тихо спросил член Военного совета и подошел к Фролову.
— Разгромить наши войска на дунайском плацдарме и таким образом устранить угрозу Будапешту с юга и с запада, — не задумываясь, ответил Фролов.
— Это непосредственная задача, а какова оперативно-стратегическая цель удара? — спросил Алтаев.
— Удержать в своих руках Венгрию как последнего союзника и как важную базу стратегического сырья, — ответил Фролов.
— Мне кажется, — заговорил Дубравенко, — что цели этого наступления значительно шире. Удержать Венгрию — это лишь частная задача. Едва ли Гитлер для этого стал бы отвлекать крупные силы с других направлений. Венгерская нефть и бокситы его сейчас не спасут. Поздно! Чтобы добыть и переработать сырье, нужно время. А времени у него нет. Главную цель Гитлер, вероятно, видит в том, чтобы измотать и обескровить наши войска на южном фланге, заставить их отказаться от дальнейшего наступления, а затем свои главные силы перебросить против наших центральных фронтов, которые сейчас приостановили наступление.
Военный совет выслушал выступления командующего артиллерией, армейского инженера, начальника политотдела. Все предлагали одно: в целях срыва контрудара противника из района Будапешта главными силами гвардейской армии перейти в наступление и прорвать вражескую оборону. Однако при подсчете реальных возможностей оказалось, что наличных сил гвардейской армии для решения этой задачи явно недостаточно. Не хватало главным образом артиллерии и танков.
Для всех было ясно, что наносить удар вполсилы нельзя, если уж бить, то бить превосходящими силами, а по количеству войск гвардейская армия и стоявший перед ней противник были почти равны. А если противник перебросит часть войск из Будапешта, то он сможет создать превосходство в силах и средствах, особенно в танках. Нужно было меньшими силами разгромить большие.
Все соглашались, что наиболее выгодно нанести главный удар на город Секешфехервар, взять его и тем самым создать угрозу коммуникациям противника под Будапештом. Но когда Воронков, а затем Дубравенко предложили две трети армии сосредоточить перед городом и этими силами нанести удар, Шелестов невольно заволновался. Армия занимает широкий фронт. Обороны, по существу, еще нет. Войска едва успели окопаться. А противник имеет крупные резервы и опирается на подготовленную систему инженерных сооружений. Если сгруппировать главные силы на узком участке, то придется оголить весь остальной фронт армии. И стоит только противнику нанести упреждающий удар даже ограниченными силами, как сама группировка, подготовленная для удара на Секешфехервар, окажется под угрозой окружения. Оправдывает ли поставленная цель такой риск?
— А если противник нанесет встречный удар по нашему ослабленному фронту? — спросил Алтаев, так же как и Шелестов, думавший о большом риске оголения фронта.
— Конечно, противник может нанести удар, если мы подготовку наступления затянем на длительный срок, — не задумываясь, ответил Дубравенко. — А если мы подготовим все за один-два дня, то он ничего не успеет сделать.
— А где гарантия? — спросил Шелестов.
— Гарантия — психология противника. Это не сорок первый год. Мы наступаем, а немцы отступают. К тому же надо учесть, что гитлеровцы уже готовят удар, только не против нашей армии, а против нашего правого соседа, из Будапешта, по берегу Дуная. И в этот удар они вложат все силы.
— Тогда почему же они перед нашей армией держат такие крупные резервы?
— Потому, что боятся нашего прорыва. Наш удар для них смертельная опасность.
— А как думают артиллерист и танкист? — спросил Алтаев.
Командующий артиллерией — дочерна смуглый генерал-лейтенант Цыбенко с острыми, насмешливыми глазами и хитрой улыбкой — насупил брови и, скупо выдавливая слова, ответил:
— Артиллерии у нас маловато. — Он посидел несколько секунд, напряженно склонив большелобую голову и упершись кулаками в стол. — Но и с тем, что есть, можно разгромить противника, город взять можно. Главное — нанести мощный первоначальный удар и пробить дорогу пехоте и танкам. А для этого сосредоточить всю артиллерию и минометы перед городом — сосредоточить и обрушиться всей мощью.
Командующий бронетанковыми и механизированными войсками генерал-майор Тяжев с нетерпением ожидал, когда закончит докладывать Цыбенко, и, как только командующий артиллерией сел, сразу же заговорил:
— Нужно овладеть городом, обязательно овладеть. Пусть это связано с риском, но зато какие могут быть результаты! Противник в основном рассчитывает на удар своих танковых дивизий. Танкам нужны дороги для маневра и тысячи тонн горючего. А горючее нужно подвезти. Значит, опять нужны дороги. Все основные дороги сходятся в районе Секешфехервара. Конечно, у нас танков сейчас немного. Хорошо бы иметь побольше, пустить их в прорыв, в тылы противника, но, как говорят, по одежке протягивай ножки. А танковой одежки хватит, чтоб овладеть городом.
Алтаев повернулся к полковнику Маликову:
— Каковы возможности инженерных войск?
Полковник Маликов, известный специалист по инженерным вопросам, долгое время преподававший в военной академии, неторопливо, нравоучительным тоном заговорил:
— Оборона противника обильно насыщена противотанковыми и противопехотными минами. Следовательно, перед инженерными войсками встанут весьма ответственные задачи. Учитывая реальные возможности инженерных войск, можно, так сказать, более или менее уверенно утверждать, что выполнение всех задач безусловно встретит серьезные трудности…
— Иван Николаевич, — остановил его Алтаев, — конкретнее, конкретнее. Могут инженерные войска обеспечить разграждение в обороне противника перед городом?
— Так точно. Могут, — ответил Маликов и, передохнув, вновь продолжал прежним тоном: — Однако для этого нужно использовать буквально все наличные силы, все инженерные подразделения и части. И все бросить только на разминирование. Александру Васильевичу, — повернулся Маликов к начальнику тыла генерал-майору Викентьеву, — дороги поддерживать придется только своими силами, только своими, а инженеры уйдут на передний край.
— Хорошо, — проговорил Алтаев, — с дорогами у нас пока благополучно. Александр Васильевич, сколько вам нужно времени, чтоб обеспечить войска всем необходимым для наступления?
Простое, слегка курносое лицо генерала Викентьева порозовело. Он давно ожидал этого вопроса, все подсчитал и приготовился к ответу, но сейчас невольно смутился.
— У нас, товарищ командующий, — с трудом заговорил он, — плохо с переправами. Все запасы находятся за Дунаем. Железнодорожных мостов нет. Из-за дальности расстояния возможности автотранспорта уменьшились втрое. Для перевозки боеприпасов и горючего только транспортом тылов потребуется не меньше четырех суток. Выход из этого положения, мне кажется, только один: использовать часть строевого автотранспорта.
— Вы, конечно, имеете в виду главным образом бронетанковые части? — строго спросил Тяжев.
— И, видимо, инженерные? — добавил Маликов.
— И уж, конечно, артиллерийские, — засмеялся Цыбенко.
— И танковые, и артиллерийские, и инженерные, и стрелковые, и даже грузовые автомашины штабов, — ответил Викентьев. — Боеприпасы вам же нужны, и тут не может быть твое, мое, дядино — все наше, все общее.
Тяжев поморщился и задвигался на стуле. Дыбенко, упрямо склонив голову, вполголоса спросил:
— А если потребуется менять огневые позиции, на волах пушки потащим?
— Я говорю не о всех машинах, а только о тридцати процентах, — рассердился Викентьев.
— Ну что ж, товарищи, кажется, все ясно, — поднялся Алтаев. — Решение такое: главные силы армии сосредоточить на узком фронте, прорвать оборону противника и овладеть городом Секешфехервар. Главный удар наносим по немецкой дивизии перед городом. Подавим ее всей мощью артиллерии, а затем ударим танками и пехотой. На флангах венгерские части, они серьезного сопротивления не окажут. Затем овладеем городом и закрепимся в нем. Возможно, командующий фронтом усилит армию, тогда можно развивать успех наступления.
Речь Алтаева перебил звонок телефона.
— Слушаю, Алтаев… Добрый вечер, товарищ маршал… Да… Решение намечено… Овладеть городом Секешфехервар… Так точно… Слушаю… Так… Ясно…
Алтаев переложил трубку из правой руки в левую и, продолжая повторять «ясно», «так», начал быстро чертить карандашом на карте. На ней одна за другой появлялись жирные красные линии. Несколько бросков карандаша — и севернее Будапешта возникла изогнутая стрела. Она огибала Будапешт с севера и с северо-запада и острием упиралась в город Естергом, северо-западнее Будапешта. Вторая стрела потянулась оттуда, где стояли войска гвардейской армии, захватила город Секешфехервар и устремилась на север, острием упираясь также в город Естергом. Эти стрелы, как две огромные руки, охватывали Будапешт с запада и северо-запада.
Алтаев придвинул к себе лежащую на столе тетрадь и, придерживая ее локтем левой руки, начал быстро писать. Его пальцы с редкими золотистыми волосками поспешно работали карандашом, и скоро весь лист сверху донизу заполнила сплошная колонка цифр.
Закончив разговор, Алтаев передал трубку Шелестову:
— Вас просит член Военного совета фронта товарищ Желтов.
Пока Шелестов разговаривал с Желтовым, Алтаев сидел молча, опустив голову.
Шелестов попрощался, положил телефонную трубку. Алтаев поднял голову. Глаза его молодо улыбались, лицо раскраснелось, руки порывисто двигались по столу. Это радостное вдохновение длилось всего несколько секунд, потом он снова нахмурил брови, и перед собравшимися опять был строгий и властный командарм. Он обвел всех суровым взглядом, поправил карту и внушительно заговорил:
— Фронт получил директиву Ставки Верховного Главнокомандования. Ставка решила окружить и уничтожить будапештскую группировку противника. Для этого Второй Украинский фронт наносит удар из района северо-восточнее Будапешта в направлении Естергома и окружает будапештскую группировку противника с севера и с северо-запада. Войска Третьего Украинского фронта наносят удар из района озера Веленце и окружают Будапешт с юго-запада и с запада. Наша армия в составе войск Третьего Украинского фронта наносит главный удар. Ближайшая задача — прорвать оборону противника и овладеть городом Секешфехервар. Последующая задача — ударом на север развить прорыв в направлении Естергома, соединиться с войсками Второго Украинского фронта и создать внешний фронт окружения. На усиление мы получаем танковые, артиллерийские, стрелковые и кавалерийские соединения.
Он придвинул к себе тетрадь и стал перечислять средства усиления.
— Итак, товарищи, — закончив диктовать, громко, даже несколько торжественно продолжал Алтаев, — обстановку мы с вами оценили правильно. Верховное Главнокомандование нашу задачу довело до крупного стратегического масштаба. Мы должны не только сорвать контрудар противника, но и полностью окружить всю его будапештскую группировку и создать, таким образом, благоприятные условия для победного наступления на Вену, на Южную Германию, на «альпийскую крепость» Гитлера.
III
Начальники и близкие друзья Николая Аксенова знали его как простого, умного офицера, умеющего искренне дружить с товарищами, напряженно и много работать, не считаясь с тем, принесет ли ему лично эта работа что-либо или останется в безвестности. Так же искренне и самозабвенно мог он веселиться в свободные часы, не оглядываясь по сторонам и не задумываясь о впечатлениях, которые может вызвать у людей его беззаботное веселье.
Но когда на переправе командующий гвардейской армией сердито отчитывал и его и других офицеров за допущенные беспорядки, Аксенов с горечью подумал, что командующий никогда не простит ему этого случая на переправе, что вся его напряженная и сложная работа за прошлое время испорчена одним непростительным промахом. Его недовольство собой и внутреннее смятение в этот момент усилились еще и тем, что он неожиданно в машине командующего увидел Настю.
Весь остаток этого дня он не мог преодолеть мучительного чувства недовольства собой и обиды за свою неустроенную, как ему казалось, жизнь. Он вместе с начальником переправы — инженерным полковником — навел порядок на дороге и на мосту, очистил придунайское село от забивших его повозок и автомашин, ввел неутихавшее движение в тот жесткий военный график, который до мелочей был разработан в штабе армии. Находясь в непрерывной лихорадочной деятельности, он не переставал думать и о самом себе, и о Насте, так неожиданно появившейся снова на фронте, и о своих отношениях с ней, когда-то таких простых, радостных, а теперь сложных и неясных.
Только поздней ночью, когда все боевые части были переправлены на правый берег Дуная и по узенькому мосту пошли обозы, ему удалось зайти в домик, подготовленный для него саперами, и немного передохнуть. Не раздеваясь, он присел к столу, машинально налил из приготовленной кем-то бутылки вино в стакан и, не чувствуя ни вкуса, ни запаха вина, выпил. По всему телу разливалось успокаивающее тепло. Мысли, словно кем-то подгоняемые, сменяли одна другую и увлекали его в далекие воспоминания. Ему вспомнились все встречи с Настей и последняя, неожиданная для него, размолвка с ней. В который раз пытался он найти объяснение всему, что произошло, но сколько ни раздумывал, вывод был только один: Настя переменилась, стала совсем не той, что была, отдалилась от него и, видимо, их отношения навсегда испортились. Вспомнив последнюю встречу, когда он заехал к ней в роту, не застал ее в домике и, проходя садом, увидел ее вдвоем с капитаном Бахаревым, он порывисто налил еще стакан вина и залпом выпил. Тогда она, поддерживаемая рукой Бахарева, тихо смеялась. Аксенов хорошо знал этот тихий, приглушенный смех. Так всегда она смеялась в самые лучшие минуты их встреч, и этот смех перевернул все его сознание. Прямо через кусты он выбежал на дорогу, вскочил в автомобиль и, сдерживая порывистое дыхание, со свистом прошептал шоферу: «Гони!»
И сейчас, через три месяца после этого случая, ему было так же, как и тогда, обидно и больно и за себя, и за нее, и за все их прошлое.
Он молча сидел и стакан за стаканом пил вино. Разгоряченная голова устало клонилась к столу, и глаза застилал туман. За окном непрерывно гудели моторы автомобилей, громко разговаривали люди, скрипели повозки, но он ничего этого не слышал… Две мысли ожесточенно боролись в его сознании. То казалось ему, что в его личной жизни ничего не случилось, что Настя такая же искренняя и честная по отношению к нему, а сам он нехороший, слишком самолюбивый и мнительный человек, думающий только о себе и не уважающий других. То вдруг Настя представлялась ему обманщицей, забывшей о всем хорошем и душевном в их взаимоотношениях, тщеславной и не умеющей ценить искреннее отношение к ней. И эта вторая мысль все больше и больше побеждала первую, а сам он все яснее и отчетливее чувствовал необходимость порвать все нити, связывающие его с Настей, и заново перестроить свою личную жизнь. Все эти встречи за последние два года — часто тайком от других, украдкой, от случая к случаю — казались ему сейчас детской забавой, недостойной ни его возраста, ни положения. И это в то время, когда миллионы людей забыли о личной жизни!
Эта последняя мысль оживила его и подсказала отчетливый план действий.
Да, да. Он так и сделает. Все порвет и — ничего личного! Какая может быть любовь, когда рядом тысячи людей переносят нечеловеческие трудности, гибнут и умирают, становятся калеками. И как это раньше не смог заметить он всю ложность и безрассудность своих поступков. Нет, нет! Порвать все, порвать решительно и окончательно, выветрить из своей головы этот любовный угар и работать, работать изо всех сил, забыв о личной жизни до конца войны. А закончится война и тогда все придет: и любовь — искренняя, чистая, без стыда и боязни; и личная жизнь — радостная, спокойная, до краев наполненная счастьем.
Приняв такое решение, Аксенов отодвинул стакан, встал, надел фуражку и запахнул шинель. Его охватила уверенность в собственных силах и радостное сознание своей правоты в решении сложного вопроса.
Он хотел выйти из дому, проверить, как идет переправа, но своего намерения осуществить не успел. На крыльце послышались тяжелые шаги, дверь со скрипом распахнулась. Подняв голову, Аксенов узнал инструктора политотдела армии подполковника Крылова. Это был, пожалуй, единственный человек из всего многолюдного коллектива полевого управления гвардейской армии, которого Аксенов внутренне не уважал и даже побаивался.
Коренастый, широкоплечий, с округлым лицом, с рыжеватыми усиками и серыми, в упор смотрящими на собеседника глазами, Крылов с первой встречи еще под Сталинградом не понравился Аксенову. Особенно возмущала Аксенова привычка Крылова во все вмешиваться, обо всем расспрашивать, иронически улыбаясь при этом и посмеиваясь. При каждой встрече с ним Аксенову вспоминался обидный случай, когда Крылов, впервые встретив Аксенова, подал ему записку от Насти, улыбнулся и вызывающе проговорил:
— Ах, это вы тот самый жених Аксенов? Что ж, будем знакомы.
Может быть, случайно брошенное Крыловым словцо принесло Аксенову много неприятностей. Оно надолго прилепилось к Аксенову, и друзья, желая подшутить над ним, часто называли его женихом.
Встреча с Крыловым сейчас была особенно неприятна Аксенову. Он знал, что подполковник будет назойливо расспрашивать о вещах самых неожиданных, по делу и без дела посмеиваться в усы и нагло смотреть своими сверлящими глазами.
Однако ожидания Аксенова не оправдались. Крылов молча подал ему руку, присел к столу, кивнув головой на бутылку, спросил — «твое?» и услышав утвердительный ответ, налил вина в стакан и торопливо, большими глотками, с бульканьем выпил.
— Похолодало как!.. И ветер поднимается, — закуривая, проговорил он.
— Да. Осень, тепла не ждать, — равнодушно ответил Аксенов, настороженно присматриваясь к подполковнику.
— Не возражаешь, я еще стаканчик выпью? Промерз, никак согреться не могу, — совсем миролюбиво говорил Крылов, наливая второй стакан вина.
По тому, как он жадно, большими глотками пил и с наслаждением причмокивал губами, Аксенов понял, что Крылов не только промерз, но и проголодался.
— Чайку бы сейчас горяченького или щей, — часто затягиваясь дымом, мечтательно говорил Крылов, и лицо его стало добрым и приветливым. Даже колючие глаза, и те сейчас потускнели, устало прищуриваясь.
— Вы из штаба? — не зная о чем говорить, спросил Аксенов.
— Нет. Вторую неделю по тыловым частям скитаюсь. Отстал от всего, расскажите, что там на фронте.
— Я вторые сутки на переправе. Обстановку тоже смутно знаю. Наши подошли к Балатону и сильную оборону встретили. Наступление остановилось.
— Да, это неприятно, — опустив седеющую голову, словно сам с собой рассуждал Крылов, — опять прорывать придется. Опять жертвы, потери, кровь. А у каждого жизнь, семья, мечты, надежды. Все ждут конца войны и надеются целыми и невредимыми вернуться домой. Каждый надеется… Надеется, а тут вдруг…
Он устало махнул рукой, не закончив мысли, привстал, расстегнул шинель и тихо спросил, не глядя на Аксенова:
— А у вас есть семья?
Этот вопрос был так неожидан и задан таким участливым голосом, что Аксенов растерялся на мгновение и, запинаясь, ответил:
— Отец, мать, сестренки, братишка. В городе живут, в Поволжье.
— А у меня пятеро. Жена, дочка и три сына. Три! Настоящая диаграмма. Один на голову выше другого.
Крылов, откинув голову, долго сидел в забытьи, видимо думая о детях, о жене.
— Знаете, — встрепенувшись, заговорил он быстро и горячо, — я всю гражданскую войну прошел. Восемь лет с коня не слезал, и тогда мне не было так тоскливо, как сейчас.
— Молодость, видимо, — сказал Аксенов.
— Нет, не только молодость. Было еще другое, более существенное и важное. Вот сейчас мы воюем четвертый год, и мне ни разу не довелось повидаться с семьей. Четвертый год! А тогда… Эх, тогда совсем другое было. У нас в лазарете работала сестра милосердия. Хорошая девушка. Буйная, веселая, сорви-голова! И полюбил я ее, понимаете, так полюбил!
Крылов придвинулся вплотную к Аксенову, обдавая его горячим дыханием:
— Вот у нас часто говорят: война забирает всего человека, на войне нет личного, вся жизнь человека подчинена службе, делу, боям. Чепуха!
Последнее слово он почти выкрикнул, вскочил на ноги и взволнованно прошелся по комнате.
— Чепуха, — возвратясь к столу, раздельно повторил он. — Пустая болтовня! Человек всегда остается человеком. И личная жизнь у каждого есть. И где бы ни был человек, чем бы он ни занимался, личное всегда с ним. Только лгуны, неискренние люди могут утверждать, что они ради службы, дел служебных отрешились от всего личного, отрешились от самого себя. Да и к чему отрешаться? Разве личное, душевное, семейное мешает общественному? Наоборот! Когда у человека все хорошо в личной жизни, и служебные дела у него идут хорошо. А стоит только надломиться чему-нибудь в личной жизни, так и служба начнет хромать…
Аксенов слушал горячую речь Крылова и по-новому видел этого пожилого человека. Все в нем сейчас было молодо, искренне, душевно. Резкие взмахи рук, мечтательная улыбка, четкие слова и возбужденный румянец на лице говорили о его внутреннем волнении и большом душевном переживании. Он рассказывал о своей жене, той самой буйной сестре милосердия, которая прошла с ним всю гражданскую войну и стала верной подругой на всю жизнь, говорил о детях, о своих мечтах воспитать их хорошими, искренними людьми. И каждое его слово находило горячий отклик в сознании Аксенова. Он отчетливо представил себе высокую, на целую голову выше Крылова, женщину, с темными, гладко зачесанными волосами и большими, такими же темными блестящими глазами. И Аксенов завидовал Крылову, его семейному счастью, его мечтам и надеждам на радостное будущее. И он сам понимал, что эта зависть не была обидной ни для Крылова, ни для него самого.
IV
В то время как советские войска под Будапештом начали подготовку новой операции против немецко-фашистской армии, на Западном фронте происходили странные события. Большие и маленькие города Франции, Бельгии и Голландии превратились в увеселительные пункты для американцев, англичан и канадцев. И днем и ночью по улицам шумно бродили солдаты и офицеры англо-американских армий. В переполненных ресторанах захлебывались джазы, раздавались пьяные крики, в клубах табачного дыма кружились пары.
Столица Бельгии Брюссель стала центром развлечений для англичан. Бесчисленные гостиницы превратились в офицерские дома отдыха. Один за другим открывались дансинги. Бельгийцам-мужчинам вход в увеселительные заведения был запрещен. Зато наиболее развязные бельгийки в сопровождении кавалеров в союзной форме беспрепятственно могли ходить куда угодно.
Особенно бесшабашным разгулом кипел голодный Париж, где была ставка Эйзенхауэра. Американцы реквизировали все отели, рестораны, гостиницы и хорошие помещения. В них теперь расселились американские офицеры. По бульварам, на Елисейских полях, в Булонском лесу толпами слонялись пьяные американцы. Оборванные, изможденные дети протягивали к ним ручонки, но янки брезгливо отворачивались. Зато они щедро потчевали бульварных девиц. Американским офицерам было разрешено угощать своих дам в кафе и ресторанах, солдаты приманивали истощенных парижанок плитками шоколада и сигаретами.
Буйно веселясь, американцы не забывали о бизнесе. Темные переулки, перекрестки дорог и площади превратились в черные рынки. Американские солдаты, офицеры и генералы спекулировали горючим, сигаретами, продовольствием. Каждый торговал по чину. Солдаты из-под полы предлагали канистру украденного с армейского склада бензина или пачку сигарет, офицеры оптом и в розницу сбывали цистерны бензина, ящики сигарет и продовольствия с этикетками американских воинских складов. Генералы свои коммерческие дела вели солидно. Они через многочисленную агентуру пускали в ход сотни тонн бензина, вагоны продовольствия, белья и обмундирования. На штабных и тыловых должностях пристраивались сотни коммерсантов. Они за бесценок скупали акции и целые предприятия европейских промышленников.
Черный рынок, спекуляция и разбазаривание армейских запасов расцвели настолько, что генерал Эйзенхауэр вынужден был назначить специальную комиссию для расследования спекулятивной деятельности американских военнослужащих.
Впоследствии он писал в своей книжке «Крестовый поход по Европе»: «Практически целая часть превратилась в организованную банду грабителей и продавала эти предметы (продовольствие, бензин, сигареты) целыми грузовиками и вагонами».
В это же время командование американских войск горько жаловалось на острый недостаток в горючем для танков и грузовиков, разрабатывало сложные планы разрешения «проблемы снабжения». Топтание своих войск перед позицией Зигфрида оно объясняло «отсутствием горючего для танков и грузовиков».
В английских войсках развлечения проходили «организованно». Фельдмаршал Монтгомери отдал приказ о предоставлении всей армии двухнедельного отпуска. Штабы разбили всех солдат и офицеров на восемь частей. Одна часть находилась в отпуску, другая ехала в отпуск, третья возвращалась… и только пять восьмых выполняло свои служебные обязанности. Всем, кто желал поехать в Англию, предоставлялись транспорт и время для поездки туда и обратно.
Веселая жизнь шла и на фронте. Немцы вели себя спокойно, огня не открывали и никаких активных действий не предпринимали. Американские, английские и канадские солдаты располагались в селах и городах, обивали пороги пивных, соблазняли бельгийских и французских женщин. Офицеры мечтали о поездках в Париж и Брюссель и спорили, кому раньше поехать в развеселые столицы. И все завидовали счастливчикам, получившим отпуск.
Тем временем немецкое командование проводило срочные мероприятия.
Гитлер оправился от тяжелого потрясения, вызванного покушением на его жизнь, и развил кипучую деятельность. В Германии была объявлена новая тотальная мобилизация. На этот раз в армию были взяты поголовно все мужчины. Стариков, инвалидов и подростков забирали из родных домов и под конвоем сгоняли в казармы. Стоны и плач разносились по Германии. В промышленности, на транспорте и в сельском хозяйстве остались только женщины.
Из стариков был создан «фольксштурм» — жалкое подобие народного ополчения. Вместо обмундирования стариков снабдили нарукавными повязками, вооружили чем попало и посадили в укрепления позиции Зигфрида. Так же была создана и вторая часть немецкого воинства на Западном фронте — «фольксгренадеры». «Фолькогренадеры» от «фольксштурма» отличались тем, что это были люди, когда-то служившие в армии, но уволенные из нее по старости или по различным физическим недостаткам. Третью часть немецкого воинства, выставленного против англо-американских армий, составили «кишечные батальоны». В них входили солдаты, досрочно выписанные из госпиталей и еще не успевшие залечить полученные раны. «Кишечными батальонами» эти войска прозвали сами немцы потому, что большинство солдат страдало желудочно-кишечными болезнями.
«Фольксштурм», «фольксгренадеры» и «кишечные батальоны» составили немецкую армию, оборонявшую позицию Зигфрида. Солдат посадили в доты и приказали оборонять Западный вал. А чтоб это воинство не вздумало показать врагу спину, гитлеровцы поставили позади них фронтовые пехотные и спешенные танковые дивизии и приказали стрелять в инвалидов при малейшей их попытке убежать с фронта.
Особые надежды Гитлер возлагал на молодежь. В армию были мобилизованы все юноши, достигшие семнадцати лет. Их собрали отдельно от стариков, одели в новенькую форму, дали усиленный паек и начали формировать из них эсесовские дивизии. В эти дивизии были взяты кадровые фронтовые унтер-офицеры и офицеры. Под их руководством на равнинах у Гамбурга юнцы прошли краткий курс военного обучения.
Миновали сентябрь, октябрь, ноябрь, и из юнцов была создана новая 6-я танковая армия «SS».
Англо-американское командование имело подробные данные о мероприятиях немцев, но относилось к ним скептически.
Когда 6-я танковая армия «SS» начала маневрировать вдоль фронта, офицеры в английских и американских штабах лишь беззаботно улыбались. А высшее начальство ждало, что эта новая гитлеровская армия вот-вот погрузится в эшелоны и уедет на восток, на советско-германский фронт.
Кое-кто говорил, что немцы могут нанести удар по англо-американским войскам. В штабе 30-го английского корпуса, когда в районе Кельна сосредоточилась 5-я танковая армия немцев и начала переправляться через Рейн, а 6-я танковая армия «SS» двинулась по дорогам на юг, говорили:
— Вот и хорошо. Пусть идут. Нам не нужно форсировать Рейн, чтобы уничтожить эти армии. Они сами будут сдаваться в плен.
Но прошло немного времени, и разведка американцев и англичан потеряла след этих двух танковых армий. Были две танковые армии, маршировали между Рейном и западной границей Германии — и вдруг исчезли. Как сквозь землю провалились. Радиостанции этих армий перестали работать. Густой снегопад покрыл и землю и небо. Ни один самолет не мог подняться в воздух.
Прошло еще несколько дней, а о танковых армиях немцев ни слуху ни духу.
— На восток ушли, — с облегчением вздохнули многие американские и английские начальники. — Ну и пусть идут. Хлопот меньше. А то вдруг еще начнут наступать, всевать придется с ними, а кому хочется зимой в окопах дрожать и ждать этих проклятых бошей.
И веселье продолжалось. Из Англии и Америки понаехали тысячи туристов и корреспондентов. Их возили по фронтовым дорогам и показывали историческую достопримечательность — развалины города Аахен, уничтоженного ударами англо-американской авиации. Экскурсанты фотографировались у развалин, собирали сувениры, под шумок заключали торговые сделки и улаживали свои коммерческие дела.
Приближались рождественские праздники. Разгул в англо-американских войсках принял еще более широкий размах. Составлялись компании для празднования рождества, готовились грандиозные банкеты и пирушки, копились запасы виски и вин.
15 декабря командующий американскими войсками генерал Брэдли выехал из своей резиденции в Люксембурге в ставку Эйзенхауэра. С ним отправилась многочисленная группа офицеров его штаба.
И вдруг случилось невероятное. Рано утром 16 декабря застонали Арденнские горы. Немецкая артиллерия всех калибров открыла шквальный огонь по войскам 1-й американской армии. Не успевшие проспаться после пьяной ночи американские офицеры и генералы в одном белье выскакивали из домов и в панике метались, ничего не понимая и не зная, что делать. Солдаты пытались укрыться в реденьких окопах, в подвалах, в винных погребах, но повсюду их настигали снаряды немецкой артиллерии. Кое-кто из американских артиллеристов побежал к орудиям, но куда стрелять, никто не знал. Повсюду рвались немецкие снаряды и мины.
Более двух часов длилась артиллерийская подготовка немцев. Американские войска не отвечали ни одним выстрелом. На несколько секунд смолк гул артиллерии, и воздух задрожал от рева сотен танковых моторов. В атаку бросились дивизии 5-й и 6-й танковых армий немцев. В наступление пошли те самые танковые армии, которые несколько дней назад потеряла англо-американская разведка.
Остатки передовых частей 1-й американской армии в панике бросились бежать. Немецкие танки догоняли их, давили и захватывали в плен. Там, где располагались американские позиции, грудами чернела развороченная земля, полыхали сотни пожарищ, валялись трупы. По дорогам на восток тянулись колонны пленных американцев. Хлопья снега падали на их озлобленные и перепуганные лица. Они понуро брели по дорогам, с ужасом оглядываясь назад, где в гуле артиллерийской канонады и реве танковых моторов бесславно гибли их товарищи.
А в это время командующий американскими войсками генерал Омар Брэдли торжественно входил в резиденцию главнокомандующего войсками союзников в Европе генерала Эйзенхауэра.
Дуайт Эйзенхауэр вышел навстречу своему подчиненному и земляку. Штабы и свита генералов замерли в почтительном оцепенении. Со всех сторон на двух генералов нацелились объективы фотоаппаратов. Наступала минута «исторической» встречи.
Генералы неторопливо сближались. Яркий свет магния озарил их сосредоточенные лица. Щелкнули затворы фотоаппаратов. Брэдли проговорил приветствие. Эйзенхауэр достойно ответил ему. Ответил… и недовольно поморщился: к нему с какой-то бумагой спешил назойливый штабной офицер. Эйзенхауэр сдержал гнев, небрежно взял бумагу и озлобленным взглядом уперся в лицо Брэдли. Омар Брэдли съежился, не понимая гнева начальства. Несколько минут длилось немое оцепенение. Потом Эйзенхауэр резко повернулся и поспешно зашагал в свой кабинет. Брэдли в испуге последовал за ним. Офицеры свиты застыли на месте. Кто-то из наиболее смелых заглянул в приоткрытую дверь и увидел генералов, склонившихся над картой. Генералы несколько раз перечитывали составленную в крайне осторожных выражениях телеграмму, которая сообщала, что немцы начали «слабое» продвижение в Арденнах.
Долго сидели генералы над картой. Призрак Дюнкерка витал над ними. Немцы перешли в наступление в том самом месте, откуда они нанесли удар в 1940 году против англо-французских войск. И командовал немецкими войсками тот же самый Рунштедт, который командовал ими в 1940 году. Удар, как и в 1940 году, наносился между городами Льеж и Люксембург.
Эйзенхауэр вызвал своих советников и заместителей. После многочасового совещания было решено начать переброску войск к участку наступления немцев. Эйзенхауэр чертил карандашом на карте и показывал, как будут уничтожены наступающие немцы. С севера им наносит удар 7-я бронетанковая дивизия, с юга — 10-я бронетанковая дивизия, а с запада — воздушно-десантный корпус генерала Риджуэя в составе 82-й и 101-й авиационно-десантных дивизий. Этими силами Эйзенхауэр рассчитывал разгромить ударную группировку немцев.
Пока генералы совещались, немецкие танковые дивизии полностью прорвали оборону 1-й американской армии и развивали наступление на запад. Их танки ворвались на территорию, где американцы сосредоточили огромные запасы боевой техники, боеприпасов, горючего и продовольствия. Немецкое командование заранее готовилось к использованию американской техники и вооружения. Задолго до наступления танкисты немецких дивизий обучались действовать на американских танках, а шоферы — водить американские грузовики. И сразу же, как только немецкие танковые дивизии ворвались на территорию складов, в американские танки сели немецкие экипажи и повели их в бой. Сила удара немецких армий возросла. К их старым потрепанным танкам присоединились новенькие американские танки, которые на американском горючем, американскими снарядами громили американские войска.
По дорогам и без дорог бежали сотни американских солдат, офицеров и генералов. Первыми бросились бежать командиры и штабы. Командир 8-го американского корпуса генерал Мидлтон и его штаб бросили войска и скрылись в неизвестном направлении. В штабе Брэдли никто не знал, что творится на фронте. Сам штаб грузился на машины и готовился к эвакуации.
Сметая подходившие американские резервы, немецкие танковые дивизии веером развивали прорыв на север, на запад и на юг.
17 декабря к фронту подошли брошенные Эйзенхауэром в бой 7-я и 10-я бронетанковые дивизии. Немецкие войска разгромили и эти дивизии, а их жалкие остатки погнали на северо-запад и на юго-запад. В обороне американцев зияла огромная брешь. За два дня эта брешь расширилась до сорока километров.
Все надежды генерала Эйзенхауэра остановить наступление немцев потерпели крах. Выбрасываемые им резервы и дивизии, снятые с других участков, уничтожались и бежали с поля боя. 101-я авиационно-десантная дивизия и еще три дивизии американцев вместо контратаки сами попали в окружение в районе Бастонь. На западе немецкие танковые дивизии не встречали никакого сопротивления. Их задерживали только горные дороги и глубокий снег.
Рано утром 19 декабря Эйзенхауэр прибыл на «фронт» в город Верден. (От Вердена до ближайшей точки фронта было более восьмидесяти километров, а до района наступления немцев около ста километров.) В Верден также приехали генерал Брэдли и командующие американскими армиями.
Соблюдая строгий этикет, генералы уселись вокруг длинного стола.
Открывая совещание, Эйзенхауэр заявил:
— Нынешняя обстановка должна рассматриваться нами не как бедствие, а как благоприятная для нас возможность. За этим столом должны быть только веселые лица.
А к этому времени 1-я американская армия только убитыми и пленными уже потеряла более ста тысяч человек.
Отвечая своему патрону, экспансивный генерал Джордж Паттон вскочил, грохнул кулаком по столу и свирепо выпалил:
— Чорт возьми! Дадим этим… дойти до самого Парижа, тогда мы отрежем их по-настоящему и раздавим!
Эйзенхауэр дружески улыбнулся «своему Джорджу» и авторитетно заявил:
— Противнику никогда не будет позволено форсировать Маас!
На этом совещании было принято оригинальное решение: «выпустить немцев за линию Зигфрида и затем уничтожить их».
Однако это решение осталось только в словах генерала Эйзенхауэра и в его книге «Крестовый поход по Европе». На самом деле он использовал все возможности, чтобы остановить немцев. Он бросил в бой всю авиацию, ввел в сражение более тринадцати бронетанковых, авиационно-десантных и пехотных дивизий. Но все эти потуги были напрасны. Немцы громили подходящие резервы и стремительно развивали наступление на запад. За восемь дней наступления они, не вводя в бой своих резервов, прорвали оборону американцев на сто километров по фронту и развили прорыв до ста десяти километров в глубину. 23 декабря, вопреки утверждениям Эйзенхауэра, 6-я танковая армия «SS» форсировала Маас и захватила плацдармы. Американские войска были разрезаны на две части и поставлены под угрозу разгрома.
Генерал Брэдли не смог управлять своими армиями, и Эйзенхауэр, проклиная и немцев и Брэдли, вынужден был отобрать у него две американские армии и управление ими передать английскому фельдмаршалу Монтгомери. Англо-американские войска охватила паника. Новый Дюнкерк, казалось, был неизбежен.
V
Сидя в машине и слушая веселый разговор вдруг переменившегося шофера командующего, Настя никак не могла собраться с мыслями. Все, о чем мечтала она по дороге на фронт, оказалось пустой, ничем не оправданной надеждой. Она пыталась успокоить себя, думая, что стоит только ей добраться до своей роты, увидеть товарищей, взять в руки снайперскую винтовку, как все тяжелые мысли отхлынут, уйдут в прошлое и она снова станет уверенной и спокойной. Но все ее старания выбросить из памяти Аксенова были напрасны.
Борясь со своими чувствами, Настя ловила себя на мысли, что напрасно не послушалась Аксенова и не осталась в запасном полку. За время, пока ехали до штаба дивизии, эта мысль целиком завладела сознанием Насти.
Желание остаться в тылу и не попасть на фронт объяснялось не только размолвкой с Аксеновым. Сразу же после ранения, когда ее, истекавшую кровью, выносил из-под огня комсорг роты Саша Васильков, она с ужасом представила, что жизнь ее висела на волоске. Тогда эта мысль заглушала физическую нестерпимую боль, и все ее силы устремились только к одному — остаться живой, сохранить свою жизнь и снова почувствовать себя здоровой и сильной, снова, как и все, твердо ходить по земле и не думать, никогда не думать о смерти.
Потом, в госпитале, эта мысль возвращалась к ней все реже и реже, но при первом же воспоминании о фронте, и особенно на стрельбище в запасном полку, когда начиналась пальба из винтовок, автоматов и пулеметов, она вспоминала вдруг жаркий, пыльный день под Кишиневом, кукурузное поле на взгорке и тупой удар в плечо и в голову, от которого у нее потемнело в глазах и все тело размякло, стало безвольным и непослушным. При этом воспоминании ей становилось жалко себя, хотелось плакать и уйти от всех, укрыться где-нибудь, чтобы не слышать ни стрельбы, ни разговоров о войне.
И сейчас, когда ехали от штаба дивизии к штабу полка и где-то недалеко впереди слышалась частая, неумолкающая стрельба и глухие охающие взрывы, Настя сжалась вся, с трудом удерживая неприятную дрожь во всем теле. Ей хотелось надолго остаться одной, ни с кем не встречаться, не разговаривать и не слышать этих гулких взрывов и неутихающей стрельбы.
К счастью, в штабе полка она не встретила никого из знакомых, и шофер командующего провез их глубокой балкой прямо к развалинам небольшого хутора, где находился штаб батальона.
Едва машина остановилась и Настя приоткрыла дверцу, откуда-то из-за кустов раздался звонкий, удивительно знакомый голос:
— Настенька! Прохорова! Вернулась!
Этот голос вывел ее из мрачного раздумья, и она, почувствовав себя снова воином, поспешно вышла из машины и увидела капитана Бахарева Он — все такой же высокий, скуластый, с неизменным биноклем на груди — вразвалку шагал к ней, протягивая вперед длинные руки.
— Здравствуйте, товарищ гвардии капитан, — заговорила Настя, приближаясь к Бахареву, но, вспомнив, что он командир, а она его подчиненная, остановилась, четко приложила руку к берету и строго по-военному отрапортовала:
— Товарищ гвардии капитан! Сержант Прохорова возвратилась после излечения в госпитале.
Бахарев не дал ей договорить, стиснул ее руку и, глядя в ее лицо веселыми улыбающимися глазами, с заметной дрожью в голосе говорил:
— Вот и замечательно. А мы так волновались за вас. А вы нехорошо поступили. За все время ни одного письма не написали. Забыли свою роту, совсем забыли.
Встреча с командиром роты и особенно его приветливый разговор, радостное лицо и сияющие глаза всколыхнули сознание Насти. Она стояла перед капитаном, открыто и смело глядя на него, и не замечала, что пулеметная трескотня и взрывы раздавались совсем рядом, что Тоня и шофер испуганно осматриваются по сторонам, что рядом у остатков разбитого дома две санитарки перевязывают раненого солдата.
— Наши-то как, товарищ гвардии капитан, — волнуясь и в то же время чувствуя себя уверенно и спокойно, расспрашивала Настя, — дядя Степа, Саша Васильков, ребята…
— Все живы, — также видимо волнуясь, отвечал Бахарев, — и Анашкин, и Васильков, и все, все. Ну идемте, идемте скорее в роту. Вы сами не представляете, как все обрадуются. И винтовку вашу мы сохранили. Анашкин все время ее в обозе возит.
Услышав, что снайперская винтовка — самая верная ее подруга — цела, невредима и заботливо хранилась в роте, Настя подбежала к шоферу и, схватив обеими руками его жесткую, заскорузлую руку, с жаром заговорила:
— Передайте, пожалуйста, большое спасибо товарищу генералу армии, и вам большое, большое спасибо.
Ей хотелось сейчас двигаться, говорить, говорить безумолку, и всем, всем сделать что-нибудь приятное. Она чувствовала себя весело и радостно, как бывает радостно и весело человеку, который увидел тяжелый, кошмарный сон, и, вдруг проснувшись, понял, что увиденное и пережитое было только сном, а не действительностью.
Пока Настя прощалась с шофером, Бахарев знакомился с Тоней. Беззаботная хохотушка присмирела и невпопад отвечала на вопросы капитана. Бахарев, так же как и с Настей, говорил с ней просто и весело, но Тоня стояла перед ним «навытяжку», опустив руки и упрямо склонив голову.
— Снайпер, товарищ гвардии капитан, — поспешила на выручку подруге Настя, — всю войну на фронт рвалась, да не удавалось, не пускали, в писарях держали.
— Зато теперь вволю навоюется, — приветливо улыбался Бахарев, — у нас сейчас столько работы для снайперов! К обороне перешли. И передний край противника рядом, всего сто — сто пятьдесят метров.
Настя ощутимо представила себе эту близость противника, и опять неожиданная дрожь пробежала по ее телу. Она стиснула кулаки и, стараясь сохранить спокойствие, торопила Бахарева:
— Пойдемте скорее в роту, к нашим.
День подходил к концу, и на землю спускались осенние сумерки. Стрельба понемногу стихала. С севера потянул холодный ветер, и Настя почувствовала неприятный запах порохового дыма. Он то наплывал вместе с порывами ветра, затрудняя дыхание и пощипывая глаза, то вдруг исчезал, и тогда дышалось легко и свободно.
Пока девушки и Бахарев по вытоптанному винограднику и редким кустам в лощине пробирались к роте, стало совсем темно. Где-то рядом слышались людские голоса, изредка раздавались выстрелы и беспрерывно в разных местах взлетали вверх осветительные ракеты, с трудом пробивая сгущавшийся туман.
Бахарев шел уверенно и спокойно, то и дело шопотом называя пропуск невидимым в темноте часовым. Тоня, беспрерывно спотыкаясь и чуть не падая, пробиралась за капитаном и пыталась рассмотреть окружающее, но частые вспышки ракет недалеко впереди и по сторонам дочерна сгущали темноту. Она понимала, что это был фронт, самая настоящая «передовая», где в грохоте и все битвы каждую секунду люди совершали героические подвиги, где сама она сумеет проявить свои, как ей казалось, скрытые в ней качества — храбрость, бесстрашие, умение все свои силы отдать делу разгрома врага.
Однако сколько ни всматривалась Тоня в темноту, нигде не видела она ни настоящего боя, ни смелых и мужественных людей, ни даже по-настоящему фронтовой стрельбы. Правда, изредка то там, то здесь раздавались глухие выстрелы, словно кто-то этими выстрелами перекликался в темноте, но все остальное было совсем не похоже на фронт и скорее напоминало обычное расположение воинской части на отдыхе, где также повсюду расставлены часовые, спрашивающие пропуск и отвечающие неизменное «проходите».
— Осторожно, ступеньки, — предупредил Бахарев, спускаясь в темное углубление в земле.
Едва Тоня шагнула за ним, как впереди внизу мелькнул и тут же скрылся красноватый просвет. Она поняла, что это была землянка с завешенным плащ-палаткой входом, и, вспомнив, что на фронте нужно соблюдать маскировку, проскользнула вслед за капитаном, тут же опустив за собой намокшее прорезиненное полотно плащ-палатки. Яркий свет ослепил ее, и она, щурясь, остановилась возле какого-то ящика, похожего на стол.
— Настенька! — прокричал кто-то, и в ответ ему раздался взволнованный вскрик Насти:
— Дядя Степа! Здравствуйте!
— Здравствуй, доченька, здравствуй. Выздоровела, значит, и нас не забыла, вернулась, молодчина!
Теперь Тоня увидела высокого, с лысой головой, почти подпирающего потолок солдата с обвислыми рыжеватыми усами и длинными руками. Он обнимал Настю, непрерывно приговаривая:
— Не забыла нас, не забыла, вернулась.
— Снимайте шинели, пристраивайтесь, сейчас ужин сообразим, — гостеприимно говорил Бахарев, помогая Тоне снять вещевой мешок, — у нас тепло, светло, уютно, как в настоящей квартире.
Пока Тоня снимала шинель, оправляла волосы и обмундирование, вокруг Насти собралось несколько человек. Все они что-то говорили, шумно поздравляя Настю с выздоровлением и возвращением в родную роту.
— Спасибо, большое спасибо, — взволнованно отвечала Настя, — я все время думала о вас, спешила к вам. Знаете, в госпитале и в полку запасном скука такая…
В землянку входили все новые и новые люди, а Тоня стояла в одиночестве, не зная, что делать, и завидуя Насте. По тому, как душевно и радостно говорили все, Тоня поняла, что Настю искренне любят и уважают в роте, и ей самой хотелось завоевать такую же любовь и уважение всех: и длинного, усатого дяди Степы, и высокого красивого ефрейтора, которого Настя называла Сашей, и капитана Бахарева, и коренастого плотного сержанта с окающим украинским говорком, и молоденького, с безусым, по-девичьи нежным лицом лейтенанта, и тех, кто толпился сейчас вокруг Насти, говоря с ней, пожимая ее руки.
— Товарищи, что ж это я? — вскрикнула Настя. — Знакомьтесь, пожалуйста, подруга моя, снайпер Тоня Висковатова.
Тоня с нетерпением ждала, когда обратят на нее внимание, но, увидев устремленные на нее взгляды и протягиваемые руки, растерялась, опустила голову, говоря сама не зная что и отвечая на чьи-то пожатия рук.
Шум радостной встречи понемногу стих. Капитан Бахарев усадил девушек за самодельный столик, кто-то поставил перед ними две алюминиевые миски с мясом и жареными макаронами, кто-то налил два стакана красного вина, и все настойчиво упрашивали их выпить до дна в честь торжественной встречи и «за все хорошее».
Настя пила вино и счастливыми глазами смотрела на всех. Она часто думала о роте, но такой встречи не ожидала. Перед ней стояли, сидели на нарах и прямо на земляном полу люди, которых она знала — одних меньше, других больше, люди, которые ей иногда в прошлом казались не совсем хорошими и с многими из которых у нее были неприятные разговоры. Сейчас эти люди — солдаты, сержанты, офицеры, многие небритые, в грязном обмундировании, с обветренными лицами и загрубелыми руками — казались ей красивыми и самыми близкими. Они наперебой расспрашивали о жизни в тылу, о госпитале, о городах и станциях, которые видели они на своем пути, о ее здоровье и настроении.
Отвечая на вопросы, Настя все больше и больше ощущала недовольство собой. Там, в госпитале, в запасном полку, по дороге на фронт, она совсем забыла о тех, кто оставался в роте, кто сейчас так искренне и душевно встретил ее, и думала только о самой себе, об Аксенове, о размолвке с ним, о своей любви. Разве что-нибудь могло быть выше того, что сейчас испытывала она? Разве теплота, искренность, душевное отношение этих людей можно сравнить с неприятностями в личной жизни? Разве это не есть ее настоящая семья, где она всегда найдет поддержку в трудную минуту и теплое участие в любом деле?
Такие мысли непрерывно возникали в сознании Насти, и она, забыв все тяжелое и неприятное, безумолку говорила, смеялась, мелкими глотками пила вино.
Только поздней ночью закончилась радостная встреча и дядя Степа, как все звали ефрейтора Анашкина, провел девушек в подготовленную для них землянку.
— Настенька, — оставшись вдвоем, порывисто обняла подругу Тоня, — как замечательно все! Как хорошо!
Они долго говорили и заснули только под утро, расстелив шинели на жестком, дощатом топчане.
VI
Утро обещало быть на редкость удачным для «снайперской охоты». Еще с вечера небо очистилось от туч и легкий морозец подсушил землю. На изрытую траншеями равнину опустился прозрачный, как дымчатая кисея, туман.
Настя и Тоня весь день просидели в подготовленном за ночь просторном окопе, замаскированном в голых, изломанных кустах. Тоня присматривалась к новой для нее обстановке, старательно и пунктуально выполняя все, что приказывала ей Настя. Ее все время не покидало радостное, почти восторженное настроение, вызванное и тем, что наконец-то сбылась ее мечта и она попала на самый настоящий фронт, и тем, что так круто изменилась ее жизнь, и она из писаря продовольственной части полка превратилась в воина, и тем, что в роте их встретили так тепло и душевно, и самое главное — тем, что у нее впереди было столько интересного, героического, о чем мечтала она целых три года.
Это настроение не рассеялось и вечером, когда они вдвоем с Настей сидели в крохотной землянке. Ей хотелось говорить и говорить без конца, сходить в другие землянки, поболтать и посмеяться с ребятами, но Настя, такая всегда простая и беззлобная, в этот вечер была сурова и молчалива.
Они рано улеглись спать, но сон к Тоне не приходил. Она лежала с открытыми глазами, и мысли ее перескакивали с одного предмета на другой. То вспоминалась ей родная деревня с краснокирпичными домами и соломенными крышами, с широким прудом в лощине и садом на горе; то видела она школу, подруг и учителей.
Думала она и о своем будущем, о том, как закончится война и она вернется домой. Она отчетливо представляла, как на железнодорожную станцию выедет за ней отец, как они утречком по росистому лугу подъедут к деревне и целая орава ребятишек выбежит встречать их. И она приедет в деревню не одна, а вдвоем, обязательно вдвоем. Это будет хороший парень — смелый, сильный, такой, как Саша Васильков или как сержант Косенко. У него на широкой груди будет много орденов и медалей, и все в деревне будут с восхищением смотреть на него и завидовать ей. А потом… Потом они будут учиться, работать и всегда, всегда находиться вместе, никогда, ни на один денечек не расставаясь.
Только под утро она забылась по-детски спокойным, безмятежным сном. Но долго спать ей не пришлось. Настя разбудила ее:
— Собирайся, пора. Пора идти.
Тоня поспешно оделась и выскочила из землянки.
На востоке едва приметно алело небо. Жиденький туман стелился по земле. Тоня направилась было к окопу, где вчера вечером сидели они и обсуждали, как лучше расположиться, но Настя вернула ее в землянку и приказала съесть завтрак и выпить стакан чаю. Тоня с трудом проглотила два кусочка вареного мяса, отхлебнула несколько глотков чаю и решительно встала из-за самодельного дощатого столика. Настя неторопливо допила чай, оделась, взяла винтовку. Наконец-то они вышли из землянки и по глубокому ходу сообщения пришли к своей ячейке.
Рассвело. Выползли из тумана траншеи противника. «Снайперская охота» началась. Тоня старательно всматривалась в расположение противника, но ничего, кроме черных бугров, не видела. Прошел час, второй, третий, а они еще не сделали ни одного выстрела. В траншеях противника словно все вымерло. Вчера Тоня сама видела серые фигуры солдат, а сегодня, как нарочно, никакого движения. Она пыталась заговорить с Настей, но та сердито прикрикнула на нее. Пришлось замолчать.
— Смотри, почему не наблюдаешь? — прошептала Настя, и от этого едва слышного шопота Тоня вздрогнула и вновь прильнула к окуляру.
В светлом круге прицела рисовался черный изгиб траншеи. Перед ним виднелись колья и паутина проволочного заграждения. Позади поднималась вверх изрытая окопами равнина. Кое-где торчали почерневшие початки кукурузы. Виднелись какие-то нагромождения кирпича и камня. Тоня всмотрелась в них и увидела разбитую оконную раму, черепки, обгорелые остатки досок и бревен. Это, видимо, было жилое здание. Ей на мгновение опять вспомнился родной дом. Он, так же как этот, стоял на окраине деревни, и когда посмотришь на него из низинки, то за ним скрываются все деревенские постройки.
«Где-то жители?» — подумала Тоня, и ей представилось, как сидят сейчас те, кто жил в этом доме, где-нибудь в поле на холодном ветру. У них и дети, очевидно, есть, может, совсем маленькие. И теперь ни дома, ни одежды…
— В развалинах, видишь? — шепнула Настя.
— Где? — спохватилась Тоня.
— В развалинах дома наблюдатель, — спокойно ответила Настя.
За бурой грудой кирпича Тоня увидела что-то серое и неподвижное с двумя светлыми точками. Присмотревшись, она разглядела плечи, голову и бинокль. Теперь у нее не было никакого сомнения, что это сидит фашист и наблюдает за нашими позициями. Тоне сразу стало жарко и тесно в окопе. Совсем рядом от нее был противник, о котором три с половиной года говорили все.
— Прицелься хорошенько и стреляй, — тихо проговорила Настя, — только спокойно, не волнуйся.
Тоня нащупала пальцем спусковой крючок и, как на стрельбище, затаила дыхание.
В прицеле отчетливо было видно лицо гитлеровца. Он положил бинокль на землю и пальцами протирал глаза. Зеленая каска прикрывала его лоб. Тоня осторожно подводила перекрестье прицела, как учили ее, под грудь фашиста. Линии плавно двигались снизу вверх указательный палец правой руки по привычке давил на спусковой крючок. Сейчас должен произойти выстрел. «Никогда не жди выстрела, — вспомнились Тоне советы командиров, — иначе промахнешься». Она пыталась не думать о выстреле.
— Стреляй, что медлишь! — раздался над ухом голос Насти.
И в ту же секунду позади глухо ударили пушки. Через несколько секунд над головой прошелестели снаряды, и далеко за развалинами дома взлетели клубы черного дыма.
Тоня всмотрелась. Фашиста уже не было. Только примятая горка земли виднелась там, где он сидел.
Боясь взглянуть на подругу, Тоня с досады чуть не выстрелила в воздух.
Ее охватила обида и злость на себя. Первый раз в жизни пошла на боевое задание и так опозорилась. Ее, конечно, все в роте будут теперь презирать, а Настя назовет «болтушкой» и будет права.
Тоня прижалась к стенке окопа и, твердо решив не допустить новой оплошности, до боли в глазах смотрела в прицел.
— Разряжай, пошли, поздно. Сегодня день у нас неудачный, — неожиданно проговорила Настя.
Тоня с обидой и удивлением взглянула на нее, не поверив, что действительно нужно уходить, так и не сделав ни одного выстрела.
— Пошли, пошли, что смотришь? — строго проговорила Настя, и Тоня послушно разрядила винтовку, вылезла вслед за Настей из окопа и пошла ходом сообщения.
— Ничего, не волнуйся, — неожиданно обернулась и обняла ее за плечи Настя, — бывает.
Но и сочувствие подруги не успокоило Тоню. Злость на себя и обида за оплошность не оставляли ее. Она часто спотыкалась и еле поспевала за Настей. Похолодало. Легкие снежинки вихрились в воздухе.
Настя сняла с плеча винтовку, по обледенелым приступкам спустилась в землянку. Из тесной каморки пахнуло жильем. Настя зажгла лампу из артиллерийской гильзы. Красноватый свет озарил черные стены, узенький топчан, застеленный большим ковром, и столик в углу. На нем, старательно прикрытые телогрейкой, стояли два котелка.
— Старшина-то не забыл, — улыбнулась Настя. — Остыл только наш обед, подогреть надо.
— Сейчас растоплю, — бросилась Тоня к малюсенькой железной печке. Она присела на корточки, нащипала лучин и, найдя в своем вещевом мешке кусок газеты, подожгла.
— И дров натаскали, — раздеваясь, говорила Настя, — это дядя Степа, наверно.
Дрова разгорелись, потянуло теплом.
— Ты раздевайся, что стоишь-то, — причесывая волосы, проговорила Настя, — пообедаем сейчас и отдохнем. Наша работа кончилась.
Она достала мыло и полотенце и озабоченно смотрела по сторонам.
— Подожди. Я принесу воды. У ребят есть, наверное, — Тоня схватила котелок и бросилась было к выходу, но дверь, словно подчиняясь ее желаниям, сама открылась, и Тоня, бессознательно вскрикнув «ой», отступила назад. Перед ней, загораживая весь узкий просвет двери, стоял высокий военный в сером распахнутом плаще.
В бледном свете керосиновой лампы лицо его с прямым, немного привздернутым носом, смуглыми, слегка ввалившимися щеками и широким лбом казалось совсем молодым и удивительно красивым. С полминуты Тоня смотрела на него, ничего не понимая, и только когда он улыбнулся, сна поняла, что это был майор Аксенов, тот самый Коля Аксенов, о котором так много рассказывала ей Настя.
Аксенов старательно прихлопнул дверь и, щурясь от света, протянул руку Тоне, но тут же спохватился, торопливо шагнул вперед и смущенно проговорил:
— Не видно ничего. Здравствуйте, девушки.
Увидев Николая, Настя отшатнулась назад, не поверила, что это он, Аксенов, так жестоко обидевший ее. Зачем он здесь? Зачем пришел он сюда, в землянку, на передовую, в роту? Зачем пришел он сейчас, когда она перемучилась и успокоилась наконец.
Эти мысли мгновенно пронеслись в сознании Насти, и она, мелко вздрагивая воем телом, возмущенно смотрела на Аксенова, узнав, но не желая признавать его.
Она видела, как он растерянно стоял на месте, щурясь от света и, очевидно, ничего не видя перед собой, как он ошибочно протянул руку Тоне и от этого еще больше смутился, густо покраснел, смешно и беспомощно разводя руками, словно пытаясь поймать что-то невидимое. Всматриваясь в него, Настя все отчетливее видела его лицо, знакомое до каждой черточки, и его глаза — не то суровые, не то испуганные, но совсем не такие, какими она привыкла их видеть.
Аксенов шагнул вперед, видимо, теперь только увидел ее, и мгновенно и его лицо, и глаза, и вся фигура переменились. Он словно стал выше и стройнее, и одновременно во всем его облике Настя увидела что-то жалкое и приниженное, такое несвойственное ему.
— Здравствуй, Настя, — проговорил он едва слышно и этот голос, его, аксеновский, голос своим тембром и интонациями сказал ей все.
— Коля, — вскрикнула она и, словно подхваченная буйной силой, рванулась к нему, ловя его руки и забыв только что мучившие ее обиду и возмущение.
Тоня смотрела на Аксенова и, сама не зная почему, почувствовала неожиданную радость. Рядом с ней стояли два самых близких друг другу человека, неловкие и растерянные от счастья, и их радость передалась ей.
— Да что ж это я, — с трудом отстраняясь от Аксенова, выговорила Настя, — познакомься. Подружка моя, Тоня Висковатова, снайпер.
— Снайперенок только, а не снайпер, — протягивая руку, сказала Тоня и, посматривая на Аксенова, шутливо проговорила: — А с вами-то я давным-давно знакома. Хотите, вашу биографию расскажу?
— Да? — машинально, лишь бы что-нибудь ответить, спросил Аксенов. — Интересно.
— Пожалуйста, — невозмутимо ответила Тоня и, гордо подбоченясь, откинула голову и торжественно продекламировала: — Николай Сергеевич Аксенов, тысяча девятьсот восемнадцатого года рождения, всю свою жизнь посвятил военной службе. Еще семнадцатилетним пареньком надел шинель. Но под его серой шинелью билось горячее сердце. Ярчайшим доказательством этого служит знаменательный пример из его жизни. Летом сорок первого года в лесу, около Минска, повстречался он…
— Перестань, Тоня, — пыталась остановить подругу Настя.
Тоня звонко рассмеялась и протянула руку Аксенову:
— Здравствуйте, товарищ гвардии майор. Не обижайтесь, пожалуйста.
Настя чувствовала прерывистое дыхание Аксенова, едва уловимую дрожь в его руке и сама невольно вздрогнула. Глаза Николая в упор смотрели на нее. Настя видела сейчас только эти глаза, большие и такие дорогие. Теперь, что бы ни говорили ей, что бы ни случилось, она была твердо уверена, что ничего страшного не произошло и Николай остался таким же, каким был всегда.
Поборов волнение, она хлопотливо нарезала хлеб, вытирала ложки и раскладывала их на столе. Потом нагнулась над вещевым мешком и достала из него бутылку вина.
Тоня удивленно смотрела на нее, не понимая, каким чудом в мешке могли оказаться такие неожиданные вещи.
— Это, знаешь, Коля, — улыбаясь, говорила Настя, — в госпитале шефы подарили. Вино из Массандры. Открывай.
«Больше трех месяцев берегла, — подумала Тоня, — и никто не знал. Вот скрытная-то».
Аксенов достал из кармана перочинный нож и штопором неторопливо вытащил пробку.
— Хозяйничай, — придвинула к нему солдатские эмалированные кружки Настя. — Жаль, что кружек только две.
— А вот еще крышка от котелка, — подсказала Тоня.
Аксенов, словно боясь резким движением вспугнуть очарование встречи, осторожно налил вина, прищурив глаза, посмотрел на Тоню, и в его взгляде девушка увидела нескрываемую радость.
— Выпьем за наше общее счастье, девушки, — поднял он кружку.
— Да, Коля, за наше счастье… — взволнованно ответила Настя и прильнула губами к кружке.
Тоня почувствовала на своих глазах какие-то беспричинные слезы. Даже солдатские кружки и вычищенные песком алюминиевые котелки, казалось, светились счастьем и домашним теплом. Видимо, и Настя и Аксенов забыли, что они сидят в землянке на переднем крае, что совсем недалеко от них находятся враги, что, может, вот сейчас в землянку ударит снаряд или мина. В сознании Аксенова еще никак не укладывалось то, что рядом с ним его Настя, попрежнему родная и близкая. С той встречи на переправе он много передумал и пережил. Он мучительно боролся сам с собой, с своими мыслями, то вдруг веря, что ничего не случилось, все осталось попрежнему, то опять сомневался, не верил ничему.
Ему хотелось встретить ее, и в то же время он боялся встречи с ней, боялся, что эта встреча будет последней и навсегда похоронит все, что было у него в жизни самого светлого и радостного, что, несмотря ни на какие обстоятельства, поддерживало и укрепляло его в трудные годы войны. Он знал, где находится рота Бахарева, следил за ней и всякий раз, глядя на карту обстановки, старался представить, где сейчас Настя и что она делает.
Конец его сомнениям положило приказание генерала Воронкова поехать в дивизию Чижова, чтобы проверить устройство проходов в минных полях как раз в том самом месте, где располагалась рота Бахарева. Теперь сама судьба уготовила ему встречу с Настей. Внимательно посмотрев в лицо Насти, Аксенов достал из внутреннего кармана вчетверо сложенный лист бумаги, развернул его и подал девушке.
Настя пробежала глазами по строчкам, порывисто отодвинула бумагу, потом снова взяла ее в руки, перечитала.
— Ничего не понимаю. Почему это?
— А что непонятно? — удивленно пожал плечами Аксенов.
— Почему меня вдруг в запасный полк переводят?
— Ничего странного! Ты же три года непрерывно на фронте, надо и спокойно пожить.
— Спокойно? — переспросила Настя, настороженно глядя на Аксенова. — Ты говоришь — спокойно? Так это по твоей просьбе?
— Да. Я просил подполковника Кучерова, — неторопливо ответил Аксенов и, заметив, что лицо Насти переменилось, поспешно продолжил: — А что тут особенного? В запасном полку работает снайперская школа. У тебя опыт. Будешь учить молодежь.
— Учить молодежь? — зло усмехнулась Настя. — Учить молодежь!.. Я снайпер, а не педагог.
— Подожди, Настя, — пытался остановить ее Аксенов. — Тогда мы будем чаще встречаться. Ты будешь в безопасности.
Настя встала из-за стола, подошла к Аксенову, долго смотрела ему в лицо и тихо, растягивая слова, проговорила:
— Это предлагаешь мне ты? Меня никто не заставлял в армию итти, никто не принуждал. Я два месяца упрашивала военкома, три месяца училась стрелять, ночи не спала, зубря баллистику.
Аксенов слушал ее возмущенный голос и чувствовал, как им овладевает такое же волнение, которое он испытывал в молдавском саду, когда увидел Бахарева и Настю вдвоем и услышал ее веселый смех. Он пытался пересилить себя, успокоиться, но это воспоминание о Молдавии еще сильнее взволновало его.
Над головой вздрогнула земля, лампа мигнула, и длинные тени заплясали по стенам землянки. Тоня бросилась к двери, но Настя остановила ее:
— Обстрел начинается, куда ты?
— Мне пора, — взглянул Аксенов на часы, вставая из-за столика.
— Как? Уже? — вскрикнула Настя.
— Я забежал на минутку. Некогда, понимаешь, служба…
— Ну что ж, иди, — устало проговорила Настя, и по ее голосу и Тоня и Аксенов поняли, что Настя с трудом сдерживает слезы.
— И вообще немного осталось этой беспокойной фронтовой жизни, — вздохнул всей грудью Аксенов, — закончится все, скоро закончится.
Он, едва коснувшись плеч руками, обнял Настю, нехотя повернулся и поспешно вышел из землянки. Настя молча подошла к столу, закрыла бутылку с остатками вина и равнодушно проговорила:
— Дядя Степа зайдет, отдай ему.
Через минуту она подошла к Тоне, взяла ее за руку и грустно улыбнулась:
— Дуры мы какие-то. Кажется, и нет причин, а плакать хочется.
VII
Никогда еще Аксенова не охватывала такая досада и злость на самого себя. И зачем только он поехал сюда, в роту Бахарева, где неизбежно он должен был встретиться не только с Настей, но и с самим Бахаревым? Проверить разминирование и сделать все, что требовалось, мог бы любой офицер. Но генерал Воронков послал именно его. Да и сам он мог бы поступить совсем не так. Что стоило, как обычно делал и он и штабные офицеры, зайти в штаб полка, взять одного из полковых офицеров и вместе с ним пойти в роту Бахарева. Тогда можно было бы и встречи с Настей избежать и с Бахаревым говорить только официально.
Думая так, Аксенов ощупью пробирался по узкому и скользкому ходу сообщения, то и дело натыкаясь на углы и выступы замерзшей, холодной земли.
Глаза понемногу привыкли к темноте. Четче обозначались раньше почти незаметные насыпи брустверов. Все вокруг казалось сплошной равниной. На земле не было заметно ни одного движения. В вышине, то замирая на мгновение, то вновь усиливаясь, неторопливо потрескивали моторы ночных бомбардировщиков. Издали доносились приглушенные взрывы.
Эта обычная для войны обстановка не успокаивала Аксенова. Уж лучше б настоящий бой с воем и скрежетом снарядов, со свистом и взвизгиванием пуль, где можно забыть все неприятное и думать только о деле.
— Стой, кто идет? — прервал мысли Аксенова тихий окрик.
— Майор Аксенов.
— Пропуск?
— Затвор… Где командир роты? — спросил Аксенов.
— Тут вот, рядом, в землянке.
Аксенов рассмотрел высокого солдата с автоматом на груди. Он шагнул навстречу и простуженным голосом предложил:
— Пойдемте, провожу.
На голову выше Аксенова, он уверенно шагал по скользкой земле.
— А темнота-то — хоть глаз коли, — добродушно говорил он, изредка покашливая, — и морозить вроде начинает. Вот сюда, тут дверь.
Аксенов поблагодарил провожатого и, нащупывая руками стены и ногами ступеньки, полез в узкий проход. Внизу едва приметно краснела тоненькая полоска света. Рука машинально нащупала ручку двери. Аксенов потянул ее на себя и остановился на пороге землянки.
— Быстрее закрывайте, — раздался чей-то знакомый голос. — Аксенов? Давно здесь?
— Только прибыл, — проговорил Аксенов, все еще не видя, с кем разговаривает.
— Мне сказали в штабе, что ты где-то здесь ходишь, — протянул ему руку полковник Чижов.
Он в наглухо застегнутом кожаном пальто сидел напротив молодого сухощавого капитана, в котором Аксенов узнал Бахарева.
— Ну, садись, рассказывай, зачем приехал. Познакомься, это вот командир роты капитан Бахарев. Старый ветеран моей дивизии, от Сталинграда шагает.
Бахарев неторопливо встал, как показалось Аксенову, с хитрецой улыбнулся и едва приметно кивнул головой. Стараясь не встретиться с ним взглядом, Аксенов присел к столу и, тихо, но отчетливо произнося слова, заговорил:
— Командующий приказал проверить разминирование и занятие исходного положения для наступления. К вам заходил, но вас не было.
— Я вторые сутки дома не был, — склонив седеющую голову, ответил полковник и скороговоркой спросил: — Что нового в верхах-то?
— Особенного ничего. Крупное наступление начинаем. Как и всегда — спешка, волнения, суматоха. Если б в сутках было часов по шестьдесят, и то времени не хватило бы.
Чижов улыбнулся, зная, что о замыслах командования из Аксенова не вытянешь ни слова.
— Ну, тогда слушай, я тебе коротко расскажу, что делается у меня. — Полковник достал из планшета карту, развернул ее на столе и, посматривая то на Аксенова, то на карту, продолжал: — Все работы по подготовке наступления в дивизии закончены. Осталось только обезвредить мины в намеченных проходах для танков и пехоты.
Слушая полковника, Аксенов почувствовал, как приходит к нему то спокойствие, которого он хотел и ожидал. С каждым словом Чижова в сознании Аксенова все яснее и отчетливее складывалась картина титанической работы многих тысяч людей. Это они — люди дивизии Чижова и всех соединений и частей, взаимодействующих с этой дивизией, — на холмах и высотах отрыли десятки километров траншей и ходов сообщения, окопов и укрытий, установили и подготовили к бою сотни пушек, гаубиц, минометов, пулеметов; это они, стрелки, автоматчики, пулеметчики, минометчики, танкисты, саперы, артиллеристы, рванутся завтра утром на позиции противника, чтобы победить.
И вдруг Аксенову стало стыдно. Тысячи людей готовятся сейчас к бою, многие из них, может быть, живут последнюю ночь, а он в это время глупо ревнует, злится, собирается кому-то мстить. «Какой же я еще мелкий человечишка», — думал майор.
И хоть полковник и продолжал говорить спокойно и тихо, водя рукой по карте, Аксенов почувствовал, как у него загорелись уши. Он привстал и взглянул на Бахарева. Капитан сидел, склонив голову к правому плечу, и сосредоточенно слушал полковника. И лицо его, и глаза, и вся молодая сильная фигура были удивительно спокойны.
Это спокойствие и сосредоточенная внимательность передались и Аксенову. Он снова присел на табурет.
Карта сейчас не интересовала Аксенова. В штабе дивизии он подробно ознакомился с построением боевого порядка дивизии, полков, батальонов, изучил организацию взаимодействия, управления войсками, проверил обеспеченность подразделений и обо всем доложил в штаб армии. Сейчас ему нужно было узнать о настроении людей, проверить устройство проходов и занятие войсками исходного положения для наступления.
Всматриваясь в лицо полковника Чижова, Аксенов видел обычное состояние напряженности, которое охватывает всех командиров — и младших и старших — перед выполнением ответственной задачи.
— Простите, товарищ полковник, — заговорил Аксенов, — а как люди? Люди как чувствуют себя?
Чижов на секунду задумался, собирая морщинки на загорелых, темных щеках.
— Видишь ли, люди-то всегда самая сложная загадка. Люди у меня хорошие. У каждого десятки боев позади. Только, понимаешь, война-то кончается, и сейчас погибать особенно обидно.
Аксенов слушал полковника и в его словах находил подтверждение собственным мыслям. Он по себе чувствовал, что война теперь стала восприниматься по-другому. Горечь поражений сменилась радостью побед. И эта радость в новом свете открыла перед человеком смысл и содержание жизни. Все чаще думалось теперь о том, что будет после войны. И если под Москвой, под Сталинградом разговоры почти всегда велись вокруг боев, то теперь везде говорили о том, что будет после войны.
— И понимаешь, — продолжал Чижов, — насколько ответственна сейчас роль командира. Нужно так организовать бой, чтобы ни одной лишней капли крови не пролилось, чтобы шел человек в бой уверенно, зная, что каждый его шаг обеспечен, гарантирован, предохранен от внезапного удара противника. Вот поэтому все мы и не спим сутками, ползаем, ходим, договариваемся, уточняем, проверяем. Ни одной ошибки, ни одного промаха, бить наверняка.
Лицо Чижова раскраснелось. Он встал, прошелся по тесной землянке.
— За своих людей я уверен, — успокоенно продолжал он, — уверен, как в самом себе. И задачу выполним. Так и доложи командующему. Город Секешфехервар будет взят, Будапешт будет окружен. Как думаете, Бахарев, окружим? — взглянул он на капитана.
— Так точно, товарищ гвардии полковник, — отчеканил Бахарев.
— Да. Так точно, так точно, — глубоко вздохнув, проговорил полковник, — ответить-то просто, а вот окружить…
Он смолк на полуслове и вновь обернулся к Аксенову:
— Что нового о группировке противника в Будапеште?
— Почти готова к наступлению. Послезавтра должна ударить. Сегодня утром пленного захватили. Показывает, что их генералы и офицеры поклялись утопить нас в Дунае. Это готовится не просто контрудар, а крупное наступление с решительными целями…
— Да, а что нового о союзниках? — перебил Аксенова Чижов.
— Плохо у них, товарищ полковник, — ответил Аксенов. — Три дня назад немцы начали наступать в Арденнах. За два дня оборона первой американской армии прорвана на фронте до сорока километров. Какими силами наступают немцы, еще неизвестно. Есть предположение, что в наступление брошены три армии. В ударной группировке более пятнадцати дивизий, из них семь или восемь танковых. Американцы бегут. Трудно сказать, чем все это кончится.
— Этого нужно было ожидать, — проговорил Чижов, — союзники просидели всю осень и ни на шаг не продвинулись. Разве это война? Напрасная трата сил.
В землянку протиснулся солдат. Он доложил, что прибыли саперы.
По голосу Аксенов узнал того самого солдата, который провожал его к Бахареву. В коротенькой не по росту шинели он казался особенно высоким и худым. Длинные руки его плетьми висели вдоль тела.
— Передайте им, Анашкин, сейчас я приду, — ответил Бахарев и обратился к Чижову: — Разрешите, товарищ гвардии полковник, приступать к разминированию.
— Да. Начинайте, — ответил Чижов и пошел к выходу, но вдруг остановился и сердито взглянул на капитана. — Подождите, Бахарев, вы же мне говорили, что у вас комсомольское собрание?
— Так точно, товарищ гвардии полковник, — заметно покраснев, ответил Бахарев.
— Так как же так? Разминирование начинается. Ваша рота должна прикрыть работу саперов.
— Все комсомольцы свободны. В расчетах остаются беспартийные.
— И людей хватает?
— Так точно. Наводчики пулеметов опытные.
— Хорошо. А вы будете на собрании?
Бахарев пожал плечами и тихо ответил:
— Не удастся. Я думал собрание провести немного раньше, но вы приехали… Да и без меня проведут, — вдруг спохватился он, — доклад комсорг подготовил, парторг батальонный будет.
— Комсомольское собрание — и без вас, — вплотную к Бахареву придвинулся Чижов, — без вас комсомольское собрание? Да вы кто — военспец или командир-единоначальник?
Чижов говорил резким, сердитым голосом, сурово глядя на смущенное лицо капитана.
— Комсомольская организация в роте — это сила, и ее нужно использовать. Ею руководить нужно. Организуйте разминирование, за себя оставьте старшего лейтенанта Басова, а сами — на собрание. И обязательно выступить. Расскажите комсомольцам, какие задачи поставило перед нами командование. И комбату доложите, — закончил Чижов и вышел из землянки.
Бахарев досадливо сморщил открытое худощавое лицо.
— Фонарик, товарищ гвардии капитан, забыли, — проговорил Анашкин и, протянув длинную руку, взял с маленькой полочки фонарь и подал его Бахареву.
Капитан молча сунул фонарь в карман:
— Пойдемте.
— Да, пошли, — ответил Аксенов.
— С вами будет Анашкин, и к полковнику Маркелову он вас проводит, — выходя из землянки, сказал Бахарев.
— Хорошо, — отозвался Аксенов, раздумывая, как ему лучше поступить: пойти на комсомольское собрание или проследить за ходом разминирования. Конечно, на комсомольском собрании многое можно узнать о настроении людей, но и разминирование нельзя оставить без контроля. В конце концов он решил пойти с саперами: по тем проходам в минных полях, которые саперы проделают перед ротой Бахарева, завтра двинутся более двадцати танков и почти два батальона пехоты.
— Где саперы? — выйдя из траншеи, спросил Бахарев.
— В первой траншее, вас поджидают, — шопотом ответил невидимый в темноте Анашкин.
Все трое направились к переднему краю. Проходя мимо углубления в стене, Аксенов узнал землянку девушек.
Бахарев шел молча, и это молчание показалось Аксенову оскорбительным. Он, несомненно, знал, не мог не знать о взаимоотношениях Аксенова и Насти и, пусть ради приличия, мог бы что-нибудь сказать о ней или о снайперах вообще. А он прошагал мимо землянки и даже не намекнул, что именно в этой землянке живет Настя. Так мог поступить только человек, не заинтересованный в сохранении хороших отношений между Настей и Аксеновым.
В раздумье Аксенов споткнулся, но Бахарев поддержал его под руку и проговорил спокойным, даже участливым голосом:
— Осторожно. Траншеи-то не успели полностью оборудовать. Бугры и ямы везде.
— Ничего. Утром эти траншеи вам не нужны будут, — смущенно пробормотал Аксенов, все еще не зная, как относиться к Бахареву.
Вокруг попрежнему было тихо. Слышалось только приглушенное гудение самолетов. Они через равные промежутки времени один за другим невидимо проплывали в сторону противника.
Бахарев остановился. К нему кто-то подошел и настороженно зашептал:
— Все готово. Расчеты на своих местах. Артиллеристы и минометчики вот здесь рядом, на моем НП. Саперы готовы.
Аксенов догадался, что это докладывал один из взводных командиров.
Несколько освоившись с темнотой, Аксенов видел теперь кое-что из окружающего: ход сообщения упирался в траншею, которая черными извивами уходила вправо и влево; в траншее стояли солдаты; справа отделилась от темноты маленькая фигура человека в маскировочном халате и приблизилась к Бахареву.
— Через восемнадцать минут начинаю, — едва слышно проговорил он.
— Это командир саперного взвода лейтенант Миньков, — доложил Бахарев.
Аксенов пожал руку Минькова, пытаясь рассмотреть его лицо.
— У меня все готово, товарищ гвардии майор, идут четыре группы, проделывают четыре прохода. С пулеметчиками, артиллеристами и минометчиками договорился. Они открывают огонь по моему сигналу.
Миньков по голосу казался совсем юношей.
— А вы сами где будете? — спросил Аксенов.
— Останусь вот здесь, на НП командира второго взвода старшего лейтенанта Басова. Здесь два капитана-артиллериста и минометчик, старший лейтенант. Они огнем прикроют разминирование. Со мной останется резервная группа саперов.
Слушая Минькова, Аксенов думал о том, что на разминирование шли всего четыре группы саперов по нескольку человек, а их работу будут обеспечивать несколько артиллерийских батарей, минометная рота и более десятка пулеметов.
Почти три сотни людей следили за каждым сигналом этого маленького лейтенанта.
— Как люди? — спросил Аксенов.
— В порядке, — уверенно, с гордостью и даже лихостью ответил Миньков, — не первый раз. Пострашней видывали. А теперь вон…
Он взмахнул рукой, видимо, пытаясь показать, какие силы обеспечивают его и какие молодцы его саперы.
Аксенов пошел с ним вдоль траншеи.
У стены плечом к плечу стояли саперы. Крайний, придерживая миноискатель, нагнулся к товарищу и шопотом говорил ему:
— И надо ж тут случиться такому: иду я, а она из-под ног. Да как рванет и пошла полем. Попервоначалу-то я и не догадался, отпрянул в сторону и стою ни жив ни мертв. Досмерти перепугался и опоздал на свиданку-то. А догадался когда, что это собака, чуть волосы на себе не рвал.
— Бывает, — врастяжку ответил его сосед и глубоко вздохнул, — а у нас теперь снежку поднасыпало, батько ружьишко за плечо — и в лес. Зайчишки-то добрые теперь, и шерсть подокрепла, белая, пушистая.
Увидев подходивших офицеров, солдаты смолкли. Крайний опустил руки, и круг миноискателя исчез в черноте траншеи.
— Титов, как нога? — спросил Миньков.
— Как новая, товарищ гвардии лейтенант, — ответил сапер, — да что ей сделается-то, поболела маленько — и хватит.
— Смотрите, если хоть чуть больно, на задание не пойдете.
— Да нет, совсем здоровая. Да с ней и не было-то ничего, так, ушиб маленько.
— А Фисенков опять, наверно, в рукав курит? — подойдя к другому саперу, спросил Миньков.
— Никак нет, товарищ гвардии лейтенант, я еще с вечера вдосталь накурился. Семь штук подряд вытянул, аж в горле запершило, дней пять терпеть могу.
По разговору Минькова с солдатами Аксенов понял, что молодой командир взвода сумел установить хорошие взаимоотношения с подчиненными. Солдаты говорили с лейтенантом непринужденно и в то же время с заметным уважением к нему.
— Хоть бы ветер подул и дождь ливанул, что ли, — отойдя от солдат, сердито проговорил Миньков. — А то замерло все…
Ночь действительно была на редкость тихая. Ни одного дуновения ветерка. Непроглядное небо сливалось с темнотой на земле. И если б не беспрерывно пролетавшие самолеты, то каждый шорох можно было бы услышать за сотни метров. Аксенов участвовал в разработке планов этого наступления и знал, что самолеты в эту ночь летают не только для бомбежки противника. По приказу командующего армией они маскируют работу саперов и занятие войсками исходного положения для наступления. Поэтому самолеты шли на небольшой высоте, подолгу кружили над одним и тем же районом, уходили в тыл противника и вновь возвращались, описывая невидимые круги. Во время разработки плана наступления Алтаев потребовал рассчитать так полеты самолетов, чтобы один из них в любую минуту обязательно находился в воздухе. Ни одной секунды без гула авиационных моторов — такой закон был положен в расчет работы авиации.
Миньков в последний раз обошел своих саперов и вернулся к Аксенову:
— Время. Разрешите начинать?
— Начинайте.
Аксенов и Миньков торопливо прошли на НП. Он был здесь же, в ответвлении траншеи. Два артиллериста, минометчик и командир стрелкового взвода Басов чудом умещались в маленькой щели. Возле нее, прямо на дне траншеи, сидели три телефониста и еще какие-то люди. Это, видимо, были посыльные и ординарцы. Аксенов с трудом пробрался среди них и втиснулся в щель. Оказывается, она могла вместить еще двух человек.
— Пошли мои, теперь только смотреть, — шепнул Миньков.
— Гогиа, — позвал кого-то Басов, — бегом на НП комбата и доложите: саперы начали.
Невидимый Гогиа ответил: «Слушаюсь», и по траншее зашуршали шаги.
Все замерли. Справа и слева на мгновение мелькали над бруствером черные сгорбленные фигуры и таяли в темноте. Аксенов стиснул зубы, подавляя дрожь. Он представил себя сейчас на месте саперов. О чем думал каждый из них? Как стучало сердце у каждого? Наверное, так же, как и у него…
На земле не слышалось ни одного звука. Только в воздухе непрерывно гудели авиационные моторы. На счастье, в этот момент летели одновременно три самолета. Один почти над землей возвращался из тылов противника. Второй шел выше, тяжело нагруженный бомбами. Третий кружил где-то левее.
Внезапно впереди раздался выстрел. Аксенов вздрогнул.
— Ракета, — простонал Басов.
В колеблющемся свете Аксенов увидел голую и гладкую, как стол, равнину. Ни бугорка, ни кустика. Только переплетение проволочных заграждений впереди и линия траншей за ними. Сейчас, видимо, из этой траншеи полыхнут выстрелы.
Ракета, повиснув словно навечно, изливала потоки слепящего света. Но саперы будто сквозь землю провалились. Траншея противника молчала. Наконец последние искры чиркнули в воздухе, и наступила темнота.
— Не обнаружили, — протяжно выдохнул Миньков.
Аксенов расслабленно опустил голову на руки. Хотелось пить. Опаленные губы саднило.
Опять потянулось ожидание. Аксенов сполз с бруствера и стал на дно траншеи.
— Ну как? Все в порядке? — раздался позади шопот Бахарева.
— Так точно, — ответил Басов.
— Вы что, не пошли на собрание? — спросил Аксенов.
— Уже закончилось.
— Так быстро?
— Как быстро? Больше двух часов.
Аксенов взглянул на светящиеся стрелки часов. В самом деле, со времени начала работы саперов прошло два часа и семнадцать минут.
По траншее двигались люди. Один из них подошел к НП и тихо спросил:
— Наш лейтенант здесь?
Миньков обернулся и прошептал:
— Это вы, Грищенко?
— Так точно. Задание выполнено. Сняли семнадцать противотанковых. Проход отметили бугорками.
— Хорошо. Отдыхайте, — ответил Миньков и вновь прильнул к брустверу.
Через несколько минут вернулись еще две группы. Они также благополучно проделали проходы в минных полях. Теперь в «нейтральной зоне» оставалось всего несколько саперов. Миньков заметно волновался. Он уже лежал на бруствере, свесив ноги в окоп. Бахарев пристроился рядом.
Аксенов придвинулся к Минькову, уперся локтями в бруствер и, не отрываясь, смотрел. Где-то невдалеке заканчивали работу саперы. Они вот-вот должны вернуться. От напряжения ломило глаза. Нетерпеливое волнение вновь овладело Аксеновым.
— Огонь! — разом крикнули и Миньков, и Бахарев, и артиллерийский капитан.
Над равниной повисли две ракеты. Из траншеи противника безудержно застрочил пулемет. К нему от наших позиций потянулись мелькающие хвосты трассирующих пуль. Они создавали огромный угол, вершиной сходящийся там, откуда вспышками озарялся немецкий пулемет. Между этими движущимися сторонами угла на ослепительно-белой земле неподвижно лежали шесть едва заметных бугорков. Это были саперы.
Пулемет противника озарился новой очередью вспышек и смолк. Справа от него одновременно застрочило несколько автоматов. Потоки мерцающих точек на мгновение оборвались и вновь поспешно потекли туда, откуда били автоматы. Теперь уже в свете меркнувших ракет тянулись к траншеям противника восемь или десять трасс. Все пришло в движение. В разных местах заблестели вспышки выстрелов и на стороне противника. Оттуда взвилось еще несколько ракет. Саперы лежали неподвижно всего метрах в ста от своей траншеи. Позади Аксенов слышал команды артиллеристов и минометчиков:
— Дивизионом, по цели номер три! Огонь по цели номер шесть!
Где-то за траншеей раздались залпы. Над головой один за другим пролетели снаряды. Полыхнула длинная серия разрывов, и широкой стеной взметнулись высокие столбы дыма и пыли. Донесся раскатистый обвальный грохот.
Ракеты погасли. Сгустилась черная, непроглядная мгла, в разных местах разрываемая лишь трассами пуль и вспышками взрывов.
— Грищенко, — кричал Миньков, — на помощь Афанасьеву!
Миньков рванулся из окопа. За ним промелькнули саперы.
— Огонь! — кричал Бахарев. — Не прекращать огня!
Артиллерия и минометы били не умолкая. Среди воя и скрежета снарядов глухо трещали пулеметы. Справа и слева стучали одиночные выстрелы.
В смутном полусвете Аксенов увидел саперов. Они, не маскируясь, в полный рост бежали к своим траншеям.
— Все вернулись! — прокричал Миньков.
Он прыгнул в траншею. За ним один за другим прыгали саперы.
— Молодцы, — сжал руку Минькова Аксенов, — о вашей работе я доложу командующему.
— Служу Советскому Союзу! — отчеканил молодой офицер и робко проговорил: — Пойдемте ужинать с нами, товарищ гвардии майор… Рыба у нас свежая. Вчера в Веленце наловили и нам прислали. И вино есть, старое, лет под пятьдесят…
— Как-нибудь в другой раз. Сейчас не могу, — как можно мягче ответил Аксенов, боясь обидеть этого храброго маленького лейтенанта.
Офицеры, окружившие Минькова, пожимали ему руки. Он растерянно стоял среди них, не зная, кому отвечать. Наконец он пришел в себя и по-начальнически строго сказал Бахареву:
— Только не давайте немцам снова загородить проходы. А то, как только обнаружат, опять понатыкают мин. Чуть где-нибудь шевельнутся — сразу огонь, всем, что есть. А то беда нашим: пойдут в атаку и — будь здоров — нарвутся на мины. Вся работа прахом пойдет.
— Можете не волноваться, — успокоил его Бахарев, — каждый проход под четырехслойным огнем. Мышь не пробежит.
— Ох, а спать хочется, — неожиданно проговорил Миньков и широко зевнул.
Аксенов невольно улыбнулся, сравнивая Минькова зевающего с Миньковым, который всего несколько минут назад лежал на бруствере. Тот был строг и сосредоточен, как туго сжатая пружина, а этот по-мальчишески беспечен и прост.
— Может, в самом деле поужинаете, — подошел к Аксенову Бахарев, — мы сейчас быстренько сообразим.
— Нет, — взглянув на часы, решительно отказался Аксенов. — В полк Маркелова и к танкистам опоздаю. Где бы тут пристроиться, донесение написать?
Рядом оказалась хорошая подбрустверная ниша. Бахарев провел в нее Аксенова. В нише дремали два солдата. Они потеснились, и Аксенов при свете фонарика написал коротенькое донесение, тут же закодировал его и попросил Бахарева срочно передать в штаб армии. Там теперь ждали донесения.
Перед большим наступлением в штабе даже глубокой ночью обычно никто не спал. Сейчас туда со всех сторон стекаются такие вот сообщения, в оперативном отделе их раскодируют, обобщают, если нужно, данные наносят на карту и докладывают командованию армии. Из этих маленьких сообщений и донесений вырисовывается картина гигантской работы тысяч людей, которая дает возможность командующему и штабу армии следить за ходом подготовки наступления и своевременно принимать меры, если работа где-нибудь застопорилась или проводится не так, как нужно.
Прощаясь с Бахаревым, Аксенов вспомнил, что за всю ночь, пока шло разминирование, он ни разу не вспомнил Настю. Сам Бахарев казался ему сейчас совсем не таким, каким представлял он его до этой встречи. А завтра этот капитан первым выскочит из траншеи и рванется навстречу ливню вражеского огня. Трудно сохранить спокойствие, зная, что через несколько часов придется пойти в атаку. А Бахарев умел не только сохранять спокойствие, но и всем своим поведением внушать спокойствие другим людям. Таких офицеров Аксенов искренне уважал и сейчас, несмотря на прежнее недоброжелательное отношение к Бахареву, тепло простился с ним и искренне пожелал ему удачи.
Проводив Аксенова, Бахарев постоял немного в траншее и пошел в свою землянку. Подготовка к наступлению была закончена, и теперь можно немного отдохнуть.
Он зажег лампу, снял шинель и хотел было прилечь, но плащ-палатка, заменявшая дверь, распахнулась, и в землянку шагнул инструктор политотдела Крылов.
— Вот ты где устроился-то, а? — раздался густой басистый голос. — А я хожу, хожу и никак не могу разыскать.
— Борис Иванович, как же это вы? — вскрикнул Бахарев, делая шаг навстречу вошедшему подполковнику.
— Не радуйся, — присаживаясь на ящик, остановил его подполковник. — Ты что же это, сам сидишь в землянке, а солдаты спят в траншеях? А? Тебе что, лето? Соловьи под Курском? Декабрь кончается.
— Как в траншеях? — недоуменно переспросил Бахарев. — У меня на всех блиндажей хватает.
— А саперы, а артиллеристы? Они же вместе с твоей ротой действуют, а блиндажей-то для них никто не приготовил. Мои, мои… На фронте нет моих, твоих. Все свои.
Бахарев смущенно смотрел в круглое с маленькими щетинистыми усами лицо инструктора политотдела армии и почти шопотом говорил:
— Разрешите… Схожу… Размещу всех.
— Сиди, поздно. Солдат солдату всегда поможет. Им только иногда напомнить не мешает. Все: и саперы и артиллеристы — в твоих землянках спят. Тесновато, но зато тепло. А на будущее учти и не забывай о приданных подразделениях.
Он говорил строгим голосом, но в глазах его играли веселые огоньки, а под усами таилась заразительная улыбка. Он снял шапку, пригладил негустые седоватые волосы и, подбросив в железную печку дров, спросил:
— Ну, рассказывай, как дела?
— Рота готова, саперы проделали проходы, все люди задачу знают, провели комсомольское собрание.
— Ну, а как сам чувствуешь себя?
— Как всегда, задачу выполним.
— И твердо уверен?
— Твердо.
— Смотри, ты коммунист. С тебя втройне спросится.
Они помолчали, глядя на разгоревшийся огонь в печке, и, одновременно подняв головы, встретились взглядами. Крылов усмехнулся, под его усами заблестели крепкие белые зубы.
По взгляду Крылова Бахарев чувствовал, что подполковник чем-то недоволен. Крылов отвернулся, подбросил в печку дров и застучал пальцами по коленям. Эта привычка постукивать пальцами была хорошо знакома Бахареву. Меньше года назад под Звенигородкой на Украине Крылов, так же как и сейчас, прибыл в роту Бахарева. Заканчивалась ликвидация окруженной группировки немецко-фашистских войск в районе Корсунь-Шевченковского. Измученные многосуточными боями люди вповалку спали на полу в полуразрушенной хате. Разбитая печь сильно дымила. Едкий дым разъедал глаза, но солдаты спали непробудным сном. Только Бахарев и Крылов сидели возле огня и вполголоса разговаривали. Этот ночной разговор Бахарев запомнил на всю жизнь. Крылов говорил о людях, о партии, о силе партийного коллектива. Помешивая угли, он рассказывал, как в гражданскую войну в боях под Перекопом четыре коммуниста подняли в атаку целый полк. Трое из них погибли, остался в живых только один, но в бою в партию вступило более сотни красноармейцев. Долго в ту ночь проговорили Бахарев и Крылов, а через несколько дней в роте была создана партийная организация. Было вначале в ней всего три человека, а после прорыва немецких позиций под Звенигородкой она увеличилась до одиннадцати человек. Это был сравнительно небольшой коллектив, но Бахарев чувствовал, насколько ему стало легче работать.
Шли бои в Молдавии, Румынии и Венгрии. Два командира взводов были переведены в другой полк, старшина и три сержанта уехали учиться, парторг погиб под Бухарестом, при форсировании Дуная ранило трех коммунистов, и из всей партийной организации остался только один командир роты.
Бахарев хотел рассказать об этом Крылову, но, по выражению его лица поняв, что они думают об одном и том же, промолчал.
Крылов взглянул на него:
— В роте остался один коммунист?
— Да, — отозвался Бахарев и тут же спохватился, продолжая горячо и взволнованно: — А люди-то какие! Любого хоть сейчас в партию. Такие испытания прошли!
— Отлично, — остановил его Крылов, — очень хорошо, когда командир так ценит своих подчиненных. Они тебе отплатят тем же.
Крылов неожиданно смолк и, откинув голову, задумался. Его губы едва заметно шевелились, морщины на покатом лбу разгладились, и седина на висках не казалась такой белой.
— Как родители, пишут? — оживился он и вновь распрямился.
— Да. Вчера получил. Отец по три нормы в смену выжимает, а мать на новую работу перешла. И знаете, никогда бы не подумал: диспетчером гаража стала. Ну, я представляю, как достается бедным шоферам от нее. Тут уж на работу не запоздаешь и «налево» не завернешь.
— Сколько ей?
— Сорок шестой пошел.
— Ровесники.
— А у вас большая семья?
Крылов неторопливо достал папиросу и, окутываясь дымом, ответил:
— Не очень, но серьезная. Три сына и дочка. Старший в восьмом учится, а младшему четыре. И писать научился, постреленок. Посмотри, как выводит.
Он расстегнул шинель, достал из бокового кармана кителя письмо:
— Вот видишь.
Внизу на чистой страничке крупными, неровными буквами было старательно выведено: «Папочка, скорее приезжай домой».
Рассматривая детские буквы, Бахарев невольно прочитал последние строчки письма: «Трудновато немного, ребята пообносились. Каждый день латаю, но все равно рвется. Только, милый Боренька, ты не тревожься. Все переживем. Мечтаем лишь о встрече с тобой».
Бахарев невольно покраснел и долго не мог смотреть в глаза Крылову.
— А они где живут, в Ташкенте? — спросил он.
— Да. Эвакуированы из Молодечно. И за всю войну ни разу не удалось встретиться.
В голосе его звучала затаенная грусть, серые глаза стали задумчивы, лицо посуровело, и усы слегка вздрагивали.
— Ну что ж, желаю самого лучшего, — взглянул на часы Крылов, — смотри только, не горячись в бою. А меня провожать не нужно, — остановил он вставшего Бахарева, — я и сам дорогу знаю. Отдыхай, сил набирайся, работа предстоит нелегкая.
VIII
Странный сон увидела Настя. Перрон какой-то незнакомой железнодорожной станции. Взад и вперед снуют люди. Все куда-то спешат, обгоняют друг друга, волнуются. Поезд давно готов к отправлению, но никто не садится в вагоны.
Настя стоит в пустом купе и смотрит в раскрытое окно. На маленьком столике пристроился мальчуган, ее сын, удивительно похожий на Аксенова. Он теплой ручонкой обвил ее шею, лепечет что-то непонятное и тянется на улицу. Она силится понять, что хочет сказать он, но слова мальчика бессвязны.
— Что ты, что? — спрашивает она сына, гладя его светлые льняные волосы.
— Где папа? — наконец удается уловить смысл его лепета.
— Он придет сейчас. Конфетку тебе принесет и мишку — пушистого-пушистого. Знаешь мишку?
— Наю, — отвечает мальчик и по-взрослому тоскливо смотрит в окно.
«Да где же Николай-то, — начинает волноваться Настя, — ушел на минутку, а прошло уже полчаса».
Она всматривается в толпу. Кругом чужие, незнакомые люди, и никто не говорит по-русски. Наконец вдали показался Аксенов. Он бежит, расталкивая людей, и высоко поднимает в руках огромный сверток.
— Волновалась? — подбежав к вагону, спрашивает Николай.
Настя хочет рассердиться на него, но не может. Лицо у него такое радостное, возбужденное, что ей хочется руками дотянуться до его шеи, приблизить голову к себе и прижаться губами.
— Сейчас поедем, — взволнованно говорит Николай, — я был у начальника станции, теперь никаких задержек не будет.
— Папа, де мишка? — отталкивая от окна мать, кричит мальчик.
Настя ловит его теплые ручки, ладонями легонько сжимает и, целуя нежные щечки, приговаривает:
— Пришел папа, пришел папа!
— Да, мама, не мешай, — вырывается из ее рук мальчик, капризно надувая розовые губки, — я к папе хочу.
Николай тянется к сыну, но поезд трогается с места. Замелькали на платформе люди, суета и крики заглушают перестук колес. Николай вцепился рукой в раму вагонного окна, что есть силы бежит за вагоном, но поезд идет все быстрее и быстрее.
— В окно, в окно прыгай! — кричит Настя, хочет схватить Аксенова за руку, но не успевает. Николай оторвался от вагона и скрылся в толпе. Растаяли последние городские домики, унылая равнина потянулась за окном. Желтеют пески, кое-где покрытые какими-то коряжистыми деревьями. Знойное солнце нещадно палит и так уже раскаленную землю.
Настя до пояса высунулась из окна. Горячий ветер обжигает лицо, рвет волосы, прижимает ее к оконной раме.
— Упадешь, мама! — сквозь свист воздуха и перестук колес слышит она крик сына.
Настя с трудом оторвалась от окна, обессиленно присела и прижала сына к груди. Беспомощность и отчаяние охватили ее. Она привстала, хотела выйти из купе… и проснулась.
«Сколько же времени?» — подумала она, осторожно, стараясь не разбудить Тоню, поднялась с нар и выглянула наружу. В небе едва приметно брезжил рассвет. Над землей спокойно мерцали бледные звезды. Прохладный воздух нежно обвевал разгоряченное лицо. Глубоко дыша, она постояла и вернулась в землянку. Нужно будить Тоню. Пора занимать огневую позицию и вновь подкарауливать фашистов. Наступало самое ответственное для снайпера время. Скоро разгуляется день. Рассеется утренний туман, и наши позиции откроются взглядам вражеских наблюдателей. А в это время как раз и нельзя давать увидеть противнику, что делается в нашем расположении. Капитан Бахарев несколько раз предупреждал: «Смотрите, Прохорова, до начала артиллерийской подготовки вы должны помешать противнику вести наблюдение. Иначе он может обнаружить нашу подготовку к наступлению. И тогда сами понимаете, что может случиться».
Всегда перед началом наступления Настя чувствовала себя тревожно и неуверенно. Выполнять боевую задачу ей приходилось только до начала атаки, а затем она оставалась в тылу, помогая санитарам переносить и перевязывать раненых. Полковник Чижов категорически запретил девушкам участвовать в атаке. Вначале это обижало Настю: вся рота идет в атаку, а она сидит в тылу. Но постепенно она привыкла и поняла, что работа на медицинском пункте не менее важна, и там дорог каждый человек, способный оказать помощь раненым.
Тоня спросонья долго не могла опомниться, потом спохватилась, заметалась по землянке, натыкаясь то на стены, то на столик, то на дверь.
— Быстрее, быстрее, — торопила ее Настя, — завтракать будем в траншее.
Тоня надела шинель, подпоясалась, схватила винтовку.
— Я уже, пошли, — заспанным голосом проговорила она.
Настя осмотрелась, и ей стало жаль оставлять их временное жилье. Каждый раз, покидая обжитую землянку или окоп, ей становилось грустно и тоскливо, будто расставалась она с родным домом.
У выхода из землянки девушек встретил комсорг роты Васильков. В эту ночь комсорг совсем не ложился спать. Он обошел все взводы и отделения, поговорил со всеми комсомольцами, еще раз напоминая об ответственности боевой задачи. Щеки его горели нездоровым румянцем, но стройная фигура в ватнике и до блеска начищенных сапогах казалась строгой и сильной.
Настя остановилась возле ответвления траншеи. Здесь находилось тщательно замаскированное снайперское гнездо. Впереди волнами переливалась молочная пелена тумана. За ней скрывался передний край обороны противника.
— Ничего не видно, — всматриваясь в туман, проговорила Настя.
— Хорошо, — ответил Васильков. — И противник ничего не видит, не сможет обнаружить подготовку нашего наступления.
Он прислонился к стене траншеи, задорно прищурил глаза и, встряхнув головой, весело проговорил:
— Люблю туман. Бежишь в школу бывало, — а знаете, в Туле осенью от Упы поднимается густой туман и все-все закрывает, — так вот бежишь, словно купаешься в нем. И вокруг таинственно, загадочно. Вот сейчас, кажется, выплывет какое-нибудь чудовище. А со всех сторон рабочие на заводы спешат, мальчишки в школу, трамваи погромыхивают. Красота!
По траншее, не спеша, осматриваясь по сторонам, шел капитан Бахарев. Он остановился около девушек и устало присел на земляную приступку.
— Туман, — проговорил он, ни к кому не обращаясь, — часа два еще провисит, не меньше.
Тоня всегда робела в присутствии капитана. Он несколько раз говорил с ней, и каждый раз она, краснея, отвечала ему невпопад.
— Ну как, Висковатова, выспались? — взглянув на Тоню, спросил Бахарев.
— Так точно, товарищ гвардии капитан, — заученно ответила она.
— Вот и хорошо, вот и хорошо, — задумчиво говорил Бахарев. — Вот что, Саша! — обернулся он к Василькову: — Идите спать.
— Товарищ гвардии капитан…
— Никаких разговоров, — оборвал его Бахарев.
— У меня еще не все сделано…
— Идите спать, — настойчиво повторил Бахарев. — Куда вы годитесь после бессонной ночи!
Васильков нахмурился, потом по-детски виновато улыбнулся и неторопливо пошел в ход сообщения.
Бахарев хотел было отправиться в третий взвод, но из-за изгиба траншеи показался коренастый, с грубоватым, волевым лицом сержант Косенко. Он шел, склонив голову, и, не доходя до Бахарева, осмотрелся, облизнул губы, поднял было руку к пилотке, но тут же опустил ее.
— Вы ко мне? — остановил его Бахарев.
— Так точно. Дозвольте… Вот… Написал я… — сбиваясь, заговорил он, отстегивая клапан кармана. — Вы член партии. И я к вам… Вот…
Он протянул Бахареву вчетверо сложенный лист бумаги, смело глядя на капитана большими серыми глазами.
«В партийную организацию первого батальона, — прочитал Бахарев, — от гвардии сержанта Косенко Никифора Петровича. Заявление. Сегодня мы идем в наступление. Я клянусь бить фашистов до последней капли крови. Вся моя жизнь принадлежит Родине, Коммунистической партии, Советскому Союзу. Прошу принять меня в ряды славной партии большевиков».
Бахарев пожал Косенко руку и, глядя на него, вспомнил, как год назад под Чигирином на Украине пришел в роту оборванный, кудрявый хлопец. Всю его семью расстреляли фашисты. Сам он почти целый год скрывался в камышах на берегу Тяснина, и как только увидел первых советских солдат, бросился к ним навстречу. О семье он никогда не вспоминал, но когда в роту приходили письма, он мрачнел, уходил куда-нибудь и подолгу сидел в одиночестве.
Комсорг роты Васильков поддерживал оживленную переписку со своими земляками и однажды послал письмо в тульскую областную газету «Коммунар», где описал жизнь Косенко и постигшее его горе. В ответ на это пришла газета со статьей о Косенко и в его адрес посыпались десятки писем. Молодому украинцу писали девушки, пожилые женщины, пионеры, рабочие тульских заводов, колхозники, учителя.
Косенко заметно повеселел, отвечал на письма и с каждым днем воевал все лучше и лучше. Прошел год, а Косенко попрежнему получал по нескольку писем в день. За этот год из робкого, молчаливого солдата он превратился в смелого, инициативного командира отделения. На его личном счету было два подбитых танка и более двух десятков уничтоженных гитлеровцев.
— Я дам вам рекомендацию, — проговорил Бахарев, сжимая руку Косенко, — я уверен, вы оправдаете доверие партии.
— Товарищ гвардии капитан, тут еще солдат из моего отделения заявление написал, Турдыбаев…
— А где он?
— Я здесь, товарищ капитан, — подбежал черноглазый узбек.
— Хорошо, товарищ Турдыбаев, — сжал и его руку Бахарев, — и вам я смело дам свою рекомендацию, уверен, что вы не подведете.
— Никак не подведу… Мой отец батрак был, в колхоз первый вступил. И мне сказал: «Трусом будешь — умри лучше».
Когда в Молдавии Турдыбаев пришел в роту, Бахарев не знал, что с ним делать. Смуглолицый, низкорослый узбек мог произнести всего несколько русских слов и неизменно твердил: «Гитлер бить хочу». Стрелял он плохо, к местности применяться не умел, при неудачах огорчался и был готов расплакаться.
Две недели Бахарев сам занимался с ним и, обучая Турдыбаева русскому языку, сам запомнил много узбекских слов. Труд не пропал даром. Когда рота пошла в наступление под Яссами, Турдыбаев вырвался вперед, первым вскочил в траншею противника и заколол гитлеровца. С этого и началась боевая жизнь молодого узбека. Если нужно было под огнем проползти ужом, то Бахарев знал, что лучше Турдыбаева этого никто не сделает.
Проводив Косенко и Турдыбаева, Бахарев широко улыбнулся. На душе у него стало просторно и легко. Теперь он был уверен, что рота боевую задачу выполнит.
Туман рассеивался. Вырисовывались позиции противника. Те же проволочные заграждения, черные извивы траншей и ходов сообщения — и нигде, ни одного движения. Казалось, впереди никого нет, немцы покинули свои позиции и ушли, узнав об угрозе, нависшей над ними. Так же внешне безлюдно было и в наших траншеях. Люди замерли на своих местах. Только изредка то там, то здесь, пригибаясь почти к самому дну траншеи, торопливо пробирались посыльные и офицеры.
Настя и Тоня поочередно всматривались в расположение противника. Иногда в снайперском прицеле появлялась человеческая голова, но тут же скрывалась, и девушкам ни одного раза не удалось выстрелить.
Внезапно земля дрогнула, на всем фронте тысячеголосо рявкнули орудия, и в небе завыли, застонали, заскрежетали снаряды. Впереди, где только что змеились траншеи и ходы сообщения немецкой обороны, стояла сплошная иссиня-черная стена дыма. Внизу, там, где должна была находиться земля, рваными вспышками полыхали взрывы. Их было так много, и они возникали так часто, что казалось, на огромном пространстве разверзлась земля и из ее недр вырываются огромные языки пламени. Отдельных взрывов не было слышно: все слилось в сплошной неумолкающий вой. Стрелки, пулеметчики, саперы, связисты стояли в траншее и смотрели вперед, где клокотали огонь и дым.
В небольшом углублении возле капитана Бахарева собрались взводные командиры, маленький лейтенант с эмблемами сапера, старшина и несколько солдат. Впереди всех, опираясь локтями о бруствер, смотрел в стереотрубу артиллерийский капитан. Он изредка отрывался от окуляров, из рук сидевшего рядом связиста брал телефонную трубку и что-то кричал.
— Ну как? — на ухо спросил Тоню неизвестно когда подошедший Васильков. Горячее дыхание его щекотало ухо, но голос звучал глухо, словно из подземелья.
— Здорово! — крикнула Тоня и не услышала собственного голоса.
— Бог войны, — поняла Тоня по движениям губ Василькова, — артподготовка.
Внезапно гул артиллерии смолк. Кто-то из стрелков хотел было рвануться вперед, но окрик Бахарева остановил его.
Справа и слева застрочили пулеметы. Легкий ветерок раздвигал тяжелую завесу дыма и пыли. В просветах опять показались позиции противника.
— Атака сейчас, Саша, атака, да? — еще ничего не слыша, трясла Тоня плечо Василькова.
— Нет, рано еще, — едва расслышала она голос комсорга.
— Укрыться всем, не выглядывать из траншеи! — в разных концах кричали взводные и отделенные командиры.
— Тоня, что ты стоишь, наблюдай! — крикнула Настя.
Только сейчас Тоня заметила, что Настя не отходила от бойницы и все время не отнимала приклада от плеча.
— У кучи камней, видишь? — проговорила Настя.
Тоня через прицел стала прощупывать взглядом воронки и камни. В одной из воронок что-то шевельнулось. Тоня присмотрелась и с удивлением увидела, как из уцелевшей траншеи на корточках выползал фашист. За ним пробирался второй. Позади виднелся еще один человек и ствол пулемета. Настя выстрелила. Тот, что полз первым, уткнулся лицом в землю. Второй, с пулеметом, отскочил в сторону. Тоня выстрелила. Фашист продолжал устанавливать пулемет. Тоня выстрелила второй раз, но пулеметчик успел скрыться в воронке и дал длинную очередь. Пули роем запели над траншеей.
— Эх, ты! — озлобленно крикнула Настя.
Тоня задрожала от обиды и долго не могла в прицеле поймать пулеметчика. Настя все стреляла. Когда Тоне удалось отыскать знакомую воронку, пулемет торчал из нее дулом вверх. Рядом с ним разбросал руки в стороны фашист.
Новый шквал артиллерийского огня потряс землю. Опять вся оборона противника скрылась в сизо-черной туче. В этот раз сила огня была еще страшнее. Все вокруг стонало, выло и взвизгивало.
— Приготовиться к атаке! Приготовиться к атаке! — неслось из края в край.
По траншее бегали командиры. Стрелки собирались возле сделанных в траншее ступенек. Пулеметчики вытаскивали из укрытий пулеметы. Около стоявшей в окопе пушки хлопотали артиллеристы. Все спешили и волновались. Только капитан Бахарев спокойно ждал. Возле него стоял артиллерийский капитан. Лейтенант Миньков что-то растолковывал своим саперам, показывая вперед. Анашкин несмело переминался с ноги на ногу позади Бахарева, держа какой-то сверток в руках.
— Некогда сейчас, — отмахнулся от него Бахарев. К нему подбежали связные от взводов и доложили о готовности к атаке.
Бахарев взял телефонную трубку, вызвал командира батальона, что-то сказал ему и наклонился к артиллерийскому капитану:
— Ну, Степа, теперь, браток, начинается наша работа.
Из тылов ползли танки. К гулу артиллерийской канонады примешался шум множества моторов.
— Миньков! — крикнул Бахарев. — Обозначить проходы.
Маленький лейтенант метнулся к своему взводу, и через минуту от него в разные стороны побежали солдаты. Они, словно регулировщики на дорогах, выскочили на бруствер и флажками указывали танкам дорогу. Тридцатьчетверки, разбившись на четыре группы, устремились к саперам с флажками.
— Сигнал! — одновременно закричали и Бахарев, и артиллерийский капитан, и солдаты в траншее.
Над позициями в разных местах взметнулись букеты красных ракет.
Стрелки один за другим выскакивали из траншеи и растекались в стороны. За ними пулеметчики выкатывали пулеметы. Пехоту обгоняли танки. Позади них артиллеристы выдвигали пушки. Разрывы снарядов переместились куда-то в глубину, и теперь весь передний край обороны противника настороженно молчал. К нему катилась лавина людей и машин. В вое снарядов и реве моторов хлопали винтовочные выстрелы, трещали автоматные и пулеметные очереди. Пехотинцы, пристраиваясь в хвост танкам, шли ускоренным шагом, стреляя на ходу.
— Вперед! — крикнул Бахарев и выскочил из траншеи.
За ним побежали артиллерийский капитан с радистом, Анашкин, посыльные от взводов.
Настя и Тоня стояли в своем окопе и смотрели на атаку.
Танки проскочили проволочное заграждение противника и вырвались к траншеям. За ними, не отставая, бежали пехотинцы.
Тоня различила высокую фигуру Василькова. Он на ходу пускал короткие очереди из автомата. Рядом с ним бежали солдаты из второго взвода. Один, маленький, взмахнул рукой, и в траншее показалось сизое облачко. Васильков и еще два солдата прыгнули туда, где только что взорвалась граната, и тут же появились обратно, вытаскивая какого-то человека. Тоня поняла, что это был пленный.
Левее Василькова рядом с танком виднелся сержант Косенко. Он махал руками, видимо что-то показывая своим солдатам. Все его отделение подбежало к нему. Косенко перепрыгнул через траншею и скрылся в ходе сообщения. За ним скрылись и солдаты. Теперь одни каски виднелись на фоне брустверов. Из соседнего окопа застрочил немецкий пулемет. Тоня вскочила и чуть не закричала. Фашист в упор стрелял по бегущим солдатам. Оттуда, где только что скрылось отделение Косенко, выскочил маленький человек и бросился к пулемету. Тоня узнала Турдыбаева. Он в несколько прыжков подскочил к пулемету и дал автоматную очередь. Вражеский пулемет смолк. К нему подбегали другие солдаты из отделения Косенко.
Настя встряхнула Тоню за плечо:
— Пойдем на перевязочный пункт.
Тоня нехотя поднялась. Рота уже скрылась за черным гребнем. Там, где только что бежали стрелки, стояли пушки. Они куда-то стреляли.
IX
Командный пункт генерала Алтаева располагался на двугорбой высоте, склоны которой совсем недавно золотисто пламенели ровными рядами виноградников, а сейчас были сплошь черные, избитые и развороченные страшной силой взрывов снарядов и бомб. И только в одном месте, на самой вершине южного холма, чудом уцелел маленький участок — метров тридцать в длину и немного меньше в ширину — не тронутого войной, стройного, на высоких кольях, нежного и хрупкого виноградника. Этот одинокий живой островок среди моря разрушений и смерти привлекал взоры всех, кто видел его. Еще в то время, когда за этот клочок земли зацепились передовые подразделения гвардейцев и гитлеровцы обрушили на них всю силу своей артиллерии и авиации, никто из советских солдат не вырыл ни одного окопчика в винограднике. Позже, когда все вокруг было черным-черно от воронок, а советские пехотинцы продвинулись вперед и их место на высоте заняли артиллеристы, кусок виноградника ревниво охранялся воинами. Его стороной объезжали танкисты и артиллерийские упряжки, на нем не ставили — хотя с военной точки зрения место было самое удобное — ни пушек, ни пулеметов. Так и остался он живым напоминанием о мирной, трудовой жизни, мечты о которой владели в то время умами многих миллионов людей.
Алтаев всматривался в дымное поле боя, временами отводя взгляд на уцелевший виноградник. Там, впереди, по такой же, как и на высоте, изрытой и развороченной земле ползали приземистые, со стороны неуклюжие и малоподвижные танки, перебегали редкие, удивительно редкие, пехотные цепи, в одиночку и небольшими колоннами двигались артиллерийские упряжки, тягачи, автомобили. И над всем этим сплошным движением висело хмурое, задымленное небо с тусклым, словно померкшим, солнцем. А движение на земле все нарастало и убыстрялось. Тысячи людей, сотни машин и повозок, казалось, перемешались, перепутались, заблудились и делают совсем не то, что нужно. И только опытный глаз военного в этом беспорядочном, суматошном перемещении людей и машин среди частых, не прекращающихся на всем пространстве взрывов мог увидеть и понять ту четкость и организованность, которая на военном языке называется взаимодействием и которая составляет главную заботу всех командиров, начальников штабов, офицеров и генералов.
Всматриваясь в движение людей и машин, Алтаев прислушивался к словам генерала Воронкова, который сидел на земляной приступке и связывался по телефону то с одним, то с другим командиром корпуса.
— Ясно!.. Высота занята… А где ваши вторые эшелоны? — спокойным тенорком спрашивал Воронков. — Начали движение вперед… Понятно… Артиллерия меняет огневые позиции. Понятно.
По этим обрывкам разговора Алтаев представлял, что сейчас происходит там, в стрелковом корпусе, с командиром которого разговаривал Воронков.
Самый молодой из всех генералов гвардейской армии, Воронков до поступления в Академию имени Фрунзе командовал танковым взводом, ротой, батальоном.
После окончания академии, став штабным командиром, он сохранил в себе присущие хорошим танкистам стремительность и неугомонность. Они дополнялись той любовью к порядку, которую, как полагал сам генерал, привили ему отец, учитель в Киеве, и художественный техникум, где учился Воронков до семнадцати лет.
— Толкачев, — вызвал Воронков одного из своих помощников, — в машину — и быстро на перекресток. Остановить обозы, пропускать только артиллерию.
Над вторым телефоном, метрах в трех от Воронкова, склонился Фролов. Он был чем-то недоволен и отчитывал кого-то за нерасторопность.
Жизнь армейского наблюдательного пункта, как обычно в разгар напряженного боя, кипела. Возле командующего артиллерией, который неотрывно смотрел в окуляры стереотрубы, то и дело появлялись офицеры, что-то докладывали и поспешно скрывались в блиндаже.
Сквозь маскировочную сеть виднелась голова генерала Тяжева. Он что-то говорил своему начальнику штаба, сердито осматриваясь по сторонам.
По скатам высоты, с четырех сторон от наблюдательного пункта, нацелились в небо стволы зенитных пушек.
На подернутое дымкой солнце наползла белесая тучка. На земле все мгновенно побледнело, окрашиваясь в сурово-мрачные тона. Простым глазом теперь трудно было наблюдать за ходом боя.
Приземистые тридцатьчетверки, то и дело озаряясь пламенем выстрелов, ползли по изрытой земле. За ними в полный рост бежали пехотинцы, изредка падая на землю, торопливо поднимаясь и вновь устремляясь вперед. За стрелками виднелись сгорбленные фигуры пулеметчиков, старающихся не отстать от стрелковых цепей. Артиллеристы выкатывали пушки, с катушками за спиной бежали связисты. А еще дальше в тыл на галопе неслись артиллерийские упряжки, подскакивали на воронках автомобили, с боку на бок переваливались тягачи.
Командарм рассчитывал встретить с первых же минут наступления серьезное сопротивление противника и заранее готовил к этому подчиненных командиров и войска.
— Узнайте, штурмовики готовы к вылету? — приказал он Воронкову.
— Так точно, — ответил за Воронкова выскочивший из хода сообщения подполковник Орлов, офицер авиационного штаба. — Ваш сигнал — и самолеты будут над целью.
Алтаев улыбнулся. Весельчак-подполковник нравился ему.
— И еще, товарищ Орлов, — тихо сказал Алтаев, взглянув на затянутого в комбинезон авиатора, — предупредите истребителей: в воздухе пока ничего страшного нет, но вот-вот появятся крупные силы немецких бомбардировщиков.
— Так точно, — лихо отчеканил Орлов, — сейчас стало известно, что над аэродромами в Веспреме, Шопроне и Комарно собираются большие группы «юнкерсов». Наши истребители готовы к вылету.
Алтаев махнул рукой в знак того, что понял, и прильнул к окулярам стереотрубы. Бой сейчас шел уже на позициях полковых резервов противника. Наступление развивалось успешно, но генералу Алтаеву странным казалось, что так легко была взята самая сильная линия обороны противника.
В первый час атаки танки и пехота почти беспрепятственно продвигались вперед. Противник не вел даже артиллерийского и минометного огня. А его пехота вообще не подавала признаков жизни. Правда, это можно было объяснить исключительной силой артиллерийской подготовки и непрерывным огнем артиллерии, минометов, танков и стрелкового оружия по всей обороне противника.
Алтаев опасался, что немецкое командование могло узнать о подготовке наступления и вывести свои войска из-под удара гвардейской армии. Тогда случилось бы то, чего боится каждый полководец: удар огромной массы боевой техники пришелся бы по пустому месту, оказались бы бесцельно выброшенными в воздух тысячи тонн боеприпасов. Если бы это произошло, труд многих десятков тысяч людей и огромные материальные затраты пропали бы даром. Где-то в глубине своей обороны противник встретит наступающие войска свежими силами, безусловно остановит их, и все придется начинать сначала. Опять нужно будет накапливать боеприпасы, подвозя их из тыла за тысячи километров, опять придется не спать неделями, подготавливая новое наступление. Но самое страшное Алтаев видел не в этом. Погибнут понапрасну сотни людей, сотни людей получат увечья, и все это из-за того, что командование, что он, Алтаев, и его штаб не смогли разгадать хитрую уловку противника.
— Где начальник разведки? — резко обернулся Алтаев к Воронкову.
— Слушаю вас, товарищ командующий, — прервал телефонный разговор Фролов.
— Что противник?
Фролова, так же как и командующего, беспокоила мысль о возможном маневре противника. С началом артиллерийской подготовки он всех своих помощников разослал в войска, всем разведчикам корпусов, дивизии и полков приказал неотрывно следить за каждым движением противника. В ночь перед наступлением он сам и все его люди сидели на наблюдательных пунктах. Десятки групп ползали в «нейтральной зоне», стремясь захватить «языка». Четыре солдата на разных участках прорыва гвардейской армии были взяты в плен. Все они показывали, что гитлеровцы ничего о подготовке советского наступления не знают. Но со времени, когда был взят последний пленный, до начала артиллерийской подготовки прошло больше двух часов. А за два часа можно снять и увести все, что находилось в обороне. К тому же утренний туман ограничивал возможность наблюдения.
— Так что же противник? — не дождавшись ответа, резко повторил Алтаев.
— Точные потери еще не установлены, — понимая, чего хочет от него командующий, ответил Фролов, — по предварительным данным…
— По предварительным, по предварительным… — чувствуя, что не в силах сдержать волнения, перебил его Алтаев. — Наступаем больше часа, прорвали две позиции, какие же потери у противника?
Фролов хотел было сказать, что сейчас разведчикам не до подсчета убитых, но он знал, что такой ответ никак не может удовлетворить командующего. К тому же, как назло, задержались разведывательные донесения из корпусов. Фролов не сказал того, о чем думал, и тихо попросил:
— Разрешите доложить минут через десять?
Алтаев понимал, как трудно сейчас разведчикам собрать точные данные о противнике, но ему было известно и другое: в такие моменты нельзя ни на одну секунду терять из виду противника.
— Воздух! — пронзительно крикнул кто-то на наблюдательном пункте. Этот крик повторили десятки голосов и в зенитных батареях и в подразделениях, разбросанных вокруг.
Самолетов еще не было видно. Невдалеке, у подножья высоты, застыли на своих местах зенитчики. Движение по всему полю боя не уменьшилось. Так же поспешно мчались автомобили с пушками на прицепе, прямо по целине неслись артиллерийские упряжки. По невидимым линиям связи сновали суетливые связисты. Из лощины выползала колонна пехоты.
С северо-запада тройками летели немецкие самолеты. Прерывистые звуки их моторов вплетались в общий рокот боя. Еще далеко не доходя до линии фронта, она с ходу разворачивались в круг. Немцы, видимо, торопились нанести удар с воздуха и затормозить наступление. Головная машина уже пошла в пике. Гул наземного боя заметно стих.
Алтаев стиснул кулаки, хотел было повернуться и крикнуть Орлову, но в это время в вышине затрещали пулеметные очереди, головной самолет вспыхнул и врезался в землю. Остальные в разных направлениях взмыли вверх. На светлой голубизне неба отчетливо рисовались советские истребители.
— Бирков просит разрешения ввести в бой вторые эшелоны дивизий, — доложил Воронков.
— Рано, — ответил Алтаев, — пока рано. Ну что? — встретил он подходившего Фролова.
— Противник о начале нашего наступления ничего не знал. Об этом в один голос показывают пленные. По предварительным данным, захвачено более четырехсот солдат и офицеров. На позициях противника все сметено огнем нашей артиллерии. Уцелели только те, кто сидел в глубоких блиндажах.
Алтаев облегченно вздохнул. Его опасения не оправдались, теперь стало ясно, что операция развивается успешно.
— В поведении противника, товарищ командующий, — продолжал Фролов, — странным кажется пока одно: его оперативные резервы стоят на месте. Лишь из Будапешта против соседней армии противник бросил в бой одну танковую и одну пехотную дивизии.
Еще задолго до начала наступления Алтаев раздумывал, куда противник направит свои резервы. От этого зависело очень многое. Планируя операцию, маршал Толбухин предупреждал Алтаева, что соседняя армия скует часть резервов противника, но главные силы наверняка окажутся перед гвардейской армией. Встреча с ними должна произойти где-то южнее города Секешфехервар или в самом городе. Пока все шло так, как и предполагал маршал. Ближайшие резервы противник бросил против правого соседа. Это были дивизии, которые немецкое командование сосредоточивало в Будапеште для удара по Третьему Украинскому фронту. Но из состава этой группировки противник ввел пока в дело всего третью часть сил. Две трети стояли нетронутыми.
Алтаев мысленно рассчитывал, сколько нужно времени, чтобы дивизии из этой группировки противника подошли к гвардейской армии. Получилось немногим менее двух часов.
Два часа! Если за это время ворваться в Секешфехервар, то резервы противника вступят в бой в невыгодных для них условиях. В противном случае город с его прочными каменными постройками станет укрытием для крупной вражеской группировки. Тогда могут завязаться затяжные бои и наступление сорвется или замедлится.
Алтаев повернулся к начальнику оперативного отдела:
— Передайте Биркову и Добрукову: разрешаю ввести в бой вторые эшелоны дивизий. Ускорить продвижение и как можно быстрее ворваться в Секешфехервар.
Алтаев долго смотрел на карту. Красные стрелки дивизий и полков полукружьем врезались в оборону противника. Все на этом огромном пространстве двигалось вперед, на север, к городу Секешфехервар. А правее гвардейской армии, по восточному берегу озера Веленце, наступала соседняя армия. Против нее гитлеровцы уже бросили свои резервы из Будапешта.
«Только бы успеть ворваться в город раньше подхода резервов противника, только бы успеть», — раздумывал Алтаев.
— Товарищ командующий, — поспешно подошел Фролов, — резервы противника начали движение. Из лесов севернее Секешфехервара вытягиваются колонны одной танковой и одной пехотной дивизий. Из Будапешта в сторону Секешфехервара по восьми дорогам двинулись две танковые дивизии. Две пехотные дивизии на автомашинах выдвигаются из корпусных резервов.
— Соединитесь с командующим фронтом, — выслушав Фролова, приказал Алтаев Воронкову. — Через час-полтора все эти дивизии войдут в город, — вслух размышлял он, — а мы за это время не успеем ворваться в Секешфехервар. Никак не успеем.
— Даже если введем в бой танковую группу… — проговорил подошедший Тяжев.
— Даже если введем в бой танковую группу, — в раздумье повторил Алтаев. — Следовательно, контрудар противника придется отражать перед городом… Да… Перед городом… А это невыгодно. Он будет в городе, а мы в чистом поле. Не равные, далеко не равные условия.
— Надо заставить резервы противника выйти из города и бить их в чистом поле, — сказал Тяжев.
— Вот именно — заставить.
— Командующий фронтом, — доложил Воронков.
— Товарищ маршал, — заговорил по телефону Алтаев, — противник свои резервы подводит к городу… Да… Серьезная создается группировка… Я думаю, как и намечали раньше, отражать контрудар на полях перед городом… Да, да… На этих холмах и высотах… Местность в нашу пользу. Ему придется наступать по низине, а мы на высотах… Ясно… Сейчас подтяну… Слушаюсь…
— Разведка фронта перехватила боевой приказ резервам противника, — окончив разговор, обернулся Алтаев к генералам. — Им поставлена задача: сосредоточиться в городе и нанести контрудар по центру нашей армии. Сейчас маршал против выдвигающихся колонн противника бросил всю авиацию фронта. Я решил: контрудар противника отразить перед городом. Для этого овладеть рубежом высот, закрепиться на них, подтянуть артиллерию, заминировать все подступы и удар врага встретить всей мощью армии. Фланговым группировкам продолжать наступать и обходить город с северо-востока и юго-запада. Где член Военного совета?
— В дивизиях первого эшелона.
— Пригласите его на наблюдательный пункт.
Приняв решение, Алтаев всмотрелся в дымное поле боя. Там, не утихая, гремела канонада. Атакующих пехоты и танков уже не было видно. Они скрылись за высотами. Алтаев вздохнул всей грудью и подумал о тех, кто стремился сейчас к городу Секешфехервар. Суровые испытания ожидали их там.
X
Как только Бахарев вслед за стрелками выскочил из траншеи и побежал, почему-то прихрамывая, по ровному, до травинки изученному полю, жизнь в ее обычном понимании перестала для него существовать. Он всеми силами старался итти спокойным, как рекомендовали уставы, ровным и неторопливым шагом, но сами ноги, всегда такие послушные, натренированные ноги кадрового офицера-пехотинца, несли его стремительно и быстро, как спринтера на стометровой дорожке.
Он зорко смотрел вперед, стремясь видеть всех людей роты, командовать ими, помогать, где окажется необходимым, но видел перед собой только черный извив траншеи, где вчера стояли два вражеских пулемета, а сейчас громоздились кучи земли. И чем ближе подбегал он к этим кучам, тем ноги, опять помимо его воли и желания, бежали все медленнее и медленнее, тело охватывала неприятная истома, в голове неотвязно билась одна мысль: «Ударят, сейчас ударят эти проклятые пулеметы». И танки, как назло, ползли лениво и медленно и совсем не там, где договаривались при подготовке атаки. Два из них должны были прямым маршрутом выйти к этим пулеметам и раздавить их, а сейчас один — с двумя бревнами на корпусе — уходил далеко вправо, а второй, в котором сидел сам командир танковой роты, объезжал бугры с пулеметами слева. И артиллерия била теперь не по первой траншее противника, а по глубине его обороны, по лощине, где, может быть, и не было никакого противника. Перед самым, как казалось Бахареву, опасным местом бежали только его стрелки, и вот сейчас, через несколько секунд ударят пулеметы противника, зацокают, запоют пули над равниной и его рота заляжет, так и не достигнув вражеского переднего края.
Бахарев отчетливо увидел, как в развороченной траншее показалась сначала голова в каске, а затем тупорылый немецкий пулемет на салазках. Еще секунда, может две, и пулемет откроет огонь. Бахарев инстинктивно рванулся в сторону, хотел было лечь на землю, но тут же опомнился и закричал пронзительно, не слыша своего голоса:
— Второй взвод, огонь! Огонь по ориентиру три!
Но ни командир второго взвода, ни стрелки, ни даже связные, бежавшие рядом с ним, услышать его команды не могли. Вой и непрерывные взрывы снарядов перемешались с ревом танковых моторов, ружейной и автоматной стрельбой, беспорядочными криками множества людей, создавая дикий хаос звуков, заглушавших все живое. И Бахарев понял, что никто сейчас не услышит его команды и что сам он бессилен что-либо предпринять и спасти своих людей от подступавшей опасности. А вражеский пулемет уже почти стоял на позиции, и около него суетливо возились двое в зеленых лягушачьих шинелях и таких же зеленых касках.
— За мной! — закричал Бахарев и побежал прямо на пулемет, стремясь догнать своих стрелков и вместе с ними открыть автоматный огонь по вражескому пулемету. Он бежал что есть силы, но расстояние сокращалось медленно, и эти мучительные метров сто равнины казались длиннее километра. На небольшой воронке он споткнулся, плашмя упал на землю, не чувствуя боли, вскочил и что есть силы закричал: — Ура-а-а! Молодцы танкисты!
Там, где только что изготовились к стрельбе вражеские пулеметчики, ползала родная тридцатьчетверка с белой цифрой «20» на башне. Это была хорошо знакомая Бахареву двадцатка — машина командира танковой роты капитана Кисленко. Она медленно ползла вдоль вражеской траншеи, подминая гусеницами все, что попадалось на пути. Около нее уже были стрелки второго взвода. Справа в траншею ворвался третий взвод. С этого момента к Бахареву вернулось его прежнее спокойствие. Он отчетливо видел теперь не только свою роту, но и все поле боя, где ползали танки, бежали, стреляли, кричали такие же, как и его, стрелковые роты, передвигались пушки и пулеметы, в разных направлениях сновали посыльные и связисты, санитары перевязывали раненых.
— Узнать потери во взводах, — приказал Бахарев связным и взглянул на часы.
Скоро вернулись связные и доложили, что убитых нет и только в первом взводе ранен один стрелок.
То, что не было серьезных потерь и рота легко овладела первой траншеей противника, продолжая стремительно продвигаться в глубину вражеской обороны, окрылило Бахарева. Самое страшное осталось позади, и теперь главное — выдержать направление наступления, не потерять связь с соседями и сохранить взаимодействие с танкистами, пулеметчиками и артиллеристами.
Все шло хорошо, точно так, как было продумано и разработано при подготовке боя. Так же легко и без потерь взяли еще две траншеи, преодолели заболоченный ручей, вышли на высоту, где по данным разведки, проходила вторая позиция противника, а сейчас были только развороченные траншеи с видневшимися кое-где трупами немцев.
Вдали открывались смутные очертания города Секешфехервар, заманчивые и далекие, куда по плану должны были ворваться к вечеру.
— Вон он, этот самый Секешфехервар, — сказал Бахарев связным, показывая в сторону города, — там ужин и — снова вперед.
— Язык поломаешь, пока выговоришь, — ответил Анашкин.
В низине за высотой Бахарева догнал низкорослый, перепачканный грязью связной командира батальона.
Он пытался приложить руку к ушанке, но от волнения только махнул ею возле уха и протянул капитану конверт.
— …немцы… контратака, — договорил он какую-то только для него одного ясную мысль и опустил голову.
Командир батальона предупреждал Бахарева о скоплении сил противника в городе Секешфехервар, приказывал немедленно овладеть высотой 122,7 и подготовиться к отражению контратак противника.
— А где же батальонные телефонисты?.. — прочитав записку, спросил Бахарев. С самого начала атаки телефонисты отстали, и он за два часа наступления ни разу не поговорил с комбатом.
— Тянут, тянут, совсем недалеко, — не дав договорить капитану, выпалил связной, — комбат их ругал, ругал, а все одно не поспели.
— Доложите гвардии майору: приказ понят, высота будет взята, к отражению контратак противника рота готова.
— Слушаюсь! — выкрикнул связной и опрометью побежал назад.
Предупреждение командира батальона о подготовке противником крупных контратак обеспокоило Бахарева. Он махнул рукой связным от взводов и побежал за стрелковыми цепями. Они скрывались за полем неубранной кукурузы.
Где-то за холмом была и высота 122,7. Бахарев торопился взглянуть на нее и решить, как лучше встретить контратаку противника.
Рядом с капитаном, то опережая его, то чуть приотставая, бежал Анашкин. Он, по неписаному закону ординарцев, все время стремился быть возле своего командира и без слов понять его мысли.
На кукурузном поле мелькали пехотинцы. Они часто падали, стреляли куда-то, снова вскакивали и бежали, пригибаясь к земле. Впереди стрелков на желтом фоне отчетливо рисовались танковые башни. Они едва заметно удалялись к голой высоте, наискось перерезанной широкой полосой шоссе. По скату высоты чернели свежие окопы. Бахарев без бинокля рассмотрел немецких пехотинцев. Они, проворно работая лопатами, лежа окапывались.
«Скорее вперед! Не дать закрепиться», — думал Бахарев. Едва успел он пробежать еще несколько шагов, как впереди перед самой высотой раздался оглушительный взрыв. Бахарев увидел взметнувшееся пламя и под ним, на земле, осевший набок танк.
«Минное поле», — догадался Бахарев.
С высоты по танкам в упор били две немецкие пушки. Из-за шоссе стреляло еще несколько орудий. Их снаряды с треском рвались возле танков. Тридцатьчетверки, отстреливаясь, медленно пятились назад.
Бахарев понял, что противник сумел закрепиться и теперь придется силой сбивать его с высоты. Он хотел поднять роту в атаку, без танков ворваться на высоту и овладеть ею, но все стрелковые взводы лежали под сильным пулеметным и автоматным огнем противника. Вспыхнул еще один танк. Остальные поспешно отходили в кукурузу. Сейчас перед противником остались только рассыпавшиеся по всему полю пехотинцы.
Бахарев прилег в маленькую канавку. Над головой взвизгивали рикошетные пули, нарастающим воем сдавливая воздух, проносились снаряды и рвались где-то позади.
Слезящимися глазами он пытался рассмотреть, что делалось впереди, но чернокоричневый дым застилал все поле. Свист пуль прижал капитана к земле. В горле пересохло, и звонко стучало в висках. На мгновение Бахареву показалось, что все кончено и ему никогда не удастся встать с этого проклятого поля. Он правой рукой потянулся за лопатой, но земля дрогнула, в лицо ударил горячий воздух и над головой тоскливо запели осколки.
Задыхаясь, Бахарев вскочил, но тут же упал. Воздух вскипал от пронзительного пересвиста.
Впереди виднелись ноги в сапогах со стоптанными каблуками. Совсем рядом виднелись еще чьи-то ноги в обмотках и новеньких ботинках; одна обмотка размоталась, и хозяин ее, видимо, не замечал этого.
«Упадет ведь, когда побежит», — подумал Бахарев и сразу же вспомнил, что он командир роты, что ему подчинены десятки людей и что за этих людей он отвечает не только перед командованием, но и перед своей собственной совестью. А сейчас эти десятки людей лежали под губительным огнем противника и каждую минуту обрывалась жизнь то одного, то другого.
Он рывком вскочил на ноги и, ничего не видя, во весь голос закричал:
— Огонь! Пулеметы, огонь! Автоматчики, огонь!
Попрежнему взвизгивали пули, урча проносились над головой снаряды, пороховые газы мешали дышать, но Бахарев ничего не слышал и не чувствовал. Перед его глазами были только солдаты его роты, которые вразброс лежали на кукурузном поле.
— Первый взвод, огонь по восточным скатам высоты! — не замечая, что он стоит во весь рост, кричал Бахарев. — Второму и пулеметному — по окопам на гребне высоты! Третий взвод, огонь по насыпи!
Со всех сторон доносились винтовочные выстрелы, к ним присоединилась дробь автоматов.
Солдаты словно опомнились от сна и стреляли, стреляли без конца, кто — лежа на земле, кто — привстав на колени, кто — сидя, поджав ноги. Все кукурузное поле окуталось сизыми дымками и полыхало выстрелами.
— Телефон, товарищ капитан, телефон, — радостно крикнул Анашкин.
Бахарев облегченно вздохнул; позади Анашкина два связиста устанавливали телефон.
— Комбата, — подскочив к ним, рванул трубку Бахарев. Он приник к аппарату. Теперь провод связывал его с большой жизнью, с целым миром.
— Артиллерии, товарищ майор, дайте огонь артиллерии! — задыхаясь, выкрикивал он, мучительно ожидая, что провод вот-вот порвется и его рота снова будет отрезана от батальона, от всех наступающих войск.
— Даю, Толя, даю, — услышал он близкий и сейчас такой родной голос. — Сейчас саперы придут, разминируют и с танками — вперед! Один не атакуй, только с танками. И соседи атакуют.
Бахарев передал трубку телефонисту, привстал на колени и осмотрелся по сторонам. Его рота вырвалась далеко вперед, уступом огибая высоту.
К полю неубранной кукурузы, где, поспешно окапываясь, лежали взводы Бахарева, артиллеристы выкатывали пушки. Две уже успели развернуться и беглым огнем били по противнику. Позади пушек виднелась маленькая группа людей. Впереди нее, пригнувшись, бежал офицер. Бахарев узнал неутомимого Минькова.
Как ни силен был огонь стрелков Бахарева и артиллеристов, противник не прекращал яростного обстрела.
Привстав, чтоб лучше рассмотреть, откуда бьют вражеские пулеметы, Бахарев увидел перед высотой беспорядочное нагромождение камней. Это были остатки разрушенных домов. Использовать их как укрытия сейчас было нельзя. Вражеская артиллерия, ведя огонь по танкам, почти сровняла их с землей.
Всматриваясь в груды камней, Бахарев замер от изумления. Возле крайней развалины, где темнело какое-то углубление, привстала маленькая фигурка в белой рубашонке с двумя черными ленточками помочей на плечах и в коротких черных штанишках. Фигурка выпрямилась, мелькнули босые ноги, и Бахарев увидел мальчика лет шести или семи. Его лицо, очевидно запыленное, было совсем темным. Он спокойно прошел несколько шагов, что-то рассматривая на земле. Обстрел с той и другой стороны не стихал. Еще яростнее вели огонь пулеметы и автоматы, в разных местах беспрерывно рвались снаряды.
Бахарев бросился вперед, намереваясь немедленно подхватить мальчика и отнести его в безопасное место. Но едва он добежал до ближнего пулемета, как рядом с ним протопали тяжелые шаги и впереди замелькала высоченная фигура в короткой шинели, с неуклюже размахивающими руками. Это бежал Анашкин. В несколько прыжков он подскочил к мальчику, схватил его и, прижав к груди, помчался обратно. Позади него метнулось пламя. Анашкин споткнулся, свалился на бок, но тут же выпрямился и побежал еще быстрее. Из-под его рук виднелись две босые ноги, на груди темнела черноволосая головка.
Анашкин прыгнул в глубокую воронку.
— Ах, постреленок ты этакий, — тяжело дыша, бормотал он и прижимал мальчика к земле, — что ты бродишь-то невесть где, мать-то, небось, волосы рвет на себе!..
— Не ранило? — подполз к нему Бахарев.
— Слава богу, не задело. Целехоньки оба.
— Быстрее в тыл его и старшине передайте, чтобы отправили в ближайшую деревню.
Мальчик обвил руками шею ефрейтора и, прижимаясь к нему всем телом, с любопытством осматривался. Анашкин прижал его к груди и, пригибаясь к земле, побежал через кукурузу.
Бахарев рукавом шинели вытер вспотевший лоб и облегченно вздохнул. Эта сцена, длившаяся не больше минуты, до дрожи взволновала его.
— Атакуем? — подбежал к нему командир танковой роты капитан Кисленко.
Бахарев взглянул на затянутую в комбинезон стройную фигуру танкиста, и ярость от только что пережитой опасности с неудержимой силой охватила его.
— Что же ты, договорились вместе, а сам драпанул! — сурово проговорил он, не имея сил сдерживать накипевшую обиду.
— Минное поле, понимаешь, две машины потерял… — ответил танкист.
— Две машины… Две машины… А у меня могли всю роту положить.
Стонущий гул артиллерии заглушил их слова. Они стояли друг против друга — оба рослые, один в расстегнутой шинели, другой в замасленном комбинезоне — и укоряли друг друга. Бахарев никак не мог простить танкисту, что его экипажи в самое трудное время отошли и оставили стрелков без поддержки, а Кисленко доказывал, что он поступил правильно, спас от напрасной гибели своих людей и боевые машины, но никак не мог подобрать убедительных слов для объяснения этого.
— Где прикажете проходы делать? — прервал их подбежавший Миньков.
— Один вот здесь, прямо у тех воронок, а еще два левее, — показал Бахарев и обернулся к танкисту: — Вас устроят проходы в этих местах?
— Безусловно, — согласился Кисленко, — только пошире.
— Строго по норме, — успокоил его Миньков и побежал к саперам.
— Ну, ладно, капитан, не злись, — миролюбиво проговорил Кисленко, — нам ведь с тобой немало еще придется горяченького хлебнуть. Как думаешь высоту-то брать?
— Вот артиллерия обработает — и в атаку, — холодно ответил Бахарев.
— А знаешь что, давай-ка десантом.
— Десантом? — переспросил Бахарев.
Предложение Кисленко понравилось Бахареву, но он еще никак не мог успокоиться и упрямо возразил:
— Нет, уж мы лучше по-старому. Не хочу своих людей в мишени превращать.
— Какие мишени? — удивился танкист. — Мы же с тобой еще вчера об этом говорили.
Бахарев знал, что Кисленко прав. Во время подготовки наступления они вместе продумывали различные варианты действий и договорились при возможности захватывать опорные пункты противника выброской десантов на танках. Они заранее распределили, кто на какой машине должен ехать, и все люди в роте знали, где кому сидеть при действиях танковым десантом.
— Вот и бог войны, — показывая в сторону, сказал Кисленко, — он нас огоньком поддержит.
Бахарев увидел вприпрыжку бежавшего командира батареи капитана Саушкина, и обида с новой силой закипела в нем.
— Хороши! Лучше некуда, — ворчал он, — все вы перед боем хвастаетесь: мы поддержим, мы обеспечим, все для пехоты, а чуть прижало — и в кусты.
— Ну, знаешь, сам виноват, на других не сваливай! — зло выкрикнул артиллерист. — Мы же с тобой договорились: стрелков выделять для помощи расчетам в передвижении пушек. А где твои стрелки? Рванулись — и хоть бы им что. Твоим стрелкам-то легко. Беги, и только. Ты попробуй пушки выкатить по такому грунту.
— Выкатить, выкатить! — не успокаивался Бахарев. — А ты попробуй без огня атаковать. Это тебе не за триста метров из-за бугорка снарядики пускать.
— Вот, чорт возьми, шел в стрелковую роту, а попал на спектакль! — раздался позади капитанов насмешливый голос.
Они обернулись и увидели подполковника Крылова. Он стоял, придерживая автомат правой рукой, и молодо смеялся. Подавив смех, строго спросил:
— Ты что же это от артиллеристов требуешь поддержки, а сам им помогать не желаешь?
— Товарищ гвардии подполковник… — пытался оправдаться Бахарев.
— Что гвардии подполковник? Я и полковником буду, а тебе майора присвоят, если, конечно, поумеришь свой пыл и не будешь забывать о взаимной поддержке. Ложись, что тянешься-то? Это тебе не строевая подготовка.
Бахарев послушно лег, досадуя и на себя, и на Кисленко, и особенно на Саушкина, который, стоя на коленях, так нагло и вызывающе смотрел на него.
— Ну, продолжайте свою работу, а я пойду к танкистам.
Крылов встал и, пригибаясь к земле, по-юношески резво побежал за высоту.
— А ты не мог напомнить, — радуясь, что Крылов ушел, говорил Бахарев артиллеристу, — сам знаешь, в горячке-то забудешь. А теперь вот красней. Он мне до конца войны не забудет этого.
Артиллерия и минометы с нарастающей силой продолжали вести огонь по высоте 122,7. Клочья дыма и бурая пыль скрыли вражеские позиции. Противник снова был подавлен. Стрелки молча смотрели на работу артиллерии. Чумазые танкисты хлопотливо расхаживали возле своих машин. Казалось, они наслаждаются долгожданной возможностью свободно походить по земле. Среди них виднелась приземистая фигура Крылова. Он переходил от одной машины к другой, что-то говорил, показывая рукой в сторону противника. Артиллерийские расчеты застыли возле пушек. А впереди всех, там, где догорали разбитые танки, ползали по земле саперы. Они расчищали от мин дорогу танкистам и пехотинцам.
Бахарев поставил задачи взводам, проверил людей и боеприпасы в роте и прилег на землю, ожидая окончания огневого налета артиллерии и минометов. Прежнее спокойствие и уверенность в успехе вернулись к нему. Нарушенное взаимодействие было восстановлено. Теперь рота опять будет наступать при поддержке танков и артиллерии.
Раздумье Бахарева прервал Анашкин:
— Товарищ гвардии капитан, ракеты!
Это был сигнал для переноса огня артиллерии в глубину расположения противника и начала атаки пехоты и танков.
Не успел Бахарев подбежать к машине Кисленко, как справа, слева и в середине три танка на полной скорости двинулись вперед. На броне густо сидели стрелки и пулеметчики. Переваливаясь с боку на бок, танки устремились к махавшим флажками саперам. Воздух снова вздрогнул от мощного залпа.
Несколько рук подхватили Бахарева и втащили на броню. Вокруг открытой башни сидели Анашкин, связные от взводов и Васильков.
Танкист что-то кричал, показывая рукой вверх. В синеве неба виднелись большие группы штурмовиков. Советские самолеты направлялись к городу.
Бахарев встал во весь рост и махнул рукой командиру танковой роты. Первые танки уже прошли минное поле и ворвались на высоту 122,7. С них в разные стороны прыгали автоматчики и куда-то стреляли. Высунувшись из люка, Кисленко склонился к Бахареву и прокричал:
— Красота, Толя, красота!
Но Бахарев лишь пожал плечами. Сейчас решалась судьба боя за высоту. Если противник еще не успел опомниться от огня артиллерии, то рота без потерь овладеет высотой. Но если откроет огонь хоть один пулемет, то многие останутся лежать в этой ложбине.
На высоту ворвались еще три танка. Теперь уже шесть машин ползали по ее изрытой горбине.
— Скорее, скорее! — кричал Бахарев, торопя командира танковой роты.
Минное поле, наконец, осталось позади. Промелькнула маленькая фигурка Минькова, махавшего флажком. Вслед за танками устремились тягачи с пушками на прицепе.
— Скорее, скорее! — кричал Бахарев, сам ничего не слыша от рева танкового мотора, и, рванув автомат, больше инстинктивно, чем сознательно, дал длинную очередь по извилистому окопу, где показались трое немцев. Тотчас же Анашкин, Васильков и связные один за другим попрыгали с брони танка и бросились туда, куда стрелял Бахарев. Высоченный Анашкин опередил всех, и не успел Бахарев спрыгнуть с танка, как ефрейтор уже вытаскивал из окопа кого-то маленького в зеленой шинели. Это был пленный пожилой солдат с искаженным от ужаса лицом и бессмысленными круглыми глазами. Он что-то бессвязно лепетал, все время высоко держа руки над головой.
— Давай, давай! Хватит, отвоевался. Одним меньше — победа ближе! — подталкивал его Анашкин, держа в одной руке свой, а в другой немецкий автомат.
Вид пленных всегда неприятно действовал на Бахарева, а их сейчас вели к нему со всех сторон — жалких, насмерть перепуганных, с единым у всех молящим выражением на лице.
— В батальон, в батальон! — крикнул он старшине роты. — Некогда с ними возиться. Сколько всего захватили?
«Тридцать семь», — по движениям губ старшины понял он и улыбнулся. Такого успеха в роте еще никогда не было.
С высоты были видны подступы к городу Секешфехервар. Сам город возвышался за пологой равниной, изрезанной лентами железных и шоссейных дорог. В неярких лучах солнца городские строения расплывались призрачным видением. Заводские трубы высоко поднимались в небо. Все пространство между высотой и городом было пустынно и безлюдно.
Танки и стрелковые взводы, не ожидая приказа, устремились к городу.
Рядом с ротой Бахарева продвигались стрелковые цепи соседних подразделений. Наступление развертывалось на широком фронте вплоть до заросших камышом пологих берегов озера Веленце.
Батальонные связисты успели подтянуть провода. Бахарев взял трубку и услышал гневный голос командира батальона. Майор Карев был явно встревожен и зло спрашивал его, почему он не выполняет приказа.
Слушая командира батальона, Бахарев никак не мог понять, в чем он его обвиняет. Высота взята без потерь, рота успешно продвигается к городу.
— Через час вы будете там, откуда начали наступать, — дребезжа выговаривала мембрана, — немедленно закрепиться и быть готовым к отражению контратак противника. Выбрать удобные позиции, взводы отвести назад к высоте, танки расположить в укрытиях, окопаться и остановить противника. Особое внимание обратите на свой левый фланг. Прикрыть его огнем пушек и пулеметов.
…Васильков лежал рядом с Бахаревым и не узнавал командира.
Бахарев озлобленно бросил трубку, привстал и вдруг как-то сразу обмяк, лицо его посуровело, рука тянулась к биноклю.
— Да и в самом деле зарвался, — медленно проговорил он, — забыл, совсем забыл… Взводных ко мне! — крикнул он связным и повернулся к артиллерийскому капитану: — Ну, бог войны, закрепиться приказано и контратаки отбивать. Давай-ка подумаем, как лучше твои пушки поставить.
По лиду Бахарева Васильков понял, что предстоит трудный бой. Капитан спешил скорее расставить все по местам.
Он указал, где расположить пушки, договорился с танкистами, поставил задачу взводам и теперь лежал, то и дело в разные концы направляя связных. Стрелки короткими перебежками отходили назад. Пулеметчики с одного места перемещались на другое. Повсюду сверкали саперные лопаты, черными брызгами взлетала земля. Старшина и ротный писарь ефрейтор Сверчков с двумя солдатами разносили по взводам ящики с патронами и гранатами. Танки ушли за высоту, и там смолк рев их моторов. Теперь кругом было почти тихо.
Васильков достал из сумки заранее приготовленные листки бумаги, переложил их копиркой, прилег поудобнее и начал крупными буквами писать: «Гвардейцы-сталинградцы! Враг готовит крупную контратаку. Он дрожит перед смертью и хочет отдалить час своей гибели. Но ничто не спасет его! Наше мастерство и стойкость сорвут его замыслы. Сделаем эту высоту новым кладбищем для гитлеровцев. Стрелки и пулеметчики! Громите пехоту врага, вбивайте ее в землю! Артиллеристы и бронебойщики! Всю силу огня по танкам! В груды металла превратим фашистские танки! Сорвем вражескую контратаку — и вперед, на окружение Будапешта! На нас смотрит Родина. Все ждут наших побед. Сильнее удар по врагу!»
Васильков подал листовку Бахареву. Тот прочитал, на секунду задумался и, вернув листовку, сказал:
— Допишите. Место есть. «Сегодня отделение гвардии сержанта Косенко уничтожило вражеский пулемет и взяло в плен девять гитлеровцев. Пулеметчик Гавриков в единоборстве с двумя фашистскими пулеметами вышел победителем. Гвардии рядовой Турдыбаев уничтожил четырех гитлеровцев, двух взял в плен и захватил пулемет. Равняйтесь по лучшим людям нашей роты!»
Васильков быстро дописал, хотел было встать и бежать во взводы, но Бахарев остановил его:
— Передайте по цепи.
— Воздух! — закричал кто-то, и этот крик, повторённый сотней голосов, прошелся вдоль всего фронта.
В слепящих лучах солнца показались первые самолеты. Ведущий бомбардировщик резко накренился и почти отвесно пошел вниз. Со всех сторон солдаты стреляли по самолетам. От страшного рева ломило в ушах.
— Готов! — одновременно закричало несколько голосов.
Первый самолет не успел выйти из пике и врезался в землю. Учащенно стучали зенитные пушки, высоко в небе десятками вспыхивали серые бутоны. Строй самолетов рассыпался.
— Первое действие сорвано, — проговорил Бахарев, — будем ждать второго.
Еще не успели скрыться самолеты, как вражеская артиллерия открыла шквальный огонь.
— Вот, наконец, и наши заговорили, — прислушиваясь, сказал Бахарев.
Среди взрывов вражеских снарядов, высоко над землей послышались плескание и шорох тяжелых снарядов. Снаряды летели целыми пачками, почти без перерывов.
Вдруг над позициями стихло. Казалось, какая-то властная сила разом задавила все звуки.
— Приготовиться к отражению атаки! — приподнимаясь, закричал Бахарев.
«Приготовиться… атаки… Приготовиться к отражению…» — десятками голосов повторялось на позиции.
Там, где стояли ряды придорожных деревьев, теперь все заполнило сплошное движение людей и машин. Черными, окутанными дымом громадами ползли танки с серыми крестами на башнях. Впереди и позади танков цепями и в одиночку бежали вражеские пехотинцы.
Воздух опять застонал от гула артиллерии. Сотни разрывов кромсали равнину, где все сильнее и сильнее развертывалось движение противника. Дымными кострами полыхало несколько танков и автомашин. Передние танки были совсем близко. Они, все убыстряя свой бег, обогнали пехоту и неудержимо приближались.
Васильков оперся о бруствер и короткими очередями бил из автомата. Анашкин прижался щекой к прикладу и беспрерывно стрелял. Из соседнего окопа виднелась голова капитана Бахарева. В середине, возле большого куста, кто-то до пояса вылез из окопа и, видимо, что-то кричал. По тоненькой фигуре Васильков узнал лейтенанта Махова. Около него поднялся приземистый солдат и, пригибаясь почти до земли, метнулся к черному бугру, за которым стояла пушка. Возле нее суетились артиллеристы. Пушка беспрерывно вздрагивала, выбрасывая длинные языки пламени. Приземистый солдат подскочил к ней, и только тут Васильков рассмотрел, что возле пушки было всего три человека. Подбежавший солдат присоединился к ним, и пушка стала стрелять еще чаще.
Танки противника почти вплотную подошли к высоте, но вдруг откуда-то со стороны озера Веленце с воем выскочили четыре самолета. Они неслись почти над самой землей, пересекая поле, где горели немецкие танки. За первой четверкой показалась вторая, третья… На земле все замерло. Прекратила огонь и наша и немецкая артиллерия. А над полем появлялись все новые и новые четверки штурмовиков.
Все пространство между городом и нашими позициями покрылось стелющейся пеленой дыма и пыли. Сквозь зыбкую синеву в разных местах пробивалось пламя пожарищ.
— Приготовиться к атаке! — от солдата к солдату разнеслось по цепи.
— Приготовиться к атаке! — вместе со всеми кричал Васильков. Вскочив на бруствер, он осмотрелся по сторонам. Из-за высоты выползали родные тридцатьчетверки. Они почти ровной линией протянулись и вправо и влево. За танками выходили длинноствольные самоходки. Из окопов выскакивали стрелки и на ходу выстраивались в цепь. И справа и слева — насколько можно было видеть — устремились вперед, к Секешфехервару, десятки танков и тысячи людей.
XI
Бахарев по садам пробирался к своей роте. В захваченных домах пригорода располагались на ночлег артиллеристы, танкисты, саперы, обозники. Наспех замаскированные пушки и танки стояли на огневых позициях, нацеленные на север.
— Налево, — проговорил Анашкин, удивительно быстро запоминавший дорогу, — вот тут канавка и за бугорком наши.
Бахарев свернул влево. В полумраке показались смутные очертания того, что командир батальона называл «главным злом не только для батальона, но и для всей армии».
Он нахмурился, думая о только что полученной задаче. По словам комбата, это «главное зло» было чем-то вроде неприступной крепости, которую не могли разбить ни артиллерия, ни танки и могут штурмом взять только стрелки.
— А мальчишку того, помните, мадьярского, в деревню отправили, а там мать его, — заговорил Анашкин. — Уж так-то рада, так-то рада! Смеется, плачет, обнимает всех и опять плачет. А он так и не отходит от наших. Сел на повозку с ездовыми и не уходит.
Впереди по глубокой канаве проходил передний край. В только что отрытых окопах лежали стрелки, пулеметчики, автоматчики. В развалинах крайнего дома Бахарев приказал оборудовать наблюдательный пункт. Сюда уже подтянули телефон, связные от взводов отрыли глубокие щели, а командир батареи капитан Саушкин установил стереотрубу.
— Ну что? — взволнованно спросил Саушкин.
— Ночной атакой брать вот те развалины, — ответил Бахарев, показывая на нагромождение остатков кирпичных стен.
— Это штучка, — вздохнул всей грудью Саушкин. — С первого взгляда так себе, пустячок, а присмотреться… Смотри, — позвал он Бахарева к стереотрубе, — стены-то только сверху разбиты, а внизу целехоньки, и толщина метра, наверное, полтора. Видишь выбоины, это я прямой наводкой бил, все снаряды перепробовал, никакой не берет. Это похлестче дота.
Бахарев посмотрел в стереотрубу, но в сумерках все сливалось в мутную пелену. Простым глазом можно было лучше рассмотреть здание.
— И амбразуры, видишь, внизу, — продолжал Саушкин, — семь в нашу сторону смотрят, из них четыре пушечные. Да по бокам еще, справа четыре и слева пять. Целая крепость. Куда ни сунься, везде огонь. А местность-то кругом открытая.
Это был старый просторный дом комнат на десять. Вокруг него, очевидно, когда-то был сад, а сейчас торчали лишь реденькие пни и кое-где виднелись мелкие кустарники. Левее дома равнина полого спускалась вниз и уходила к окраинам города.
— Ну, как думаешь атаковать лучше, а? — опросил Бахарев, припоминая все, что он знал из теории и своей боевой практики о борьбе за такие опорные пункты.
— Да, знаешь, трудно и придумать, — помолчав, ответил Саушкин. — В лоб ничего не сделаешь — покосят пулеметами и пушками. Обойти также невозможно — видишь, строчат-то, успели закопаться.
— Это не сейчас, — возразил Бахарев, все еще не найдя в своем сознании ответа на мучительный вопрос, как лучше атаковать этот проклятый, полуразваленный дом, — окопы у них были раньше подготовлены. И мин, видимо, понаставили.
— Незаметно. Я с твоими пулеметчиками всю равнину прощупал, ни одного взрыва. Не успели они, пожалуй, заминировать. Ночью, наверно, будут стараться, но мы не дадим.
Из-за груды кирпича показался высокий танкист в черном комбинезоне.
— Товарищ гвардии капитан, вторая танковая рота прибыла в ваше распоряжение.
— Прибыла, — ухмыльнулся артиллерист, — да ты же и не уходил никуда.
— Танкист порядок любит, — ответил Кисленко. — Мы только взаимодействовали, а теперь приданы. Учти, бог войны, танки — это не твои хлопушки.
— А где танки? — опросил Бахарев.
— Да вот они, в саду стоят, замаскированы, готовы к открытию огня.
— О, и сапер тут как тут, — показал Саушкин на подбегавшего Минькова.
— Товарищ гвардии капитан, — на ходу начал докладывать маленький лейтенант, — саперный взвод прибыл в ваше распоряжение.
Он опустил руки, улыбнулся и тоненьким голоском проговорил:
— Опять вместе…
Бахарев промолчал. Миньков, видя его нахмуренное лицо, смутился, досадуя на себя за неуместную, как он считал, шутливость.
— Нам с вами еще немало поработать придется, — через минуту ласково ответил Бахарев.
Миньков весело отозвался:
— До самого конца войны.
По-юношески радостный и беззаботный ответ Минькова, его молодое, оживленное лицо и резкие угловатые движения напомнили Бахареву самого себя, когда он таким же юнцом впервые начал командовать взводом. Каким радостным и веселым было тогда все для него! Один только скрип нового снаряжения вызывал восторг в душе.
Это мимолетное воспоминание оживило Бахарева, и он без прежней робости посмотрел на мрачные развалины, затем обернулся к Саушкину и Кисленко, молча стоявшим левее него, и, может быть, воспоминание юности, а всего скорее накопленный опыт и сознание собственной ответственности за жизнь людей подчиненной ему роты: и юнца Минькова, и его саперов, и танкистов Кисленко, и артиллеристов с их строгим малоразговорчивым Саушкиным подсказали ему то единственно правильное решение, отыскание которого занимало все его сознание в последние два часа.
— Минометчика еще нет, но он подойдет, — рассудительно и неторопливо заговорил Бахарев. — Так вот, ночью надо овладеть вот этим укрепленном пунктом. В этом домике шестнадцать огневых точек, а может, и больше. Семь или восемь пушек. Фауст-патроны наверняка есть. И все подступы открытые, простреливаются перекрестным огнем. Твои танки смогут ночью действовать? — спросил он Кисленко.
— Трудно, но можно, — ответил танкист, — на короткие расстояния. Только пушки вот страшны, особенно фланговые. Их же ничем не подавишь.
— Придется рассчитывать на темноту и быстроту, — ответил Бахарев.
— Да, другого выхода нет, — согласился Кисленко.
— Значит, с флангов атаковать? — спросил Бахарев.
— Конечно, с флангов, — ответил Кисленко, — обойти и ударить с тыла.
— С флангов-то с флангов, — возразил Саушкин. — Только не лучше ли с одного фланга? С двух-то, знаешь, огня больше.
— Да, это верно, — согласился Кисленко, — рвануться на одном фланге, смять и выйти в тыл.
— Хорошо. Так и сделаем, — подвел итоги Бахарев, — обходить будем справа. Два моих взвода десантом на твоих танках прорываются в тыл и уничтожают опорный пункт. Один мой взвод, все пулеметы, пушки, минометы прикрывают атаку огнем. А как только мы ворвемся в здание, все пушки перекатить туда и организовать оборону. А ваша задача, Миньков, дорожку проложить для танков.
— Сколько проходов? — спросил Миньков.
— А сколько сможете?
— Людей маловато. Два, больше не осилим, — вздохнул лейтенант.
— А мин-то, может, и нет, — вмешался Саушкин.
— Будем рассчитывать на худшее, — ответил Бахарев. — Как, хватит нам двух проходов?
— Что ж, — пожал плечами Кисленко. — Лучше, если б мин совсем не было.
— Итак, смотрите, — продолжал Бахарев, — идем по двум проходам. Первый — от того дерева, от высокого, на черный бугор; второй — вот отсюда и на группу воронок. Идем в атаку двумя группами. Первая группа справа обходит опорный пункт и атакует с тыла левую половину здания; вторая — левее первой атакует с тыла правую половину здания. Артиллерия и минометы бьют прямо по зданию. Огонь прекратить, как только танки пройдут наш передний край. Ясно, товарищи?
— Так точно, — первым ответил Миньков.
— Сигналы нужно установить, — предложил Саушкин.
— Это потом, — отозвался Бахарев, — еще уточним все. А сейчас, пока не совсем стемнело, быстро поставить задачи и начать работу. За дело, товарищи!
— Толя, назначь поскорее начальников десантов, особенно на головные танки. Пока хоть немножко видно, им нужно с командирами машин договориться, — озабоченно проговорил Кисленко и побежал к своей роте.
— Разыщите Василькова, — приказал Бахарев Анашкину, — и командиров взводов вызывайте.
— Я здесь, товарищ гвардии капитан, — вылез из-за груды кирпича комсорг.
— Задачу слышали?
— Так точно.
Над землей просвистели пули. Где-то впереди застучал пулемет. В ответ ему ударили три наших пулемета.
Комсорг прилег рядом с командиром роты.
— Как вы думаете, кого лучше назначить в десант на первые два танка? — горячо дыша Василькову в щеку, придвинулся к нему Бахарев. — От них зависит многое. — Последнее слово Бахарев произнес медленно, свистящим шопотом, потом еще раз повторил: — Многое, — и добавил: — И трудно им придется, очень трудно.
Откровенность, с какой всегда командир роты говорил с комсоргом, волновала Василькова. Он чувствовал, что капитан ему доверяет, во многих случаях советуется, как с равным, и это заставляло его много думать о делах и людях роты.
В короткое мгновение, пока Васильков думал, в памяти прошли все люди роты, и ему казалось, что кого ни пошли на это опасное задание, любой не подведет, будет действовать решительно и смело.
Он так и хотел ответить, но тут же представил себе, каково будет тем, кто первыми сквозь вихрь огня рванутся в черную неизвестность, и почувствовал, что ему нужно не просто ответить словами, а разделить с командиром роты ответственность за выполнение задачи.
— Комсомольцам разрешите, — предложил он тех, за кого мог смело поручиться.
Бахарев, видимо, ждал такого ответа и не был удовлетворен им. Он придвинулся еще ближе к Василькову и сухо спросил:
— А конкретно кого? Нужно две группы.
— Косенко, — назвал Васильков и с жаром продолжал: — и все его отделение, а еще из третьего взвода второе отделение. Там двое не комсомольцы, но солдаты очень хорошие, сегодня они подали заявления в комсомол. И мне с этим отделением разрешите поехать. Командира отделения ранили перед городом, я временно командовал. Если разрешите…
Васильков не договорил, почувствовав сильную руку Бахарева на своем плече.
— Хорошо, Саша. Я так и думал. Надеюсь на вас. Пойдете по правому проходу, как только проскочите первые окопы, развернуться влево, обойти здание и атаковать левый дальний угол. Что там у противника — неизвестно, все загораживает стена. Поэтому действуйте самостоятельно. Главное — как можно быстрее ворваться внутрь здания и сразу же захватить огневые точки. Все решает быстрота и смелость. Малейшая заминка — гибель!
Васильков слушал капитана и чувствовал, как где-то в груди нарастала мелкая дрожь. Он до боли прикусил губы, сжал кулаки, но дрожь распространялась по всему телу, и он никак не мог успокоиться.
Один за другим к Бахареву подползали командиры взводов.
Он рассказывал, кому, что и как нужно делать, а Васильков всем существом вбирал его слова, думал, как ему самому придется действовать, и, когда капитан смолк, в сознании Василькова отчетливо сложилась картина предстоящего боя.
Он теперь видел не только тех нескольких человек, которые пойдут вместе с ним, но понимал смысл и значение действий каждого человека в этом бою. Те две группы, которые первыми шли на танках, были только частичкой большого коллектива, и, собственно, на эту частичку в первые минуты боя должны были работать все: и стрелки, и пулеметчики, и саперы, и артиллеристы, и минометчики. Нетерпеливая дрожь сменилась радостным волнением. Васильков по-новому осознал теперь то, что проходило перед ним каждый день, что он видел и знал, но еще не мог оценить во всей значимости и величине. Нет, не один человек и не маленькая группа решали успех дела. И судьба человека зависела не только от него самого. Все определялось действиями коллектива, соединенными усилиями многих людей.
Впереди разгорелась ожесточенная перестрелка. К Бахареву подскочил Кисленко и, упав на живот, прошептал:
— Саперов не пускают к переднему краю.
— Ничего страшного, — спокойно проговорил неизвестно когда подошедший командир батальона. Он лежал на куче щебня позади всех и смотрел в сторону противника.
— А мины? Напоремся на них, — возмущенно ответил Кисленко.
— Никаких мин перед вами нет, — решительно ответил майор, в упор глядя на Кисленко, — мы артиллерийским и пулеметным огнем все прощупали, нигде ни одного взрыва.
— Разрешите командирам взводов приступать? — спросил Бахарев.
— Да, приступайте, — ответил майор.
От Бахарева в разные стороны побежали люди. Глядя на них, Василькову хотелось каждому пожать руку и сказать, что он выполнит то, что ему поручено, что он надеется на каждого и уверен, что каждый, если случится неожиданное, поможет ему.
Он резко вскочил и пошел к отделению. На небе все ярче разгорались крупные звезды. В прохладном воздухе дышалось удивительно легко. Он вспомнил Валю и подумал, что следовало бы сегодня отправить ей письмо. Видимо, пришла теперь из института и готовится к занятиям, а мама ее рядом сидит, смотрит на нее, и, как обычно, чем-нибудь недовольна. Хорошая она, только ворчливая и властная. А Валя мало на мать похожа. Правда, властности и у нее много. Посмей только возразить, сразу рассердится, но зато успокаивается очень быстро. Так и не удалось им учиться вместе, а сколько об этом мечтали! Она третий курс института закончила, а он в десятилетке не успел доучиться.
Солдаты укрылись за грудами кирпича возле крайнего дома. Они, видимо, знали, какая задача поставлена отделению, и, едва Васильков приблизился, шопотом, наперебой заговорили с ним:
— Кто танком командует?
— А когда артиллерия огонь откроет?
— Саперы тоже с нами пойдут?
Отвечая на вопросы, Васильков всматривался в каждого и чувствовал, что все настроены бодро, боевую задачу воспринимают не как простую обязанность, а как почетный и ответственный долг.
Подводя отделение к дому, где должен был стоять танк, Васильков услышал позади приглушенный вздох и едва различимый шепоток:
— Эх, ночка! Что-то принесешь ты нам?
Это мимолетное восклицание было произнесено с затаенной тревогой. Васильков хотел обернуться, но в это время его окликнули, навстречу вышел танкист и протянул руку:
— Лейтенант Полтавцев. Жду. Моя машина здесь.
Васильков смотрел и нигде не видел танка.
— Вот здесь, слева, — пояснил Полтавцев.
Оказывается, танк стоял у самой стены, закрытый большим плетнем. Из-за плетня виден был только ствол пушки.
Едва успели командиры сблизиться, как танкисты и стрелки перемешались, называя фамилии, имена и пожимая друг другу руки. Кто-то нашел земляка и радостно говорил:
— Сенька, чертяка, ты ли это? А? Вишь, встретились-то где, под самым Будапештом. Да ты смотри, какой стал! Я же тебя карапузом помню, а сейчас и шлем танковый и плечи — косая сажень. Из дома-то пишут, а? А я вчера только получил. Ждут, брат, ждут не дождутся.
— Убрать плетень, — скомандовал лейтенант.
За плетень с обеих сторон взялись люди. Он качнулся, дрогнул и пополз в сторону. Теперь на белом фоне стены отчетливо вырисовывалась красавица тридцатьчетверка. В открытую башню один за другим влезали танкисты.
Наша артиллерия открыла огонь. Ее гул поглотил все звуки. Васильков не мог разобрать, что говорил ему лейтенант. Только по взмахам его рук он понял, что лейтенант рассказывал, как надо сидеть на броне и что делать, когда танк прорвется к зданию. Васильков осмотрел своих солдат. Они лежали правее, левее и позади башни. В мерцающем, неровном свете у всех были суровые, сосредоточенные лица.
Танк рванулся и, раскачиваясь из стороны в сторону, ходко пошел вперед. Теперь отчетливо был виден весь передний край противника. Слева шел второй танк. Рядом промелькнули какие-то люди. Наконец проскочили окопы, где в полный рост стояли два солдата и, видимо, что-то кричали, ожесточенно махая руками.
Танк резко развернулся влево. Васильков чуть не слетел с брони, едва удержавшись руками за край башни. Лейтенант до пояса высунулся из башни и куда-то показывал рукой. Совсем близко была стена метра в два высотой. Танк вплотную прижался к ней и остановился.
— Через стену прыгай! — что есть силы крикнул Васильков и, встав на башню, вскочил на стену.
Чьи-то руки снизу подтолкнули его, и он ухватился за холодные кирпичи. Впереди чернело пустое пространство. Васильков чувствовал, как рядом с ним взбирались на стену стрелки.
— За мной! — крикнул он и прыгнул в темноту. Под ногами зашуршал щебень, колено ударилось об острый выступ.
Не чувствуя боли, Васильков двинулся вдоль стены. Он видел только темное пространство впереди и всем телом ощущал, что позади и слева бегут солдаты. Рокот танкового мотора, автоматная стрельба и гул артиллерии мешали слышать то, что делалось впереди.
А впереди, всего в нескольких шагах, должен быть противник. Васильков сейчас ни о чем не думал. Его охватило то состояние, когда все силы человека сосредоточены в одном стремлении — защитить себя и убить врага. Он стрелял в темноту и вдруг увидел едва различимое полукружье. Это, видимо, была амбразура, и там должны сидеть фашисты. Он не успел подскочить к ней, как замелькали розовые отблески и горячий ветер прошелся над головой. Васильков метнул гранату и, падая на кучу камней, крикнул:
— Ложись!
Взрыва не было. Он уже схватил вторую гранату, но впереди с треском ахнуло и осколки засвистели над головой.
Васильков бросился к амбразуре. Около нее стояла пушка и лежали трупы. Увлекая солдат, он рванулся дальше. По всему зданию трещали автоматные очереди, рвались гранаты, раздавались беспорядочные крики.
Пройдя несколько шагов, Васильков натолкнулся на поперечную стену. За ней, видимо, была вторая комната и вторая амбразура.
— Гранатами! — крикнул Васильков и, дав очередь из автомата, прыгнул через стену. В бледном свете навстречу ему встали две темные фигуры с поднятыми руками.
— Прекратить огонь, — перекрыл шум звонкий голос капитана Бахарева.
Васильков остановился и только теперь понял, что все было кончено. У амбразуры стояла еще одна пушка. Федоров и Карпенко обезоружили пленных и о чем-то разговаривали с ними.
— Как у вас? — подбежал лейтенант Махов.
— В порядке, — стараясь успокоить дыхание, ответил Васильков, — захвачено две пушки и двое пленных.
— Хорошо. Пленных — к командиру роты, а отделению оборонять захваченные амбразуры.
— Пошли наши, пошли! — закричал Иванчук, рукой показывая на амбразуру.
Васильков прилег на кирпичи и всмотрелся в белесую равнину. По ней за танками бежали цепи стрелков.
— Наша дивизия пошла, — над ухом проговорил Бахарев.
Васильков пытался вскочить, но Бахарев остановил его.
— Лежите, лежите. Отдыхайте.
Он постоял немного, всматриваясь в пролом в стене, и пошел в другие отделения. Всего за несколько минут рота захватила четырнадцать пушек, девять пулеметов и взяла в плен восемьдесят шесть гитлеровцев. Силы противника в этих развалинах превышали все предположения и командира батальона и Бахарева.
— Начальство, — с испугом проговорил Анашкин, показывая в ту сторону, где всего час назад лежала рота.
По пригорку к захваченному зданию шла большая группа людей. Впереди всех шагал невысокий, полный человек в генеральской бекеше и папахе. Позади него — высокий, широкоплечий не то генерал, не то полковник.
Бахарев узнал командующего армией и пошел навстречу ему. Он сейчас видел только лицо генерала — полнощекое, строгое, с внимательными глазами — и, сам не понимая почему, вдруг почувствовал удивительную легкость.
— Здравствуйте, товарищ Бахарев, — подал руку Алтаев. — Покажите результаты своей работы.
Генерал армии шагал легко, пролезая через проломы и обходя кучи щебня. Лежавшие у бойниц солдаты поднимались, отдавали честь командующему и смотрели на генералов.
У стены, где в проломе Бахарев приказал оборудовать наблюдательный пункт, генерал армии остановился.
В неуверенном свете раннего утра открывалась равнина, плавно спускавшаяся далеко вниз. По ней двигались стрелковые подразделения, танки, пушки, пулеметы. То и дело в воздухе появлялись синеватые дымки выстрелов.
— Дайте списки всех, кто отличился в этом бою, — приказал Алтаев: — своей роты, танкистов, артиллеристов, саперов.
— Слушаюсь, — ответил Бахарев, недоумевая, почему все наступают, а его рота осталась здесь, почти в тылу, и командующий приказывает готовить списки для награждения. Неужели все кончено и Будапешт окружен?
— Смотрите, Дмитрий Тимофеевич, — указывая вперед, сказал Алтаев Шелестову, — все-таки карты наши очень точные. Молодцы топографы! Карта абсолютно соответствует местности.
— Да. Это действительно последний естественный рубеж, — ответил Шелестов, — а дальше долина и слева горы.
— Ну что ж, вводим танковую группу, как раз время, — обернулся Алтаев к стоявшим позади него генералам. — Давайте команду танкистам — вперед! Артиллерии обеспечить ввод. Подымайте авиацию для сопровождения танков.
Он присел на край пролома в стене и взял бинокль.
Солнце еще не взошло. Промерзший воздух был чист и прозрачен. В окулярах бинокля рисовались наступающие войска. Они спускались в низину, где виднелись реденькие группы отступающего противника. По тому, как шло наступление, Алтаев понял, что противник деморализован и не скоро может оправиться от поражения. За сутки советского наступления противник свои резервы израсходовал, понес огромные потери, и немецкое командование, видимо, потеряло управление на этом участке фронта. Это было заметно по тому, как беспорядочно отступали гитлеровцы.
— Орлов, — подозвал летчика Алтаев, — нацеливайте штурмовиков на дороги. Парализовать движение, не дать отвести тылы, поставить их под удар наших танков.
Высоко в небе показались первые пары советских истребителей. Их уже освещали лучи солнца, и серебристые машины ослепительно сверкали, проходя над наступающими войсками.
Вслед за истребителями с ревом пронеслись эскадрильи штурмовиков. Распластав крылья, они шли низко над землей, устремляясь к дорогам, где в суматохе отступали вражеские войска и обозы.
Из-за города, из-за высот, которые только сейчас преодолели войска гвардейской армии, донесся едва слышный многотонный гул. Этот гул все нарастал и нарастал. И теперь казалось, будто надвигается могучая штормовая волна, всплескивая, разбрызгиваясь и переливая тысячи тонн воды. Гул растекался в стороны, захватывал все больше и больше пространства и вбирал в себя все звуки огромного поля битвы. Не стало слышно ни людских голосов, ни стрельбы, ни рокота авиационных моторов.
Из-за высоты, из садов и окраин города на полной скорости мчались тридцатьчетверки, за ними — самоходные пушки, а еще дальше — бронетранспортеры, грузовики с мотопехотой, тягачи, вездеходы. Первые танки обогнали пехоту и устремились на север.
В небе появилась новая партия штурмовиков и пошла дальше на север, в тылы противника, к городам Бичке и Естергом.
Все сейчас устремилось по широкой долине на север. Справа начинались небольшие высоты, за которыми километрах в двадцати лежал город Будапешт. Западнее в лучах солнца синели горы Вертешхедьшэг, скрывая равнины западной Венгрии и австро-венгерскую границу.
Над горами показались первые группы вражеских бомбардировщиков. Навстречу им устремились эскадрильи советских истребителей.
От гор по долине могучим разливом нарастало советское наступление. Головные танки прошли вперед и скрылись в реденьком тумане. За ними шли танковые колонны, пехота, артиллерия, обозы. Во вражеской обороне была пробита огромная брешь. Будапешт был обойден с запада. Теперь оставалось только преодолеть расстояние до города Естергом и, соединившись с войсками Второго Украинского фронта, замкнуть кольцо окружения вокруг будапештской группировки немецко-фашистских войск.
— Воронков, — позвал Алтаев начальника оперативного отдела, — новый командный пункт вон на той высоте, — Алтаев показал в сторону холма, к которому только еще подходили передовые танки, — организуйте перемещение. Как списки отличившихся?
— Вот они, — Шелестов подал тетрадь, — я просмотрел и приказал построить подразделения перед этим зданием.
— Где кадровик? — спросил Алтаев, перелистывая тетрадь.
— Здесь, товарищ командующий, — подбежал худощавый майор с интендантскими погонами и большим портфелем в руках.
— Ордена и медали привезли, товарищ Пиляев?
— Так точно, товарищ командующий, — бодро ответил майор Пиляев.
— Хорошо. Пойдемте к подразделениям.
Алтаев, Шелестов, а за ними майор Пиляев пошли к стрелкам, пулеметчикам, танкистам, артиллеристам, саперам.
Гвардейцы стояли шеренгами возле почерневших полуразрушенных стен.
Алтаев всматривался в взволнованные лица и невольно начал волноваться сам. Он помолчал немного, раздумывая, что бы сказать этим замечательным людям. А они стояли строгие, молчаливые, глядя на него и, видимо, ожидая каких-то особых слов. В эти короткие мгновения перед Алтаевым промелькнуло все, что передумал и перечувствовал он в дни подготовки и проведения этой операции.
— Товарищи гвардейцы, — тихо заговорил генерал, сам еще не зная, что скажет дальше, — вы первыми открыли дорогу для окружения будапештской группировки противника. Уничтожением этого узла вы спасли десятки жизней наших советских людей и помогли быстрее и лучше выполнить задачу, поставленную Верховным Главнокомандованием. В этих развалинах вы доказали, на что способен наш советский человек…
Он на секунду смолк, развернул поданный Шелестовым список и заговорил строгим, чеканным голосом:
— За отличные боевые действия при овладении тактически важным опорным пунктом вражеской обороны под Будапештом и проявленное при этом воинское мастерство, мужество и отвагу награждаю орденом Красного Знамени гвардии капитана Бахарева Анатолия Ивановича.
Пока подходил Бахарев, Алтаев правой рукой взял поданную Пиляевым коробочку с орденом, протянул ее Бахареву, затем пожал его руку.
— Поздравляю вас, товарищ Бахарев, с высокой правительственной наградой.
— Служу Советскому Союзу! — звонко ответил Бахарев и тихо добавил: — Спасибо, товарищ гвардии генерал, от всей роты спасибо.
Алтаев еще раз пожал руку Бахарева и прочитал:
— Гвардии ефрейтора Василькова Александра Петровича.
Взволнованные и счастливые, кто четким строевым шагом, а кто запросто, вразвалку, забыв об уставных требованиях, подходили к командующему солдаты, сержанты, офицеры, пехотинцы, танкисты, артиллеристы, минометчики, саперы. Вручая им ордена, Алтаев старался запомнить каждое лицо.
Отдав последнюю медаль, Алтаев взглянул на часы. Прошло всего двенадцать минут. Он передохнул, шагнул вперед и заговорил:
— Здесь, на венгерской земле, мы отстаиваем свою Родину, защищаем жизнь и свободу, отвоевываем мир для свободолюбивых народов. Пройдут годы, десятки лет, и новые поколения будут с гордостью вспоминать о ваших боевых подвигах.
Стрелки, пулеметчики, танкисты, артиллеристы, минометчики, саперы единым вздохом подхватили «ура». Радостные, взволнованные лица, ликующие возгласы были ответом на слова командующего.
А над высотой с победным ревом стремительно проносились новые эскадрильи истребителей, штурмовиков, бомбардировщиков. Из советских тылов выдвигались новые колонны танков, самоходок, артиллерии. Они устремлялись туда, где завершилось окружение будапештской группировки немецко-фашистских войск.
XII
Самолет незаметно оторвался от земли. Аксенов по удобнее протянул ноги, откинулся на спинку сиденья и развернул карту.
Пилот, старший лейтенант Голубенко, полуобернулся и махнул рукой, обозначая круг. Аксенов утвердительно кивнул головой и выглянул за борт. Слегка запорошенная снегом земля искрилась под лучами солнца. Асфальт на дорогах отливал синевой. Изрытые воронками поля напоминали о том, что творилось на них всего пять дней назад. Аксенов узнал холмы, откуда началось советское наступление. Он знаком попросил Голубенко немного снизиться и пролететь над ними.
Под крылом мелькали разветвления траншей и ходов сообщения, рваные пятна воронок, темные овалы и прямоугольники бывших огневых позиций и укрытий. Это была полоса, где перед наступлением располагалась дивизия Чижова. Пусто и безлюдно было сейчас там, где всего пять суток назад укрывались тысячи людей и сотни машин. Земляные сооружения тянулись по балкам, высотам и обрывались на просторной равнине. Здесь проходила линия фронта.
Бывшие позиции противника зияли бесчисленными ямами и холмами. Там, где находились траншеи и ходы сообщения, все было покрыто воронками. Виднелись разбросанные доски и бревна, исковерканные машины и пушки.
Вдали, на севере, вырисовывались смутные очертания города Секешфехервар. Со всех сторон к нему тянулись обсаженные деревьями дороги.
Голубенко обернулся к Аксенову, что-то крикнул и указал рукой вперед. Перед городом, на изрезанных дорогами полях, темнели сплошные нагромождения не то остатков строений, не то каких-то машин. Подлетев ближе, Аксенов понял, что это было то самое место, где гвардейская армия столкнулась с контратакующими резервами противника. Равнину покрывали разбитые танки, автомашины, пушки.
Аксенов рукой тронул Голубенко за плечо. Пилот без слов понял его и поднял самолет вверх. Холодный воздух обжигал лицо. Застывшими пальцами Аксенов развернул карту. Начиналась работа, на которую он вылетел. Начальник штаба армии приказал ему пролететь вдоль фронта и своими глазами проверить, куда вышли войска.
Наступление гвардейской армии развивалось успешно. За пять суток ее передовые части продвинулись на семьдесят километров и подходили к Дунаю северо-западнее Будапешта. Навстречу им пробивались войска Второго Украинского фронта. Сегодня или завтра вокруг столицы Венгрии замкнется кольцо окружения. Наступал самый ответственный момент операции. В стремительном наступлении части могли перепутаться, выйти не туда, куда нужно, и в суматохе поражать друг друга.
Поэтому командование гвардейской армией стремилось всеми силами сохранить управление войсками и не дать противнику ни малейшей возможности оправиться и предотвратить окружение будапештской группировки.
Аксенов понимал, что на него возложено не очень важное по значению, но опасное по характеру задание. От него требовалось всего-навсего на маленьком связном самолете «У-2» пролететь вблизи фронта, увидеть, где вели бой войска, нанести все на карту и о виденном доложить командованию. На всю эту работу нужно было немногим больше часа.
Голубенко настороженно посматривал на небо. Аксенов понимал его опасения. В разгар сражения авиация работала с предельным напряжением. В воздухе беспрерывно то на одном, то на другом направлении появлялись немецкие истребители. Для маленькой, тихоходной, ничем не вооруженной машины, на которой летел Аксенов, встреча с ними не предвещала ничего хорошего.
Аксенов всматривался за левый борт самолета. Совсем недалеко от окраин Секешфехервара шли бои. Дымки взрывов покрывали землю. По балкам и в кустарниках виднелись огневые позиции нашей артиллерии. Орудия беспрерывно стреляли на запад, откуда мелькали вспышки ответных выстрелов. На холмах и в долинах вырисовывались пехотные цепи.
Подлетев ближе, Аксенов рассмотрел всю картину одного из эпизодов гигантского сражения, развернувшегося западнее Будапешта. Наши стрелки короткими перебежками приближались к высоте, сплошь изрезанной траншеями. Встречь им били пушки и пулеметы, и огонь их, видимо, был так силен, что стрелки, едва пробежав несколько метров, ложились на землю и, проворно орудуя маленькими лопатами, окапывались. Подобно пехотинцам, артиллеристы также вгрызались в землю, одновременно продолжая стрелять на запад, по вражеским траншеям и окопам. Наступление на этом участке явно замедлилось. И хотя Аксенов знал, что главная задача решается не здесь, а там, дальше на север, эта задержка неприятно подействовала на него. Хотелось приземлиться, разыскать кого-нибудь из ответственных командиров и выяснить, почему здесь нет танков, почему так мало пехотинцев и артиллерии, по каким причинам наступление почти остановилось.
Огибая равнину, фронт тянулся на север, скрываясь в отрогах лесистых гор Вертэшхедьшэг. Эти горы начинались в двадцати километрах севернее города Секешфехервар и тянулись на север, где на дунайском побережье упирались в границу Чехословакии. Они казались мощным — длиною более сорока километров — щитом, прикрывавшим Будапешт с запада.
Аксенов поспешно наносил на карту боевые порядки пехоты, огневые позиции артиллерии, места расположения тылов.
Думать было некогда. Он с трудом успевал определить точное местоположение войск и нанести их на карту. С земли солдаты махали руками, ушанками, что-то кричали. Они на мгновение прерывали свою работу и радостно провожали маленький бесстрашный самолетик. Все на фронте любили эту тихоходную машину. Она появлялась там, где ее даже не могли ожидать. То невозмутимо потрескивает мотором в ночной темноте, везя бомбы на позиции противника, то балками и оврагами пролетит в такое место, куда нельзя добраться по земле и доставить приказ командования, то, погрузив боеприпасы, перебросит их войскам, которые экономят каждый патрон, то проберется незаметно на передовую и вывезет в тыл тяжело раненных.
Чем ближе подлетал Аксенов к горам, тем оживленнее становилось на поле боя. Пехотинцы уже не лежали, а за танками по балкам и высотам бежали вперед. Перед ними виднелись редкие цепи отступающего противника. Небольшое, раскиданное по берегам узенького ручья село Замоль было сплошь забито повозками, машинами, людьми. От села на запад спешили взводные и ротные колонны пехоты, на рысях мчались артиллерийские упряжки, по дорогам и прямо целиной ползли автомобили и тягачи с пушками на прицепе. Советские войска обходили горно-лесной массив с юга. Они по долине устремлялись на запад, все больше и больше отдаляясь от Будапешта. Отсюда до венгерской столицы было уже более шестидесяти километров.
Внешне пустынные и неприветливые горы оказались густо заполненными советскими войсками. Редкие узенькие тропы были забиты обозами. По горным увалам, через ущелья и обрывы пробирались пехотинцы. Дальше на север по извилистому шоссе нескончаемой лентой тянулись конники. Это, развивая наступление, шли кубанские казаки. От лошадей поднимался белесый пар; казаки приветливо махали самолету руками.
Горы поднимались все выше и выше. Все дороги и тропы оборвались, и под крылом плыли сплошные, непроходимые нагромождения скал, густо заросшие лесом. Кое-где мелькали прогалины ущелий, хрусталем сверкала вода горных ручьев — и опять бесконечные скалы, зубчатые увалы заиндевелых деревьев.
Справа и слева от гор открылась широкая равнина. Поля уходили на запад, к границам Австрии. Там было пустынно и виднелись только разбросанные по холмам населенные пункты.
К востоку, среди сопок, извивались две широкие шоссейные дороги. Разноцветными пятнами пластались небольшие города и села, вдали, на востоке смутно вырисовывались окраины Будапешта.
Все пространство между горами и Будапештом то там, то здесь вспыхивало дымками взрывов, серело колоннами войск. Там гвардейская армия наносила главный удар, стремясь к берегам Дуная, к границе Чехословакии, навстречу войскам Второго Украинского фронта.
А в Будапеште и в прилегающих к нему районах оборонялись гитлеровцы. Огромным клином врезались советские войска между горами и Будапештом. Столица Венгрии находилась почти в окружении. Оставалась только узкая полоса по дунайскому побережью, соединявшая будапештскую группировку немецко-фашистских войск с тылами гитлеровской армии. Главные силы гвардейской армии спешили к этой полоске, отрезая последние пути будапештской группировке.
Голубенко повел машину на снижение. Горы амфитеатром спускались к безлесной долине. За долиной висел густой туман. Это в зимних испарениях скрывался Дунай. Дальше поверх тумана просматривалась залитая солнцем равнина. Там была Чехословакия.
Внезапно машину резко бросило. Аксенов посмотрел вниз и увидел только ступенчатые отроги гор. Голубенко быстро выровнял машину и что-то крикнул Аксенову.
Теперь отчетливо видно было все дунайское побережье. По узкой полосе равнины, почти у самой реки, тянулись железная и шоссейная дороги. По шоссе на запад двигалась нескончаемая колонна людей, повозок, машин. Аксенов пытался определить, кто это: свои войска или отступающие немцы, но с воздуха и на таком расстоянии точно узнать это было нельзя. Нужно подлететь ближе. Если это свои войска, то хорошо, а если противник? Тогда маленькому самолетику едва ли удастся вернуться на свой аэродром.
Голубенко вопросительно посмотрел на Аксенова. Нужно было решать. Еще несколько минут — и самолет будет над коленной.
Аксенов напряженно всматривался, пытаясь хоть по каким-нибудь признакам распознать, кто движется по дороге. Ни одного отчетливого признака. Внезапно слева, возле населенного пункта, на самом берегу Дуная, один за другим блеснуло несколько взрывов. Аксенов присмотрелся и в лощине возле дороги увидел смутные очертания пушек. Пушки стреляли на запад. Их снаряды рвались на окраине села Шютте. А к этому селу с востока и шла та самая колонна, к которой подлетал самолет.
— Наши! — закричал Аксенов и хлопнул Голубенко рукой по плечу. Голоса не было слышно. Голубенко закивал головой и резко бросил машину вниз. От стремительного снижения захватило дыхание.
Над самой колонной Голубенко выровнял машину и описал большой круг.
Под крылом сверкнули синие волны Дуная. С дороги люди махали руками. Аксенов видел каждого человека. Шли стрелковые подразделения с артиллерией и обозами. Солдаты останавливались и смотрели вверх. В голове небольшой колонны стоял высокий офицер и из-под ладони следил за самолетом.
Аксенов узнал Бахарева и тут же рядом с ним увидел двух девушек. Это, несомненно, были Настя и Тоня. Голубенко опустился еще ниже, и самолет, накренясь вправо, кружил над головами людей. Настя отбежала в сторону от дороги, сорвала ушанку с головы и что есть силы махала ею. Лицо ее — смуглое, обветренное — горело радостным оживлением. По ее порывистым движениям и разгоревшемуся лицу Аксенов понял, что она узнала его и рада этой неожиданной встрече. Аксенов на мгновение потерял самообладание, почти до пояса высунулся из кабины, крича во весь голос:
— Настенька, родная, здравствуй! Здравствуй!
Но рев мотора и свист воздуха заглушали и ее и его слова. Самолет стремительно отделялся, и теперь Аксенов видел только Бахарева. Он стоял без фуражки и так же призывно махал руками Аксенову.
В низине, в стороне от дороги, вспыхнуло короткое пламя и мгновенно вырос клуб белого дыма. Это отрезвило Аксенова. Он встряхнул Голубенко за плечо, приказывая лететь вдоль берега на восток.
По дороге нескончаемо шли автомобили с пушками на прицепе, грузовики, повозки. Все двигалось на запад.
У железнодорожного переезда колонна скрылась в населенном пункте. Километра два на дороге никого не было. Из-за поворота выдвигалась еще одна колонна. Она шла не на запад, а на восток, к городу Естергом. Здесь один за другим на полной скорости двигались танки, на грузовиках сидела мотопехота.
На северном берегу Дуная, против города Естергом стояла плотная толпа людей, виднелись танки, броневики, автомашины. Над Дунаем взлетали ракеты. Аксенов понял, что это подошли войска Второго Украинского фронта. Окружение будапештской группировки немецко-фашистских войск было завершено.
Часть вторая
I
Последняя неделя 1944 года на фронтах войны ознаменовалась двумя крупными событиями: на советско-германском фронте 25 декабря было замкнуто кольцо окружения вокруг 180-тысячной группировки немецко-фашистских войск в районе Будапешта, а на Западном фронте в этот же день, 25 декабря, приостановилось наступление немцев на запад. Удар советских войск в Венгрии сорвал замыслы гитлеровцев, и они вынуждены были все свободные резервы бросить на Восточный фронт, на подступы к Будапешту. Американские войска получили передышку. Опять против них никто не наступал.
Под Будапештом развернулись ожесточенные бои по сжатию кольца вокруг окруженной группировки, а на Западном фронте развернулись «бои» между… главнокомандующими союзных армий.
И те и другие бои отличались крайне напряженным характером. Под Будапештом войска Второго и Третьего советских Украинских фронтов отбивали яростные контратаки гитлеровцев, неумолимо сжимая огненное кольцо вокруг Будапешта и все дальше и дальше отодвигая внешний фронт окружения. К новому году немецко-фашистская группировка была стиснута непосредственно в черте города Будапешт, а внешний фронт был отодвинут на пятьдесят — сто пятьдесят километров от западной окраины города. Создавались благоприятные условия для полного разгрома окруженной группировки.
«Битву» между союзными главнокомандующими начали генералы, затем к ним присоединились штабные офицеры, и, наконец, в «бой» вступили пресса, «общественное мнение» и радиовещательные компании.
Все началось с того, что командующий американскими войсками Омар Брэдли был глубоко уязвлен решением Эйзенхауэра передать командование двумя американскими армиями английскому фельдмаршалу Монтгомери. Правда, Брэдли, как уверяют американские журналисты, вынес эту пощечину и мужественно продолжал командовать только одной, 3-ей американской армией генерала Паттона. Он присоединился к молитве, посланной Джорджем Паттоном к господу-богу.
«Всемогущий и всемилостивый господь наш, смиренно молим тебя, чтобы ты, по великой благости своей, остановил проливные дожди, от которых мы претерпеваем. Даруй нам хорошую погоду для битвы. Милостиво внемли нам, воинам, взывающим к тебе, дабы, вооруженные твоей мощью, мы могли идти от победы к победе, сокрушать жестокость и злобу врагов наших и утвердить твой правый суд среди людей и народов. Аминь».
Господь-бог расщедрился и в неположенное время года отпустил четыре дня летной погоды. Американская авиация поднялась в воздух и обрушилась на немецкие дивизии в Арденнах. Доблестный генерал Паттон бросил свои войска в контратаку. День шли контратаки, второй, третий, а линия фронта в Арденнах упорно продолжала оставаться на одном месте. Господь-бог рассердился на американцев и повалил на землю новые тучи снега. Авиация вылетать не могла, и контратаки Паттона прекратились.
Так в общих чертах рисуют многие американские журналисты обстановку на участках войск генерала Брэдли.
На самом деле было далеко не так. Раздосадованный Омар Брэдли принимал все меры, чтобы доказать безрассудность генерала Эйзенхауэра и бездарность фельдмаршала Монтгомери.
Армия генерала Паттона, которая прикрывала южный фланг немецкого прорыва в Арденнах и которая была в подчинении Брэдли, имела достаточно сил для нанесения серьезного контрудара по немецкой группировке. В составе этой армии было не менее пяти бронетанковых и несколько пехотных дивизий. А пять американских, полностью укомплектованных бронетанковых дивизий против ослабленных немецких дивизий представляли внушительную силу, способную не только нанести удар по флангу немцев, но и создать угрозу всей их арденнской группировке.
Все дело заключалось в том, что Брэдли не торопился громить немцев. Это сейчас было невыгодно ему. Главные американские силы были переданы в подчинение его личного врага фельдмаршала Монтгомери. Нанеси он серьезные потери немцам, это неизбежно отразится на общем положении в Арденнах и в конечном итоге приведет к разгрому немецкой ударной группировки. А известно, если из трех участвующих в операции армий две находятся в подчинении Монтгомери и только одна в подчинении Брэдли, то и две трети успеха будут записаны на личный счет Монтгомери, а ему, Брэдли, достанется всего одна треть славы.
И Брэдли решил сидеть и выжидать, когда немцы разгромят Монтгомери и «позор падет на голову его личного врага». Сам Брэдли, генерал Паттон и их штабы подняли свойственную американцам шумиху о «могучем контрнаступлении». Но все «контрнаступление» свелось к тому, что войска передвигались, маршировали, сосредоточивались, наносили слабенький удар и вновь начинали маршировать.
Однако, маршируя и нанося удары «растопыренными пальцами», американские дивизии с каждым днем теряли свою боеспособность. Передвигаясь по горным дорогам в плохую погоду, американские танки без огня немцев выходили из строя. На дорогах стояли многие десятки поломавшихся танков. Ремонтные летучки не успевали отвозить их на базы. Полевые заводы до предела были загружены аварийными танками. Армия не воевала, но на глазах у всех таяла, как снег под весенним солнцем. Так Омар Брэдли мстил своему личному врагу.
В свою очередь, и фельдмаршал Монтгомери развил кипучую деятельность. Наконец в его руки попала долгожданная возможность показать этим заносчивым американцам, что их генералы ни на что не способны и что он, Монтгомери, является вершителем судеб на Западном фронте.
Еще со времени боев в Африке Монтгомери и английские правящие круги вынашивали мечту об объединении всех союзных сил под командованием Монтгомери. Однако американцы не были намерены отдавать власть в руки англичан. Под их давлением во главе союзных войск был поставлен генерал Эйзенхауэр. Хитрым маневром англичане пытались ограничить сферу деятельности Эйзенхауэра. Было предложено в качестве его заместителя назначить «верховного главнокомандующего сухопутными войсками». Единственным кандидатом, выдвинутым на этот пост, был Монтгомери. Специально с этой целью английское правительство присвоило ему звание фельдмаршала.
Однако американцы на это не пошли. Эйзенхауэр продолжал оставаться одновременно и верховным главнокомандующим войсками союзников и командующим их сухопутными войсками. Таким образом, все руководство боевыми действиями войск союзников оставалось в руках американцев.
Когда арденнский удар немцев расколол фронт американских армий и Брэдли потерял управление войсками, Монтгомери решил выступить в роли спасителя американских войск.
Он потребовал передать ему командование 1-й и 9-й американскими армиями. Эйзенхауэр вынужден был это сделать. В руках Монтгомери оказалась большая часть всех союзных войск на Западном фронте. Брэдли же по-прежнему сидел в Люксембурге и командовал одной из трех американских армий.
Теперь, получив власть, Монтгомери решил, что наступил благоприятный момент для приобретения высшей власти и для ограничения сферы влияния самого Эйзенхауэра.
Монтгомери продолжает кипучую деятельность. Он собирает корреспондентов, одну за другой проводит пресс-конференции, выступая на них как спаситель положения в Арденнах. Его поддержали английские правящие круги. В ход была пущена вся английская пресса и радио.
Для доказательства безвыходности положения американцев в Арденнах Монтгомери отвел части 1-й американской армии назад и еще более расширил арденнский коридор. Создавались новые благоприятные условия для продолжения немецкого удара в глубь расположения союзников.
Это мероприятие вызвало новое озлобление американцев. Экспансивный Паттон опять грохнул кулаком по столу и заорал:
— Ну его к чорту, этого Монтгомери! Что ж, раздавим проклятых немцев и отдадим их Монтгомери — пусть подавится!
Но как известно, «давить немцев» Паттон и не собирался. Он сделал другое: «отдал их Монтгомери, чтоб он подавился».
Английские газеты и радио расписывали Эйзенхауэра как… администратора, а Монтгомери как военного руководителя. Монтгомери продолжал выступать на пресс-конференциях и в разгар борьбы за власть давал интервью, в которых объявлял, что сражением в Арденнах руководил только он. Зная о поддержке английского правительства, Монтгомери решил пойти в «лобовую атаку». Он поехал в штаб Эйзенхауэра и потребовал передать ему командование сухопутными войсками.
Но тут случилось то, чего не ожидал даже Монтгомери. Эйзенхауэр выслушал его требование, а затем вскочил и, взбешенный, крикнул.
— Осторожно, Монти! Вы не должны так со мной разговаривать! Я ваш босс!
Гордый Монтгомери мгновенно стих и, покорно опустив голову, промолвил:
— Простите, Айк!
Так окрик заокеанского хозяина поставил на свое место забывшего свое положение слугу.
Этот окрик сразу же отозвался и в английском правительстве. Сам Черчилль лично телеграфировал Эйзенхауэру и «просил передать Брэдли его извинения за недостойное поведение английской печати в вопросе об Арденнах».
Американский доллар оказался сильнее самолюбия и национальной чести английских правителей.
В разгар борьбы между англичанами и американцами французские правители решили проявить свою самостоятельность и вырваться из-под власти американцев.
В ставку Эйзенхауэра приехал генерал де Голль. Под видом защиты города Страсбурга от немецкого нападения он потребовал, чтобы французская армия была брошена на оборону «столь дорогого французам города». Это уже было прямым неповиновением слуг, и Эйзенхауэр не стал церемониться. Это же были французы, а не англичане, и с ними американцы могли разговаривать без всяких условностей.
— Если французская армия не будет подчинена мне, — заявил Эйзенхауэр, — то она не получит ни вооружения, ни боеприпасов, ни продовольствия!
Де Голль встал, любезно раскланялся и отбыл ни с чем. Последний бунт прислуги был подавлен.
Во время разговора с де Голлем в кабинете Эйзенхауэра находилось третье лицо. Оно безмолвно сидело в дальнем углу кабинета, окутанное табачным дымом, изредка шевелилось, доставая фляжку, наливая в пробку коньяк, выпивало и не проявляло никаких признаков интереса к разговору.
Это был английский премьер-министр Черчилль.
Только когда разочарованный де Голль вышел из кабинета, Черчилль встал, подошел к Эйзенхауэру и одобрительно проговорил:
— Я думаю, что вы поступили благоразумно и правильно.
…А в это время в ставке Гитлера встречали Новый год. Фюрер поздравлял приближенных генералов. Позади него величаво шествовала Ева Браун и милостиво протягивала руку для лобызания.
Сгорбясь и цепляясь ногами за ковер, Гитлер поочередно подавал руку генералам и изучающе всматривался в их глаза. Висящая, как плеть, левая рука его непрерывно дрожала. Так же дрожала и голова. Шаг в шаг за Гитлером двигались два безгласных существа: личный адъютант — вооруженный эсесовец и здоровенная овчарка. Они злобно смотрели на каждого, кто подходил к Гитлеру.
Слышен только голос Гитлера — хрипучий, надтреснутый, как скрип расщепленного дерева.
Поздравления окончены. Гитлер остановился посредине огромного помещения. Генералы замерли возле стен. Только адъютант и овчарка, как и раньше, злобно осматривали присутствующих.
— Господа, — подняв правую руку, с пафосом заговорил Гитлер, — история сочла бы меня преступником, если б я сегодня заключил мир, а завтра наши враги перегрызлись. Разве не каждый день и не каждый час может вспыхнуть война между большевиками и англосаксами? Я стравил англичан с американцами. Теперь я их натравлю на большевиков. А когда наступит решительный момент, я введу в дело мое тайное оружие. И они узнают, что такое Германия!
Он смолк, еще сильнее задергал головой и, медленно волоча ноги, прошел к массивному письменному столу. Первым за ним бросился Борман. Генерал-полковники Гудериан, Иодль, фельдмаршал Кейтель и адмирал Дениц неуверенно двинулись к столу. Их путь пересекла овчарка и, готовая к прыжку, легла у ног Гитлера.
Геринг уселся в массивное кресло и, меланхолично глядя на Гитлера, поглаживал свой округлый живот. Гитлер метнул на него свирепый взгляд, хотел поднять руку, но не мог и еще больше сгорбился.
Взгляд его потух, левая рука дергалась все сильнее и сильнее.
— Мой фюрер, — несмело заговорил генерал-полковник Иодль, — на западе ваши доблестные войска одерживают одну победу за другой. Под Бастонью доблестный воин Фриц Шлюпке один захватил в плен взвод американцев. На высоте двести сорок три два ваших гренадера уничтожили восемь танков и захватили две пушки. Англо-саксы в панике. Силы наши растут.
Геринг поморщился и, закрыв глаза, притворился спящим.
Гитлер кивнул головой и прохрипел:
— Ждите их парламентеров. И диктовать буду я! Я!
— У них другого выхода нет, — подобострастно добавляет фельдмаршал Кейтель, прозванный близкими Гитлера Лакейтель.
— Только они медленно шевелятся, — продолжал Гитлер, — подхлестнуть, подхлестнуть! Собрать все на Западном фронте, снять дивизии с севера и с юга, сосредоточить в Арденнах и бить, бить, бить!
Он вскинул голову, глаза его загорелись диким огнем, на губах появилась пена.
— Бить, бить! — в беспамятстве кричал он, и левая рука дрожала все сильнее и сильнее. — Бить! И в море, в море…
Обессилев от крика, Гитлер плюхнулся в огромное кожаное кресло и махнул рукой Гудериану.
Неудачливый завоеватель Москвы до лета 1944 года находился в немилости, но после генеральского путча вновь был приближен к фюреру и назначен на пост начальника генерального штаба.
Гудериан начал осторожно докладывать о положении на Восточном фронте и намекнул, что лучше было бы бросить Курляндский фронт и вывести морем окруженные там двадцать три дивизии[1].
— Швеция! — вновь вскакивая, кричит Гитлер. — Швеция нужна мне! Курляндия держит Швецию. Ни одного солдата из Курляндии. Я спасу их. А пока Будапешт, Будапешт брать! Мне нужен Будапешт. Я не пущу русских в Альпы.
Он схватил карандаш и рванулся к карте. Все молча сгрудились вокруг него. Каждый заранее знал, что скажет Гитлер, но все почтительно смотрели на карандаш, который метнулся от Мюнхена к Вене, затем прочертил кривую вдоль Дуная и остановился у чехословацкого города Комарно. Там виднелись номера танковых дивизий «SS», «Мертвая голова», «Викинг» и еще двух танковых и трех пехотных дивизий.
Гитлер резко взмахнул рукой, и жирная линия протянулась от Комарно к Будапешту.
— Пишите, — кивнул Гитлер кому-то из генералов: — «Доблестным героям четвертого танкового корпуса „SS“. В Будапеште окружены немецкие дивизии. Нужно сделать все, чтобы освободить своих товарищей. Вас будет поддерживать мощная артиллерия и авиация. Я сам буду руководить операцией».
Гитлер взял поданную ему бумагу, размашисто расписался и, ни на кого не глядя, выкрикнул:
— Начало наступления в ночь завтра! Пятого ворваться в Будапешт! А этих, — он махнул рукой в сторону Западного фронта, — по прежнему плану, разрезать, уничтожить!
На этом новогоднее совещание закончилось, и Гитлер в сопровождении Евы Браун и овчарки отбыл в свои апартаменты.
По проводам на запад и восток полетели срочные телеграммы.
II
— Тишина-то какая… — устало прошептала Настя и настороженно осмотрелась вокруг.
В промерзлом воздухе плавали снежные хлопья; впереди, там, где проходил передний край, темнели, то сгибаясь, то разгибаясь, силуэты долбивших землю солдат. С севера от скрытого туманом Дуная тянуло сыростью. По склону горбатой, уползающей вдаль высоты громоздились развалины венгерской деревни.
— Словно вымерло все, — в тон подруге ответила Тоня и рукавом ватной телогрейки смахнула с лица бусинки пота.
— Как дела, доченьки? — разнесся бас Анашкина. — Заморозились, небось, приустали.
— Заканчиваем, дядя Степа, скоро вас на буксир прицепим, — блеснула полнозубым ртом Тоня и бросила на свеженасыпанный холмик бруствера иззубренную о камни кирку-мотыгу.
— Ох, и буйная ты, Антошка, просто Марфа Посадница.
— Это я-то буйная? — подбоченясь, вызывающе осмотрела Тоня высоченного, в коротенькой, порыжелой шинели немолодого солдата, которого почти все в роте называли дядей Степой.
— Известно ты, ее вот так назвать и язык не повернется.
— Подхалимаж, товарищ гвардии ефрейтор, — сощурила темнокоричневые глаза Тоня, — чистейший подхалимаж. Она сержант, а я всего-навсего рядовой.
— Дядя Степа, почему остановились мы? — опустив кирку, усталым голосом спросила Настя.
— Приказ, значит, получен такой: стой и залезай в землю. Ротный наш и взводных и отделенных так жучит, аж пыль столбом. Всю ночь по окопам лазал, а теперь перекусил на скорую руку и опять на передовую.
— А как наступали-то мы… — глядя в землю, задумчиво продолжала Настя. — Будапешт позади, а впереди, совсем недалеко — Вена. А там где-то, в Вене или за Веной, конец войны! Совсем близко, рядом. А мы остановились и опять копаем и копаем.
Анашкин взглянул на припудренное каменной пылью лицо Насти и с трудом подавил чуть не вырвавшийся из груди глубокий вздох. Совсем не такой помнил он эту невысокую стройную девушку с красивым лицом и большими голубовато-синими лучистыми глазами. Много рассказов ходило о ней. Весь фронт знал, как стреляет снайперская винтовка Насти Прохоровой. Много раз Анашкину приходилось видеть Настю в бою — спокойную, невозмутимую, для которой война казалась привычным, обыденным делом. А сейчас сидит она далеко-далеко от своей родной Москвы, грустная, задумчивая, мечтающая о конце войны.
— Да, уже недалеко, недалеко, Настенька! Теперь дождемся.
Старый солдат заскорузлой, с синими прожилками рукой обнял плечи девушки и легонько притянул ее к себе.
— А там разъедемся по домам. Опять за свои дела возьмемся. Ты снова учиться будешь. Ты же училась до войны-то? — участливо спросил он, думая, как бы развеселить, встряхнуть девушку.
— Да. Закончила второй курс института. На практике в Белоруссии война застала, — машинально ответила Настя, подавляя болезненную ломоту во всем теле.
Она привстала с камней и озабоченно спросила:
— Как окопчик наш, ничего?
— Подходяще, — придирчиво осмотрев устроенный в развалинах дома парный окоп, ответил Анашкин, — обзор и обстрел — желай лучшего, да некуда, маскировочка — подходи вплотную, не разглядишь. Только одно бы еще не мешало…
Ефрейтор сдвинул над длинным с горбинкой носом выцветшие брови и на секунду задумался.
Настя выжидающе смотрела на него.
Тоня присмирела в ожидании такой критики ефрейтора, из-за которой, быть может, снова придется до седьмого пота долбить закаменелую, сцементованную стужей, неуступчивую землю.
— Сверху бы вот поприкрыть не мешало…
— Я думала. Да нечем прикрыть-то…
— Мы вот ротному на НП брусьев железобетонных понатаскали. На станции там вон, у реки, целые штабели навалены.
— А еще есть? — оживляясь спросила Настя.
— Были утром. Только другие роты, наверно, порасхватали. За такими штуками каждый рвется. Сейчас сходим, — с готовностью отозвался ефрейтор.
За обломками стены хрустнуло, и по краям воронки посыпались вниз камни и песок.
Настя обернулась и в просвете высокого пролома увидела Бахарева. Он в один мах перескочил стену, ловко перепрыгнул через сплетенье исковерканных железных прутьев и взмахом руки в черной кожаной перчатке остановил вытянувшуюся было Настю.
— Вижу, вижу… Не докладывайте… Место удобное, и поработали на совесть.
Он говорил отрывисто, прищуренными глазами всматриваясь в лицо Насти.
— А вы чем занимаетесь здесь? — спросил он Анашкина.
— Проведать зашел, товарищ гвардии капитан, — с готовностью ответил ефрейтор.
— А свою работу закончили?
— Так точно! Все, как приказано, — невозмутимо ответил ефрейтор.
— Хорошо. Я проверю! Садитесь, отдохните, — вполголоса проговорил капитан и присел на бруствер. Он достал папиросу, долго мял ее и неторопливо закурил.
— Товарищ гвардии капитан, разрешите на станцию сходить? Там, говорят, балки есть железобетонные. Окоп перекрыть нужно, — волнуясь, попросила Настя.
— Окоп перекрыть? — с любопытством переспросил Бахарев и, немного помолчав, ответил: — Что ж, сходите.
Ему вдруг захотелось посидеть немного, поговорить с девушками о чем-нибудь постороннем, не служебном и в разговорах забыть тревожные думы.
— Разрешите помочь им, товарищ гвардии капитан? — вмешался Анашкин. — Тяжеловато для них, одни-то не управятся.
— Сходите, только не задерживаться. Патронный пункт оборудовать нужно.
— В один момент.
Бахарев, часто затягиваясь дымом, долго смотрел им вслед, потом сильно оттолкнулся руками, поднялся на ноги, пошел на свой НП.
— Как глядит-то он на тебя… — выйдя из развалин, шепнула на ухо подруге Тоня.
— Перестань болтать, — оборвала ее Настя и бегом догнала Анашкина, вразвалку шагавшего к закопченным, обугленным нагромождениям кирпича, бетона, черепичной кровли.
— А у нас так от самой Волги и до Карпат, — осматривая растерзанную станцию, с горечью сказала Настя, — кругом разрушения и развалины.
Анашкин взмахнул узловатым кулаком и погрозил в сторону туманно-снежного запада.
— За все поквитаемся! Ох, как поквитаемся!
— Дунай! Вот он опять, Дунай! С другой стороны подошли! — вскрикнула Тоня и побежала к свинцовому разливу воды.
По иссиня-черной ряби могучей реки бугристыми островками плыли заснеженные льдины. Кружась, белые островки сталкивались, ползли друг на друга, разваливались на куски, вновь сцеплялись и уплывали к Будапешту.
— Чехословакия там, — показала Тоня за реку.
— Гитлер хозяйничает, — сурово проговорил Анашкин, — реками кровь льется, родная наша, славянская.
Все трое постояли на берегу и, не сговариваясь, одновременно повернули и направились к развалинам станции.
По железнодорожному полотну цепочкой шло человек двадцать солдат. Анашкин крикнул кому-то с сержантскими погонами:
— Эй, Остап Петрович, далеко своих ведешь?
Сержант остановился, признал, видимо, в Анашкине давнишнего приятеля и лукаво ответил:
— На помощь к вам. На вас-то, видать, никакой надежды, вот и послали нас: выручайте, дескать, земляков.
— Ты не дерзи, не дерзи, а всерьез.
— А я и так не шуткую. Траншеи у вас рыть будем.
— Где это у нас?
— Известно, в вашем батальоне.
— Остап, голубчик, погоди, — остановил Анашкин сержанта. — Ежели ты всерьез к нам, то пособи маленько.
Сержант остановился. Вплотную к нему придвинулись пожилые, в большинстве усатые солдаты.
— Помоги, землячок, — продолжал Анашкин. — Девушкам нашим позицию достроить нужно. Подтащи штук десять брусочков железобетонных. Все равно по пути, не обременит.
— Ты что-то на старости лет за девушками ухлестывать вздумал! Смотри, напишу Матрене Карповне.
Солдаты заулыбались. Кто-то вполголоса крикнул сержанту:
— Это ж снайперы наши, Настя Прохорова и Тоня Висковатова!
Все взгляды обратились к девушкам.
— Ну как, поможем? — обернулся сержант к ездовым транспортной роты.
— Им да не помочь?
— Показывай, что брать-то и куда нести.
— Эх, повозочек пару бы!
— А мы и так, без повозок, не смотри, что усы до плеч, а силушка в жилушках взыгрывает.
Настя смущенно опустила глаза. Ей всегда было и тревожно и приятно чувствовать уважение окружающих, в мимолетных взглядах ловить любопытство, и по радостным улыбкам понимать, что ею не просто интересуются, а гордятся и считают какой-то особенной, не похожей на других. Эти чувства и сейчас охватили ее, заглушая тревожное раздражение. Тоня посматривала на солдат, кому-то улыбнулась и звонко прокричала:
— Дядя Степа, что вы их упрашиваете! Мы и без них справимся. А то сделают на копейку, а разговору на весь полк.
— Ишь ты, какая резвушка, — отечески ласково проговорил сержант, — молодая, а из ранних.
— Росла на солнышке, вот поэтому и такая, — неугомонно острила Тоня.
— Перестань, — сердито шепнула ей Настя, — всегда ты вот так.
— Ничего, ничего. Она еще дитя, порезвиться-то хочется, — добродушно улыбаясь, сказал сержант.
— Дитя, — передразнила Тоня и, сердито сдвинув брови, грозно прикрикнула: — А ну, хватит разговоров! Поднимай, наваливай, вперед!
Солдаты подошли к штабелям, и через две минуты восемнадцать железобетонных брусьев покачивались над строем. Девушки шли рядом с сержантом и Анашкиным, вслушиваясь в их разговор.
— Всех нынче командир полка на окопы выпроводил, — неторопливо рассказывал сержант, — всех тыловиков на передний край. Транспортная рота, санитары, ординарцы начальства, писари, кладовщики, — всем приказал траншеи копать. И в дивизии также. Сейчас пройди по тылам-то — пустым-пусто, одни часовые стоят.
— Серьезное, значит, дело, а?
— Видать, серьезное, браток. Видно, всю зимушку провоевать придется.
«Неужели немцы опять наступать будут?» — тревожно подумала Настя. Эта мысль все время, пока она с помощью Анашкина прикрывала накатом каменистый окоп, волновала девушку. Третий год, от самого Сталинграда, ожидала она радостной вести — конец войны! В холмистых степях под Воронежем, в наполненных соловьиными пересвистами садах возле Курска, на узеньком, изглоданном вражескими снарядами и бомбами лоскутке днепровского правобережья мечтала она о том дне, когда будет сделан последний выстрел и настанет тишина мирной жизни.
Она знала и понимала, что хоть и отступает враг, но он еще силен и с ним придется воевать еще не один день, не одну неделю и даже не месяц.
В непрерывных боях стремительно проносилось время. Советская Армия безостановочно громила гитлеровцев. С каждым днем все больше и больше родных городов и сел освобождалось от вражеской оккупации. Долгожданная победа, казалось, скрывается то в хуторах и на шляхах, воспетых великим Шевченко, то за извилистым, посеребренным в весеннем разливе Днестром, то в пышносадых молдавских селах и на опаленных зноем холмах под Яссами…
Промелькнули новые недели и месяцы, а враг все не сдается, все ожесточеннее и яростнее кипят бои. Чужая земля была под ногами. Незнакомые, с трудом выговариваемые названия городов и сел. И, наконец, граница дружественной Чехословакии, а война все еще не кончалась. И опять (сама не знает, в какой только раз!) Настя вгрызается в кремнистую землю и готовится, быть может, к последнему бою.
Снег валил гуще и гуще. В пяти шагах ничего нельзя разглядеть. Сплошная пелена зыбкой стеной вставала со всех сторон.
— Вот это маскировочка, — забрасывая битым кирпичом и обломками штукатурки накат над окопом, говорил Анашкин, — ни за что немец не разглядит!
— А уютно как, — выпрыгнула из окопа Тоня, — если б еще печку поставить — зимовать можно.
Анашкин сердито взглянул на нее и яростно пнул ногой камень-голыш.
— Знал бы, что ты пустоболка такая, ни в жизнь не стал бы помогать вам. Видал, мудреная головушка, удумала — всю зиму в окопе просидеть! Да мы за зиму-то его должны вконец расколошматить и в гроб загнать. И так от домов-то отбились.
— Дядя Степа, вот какой вы человек кипучий, я же пошутила.
— Пошутила, пошутила… — ворчал старый солдат, смягчаясь под улыбкой Тони. — А печку-то и в самом деле поставить нужно. Это мы придумаем как-нибудь.
— Дядя Степа, неужели немцы наступать будут? — несмело спросила Тоня.
Анашкин задумался, раскурил обгорелую коротенькую трубку и, вздохнув, посмотрел на запад.
— Может, и будут. А только мне кажется, что начальство нам отдых порешило дать. Отшагали мы сотни верст, и все без остановок. Да и подкрепленья, наверно, поджидают. Погляди, сколько в роте бойцов-то осталось… была рота как рота, а сейчас чуть поболе взвода. С такими силенками не больно навоюешь. А там эти, как их… тылы, наверно, захрясли где-нибудь. Тоже подстегнуть не мешает…
Анашкин не закончил фразу:
— Товарищ подполковник. Борис Иваныч…
К нему неторопливо шагал Крылов.
Настя знала инструктора политотдела армии и, толкнув Тоню локтем, сказала:
— Вот он, Борис Иванович, я тебе рассказывала, помнишь?
— Как живете? — спросил Крылов, глядя то на Анашкина, то на девушек.
— Да ведь известно, Борис Иваныч, раз вы приехали, значит будет наступление, — ответил Анашкин. — Так-то вы к нам не больно часто заглядываете.
— Нет, — покачал головой Крылов, — на этот раз не наступление…
— Неужели оборона? — вздохнул Анашкин.
— Да, оборона, — в тон ему ответил Крылов, — как ни печально, оборона.
— И надолго?
— Да вот пока окруженных гитлеровцев не разгромим в Будапеште. Да ты что, Степан Харитоныч, обороны боишься?
— Бояться-то вроде и не боюсь, да отвыкли как-то. От самого Сталинграда все наступаем и наступаем — и вот тебе раз: опять обороняться.
— Ничего не поделаешь, — прищелкнув языком, ответил Крылов. — Вот закончим с Будапештом — и опять вперед. Ну, а вы как себя чувствуете? — подошел он к Тоне.
Тоня хотела ответить шуткой, но под взглядом серых внимательных глаз Крылова смутилась и, краснея, пробормотала:
— Стреляю понемножку.
— Слышал о вас, говорят — неплохо стрелять начали.
— Какое неплохо, — сама не зная почему, с обидой ответила Тоня, — вот если б как Настя стрелять!..
— Учитесь, мастерство не сразу приходит. А учиться вам есть у кого, условия в обороне хорошие. Самая пора для снайпера, сиди и подкарауливай.
Крылов поговорил еще немного и ушел на передний край. Ничего особенного он не сказал, но Тоня чувствовала какое-то удивительное спокойствие после этого разговора.
Где-то совсем рядом гулкий разрыв снаряда вспорол тишину. Вперебой застрочили пулеметы. По всему фронту звучали винтовочные выстрелы.
Анашкина словно ветром сдуло. Девушки нырнули в окоп. От близкого взрыва вздрогнула земля.
Тоня прильнула к бойнице, изготовив винтовку к стрельбе. Впереди в сплошном мелькании снега клокотала невидимая перестрелка.
Через минуту над позициями снова стояла тишина, нарушаемая лишь перешептыванием падающего снега.
Только сыроватый воздух едва ощутимо припахивал пороховым дымом.
— Прощупывают, слабое место отыскивают, — с ног до головы запорошенный снегом вышел к окопу Бахарев, — второй раз в районе нашего батальона рвутся. Не случайно это…
Он остановился возле девушек, неторопливо стянул перчатки и хлопнул ладонью о ладонь.
— К Будапешту рваться будут. Наверняка будут! Свои окруженные войска спасать. Там же почти двести тысяч человек прижали. Солидная группировка. Придется вам, товарищ Висковатова, задание одно выполнить, — продолжал он, глядя на Тоню, — связные мои все на окопах работают, а в батальон донесение представить нужно. Знаете, где НП комбата?
— Знаю, — с готовностью ответила Тоня, — на скалистом бугре у виноградников.
Тоня лихо приложила руку к ушанке и выбежала из окопа. Бахарев посмотрел ей вслед и пошел к переднему краю. Настя опустилась на колени и начала выметать землю из окопа. Каменистое дно его становилось похожим на пол в хате. И этот чисто подметенный пол, и гладкие стены, и рельсовый потолок окопа напомнили Насте далекую мирную жизнь. Она так увлеклась уборкой, что забыла, где находится и что делает.
— Настенька, а вот и я, — вихрем влетела Тоня в окоп, — командира полка встретила, привет он тебе передавал. Лично от себя и еще, знаешь, от кого? Вот угадай! Ну, не мучься, не мучься. От Аксенова.
— А где он его видел? — чувствуя, как учащенно забилось сердце, спросила Настя.
— По телефону с ним разговаривал. На Новый год нас в штаб армии приглашает. Подполковник говорит: «Разрешаю, поезжайте». Поедем, Настенька, вот уж гульнем, так гульнем! Там, знаешь, какая в штабе армии-то тишина, ни одного выстрела, и живут-то они не в окопах, а в домах. Тепло, чисто, уютно? Поехали?
Настя слушала подругу, опустив голову и стараясь не встречаться с ней взглядами. Все последние дни она, скрывая это даже от себя, ожидала встречи с Аксеновым. Не однажды уже она решала порвать все с Аксеновым, забыть его и никогда не думать о нем, но стоило только вспомнить его, как вновь всплывало все пережитое и перечувствованное вместе с ним, все их встречи и мечты, надежды и ожидания. Последняя встреча, когда она увидела его в самолете над берегом Дуная, явилась переломом в ее сознании. Всего несколько секунд видела она его тогда, но эти секунды были для нее дороже длинных часов. Она видела его лицо, глаза, руки, и все говорило ей, что Николай остался таким же, каким и был, что он любит ее, любит попрежнему искренно и честно, что их размолвка результат недоразумения, непонимания друг друга и что стоит только им встретиться лично, как неясное и тревожное будет устранено и они попрежнему станут самыми близкими людьми.
Но прошла почти полная неделя, а от Аксенова не было ни одной весточки. Волнение с новой силой охватило Настю. И теперь, когда вдруг он пригласил ее в штаб армии на празднование Нового года, Настя не знала, что ответить.
— Неудобно как-то, — смущенно проговорила она, попрежнему стараясь не встречаться взглядом с Тоней.
— А что неудобного? Ночью снайперу все равно делать нечего. Мы с тобой дневные кукушки.
— А где ты подполковника видела? — лишь бы только не молчать, проговорила Настя.
— По окопам лазит. Проверяет все, ругается. Говорит комбату: «Умри, а чтоб первая траншея к вечеру была готова!» Ну, хватит сидеть, собирайся. В двадцать два машина в штаб армии идет, утром вернемся назад.
— Никуда я не поеду, — устало ответила Настя.
III
Вторые сутки Аксенов работал с генералом Дубравенко, почти не выходя из его кабинета. Сам Дубравенко в эти дни спал очень мало. Так же мало спал и Аксенов, но, к своему удивлению, он не чувствовал усталости. Видимо, сказывалась и тренировка и, особенно, сознание ответственности за порученное дело.
А дело действительно было серьезное. Гвардейская армия, совместно с другими армиями Второго и Третьего Украинских фронтов, завершила окружение будапештской группировки противника и, развернув свои дивизии западнее Будапешта, развивала наступление к границам Австрии, все дальше и дальше отодвигая от будапештской группировки так называемый внешний фронт окружения. Однако наступление все время замедлялось и в последние дни 1944 года продвижение гвардейцев буквально ограничивалось метрами. Противник беспрерывно переходил в контратаки, и наиболее важные участки местности по нескольку раз переходили из рук в руки. Неспокойно вели себя и окруженные в Будапеште немецко-фашистские войска. Они из Буды все время рвались на запад, стремясь пробить кольцо окружения и соединиться со своими главными силами. Гвардейская армия и части соседней с ней армии оказались между двух огней. С запада, с фронта, наносили удары свежие резервы противника, стремившиеся прорваться к окруженной группировке; с востока, из Будапешта, также непрерывно наносила удары окруженная группировка, стремившаяся вырваться из окружения. Таким образом, у гвардейской армии, по существу, не было тыла, а везде — на востоке, на севере и на западе — был фронт. И только на юге не было противника, но и там гвардейскую армию от тылов отрезал разбушевавшийся, сплошь покрытый плывущим мокрым снегом Дунай.
Положение гвардейцев осложнялось еще и тем, что в последние дни непрерывно валил густой, мокрый снег, стояли непроглядные туманы и авиация ничем не могла помочь своим наземным войскам. Трудно было с боеприпасами и горючим. Накопленные запасы были израсходованы в ходе наступления, а разлившийся в зимнем паводке Дунай до предела сократил возможности подвоза.
Накануне Нового года разведка перехватила радиопереговоры гитлеровского командования, из которых можно было понять, что в районе чехословацкого города Комарно, перед правым флангом гвардейской армии, сосредоточивается крупная группировка немецко-фашистских войск для удара на Будапешт.
Эти данные еще более обострили обстановку. Советское командование бросило все силы разведки на уточнение полученных сведений. Однако прошло несколько дней, и никаких новых данных о сосредоточении войск противника в районе Комарно получено не было. И, наоборот, на левом фланге армии, почти в сотне километров от Комарно, противник все ожесточеннее и яростнее переходил в контратаки, стремясь по наиболее удобной местности прорваться к Будапешту.
В этой сложной, противоречивой обстановке нужно было принимать новое решение. Подготовкой данных для этого решения и был занят весь штаб гвардейской армии. Всю тяжесть работы принял на себя начальник штаба генерал-лейтенант Дубравенко. К нему стекались сотни самых различных сведений, и он, взяв себе для помощи Аксенова, сутками сидел, анализируя, уточняя, определяя главное и второстепенное, отыскивая ответы на десятки самых неожиданных вопросов.
— На левом фланге непрерывные атаки, а на правом — тишина, — задумчиво повторял он, глядя то на сидевшего напротив него Аксенова, то на карту оперативной обстановки, — на правом — тишина! Тишина!
Это последнее слово он повторял уже много раз, придавая ему различные оттенки. То «тишина» звучала у него успокоительно и ровно, то вдруг наполнялась тревогой и ожиданием неизбежной опасности, то слышалась иронически, как насмешка над кем-то, не верившим, что действительно на правом фланге установилась самая настоящая тишина.
— Так тишина, говорите? — наклонясь к Аксенову, повторил он, и по этому вопросу Аксенов понял, что начальник штаба не верит в возможность действительной тишины там, на дунайском берегу, восточнее города Комарно. — А на левом фланге непрерывно атакует, непрерывно, — врастяжку проговорил последнее слово Дубравенко и смолк, в раздумье склонив стриженую голову.
Помолчав, он привычным движением крутнул ручку телефона и вызвал начальника разведки.
— Как поисковые группы? Четырех взяли? Что показывают? А не обманывают они?.. Внешний вид не всегда характеризует искренность человека, тем более пленного… А как венгры?.. Неплохо, к утру до двух сотен наберется. Особенно обратите внимание на работу немецких радиостанций. Хорошо.
Дубравенко положил трубку, придвинул раскрытую тетрадь и своим четким, ровным почерком записал:
«31.12.44 г. 21.40. Взято в плен четыре солдата. Один на правом фланге, два — на левом, один в центре. Подтверждают старые данные. О подготовке наступления на Будапешт ничего не знают. На нашу сторону перебежало 97 солдат венгерской армии. О подготовке наступления также ничего не знают».
В свою рабочую тетрадь Дубравенко записывал все, что происходило на фронте. Тетрадь была незаменимым помощником для начальника штаба. В любое время он мог получить из нее нужную справку.
— На левом фланге активничает, а на правом ведет разведку — и никаких признаков подготовки наступления, — в раздумье проговорил он и, скрипнув стулом, снова склонился над картой.
Огибая все поле, от чехословацкого города Комарно на восток извивалась голубая полоска Дуная. Пройдя через заросший лесом невысокий горный кряж, Дунай поворачивал на юг и двумя широкими рукавами устремлялся к Будапешту, где снова сходился в одно самое узкое на этом участке русло и за городом рассекался сорокапятикилометровой полосой острова Чепель на два потока. Один, западный, — основное русло Дуная — по ширине был равен Волге, а второй был чуть поуже Оки при ее впадении в Волгу. За островом Чепель потоки снова сходились в один и мощным разливом, шириною более километра, катились к границам Югославии.
Генерал Дубравенко неприязненно думал об этой реке. Не замерзающая в своем основном течении, в зимние и ранние весенние месяцы она была злом для войск, снабжение которых шло только через нее. Все мосты гитлеровцы взорвали. С первыми заморозками по Дунаю поплыли груды мокрого льда и снега. Они срывали понтонные мосты, и переправляться можно было только на паромах, буксируемых катерами Дунайской речной флотилии.
— Оперативная группа летчиков вместе с вами? — спросил Дубравенко у Аксенова.
— Да. Начальник штаба группы и живет вместе с нашим заместителем начальника отдела.
— Можаева, — сказал генерал в телефонную трубку. — Товарищ Можаев, авиатор с вами? Дайте ему трубку. Как воздушная разведка?
Выслушав ответ авиатора, Дубравенко стал еще более строгим и сосредоточенным. Крупное лицо его порозовело, светлые глаза смотрели сердито, резко очерченные губы кривились в язвительную усмешку.
— В том-то и сложность, товарищ Орлов, что погода, погода благоприятствует противнику. Ясно, в такой снегопад трудно летать и еще труднее вести наблюдение. Но это не значит, что нельзя вести воздушную разведку. Прикажите летчикам спускаться ниже, к самой земле, и наблюдать, за каждым движением наблюдать. Противник явно готовит наступление, но где — мы еще не знаем.
Начальник штаба гвардейской армии оборвал разговор, взглянул на смуглое, с немного привздернутым носом и темными глазами лицо Аксенова и спросил:
— А вы как думаете, где будет наступать противник?
— Кратчайший и лучший путь вот отсюда, западнее города Секешфехервар. Местность ровная, удобная для действий танков, хорошая автомагистраль. И расстояние — менее пятидесяти километров.
— Верно, верно, все это верно. Только не всегда наступают по удобной местности. Помните, под Сталинградом? — лукаво улыбнулся генерал, и лицо его стало мечтательным и совсем молодым. — Местность на левом берегу Дона очень удобная, и реки форсировать не нужно. Бей по равнине и окружай сталинградскую группировку. А советское командование решило совсем не так. Ударили мы с донских плацдармов, затем форсировали Дон у Калача, и в итоге — огромный успех. Вот вам и выгода местности. Главное — учесть все факторы: группировку противника, местность, положение своих войск. Диалектически решить вопрос.
Зазвонил телефон. Дубравенко взял трубку. Лицо его опять нахмурилось, глаза посуровели и стали темнее, правая рука порывисто придвинула тетрадь, и по чистой страничке забегал карандаш.
— Опять на левом фланге наступает?.. В атаку бросил больше двух батальонов пехоты и тридцать танков?.. А на остальном фронте и, главное, на правом фланге попрежнему тишина. Хитрят немцы, явно хитрят.
Дубравенко закрыл глаза, сжал ладонями голову и задумался. Потом грузно оперся о стол, циркулем зашагал по карте. Он морщил лоб, часто ерошил щетинистые волосы, время от времени звонил то в оперативный отдел, то начальнику разведки, то командующему артиллерией.
— Ну вот, кажется, и все, — взглянув на часы, встал со стула генерал. — Идемте, Аксенов, к командующему.
Алтаев вскинул негустые рыжеватые брови и прищуренными, не по возрасту задорными глазами пытливо оглядел вошедших.
Дубравенко, встретив взгляд Алтаева, на секунду задержался у двери, словно раздумывая, стоит или не стоит входить, и упругими шагами подошел к широкому столу, от края и до края застеленному картой.
— Садитесь, Константин Николаевич, — кивнул Алтаев на стул у противоположного конца стола. — Проходите, майор, что вы у двери застыли?
Аксенов, прижимая к правому боку папку с бумагами, неловко шагнул, зацепился носком сапога за край ворсистого ковра и чуть не упал. На лице командующего мелькнула и тут же угасла не то насмешливая, не то сочувственная улыбка.
— Ну что ж, Дмитрий Тимофеевич, послушаем начальника штаба, — полуобернулся Алтаев, и только сейчас Аксенов заметил члена Военного совета армии генерал-майора Шелестова.
Шелестов молча кивнул головой и придвинул стул ближе к командующему.
Дубравенко развернул свою карту.
Он кратко охарактеризовал положение армии, подчеркнул, что за счет ввода в бой крупных резервов противника в полосе армии создалось равновесие в силах, а по танкам противник даже имеет тройное превосходство.
Алтаев на углу карты чертил какие-то значки. Присмотревшись, Аксенов увидел линию обороны и синие стрелы, пронизавшие эту оборону.
Дубравенко также увидел рисунок командующего и, продолжая говорить, стал смотреть на него.
— В такой обстановке армия наступать не может. Фронт широкий, а сил мало. Основная наша задача — удержать внешний фронт окружения будапештской группировки противника, не дать возможности ударом извне спасти ее от разгрома. Следовательно, при таком соотношении сил эта задача может быть выполнена только обороной. Закрепиться и быть готовым к отражению любых ударов противника!
Последние слова Дубравенко прозвучали строго, как приказ.
Шелестов взглянул на него и что-то беззвучно прошептал. Крупная рука его взялась было за карандаш, но вдруг потянулась к часам.
Дубравенко понял это как напоминание о том, что пора переходить к выводам.
— Главное сейчас: определить, какими силами может противник нанести удар с целью спасения окруженной группировки.
Алтаев, Шелестов и Дубравенко склонились над картой. Перед их глазами, обозначенные разноцветными значками, группировались полки и дивизии, черными кружками темнели огневые позиции артиллерии и минометов, сплюснутым овалом синела окруженная в Будапеште группировка немецко-фашистских войск. За линией переднего края обороны противника на холмах западной Венгрии и Чехословакии, в предгорьях Альп и примостившейся у Дуная Вены таилась неизвестность. Что делалось там, за этой линией? Возможно, по извивам железнодорожных линий дымят вереницы эшелонов с танками и пехотой? Возможно, в ночной темноте и под прикрытием снегопада с хребта на хребет переваливают колонны войск и техники? Быть может, в садах, лесах и балках сосредоточились и готовы к действиям полки и дивизии?
— Противник к Будапешту будет рваться. Это факт! Это безусловно, — не поднимая головы, проговорил Алтаев, — но цели его гораздо шире. Это продолжение той же самой борьбы за «альпийскую крепость», продолжение борьбы за выгодный мир…
Аксенов следил за некрупными, в синих прожилках, руками командующего, порывисто передвигавшимися от Будапешта к Вене, от Вены к Мюнхену, и ему казалось, что голубоватые под припухшими веками глаза его видят все, что делается и в Вене, и в Мюнхене, и в таинственной синеве Альп.
— Создать «альпийскую крепость», отсидеться там, затянуть войну, под шумок договориться с англо-американцами и, таким образом, избежать поражения, — закончил мысль командующего член Военного совета.
— Совершенно правильно, Дмитрий Тимофеевич, — взглянул на него Алтаев, — тем более, что положение у союзников сейчас критическое. Арденнский удар расколол их фронт на две части. Англо-американцы ошеломлены, растерянны.
— Да и среди командования у них что-то неладно, — сказал Шелестов. — Англичане ругают Брэдли и до небес превозносят Монтгомери.
— Из-за чего бы они ни ругались, — заметил Алтаев, — совершенно ясным остается одно: в рядах союзников разлад. А только этого и добивается Гитлер. Арденнский удар явно имел целью поссорить союзников и заключить сепаратный мир. Англичане и американцы поссорились. Теперь Гитлер постарается показать свою силу. Он наверняка будет продолжать удар в Арденнах и нанесет удар на нашем фронте. А где ему выгоднее всего у нас быть? Конечно, под Будапештом. Этим ударом он одновременно достигает двух целей: во-первых, пытается спасти свою окруженную группировку. А как-никак эта группировка составляет сто восемьдесят тысяч человек. Это почти равно тому, что он бросил в наступление в Арденнах. А во-вторых, удачный прорыв к Будапешту покажет союзникам, что Гитлер еще силен. Поэтому вопрос о том, что гитлеровцы будут рваться к Будапешту, не вызывает никакого сомнения. Неясно только одно: где будет нанесен удар, какими силами и когда…
Генералы еще ниже склонились над столом, раздумывая о событиях, которые могут развернуться в ближайшее время.
В их работе наступил момент, когда нужно все оценить, взвесить и принять окончательное решение, которое определит смысл и содержание действий многих тысяч людей. Ни в одном из видов человеческой деятельности нет такой ответственности, как в работе командира. Конструктор, строитель, механик, принимая решение, может руководствоваться точными проверенными данными, а выбрав одно решение, может в ходе выполнения дополнить, уточнить и даже в корне изменить его. Полководец, принимая решение на ведение боевых действий, всегда имеет перед собой тысячи неизвестных деталей, каждая из которых может не только сорвать его замысел, но и погубить много людей. Успех трудовой деятельности людей обычно определяется окружающей средой, силами природы и поведением людей, выполняющих замыслы руководителя. Эти же препятствия встают и перед руководителем воинского коллектива, но к ним добавляется еще одна важная и наиболее влиятельная сила. Эта сила — противник, группы людей, которые действуют в прямо противоположном направлении. Следовательно, полководцу в своей деятельности приходится учитывать три основных фактора: окружающие условия, в которых будут проходить действия, поведение людей, войск, выполняющих замыслы полководца, и противодействие противника, с которым придется вести бои. Каждый из этих факторов складывается из десятков, сотен, тысяч составных частей, внешне, может быть, незначительных, но в общем ходе событий оказывающих огромное влияние.
Так и сейчас перед тремя генералами вставали десятки вопросов, на которые нужно было искать ответы.
Гвардейская армия раскинулась на фронте более полутора сотен километров. Ее войска располагались и на берегу Дуная, и на склонах гор, и на словно проутюженной равнине. Были на этой местности большие города, села, маленькие фольварки; проходили шоссейные, грунтовые, железные дороги; протекали реки, ручьи, каналы. Все это создавало понятие о местности. Но стоило только вдуматься, представить себе, как на этой местности будут действовать войска, и вся картина менялась. Безобидный ручей, игриво журчащий меж холмов, одновременно мог оказать большую помощь и стать причиной бедствия. Если на его берегу войска построят оборону, то он явится препятствием для противника и поможет гвардейцам разгромить врага. А если этот же ручей окажется в тылу гвардейцев и через него не будет построено ни одного моста, то он затруднит передвижение войск, не даст им во-время подойти к полю боя и тем самым окажет помощь врагу.
В низинах и балках удобно укрывать от огня противника войска и технику, но в ненастье низины и балки наполняются водой.
Приветливое село на склоне горы может служить хорошим укрытием для гвардейцев — и это же село может укрыть и противника.
Раздумывая и обсуждая, генералы от фланга к флангу изучали местность, еще и еще раз вскрывали выгоды и невыгоды каждого предмета и намечали, как лучше использовать природные условия для борьбы с врагом.
Не меньшую загадку представляли и свои войска, те самые люди, которые будут выполнять замыслы командования. Если в мирной жизни, в быту, та или иная черта характера человека оказывает влияние на его близких, на нескольких человек, то в условиях войны влияние этой же черты может распространиться на десятки, сотни и даже тысячи людей. Предположим, пулеметчик Н. — хороший, смелый человек, но по складу своего характера он не всегда может принять самостоятельное решение и ждет, когда ему прикажут выполнить ту или другую работу. И вот против этого пулеметчика противник бросился в атаку. Пулеметчик ждет, когда ему командир прикажет открыть огонь, а командир в это время тяжело ранен и командовать не может. И пока пулеметчик ждал, противник ворвался на позиции.
Если человек с таким же характером не пулеметчик, а командир взвода, роты или батальона, то из-за его нерешительности может погибнуть немало людей.
С другой стороны, люди смелые, решительные иногда поступают необдуманно, горячатся, не учитывают всех особенностей обстановки. Видит, например, такой человек, что противник изготовился для атаки, и сразу же открывает огонь. Он уверен, что поступил правильно, а на самом деле допустил ошибку. Своим огнем он обнаружил себя преждевременно и дал противнику возможность использовать свое преимущество в количестве огневых средств. А стоило этому человеку выждать немного, подпустить противника ближе и внезапно обрушиться на него всей мощью своего огня — и противник никогда бы не мог возобновить атаку.
Но не только люди оказывают влияние на ход военных действий, — многое зависит и от правильного использования боевой техники. Грозная сила — пулемет в борьбе против атакующей пехоты, но этот же пулемет ничего не сделает тяжелому танку. А быстроходный танк на минном поле оказывается бессильным, не имея помощи саперов. Каждый вид оружия, каждый род войск наибольшую пользу может принести только тогда, когда он правильно используется, с учетом всех слабых и сильных сторон. А эти стороны нужно знать и уметь предусмотреть характер их влияния в различных условиях местности и боевой обстановки.
И генералы один за другим оценивали свои части и соединения, их подготовленность, обученность, умение вести бой в различных условиях, учитывали способности их командиров и штабов, определяли, кому что можно поручить и кому какую оказать помощь. Они учитывали свойства различных видов боевой техники и особенности различных родов войск, определяя, кто и где может действовать с наилучшими результатами.
Но самая большая трудность в деятельности полководца — определение возможностей, замыслов и намерений противника. На войне все силы людей направлены на то, чтобы победить противника, и победить меньшими силами, с наименьшими потерями. Для этого используются все возможности человеческого разума, воля, хитрость. И побеждает в конечном итоге тот, кто перехитрил, обманул своего противника, сумел противопоставить ему большее количество сил и средств и с наибольшей полнотой использовать все особенности условий боевой обстановки.
События на войне развиваются стремительно, время приобретает решающее значение. Если вчера перед гвардейской армией стояло всего шесть дивизий противника, то сегодня их может быть десять, двадцать, тридцать. Если вечером на каком-то участке не было ни одного вражеского танка, то к утру их могут быть сотни.
И руководители гвардейской армии считали и пересчитывали силы противника, раскрывали то неизвестное, без чего нельзя было принимать решение. А неизвестного было очень много. В последнюю неделю погода испортилась, начались снегопады и густые туманы. Ни с земли, ни с воздуха нельзя было рассмотреть, что делалось в расположении противника.
И в эту же неделю резко повысилась бдительность противника. При малейшем движении вблизи переднего края он открывал огонь. Разведчики с трудом взяли нескольких пленных. Но и они ничего ценного не показали.
Где ударит противник? Когда? Какими силами? В мучительных раздумьях генералы отыскивали ответы на эти вопросы. Удара можно было ждать и в центре и на правом фланге.
— Выход может быть только один, — после долгих раздумий произнес Дубравенко, — использовать местность. На правом фланге легче создать сильную оборону. Горы скуют наступление противника. А все проходы прикрыть войсками и минами. Дивизию Чижова усилить. На берегу Дуная поставить в оборону еще одну дивизию. Армейские резервы держать в центре. Только в центре! Отсюда легче маневрировать.
— Да, это наиболее целесообразное решение, — согласился Шелестов. — Только надо помочь Чижову вести окопные работы. У него даже больших лопат мало. А кирок почти нет.
— Хорошо, — подытожил Алтаев, — мнение у всех одно. Усилить правый фланг, резервы держать в центре в готовности к маневру и ждать удара противника в центре и на правом фланге. Аксенов, берите бланк шифровки, пишите.
Алтаев, глядя на карту, диктовал короткие боевые приказы командирам корпусов.
— Сейчас же передать шифром, — вызвав адъютанта, приказал он и задумчиво, словно рассуждая сам с собой, продолжал: — Основа всех наших действий — маневр силами и средствами. Если противник наносит удар на правом фланге, мы снимаем часть сил, главным образом артиллерии, из центра и с левого фланга, усиливаем правый, создаем на участке прорыва превосходство или равновесие и, таким образом, срываем наступление противника. Если удар будет в центре, то центр усиливаем за счет правого и левого флангов. Главное — маневр должен быть гибким, своевременным, скрытым от противника…
IV
Аксенов вышел из дома командующего и, сойдя с крыльца, невольно остановился. Над землей стояла по-зимнему тихая ночь. Многодневный снегопад прекратился, небо расчистилось, и в бесконечно далекой, прозрачной пустоте искрилась, мерцая и переливаясь, изумрудная россыпь звезд. Луна только что поднялась над горизонтом и по всему селу разбросала длинные голубые тени. Воздух — прозрачный и чистый, — казалось, звенел и переливался. И все вокруг было по-весеннему радостно и торжественно. Длинный ряд домов, серебристых и искрящихся в лунном свете, уходил далеко под гору и там словно растворялся, сливаясь с туманно-молочным, невидимым отсюда полем. Опушенные снегом деревья словно спали.
Аксенов боялся пошевелиться и скрипом сапог нарушить безмолвие. После всего, что он знал, видел и передумал, это безмолвие как-то странно подействовало на него. Казалось, нет ни войны, ни притаившихся где-то невдалеке вражеских группировок. Вспомнилась такая вот ночь — лунная и безветренная, — когда он шестнадцатилетним пареньком ехал на первую самостоятельную работу. Тихо поскрипывали полозья розвальней, перебиваемые хрустом конских копыт. Подводчик, старый колхозник, насвистывал бесконечную, одному ему известную песню. А сам Аксенов — молодой инструктор райкома комсомола — в тулупе, валенках и в легонькой городской кепке лежал на соломе и думал, как будет он проводить комсомольское собрание, что скажет парням и девушкам, чем сумеет заинтересовать их, всколыхнуть и заставить поступать так, как требуют партия и комсомол. И совсем не думал он тогда, что пройдет всего два года и он круто изменит свой жизненный путь; что беспокойная, но увлекательная работа инструктора райкома комсомола останется только далеким воспоминанием, а все его силы будут отданы армии, воспитанию воинов, подготовке их к защите Родины.
И сейчас, через десяток трудных и тревожных лет, ему казалось, что, собственно, в его жизни ничего не переменилось. Тогда он все силы отдавал работе с людьми, воспитанию людей, укреплению колхозов, борьбе с остатками кулачества, и теперь он также занимается и воспитанием людей и борьбой с врагами, — правда, борьбой несравнимо более жестокой и опасной, чем в те времена, но имеющей одну и ту же цель — защиту и укрепление советской власти, завоеваний и достижений родного народа. И сейчас, в эту лунную, не по-фронтовому тихую ночь, он чувствовал себя таким же комсомольцем, как и в годы юности, хотя давно комсомольский билет сменил на партийный, а мечта о хороших, густых усах сменилась досадной необходимостью ежедневного бритья.
И только одну перемену, ощутимую и острую, он чувствовал в себе. Это было его отношение к личной жизни, к семье. Много девушек — разных и по облику и по характерам — встречал он на своем жизненном пути. И все они проходили через его жизнь, не вызывая в душе тяжелых и мучительных переживаний. А теперь, когда он достиг зрелости и стал по-настоящему сильным мужчиной, все переменилось. Служба, работа, дружба с товарищами уже не могла полностью насытить его жизнь. Не хватало еще чего-то важного и существенного, такого же необходимого, как работа, пища, отдых. Вначале он не понимал, а вернее, не задумывался всерьез, что было это недостающее, важное и существенное. Но сама жизнь, суровая фронтовая жизнь с постоянной опасностью подсказала ему ответ на вдруг возникший вопрос. Это недостающее была любовь. И любовь, по-настоящему сильная и здоровая, вспыхнула у него во время боев под Сталинградом, когда он снова встретился с Настей. С тех пор она все время жила в его мыслях, близкая и дорогая, а затем вдруг отдалившаяся, но ставшая еще необходимее и дороже. Особенно больно и тревожно было ему в последние месяцы, когда он почувствовал, что теряет Настю.
Глухой обвальный грохот оборвал мысли Аксенова. На фронте вновь разгоралась артиллерийская перестрелка. Снаряды рвались часто и глухо. Вскоре к ним присоединились пулеметные очереди. Луна закрылась тяжелой тучей, и все вокруг стало мрачным и тревожным.
Зябко передернув плечами, Аксенов встряхнулся и торопливо пошел по улице.
Нащупывая ногами ступеньки, он поднялся в прихожую дома, который занимал оперативный отдел штаба армии. В углу неосвещенной комнаты послышался приглушенный шопот. Не успел Аксенов вытащить фонарь из кармана, как его кто-то обнял за плечи.
— Настя! — поняв, что это именно она, его Настя, а не кто-либо другой, Аксенов в темноте обнял ее, вздрагивающую, родную и близкую. — Настенька, ты? Приехала…
— Это я ее привезла, чуть не под конвоем, — задорно проговорила Тоня и, словно невзначай, добавила: — Пойдем, Сонечка, мы лишние тут.
— Соня, знаешь, какая хорошая, — шептала Настя, когда девушки скрылись за дверью, — раз пять адъютанту командующего звонила. Все спрашивала, когда ты освободишься, а потом адъютант позвонил и сказал, что ты вышел. Вот и спрятались, поджидая тебя.
Она говорила это, все сильнее прижимаясь к Аксенову.
По дороге Настя несколько раз хотела остановить машину и вернуться. Она искренне обрадовалась, когда Аксенова не оказалось в оперативном отделе и Соня сказала ей, что он работает у начальника штаба и сейчас находится в кабинете командующего. Это отдаляло встречу, которой боялась и ждала Настя. Тоня поняла ее состояние и шутливо предложила встретить Аксенова в темной прихожей. Это избавляло Настю от встречи с Аксеновым при посторонних. Теперь они стояли вдвоем в темной прихожей и без слов понимали, что их размолвка была случайной, что оба они мучились напрасно.
— Пойдем в дом, — первой опомнилась Настя, — там собрались все, ждут… Новый год начинается.
Они вошли в комнату и, ослепленные ярким светом электрической лампочки, с трудом разглядели говорившего по телефону оперативного дежурного, невысокого майора.
— Повторите координаты. Координаты повторите, — надрывался майор, — ничего не понимаю, еще раз повторите. Да что-то у вас с телефоном, хрипит… Телефон, говорю, хрипит. Вот теперь хорошо… Так, понятно… До роты пехоты и восемь танков. А ваши что делают!
Из соседних комнат доносились оживленные разговоры, смех, перезвон стаканов.
Настя не слышала ни шума, ни разговоров. Она смотрела на лица, и все ей казались красивыми, дорогими и близкими людьми.
— Опаздываете, три минуты осталось! — прокричал в распахнутую дверь подполковник Можаев, высокий, стройный, подвижной человек с вьющимися белокурыми волосами.
В гостиной с низким лепным потолком и мрачным картинами в темных массивных рамах вокруг накрытых столов толпились офицеры и машинистки.
— Товарищи, внимание! — призывал к тишине пожилой майор с красным, обветренным лицом. — Внимание, дайте высказаться в конце концов.
— Давай, Саша. Ждем, — вразнобой подзадоривали его друзья.
— Товарищи! Направленцы[2] поздравляют вас с Новым годом и преподносят подарок. Внимание, подарок движется.
Все обернулись к грузно шагавшему с бочонком в руках офицеру связи капитану Тимофееву.
— Вот! Читайте, — показал майор выжженную на зеленовато-коричневом днище цифру «1873», — семьдесят два годика! В замке какого-то графа в подвалах спасалась. Замшевела вся!
Звонкие одобрительные возгласы перемешались с задорными аплодисментами.
— Товарищи, — перекрыл все голоса бас подполковника Можаева, — рассаживайтесь!
Шум и суета стихли. В дверях показался генерал и, прихрамывая, прошел к столу.
Настя знала, что это генерал-майор Воронков, она видела его несколько раз, но говорить с ним ей ни разу не приходилось.
— Прошу садиться, — улыбаясь, проговорил Воронков и осмотрел всех веселыми глазами. — Товарищи, — выждав, пока все расселись и притихли, продолжал он, — помните разрушенные деревни Тульской области, промерзшие балки в сталинградских степях, город Чигирин на днепровском правобережье?.. А сегодня Секешфехервар в пятидесяти километрах юго-западнее Будапешта. И этот год, тысяча девятьсот сорок пятый, мы уверены, будет годом окончательного разгрома гитлеровской армии, годом нашей долгожданной победы. За год победы, товарищи!
— И за наше счастье, Настенька! — радостно улыбаясь, тихо проговорил Аксенов.
— За наше будущее, Коля, за самое хорошее!
Тоня разрумянилась и оживленно болтала то с подполковником Можаевым, то с майором Котниковым.
Она что-то прошептала Можаеву, показывая глазами в сторону Насти.
— Товарищи, — привстал Можаев, — давайте попросим Настю спеть.
— Просим, просим! — поддержали его офицеры.
Аксенов робко и неуверенно попросил ее:
— Спой ту, помнишь, под Сталинградом пела?
Она сразу же вспомнила, что это была за песня, поняла, почему он хотел слышать именно эту песню и, взглянув на Аксенова, запела вначале тихо, а затем все громче, просторнее, вольнее:
Среди долины ровныя, На гладкой высоте, Цветет, растет высокий дуб В могучей красоте.Кто-то шумно вздохнул и, словно испугавшись, подавил вздох. Генерал Воронков неслышно отодвинул стул и молча стал у стены, глядя куда-то вдаль. Майор Котников оперся подбородком на руки и, как во сне, затуманенным взглядом смотрел перед собой.
Окрепший голос Насти рассказывал об одиноком развесистом дубе, тоскующем о счастье. Эта старая песня звучала сейчас по-новому. В ней не было ни тоски, ни одиночества, а лилась мелодия ожидания счастливого будущего и наслаждения тем, что дала жизнь в эти короткие минуты отдыха.
Ах, скучно одинокому И дереву расти! Ах, горько, горько молодцу Без милой жизнь вести!Тоня, забыв обо всем, сжала руку Можаева и, вся склонясь вперед, что-то беззвучно шептала. Соня неотрывно смотрела в одну точку. Ее серенькая кофточка часто вздымалась на груди, цветастый платок сполз на затылок.
Подойдя к последнему куплету, Настя собрала все силы, стремясь спеть его как можно душевнее и лучше. Это были слова, которых ждал Аксенов и из-за которых он просил ее спеть именно эту песню.
Возьмите же все золото, Все почести назад, Мне родину, мне милую, Мне милой дайте взгляд!Дрогнул и затих грудной голос Насти. За стеной чуть слышно прозвенел телефон. И сразу же вслед за ним, как по единому сигналу, все захлопали, загремели стулья. Настя стояла, опустив руки, счастливая, улыбающаяся. Тоня подскочила к подруге и звонко чмокнула ее в щеку.
Оперативный дежурный приблизился к генералу и что-то прошептал ему на ухо. Генерал едва заметно поморщился.
— Простите, товарищи, я должен уйти. Продолжайте веселиться.
— Начинаем танцы, — лихо пройдясь на носках по кругу, объявил старший лейтенант Птицын, заядлый танцор, весельчак и непоседа, которого друзья звали «Жора-одессит». — Кавалеры, приглашайте дам, а можно и наоборот. За каждым сохраняется свобода выбора.
— Привет оперативникам! — закричал с порога подполковник Орлов. — Что ж это вы, братцы, воевать вместе, а праздновать в одиночку?
— Паша, проходи, приглашаем, — подбежал к нему Можаев.
— Я не один, а с серьезным усилением. Капитан и две девушки. Только к девушкам нашим пусть никто не приближается. Дерзнет кто — через две минуты полк «Илов» здесь!
— Пашенька, ночью «Илы» не страшны. — Можаев подхватил одну из радисток авиационного штаба и закружился с ней по комнате.
Вскоре он вернулся к Орлову и спросил:
— Паша, ну что воздушная разведка?
— Ничего нет, понимаешь, как вымерло у них в тылу, ни одного движения.
— Да. Страшное это безмолвие. И наземная разведка ничего не установила. Ударят где-то, вот-вот ударят. А где и чем — неизвестно…
— Товарищ подполковник, вас к телефону! — крикнул Можаеву дежурный.
— Ну, танцуй, Паша, веселись.
— Товарищи, новогодний вечер придется прекратить, — вернувшись через несколько минут, объявил Можаев, — жаль, но что делать… Толкачев, Сидоров и Андревин, приготовиться ехать в корпус. Аксенов, Брунцев, Казаков и Гаврилов остаются работать в отделе. Сейчас придет генерал и даст указания.
Тоня понуро стояла у праздничного стола.
— Ничего, Тонечка, ничего, — утешал ее Можаев, — мы еще возьмем свое. Часок вырвали — и на том спасибо.
— Товарищ подполковник, давайте еще, ну, хоть один вальсик, — вспыхнув, умоляла она Можаева.
— Один? — лукаво прищурив глаза, переспросил Можаев. — Эх, была не была!.. — взмахнул он руками. — Давай, Саша, вальс.
Аксенов и Настя вышли в соседнюю комнату. Настя всей грудью вздохнула, зажмурила глаза и прошептала:
— Коля, я так счастлива, так счастлива!..
Что-то новое, незнакомое видел сейчас в ней Аксенов.
— Трудно тебе, Настя, очень трудно, — проговорил он, склоняясь к ее плечу.
— Да, Коля, иногда трудно, — ответила Настя.
— Может, все-таки перейдешь в запасный полк? Ты же три года беспрерывно на передовой.
Настя ждала этих слов, и ответ на них давно был готов. Конечно, она теперь имеет право хоть немного отдохнуть. Эти мысли она бессознательно вынашивала в последние дни. И вот сейчас стоит ей сказать слово, и все пойдет по-другому. Настя с благодарностью смотрела в лицо Аксенова, видела его широко открытые глаза и в них читала его мысли. Да, да! Он, так же как она, мечтает всегда быть вместе, хочет избавить ее от постоянных тревог и опасностей, он волнуется и переживает за нее. Навсегда избавиться от опасностей!
Но Настя вспомнила Анашкина, комсорга роты Сашу Василькова, капитана Бахарева, солдат своей роты. Они сейчас в окопах, и, может быть, идет бой. Все воюют, а она скроется от опасности. Что будут думать о ней?
— Нет, — решительно проговорила Настя, — нет. Коля, я довоюю, обязательно довоюю до конца!
И от этих слов она почувствовала, как все тяжелое и безрадостное отошло, исчезло, в груди приятно заныло и удивительное спокойствие охватило ее.
— Всем сейчас нелегко, — продолжала она. — Мне легче. У меня ты есть, близко, рядом. А у других погибли и никогда не вернутся.
— Николай, генерал пришел, тебя вызывает, — войдя в комнату, сказал майор Толкачев.
— Ну, иди, иди. Не беспокойся, — обняла Аксенова Настя, — работай спокойно. Я увидела тебя, и мне больше ничего не нужно.
Она легонько толкнула его и прикрыла дверь.
За несколько минут в комнатах помещичьего дома не осталось и следа от недавнего празднества. В гостиной желтели столы офицеров оперативного отдела. В боковой комнате, где раньше, видимо, было жилище прислуги, надрывно басил радист, вызывая затерявшуюся где-то «Фиалку».
Вокруг генерала Воронкова в клубах табачного дыма склонились над столом артиллерист полковник Гришин, танкист полковник Ищенко, инженер-полковник Баринов, начальник штаба тыла полковник Сорокин.
Генерал Воронков, как всегда подтянутый и чисто выбритый, расспрашивал представителя Дунайской речной флотилии капитана второго ранга Борзова:
— Могут ваши катера по каналу Шервиз пройти? Если б могли, то вы бы оказали огромную поддержку нашей армии.
— Никак нет, товарищ генерал, не могут. Мы всё обрекогносцировали, и ничего не получается. Канал запущен, обмелел, перекатов натянуло. Катера не пробьются.
— Так чем же, конкретно, флотилия может помочь?
— Пока ничем, — пожал плечами капитан второго ранга, — Будапешт все закупорил, Будапешт. Пока не уничтожена будапештская группировка, мы скованы. Кроме того, немцы очень много плавающих мин пускают по Дунаю. Вчера чуть не потопили два катера. Хорошо, рулевые во-время заметили, а то б пошли ко дну.
— А мы от вас серьезной поддержки ожидали. Что ж, придется вам старую задачу выполнять, боеприпасы через Дунай перетаскивать, а обратными рейсами раненых эвакуировать. Планируйте свою работу с полковником Сорокиным.
Недовольный и обстановкой и самим собой, моряк понуро вышел из кабинета генерала и озлобленно выругался.
— Не печалься, браток, боеприпасы тоже нужное дело, — успокаивал его полковник Сорокин, никогда не унывающий толстяк с добрым лицом и неторопливым, слегка окающим говорком. — Пойдем-ка лучше подрассчитаем все и закурсируем туда и обратно, обратно и туда.
— Не очень много накурсируем. Сплошная ледяная каша плывет. Вчера один катер так затерло, что еле выручили, на четыре километра вниз утащило, как щепку, от берега к берегу швыряло.
— Надо, милок, надо, — зашептал ему на ухо Сорокин. — Ты знаешь, сколько в дивизиях снарядиков-то осталось? На два часа хорошего боя. Пальнут — и пой Лазаря. Ну как, Аксеныч, живой? — увидев майора, радостно встретил его Сорокин.
— Живой, — улыбнулся Аксенов.
— От самого Сталинграда жду я твою свадьбу. Когда же надумаешь-то, а? Помнишь, в балке Солдатской обещал меня отцом посаженым взять!.. Знаешь, капитан, — обернулся он к моряку, — и досталось нам с ним под Сталинградом! Раз налетели пикировщики, кинулись мы в щель. Она узкая, а я толстый, застрял — ни туда, ни сюда, хоть плачь.
— Случается, — явно не расположенный к разговорам, угрюмо пробасил моряк.
— Ну, ладно, Аксеныч, бывай здоров. А про свадьбу не забывай. Я тебе от самого Сталинграда подарок берегу.
Аксенов пожал руку полковника и вошел в кабинет генерала.
Артиллерист и танкист яростно спорили, отвоевывая каждый для своего рода войск лучшие маршруты для перегруппировки.
— Ты учти, — наставительным тоном внушал полковник Гришин, «неисправимый академик», как прозвали его офицеры штаба, — твоим танкам любая дорога хороша, а колесная артиллерия не может без дорог передвигаться, понимаешь — не может.
— Колёсная артиллерия! — зло усмехнулся возбужденный сейчас до драчливости Ищенко. — А у нас, что, колесных машин нет? Тылы же у нас, тылы все на колесах…
— Ну, достаточно, — остановил их Воронков, — так вы до утра проспорите. Вызывайте по одному офицеру, и они вместе с майором Аксеновым выберут маршруты, подсчитают все, оформят материалы и доложат нам. Пишите, Аксенов, какие части наметил командующий для переброски на участки возможных ударов противника… Сейчас два тридцать, — взглянул на часы Воронков, — в шесть доложить расчеты вывода войск…
— Ну что, расчеты марша приказал разработать? — спросил вернувшегося Аксенова Можаев.
— Да, к шести часам.
— Ах, чорт возьми, куда этот Орлов делся? — ворчливо проговорил Можаев.
— Да здесь я, Володя, здесь, тридцать минут тебя жду. Давай уточним линию фронта.
— А что уточнять? Никаких изменений, все на прежнем месте.
— Нет, извини, пожалуйста. Давай по карте сверим. А то бомбанут по своим, и нам с тобой головы поснимают.
— Подожди. Я сейчас прикажу дежурному еще раз позвонить по корпусам и уточнить. А вообще, Пашка, формалист ты, просто беда. Целый месяц мучаюсь с тобой, и когда только избавлюсь.
Офицеры молча посмеивались, слушая беззлобную перебранку друзей. Начальник оперативной группы авиационного штаба и заместитель начальника оперативного отдела за месяц боевой жизни настолько тесно сработались, что даже спали в последнее время в одной комнате. Часто можно было видеть, как до изнеможения уставший Можаев, положив голову на стол, спит сидя, а Орлов вместо него принимает телефонные донесения.
Аксенов с офицерами штабов родов войск уединился в боковой комнатушке. Работа предстояла нелегкая. К переброске командующий назначил шестьдесят семь частей разных родов войск. Для каждой части нужно было выбрать маршрут, наметить исходные рубежи и районы сосредоточения, рассчитать время на движение и подготовить распоряжения.
— А где же все-таки они ударят? — спрашивал полковник Жилин. — Видно, в центре.
— Командующий считает, что всего вероятнее на правом фланге.
— Да, но там же мертвая тишина, а в центре и на левом фланге непрерывные атаки.
— Это, видимо, отвлекающие действия.
— Где бы ни ударил, а нам нужно быть готовыми. Начнем-ка лучше работать, — хмурился суровый и неразговорчивый инженер-майор Незнакомцев, — вот карта дорожной сети, давайте выбирать маршруты.
Работа шла дружно и спорно. Один за другим ложились на бумагу рейсы артиллерийских, танковых, инженерных частей. Красными линиями тянулись по карте будущие пути движения войск. Километры, часы и минуты определяли темпы маршей.
Пока машинистки перепечатывали графики марша и распоряжения частям, Аксенов пошел в свою комнату. Мягкий лунный полусвет озарял стены. Сонную тишину комнаты нарушало только едва слышное спокойное дыхание. Аксенов на носках подошел к постели. Настя лежала на боку, подложив ладонь под щеку. Он стал на колени и безмолвно смотрел на ее спокойное лицо с полуоткрытыми губами и едва заметной ямочкой на подбородке. Настя глубоко вздохнула и открыла глаза.
— Коля, — прошептала она, обвив его шею руками, — как я истосковалась по тебе…
V
Косенко последним вышел из землянки, где проходило заседание дивизионной партийной комиссии, увидев поджидавшего Василькова, схватил его за руку и горячо, волнуясь и путая слова, заговорил:
— Понимаешь, Саша, здорово… Никак не ожидал… Я думал… а тут все просто так…
— И я не ожидал, — ответил Васильков и, будто разгоняя сон, встряхнул головой. — А в общем замечательно!
Они пошли в гору. Дубы в опушении снега поднимали к небу седые головы. Молодая поросль разбегалась от побитых осколками стволов и тонкими ветками тянулась к свету. Серебристая пыль призрачно мелькала в воздухе. Где-то постукивал дятел, потом сухо треснуло дерево, дятел смолк, прокричала какая-то птица.
— Сядем, — прошептал Васильков и смахнул снег с невысокого пня.
Косенко, отстегнув ремень, распахнул шинель. Из левого кармана гимнастерки виднелся утолок красной книжечки. На фоне выгоревшей ткани он казался ярким цветком, омытым утренней росой.
— Убери в боковой, — наставительно посоветовал Васильков и прикрыл клапан кармана на гимнастерке Косенко.
— Понимаешь, прохудился, боюсь положить, — ответил Косенко, запахнул шинель и туго перепоясался ремнем. — Вернемся, новый пришью, покрепче, — добавил он и шагнул к Василькову.
— Помнишь, Саша, песню? — сказал он, присаживаясь рядом с Васильковым, и вполголоса запел:
Там вдали за рекой Загорались огни…— Понимаешь, Саша, — мечтательно откинув голову, продолжал Косенко, — бывают в жизни такие моменты, когда чувствуешь, что грань какую-то перешагнул. Вчера, позавчера и раньше жил, воевал и ничего особенного не замечал, а сегодня вот вышел из парткомиссии и чую: новый я человек, понимаешь, Саша, совсем новый, переродился вроде. И как-то все стало просто, ясно, легко. Даже дышу вот, дышу и никак не могу надышаться.
Перед Васильковым стоял совсем не тот молчаливый, замкнутый паренек, что пришел в роту под Чигирином на Украине. Все изменилось в Косенко. Даже глаза, большие, серые, казалось, стали совсем не такими, какими они были тогда, в первый день прихода Косенко в роту.
— И еще, понимаешь, Саша, — не замечая изучающих взглядов Василькова, продолжал Косенко, — я только теперь по-настоящему чувствую себя взрослым человеком… Да, да! Взрослым, полноценным…
— А это потому, что мы вступили в великую семью. Ты представь только, кто состоит в партии. Самые лучшие, самые смелые, самые честные… Ты знаешь, мой отец всю жизнь работает на Тульском оружейном заводе. Его руками собраны сотни пулемётов. И он всю жизнь мечтал быть членом партии, но так до сих пор и не вступил.
— Почему?
— Говорит, что членом партии можно стать только тогда, когда все свое нутро очистишь от разной скверны… Однажды он написал заявление. На работу ушел торжественный, а вернулся мрачный, отказался от ужина и лег спать. Оказывается, когда он утром пришел на работу, то узнал, что контролер забраковал у него шесть деталей.
— А я, — перебил Василькова Косенко, — до войны еще был в Москве, в гостях у своего дяди. Он на кондитерской фабрике имени Бабаева работает, где конфеты делают. Четыре раза я приезжал, по месяцу и больше жил и, понимаешь, никогда у них дома не видел конфет фабрики Бабаева. Вначале я не обращал внимания, потом заметил и решился спросить тетю. «Дядя твой выдумывает все, — ответила мне она, — не велит покупать бабаевских конфет. Как бы не подумал кто, что эти конфеты с фабрики принес». А он был мастером на фабрике. Так всегда они и покупали конфеты других фабрик.
Косенко коротким, сильным движением загорелой руки пригнул ветку невысокой липки и, тряхнув ее, засмеялся. Снег посыпался ему на шапку, на шинель, на лицо.
— Знаешь, Саша, — отпустив дерево, серьезно и задумчиво заговорил Косенко, — вот войну закончим, и все по родным хатам разъедутся. А у меня нет своей хаты, — глухо, с горечью в голосе продолжал он, — и семьи нет. Один, як перст. Фашисты загубили всех…
Он стиснул кулаки и, опустив голову, смолк, задумчиво глядя куда-то в глубину заснеженного леса. И чем больше смотрел он вдаль, видя что-то известное только ему одному, тем добрее и мечтательнее становилось его лицо. И глаза его — большие, серые, под частыми рыжеватыми ресницами — отчетливо выражали перемену его настроения.
— А Родина моя Черкасщина, Украина, — продолжал Косенко. — А знаешь, Саша, — все решительнее и громче говорил он, — какая у нас там красота! Хаты билы, и все в садах. Яблони, груши, сливы, черешни, вишни! А на бахчах кавуны. Огромные, сочные! Пригорки, высоты, холмы, лощины, овраги. А внизу Днипро! Волны синие, вода спокойная. А на левый берег посмотришь, аж дух захватывает! Равнина, равнина, без конца равнина, и небо над ней голубое, без пятнышка. Как приеду домой, сразу же поступлю на курсы трактористов. Поучусь полгодика и — за руль! Мотор работает, як часы, а земля черная, аж смолянистая, и грача на ней не увидишь. Сашко, поедем к нам на Черкасщину?
Васильков так же, как и Косенко, размечтался о будущем, и слова друга вывели его из глубокого раздумья. По характеру Васильков не был мечтателем. Он был человек практического дела — энергичный, неугомонный, удивительно способный в любых условиях найти для себя работу. Должность комсорга роты как раз соответствовала его кипучему характеру. У него постоянно были десятки различных дел и обязанностей, и Васильков успевал и учиться сам, и помогать в учебе другим, и заботиться о каждом комсомольце, и находить работу для других. Сын рабочего Тульского оружейного завода, Васильков с малых лет вращался в среде мастеров-производственников, вся жизнь которых была насыщена интересами завода, его нуждами и потребностями. С малых лет Васильков умел работать с огоньком, вкладывая в дело все свои силы. Он любил профессию отца, работающего слесарем-сборщиком на заводе, но увлекала его не обработка металла, а другое дело, внешне совсем не схожее с профессией отца. Васильков до самозабвения любил электричество. В школе он был лучшим учеником по физике, а дома вся квартира была заполнена различными электрическими приборами. Самодельные электромоторчики, динамо, радиоприемники, начиная от крохотного детекторного и кончая самодельным телевизором, который за неимением в Туле телепередающей станции Саше так и не удалось использовать, сложные электрические устройства для открывания и закрывания дверей и форточек — все это поражало каждого, кто заходил в дом Васильковых.
И на войне Саша в своем вещевом мешке постоянно держал несколько книг по электротехнике, в свободное время просматривал их и берег, как ценность.
Человек простой, открытой души, он тайно от всех вынашивал самую заветную мечту. И теперь, когда Косенко заговорил о будущем, о том, что он будет делать после войны, Василькову вдруг захотелось рассказать ему и о своей мечте, в осуществление которой он и сам еще верил смутно.
— Нет, — отвечая на вопрос Косенко, вначале несмело заговорил Васильков, — люблю я Украину, Днепр люблю, и хаты, и поля, только — ты не обижайся, пожалуйста, — мне дороже всего моя родная Тула. Там я родился, вырос, встал на ноги, и там мое будущее. Закончу школу — обязательно закончу! — и пойду в институт. В электромеханический! Ты знаешь, что такое электричество? — подойдя вплотную к Косенко, спросил Васильков, и сам же, не задерживаясь, ответил: — Электричество — это… это жизнь! Нет такого в жизни, что бы не смогло сделать электричество. Оно греет, светит, варит, плавит, вращает машины, действует на тысячи километров, — одним словом, во всем облегчает жизнь человека. А мы еще — то-есть люди вообще — не научились по-настоящему, полно, во всех возможностях использовать электричество. Вот ты подумай только, — с силой взял Косенко за руку Василькова и усадил на пень, — что было бы если б мы могли передавать электрический ток не по проводам, а прямо, прямо по воздуху. Ты скажешь: а радио? Конечно, радио это передача электрических импульсов без проводов. Это верно, но какая мизерная энергия. Я говорю о мощных передачах без проводов тока промышленного значения. Ты представляешь жизнь, когда человек научится передавать ток по воздуху? Вот сейчас у нас автомобили, сколько им нужно горючего! А тогда? Простой электромотор и какое-нибудь устройство вроде антенны для приема тока. Щелкнул выключателем и пошел, куда тебе нужно. Так же и самолеты в воздухе, тракторы, комбайны в поле, освещение в домах и на улицах, отопление, производство металлов, станки, агрегаты, корабли на морях и реках, шахтерские машины под землей, на земле трамваи, троллейбусы, что-то вроде мотоциклов — все, все работает от электричества, и нигде не видно никаких проводов. Удобно, выгодно, просто, легко, красиво! Только учиться нужно, много, очень много учиться, все познать, усвоить и думать, думать, работать, творить, изобретать, совершенствовать!
Косенко, затаив дыхание, слушал Василькова и не мог отвести взгляда от его лица.
— Да, вот это здорово, — прошептал он, когда смолк Васильков, — Сашко, здорово это. И ты этого добьешься, я уверен, добьешься. Ты же такой, такой особенный, не как другие.
— Брось это, — сразу став суровым, отмахнулся Васильков, — все люди одинаковы, нет людей особенных. Только одни больше работать любят, а другие вместо работы — загорать.
— Вот нам бы дожить до конца войны, — словно не слыша Василькова и не видя изменившегося выражения его лица, продолжал Косенко, — отвоевать, фашистов разбить и домой здоровыми вернуться.
— Довоюем и домой вернемся, обязательно вернемся, — твердо и уверенно сказал Васильков, присев на пень рядом с Косенко.
Внизу, под горой, вспыхнула стрельба. Васильков и Косенко прислушались.
— У нас, кажется?
— Вроде у нас.
— Пойдем.
Они побежали вниз. Нагорный лес оборвался, и впереди открылась просторная равнина. Снегопад прекратился, и далеко в низине показалось разбросанное по холмам село. Улицы его были пустынны, только из трубы крайней хаты вился дымок. В недвижном воздухе он поднимался высоко вверх и растворялся в сумраке зимнего, ненастного неба.
VI
Врубленный в каменистую скалу подвал, расположенный всего в нескольких десятках метров от переднего края обороны, капитан Бахарев облюбовал под убежище для своей роты. До недавнего времени в подвале, видимо, хранился изрядный запас вин, но первым ворвавшийся в него ефрейтор Анашкин только горестно покачал головой и выразительно прищелкнул языком. От стены к стене грудились лотки и донья расколотых бочек. Черными змеями круглились железные и деревянные обручи. На цементном полу стояли винные лужи. Ароматный винный запах перемешался с удушливым чадом горелого пороха.
Старшина с командой уборщиков — по одному от каждого отделения — в два часа привел подвал в порядок. Остатки бочек повыбрасывали на улицу. Цементный пол засыпали песком, устлали досками, поставили чугунные печи. Дотошный комсорг роты Саша Васильков раздобыл где-то четыре аккумулятора от автомашин, протянул из края в край провода, и в подземелье засияли маленькие лампочки. Старшина приказал вдосталь натаскать соломы, рядами застелить ее вдоль стен — и неприхотливое солдатское жилье было готово.
Анашкин распахнул перед Настей и Тоней дверь подвала и пропустил девушек вперед. В печках потрескивали дрова. На покрытой плащ-палатками соломе вповалку лежали солдаты.
Старшина и комсорг в дальнем углу трудились над какими-то бумагами. Ротный писарь, положив на колени кусок фанеры, строчил донесение, изредка бросая косые взгляды на старшину и комсорга. Они, видимо, завладели его рабочим местом.
— Тише вы, расшагались! — прикрикнул он на Анашкина и девушек. — Видишь, люди спят, утомились за смену-то.
— Не ворчи, Сверчков, — игриво раскинул перед ним руки Анашкин, — мы с тобой в равных званиях, а вот Настенька — сержант. Будь здоров, моргнет глазом — и тянись перед ней.
— Ладно, ладно, проходи. А то заведешь волынку, — пробормотал писарь и яростно надавил на карандаш. Графит сломался, и по исписанному листу рука прочертила жирную линию. Писарь озлобленно плюнул, в клочки изорвал донесение, бросил обрывки в печь и полез в сумку за новым листом бумаги.
— На уж, Сверчок, для письма приберегал, — протянул ему Анашкин тоненькую пачку бумаги, — первый сорт бумажка-то, с золотой каемочкой.
Писарь отмахнулся было, но вид хорошей бумаги магически действовал на него, и он, не глядя на Анашкина, протянул руку.
— Ну вот, доченьки, и ваша квартирка, — отбросил Анашкин плащ-палатку над входом в узкий отсек подвала, — жилье-то не ахти какое, но от беды спасет… Как-никак метров поболее трех над головой-то. И бомбой не прошибешь.
Настя и Тоня осмотрели нишу. Крохотная лампочка тускло освещала вспотевший цемент. Всю правую стенку кто-то завесил большим мохнатым ковром. На полу белели три вспухшие перины.
— Вот расквартировывайтесь и живите себе на здоровье. Санитарка Маруся вашей соседкой будет. Лазает где-то по окопам. И раненых нет, а она все равно шныряет…
Настя отвечала улыбкой на улыбки солдат, шутила с Анашкиным и все время была в радостном настроении. Вместе с Тоней они разложили свои вещи в тесной каморке, почистили винтовки, потом осмотрели окоп. Снег засыпал его сверху, и только ход сообщения темнел на нежной белизне.
Настя попросила Тоню сходить к старшине и принести еще гранат, а сама принялась выбрасывать снег из окопа. Работая, она все время думала об Аксенове. Забывшись, она не заметила, как в окоп вошел Саша Васильков. Он присел на земляную приступку и, улыбаясь, смотрел на Настю.
— Ну как, Настенька, передохнула? — заговорил он звонким, веселым голосом. — Как там в штабе армии, ничего не слышно?
— Работают все, веселые такие, бодрые.
— И мы Новый год хорошо отпраздновали. В три очереди, в подвале. Баян, пляски, песни… И не подумаешь, что передовая.
— А мы всего часа два повеселились, а потом все ушли работать. Они, штабники-то, больше ночами работают.
— Да уж такая у них служба, — отозвался Васильков. — Завтра комсомольское собрание. Поговорим о наших задачах. Немцы-то опять наступать собираются. К Будапешту, говорят, рваться будут, свою окруженную группировку спасать. Бои ожидаются серьезные…
Васильков говорил тихо и спокойно, но по его лицу Настя видела, что он всерьез чем-то озабочен.
— В роте много новичков, — продолжал Васильков, — и почти все необстрелянные. И мы, старая гвардия, должны показать им пример.
Он смолк и закурил.
— Да, нелегкая перед нами задача, — после молчания вновь заговорил Васильков, — и, понимаешь, самое, пожалуй, трудное в том, что война-то кончается. Понимаешь, кончается. Осталось совсем немного. И каждому хочется дождаться победы… Да и в самом деле: столько пережить — и погибнуть в самом конце войны… Ты завтра выступишь на собрании?
— Да, обязательно, — отозвалась Настя.
— Вот, — вбежав в окоп, выкрикнула Тоня, — выпросила у старшины. Девять противотанковых! Теперь у нас четырнадцать будет.
Она рядком уложила гранаты и обернулась к Насте и Василькову.
— Секретничаете, — погрозила она пальцем, — смотри, Саша, уединение к хорошему не приводит.
— Тонечка, не шалить, — так же шутливо ответил ей Васильков.
— Ну, ладно, верю уж вам, верю, хватит сидеть, пошли в подвал.
Она выпрыгнула из окопа и побежала в лощину. Васильков и Настя еле поспевали за ней.
— Антошка! Антошка вернулась! — при входе в подвал встретили их веселые голоса солдат, только что пришедших с постов. — Старшина, не давайте ей ужина, прогуляла свое.
— Это кто там грозится? Не ты ль, Петя?
— Тонечка, что ты, разве я смею, — ответил невидимый в полумраке Петя.
— То-то, разбаловались без хозяйки-то! Я вас вышколю! По ниточке ходить будете.
Она прошлась вдоль ряда сидевших на соломе солдат, повернулась кругом и четким строевым шагом подошла к старшине.
— Товарищ гвардии старшина! Разрешите законные сто граммов получить.
— Вот это да! С места в карьер! — взорвался дружный хохот.
— Получите у каптенармуса.
— Слушаюсь получить у каптенармуса, — отчеканила Тоня и приблизилась к Сверчкову: — Товарищ гвардии ефрейтор, раскрывайте свои канистры.
— Пожалуйста, хоть за две недели вперед, — невозмутимо проговорил Сверчков и, не отрываясь от бумаги, потянулся правой рукой к вещевому мешку, достал из него флягу и подал Тоне.
Она отвернула пробку, нюхнула, поморщилась и снова закрыла флягу.
— Никакой подделки, самая настоящая препротивная водка. Дядя Степа, — подошла она к Анашкину, — кто лучше всех вел себя в мое отсутствие?
— Все, Тонечка, вроде как бы ничего. Только вот Костя Воронок чуть было не свихнулся, да мы его вовремя одернули.
— Костя? А что он такое натворил?
— Да загляделся на санитарку из шестой роты. Она ведь, знаешь, какая, глаза-то, как прожекторы.
— Костя! А ну, подать его сюда. Где Костя?
— Вот он, Тоня, за меня прячется. Дрожит от страха.
— За измену и предательство лишаю Костю Воронка на двое суток водки, — подражая голосу и жестам старшины, внушительно отчеканила Тоня. — А если и впредь не научится вести себя, как подобает настоящему гвардейцу, совсем отлучу от водочного довольствия.
— Вот это я понимаю! Так его, так шалопутного! Знай край, да не падай!
— Дядя Степа, а кто же все-таки лучше всех вел себя?
— На этот раз, Тонечка, больше всех отличился ефрейтор Сверчков. Печки-то он раздобыл.
— Товарищ гвардии ефрейтор, разрешите наградить вас ста граммами водки.
— Тоже нашла кого, — разочарованно протянул кто-то из дальнего угла, — он и свою-то Анашкину отдает.
— Встать! Смирно! — скомандовал старшина.
— Вольно! Садитесь, — махнул рукой Бахарев и покосился в сторону Насти. — Старшина, роту кормили?
— Ужин в двадцать два тридцать, товарищ гвардии капитан.
— Для тех, кто дежурит, в термосах храните. В двадцать четыре смена, тогда поужинают.
Капитан прошелся по убежищу, хотел снять шинель, но раздумал, спросил старшину:
— Гранат сколько получили?
— Шесть ящиков. Теперь по три у каждого.
— Мало. Пошлите еще на батальонном пункте получить. Не меньше пяти гранат каждому. У меня в резерве иметь ящиков восемь.
Он присел на обрубок дерева, снял шапку. На него со всех сторон смотрели солдаты. Кто-то в полумраке протяжно вздохнул и негромко откашлялся.
Этот вздох завершил все, о чем так долго раздумывал Бахарев. Солдаты жили сейчас одним — ждали наступления противника. А ждать, как хорошо знал Бахарев, часто бывает труднее, чем вести бой. Там все ясно, противника видишь и знаешь, что он будет делать, а тут все неясно, каждую секунду ждешь любой неожиданности, и нервы напряжены до предела.
Бахарев смотрел на лица людей и видел, что у каждого на душе тревога. Нужно обязательно рассеять это настроение, любыми средствами рассеять.
— Что ж, где там гармонист-то? Сыграл бы что-нибудь, — оживляясь, проговорил Бахарев и, не ожидая гармоники, запел сильным грудным голосом:
Ревела буря, гром гремел…— Тревога! — закричал, вбегая, дежурный по роте. — Немцы наступают.
— В ружье! По местам! — скомандовал Бахарев, и через полминуты все выбежали из подвала.
В темноте разгорался огневой бой. Все чаще и чаще били автоматы и пулеметы. Одна за другой взлетали осветительные ракеты, выхватывая из темноты мелькающие в воздухе снежинки.
Минут через десять все так же внезапно, как и началось, стихло.
С полчаса не раздавалось ни одного звука, но вдруг тяжело дрогнула земля. Взрывы следовали один за другим. Удушливая гарь наполнила окопы. Потом взрывы переместились куда-то вдаль, за позицию роты. Невдалеке приглушенно взревели танковые моторы.
— Тоня, сбегай на НП командира роты, узнай, что делать. Тут ничего не видно, — хрустя песком на зубах, проговорила Настя, чувствуя, что случилось что-то страшное, что этот обстрел не обычный огневой налет, а видимо, начало большого наступления.
Тоня выскочила из окопа и скрылась в темноте. За ней и Настя вышла на поверхность. В густом снегопаде суматошилась беспорядочная стрельба. Совсем рядом, шагах в двадцати от нее, полоснула автоматная очередь. Настя безошибочно определила звук немецкого автомата. Она плашмя упала в снег. «Немцы прорвались», — опалила сознание тревожная мысль.
Она поползла по грудам обледенелого кирпича. Позади, там, где она только что лежала, треснул взрыв гранаты, и пули хлестнули над землей.
Настя ползла все быстрее и быстрее, наткнулась на какую-то стенку, обогнула ее и свалилась в узкую расщелину.
Изредка, вспыхивая фарами, рядом громыхали танки. Один из них двигался прямо на нее. В радужном свете вспыхнувших фар криво скособочилась полуразрушенная стена. Танк развернулся, обходя стену, одной гусеницей пополз по расщелине и обвалил ее. За танком, крича и стреляя из автоматов, бежали немцы. Настя прижалась к стене и замерла. Прогромыхал удалявшийся танк, исчезли, растаяв в темноте, черные силуэты автоматчиков. Стрельба уже гремела позади. Случилось то, чего всю войну боялась Настя. В сложной обстановке боя она осталась одна. Горечь и обида охватили ее. Настя хотела выскочить из расщелины, но совсем рядом опять загомонили немецкие голоса. Она приготовила гранаты и притаилась.
В эти минуты перед ней всплыли последние три года жизни. Белорусские леса… Толпы беженцев на дорогах… Черные кресты немецких бомбардировщиков… Воронки и трупы на лесной поляне… Распростертое тело молодого лейтенанта под кустом волчьей ягоды… Томительные дни бредового забытья Николая Аксенова, его первый взгляд на нее и болезненная улыбка… Поход по немецким тылам… Буйная радость встречи со своими под Смоленском… И, наконец, Москва, милая Москва, которую она уже и не надеялась увидеть… Рытье окопов на Поклонной горе, дежурство на крыше во время воздушных тревог, прерванная учеба в институте… И новая встреча с Аксеновым, когда в октябре приехал он в Москву учиться в академии.
Врезался в память пасмурный октябрьский день. Они с Николаем стояли на балконе восьмиэтажного дома рядом с Крымским мостом, напротив Парка культуры и отдыха. По Крымскому мосту шли торопливые пешеходы, изредка прогромыхивал трамвай, проносились автомашины. Внезапно из-за обрывков туч вынырнул тонкий, как стрекоза, с обрубленными крыльями истребитель. На плоскостях чернели жирные кресты в желтых обводах. Истребитель шел прямо на Крымский мост…
«Этого я никогда в жизни не забуду», — скрипя зубами, стиснул ее руку Николай.
А через два дня Настя поступила в снайперскую школу…
Откуда-то издали открыла огонь наша артиллерия. Один танк вспыхнул. В розовом полусвете Настя увидела, как второй танк развернулся и двинулся к ее расщелине. Темным кружком чернел ствол пушки. Настя вдавилась в расщелину и закрыла глаза.
В памяти мелькнули лица Тони, Анашкина, Саши Василькова. Где они сейчас, что с ними?
Настя открыла глаза. Черная громада танка уползала. Пламя пожирало подбитый танк. Впереди, где располагался ротный НП, вспыхивали автоматные очереди, и чей-то знакомый голос звонко прокричал:
— Бей по танку! По танку бей!
Насте показалось, что кричит Васильков. Она машинально потянулась рукой к гранатной сумке и нащупала две противотанковые гранаты. Вытащила одну, вставила запал и выползла из расщелины. Танк удалился уже шагов на пятьдесят. В розовом дрожанье света отчетливо виднелась его задняя часть и выхлопы дыма внизу.
Настя пробежала шагов двадцать, швырнула гранату и упала в снег. Оглушительный взрыв. Она приподняла голову и увидела недвижно застывший танк. Руки вытащили вторую гранату. Настя искала запал и никак не могла найти. Он должен быть тут вот, в карманчике брезентовой сумки, но карманчик был пуст. Настя озлобленно кусала губы и пыталась сообразить, где был запал. Рука шарила по сумке и в самом низу, наконец, наткнулась на него. Девушка торопливо вставила запал, привстала на колени и, размахнувшись, метнула вторую гранату. Взрывом опять на несколько секунд оглушило ее. Придя в себя, она приподняла голову и чуть не задохнулась от буйной радости. Танк накренился и, казалось, сейчас перевернется. Учащенно стучало сердце. Сознание прояснилось, и теперь Настя знала, что ей делать. Она, укрываясь от огня, перебегала от камня к камню. Со всех сторон трещали выстрелы. Теперь Настя не чувствовала себя в одиночестве. Здесь рядом были свои. Нужно найти свой окоп, засесть в него и никуда не уходить. Сидеть до конца, так же, как сидели под Сталинградом, под Курском, на Днепре. Она добралась до хода сообщения и вбежала в окоп. Родным домом пахнуло на нее из темного подвала. В темноте она нашла винтовку и щекой прижалась к ее холодному отполированному прикладу.
VII
Алтаев короткими шагами из угла в угол ходил по кабинету. Стекла зашторенных окон зазвенели. Генерал остановился, прислушался. Взрыв не повторился. Огромные, в треть стены, старомодные часы гулко пробили десять. Алтаев глянул на них и сердито поморщился. Еще позавчера хотел он приказать адъютанту выбросить эту рухлядь, однако забыл об этом. Он направился было к двери, но зазвонил телефон.
— Да… Я… Слушаю… Добрый вечер, товарищ маршал. Да, на всем фронте тишина. Подозрительно. Совершенно точно. В том, что ударят, я не сомневаюсь, только неясно, какими силами. Нет, нет… Я считаю, что удар будет именно на правом фланге. И удар комбинированный, одновременно с фронта и через Дунай по флангу и тылу… А что в Будапеште?.. Поскорей бы, товарищ маршал! Развязать руки и бить на Вену… У меня по тылам бродят мелкие группы противника… Нет, серьезной опасности они не представляют, беспокойство только… Да, да… Слушаюсь… Спасибо… Спокойной ночи?.. Нет, у меня теперь не будет спокойных ночей…
Он склонился над картой. Сотни раз просмотренная и в деталях изученная местность опять казалась новой и загадочной.
Много боев пришлось провести Алтаеву в самых различных условиях. Сталинградские степи… Так же вот, как и здесь, напролом рвались к окруженным войскам Паулюса танковые дивизии Манштейна… Река Миус, и за ней многотраншейная оборона… Перекопский вал, который пришлось штурмовать в лоб и вслед за этим прорывать Юшуньские позиции. Севастополь с его укрепленными фортами… Белорусские леса и болота, где, рассекая противника на части, пробивалась Советская Армия к своим государственным границам.
И всякий раз, готовясь к решающему бою, Алтаев напряженно искал разгадку замыслов противника. Сотни противоречивых условий и обстоятельств надвигались со всех сторон. Хорошо, конечно, когда о противнике знаешь все. Тогда спокойно группируй войска и срывай его замыслы. Но так на войне не бывает. Сумеет противник сосредоточить крупную группировку и нанести молниеносный удар — оборона армии может быть смята и прорвана. А это было бы катастрофой.
Алтаев вспоминал все случаи из военной истории и своей личной практики, когда в силу сложившихся обстоятельств приходилось вести борьбу в неравных условиях. Особенно отчетливо вставали в его памяти события лета 1941 года. Тогда огромные массы гитлеровских войск были сосредоточены на решающих направлениях, а еще не успевшие отмобилизоваться советские войска были разбросаны по всей стране. Враг обладал огромным превосходством в силах и особенно в технике. Чтобы остановить его, нужно было величайшее искусство полководца и несгибаемая воля к победе армии и народа. И враг был остановлен, а затем разгромлен под Москвой, под Ростовом, под Тихвином. Что помогло Советской Армии совершить этот подвиг? Одной из причин был широкий и гибкий маневр силами и средствами, осуществленный советским командованием. Со всех сторон стягивало тогда оно советские войска на решающие направления. Под Москвой были сосредоточены войска, прибывшие из Сибири, с Дальнего Востока, из Средней Азии, с Поволжья и из Закавказья. Прошло сравнительно немного времени, и на основных направлениях превосходство врага было ликвидировано.
— Да! Маневр, только маневр всеми силами и средствами обеспечит успех, — вставая, проговорил Алтаев. — Пусть даже вначале не будет успеха, но итог, итог за нами. Маневр, только маневр, другого выхода нет.
В комнату поспешно вошел Дубравенко и с хода начал докладывать:
— Противник атаковал дивизию Чижова. Бой идет на переднем крае. Силы противника не установлены. Густой снегопад, сплошная темнота. Наступление начато одновременно на фронте до двенадцати километров. Действует пехота. В глубине слышен шум танковых моторов. Одновременно в Шютте противник переправил через Дунай десант. Два батальона дивизии Пантикова ведут с десантом бой.
Лицо Алтаева было спокойно. Только глаза, сужаясь в зрачках, выдавали его внутреннее волнение.
— Что делает Чижов? — спросил он.
— Огнем артиллерии бьет по узлам дорог. Свой резерв привел в боевую готовность.
Алтаев по телефону вызвал члена Военного совета:
— Дмитрий Тимофеевич, зайдите ко мне… Да. Серьезное дело.
Словно забыв о разговоре и о начальнике штаба, Алтаев склонился над столом и долго молчал.
— Это уже не разведка боем. Это не прощупывание, — не поднимая головы, задумчиво проговорил он и резко повернулся: — Как вы считаете, какими силами наступает противник?
— Не меньше трех-четырех дивизий, — ответил Дубравенко.
— Да. Не меньше, никак не меньше. Три-четыре против одной. Тяжело Чижову, очень тяжело.
— Если Чижов в течение ночи сумеет сдержать противника, то в дневных условиях положение резко изменится.
— Если сумеет! Но сумеет ли он? Главное — продержаться Чижову до рассвета, а тогда авиацию поднимем, артиллерию бросим.
Алтаев повернул ручку полевого телефона и вызвал командира правофлангового корпуса.
— Товарищ Добруков, как у Чижова?.. Как это связи нет? А радио?.. Рацию разбили? Что у него, одна радиостанция?.. Немедленно восстановить связь… Как в дивизии Пантикова? Десант сбит? Послушайте, Добруков, вы же сами не раз форсировали реки. Достаточно зацепиться за берег, как дальше все пойдет успешно. А у вас противник зацепился. Мало батальона, бросайте полк, но десант уничтожить! Свой резерв выбрасывайте на перевал горы Агостиан. Перекрыть основную магистраль.
Вошел член Военного совета.
— Связь порвалась с Чижовым, — глянув на него устало проговорил Алтаев, — видимо, диверсионные группы в тыл просочились, при такой погоде это несложно. Константин Николаевич, вызывайте опытного офицера оперативного отдела. Пошлем его к Чижову.
— Началось? — спросил Шелестов.
— Да. Началось. И ночью. Наш опыт используют. Никогда ночью не наступали, а в самом конце войны рискнули. Силенок, видимо, силенок маловато. На испуг взять хотят.
— Им сейчас выгодно воевать ночью. Местность знают прекрасно, — сказал Дубравенко.
Продолжая разговаривать с начальником штаба и членом Военного совета, Алтаев все время размышлял о замыслах противника. Как и всегда в неясной обстановке, намечались десятки вариантов решений, и все они казались не тем, что нужно для разгрома противника. Несомненным было то, что у Чижова сил не хватит и его нужно усиливать. Усилить можно было за счет резервов. Но и резервы так рано вводить в бой рискованно. Возможно, противник наносит не главный удар, а только отвлекает внимание и силы и с рассветом перейдет в решительное наступление где-то на другом участке.
— Да! Все равно, — после долгого раздумья порывисто встал Алтаев, — я решил передать в корпус Добрукова два саперных батальона и два истребительных противотанковых артиллерийских полка. Заминировать все танкоопасные направления, узлы дорог и теснины перекрыть противотанковой артиллерией. Прикажите поднять резервы и срочно перебросить к Добрукову. Им нужно пройти шестьдесят километров. Через два часа быть на месте.
— Слушаюсь, — ответил Дубравенко.
— Я с оперативной группой сейчас выезжаю на направление главного удара. Через тридцать минут — отъезд. Вы, Константин Николаевич, остаетесь здесь. Руководство корпусами центра и левого фланга возлагаю на вас. Все мои заместители едут со мной.
— Радиостанцию взяли? — увидев входящего в комнату Аксенова, спросил Алтаев.
— Так точно.
— Машина хорошая?
— Новая. Шофер опытный.
— Ваша задача, Аксенов, как можно быстрее добраться до штаба Чижова, уточнить обстановку и немедленно докладывать мне. В дивизии находиться до моего распоряжения. Главное — установить, какими силами наступает противник. Передайте Чижову: держаться, во что бы то ни стало держаться и остановить противника. Погибнуть, но остановить! Вести бой в окружении, но своих позиций не оставлять!
Выходя из кабинета командующего, Аксенов слышал разговор члена Военного совета с начальником политотдела армии:
— До утра во всех ротах провести партийные и комсомольские собрания. Основной вопрос — остановить противника, не пустить его к Будапешту… Своих политработников направьте в дивизии и полки.
— Едем, товарищ гвардии майор? — возле дома оперативного отдела встретил Аксенова шофер Буканов. Он, как и всегда, был в меховой шубе, с которой не расставался даже летом.
— Да… Запасные бачки с горючим взяли?
— Так точно! Две канистры, — четко отрапортовал Буканов, и почти черное лицо его заулыбалось. Буканов любил ездить с Аксеновым и сейчас стоял, ожидая, не скажет ли еще что-нибудь майор.
— Аксенов, рация проверена. Радисты опытные. Позывные у них, — поблескивая стеклами очков, подошел связист подполковник Лепов.
— Автоматы есть у радистов?
— Карабины и по сорок патронов, — ответил из машины молодой звонкий голос.
— А гранаты взяли?
— Говорят, не положено.
— Немедленно взять штук по шесть гранат и еще по полсотни патронов.
— У меня тоже нет гранат, — сообщил Буканов.
— Возьмите мои десять гранат и автомат… Патроны там, в сумке, ее и забирайте, — вслед убегающему Буканову добавил Аксенов.
— Ты вроде как в разведку собираешься? — улыбнулся в темноте Лепов.
— Хуже. В разведке хоть можешь предполагать, где противника встретишь, а тут, чорт его знает, где нарвешься.
— Только почаще связывайся с нами, — советовал Лепов. — За тобой будут следить две радиостанции. Кроме того, я приказал корпусной сети периодически слушать на твоей волне.
Аксенов забежал в оперативный отдел, попрощался с товарищами и сел в машину. Неожиданно его охватило волнение. Там, в семидесяти километрах, шел бой. Там где-то дралась и Настя. Быть может, удастся встретиться с ней. А возможно, ее уже… Опаленный страшной мыслью, Аксенов сердито взглянул на Буканова и выкрикнул:
— Трогай, чего ждешь?
— Куда ехать?
— По шоссе прямо на Бичке. Я же говорил…
Буканов растерянно взглянул на майора и плавно тронул машину.
«Попало, наверно, от начальства, а на мне зло срывает», — подумал он о майоре и приник к рулю.
— Фары включай и жми на пределе.
— А самолеты?
— Сейчас не до самолетов. Пусть бомбят, чорт с ними, надо скорее добраться.
— Это нарушение. Запрещено по ночам с фарами ездить.
— Включай немедленно — и предельную скорость!
Буканов шумно вздохнул и включил фары. Аксенов взглянул на его скуластое лицо и неожиданно для себя улыбнулся. Буканов был хорошим шофером и смелым солдатом. Вместе с полуторкой в первые дни войны был он мобилизован из приокского колхоза Горьковской области. От Львова и до Воронежа колесил он на своей машине по фронтовым дорогам. Десятки раз попадал под артиллерийский и минометный обстрел, дважды его машина на бешеной скорости прорывалась из окружения. В дожди и туманы, по дорогам и без дорог носился Буканов, всегда успевая во-время выполнить задание. Всем был хорош шофер из приокского колхоза. Но был у него недостаток, из-за которого товарищи едко высмеивали Буканова: до ужаса боялся он авиации. Стоило самолетам показаться в воздухе, как Буканов бледнел, немедленно останавливал машину, забирался в ближайшую щель или воронку, и никакими угрозами нельзя было заставить его вылезти из укрытия. Однажды под Сталинградом Аксенов ехал с ним из армейских тылов к переднему краю. На степной дороге было пустынно. В неярких лучах заходящего солнца насколько хватал глаз стлалась опаленная равнина. Ни бугорка, ни перелеска. Буканов рассказывал Аксенову историю своей женитьбы и беззаботно посмеивался. Внезапно в километре впереди прямо навстречу машине вынырнула восьмерка «Илов», возвращавшихся, видимо, после штурмовки. Буканов огляделся по сторонам. Нигде ни одного укрытия. Машина завихляла. Глянув на тупорылые машины, несущиеся над землей, Буканов толчком распахнул дверь кабины и рыбкой нырнул в кювет. Аксенов едва успел схватить руль и выровнять машину.
— Зачем ты прыгал, это же наши «Илы»? — с трудом сдерживая смех, спросил его Аксенов.
— Наши, наши… Бомбанут, а потом разбирайся чьи, — боясь встретиться с Аксеновым глазами, хрипел Буканов.
Всю дорогу он молчал, яростно сжимая руль. Когда подъезжали к землянкам, умоляюще посмотрел на Аксенова и, путаясь в словах, попросил:
— Пожалуйста, никому только не рассказывайте… Засмеют, проходу не будет.
В скором времени Буканову по-настоящему пришлось пострадать от авиации. Перед началом штурма окруженной сталинградской группировки немцев январским вечером Буканов поджидал ушедших на передовую офицеров. Побеленная машина сливалась с серым фоном снега. Но и маскировка не спасла. Налетели три «юнкерса», и от полуторки Буканова остался только задний номер и четверть окружья руля. Четыре дня ходил Буканов сумрачный, томясь потерей и вынужденным бездельем. А под вечер он исчез. Два дня искали его, но так и не могли найти. Многие решили, что Буканов с горя пристал к какой-нибудь роте. На третий день утром Буканов, сияющий и важный, подкатил к землянкам оперативного отдела на новеньком «оппель-капитане». На заднем буфере трофейной машины чернел номер от колхозной полуторки. И эту машину потерял Буканов во время налета авиации под Яссами.
Так до самого Будапешта и не мог он привыкнуть к воздушным бомбардировкам…
— Буканов, ты глазами не стреляй в небо, — сказал Аксенов, — все равно не увидишь, когда налетят.
— А я и не думал стрелять! Что мне? Вы думаете, я боюсь авиации? Ничуть. Это я вот на снег смотрю. Уж больно вихрится красиво, как в кино.
Машину подбрасывало на выбоинах. Мотор урчал размеренно ровно. По краям светлой полосы от фар стенами надвигалась темнота. Ветра не было, и снег пенистой накипью устилал дорогу. Аксенову казалось, что машина движется слишком медленно, хотя стрелка спидометра вихлялась около цифры «60». Фронтовая дорога как вымерла. Трудно было поверить, что рядом проходил передний край. На перекрестке у выезда из города Бичке машину остановил дежурный контрольно-пропускного пункта. С ног до головы занесенный снегом усатый сержант взглянул на документы Аксенова и махнул флажком.
— Ничего не слышно? — спросил Аксенов.
— Гукнуло раза четыре в горах где-то и замерло, — ответил сержант. — А что, бьются наши?
«Может, остановили противника и все стихло», — подумал Аксенов. Проехав небольшую деревню Чабди, машина выскочила на крутую гору. Сразу же стук мотора перекрыл глухой обвальный шум. Аксенов приказал остановиться и выпрыгнул из машины. Фары погасли, и дочерна сгустилась темнота. Вокруг не было ни одного огонька. По стонущему неравномерному гулу, то стихающему, то крепнущему до грохота, Аксенов безошибочно определил, что бой идет не сплошь по всему фронту, а отдельными очагами.
«Неужели прорвались немцы и части ведут бой в окружении?» — раздумывал Аксенов.
От деревни Тарян начинались горы Вертэшхедьшэг. Здесь размещался штаб корпуса генерала Добрукова, но Аксенов, чтоб не терять времени, решил ехать прямо в дивизию Чижова.
Дорога, поднимаясь в гору, петляла среди поросших лесом обледенелых скал. На спуске в долину в свете фар замелькали впереди серые фигуры солдат. По три в шеренге строем торопились какие-то подразделения. Сигналя, машина краем шоссе обогнала три стрелковые роты. Впереди колонны бежал высокий офицер в ватной телогрейке. Аксенов остановил машину.
— Вы командир?
— Так точно.
— Я офицер штаба армии, — показал Аксенов свои документы. — Кто вы и куда людей ведете?
— Резервный батальон командира корпуса. Приказано занять перевал горы Агостиан и остановить противника. Приданный артиллерийский дивизион занимает огневые позиции. Минут через сорок буду на перевале.
— Что знаете о противнике? — спросил Аксенов.
— Дивизия Чижова ведет бой. Моя разведка вышла к деревне Агостиан. Там сейчас штаб дивизии. Бой на окраинах деревни. У противника наступает много танков.
Аксенов попрощался с командиром батальона, приказал радистам связаться со штабом армии, написал коротенькое донесение и передал его в штаб.
У подножья горы Агостиан он снова обогнал стрелковый батальон. Дорога круто взбиралась вверх. Мотор ревел натруженно, втаскивая машину на перевал. Звуков близкого боя не было слышно. На перевале Аксенов встретил щеголеватого майора.
— Командир дивизиона гвардии майор Чивилкин, — просмотрев документы Аксенова, четко отрапортовал он, — создаю противотанковый узел на перевале. Одна батарея вот за этой скалой, вторая — левее, за валунами, третья — на самом перевале. Местность выгодная, противника остановлю.
— А с боеприпасами как? — спросил Аксенов.
— Имею два боекомплекта, послал еще подвезти. На день вполне хватит.
— Связь имеете с передовыми частями?
— Так точно! Комдив развернул свой резерв на окраине села Агостиан и ведет бой. Танков, говорят, много, очень много.
Совсем недалеко слышалась стрельба. Снегопад как будто начал уменьшаться. На окраине деревни Агостиан машину остановила длинная автоматная очередь. Буканов мгновенно выключил фары.
— Какого чорта со светом ездишь? — подскочил к машине здоровенный автоматчик.
— Не кричите, — остановил его Аксенов, — где штаб дивизии?
— Что не кричите? Порядка не знаете. Тут он по каждой папироске садит, а вы с фарами.
— Я спрашиваю, где штаб дивизии? — прикрикнул Аксенов, по опыту зная, что начни только оправдываться, перебранка может затянуться на целый час.
— Вот он и есть тут штаб, — сбавляя тон, ответил автоматчик.
— Проведите меня к командиру дивизии.
— Пожалуйста, вот третий дом направо.
На улице стояли запряженные повозки, приглушенно пофыркивали моторы автомашин. Рядом, около озаряемого вспышками дома, била куда-то, видимо, гаубичная батарея. Ее выстрелы глушили все звуки. Невдалеке, высоко взметая искры, загорелся дом. Вокруг суетились люди, всхрапывали кони, кто-то злобно ругался. В сенях дома сквозь приоткрытую дверь Аксенов услышал голос полковника Чижова:
— Немедленно убрать все обозы из деревни. Они все перепутали. Артиллерия из-за них стрелять не может. Паникуют только и под ногами болтаются. Все свои тылы направлять по дороге через перевал на Тордаш. Десять минут — и чтоб ни одной повозки в деревне не осталось.
Кто-то грузный рванулся от комдива, чуть не сбив Аксенова с ног.
— Аксенов, — увидев майора, удивленно проговорил полковник Чижов, — как вы попали ко мне?
— Командующий прислал. Уточнить обстановку.
Худое, с ввалившимися щеками лицо Чижова пепельно серело. Под глазами темной синевой напухли мешки. Запекшиеся в изломах губы матово белели, кривясь в болезненной усмешке.
— Обстановка? Обстановка, браток, невеселая. На правом фланге по берегу Дуная прорвалось более шестидесяти танков с десантами автоматчиков. В центре вклинилось до сорока танков и не меньше полка пехоты. Маркеловский полк разрезан на две части. Полк Никулина понес большие потери и тремя группами дерется в окружении. У меня побило все радиостанции, проводная связь давно прервана.
— Я приехал с радиостанцией, давайте скорее донесения.
— Ну, спасибо, дорогой, спасибо. Командующий, наверное, на чем свет костит меня, Я уже приказал зашифровать все донесения.
— Давайте самое последнее, товарищ полковник. Что раньше было — это уже история.
— Пусть пока вот это передают, а мы с тобой напишем новое, более подробное, — подал Чижов шифровку Аксенову.
Пока писали новое донесение, страшная картина раскрылась перед Аксеновым. Весь двенадцатикилометровый фронт дивизии был взломан. По берегу Дуная до восьми километров в глубину вклинились танки противника. Окруженные батальоны и полки со всех сторон сжимались пехотой и танками. Офицеры штаба дивизии и учебный батальон сдерживали напор противника в центре, в семи километрах от бывшего переднего края. Полк, где воевала Настя, двумя группами отбивался в развалинах деревни и на предгорных высотах. Обороны дивизии фактически уже не существовало. Дрались отдельные группы. Позади дивизии почти не было войск, и теперь противник мог беспрепятственно развивать наступление в глубину и продвигаться к Будапешту.
Часто Аксенову приходилось бывать в сложной обстановке, но то, что произошло в полосе дивизии полковника Чижова, ошеломило его. Всего за несколько часов противник открыл себе прямую дорогу на Будапешт, и теперь, казалось, положение может спасти только чудо. Думая о будущем, Аксенов никак не мог представить, что сейчас предпримет наше командование, чтоб остановить противника. Враг наступает крупными массами танков и сделал самое главное — прорвал оборону, теперь его войска устремятся к Будапешту и это пятидесятикилометровое расстояние преодолеют всего за несколько часов.
Злость и обида охватили Аксенова. Он хорошо представлял свое положение и знал, что и ему, и полковнику Чижову, и его штабу, и всем людям его дивизии едва ли удастся выбраться. Но не боязнь за свою жизнь была сейчас главной мыслью Аксенова. Он по привычке кадрового военного мысленно оценивал обстановку и искал выход из создавшегося положения. Но сколько Аксенов ни раздумывал, благоприятного выхода не было. Оставалось только одно — драться, драться до последнего дыхания и честно погибнуть, до конца выполнив свой долг коммуниста и офицера.
На мгновение у него мелькнула мысль о том, что он может попасть в плен.
«Нет, — сам себе мысленно сказал Аксенов, — если уж в плен, то только мертвым. А живому — драться, драться, пока бьется сердце и есть хоть капля жизни.
Лучше честная гибель в бою, чем позорная смерть в фашистских лапах».
— Немедленно шифровать, — подписав донесение, приказал начальнику штаба Чижов.
С треском лязгнуло окно.
— Ложись! Граната! — крикнул полковник.
Аксенов, ударившись плечом о край стола, растянулся на полу. Взрыв потряс комнату.
— За мной, в окно! — сквозь звон в ушах услышал Аксенов голос Чижова.
Он бессознательно рванулся и свалился в снег. Над головой свистели пули. Рядом кто-то протяжно стонал. За углом дома гомонили немецкие голоса. Аксенов бросился к сараю, где стояла машина. Обогнув палисадник, он увидел на месте машины столб пламени.
— Там немцы, — узнал Аксенов голос одного из радистов. Радист рванул майора за руку и оттащил в сторону.
— Подожди! Полковник где-то. Может, ранен, — отбивался Аксенов.
— Да нет. Вон полковник с автоматчиками из-за дома стреляет.
Со всех сторон трещали автоматные очереди.
— Полковник приказал в лес отходить! — крикнул вынырнувший из-за дома офицер.
Через подворье Аксенов выбрался на окраину деревни. За ним бежали оба радиста и Буканов. Позади гремели выстрелы, полыхали вспышки гранат. Впереди темнел нагорный лес.
— Все сгорело, — на бегу докладывал радист, — и машина и рация наша. Гранатами забросали. Едва успели донесение передать.
Пересвисты пуль роились над головой. Забежав под деревья, Аксенов обессиленно упал в снег.
— Автоматчики! — крикнул Буканов.
Аксенов обернулся и увидел бежавших к лесу немецких солдат.
VIII
Тоня, вынырнув из окопа, подскочила к НП командира роты. По низине от первой траншеи бежали какие-то люди. Было их человек двадцать, а может, и больше.
— Немцы! — крикнул Анашкин и полоснул из автомата по черным силуэтам.
Рядом с Анашкиным застрочил автомат ротного писаря ефрейтора Сверчкова.
Ошеломленные огнем в упор, немцы опомнились только минуты через три. Над Сверчковым и Анашкиным зацокали пули.
— Ложись! — рванул Тоню за рукав Саша Васильков.
— А капитан? — падая в снег, спросила Тоня.
— Во взводы ушел… стреляй… Ползут, видишь.
— Прицел снайперский, ничего не видно, — ответила Тоня и вжалась в снег. Длинная автоматная очередь прошла над ней.
Лежа, Васильков размахнулся и швырнул две гранаты. Кто-то впереди закричал. Послышались чужие, незнакомые голоса.
Васильков наугад послал в белесую муть несколько очередей и подполз к Тоне.
— Жива? Не задело?
— Нет. Промазали.
— Ползи в окоп. Больше не сунутся.
Васильков и Тоня пробрались к Анашкину и Сверчкову. Ефрейторы прижались к брустверу окопа и тихо переговаривались:
— Не менее полусотни. И как через траншею пролезли…
— Отрезали от роты…
— Болтаешь. Отрезали, отрезали, — рассердился Анашкин, — там капитан наш, он им так навернет с тылу, а мы тут спуску не дадим.
— Не видно ни бельмеса. Палишь вслепую.
— Им тоже не светлее. Душа, небось, в пятки ушла.
— Во! Подкрепление, — увидев Тоню и Василькова, обрадовался Анашкин. — А Настя где?
— В окопе. Меня сюда послала, узнать у капитана…
— Ложись! — падая на дно окопа, крикнул Сверчков.
Несколько мин с воем обрушилось на ротный НП.
— Идут! Огонь! — закричал Васильков.
Прямо на окоп бежало с полсотни гитлеровцев. К автомату Василькова присоединились очереди Анашкина и Сверчкова. Тоня, не целясь, выпустила четыре пули. Крики и стоны перемешались с автоматной трескотней. Шеренга фашистов исчезла, словно растаяв в полумгле.
— И этих угомонили, — снаряжая диск, продолжал Анашкин.
— Надолго ли? — усомнился Сверчков. — Опять полезут.
За развалинами дома взревел танк и темной громадой пополз на четверку советских солдат. За ним виднелся второй. Позади окопа отрывисто захлопала какая-то пушка.
— Наша сорокапятка батальонная, — обернулся на выстрелы Сверчков.
На темной броне танка взметнулись искры. Огненным зигзагом чиркнул еще один снаряд.
— Не берет, отлетают, — прижался к Тоне Сверчков, — его б, чорта, гаубицей шарахнуть.
Танк уже приблизился к окопу, как что-то стремительное шваркнуло о броню и над танком взметнулся клуб пламени.
— Угадали, угадали, в самую точку, — тряс Сверчков Тонины руки, — крышка нам, если б не пушкари.
Пламя над танком озаряло истерзанное заснежье. В разных местах валялись трупы немцев. Стреляя из пушек и пулеметов, один за другим промелькнули семь танков. Одинокая пушка смолкла. Сверчков обессиленно привалился к стенке окопа и простонал:
— Раздавили…
За танками, пригнувшись, бежали немецкие солдаты. Огонь из трех автоматов и одной винтовки заставил их нырнуть в почерневший снег. Танк медленно догорал. Все плотнее и плотнее сгущалась темнота.
— Со всех сторон сжимают, — отстреливаясь, проговорил Анашкин, — уходить надо. Погибнем понапрасну.
— Нет! Будем до последнего драться! — яростно вскрикнул Васильков, бросая гранату. — Душа из них вон, а я никуда не уйду из этого окопа.
Одну за другой Саша бросил еще четыре гранаты. Автоматный огонь на секунду стих. На месте взрывов слышались стоны.
— Завыли, — скрипя зубами, проговорил Саша и выпустил длинную очередь. Внезапно его автомат поперхнулся и смолк. Саша чуть слышно охнул и отшатнулся назад. Секундного перерыва было достаточно, чтобы немцы опомнились.
— Ползем! Теперь носа не высунешь, — скрежеща зубами, выдохнул Васильков.
Часа два, то намертво застывая под пересвистами пуль, то ужами извиваясь по заснеженной земле, пробирались они, сами не зная куда.
— Тоня, перебинтуй, пожалуйста, заливает все, — остановился Васильков.
— Чего остановился! — прикрикнул на него Сверчков, но, взглянув на Василькова, смущенно прокашлялся. — Что же ты молчал-то? Ничего не видно…
Вся левая щека и подбородок комсорга были залиты кровью.
— Не до перевязок. Не уползли б — крышка нам, — скривил распухшие губы Васильков, — никому не выбраться, а теперь потягаемся еще.
Тоня с помощью Анашкина забинтовала голову и лицо Василькова.
— Крови-то, крови сколько… — ворчливо бормотал Анашкин. — Ползет — и никому ни слова.
— Ох, дядя Степа, и достается, наверно, твоим домашним, день и ночь пилишь их, все не по тебе.
— Лежи, лежи, а то не посмотрю, что вожак ты комсомольский, всыплю по первое число горяченьких, не возрадуешься.
Саша устало закрыл глаза и ничего не ответил.
— Ну вот и все, — узлом завязал концы бинта Анашкин, — теперь ты в середине ползи. Я первым, за мной Тоня, а Сверчков замыкает.
Подползли к шоссейной дороге. На востоке в посветлевшем небе синели горные хребты. Невысокие горы заслоняли горизонт. И в горах, там, куда, извиваясь, уходило шоссе, мерцали бледные вспышки.
— Далеко прошли, далеко, — слезящимися глазами всматриваясь в горы, покачал головой Анашкин. — Видать, на самую макушку забрались. А наши-то, поди, там за буграми где-то.
Тоня стянула с руки мокрую варежку. Застывшие пальцы крючились в судороге. Все тело налилось усталостью. Хотелось прямо тут, в снегу, у дороги, заснуть и обо всем забыть.
Сверчков разгреб загрязненный снег и, докопавшись до чистого, пригоршнями стал есть его.
— До гор пробиваться будем, — решил за всех Анашкин, — а там к своим прорвемся.
Едва успели перескочить дорогу, как из-за поворота выползло штук десять тупорылых, с белыми крестами танков. На броне, как грибы опята вокруг пенька, тесно жались автоматчики.
— Стой, дядя Степа, — остановил Анашкина Васильков. — Резанем, что ли? Наших душить рвутся.
Анашкин взглянул на забинтованное лицо Василькова и покачал головой.
— Что, боишься? — дрожа всем телом, упрекнул Васильков.
— Перебьют понапрасну.
— Перебьют, — сквозь промокшую марлю хрипел Саша, — а ты, может…
Он не договорил и, распаленный болью и неудержимой яростью, схватил Анашкина за воротник телогрейки, притянул к себе.
— Наших давить будут. Упустить такой момент…
— По одному диску — и сразу в лес, — согласился Анашкин.
— Бей по трем первым, Сверчков — по трем последним, а я — в серединку, — скомандовал Васильков и лег за камень.
— Оставайся здесь, под деревьями! — крикнул Анашкин Тоне и пристроился невдалеке от Василькова.
Головной танк был уже близко. Позади него шлейфом расстилался черный дым.
Почти неслышные в реве моторов и лязге гусениц, ударили три автомата. Тоня из-за дерева била с колена не целясь.
Сверчков суетливо вставлял новый магазин и никак не мог вставить. Васильков ринулся к нему, стукнул кулаком по магазину.
С брони комьями посыпались десантники. Головной танк остановился. На него, крутя башнями во все стороны, надвинулись остальные. В смрадном тумане беспорядочно палили во все стороны уцелевшие немцы.
Анашкин и Сверчков, пригибаясь до земли, подбежали к Тоне. Васильков отбросил опустошенный магазин, поспешно вставил второй и вновь прижался щекой к прикладу. Секунд через пять он вскочил, растерянно огляделся по сторонам. Патронов больше не было.
— Скорее сюда, скорее… — не успел докричать Анашкин.
Из-за бугра выскочили девять или десять немцев.
— Не видит, левый глаз-то завязан! — закричал Сверчков.
Саша взмахнул руками, секунду покачался на месте и навзничь рухнул в истоптанный снег.
Анашкин и Сверчков разом открыли огонь. Дробный перестук автоматов свалил немцев. Только один в распахнутой зеленой шинели подскочил к Василькову и в упор стрелял в его распростертое тело. Анашкин рванулся, с размаху ударил немца прикладом по голове и, не устояв на ногах, свалился на него.
От танков к бугру кинулось несколько темных фигур. Сверчков длинной очередью положил их под деревьями.
Тоня бросилась к Анашкину и Василькову, но только выбежала за куст, как Анашкин поднялся и крикнул ей:
— Назад! Назад! Скорее в лес, скорее!
От дороги неслись гулкие выстрелы. По деревьям беспорядочно щелкали пули. Минут десять бежали по снегу. Все глуше и глуше доносилась стрельба.
— Отстали, кажется, — переводя дыхание, остановился Анашкин.
В лесу было уютно и тепло. Утренний свет скупо сочился между заснеженными ветвями. В просветах голубело небо.
— А Саша-то, дядя Степа, Саша? — с трудом удерживая слезы, спросила Тоня.
— Всю голову раздробили… Помер…
Тоня опустилась на снег и беззвучно зарыдала.
— Не надо, дочка, не надо, — уговаривал ее Анашкин, — не надо… Он бы обиделся… Не любил слез наш Саша.
— Душевный был человек, — сам с собой разговаривал Сверчков. — А как пел…
— Документы вот успел вытащить. Партийный билет-то он только вчера получил. Ты ведь комсомолка, возьми, — дрожащей рукой протянул Анашкин в целлулоидной обложке партийный и комсомольский билеты и потрепанную солдатскую книжку. — А этого чорта я саданул… Офицер оказался, по знакам майор вроде. И сумку вот сорвал с него.
В сумке была всего-навсего чистая, без единой пометки топографическая карта и один исписанный по графам лист плотной бумаги.
— Не густо, не густо, — сокрушенно качал головой Анашкин и подал Тоне бумагу. — Взгляни-ка, дельное может.
— Позывные радиосетей четвертого танкового корпуса «SS», — вспоминая значение немецких слов, прочитала Тоня.
— А ну, ну, читай-ка, — интересно.
— «Танковая дивизия „Мертвая голова“, танковая дивизия „Викинг“, — с трудом разбирала Тоня, — третья танковая дивизия, шестая танковая дивизия, двадцать третья танковая дивизия, двести семьдесят первая пехотная дивизия, двести первая пехотная дивизия, девяносто шестая пехотная дивизия».
— Так, так, — говорил Анашкин. — Видал ты, дело-то какое! Это сколько всего-то? Пять, значит, танковых и три пехотные дивизии. Вот это да! И на одну нашу навалились.
— Знакомая, — злобно сплевывая, проговорил Сверчков. — Мы с этой самой «Мертвой головой» под Ахтыркой схлестнулись. Это они на Полтавщине все села от самой Ворсклы и до Днепра подчистую выжгли, весь скот постреляли, а людей, людей…
— Погоди, погоди, — вспомнил Анашкин, — да ведь эту «Викингу» мы под Корсунь-Шевченковским окружили и там прикончили.
— А Гитлер ее заново скомплектовал, — разъяснил более сведущий в военных вопросах ротный писарь, — к старым пуговицам пиджак пристегнул. Номерок-то остался, вот-те и опять «Викинг».
— Сила-то какая прет — пять танковых и три пехотные…
Не переставая, то ближе, то дальше раздавались взрывы мин. Видимо, немцы решили, что в лесу скрывается крупная группа советских солдат.
— Эх, передать бы эту бумажку нашему капитану, — мечтательно говорил Сверчков, — а он бы ее в батальон, а там в полк, и пошла все выше и выше. Сразу б как на ладони видно, кто наступает. А то ведь, наверно, сидят генералы и головы ломают. Чорт его знает, кого Гитлер в наступление турнул.
— Вот что, милые, — решил Анашкин, — нам теперь связываться с немцами не к чему. До своих нужно пробиваться. И бумажку эту начальству передать. Это, может, стоит поболе роты немцев.
Сверчков, кивнув, отошел к пню, смахнул с него снеговой нарост и сел переобуваться. Вдруг с треском взорвалась мина. Черный дым окутал Сверчкова.
— Андрей, ничего тебе? — подбежал к осевшему на снег писарю Анашкин.
Лицо Сверчкова с грязными щетинистыми щеками и вздернутым носом болезненно скривилось. Шапка упала в снег. Слипшиеся волосы клочьями покрывали мокрый лоб.
— Харитоныч, — привалясь к пню, отозвался он, — возьми-ка вот сумку мою. Вся ротная отчетность тут, передай…
Побелевшими губами он жадно хватал воздух, рука шарила по крышке брезентовой сумки и никак не могла отстегнуть пряжку. Снег под Сверчковым наливался темнорозовой влажностью.
— Андрей, погоди, Андрюша, ранен же ты. Перевяжем давай, пакет вот есть у меня… — встал перед ним на колени Анашкин.
— Пустое, Харитоныч, — вяло отмахнулся Сверчков, — боль разбередишь только. Весь живот изрешетило. Чую, вылазит все изнутри…
Непослушными пальцами ему удалось, наконец, открыть сумку. Он вытащил флягу в суконном чехле и протянул ее Тоне.
— Коньяк тут. Второй месяц берег. Поранят кого-нибудь, подкрепиться. Доктор сказал, что коньяк-то враз сил добавляет.
— Ты сам, сам выпей, Андрюша, полегчает, — дрожа всем телом, уговаривал Анашкин, — а мы с Тоней перевяжем тебя… До своих доберемся. В госпиталях, знаешь, врачи-то какие…
— Пустое говоришь. Ни к чему, — окрепшим голосом остановил его Сверчков. — Ты напиши домой. Жена у меня, детишек трое. Сынки и дочка. Старшему тринадцатый пошел. Погиб, мол, Андрей Платоныч Сверчков неподалеку от венгерского города Будапешт. И колхозникам напиши: три года собирался их счетовод домой вернуться, да вот и не вернулся. Набил, мол, он целую кучу гадов фашистских, набил, а сам…
Тоня и Анашкин на коленях стояли около пожилого солдата. Лицо его наливалось синевой. Зубы прикусили кончик черного языка. Сверчков пытался привстать, но ослабевшее тело безвольно свалилось на бок, дернулось в последней судороге и застыло.
Тоня плакала навзрыд, закрыв руками глаза Анашкин прижал голову к груди Сверчкова, пошатываясь встал и взглянул на небо. С востока неудержимым потоком наплывал ослепительный свет, и заснеженные деревья полыхали сотнями изумрудных искр.
Вдвоем расчистили от снега старый окоп, положили остывающее тело Сверчкова и присыпали землей.
— Прощай, Андрей Платоныч, — блестя лысой, крутолобой головой, проговорил Анашкин. — Воевал ты хорошо и умер хорошо, по-русски.
Долго Анашкин и Тоня пробирались по лесным сугробам навстречу разгоревшейся канонаде. Шли молча, каждый думал о своем. Крутые подъемы сменялись обрывистыми спусками. Грохот боя постепенно приближался. Над горами свистящими тенями промелькнули истребители. Где-то невдалеке тяжко ухали бомбы.
— Теперь вот самое страшное, — всматривался Анашкин в клочкастое мелколесье внизу.
По отлогим склонам среди чахлых кустарников и кургузых деревьев серыми пауками ползли немецкие танки, суетливо перебегали пехотинцы, облепленные темными фигурками людей, пробивались по целине пушки. Все это, окутанное дымчатой мглой, катилось к широкой долине, за которой горные хребты и увалы полыхали выстрелами.
— Наши! Дядя Степа, наши, — прижимаясь к сосне, шептала Тоня, — там, в горах, за лощиной…
— Наши-то наши, да вот как добраться до них, — произнес Анашкин, глядя на дальние горы, — в обход придется, вон через тот лесок.
Они свернули в сторону и опушкой леса заспешили вниз. Впереди краснели черепичные крыши горного поселка. Из окраинных садов по долине били пулеметы и пушка.
— Теперь уж рядом, — ускоряя шаг, обрадованно говорил Анашкин, — нажмем, Тонечка.
Перебегая от дерева к дереву, они не заметили, как из долины на лесную опушку рванулись четыре вражеских танка и человек пятьдесят солдат.
— Немцы! — вскрикнула Тоня, заслышав цоканье пуль по деревьям.
— В лес, в лес бежим, туда не сунутся, — торопил Анашкин и, ойкнув, упал под куст.
— Дядя Степа, что вы? — бросилась к нему Тоня.
— Поранен, дочка, ногу перешибло.
— Сейчас перебинтуем, — склонилась над ним Тоня.
— Нет, нет, — сердито прикрикнул он, — давай пакет. А сама, вот тебе сумка, пробирайся в деревню, наши там.
— Да нет, дядя Степа, вместе…
— Не спорь, — остановил ее ефрейтор, — я в два раза старше тебя. Знаю. Погоди-ка, дочка, — он дрожащими пальцами схватил пуговицу телогрейки, с трудом отстегнул ее, достал из кармана гимнастерки вчетверо сложенный лист бумаги и протянул его Тоне.
— Передай вот парторгу батальонному. Заявление это. В партию прошусь, в коммунистическую. Давно собирался, да недостойным считал. Передай.
Тоня машинально взяла бумагу и прошептала:
— Как же… вы-то… один…
— Не могу ведь ходить-то, — сморщил он худое большеносое лицо и озлобленно выкрикнул: — Беги, говорят тебе. Что прохлаждаешься, хочешь, чтоб обоим нам крышка!..
Его властный голос и суровое лицо словно толкнули Тоню. Она повернулась и, рыдая, заторопилась в деревню.
— Прощай, дочка, — услышала Тоня ослабевший голос Анашкина.
Ефрейтор сидел, привалясь к дереву, и смотрел на нее. Его длинные руки прижимали автомат к животу. По желтым щекам катились крупные слезы.
«Иди, не задерживайся», — по движениям губ и сердитому взмаху руки поняла Тоня.
По кустарнику она благополучно пробралась к поселку. У крайнего дома безудержно строчил станковый пулемет. Тоня отчетливо видела лицо и прищуренный глаз наводчика. Наводчик обернулся, видимо заметив ее. Родная звездочка алела на его шапке.
В саду беспорядочно закричали немцы. Наводчик прижался подбородком к рукояткам и вновь застрочил по долине. В ответ обрушился целый поток снарядов и мин.
Тоня рванулась, хотела привстать, но близкий взрыв отбросил ее в сторону. К дому, где стоял пулемет, громыхая, полз танк.
«Раздавили», — последним усилием воли сообразила Тоня, и огненная мгла нахлынула на нее со всех сторон.
IX
— Где Аксенов? — не глядя на Воронкова, спросил Алтаев.
— Неизвестно, — потупив взгляд, ответил Воронков. — Приняты две радиограммы. Потом радист крикнул: «Немцы!» — и рация больше не отвечает.
Алтаев встал, грузно прошел к окну и рывком отдернул тяжелую бархатную штору. В палисаднике темнели акации. По улице взад и вперед торопливо сновали военные. У четырехоконного дома напротив возились два телефониста. Третий с длинным шестом в руках забрасывал провода на деревья.
Алтаев негромко откашлялся, пальцами попробовал, прочно ли держится в раме стекло, и обернулся к Воронкову.
— Новые данные?
— Резерв командира корпуса — один стрелковый батальон и артиллерийский дивизион вступили в бой на перевале горы Агостиан. Наступают сорок танков и до полка пехоты. Командир корпуса выбрасывает на перевал еще два дивизиона.
— Знаю. Я приказал, — резко оборвал его Алтаев. — Что на берегу Дуная?
— Противник в трех местах захватил плацдармы, расширяет…
— Тоже знаю.
— Больше, товарищ командующий, ничего…
В тишине кабинета звонко потрескивала лампа из артиллерийской гильзы. Воронков стоял, всматриваясь в склоненную голову командующего. У Воронкова ныла, как перед непогодой, раздробленная на Днепре нога. Мысли все время возвращались к событиям этой ночи. Десять часов на правом фланге армии шел бой. Исчезла, как сквозь землю провалилась, целая дивизия. На двенадцатикилометровом фронте противник вклинился в оборону. Если дивизия Чижова разгромлена и не способна удержать западные склоны гор, то… Воронков зябко поежился и вздрогнул от слов командующего.
— Через два-три часа противник возобновит наступление. Да, да! Возобновит. Сейчас он остановился.
Воронков недоуменно прислушался. Никаких данных о прекращении наступления противника не было.
— Управление потеряно. Части перепутались, — словно рассуждая сам с собой, продолжал Алтаев… — В темноте собрать их он не сможет. Нужно светлое время. Только светлое время и не менее двух часов. И тогда он с новыми силами рванется. А мы должны удержать его. Эти два-три часа решают успех сегодняшнего дня!
Он повернул ручку телефонного аппарата в желтом кожаном чехле и вызвал командира правофлангового корпуса.
— Добруков? Как положение на фронте? Все стихло… Ничего странного… Почему вы удивляетесь? Вы же сами ночью наступали? Так в этом и дело… Попробуйте разобраться в темноте. У него сейчас слоеный пирог… Да, да… Хорошо, немедленно выдвигайте их на узлы дорог… Минируйте, все минируйте… Ищите Чижова, ищите… Через полтора часа к вам подойдут новые артиллерийские части. Ни шагу назад! Отходить некуда! За каждый метр отвечаете.
Алтаев положил трубку, взглянул на стоявшего в напряженном ожидании Воронкова и взмахом бровей согнал с лица морщины.
— Товарищ Воронков, передайте командиру корпуса Биркову: немедленно снять с огневых позиций два пушечных полка, один гаубичный, один минометный и перебросить к Добрукову. Через час двадцать минут доложить о выполнении приказа.
Воронков смотрел на карту, где карандаш командующего показывал, какие и куда передвинуть части, и мысленно представил обстановку, которая сложилась сейчас на фронте армии. На правом фланге противник начал наступление и вклинился в оборону. Какие наступают там силы, еще неизвестно, а из центра и с левого фланга командующий снимает войска и перебрасывает на участок прорыва противника. По дорогам мчатся грузовики с саперами, с пехотинцами, с пушками и минометами на прицепах. Командующий вводит в бой крупные силы, а обстановка еще не ясна. Возможно, на рассвете противник бросит в бой свои главные силы где-то на другом направлении. Не слишком ли рано поднял командующий такие крупные силы? Может, лучше было бы выждать до утра, уточнить обстановку и тогда принимать решение?
— Эх, сейчас бы парочку свежих дивизий в горах иметь. Так можно стукнуть! Все бы ночное наступление пшиком кончилось, — проговорил Алтаев, и Воронкова опять поразила эта твердая уверенность командующего в том, что противник главный удар наносит именно на правом фланге.
— Быстро передать приказ Биркову и проверить его выполнение, — приказал Алтаев и опять углубился в свою карту.
Он долго сидел над картой, потом встал, что-то вспомнив, достал пачку бумаг из висевшей на стене полевой сумки и вернулся к столу. Из бумаг он выбрал синий конверт со многими печатями и достал из него письмо и небольшую фотографическую карточку.
«Милому дедушке от Аленушки», — прочитал он на обороте, вздохнул и всмотрелся в фотографию. На него смотрели большие детские глаза, напоминавшие что-то далекое-далекое.
— Вся в бабушку, — проговорил Алтаев и, поставив на карту пресс-папье, прислонил к нему фотографию.
Теперь глаза девочки смотрели туда, где карандашом ее дедушки было испещрено все цветное поле топографической карты.
— Ничего, Аленушка, ничего, — не отрывая взгляда от карты, сказал Алтаев. — Мы еще встретимся и по садику побегаем, в лошадки поиграем.
X
Офицеры штаба временно располагались в одной большой комнате.
После строгой тишины кабинета командующего Воронкова со всех сторон обступил разноголосый шум. У самого входа в левом углу оградился откуда-то понатасканными тумбочками начальник секретной части, старший лейтенант Птицын. Поджарый, среднего роста, он оглядывал свои сундуки и железные ящики и умолял майора Дивеева:
— Товарищ гвардии майор, не могу же я, понимаете, не могу без охраны. Ну дайте хоть одного часового.
— Ну где я возьму часового? — рассудительно разводил руками неторопливый, всегда спокойный Дивеев. — Вот подойдет рота охраны — пожалуйста, трехсменный, круглосуточный.
— У нас всегда так, — обиженно сморщил Птицын молодое, с едва пробивавшимися усиками смуглое лицо. — А потом случится что-нибудь, за шкирку-то меня возьмут.
— Товарищ гвардии майор, мне работать негде, — вразвалку подошел к Дивееву высоченный старшина Воробьев. — Карту готовить, а сесть негде.
— А где твой стол? — сверкнул на него серыми глазами Дивеев. — Ты же у окна сидел.
— Заняли подполковники Можаев и Орлов.
Дивеев шагнул было, намереваясь сию же секунду отобрать стол чертежника, но вспомнил, что Можаев его начальник и разговоры с ним коротки, сердито махнул на старшину и кивнул в сторону Птицына:
— Вон тумбочки возьми у него, куда ему столько.
— Ну, уж это, знаете ли… — рассердился Птицын.
— Я тоже вместе с вами носил, товарищ гвардии старший лейтенант.
Приход генерала Воронкова прервал споры. В комнате стихло. Только раздавался ломкий бас майора Котникова, говорившего по телефону:
— Повторите еще раз… Еще раз повторите. Не пойму, какая высота? Вот теперь ясно. А дальше как? Дальше, говорю, где передний край «Астры»?
Воронков подошел к Можаеву и Орлову. Подполковники встали.
— Товарищ генерал, — заговорил Можаев, — на перевале горы Агостиан подбито девять танков.
— После, после доложите, — остановил его Воронков, — дайте-ка мне телефон. Да прикажите не шуметь. Разве можно в таких условиях работать? Наведите порядок.
Можаев оглянулся вокруг. Никакого особенного беспорядка он не заметил. Как и обычно, сутуло склонясь над картой, «изводил» направленцев майор Гаврилов, уточняя обстановку.
Бывший учитель математики, худой и высокий тридцативосьмилетний Гаврилов вообще любил точность, а теперь, выполняя одну из самых трудных работ оперативного отдела, был особенно придирчив. На него была возложена обязанность собирать от офицеров оперативного отдела данные обстановки, обобщать их и подготавливать боевые донесения, оперативные сводки и различные информации. Эта работа требовала большой внимательности и точности. В спешке из штабов часто поступали противоречивые, непроверенные данные. Иногда случалось так, что по телефону из штаба корпуса докладывали одно, а проходило несколько минут — и в официальном донесений, переданном по телеграфу, было совсем другое.
— Подожди, подожди, Миша, — говорил он, — давай по порядку.
— Ну, сколько можно повторять! — возмущался высокий детина в щегольской гимнастерке с новыми майорскими погонами.
— Повторять ничего не нужно. Документик, документик давай.
— Какой документик? По телефону принял.
— Разговор так разговором и останется. СТ[3] работает. Ну, вот и давай ленту.
— Ну и бюрократ ты, Митя, — возмутился майор и, зная, что Гаврилов все равно своего добьется, повернулся и побежал на телеграфный узел.
В самом дальнем углу комнаты, у стола полковника Фролова, стояли его заместитель подполковник Сашин и помощник майор Хлебников. Спорщик b «философ» Хлебников, прозванный так за склонность к длинным рассуждениям по самым различным вопросам, доказывал Фролову:
— Совершенно ясно и понятно. Противник наносит главный удар и бьет вдоль Дуная. Не сегодня-завтра будапештская группировка рванется на запад. Комбинированный удар. Так было под Сталинградом и так же под Корсунь-Шевченковским.
Фролов невозмутимо слушал его, сам давно придя к таким же выводам. Ничего нового Хлебников не сказал, да едва ли и мог сказать сейчас. Никаких новых данных о противнике у него не было. Но Фролова мучили сомнения, тысячи различных предположений, и он старательно выслушивал и своих помощников, и начальников разведки корпусов, и офицеров с наблюдательных пунктов, пытаясь в десятках различных докладов уловить ту крупицу истины, которая помогла бы раскрыть замыслы противника и группировку его войск. Фролов вновь и вновь продумывал всё, что было известно о противнике за последний месяц. Несколько отрывочных данных о сосредоточении в Комарно танковых дивизий «SS» «Мертвая голова» и «Викинг» никакими другими сведениями не подтверждались. Какими же силами наступает противник?
— Ну что, Тимофей Фомич? — подсел к Фролову Воронков.
— Ничего, — отозвался Фролов, — ничего. Только общие предположения.
Воронков взглянул в лицо Фролову. В последние дни оно осунулось, отливало болезненной желтизной. Красные от напряжения глаза сурово узились, подолгу задерживаясь на какой-нибудь одной точке. Генерал и полковник долго сидели молча, вглядываясь в карту.
— Узнайте у Орлова, самолеты вылетели? — приказал Фролов своему заместителю и позвонил по телефону: — Товарищ командующий, разрешите мне выехать на перевал. Лично видеть… Так точно. Товарищ командующий… Товарищ командующий…
Он положил трубку и устало откинулся на спинку стула.
— Ругается. Говорит: «Работать не умеете. Не дело начальника разведки армии самому пленных захватывать. Сиди, руководи и анализируй».
— Конечно, он прав, — сказал Воронков.
— Да я сам знаю, что прав, — вскочил Фролов, — но нет же, нет, ничего нет! Никаких данных!
— Знаешь, ты брось кипеть, — остановил его Воронков. — Признайся честно, твоя просьба поехать на перевал — результат волнения, а не здравого размышления?
Фролов ничего не ответил и вновь потянулся к телефону.
— Товарищ полковник, — подбежал Хлебников, — начальник разведки корпуса Добрукова доложил: перед перевалом подбит танк с опознавательным знаком «Мертвая голова».
— «Мертвая голова», — не то спрашивая, не то утверждая, сказал Фролов.
— Так точно!
Генерал и полковник встали. Фролов рванул воротник кителя. Воронков стиснул кулаки и всем телом навалился на стол.
— «Мертвая голова», «Мертвая голова», — шептал Фролов, — значит, и «Викинг» здесь. Видимо, весь четвертый танковый корпус «SS» переброшен… Генерал Гилле… Наш старый знакомый. Вырвался под Корсунем…
Он говорил все громче. Глаза его вспыхивали юношеским задором. Зазвонил телефон. Фролов взял трубку.
— Я… Слушаю… Так… Так… Карандаш, — шепнул он Хлебникову, — диктуйте, записываю. Двести первая, так… Пишу… Полностью давайте, полностью: «В Будапеште окружены немецкие дивизии. Вас будет поддерживать мощная артиллерия и авиация. Нужно сделать все, чтобы освободить своих товарищей. Я сам буду руководить этой операцией. Гитлер». Ясно. Что он еще знает?.. Наступать — и все… Немедленно пленного направьте ко мне.
Он положил трубку и обернулся к Воронкову:
— Разведгруппа взяла в плен солдата двести первой пехотной дивизии венгров. Дивизии приказано наступать на Будапешт. Вчера вечером солдатам был зачитан вот этот приказ Гитлера.
— Идем к командующему.
— Да. Идем.
— Товарищ генерал, — остановил Воронкова и Фролова подполковник Орлов, — получил первые данные авиационной разведки. В воздухе шесть машин. Сам говорил с экипажами.
— Давайте на карту, — остановился Воронков.
— Начнем справа, — докладывал Орлов. — На берегу Дуная наступают на Байот сорок семь танков и до трех батальонов пехоты. В Шютте до восьмидесяти танков и с запада по дороге в движении колонна — до шестидесяти танков и более двухсот автомашин. На высоте триста тридцать ведет бой в окружении какая-то наша группа. Против нее до двух батальонов пехоты и двадцать танков.
Торопливо нанеся на карту данные авиационной разведки, Воронков и Фролов заспешили к командующему.
— Что нового? — неизменным вопросом встретил их Алтаев.
— На перевале подбит танк с опознавательным знаком «Мертвая голова». Взят в плен солдат двести первой пехотной дивизии, — стараясь держаться спокойно, заговорил Фролов.
— Знаю, — перебил его командующий, — мне об этом командир корпуса доложил. Еще что?
— Авиационная разведка отмечает… — словно не слыша слов командующего, продолжал Фролов.
— Так. Так. Хорошо, — вслушиваясь в его доклад, говорил Алтаев, — хорошо. Давайте все на мою карту.
Воронков, сам хороший чертежник, склонился над картой и быстро наносил данные авиационной разведки. Алтаев неотрывно следил за его подвижной рукой. Тихо вошел член Военного совета и остановился позади командующего.
— Так, — встал Алтаев, — картина проясняется. Наступает не менее трехсот танков и сорок — сорок пять пехотных батальонов. Так, товарищ Фролов?
— Так точно, товарищ командующий. В ночном бою отмечено более сорока артиллерийских и около двадцати минометных батарей. По обороне дивизии Чижова выпущено более тридцати пяти тысяч снарядов и мин.
— Ну, что еще нужно уточнить, — возразил Алтаев, — количество артиллерии явно уменьшено. По сравнению с пехотой и танками больше должно быть, несравнимо больше.
— А какие же еще дивизии, кроме этих двух, наступали? — спросил Шелестов.
— Вот это сейчас главная задача разведки, — обернулся Алтаев к Фролову, — установить группировку противника. Какие дивизии наступают, сколько сил и средств, что осталось перед центром и левым флангом армии. Ясно, товарищ Фролов?
— Так точно, товарищ командующий.
— Используйте все, что нужно. Главное — быстрота, вдумчивость, всесторонний анализ. Идите.
Проводив взглядом Фролова, Алтаев пухлой рукой накрыл карту и, сжимая длинные пальцы в кулак, отрывисто проговорил:
— Ну, Дмитрий Тимофеевич, давайте думать и решать. Теперь мы смело можем маневрировать и этим обеспечить победу.
— Дивизия Чижова явно не боеспособна, — заговорил Шелестов, — она расколота на шесть изолированных друг от друга групп. Пехота, пехота нужна сейчас Добрукову.
— Да, пехота, — согласился Алтаев, — и артиллерии ему подбросить еще нужно. Пять артиллерийских полков и один минометный переданы ему. Но при таких силах противника этого мало. Очень мало… Не удержит.
— И в резерве у нас ничего не остается.
— Механизированный корпус и одна стрелковая дивизия, — сказал Воронков.
— Во-первых, мехкорпус малочисленный, — продолжал свою мысль Шелестов, — а во-вторых, рано пускать в бой армейские резервы.
— Нет, нет! Мехкорпус трогать нельзя, — подтвердил Алтаев, — никак нельзя. Дивизию из резерва можно передать Добрукову. Только ей же нужно шестьдесят километров пройти. Это пятнадцать часов непрерывного марша. Дороги открытые. Авиация противника беспрерывно в воздухе. Разбомбят ее на марше и к полю боя не подпустят.
— А что, если дивизию Василенко перебросить? — задумчиво проговорил Шелестов. — Она занимает узкий фронт. Сменить ее очень легко. И от главного удара противника она всего в тридцати — тридцати пяти километрах. Маршрут проходит по лесам. Днем может двигаться. Авиация не обнаружит. Семь-восемь часов — и дивизия на месте.
— Да, это самый лучший вариант, — согласился Алтаев. — Воронков, пишите приказ. К девятнадцати часам вывести дивизию Василенко в Тарян и подчинить Добрукову. Артиллерию придется брать из других корпусов. Три полка я взял у Биркова, еще придется взять.
Телефонный звонок прервал его рассуждения.
— Слушаю… Я… Что у вас, товарищ Дубравенко?.. Действуют? Хорошо. Только энергичнее, смелее. Сковать противника на всем фронте. Сковать и не дать ни одного солдата перебросить на направление главного удара… Что?.. Перебежчики? Мадьяры?.. Две ночи от Балатона на север шли танки… Конечно… Безусловно, снял одну или две танковые дивизии и перебросил к нам на правый фланг. Товарищ Дубравенко, жмите на командиров корпусов и дивизий. Главное — разведка! Вас оперативники снабжают данными? Хорошо… Да… Я очень занят… Дивизию Василенко снимаем и перебрасываем к Добрукову. Если что будет, немедленно звоните.
— Перебежчики показывают, что две ночи по дорогам вдоль фронта к Дунаю шли танки, — закончив разговор с начальником штаба, сообщил Алтаев члену Военного совета. — Снял часть сил с левого фланга и центра и перебросил на наш правый фланг. Все собрал, все, что можно. Все ясно. Это главный удар. Снимаем часть артиллерии слева, из центра — и все на правый фланг. Товарищ Воронков, несите план маневра силами и средствами. Выберем, что быстрее можно перебросить.
— Слушаюсь, — ответил Воронков и поспешно вышел из кабинета.
— Дмитрий Тимофеевич, — склонился Алтаев к члену Военного совета, — плохо у нас с боеприпасами, очень плохо. В дивизиях осталось всего на один день боя. Все лежит за Дунаем. Ночью навели мост, а вот полчаса назад звонил армейский инженер — сорвало. Мы опять остались без переправы. Я прошу вас съездить на переправу и все, что можно, сделать для переброски боеприпасов. Сумеем обеспечить войска боеприпасами — победим, не сумеем — гибель!
XI
Аксенов, радисты и Буканов напрямик пробирались сквозь чащу. Под ногами хрустел лесной бурелом. Сквозь этот хруст изредка доносились переклички немцев, уже второй час шедших за группой Аксенова. Они, видимо, хорошо знали местность и, как ни спешил Аксенов, уверенно шли по пятам. В лесу становилось все темнее и темнее. Отблески пожарища остались далеко позади.
— И куда их несет… — поспешая за Аксеновым, бормотал Буканов. — Ну, мы еще как-никак удираем все-таки, а они…
— Да замолчи ты в конце концов! — прикрикнул Аксенов на не во-время разговорившегося шофера.
Буканов примолк, и Аксенов слышал только его ровное, с легким присвистом дыхание.
Деревья понемногу редели. В бледных просветах мелькали толстые стволы. Аксенов убыстрил шаги. Выход на открытое поле не предвещал ничего хорошего. Где-то недалеко должна быть горная дорога.
Аксенов имел представление о местности, но ему казалось, что пробирается он совсем не туда, куда нужно. Он не раз упрекал себя, что напрасно оторвался от полковника Чижова. Лучше было б оставаться с дивизионным штабом. Теперь исправлять ошибку поздно. Нужно самому выпутываться из трудного положения.
Лес окончился. Впереди простиралась неширокая долина, а за ней поднималось вверх взгорье и смутно темнели изломанные очертания не то леса, не то гор.
— Бегом, — шепнул Аксенов своим спутникам.
Топкий снег и прошлогодняя, поблеклая, перепутанная трава мешали бежать. Внезапно ноги почувствовали твердую опору. Старая, видимо давно заброшенная дорога едва приметно извивалась среди мохнатой заросли трав.
Теперь Аксенову было ясно, куда и зачем спешили немцы. Это, несомненно, был один из немногих проходов через труднодоступный горный район. С юга доносились пулеметные очереди и артиллерийская стрельба. Аксенов сразу же определил, что бой шел на перевале горы Агостиан, где проходила основная шоссейная магистраль. По звукам до перевала было не более двух километров.
Радостное волнение охватило Аксенова. Кончилось блуждание вслепую по ночному лесу. Рядом, совсем рядом были свои, и к ним теперь нетрудно пробиться.
Глухой стеной громоздился скалистый обрыв, рассеченный узкой полоской дороги надвое. Отполированные ветром и дождем камни неприступной преградой поднимались вверх и уходили далеко в стороны. Аксенов понял значение этой узенькой расщелины, пробитой сквозь горный хребет. Тут, и только тут могли пройти танки и другая боевая техника. И к этому проходу спешили немцы.
Аксенов оглядел горстку своих людей. Мало, слишком мало было у него сил: два автомата, два карабина и всего-навсего четыре человека. И поблизости никого нет. Если итти за помощью на перевал, то немцы успеют занять проход, и тогда судьба перевала будет решена. Аксенов искал наиболее целесообразное решение, но ничего определенного придумать не мог.
От леса послышался шум голосов.
Идут, — шепнул Буканов, наклоняясь и показывая рукой вперед.
Голос его, тревожный и взволнованный, подсказал Аксенову смелое решение.
— Вот эту дорогу… Проход… оборонять будем, — сдавливая неожиданную дрожь, сказал Аксенов. — За мной наверх.
По острым выступам камней, цепляясь за коряжистые сучья кустарников, он вскарабкался на лобовину. За ним, помогая друг другу, взобрались солдаты.
С горы в посветлевшем воздухе были видны дымчато-синие крутогорбые увалы и пологие впадины. Поднимаясь вверх, они создавали причудливый горный амфитеатр, окаймленный вверху полоской неба. Весь небосклон неуловимо светлел, меняя окраску и переходя то из темносинего в голубой, затем в бледнооранжевый и, наконец, в светлый, едва подернутый золотом. Там, откуда наплывали лучи света, был Будапешт, а еще дальше, где уже во всей красе разгорелось утро и ярко светило солнце, лежала родная страна — Украина, Орловщина, Подмосковье.
Аксенов несколько секунд неотрывно смотрел на зубцы гор, потом повернулся. По низине стлался клочковатый туман. Лес угрюмо темнел расплывчатыми пятнами. Где-то за лесом зарницами вспыхивали выстрелы. Раскатистый гул то налетал шквалом, то с дрожью замирал на мгновение и снова взвихрялся угрожающе сурово и дико.
Аксенов решил не распылять сил и всем четверым держаться вместе. Нагроможденье камней хорошо маскировало и укрывало от пуль. Он лег на краю обрыва, за обледенелым валуном. Рядом за камнями укрылся радист. В нескольких шагах пристроились Буканов и второй радист.
— Приготовиться! Стрелять только по моей команде. В гранаты вставить запалы! — скомандовал Аксенов.
От леса двигалась колонна. Впереди нее чернел парный дозор. Сколько в колонне было людей, Аксенов точно определить не мог, во всяком случае не меньше роты. Неожиданно Аксенов вспомнил, что он ни разу за бессонную ночь не покурил. Сосущая жажда подступала к горлу. Он глотал слюну, борясь с желанием достать папиросу.
Колонна, казалось, стоит на месте. Почему-то в памяти всплыла Москва октября сорок первого года… Затемненные улицы… Где-то в черном небе плавали аэростаты заграждения. У подъездов домов с противогазами дежурили пожилые женщины и девушки. В больших дворах, в садах и сквериках щетинились в небо зенитные пушки и пулеметы… Аксенов и Настя возвращались домой. На площади Дзержинского их застигла воздушная тревога. Пришлось спуститься в метро. Настя предложила пойти пешком до Крымской площади. Аксенов удивленно взглянул на нее и недоуменно пожал плечами. Он не мог представить, как можно в метро, под землей, ходить пешком. Настя повела его вниз. Сотни людей с узелочками и свертками спешили в подземелье. Мужчин почти не было. Плакали дети. Аксенову было стыдно в такое горькое время прятаться в метро. Он хотел было вернуться, но дежурный милиционер не выпустил его на улицу. Московское метро в то время неузнаваемо изменилось. Не было мягкого нарастающего шума поездов, не слышалось отрывистого и четкого «Готов!». Все вокруг дышало тревогой и сонной тишиной. По нескончаемым тоннелям, прямо на рельсах, были уложены дощатые настилы, и на них, кто подстелив что-нибудь, а кто прямо на досках, сидели, лежали женщины, дети, старики. Суровые лица… Затаенная тревога в глазах… По всему многокилометровому тоннелю — пока шли от Дзержинской, через Охотный ряд, Библиотеку Ленина, Дворец Советов до Крымской площади — видел он тысячи москвичей…
Колонна снова начала движение.
— Без команды не стрелять, — оторвавшись от воспоминаний, предупредил Аксенов.
Снег заглушал шум вражеских шагов. Уже видны лица дозорных, они идут с автоматами наготове, настороженно осматриваясь по сторонам. Один из них остановился и нагнулся к земле, затем поднялся и махнул рукой в сторону колонны.
«Следы заметили», — опалила сознание Аксенова тревожная мысль.
От колонны отделились две фигуры и побежали к дозорным. Колонна приближалась к ущелью. До нее оставалось, как определил Аксенов, не более двухсот метров.
— Огонь! — яростно крикнул Аксенов, сообразив, что подана команда на развертывание колонны в цепь.
Под огнем двух автоматов и двух карабинов засуетились, загомонили, стреляя куда попало, гитлеровцы. Человек пять бросилось назад. За ними устремились остальные. На снегу пятнами темнели трупы. До лесу добежало всего несколько человек.
Аксенов вытер распаленное лицо и перевел дыхание. В висках буйно стучала кровь.
— Сколько осталось патронов? — спросил он.
Патронов оказалось совсем немного: пятьдесят три для карабинов и сотни полторы для автоматов.
Из леса глухо застучали пулеметы. По скалам зацокали пули и, взвизгивая, рикошетом взмывали в небо.
Углубления между камней надежно укрывали от пуль. Аксенов краем глаза видел расплывчатую опушку леса и бледные вспышки выстрелов.
Из-за дальних гор брызнули первые лучи солнца, снег заискрился алмазной россыпью. Все вокруг порозовело, наливаясь сочным румянцем. Синева отходила все дальше и дальше на запад.
Из-за леса рявкнули пушки. Черные султаны дыма и пыли взметнулись перед скалой. Вторая серия снарядов прошла далеко за скалу. В лесу чуть слышно заурчали танковые моторы.
«И ни одной лопаты», — подумал Аксенов. Спасение было теперь только в каменных валунах и в углублениях между ними.
Гул моторов приближался. По звукам Аксенов определил, что в лесу скопилось не менее двух десятков танков. С пехотой его группа еще как-то могла бороться, но вот танки…
— Ущелье, ущелье загородить, — сам себе сказал Аксенов и громко, покрывая свист пуль, крикнул: — По две гранаты быстро ко мне!
Первым подполз маленький, с детски-наивными светловатыми глазами веснушчатый радист Торбин.
— Танки вроде, — кивнул он круглой, с большими розовыми ушами головой в сторону леса и выжидающе посмотрел на майора.
— Проход завалим — и танки не сунутся.
Торбин пожевал тонкими губами, хотел что-то сказать, но взрыв рядом пригнул его к земле.
— Ишь, садит, — отряхиваясь, виновато улыбнулся он и зло крикнул: — Что вы копаетесь там, гранаты давайте!
Буканов и второй радист — грузноватый увалень Божко — подползли к майору. Божко все время озирался по сторонам, вздрагивая при каждом взрыве. Буканов весело посматривал на майора и нараспев говорил:
— Уж сотни снарядов выпалили, а нам хоть бы что. Сидим себе и посматриваем из-за камушков. Это вроде как Суворов пел: «Я на камушке сижу, на Очаков я гляжу, ой, люли, ой, люли, разлюли, мои люли».
Божко укоризненно взглянул на него, дивясь неразумной веселости шофера.
В уцелевшей сумке радистов оказалось два мотка проволоки. Одним накрепко связали восемь гранат. Аксенов на всякий случай разогнул ушки и чуть повыдернул чеки. К кольцу одной из гранат прицепили второй провод, на краю ущелья выбрали замшелый валун, подсунули под него связку гранат и со всех сторон навалили груды камней. Быстро завершив работу, все четверо отползли и притаились в яме за острогранным камнем.
Аксенов рванул провод. Земля вздрогнула. В серой пыли померкло солнце. Аксенов рывком бросился к ущелью. Груда щебня и обломков возвышалась на дне ущелья. Хоть и немалый устроили барьер, но для танков он серьезной преграды не представлял.
— Сбрасывай камни вниз! — скомандовал Аксенов и вместе с Букановым грудью навалился на валун.
Один за другим с шумом валились в ущелье камни. Вокруг полыхали взрывы. Дым и серая пыль пропитали воздух. В горле першило, на зубах хрустело.
— Двинулись! — закричал Торбин.
От леса, набирая скорость, ползли восемь танков. По башням и корпусу лобовой части Аксенов сразу узнал «тигров». До танков оставалось не более трехсот метров. Три-четыре минуты — и они ворвутся в ущелье.
— Гранаты, складывай гранаты! — крикнул Аксенов.
Кое-как торопливо сделали еще две связки по шесть гранат.
Стонущий рев моторов задавил все звуки. Сверкая лапами гусениц, надвигались танки. Их длинноствольные пушки изрыгали пламя и дым. Один «тигр» вырвался вперед и устремился в ущелье.
Аксенов выполз на край обрыва. Между каменных стен белели кресты на башне. Мелькала сетчатая решетка. Майор вздрагивающей рукой рванул чеку гранаты, швырнул связку вниз и отпрянул за камень. Взрыва слышно не было. Он приподнялся, хотел бросить вторую связку, но из ущелья рванулось пламя и упругая волна воздуха отбросила его назад. Не чувствуя боли, Аксенов сгоряча вскочил на ноги. Внизу дымным факелом полыхал «тигр». Второй медленно пятился назад. Аксенов метнул в него вторую связку, взрывной волной его снова ударило о камни.
Радисты и Буканов подхватили его на руки и оттащили в яму. Хватая воздух пересохшими губами, он покрасневшими глазами осматривался вокруг. Небо в его глазах тускнело мертвенной синевой.
— Глотните, — услышал он голос Буканова. Липкое вино, булькая, полилось в рот. Приятная теплота поползла по телу. Он отстранил флягу, передохнул и хрипло, чужим голосом спросил:
— Как второй?
— Полыхает, аж треск стоит! — бурно радуясь, выкрикнул Буканов.
— Ну, хлопцы, больше здесь нам делать нечего. Драться нечем. Будем пробираться к своим.
Аксенов, с трудом приподнявшись, оглянулся. По затопленной солнцем снежной равнине ползли танки. Позади них перебегали пехотинцы. Из-за леса, не умолкая, доносились орудийные залпы. Над ущельем поднимались два столба буро-сизого дыма и таяли в безоблачном небе.
По истерзанной земле, перепрыгивая из воронки в воронку, повел Аксенов свою группу по горной тропе. Ноги, срываясь, скользили по обледенелым камням. Впереди начинался густой лес, где было тихо и спокойно. Аксенов качал успокаиваться. Приободрились и солдаты.
— А вот, знаете, — заговорил Буканов, — солдат мне один порассказал. Придумал один мудрый мужичишка штуку такую. Ружье называется, для самозащиты. Приклад, как обычно, а ствол кривой. Зарядил патрончик, бах и пуля вокруг тебя пошла гулять. Метрах так в десяти кружит себе и кружит. Потом вторая пуля так же, третья, четвертая. Стоит человек, а вокруг него, как часовые, пули крутятся. Попробуй-ка, сунься к нему.
Аксенов взглянул на Буканова и не удержался от смеха. Шофер большими узловатыми руками размахивал вокруг себя, изображая невидимые пули. Он подмигивал, кривлялся, кивал головой, издеваясь над воображаемыми врагами.
Рассказ Буканова окончательно рассеял мрачное настроение. Радисты весело посматривали на шофера. Аксенов улыбался, чувствуя, как теплеет в груди и все проясняется в сознании.
— Хрустит что-то, — шепнул Божко, настороженно глядя в чащу.
Все остановились. Невдалеке явственно слышался негромкий хруст снега.
— Ложись! — скомандовал Аксенов.
Отскочив от дороги, затаились в кустах. Между деревьев, увязая по колено в снегу, пробралась невысокая, тоненькая девушка с подоткнутыми под ремень полами серой шинели. Светловатые волосы густыми прядями спадали на плечи.
— Настя! — вскрикнул Аксенов.
Девушка испуганно попятилась назад, сорвала с плеча карабин и тут же опустила его вниз.
Аксенов, вглядевшись в лицо девушки, невольно замедлил шаги. Это была не Настя.
Девушка недоверчиво смотрела на незнакомого майора. Широко раскрытые васильковые глаза ее горели испугом и радостью. Распаленное жаром лицо кривилось в горестной улыбке.
— Кто вы? — овладев собой, подбежал к ней Аксенов.
— Санитарка, товарищ майор, Иволгина Варя. Лейтенанта вытаскивала. Отбились от своих… Умер он… Кровью истек.
Крупные слезы навернулись на ее глаза. Она торопливо, скороговоркой рассказала о ночном бое, о лейтенанте, которого ранили в голову и в грудь, о фашистских танках, раздавивших пушку.
Подошли Буканов и радисты. Девушка заметно повеселела. Только большие васильковые глаза попрежнему смотрели печально.
— Ничего, теперь выберемся к своим, — успокаивал ее Аксенов.
— Если бы лейтенанту операцию сразу, он бы жил… Молодой совсем, с двадцать третьего года… Из Тамбова он… Письмо написать девушке хотел… Не успел…
Снова пошли по лесной дороге. Аксенов дозорным послал вперед Торбина. В любую минуту можно было столкнуться с немцами. Все шли молча, оглядываясь по сторонам.
Неожиданно Торбин выстрелил и метнулся за дерево. В ответ хлестнули автоматные очереди. Аксенов рывком подскочил к Торбину. Буканов устремился за ним. Торбин стал стрелять куда-то в чащу леса.
— Немцы, человек пять, — не оборачиваясь, прокричал он, — одного я подбил, остальные побежали.
Среди деревьев Аксенов увидел немца. Он, отчаянно работая руками и ногами, переползал от дерева к дереву.
— Ложись, — приказал Аксенов Буканову и Торбину. — Божко, вперед! Осмотреть кусты и деревья.
Грузный украинец, пригибаясь, побежал. Буканов, не ожидая команды, обогнал его и устремился в лесную чащу.
Аксенов и Варя подошли к немцу. Он ошалело таращил глаза, держа над головой дрожащие руки. На молодом худощавом лице его застыли мольба и отчаяние. Извилистая кровавая дорожка тянулась там, где он полз. Из снега торчало дуло автомата.
— Я перевяжу! — вскрикнула Варя.
— К черту! — озлобленно сверкая глазами, замахнулся прикладом Торбин.
— Не смейте, — пронзительно закричала Варя, — раненых не бьют!
Она опустилась на колени, раскрыла санитарную сумку и ловко распорола штанину на правой ноге немца. Пуля раздробила ему кость ниже колена. Сапог был полон крови.
Пока Варя накладывала жгут и повязку, Аксенов коротко допросил пленного. Он оказался солдатом из разведывательного отряда танковой дивизии «SS» «Викинг». Им, шестерым, приказали двигаться лесом, установить, где находятся русские, и вернуться назад. Он охотно рассказал все, о чем его спрашивал майор. Их дивизия поездом переброшена из Варшавы. 31 декабря выгружались в Комарно. Сколько всего танков — он не знает, но очень много. Прошлой ночью читали приказ фюрера. Умереть, но прорваться в Будапешт.
Вернулись Буканов и Божко.
— Ну и людишки! — укоризненно качая головой, говорил Буканов. — Пять человек одного бросили, а сами удрали. Видели мы их. Лес там кончается, а дальше поле.
На полкилометра отбежали.
Аксенов глядел на пленного и раздумывал, как же с ним быть. Новых данных о противнике от него не получить. Увести его также нельзя: с перебитой ногой он ходить не мог. И в лесу оставлять нельзя. Могли вернуться немцы, и он, рассказав о группе Аксенова, навел бы их на след. Остается одно…
— Ну что с пленным делать? — спросил он солдата.
— Известно что… — не задумываясь, начал Торбин.
Пленный доверчиво улыбался, продолжая словоохотливо рассказывать, что сам он из Мюнхена, всю жизнь работал, по специальности монтер, а вот пришлось воевать…
— Товарищ майор, — вскочила Варя, — неужели?.. Как же так? Неужели вы его расстреляете?
— А что с ним делать? — мрачно проговорил Божко.
— Раненый он, — дергала за рукав Аксенова девушка. — Он теперь уже не солдат, а больной.
Пленный замолчал, испуганно глядя на солдат. На его чисто выбритых щеках дрожали мускулы. Руки безвольно упали в снег.
— Нет, товарищ майор, нет… — дрожащим тоненьким голосом возбужденно говорила Варя. — Мы не фашисты. Донесем его. Я сама понесу. Человек же он, раненый, живой.
— Раненый… — не удержался Торбин, — они-то…
Он вскинул карабин и щелкнул затвором.
— Оставить! — крикнул Аксенов и резко рванул карабин Торбина. — Рубите деревья, готовьте носилки.
— Ну, черт рыжий, моли бога за эту вот сестричку и за гвардии майора, — тряс кулаком Торбин, — я б тебя угостил на веки вечные.
На носилках из двух жердин и плащ-палатки Буканов и Божко потащили пленного. Его автомат повесил себе на шею Торбин.
— Давай подменю, — пройдя шагов двести, предложил он Буканову.
Варя шагала рядом с носилками, по колено утопая в снегу, и добрыми глазами смотрела то на раненого, то на майора, то на гнущихся под тяжестью немца солдат. В ее взгляде было столько теплоты и нежности, что Аксенову невольно показалось, будто где-то ему уже пришлось видеть этот взгляд.
— Товарищ гвардии майор, вина бы ему немножко дать, — услышал он голос Вари. Да, и голос был давно знакомый, волнующий. Такой же голос и те же слова слышал он в медсанбате под Сталинградом, когда его, контуженного, вытащили с поля боя. Но тогда говорила высокая смуглая Маруся. А Варя совсем маленькая и белокурая. И он сразу вспомнил, что и такой взгляд, и голос, и движения видел и слышал он не однажды. Так смотрела и говорила Настя, когда выхаживала его, обескровленного, в лесах Белоруссии, так говорила медицинская сестра Маруся под Сталинградом, такими же взглядами смотрели на раненых врачи и сестры в тыловом госпитале под Воронежем. В нем было человеческое отношение к несчастью другого и желание хоть чем-то облегчить страдания.
Великая сила человечности неистребима даже в условиях войны. Для советского человека враг только тот, кто мешает ему жить, кто покушается на его свободу и независимость.
Раздумье Аксенова прервал гул моторов. Из-за гор на бреющем полете вырвались штук тридцать «Илов». Они дружно, будто привязанные друг к другу, нырнули вниз и скрылись. Над горами эхом прокатились гулкие взрывы. В ущелье из-за горы мгновенно встали высокие столбы дыма и пыли. Через несколько секунд черными тенями один за другим снова вынырнули «Илы». Ревя моторами, они развернулись и вновь устремились туда, где взметнулись фонтаны дыма и пыли. Аксенов следил за работой штурмовиков и шагал все быстрее и быстрее. Появление своих самолетов было сейчас важным событием. Оно говорило, что враг не победил, что идет ожесточенная борьба и в этой борьбе решается судьба не только тех, кто был на фронте под Будапештом, но и самого Аксенова и его маленькой группы…
Громкий окрик: «Стой! Руки вверх!» — невольно оттолкнул Аксенова назад. Он попятился, хотел было подхватить автомат, но тут же понял безрассудность этого и с трудом поднял руки.
— Майор, ко мне, остальным стоять, — властно командовал кто-то невидимый.
Аксенов огляделся по сторонам. Везде были острые, большие камни.
— Десять шагов левее вас тропа, подымайтесь по ней, — разъяснили сверху.
Аксенов с поднятыми руками шагнул на первый приступок скалы. Навстречу ему вышел с автоматом наготове молодой темнолицый сержант. Он проверил документы Аксенова и виновато заговорил:
— Простите, товарищ гвардии майор, немцы переодетых диверсантов пускают. Троих мы изловили. В дозоре сидим, людей-то маловато, все на перевале.
— Как дела на перевале?
— Прут, как ошалелые. Штук сорок танков сгорело, а они все лезут. Комбата убили нашего, теперь всеми майор-артиллерист командует.
Сержант провел Аксенова на командный пункт майора Чевилкина. Щеголеватый артиллерист смотрел в стереотрубу. Барашковая кубанка лежала рядом, на бруствере. Черные волосы майора слиплись, темными пятнами пропотела и гимнастерка.
— С того света, — увидев Аксенова, обрадовался Чевилкин, — мне о вас раз десять из штаба армии звонили. Рад вас видеть…
Он стиснул и долго тряс руку Аксенова.
— Ну, как вы тут? — охваченный волнением и радостью встречи, расспрашивал Аксенов.
— Бьемся. Сорок четыре танка спалили. Пехотинцев — не меньше трехсот… Туговато. Шесть пушек разбито. И в стрелковом батальоне потери большие. На весь батальон остался один офицер, — Чевилкин задорно сверкнул черными глазами. — Мы у них как заноза в пятке. Все закупорили. Я и с шестью пушками не отдам перевала.
— Фланги у вас открытые. Пехота может по горам обойти и в тыл забраться.
— Да, с флангами беда. Я кругом дозоры расставил. Командир корпуса обещал иптаповский полк[4] перебросить сюда и два стрелковых батальона. Да вот что-то всё не подходят.
— От вас можно поговорить со штабом армии?
— Да. У меня прямая связь с корпусом, а с ним рядом и штаб армии.
— Боеприпасы есть?
— Хватит. Сейчас только две машины подвезли.
До штаба армии Аксенов дозвонился неожиданно быстро.
— Слушаю, — раздался знакомый голос генерала Воронкова.
— Кто, кто? — переспросил он. — Аксенов? Жив! Вот это здорово! Командующий про тебя все время спрашивает.
Аксенов коротко рассказал все, что видел, и генерал Воронков приказал ему выезжать в штаб армии.
— Езжайте на моей машине, — предложил Чевилкин. — Мне раскатывать некогда…
С запада над равниной едва видимыми точками показались самолеты противника.
— Снова идут, — хмуро проговорил Чевилкин, — уезжайте скорее, сейчас ад начнется. — Он торопливо пожал руку Аксенова и, как старший на младшего, прикрикнул: — Что вы стоите? Уезжайте немедленно! Вы свою задачу выполнили и мне не мешайте выполнять. Никитин, заводи! — крикнул он шоферу и, считая разговор оконченным, приник к стереотрубе.
— Товарищ гвардии майор, раненых много, разрешите мне остаться здесь, — подбежав к Аксенову, попросила Варя.
— Хорошо, оставайтесь, — подумав, ответил он и хотел было итти, но вернулся, обнял девушку и поцеловал ее в горящие щеки. — В машину! — крикнул своим солдатам Аксенов.
— А немца куда же? — спросил Буканов.
— На носилках кладите поперек машины. Довезем.
Машина рванулась. Позади нарастал гул. В синеве неба над горой показалось несколько эскадрилий «Лагов»[5] и, свистя в воздухе, промелькнули на запад. Проводив истребителей взглядом, Аксенов облегченно вздохнул. Теперь вражеская авиация для защитников перевала не страшна.
Машина, скрипя тормозами, спустилась в долину. У шоссе в зарослях кустарника развертывался какой-то артиллерийский полк. По обочинам дороги и в кустарнике саперы поспешно устанавливали противотанковые мины. Аксенов остановил машину и побежал к группе офицеров.
— Вы из штаба армии? — видимо узнав Аксенова, спросил плечистый полковник.
— Так точно! Майор Аксенов.
— Видел как-то вас. Здравствуйте. Доложите командующему: до перевала дойти не мог, вынужден развернуться здесь. Противник прорвался севернее перевала. Вон его танки уже в Тордаш вошли, — показал полковник в сторону видневшейся вдали деревни. — Перекрою дорогу и дальше не пущу. Со мной армейский саперный батальон. Установлено три тысячи мин. Сейчас еще семь тысяч подвезут.
«Обошли все-таки, — вглядываясь в селение, думал Аксенов. — Эх, пехота опоздала! Туго теперь придется на перевале, очень туго».
XII
Полковник Чижов присел на чей-то вещевой мешок и опустил голову. Все тело горело, как в тифозном приступе. Рядом кто-то ходил, перешептывался, но полковник ничего не видел и не слышал. Случилось то, от чего самые мужественные командиры седеют за один час. Дивизия раздроблена на куски, противник прорвался через ее оборону, он, командир дивизии, не знает, где его полки и батальоны.
За двадцать пять лет службы в Красной Армии Василий Иванович Чижов не раз бывал в тяжелых переделках. И на финской и особенно в первый год Великой Отечественной войны приходилось ему с глазу на глаз встречаться со смертью, с закаменелым сердцем переносить гибель друзей и товарищей.
Но не позор и не опасность гибели раздавили полковника. В дрожь приводила мысль, что его дивизия не сумела остановить врага. Враг поставил под угрозу всю гвардейскую армию, а быть может, и весь южный фланг советско-германского фронта. И это случилось в самом конце войны, когда и у него, полковника Чижова, и у каждого воина его дивизии, и у всей Советской Армии позади остались десятки и сотни блестящих по умению и мастерству боев и операций.
Все ждут конца войны, все надеются, что вот еще один или несколько ударов — и враг будет окончательно разгромлен. Все ждут и надеются, а он… Он не оправдал надежд, и, может, по его вине война затянется еще на несколько месяцев, может, по его вине погибнут сотни и тысячи советских людей.
«Как это могло случиться? В чем же ошибка? Почему дивизия не выполнила задачу?» — десятки раз спрашивал он самого себя.
Память услужливо подсовывала ответы: широкий фронт, недостаточно сил, зима и каменистый грунт, мало времени на подготовку обороны, нападение в ночной темноте.
Все это было верно, все это было так, но не это главным считал полковник, главное было в чем-то другом. Да, да! В чем-то другом. Но в чем?
Долго сидел он неподвижно, старчески сгорбив спину и ничего не видя вокруг. Кто-то несколько раз подходил к нему, пытался, видимо, заговорить, но не решался и отходил. Хлопья снега падали на голову, таяли на лице, ежистым холодком скатывались за шею.
Вспомнились бои под Сталинградом, балка Солдатская, прозванная Балкой смерти… Четыре месяца тяжелых, изнурительных боев…
Василий Иванович поднялся, застегнул шинель, надел папаху и нащупал пистолет в кармане. Рядом сидели и стояли люди.
— Полковника Камышина ко мне! — крикнул Чижов.
— Слушаю вас, — вырос из темноты высокий начальник штаба.
— Сколько с нами людей?
— Восемь офицеров штаба, одиннадцать сержантов и сорок семь солдат.
— Соберите офицеров.
Через полминуты перед командиром дивизии встали восемь молчаливых фигур.
— Задачу свою мы не выполнили, — глухо заговорил Чижов, — фашисты прорвались к горам. Оборона дивизии расколота на куски. Но это еще не значит, что дивизия разбита. Слушай! — показал он рукой в сторону запада.
Перекатами, ни на секунду не умолкая, гремел бой.
— Наши люди, дивизия наша бьется, полки и батальоны, — отрывисто говорил Чижов окрепшим голосом, — жива дивизия, жива и не уничтожена. Мы будем бить фашистов по тылам. Скуем их на дорогах и перевалах. Соберем в кулак всю дивизию и вражьей кровью искупим свою вину перед Родиной, перед партией. Сейчас наша задача — восстановить управление войсками, собрать разрозненные группы, объединить их и продолжать бить врага. Всех одиночек и мелкие группы собирать здесь, на этих сопках. С равнины полки и батальоны вывести в горы. Вы, Камышин, останьтесь здесь, организуйте круговую оборону и держитесь. Вы, Александров, пробирайтесь к Маркелову. Слышите, на левом фланге — это его батальоны ведут бой. Михальчук и Петросян, идите на правый фланг. Там стояли танковая бригада и один наш полк. Связаться с ними и выводить сюда, в район этой сопки. Я иду в центр. Начальнику связи любыми путями достать рацию, установить связь с корпусом или армией. Остальных офицеров, Камышин, используйте здесь для организации командного пункта и управления войсками. Просмотрите ближайшие леса. Там должны быть отдельные группы наших. Всех собирайте здесь. Мне, Александрову, Михальчуку и Петросяну — по три автоматчика.
Василий Иванович Чижов попрощался с офицерами.
— Не стоило б ходить вам самому, — настойчиво проговорил Камышин, наклоняясь к полковнику.
На худом, с острыми скулами лице Чижова чуть дрогнули запекшиеся губы, ноздри прямого широкого носа яростно вздулись, темные глаза укоризненно жгли начальника штаба.
— Место командира с войсками! Растерял войска — собирай!
Он круто повернулся, махнул рукой ординарцу и двум солдатам, подхватил автомат и зашагал в белесую неизвестность. Ординарец и автоматчики, не сговариваясь, полукругом окаймили полковника.
Чижов изредка останавливался, оглядывался по сторонам, вслушиваясь в звуки неутихавшего боя, и снова шел. На пригорке он поскользнулся, тихонько охнул. Живот резануло острой болью. Опять разыгрался приступ застарелой язвы желудка. Стиснув зубы, он усилием воли пытался подавить боль.
Впереди какое-то подразделение вело бой, видимо находясь в полном окружении.
— Ложись, — скомандовал автоматчикам полковник и смаху рухнул в снег.
Метрах в тридцати смутно чернели фигуры людей, озаряемые вспышками выстрелов. За ними, совсем недалеко, рвали темноту ответные выстрелы. По количеству отблесков Чижов определил, что против немцев дерется не меньше стрелковой роты. Он знал, что в этом самом месте проходили первая и вторая траншеи обороны. Видимо, какой-то смелый командир стойко удерживал траншеи и не покинул своих позиций. Василий Иванович пытался припомнить, какая рота оборонялась в этом районе, но не мог, и решил пробиться к этой роте.
— Огонь! Только ниже, бить прямо по черным фигурам, — вполголоса приказал он автоматчикам.
Под перекрестным огнем темные фигуры вскакивали и тут же валились в снег. С противоположной стороны стрельба прекратилась.
— Наши! Товарищ гвардии капитан, наши! — взахлеб кричал кто-то звонко и оглушительно.
— За мной! — вскочив, рванулся Чижов и, не чувствуя ни боли в животе, ни тяжести собственного тела, стремительно побежал по зыбкому снегу.
— Ура! Наши! Соединились! — ураганом неслось навстречу, и неудержимая радость охватила полковника.
Он наскочил на какого-то низкорослого солдата, обхватил его плечи и, целуя, прижался к мокрой колючей щеке.
— Голубчики! Удержались! Молодцы! — задыхаясь, говорил он, не отпуская солдата.
— Товарищ гвардии полковник, вы, — подбежал к нему кто-то высокий, расставил руки, хотел было обнять комдива, но тут же опустил руки и четким, негромким голосом доложил: — Товарищ гвардии полковник, вторая стрелковая рота удерживает свою позицию. Командир роты гвардии капитан Бахарев.
— Здравствуйте, Бахарев, — сжал полковник руку капитана, — сколько противника?
— Мимо роты и через роту в тыл прошло семьдесят девять танков и тридцать восемь бронетранспортеров. Роту окружили до двух батальонов пехоты. У меня осталось два офицера, пять сержантов и шестьдесят девять солдат. Два сержанта и семнадцать солдат присоединились из третьего батальона.
— Что вы решили делать?
— Пробиваться в горы к своим.
— Хорошо. Командуйте.
Капитан отдавал короткие распоряжения. Для прикрытия отхода он оставил всего-навсего одного сержанта и трех автоматчиков, приказав им, как только рота бросится в атаку, немедленно присоединиться к ней.
— Почему вы решили прорвать окружение именно в этом месте и кричать «ура»? — спросил полковник.
Бахарев обернулся и почти на ухо прошептал:
— Тут главные силы противника. Я подавлю их огнем, рванусь, и фланги мне не страшны. Там у них жидковато. А на «ура» наши со всех сторон потянутся. Тут немало по окопам отбившихся групп и одиночек. Да и немцу страшнее. Главное — напугать!
Бахарев щелкнул ракетницей, и через мгновение ослепляющий свет залил взгорок. Взметнулась вторая ракета, и рота, как один человек, в едином порыве рванулась, заглушая шум стрельбы неудержимым «ура».
Полковник бежал рядом с Бахаревым, стреляя на ходу из автомата. Он перескакивал через воронки, заменил опустошенный диск и что есть силы кричал «ура». Сгустившийся мрак со всех сторон рассекали трассирующие пули. Топот десятков ног, автоматные очереди, крики — все слилось в гул торжествующей силы и отваги.
— Ложись, — передал по цепи Бахарев.
— Спасибо! Не думала в живых остаться, — услышал Чижов тоненький голосок. — В развалинах лежала. Немцы кругом, танки чуть не раздавили, и никого наших.
— Я боялся за вас. И не думал увидеть, — отвечал Бахарев.
— Связные, передать командирам: доложить о наличии людей, — властно приказал Бахарев и вновь заговорил тихим голосом: — Вы, Настя, есть хотите? Вот хлеб и мясо.
«Снайпер Настя Прохорова», — догадался полковник и подумал: «Стоит ей говорить об Аксенове или не стоит? Пожалуй, не стоит».
За время атаки рота не потеряла ни одного человека. С разных сторон, как бабочки на огонь, к ней тянулись группы и одиночки, отбившиеся от своих подразделений. Через час, пробираясь в горы, рота уже насчитывала более трехсот человек.
«Собрать, во что бы то ни стало к утру собрать всех, — думал Чижов, — собрать и ударить по немецким тылам».
Бахарев держался в отдалении от Чижова. Он часто останавливался, настороженно осматривался по сторонам и о чем-то напряженно думал. Несколько раз пытался заговорить с Чижовым, но какая-то тревожная мысль останавливала его.
— Вы что, волнуетесь, товарищ капитан? — подозвал его Чижов.
— Люди, товарищ гвардии полковник, — с трудом проговорил Бахарев, — люди у меня не все. Больше тридцати человек не хватает.
Он опустил голову, боясь встретиться с глазами полковника, постоял немного молча, подумал и робко попросил:
— Разрешите, я туда, где мой левый фланг был, проберусь. Слышите, какая стрельба там? Это мои, из третьего взвода.
Чижов задумался. Подступал рассвет. Скоро будет совсем светло, а тогда не успевшие скрыться в горах люди будут уничтожены.
Полковнику не хотелось отпускать Бахарева, но он понимал состояние капитана. Такие люди, как Бахарев, никогда не забывают, что по их вине погиб кто-то из их подчиненных. Он будет переживать и всегда чувствовать себя неполноценным командиром.
— Хорошо. Идите, — стараясь говорить твердо, разрешил Чижов, — собирайте всех — и немедленно в горы. Пробивайтесь к горе Агостиан. Там собирается вся дивизия.
— Слушаюсь, — вытянулся Бахарев, преданно глядя на Чижова.
Полковник крепко, по-дружески, стиснул его руку и тихо проговорил:
— Только осторожнее. Не рискуйте понапрасну. Главное — спасти людей.
— Слушаюсь, — ответил Бахарев, подозвал сержанта Косенко, и они вдвоем скрылись в зыбком тумане.
Там, куда ушел Бахарев, все сильнее и ожесточеннее вскипал бой.
XIII
Машина, вихляя из стороны в сторону, с трудом пробиралась через сугробы. Легкий морозец пощипывал лицо. Придорожные деревья замерли в искристом снеговом уборе.
Генерал Шелестов изредка посматривал на карту. Дороги, фронтовые дороги беспокоили сейчас члена Военного совета. Лучшую шоссейную магистраль от района главного удара противника к Дунаю использовать было нельзя. Она упиралась в окруженную в Будапеште группировку противника, и приходилось ездить в объезд по плохим, заснеженным дорогам. Дорожных частей в армии слишком мало, а каждый сапер был дорог для фронта. Поднасыплет еще снегу, и дороги будут закупорены, расчищать некому.
Юркая машина въехала в большое венгерское село. На улице было многолюдно. Женщины, старики, подростки расчищали дорогу. Они почтительно расступались, пропуская машину.
«Кто же это организовал?» — подумал генерал, вглядываясь в раскрасневшиеся лица людей. Он знал, что в этом селе никаких воинских частей не стояло и не было даже советской комендатуры.
На площади грудилась пестрая толпа. Заслышав сигналы автомобиля, толпа раздвинулась, и в коридоре, припадая на правую ногу, показался высокий мужчина в коротеньком пиджаке и сбитой на затылок потрепанной шляпе.
Шелестов вышел из машины. Автоматчики выпрыгнули за ним, настороженно посматривая на толпу.
При виде советского генерала мужчина заторопился, поскользнулся, чуть не упал, но чьи-то заботливые руки из толпы поддержали его.
— Здравствовать желаем, — с трудом проговорил он и смущенно покосился на свою ногу.
— Здравствуйте, — ответил Шелестов и протянул мадьяру руку.
Мадьяр едва заметно отшатнулся, багрово покраснел и несмело подал руку. Шелестов почувствовал дрожь его пальцев и жаркую испарину ладони.
— По-русски понимаете? — спросил член Военного совета, вглядываясь в болезненно-желтое лицо мадьяра.
— Мало, мало, совсем мало. Трохи, — молодо сверкнул он темножелтыми глазами с большими зрачками, с особым удовольствием произнося последнее слово.
— Воронеж, — неожиданно громко сказал он, показывая на свою ногу, — протез… трах, бах, капут. — Он было засмеялся дробным, наигранным смехом, но тут же смолк, досадливо кусая посиневшие губы. — Мы решиль дорога освобождайт. Красная Армия трудно ехать, — подбирая слова, старался объяснить он.
— Хорошо, — с удовольствием сказал Шелестов.
— Карашо? — вновь вспыхивая, переспросил мадьяр.
— Да. Советская Армия благодарна вам.
— Ой, — замахал руками мадьяр, — какой благодари. Мы сам… Мадьяр тоже воеваль… Против вас воеваль… Воронеж, Воронеж. Один кирпич, камни. Мадьяр стрелял, немец стрелял, румын стрелял…
Толпа настороженно молчала. Мужчины незаметно пробирались назад. Впереди остались только женщины и подростки.
— Советская Армия с мирными жителями не воюет, — по этим движениям поняв настроение толпы, спокойно сказал Шелестов. — Наоборот, мы всемерно помогаем мирным жителям.
Мадьяр понимающе кивнул головой и не сводил глаз с лица генерала. Он, видимо, о чем-то хотел спросить его, но не решался. Наконец он осмелился и, когда смолк Шелестов, заикаясь, спросил:
— А ваш будет… Красная Армия будет взрослый мадьяр в Сибирь отправляйт? Зольдат, воеваль который, расстреливайт?
— Нет, — не изменяя тона, ответил Шелестов. — Советская Армия не мстит. Военных преступников мы судить будем. А простые солдаты домой пойдут. А наша Сибирь очень хорошая страна. Напрасно вас пугают ею.
— Так, так, — поддакивал мадьяр, ловя каждое слово генерала.
— А кто у вас возглавляет работы по очистке дорог? — спросил Шелестов.
— Возглавляет? — переспросил мадьяр, и перед ним сразу всплыли последние дни, когда родное село заняли советские войска. Он видел испуганные лица односельчан и слышал назойливый шопот о зверствах русских. И сам он боялся встречи с теми, с кем воевал и чьи города и села превратили в развалины такие же мадьяры и немцы, как и он сам.
Как крот, сидел он, мадьяр Ференц, в подвале, когда пронеслись по селу советские танки и пехота. Фронт переместился к Дунаю. Ференц вылез наружу и увидел, что как стояло село раньше, так и продолжало стоять. Кое-кто говорил, что скоро нагрянут русские чекисты и начнется расправа. Но проходил день за днем, а никакие чекисты не появлялись. Через село проезжали машины. Иногда русские заходили в дома погреться, но никого не трогали, пытались объясняться на ломаном немецком языке. И тогда Ференцу стало стыдно. Стыдно и за самого себя и за все, что делали мадьяры в России. Надо было хоть чем-то отблагодарить русских, и он решил начать расчистку дороги от снега. Он ходил из дома в дом, упрашивал, доказывал, но большинство жителей еще считало русских врагами и не хотело ничем помогать им. Тогда он начал угрожать. Это и решило все дело. Один за другим к нему присоединялись старики и женщины, а затем потянулись и мужчины.
Он хотел обо всем этом рассказать русскому генералу, но, заметив умоляющие взгляды женщин и услышав настороженное покашливание мужчин, не решился предавать своих односельчан.
— Никто не возглавляйт. Я ходиль по дома, по хата и просиль. Они все пошель, — обвел он руками отдыхавшую толпу, — говорят, согласен, Ференц, согласен. Лопата рука и давай, давай.
— Так вот что, товарищ Ференц, — положил ему руку на плечо Шелестов.
Ференц дернулся, густо покраснел и зашептал:
— Товарищ Ференц, товарищ Ференц…
Мужчины, осторожно расталкивая женщин, незаметно пробирались вперед. Слово «товарищ» шелестом прошлось над толпой. Многие улыбались, кто-то откашливался.
— Так вот, товарищ Ференц, — продолжал генерал, — не сможете ли вы контролировать дорогу от своего села до Мартон-Вашар?
— Мартон-Вашар? Пожалуйста, мы можем, все можем. Дежурить будем. Часовой, как это… Вахта, вахта, — радуясь, что нашел подходящее слово, улыбался Ференц.
— Вот, вот. Постоянная вахта. Как только снегу насыплет, немедленно расчищать. Выбоины засыпать щебнем, подровнять кое-где.
— Так, так, — старательно вслушивался Ференц в слова генерала.
— Если вам что-нибудь нужно будет, обращайтесь к любому советскому офицеру. Скажите, генерал Шелестов приказал. Моя фамилия Шелестов.
— Так, так. Шелестоф, генераль Шелестоф. Будет, все будет, господин генераль Шелестоф. Будьте… как это… спокойненьки.
Член Военного совета попрощался с мадьяром, приложил руку к папахе и сел в машину.
— Быстро на переправу.
Вслед отъехавшей машине замахали десятки рук. Генерал обернулся. Впереди всех высоко взмахивал старенькой шляпчонкой Ференц.
Машина вырвалась на асфальт. Широкая — для проезда по четыре машины в ряд — магистраль стрелой уходила к Будапешту. И эту основную линию армейской коммуникации с трудом могли обслуживать дорожные части. На перекрестках лихо взмахивали флажками щеголеватые регулировщицы. Кое-где у комендантских шлагбаумов нетерпеливо поглядывали на дорогу солдаты и сержанты. Глядя на регулировщиц и редких путников, генерал вспомнил фронтовые дороги осени сорок первого года. Профессор-экономист в должности инструктора политотдела дивизии, шагал он тогда с батальоном московского ополчения. Так же вот отблескивал накатанный асфальт подмосковных магистралей. Но безлюдны были фронтовые дороги. Над ними свирепствовали чернокрестные фашистские бомбардировщики. Войска жались к лесам и кустарникам. Навстречу тянулись вереницы беженцев. Генерал невольно вздохнул, подумав, что было бы с ним, если бы он где-нибудь под Смоленском или Вязьмой в яркий солнечный день рискнул тогда вот так же открыто мчаться в машине. Да, изменилось, все изменилось за эти три с половиной года. И как ни странно, Шелестову сейчас почему-то не верилось, что армия ведет тяжелые оборонительные бои. От самого Сталинграда и до Будапешта, почти не останавливаясь, шли все время вперед и вперед. И вдруг невдалеке от границ Австрии снова оборона.
Невысоко в небе, распластав мощные крылья, прошли бомбардировщики. Они, казалось, летят слишком спокойно и неторопливо, алея красными звездами. Справа, слева и выше бомбардировщиков, словно играя друг с другом, носились серебристые истребители.
«Скорее, скорее, — мысленно торопил их генерал, — как вы нужны сейчас там!»
И опять его мысли вернулись к фронтовым дорогам и боеприпасам. Последние снаряды были отправлены с передовых армейских складов в правофланговые части армии.
Где-то совсем недалеко был Дунай. Уже чувствовалось его влажное дыхание. И все зависело сейчас от него, от седого и мрачного Дуная. Горы боеприпасов лежали на той стороне. А на этой сам командующий армией учитывал каждый снаряд.
Шоссе круто повернуло, мелькнул железнодорожный виадук, и в легком тумане открылся Дунай.
Глухой шорох тяжко полз над берегами. Казалось, движется какое-то невидимое животное, шевеля тысячами щупальцев.
У крайних домов прибрежного села стояли санитарные автомобили и повозки с ранеными. Навстречу машине Шелестова вприпрыжку бежал высокий, всегда щеголеватый и подтянутый начальник медицинской службы армии полковник Кореневский.
— Товарищ генерал, — на ходу заговорил он, тревожно кося глазами в сторону раненых, — ничего не могу сделать. Непрерывно раненые прибывают, а переправлять не на чем.
Шелестов вышел из машины, поздоровался с Кореневским и, взглянув в его глаза, невольно вздохнул. В глазах всегда спокойного и невозмутимого начальника медицинской службы сквозила нескрываемая боль.
— А где катера? — спросил Шелестов.
— Один всего, а что это для нас, — безнадежно махнул рукой Кореневский и, вдруг злобно сверкнув глазами, добавил: — Я докладывал начальнику тыла, и никаких результатов. А впрочем, — смягчаясь, со вздохом закончил он, — и начальник тыла бессилен. Дунай, Дунай разбушевался.
— Я пока ничего не могу обещать вам, — невольно волнуясь и чувствуя, что он боится смотреть в сторону раненых, заговорил Шелестов, — сейчас выясню обстановку на переправе, и примем все возможные меры. Ни одного раненого на этом берегу не оставим.
Шофер, поняв, что разговор окончен и член Военного совета волнуется, тихо тронул машину.
Из повозок и санитарных автомобилей на Шелестова смотрели десятки внимательных и настороженных глаз. Шелестов откинулся на спинку сиденья и до боли стиснул кулаки. Всю войну он тяжело переживал вид раненых, искалеченных людей. Он сам перенес тяжелое ранение и знал, как мучительно и тревожно чувствуют себя больные, обессилевшие люди, находясь в районе боевых действий и подвергаясь новым опасностям. В такие минуты даже сильные, смелые люди теряют самообладание.
Проехав село, машина свернула на откос, и справа открылось серое раздолье разбушевавшейся реки и старый, видимо торговый причал небольшого порта.
Колонна грузовиков застыла в ожидании работы. Старые причалы стонали от топота ног. Взад и вперед сновали разгоряченные саперы, кто-то смачно ругался, отчитывая кого-то за нерадивость, в стороне понурой толпой покуривали чумазые шоферы.
— Готов! — закричал простуженный голос, и на причалах все завихрилось, зашумело, хлынуло к воде. Шоферы, саперы, офицеры кричали вразнобой, размахивая руками, показывая в сторону реки.
«Кажется, мост восстановили», — подумал Шелестов и торопливо пошел по каменистому откосу вниз. Навстречу ему спешили невысокий, в заляпанном грязью брезентовом плаще начальник тыла армии генерал Викентьев и худощавый, в коротенькой шинели инженер-полковник Баринов.
— Переправа восстановлена, — радостно доложил Викентьев, — пускаем первые машины.
Шелестов облегченно вздохнул. Только сейчас он почувствовал, какая огромная тяжесть давила его.
— Ну что ж, давайте, Александр Васильевич, ни одной минуты задержки.
— Я проскочу на тот берег и начну пускать машину за машиной.
— Поедемте вместе.
— Разрешите и мне с вами? — попросил Баринов.
Автомобиль с двумя генералами и полковником затарахтел по бревенчатому настилу причала и лихо вкатил на мост. Светлосерая лента деревянных пластин тянулась через всю реку. Под ней плавно колыхались на волнах остроносые понтоны.
— На шестьдесят тонн, — возбужденно говорил Викентьев, — любые грузы пропустим. Теперь у нас все пойдет.
— Шуга напирает, спасения нет, — тревожно проговорил Баринов, указывая влево.
То, что называл он шугой, был мокрый снег, грязными комьями плывший по реке. Вся поверхность реки, насколько хватал глаз, была устлана нескончаемой шугой. Только изредка то там, то здесь выплескивались на мгновение свинцово-синие пятна воды и вновь все покрывалось этой бесформенной массой льдистого снега. У понтонов комья снега грудились, сдвигаясь и громоздясь в водянисто-черные увалы. Стоявшие по всей длине моста саперы баграми дробили снеговые наплывы, но сверху непрерывным потоком все наплывали новые бесконечные массы шуги. Саперы в одних гимнастерках, как кочегары в топках паровозов, яростно орудовали баграми.
«Выдержит или не выдержит?» — тревожно думал Шелестов, вглядываясь в поверхность реки.
— Не будь этой проклятой шуги, — заговорил Баринов, — ничего бы нам не страшно. Даже лед. Тот хоть рвать можно. А эта ж плывет и плывет, тысячи тонн скапливаются у моста. Ничем не удержишь.
Машина выехала на противоположный берег. На подступах к переправе длинной вереницей выстроились груженные боеприпасами грузовики. Прямо на берегу, в садах, между домов прибрежного поселка грудились штабели ящиков со снарядами, минами, патронами.
Здесь вдосталь было заготовлено питания для всех видов оружия. А в километре от реки на железнодорожные пути прибывали все новые и новые эшелоны. Река, только река застопорила доставку армейских грузов.
— Александр Васильевич, давайте команду, — торопил Шелестов, — пропустить колонну и обратным порожняком перевезти всех раненых, всех до одного.
Один за другим тронулись грузовики. Постукивая друг о друга, колыхались драгоценные ящики.
«Четыреста тонн, — мысленно подсчитал член Военного совета, оглядывая колонну, — часа через три будут на месте. Как раз успеют».
Он прошел на высокий бугор правее причала. Первый грузовик уже выползал на противоположный берег. За ним осторожно пробирались через мост остальные. Шеренга саперов отбивалась от наседавшей шуги. Гомон и крики метались над рекой. Временно «безработные» зенитчики высыпали на обрывистый берег. Шелестов сердито обернулся к ним и взглянул на небо. В воздухе опять завихрились снежинки.
На мост побежала новая смена саперов. Еще яростнее закипела борьба с коварной рекой. Противоположный берег скрылся в тумане. Один за другим растворились в нем грузовики. На середине моста происходило что-то тревожное. Со всех сторон бежали туда саперы. Бросив телефонную трубку, метнулся на мост и начальник переправы, Шелестов, почувствовав опасность, хотел было броситься к саперам, но в это время что-то треснуло, на середине моста нырнул грузовик и мгновенно скрылся под водой. Там, где только что пролегала спасительная лента моста, на мгновение сверкнула вода и сразу же заполнилась шугой. Мост прорвало. Одно звено его с двумя автомашинами, лениво разворачиваясь, уплывало вниз по Дунаю. На той и другой стороне оборванного моста суетились, кричали люди. На плоту вместе с грузовиками осталось человек пятнадцать саперов. Они совали багры в воду, пытаясь хоть за что-нибудь зацепиться, но все их попытки были бесплодны. В этом месте было очень глубоко.
Кусок моста уплывал все дальше и дальше вниз. Словно радуясь чужому горю, из-за туч показалось солнце. Река засеребрилась.
От берега, пофыркивая, рванулся маленький катерок Дунайской флотилии. Он, упорно расталкивая мокрый снег, пробивался вперед. На носу стоял моряк и что-то кричал, взмахивая бескозыркой. С обрывка моста махали катеру десятки рук.
Катерок пробился на середину реки, резко развернулся, ходко пошел по течению и вскоре подцепил понтоны и медленно потащил их вверх по реке.
Так удачно начавшаяся переправа была прервана. Успело проскочить не более двадцати грузовиков. А двадцать грузовиков для гвардейской армии — капля в море.
— Попросите ко мне Викентьева, — приказал Шелестов адъютанту.
Минуты через две подбежал бледный, с озлобленными глазами начальник тыла армии.
— Слушаю вас, — вздрагивая синими губами, доложил он.
— Сколько у нас всего катеров?
— Три.
— Сколько можно грузить боеприпасов на катер?
— Максимум полтонны, а вернее — килограммов двести.
— А еще что есть из пловучих средств?
— Больше ничего.
Шелестов вздохнул и снял с головы папаху.
Генерал Викентьев хмурил рыжеватые брови и сердито косился на реку.
— Только одно. Пока остается только одно, — заговорил Шелестов: — перебрасывать боеприпасы через реку самолетами. У нас есть своих двенадцать «У-2». Килограммов по триста могут таскать. Если площадки выбрать поближе к берегу, то каждая машина сможет раз по тридцать слетать через Дунай. Тридцать на двенадцать — это… триста шестьдесят, и в среднем по двести килограммов, — быстро подсчитал генерал. — Девяносто тонн. Мало, очень мало. Но ничего не сделаешь. Прикажите немедленно готовить посадочные площадки здесь и на том берегу. Через полчаса чтобы площадки были готовы. Я поехал в эскадрилью Афанасьева.
Минут через сорок над переправой застрекотал двукрылый «У-2». Он развернулся встречь ветру и плавно пошел на расчищенную площадку.
Из кабины выпрыгнул Шелестов.
— Грузить, — крикнул он Викентьеву, — обратными рейсами перевозить раненых!
По живому конвейеру от штабелей к площадке забелели ящики снарядов.
Скоро над переправой стало тесно от звуков. Один за другим над водой взад и вперед шныряли неторопливые «У-2», перебрасывая на правый берег боеприпасы и возвращаясь назад с ранеными солдатами.
— Перебрасывать только противотанковые! — приказал Шелестов и прошел на мост.
Саперы выбивались из сил. Шуга напирала сплошной грязносерой массой. В пролом моста лавиной, вспучиваясь и шурша, валился неудержимый поток. Два катера, подцепив канатами вырванное звено моста, ревели моторами, отвоевывая каждый сантиметр. Наконец им удалось один конец подтащить к правой половине моста. Саперы бросились причаливать понтоны. Груды мокрого снега, громоздясь, вползали на настилы. Десятки багров кромсали студенистое месиво. Казалось, вот-вот еще одно усилие — и мост будет восстановлен. Но вдруг разом все закричали, и Шелестов увидел, как вырванное звено моста под напором шуги медленно поплыло назад, все дальше и дальше уходя от зияющего пролома. За ним канаты тянули назад и катера. Моряки отчаянно кричали друг другу, махали флажками. Один катер удачно увернулся и задом проскочил в пролом. Второй не успел сманеврировать и гулко удалился о правую половину моста. Что-то с грохотом треснуло, и, медленно разворачиваясь, отделилось и поплыло вниз еще одно вырванное звено. Все усилия моряков и саперов оказались бесплодны. Люди понуро смотрели на бурливую реку. Только невозмутимые «У-2», потрескивая моторами, наперекор всему курсировали над растерзанной переправой.
— Неужели ни одной баржи на реке нет? — спросил Шелестов полковника Баринова. — Дунай же судоходен.
— Всё немцы угнали. Даже лодки рыбачьи. Есть одна баржа в Чепеле, но она затоплена.
— Откачать воду можно?
— Можно, но очень трудно. Насосы у нас маломощные, неделю прокачаем.
— А на чепельских заводах неужели насосов нет?
— Не проверял, товарищ генерал.
— Немедленно отправляйтесь в Чепель. Взять свои насосы, поискать на заводах и баржу освободить от воды. Рабочих соберите, мадьяры помогут. К утру чтобы баржа была здесь и работала.
Баринов сел в машину и уехал.
«Еще одна ночь — и армия останется без боеприпасов», — с тревогой подумал Шелестов.
XIV
Голос маршала Толбухина звучал настолько отчетливо и близко, что Алтаеву казалось, будто маршал сидит рядом с ним.
— Главное — продержаться до подхода моих резервов. Ваша задача — не пустить противника к Бичке! Под Сталинградом у вас положение было куда сложнее и то вы нашли выход. Мы надеемся на вашу гвардейскую армию. Армия воевала в самых различных условиях, имеет большой опыт. Завтра с утра вас будет обеспечивать вся авиация двух фронтов: моего и Второго Украинского. Нелегкая у вас ночка будет, Георгий Федорович. Но вы пострашнее видывали. Правда?
Маршал тихо засмеялся. Услышав этот спокойный смех, невольно улыбнулся и Алтаев.
— Все будет сделано, товарищ маршал, — взволнованно ответил он, — гвардейцы-сталинградцы не подведут.
Маршал попрощался, и Алтаев услышал в телефоне другой голос. Это говорил член Военного совета фронта генерал-полковник Желтов. Он расспрашивал о настроениях людей, о потерях, о боеприпасах и горючем, о госпиталях и банях и, заканчивая разговор, сказал, что за боями гвардейской армии внимательно следит Центральный Комитет партии, что полчаса назад звонили оттуда, интересовались положением гвардейцев и просили передать, что партия надеется на гвардейцев и сделает все, чтобы помочь им с наименьшими потерями разгромить врага. Меньше суток продолжалось наступление противника, а в движение пришли резервы и свободные силы дивизий, корпусов, армии, фронта и даже Верховного Главнокомандования. С юга и с востока к лесистой полосе гор западнее Будапешта спешили танки, артиллерия, минометы, пехота, инженерные части. Сейчас где-то далеко от района боев в десятках авиационных штабов прокладываются на картах маршруты полетов, подсчитываются километры, тонны бомб, уточняются последние данные обстановки.
Противник будет остановлен. В этом Алтаев был твердо уверен. Но когда, где и какой ценой?
Он снова склонился над картой. Черные и красные стрелки тянулись по дорогам. Вот дивизия Василенко головным батальоном почти подошла к противнику, а главные силы еще пробираются сквозь горы и никак не могут вырваться на хорошую дорогу. Вот артиллерийские полки — одни ближе, другие дальше. Вот танкисты и самоходчики нацелились на север и на запад.
Алтаев знал, что все они торопятся, но как все это медленно движется! Если бы можно было сразу рвануть все и одновременно обрушить на врага.
Командарм вспомнил чьи-то слова: «Терпенье полководца — половина победы». Это верно, все это верно, но ведь части вступят в бой разновременно. А это самое страшное. Противник использует свое превосходство и бьет их поодиночке; так, сколько ни бросай сил и средств, все может погибнуть понапрасну. Как ускорить движение? Как хотя бы на основных направлениях уравнять силы с противником?
Противник бьет сосредоточенными силами. Все у него собрано в кулак и нацелено в одном направлении. Такую силу остановить сразу трудно, очень трудно. Она катится вперед, сметая все на своем пути.
Алтаев внимательно следил за каждым шагом противника и видел: чем дальше он продвигался, тем все более и более замедлялось его движение. Это замедление пока еще мало заметно. Достигла наступающая группировка противника одного рубежа и остановилась. На ее пути встали подошедшие резервы гвардейцев. Завязался огневой бой. Гитлеровцы несут потери и лезут напролом. Один рубеж преодолен, и впереди на очередном рубеже наступающего врага поджидают новые резервы и отошедшие части. Снова разгорается бой, и опять гитлеровцы несут потери. Их ударная группировка слабеет и наступает уже не так уверенно. А на помощь дерущимся гвардейцам подходят все новые и новые войска.
В ходе боев изменяется соотношение сил. Путь врага отмечен десятками разбитых танков и сотнями трупов.
Алтаев всем существом чувствовал, что скоро, совсем скоро должен наступить перелом, когда силы уравняются и враг будет остановлен. Но он отчетливо понимал, что этот перелом сам по себе, стихийно, не наступит. Его нужно подготовить, организовать. Перелом должны создать вводимые в бой резервы. А чтобы избежать излишних потерь и нанести наибольший урон врагу, резервы нужно ввести в бой организованно и там, где решается судьба сражения.
— Командующего артиллерией, — заговорил Алтаев по телефону. — Товарищ Цыбенко, отправляйтесь в Бичке, встречайте части и лично организуйте противотанковую оборону. Подготовить позиции, встретить фашистов организованным огнем. Берите с собой всех офицеров штаба.
Выезжайте немедленно… Что?.. Армейский инженер… Он у вас? Дайте ему трубку… Товарищ Маликов, как дела?.. Что?.. Мин нет?.. Да вы что, армейский инженер или войсковой сапер? Мне вас учить, где мины брать! В центральных и левофланговых корпусах мины есть?.. Так вот… Забрать у них, все свободные мины забрать и на главное направление перебросить. Судьба армии решается на правом фланге. На правом, поймите же в конце концов. А почему не используете трофейную взрывчатку? Сделали восемьдесят фугасов… Ох, как много! Да что вы крохоборничаете? У вас же тысячи тонн трофейной взрывчатки. Возьмите у начальника тыла автобат и немедленно, сейчас же поручите ответственному офицеру изготовление фугасов и доставку их на правый фланг. Все дороги к Бичке до утра заминировать. Через каждые пятнадцать метров — фугас. И чем мощнее, тем лучше. Где ставить, договоритесь с Цыбенко и Добруковым… Выполняйте.
Алтаев встал и вытер разгоряченное лицо. Правая бровь его нервно дергалась.
— Крохобор! Взводным масштабом думает, — бормотал он, негодуя на армейского инженера. — Привыкли наступать-то. Там все проще. А ты вот тут, тут сумей выпутаться, когда силища прет на тебя и не знаешь, где ударит.
В кабинет вошел генерал-майор Тяжев.
— Здравствуйте, — понемногу успокаиваясь, встретил его Алтаев. Вид плотного, широкоплечего генерала с простым умным лицом всегда как-то успокаивающе действовал на него. Ничем особенным не отличался в армии генерал Тяжев, но Алтаев уважал его за честность и прямоту. Что бы ни случилось у Тяжева, он всегда говорил напрямую, не боясь гнева начальства.
— Боеприпасов нет, товарищ командующий, — вполголоса проговорил Тяжев; морщинистая щека его вздрагивала. — У самоходок осталось по восемь снарядов. Танки расходуют последнюю половину боекомплекта.
Алтаев отвернулся от Тяжева и опустился на стул. От близких взрывов дрожали стекла. Видимо, била тяжелая артиллерия противника.
— Разрешите у резервного мехкорпуса взять? — тихо спросил Тяжев.
Минуты четыре раздумывал Алтаев. Взять снаряды у мехкорпуса — значит остаться без резерва. Танки без снарядов — это беспомощные стальные коробки.
— А сколько у него боеприпасов? — шарил он руками, отыскивая записную книжку.
— Полтора боекомплекта.
— Полтора?.. Ноль семь возьмите, а ноль восемь оставьте. Хватит пока?
— Да. Часов на пять боя хватит.
— Только не трогайте бригаду Маршева и тяжелый танковый полк. Я их держу наготове. И прикажите Маршеву переместиться сюда, ко мне, в Фелчут.
Тяжев с полуслова понял замысел командарма. Эга бригада была тем кулаком, которым командующий собирался ударить в случае прорыва противника к Бичке.
«Неужели он не надеется остановить противника в горах?» — подумал генерал, близоруко всматриваясь в карту Алтаева. Жирные красные и синие линии пересекали зеленые пятна горных лесов в пятнадцати километрах северо-западнее Бичке. Там идет бой, а командарм готовит к обороне этот небольшой венгерский городок в тридцати километрах западнее Будапешта.
— Все будет решено на подступах к Бичке, — словно угадав мысли Тяжева, заговорил Алтаев. — В горах противника мы не остановим. Он успел вырваться на дороги, и теперь его не удержать.
— Перевал Агостиан пока держится.
— Да, пока, пока держится, — вздохнул всей грудью Алтаев, — но значенье свое он уже потерял. Немцы обошли горы с севера и по долине устремились на основную магистраль. А ее прикрывает всего-навсего маленький отряд. Неравны, слишком неравны силы. А наши главные силы еще далеко на подходе, только ночью и к утру вступят в бой. Ну, Гаврила Михайлович, поторопитесь с боеприпасами, поторопитесь.
Тяжев, не прощаясь, поспешно вышел.
«Как же там у Шелестова? Неужели переправа не действует?» — встревоженно раздумывал Алтаев. — «Боеприпасы… Сейчас все зависит от боеприпасов. Если не удастся перебросить…»
Перед его глазами вырисовывалась страшная картина. Стоят танки, пушки, самоходки. И все молчит. Противник поливает их раскаленной сталью, а они молчат. Гибнут люди, горят танки, в груды металла превращаются пушки. Все катится назад, все бежит под лавой огня противника.
Алтаев взглянул на голубые извивы Дуная. Мирной, тихой рекой плескался он, с двух сторон окаймляя армию — с правого фланга и с тыла. В ушах звенели мелодичные вальсы Штрауса и старинный русский вальс «Дунайские волны». Когда-то Дунай казался ему поэтической сказкой, овеянной романтикой и шопотом влюбленных. А сейчас встал он на пути бурливой преградой, отрезав горы боеприпасов, без которых задыхается в бессилии гвардейская армия.
Прихрамывая, в кабинет вошел генерал Воронков и доложил, что установлена связь с Чижовым.
— Да? — оживился Алтаев. — Где он? Что с дивизией?
— Он собрал разрозненные подразделения и бьет по тылам противника. Вся артиллерия раздавлена. У Чижова осталось только стрелковое вооружение и люди. Захватил более ста пленных. Принадлежат танковым дивизиям «Мертвая голова», «Викинг», двести семьдесят первой пехотной, третьей, шестой и двадцать третьей танковым дивизиям.
— Значит, мы группировку противника правильно определили?
— Так точно. Все пленные показывают, что их задача — любыми средствами прорваться в Будапешт, освободить окруженные войска и при успехе разгромить весь южный фланг нашего фронта. Сейчас Чижов и его штаб уточняют численность ударной группировки противника. Через полчаса доложит.
— Почему он потерял связь?
— Все радиостанции разбиты. Он захватил у противника две рации и вот теперь связался с нами. Радисты наши не верили, позывных у него нет, думали, провокация противника. Я по голосу узнал Чижова.
— Хорошо, а как дивизия Василенко?
— Головной батальон прошел Тарян и в двух километрах севернее вступил в бой с противником. С батальоном действуют два артиллерийских дивизиона и саперная рота. Главные силы дивизии подходят к Таряну и занимают оборону.
Алтаев сделал отметку на карте.
— Разрыв образуется между флангами дивизии, — склонился над картой Воронков, — горы, правда, здесь, но прикрыть бы надо.
— Обязательно. Ни одного промежутка, ни одной дырки. А чем вы считаете прикрыть можно?
— Кавдивизия передана нам из резерва фронта. Можно часть сил этой дивизии использовать.
— Да, да. Верно.
— Только у нее вблизи сейчас один полк, остальные далеко на подходе.
— Прикажите этот полк немедленно перебросить на фланг Василенко.
— Слушаюсь.
На пути ударной группировки противника вырастала хоть и поспешная, жиденькая, но все же оборона. Появилась реальная возможность остановить врага. А если генерал Цыбенко успеет создать артиллерийские противотанковые узлы на дорогах, то можно твердо рассчитывать на успех.
— Как с боевым донесением? — спросил Алтаев.
— Через полчаса доложу.
— Хорошо, и быстрее приказ кавполку.
— Слушаюсь, — ответил Воронков и вышел из кабинета.
— Соедините с Дубравенко, — заговорил Алтаев по телефону. — Добрый вечер, Константин Николаевич, как дела?.. Это неважно. Пусть нет успеха территориального, зато эти действия скуют противника. Хорошо. Заканчивайте работу и переезжайте ко мне. Трудно без вас, очень трудно… Связь работает хорошо, и теперь можно управлять с одного пункта. Забирайте всех офицеров и переезжайте.
Алтаев отметил на карте новые данные. По всему фронту армии, от озера Балатон и до синих стрел, где наступала ударная группировка гитлеровских войск, на небольших промежутках друг от друга устремились на запад маленькие стрелки. Это от полков и дивизий первого эшелона наступали отдельные роты и батальоны. Они день и ночь рвались к позициям противника, кое-где вклинивались в них, захватывали участки траншей и окопы, часто не имели никакого успеха, отходили назад и вновь атаковывали, вынуждая противника все время быть настороже, и тем самым сковывали его силы и средства, не давая перебрасывать их на направление главного удара.
В кабинет бодро вошел запорошенный снегом член Военного совета.
— Ну как? — взволнованно спросил Алтаев.
— Мост восстановить пока не удалось. Шуга рвет, все сметает с пути. Организовал переброску боеприпасов самолетами нашей эскадрильи. Сейчас прибыли самолеты фронта. Всего работают тридцать четыре машины. Часов через пять будет освобождена от воды одна баржа в Чепеле. Четыре баржи по приказу маршала тянут снизу, из Болгарии. Завтра к утру будут переданы нам. Восстановление и обслуживание переправы взял на себя Военный совет фронта. Это дело поручено лично командующему инженерными войсками фронта. Он уже на переправе.
— Так… так… Работают тридцать четыре самолета… Боеприпасы будем сосредоточивать в Бичке и отсюда распределять. Каждый снаряд на учете. Поручим это Викентьеву.
Генералы сели за стол и углубились в расчеты. Они подсчитывали, кому сколько и каких нужно выделить снарядов, и даже не вспомнили, что такой работой обычно занимаются штабные офицеры.
Воронков, войдя в комнату, подал Алтаеву проект боевого донесения командующему фронтом…
Сколько труда вложено в то, чтобы десятки, сотни событий вместить вот на этих двух страничках! Как ручьи и реки в море, текли непрерывно со всех сторон доклады и донесения. Взводные, ротные и батарейные командиры докладывали в батальоны и полки. В полутемных землянках, в траншеях под вой снарядов и пересвист пуль эти доклады из ручейков сливались в реки и шли все выше и выше — в бригады, дивизии и корпуса. И вот, наконец, мощные потоки самых разнообразных, часто противоречивых, сомнительных и отрывочных сведений и фактов скопились в штабе армии. Отсеялось все лишнее и второстепенное, в сравнениях раскрылись противоречия и неясности, и на двух страничках вырисовывалась картина ратных трудов тысяч людей. Пойдут эти две странички в штаб фронта, в Москву, в Ставку Верховного Главнокомандующего. И будут по событиям, изложенным на этих страничках, приниматься новые решения, определяющие дела и события всей армии. Думал ли какой-нибудь старший адъютант батальона, спешно набрасывая огрызком карандаша коротенькое донесение, что и его работа окажет какое-то влияние на решения командира дивизии, корпуса, командарма, командующего фронтом, и даже Верховного Главнокомандующего? Думал, наверное. А всего вероятней, не думал. Некогда было думать. Роты снова отбивают атаку, и то, что писал он, для него уже было прошлым…
— Да, — несколько раз перечитав донесение, глухо заговорил Алтаев, — изложено все правильно. Все правильно! Тяжко только подписывать. Противник все же имеет успех, и мы его пока не остановили.
Он руками закрыл глаза и долго сидел молча.
Член Военного совета дважды перечитал донесение и расписался.
— Трудный день, очень трудный, — проговорил он.
— Ничего, — встрепенулся Алтаев, — и немцам не легче. При таком превосходстве давно бы пора в Будапешт ворваться. Пять танковых и три пехотные дивизии навалились на одну нашу малочисленную стрелковую и топчутся, топчутся в горах. Метрами, метрами их победа исчисляется. Пишите решение, Воронков. Создать новый рубеж обороны, дополнительно подтянуть силы и средства и остановить противника на подступах к Бичке.
Он снова взял донесение, еще раз прочитал и энергичным размашистым почерком расписался.
— Передавайте, — приказал он, — и на ночь ко мне дежурного пришлите.
XV
Бахарев и Косенко пробирались по глубокому снегу. Шли какой-то лощиной. Зарева пожарищ кровавыми всполохами метались по сумрачному небу. Когда взрывы раздавались особенно близко, свет на мгновение озарял снежную котловину и темнота вокруг становилась еще гуще.
Бахарев пытался хоть по каким-нибудь признакам определить, где они находятся, но все кругом было однообразно. Только светящаяся стрелка компаса упрямо показывала вправо. Значит, там, на севере, протекает Дунай, а позади, куда удалялся грохот боя, — горы. Где-то здесь поблизости должны проходить траншеи. По ним Бахарев надеялся определить свое местонахождение и тогда решить, в какую сторону пойти. Он был твердо уверен, что в траншеях встретит немало своих солдат, соберет их и вместе с группой легко прорвется в горы. Занятый своими мыслями, он не чувствовал ни голода, ни усталости, ни холода.
Вокруг становилось все тише. Бахарев понял, что он сейчас оказался в глубоком тылу наступающих немцев. От этой мысли ему стало не по себе. Может, не стоило отбиваться от своей дивизии и предпринимать эту попытку разыскать последних людей роты? Может, все удачно отошли и теперь присоединились к группе Чижова или к каким-нибудь другим группам?
Бахарев отогнал эти навязчивые мысли и еще напряженнее осматривался по сторонам.
— Траншея, — остановил его Косенко, — сюда спускайтесь.
Он поймал руку Бахарева и помог ему спуститься на дно траншеи. Они прижались к стенке и настороженно прислушались.
Это был передний край обороны. Несколько часов назад здесь сидели наши солдаты, и тогда все в этом месте было заполнено жизнью. Под ногами катались стреляные гильзы. На бруствере лежала забытая каска.
Бахарев и Косенко осторожно пошли вперед. Во многих местах траншея была разрушена. Запах горелого пороха и железной окалины еще не успел выветриться, к казалось, что бой здесь шел всего несколько минут назад.
— Патроны, товарищ гвардии капитан, — нагнувшись, прошептал Косенко.
В небольшом углублении чьи-то заботливые руки аккуратно уложили десятка три коробок с автоматными и винтовочными патронами. Видимо, хозяин не успел их ни израсходовать, ни захватить с собой.
— Набирай автоматных побольше, — приказал Бахарев и начал рассовывать пачки по карманам.
— Чшш, — предостерегающе прошептал Косенко, — стонет кто-то.
Бахарев прислушался. В самом деле, невдалеке кто-то чуть слышно стонал. Стон то умолкал на мгновение, то вновь раздавался — тихий, с легким присвистом.
— Постойте здесь, я один, — предложил Косенко и, не дожидаясь ответа, скрылся в темноте.
Он шел так осторожно, что его шаги не заглушали даже этих едва слышных стонов.
Бахарев напряженно ждал. Стон оборвался, и послышался приглушенный шопот. Переступая с пятки на носок, Бахарев прошел несколько шагов и увидел сгорбленную фигуру Косенко. Он склонился над кем-то в траншее и вполголоса расспрашивал:
— А как же вы? Это ж передний край.
— Минировали, — отвечал ему слабый голос. — Подранили лейтенанта… Меня сержант нашел, Мефодьев. Теперь он за лейтенантом пошел. Кабы не перепугался он вас-то. Спрячьтесь, что ли. А то подумает, немцы — и резанет из автомата.
Вдали послышались грузные шаги. Это, видимо, сержант нес лейтенанта. Совет сапера был благоразумен.
Шаги приближались. Теперь отчетливо доносилось прерывистое дыхание грузного человека. Он, видимо, нес лейтенанта на руках, лавируя по изгибам траншеи.
— Коржанов! — послышался приглушенный оклик.
— Здесь я, — отозвался раненый.
— Ну вот и хорошо, — чуть слышно басил сержант. — Прилягте здесь, товарищ лейтенант, я за Матвеевым схожу.
— Наши тут, — проговорил раненый. — Один капитан и сержант.
— Где? — обрадованно спросил Мефодьев.
— Здесь, товарищ сержант, — поднимаясь с земли, ответил Бахарев.
— Капитан Бахарев? — проговорил удивительно знакомый голос.
— Миньков? — нагнулся к раненому Бахарев.
Лейтенант горячей рукой схватил руку Бахарева и крепко сжал ее.
— Вот хорошо. Теперь нам ничего не страшно, — вздрагивающим голосом говорил он, не отпуская руки капитана. — Вы с ротой здесь?
— Нет. Рота ушла в горы. Я собираю отставших.
— Ну, мы их догоним, выберемся, — уверенно говорил Миньков, но по его голосу Бахарев чувствовал, что лейтенанту очень тяжело. У него что-то хрипело в груди, мелко дрожали пальцы.
— Куда вас ранило? — спросил Бахарев.
— В грудь немного. Осколок, кажется. Сержант Мефодьев перевязал меня. Теперь легче. А наши-то… дивизия как?
— В горах остановят немцев. Там полковник Чижов. Да и резервы, наверно, подошли.
— Ну, ясно…
— Вам не следует много разговаривать, — остановил его Бахарев и задумался.
Пока он шел с Косенко, тлела надежда, что встретит он не раненых, а здоровых солдат, которые случайно отбились от своих подразделений, соберет их и будет бить по тылам немцев и пробираться к своим. Но с первых же шагов надежды его не оправдались. Не успел он пройти и нескольких километров, как у него на руках оказались раненые. А сколько еще отыщется их, раненых и больных? Как пробираться с ними? Как лечить и кормить их? Может, в тылах противника придется пробыть несколько суток? А если немцы с рассветом начнут обыскивать позиции, подбирать своих раненых и убитых? Хорошо, если фронт откатится в горы и дальше, а если немцев остановят перед горами, то здесь, где сейчас находятся они, будут боевые позиции. Тогда наверняка все погибнут. Бахарев сам удивился своим мыслям. Оказывается, сейчас его жизнь зависела от того, насколько продвинутся немцы. Если они будут успешно продвигаться, то его жизнь может быть спасена, а если немцев остановят, то… Странное противоречие! Оказывается, бывают в жизни случаи, когда наилучшим выходом из трудного положения является успех противника. Бахарев внутренне сжался от этих сопоставлений. «Неужели ради спасения своей жизни я хочу поражения всей армии?.. Нет, нет! Нет, я этого не хочу. Пусть лучше всем погибнуть здесь, вот в этих траншеях, чем дать немцам прорваться в Будапешт. Тогда погибнут тысячи людей и война может затянуться». Он вспомнил комсомольское собрание перед началом наступления и слова клятвы, принятые на нем: «клянемся, что мы, воины-гвардейцы, сокрушим на своем пути все преграды врага и водрузим знамя Победы над Берлином!»
Бахарев нащупал в левом кармане партийный билет. Тут он, тут партбилет! В сознании вызревало твердое, непреклонное решение. Собрать всех, кто остался в тылу врага, укрыть раненых в безопасном месте, организовать их лечение и потом пробираться к своим. Нужно переходить на партизанские методы борьбы. Разве мало таких вот группок в первые месяцы войны оставалось в тылу врага? Из этих групп впоследствии выросли целые партизанские соединения. Живы остались те, кто не растерялся, не струсил, сумел сохранить волю и стремление к победе. А те, кто струсил, оказались в лагерях военнопленных, в лагерях смерти.
Бахарев часто думал, что он будет делать, когда обстановка забросит его в тыл врага. И всегда у него было только одно решение: бить врага и пробиваться к своим. Он мечтал, как соберет большой отряд, организует людей и начнет наводить ужас на противника.
— Косенко, — позвал он сержанта, — разыщите где-нибудь поблизости хорошую землянку.
— Правильно, — поддержал его Миньков.
Сержант Мефодьев принес раненого сапера. Косенко разыскал небольшую землянку. Втроем перенесли в нее раненых, уложили их на уцелевших нарах. Бахарев при свете карманного фонарика осмотрел повязки. Мефодьев оказался искусным медиком, и повязки были наложены надежно и ловко.
— Ну, хлопцы, — подозвал Бахарев Мефодьева и Косенко, — теперь нужно набрать как можно больше боеприпасов и постараться раздобыть хоть немного продуктов.
Они вышли из землянки. Брезжил рассвет. Небо прояснилось, и крупные звезды по-южному ярко мерцали в вышине. Бахарев смотрел в озаренную вспышками даль и раздумывал. Сейчас еще была надежда пробраться к своим. А пройдет час-полтора — и тогда линией фронта они будут отрезаны от своих. Он открыл сумку и вытащил карту. Склонившись на дно траншеи, при свете фонарика Бахарев всмотрелся в цветное поле. От того места, где сейчас сидел он, до гор, где шел бой, было не менее шести километров. Это расстояние, если б не раненые, можно преодолеть всего за один час.
Бахарев сложил карту, сунул ее в сумку и распрямился.
— Ну, товарищи, остаемся здесь и будем драться. Как вы на это смотрите?
— Конечно, товарищ капитан, — решительно пробасил Мефодьев, — раз уж случилось такое…
Бахарев посмотрел на высокого, широкоплечего сержанта. Продолговатое лицо его с выступающим небритым подбородком казалось почти серым.
— Я думаю, немало тут наших осталось, — проговорил Косенко. — Бой-то ночью шел, разве определишь, где свои, а где чужие.
Бахарев и не ждал других ответов от сержантов, но, услышав их спокойные, уверенные слова, с благодарностью посмотрел на них и приказал:
— Сейчас осмотрим местность. Вы, Мефодьев, пойдете вправо по траншее, вы, Косенко, влево, а я пойду к фронту. Только особенно далеко не уходите, к рассвету быть здесь.
Сержанты повторили приказание и скрылись в туманной мгле. Бахарев проводил их взглядом и по неглубокому ходу сообщения пошел на восток. Бой заметно отдалился и стих. На светлеющей половине неба угасали звезды. Белесый туман заволакивал горизонт. И только в двух местах — слева, где протекал Дунай, и в середине, где шоссейная дорога прорезала горы, — вспыхивали бледные зарницы.
Бахарев пытался понять, что произошло там, где совсем недавно все полыхало взрывами. Или выдохлись немцы и остановили наступление, или удалось им сломить сопротивление советских войск и прорваться через горы? Первое предположение было маловероятным, а второму не хотелось верить. Если это случилось, то события развернутся теперь на подступах к Будапешту. Кольцо окружения будет прорвано, и советские войска окажутся сами разрезанными на две части.
От этих дум больно защемило сердце. Бахарев глубоко вздохнул и стиснул кулаки. Ноги сами убыстряли шаг. Холодный ветер обвевал разгоряченное лицо. Глаза, привыкнув к полумраку, отчетливее видели вспаханное взрывами поле. Слева показались какие-то черные бугорки. Бахарев всмотрелся, подошел ближе и увидел, что это были трупы людей. Они лежали на снегу, словно готовясь вскочить и куда-то побежать. Подойдя вплотную, Бахарев по зеленым шинелям и зимним фуражкам определил, что это были немцы. Поземка уже заметала их. Здесь, видимо, полегло не меньше роты.
Пройдя дальше, Бахарев наткнулся на брошенный ручной пулемет со вставленным магазином и растянутым по снегу ремнем. Возле пулемета свалился в ход сообщения советский солдат. Он так и умер сидя, склонив голову на бруствер. Бахарев осторожно обошел его. Дальше все поле было сплошь изрыто. Видимо, сюда был обрушен весь огонь немцев.
С востока властно наплывал свет. Вырисовывались изломанные очертания гор. Виднелось какое-то селение. Влево уходила пологая равнина. Оттуда доносился глухой шум моторов. Там проходила дорога и по ней шли немецкие колонны.
Бахарев присел в воронку и осмотрелся. Теперь нужно быть очень осторожным. Все вокруг было пустынно и безлюдно. Только бой с наступлением рассвета разгорался все сильнее и сильнее.
Бахарев хотел было встать и пойти дальше, но над землей впереди поднялось что-то темное и тут же исчезло. Бахарев замер, прижимаясь к земле. Минут пять ничего не было видно, потом снова мелькнуло темное и так же поспешно скрылось. Теперь хорошо было видно, что выглядывал из окопа человек. Бахарев прижался щекой к автомату и ждал. Неприятная дрожь прошла по всему телу. В глазах рябило, и окоп впереди то казался совсем рядом, то отдалялся. Там безусловно сидел человек. Но кто это: свой или враг?
Напряженно всматриваясь, Бахарев увидел, наконец, шапку-ушанку, а рядом с ней вторую. Теперь не было сомнения, что это сидели в окопе свои. Нужно было как-то дать им понять, кто перед ними.
— Товарищи! — негромко крикнул Бахарев.
— Кто вы? — откликнулся вздрагивающий голосок.
— Я капитан Бахарев.
— Подходите сюда.
Бахарев привстал, шагнул вперед и увидел в окопе пятерых в шинелях, в ушанках и с автоматами. Один — невысокий, с погонами младшего лейтенанта — поднялся и пошел навстречу. Остальные лежали, держа автоматы наготове. Бахарев всмотрелся в щупленькую фигуру и узнал переводчика штаба дивизии Аристархова. Он тоже узнал Бахарева и радостно заулыбался веснушчатым, с приплюснутым носиком лицом.
— Товарищ гвардии капитан, какими судьбами? — заговорил он, протягивая руку.
— Такими же, какими и вы, — радостно ответил Бахарев и порывисто сжал руку Аристархова.
— Да я, понимаете, — разъяснял переводчик, — ночью в вашем полку был, пошел обратно в штаб дивизии, а тут и началось это. Так и остался один, а потом встретил вот четырех солдат, пытался с ними пробиться к своим, но наскочил на немцев.
— Хорошо, хорошо. Потом расскажете, — остановил его Бахарев. — У вас раненые есть?
— Один в руку немного. Остальные все здоровы.
— Никого тут поблизости не видели больше?
— Нет. Мы все исходили. Вон за теми буграми обозы немецкие стоят. А дальше батарея, а вон в той лощине танки, штук сорок, не меньше.
— Ну что ж, будем вместе беду бедовать.
— Конечно. А с вами еще кто-нибудь есть?
— Пятеро, я шестой.
— Вот здорово! Теперь, значит, всего одиннадцать. А это ж сила.
Солдаты радостно встретили капитана. Все они были из одного с Бахаревым полка и хорошо знали командира второй роты. Они наперебой обращались к нему, каждый пытался рассказать, что видел, но Бахарев остановил их:
— Скоро будет совсем светло. Давайте уходить подальше отсюда.
Тем же ходом сообщения Бахарев повел группу обратно. Возле землянки его поджидали Мефодьев и Косенко. Они разыскали двух раненых солдат и одного сержанта, притащили два ручных пулемета и четыре ящика патронов. Теперь в группе было четырнадцать человек. Раненых Бахарев уложил на нарах, а здоровых распределил на три смены.
— День, товарищи, придется здесь переждать — заговорил он, когда все разместились. — Будем надеяться, что все пройдет благополучно. А как стемнеет, двинемся вперед. Ну, а если немцы обнаружат нас, драться придется, до последнего драться. Оружия у нас достаточно. Патронов тоже пока хватит. Все здоровые поочередно будут дежурить. Ну, а раненым потерпеть придется. Только не сомневайтесь, товарищи, никого не бросим. Никого!
— А как же наши-то? — негромко спросил кто-то.
— Дерутся наши, товарищи, дерутся. Слышите, как гремит канонада? Не прорвутся немцы, ни за что не прорвутся!
Разгорался ясный, погожий день. От Дуная дул легкий ветерок, и тянуло по равнине низкую поземку, заметая воронки, траншеи, ходы сообщения. Даже разбросанные по всему пространству обгорелые остовы танков, автомашин, бронетранспортеров покрылись белым налетом и казались копнами сена, мирно разбросанными по укосистому лугу. За грядой невысоких холмов скрывался Дунай. Оттуда все время доносился монотонный неумолчный гул. Из низины выглядывали черепичные крыши и оголенные макушки деревьев села Сомод. От села к горам извивалась дорога, и по ней беспрерывно двигались танки, машины, повозки. Они тянулись по холмам и скрывались в туманной дали предгорного леса. Там, куда уходила колонна, то замирая на мгновение, то вновь глухо рыча продолжался, бой. А на остальном пространстве равнины, предгорий и придунайских высот замерла строгая тишина.
— Прорвались, значит, — тихо проговорил Косенко и глубоко вздохнул.
— Этого еще пока не видно, — возразил ему Аристархов и обратился к Бахареву: — Пленного хорошо бы захватить, товарищ гвардии капитан, от него все узнаем.
Бахарев посмотрел на переводчика и улыбнулся. Щупленький лейтенант, видимо, совсем не думал, в какой опасности находится он сам, и по профессиональной привычке размышлял только о пленных.
Косенко недоверчиво посматривал на младшего лейтенанта и, видимо, хотел сказать ему что-то не совсем приятное, но не решался.
— Хорошего пленного нам сейчас не взять, а для тех, что остались на этом поле, уже все давно кончено, — проговорил Бахарев, продолжая внимательно рассматривать местность.
— Пить просят, — выйдя из землянки, сказал Мефодьев, — а воды ни капельки.
Бахарев совсем забыл о воде, а она раненым была сейчас нужнее, чем питание. Он потрогал флягу на ремне и вспомнил заботливого Анашкина. Ефрейтор еще вчера вечером наполнил ее вином, но Бахарев так и не притронулся к ней.
— Дайте по глоточку, — отстегнув флягу, передал он ее Мефодьеву, — только по глотку, не больше.
— Товарищ капитан, — с жаром заговорил Аристархов, — тут ведь совсем недалеко была продовольственная часть полка. Я вчера в гости зашел к Таряеву, начпроду вашего полка. Он всего накопил. Вон там, видите, бугор, а дальше лощина и в ней глубокий овраг. Там и пристроился Таряев.
Бахарев снова улыбнулся. Аристархов по неопытности не представлял, где он находится и что случилось прошлой ночью. Продовольственный склад находился в таком месте, мимо которого никак не могли пройти немцы.
— Давайте попробуем, товарищ гвардии капитан, проберемся может, — упорствовал переводчик, — ведь если там хоть сотая доля осталась, то нам на полгода хватит.
Вспомнив о продовольствии, Бахарев почувствовал голод. Со вчерашнего вечера он ничего не ел, и теперь к горлу подступала тошнота. Не лучше, конечно, чувствуют себя и остальные люди, особенно раненые. Если не накормить хоть чем-нибудь, то после напряжения прошедшей ночи даже здоровые ослабнут и наступит тот упадок духа, когда человек перестает владеть собой и думает только о еде.
«А что, если в самом деле попытаться пробраться к складу? — зародилась в сознании мысль. — Может, хоть что-нибудь удастся раздобыть».
— Вы хорошо помните, где находится склад? — спросил он Аристархова.
— Конечно, — уверенно ответил переводчик, — даже ночью найду.
— Ну, хорошо, — решился Бахарев, — пойдете с Косенко. Вернее, не пойдете, а поползете. Главное — осторожность! Проползли немного, осмотрелись внимательно, нет никакой опасности — вперед. Если увидите где-нибудь немцев, в бой вступать запрещаю! Лежать и не двигаться хотя бы весь день. Замерзнуть, но ничем не обнаружить себя! Ясно?
Косенко смотрел туда, где находился продовольственный склад. Он помолчал немного и тихо проговорил:
— Не тревожьтесь, товарищ гвардии капитан.
— И еще одно, — продолжал Бахарев: — внимательно осматривайте все по пути — возможно, есть еще кто-нибудь из наших, раненые или здоровые.
Переводчик был в этот момент удивительно сосредоточен. Он хмурил брови и ловил каждое слово капитана.
Через несколько минут две одинокие фигуры скрылись в изгибе хода сообщения.
Ушли Аристархов и Косенко, а Бахарева охватили сомнения: правильно он поступил или нет? Возможно, послал он их на верную гибель? А может кончиться и хуже: они обнаружат всю группу.
А день, как назло, разгулялся, погожий, безоблачный. На горизонте виднелись горы. Холодный воздух застыл недвижно. Наступал самый опасный момент для группы Бахарева и всех советских людей, кто остался на этой всхолмленной равнине перед горами. Обычно, как только продвинутся войска вперед, на бывшее поле боя выходят похоронные и трофейные команды. Они разыскивают убитых и раненых, собирают боевую технику и военное имущество. Для одинокой небольшой группы, какой была группа Бахарева, встреча даже с такой малочисленной командой не предвещала ничего хорошего.
Бахарева немного успокаивало то, что противник двигался главным образом по дорогам, а он своих людей расположил вдали от дорог, на заснеженном поле. Но дороги от места, где скрывались люди Бахарева, были всего в двух-трех километрах. Танкам и пехотным подразделениям не представляло особого затруднения свернуть в сторону и пройтись по траншеям бывшей обороны.
В сторону Будапешта одна за другой пролетали стаи немецких самолетов.
«А наших ни одного», — думал Бахарев, машинально считая вражеские самолеты. Ему стало больно и обидно. И суток не прошло, как немцы начали наступление, а бои переместились далеко от тех позиций, с которых немцы перешли в ночную атаку. Что там делается сейчас под Будапештом? Неужели кольцо окружения прорвано? На всем фронте такие успехи, а тут в самом конце войны и такая неудача!
— Товарищ гвардии капитан, идут, — прошептал Мефодьев.
Лежа в траншее, он показывал в сторону села Сомод. От крайних домов двигались две группы людей. На таком расстоянии трудно было определить, что это за люди. Они шли вначале колоннами, потом рассыпались в цепь, явно проверяя всю местность. До колонн оставалось километра полтора. Еще полчаса или час — и они подойдут сюда, к засыпанной снегом землянке. А часовая стрелка подошла только к цифре два. Оставалось не менее пяти часов светлого времени.
Бахарев, затаив дыхание, следил за движением цепи. Она медленно, но все же двигалась вперед. Люди часто останавливались, склонялись к земле, что-то собирали и снова шли вперед. Справа, возле черного извива траншеи, где шло человек двенадцать, раздался сильный взрыв. Несколько человек упало, остальные бросились к ним. На месте взрыва собралась толпа.
— Нарвались на мину, — радостно проговорил Мефодьев, — мы позавчера там фланги прикрывали.
Люди стояли, видимо обсуждали что-то. От них отделились четверо и понесли что-то темное к селу.
— Есть! Недаром мы трудились, — выкрикивал Мефодьев, — там еще второе поле и тоже противопехотное.
Расстроенная цепь восстановилась, снова двинулась вперед, но не прошла и полусотни метров, как одновременно вспыхнули четыре взрыва.
— Противопехотные, — кричал Мефодьев, — сразу шестерых уложили!
Люди не решились больше итти вперед. Они подобрали раненых и скрылись в селе.
Бахарев вытер вспотевшее лицо, хотел было зайти в землянку, но в ходе сообщения показались Аристархов и Косенко. За ними полз еще какой-то человек в новеньком полушубке. Всмотревшись, Бахарев узнал начальника продовольственного снабжения полка Таряева.
— Товарищ гвардии капитан, — привстав на колени, доложил Аристархов, — вернулись… Только плохо…
Таряев хотел было встать, но Косенко остановил его, кивнув головой в сторону села.
— Как же вы-то уцелели? — спросил Бахарев Таряева.
— Да, понимаете, — смущенно заговорил интендант, — сидим, все спокойно, вдруг стрельба, взрывы. Я думал постреляют и перестанут. А потом танки пошли, автоматчики. Часового убили… Ну, мы выскочили все… Темнота… Стрельба… Бросились к штабу… И там немцы. В овраге до утра просидели, и вот он пришел.
— Сколько людей с вами? — всматриваясь в лицо Таряева, расспрашивал Бахарев.
— Два кладовщика и один часовой, — мрачно ответил Таряев. — А на складе немцы…
Бахарев слушал Таряева и судорожно глотал слюну. Теперь никаких надежд на продовольственный склад не оставалось. Людей кормить нечем. Бахарев стиснул зубы и прошептал:
— Ничего! Ничего! Выдержим!
XVI
Наступила ночь, но венгерское село Фелчут жило неумолчной таинственной жизнью. На армейском узле связи отстукивал бодо, перезванивали аппараты СТ, дробным татаканьем напоминали о себе морзе. Со всех сторон, цепляясь за черепичные крыши домов, за разлапистые акации и оголенные яблоньки, тянулись провода. В окраинных садах шмелями гудели моторы раций, ритмично отхлопывал движок походной электростанции.
По расчищенным от снега улицам из дома в дом перебегали офицеры, посыльные, ординарцы. В морозной темноте изредка раздавалось: «Стой! Кто идет?» И вновь все замирало. Только с северо-запада плыла, не утихая, отдаленная канонада.
Аксенов передал донесение в штаб фронта и, выйдя из аппаратной, глубоко вдохнул холодный воздух. Сердце забилось спокойнее, и сразу же пропала усталость от напряжения двух томительных суток. Он постоял несколько минут, наслаждаясь коротким отдыхом, и заспешил к командующему.
У входа в дом он лицом к лицу столкнулся с генералом Дубравенко.
— Вы будете у командующего дежурить. — Начальник штаба армии взял Аксенова под руку. — Он четвертые сутки не спит. В случае чего, звоните мне, а его не тревожьте. Пусть хоть часика два отдохнет. И к члену Военного совета не звоните. Он тоже измотался, как только на ногах держится.
— Слушаюсь, товарищ генерал, — ответил Аксенов.
Генерал армии неторопливо ходил по комнате. Четкие шаги его Аксенов услышал еще из прихожей.
— Мороз сильный? — спросил Алтаев.
— Градусов двенадцать.
— Поморозятся люди, в пылу боя и не заметят. И моторы у машин разморозят.
— Не может быть, товарищ командующий, четвертую зиму воюем, привыкли.
— Привыкли, — усмехнулся генерал. — Вызывайте-ка начальника штаба тыла.
Аксенов соединился по телефону с полковником Сорокиным.
— Товарищ Сорокин, — заговорил Алтаев, — что делает начальник санитарной службы? Раненых всех эвакуировали?.. Почему?.. Ни одного не оставлять на этом берегу, всех отправлять за Дунай. Покой раненым, понимаете, покой и хороший уход. Передайте начальнику медицинской службы: всех свободных врачей, фельдшеров, сестер, санитаров немедленно отправить в корпус Добрукова. Не допустить обмораживания людей. Ни одного обмораживания! Сами сейчас передайте начальникам тылов дивизий и полков: выдать сверх нормы каждому солдату на переднем крае еще по сто граммов водки. Из резерва возьмите, из моего резерва. Ничего, как-нибудь рассчитаемся. Выполняйте!
— Вы бы отдохнули, товарищ командующий, — несмело предложил Аксенов.
— Да. Я сосну часик. А вы следите за положением у Добрукова, особенно в дивизии Василенко.
Он вышел из кабинета и минут через пять вернулся с одеялом, подушкой и простыней в руках. В домашнем свитере и в теплых байковых брюках он сейчас был похож не на грозного и мужественного командующего армией, а на добродушного старичка, отдыхающего на даче. Он расстелил на диване простыню, уложил подушку. Аксенов хотел было помочь ему, но Алтаев махнул на него рукой и тихо проговорил:
— Своими делами занимайтесь, я и без вас управлюсь.
Аксенов приказал телефонистке не вызывать его звонком, а сразу подключать абонента. Беспрерывно, один за другим из разных концов докладывали командиры корпусов и дивизий, командующий артиллерией, начальник тыла армии, авиаторы, танкисты, командиры инженерных частей. Аксенов торопливо записывал доклады, наносил на карту обстановку, вдумывался в дела и события, о которых докладывали десятки людей. Все шло хорошо. Противник прекратил атаки, и на фронте наступило затишье.
— Как у Василенко? — спросил Алтаев.
— Закрепляется. Противник молчит.
Алтаев лежал на боку, лицом к спинке дивана. Он закрыл глаза и пытался заснуть. Назойливо звенело в ушах. Сновидением казались обрывки тревожных дум… С трудом налаженная переправа каждую минуту могла развалиться под натиском шуги… Мало, очень мало противотанковых мин… И артиллерии и танков недостаточно… На других фронтах всего вдосталь, а тут каждую пушчонку учитывать приходится… Но ничего, ничего! Главное решается там, на берлинском направлении, и главные силы там. А здесь мы и этими справимся. Надо до предела использовать все возможности, не допустить ни одной ошибки… А что же делается у Василенко?
Алтаев пытался ни о чем не думать и хоть на несколько минут забыться, но возбужденный мозг продолжал напряженно работать. Сейчас конники и пехотинцы Василенко зарываются в землю. Они устали после марша, на ходу засыпают… Померзнут, ох, померзнут все. И мороз, как назло, все время крепчает и крепчает. Полушубки и валенки у всех есть… А что же противник делает? Ночь, темнота… Готовится, видимо, и должен вести разведку. Обязательно должен. Не может же он наступать вслепую.
— Что у Василенко? — в четвертый раз спросил генерал.
Аксенов ответил, что там попрежнему тишина.
— Тишина, — вскочил с дивана Алтаев. — Тишина. Где командующий артиллерией?
— Звонил из корпуса Добрукова. Он организовал четыре противотанковых узла.
— Соединитесь с ним.
— Слушаюсь, — ответил Аксенов, недоуменно посматривая на командующего. Ничего особенного не случилось, но генерал явно взволнован. Сквозь гул телефонных проводов, послышался окающий голос Цыбенко. — Генерал Цыбенко, — передал Аксенов трубку командующему.
— Товарищ Цыбенко, подготовьте артиллерию для поддержки Василенко. Да, да. Поддержать всем, что есть. Берите из моего резерва еще один ИПТАП и ставьте его на дорогах позади Василенко.
Аксенов удивленно прислушивался. Свежая дивизия, правда малочисленная, только что заняла оборону, противник перед ней молчит, а командующий на помощь ей бросает свои резервы.
— Маликова вызывайте, — приказал Алтаев и склонился над картой. Пальцы его, то сжимаясь, то разжимаясь, бегали по столу. — Сколько мин на дороге от Таряна до Бичке установлено? — заговорил он с армейским инженером. — Двести? А я сколько приказал? Как это не успели? Берите еще один саперный батальон, выезжайте на дорогу и минируйте немедленно.
Он озлобленно бросил трубку.
— Адъютант, — крикнул он в прихожую, — командира мехбригады ко мне! Он у генерала Тяжева.
Минут двадцать он неподвижно сидел над картой, и Аксенову казалось, что командующий задремал и голова его вот-вот коснется стола.
— Товарищ командующий, вас просит командир корпуса генерал Добруков, — подавая трубку, доложил Аксенов.
— Да… Я… Так, так… Атаковал?.. Сколько? Более ста танков? Василенко держится? ИПТАП пришел? Хорошо. Огонь всей артиллерии на поддержку Василенко. Держать, держать противника. Сейчас Маликов выехал с саперным батальоном. Все будут минировать. Встречайте его.
«Откуда он мог знать, что противник ударит именно по дивизии Василенко?» — раздумывал Аксенов.
— Член Военного совета отдыхает?
— Не знаю, товарищ командующий.
— Соедините с генералом Шелестовым… Дмитрий Тимофеевич, на участке Василенко тяжелое положение… Да… Перешел… Более ста танков… Я рассчитывал, что он утром возобновит наступление, а ночью будет вести разведку, действовать небольшими отрядами, а тут вдруг прошло полночи — и тишина… Ясно, что готовил удар… Вот и ударил… А дивизия Василенко закопаться не успела. Земля-то мерзлая, не угрызешь… Если противник прорвется, бросим бригаду Маршева. Она готова.
Вошел приземистый, в зеленоватой бекеше с серым каракулевым воротником полковник и отрывисто доложил:
— Полковник Маршев.
— Здравствуйте, товарищ Маршев, — шагнул Алтаев вперед и пожал полковнику руку, — где ваша бригада?
— Сосредоточилась в двух километрах отсюда. Разведка вышла в Чабди и в Немел-Егьхаша. Слышат сильный бой юго-восточнее Таряна.
— Сколько боеприпасов и горючего?
— Полтора боекомплекта и две заправки.
Разговор перебил резкий телефонный звонок. Аксенов хотел было взять трубку, но Алтаев опередил его.
— Да… Я… Что? — Угроза и недовольство зазвучали в его словах. — А чем вы занимаетесь? Почему прорвался? Где ваша артиллерия? Товарищ Добруков, в таких условиях каждая секунда промедления…
Голос Алтаева то понижался до шопота, то гремел на всю комнату. Полковник молча стоял навытяжку, не сводя взгляда с командующего. На его смуглом лице застыло ожидание. Кустистые рыжеватые брови хмурились.
— Товарищ Маршев, — отбросив трубку, повернулся Алтаев к полковнику — танки и мотопехота противника прорвались вдоль дороги из Таряна на Бичке. Ваша задача: немедленно контратаковать противника, остановить его и отбросить назад. Вас будет поддерживать вся артиллерия корпуса. Через десять минут пройти мой командный пункт… Ясно?
— Так точно, — ответил полковник и слово в слово повторил приказ.
— Выполняйте.
— Слушаюсь.
Маршев резко повернулся и выскочил из кабинета.
— Берите бланк шифровки, — кивнул командующий Аксенову, — пишите: «Командиру дивизии генералу Цветкову. Форсированным маршем дивизию к восьми часам сосредоточить в Бичке. Передовой отряд не менее батальона и всю артиллерию на автомашинах выбросить в Чабди и занять оборону». Подписи Военного совета… Пишите вторую… «Командиру корпуса генералу Фомину. К утру дивизию Панкова сменить и вывести в мой резерв в Секешфехервар». Подписи Военного совета… Пишите третью… «Командующему фронтом маршалу Толбухину. Противник прорвался на стыке дивизии Василенко и кавполка и развивает наступление на Бичке. Создалась угроза раскола фронта и выхода противника к Бичке и Будапешту. Решил: контратаковать мехбригадой Маршева и в район Бичке перебросить свой резерв — дивизию Цветкова. В свой резерв из состава корпуса Фомина вывожу стрелковую дивизию генерала Панкова…» Подписи Военного совета.
Он перечитал шифровки, размашисто подписал.
Аксенов выбежал на улицу. Село дрожало от гула моторов. По улице один за другим в серой полумгле громыхали танки. Из открытых люков выглядывали люди. К броне жались десанты автоматчиков. За танками торопились крытые грузовики с мотопехотой и пушками на прицепе.
«Сумеет Маршев остановить противника или не сумеет?» — тревожила Аксенова беспокойная мысль.
Аксенов свернул к маленькому домику в саду и вошел в кабинет начальника штаба армии. Генерал Дубравенко с кем-то говорил по телефону:
— Бригада Маршева выступила… Идет… На всех перекрестках расставьте маяки. Для встречи пошлите офицера оперативного отдела. С Маршевым установить надежную связь. Его командный пункт будет на северной окраине Чабди.
Рядом с начальником штаба тихо переговаривались генерал Воронков и полковник Фролов.
— Что, Аксенов? — спросил Воронков.
— Два приказа и донесение.
— Сам диктовал?
— Так точно.
Дубравенко взял, шифровки, дважды перечитал их и сказал Воронкову:
— Быстро соединяйтесь с Цветковым и Фоминым. Пока шифровки дойдут — приказ передадим устно. Бондарю передайте, — крикнул он адъютанту, — поднять всех людей! Сейчас Аксенов принесет три шифровки. Быстро обработать… Идите к члену Военного совета, — подписав шифровки, приказал он Аксенову.
У члена Военного совета сидели начальник политотдела полковник Смирнов и редактор армейской газеты майор Меликадзе. В прихожей дожидались приема человек семь офицеров. Видимо, Шелестов не спал и не собирался спать. Он молча взял у Аксенова шифровки. Обычно он всегда по нескольку раз перечитывал любую бумагу, вдумываясь в каждую фразу. Сейчас он быстро пробежал взглядом по коротеньким текстам и сразу же расписался.
Когда Аксенов вернулся в кабинет командующего, Алтаев стоял у зашторенного окна и прислушивался к нарастающему гулу артиллерии. Отзвуки боя приближались. Маленькая электрическая лампочка вздрагивала и раскачивалась. Серые тени от стульев и столов плавно двигались по выбеленным стенам и ковру.
Алтаев отошел от окна и сел за стол. Десятки сомнений снова охватили его. Опять противнику удалось прорваться и смять оборону. Сейчас перед ним подготовленной обороны нет. Город Бичке стоит на пути, а в этом городе слабенький гарнизон. Навалится на него противник десятками танков, и все полетит вверх тормашками. А дальше, за городом Бичке, до самого Будапешта вообще нет ничего. Только одни тылы. Сомнут их танки, передавят… Сумеет ли Маршев остановить противника? Хватит ли у него сил и средств? Может, нужно было целиком еще с вечера бросить в бой весь свой резерв? Не слишком ли поздно поднял он дивизию Цветкова? А если противник ударит в центре или на левом фланге?.. Особенно на левом фланге. Там сейчас выводят из обороны целую дивизию. Противник безусловно обнаружит это, обнаружит и ударит. Что делать тогда? Чем усилить левый фланг?
Продумывая десятки вариантов, Алтаев в уме подсчитывал все, что есть в его распоряжении.
— Маршев прошел Бичке и головой подходит к Чабди, — доложил по телефону Дубравенко, — его разведка в восьми километрах севернее Чабди встретилась с противником. Командующий артиллерией передал Маршеву один самоходно-артиллерийский полк. Артиллерия поддерживает бой разведки.
— Так, Чабди… Восемь километров… — говорил Алтаев, не отрывая взгляда от карты, — минут через тридцать-сорок главные силы Маршева столкнутся с немцами… Тридцать-сорок минут… Тридцать-сорок…
Он взглянул на лежавшие на столе часы и снова задумался. Вот в эти минуты решается очень многое. Остановит Маршев — успех, не остановит — трудно предугадать, что будет. И время, как медленно ползет время!
— Головной отряд генерала Цветкова прошел Ловашберень, главные силы вышли из Секешфехервара, — доложил Аксенов.
— Ловашберень, — Алтаев нашел знакомый населенный пункт на карте, — Ловашберень. Тридцать километров до Бичке. Если б хорошая дорога, один час ходу. А по такой часа полтора пройдет. Полтора часа. А противник в Бичке может ворваться через полчаса. Что же ничего нет от Маршева?
Алтаев встал, хотел было позвонить Маршеву, но передумал: Маршев сейчас организует бой, и его отрывать нельзя.
Секундная стрелка на часах еле двигается. Алтаев достал из ящика стола книгу и развернул ее… Вронский на скачках, Анна в обмороке… С каким интересом раньше читал он эти сцены. А сейчас глаза так и тянутся к часам. Он схватил лист бумаги и прикрыл часы… Фру-фру прекрасными глазами смотрит на Вронского… Как все это знакомо… Если бы сейчас глянуть самому, хоть на секунду глянуть на то, что делается на дороге между Таряном и Бичке! Может, там уже все решено. Бригада Маршева смята — и танки, сотни танков рванулись на Бичке и на Будапешт.
— Дивизия Панкова начала смену и поротно выходит из траншей, — доложил Аксенов.
— Хорошо. Пусть выходит.
Сколько же прошло времени? Алтаев отдернул бумагу. Со времени последнего доклада Маршева прошло двадцать семь минут.
На улице зашумели машины.
— Узнайте кто? — приказал командующий Аксенову.
— Головной батальон дивизии генерала Цветкова и три артиллерийских дивизиона, — вернувшись через минуту, доложил Аксенов.
Алтаев подошел к телефону, взял трубку и приложил к уху. Ни одного звука. Только холод эбонитовой раковины. Он долго стоял молча, прижав к уху трубку. Мембрана хрупко затрещала. Мелодичный голос телефонистки спросил:
— Товарищ десятый?
— Да. Я слушаю.
— Маршев просит вас.
— Соединяйте, девушка, скорей соединяйте!
— Товарищ десятый, докладывает Маршев, — послышался приглушенный голос, — с ходу вступил в бой с противником. Передо мной более шестидесяти танков и до полка пехоты. Я остановил их перед высотами, затем сам перешел в атаку и продвинулся на два километра. Мои танки ворвались в села Кестель и Тюкреш. Захватил в плен четырнадцать солдат. Принадлежат танковым дивизиям «Мертвая голова» и «Викинг». Показывают, что у них очень большие потери…
Алтаев вслушивался в голос Маршева и с каждым его словом все ощутимее осознавал всю значимость совершившегося события. Произошло именно то, что и он и вся армия готовили и добивались в эти дни. Начался перелом в ходе боевых действий. Удар бригады Маршева довершил то, что сделала вся гвардейская армия.
— Держитесь, Маршев, держитесь! — кричал он в микрофон. — К вам подходят пехота и артиллерия. Атакуйте противника, непрерывно атакуйте! Бейте его, пока он не опомнился. Мы выиграли бой, и теперь на нашей улице начинается праздник.
XVII
Тоня открыла глаза, но ничего не увидела.
«Ослепла», — привела ее в сознание страшная мысль. Она часто-часто заморгала, руками потрогала глаза. Веки, ресницы и сами влажные глаза — все цело, все такое же, как и раньше было, но кругом черным-черно. Она хотела привстать и оперлась руками о что-то мягкое. Боль в спине отбросила ее назад. Невольный стон вырвался из груди.
«Где я? Что со мной?» — сквозь ноющую ломоту в голове пыталась припомнить она, но в памяти ничего не было.
Рядом что-то зашевелилось. Тоня насторожилась. Только непроглядная чернота, и гудит где-то вдалеке глухо, таинственно. Понемногу боль утихла. В голове прояснилось. Обрывки воспоминаний всплывали в памяти… Да, да… Дядя Степа сидит на снегу, а потом грохот танка и ослепительное пламя перед лицом.
— Тоня, — совсем рядом проговорил чей-то удивительно знакомый голос.
Она подняла голову и повернулась в сторону голоса.
— Антошка, — повторил тот же голос.
— Дядя Степа! — с криком рванулась на голос Тоня. — Дядя Степа, где мы?
— Тише, дочка, не шуми, услышать могут.
— Что с нами? Где мы? — шопотом спрашивала Тоня.
— В подвале, дочка, в подземелье. А наверху немцы, мадьяры.
Анашкин был так близко, что Тоня отчетливо слышала его дыхание и легкий хрип в груди.
— А как же сюда-то мы попали?
— Мадьяр тут живет, старик Золтан. По-русски он понимает. В ту войну в плен попал. В Смоленске жил. Он тебя нашел, а потом и меня.
Тоня вспомнила, что Анашкин был ранен в обе ноги. Как же он? Она хотела спросить его об этом, но ефрейтор заговорил сам:
— Хороший старик Золтан. Мы второй день лежим тут. Он и кормит нас и поит. Доктора привел. Такой же старик, Янош. Только по-русски — ни одного слова. Меня всего бинтами обвязал и лубки к ногам пристроил.
— А наши как же, дядя Степа?
— Под городом Бичке, говорят, верст пятнадцать отсюда.
— А Будапешт? Не ворвались?
— Нет пока. Только немцы и мадьяры хвастаются, что прорвутся скоро.
Разговор утомил и Анашкина и Тоню. Он медленно, с трудом произносил слова. Тяжелое, с присвистом дыхание часто прерывалось кашлем.
— Простудился, наверно, на снегу-то лежал, — после очередного приступа кашля заговорил ефрейтор, — а теперь вот дохаю и дохаю. А наверху-то солдаты немецкие живут, а Дьердь, староста мадьярский, то и дело ходит. Того и гляди, разнюхает.
Тоня сложила руки на груди и лежала не шевелясь. Она ощупала себя и убедилась, что ни одной раны у нее нет, но встать не могла. В ушах все время назойливо шумело. Глаза слезились, как от едкого дыма. Она думала о своем положении и ничего радужного впереди не видела. Фронт откатился на восток. Они вдвоем, больные и беспомощные, остались в тылу противника. Может, сейчас вот немцы узнали о них и спускаются в подвал. Тогда жизнь наверняка кончена. Кончена жизнь! Об этом Тоня никогда не задумывалась. Много смертей видела она за свою недолгую жизнь, но мертвой представить самое себя не могла.
Перед глазами вставало яркое солнечное утро, сад в серебре росы и бескрайные дымчатые поля вокруг родного села. Мать во дворе гремит подойником. Покашливает отец, собираясь на работу. От колхозных сараев доносятся голоса.
Совсем недавно все это было. А сейчас кругом чернота, разбитое, безвольное тело и страшная неизвестность впереди. Она и в детстве редко плакала, но сейчас ей хотелось заплакать. Как мало видела она! И полюбить-то никого как следует не успела. Разгорелось было чувство к трактористу Пете Кудряшеву, разгорелось и угасло, как залитый костер. Остались только горечь и боль без времени потушенного пламени. Началась война, и Петя ушел в армию. Ушел, да так и не прислал ни одного письма. Погиб, как писал ей его товарищ, во время бомбежки эшелона вдалеке от фронта.
— Ничего, дочка, ничего, — говорил Анашкин. — Переживем и это, выкарабкаемся как-нибудь. Нам бы вот только подлечиться немного, силенок набраться, а потом — гуляй-погуливай. Хорошо, что тебя не царапнуло нигде, а контузия — это пройдет скоро…
Он смолк, видимо задумавшись о чем-то своем. Молчала и Тоня.
Неожиданно Анашкин тихо заговорил:
— А в деревне-то сейчас зима настоящая. Сугробы под крышу, вьюга… А в избах тепло, свежими щами пахнет, квашеной капустой… Мужики в правленье колхоза собрались, накурили, наверно, не продыхнешь. Да что это я о мужиках! Какие теперь мужики в деревне остались; бабы одни, старики да мелкота. Мужики-то на войне все, на фронте…
Очевидно, воспоминания о родном селе растревожили его и взволновали. Тоня догадалась, что он приподнялся, пытаясь сесть, но сил не хватило и он опять лег.
— А ведь я, дочка, дедушка, самый настоящий дедушка. От старшей дочки у меня есть внук шестилетний и двухлетняя внучка. Сиротки, отец-то под Москвой головушку сложил. И живут они теперь в моей избе, с бабкой, теткой и дядей вместе. А тетке-то всего двенадцать лет, в пятом классе училась. Ну, а дядя, тот человек солидный, седьмой год в декабре пошел. Вот и посчитай, сколько их там: двое мужчин, и двоим вместе двенадцать лет, да четыре женщины. Вот она, семейка-то какая, двое с сошкой, а четверо с ложкой. И хлебушка маловато. Матрена писала, едва до пасхи хватит. На картошке сидят, на одной картошке. Но ничего, ничего, — помолчав, продолжал Анашкин, — отвоюемся вот, вернемся домой и всю жизнь заново построим. Да такую жизнь, что все нам позавидуют. Ты знаешь, наше село-то раньше все в садах было, а перед войной повымерзли все. Да если по правде-то сказать, не столько повымерзли, сколько дурость наша. Зима-то была лютая, снегу мало, морозы — аж земля потрескалась. Ну, яблони-то, они нежные, и прихватило их. Весна, а они не распускаются, сев закончили, пары поднимать начали, а яблони голые, черные, словно мертвые. И предложил кто-то пустить их на дрова. Ну, рады многие — места-то у нас безлесные, топить нечем. Пилим мы яблони, а внизу-то они живые, сочные. И никто не одумался! В два дня все сады смахнули. Осталось всего дерёв двадцать, так, случайно. И можешь себе представить, доченька, распустились, зазеленели. Мелкие сучки-то погибли, а из толстых веток новые побеги пошли. Аж заплакал я тогда от обиды и горечи…
Рассказ Анашкина взволновал Тоню. Она вдруг припомнила свою родную деревню, мать и подружек.
А старый ефрейтор продолжал говорить:
— И вот мечтаю я теперь: как только закончим войну, вернемся домой, сразу же садов вокруг всей нашей деревни насажаем. Яблони, груши, вишни, сливы! А в садах пчельник разведем ульев на триста! И деревню всю начисто переделаем. Самое главное — электричество! Чтобы ночью деревня, как город, сверкала, чтоб куда ни пошел — светло, просторно, красиво. И конюшни все, свинарники, коровники старые начисто поломаем и на дрова пустим, а новые построим. И там чтоб была чистота, электричество, водопровод. А людей всех учить будем, всех до одного учить — и малых и старых. Сам пойду, обязательно пойду учиться!
Голос его, всегда громкий и раскатистый, звучал теперь болезненно. Но и по этому голосу Тоня отчетливо видела прежнего дядю Степу — никогда не унывающего, бодрого, близкого, как родной отец.
Тоня вспомнила о его просьбе передать заявление о вступлении в партию. Узнает ли кто-нибудь, что в самую тяжелую минуту жизни дядя Степа хотел стать коммунистом?
Наверху послышались приглушенные шаги. Лязгнула щеколда. Кто-то осторожно спускался по ступенькам. У Тони замерло сердце, и в глазах замелькали красные круги.
— Не тревожься. Золтан это, по шагам слышу, — успокоил ее Анашкин.
Скрипнула дверь, и показалось лимонное пламя свечи. В желтых отблесках виднелись чья-то рука и полуосвещенное лицо. Пугливые тени плясали по сторонам. Тоня чуть не вскрикнула от радости. Она видит. Она видит это вздрагивающее пламя и восковое лицо за ним. Лицо еще трудно рассмотреть, оно смутно и неясно. Но с каждым шагом человека черты лица все более проясняются. Теперь уже видны глаза — прищуренные, без зрачков, два темных отблеска, подбородок и седые волосы. С первого взгляда по спокойным, неторопливым шагам человека Тоня поняла, что идет к ним не враг. Так могут ходить только друзья. Тоня приподняла голову и попыталась присесть.
— О! У нас, кажется, праздник, — глухо прозвучал в сыром подземелье старческий голос.
— Праздник, Золтан, большой праздник, — ответил Анашкин.
Золтан поднял свечу вверх, и Тоня разглядела старого мадьяра. Невысокий, в каком-то сером одеянии, он был похож на монаха, и Тоне показалось, что этого человека она видела не однажды, не то в книге, не то где-то еще.
Золтан тихо подошел к Тоне. Свет толстой свечи вырвал из темноты запотевшие черные своды над головой, каменные зеленоватые стены по сторонам, кровать дяди Степы совсем рядом и маленький столик около постели.
Из-за плеча Золтана выглянуло лицо в очках. Тоня догадалась, что это доктор. Обвислые щеки и заплывший подбородок Яноша бледно розовели.
Янош легонько отстранил Золтана в сторону и взял руку Тони. С минуту он молча прощупывал ее пульс, улыбнулся, сквозь очки подмигнул Тоне и повернулся к Золтану. Он заговорил о чем-то по-мадьярски. По голосу Тоня поняла, что говорит он радостное.
— Янош сказал, — наклонился к девушке Золтан, — что вы совсем молодец, настоящий молодец. Он теперь надеется на вашей свадьбе хорошего вермута выпить.
Тоня всматривалась в добродушное лицо Золтана и чувствовала, как в ее тело вливается жизнь.
— Покушайте немножко, маленько, — разложил Золтан на столике хлеб, кусок жареной курицы и домашний сыр, — и вина глоточек отпейте, как это говорят, помогает, полезно, значит.
Он налил вина в стакан и протянул Тоне. Дрожащей рукой она взяла стакан и отхлебнула несколько глотков.
— Хватит, запьянею, — возвращая стакан, впервые улыбнулась Тоня.
Доктор стал осматривать Анашкина. Тоня прислушивалась. Она знала, что дядя Степа по-мадьярски ничего не понимает, но ефрейтор и доктор, говоря каждый на своем языке, оживленно беседовали.
Вино, кусочек мяса и сыр подкрепили Тоню. Ломота и слабость во всем теле постепенно исчезали. В голове приятно шумело. Руки стали горячие и слегка влажные.
— Что ж наверху-то делается? — спросил Анашкин.
— День и ночь стрельба, и всё на одном месте, — ответил Золтан, — раненых у немцев много. Все дома забили. Злятся фашисты.
— А наших тут нигде больше не видно?
— Утром двух пленных ваших солдат привезли. Долго били, а они молчат. Расстреляли и в каменоломню бросили.
Золтан говорил, нежно поглаживая руку Тони шершавой, мозолистой ладонью.
— Вы не беспокойтесь, — заметив волнение Тони, продолжал Золтан, — мы вас фашистам не дадим. Никто про вас не знает. Только Янош да я. Этот старый кретин, Дьердь, выглядывает все, как овчарка. Только мы похитрее его, хоть он и староста.
Минут тридцать посидели Золтан и доктор в подвале. Тоне хотелось сказать им что-нибудь хорошее, но нужные слова не нашлись. Ей было тепло и радостно и не хотелось ни о чем думать.
Золтан и доктор распрощались и ушли, пообещав зайти часов через шесть.
Опять вокруг сгустилась непроглядная темнота, но теперь эта тьма не казалась Тоне страшной. Она думала о неизвестных ей двух стариках. Раньше казалось ей, что за границей во всех занятых городах и селах живут какие-то чужие, враждебные ей люди. Она не делала зла местным жителям, но смотрела на них настороженно, ожидая в любую минуту коварной выходки. Только детей не сторонилась и, видя мальчика или девочку, старалась чем-нибудь угостить их.
— Вот, доченька, жизнь-то, она какая, — говорил Анашкин, — не знаешь, где друга-то встретишь, совсем не знаешь. Я и в живых не думал остаться, а тут — на тебе вот, нашлись люди и спасли. И немцы тоже ведь не все душегубы. Есть которые и душевные, хорошие люди. Закрутили им головы гитлеровцы, лезли они, как бараны напролом, а теперь-то, наверно, многие прозрели, расчухали, что к чему. Вот мне Золтан рассказывал, мадьяры-то, они тоже против нас с самого начала воевали. А теперь вот приперло их — и прозрели. Солдаты-то, говорят, мадьярские не хотят воевать. Ждут не дождутся случая к нам перескочить. Только и боятся, что немцы расстреляют, а то б давно побросали винтовки — и к нам тягаля. А есть еще и такие, что надеются опять сил накопить и нас вышвырнуть. Вон у них староста, Дьердь его зовут, мерзавец из мерзавцев. Все село запугал. Так и шныряет по домам, высматривает, вынюхивает — и сразу немцам. А у тех разговор короткий: раз-два — и к стенке. Его, этого самого Дьердя, мадьяры больше, чем немцев, боятся. А Золтан все интересуется, как с теми будет, кто против нас воевал. В Сибирь, говорит, загонят, наверно. «Сибири-то, — я ему говорю, — ты не пугайся. Сибирь — это тебе не каторга, там хорошие люди живут и раздолье не то, что у вас. Солдатам и офицерам, которые не по своей воле на войну пошли, мы, — говорю, — зла никакого не сделаем. А вот уж фашистов, правители которые, да таких вот, как ваш староста Дьердь… Делал зло людям, теперь сам отвечай». Соглашается Золтан, со всем соглашается, а в душе-то, чую я, кошки скребут. Два сына у него против нас воюют, вот и беспокоится старик…
Шопот Анашкина и приятная теплота разморили Тоню. Она старалась не спать, но глаза закрывались сами, и смутные видения туманили сознание.
…Мать, невысокая, сгорбленная, стоит у порога и смотрит из-под ладони на заходящее солнце. Кругом снег, а кучерявая вишня вся в цветах. Жужжат пчелы, шмель вьется над веткой и никак не может сесть. Голубые и розовые бабочки порхают с цветка на цветок. Тоне холодно, мерзнут руки и ноги, но она стоит и не может оторвать взгляда от вишни. Вдруг подул ветер, посыпались хлопья снега, и вишня разом оголилась, исчезли зеленые листья и нежнорозовые цветки. Только уныло качаются светлокоричневые мокрые ветви. Нет ни матери, ни дома. Злится вьюга. Из пелены снега выходит черная фигура. Тоня узнает в ней венгерского старосту Дьердя. Он, высокий и тонкий, похожий на колодезный журавль, шагает через сугробы и протягивает к Тоне жилистые, костлявые руки. Тоня пятится назад, но Дьердь подступает все ближе и ближе. Его уродливые пальцы с длинными крючковатыми ногтями тянутся к ее горлу. Тоня отмахивается руками, хочет закричать, но голоса нет, только рвется наружу сдавленный хрип. Холодные пальцы сжали шею и жмут, жмут, как клещами. У Тони потемнело в глазах, она чувствует, что сейчас упадет. Но вот давившие ее руки ослабевают. Тоня встряхивается и оглядывается вокруг. Дьердь, отмахиваясь руками, пятится назад. Рядом с Тоней стоит какой-то военный, похожий не то на генерала Алтаева, не то на майора Аксенова. Венгерский староста под его взглядом тает и через несколько секунд исчезает бесследно…
— Проснись, дочка, проснись скорее, — сквозь сон слышит Тоня и с трудом открывает глаза.
Свет горящей свечи бьет в глаза. У постели стоит Золтан. Лицо его взволнованно, губы мелко вздрагивают, на морщинистом лбу сверкают бусинки пота.
— Пойдем, выбираться будем, — шепчет он Тоне, — попробуй встать.
Ничего не понимая, Тоня смотрит на старого мадьяра.
— Пронюхали, разузнали про нас, — объяснил ей Анашкин, — бежать надо. Золтан спрячет нас в старой каменоломне.
Только теперь до сознания Тони дошла мысль об опасности. С помощью Золтана она надела валенки и телогрейку, кое-как застегнулась. Дрожали руки и ноги. Голова кружилась, и перед глазами мелькали красные круги.
По каменным ступенькам она с трудом поднялась наверх. На улице было темно и морозно. Где-то далеко слышалась артиллерийская стрельба. Золтан вел Тоню под руку. Позади Янош и какая-то женщина несли Анашкина. Снег хрустел под ногами. Холодный воздух обжигал лицо. Болезненно звенело в ушах. Наконец добрались до какого-то оврага, по обломкам камней спустились в глубокий тоннель. Тут было тихо и тепло. Золтан что-то говорил, но Тоня не слышала. Ужас безвыходного положения охватил ее. Разбитое тело хотело отдыха.
XVIII
Близкие взрывы потрясали дом.
— Куда бьют? — спросил Алтаев.
— Больше по штабу артиллерии и штабу инженерных войск. Они на пригорке и, видимо, просматриваются противником, — ответил Дубравенко.
— Жертвы есть?
— Ранен телефонист и разбита одна автомашина.
— Переместить бы артиллеристов куда-нибудь, — предложил Воронков.
— Нет, — резко возразил Алтаев, — сейчас все на штаб армии смотрят. Никаких перемещений! Пусть в подвалах укрываются и работают.
Снаряды ложились все ближе и ближе. Один взорвался где-то позади дома.
— Нащупали, теперь житья не будет, — проговорил Воронков.
Алтаев покосился на него.
— Сколько людей отправили к Чижову? — спросил он, придвигая к себе записную книжку.
— Четыреста человек.
— Передайте Кучерову, чтобы завтра к вечеру дивизия Чижова была полностью укомплектована. Вы, товарищ Воронков, лично проследите.
— Товарищ командующий, — заговорил Дубравенко, — надо ожидать, что противник вот-вот введет в бой новые резервы. Его наступление явно выдыхается. Сегодня пятое января. Четверо суток идут бои, а успех-то не ахти как велик. Вчера и сегодня ни на шаг не продвинулся. Сейчас гитлеровцы сделают все, чтобы подтянуть резервы и усилить наступающую группировку.
— Да. Теоретически все это так… — ответил Алтаев, — теоретически. А где он практически возьмет резервы?
— Всего вероятнее, перебросит с запада. Из Италии уже подошла семьсот одиннадцатая пехотная дивизия и введена в бой на участке нашего правого соседа. Арденнский удар явно ошеломил союзников, они паникуют, и Гитлер спешит скорее довершить разгром американцев. Арденнский удар — это не операция местного значения.
— Это игра на нервах, — вставая, сказал Алтаев, — этим ударом Гитлер победу себе готовит. Стукнуть по англо-американцам, разъединить их армии, вызвать разложение в лагере союзников и заключить сепаратный мир с американцами и англичанами. Я уверен, что наступление немцев в Арденнах закончилось и больше не возобновится. Сейчас оттуда все дивизии потянутся к нам. Рано или поздно, но потянутся. Вот поэтому нам нужно скорее громить противника здесь. Время, любыми средствами нужно выиграть время.
Вошел полковник Фролов. Строгое лицо его было взволнованно, глаза настороженно смотрели сквозь очки.
— Товарищ командующий, — с порога заговорил он, — смысл ночных передвижений противника перед центром и левым флангом армии проясняется. Перебежавшие к нам солдаты венгерской армии показывают, что немцы сняли с левого фланга танковые дивизии и сосредоточивают их перед нашим центром.
— Перед центром? — переспросил Алтаев.
— Так точно. Вот здесь, — показал Фролов на карте.
— И какой же смысл этой перегруппировки?
— Могут быть два варианта. Первый — немцы перебрасывают эти танковые дивизии на наш правый фланг, усиливают свою ударную группировку и продолжают развивать наступление на Бичке и на Будапешт. Второй — эти танковые дивизии наносят удар по нашему центру, прорывают оборону и совместно с северной группировкой бьют на Будапешт.
— Да, — задумался Алтаев, — и тот и другой варианты возможны.
— Но для переброски на правый берег нужно пройти вдоль фронта не менее восьмидесяти километров. А это займет минимум одну-две ночи, — сказал Дубравенко.
И снова перед командованием армии встали противоречивые вопросы. Куда противник перебросит эти три танковые дивизии? Где он нанесет новый удар?
Алтаев, не отрываясь, смотрел на карту. Множество населенных пунктов, леса и перелески, десятки дорог, вьющихся в разных направлениях, разбросанные по всему фронту полки и дивизии. А противник перегруппировывает войска. Это не случайность. Это подготовка нового удара…
— Всего вероятнее, товарищ командующий, новый удар будет в центре, — заговорил Дубравенко. — Противник рассчитывает, что наш центр и левый фланг ослаблены, а наши главные силы стянуты к правому флангу, где идет его наступление, и местность к тому же в центре очень удобна для действий танков. Равнина, открытая равнина.
— Равнина, равнина, — отозвался Алтаев, — а почему же он раньше по этой равнине не ударил?
— Слабое место искал. А тогда наш правый фланг был безусловно самым слабым местом.
— Товарищ командующий, из Чабди прибыли мои офицеры, — поговорив по телефону, доложил Воронков.
— Кто у них старший? Вызывайте сюда.
— Аксенов. Он здесь.
— Пусть заходит.
Аксенов вошел бледный, с красными, воспаленными глазами и, строго глядя на Алтаева, доложил о прибытии.
— Что там? Докладывайте, — пожав ему руку, приказал Алтаев.
— Ночью немцы прорвались на южную окраину Чабди. Части генерала Цветкова были окружены, кое-кто запаниковал. Штаб дивизии и офицеры оперативного отдела и политотдела армии помогли комдиву наладить управление, и утром дивизия перешла в контратаку. Сейчас положение восстановлено. Части держатся устойчиво.
Дубравенко смотрел на Аксенова и не узнавал майора. Обычно энергичный и жизнерадостный, он сейчас докладывал вяло, щеки рыжели колючей щетиной, глаза устало закрывались, под глазами синели мешки.
— Что с ним? — тихо спросил он у Воронкова.
— Измотался. Он за четверо суток не больше пяти часов спал.
— Немедленно дать ему отдых. Спать не меньше восьми часов.
— Очень здорово дерутся наши, особенно танкисты, — продолжал Аксенов. — Там наш член Военного совета прямо в окопах ордена вручает.
— На переднем крае? — спросил Алтаев.
— Так точно. Прямо в окопах. И как это сильно действует, — оживился Аксенов. — Один солдат, получил медаль и заплакал. Я спросил его, в чем дело, а он отвечает: «Как же, товарищ гвардии майор, удержаться-то? Я же, сукин сын, сдрейфил сегодня ночью. Вы же меня в чувство привели. А тут сам генерал, член Военного совета медаль мне в окоп принес. А за что, собственно? Ну, косил я их из пулемета. Но ведь это было потом, а ночью-то драпанул».
Аксенов улыбнулся, вспомнив лицо солдата. По улыбке майора Алтаев представил, каким был тот солдат и как смотрел на него Шелестов.
— А противник, товарищ командующий, не тот совсем, что в первый день. Выдыхается, на глазах выдыхается. Поднимутся в атаку, покричат — и назад. И танки тоже: высунутся из-за бугра, стрельнут два-три раза — и опять за укрытие. Потери огромные. Я двух пленных привез. Разведчикам передал. Один из батальона «Норге» танковой дивизии «Викинг» говорит, что в батальоне было восемьсот человек, а сейчас осталось меньше двухсот. Второй — офицер, командир первой роты мотополка дивизии «Мертвая голова». У них в ротах было по сто и более человек, а сегодня к утру у него осталось сорок человек, а во второй роте только четырнадцать.
Слушая доклад майора, Алтаев понял, что случилось то самое, чего он все время ожидал. В непрерывных атаках ударная группировка гитлеровцев обессилена, и теперь успех боев на правом фланге явно определился в пользу гвардейцев.
— Ваши все люди вернулись? — спросил Алтаев, чувствуя, что майор взволнован не только событиями на фронте.
— Нет. Погиб майор Брунцев. С мотопехотой на бронетранспортере в контратаку пошел. Из-за высоты «тигры» вырвались и смяли группу Брунцева. Саша сам стрелял, гранатой подбил «тигра», но… Их было много, а на бронетранспортере — несколько человек. Мы бросились на помощь… Не успели. Даже труп его не удалось вытащить.
Алтаев передохнул и стиснул кулаки. Дубравенко молча кусал губы. Воронков отвернулся к окну. Плечи его сутуло сжались. Над белой полоской подворотника набухли две синие жилы.
— Передайте всем офицерам благодарность Военного совета. Отдыхайте, — Алтаев обеими руками сжал Аксенову руку и провел его до двери.
— Товарищ Воронков, — возвратясь к столу, отрывисто сказал он, — сегодня же дайте мне наградные листы на всех, кто ездил с Аксеновым, всех наградить!
— Ах, Брунцев, Брунцев, хороший был человек, — горестно качал головой Дубравенко.
— У него есть семья? — опустив голову, спросил Алтаев.
— Жена и двое детей, — ответил Воронков.
На лице Алтаева проступала болезненная желтизна, руки машинально двигались по столу, что-то отыскивая. Потом он шагнул в сторону, присел и взволнованно сказал:
— Я сегодня письмо им напишу, пошлем от имени Военного совета. А вы посылку соберите, да получше. И вообще семьям погибших помогать надо, не забывать о них. А мы часто забываем в спешке, в суматохе, недосуг все. А это семьи наших товарищей.
Он снова склонился над картой. Генералы и полковник молча смотрели на его крупную голову. Все знали, что сейчас командующий должен принять решение, и каждый понимал, как трудно это сделать.
Алтаев думал о том, что произойдет в полосе гвардейской армии, когда он примет решение и когда начнут действовать войска. Он ярко представлял, как на холмы между лесистыми горами Вертэшхедьшэг и озером Балатон с юга, с востока и северо-востока двинутся танковые и механизированные бригады, артиллерийские и минометные полки, саперные роты и батальоны, двинутся сотни, тысячи людей. И он видел этих людей, простых и скромных советских людей, у каждого из которых своя жизнь, свои мечты, желания, надежды и многим из которых придется пожертвовать жизнью. И это сознание ответственности за жизнь других людей, людей ему подчиненных, всегда заставляло Алтаева искать десятки различных вариантов решений и выбирать из них только то, которое сможет обеспечить выполнение боевой задачи с наименьшими потерями.
Алтаев знал, что его часто обвиняют в суровости, в жесткой, непреклонной требовательности к подчиненным, но твердо знал он также и другое — жизнь человека на войне зависит от многих случайностей и чаще всего жизнь человека определяется деятельностью его начальников, Правильно действует начальник, умеет он учитывать все особенности складывающейся обстановки и соответственно этим особенностям организовывать боевые действия — жизнь его подчиненных меньше всего будет подвергаться напрасной опасности. Поэтому всегда, в тяжелых боях и в спокойной обстановке, Алтаев требовал, чтобы его подчиненные — работники штаба, командиры корпусов, дивизий, бригад — действовали точно и целеустремленно, постоянно помня и никогда не забывая, что в их подчинении находятся люди и что они отвечают за их жизнь.
Сейчас, когда были вскрыты новые замыслы противника и нужно было решить, как сорвать эти замыслы, сохранить свои силы и разгромить врага, Алтаев думал о людях, которые должны это сделать, и у него не возникало никаких сомнений в том, что они сумеют выполнить свою трудную и ответственную задачу.
— Так вот, — резко встав, стукнул Алтаев кулаком по столу, — где бы они ни ударили, мы их все равно остановим! Центр усилить артиллерией за счет левого фланга. Пусть гитлеровцы думают, что я все поснимал с центра. Вот они стоят, механизированные и танковые бригады. Я и берег их для этого случая. Много раз хотелось мне снять их и бросить на правый фланг. Но удержался все-таки. Удержался, несмотря на то, что трудно было, он, как трудно! Сейчас перебросить в центр всех саперов. Минировать, минировать, все минировать! Артиллерийские резервы подготовить для переброски в центр. Но главное внимание — правому флангу. Константин Николаевич, вызывайте всех командующих родами войск и начнем планировать отражение нового удара.
XIX
Аксенов открыл глаза и прислушался. За стеной кто-то приглушенно разговаривал. В печке потрескивали дрова. Сквозь закрытые ставни сочились скупые проблески света. Пахло сушеным виноградом и какими-то травами.
«Девять часов проспал», — взглянув на часы, подумал он и рывком вскочил с постели.
Бесшумно вошел Буканов. В последнее время он добровольно взял на себя обязанности ординарца Аксенова, и майор всегда чувствовал заботу шофера.
— Что в отделе? — спросил Аксенов.
— Работают, а кто с вами ездил, спят все. Генерал приказал не тревожить, пока сами не проснутся.
— Противник стреляет?
— Да еще как!.. Вот только недавно притих. Все утро долбил, аж стекол ни в одном доме не осталось.
— У нас никто не ранен?
— В роте охраны три солдата.
Буканов сбегал за водой и кружку за кружкой лил на руки майора, неумолчно рассказывая о последних новостях:
— Танков, говорят, немецких сотни пожгли. И все только «тигры» да «пантеры». Наш генерал всем гранаты приказал приготовить. И для вас я лимонок семнадцать штук и девять противотанковых припас. Мы всю ночь дежурили, думали, прорвутся. Только ничего, удержались наши. Говорят, товарищ гвардии майор, немцы где-то в другом месте штук триста танков скопили, вот-вот рубанут.
— Откуда знаешь?
Буканов лукаво усмехнулся и подмигнул майору:
— Солдаты все знают. Нынче утром Второй Украинский в наступление перешел, на Комарно стукнули, по дунайскому берегу. Нам помогают.
— Что? Второй Украинский? — переспросил Аксенов.
— Ага. Маршал Малиновский. Да вы мойтесь, товарищ гвардии майор, вода-то льется, вон все сапоги забрызгали.
Эта новость удивила Аксенова. Он отмахнулся от завтрака и побежал в отдел. Действительно, войска Второго Украинского фронта на рассвете 6 января перешли в наступление от реки Грон и быстро продвигались по северному берегу Дуная в направлении Комарно. Это резко меняло всю обстановку под Будапештом. Левый фланг ударной группировки противника был поставлен под угрозу. А выход войск маршала Малиновского в район Комарно ставил под удар глубокие тылы противника.
Генерал Воронков только что получил из штаба фронта последние данные о продвижении войск Малиновского. Красные стрелы танковых соединений и частей устремились на запад, от района боев гвардейской армии их отделяла только километровая полоса Дуная.
Аксенов долго смотрел на карту генерала. Перед ним промелькнули все события шестидневных ожесточенных боев. Если в первые часы наступления противника бойцы полковника Чижова один на один дрались с фашистскими танками и пехотой, то уже к утру, через три-пять часов после начала наступления, одна за другой вступили в бой части резерва командующего армией, затем командующего фронтом. И вот теперь Ставка Верховного Главнокомандования сказала свое решающее слово.
Грандиозная картина величайшего взаимодействия встала перед глазами Аксенова. Все — от солдата-пехотинца на переднем крае до Ставки Верховного Главнокомандования — принимали участие в разгроме врага. В первые дни войны, на полях Белоруссии и даже в последующем — под Смоленском и на подступах к Москве, Аксенов не замечал тесной сплоченности разных частей в бою. Ему вспомнилось первое крупное наступление в сентябре сорок первого года под городом Ярцево на реке Вопь. Ранним утром его батальон рванулся и за час вклинился в оборону противника на четыре километра. Неудержимой лавиной катились вперед стрелковые роты, сминая противника. Уже казалось, что вот-вот они вырвутся на простор и в этот же день прорвутся к Смоленску. Но тут случилось то, чего не ожидали ни он, молодой комбат Аксенов, ни командир полка, ни командир дивизии. В самый разгар наступления артиллерия осталась где-то за рекой и прекратила огонь, танки застряли в болотистом ручье и оторвались от пехоты. Противник оправился от удара и начал непрерывно контратаковать. Налетела его авиация, подошли танки и штурмовые орудия. Два дня батальон Аксенова продолжал наступление, но продвинуться так и не смог.
С горечью и болью вспоминал теперь Аксенов об этих боях.
Прошло сравнительно немного времени, и все переменилось.
Позади остались Сталинград, Курская дуга, Днепр, Корсунь-Шевченковский, днестровские переправы, Молдавия, Румыния, Болгария. С каждым днем росло мастерство воинов, наливалась могуществом и силой Советская Армия, из мелких крупиц боевого опыта кристаллизовались воинская умелость и искусство бить врага в любых условиях.
— Как отдохнул, Аксенов? — спросил Воронков.
— Спасибо, товарищ генерал, хорошо.
— Сейчас вам снова придется ехать.
Воронков, прихрамывая, прошел по комнате и прихлопнул полуоткрытую дверь. Он, видимо, простудился, лицо горело нездоровым румянцем, белки глаз наливались краснотой.
— Поедете в Замоль. Там противник стягивает танковую группировку для нового наступления. Вероятно, завтра с утра начнет атаки. Ваша задача: проверить боевую готовность частей генерала Афанасьева, на месте уточнить обстановку и периодически докладывать о всех изменениях. Армейский наблюдательный пункт будет рядом с НП генерала Биркова. Вы будете находиться в дивизии Афанасьева. Задача ясна?
— Так точно, товарищ генерал.
— Немедленно выезжайте и приступайте к работе. Обратите особое внимание на готовность артиллерии и постановку противотанковых мин.
— Ясно.
— Всего доброго.
— Счастливо оставаться, товарищ генерал.
На улице моросил по-осеннему промозглый дождь. Дорога обледенела, и Аксенов несколько раз поскользнулся, пробираясь к соседнему дому. Под наростом льда грузно провисали телеграфные провода. Измученные связисты метались по линиям, исправляя бесконечные порывы и восстанавливая связь.
— Завтракать, товарищ гвардии майор, — встретил Аксенова Буканов, — мы такое сообразили… И винца раздобыли.
— Готовь машину, сейчас едем.
— Машина всегда готова, только не везет нам с вами, опять разобьют.
— Разобьют, новую не получишь. В пехоту переведем, — усмехнулся Аксенов, дружески обнимая шофера.
— Это уж мы, будьте уверены, и в пехоте послужим.
Аксенов торопливо позавтракал. Шоферы оперативного отдела окружили его, наперебой расспрашивая:
— Будут гитлеровцев судить за наших парламентеров убитых?[6]
— А Бичке еще держится, товарищ гвардии майор?
— Ну, что вы пристали, дайте покушать в конце концов, — отбивался от надоедливых шоферов Буканов. — Давай к машинам. Нечего языком трепать.
Аксенов отвечал на вопросы водителей и с благодарностью посматривал на Буканова. Ночь в тылу противника окончательно сроднила их.
— Товарищ майор, — выпроводив шоферов, участливо заговорил Буканов, — я узнал все. Настя находится тут совсем рядом, в господском дворе. Заскочим на минутку?
Аксенов развернул карту. До господского двора было всего восемь километров, но он находился в противоположной стороне от дороги на Замоль. Полковник Чижов сказал ему, что Настя жива и здорова, но Аксенов не совсем поверил этому. Вчера он послал Насте записку с мотоциклистом связи, но ни мотоциклиста, ни ответа не было. Он еще раз посмотрел на карту. К господскому двору вела плохая грунтовая дорога. Ее трижды пересекали глубокие овраги. Около пятнадцати километров приходилось делать крюку, а на это нужно время. Он вспомнил о гололедице и со вздохом ответил:
— Нет, сейчас не успеем. Времени мало, а дорога там — не пробьешься. Как-нибудь на обратном пути.
— Да что вы, товарищ гвардии майор, делов-то на полчаса всего, — уговаривал Буканов.
— Нет. Надевай цепи и поехали.
Неширокая, мощенная булыжником дорога петляла вокруг высот. В балках и на склонах холмов буксовали машины с боеприпасами. Какая-то артиллерийская часть застряла у берегов узенького ручейка. Гомон и крики дрожали в сыром воздухе. Гусеничный трактор одну за другой цеплял машины и, как игрушки, втаскивал их на гору.
Аксенов подумал о дорогах в полосе армии. Все кругом обледенело. Сотни балок и высот кромсали многочисленные дороги. И каждая балка, каждая высота сейчас были неприступны для колесного транспорта. Только гусеницы беспрепятственно пробирались везде. Но сколько нужно тракторов и тягачей, чтобы обеспечить движение колесных машин хотя бы по основным дорогам? Сотни, десятки сотен. Аксенов знал примерно, на что способны дорожные части армии, и перед ним сейчас вырисовывалась безотрадная картина. Тракторы и тягачи выбиваются из сил. Сотни автомобилей с боеприпасами, продовольствием, горючим, с пушками и пулеметами, с пехотой и саперами стоят беспомощно по оврагам и балкам, стоят и не могут сдвинуться с места. А на фронте идут бои. Нужны боеприпасы, горючее, подкрепления. Немцы наступают главным образом танками. Широким лапам гусениц не страшна никакая гололедица.
«Какие-то меры нужны, срочные меры, — раздумывал Аксенов, — или все грузы останутся в тылах и не дойдут до фронта. Войска останутся без боеприпасов, без резервов и подкреплений».
Чем ближе продвигался он к фронту, тем все больше «пробок» встречалось на дорогах. Юркий двухдиферный автомобиль с цепями на колесах с трудом пробирался вперед. У въезда в небольшой поселок Аксенова остановил знакомый командир армейской телефонно-кабельной роты.
— Товарищ гвардии майор, дайте хоть литр горючего. Все пожег, а на линии — порыв за порывом. Просто беда! Этот проклятый дождь все угробит.
Рядом со старшим лейтенантом, грязные и измученные, стояли связисты. По их лицам Аксенов видел, как трудно доставалось связистам в эти дни. Тут, пожалуй, было не легче, чем на переднем крае.
— Сколько у нас банок в запасе? — спросил Аксенов.
— Две канистры, — вяло ответил Буканов.
— А в бачке?
— Полный был, а с такой дорогой четверть, наверно, осталось.
— Отдайте канистры старшему лейтенанту.
— Товарищ гвардии майор, — заерзал на сиденье Буканов, — а сами как же, в поле стоять будем?
— Не будем. Передавайте, — оборвал его Аксенов.
— Одну дам, а вторую ни за что, — упрямо насупился Буканов, по-медвежьи, задом выбираясь из машины, — свой бензин порастранжирили, а теперь клянчат.
— Эх, ты! Порастранжирили! — не удержался маленький курносый солдат в заляпанной грязью стеганой куртке. — Поездил бы с наше, не пел бы так.
— С ваше, — зло обернулся к нему Буканов, — а мы вроде по проспектам раскатываем.
— Немедленно отдать обе канистры! — прикрикнул Аксенов.
— Хватит им и одной.
— Прекратить разговоры, — рассердился Аксенов.
Буканов резко выпрямился и — руки по швам — вытянулся перед майором. На его взволнованном лице кипело негодование, но в глазах таилось почтительное уважение к майору.
— Слушаюсь, отдать обе связистам, — бодрым голосом отчеканил он и лихо приложил руку к ушанке.
Связисты бросились помогать Буканову. Он отстранил их и сам, громыхая железом, отвязал канистры.
— Беспрерывно рвутся провода, не успеваю восстанавливать, — рассказывал старший лейтенант, — люди просто из сил выбились. На ходу засыпают.
С контрольной станции Аксенов связался с генералом Воронковым и доложил ему, что творится на дорогах. Генерал подробно расспрашивал, где и сколько застряло машин.
— Я насчитал больше двухсот. Только одно спасение — тягачей побольше, тракторов… Установить круглосуточное дежурство в самых трудных местах и перетаскивать машины. Хорошо бы на подъемах песку подсыпать, гальки, щебня. Тут как раз на дороге много ремонтного материала. И песок есть, и щебенка, и галька. Людей только, товарищ генерал, людей мало.
Связисты высыпали провожать майора. Буканов, видимо, успел с ними подружиться и что-то прятал под сиденье, воровато скрывая от Аксенова глаза.
Старший лейтенант уговаривал майора отведать горяченького супца, но Аксенов наотрез отказался.
— Спасибо, большое спасибо! — кричал вслед машине старший лейтенант. — Заезжайте, когда время будет. Угостим, по-связистски угостим.
— Что под сиденье прятал? — спросил Аксенов Буканова.
— Когда? — удивленно спросил шофер.
— Ночью, когда твоя машина горела, — улыбнулся Аксенов.
Буканов нахмурился и надавил на педаль. Машина рванулась, разбрызгивая ошметки грязи. Аксенов пожалел, что напомнил Буканову о загубленной машине. Шофер тяжело переживал потерю нового автомобиля.
— Этого я никогда им не забуду, — сквозь зубы бормотал Буканов, — четыре машины угробили, доберусь до Берлина — у самого Гитлера отберу, а грузовых штук пять прямо в колхоз отгоню… нацеплю гуськом и погоню.
Впереди серела унылая равнина. Пелена моросящего дождя грязным покрывалом окутывала горизонт. В стороне от дороги чернели огневые позиции артиллерийских батарей. Перед ними едва приметными точками копошились люди. Аксенов догадался, что это саперы устанавливают мины.
С запада из туманного неба вынырнула группа «юнкерсов». Они летели, прижимаясь к земле и выискивая цели. Где-то слева застучали зенитные пушки. Один бомбардировщик косо отвалил в сторону и, объятый пламенем, рухнул на землю. За ним окутались дымом еще три «юнкерса». Остальные врассыпную метнулись в стороны, беспорядочно рассеивая бомбы. В разных местах полыхали взрывы. Ни одна бомба не попала на артиллерийские батареи. Только по краям дороги дымились глубокие воронки. Буканов, не изменяя положения, спокойно вел машину.
— Нарвались, — улыбаясь, кивнул он в сторону дымных костров. — Поминай, как звали, и косточек не соберешь.
Аксенова удивило спокойствие шофера. Неужели он теперь не боится авиации?
— Что же ты не остановился? — спросил он Буканова. — Могли бы прямо в нас угодить.
— Ай, товарищ гвардии майор, — небрежно отмахнулся Буканов, — всякой бомбе не накланяешься. Эдак, ежели перед каждым фрицем останавливаться — и не доедешь до Берлина.
Аксенов улыбнулся, радуясь перерождению шофера. Этот славный паренек подавил свою слабость.
Показались крыши домов села Замоль. Здесь располагались штабы генералов Биркова и Афанасьева. Из черного зева подвала выглянула какая-то закутанная в шаль фигура и тут же скрылась обратно. На перекрестке машину остановил патруль. Аксенов показал документы и спросил, где штаб генерала Афанасьева. Солдат ответил, что на высотке, в километре от села.
Аксенов с первого взгляда узнал эту знаменитую высоту двести двадцать пять. Во время наступления она восемь раз переходила из рук в руки. Обильно политая кровью и истерзанная гусеницами танков, она, видимо, снова станет местом ожесточенных боев.
Генерал сидел за маленьким дощатым столом в тесном блиндаже. На его плечах топорщилась забрызганная грязью, непросохшая шинель. Гладко причесанная голова почти упиралась в бревенчатый потолок. Позади генерала виднелась постель, прикрытая серым суконным одеялом. На стене висел автомат и пониже него — каска с двумя большими вмятинами не то от пуль, не то от осколков. Афанасьев повернул к Аксенову полное лицо.
— Опять контролировать приехал, — подавая руку, шутливо проговорил он. — Ну, давай, Николай Сергеевич, нам не привыкать. Сам недавно в твоей шкуре был.
Генерал Афанасьев под Сталинградом был начальником оперативного отдела штаба армии и хорошо знал службу штабных офицеров.
— Ну, садись, рассказывай, что нового? — придвинул он майору колченогий табурет.
— У вас теперь самое новое, товарищ генерал, — ответил Аксенов, — на правом фланге противник выдыхается, а перед вами готовит удар.
— Да, готовит, черт бы его взял, готовит, — что-то обдумывая, пробасил генерал, — я только с переднего края. Тишина у него просто удивительная. Даже стрелять перестал. Все вот эти полмесяца, пока сижу я здесь, житья не давал, безумствовал. Артиллерия и минометы днем и ночью салят и садят напропалую. Результатов, правда, почти никаких, но покоя ни на минуту. Мои в землю влезли, ничем не достанешь. А последние два дня как вымерло все.
Генерал опустил голову на руки и всей грудью вздохнул. Аксенов увидел, что за последний год генерал здорово постарел. Мясистые щеки и подбородок с неглубокой ямочкой разрубали косые морщины. В глазах сквозили усталость и тревожное ожидание. Он курил папиросу за папиросой.
От НП командира дивизии к переднему краю вел глубокий, хорошо оборудованный ход сообщения. От него, как от центральной улицы, ответвлялись в стороны траншеи и ходы сообщения.
Аксенов привстал на земляную приступку и выглянул из траншеи. В неярких лучах предзакатного солнца снежные просторы, казалось, дымились легкими испарениями. На равнине, там, где проходила наша оборона, торчали обугленные остатки строений. Только снег, испятнанный чернотой, — и нигде ни одной живой души, ни одного признака движения. Глядя на это застывшее безмолвие, нельзя было подумать, что здесь, вот на этой равнине, располагаются тысячи людей, сотни пушек, пулеметов, минометов, танков и что здесь кипит сейчас сложная, напряженная жизнь.
Пустынно было и в расположении противника. Виднелись только очертания его первой траншеи и проволочные заграждения перед ней.
Передний край противника и высоты за ним господствовали над нашими позициями. С них хорошо просматривалось все наше расположение. Глядя на высоты и позиции противника, Аксенов подумал, насколько трудным было положение частей генерала Афанасьева. Каждое их движение противник видел и в любое место, как на полигоне, мог стрелять с возвышенностей.
На правом фланге дивизии генерала Афанасьева начинались те самые горы Вертэшхедышэг, в северных отрогах которых, в сорока километрах от частей Афанасьева, дивизия полковника Чижова встретила первый удар противника.
Левее частей Афанасьева, на юге, виднелись трубы заводов города Секешфехервар.
Во все стороны от города тянулись шесть железных, восемь шоссейных и большое количество грунтовых дорог. И этот крупнейший узел дорог был сейчас в руках гвардейской армии. От него шли пути в расположение противника на города Комарно, Веспрем, Надьканижа и далее в Чехословакию, Австрию, южную Германию и Югославию. Отсюда же уходили основные магистрали на Будапешт, на болгаро-венгерскую границу, к берегам «мадьярского моря» — озера Балатон.
И вот теперь здесь, на местности, перед Аксеновым отчетливо вырисовывались замыслы противника. Ударить по равнине между горно-лесным массивом и городом Секешфехервар, смять части генерала Афанасьева, где-то в Бичке соединиться с главной ударной группировкой и всеми силами рвануться на Будапешт.
Чем это кончится? Сумеют части Афанасьева отразить новый удар противника? От этого сейчас зависела судьба стовосьмидесятитысячной окруженной группировки.
Эти мысли волновали и тревожили Аксенова, когда он роту за ротой обходил позиции частей генерала Афанасьева.
Везде было необычайно оживленно. По лицам солдат и сержантов чувствовалось тревожное ожидание боя. Дежурные расчеты настороженно выглядывали из бойниц. На ротных и батальонных наблюдательных пунктах офицеры — пехотинцы, артиллеристы, минометчики, танкисты — договаривались о совместных действиях.
В подразделениях то и дело встречались офицеры штабов корпуса, дивизии, полков.
В подбрустверной нише, похожей на грот, продолбленной в прибрежной скале, сидели на земляной скамье и стояли на коленях восемь человек. Они склонились вокруг маленького большеголового сержанта с коричневыми, слегка косившими глазами.
— Комсомольская группа истребителей танков, — доложил Аксенову заместитель командира батальона по политической части, — возглавляет сержант Нефедкин, туляк, называет себя земляком Льва Николаевича Толстого. Подбил гранатами четыре фашистских танка и один бронетранспортер.
Нефедкин встал, одернул выглядывавшую из-под телогрейки гимнастерку и отрапортовал:
— Истребители танков отрабатывают, как сподручнее палить «тигры» и «пантеры».
Аксенов присматривался к маленькому сержанту и невольно сравнивал его с Платоном Каратаевым из «Войны и мира». «Земляк» Толстого много имел внешнего сходства с Каратаевым. И Аксенов подумал: не писал ли Толстой своего Каратаева с кого-нибудь из предков сержанта Нефедкина?
— Мы, товарищ гвардии майор, — певучим голоском объяснял Нефедкин, — располагаемся вот в этих «усах», в каждом по два человека, подпускаем танки и бьем их гранатами и бутылками.
То, что он называл «усами», были узкие и глубокие окопы, ответвлявшиеся от первой траншеи в сторону позиций противника.
Они были настолько узки, что в них передвигаться можно было только боком, но на дне легко скрывался с головой самый высокий человек. В стенах были выдолблены приступки, по которым можно было подниматься наверх.
— Как только танк подходит на расстояние броска, в него летят гранаты и бутылки, — старательно разъяснял Нефедкин, — по одному танку можно бить сразу с двух и даже с трех сторон.
Он говорил уверенно и неторопливо. Глаза изредка косили на почтительно стоявших солдат его группы. В руках он держал армейскую газету «Красное знамя» и листовку. В них описывались способы борьбы с фашистскими танками и указывались уязвимые места «тигров» и «пантер».
— А в общем, товарищ гвардии майор, — закончил Нефедкин, — пусть только сунутся. В дымные костры превратим, в порошок сотрем.
Нефедкин воинственно размахивал гранатой без запала и озлобленно сверкал глазами, будто перед ним уже громыхал фашистский танк.
В изломе траншеи Аксенов лицом к лицу столкнулся с командиром корпуса генерал-лейтенантом Бирковым. В легкой зеленоватой бекеше генерал казался не по званию молодым и стройным. На чисто выбритом лице его играл здоровый румянец. Глаза пытливо присматривались к окружающему. Аксенов кратко доложил ему обо всем, что видел. Генерал молча кивал головой и что-то отмечал в записной книжке.
— Обратите внимание на свой левый фланг, — сказал он стоявшему позади него командиру полка, — я говорил вам об этом, и вот майор то же самое докладывает. Ночью установить еще парочку орудий, и мин, побольше мин ставьте. Это место самое опасное.
Генерал говорил, слегка кривя губы. Темные глаза его были беспокойны и тревожны. Он, видимо, волновался и переживал больше всех, но ничем не хотел выдавать своего волнения.
— Пленных нет, вот беда, — проговорил он, — каждую ночь разведчики лазят — и никакого толку.
В ближайшей батарее Аксенов застал только дежурных. Все остальные ушли на комсомольское собрание. Пожилые, в большинстве усатые солдаты радушно встретили майора. Они рассказали, куда подготовлен огонь и какими сигналами его можно вызвать, открывали замки, — и Аксенов видел поблескивающие, слегка смазанные стволы, — показывали ниши с аккуратно уложенными в рядки снарядами. Почти все снаряды были бронебойные. На щитах орудий висели небольшие плакаты, где были нарисованы немецкие танки и красными точками отмечены наиболее уязвимые места. И опять Аксенову вспомнился сорок первый год. Не так, совсем не так было тогда на огневых позициях батарей.
— Товарищ гвардии майор, может, на комсомольское собрание пройдете? — спросил высокий седоусый сержант с красным, опаленным лицом.
Аксенов хотел было отказаться. Впереди еще было немало работы, а солнце давно уже окунулось в синеву дальних лесов. Подступал по-осеннему темный вечер.
— Там же не только комсомольцы, и старички пошли, — сожалеюще вздыхая, объяснил сержант, — одни дежурные только остались. Собрание-то открытое, всем интересно.
Аксенов решил хоть на несколько минут зайти на собрание.
По извилистому ходу сообщения спустились в лощину. Тут было уже сумрачно. В апарелях[7] чернели замаскированные тягачи. Из разбросанных по склонам землянок по-домашнему уютно струились дымки. Откуда-то припахивало печеной картошкой.
Собрание проходило в самой просторной землянке. Но и она не могла вместить всех. У настежь распахнутой двери сидели, склонив головы к входу, человек двадцать артиллеристов. Они потеснились, пропуская майора.
Аксенов присел на снег у двери. Изнутри штук пять самодельных ламп разбрасывали красноватый свет. Собрание, видимо, протекало бурно. Речи выступавших то и дело прерывались аплодисментами.
— Слово предоставляется младшему технику-лейтенанту Ермолаеву, — объявил председатель.
У двери поднялся юношески стройный офицер. Он застенчиво склонил голову и приглушенно заговорил:
— Вопрос мы обсуждаем очень важный. И каждый из нас волнуется сейчас и переживает, как перед самым трудным экзаменом. Может, вот сейчас придется по тревоге броситься к пушкам и лицом к лицу столкнуться с фашистами. Они готовят удар против нас, стягивают танки, бронетранспортеры, артиллерию и минометы. Стягивают и хотят смять нас, уничтожить, кровью нашей залить венгерские поля…
Он шумно передохнул, полуобернулся, и Аксенов увидел его лицо. Полные губы резкими изломами опускались вниз, оттеняя худенький подбородок. Ясные глаза прикрывались слегка припухлыми веками. Рыжеватые волосы легкими кудряшками скатывались к небольшим ушам. На щеках, на подбородке и верхней губе золотился пушок. Видимо, он еще очень редко пользовался бритвой.
Много раз приходилось Аксенову слышать подобные выступления, но сейчас речь этого парня показалась ему как-то особенно взволнованной. И в тоне его ломкого голоса, и в скупых, неловких движениях рук, и во всем застенчивом лице чувствовались глубокое внутреннее волнение и большая ответственность за то, что он говорит. Настроение Ермолаева передалось и собранию. Солдаты, сержанты, офицеры напряженно вслушивались в его слова. В землянке наступила строгая тишина. Властвовал над всем только негромкий голос Ермолаева. К концу выступления лицо его разгорелось, руки все выше и выше взмахивали над головой.
— Погибать бестолку нельзя. Если придется, то умереть надо, как Александр Матросов.
Последние слова он проговорил отчетливо и медленно, встав во весь рост, как в строю перед боевым знаменем. В его голосе не было прежней робости.
Вслед за Ермолаевым, не спрашивая разрешения председателя, поднялся стройный и такой же молодой белокурый сержант.
— Я присоединяюсь к Сергею Ермолаеву и клянусь честью комсомольца драться с фашистами, как Александр Матросов, — прозвучал его звонкий голос.
В разных концах один за другим вставали артиллеристы и повторяли слова, только что сказанные их товарищем. Вместе с юношами-комсомольцами давали клятву и пожилые солдаты, и усатый парторг, и старшина батареи.
Поздно вечером Аксенов по ходу сообщения вышел в знакомую лощину. Его потянуло опять зайти в ту землянку, где было комсомольское собрание, и немного побыть у артиллеристов.
Подойдя к двери, он услышал веселый перелив аккордеона. Кто-то негромко пел «Любушку»:
Понапрасну травушка измята В том саду, где зреет виноград. Понапрасну Любушке ребята Про любовь, про чувства говорят.Он тихо приоткрыл дверь и вошел в землянку. Теперь ее освещала только одна лампа — гильза. Серые тени ползали по бревенчатым стенам и потолку. Вокруг стола склонились бледно освещенные фигуры людей.
Пел, оказывается, сам себе аккомпанируя, Сергей Ермолаев. На его коленях поблескивал аккордеон. Сергей откинулся к стене землянки и, прищурив глаза, негромко выговаривал слова песни. Он, видимо, весь отдался пению и ничего не видел вокруг. Пальцы механически двигались по клавишам.
Он стоит и каждый шорох слышит, Каждый камень видит впереди… Ничего особого не пишет, Только пишет: «Люба, подожди».У стола привстал командир батареи лейтенант Марков и шагнул навстречу Аксенову. Майор движением руки остановил его и присел на угол нар.
Ермолаев немного посидел молча и разом рванул мехи аккордеона. Буйная плясовая наполнила землянку. Кто-то в углу вскочил и вырвался в узенький круг около стола. Развернуться было негде, и плясун, взмахивая руками, топтался на одном месте. Самодельный стол закачался. Лампа чуть не опрокинулась, но кто-то во-время подхватил ее. Аксенов не видел лица плясуна. Оно скрывалось в полумраке под потолком. Перед глазами мелькала только широкая грудь с четырьмя медалями.
— Почта, почта приехала! — внезапно оборвав игру, выкрикнул Ермолаев.
Все обернулись к двери. В землянку вошел низенький, лет пятидесяти солдат и, ни на кого не глядя, подошел к столу.
— Не разом, не разом, — остановил он нетерпеливых артиллеристов. — Всем по порядочку, по старшинству. Вам два, товарищ командир батареи, — протянул он конверты лейтенанту Маркову.
Ермолаев тревожно посматривал на почтальона. Он стоял рядом с ним и не сводил взгляда с разноцветных конвертов. Уже были розданы письма сержантам, получали теперь солдаты, а ему все ничего не было. Он хмурил брови и сердито кусал губы.
— Вот и все, — заявил письмоносец и снизу вверх взглянул на Ермолаева. — А теперь самое главное.
Он расстегнул телогрейку, нащупал что-то в кармане и вытащил объемистый бумажник. Движения его были важны и неторопливы.
— Вот, товарищ лейтенант, и вам, — протянул он тоненькую пачку Ермолаеву, — два заказных, одно простое. И главное — все одним почерком. А почерк этот я давненько признал.
Ермолаев разорвал конверт и потянулся к лампе. Письмоносец молча стоял, не смея потребовать расписку на заказные письма.
Аксенов тихонько вышел из землянки. Небо снова расчистилось, и яркие звезды мерцали над землей. Вокруг была тишина. Заметно подмораживало, и слегка заледенелый снег потрескивал под ногами.
XX
Настя понуро бродила по усадьбе имения и не знала, за что приняться. Четвертый день, как дивизия по приказу командования вышла из тылов противника и разместилась на отдых. Где-то вдали гремела канонада. Там был город Бичке. В воздухе появлялись то наши, то немецкие самолеты. Завязывались короткие воздушные схватки. Распуская по небу хвосты черного дыма, падали сбитые самолеты.
Опустела, обезлюдела рота после боев в горах, на берегу Дуная. Погибли старший лейтенант Басов и молоденький лейтенант Махов. Пропали без вести капитан Бахарев, Тоня, Васильков, Анашкин, ефрейтор Сверчков. Не было в роте самых дорогих для Насти людей.
Милая вострушка Тоня! Как мечтала она попасть на фронт! Не провоевала и месяца, как закончилась ее боевая жизнь.
А Саша Васильков… С ним Настя всегда чувствовала себя свободно и легко. Его веселые, улыбающиеся глаза были так искренни и просты, что Настя, взглянув в них, могла точно сказать, о чем думает Саша. А в Молдавии, когда ее ранили, Саша больше километра тащил ее на спине, сам раненный в плечо. Только после узнала Настя, что Саша так и не ушел в госпиталь. Он остался в роте и, воюя, вылечился.
А дядя Степа! Где он теперь, неунывающий дядя Степа? В первые дни трудной фронтовой жизни он был единственным человеком, с кем Настя была откровенна. Вырвет он бывало свободную минутку, забежит в окоп, и начинаются нескончаемые рассказы. Житейской мудростью, русским добродушием веяло от каждого его слова. Часами мог рассказывать он, как хорошо по утрам выезжать в поле, когда землю покрывает сизая роса и в небо взвиваются вспугнутые жаворонки. Он знал бесчисленное множество разных историй и случаев. Вот посидит он бывало, потом привстанет, всей грудью вздохнет и скажет озабоченно: «Загостевался я у вас, девоньки, капитан-то мой, небось, опять в окопы убежал. Беспокойный, не сидится ему на месте».
Первый день отдыха и формирования прошел еще как-то терпимо. Отдыхали, вспоминали друзей и товарищей. Настя долго не могла уснуть в эту ночь. До рассвета пела гармонь. Буйную дробь выбивали за стеной солдатские сапоги. А утром началась обычная солдатская жизнь: зарядка, туалет, завтрак, занятия. В роту прибывали все новые и новые люди.
Новый командир роты старший лейтенант Рахматулин бегал, суетился, нервничал, кричал то на сержантов, то на солдат, но все в роте шло совсем не так, как при капитане Бахареве.
К Насте Рахматулин относился боязливо, никаких приказаний ей не отдавал, в редких разговорах краснел, смущенно улыбался, и по всему чувствовалось, что он с большим трудом входит в новую должность. Раньше и на занятиях было как-то интересно и весело. Выйдут бывало с Тоней вдвоем на стрельбище и, проверяя друг друга, изготавливаются, стреляют, маскируются. А сейчас Тони нет, а вместе с солдатами заниматься неинтересно. То, что отрабатывают молодые солдаты, она уже давно изучила и освоила на практике.
И все время, где бы ни была Настя, ее преследовала мысль об Аксенове. Она знала, что до штаба армии совсем недалеко, всего восемь километров, и собралась было отпроситься у Рахматулина и самой сходить в село Фелчут. Настя уже пошла было к старшему лейтенанту, но по дороге раздумала и вернулась. Ну как пойти в такое время, когда идут бои! Николай, наверно, уехал куда-нибудь. Иногда на нее наплывали сомнения. Почему он не сообщит о себе? Он, конечно, знает, что она была в бою. Разве долго черкнуть небольшую записку и прислать с кем-нибудь? И даже сам мог бы вырвать полчаса и заскочить хоть на минутку.
Настя взяла у старшины книгу, хотела почитать, но тревожные мысли бередили сознание. Неужели погибла Тоня? А может, и с Николаем случилось что-нибудь?
— Товарищ гвардии сержант, не хотите яблок свежих? — вбежал в дом ординарец Рахматулина Королев. Он, как догадалась Настя, взял над ней шефство и предлагал то и дело что-нибудь вкусное. То яблок раздобудет, то сушеного винограда, то вина «настоящего столетнего».
— Спасибо. Вы только что меня кормили яблоками, — принужденно улыбнулась Настя. — Занятия еще не кончились?
— Там приехал майор из штаба армии, сам показывает.
— Майор? — вскричала Настя. — Как фамилия?
— Не запомнил я. Такой стройный, выше нашего старшего лейтенанта и спокойный, не ругается совсем.
«Неужели он приехал? — билась радостная мысль. — Он, вероятно».
Настя выбежала из дому. Королев, запыхавшись, еле поспевал за ней. Вся рота лежала на снегу. Только Рахматулин и высокий офицер стояли, о чем-то громко разговаривая.
С первого взгляда Настя поняла, что это не он, но продолжала итти вперед. Майор, возможно, знает Аксенова и скажет что-нибудь о нем. Услышав голос Насти, майор и Рахматулин обернулись. На длинном остроносом лице майора затаилась улыбка. Рахматулин что-то говорил ему, глазами показывая на девушку. Тот утвердительно кивал головой и продолжал внимательно рассматривать Настю.
— Вот знакомьтесь, пожалуйста, наш снайпер Настя Прохорова, — сказал Рахматулин.
Майор четко приложил руку к ушанке и, как большому начальству, представился:
— Майор Брунцев. Старший помощник начальника оперативного отдела штаба армии.
— Брунцев? — испуганно вскрикнула Настя. — Саша Брунцев?
— Так точно, Александр Брунцев.
— Да вы что? — попятилась назад Настя. — Какой же вы Брунцев? Я знаю Сашу Брунцева.
Лицо майора передернуло судорогой. Он потянулся к кобуре, но быстро отдернул руку и веселым голосом ответил:
— Очень рад. Но, к сожалению, я не имел чести быть знакомым с вами.
— Да как же?.. Что же это?.. — обращалась Настя то к майору, то к Рахматулину. — Саша совсем не такой. Вы шутите.
— Ну, хватит рассуждений, — резко оборвал ее майор, — обознались, милочка. Фамилии перепутали. Продолжайте, старший лейтенант, занятия.
— Минутку, майор, — спокойно остановил его Рахматулин, — позвольте-ка ваши документики.
— Да вы что, шутить изволите? — возмущенно крикнул майор. — Я вам уже показывал.
На странный разговор подошли взводные командиры. Со всех сторон с любопытством прислушивались солдаты и сержанты.
— Уж, пожалуйста, извините, придется еще разок посмотреть, — развел руками Рахматулин.
— Никаких документов я вам не дам. Вы поплатитесь, лейтенант! — злобно выкрикивал майор, воровато кося глазами по сторонам.
— Руки вверх! — выхватив пистолет, крикнул Рахматулин.
Майор разом вскинул руки, и челюсть его мелко задрожала.
— Взять оружие, обыскать, — приказал Рахматулин лейтенанту Фомченко.
— Наш ТТ в кобуре и браунинг в кармане, — подал пистолеты Фомченко.
— Послушайте, да вы что?! — продолжал возмущаться майор. — Как вы смеете, я майор, старший по званию, представитель командования…
— Ничего. Ошибемся, извинения попросим, — отозвался Рахматулин, — свои люди, всегда разберемся. А если ты сволочь гитлеровская, то… Старшина, быстро к телефону, доложить комбату.
Майор угрюмо насупился, ни на кого не глядя. Вокруг него столпилась вся рота.
— Товарищ гвардии старший лейтенант, — доложил вернувшийся старшина, — приказано вам лично в штаб армии доставить, сейчас придет полковая машина.
— Фомченко, останетесь за меня, продолжайте занятия, — приказал Рахматулин, — со мной поедут Васильев, Стромец и Королев. Вы тоже поедете, Настя.
Всю дорогу неизвестный молчал. В штабе армии, видимо, знали о появлении майора Брунцева. Когда машина подошла к дому оперативного отдела, на крыльце стояли офицеры, солдаты, машинистки.
— Этот самый Брунцев?.. — подскочил к машине подполковник Можаев. — Ах, ты!.. Да Саша Брунцев погиб вчера под Чабди.
Он рванул майора за ворот и вытащил из кузова.
— Полегче, Можаев, — остановил его один из офицеров, — мы ожидали такого субчика. Позвольте мне с ним побеседовать.
— Настя! — закричала с крыльца Соня. — Вылезайте скорее, заходите к нам. Мы тут беспокоились за вас. Аксенов как вернулся вчера, так сразу полковнику Чижову звонил.
— А где он?
— Недавно уехал. Срочное задание. Он совсем измотался. Записку оставил вам. Просил с кем-нибудь переслать. Она у майора Сидорова. Сейчас найдем.
— Вот и снайпер наш, — подошел к девушкам генерал Воронков, — слышал о вас, слышал. А как ваша подружка? Веселая девушка…
— Тоня пропала без вести. И Анашкин пропал, Саша Васильков, капитан Бахарев, ротный писарь… — взволнованно говорила Настя, всматриваясь в знакомые лица.
Вокруг нее были друзья Николая. Он живет, работает с ними. Совсем недавно они его видели, разговаривали с ним.
— Да. Тяжело терять близких друзей. Очень тяжело, — вполголоса говорил Воронков. — У нас погиб Саша Брунцев. Аксенов еле выбрался.
— А где он был?
— Там же, где и вы. Я думал, что вы встретитесь. Может, по одной тропинке выбирались из тылов.
— А я не знала… не думала…
— Товарищ генерал, пусть она у нас хоть денек побудет, — упрашивала Соня, — отдохнет. Аксенов вернется.
— Не возражаю, только надо ее командира спросить.
— Кого? Этого старшего лейтенанта? — спросила Соня и побежала к Рахматулину.
— Знаете, товарищ генерал, — подходя, возбужденно заговорил Можаев, — оказывается, немец. Вчера они захватили труп Брунцева, забрали у него документы, подклеили новую фотографию — и вот вам, будьте ласковы, волк в овечьей шкуре. Он уже в двух наших дивизиях успел побывать. Все разнюхал, только ничего передать не успел.
— Уговорила, — возвращаясь, радостно прокричала Соня, — на два дня! Все равно, говорит, пока у нее работы по специальности нет.
Настя взглянула на Рахматулина. Тот стоял у машины и смущенно улыбался.
XXI
Генерал Афанасьев, видимо, не спал всю ночь. Он вошел в блиндаж начальника оперативного отделения мокрый с ног до головы и попросил стакан чаю погорячее.
Услышав голос генерала, Аксенов вскочил с нар и взглянул на часы. Было уже семь утра. Проспал он всего сорок минут.
— Спи, спи, — отхлебывая крупными глотками чай, кивнул ему генерал. — Оказывается, ты и Крылов из вашего политотдела всю мою оборону вдоль и поперек излазили. Куда ни приду, везде говорят: был у нас майор из штаба армии, а потом подполковник из политотдела.
— Всю оборону обойти не успел, темно, — улыбнулся Аксенов, — а вам бы, товарищ генерал, не мешало поспать. День-то предстоит не из легких.
Генерал скосил глаза в сторону майора, ничего не ответил. Допил стакан и попросил налить второй.
— У меня только начинается, я целый месяц бездельничал, — вновь заговорил он, добродушно посматривая на Аксенова, — а вот командарм и штаб армии вторую неделю ни сна, ни отдыха не знают. Сам шесть раз за ночь звонил. Беспокоится, поругивает. Ну, ладно. Спасибо за чай. Пойду переоденусь. Этот дождь — ни дна ему, ни покрышки — моросит и моросит.
Вместе с потоком влажного воздуха в землянку ввалилась темная фигура в плаще. Из-за капюшона виднелось смуглое продолговатое лицо инженер-майора Незнакомцева. Аксенов знал, что армейский инженер направил сюда Незнакомцева для руководства оборонительными работами, и теперь был рад встрече с ним. По службе им часто приходилось работать вместе, и Аксенову всегда было хорошо с невозмутимым, любящим точность инженером. Незнакомцев отбросил капюшон и неловко доложил:
— Установка мин закончена. Армейских саперов отвожу для минирования тыловых рубежей.
— А противотанковый ров? — спросил Афанасьев.
— Закончен. Ваша команда — и все взлетит в воздух.
— Кто руководит взрывом?
— Я.
— Прошу быть на моем НП.
— Слушаюсь.
Взглянув на Аксенова и Незнакомцева, генерал нехотя вышел из землянки.
— Ты где блукал всю ночь? — спросил Незнакомцев Аксенова.
— Там же, где и ты.
— Я все больше в тылу, а передний край так и не увидел. Эти проклятые фугасы, с ними столько возни.
Они вышли из землянки и прошли на НП. Возле стереотрубы согнулся высокий, широкоплечий капитан — начальник разведки дивизии Афанасьева. Он оторвался от наблюдения и доложил Аксенову последние данные обстановки. Перед всем фронтом дивизии не было никаких признаков подготовки наступления. Вражеские позиции упорно молчали.
Тучи низко плыли над землей. Они цеплялись за верхушки лесистых высот, и тогда казалось, что это не высоты, а высоченные горы, уходящие в поднебесье. От высот спускалось вниз клочкастое мелколесье. Там должны быть вражеские войска, сосредоточенные для наступления.
Внезапно в тучах образовался широкий просвет, и яркие, молодые лучи солнца озарили высоты и прилегающую к ним равнину. Множеством искр засверкали мокрые деревья, крыши домов, неубранные, заснеженные поля. Светлое пространство стремительно продвигалось, неудержимо приближаясь к тому месту, где находился наблюдательный пункт. И там, где проходила солнечная россыпь, покрывалось все яркими, сочными красками. Затемнели незаметные раньше траншеи и ходы сообщения противника. Перепутанные нити заграждений блестели намерзшим на проволоке льдом. Перед ними на фоне снега проглядывали зеленые куртины лугов. Трава, казалось, только что выбилась из земли и, набирая силы, разрастается и ввысь и вширь.
За лугом на пологой высоте открывались наши траншеи. В них кое-где виднелись каски, на мгновение показывалось человеческое лицо. От земли струился легкий пар. От траншей к наблюдательному пункту на высоте плавно поднималось чистое, белоснежное поле. Снег был настолько чист, что от взгляда на него рябило в глазах. И не верилось, что эта нежная белизна будет истоптана сотнями ног, истерзана гусеницами танков и взрывами снарядов.
— Как весной, — прошептал Незнакомцев, не отрывая взгляда от равнины.
Но вот из-за холмов наплыла новая туча и на земле все померкло.
— Товарищ гвардии майор, завтракать, — неизвестно откуда появился Буканов с узелком в руках.
— Откуда у тебя? — удивился Аксенов.
— Старые запасы, резервы, так сказать.
Буканов хозяйственно расстелил плащ-палатку на земляной приступке и развязал узелок. Там у него оказались: жареная курица, сладкий перец, или, как называли его по-мадьярски, «папрыка», штук десять котлет и большая бутылка вина.
— Дай бог связистам, чтобы у них провода не рвались. — Буканов налил в стакан вино.
— Им тоже наливай, майору, капитану.
— Если они нам возместят две канистры бензину, могу и с ними поделиться.
Незнакомцев и начальник разведки улыбались.
— Ну и взяточник ты, Буканов, беда — и только.
— При чем тут взяточник, просто взаимная выручка: помогай товарищу в беде и сам от него помощи требуй.
В стороне Бичке нарастал гул канонады.
— Ох, там жарковато сейчас, — проговорил Незнакомцев.
— А у нас тишина, — ответил разведчик, — неужели он все силы туда стянул?
— Приятного аппетита, — влезая на НП, проговорил генерал Афанасьев. — Продолжайте, продолжайте, — остановил он вскочивших офицеров, — сейчас только противник начал общее наступление на правом фланге армии, на узком фронте одновременно атакуют более двухсот танков.
Генерала позвал к телефону командир корпуса.
— Так точно… — заговорил Афанасьев. — Нет… Нет. Жду с минуты на минуту… Вполне возможно, отвлекают наше внимание… Нет, нет… У меня все люди на местах, все готово… И эта их провокация сорвется.
Вслед за ним генерал Дубравенко вызвал Аксенова. Он спрашивал о положении в дивизии Афанасьева. Аксенов хотел было ответить, что все вокруг тихо и никаких признаков подготовки наступления нет, но внезапно воздух загудел от сотен взрывов. Голос Дубравенко растаял в хаосе звуков. Все вокруг стонало и взвизгивало. Пороховая гарь, дым и отблески взрывов заполнили и воздух, и небо, и землю, и сыроватую свежесть раннего утра.
Генерал Афанасьев приказал всем немедленно спрятаться в землянках. У стереотрубы оставался только один капитан — разведчик. В блиндаже Афанасьев снова схватил телефонную трубку и злым голосом теребил командиров полков, командующего артиллерией, начальника штаба. Ходуном ходил накат над головой. Трудно было представить, что творилось наверху. Командиры частей докладывали, что все люди укрылись в блиндажах и что в окопах остались только дежурные наблюдатели. Командующий артиллерией доложил, что вся дивизионная, корпусная и армейская артиллерия открыла огонь по противнику.
— Танки противника выдвигаются на исходные позиции! — вскочив в землянку, крикнул разведчик.
Генерал выбежал на НП, Аксенов устремился за ним.
Генерал прильнул к окулярам стереотрубы. Аксенов схватил чей-то бинокль и долго не мог ничего рассмотреть. Он несколько раз протирал линзы и подгонял окуляры по глазам. Наконец сквозь туманную дымку мелькнуло что-то серое, потом зачернели траншеи противника, и он увидел темные коробки танков. Они, казалось, стояли на месте. Только по тому, как сокращалось расстояние между танками и линиями траншей, он убедился, что танки уже перешли в атаку. Сколько их было, Аксенов сосчитать не мог. Перед ними выросла огненная полоса взрывов. Это поставила заградительный огонь наша артиллерия. Один танк задымил. Остальные поравнялись с первой траншеей позиций противника и нырнули в лощину. За ними из траншеи выскакивали темные фигурки пехотинцев и катились вниз. Позади, от подножия сопок, полыхали выстрелами вражеские пушки. Впереди них прямо целиной мчались бронетранспортеры, автомобили, неуклюжие тягачи с пушками на прицепе.
Между нашими и немецкими позициями протекали неглубокие ручьи. Серьезного препятствия для танков они не представляли. Аксенову хотелось, чтобы сию же секунду пошел сильный дождь и превратил эти ручьи и луговую долину в топкое болото. Но дождя не было. Облака поднялись выше, и небо вот-вот очистится, засинеет бездонной пустотой, и вступит в дело авиация. А пока над полем боя не было ни одного самолета.
Танки долго не показывались. Аксенов видел, как из нашей траншеи вели огонь пулеметы и стрелки. Беспрерывно стреляли куда-то с открытых позиций пушки.
Справа к нашей обороне вырвались штук пятнадцать фашистских танков. Они уже почти подошли к траншее. Видно было, как по траншеям, суетясь, перебегали стрелки. По ходу сообщения замелькали черные фигуры. Аксенов замер от неожиданности. Неужели дрогнула пехота?
— Приведите в порядок людей на высоте! — закричал в трубку Афанасьев.
Из окопа рванулась и прыгнула в траншею серая фигура. Видимо, это побежал кто-то из офицеров спасать положение. У траншеи на минах подорвались два танка. Позади по всему фронту перебегали пехотинцы.
В это время штук десять танков вырвались к нашим позициям и на левом фланге. Головной шел прямо на расщепленное снарядом высокое дерево. Около этого дерева были устроены «усы» сержанта Нефедкина. Через бинокль рисовались черные ответвления этих «усов». Два танка поравнялись с деревом. До нашей первой траншеи оставалось не более семидесяти метров. Еще один рывок — и танки проскочат группу Нефедкина. Оборона на переднем крае будет раздавлена.
Первый танк накатился на один из «усов». Черная громадина закрыла узенький просвет окопа. Артиллерия прекратила огонь. Теперь стрелять нельзя: снаряды могли поражать свою пехоту. Неумолимо сокращалось расстояние между громыхающими махинами и нашей первой траншеей. Считанные метры — и двухтысячепудовые чудовища навалятся на стрелков, пулеметчиков, наблюдательные пункты взводных и ротных командиров. Заскрежещут под гусеницами каменистые траншеи, спасительная земля обвалится, и десятки людей будут раздавлены.
«Неужели группа Нефедкина погибла?» — тревожно думал Аксенов, до пояса высунувшись из окопа. Руки дрожали, перед глазами плясало дымное поле. В первой траншее суетливо перебегали люди. Огонь танковых пушек и пулеметов кромсал брустверы и снег на позициях. Головной танк почти вплотную подполз к траншее и остановился. Под ним взметнулся огонек, и через мгновение на башне показалось пламя. Задымили и два других танка. Закрутился на месте еще один. Уцелевшие танки неуверенно прошли несколько метров, остановились на секунду и начали медленно пятиться назад. Спешившие за ними бронетранспортеры с пехотой развернулись и на полной скорости понеслись в лощину. По ним, не переставая, била наша артиллерия.
— Запишите, — крикнул Афанасьев, — группа истребителей сержанта Нефедкина сожгла три танка и подбила один!
На участке, где торчало расщепленное дерево, бой затих. На остальном фронте он вскипал с еще большей яростью. Из лощины выползали все новые и новые фашистские танки. За ними бежала пехота.
Аксенов не заметил, как позади него встал командир корпуса генерал-лейтенант Бирков. Он спокойно смотрел на все, что творилось впереди. Казалось, его ничто не интересует и он просто из любопытства пришел взглянуть на чудачества взрослых людей.
— Сосредоточивайте весь огонь перед высотой двести тридцать один! — кричал Афанасьев в микрофон. — Весь огонь туда, весь! Удержать высоту! Она сейчас решает все.
Генерал-лейтенант неторопливо достал карту и взглянул на нее.
— Передайте генералу Дарваеву, — приказал он своему начальнику оперативного отдела подполковнику Морозову, — тремя дивизионами дать огонь перед высотой двести тридцать один. Корпусной артиллерии продолжать давить артиллерию противника. Танкистам и самоходчикам вести огонь из засад. И только по танкам, только по танкам!
С трех сторон загремели выстрелы. Ровное поле перед высотой покрылось высокими кустами взрывов. Среди них ярким пламенем полыхали четыре огромных костра. Стремительный разбег танков был остановлен, и они, пятясь, поползли в лощину. Немецкая пехота, поспешно окапываясь, осталась лежать на вспаханном снегу.
Афанасьев выпрямился и вытер пот с лица.
— Жарковато, Павел Иванович? — улыбнулся Бирков.
— Терпимо пока, к середине дня еще жарче будет.
— Ничего, вот, может, дождик брызнет, сразу посвежеет.
— Едва ли сегодня будет настоящий дождь. А может, и к лучшему это. Наши-то самолеты заняты на правом фланге армии.
Генерала Биркова вызвал к телефону командующий армией.
— Свои резервы командарм на помощь нам бросает, — окончив разговор, сказал командир корпуса, — два ИПТАПа, гаубичный и минометные полки.
Аксенов вспомнил о командующем. Ходит он теперь по кабинету и думает, думает и решает. Здесь еще только начался бой, а уже и сюда протягивает он невидимую руку. Дотянется скоро она и ударит противника.
Бой на всем фронте не утихал. В центре противнику удалось овладеть небольшим населенным пунктом, на левом фланге он занял рощу. Отсюда он мог теперь развивать наступление. Все войска генерала Афанасьева давно втянулись в борьбу. Соотношение сил было неравное. По каждой пушке Афанасьева били пять-шесть пушек противника. Более ста пятидесяти танков непрерывно атаковывали стрелковые подразделения. За ними бежала цепями и ехала на бронетранспортерах фашистская пехота. Много орудии генерала Афанасьева вышло из строя. Немалые потери понесли и стрелковые подразделения. С высоты было видно, как по ходам сообщения санитары перетаскивали раненых.
Напряжение боя с каждой секундой нарастало. Из поселка и леса вражеские танки, смыкаясь огромными клещами, устремились навстречу друг другу. Они явно намеревались отрезать центральные подразделения генерала Афанасьева. Дальше пехоты не было, одинокими пятачками темнели только позиции артиллерии. Артиллерии без пехотного прикрытия трудно будет вести бой. Это видели и понимали все: и Бирков, и Афанасьев, и офицеры штаба. Теперь судьба боя решалась именно здесь, между двумя группами фашистских танков.
Шел уже двенадцатый час дня. Более трех часов продолжался поединок.
Из леса, за бывшим передним краем противника, выдвигалась какая-то черная колонна. В бинокль Аксенов разглядел танки. Колонна, извиваясь, спускалась вниз. Правее и левее нее вынырнули из тумана еще две колонны.
— Вторые эшелоны, — проговорил генерал-лейтенант и расстегнул ворот кителя. — Павел Иванович, весь огонь по атакующему противнику, а я огонь своей армейской артиллерии обрушу на вторые эшелоны. Ваши соседи ударят по флангам.
Наступал кризисный момент атаки. Перевес был явно на стороне противника. С подходом его вторых эшелонов части Афанасьева едва ли смогут устоять.
Еще яростнее с обеих сторон били артиллерия и минометы. Перед рощицей, которую только что занял противник, творилось что-то страшное. Вся сила огня и той и другой сторон была сейчас обрушена туда. В дыму Аксенов разглядел, как восемь немецких танков рванулись к позициям двух наших орудий. Вокруг одиноких пушек клокотал огонь и дым. Один за другим вспыхнули два танка. Остальные надвигались на пушки. Несколько томительных секунд — и Аксенов чуть не вскрикнул. С трех сторон танки надвинулись на одинокие пушчонки и вмяли их в землю. Перед ними больше не было ни одного орудия. Первая брешь образовалась в обороне. В нее хлынули танки и пехота.
На дальних высотах колонны вторых эшелонов развернулись, и теперь все испятнанное взрывами поле сплошь чернело сизо-дымчатыми танками. Более семидесяти штук насчитал Аксенов. На броне густо сидели десанты автоматчиков, позади перебегали пехотные цепи. Увертываясь от взрывов наших снарядов, танки подходили к лощине, все время стягиваясь к центру, где только что была прорвана наша оборона. Сейчас они устремятся в эту брешь и ударят по тылам дивизии Афанасьева.
Немецкая артиллерия перенесла огонь в глубину. Вся высота двести двадцать пять окуталась дымом.
Генерал Бирков неотрывно глядел вперед. Щеки его потемнели. Зрачки глаз сузились, и казалось, вот-вот сольются в одну точку.
— Товарищ генерал-лейтенант, командир истребительного… — громко начал докладывать кто-то, но разрыв снаряда на самом бруствере оборвал его слова. Воздухом сбило папаху с головы Биркова. Не поднимая папахи, генерал повернулся. Перед ним стояли полковник и три подполковника. Это были командиры полков, прибывшие из резерва командующего армией.
Генерал Афанасьев слезящимися глазами смотрел на них. Он что-то силился сказать, но так и не смог, только беззвучно пошевелил губами и радостно улыбнулся всем черным лицом.
Из рощицы выдвигались все новые и новые танки. За ними ныряли на воронках бронетранспортеры с пехотой. Одна группа до сорока танков волнистой цепью устремилась к северным скатам высоты двести двадцать пять, вторая двигалась на южные скаты.
— Где инженер из армии? — крикнул Афанасьев.
— Здесь, рядом, товарищ генерал, — ответил Аксенов.
— Приготовьтесь к взрыву. Взрыв по зеленой ракете.
— Слушаюсь! — выкрикнул Аксенов и метнулся в траншею.
Южная группа немецких танков шла почти ровной цепью на фронте не менее километра. От нее не отставали бронетранспортеры и пехота. Никто по ним не стрелял. Словно радуясь успеху, танки пожирали расстояние. До южных скатов высоты оставалось менее трехсот метров. Вот-вот танки ворвутся на высоту.
— Готов? — крикнул Аксенов Незнакомцеву.
— А? — не оборачиваясь, равнодушно спросил Незнакомцев.
— Готов, говорю, к взрыву? — тряхнул его Аксенов за плечи.
— Конечно, — нехотя проговорил Незнакомцев, — сигнала жду.
— Зеленая ракета.
— Знаю. Да не тормоши ты, — шевельнул он плечом, попрежнему спокойно глядя на танки.
Они все убыстряли скорость. Отставшие догоняли передовых. Бронетранспортеры вплотную придвинулись к танкам. За броней кузовов виднелась пехота. Аксенову казалось, что теперь уже нет силы, которая могла бы остановить эту лавину. А Незнакомцев навалился грудью на бруствер и смотрел на танки. Посиневшая правая рука его сжимала ручки подрывной машинки.
— Смотри, что ты! — тревожно проговорил Аксенов. — А если провод перебило…
— Второй есть, третий и четвертый в запасе.
Только тут Аксенов увидел в подбрустверной нише вторую подрывную машинку. За ее ручку держался Незнакомцев левой рукой.
Над НП генерала Афанасьева одна за другой взлетели зеленые ракеты.
Незнакомцев чуть подался вперед, словно желая вдавиться в бруствер.
— Да рви, что ты медлишь, — не выдержал Аксенов.
— Не спеши, — сквозь зубы ответил Незнакомцев, — успеешь.
Танки и бронетранспортеры шли сплошной лавиной.
— Ложись! — рванув правой рукой, крикнул Незнакомцев и свалил Аксенова на дно траншеи. Падая, Аксенов почувствовал, как что-то стремительное с чудовищной силой рвануло его, придавило к стенке траншеи. Потом мелко-мелко вздрогнула земля, и на мгновение оглушительный грохот задавил все звуки.
Когда Аксенов поднялся на ноги, впереди вздымалась огромная черная туча. Над всем дымным полем из края в край замерла тишина. Немецкие танки недвижно стояли на месте. Пехотинцы намертво вросли в снег. Нигде не слышалось ни одного выстрела. Только сверху с водопадным шорохом падали глыбины земли, камней, искрошенная в порошок щебенка.
— Огонь! Почему прекратили огонь? — кричал в телефонную трубку Афанасьев. — Не дать противнику опомниться, — огонь!
Одна за другой вновь заговорили наши батареи. Минут через десять опомнился и противник.
Когда рассеялся дым, метрах в трехстах от высоты чернел огромный ров, длиною не менее километра. Во рву, впереди него и позади бледными кострами догорали четырнадцать танков и девять бронетранспортеров.
— Молодцы саперы, — проговорил Бирков.
— Двести тонн взрывчатки, — ответил Афанасьев, — больше сюда фашисты не сунутся.
Все силы противник сосредоточил теперь в направлении тонувшего в пожарищах села Замоль. Там вместе с другими стояла и батарея, где вчера Аксенов был на комсомольском собрании. До ее огневых позиций было не более трехсот метров. В бинокль Аксенов хорошо видел каждого артиллериста. Жаркая работа кипела у пушек. Перебегает от орудия к орудию лейтенант Марков. Над прицелом склонился Сергей Ермолаев. Он был в телогрейке и темносиних брюках. Рядом с ним в одних гимнастерках сновали артиллеристы. Пушки в упор били по танкам. На батарею обрушился шквал артиллерийского огня. В черных клубах пыли и дыма скрылись и пушки и люди.
— Подавить артиллерию противника! Весь огонь на артиллерию! — кричал в телефон Бирков.
Медленно рассеивался дым над батареей. Одна пушка с перебитым колесом свалилась набок. Санитары поспешно уносили раненых. У орудий осталось всего восемь человек. Рядом с Ермолаевым, стоя на коленях, подавал снаряды только один солдат.
Издали мощно рявкнули залпы нашей тяжелой артиллерии. С шелестом пронеслись над головой пудовые снаряды.
Вражеские танки снова устремились вперед. И сразу один из них закрутился на месте, беспорядочно паля из пушки и пулемета. За ним второй размотал гусеницу по снегу.
Солдат, стоявший рядом с Ермолаевым, взмахнул руками и навзничь рухнул в снег.
— Перенести огонь на атакующие танки, — приказал своим артиллеристам генерал Афанасьев.
Позади танков взорвалось штук тридцать снарядов. Видимо, артиллеристы боялись поразить своих.
Ермолаев метнулся назад. В руках его медью блеснул снаряд. Ермолаев подскочил к пушке, зарядил и приник к прицелу. Дернулось орудие. Ермолаев отскочил назад. Головной танк замер на месте. Четыре крутолобых «тигра» обошли его и полезли прямо на орудие Ермолаева. Он прыжком подскочил к ящикам и отпрянул назад. Снарядов, видимо, не было. Ермолаев распрямился во весь рост, и Аксенов увидел его лицо, обращенное на восток. Ему казалось, что Ермолаев смотрит прямо на него.
— Ближе, ближе. Бить прямо по танкам! — кричал командир дивизии.
— Перенести огонь корпусной артиллерии на атакующие танки, — командовал генерал-лейтенант.
Аксенов не дыша смотрел в бинокль на Ермолаева. Он мгновение стоял неподвижно, потом резко обернулся и взглянул на танки. До них оставалось метров сто. Из жерла орудия первого танка то и дело вырывались языки пламени.
Ермолаев пошатнулся и боком отскочил в сторону, склоняясь к земле. Аксенов видел, как он суетливо искал что-то у станины пушки, затем привстал, и в руках у него оказались две противотанковые гранаты. Головной танк был уже близко. Вокруг пушки пули вздымали фонтанчики снега. Ермолаев выпрямился, стал за щит орудия. Передний танк надвинулся на пушку. Блеснул выстрел, и отлетела в сторону половина щита. Ермолаев рванулся в сторону и швырнул гранату в танк. На броне взметнулось пламя, но танк продолжал упорно двигаться вперед. Ермолаев пошатнулся, постоял на месте, взмахнул руками и плашмя рухнул в снег. Потом он приподнялся на локтях, поджал ноги, собираясь вскочить, но тут же безвольно свалился на левый бок. Гусеница танка надвигалась на него. Все на НП замерли. Вдруг Ермолаев шевельнулся, едва заметно приподнял голову и взмахнул правой рукой. К танку полетела почти невидимая точка, и его задняя часть окуталась дымом. Танк замер в нескольких шагах от Ермолаева. Из-за башни повалил густой дым. Через несколько секунд весь он скрылся в пламени. Перед костром лежало безжизненное тело Ермолаева.
Аксенов прислонился к стенке окопа. Бинокль выпал из рук и ударил по ноге. Афанасьев откашливался. Рядом кто-то всхлипывал. Командир корпуса шопотом говорил кому-то:
— Узнайте, кто погиб, и сейчас же пишите представление к званию Героя Советского Союза. Шифром, шифром передадим.
Аксенов взглянул туда, где только что погиб Ермолаев. Танки поспешно уходили назад. Сотни взрывов полыхали вокруг них. Справа послышалось громкое «ура», и роты две стрелков цепью бросились в контратаку. Несколько человек подбежали к распростертому телу и склонились над ним. Из-за туч брызнули лучи солнца. Дымные факелы покрывали десятикилометровое поле. Стрельба затихла. Остатки танков противника скрылись в лощине. Пехота лениво огрызалась огнем из захваченных траншей.
— Контратаковать, завтра же контратаковать, — проговорил командир корпуса, — сейчас доложу командующему армией, и завтра мы их стукнем. Сегодня бой мы выиграли.
XXII
Бой на земле стих, но в воздухе еще продолжались схватки истребителей. Подполковник Орлов сегодня с утра перебрался на НП генерала Афанасьева и отсюда наводил самолеты на цели.
Одна за другой возвращались с задания группы штурмовиков. Орлов и Аксенов вслушивались в разноголосые переговоры истребителей.
«Леша! Леша! Слева, смотри, слева фриц!..» — «Вижу, Коля, заходи от солнца, от солнца!..» — «Митрич, Митрич! Прикрой меня, атакую, прикрой!..»
Сейчас вмешиваться Орлову было незачем. Наши истребители и так успешно отгоняли «мессершмиттов». За день было сбито четырнадцать немецких самолетов.
— Ну, Аксенов, теперь не будешь ворчать? — спросил Орлов. — А то только и слышишь от тебя: «Пехота воюет, а вы отсиживаетесь на аэродромах».
С наблюдательного пункта вышел Алтаев. В зеленовато-серой с каракулевым воротником бекеше он грузно прошагал ходом сообщения и подошел к офицерам.
— Товарищ Орлов, ночью разведку, непрерывно разведку вести. Вам штаб мой дал заявку?
— Так точно, — отчеканил Орлов, — всю ночь дежурные самолеты в воздухе.
— Цветов достали? — повернулся Алтаев к Аксенову.
— Из Румынии привезли. Венки готовы и отправлены на могилу.
— Садитесь в мою машину, едем.
Аксенов махнул Буканову, чтобы ехал за машиной командующего, и пристроился на заднем сиденье.
— Вы видели, как погиб Ермолаев? — спросил Алтаев.
Аксенов начал рассказывать о комсомольском собрании в батарее, о подвиге Ермолаева.
Командующий слушал молча, не оборачиваясь к майору. Широкие плечи его сутуло горбились. Папаха сползла на уши.
— Жаль, — вздохнув, сумрачно проговорил он, — молодой совсем, двадцать один год.
— У него такое простое лицо, — вспоминал Аксенов, — а глаза голубые… легкий пушок на губах.
Алтаев, скрипнув пружинами сиденья, грузно передвинулся.
— Да потише ты, куда гонишь! — прикрикнул он на шофера.
— У них вся батарея такая, дружные, веселые.
— Таких, как Ермолаев, народ никогда не забудет… Никогда не забудет, — повторил Алтаев, думая о Сергее Ермолаеве и многих тысячах таких же, как он, простых, внешне незаметных, но мужественных и сильных людей, из дел которых складывалась историческая победа советского народа.
Думая о Ермолаеве, Алтаев вспомнил и свою молодость, когда он таким же двадцатилетним юношей сидел в залитых водой окопах под Пинском среди ржавых болот и чахлых лесов. Жизнь тогда казалась ему сплошным мучением и постоянным ожиданием смерти. Немецкая артиллерия день и ночь долбила русские позиции, а на батареях царской армии берегли, как драгоценность, каждый снаряд. Вспоминая прошлое, Алтаев спрашивал себя: мог бы он тогда, в первую мировую войну, так же как Сергей Ермолаев, один на один вступить в единоборство со стальным почти четырехтысячепудовым чудовищем, и сам себе отвечал: тогда сделать этого он, молодой солдат Егорка Алтаев, не смог бы. Позже, в гражданскую войну, Алтаев со своим полком ходил на танки, ходил в открытую, без пушек и противотанковых ружей, с одними винтовками и наганами. Но эта война была другая, и сам Алтаев был уже другим человеком. В гражданскую войну он понимал, за что воюет, и твердо знал, что если он не победит врага, то враг победит его и отнимет у него самое дорогое — жизнь, свободу, чувство собственного достоинства. Это понятие сложилось у него не сразу. Оно пришло как результат тяжелых жизненных испытаний и всего накипевшего за долгие годы царского самовластья и господства людей сытых и богатых. Сергею Ермолаеву этих жизненных испытаний не довелось пережить. Он вырос при советской власти и даже не видел ни живого помещика, ни капиталиста, ни жандарма, ни урядника — этих наглядных выразителей всего ужаса прошлого. Но Сергей Ермолаев, зная только настоящее и не пережив прошлого, оказался достойным потомком героев революции, с открытой грудью шедших на штурм Зимнего дворца, на ливень немецких пуль и снарядов под Нарвой и Псковом, на лабиринты колючей проволоки под Перекопом. Что помогло Сергею Ермолаеву пойти на подвиг? Какие силы руководили им, когда он, истекая кровью, полз навстречу вражескому танку и бросил в него последнюю гранату? Конечно, им руководило великое чувство любви к своей Родине, ответственности за ее судьбу, сознание своего священного воинского долга. Но эти чувства к Ермолаеву не могли прийти сами по себе, так же как не пришли они к молодому солдату Егорке Алтаеву в годы первой мировой войны. Эти чувства нужно было привить, выработать, воспитать. И это для Сергея Ермолаева сделала советская действительность, Коммунистическая партия, комсомол, школа и, наконец, Советская Армия.
Размышляя о Ермолаеве, Алтаев думал и о будущем. Он знал, что эта война не последняя, что еще будут схватки с отживающим старым миром, схватки на жизнь или смерть, где окончательно решится судьба человечества. И к этим схваткам нужно было готовиться уже сейчас, в ходе этой войны, накапливая опыт и передавая его молодому поколению, той смене, которая должна прийти к старым ветеранам, вынесшим на себе всю тяжесть борьбы с немецким фашизмом. В этом видел Алтаев свое будущее. Прожив полсотни лет, он не чувствовал себя старым человеком. Наоборот, он был полон жизненных сил, видел свое будущее на несколько лет вперед, и вкладывал свою энергию, умудренную большим опытом, в общее дело своей Родины.
До войны и в ходе войны через его руки прошли многие сотни таких юношей, как Сергей Ермолаев, и он мог гордиться тем, что его труд не пропал даром.
Резкий толчок автомобиля вывел Алтаева из раздумья. Он глубоко вздохнул, поправил папаху и осмотрелся по сторонам.
За поворотом дороги показалась куполообразная высота. У ее подножия виднелись люди и машины. На вершине развевалось красное знамя, по краям его окаймляли черные полосы. У знамени застыл почетный караул. В воздухе патрулировали три пары истребителей. У подножия высоты буквой «П» выстроились шеренги подразделений. Внутри строя возвышался красный гроб, обложенный венками. Алтаева встретили член Военного совета Шелестов, генерал-лейтенант Бирков, генерал-майор Афанасьев и человек сорок офицеров.
Генерал армии тихо подошел к гробу, склонил голову и долго стоял в немом оцепенении. Все кругом молчали, только на малой скорости гудели истребители. Заходящее солнце бронзой обливало солдатские лица, снег на высоте румянился.
Алтаев распрямился, медленно отошел от гроба и кивнул головой члену Военного совета.
Генерал Шелестов взошел на составленную из табуреток трибуну, снял папаху и негромко заговорил:
— Дорогие товарищи! Мы сегодня прощаемся с одним из лучших героев нашей армии, с молодым офицером комсомольцем Сергеем Ильичом Ермолаевым. Вчера в смертельной схватке с врагом Сергей Ермолаев во имя счастья пашей Родины не пожалел своей жизни. Там, где встал комсомолец Ермолаев, остановились вражеские танки и дальше ни на метр не продвинулись… Трудные испытания выпали на нашу долю. В кровавых схватках с врагом мы отвоевываем счастье и жизнь. Великие победы одержали наша армия и народ. Эти победы ковали тысячи, миллионы людей. И каждая победа состоит из сотен, тысяч подвигов отдельных людей. Незначителен, может, каждый подвиг в отдельности, но в общей массе, вместе с другими подвигами, он составляет величайшую силу. Сергей Ермолаев своим подвигом показал, на что способен один человек в бою. Вот так же, как он, каждый должен стоять на своем посту, каким бы этот пост ни был. Незначительных постов, незначительных дел нет. Все, что делает человек на благо Родины, велико и важно. Ездовой, стрелок, наводчик, сержант, взводный командир, командующий армией — все мы стоим на своих постах, и каждый делает свое дело. И из всех этих дел, маленьких и больших, вырастает победа.
К гробу со всех сторон устремились десятки взглядов. Он стоял на возвышении. Высоко на подушках была приподнята голова Сергея. Лицо его было как живое. Аксенову казалось: Сергей вдруг откроет глаза и скажет: «Погибать бестолку нельзя. Если придется, то умереть надо, как Александр Матросов».
И сейчас член Военного совета армии говорил, что Сергей Ермолаев доблестно выполнил свой долг, как герой.
К Алтаеву подошел начальник политотдела и прошептал:
— Указ… по телеграфу… из Москвы…
— Передайте Шелестову, — прочитав, ответил Алтаев.
Шелестов взял лист плотной бумаги.
— Товарищи! Только что получено из Москвы. Указ Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик о присвоении звания Героя Советского Союза младшему технику-лейтенанту Сергею Ильичу Ермолаеву.
В тишине гордо звучали слова Указа правительства. Родина, народ, партия благодарили своего сына.
Солдаты почетного караула крепко сжимали автоматы. Блестели на солнце трубы оркестра. Легкий ветерок полоскал боевые знамена у гроба молодого офицера.
Почти беззвучно пара за парой проносились истребители.
У изголовья гроба застыли шестеро артиллеристов — боевых друзей Сергея. Это было все, что уцелело от батареи. Обкрещенная бинтами крутолобая голова лейтенанта Маркова клонилась вниз. Он шевелил почерневшими губами, силясь что-то выговорить, но губы лишь вздрагивали и на глаза навертывались слезы. Он стиснул кулаки, взглянул на лицо Сергея и шагнул к гробу.
— Дорогой друг наш, милый Сережа, — звонко выговорил он, воспаленными глазами глядя в лицо Ермолаева, — много раз говорили мы с тобой и мечтали о будущем. Вражеские пули скосили тебя. Мы, твои боевые друзья, отомстим за тебя. Из вражеской брони мы воздвигнем памятник тебе, дорогой Сережа. За твою смерть мы уничтожим десятки, сотни фашистских танков!
Он взмахнул кулаком над головой и обернулся к пятерым артиллеристам. Лейтенант Янковский встретился взглядом с командиром батареи и медленно двинулся к нему, высокий, в туго перетянутой ремнем гимнастерке. За ним плечом к плечу двигались наводчик, заряжающий, шофер и старшина батареи. Все шестеро беззвучно окружили изголовье гроба. Бинты Маркова, подвешенная на груди рука старшины, изорванная телогрейка шофера, опаленные волосы наводчика и посинелое, в кровоподтеках лицо заряжающего без слов говорили о пережитом этими людьми. Над ними багровые полотнища знамен темными окаймлениями стекали к гробу.
А над землей ярко светило солнце. Золотистая бахрома знамен переливалась огненными искрами. Сотни отблесков полыхали над трубами оркестра.
Вдали синели горы. Там, где-то за этими горами, была победа. Победа, за которую отдал свою жизнь Сергей Ермолаев.
XXIII
Две ночи группа Бахарева пробиралась с равнины в глухое горное ущелье. Пройти нужно было всего около восьми километров, но постоянная опасность и раненые вынуждали передвигаться медленно и крайне осторожно. Голодные, измученные люди с трудом держались на ногах. Каждый шаг стоил неимоверных усилий. У многих раненых начались воспаления. Ослабели и здоровые люди. Единственным продовольствием, какое оказалось в группе, были три фляги вина, две банки консервов и шестнадцать сухарей. Все это носил в своем мешке Таряев и выдавал только тяжело раненным.
К исходу второй ночи Косенко и Мефодьев пробрались в ближайшее село и проникли во двор крайнего дома, где стояла фашистская грузовая машина с продовольствием. Сержанты прикончили шоферов и, взяв каждый пуда по три груза, вернулись в пещеру. С дрожью в руках Бахарев принимал от них банки консервов, пакеты с сухарями и фляги спирта. Это была жизнь. Все в пещере, затаив дыхание, следили, как выкладывалось продовольствие из мешков сержантов.
К утру, поев и выпив горячего чаю, люди уснули. Только часовые затаились в нагромождениях камней. Лет пятнадцать назад Таряев год проучился в фельдшерской школе и теперь взял на себя заботу о раненых. Он отобрал у всех нижнее белье, выстирал его и наготовил из него бинтов.
Миньков, и раненный, чувствовал себя командиром. Он потребовал, чтобы саперов из его взвода положили рядом с ним, часто подзывал к себе Мефодьева и о чем-то подолгу разговаривал с ним. По приказанию Минькова Мефодьев с двумя солдатами пробрался на бывшие позиции, собрал там шестьдесят противотанковых и семнадцать противопехотных мин. Противопехотные мины Мефодьев, с разрешения Бахарева, установил на подходах к пещере, а противотанковые Миньков «держал в своем резерве».
— Авось пригодятся, — слабым голосом говорил он, — шестьдесят мин — это у хорошего сапера шестьдесят танков, а шестьдесят танков — это целый полк.
Бахарев торопился поскорее устроить раненых и развернуть борьбу в тылу врага. Он хорошо понимал, что в таких условиях вести партизанские действия очень трудно. Одно дело, когда советские воины оставались в тылу врага на родной земле. Тогда они могли рассчитывать на поддержку местного населения. И совсем другое дело остаться в тылу врага на чужой земле. Кругом, если не всегда враждебное, но все-таки чужое население. Каждый шаг грозит опасностью и гибелью. Первый же встреченный мадьяр мог предать немцам. К тому же по рукам и ногам связывало незнание венгерского языка. Никто в группе Бахарева не умел говорить по-мадьярски.
Бахарев мысленно искал наиболее целесообразное решение. Рассчитывать можно было только на собственные силы, а сил было слишком мало. С ранеными нужно оставить двух-трех человек. И только восемь-девять человек могли ходить на боевые операции. К тому же слишком мало было боеприпасов. С трудом удалось набрать полторы тысячи автоматных патронов и семьдесят шесть гранат. А этого может хватить только на один бой. Расстреляют все патроны — и группа останется беззащитной.
Как ни хотелось Бахареву провести какую-нибудь серьезную и чувствительную для врага операцию, пришлось ограничиваться пока мелкими нападениями на немецкие обозы и тылы.
Тревожила неясность обстановки. За трое суток в горах не раздалось ни одного выстрела, не показалось ни одного человека. Что происходило на фронте — никто не знал. С востока день и ночь доносились глухие раскаты артиллерийской канонады. Иногда высоко в небе проносились то наши, то немецкие самолеты. Глухой рокот артиллерии показывал, что бои идут где-то недалеко. Значит, немцы пока еще не прорвались к Будапешту.
На четвертый день утром Бахарев собрал своих людей вокруг холодной печки. В полутемноте лица казались худыми и землистыми.
Бахарев чувствовал, что все ждут от него каких-то особых слов и решений. Это радовало и в то же время тревожило его.
— Ну вот, товарищи, — негромко заговорил Бахарев. — Положение, надо прямо сказать, тяжелое. Кругом опасность, и помощи ждать пока неоткуда. Надеяться можно только на самих себя… Но положение не безвыходное. Вы слышите, как гудит все время на востоке? Это наши! Враг пока силен, но к Будапешту-то он не прорвался. Значит, наши сильнее. А стоит только нашим войскам продвинуться немного вперед, так мы с вами будем спасены. Даже если немцы и обнаружат нас, уничтожить нас они не смогут. Танки и артиллерия сюда не пройдут, а от пехоты мы двумя автоматами отобьемся. У нас такая позиция, откуда мы все видим, а нас никто! Но мы должны думать не только о себе. Главное для нас — бить врага, бить всем, чем можно!.. Я решил приступить к боевым действиям. Для начала возьмем под свой контроль шоссейную дорогу. По ней беспрерывно идут пополнения и обозы. Это основная артерия немцев. Других таких дорог в горах нет. Действовать будем по ночам. Закупорим дорогу и заставим гитлеровцев ездить в объезд, по плохим дорогам. Как ваше мнение, товарищи?
— Конечно!.. Нельзя сидеть сложа руки!.. Гранат у нас маловато! Зато мины! Минировать будем… И огоньком автоматным… — вразнобой заговорили в пещере.
По возгласам Бахарев чувствовал, что все люди поддерживают его, все ждали такого решения и готовились к нему.
В первую ночь Бахарев решил действовать одной группой. В нее он включил Аристархова, Косенко, Мефодьева и других автоматчиков. Шестеро во главе с Таряевым остались охранять раненых.
Перед заходом солнца группа двинулась вперед. Вершины гор рисовались на сияющем небосклоне. Раскаты канонады эхом отдавались в ущельях.
Бахарев по карте определил азимут и повел группу склоном горы. Шаг в шаг шли по глубокому снегу. Каждый нес по две противотанковые мины. Быстро сгущались сумерки. В потемневшем небе одна за другой загорались звезды. Заметно похолодало, и звуки далекого боя разносились все отчетливее. С шоссе доносился шум моторов. Видимо, там, непрерывно двигались машины. Бахарев остановил группу, все прислушались. Подходить к дороге нужно было очень осторожно. Она могла охраняться специальными постами и патрулями.
Склон горы террасами спускался вниз. Еще несколько десятков метров — и покажется дорога. Бахарев вместе с Косенко пошел вперед. Смутно виднелась какая-то черная полоса. Подошли ближе. Это оказалось углубление, где пролегала дорога. Осторожно подползли к самому обрыву. Прямо внизу с погашенными фарами медленно словно ощупывая дорогу, проезжали грузовики.
Косенко придвинулся к Бахареву, прошептал:
— Перевал-то справа, хорошо бы туда пробраться.
Бахарев присмотрелся. Действительно, дорога поднималась вверх и скрывалась в сплошной черноте возле высокой горы. Но итти на перевал было опасно. Там наверняка имеется охрана и даже, возможно, стоит какой-нибудь гарнизон. Нужно было найти какое-то менее опасное место. Слева темнело что-то похожее на ущелье. Если это на самом деле ущелье, то там должен быть мост. Если удачно взорвать его, то прекратится движение по всей дороге.
Переходя от дерева к дереву, Бахарев пошел влево. Косенко остался наблюдать за дорогой.
Ущелье оказалось совсем рядом. Оно отвесной стеной уходило глубоко вниз. Внизу журчал ручей. Над ущельем вырисовывались перила моста. По спокойному движению грузовиков можно было определить, что мост очень прочный. Для подрыва его потребуется немало взрывчатки.
Пролежав минут тридцать, Бахарев не увидел ни одного человека. Так же осторожно, переходя от дерева к дереву, он вернулся назад. Теперь нужно было решить, как лучше подорвать мост. Двенадцать противотанковых мин, которые захватила с собой группа, представляли большую силу. Нужно только удачно их использовать.
Мефодьев предложил все их уложить на мосту и подорвать связкой гранат. Это был неплохой вариант, но осуществить его было очень трудно. Стоит только выйти на мост, как немцы могут всполошиться, приостановить движение, и волей-неволей придется вести бой с шоферами и с теми, кто едет в грузовиках. Нужно было или выждать, пока прекратится движение грузовиков, или придумывать какой-то другой способ. Да и подорвать мины с помощью связки гранат не так-то просто.
— Последние вроде, — прошептал Мефодьев.
Бахарев прислушался. В самом деле, нарастающего шума моторов больше не слышалось.
— Аристархов и Косенко, прикрыть огнем! — вполголоса скомандовал Бахарев. — Мефодьев, Никулин и Джумбаев, взять по три мины и за мной!
Бахарев спустился на дорогу. За ним сползали с обрыва Мефодьев и автоматчики. Под ногами твердел накатанный асфальт. Затаив дыхание, Бахарев выскочил к мосту.
— Заряжай мины, — шепнул он Мефодьеву, — щебня, быстро.
Вдвоем с Мефодьевым быстро вставили взрыватели и двумя рядами вплотную уложили мины на середине моста, ближе к правой стороне. Автоматчики в полах шинелей таскали с откоса щебень. На всякий случай вместе с минами положили еще шесть заряженных гранат и сверху все засыпали щебнем. Получился невысокий продолговатый бугорок, похожий на засыпанную выбоину. Объехать его на узком мосту никак нельзя. Первая же машина наскочит на мины и все взорвет.
Закончив работу, поспешно вскарабкались по откосу и легли на краю обрыва.
Как назло, по дороге не шла ни одна машина. Небо за горой покраснело. Вот-вот выплывет луна.
Наконец едва слышно зашумел мотор. На посветлевшей дороге показалось черное движущееся пятно. Оно все увеличивалось.
— Укрыться, — прошептал Бахарев, когда первая машина приблизилась к мосту.
Монотонно гудел мотор. Кажется, машина остановилась. Неужели заметили мины? Нет, движется. А вот теперь вроде остановилась.
Бахарев хотел приподняться, но грохот встряхнул землю. Волна воздуха ударила по телу. Бахарев в полубеспамятстве вскочил на ноги и тут же плашмя упал в снег. На мосту бушевало пламя. Там, где были уложены мины, темнел пролом, а вокруг него все горело. Развороченная автомобильная цистерна валялась у въезда на мост. Из нее вытекал огненный поток.
— Быстро назад! — крикнул Бахарев и в полный рост побежал на гору. Оглянувшись, он увидел на фоне бушующего пламени всех своих людей. Они бежали за ним не отставая.
Когда отбежали далеко в лес, Бахарева остановил тихий голос:
— Товарищ капитан!..
Из-за скалы вышел человек и торопливо заговорил:
— Свой я, свой, радист, Гулевой. Я наблюдал за вами…
— Степа, — подбежал к нему Аристархов, — ты? Откуда? Это же наш радист, — разъяснил переводчик.
— А где рация? — спросил Бахарев.
— Вот здесь, рядом, — показал Гулевой, — там и второй радист. Ранен он. Пять суток скрываемся. Полковник Чижов вас приказал разыскивать, к вам присоединиться.
— А где полковник?
— Там, где все наши. Я все время по радио связь держу.
— Рация исправна?
— В полном порядке. Питания маловато. Но еще часов на двадцать работы хватит. А только на прием — долго проработает.
Бахарев обнял Гулевого. Теперь положение менялось. Радио связывало одинокую группу с армией.
Гулевой пошел вперед, показывая дорогу. Мефодьев и Косенко шли сзади, ветвями заметая следы.
Скоро приблизились к неглубокому ущелью возле обрыва. Тут лежал раненый радист. Пожилой солдат увидел незнакомых людей, пытался привстать, но от истощения и потери крови лишь с трудом двигал руками.
Аристархов дал ему несколько глотков разведенного спирта. Бахарев приказал забрать раненого, и на рассвете группа вернулась в пещеру. Таряев немедленно принялся перевязывать раны бойца. Гулевой развернул рацию и через несколько минут соединился со штабом дивизии. Бахарев нетерпеливо ждал, когда заговорит полковник Чижов. Наконец рация штаба дивизии позвала Гулевого, и Бахарев сразу узнал голос полковника Чижова.
— Я «Ромашка», я «Ромашка», — отвечал Гулевой, — будет говорить Бахарев, будет говорить Бахарев.
— Здравствуйте, Бахарев, — зазвучало в телефоне, — рад за вас. Очень рад. Докладывайте. Докладывайте… Перехожу на прием.
Гулевой переключил рацию и передал микрофон Бахареву.
— Докладываю, — дрожа от волнения, заговорил Бахарев, — собрал двадцать семь человек. Четырнадцать ранены. Скрываемся в горах. Все чувствуют себя хорошо. Что прикажете делать?
— «Ромашка», «Ромашка»! Я «Фиалка», я «Фиалка», — через минуту раздался голос полковника, — передайте благодарность всем товарищам. Раненым ждать нашего прихода. Вам, Бахарев, взять сколько можно здоровых людей и вести разведку. Карта есть? Есть карта? Возьмите карту. Найдите населенный пункт, где вам ордена вручали.
Бахарев торопливо развернул карту. Все в пещере замерли.
Бахарев сразу же нашел по карте пригород Секешфехервара, где Алтаев вручал ордена.
— Нашли? — продолжал полковник. — Смотрите. От этого населенного пункта на юго-запад идет большая дорога. Прямо по дороге отмеряйте двадцать восемь километров. Это ваша конечная точка. Выйти сюда и здесь перейти линию фронта. По пути все разведать. Установить, какие части противника располагаются между тем районом, где вы находитесь, и точкой, куда вам надо выйти. Ежедневно докладывать мне по радио. Час доклада: от своего года рождения отнимите цифру двенадцать. Сутки вам на подготовку — и приступайте. Для охраны раненых оставьте здоровых людей. Доложите, как поняли, прием.
Часть третья
I
В первые дни 1945 года лихорадочное оживление царило в ставке Гитлера. Генералы и штабные офицеры передавали друг другу последние новости, но, боясь друг друга, говорили только то, что хотел услышать Гитлер. Наступило самое страшное для фашистской Германии время. Немецко-фашистская армия, как зверь в предсмертной агонии, начала свой последний прыжок. По приказу Гитлера отборные танковые дивизии от предместий чехословацкого города Комарно рванулись на Будапешт. В первый день они продвинулись от шести до восьми километров и перевалили через горы Вертэшхедьшэг.
Гитлеру доложили об этом. Он приказал благодарить наступающие войска. Но в докладе была упущена одна «маленькая» подробность; говоря о продвижении, Гитлеру не сказали, что наступающая группировка потеряла в боях до тридцати процентов людей и более сорока процентов танков.
Во второй и третий день наступления дивизии продвинулись еще на восемь-десять километров. И опять Гитлеру «забыли» доложить, что потери наступающих войск достигли шестидесяти процентов в личном составе и более семидесяти — в танках.
А на четвертый день гитлеровские дивизии не продвинулись ни на шаг. Они несли все новые и новые потери, но их рубежи оставались там же, где были и вчера.
На помощь ударной группировке были брошены ближайшие резервы. Прошло еще двое суток ожесточенных боев, а фашистские дивизии стояли все там же, на восточных отрогах гор Вертэшхедьшэг.
Взбешенный Гитлер приказал снять все танковые дивизии с других участков фронта в Венгрии, сосредоточить их перед центром советской гвардейской армии и нанести новый удар.
Утром 7 января рванулась в наступление новая ударная группировка гитлеровских войск. Рванулась — и, оставив на полях под селом Замоль тысячи трупов и десятки сожженных танков, отхлынула назад. Пять суток, не умолкая ни днем, ни ночью, шли яростные бои на этом направлении. Захлебнувшись в собственной крови, гитлеровские войска не достигли успеха и перешли к обороне.
Неудачи под Будапештом взбесили Гитлера. Он метался, ища выхода. Выход, по его мнению, был только один: нанести тяжелые поражения англо-американским войскам и постараться заставить союзников пойти на сепаратный мир.
Гитлер прекрасно знал положение англо-американских войск. Фашистская агентура была везде даже в штабах Эйзенхауэра, Брэдли и Монтгомери.
Арденнский удар, помимо материальных потерь, нанес англо-американским войскам тяжелое моральное поражение. Англо-американские войска были деморализованы и боялись немецкого наступления. Выброшенные в тылах немецкие парашютисты-диверсанты терроризировали тыл. Англичане и американцы останавливали каждого встречного, подозревая в нем диверсанта. В одиночку никто не ходил и не ездил. Передвигались только группами, с вооруженной охраной.
Грызня между Монтгомери и Брэдли с каждым днем принимала все большие и большие размеры. Теперь это уже была не вражда двух генералов, а националистический антагонизм военных двух государств. Подхлестываемые правящими кругами, английские газеты и радио не жалели красок для поношения Брэдли и заносчивых американцев.
Американцы, в свою очередь, не оставались в долгу. Брэдли при своем штабе организовал собственный отдел печати. В первых же заявлениях корреспондентам Брэдли доказывал, что Монтгомери не мог выиграть Арденнскую битву, потому что он:
во-первых, «не принимал в ней никакого участия, пока не была установлена основная стратегия обороны»;
во-вторых, «даже когда он командовал северным сектором битвы, исход этой битвы решался не на севере, а на юге, в Бастони, где были войска Брэдли», и,
в-третьих (только не стенографировать!), Монтгомери вообще тупица, бездарь, карьерист, и только сумасбродные англичане могли такому тупице доверить командование войсками. Будь он американцем, ему бы взвода не дали, а в Англии он фельдмаршал!
Каждое слово Брэдли с быстротой молнии распространялось в войсках. Закипели националистические страсти. В пивных и ресторанах вспыхивали драки между американскими и английскими офицерами. Глухо роптали и солдаты. Все чувствовали, что хорошим это не кончится, но никто не мог остановить все разгоравшиеся междоусобицы.
А Гитлер только этого и добивался. Англичан с американцами он почти поссорил. Теперь осталось стравить их с русскими. Но русские — Гитлер это понимал — на склоку не пойдут. Они упорно будут добиваться своего.
И Гитлер решил прежде всего разделаться с американцами и англичанами. На Западном фронте началась сложная перегруппировка войск. Из наличных тут сил наиболее боеспособные дивизии сосредоточивались в районе Арденнского выступа.
К 6 января с правого фланга Западного фронта к Арденнам маршировали десять дивизий и одна бригада. Там, где были разгромлены войска 1-й американской армии, сосредоточивалась мощная немецкая ударная группировка. Она нацелилась на побережье Ла-Манша и угрожала разрезать англо-американские войска на части и сбросить их в море.
Англо-американское командование знало об опасности и в панике искало выхода. Но выхода не было. Английские и американские войска были деморализованы, значительных резервов не было, свежие силы находились на американском континенте. Для переброски их требовалось длительное время. Действовавшие на Западном фронте англо-американские войска с каждым часом все больше и больше охватывал страх перед новой катастрофой.
Крупные дельцы и генералы начали заблаговременно переправлять ценности в Англию. Как ветром сдуло праздных экскурсантов и туристов. Все меньше и меньше оставалось корреспондентов. Как крысы с тонущего корабля, бежали различные дельцы и маклеры. Обстановка с каждым днем накалялась и принимала размеры катастрофы.
5 января в штаб Эйзенхауэра прилетел Черчилль. На сверхсекретном совещании обсуждались различные меры по предотвращению катастрофы. Совещание продолжалось долго, но никакого решения принято не было. Черчилль улетел в Англию.
6 января 1945 года Черчилль обратился с посланием к Советскому верховному главнокомандующему.
«На Западе идут очень тяжелые бои, и в любое время от Верховного Командования могут потребоваться большие решения. Вы сами знаете по Вашему собственному опыту, насколько тревожным является положение, когда приходится защищать очень широкий фронт после временной потери инициативы. Генералу Эйзенхауэру очень желательно и необходимо знать в общих чертах, что Вы предполагаете делать, так как это, конечно, отразится на всех его и наших важнейших решениях. Согласно полученному сообщению наш эмиссар главный маршал авиации Теддер вчера вечером находился в Каире, будучи связанным погодой. Его поездка сильно затянулась не по Вашей вине. Если он еще не прибыл к Вам, я буду благодарен, если Вы сможете сообщить мне, можем ли мы рассчитывать на крупное русское наступление на фронте Вислы или где-нибудь в другом месте в течение января, и любые другие моменты, о которых Вы, возможно, пожелаете упомянуть. Я никому не буду передавать этой весьма секретной информации, за исключением фельдмаршала Брука и генерала Эйзенхауэра, причем лишь при условии сохранения ее в строжайшей тайне. Я считаю дело срочным».
На это послание 7 января 1945 года был дан У. Черчиллю следующий ответ:
«Получили вечером 7 января Ваше послание от 6 января 1945 года.
К сожалению, главный маршал авиации г-н Теддер еще не прибыл в Москву.
Очень важно использовать наше превосходство против немцев в артиллерии и авиации. В этих видах требуется ясная погода для авиации и отсутствие низких туманов, мешающих артиллерии вести прицельный огонь. Мы готовимся к наступлению, но погода сейчас не благоприятствует нашему наступлению. Однако, учитывая положение наших союзников на западном фронте, Ставка Верховного Главнокомандования решила усиленным темпом закончить подготовку и, не считаясь с погодой, открыть широкие наступательные действия против немцев по всему центральному фронту не позже второй половины января. Можете не сомневаться, что мы сделаем всё, что только возможно сделать для того, чтобы оказать содействие нашим славным союзным войскам».
Уже через несколько дней гитлеровскому командованию, видимо, стало известно, что советские войска перейдут в наступление во второй половине января. Оно предпринимает срочные меры. Все резервы и пополнения спешно отправляются на восток, войска приводятся в боевую готовность, авиация перебазируется ближе к Восточному фронту.
Одновременно с усилением фронта в Восточной Пруссии и в Польше Гитлер решает нанести новый удар в сторону Будапешта и спасти свои окруженные войска. Резервов в Германии больше не было. Все было брошено на фронт. А в Будапеште в кольце советских войск сидели 180 тысяч человек. На последнем этапе войны эти силы имели бы немалое значение.
Для нового удара на Будапешт Гитлер решает использовать те самые танковые дивизии, которые участвовали в первых двух ударах. Однако этих дивизий, как боевых единиц, уже не было. Оставались только штабы и тылы. Гитлеровское командование под метелку очищает все учебные пункты, запасные части и собирает пополнение для танковых дивизий под Будапештом. В эшелоны грузятся сотни танков и пушек с экипажами и расчетами. Без остановок эшелоны мчатся через Вену в западную Венгрию.
Местом начала нового удара на Будапешт были избраны берега озера Балатон. Отсюда вновь сформированные танковые дивизии «SS» должны были ударить на восток, прорвать советскую оборону юго-западнее и южнее города Секешфехервар, выйти на открытую равнину между озером Веленце и рекой Дунай и таранным ударом пробиться в Будапешт.
Для скрытого сосредоточения новой ударной группировки гитлеровское командование придумало хитроумный маневр. Оно снимало танковые дивизии с фронта в Венгрии, грузило их в эшелоны и направляло в Чехословакию, затем в Германию, из Германии в Австрию и из Австрии обратно в Венгрию.
Если для сосредоточения ударной группировки в новом районе по прямой нужно было пройти всего 60–80 километров, то по этому плану войска более 1500 километров ехали по железной дороге и уже затем сосредоточивались для наступления.
Перед началом наступления Гитлер снова отдал приказ своим войскам в Венгрии: любой ценой прорваться в Будапешт и выручить окруженные войска.
В текст этого приказа Гитлер добавил специальный пункт: «…всех русских солдат и офицеров, которые попадут в плен, немедленно уничтожать, уничтожать всех до одного».
После 10 января по всей территории, занимаемой немецкими войсками, шла сложная перегруппировка. Одни эшелоны шли на запад, другие на восток, третьи на юг.
Англо-американское командование ожидало новый удар в Арденнах. Немецкая группировка была почти готова к наступлению. Те, кто передал немцам о сроках наступления Советской Армии, с нетерпением ждали, когда Гитлер свои войска из Арденн потянет на восток.
Но Гитлер не торопился перебрасывать арденнскую группировку.
Советское Верховное Главнокомандование все учло и перенесло сроки наступления со второй половины января на 12 января.
Зная прежние сроки наступления советских войск, гитлеровское командование не успело полностью подготовиться к отражению их могучих ударов.
Ранним утром 12 января от Балтийского моря и до Карпат, на фронте более 1200 километров, началось грандиозное наступление белорусских и украинских фронтов Советской Армии.
В первый же день оборона гитлеровцев была прорвана на многих направлениях. В прорыв пошли крупные танковые, механизированные и кавалерийские соединения. Весь Восточный фронт немцев трещал и разваливался на куски.
В тот же день, 12 января, гитлеровское командование приняло решение о немедленной переброске войск из района Арденн на восток.
Те дивизии, которые были нацелены для наступления против англо-американцев, в эшелонах и своим ходом замаршировали на восток.
13 января все немецкие танковые дивизии 5-й и 6-й танковых армий были сняты с англо-американского фронта.
А 14 января американцы начали «решительное» наступление с севера и с юга на Арденнский выступ, 16 января Эйзенхауэр торжественно докладывал правительствам, что арденнский мешок «ликвидирован».
В то время, когда шло наступление советских центральных фронтов, а немецкие дивизии с англо-американского фронта маршировали на восток, на берегах озера Балатон сосредоточивалась новая группировка гитлеровских войск для наступления на Будапешт.
Под Будапештом снова сгущались грозовые тучи.
II
Генерал Дубравенко в четвертый раз перечитывал оперативную информацию штаба фронта. Скупые фразы раскрывали грандиозную картину наступления Советской Армии. Белорусские и украинские фронты 12 января 1945 года перешли в общее наступление и крушили фашистскую оборону от балтийских берегов до сизых, в снеговых уборах, карпатских вершин. Советские полки, бригады, дивизии, корпуса, армии штурмовали Варшаву, один за другим освобождали польские города, шаг за шагом пробивались к Кенигсбергу, к Бреслау, к границам фашистской Германии — на Одер, на Шпрее, к Берлину. На тысячекилометровом пространстве танковыми таранами кромсалась гитлеровская многополосная оборона, таяли, как весенний снег, фашистские полки, дивизии и корпуса. В «котлах» и «кольцах» доколачивались остатки вражеских группировок. Фронт с каждым часом катился все дальше и дальше на запад, к городам и селам Германии.
Дубравенко на карте Европы отмечал продвижение советских войск, думая о перспективах последующих событий. В Восточной Пруссии, в Польше и на границах Чехословакии гитлеровские войска неудержимо катились назад, а в Венгрии, перед фронтом гвардейской армии, только вчера прекратили наступление.
Там, где две недели ни ночью, ни днем не умолкали ожесточенные бои, наступило затишье. Прошли сутки, кончались вторые, а противник даже огня не вел.
Разведка непрерывно доносила, что перед правым флангом гвардейской армии, там, где наступали наиболее боеспособные танковые дивизии «SS», на переднем крае и в тылу противника начались какие-то передвижения войск. Танки, мотопехота и артиллерия снимались с фронта и отходили в тыл, сосредоточиваясь в лесах и населенных пунктах.
Чем вызвано прекращение наступления противника под Будапештом? Этот вопрос вторые сутки не мог решить Дубравенко. А его нужно было решить и как можно скорее. Ударная группировка противника понесла тяжелые потери. Это безусловно. Пленные в один голос показывали, что в полках и батальонах осталось меньше одной четверти боевого состава, а многие подразделения перестали существовать. Но тогда зачем гитлеровское командование так поспешно снимает войска с фронта и отводит их в тыл? Едва ли для доукомплектования нужна такая поспешность. Гитлеровцы обычно доукомплектовывали свои дивизии, не снимая их с фронта и не отводя в тыл.
И второй факт волновал Дубравенко. Перегруппировка перед правым флангом началась 12 января. А как раз в этот день советские северные и центральные фронты перешли в наступление. Это не могло быть случайностью. Несомненно, эти два события имели взаимную связь. А если это так, то прекращение наступления и перегруппировка немецких войск под Будапештом предпринимались с целью усиления участков фронта перед советскими наступающими фронтами.
Дубравенко вновь всмотрелся в карту. В самом деле, удары белорусских и двух украинских фронтов были нацелены на жизненные центры Германии. Главный удар, несомненно, наносился в сторону Берлина. Самое опасное сейчас для Германии — наступление советских фронтов. Они могут за несколько дней очистить Польшу и ворваться на территорию самой Германии.
«Значит, главное решается в центре, — подытоживая свои размышления, решил Дубравенко, — и Гитлер все свои силы, видимо, стягивает туда. Но как же будапештская группировка? Неужели гитлеровское командование отказалось от спасения своей 180-тысячной группировки, окруженной в Будапеште? Эта группировка яростно сопротивляется, упорно обороняя каждый дом. Ее командование не приняло предложения командующих Вторым и Третьим украинскими фронтами о прекращении бессмысленного кровопролития и подло убило советских парламентеров».
В последние дни все было ясно. Разведка своевременно снабжала командование данными о противнике. Особенно ценные сведения доставляла группа капитана Бахарева. Раз в сутки Бахарев по радио передавал коротенькие донесения. И каждое новое донесение все ярче раскрывало состояние противника. За трое суток работы группы Бахарева в тылу были уточнены места расположения тактических резервов противника, районы огневых позиций артиллерии и дислокация тылов перед центром гвардейской армии.
«Группу Бахарева нужно направить на правый фланг и установить, куда противник перебрасывает свои войска», — решил Дубравенко и вызвал начальника разведки армии.
На вопрос Дубравенко, когда будет очередной разговор с Бахаревым, Фролов ответил, что с капитаном потеряна связь. За тридцать часов от него не получено ни одного донесения. Четыре радиостанции круглосуточно дежурят на его волне, и ни одна не поймала от него сигналов!
Дубравенко понимал, как трудно группе Бахарева. Кругом войска противника, чужая, незнакомая местность. Малейшая оплошность — и группа могла целиком погибнуть. Только на свои силы мог рассчитывать Бахарев. Помочь ему никто не мог.
— Возможно, с радиостанцией что-нибудь? — проговорил Дубравенко.
— Трудно сказать, — ответил Фролов, — все время работала хорошо.
Дубравенко отошел от стола и выглянул в окно. Опять начался густой снегопад. Соседний дом запеленала белесая мгла. В такую погоду и на авиационную разведку надежды плохи. Даже на самой малой высоте летчики не смогут увидеть, что делается на земле. Опять, как и в первые дни января, погода работала на противника. Такой снегопад маскирует лучше, чем ночная темнота.
— Да, — со вздохом проговорил Дубравенко, — надежда только на наземную разведку и радиоподслушивание.
— Все рации танковых дивизий противника прекратили работу.
— Тимофей Фомич, как вы думаете, — после раздумья спросил Дубравенко, — может противник отказаться от спасения своей окруженной группировки?
— Безусловно может, — не задумываясь, начал Фролов. — В определенных условиях обстановки это может быть даже выгодным. Окруженная группировка привлекает на себя немало наших войск. Она сковывает маневр и вынуждает постоянно беспокоиться за свой тыл. Возьмите Курляндию. Там двадцать дивизий прижаты к морю и Гитлер не выводит их. Это явно рассчитано на то, чтобы держать наш тыл под непрерывной угрозой удара этой группировки.
Доводы начальника разведки казались Дубравенко вескими и вполне обоснованными. В самом деле, что такое окруженная в Будапеште группировка по сравнению с той угрозой, которая нависла сейчас над фашистской Германией? Небольшой ручеек — и горный водопад. Ручеек можно перепрудить, отвести в сторону, а водопад ничем не остановишь.
— Так вы считаете, что перегруппировка перед нашей армией проводится с целью усиления фронта в Польше? — в упор спросил Дубравенко.
— Я такого вывода пока еще не сделал, — потупив взгляд, ответил Фролов, — но логика вещей говорит за это.
— Значит, гитлеровцы не будут больше наступать на Будапешт? — еще настойчивее спрашивал Дубравенко.
— Вполне возможно. Два их удара ни к чему не привели. Едва ли они рискнут нанести третий.
Разговор перебил резкий телефонный звонок. Дубравенко потянулся к трубке, прижал ее к уху. По обрывкам разговора Фролов понял, что речь идет о каких-то новых данных о противнике.
— Начальник штаба корпуса полковник Джелаухов докладывает, что его разведчики захватили пленных. Принадлежат мотополку «Мертвая голова». Показывают, что их дивизия перебрасывается в Комарно и грузится в эшелоны. Три эшелона уже ушли в сторону Праги. Там же грузится и «Викинг».
— Грузятся в Комарно и едут на северо-запад, — повторял Фролов, — на северо-запад. Значит, они отказались от спасения будапештской группировки.
— Не торопитесь делать окончательные выводы, — остановил его Дубравенко. — Эти показания могут быть ложными, провокационными.
Беседу вновь перебил телефонный звонок.
Окончив разговор, Дубравенко придвинул карту и, не поднимая головы, сказал:
— Начальник штаба фронта звонил. Фронтовая разведка подтверждает факт погрузки танковых дивизий в Комарно и отправки их в сторону Праги. Одновременно штаб фронта получил данные, что немецкие войска выводятся из Арденнского выступа на Западном фронте и перебрасываются на восток.
— Теперь картина совершенно ясна, — выслушав начальника штаба, заговорил Фролов, — все бросает против наших наступающих фронтов, все — и с Западного фронта и с нашего участка.
С этим выводом Дубравенко был согласен.
Действительно, все эти факты говорили за то, что гитлеровское командование решило отказаться от спасения своей окруженной в Будапеште группировки и все свои силы концентрировало против наступающих советских фронтов.
Это в корне меняло положение гвардейской армии. Теперь нечего было опасаться новых ударов противника. Наоборот, нужно было самим как можно скорее нанести удары и сковать гитлеровские войска под Будапештом, не дать им снять ни одного солдата и перебросить в Польшу.
Придя к такому решению, Дубравенко невольно подумал о войсках противника, окруженных в Будапеште.
Гитлер оставлял их на произвол судьбы. Сами окруженные едва ли верят в то, что им удастся собственными силами вырваться из окружения. Им остается только одно: или сдаться в плен, или погибнуть.
Твердая убежденность в правильности оценки обстановки придала Дубравенко новые силы. Он встал из-за стола и подошел к окну. Снегопад не прекращался. Пушистые хлопья падали на крыши, на окна и тут же таяли. Скоро начнется весна. В этих краях она наступает рано. Иногда в такое время года уже цветет сирень.
Через несколько дней гвардейская армия может возобновить наступление. Впереди западная часть Венгрии, Австрия, Вена, Альпы. Дубравенко по картам и описаниям хорошо знал Альпы. А теперь придется побывать в них, походить по горам, может быть взобраться на самые высокие вершины. И где-то в Альпах закончится война.
Однако, как ни твердо был уверен Дубравенко в правильности оценки намерений противника, его не покидала тревога за дальнейшие события. Нужно было достоверно знать, что конкретно будет предпринимать противник перед фронтом гвардейской армии.
— Тимофей Фомич, — заговорил он, подойдя вплотную к Фролову, — теперь особенно необходимо усилить разведку. Противник может внезапно начать отход. В центре и на правом фланге он занимает невыгодные позиции, на них трудно обороняться, и к тому же фронт изломан, растянут. Он попытается сократить его. Главное для нас — не дать противнику отойти безнаказанно.
— Да, — согласился Фролов, — этим мы поможем нашим наступающим фронтам. Чем больше мы скуем сил противника, тем легче нашим наступать.
— Безусловно, — подтвердил Дубравенко, — и, кроме того, нужно готовиться самим к наступлению. И наступать, видимо, придется только наличными силами. Резервы Верховного Главнокомандования наверняка будут брошены на центральные фронты. Главная задача решается там, а наш фронт имеет второстепенное значение.
Начальник штаба и начальник разведки долго еще сидели, обсуждая, как лучше организовать разведку и не дать противнику отвести свои войска.
III
На обрывистом берегу канала Алтаев остановил машину. По колени утопая в снегу, он сошел с дороги, достал из планшета карту и осмотрелся. Это был тот самый канал Шарвиз, что голубой лентой окаймлял тылы левофланговых соединений армии. Начинался он из прямоугольного, вытянутого в длину искусственного озера и ровной линией спускался к Дунаю. Километрах в двадцати на запад начинались берега озера Балатон. Там проходил передний край обороны.
Опушенные снегом ракиты тяжело склоняли тонкие ветви. Новый недавно достроенный саперами мост желтел свежими досками. У маленькой будки на краю моста неторопливо похаживал часовой. Он видел и машину и Алтаева, но ходил спокойно, будто вблизи никого не было.
По извилистой тропинке Алтаев спустился к воде. То, что сверху казалось льдом, на самом деле была тонкая пленка. Она раскололась от удара комком снега, и по свинцово-синей воде побежала рябь.
— Не пройдут, если морозы не усилятся, не пройдут, — сам себе сказал Алтаев, думая о вражеских танках, — а мост-то придется рвать.
Он вздохнул, вспомнив, с каким трудом удалось построить несколько мостов на канале. Инженерных войск было мало, и мосты строились поочередно. Мостовики работали по восемнадцать часов в сутки.
— Ничего еще не известно, а я думаю о взрывах, — упрекнул он самого себя и пошел к машине.
То, что канал оказался не проходимым для танков, было несомненным преимуществом гвардейской армии. Если противник нанесет удар по левому флангу, то на его пути встанет естественная преграда. Только нужно заранее подготовить оборону на берегу. Но кому это поручить? Свободных войск не было. Нужно или выводить части из первого эшелона, или перебрасывать свои и так малочисленные резервы. Ни того, ни другого делать сейчас нельзя. Хоть и прекратил противник наступление, но еще неизвестны его замыслы. Он снова может нанести удар и опять рвануться к Будапешту.
Перейдет противник в новое наступление или не перейдет? Этот вопрос волновал в последние дни всех, и Алтаев еще не принял окончательного решения. Войска стояли в том же положении, в каком вели оборонительные бои в центре и на правом фланге армии.
Проезжая мост, Алтаев посмотрел на часового. Пожилой усатый солдат, вытянувшись во весь рост, держал автомат перед грудью, отдавая честь. Алтаеву хотелось узнать сейчас, о чем думает этот солдат и ждет ли он нового удара врага. Он хотел было остановиться, но машина стремительно проскочила мост.
У въезда в большое, разбросанное по холмам село Алтаева встретил командир оборонявшегося здесь полка. Невысокий подполковник в длинной шинели и серой каракулевой ушанке заметно волновался. Нежное, почти девичье лицо его раскраснелось, большие серые глаза то смотрели на Алтаева, то скрывались за опущенными веками, то посматривали куда-то в сторону. Но голос его был удивительно спокоен. Он подробно доложил, где обороняется полк, каково состояние подразделений и чем сейчас занимаются его люди.
— А как противник, товарищ Мартынов? — выслушав подполковника, спросил Алтаев.
— Венгры не хотят воевать. Каждую ночь человек по сто — сто пятьдесят переходило. Вот только в прошлую ночь не было ни одного перебежчика.
— Да? Ни одного?
— Ни одного.
— А вы разведку вели?
— Так точно. Действовали две поисковые группы, но… — подполковник замялся и опустил глаза, — но ни одна задачу не выполнила. Сильный огонь, ракеты. Так и не подошли к переднему краю.
— Почему?
— Плохо разведчики подготовились, — после минутного молчания сказал Мартынов и выжидающе смотрел на Алтаева.
— А раньше эти разведчики брали пленных?
— Да еще сколько! Даже офицеров из штаба немецкой дивизии, — возбужденно ответил Мартынов, недоумевая, почему вместо серьезного «нагоняя» генерал армии так спокойно расспрашивает о действиях разведчиков. За то, что обе группы действовали неудачно, Мартынов имел неприятные разговоры с командиром дивизии и с командиром корпуса. Этого же он ожидал и от командующего армией.
— Значит, раньше брали, а сейчас не смогли?.. — задумчиво проговорил Алтаев.
— И готовились долго, — перебил его Мартынов, — я сам проверял, начальник штаба два дня занимался с ними. Ну, а начальник разведки, тот и день и ночь…
— А может, зазнались разведчики ваши? У каждого, небось, по нескольку орденов.
— Все «Славу» имеют, а сержант Кустанаев — Герой.
— Герой, герой, а пленного не взял.
Мысли Алтаева сосредоточились на этих двух фактах: не было перебежчиков и неудачно действовали разведчики. Конечно, и то и другое могло быть случайностью. Но две группы и у обеих неудача? Раньше мадьяры по сотне перебегали, а сейчас — ни одного. Не значит ли это, что в оборону поставлены немецкие войска?
— А в положении и в поведении противника изменилось что-нибудь?
Мартынов ответил, что внешне у противника осталось все так же, как и было. Только непрерывные туманы и снегопад до предела ограничивают наблюдение. Наблюдательные пункты пришлось перенести в первую траншею. Но и оттуда дальше переднего края ничего не видно.
Продолжая разговаривать, они по глубокой лощине незаметно подошли к обороне полка Мартынова. Здесь было совсем не то, что на правом фланге армии. Там, куда ни посмотришь, везде стоят замаскированные пушки, минометы, танки, пулеметы, то и дело перебегают люди, со всех сторон раздается стрельба. А здесь было пустынно. Пока шли к переднему краю обороны, Алтаев увидел только батарею гаубиц, замаскированную в ложбине, несколько минометных стволов в овраге и одно-единственное самоходное орудие, вкопанное в землю.
Это безлюдье неприятно подействовало на Алтаева. Сразу стало холодно, и густой туман казался тяжелым, затрудняющим дыхание и давящим на человека.
То, что здесь было так мало войск, Алтаев знал и раньше. Это его не беспокоило. По его приказам целые полки и дивизии были сняты отсюда и переброшены на правый фланг, где решался исход сраженья. На левом фланге и в центре осталось только минимальное количество войск.
Мартынов, не понимая, что так взволновало командарма, придирчиво осматривался вокруг и пытался найти то, чем вызвано недовольство генерала.
Алтаев думал, что может произойти, если на этом участке гитлеровцы перейдут в наступление и бросят в бой танковые дивизии. Все будет решено за несколько часов. Не успеешь и резервы перебросить.
Впереди открывалось ровное поле, и на нем не было ни одного окопа. Только снежная гладь растворялась в тумане. А всего в полукилометре отсюда находились позиции противника.
— Фронт у меня очень широкий, людей мало, — говорил Мартынов, — вытянул все в одну ниточку, все роты сидят в одной траншее. Только мой резерв стоит вон там, за лесом.
Слово «резерв» Мартынов произнес так внушительно, что Алтаев невольно улыбнулся. Этот резерв состоял всего лишь из нескольких десятков пехотинцев и одной батареи. Видимо, Мартынов привык к обороне на широком фронте и даже такой резерв считал серьезной силой.
Невдалеке от Алтаева из тумана выросла фигура коренастого человека. Шел он неторопливо, как хозяин, осматривавший свое поле перед выездом на весенние работы.
— Кто это? — спросил Алтаев.
— Подполковник Крылов из вашего политотдела, — ответил Мартынов.
— Борис Иванович! — негромко прокричал Алтаев.
Крылов обернулся, увидел Алтаева и заспешил к нему.
— Здравствуйте, Борис Иванович, вы давно здесь?
— Третий день, по приказанию члена Военного совета.
— Как настроение людей?
— Неплохое, — ответил Крылов, и лицо его из празднично-торжественного стало озабоченным, почти суровым. — Все говорят о наступлении наших фронтов, подсчитывают, когда они подойдут к Берлину, ну и, как всегда, мечтают о конце войны.
Крылов улыбнулся и, смутившись своей улыбки, опустил голову. По его лицу Алтаев понял, что сам Крылов о конце войны мечтает не меньше других.
— И все же, товарищ командующий, — поборов смущение, продолжал Крылов, — вот здесь, в левофланговых частях, есть одна особенность в настроении людей. Этого нет ни на правом фланге, ни в центре. Здесь все ждут нового наступления противника, — склоняясь к Алтаеву, приглушенным голосом выговорил он последние слова и, словно высказав самое главное, вновь выпрямился и продолжал прежним тоном: — и ждут нового наступления именно вот здесь, на левом фланге армии.
— А на чем же основываются такие настроения?
— Вот это и есть самое интересное, — оживляясь, ответил Крылов. — Никаких конкретных причин для этого нет. Все осталось таким же, как день, два, неделю назад, а нового наступления ждут. Правда, большинство не высказывает этой мысли, но когда прислушаешься и присмотришься к людям, сразу понятно.
— Да, это очень интересно, очень интересно, — раздумывая, повторял Алтаев и, весело улыбнувшись, добавил: — Выходит, сам воздух наполнен признаками грозы?
— Почти что так, — ответил Крылов и, взглянув на часы, взволнованно проговорил: — Простите, товарищ командующий, собрались взводные агитаторы, я доклад должен сделать для них.
— Да, да. Идите, идите, если собрались. Опаздывать нельзя. А еще у вас какие работы на сегодня?
— Партийное собрание во втором батальоне, затем хочу поговорить с редакторами боевых листков, вечером зайду в девятую роту, парторг там молодой, неопытный еще.
— Прошу ходом сообщения, — показал Мартынов в сторону темного углубления в землю, — тут его пулеметы все простреливают.
Ход сообщения только что отрыли, и свежий чернозем не успело засыпать снегом. Несколько солдат в гимнастерках продолжали кирками долбить землю.
— День и ночь копаю и никак не могу соединить все подразделения, — сказал Мартынов.
Солдаты, увидев генерала, прекратили работу. Кое-кто из них пытался подпоясаться и привести себя в порядок, но Алтаев махнул им рукой и разрешил продолжать работу. Он хотел было с ними поговорить, но не решился, видя, что солдаты были мокры от пота и могли простудиться.
Наконец показалась траншея. Она, извиваясь, уходила вправо и влево от хода сообщения и скрывалась в тумане. Это был передний край. За ним были «нейтральная зона» и позиции противника. Где-то невдалеке протрещала автоматная очередь. В ответ ей заговорил пулемет.
— Вот так и перекликаемся изредка, — улыбался Мартынов, — жизнь у нас кипит только ночью. То разведчики ползут, то венгры перебегают.
В выемке траншеи с биноклем в руке стоял солдат. Он так углубился в наблюдение, что заметил Алтаева и Мартынова только тогда, когда они уже стояли около него. Он обернулся, поспешно, вытянулся, опустил красные от мороза руки и доложил:
— Гвардии рядовой Варварушкин. Изучаю местность и готовлюсь к выполнению задания.
— Разведчик, — пояснил Мартынов, — сегодня ночью опять идет в поиск.
Алтаев посмотрел на крупное горбоносое лицо разведчика и подал ему руку. Варварушкин вытер о штаны руку, протянул ее Алтаеву и скороговоркой сказал:
— Здравствуйте, товарищ генерал.
— Ну, что противник? — спросил Алтаев.
— Сидит, — ответил разведчик.
— А вчера вы ходили в разведку?
— Так точно.
— И как?
— Не подпустил… Ракеты, а потом пулеметы… Ранило двоих. Мы всегда восьмеркой ходили, а теперь вшестером придется. Новых-то лучше не брать. Пока обвыкнут, натерпишься с ними.
— А сегодня как, возьмете пленного?
— Должны бы. Только немцы, видать, в обороне теперь. И каски не такие, и шинели зеленые, и беспокойные какие-то, то и дело стреляют. Мадьяры-то, те молчат больше. А эти чуть шевельнулся — так и застрочили.
Он говорил спокойно и рассудительно, как пожилой человек, хотя на вид ему было не больше двадцати пяти лет.
— А если немцы, то что же?
— Если обычные, то ничего. А вот если «SS», то фашисты настоящие. Тогда уж и прижмешь-то, а он кусается. Только нынче все равно возьмем, пусть даже «SS». После вчерашнего стыдно и в глаза-то смотреть. И за ребят обидно. Скварчуку-то, наверное, ногу отрежут, а ему ведь только двадцать второй пошел. Ну, Иванцов-то подлечится и скоро придет, в плечо его царапнуло.
Рассудительный разговор солдата понравился Алтаеву. Ему хотелось обо всем расспросить этого разведчика, узнать его думы.
— Ну, а если немцы в наступление пойдут вот здесь?
— Могут, конечно. Там-то у них сорвалось, они тут попробуют. Гитлер-то, говорят, самолично приказ написал. Прорваться в Будапешт — и баста! А раз так приказал, то будут рваться, пока из них кишки не выпустим.
«А раз так приказал, то будут рваться», — эта простая солдатская мысль вызвала у Алтаева глубокое раздумье. Он прошел по всей обороне полка, побывал в штабе, заехал в медсанбат дивизии и все время думал об этой мысли. Не было ли это ключом для раскрытия всех замыслов противника?
То, что гитлеровцы прекратили наступление под Будапештом и грузили в эшелоны свои наиболее боеспособные танковые дивизии, было несомненным фактом. Но куда они везли эти дивизии? Если в Польшу, то наступления под Будапештом больше не будет. А если это хитрый маневр?
Алтаев знал, что после неудачного покушения на его жизнь и раскрытия генеральского заговора Гитлер разогнал старый генералитет и окружил себя послушными людьми. Теперь, как никогда в другое время, проявлялось диктаторство Гитлера. Все делалось только по его личным приказам. И недаром он сам подписал приказ о прорыве к окруженной группировке. И этот приказ не выполнен. Гитлер, несомненно, рассвирепел и, видимо, полетела не одна генеральская голова. А для Гитлера сейчас престиж дороже всего.
Из всего опыта войны вытекал вывод, что Гитлер и его командование в своих действиях очень часто руководствовались не трезвыми, научными расчетами реальных сил и возможностей, а предвзятыми идеями, имеющими в своей основе удовлетворение личного самолюбия и поддержание личного престижа.
А сейчас, когда война подходит к концу, разве уменьшилось диктаторство и бахвальство Гитлера? Чего стоят одни его слова в приказе войскам, нацеленным на прорыв кольца окружения будапештской группировки «Я лично буду руководить вами!»
— Нет, нет, — проговорил Алтаев, — Гитлер не может отказаться от наступления на Будапешт.
— Слушаю вас, товарищ командующий, — отозвался сидевший сзади адъютант.
— Это не к вам, — ответил Алтаев.
По приезде в штаб армии Алтаев пригласил секретаря партийной организации штаба.
Алтаев и сам не замечал, что у него вошло в привычку в трудные моменты советоваться с руководителями партийных организаций. И сейчас, приглашая секретаря партийной организации штаба армии, он не думал о том, зачем он это делает и что этот тридцатипятилетний майор Холодков, всего четвертый год служивший в армии, вряд ли мог сказать ему, генералу армии, отдавшему тридцать семь лет жизни военной службе и воспитавшему не одну сотню офицеров и генералов, что-нибудь особенно ценное. Ему просто в разговорах с секретарем партийной организации хотелось найти подтверждение или отрицание своих мыслей, почувствовать, чем живет партийный коллектив штаба армии, и по каким-либо черточкам понять, как думает большинство коммунистов.
Михаил Николаевич Холодков до войны в армии не служил. Молодым пареньком поступил он на оборонный завод и через год стал слесарем. Комсомольская организация втянула его в учебу, и Холодков без отрыва от производства окончил рабфак, а затем поступил на вечернее отделение машиностроительного института. Через пять лет напряженной учебы Холодков стал сменным инженером цеха. Перед войной, также без отрыва от производства, он окончил Промышленную академию и был назначен парторгом ЦК на крупный московский завод. Когда разгорелась война, Холодков вместе с тысячами москвичей ушел в народное ополчение, рядовым артиллеристом воевал под Можайском, а затем был назначен политруком батареи, заместителем командира дивизиона, секретарем парторганизации штаба армии.
— Присаживайтесь, — встретил Холодкова Алтаев, — как настроение?
— Как у всех, товарищ командующий, — отозвался Холодков, — хорошее. Самые трудные бои выдержали.
— Самые трудные, говорите? — повторил Алтаев и, всматриваясь в лицо майора, строго спросил: — А вы думаете, что труднее и боев не будет?
Холодков не понял причины изменения настроения генерала и прежним тоном ответил:
— Да труднее едва ли будет.
Алтаев усмехнулся, лукаво взглянул на Холодкова и иронически проговорил:
— Рановато войну-то заканчиваете. Еще не только дым будет, но и огоньку вдосталь хватит.
Холодков заметил иронию командующего и невольно подосадовал на себя: он хотел сказать совсем не то, что подумал Алтаев.
— Я, товарищ командующий, — заговорил Холодков, — не в смысле боев, а имел в виду общую обстановку, так сказать, всего хода войны.
Алтаев придвинул стул ближе к Холодкову и вполголоса спросил:
— Михаил Николаевич, как думает большинство коммунистов о ближайших перспективах нашей армии?
Холодков на секунду задумался, опустив стриженую голову.
— Если говорить о настроениях, то их, пожалуй, можно разделить на две резко противоположные группы. Одни считают, что немцы отказались от наступления на Будапешт и теперь нашей армии не придется вести тяжелых оборонительных боев…
— Значит, по их мнению, центр тяжести переместился теперь в Польшу, на границы Германии?
— Да. А у нас второстепенное направление. Другие, наоборот, твердо уверены, что гитлеровцы будут рваться к Будапешту и нам нужно быть готовыми к отражению новых ударов противника.
— И как вы думаете, кто из них прав?
— Я лично считаю, что сражения под Будапештом еще не закончены. Будапешт — это не просто город и не только столица Венгрии. Будапешт — это южный фланг немецкого фронта на востоке. И с его потерей открываются самые жизненные центры Германии — Австрия, южная Германия.
— Да, но Берлин важнее.
— Конечно, важнее, зато перед Берлином сплошные полосы обороны, и на них безусловно гитлеровцы надеются. Там легче остановить наступление. А на юге подготовленных рубежей у немцев нет.
Слушая, Алтаев изучающе смотрел на Холодкова. Этот «совсем гражданский человек» рассуждал глубоко по-военному, основываясь не на частностях, а на конкретных фактах общего значения.
— Так что же все-таки выходит: если к вам ломятся в дверь, вы будете защищать дальнее окно?
— Иногда окно-то и будет самым опасным местом.
Алтаев еще ближе придвинулся к Холодкову, и теперь они сидели почти рядом, лицом к лицу. Холодков рассказывал о частых спорах между офицерами, которые разгорались по этим двум принципиально разным мнениям, вспоминал доводы и тех и других, критически рассматривал противоречивые взгляды, и Алтаев с каждой минутой чувствовал все большую уверенность в своих выводах. Теперь ему было совершенно ясно, что два мнения — не случайность. Одни смотрели на события глубже, оценивая их в комплексе борьбы противоречий, другие видели только внешнюю сторону событий и не дошли до понимания скрытых, невидимых причин, которые руководили борьбой в этот период войны.
Проводив Холодкова, Алтаев пригласил к себе члена Военного совета и начальника штаба. Нужно было принимать основное решение на руководство войсками армии в новых условиях.
Первым пришел Шелестов. Он, так же как и Алтаев, двое суток находился в войсках и теперь был переполнен массой новых впечатлений.
— Как на правом фланге? — спросил его Алтаев.
Шелестов присел к столу, потом вдруг встал и подошел к Алтаеву.
— Георгий Федорович, какой у нас народ изумительный! Был я в городе Бичке. Там дивизии Цветкова, Панченко, танкисты Маршева. Они же у нас выдержали самый сильный напор противника. А сейчас только и говорят о наступлении, все рвутся вперед. Противник перед ними притих, затаился, проводит перегруппировку, а наши не могут сидеть спокойно.
— Да, это хорошее настроение, — задумчиво проговорил Алтаев, — то, что нам в ходе тяжелых оборонительных боев удалось сохранить наступательный порыв, это огромный плюс. Возьмите историю всех войн. После обороны обычно наступало затишье, все хотели отдохнуть. А у нас наоборот. После обороны под Москвой сразу же началось контрнаступление, то же самое под Сталинградом, под Курском. Это новое в военной науке и практике, наше, советское.
Неслышно вошел Дубравенко и прислушался к разговору командующего и члена Военного совета.
— И это новое дает нам великие преимущества, — возбужденно продолжал Алтаев. — Что такое контрнаступление? Это переход от обороны в решительное наступление. Этот прием военная история знает очень давно. Его применяли все крупные полководцы. Но какая великая разница между прошлым и нашим, советским контрнаступлением. Если раньше после тяжелых оборонительных сражений наступала пауза, иногда очень длительная, войска накапливали силы, готовились и только тогда начинали контрнаступление, то в этой войне мы переходили в контрнаступление без всяких пауз, по существу еще в ходе обороны. Это новый прием. И вот, вдумываясь в историю, анализируя все случаи контрнаступления Советской Армии, видишь одно: успех обеспечивает не только количество и качество, но еще один очень важный элемент. Это выбор момента для перехода в контрнаступление: когда ударить, в какое время перейти от обороны к наступлению. И в этом отношении весьма показательно московское сражение. Когда наши войска перешли в контрнаступление? Не в октябре, не в ноябре и не в январе, а шестого декабря. Почему именно шестого декабря, а не, скажем, шестого ноября? Тогда внешне было бы выгоднее. Наш исторический праздник, а соответственно и моральный подъем воинов. А дело в том, что в октябре, в ноябре и даже в первых числах декабря в контрнаступление переходить было рано. Противник еще наступал, имел крупные резервы и не был надломлен. А вот к шестому декабря наступление противника выдохлось, все главные резервы он израсходовал, его наступательный порыв иссяк. И вот как раз в это время мы и ударили по противнику. В итоге враг был ошеломлен, отброшен далеко от Москвы и потерпел крупное поражение. То же самое было под Сталинградом и под Курском. А что было бы, если, скажем, наше контрнаступление под Москвой началось бы не шестого, а, например, двадцатого декабря? Разница всего на полмесяца. А за эти полмесяца противник мог закрепиться, создать прочную оборону, подвести из глубины новые резервы, и в итоге пришлось бы вести затяжные тяжелые бои. И второй вариант: если б мы начали контрнаступление в ноябре. Противник был еще силен, его резервы не израсходованы — и опять затяжные бои. Следовательно, нужно уметь правильно определить кризис наступления противника. У нас уже противник не наступает третьи сутки. Что это, кризис?
— Безусловно кризис, — ответил Дубравенко.
— Значит, нужно переходить в контрнаступление?
— Да, и чем скорее, тем лучше.
— А по каким признакам вы определяете, что кризис уже наступил?
— Признаков очень много. Ударная группировка противника потеряла до шестидесяти процентов личного состава и более семидесяти процентов танков. Это во-первых. В последние дни наступления она никакого продвижения не имела. Это во-вторых. А в-третьих, немцы сами прекратили наступление, вывели в тыл свои танковые дивизии, грузят их в эшелоны и отправляют на запад или северо-запад.
Алтаев смотрел на Дубравенко и не узнавал своего начальника штаба. Лицо его горело, глаза строго смотрели то на Алтаева, то на Шелестова, в голосе чувствовалось недовольство чем-то и желание любыми доводами доказать правоту своих мыслей.
А Дубравенко в это время думал о доводах Алтаева. Он понял, что командующий не верит в то, что противник отказался от наступления на Будапешт, и это казалось ему ошибкой Алтаева. Если сейчас не нанести удар противнику, то он безнаказанно отведет свои главные силы и перебросит их против наступающих фронтов. А это по меньшей мере безделие и нежелание содействовать общему успеху Советской Армии.
Шелестов сидел молча, вслушиваясь в спор командующего и начальника штаба. Он также много думал о замыслах противника, но к определенным выводам еще не пришел. Ему хотелось выслушать как можно больше противоречивых мнений и тогда в сравнениях отыскать истину.
Спор между Алтаевым и Дубравенко разгорался. Они сидели один против другого, и взгляды их непрерывно встречались. Дубравенко в подтверждение своих мнений приводил неопровержимые факты. И Алтаев волей-неволей должен был с ними согласиться. Противник действительно уводит с фронта танковые дивизии и грузит их в эшелоны. Если б он сосредоточивал их на каком-либо другом участке армии, то зачем нужна переброска войск по железной дороге? От правого до левого фланга гвардейской армии всего немногим менее ста километров. Проще всего пустить их по шоссейным дорогам, и они за двое суток могут оказаться перед левым флангом армии.
Все выводы, к которым пришел Алтаев, сейчас вновь вызывали у него сомнения. Алтаев смотрел на Шелестова и по выражению лица пытался узнать его мнение.
Шелестов откинулся на спинку стула, прикрыл глаза припухлыми веками. Его густые темные волосы спадали на широкий лоб. Губы сурово сжались, и казалось, он их никогда не разомкнет.
А Дубравенко приводил все новые и новые факты в защиту своего мнения.
— Настроение солдат венгерской армии, — резким голосом говорил он, — показывает, что венгры слишком слабая поддержка для гитлеровцев. И если мы ударим именно сейчас, когда немцы не оправились от провала своего наступления, то венгры бросят фронт и начнется массовый переход их солдат на нашу сторону. А это значит, что в немецкой обороне образуются бреши, которые им нечем будет закрыть.
Алтаев всем своим существом чувствовал неправоту основного мнения начальника штаба, но убедительных доказательств для опровержения этого мнения не было. Мысль о том, что Гитлер из-за поддержания своего личного престижа не откажется от наступления на Будапешт, была верной, но она основывалась не на точных фактах, а на анализе всех действий Гитлера за время его властвования. А эта мысль была основным доводом Алтаева.
— Константин Николаевич, — заговорил, наконец, Шелестов, — а как вы оцениваете факт переброски двух танковых армий с англо-американского фронта на восток?
— Этого нужно было давно ждать, — не задумываясь, ответил Дубравенко, — это последний резерв Гитлера, и он его использует для прикрытия берлинского направления.
— А почему одна из этих армий не может быть переброшена в Венгрию?
— С какой целью?
— Прорваться в Будапешт, отбросить наши войска за Дунай, сохранить за собой «альпийскую крепость» и в конечном итоге затянуть войну, чтоб выторговать выгодный мир.
Довод Шелестова несколько поколебал Дубравенко. Он задумался, хмуря брови, и заговорил глухим голосом:
— Это, конечно, верно. Но безрассудство защищать Альпы и открывать дорогу на Берлин.
— А разве все действия Гитлера во время войны были разумны и логичны? — вновь вмешался Алтаев.
— Гитлер — это еще не все, — ответил Дубравенко, — он пешка в руках главных заправил. Генеральный штаб, генералы руководят всеми действиями…
— Вы недооцениваете значение Гитлера, — прервал его Шелестов. — Нельзя забывать, что он диктатор. И генералы дрожат перед ним.
— Тем более, после неудачной попытки свалить его, — добавил Алтаев, — они хотели от него избавиться, но не удалось, и сломали на этом головы. И теперь никто из них пикнуть не посмеет.
Дубравенко молчал. Он понимал правоту последнего довода, но никак не мог согласиться с тем, что главное для гитлеровской Германии — защита Альп, а не удержание восточных границ и Берлина.
— Я считаю, — заговорил Алтаев, — вывод может быть только один: гитлеровцы будут рваться к Будапешту, и нам еще придется вести тяжелые оборонительные бои. Поэтому главное сейчас не подготовка контрнаступления, а создание прочной обороны. Не расхолаживать войска тем, что противник уводит с нашего фронта свои танковые дивизии, а готовить всех к новым оборонительным боям и к последующему решительному наступлению на Вену.
— Безусловно, — поддержал его Шелестов, — рассчитывать на легкую победу нельзя. Гитлер еще немало наделает пакостей. Что бы ни было, но в Альпах он видит свое спасение. И свою «альпийскую крепость» он будет защищать. А Дунай — это передний край «альпийской крепости».
Шелестов посмотрел на Дубравенко. Начальник штаба сдвинул кустистые брови. Лицо его было хмуро, глаза прятались под длинными ресницами.
— Теперь нужно решить еще одно, — сказал Алтаев: — где противник всего вероятнее нанесет новый удар.
И опять разгорелся яростный спор. Дубравенко доказывал, что выгоднее всего противнику бить по правому флангу или центру армии. Алтаев был твердо убежден, что новый удар будет именно на левом фланге.
К двум часам ночи было выработано основное решение: готовить войска армии к отражению нового наступления противника, а для этого усилить левый фланг и все резервы держать в центре.
Сейчас же Алтаев связался с командующим фронтом и доложил ему принятое решение. Маршал Толбухин, не перебивая ни одним замечанием, выслушал Алтаева и, когда он закончил докладывать, заговорил:
— Я согласен с вашим решением, только прошу учесть еще одно обстоятельство. Сейчас Второй Украинский фронт готовит решительный штурм окруженной группировки. Поэтому все ближайшие резервы Верховное Главнокомандование передает Второму Украинскому фронту, а мы должны обойтись своими силами и средствами, которых — вы хорошо знаете — у нас не слишком много. Так что рассчитывайте на то, что у вас есть. Завтра я у вас заберу кавалерийский корпус. Он пойдет ликвидировать мелкие группы противника в лесах под Будапештом. Так что казаков в свои расчеты не принимайте.
Алтаев облегченно вздохнул. Сразу стало как-то легче на душе. Теперь он был твердо уверен в правильности того, о чем он мучительно раздумывал. Неуверенность и колебания отошли в прошлое.
— Константин Николаевич, — обратился он к Дубравенко, — я прошу вас лично заняться увязкой вопросов взаимодействия между родами войск и особенно разведкой. Офицеров штаба послать во все дивизии, вызвать ко мне командиров корпусов — и все силы на укрепление обороны!
— Слушаюсь, — ответил Дубравенко и торопливо вышел из кабинета.
Алтаев долго молчал, глядя вслед ушедшему начальнику штаба. Он знал, что Дубравенко предстоит большая, очень большая работа. От принятого решения до претворения его в жизнь так же далеко, как далеко от зарождения в голове конструктора идеи создания новой машины до пуска этой машины в действие. Нужно разрешить и увязать между собой сотни различных вопросов, согласовать и направить к выполнению единой цели самые разнообразные виды оружия и боевой техники, организовать и руководить работой десятков тысяч людей. Более чем на сотню километров по фронту и почти на столько же в глубину раскинулись войска гвардейской армии. И сейчас каждое отдельное звено, каждое подразделение, часть, соединение нужно было объединить в единую, четкую, гибкую систему, которая должна работать, как безупречный механизм, без скрипов, без рывков, без единой задержки.
И большую часть этой работы должны были выполнить штаб и лично начальник штаба армии.
— Кажется, обиделся Дубравенко? — опросил Алтаев члена Военного совета.
— Не может быть, — ответил Шелестов, — он явно не прав и, видимо, понял свою неправоту.
— Я все-таки попрошу вас, Дмитрий Тимофеевич, поговорите с ним. Очень плохо, когда между командиром и начальником штаба возникают разногласия. Тогда все скрипит и ползет через пень-колоду.
IV
Трое суток похода по вражеским тылам и, особенно, удачный налет на полевую немецкую комендатуру, где удалось захватить много документов и карту с нанесенным на нее положением трех немецких дивизий, окрылили Бахарева. Его группа наводила на немцев страх, и они, бросая все, в панике разбегались, не зная, что против них действовало менее десятка советских разведчиков. Потом Бахарев решил не ввязываться в мелкие стычки, а осуществить более серьезное мероприятие. По захваченным документам он узнал, что в небольшом имении, вдали от крупных населенных пунктов, разместился пункт управления начальника тыла немецкого танкового корпуса. На этот пункт и решил Бахарев напасть, взять в плен генерала или ответственного офицера, захватить побольше документов и, как всегда, скрыться в горных лесах.
Два дня, притаясь на опушке рощи в полукилометре от имения, разведчики изучали пункт. По дороге к имению то и дело сновали легковые автомобили, изредка проезжали грузовики. Особенно обнадеживало Бахарева то, что ни в самом имении, ни на подступах к нему не было видно подготовленной обороны и серьезной охраны. Только у двухэтажного дома, сменяясь через два часа, стоял часовой с автоматом.
В час ночи, когда обычно в имении все замирало, разведчики бесшумно двинулись вперед. Сам Бахарев шел впереди с Косенко и Мефодьевым, остальные пробирались в сотне метров за ними. Густая темнота предвещала полный успех дела. Однако все пошло не так, как намечал Бахарев. Они еще не дошли до крайнего дома, как в воздух одна за другой взлетело шесть осветительных ракет и сразу же ударили два автомата, затем к ним присоединился пулемет и еще несколько автоматов.
С первых же выстрелов Бахарев понял, что налет не удался, и, как только догорели ракеты, поднял группу и броском отвел ее в рощу. Теперь нужно было уходить и как можно скорее и дальше.
А в имении все ожесточеннее разгоралась стрельба, сериями взлетали вверх осветительные ракеты, шумели автомобильные моторы.
Но разведчики были уже далеко, и Бахарев облегченно передохнул, радуясь, что так легко удалось ускользнуть от противника.
— Товарищ гвардии капитан, через сорок минут — донесение, — напомнил радист.
— Отскочим километра на три и передадим, — ответил Бахарев и приказал парному дозору выдвигаться вперед.
Прошли километра три. Бахарев хотел было приказать остановиться и развернуть рацию, но впереди мелькнули два желтых огня и послышался шум мотора. Навстречу шла какая-то машина. Бахарев свернул вправо, и группа броском по рыхлому снегу отскочила в сторону. Желтые огни приближались. Все залегли в снег. Позади первой пары огней виднелась вторая, за ней третья и четвертая. Расстояние между ними все время увеличивалось. Первая машина шла на полной скорости, остальные заметно притормаживали. Видимо, это были бронетранспортеры. Головной часто останавливался, разворачивался то вправо, то влево, настороженно шаря лучами прожекторов по сторонам. Когда первый бронетранспортер развернулся, его фары уставились прямо на разведчиков. В ярких полосах лучей на белизне снега предательски чернела глубокая извилистая дорожка, где только что прошла группа.
«Неужели догадаются?» — беспокоился Бахарев.
К первому бронетранспортеру подошел второй, быстро приближались третий и четвертый.
«Не менее полусотни человек и наверняка пулеметы, — подсчитывал Бахарев, — а у нас только одни автоматы и гранаты».
— За мной, ползком, — скомандовал капитан, — не отставать.
Позади выхлестывали пулеметы. Немцы, видно, не обнаружили группу и стреляли наугад. Свист пуль то приближался, проносясь прямо над головой, то удалялся, замирая в темной вышине. Свет внезапно погас, и вокруг сгустилась спасительная темнота.
— Встать, бегом! — скомандовал Бахарев. — По такому снегу бронетранспортеры не пройдут. Теперь немцы преследовать могут только пешком. И победит тот, кто окажется выносливей. Ну, хлопцы, — вполголоса продолжал он, — спасут нас только ноги и смелость. Беречь силы, не отставать — и без паники!
Он быстро шагал, сверяя направление по компасу, изредка останавливался, пропуская всю группу, и снова забегал вперед. Все люди шли бодро и уверенно, но и немцы не отставали. Позади все время слышался их говор и хруст снега.
Эта погоня и непроглядная ночь напомнили Бахареву далекий случай раннего детства. Мальчишкой лет семи с друзьями разыскал он на дальней улице города старую водосточную трубу. Ее большой черный зев уводил под гору, к центру города. В трубе было сухо и тепло. Детское любопытство увлекло ребят. Они на карачках поползли в трубу. Впереди была таинственная неизвестность. Долго ползли в темноте. Давно остался позади радужный круг света. Кругом было черно и страшно. Казалось, трубе не будет конца и они никогда не увидят свет. Слезы навертывались на глаза. Хотелось вскочить и побежать назад. Но узкая труба давила со всех сторон. Ползти было все труднее и труднее. Затхлый воздух затруднял дыхание. Руки наталкивались на что-то скользкое и гадкое. Несколько раз ребята останавливались, пытались ползти задом, но так ползти было совсем невозможно. Бахарев хорошо помнил этот момент. Силы покинули его. Он с трудом двигал руками и ногами, но все же полз. Вспомнились мать, отец, жаркое солнце на улице к крупные зеленые яблоки в саду. Уходя из дому, он забыл дать корм кроликам. Кто же их теперь накормит? Сидят, наверно, голодные и печально смотрят сквозь решетчатую дверцу. Цветы в саду не политы. Завянут совсем, погорят на солнце. Отец и мать на работе. По щекам катились слезы. А может, никогда не увидит он больше ни солнца, ни яблок, ни кроликов, ни цветов? Застрянет в трубе, и никто не узнает, где он умер. От этой мысли стало так больно и обидно, что он рванулся и стукнулся головой о холодную стену трубы. Боль в затылке подхлестнула его, толкнула вперед. Он лихорадочно перебирал руками и ногами. Не чувствовалось больше ни темноты, ни сырости, ни скользких камней.
Все маленькое тело устремилось вперед. Наконец что-то засинело, а потом засветлело впереди. Четко обозначился светлый круг. И вот оно — солнце, овраг, наверху по улице громыхает трамвай. На всю жизнь запомнил Бахарев этот момент.
И сейчас такая же темнота, как и тогда в трубе, давила со всех сторон. Бахарев поправил ушанку, подтянул ремень автомата. Люди попрежнему шли бодро, но и в движениях и в сумрачных фигурах сквозили тревога и усталость.
Младший лейтенант Аристархов шагал замыкающим. Его неширокие плечи гнулись под тяжестью мешка и автомата. Ноги часто скользили.
Он приостановился, настороженно посмотрел назад и со злостью проговорил:
— А они все время идут и идут по пятам.
— Товарищ гвардии капитан, — прошептал сержант Косенко, — мабуть, мы их подзадержим трохи. Дозвольте мне подкараулить их, резануть автоматом, а вы за это время километров пять махнете. В темноте-то не скоро очухаются.
Бахарев не отвечал, продолжая шагать все быстрее.
— Да вы не сомневайтесь, товарищ гвардии капитан, — озадаченный молчанием капитана, говорил сержант, — я с ними не как-нибудь, а по-серьезному. Три диска полных и девять гранат. До рассвета задержу, а там побачимо. Живым не дамся…
— Да нет, что вы, я верю вам, — ответил Бахарев, — только это очень сложно, мало нас, а впереди еще столько дела.
— А ежели всех прихлопнут, тогда ничего не сделаем, — настойчиво уговаривал Косенко, — а я один, як перст…
Он шел рядом с Бахаревым, по колено утопая в снегу. Голос его был приглушенно грозен. Бахарев колебался. Предложение Косенко было разумным и наиболее целесообразным выходом из трудного положения. В темноте один автомат мог надолго задержать немцев. Можно было с Косенко оставить еще одного-двух человек. Тогда они создадут видимость, что бой ведет вся группа, а затем незаметно ускользнут в темноте. Это спасло бы главные силы разведчиков. Но бросить своих людей в тылу противника у Бахарева не хватало сил. Если даже они удачно уйдут от погони в эту ночь, то в дальнейшем, оставшись одни, нарвутся где-нибудь на противника и погибнут.
А сейчас пока еще была возможность до рассвета уйти всей группой.
— Нет, Косенко, — сжал Бахарев влажную руку сержанта, — вырвемся всей группой. Когда выхода не будет, я пошлю вас.
Сержант опустил голову и пошел на свое место. Разговор с Косенко влил в Бахарева новый приток сил. Он размашисто шагал, ускоряя движение. По времени должна показаться дорога и начаться горы. Через несколько минут вдали обозначились силуэты телеграфных столбов. Бахарев выслал дозор, а группу положил в снегу. Вскоре один дозорный вернулся и доложил, что на дороге пустынно.
Теперь нужно было решить, куда итти, чтобы сбить с толку преследователей. Можно по дороге двигаться к фронту, и можно было направиться дальше в тыл. Бахарев на секунду остановился. Снегопад заметно усиливался. Белый пух покрывал дорожное полотно.
«Если б ветер подул, — думал Бахарев, — тогда все заметет, ищи иголку в стоге сена».
— Пойдем в тыл, а там свернем в горы, — проговорил он и, свернув с дороги, повел группу ущельем.
Снег валил все гуще и гуще. Справа и слева громоздились камни. Среди них темнели коряжистые деревья. Тропа то поднималась вверх, то круто опускалась, пересекаемая впадинами. Бахарев знал, что в этом районе находились большие залежи бокситов и было много рудников. Эти ямы и впадины, видимо, и были местами добычи бокситов. Дальше итти не было смысла. Наступал день. Бахарев выбрал глубокую яму с пещерой и решил здесь остановиться на дневку. Он выставил пост для охраны и приказал Гулевому развернуть рацию.
Изморенные переходом люди разместились кто где. Посеребренные инеем камни образовывали причудливый свод пещеры. Теплом и романтикой приключенческих книг веяло из полутемного подземелья.
Бахарев разрешил на завтрак израсходовать по одной банке консервов на двух человек. Гулевой долго возился с рацией. Он стоял на коленях и суетливо копошился внутри обтянутого кожей прямоугольного ящика. Красивое лицо его было мокрым от пота, пальцы дрожали.
— Ну что, скоро? — нетерпеливо спросил Бахарев.
Ефрейтор повернул голову и, шевеля белыми губами, силился что-то выговорить.
— Что? — поняв, что случилось что-то непоправимое, проговорил Бахарев.
— Пуля… Две лампы и трансформатор, — бессвязно пролепетал Гулевой.
Он тяжело дышал, хватая раскрытым ртом воздух.
Бахарев безвольно опустился на камень, охватив руками голову.
— Товарищ гвардии капитан, — вбежал в пещеру один из дозорных охраны, — люди в соседней пещере.
— Люди, — приподнялся Бахарев, — какие люди?
— Старик какой-то. Выходил два раза, а потом второй старик, высокий, в очках.
— Кто они?
— Не знаю. Мадьяры, наверно.
— Аристархов, поднять людей, — приказал Бахарев младшему лейтенанту и с дозорными вышел из пещеры.
— Вот прямо, смотрите.
Метрах в пятидесяти в зубчатой скале темнел овальный вход в пещеру, где солдат заметил людей. Если там действительно находится кто-нибудь, то он наверняка видел разведчиков, а если еще не успел заметить, то теперь может наблюдать за каждым их движением.
— Никого не выпускать, — приказал Бахарев и, вернувшись в пещеру, разбудил солдат.
— Косенко и Никитин, осмотреть пещеру, там люди, — приказал Бахарев.
Косенко зарядил автомат, проверил гранаты и осторожно двинулся вперед. За ним пробирался длинноногий Никитин. Из пещеры никто не показывался. Косенко приблизился к темному входу, на секунду задержался и рванулся в черноту. За ним исчез и Никитин. Бахарев вслушивался. Ни одного звука, только мягко шуршит снегопад. Не чувствовалось ни холода, ни сырости таявшего снега на распаленном лице и руках.
Косенко мучительно долго не подавал никаких признаков жизни. Наконец он выскочил из пещеры и замахал руками. Бахарев бросился к нему.
— Наши, товарищ гвардии капитан, из нашей роты, — возбужденно говорил сержант, блестя счастливыми глазами, — Анашкин и снайпер Тоня.
— Анашкин и Тоня! — вскрикнул Бахарев и рванулся в пещеру.
В сером полусвете он сначала ничего не увидел, потом начали понемногу вырисовываться фигуры людей и что-то белое у дальней стены.
— Товарищ гвардии капитан, — задыхаясь, выкрикивала Тоня, — не думали выбраться… А теперь вы…
Бахарев прижимал девушку к себе, чувствовал ее вздрагивающие плечи и долго не мог выговорить ни одного слова.
— Золтан и Янош спасли нас, — продолжала Тоня, — если б не они — смерть. Вот, товарищ гвардии капитан, Золтан, он по-русски понимает, а Янош — доктор.
Невысокий худенький старичок смущенно переминался на месте.
— Спасибо, товарищ, большое спасибо, — жал его руку Бахарев, — от всего сердца спасибо.
— А дядя Степа еще болен, не может ходить, — пояснила Тоня, — ноги перебиты, в лубках сейчас, срастаются.
Бахарев подошел к Анашкину. Ефрейтор лежал на подстилке из соломы и протягивал к нему длинные худые руки.
— Как хорошо! Не думал я живым увидеть вас, а теперь, теперь вы не пропадете. Нас целая группа, выручим…
— А я ведь и не думал пропадать-то, — нараспев говорил Анашкин, — я еще на вашей свадьбе гульну.
Вся группа собралась в пещере. Наверху остались только дозорные и Степа Гулевой. Без шапки, в распахнутой телогрейке он сидел на пне и бессмысленно смотрел перед собой.
— Ну, что ты, Степа, что убиваешься-то, — уговаривал его Мефодьев, — ну мало ли что бывает в бою.
— Да понимаешь, надо ж такому случиться, — горестно шептал Гулевой, — лучше б эта проклятая пуля в руку мне угодила. И даже не слыхал как.
— Ты знаешь, — говорил Мефодьев, — мы такую у немцев рацию захватим — будь здоров! Подкараулим на дороге, раз-два — и в дамках!
Гулевой поднял на него глаза и, раскрыв рот, с минуту смотрел молча, словно не узнавая сержанта.
— Сергей, Сережка, — зашептал он, — а ведь это верно, это здорово! Пойдем с тобой вдвоем. Пойдешь? Дорога тут совсем недалеко, и машины бегают. Пойдешь?
— Конечно, пойду, — соглашался Мефодьев, — мин достанем, поставим на дороге — и будь здоров!
— Точно, Сережа, точно, — вскочил Гулевой, — пошли к капитану.
Бахарев выслушал Гулевого и отрицательно покачал головой:
— Нет. Одни вы не пойдете. И не так это просто захватить рацию. Выследить нужно сначала, высмотреть, узнать наверняка, и тогда действовать всей группой, а не в одиночку.
Поломка рации испортила все дело. Нужно было или захватить рацию у немцев, как предлагал Гулевой, или выходить из тыла на соединение со своими войсками. Проще и легче всего пробиться к своим. Но эту мысль капитан отбросил. Сделано еще так мало, что возвращение было бы невыполнением задания. Нужно пробираться на юг. Но как? Как пробираться? Впереди почти стокилометровое расстояние, десятки крупных населенных пунктов, сотни господских дворов, хуторов и поселков. И в каждом из них гарнизоны противника, полицейские участки и военные комендатуры.
— Товарищ гвардии капитан, — тихо подошла Тоня к обеспокоенному капитану, — мы сумку у фашистского офицера отобрали. Там все дивизии, какие наступали, в позывных расписаны. Дядя Степа послал меня нашим передать. Да не сумела я, контузило. Сведения-то эти были нужны нашим. А теперь куда же они — полмесяца прошло.
Ее ломкий, неуверенный голос дрожал, глаза с тревогой смотрели на капитана.
— Ничего, Тоня, ничего, — пытался успокоить ее Бахарев. — Вы и так немало сделали.
— Ничего мы не сделали, — горячо возразила девушка, — вот если б эту бумажку передали… Дядя Степа говорил, что это поважнее роты немцев. Он так на меня закричал, когда я не хотела его одного в лесу оставить. Я перепугалась. И лицо у него было такое злое. Сам искалеченный остался, а меня послал к нашим пробираться.
Слушая девушку, Бахарев думал о себе и своей группе. В руки Анашкина и Тони случайно попали ценные сведения, и они, не считаясь с собственной жизнью, сделали все, чтоб доставить эти сведения командованию. А ему и его группе поручено командованием вести разведку. Поручено — и о чем же тут раздумывать? Решение может быть только одно: выполнять приказ! Да, да. Итти. Итти к Балатону, несмотря ни на что. Итти. Разведывать по пути, все узнавать и любыми средствами передавать донесения. Нет рации — можно двух-трех человек через линию фронта с донесением послать, а в крайнем случае — всей группой пробиться.
Бахарев собрал разведчиков, назначил дежурных и всем приказал спать. До вечера оставалось не так много времени. Нужно как следует отдохнуть.
Под вечер группа уходила из пещеры. Тоня и Золтан шли вместе с разведчиками. Анашкина и доктора Янош Бахарев направил в пещеру, где с ранеными оставался Таряев. Отсюда до пещеры было всего километров шесть. Сопровождать их пошел ефрейтор Баранов.
Анашкин распрощался со всеми, сердито замахал рукой на плакавшую Тоню и подозвал Бахарева.
— Присядь, пожалуйста, Анатоль Иванович, — впервые назвал он капитана по имени. — Не обижайся только, сыном ведь ты мне можешь быть.
— Что вы, Степан Харитонович!
Анашкин взял его руку, положил себе на грудь и, чуть приподняв голову с подушки, продолжал:
— По жизни идешь ты хорошо, не вихляешься, прямиком все, прямиком. Только вот одна беда: горячеват маленько, горячеват. Отвоюем вот эту войну, и, чума ее знает, может, еще война будет. Сейчас вот ты капитаном, а потом и генералом будешь. Будешь, обязательно будешь. Побереги себя. Нужный ты человек. — Он обеими руками сдавил руку Бахарева и сильно потряс ее. — Ну, иди, Анатоль Иванович, иди…
Капитан порывисто обхватил голову ефрейтора, прижался к ней грудью.
— За меня не тревожься. Я ведь живучий, выберусь. Вот подлечимся и придем, сами придем. Мне ребята патронов еще оставили и пяток гранат. А Золтана ты не бойся. Это кремень-человек, за нас он, не подведет.
По горному лесу группа двинулась на запад. У Бахарева созрел твердый план: выйти на шоссе, подкараулить грузовую машину и на ней махнуть к Балатону.
Старый мадьяр знал каждый куст в этом районе. Он рассказывал, через какие села удобнее пройти, где нет комендатур и полицейских участков, где спокойнее переждать светлое время.
Где-то вблизи было шоссе. Бахарев остановил группу, а сам с Аристарховым и Золтаном пошел вперед. Вскоре они вышли на ровное, как стрела, шоссе. Выбрав удобную для обстрела позицию, Бахарев вернулся за группой.
Ждать пришлось томительно долго.
Наконец одна за другой мимо прошумели шестьдесят семь крытых автомашин. В кузовах виднелись пехотинцы в касках и с автоматами.
Бахарев кусал губы. Даже на одну машину с пехотой нападать было опасно. Минут через двадцать прошло еще семнадцать крытых грузовиков. И опять в них сидела пехота. Разведчики закоченели. Бахарев разрешил выпить по нескольку глотков спирта.
Рядом с капитаном опустился на колени Косенко. Он торопливо отвинтил крышку фляги, зубами вытащил пробку и долго не мог налить спирту. Горлышко фляги стучало о крышку. Косенко согнулся, уперся локтями в колени и, прижав флягу к подбородку, налил, наконец, спирту.
— Пейте…
Бахарев глотнул и затаил дыхание. Косенко совал в руки вторую флягу. Бахарев отхлебнул воды и шумно вдохнул воздух. Жгучая теплота разливалась по телу.
Прошумела колонна машин с пушками на прицепе. Противник явно куда-то оттягивал свои части. Сейчас нужно было во что бы то ни стало захватить пленного и узнать, что это за части.
Наконец показалась одиночная машина. Бахарев приказал группе подготовиться к стрельбе. Аристархов, как было уже условлено раньше, выскочил на дорогу и поставил две указки с надписями по-немецки: «Мины!!! Объезд вправо».
Медленно приближались слепящие огни фар. В их свете все отчетливее виднелись две фанерные дощечки с предупредительной надписью. Не замедляя хода, машина неслась прямо на них. Но вот заскрипели тормоза. Машина остановилась. Из кабины выскочил человек в длинном плаще.
Бахарев махнул рукой, и разведчики бросились на дорогу. Все было решено за несколько секунд, без единого выстрела. Немцев было только двое: шофер и унтер-офицер.
Бахарев приказал очистить кузов машины и сбросить весь груз в кювет. Аристархов допрашивал немцев. Они были из тылов мотополка танковой дивизии «SS» «Мертвая голова». Полк сняли с фронта и перебрасывают в Комарно для погрузки в железнодорожные эшелоны. Еще раньше ушла на погрузку танковая дивизия «SS» «Викинг». Куда будут ехать — никто не знает. Наверно, в Польшу. Там опять наступают русские.
Показания пленных раскрыли Бахареву весь смысл передвижений противника. Если танковые дивизии уходят с фронта, то, значит, немцы наступление прекратили и проводят какую-то перегруппировку. Он понимал, как важно сейчас нашему командованию знать, куда и какие дивизии уходят и что замышляют немцы. Эти данные от простого солдата едва ли можно получить, нужно обязательно захватить кого-нибудь из офицеров. Посоветовавшись с Аристарховым, Бахарев решил пойти на риск и пробраться в Комарно, где сосредоточивались немецкие войска. Дав указания разведчикам, Бахарев сел за руль, Аристархов пристроился рядом с ним. До города доехали без приключений. По дороге не встретилось ни одной машины.
На окраине пригорода Бахарев выключил фары и свернул в сторону. В городе не было ни одного огонька. В темноте ревели моторы, то там, то здесь раздавались крики людей. По всему чувствовалось, что здесь очень много войск. Влезать в такую гущу было безрассудностью.
От крайнего дома к машине подходил какой-то человек.
— Чья машина? — по-немецки окликнул он.
— А вам кого нужно? — так же громко ответил Аристархов.
— Я спрашиваю: чья машина? — выкрикнул немец.
По голосу Бахарев понял, что это офицер и, видимо довольно большого чина.
Бахарев вылез из кабины и открыл капот. Немец приближался к Аристархову. Он шагал все медленнее и медленнее. Правая рука его тянулась к кобуре. Аристархов неторопливо спустил ноги на снег, скрипнул дверью кабины и шагнул навстречу немцу. Тот уже совсем остановился и, видимо, начал понимать, что за люди перед ним. Бахарев рванулся и подмял под себя немца. Аристархов скрутил ему руки. Через полминуты пленный с завязанным ртом лежал в кузове.
— Майор, — едва отдышавшись, проговорил Аристархов.
Бахарев позвал Золтана. Старик не по возрасту живо вылез и побежал к капитану.
— Вы хорошо знаете дорогу отсюда к Балатону через Кишбер? — спросил Бахарев.
— Да, господин капитан, очень хорошо. Я строил эту дорогу.
— Садитесь. Поехали.
Было уже часа четыре ночи. До рассвета нужно успеть пробраться к Балатону и где-нибудь укрыться на день. Ехали с большой скоростью. Благополучно миновали городок Кишбер. Он был в сорока пяти километрах от Бичке, от линии фронта. Дальше на юг, к озеру Балатон, тянулись лесистые горы. Дорога петляла из стороны в сторону, огибая холмы.
Золтан предложил остановиться в густом лесу и переждать там день. Бахарев согласился.
Сопка, как и рассказывал Золтан, оказалась очень удобной. По карте ее высота достигала 574 метров. Разведчики километра два с трудом проехали по извилистой тропинке, стиснутой сучкастыми дубами. У отвесной скалы тропа обрывалась. Наверху, по словам Золтана, ютился охотничий домик.
Бахарев приказал забросать снегом колесный след и буреломом — тропу. Закоченевшие разведчики взапуски бросились исполнять приказание. Только Гулевой и Косенко, держа автоматы наготове, охраняли пленных.
Тоня осматривалась вокруг. Похудевшее лицо ее разрумянилось. Она смотрела на всех любящими глазами и от счастья ничего не могла сказать. Старый мадьяр все время ходил по пятам за девушкой. Он вместе с разведчиками забрасывал снегом колесный след, таскал бурелом, заметал ветлой снеговые бугры. Морщинистое, горбоносое лицо его, и темные с золотистыми точечками глаза, и неторопливые движения кургузенькой фигуры в сером изорванном пиджаке дышали искренностью и теплотой.
Степа Гулевой с надеждой посматривал на Золтана, несколько раз пытался подойти к нему и заговорить, но, видимо, не решался. Старик заметил взгляды Гулевого, добродушно улыбнулся ему и что-то проговорил певучим голосом. Радист подошел к мадьяру, взял его под руку и зашептал на ухо. Золтан сосредоточенно слушал, кивая головой в изодранной каракулевой шапке.
Бахарев с первого взгляда понял замыслы Гулевого и задумался. В самом деле, можно было использовать Золтана проводником для захвата радиостанции. Но как это осуществить? Где ближайшие гарнизоны противника? Бахарев, по существу, не знал, что было вокруг этой лесистой горы, где укрывалась разведывательная группа. Можно было осмотреть окружающее с вершины горы, но сумрак зимнего ненастного дня запеленал окрестности. Наблюдать можно не далее двухсот метров, оставалось только одно — отдельными дозорами прощупать прилегающую местность. Особенно интересовал Бахарева населенный пункт Хаймашкер. Вблизи него находился старый венгерский воинский лагерь. Там могли располагаться резервные части или тылы противника. В этом же районе был прекрасно оборудованный артиллерийский полигон. Не может быть, чтобы гитлеровцы не использовали этот лагерь и полигон.
Замаскировав следы, группа вышла к вершине горы. Здесь в самом деле оказался уютный охотничий дом, скрытый сучьями могучих дубов. Срубленный из толстых бревен, он, видимо, служил пристанищем высокопоставленным охотникам. Здесь были три вместительные комнаты, створчатые застекленные окна, камин и две печи-голландки, мягкие кресла, два дивана и четыре изящных стола.
Разведчики быстро приспособили дом под свое временное жилье. В камине с треском полыхал сушняк. Языки пламени лизали солдатские котелки. Удалось, наконец, приготовить горячую пищу и вскипятить чай.
Бахарев позвал Косенко, Гулевого и Никитина. Он поставил им задачу разведать, кто сейчас находится в неподалеку расположенном старом венгерском лагере, на артиллерийском полигоне и в селе Хаймашкер, и попутно, если удастся, постараться захватить какую-нибудь рацию.
— Только предупреждаю, товарищи, — закончил Бахарев, — никаких безрассудств. Главное — внимательность, осторожность и быстрота. Я хочу послать Золтана с вами. Человек он, кажется, надежный, но вы не слишком ему доверяйте. Старший — Косенко, вы отвечаете за всех.
— Слушаюсь, товарищ гвардии капитан, — молодцевато ответил сержант.
— Позовите Золтана, — приказал Бахарев.
Старик вошел бодрой походкой и по привычке вышколенного солдата вытянулся перед капитаном.
— Товарищ Золтан, вы знаете село Хаймашкер? — спросил Бахарев.
Мадьяр едва приметно сощурил глаза и без раздумья ответил:
— Да, то есть так точно, знаю.
— Что в этом селе?
— Крестьяне, обычные крестьяне, а рядом лагерь военный, стрельбище, как это, ну… вот артиллерия стреляет.
— Полигон, — подсказал Бахарев.
— Так точно. Я сам службу в этом лагере проходил. Давно только, в двенадцатом году. Там перестроили все. Прошлый год ездил я. Только солдаты там, не пустили, ничего не видел, и стреляют все время из пушек, и танки тоже.
— У вас есть знакомые в Хаймашкере?
— Да, есть, как это… были, служил когда, — улыбнулся старик, видимо вспоминая дни молодости. — Паненка, девушка, значит, была. Была. Теперь-то умерла, может…
— Вы можете провести нас в Хаймашкер? — неотрывно наблюдая за мадьяром, спросил Бахарев.
— Так точно! — заученно выкрикнул Золтан и тихо добавил: — Проведу. Только ночью, как это, ну, спокойнее, значит.
— Нет. Придется днем, — сказал Бахарев и подошел вплотную к старику. — С вами пойдут сержант, ефрейтор и солдат. Старший — сержант. Ему подчиняться. Оружия свободного у нас нет. Придется пока так, без оружия.
— Нет, нет, господин капитан, — испуганно заговорил Золтан, — зачем оружие? Так, так Золтан, так пойдет.
Бахарев приказал Косенко накормить всех и через сорок минут выступить. Теперь нужно было заниматься опросом пленных.
Капитан и переводчик уединились в дальней комнате. Солдат и унтер-офицер ничего толком не знали. Они рассказывали, что мотополк танковой дивизии «SS» «Мертвая голова» снят с фронта и перебрасывается в Комарно для погрузки в железнодорожные эшелоны, перечисляли своих начальников и сослуживцев, повторяли давно известные пересуды о новом тайном оружии, которое готовит фюрер, и о скорой победе на всех фронтах, о наступлении на Будапешт.
Вся надежда была только на майора. Он безусловно знал много больше.
В комнату ввели пленного немецкого офицера. Он шагал неуверенно и спотыкался, словно раненный в обе ноги.
Бахарев всматривался в его худое изжелта-синее лицо с маленькими перепуганными глазками и пытался составить ясное представление об этом человеке.
Аристархов, как и обычно, спросил звание, фамилию, имя, откуда родом, где служил. Бахареву никогда не приходилось разговаривать с фашистскими офицерами, а из многочисленных рассказов он знал, что гитлеровские офицеры ведут себя заносчиво, не отвечают на вопросы и сами пытаются допрашивать своих победителей. Этого же ожидал сейчас Бахарев и от майора по фамилии Штумпф, но майор отвечал на все вопросы охотно и даже, как показалось Бахареву, несколько болтливо.
В армию призван он в тридцать четвертом году, учился в военном училище, командовал пехотным взводом и ротой, воевал во Франции и Югославии, трижды ранен, награжден двумя крестами, по болезни был переведен на тыловую работу, сейчас служит в штабе 4-го танкового корпуса «SS» и ведает вопросами эксплуатации автомобильного транспорта. Его лично знает генерал-лейтенант Гилле, и он прекрасно знает Гилле.
Пристрастие Аристархова к выяснению самых мельчайших подробностей не нравилось Бахареву. Ему надоело слушать, как переводчик и майор без конца говорили то о марках автомобилей, то о привычках генерала Гилле, то о родственниках пленного.
Он уже хотел было остановить Аристархова и сам задать несколько вопросов, но младший лейтенант попрежнему тихим и неторопливым голосом спросил майора, что он знает о танковых дивизиях «SS» «Мертвая голова» и «Викинг». Пленный, не задумываясь, ответил, что 4-й танковый корпус «SS», которым командует генерал-лейтенант Гилле, а в его составе и танковые дивизии «Мертвая голова» и «Викинг» наступали на Будапешт, а сейчас сняты с фронта, грузятся в вагоны и перебрасываются на новый участок. Куда перебрасываются, он не знает, но эшелоны уходят на Вену, а среди офицеров были разговоры, что корпус опять начнет наступать на Будапешт, только на этот раз от озера Балатон через город Секешфехервар. Там, говорят, оборона русских наиболее слабая, ее очень легко прорвать. Куда перебрасывают корпус, знает только один Гилле. Даже старому приятелю Штумпфа, офицеру оперативного отдела корпуса подполковнику Штейннагель, ничего не известно, а если б Штейннагель знал, ему бы, Штумпфу, обязательно сказал. Они вчера выпили в ресторане одиннадцать бутылок вина и, что называется, по-настоящему повеселились.
Бахарев слушал майора и не верил ему. Уж слишком легко и просто выкладывал он такие важные сведения.
То, что танковые дивизии «SS» «Мертвая голова» и «Викинг» сняты с фронта и грузятся в Комарно, был несомненный факт. Это Бахарев видел своими глазами. Но рассказ о подготовке нового наступления от озера Балатон вызывал сомнение. Какой смысл танки и мотопехоту перебрасывать к озеру Балатон по железной дороге, когда от Комарно до Балатона по шоссе можно доехать всего за одну ночь? Здесь явно было что-то неясное. Или майор нагло врал, или гитлеровское командование проводит какой-то замысловатый маневр. Однако, так это было или не так, но Бахареву нужно было действовать. Во-первых, как можно быстрее передать все собранные сведения в штаб дивизии, а во-вторых, нужно взять под наблюдение все побережье озера Балатон. Если здесь действительно противник готовит наступление, то это сразу можно увидеть.
Бахарев прошел в соседнюю комнату. Разведчики спали на диване, на полу и на составленных креслах. Пленные забились в угол и тоже спали. Майор поджал колени почти к голове и что-то бормотал во сне. Бодрствовали только наблюдатели на улице и Тоня. Она с автоматом стояла у двери и зорко следила за пленными. Увидев капитана, девушка улыбнулась.
— Устали вы, товарищ гвардии капитан, отдохните немного.
— Ничего, Тоня, ничего. Придет время, и отдохну, — ответил Бахарев и взглянул на часы.
Прошло уже больше трех часов, как выступила группа Косенко. Если все удачно, она теперь где-то возле села Хаймашкер.
— Товарищ гвардии капитан, — вбежав с улицы, доложил автоматчик Бондарчук, который вместе с Ивкиным охранял группу, — в лесу пробирается кто-то.
— Где? — выскочил на улицу Бахарев.
— Вот шум, слышите? — показывал в сторону востока Бондарчук.
В затуманенном лесу отчетливо разносился шорох. Действительно, кто-то пробирался. Ожидать можно было только группу Косенко, но она должна появиться не с востока, а с запада или с юга.
— Поднять всех! — приказал Бахарев.
Через полминуты один за другим выскочили разведчики. Только Тоня осталась с пленными. Бахарев расположил солдат вокруг дома, а сам с Аристарховым пристроился за угловым срубом.
Меж деревьев в тумане мелькало что-то серое. Понемногу начал вырисовываться темный силуэт человека. Он шел, как-то странно полусогнувшись, словно его кто-то держал за спину и подталкивал в шею. Он обходил деревья, на мгновение скрываясь за ними, и вихлялся из стороны в сторону. Только когда человек подошел совсем близко, Бахарев увидел позади него второго, с автоматом. За ними из-за куста выдвинулся еще один человек. Он шел, по колено утопая в снегу и сгибаясь под тяжестью чего-то грузного.
— Да это ж наши, товарищ гвардии капитан, — вскрикнул Аристархов, — конечно, наши! Гулевой, а позади Косенко…
Разведчики бросились навстречу товарищам. Косенко передал кому-то носилки и подбежал к Бахареву.
— Товарищ гвардии капитан, — заговорил он, — ваш приказ выполнен. В селе Хаймашкер и в лагере части танковой дивизии «Викинг». Мы захватили пленного. Тяжело ранен Золтан.
Четыре разведчика внесли старого мадьяра в дом. Он безжизненно лежал на самодельных носилках и усталым взглядом напряженно искал кого-то.
Бахарев подошел к изголовью носилок и остановился. Старик не видел его. Тоня опустилась на колени и перебирала желтые пальцы Золтана.
— Капитан где? — прошептал Золтан и обессиленно закрыл черные веки.
— Здесь я, Золтан, здесь, — отозвался Бахарев, склоняясь над мадьяром.
Золтан открыл глаза, долго смотрел в лицо Бахарева, и успокоенным, едва слышным голосом заговорил:
— Вот и все, товарищ капитан… Родная земля, умираю. Красная Армия… Золтан есть солдат Красная Армия…
Бахарев приник ухом почти к его лицу, пытаясь разобрать последние слова Золтана, но губы его беззвучно вздрагивали, из горла вырывался тяжелый хрип, русские слова мешались с мадьярскими.
— Их трое в доме сидели, вино пили, — рассказывал Косенко окружившим носилки разведчикам, — первым Золтан вошел, мы за ним. Немцы вскочили, но Золтан заговорил с ними по-мадьярски. Длинный немец успел выхватить пистолет и дважды в упор выстрелил в Золтана. Степа резанул из автомата. Двоих убили, а третьего, вот он, притащили, — показал Косенко на сгорбленного немца с разбитым лицом.
— Умер, — медленно распрямляясь, прошептал Бахарев.
— Если б не Золтан, мы бы не прошли, — говорил Косенко, — он провел нас такой чащобой, а потом оврагами. В садах, в рощах, возле домов — везде танки, бронетранспортеры. Столько танков — жуть!
— Выройте могилу, — приказал Бахарев и, пошатываясь, прошел в другую комнату. Он свирепо взглянул на пленных, заскрежетал зубами и озлобленно громыхнул дверью.
— Введите нового сюда, — приказал он Аристархову и присел на стул. В ушах звучали слова старого мадьяра: «Золтан есть солдат Красная Армия». А он еще сомневался в искренности этого старика, предупреждал разведчиков, чтоб не особенно доверяли ему!
Новый пленный под чьим-то толчком кубарем вкатился в комнату.
— Я все скажу… Я все знаю… Пощадите… Скажу! — бессвязно выкрикивал он.
— Ауфштеен, — прервал его вопли Бахарев.
Фашист вскочил на ноги и круглыми глазами уставился на капитана.
— Разрешите, я с ним поговорю, товарищ гвардии капитан, — попросил Аристархов и тихо добавил: — Я лучше язык знаю, а вам успокоиться нужно.
Спокойный вид переводчика отрезвил Бахарева.
Пленный оказался шофером командира полка танковой дивизии «SS» «Викинг». Он рассказал, что дивизия «Викинг» в Комарно была погружена в железнодорожные эшелоны и переброшена на берег озера Балатон. Ехали сначала на запад, в Австрию, потом неожиданно повернули на юг, проехали почти до югославской границы, затем повернули на восток и снова оказались в Венгрии на берегу озера Балатон. В дивизию прибыло много пополнения, особенно танков и штурмовых орудий. Командир полка говорил, что теперь полк будет полностью укомплектован, и скоро оборона русских разлетится на куски, и командир полка надеется первым ворваться в Будапешт. Сам пленный видел, как выгружались на станциях и сосредоточивались в лесах на берегу озера Балатон части танковой дивизии «SS» «Мертвая голова», два отдельных батальона танков «королевский тигр» и две бригады штурмовых орудий. Все леса и сады на берегу озера Балатон забиты танками «тигр» и штурмовыми орудиями «фердинанд». Все говорят о новом наступлении на Будапешт, только никто не знает, когда это наступление начнется. Офицеры рассказывают, что оборона русских на берегу озера Балатон очень слабая.
После допроса пленного Бахареву стало ясно все. Противник готовит новый удар и стягивает крупные силы. Не сегодня, так завтра начнется наступление. Теперь главной заботой было — доложить все эти сведения командованию армии. Дорога каждая секунда. На захват рации рассчитывать нечего. Посылать с донесением двух-трех человек опасно. Могут не пройти, погибнуть, ценнейшие сведения пропадут даром, и наше командование не узнает о подготовке нового наступления. Бахарев решил прорываться к своим войскам всей группой. Самая близкая точка нашей обороны была у села Оши. До нее от горы, где сейчас скрывалась группа, было около шестнадцати километров. Половину этого расстояния занимали леса и каменистые сопки. Самое трудное место — шоссейная магистраль у села Варпалота и трехкилометровая равнина на подступах к нашей обороне. Бахарев рассчитывал засветло подойти к шоссе, выбрать удобное место, в темноте проскочить через шоссе и проскользнуть по равнине. Он приказал Аристархову подготовить группу к выступлению и вышел на улицу.
Под столетними дубами темнел холмик свежей земли. Густой чернозем перемешался с мелкой галькой и песком. Небольшой, величиной с детский кулак, камень-голыш красноватым боком выглядывал из черно-серой смеси.
Бахарев снял шапку и склонился над холмиком. Безвестная могила! Узнает ли кто-нибудь, какое трепетное и доброе сердце лежит здесь! Может, годы пройдут, одряхлеют дубы, рухнут подгнившим кряжистым телом, а из жолудя, упавшего на этот холмик, вырастет мощный и стройный дуб. Он гордо раскинет ветви, с высоты оглядывая холмистое побережье мадьярского моря — озера Балатон, равнину и трубы заводов города Секешфехервар, сизые туманности недалеких берегов Дуная.
— Что с пленными делать? — подошел к Бахареву переводчик.
— С пленными? — переспросил Бахарев. — Всех забрать с собой. Они еще пригодятся. На каждого назначить конвоира. Пленных предупредить, что за крик или попытку бежать — смерть…
Третий час шли разведчики. Кончились лесистые горы. Скоро откроется всхолмленное безлесье. За ним шоссейная магистраль, крупное село Варпалота и последние километры до ротных траншей переднего края нашей обороны. Еще немного, совсем немного — и трудный поход разведчиков по тылам противника окончится.
— Зенитные пушки впереди, в окопах часовые ходят, — подбежал к Бахареву Косенко.
Бахарев остановил группу. Вступать в бой с зенитчиками не было смысла. Нужно искать обход и пробираться к переднему краю. Он выслал дозоры вправо и влево. Один из дозоров снова наткнулся на огневые позиции зенитной артиллерии. Часовые открыли огонь. Только темнота спасла разведчиков. Второй дозор подошел к окраине села, столкнулся с немецкими часовыми и, отстреливаясь, еле ушел. Всю ночь в разные концы посылал Бахарев дозоры и нигде не мог найти свободный проход к переднему краю. Всюду разведчики нарывались или на огневые позиции артиллерии, или на тыловые учреждения, или на каких-то часовых.
По дорогам к фронту шли танки. Вокруг все гудело от их моторов Бахарев понял, что до начала наступления противника оставались считанные часы. Нужно было итти на любой риск и прорваться к своим.
— Собирайте всех людей, пойдем напролом, — приказал Бахарев, — ни одной секунды промедления.
Бахарев знал, что наиболее выгодно прорваться через тыловые учреждения на окраине села Варпалота. Фашистские тыловики обычно малоустойчивы и разбегаются при первой же опасности. Кроме того, в тыловых учреждениях обычно не бывает связи, и пока противник в темноте разберется в обстановке, группа успеет выскочить на равнину и проскользнет к переднему краю нашей обороны.
Разведчики двинулись вперед. Шум танковых моторов смолкал где-то в ближайшем леске. Бахарев рассчитывал, что немцы его группу примут за свое подразделение. Аристархов в ответ на окрик часовых приготовился отвечать пароль, который он узнал от пленного шофера.
Бахарев шел впереди, сжимая автомат и гранату. Пленные послушно шагали в общем строю. За каждым из них зорко следил разведчик.
Впереди ничего нельзя было разглядеть. Сплошная черно-серая пелена. Нигде ни одного огонька. Только приглушенный рев моторов и скрип снега под ногами. Шествие замыкал Косенко. Тоня все время держалась возле капитана. Мефодьев не сводил взгляда с черного затылка немецкого майора.
— Хальт! — раздалось впереди.
Пленный майор хотел броситься в сторону, что-то прохрипел, но Мефодьев прикладом автомата ударил его по голове и не дал докричать. Майор рухнул в снег. Мефодьев с размаху еще раз ударил его и побежал на свое место.
Слева темнело какое-то строение. Около него Аристархов разговаривал с часовым.
— Ауфвидерзейн! — крикнул он часовому и побежал в голову колонны.
Первая опасность миновала. Часовой принял разведчиков за своих. Группа пересекла шоссе. Бахарев свернул вправо, стараясь обойти село.
Новый окрик остановил группу. Аристархов выкрикнул пароль, но в ответ раздалась автоматная очередь. Пленный шофер вскрикнул и навзничь рухнул в снег.
— За мной! — крикнул Бахарев и бросился вперед.
Рядом где-то, совсем рядом начиналась равнина. Только бы добраться до нее! Всего три-четыре километра — и свои. Справа и слева стучали выстрелы. Взметнулась ракета и ослепительным фонарем повисла над землей. Разведчики бежали рядом с капитаном. Все пленные погибли в перестрелке. Впереди в дрожащем свете Бахарев увидел танки. Они башнями разворачивались в сторону разведчиков. Капитан резко свернул вправо и нырнул в глубокий овраг. За ним попадали в снег разведчики. Над оврагом визжали пули.
— Нефедов убит, — доложил Косенко, — я взял его документы и автомат.
— За мной, быстрее, быстрее! — торопил Бахарев.
Группа побежала по дну оврага. Куда выведет этот овраг, никто не знал. Позади не утихала стрельба. Вбежали в какую-то темную горловину. По каменным столбам Бахарев понял, что над головой находится мост. Это было то самое шоссе, которое они совсем недавно пересекали. Попытка прорваться через расположение противника окончилась неудачно. Теперь рассчитывать на успех было трудно. Немцы всполошились и по всему фронту ищут разведчиков.
Бахарев схватил горсть снега и стал жадно есть его.
V
Один за другим приходили генералы и офицеры, докладывали, уточняли интересующие их вопросы и уходили. Генерал Дубравенко щелкнул переключателем радиоприемника. В репродукторе затрещало, защелкало, послышался шум, похожий на морской прибой, и прозвучал сигнал автомобиля.
«Красная площадь, — подумал Дубравенко, — начинается восемнадцатое января».
Гулко разносились удары часов кремлевской башни. Сколько людей сейчас прислушивается к ним! Там, на Красной площади, в Москве, морозная звездная ночь, а здесь, вблизи Будапешта, ненастная, почти осенняя погода.
Прошло семь томительных суток, как противник прекратил наступление перед фронтом гвардейской армии и начал какие-то передвижения. Семь суток, а замыслы гитлеровского командования так и не разгаданы.
Генерал Дубравенко снова передумал все, что произошло за это время. Несомненно было только одно: танковые дивизии «SS» «Мертвая голова» и «Викинг» и: еще две танковые дивизии сняты с фронта и куда-то отведены. Известно, что они пошли по дорогам на Комарно. Все войсковые радиостанции противника, как по единой команде, замолчали. Ни одна разведывательная группа не могла приблизиться к переднему краю вражеской обороны. Внезапно прекратился и переход на нашу сторону военнослужащих венгерской армии. Так удачно начавшая работу группа капитана Бахарева не подавала признаков жизни.
Дубравенко молча ходил по кабинету, останавливаясь то у карты Европы, то у стола, то у длинных ящиков с томами Большой советской энциклопедии. С сорок второго года возил он эти ящики с собой. Выдавалась свободная минута, брал том и вчитывался в новые, еще не изученные понятия. Это был для него самый лучший отдых.
Дубравенко наугад вынул том и раскрыл его. Между страницами был вложен лист плотной бумаги, на таких оперативники обычно печатали боевые донесения. Генерал взял его, всмотрелся. Черным карандашом был набросан рисунок. Улица небольшого города, бревенчатые дома с тесовыми крышами, дымки вьются над трубами. В глубоком снегу протоптаны дорожки. Они идут от дома к дому, пересекаются и выводят к широкому санному пути. Покоем и безмятежной тишиной веяло от дымков над трубами, и от нежного пушистого снеговья, и от самих сереньких с резными наличниками домов.
«Кто же это?» — подумал генерал. Он поднес рисунок ближе к лампе и еще раз всмотрелся. В углу стояла маленькая, едва приметная, но хорошо знакомая подпись. Так расписывался начальник оперативного отдела генерал-майор Воронков. Дубравенко вспомнил, что Воронков как-то брал у него том энциклопедии и на днях возвратил. Видимо, он и забыл там свой рисунок.
«А как у него с планом противотанковой обороны?» — подумал генерал-лейтенант и позвонил Воронкову.
Начальник оперативного отдела, как и всегда, сразу же отозвался на звонок.
— Все в порядке, товарищ генерал, — доложил он, — выписки из плана всеми получены. Мои офицеры проверили готовность. Все стоит на своих местах и готово к отражению атак противника.
— Какие изменения на фронте? — спросил Дубравенко.
— Попрежнему тишина. Только на левом фланге на берегу Балатона, прослушивается в глубине расположения противника какой-то шум и стрельба. Сейчас снова все стихло.
— Кто мог стрелять там?
— Трудно понять, — ответил Воронков.
— Прикажите оперативному дежурному внимательно следить за левым флангом, — сказал Дубравенко и посоветовал Воронкову отдохнуть.
«Прослушивается шум и стрельба, — раздумывал Дубравенко. — Кто же мог стрелять в тылах противника? Ночные учения? Слишком близко от переднего края. Всего вероятней, кто-то всполошил гитлеровцев. Но кто? Всполошить немцев могли только советские люди. Но кто? Из тыла могли выбираться летчики. Но в последние две недели над территорией противника не было сбито ни одного советского самолета. Неужели это группа Бахарева?»
Дубравенко подошел к телефону и вызвал начальника разведки. Фролов ничего не знал о группе Бахарева. Генерал недовольно поморщился и положил трубку. Не успел он сесть за стол, как зазвонил телефон.
Командующий спрашивал, что происходит на левом фланге армии. Дубравенко доложил то, что узнал от Воронкова. Генерал армии больше ничего не спросил и прервал разговор.
Дубравенко недоуменно пожал плечами. Опять командующий упорно стоит на своем и утверждает, что противник ударит именно по левому флангу армии, на берегу озера Балатон. Никаких определенных данных для этого нет. Нельзя же свои действия основывать только на предположениях. За последние двое суток командующий, ослабив другие участки фронта, на усиление обороны на северо-восточном берегу Балатона перебросил много сил и средств. Туда пошли танковые и механизированные бригады, артиллерийские и минометные полки. И свой резерв и свой штаб командующий подтянул ближе к левому флангу. Вся армия готовилась к отражению вражеских ударов на своем левом фланге.
Дубравенко не исключал возможности удара противника по левому флангу, но это мог быть лишь один из вариантов. Только вчера Москва салютовала советским войскам, освободившим Варшаву. Наступление центральных фронтов Советской Армии развертывалось все шире и с каждым часом неудержимо приближалось к жизненным центрам Германии. Безусловно, Гитлер сейчас все бросает на берлинское направление и в Венгрии наступать едва ли будет. Даже наоборот, снимет из Венгрии все, что можно, и перебросит на участки наступления Советской Армии. Это наиболее логичное и целесообразное решение. Но, конечно, гитлеровское командование могло действовать вопреки логике и целесообразности. Это обязывает быть готовым к любым неожиданностям. К этому генерал Дубравенко готовил и себя, и свой штаб, и все штабы корпусов, дивизий, бригад и полков. Но быть готовым — это не значит принять какое-то одно предположение и, исходя из него, действовать.
Дубравенко развернул книгу для рабочих записей. Многое уже было сделано, но еще больше нужно было сделать… Проверить связь на запасном командном пункте… Уточнить вопросы взаимодействия с соседями… Напомнить инженерам о минировании дорог в тылах армии… Распределить пополнение из запасного полка… Подобрать двух начальников оперативных отделений дивизий и одного начальника штаба полка. Пора уже кое-кого из офицеров оперативного отдела штаба армии выдвигать на самостоятельную работу… Уточнить с начальниками тыла и артснабжения армии количество боеприпасов в войсках и на армейских складах… Еще раз проверить несение службы в обороне и обеспечение стыков.
Вопросов было много, и генерал рассчитывал все их разрешить завтра к вечеру. А потом возникнут десятки новых вопросов, и так без конца, пока не окончится война.
Позвонил Воронков и доложил, что перед фронтом левофлангового корпуса, на берегу озера Балатон, слышен сильный шум моторов. Видимо, немцы готовятся к наступлению.
Этот доклад, как яркая вспышка света, рассеял все сомнения начальника штаба. Да, прав, безусловно прав командующий. Противник нанесет удар именно по левому флангу армии.
Он приказал Воронкову немедленно направить своего офицера и офицера разведывательного отдела в штаб левофлангового корпуса и позвонил командующему.
Шел второй час ночи. Алтаев не спал. Он спокойно выслушал доклад начальника штаба, помолчал немного и приказал внимательнее следить за обстановкой в левофланговом корпусе.
— Можно часть сил перебросить на левый фланг… — предложил Дубравенко.
— Рано еще, рано, — ответил Алтаев, — пока еще ничего не ясно. Это, может быть, провокационная демонстрация.
Одно за другим непрерывно поступали донесения из штаба левофлангового корпуса. На двенадцатикилометровом фронте балатонского побережья шло усиленное передвижение войск. Вражеский передний край упорно молчал. Наша артиллерия и минометы дважды открывали огонь по местам вероятного сосредоточения фашистских войск. Противник попрежнему не отвечал. Полки и батальоны первого эшелона выслали вперед разведывательные группы. Нейтральная зона заполыхала в свете ракет. Пулеметный и автоматный огонь обрушился на разведчиков. Ни одному из них не удалось подойти к гитлеровским позициям.
Напряжение на левом фланге нарастало. Все войска были приведены в боевую готовность. Одной разведывательной группе по заросшим камышом берегам Балатона удалось пробраться в расположение противника. По радио она докладывала о непрерывном движении танков и бронетранспортеров из вражеских тылов к фронту.
Алтаев приказал подготовить свои резервы для переброски на левый фланг армии и привести в готовность резервы всех корпусов.
Дубравенко звонил командирам корпусов, начальникам отделов штаба, командующим родов войск армии. Его кабинет превратился в центр кипучей работы, где все решения командующего превращались в лаконичные приказы и уходили к войскам, к штабам, к командирам корпусов, дивизий и бригад.
В половине третьего противник начал артиллерийскую подготовку. Артиллерия и минометы обрушились на наши боевые порядки на левом фланге армии.
Через полчаса пехота и танки перешли в атаку. На карте Дубравенко засинели значки наступающего противника. От голубого простора озера Балатон они тянулись на север по холмам и высотам и кончались на изгибе, где наша оборона уходила к равнине западнее города Секешфехервар. Синие стрелки угрожающе нацелились на наши войска. Силы наступающего противника было определить еще очень трудно. Первые его атаки в ночной темноте были отбиты. Наш передний край стойко удерживался. Алтаев опять снимал войска с других неатакованных участков и стягивал их к левому флангу. По его просьбе в воздух поднялись ночные бомбардировщики.
Дубравенко выслушивал доклады оперативников и разведчиков, договаривался с артиллеристами и танкистами, торопил с постановкой противотанковых мин и подвозом боеприпасов, проверял выход частей резерва командующего. Крупная, подстриженная ежиком голова его то склонялась над картой, то поворачивалась к собеседнику, то на секунду опускалась в глубоком раздумье. Серые глаза были спокойны и сосредоточенны. Казалось, нет для них ни суматошной работы, ни грозной опасности на левом фланге армии, ни томительного ожидания дальнейшего развертывания событий.
К рассвету противник ввел в бой главные силы. На двенадцатикилометровом фронте, по донесениям войск, Дубравенко насчитал пятьсот шестьдесят танков противника и не меньше тридцати пяти — сорока батальонов пехоты. Соотношение сил складывалось слишком неблагоприятно для наших войск. На каждую нашу пушку на переднем крае приходилось восемнадцать-двадцать танков противника, на каждого нашего пехотинца десять-пятнадцать вражеских пехотинцев, поддерживаемых сосредоточенным огнем артиллерии. Гитлеровцам удалось собрать превосходящие силы и ударить на узком участке фронта.
Дубравенко каждым нервом ощущал ритм боя. Только крупные резервы могли спасти положение. То, что мог бросить в бой командующий из своего резерва и с участков корпусов, было подобно попытке остановить бушующий водяной поток, бросая в него камни. Привел в движение свои резервы и командующий фронтом, но они были еще далеко и не скоро подойдут к полю боя.
С каждым донесением из войск становилось ясно, что положение на фронте все более и более усложняется. На двух участках — на перекрестке железных дорог и у зеленой подковы рощи — танки противника смяли передний край и километра на полтора вклинились в нашу оборону. На эти участки обрушились «Илы» двух штурмовых авиационных дивизий. Наступление противника замедлилось. К этим же участкам устремились два артиллерийских полка из резерва Алтаева. Они находились в десяти-двенадцати километрах от фашистских танков.
По всем радиосетям и телеграфным линиям пронесся сигнал воздушной тревоги. Дубравенко вызвал подполковника Орлова.
— Поднялись, поднялись наши истребители, товарищ генерал, — доложил Орлов, — минуты через три будут над полем боя, аэродромы рядом.
Дубравенко глянул на карту. Прямоугольники аэродромов и посадочных площадок краснели совсем недалеко от боевых порядков наземных войск. Как хорошо, что во-время переместили авиацию.
Начальник разведки доложил первые обобщенные данные о противнике. В наступление перешли опять танковые дивизии «SS» «Мертвая голова» и «Викинг». С ними вместе наступали еще две танковые дивизии и много частей из резерва гитлеровского командования.
Так вот где оказались дивизии, которые противник снял с правого фланга гвардейской армии! Пленные показывали, что эти дивизии заново укомплектованы маршевыми частями и доведены до штатной численности.
Порвалась связь со штабом корпуса. Дубравенко приказал начальнику связи немедленно восстановить связь, а оперативникам — перейти на работу по радио. Командующий бросал в бой новые части с соседних участков фронта. Нужно передать им приказы, организовать движение, проверить своевременность выступления и прибытия в район боев.
Дубравенко чувствовал, что напряжение боя достигло наивысшего предела. Сейчас, в эти минуты, будет перелом. Если противник сомнет части первого эшелона, то в глубине останутся только резервы командующего. Они не смогут остановить вражеские танки и пехоту. Слишком неравны силы. Нужно предпринимать что-то для организации нового рубежа обороны в глубине. Как организовать оборону? На каком рубеже? Только неширокий канал Шарвиз хоть на какое-то время может задержать противника. Придется рвать с таким трудом построенные мосты.
Дубравенко доложил Алтаеву последние данные обстановки и предложил немедленно приступить к созданию нового рубежа обороны по берегу канала Шарвиз. Алтаев согласился и приказал выдвинуть на этот рубеж стрелковые, механизированные и артиллерийские части.
Теперь все внимание начальника штаба армии было сосредоточено на организации нового рубежа обороны. Он приказал всем частям немедленно выступить, а их командирам прибыть в штаб армии.
Был уже час дня. Десять часов продолжалось наступление противника, а малочисленные гарнизоны переднего края обороны продолжали держаться. Роты и батальоны, полуокруженные и отрезанные от тылов, вели смертный бой. Чудом было то, что они держались и противостояли противнику.
Внезапно снова порвалась связь со штабом корпуса. Смолкли все корпусные радиостанции. Прибежал начальник связи армии и доложил, что штаб левофлангового корпуса атакован танками противника.
Дубравенко понял, что начинается самое трудное. Части будут вести бой разрозненно, ничего не зная друг о друге. Теперь вся надежда была только на создание нового рубежа обороны. Опередить противника и раньше его выйти на канал Шарвиз — этим сейчас обеспечивался успех последующих боев. Если на канале противника задержать не удастся, то он рванется к Дунаю, захватит все переправы, отрежет гвардейскую армию от тылов и устремится на Будапешт. Остановить противника на равнине нечем.
Дубравенко во все части, которые выходили на новый рубеж обороны, направил офицеров своего штаба и приказал им торопить командиров и помогать в организации боя. Он знал, что в штабе все сейчас сбиваются с ног, дорог каждый человек, но успех боя решался там, на канале Шарвиз, и туда начальник штаба армии бросил все, что у него было. В оперативном отделе осталось только два офицера, у разведчиков один, в отделе боевой подготовки только машинистка. Все остальные люди были на переднем крае.
Подступила ночь. Что делалось на берегах озера Балатон, никто не знал. Отрывочные радиопереговоры и наблюдения авиаторов показывали, что фашистские танки и пехота вырвались на оперативный простор. Остатки наших подразделений вели бой в окружении и по вражеским тылам пробивались к своим.
Всю ночь не утихали бои. Выброшенные на канал Шарвиз части остановили противника, но южнее их никого не было. Там противник мог беспрепятственно двигаться к дунайским берегам. К утру фашистские танки ворвались в село Дунапентеле, на правом берегу Дуная. Главная переправа армии была взорвана. Взорваны были также и все мосты на канале Шарвиз. Тылы гвардейской армии оказались под ударом танковой лавины гитлеровцев. Между ней и окруженной группировкой противника в Будапеште было пустое пространство. Советских войск на этом пространстве не было. Шестьдесят километров — и больше ничего. Бросок фашистских танковых дивизий — и они ворвутся в Будапешт.
VI
Дорога поднималась на взгорье, пересекала заснеженную равнину и таяла в бледном тумане на горбине далекой высоты.
— Жми, жми, — торопил шофера генерал Воронков.
Машина подскакивала на выбоинах, с шипеньем резала снеговые увалы.
В голове колонны вырисовывались белые, вороные, рыжие лошади и над ними черные бурки, коричневые башлыки, бронзовые лица, кубанки.
— Казаки, — касаясь левой рукой плеча майора Толкачева, проговорил Аксенов, — кубанцы…
Впереди на рослых вороных конях ехали три всадника. Над средним раскачивалось в стороны зачехленное знамя.
За ними на белоногом вороном жеребце ехал до синевы смуглый офицер в большой черной бурке. Он равнодушно взглянул на машину и неторопливо приложил руку к папахе.
Воронков остановил машину и подозвал офицера.
Тот лениво толкнул коня, подъехал к генералу и, не сходя с седла, представился:
— Полковник Ворончук.
— Я начальник оперативного отдела гвардейской армии, — отрывисто проговорил Воронков. — Вы командир головного отряда кавалерийского корпуса?
— Так точно. Гвардейского Краснознаменного Кубанского казачьего, — отчеканил полковник, едва заметно подрагивая плетью в руке.
— Какую имеете задачу? — сердито глядя на полковника, спросил Воронков.
Казачий офицер, видимо почувствовав недовольство генерала, резко перемахнул правой ногой, соскочил с коня и встал перед Воронковым.
— Приказано выйти в село Барачка, вперед выслать разъезды и ждать приказа командира дивизии, — ответил он тихо.
— Где командир дивизии?
— С главными силами, в десяти километрах позади.
— Почему так медленно двигаетесь?
— Только из боя, товарищ генерал. Двое суток по лесам за мелкими группами фашистов гонялись. Измотались и люди и кони. Снега кругом, сопки.
— Обстановку знаете?
— В общих чертах, товарищ генерал.
— Противник прорвал нашу оборону и развивает наступление в глубину. Вашему корпусу приказано занять оборону между озером Веленце и рекой Дунай и остановить противника. Сейчас нужно немедленно перекрыть шоссе от Секешфехервара на Будапешт. Эта задача возлагается на ваш полк. Занять села Каполнаш-Ниек, Кишвеленце, закрепиться и стоять насмерть. Левее вас займут оборону полки вашей дивизии. Правый фланг прикрывает озеро. Задача ясна?
— Так точно, товарищ генерал, — глядя на свою карту, ответил полковник.
— Через сорок минут полк должен быть на месте, через два часа доложить о готовности системы огня. Для помощи вам в организации обороны я посылаю майора Аксенова. Он хорошо знает местность и обстановку.
Генерал попрощался с командиром полка и приказал Аксенову:
— Докладывайте чаще.
— Слушаюсь, — ответил Аксенов и выпрыгнул из машины.
— Нитченко, коня и коновода! — крикнул полковник в глубину колонны.
Из строя выехал молоденький казак в лихо заломленной кубанке, ведя на поводу серого в яблоках коня.
— Вот, майор, казаком будете, — улыбался полковник, лукаво поглядывая на Аксенова.
Пытливые взгляды жгли майора. Он знал, что казаки обычно вышучивают пехотинцев за неумение обращаться с лошадью. Аксенов проверил седло, подтянул подпруги, подогнал путалища и одним махом вскочил на коня.
— Да вы молодец, — не то одобрительно, не то насмешливо проговорил полковник.
— Ротой пулеметной командовал, два года шпоры и шашку носил, — пробормотал Аксенов, разбирая поводья.
Полковник вызвал командиров эскадронов, приказал своему заместителю вести полк, а сам вместе с начальником штаба и командирами эскадронов рванулся вперед.
Аксенов скакал рядом с полковником. Дорога была свободна от встречного транспорта. Командующий, чтоб не задерживать казачий корпус, приказал перекрыть ее и запретить движение.
— Вот это Каполнаш-Ниек, — въезжая в большое, разбросанное по равнине село, сказал Аксенов.
Ворончук придержал коня, прикрывая ладонью глаза от слепящего солнца и беспокойно вглядываясь в небо.
— Нас прикрывает истребительная авиация, — успокоил его Аксенов.
— Этого мало, — вздохнул полковник, — пока истребители поднимаются, «юнкерсы» всех коней перебьют.
На западе гудела канонада. Дымное марево вставала над горизонтом.
— У города Секешфехервар, — проговорил Аксенов. — Его обходят немцы, вот-вот прорвутся на эту дорогу.
Справа белела широкая гладь озера Веленце. Ворончук теперь посматривал на берега. Если это озеро непроходимо для войск, то оно надежно прикроет фланг кавалеристов, и они могут спокойно сосредоточить все свои силы на дорогах и холмах, где вот-вот появится противник.
— Лед очень тонкий, человека не выдерживает, — Аксенов указал рукой на озеро, — в середине вообще не замерзло, только у берегов. Дело надежное.
— Надежное, а беспокойства все равно не оберешься, — нахмурился Ворончук и, сбросив бурку, кинул ее ординарцу. В серой бекеше он был юношески строен. Ремень перетягивал туловище, оттеняя широкий размах плеч.
— Вот здесь командующий приказал оборудовать передний край обороны корпуса, — показал Аксенов на развалины станции, крайние дома села Кишвеленце, заснеженный взгорок и темневший вдали господский двор. — Участок обороны вашего полка — от озера до господского двора, включительно и село Каполнаш-Ниек. Главные усилия сосредоточить на шоссе.
Ворончук задумчиво всматривался в равнину. По берегу озера тянулись железная и шоссейная дороги, то сходясь, то удаляясь друг от друга. Разлапистые деревья и телеграфные столбы окаймляли дороги. Впереди виднелось село Гардонь. Там никого не было и оттуда мог появиться противник.
— Нитченко, — приказал Ворончук командиру эскадрона, — галопом вывести эскадрон в Гардонь. Вы обеспечиваете занятие обороны полком. Командиру пулеметного эскадрона — четыре пулемета в распоряжение Нитченко. Командиру батареи — два орудия подчинить Нитченко.
Ворончук обскакал весь свой участок, на ходу отдавая приказания командирам эскадронов, осмотрел населенные пункты, указал инженеру, где установить противотанковые мины, выбрал наблюдательный пункт на высоте у самого шоссе. Отсюда хорошо просматривалась вся местность перед участком обороны полка.
На галопе пронесся по шоссе эскадрон Нитченко и скрылся в селе Гардонь. Один за другим выбегали в свои районы обороны спешенные эскадроны. Связисты разматывали катушки проводов. По снегу ползали саперы, устанавливая противотанковые мины. Там, где вот-вот должен появиться противник, вырастала оборона. Часы и минуты сейчас решают успех. Задержится противник, казаки успеют закрепиться, влезут в землю, организуют систему огня, и тогда не так-то просто вражеским танкам и пехоте прорваться к Будапешту.
Казаки долбили промерзшую землю. Для усиления кубанцев командующий армией со всех участков своего фронта снимал танки, артиллерию, самоходные пушки. К вечеру казаки отрыли одиночные окопы. На первое время и этого было достаточно. Главное — укрыться от огня противника.
Ворончук ходил по эскадронам. По улыбкам и взглядам казаков Аксенов понял, что в полку любят своего командира.
— Нажмем, нажмем, казачки, — басил Ворончук, — придется всю ночь копать. Ячейки соединить в окопы, окопы в траншеи. Тогда никакие «тигры» и «фердинанды» не страшны.
Он на ходу давал указания, как лучше организовать оборону, расставлял пушки, танки и самоходные орудия, ругал тыловиков за нерасторопность и неумение во-время подвезти боеприпасы. К нему подбегали командиры эскадронов, взводов, батарей, докладывали, уточняли задачи и поспешно убегали к своим подразделениям. Все бурлило и кипело вокруг Ворончука. Плотный, широкоплечий, с искривленными ногами, он вразвалку шагал по снегу, широко размахивая руками.
В селе Гардонь послышалась учащенная стрельба. Ворончук побежал на свой НП.
— Что? — вскочив в только что отрытый окоп, спросил он начальника штаба.
— Шесть танков и четыре бронетранспортера подошли к Гардони, — ответил низенький белобрысый майор с пушистыми пшеничными усами, — Нитченко открыл огонь. Один танк подбит, остальные откатились назад.
— Разведка, — проговорил Ворончук, зябко кутаясь в бурку, — вот-вот главные силы подойдут.
— Едва ли осмелятся ночью, — возразил начальник штаба, — с утра ждать нужно.
— Поживем — увидим, — нехотя ответил полковник и властным голосом приказал: — Всех офицеров штаба — в эскадроны. Оставить только дежурного на КП. За ночь отрыть траншею полного профиля. Всех тыловиков на окопные работы, всех до одного.
— Здорово, кубанцы! — раздался позади незнакомый голос.
Ворончук повернулся, широко взмахнул руками и, постукивая ногой о стенку окопа, закричал:
— Крылов! А я и след твой потерял… Всех спрашивал… Не знают… Уволился, слышал… Секретарем райкома где-то…
Ворончук взял Крылова за плечи, отстранился от него и неотрывно смотрел в лицо.
— Постарел, здорово постарел. И волосы белые и морщинки. Только глаза, глаза настоящие.
— А ты вон какой детина вымахал. И не подумаешь.
— Садись, садись, — осматривался Ворончук по сторонам, — сидеть-то, правда, негде, но все равно садись.
Он на приступке окопа расстелил бурку, силой усадил на нее Крылова, а сам на корточках пристроился напротив.
— Ну, рассказывай, как жил-то. Шутка ли, пятнадцать лет не виделись.
— Да, что ж, жил, как все. От вас в Самарканд переехал комиссаром полка, потом в Забайкалье перевели, а в тридцать девятом послали секретарем райкома в Западную Белоруссию. Там и война прихватила. А теперь вот видишь, опять казаковать начал. Только все больше пешочком, на попутных…
— Да я тебе такого коня подберу! Твоему Головорезу не уступит.
— Подожди, подожди, — остановил его Крылов, — куда мой Головорез попал?
— Новый комиссар на нем ездил, а потом устарел, в подсобное хозяйство передали.
— В подсобное хозяйство, — вздохнул Крылов, — воду возить. А какой был конь, какой конь!
— Все стареют, и мы не молодеем, — потупил взгляд Ворончук.
— Так что же ты думаешь: и нас в подсобное хозяйство?
Ворончук пожал плечами, тихо проговорил:
— Что ж, всему свое время.
— Ну, нет уж, браток, — резко встал Крылов, — на подсобное хозяйство я не пойду. Воевать, пока жив: на войне — с противником, в мирное время — на работе.
— Конечно, — согласился Ворончук, — умереть в строю почетно. Да подожди, — вдруг спохватился он, — ты же голодный, наверно. Давай-ка перекусим маленько, по чарочке пропустим.
— Нет, нет, — остановил его Крылов, — не время. Я к тебе не в гости приехал, а по делу. Вот отстоим Будапешт, тогда.
— А ты, собственно, с какой задачей ко мне?
— Я инструктор политотдела армии и приехал помогать тебе в организации партийно-политической работы.
— Ну, у меня все в порядке. В каждом эскадроне партийная и комсомольская организации. Народ у меня опытный. Будь спокоен, гитлеровцы в Будапешт не пройдут.
— Слушай, Алеша, — остановил Ворончука Крылов, — все это замечательно: и организации и люди, все правильно. Только ты не забудь одной особенности момента. Бои-то идут на завершающем этапе войны. Зверь ранен, но еще не добит. Отсюда и ожесточенность боев. Ты знаешь, что Гитлер перед этим вот самым наступлением приказал русских в плен не брать. И это не просто слова. Они уже растерзали не один десяток наших воинов. И еще: опыт последних боев показал, что гитлеровцы многому у нас научились. Они в основном перешли к ночным действиям. А это лишает нас главной ударной силы — артиллерии. В темноте артиллерия бьет вслепую, только в упор. А немцы наступают крупными массами танков, мнут нашу оборону и с рассветом развивают успех.
— Да, — растягивая слова, проговорил Ворончук, — это, конечно, меняет положение.
— А поэтому, — продолжал Крылов, — самоуспокоенность сейчас равноценна трусости. Всех людей поднять нужно, всех организовать и быть готовым к самому тяжелому бою. И в окружении драться придется, и под танками посидеть, и в рукопашной схватиться.
Наступила звездная зимняя ночь. Аксенов снова пошел в эскадроны, а Крылов — к заместителю Ворончука по политической части. Казаки молча рыли землю. Запах конского пота разносился в воздухе. Позади окопов переднего края вставали на огневые позиции пушки, танки, самоходные орудия. С берега Дуная доносились звуки боя. Видимо, там противник уже подошел к казачьей обороне. Не успел Аксенов обойти два эскадрона, как его догнал высокий казак.
— Товарищ гвардии майор, вас просит командир полка.
Ворончук сидел в наспех оборудованной землянке. Это был простой окоп, сверху прикрытый накатом бревен и слоем земли. Вход в землянку закрывала плащ-палатка. На столике в углу желтел кожаный чехол полевого телефона. Полковник разговаривал по телефону.
— Нет, товарищ семнадцатый, выстоим, обязательно выстоим, — басил он, кивая майору на опрокинутый ящик. — Да, Нитченко уж стукнулся… Ничего… Потерь нет… Подбили один… Сейчас спокойно… Да… Все бросил на окопные работы. Часа через три первая траншея будет готова… Да… Да… Будьте здоровы, товарищ семнадцатый…
Полковник положил трубку.
— Командир корпуса тревожится… Ну, майор, давай поговорим кое о чем.
Он развернул только что вычерченную схему обороны полка. Рассказывая о своем замысле в отражении атак противника, полковник все время вглядывался в лицо Аксенова, словно пытаясь по его выражению уловить подтверждение правильности своих мыслей. Аксенов видел, что полковник уже все продумал и решил, но зачем он так подробно рассказывает и пристально смотрит на него, понять не мог.
— Как твое мнение, майор, а? — спросил он, придвигая схему Аксенову.
— Кажется, товарищ гвардии полковник, все в порядке, — подумав, ответил Аксенов, — только вот в глубине-то у вас жидковато.
— Жидковато, говоришь, а?
— Да. Если б там еще три-четыре пушки поставить и пару танков.
— Да. Это верно, верно. Но где же взять пушки и танки? Все, что есть, поставлено… Больше нет…
— С переднего края что-нибудь снять, — предложил Аксенов. — Обрушится противник на передний край и сразу все уничтожит. А в глубине пусто.
— С переднего края, говоришь, — задумчиво говорил Ворончук, — с переднего края…
Он водил карандашом по схеме, рассматривая условные знаки танков, пушек, минометов, самоходных орудий. Четырежды он медленно прошелся по условным знакам, потом резко перечеркнул три пушки, два танка, одно самоходное орудие и поднялся с места.
— Пойдем выбирать новые огневые позиции.
Они долго лазали по серебристому в лунном свете снегу. На фронте кавалерийского корпуса клокотала напряженная жизнь. Казаки торопились. Танкисты и артиллеристы, узнав о приказе полковника отодвинуться в тыл и оборудовать новые огневые позиции, недовольно ворчали. Несколько часов труда пропали даром. Теперь придется снова долбить проклятую неуступчивую землю.
— Ничего, ничего, — успокаивал их Ворончук, — это у вас будут запасные позиции, все равно пришлось бы строить. Уж лучше сразу, а потом отдыхай вволю.
Первая половина ночи прошла спокойно. Во втором часу, когда усталые казаки получили разрешение отдохнуть, а Ворончук и Аксенов вернулись на командный пункт, на равнине перед казачьими позициями приглушенно зашумели людские голоса, в разных местах послышался скрип снега, стук и затем вдруг разом и на левом фланге у Дуная, и в центре на равнине, и у берегов озера Веленце вспыхнула частая, беспорядочная стрельба из винтовок, автоматов, карабинов.
— Хитрят, гады, — поговорив по телефону с командирами эскадронов и с командиром дивизии, озлобленно сказал Ворончук, — на пушку берут, хотят создать видимость наступления, а сами разведку мелкими группами ведут, оборону прощупывают. Но не выйдет, ничего не выйдет. Я приказал огонь вести только дежурным пулеметчикам, а всем остальным людям — спать!
И в самом деле через полчаса огонь и с той и с другой стороны стих и на всем фронте установилась тишина.
Аксенов доложил в штаб армии все, что видел, и по совету Ворончука прилег отдохнуть. Усталое тело ныло. Распухшие веки слипались. Аксенов положил руки под голову и сразу же заснул.
Проснулся он от грохота. В землянке никого не было. Аксенов выскочил наружу и по ходу сообщения пробежал на НП командира полка. Кругом полыхали взрывы снарядов. Видимо, шла артиллерийская подготовка противника.
Ворончук в бинокль, всматривался вдаль. Рядом с ним на корточках сидел начальник штаба и что-то писал. К стереотрубе склонился незнакомый полковник-артиллерист.
— Левее ноль двадцать три снаряда, огонь! — не отрываясь от окуляров, командовал артиллерист. Его команду повторял в трубку чумазый телефонист в ходе сообщения.
Над траншеей расплывались облака дыма. Сквозь просветы по всему полю виднелись черные танки. Они были так близко, что Аксенов видел жерла их пушек.
— Хорошо, — кричал артиллерист, — десять снарядов, залпом, огонь!
Через пол минуты один за другим проскрежетали снаряды. Танки окутались дымом.
— Еще восемь снарядов, огонь! — кричал артиллерист.
Дым над нашей траншеей рассеялся, и открылось все просторное поле боя, сплошь усыпанное беспорядочно отходившими пехотинцами противника. Обгоняя их, поспешно уходили танки и бронетранспортеры. Почти у самой нашей траншеи горело девять немецких танков.
— Спасибо, полковник, — обернулся к артиллеристу Ворончук, — пушки твои здорово работают.
Артиллерист улыбнулся распаленным лицом и подмигнул Ворончуку:
— Свои люди — сочтемся. Я ведь тоже когда-то в коннице служил, с басмачами в Средней Азии рубился.
— Ну, тогда хлебни-ка за добрую работу, — протянул Ворончук флягу.
Тот неторопливо отвернул пробку, ладонью вытер губы и, запрокинув голову, начал пить. Лицо его стало красным.
Аксенова вызвал по телефону генерал Воронков и приказал пройти по всей обороне кавалерийского корпуса, уточнить обстановку и доложить в штаб армии.
Весь день ходил Аксенов из полка в полк. Бой то утихал на несколько минут, то разгорался с новой силой. По всем признакам гитлеровское командование ввело в бой новые части. Всего в наступлении участвовало более четырехсот танков и не меньше двадцати батальонов пехоты. Особенно сильно нажимал противник на полк Ворончука, стремясь прорваться по центральной магистрали на Будапешт, и в центре обороны корпуса, явно намереваясь расколоть боевые порядки кубанцев, разъединить их на части и уничтожить поодиночке. Командующий армией и командир корпуса разгадали замысел противника, и к этим участкам была стянута большая часть армейской и корпусной артиллерии. Это в основном и решило исход боя. До вечера противник нигде не смог вклиниться в нашу оборону.
В воздухе весь день кипели воздушные бои. Явно господствовала наша авиация. Как узнал Аксенов позднее, в этот день бои кубанцев обеспечивали две воздушные армии: одна Третьего Украинского фронта и вторая — по приказу Верховного Главнокомандования — соседнего, Второго Украинского фронта. Не успели самолеты противника появиться над нашими позициями, как на них обрушивались советские истребители. Врассыпную, бросая бомбы куда попало, удирали фашистские летчики. Большая часть немецких бомб валилась на их же войска. Тридцать шесть сбитых немецких самолетов насчитал в этот день Аксенов. Казалось, летчики мстили за то, что плохая погода все время держала их на аэродромах и наземные войска были вынуждены вести бой без авиационной поддержки.
Аксенов обошел всю оборону корпуса и вернулся в полк Ворончука.
— Вы что, у меня решили филиал штаба армии создать? — встретил его повеселевший Ворончук. — Вон авиатор сидит целый день и костит на чем свет стоит истребителей и штурмовиков…
— Уйду, уйду, не волнуйся, полковник, — вышел из землянки Орлов. — Только, смотри, не запой Лазаря без авиации.
— Да нет, что ты, живи, живи, — хлопал его по плечу Ворончук. — Я даже всех вас на довольствие зачислю и водкой буду поить. Веселее с вами…
— Ну, как ты, Аксенов, жив? — схватил майора в охапку Орлов. — Там слезы о тебе проливают, а ты ползаешь тут где-то по окопам.
— Подожди, Пашка, — отбивался Аксенов, — твоя работа теперь кончилась, а мне еще докладывать нужно.
— Ну, докладывай, докладывай, а мы с полковником перекусим пока. Правда, полковник?
— Подождем майора. Он проголодался, наверно.
Аксенов стал звонить в штаб армии и попросил соединить его или с Воронковым, или с Дубравенко. Телефонистка ответила, что они у командующего, и добавила, что командующий уже дважды спрашивал, не появился ли где-нибудь Аксенов.
— Тогда соединяйте с кабинетом командующего, — сказал Аксенов.
Ворончук и Орлов притихли, молча глядя на Аксенова.
— Слушаю, — раздался в трубке знакомый басок Алтаева.
Алтаев внимательно слушал все, что говорил ему Аксенов, переспрашивал, требовал уточнить детали и сообщить свои выводы. Его интересовало буквально все: и как оборудованы траншеи, и сколько патронов у солдат, и где пушки и танки, и какой ущерб нанесен противнику, и что требуется еще, чтобы усилить оборону.
Аксенов слышал спокойное дыхание командующего, отвечал на вопросы и досадовал на себя, что заранее не предусмотрел многое из того, что интересовало командующего. Ему и в голову не приходило, что командующий будет расспрашивать, когда солдатам выдавали горячую пищу и как выдавали — подвозили в котлах или приносили в термосах. На многие вопросы помогал отвечать Ворончук. Он прислушивался к разговору и шептал Аксенову на ухо нужные сведения.
— Вот это да, — положив трубку, вытер вспотевшее лицо Аксенов, — легче под огнем противника сидеть, чем разговаривать с ним.
— Ничего, ничего, майор, — хлопал его по плечу Ворончук, — сейчас после трудов праведных подзакусим, вздремнем часок и опять по траншеям полезем… Сашко, давай-ка ужин! — крикнул он ординарцу и продолжал весело говорить, глядя то на Аксенова, то на Орлова: — Ох, не люблю эту проклятую оборону! Сидишь и не знаешь, когда тебя по башке стукнут. То ли дело наступление. Рванулся — и пошел! Только снег под копытами взыгрывает. Да, а где же Крылов? Целые сутки в моем полку, и я его никак не могу увидеть.
— Он в третьем эскадроне был, — ответил ординарец, торопливо накрывая стол.
— Ну, братцы, за удачный денек, — поднял один-единственный стакан Ворончук.
Но выпить он не успел. Землянка вздрогнула, погаснув, упала лампа, зазвенели осколки тарелок.
Аксенов рванулся к выходу. Споткнувшись, ударил его головой в спину Орлов. Над позициями гудела канонада. Несколько минут Аксенов ничего не слышал. Острой болью ломило в ушах. Орлов стоял рядом, тряс его за руку и что-то кричал. Ворончук, кого-то подзывая, махал руками.
Понемногу боль в ушах стихла, все яснее и отчетливее слышался гул артиллерии. Зарева пожарищ дрожали и на востоке и на севере. Взрывы слились в сплошной грохот. В селах Каполнаш-Ниек и Кишвеленце одновременно загорелось несколько домов.
Ворончук схватил Орлова и Аксенова за руки и втолкнул их в землянку.
— В двадцать два часа противник начал артиллерийскую подготовку, — докладывал Ворончук по телефону. — Под обстрел взят весь участок обороны полка. Сила огня неимоверная. Нельзя понять, сколько участвует артиллерии. Все покрыто взрывами. Да… Да… Всех людей укрыл…
— Вслепую бьют, — проговорил Аксенов, — по площадям.
— По площадям, но какая сила огня, — ответил Ворончук и злобно выругался, — все сметут. Часа три такого огня — и от нашей обороны мокрое место останется.
Он смолк и озлобленно скрипнул зубами. Лицо его стало совсем черным.
— Эх, сейчас бы авиацию, — сжал кулаки Аксенов, — знаешь, как по вспышкам можно батареи здорово бомбить!
Орлов схватил трубку телефона и яростно крутнул ручку.
— Армию, армию, штаб армии. Да что вы, не поймете, штаб армии, говорю. Какие, к чорту, позывные! — надрывался Орлов и обернулся к Аксенову: — Как позывная армии? Забыл совсем.
— «Василек».
— «Василек», да, «Василек», говорю. Ну, вот это другое дело. «Василек»?.. Срочно генерала Смирнова, да, срочно, по воздуху. Орлов говорит. Вы, товарищ генерал?.. Да… Я. Тут ад кромешный. Противник страшную артподготовку начал… Ночники нужны… Больше, как можно больше… Пусть и соседи высылают… Хорошо… Я буду докладывать.
Орлов положил трубку и помотал головой, словно отгоняя сон.
— Сейчас подымут в воздух ночные самолеты, — устало проговорил он и закрыл глаза.
Уже сорок минут, не стихая, продолжалась артиллерийская подготовка. Связь со всеми прекратилась. Ворончук без конца крутил ручку, но телефон молчал.
— Пойдем, Паша, на улицу, может летят, — сказал Аксенов.
— Куда, к дьяволу, на улицу? — прикрикнул на него Ворончук.
Аксенов ничего не ответил и пополз в ход сообщения. За ним тяжело дышал Орлов.
Аксенов сел на дно траншеи и прислонился к земляной стенке. Грохот и вой безумствовали над головой.
— Идут, идут! — закричал Орлов и вскочил на ноги. Сквозь грохот едва слышно доносилось тарахтение вездесущих «У-2».
Метнулся по небосклону и тут же погас луч прожектора. За ним со всех сторон зашарило по небу еще несколько лучей.
— Ни черта вы не сделаете, — кричал Орлов, — ни черта! Для наших утеночков прожекторы не страшны.
Гул артиллерийской канонады заметно стихал. Теперь уже не было сплошного грохота, лишь то там, то здесь полыхали отдельные взрывы. Все настойчивее и отчетливее тарахтели в воздухе моторы маленьких неторопливых машин. Невидимые, они, натруженно гудя, пролетали к позициям противника и, облегченные, возвращались назад.
— О-о-о-о! И тяжелые пошли! — вскрикнул Орлов.
Над головой мощно гудели многомоторные машины. Артиллерия противника смолкла.
В туманной глубине вражеского расположения раскатами раздавались взрывы. Всполохи зарниц заметались из края в край.
В тылу кубанцев догорали подожженные артиллерией дома. Снопы искр взлетали вверх и, обессиленные, гасли. А в воздухе, перебивая друг друга, теснились звуки невидимых самолетов. Один за другим нескончаемой вереницей шли они на позиции противника, и новые взрывы полыхали над вражескими войсками.
Казачьи позиции ожили. Из окопов и траншей выглядывали люди, откапывали засыпанных землей товарищей, перекликались, махали невидимым самолетам руками, башлыками, кубанками. По телефонным линиям, в темноте нащупывая провода, бегали связисты. Взад и вперед сновали посыльные, ординарцы, офицеры.
Ворончук звонил в эскадроны и батареи, принимал доклады и донесения, выясняя последствия вражеской артподготовки. Он записывал что-то, ни на кого не глядя, снова звонил в эскадроны и опять начинал считать, озабоченно морща покатый лоб.
— Чорта с два, — рванулся в землянке его раскатистый бас, — чорта с два!.. Взяли!.. Вот они, цифры-то. Больше трех часов долбили, а результатов-то, результатов — ноль! Всего несколько человек убитых и раненых. Землей позасыпало, и всех откопали. Жив полк казачий, жив! И побачимо, кто кого! Побачимо!
Он успокоенно присел и приказал начальнику штаба:
— Посылай-ка всех штабников в эскадроны. Проверить все и подготовить к бою. Траншеи, где позавалило, расчистить, подмаскировать. Политработникам провести партийно-комсомольские собрания в эскадронах. Коротко, по-боевому. На примере артподготовки показать людям бессилие противника… И до рассвета накормить всех, водки выдать и хороший завтрак… Ну, хватит, — проводив начальника штаба, улыбнулся Ворончук, — давайте позавтракаем. Поужинать не удалось.
Но и позавтракать удалось не совсем спокойно. Ворончука вызвал к телефону сначала командир дивизии, а затем командир корпуса.
— Ну, хлопцы, вы доедайте, — закончив разговор с командиром корпуса, сказал Ворончук, — и вздремните хоть часок, а я пошел. Командир корпуса мне еще одну батарею дает и четыре танка. Пойду встречать и расставлять по местам.
— Слушай, Аксенов, дорогой, — встав из-за стола, обеспокоенно проговорил Орлов, — забыл совсем. Ты прости, пожалуйста. Я же письмо привез тебе. Суматоха всю память отшибла.
Он вынул из кармана маленький треугольник и протянул его Аксенову.
— Вчера ехал сюда и случайно встретил ее. Ты не обижайся, забыл, понимаешь.
Аксенов развернул письмо и склонился к лампе. Буквы замелькали перед глазами. Настя писала, что их рота попрежнему стоит в господском дворе и в бой еще не вступала, тревожилась за него и просила беречь себя и ожидать скорой встречи.
Аксенов несколько раз перечитал письмо, до боли зажмурил глаза и минуты две стоял в оцепенении, ничего не чувствуя и не видя. Встряхнув головой, он открыл глаза, медленно свернул письмо, положил его во внутренний карман кителя и пристроился на соломе рядом с Орловым. Подполковник уже спал, широко разметав руки. У телефона, борясь с дремотой, крепился ординарец Ворончука. Глаза его закрывались, он кивком опускал голову к столу и тут же, спохватившись, поднимал ее, но голова опять безвольно клонилась к столу.
— Саша, — окликнул его Аксенов, — я засну, ты следи за телефоном.
Ординарец испуганно вскочил, часто моргая глазами, и из котелка начал черпать ладонью воду и брызгать на лицо.
Аксенов спиной прижался к Орлову и уснул. Проснулся он от шумного разговора. Ворончук, сжав телефонную трубку, кричал кому-то, волнуясь и нервничая:
— Ничего страшного нет. Да поймите вы, в конце концов война — это есть война, а не тактические учения. Знаю, знаю, что вам тяжело, а кому легко? Стоять — и ни с места!
Он швырнул трубку и вышел из землянки.
Только теперь Аксенов расслышал, что опять шел бой. Накат землянки вздрагивал. Перекликались пулеметные очереди. Аксенов пробрался на НП. Ворончук отбросил бинокль и ладонями оперся на бруствер. На дне окопа по телефону передавал кому-то приказания начальник штаба полка. По другому телефону разговаривал начальник разведки. В углу около выносной рации на корточках сидел Орлов.
По всему фронту шел бой. Солнце с трудом пробивало туманную дымку, золотя снежные изрытые воронками поля, уходящее вдаль шоссе, придорожные деревья, почерневшие крыши населенных пунктов.
Положение на фронте было неопределенным. От берегов озера Веленце до самого Дуная ползли, вспыхивая выстрелами, танки, перебегали, замирая в снегу, пехотинцы, учащенно били с обеих сторон пушки, минометы, автоматы, пулеметы. Казалось, все перепуталось, смешалось, и нельзя понять, где свои войска, где противника. Только изломы первой траншеи показывали, что здесь, на окраинах населенных пунктов и по заснеженным высотам, проходила та грань, которую рвались перешагнуть фашистские танки и пехота и которую всеми силами стремились удержать кубанцы. Нигде еще противнику не удалось перешагнуть эту грань, но по напряжению боя Аксенов чувствовал, что вот-вот где-то она лопнет и порвется. Особенно это было заметно по левому флангу полка Ворончука. На один эскадрон кубанцев навалилось штук шестьдесят гитлеровских танков, все ближе и ближе набегали рваные пехотные цепи.
— Весь огонь перед вторым эскадроном, — кричал Ворончук, — всю артиллерию, все минометы!
Левый фланг, там, где оборонялся второй эскадрон, скрылся в дыму.
В траншее суетливо метались люди. Кто-то бросился в ход сообщения.
— Куда-а-а-а? — яростно закричал Ворончук, взмахивая кулаками над головой. — Бежать? Наза-а-ад!
Лицо его было страшно. Крупный рот перекосился в ярости. Папаха слетела с головы.
— Артиллерист, артиллерист! — кричал Ворончук. — Огонь по первой траншее, огонь! Отсечь пехоту от танков.
В небе показались штурмовики.
— «Чайка», «Чайка», вижу вас, вижу, — кричал, прижимая шлемофон, Орлов. — Вижу, прямо, курс сто восемьдесят, прямо. Заходи на цель, левее крайних домов! Танки. По танкам!
— Обозначить передний край! — крикнул Ворончук.
Над всей первой траншеей взметнулись белые шары ракет. Штурмовики один за другим выстраивались в круг.
— Цель прямо, — кричал Орлов, — высоту с домом видишь? По ней, прямо по ней бей.
Головной штурмовик развернулся и беззвучно устремился вниз. Ястребом падал он вдоль переднего края, и казалось, вот-вот врежется в высоту перед позицией второго эскадрона. Танки и пехота противника разом прекратили огонь. Смолкло все и на наших позициях. Только рев штурмовиков стоял в воздухе. У самой земли головной штурмовик блеснул вспышками выстрелов и, взвывая мотором, рванулся вверх. Под ним полыхнули взрывы и сразу же вспыхнул фашистский танк. За головным один за другим ныряли к земле последующие штурмовики.
— Так, так! Здорово! Заходи на второй круг! — кричал Орлов.
Все перед траншеями утонуло в дыму. Как черные метеоры, падали вниз и взмывали крутолобые «Илы». По всему полю перед левым флангом полка Ворончука полыхали в дыму фашистские танки.
— Паша, — подбежал к Орлову Ворончук, — резани по шоссе и по лощине. Там штук пятьдесят танков.
— «Чайка», «Чайка»… Новая цель!.. Новая цель!.. — передавал Орлов. — Шоссе впереди железнодорожной станции видишь? Смотри, на берегу озера. У шоссе и в лощине танки. Бей по танкам, бей. Так!.. Правильно!.. Пикируй!.. Пикируй!
Смерч взрывов и дыма переместился к правому флангу полка. Минут двадцать штурмовики утюжили вражеские войска. Грохот взрывов и рев моторов подавили все звуки. Там, куда ныряли штурмовики, творилось что-то невообразимое. Трудно было представить, чтоб в этом месиве взрывов, огня и дыма могло уцелеть что-нибудь живое.
— Пашка, Пашка, чорт бы тебя взял! — обнял Ворончук Орлова. — Да если бы не твои штурмовики!.. Пашка…
— Да подожди, полковник, подожди, — отбивался Орлов. — Сигнал «воздух» подают… Сейчас «юнкерсы» появятся. Нужно истребителей вызвать.
— Чорт с ними, с «юнкерсами»! Главное, танки побили, а все остальное — чепуха.
— Товарищ майор, вас вызывают в штаб армии, — сообщил Аксенову начальник штаба полка.
— Доложи там, что летчики, летчики положение спасли! — крикнул Ворончук Аксенову. — Я б их всех орденами наградил.
VII
Бахарев был удручен. Вся работа его группы в тылу противника пропадала даром. Собраны ценнейшие сведения, но командование о них не знает.
Как букашка в вихре, затерялась маленькая группа советских разведчиков. Куда ни сунься, везде враги.
Бахарев лежал в снегу, кусая губы. Перед ним вырисовывалась картина тяжелого положения обороняющихся войск. Оглушенные, в исковерканных артиллерийской подготовкой траншеях и ходах сообщения, советские люди бьются насмерть с вражескими танками и пехотой. Они бьются, а его группа лежит и бездельничает… Нет! Действовать, немедленно действовать! Хоть чем-нибудь помочь своим.
Невдалеке слышались артиллерийские выстрелы. Высланный дозор сообщил, что в полукилометре на огневых позициях стоят шестнадцать пушек. Бахарев, посоветовавшись с Аристарховым, Косенко и Мефодьевым, избрал эти пушки первым объектом нападения.
По скатам лощины он подвел группу почти вплотную к огневым позициям. Озаряемые пламенем, то и дело вылетавшим из жерл орудий, суетились немцы. Гомон и крики стояли над батареями. Бахарев расположил своих людей на винограднике, указал, кому куда стрелять, и крикнул:
— Огонь!
В грохоте пушек автоматные очереди не были слышны, но орудия одно за другим смолкали. Темнота сгустилась над батареями.
Кто-то из немцев опомнился. Захлопали реденькие винтовочные выстрелы. Над разведчиками, взвизгивая, запели пули.
Бахарев броском повел группу по склону высоты. Отскочив метров на пятьсот, все оглянулись. Там, где полчаса назад изрыгали языки пламени шестнадцать пушек, чернела темнота, разрываемая едва видимыми точечками винтовочных выстрелов.
— Угостили, — тяжело дыша, проговорил кто-то из разведчиков, — теперь не скоро опомнятся.
Удачный налет на огневые позиции противника поднял настроение разведчиков. Они оживленно переговаривались, пересчитывали патроны, кое-кто переобувался и поправлял снаряжение.
Бахарев хотел было еще разок, как говорил переводчик, «щипануть» противника, однако начинался рассвет. Рассчитывать на успех в светлое время нельзя. К тому же Бахарев по себе чувствовал, что люди смертельно устали и только нервным напряжением держатся на ногах. Он решил уйти в лес, дождаться ночи и снова громить тылы противника, а при возможности захватить пленных и прорваться к своим.
До опушки леса добрались, когда уже было совсем светло. В лесу было тихо и морозно. Разгоряченные ходьбой разведчики садились прямо в снег. Нужно было хоть немного отдохнуть. Впереди по карте значился дом лесника. К нему и повел Бахарев группу. Разведчики едва передвигали ноги, пробираясь по глубокому снегу. Лица у всех почернели, в глазах застыла усталость. Тоня шагала за капитаном, часто спотыкалась, хватаясь руками за стволы и ветви деревьев. Гулевой отобрал у нее мешок и винтовку, но все равно каждый шаг давался девушке с трудом.
Аристархов раскрытым ртом хватал воздух. Лицо его стало совсем маленьким, нос заострился, только глаза горели лихорадочным блеском. Он пытался улыбаться, шуткой подбодрять солдат, но все видели, что веселье это натянутое, и Косенко, не выдержав, проговорил:
— Товарищ младший лейтенант, берегите силы, пригодятся еще.
Аристархов нахмурился, глянул на сержанта, но ничего не сказал.
Скоро должен показаться дом лесника. Бахарев выслал вперед Косенко и двух автоматчиков.
Посредине поляны стоял шестиоконный дом с двумя бревенчатыми сараями. Из трубы вился дымок.
Косенко и два автоматчика подбирались к дому с задней стороны. Всех остальных разведчиков Бахарев укрыл за деревьями, приказав быть готовыми поддержать дозорных.
Косенко уже добрался до резного крылечка, присел, что-то показывая глазами автоматчикам, и, пригнувшись к самой земле, рванулся на ступеньки и скрылся за дверью. За ним скрылись в доме солдаты. Минуты через две сержант выбежал из дома и махнул рукой. Бахарев поднял группу и повел к дому.
— Лесник-старик, две женщины и трое детишек, — доложил Косенко, — мадьяры… перетрусили…
Хозяин — высокий старик с высохшим морщинистым лицом, желтыми слезящимися глазами и жиденькой трясущейся бородкой — вышел на крыльцо, признал, видимо, в Бахареве начальника и жестами пригласил его в дом. Такая же сморщенная, худенькая старушка в потрепанном сарафане и статная, дородная женщина лет тридцати с красивым смуглым лицом испуганно жались в углу первой комнаты. Из-за них настороженно выглядывали три пары любопытных детских глазенок.
Бахарев жестами приказал старику, женщинам и детям расположиться на кухне, а для своих людей занял две комнаты. Он всех разведчиков разбил на смены, Аристархова, Косенко и Мефодьева назначил старшими и приказал двум сменам отдыхать, а одной дежурить, сменяясь через каждые два часа. Лесник предложил картошку, мясо и хлеб. Скоро успокоились и женщины. Под наблюдением Тони и Степы Гулевого женщины начали варить похлебку. Голодные разведчики то и дело заглядывали на кухню. Гулевой сердито махал на них руками и подмигивал на уснувшую с ножом и картошкой в руках Тоню. Женщины тихо переговаривались, с жалостью посматривая на девушку. Старуха достала из-за печки полосатый матрац, расстелила его на полу и знаками попросила Гулевого уложить девушку. Степа легонько поднял Тоню. Она что-то проговорила во сне. Нож и полуочищенная картошка упали на пол. Женщина принесла подушку, подложила ее под голову Тони и, горестно покачав головой, перекрестилась.
Свободные от дежурства разведчики, не имея сил дождаться завтрака, уснули кто где мог. Крепились только Косенко и Гулевой. Ефрейтор хлопотал на кухне, а сержант по-хозяйски осматривал дом, подбирая с мадьяром все, что можно было использовать для постелей. Они натаскали соломы, завалили ею весь пол и сверху прикрыли домотканными коврами.
Наконец завтрак был готов.
Бахарев, обжигаясь, глотал картошку и мясо. Только сейчас он почувствовал, как сильно проголодался. Гулевой разбудил Тоню. Она моргала, отмахиваясь, и устало валилась на матрац. Степа несколько раз поднимал и усаживал ее, но девушка никак не могла проснуться. Гулевой набрал в рот воды и сбрызнул лицо Тони. Она вскрикнула, тряхнула головой и виновато улыбнулась.
— Ешь, ешь немедленно! — сердито покрикивал на нее радист.
Старушка поставила и перед ним тарелку, но ефрейтор не отходил от Тони, пока она не съела всю похлебку.
— Вот теперь ложись и спи, сколько хочешь, — улыбнулся он девушке и принялся за свой завтрак.
Бахарев еще раз предупредил Аристархова, Косенко и Мефодьева, как нести охрану, и, сбросив шинель, улегся на солому, подложив к правому боку автомат. Сон мгновенно сковал его. Косенко прикрыл ноги капитана своей шинелью.
Проснулся Бахарев под вечер. Вскочив на ноги, он осмотрел комнату и сердито спросил Аристархова:
— Почему раньше не разбудили?
— Зачем? — усмехнулся Аристархов. — Вы так здорово спали. Я второй раз заступил дежурить, и жаль было тревожить вас.
— Жаль, жаль, — ворчал Бахарев, — весь день проспал. Ничего не случилось?
— Все в порядке. Кругом тишина. Мадьяры на кухне сидят. Успокоились. Теперь не волнуются. Женщины наши шинели чинят и всем новые портянки приготовили, а Тоне хорошие пуховые перчатки подарили.
На кухне опять хлопотали Гулевой и Тоня. При виде Бахарева старик и женщины встали. Капитан улыбнулся и кивком головы попросил их сесть. Тоня раскраснелась. Глаза ее оживленно блестели.
— Ну как, Тонечка, ожили? — спросил ее Бахарев.
— Ага, — улыбнулась девушка, — теперь могу суток пять не спать.
— Товарищ гвардии капитан, попробуйте-ка, вот штука, — протянул Гулевой чем-то наполненную кружку.
Бахарев отпил несколько глотков крепкого виноградного вина.
— Старик полный бочонок подарил, — объяснял ефрейтор, — у него там целый подвал.
— Бор[8],— кивал головой старик, — карош бор. Мадьяр бор.
— Спасибо, — поблагодарил его Бахарев, — за все спасибо.
Старик, видимо, не понимал по-русски, но приветливый голос капитана подсказал ему смысл его слов. Он подошел к бочонку, налил вторую кружку и, улыбаясь, протянул ее капитану.
— Нет, нет, — отказывался Бахарев.
Старик укоризненно покачал головой, отпил половину кружки и подал ее старухе. Та хлебнула несколько глотков и передала молодой женщине.
Бахарев знаками показал, что они ошиблись, и что ему пить много нельзя, так как его ждет работа.
Потом он поблагодарил хозяев и повел группу к фронту. Спускались сумерки. Все ближе и ближе надвигалось зарево переднего края. Линия фронта, видимо, отодвинулась далеко на восток. Там, где вчера стояли танки и артиллерия противника, сейчас зияли в лунном свете темные глазницы окопов. Снег был дочерна вытоптан, словно прошло по нему стадо животных. Повсюду валялись груды стреляных гильз, разбитые ящики и корзины из-под снарядов. Кое-где круглились выбоины воронок. По дорогам к фронту гудели моторы танков и автомобилей.
Бахарев вел группу по опустевшим и безлюдным полям. Чем ближе подходили к бывшему переднему краю нашей обороны, тем все больше и больше чернело воронок. Виднелись трупы и обгорелые танки. Невдалеке взорвалось несколько снарядов.
— Наши! — вскрикнул кто-то позади Бахарева.
Действительно, это била наша артиллерия. Значит, где-то совсем недалеко и наш передний край. Впереди должен быть крупный населенный пункт Полгардь. Раньше там стояли наши тылы.
Бахарев провел группу севернее Полгарди, пересек шоссе и железную дорогу. Километрах в шести протекал канал Шарвиз. Оттуда доносилась стрельба. Очевидно, по каналу проходил фронт. Теперь нужно было пробираться осторожно. Начинались боевые порядки гитлеровских войск.
Бахарев знал, как трудно перейти линию фронта, когда не знаешь точно ни расположения противника, ни боевых порядков своих войск. Тем более трудно будет сейчас, когда фронт, очевидно, проходит по каналу Шарвиз, который едва ли замерз, а если и замерз, то лед тонкий и не выдержит тяжести людей. Хорошо, если на том берегу свои, а если там немцы? Нужно искать какой-то выход. Бахарев остановил группу и подозвал Аристархова.
— Как будем, а? — спросил он переводчика.
Младший лейтенант задумался, но потом безнадежно махнул рукой.
— Эх, зря мы автомобиль бросили, товарищ гвардии капитан. Ни черта бы немцы в суматохе не разобрали. Так и примчали бы к нашему переднему краю.
Бахарев и сам думал о машине. Когда переходили шоссе, он хотел было устроить засаду и попытаться захватить какой-нибудь автомобиль, но не решился. Он хорошо знал золотое правило разведчиков: никогда не повторять прием, который уже был применен раньше, а всегда искать новый, неожиданный для противника. Но другого выхода не было. Переход через канал по ледяной воде был равносилен гибели. Решили вернуться к шоссе, подкараулить одиночную машину и на ней по мосту попытаться проскочить через канал.
Разведчики залегли в снегу в нескольких метрах от дороги. Словно догадываясь о грозящей опасности, немцы жались машина к машине. Бахарев уже потерял надежду перехватить одинокую машину, но на высоте показались, наконец, две яркие фары. Позади них не было ни одного огонька. Аристархов набросил плащ-накидку, закрыл голову капюшоном, вышел на дорогу и стал в позе равнодушного наблюдателя. Машина шла на большой скорости. Казалось, из нее не видят Аристархова и вот-вот раздавят его. Но переводчик стоял невозмутимо, подняв правую руку и беззаботно раскуривая. Комфортабельный легковой лимузин резко затормозил, едва не сбив Аристархова.
Разведчики кинулись вперед. Из автомобиля прогремело несколько выстрелов. Аристархов отпрянул и свалился под машину. Кто-то из разведчиков полоснул очередью автомата по стеклам.
Бахарев подскочил и рванул дверцу. Ему навстречу повалился немец. Второй у руля хрипел, захлебываясь кровью.
— Офицеры, — определил Аристархов.
— Ты не ранен? — спросил Бахарев.
— Руку немного царапнуло.
Разведчики погасили фары и осмотрели машину. Скаты ее были пробиты пулями.
Аристархов, подсвечивая фонариком, возился с портфелем подполковника.
— Важную птицу подстрелили, — говорил он, рассматривая бумаги, — жаль только, что не живым захватили. Офицер штаба четвертого танкового корпуса «SS», подполковник.
Вдали показались огни новой колонны. Бахарев приказал забрать все документы, а машину столкнуть в кювет.
Разведчики дружно навалились, и лимузин скатился под откос. Нужно было немедленно уходить. Разведчики отошли от шоссе и укрылись в неглубокой лощине.
Переводчика и капитана накрыли двумя плащами. Склонясь головой к голове, они торопливо просматривали бумаги.
— Боевой приказ на операцию «Сад пряностей», — читал Аристархов. — Это вот на ту самую операцию, что они сейчас проводят. Приказ датирован семнадцатым января. Да здесь, товарищ гвардии капитан, все документы оперативного отдела штаба четвертого танкового корпуса «SS».
Бахарев просмотрел документы и тут же принял решение.
— Ну, Борис, теперь хоть вплавь через канал, но к утру мы должны быть у своих. В лепешку разбиться, но документы доставить в штаб армии.
VIII
Узкая винтообразная лесенка с шершавыми бетонными ступеньками круто спускалась вниз. Аксенов медленно переставлял ноги, скользя ладонью по холодному железу поручня.
Он встряхнул плечами, шумно, всей грудью передохнул и резким толчком бросил усталое тело вперед. Ноги автоматически запрыгали со ступеньки на ступеньку. Лестница окончилась просторным коридором. Маленькая аккумуляторная лампочка тускло освещала матовые стены. Слева желтела изящная, как в хорошей городской квартире, дверь. Аксенов толкнул ее и, ослепленный ярким светом, закрыл глаза.
— Вот, наконец, и председатель комиссии, — раздался басистый голос инженер-майора Незнакомцева. — Здорово, Аксенов, здорово, дружок.
Аксенов почувствовал пожатие руки и открыл глаза. Незнакомцев улыбался, глядя ему в лицо. Прищуренные глаза его искрились лукавыми огоньками. Худое горбоносое лицо розовело пятнами нездорового румянца. На широком лбу слежались глубокие складки.
— А ты живешь тут по-княжески, — осматривая комнату, посмеивался Аксенов: — стол, диван, мягкие кресла, рояль и метров десять земли над головой.
— Сапер, знаешь, особенно любит пожить, — взял его под руку Незнакомцев, — он может ошибаться только один раз в жизни. А пока не ошибся — используй до дна все возможности.
— Да. Инструментик-то вроде неплохой, а? — пройдясь пальцами по клавишам рояля, похвалил Аксенов. — Давненько не играл. А бывало в училище…
Разнотонные звуки метнулись по комнате и, сдавленные стенами, замерли. Аксенов тихо опустил крышку рояля, сел в кресло перед столом и обернулся к инженеру:
— Ну, рассказывай.
— А что, собственно, рассказывать-то, — присел на стол Незнакомцев, — вот это подземелье, где мы с тобой посиживаем, центр склада взрывчатых веществ. От него во все стороны тянутся хранилища. Они забиты бочками с порохом, ящиками тола, аммонала, мелинита и другими не совсем приятными штучками. Наверху штабеля снарядов и мин. Тут столько… — Незнакомцев махнул рукой и смолк.
Аксенов смотрел на него и ждал. Инженер смущенно улыбнулся и заговорил неторопливым, спокойным голосом:
— Мадьяры и немцы на десятки лет запасали. Я не все подсчитал, только то, что удалось. Более ста тысяч тонн пороху в бочках, несколько тысяч тонн сильных взрывчатых веществ: мелинита, аммонала, тола. Около миллиона штук снарядов и мин.
Аксенов машинально чертил на бумажке цифры. Никогда ему не приходилось сталкиваться с подобными расчетами:
— Гитлеровцы весь склад приготовили для взрыва, — продолжал инженер. — Вот их пульт управления. К нему сходится вся проводка.
Незнакомцев подошел к стене и открыл невидимую на сером фоне дверцу. В прямоугольной нише угрожающе поблескивали медные рубильники, внизу светлели две полевые подрывные машины, в изолирующих обмотках змеями извивались концы бикфордовых шнуров.
— Одно движение — и все взлетит в воздух, — осторожно прикрыв дверцу, продолжал Незнакомцев. — Только не успели гитлеровцы взорвать, не ожидали такой быстроты наступления. Мы захватили все целеньким и нетронутым. И охрана и начальник склада — все были пьяны.
Аксенов устало прислонился к стене, вслушиваясь в рассказ инженера.
— А сейчас как? — спросил он.
— Все, как было. Я проверил проводку. Исправна. Подрыв двумя способами: огневым — по шести бикфордовым шнурам, и электрическим — по четырем линиям. Это, конечно, перестраховка, на всякий случай. Вполне достаточно одной искорки.
— Да, штучка, — проговорил Аксенов и присел к столу. Сбивчивые, тревожные мысли вихрились в голове. Выезжая сюда, он не вполне представлял, что ожидает его впереди. Только теперь понял он, что означало выражение лиц и командующего, и члена Военного совета, и начальника штаба армии, когда они посылали его на это задание. Особенно живо вспомнил он лицо генерала Шелестова. Так смотрела на него мать, когда он шестнадцатилетним юношей из родной деревни уезжал в город. Так же смотрел начальник военного училища комбриг Виноградов, когда июльским утром 1939 года провожал группу своих воспитанников в район боев у реки Халхин-Гол.
— Ну, а наша задача? — спросил Незнакомцев и в упор посмотрел в глаза Аксенова.
— Изучить все на месте, подсчитать. А если прорвутся немцы, то…
— Понятно, — отозвался Незнакомцев.
Он положил свою руку на ладонь Аксенова и сдавил его пальцы. Они долго сидели, не глядя друг на друга.
— Пойдем посмотрим, что ли, — предложил инженер.
— Пойдем, — согласился Аксенов.
Майоры по той же витой лестнице поднялись наверх.
На землю спускалась предвечерняя тишина. Солнце низко повисло над горизонтом. Старые каштаны стряхнули снег и розовели тонкими ветвями. От берегов Дуная поднималась прозрачная, как светлая кисея, дымка, скрывая просторы равнинных полей.
— Подожди, — остановился Аксенов, — поглядим немного. Красота-то какая!
Он всей грудью вздохнул, откинул голову и потянулся, широко разбросав руки в стороны.
— Ах, Иосиф, — с хрустом сжал он плечи Незнакомцева, — жизнь-то какая вокруг!.. Ну, ладно, пойдем, — через несколько секунд устало проговорил он и поспешно зашагал к черному входу в подземелье.
Они долго ходили по тускло освещенным тоннелям и рассматривали нескончаемые ряды металлических бочек с порохом и деревянных ящиков с толом, аммоналом, мелинитом. Все лежало в образцовом порядке. Предостерегающие надписи, перекрест костей под белыми пустоглазыми черепами, мрачный полусвет подземелья холодком сжимали сердце.
Наступила ночь. С севера подул холодный ветер. Глухо шумели каштаны. В черной пустоте что-то свистело, стонало. На западе, совсем рядом, слышались звуки боя.
Аксенов споткнулся о что-то и больно ударился коленом о камень. Незнакомцев подхватил его подмышки и поставил на ноги.
— Не ушибся? — на ухо спросил он.
— Ничего. До свадьбы заживет, — отшутился Аксенов и, прихрамывая, заспешил по лестнице.
Яркий свет и уютная теплота комнаты обрадовали Аксенова. Он сбросил шинель и присел в кресло. Нужно было докладывать командованию армии, но он никак не мог сосредоточиться. Странная расслабленность разморила все тело. Хотелось закрыть глаза и ни о чем не думать. Он с трудом переборол сонливость и пододвинул к себе телефонный аппарат. Незнакомцев стоял рядом и молча смотрел на Аксенова. Он хотел что-то сказать, но, видимо, не решался.
Аксенов быстро дозвонился до генерала Воронкова и доложил ему о положении на складе. Генерал говорил негромко, и Аксенову казалось, что голос его дрожит.
— На фронте положение тяжелое. Немцы отчаянно рвутся вперед, ввели в бой свежие части. Более ста танков прорвались в господский двор Агг-сеантпетер. Если их конники не остановят, то они скоро будут там, где сейчас вы сидите. Так что будьте ко всему готовы. Как ты чувствуешь себя, Николай?
Генерал впервые назвал Аксенова по имени. Неприятно защипало в горле. Аксенов, стараясь говорить весело и бодро, ответил:
— Спасибо, товарищ генерал, хорошо.
— О людях подумайте, что в охране стоят. Ни одного лишнего человека не оставлять.
— Ясно, товарищ генерал.
— Ну, Коля, крепись. Настя звонила в отдел. Я говорил с ней. Привет тебе передает. И все наши тебе и Незнакомцеву передают самые лучшие пожелания. Орлов вот рядом со мной стоит и Крылов, только что вернулись, просят пожелать тебе удачи. От меня пожми руку Незнакомцеву. Я звонить буду, держать в курсе обстановки.
Аксенов положил трубку и повернулся к Незнакомцеву. Тот слышал весь разговор и молча дружески и просто улыбался. Черные глаза его были удивительно спокойны. Только левая бровь едва заметно вздрагивала.
— Сколько у нас на охране? — спросил Аксенов.
— Двадцать девять человек.
— Двадцать девять. А сколько можно оставить для крайней необходимости?
— Смотря в какой обстановке, — пожал плечами Незнакомцев. — Можно оставить трех человек: одного у главного входа и двух у центральных хранилищ. А можно и на всех восьми постах оставить по одному.
— А может, вообще никого не оставлять?
— Как это никого?
— А так, — порывисто встал Аксенов, — если уж рвать, то не тогда, когда немцы подойдут к складу, а когда полностью займут его и продвинутся несколько дальше.
Незнакомцев понял мысль Аксенова и склонил голову. Минуты две оба молчали.
— Проводка подземная, — первым заговорил Незнакомцев. — Если немцы ворвутся на склад, то им не меньше суток потребуется, чтоб найти наши заряды. А мы выключим аккумуляторы — и в хранилищах будет темно. Сунуться сразу они побоятся. А нас с тобой из этого убежища выкурить не так просто. Железобетонный щит и две стальные двери.
— Значит, у нас двадцать девять человек охраны, одна грузовая машина, две легковые и три шофера. Всего тридцать два человека, — подсчитал Аксенов, — на трех машинах уместятся.
— Вполне, — подтвердил Незнакомцев.
— Итак, решение принимаем такое, — не отрывая взгляда от бледного лица Незнакомцева, заговорил Аксенов. — Посты пока все оставляем. Остальных людей сосредоточиваем в одном помещении. Машины все время стоят с заведенными моторами. Как только немцы подходят к складу, охрану снимаем, сажаем на машины — и полный вперед, на Будапешт. Главное, чтобы взрывная волна не достала их. А сами закрываемся вот здесь и сидим до последней возможности. Когда уже нельзя будет, тогда… Согласен?
— Да, — ответил Незнакомцев, — только одна поправка. Двоим-то незачем. Ты должен уехать с охраной, а я останусь.
— Что? — с перекошенным лицом закричал Аксенов. — Что ты сказал? Повтори!
— Двоим погибать незачем. Я сапер. Взрыв — моя обязанность, — настойчиво проговорил Незнакомцев и шагнул к Аксенову.
— Да как ты смеешь предлагать мне такое? — стиснув кулаки, двинулся навстречу ему Аксенов. — Почему я не осмелился тебе предложить уехать? Почему?
Все, что долго копилось внутри у него, разрядилось вспышкой негодования. Он, сверкая глазами, наступал на инженера и, дрожа всем телом, исступленно выдыхал:
— Я уважаю тебя. Знаю, что ты никогда не уйдешь. А ты хочешь, чтоб я приказ командования не выполнил… хочешь… хочешь, чтоб я предателем, трусом стал…
— Подожди, Коля, — успокаивал его Незнакомцев.
— К чорту! Я не знал, что ты такой вот, — перебил его Аксенов. — В самую страшную минуту ты не поверил мне.
— Не шуми, — сквозь зубы выговорил Незнакомцев, — не устраивай истерики!
Они сошлись почти лицом к лицу, и оба стояли, не имея сил ни шагнуть вперед, ни отступить назад. Минуты две они жгли друг друга взглядами, каждый стараясь пересилить другого.
— Давай об этом больше не говорить, — первым опомнился Аксенов.
— Хорошо, — успокаиваясь, согласился Незнакомцев.
— У тебя есть вино? — спросил Аксенов.
— Конечно.
— Давай по стаканчику.
Незнакомцев раскрыл стол, достал бутылку и наполнил два стакана.
— За нашу дружбу, — предложил Аксенов.
— За дружбу до конца, — ответил Незнакомцев и, не отрываясь, выпил.
— Убери. Больше ни грамма, — кивнул Аксенов на бутылку.
— Ну, ладно, Коля, — хлопнул друга по плечу инженер, — ты поскучай маленько, а я пойду охрану подготовлю и отдам распоряжение шоферам.
— Только обязательно укажи, кто на какой машине поедет, и назначь старших. А то в суматохе перепутают все.
Аксенов проводил взглядом Незнакомцева и откинулся в кресле. Впервые в жизни почувствовал он, что спешить больше некуда. Все беспокойное, тревожное и суетливое было уже где-то в прошлом. Оставалось только одно — ждать и по возможности ни о чем не думать. Только ни о чем не думать. Так будет легче и спокойнее. Хорошо бы хоть ненадолго заснуть.
Он закрыл глаза и пытался, как в детстве, бездумьем нагнать сон. Тоненько зазвенело в ушах. Перед глазами замелькали светложелтые круги. Они то уменьшались, сливаясь в точку, то разрастались до громадных размеров и рассыпались на мелкие кружочки. В одном из кружков неясно обозначилось лицо Насти. Она смотрела прямо на него и что-то говорила. Голоса ее не было слышно, но губы шевелились.
Аксенов встряхнул головой и открыл глаза. До нетерпеливой дрожи захотелось увидеть Настю. Он пошарил в кармане и достал ее последнюю записку. Она тревожилась, просила беречь себя, и в каждой букве письма сквозили тоска и ожидание близкой встречи. Он только сейчас вспомнил, что у него нет ни одной ее фотографии. Как досадно! Давно собирался взять, да так и не взял. Хоть бы издали взглянуть. Как она перенесет известие о нем? Плакать, наверно, будет. Конечно, будет. Может, записку ей написать?
Он достал из планшета лист бумаги и тут же отложил его в сторону. Не стоит. Что скажешь в записке? Она и так все поймет. Рука машинально нащупала топографическую карту. Он достал ее и развернул. Вот горы, где ночью пробирался он с Букановым и радистами. А где теперь эта маленькая санитарка Варя? Сколько в ней душевной красоты! Вот высота, где похоронен Сергей Ермолаев. Сергей прожил всего двадцать один год. А он, Аксенов?.. Он двадцать восемь. Двадцать восемь! Как мало! Любил он в детстве в весеннем лесу спрашивать кукушку, сколько лет осталось ему прожить. И кукушки отвечали по-разному: одна насчитает что-то больше пятидесяти, а другая прокукует лениво раз семь-восемь — и замолкнет.
Взгляд продолжал скользить по карте. Длинный и широкий разлив озера Балатон. Летом, наверно, чудесно тут. Сады кругом, виноградники и невысокие сопки. Хорошо бы приехать сюда после войны вдвоем с Настей и побродить по берегам, на лодке покататься… Застывшая голубизна Дуная. И тут берега сплошь покрыты виноградниками… Вот село Дунапентеле. Ночевал он здесь однажды. А сейчас немцы там, по всему берегу. Только острова удерживают наши… Село Адонь. Здесь встречал он танковый полк и сопровождал его до города Секешфехервар… Десятки населенных пунктов с трудными названиями… И с каждым из них было связано какое-то воспоминание, каждый был чем-нибудь дорог и близок… А вот и сплюснутое, вытянутое на десять километров в длину, заросшее камышом озеро Веленце…
И вот это чистое, ничем не отмеченное место, где в подземелье сидит он сейчас. Через это место направлен главный удар гитлеровцев на Будапешт. Они пойдут здесь, обязательно пойдут. Передовые части уже почти достигли границ склада. Вот-вот они ворвутся и загрохочут над головой. Отсюда они нацелятся на Будапешт. Другого пути нег. Сотни танков устремятся через эту равнину. И если во-время взорвать эти тысячи тонн, то от танков и от всего, что окажется вблизи склада, останутся только воспоминания. Ведь это ж… Ведь это ж для противника страшнее десятка дивизий. Только один взрыв — и будет уничтожена почти вся наступающая группировка фашистских войск, сметена с лица земли за какие-то доли секунды. И все это будет сделано ценою жизни двух человек, двух майоров. Сколько советских людей спасет этот взрыв? Тысячи, пожалуй даже десятки тысяч. Ведь если фашистские танковые дивизии прорвутся в Будапешт и соединятся с окруженной группировкой, то вся гвардейская армия и соседняя армия сами могут оказаться в окружении. Бой придется вести без боеприпасов, без горючего, без продовольствия, а это гибель, И взрыв спасет все… Да, да!.. Спасет.
Аксенов встал и прошелся по комнате. Черным лаком поблескивал рояль. Он остановился около него, поднял крышку и тронул клавиши. Тоненький звон дрожанием наполнил комнату.
Аксенов придвинул стул и сел. Пальцы сами забегали по клавишам. Он не слышал, как вошел Незнакомцев и остановился у двери.
Незнакомцев стоял, не сводя взгляда с рассыпанных темнорусых волос и подвижных пальцев Аксенова. Струны выговаривали вначале что-то грустное и мечтательное, потом словно тихая рябь прошлась по уснувшему вечернему озеру, подул легкий ветерок, зашептались листья на деревьях, водная гладь всколыхнулась, зашуршали, набегая друг на друга, игривые волны, и загудело все, застонало в буйном наплыве вихря. Глухо шумит старый непролазный бор. Среди взвизгов ветра и скрежета сучьев раздаются испуганные вскрики птиц и на высокой ноте через все звуки проносится чей-то плач… И разом все смолкло. Только слышно, как хлещет прямой дождь. И дождь перестает. Еще перешептываются деревья, но по всему чувствуется, что вот-вот брызнет солнце и все заискрится вокруг, заблестит мокрыми красками и успокоении вздохнет земля.
Аксенов сложил руки на клавишах и замер…
— Коля, что играл ты? — склонился к нему Незнакомцев.
— Не знаю, — покачал головой Аксенов и медленно поднялся. Пальцы соскользнули с клавиатуры, и два звука — один высокий, протяжный, похожий на окончание соловьиной грели, другой басистый, медленный, как жужжание отягченного медом шмеля, — заиграли, перебивая друг друга. Победил все же высокий и протяжный. Когда уже гудение смолкло, в комнате чуть слышно звенел нежный пересвист. — Не знаю, ничего не знаю, — продолжал Аксенов и, схватив Незнакомцева, закружил его по комнате. Незнакомцев рванулся, обхватил его руками поперек туловища и усадил в кресло.
— Давай, Коля, допьем-ка бутылочку, а? — весело предложил инженер.
— Нет, — так же весело улыбаясь, покачал головой Аксенов, — нам с тобой нужны светлые головы, без единого пятнышка.
— Разрешите, товарищ гвардии майор? — раздался от двери знакомый голос.
— Заходи, Буканов, заходи, — шагнул Аксенов навстречу шоферу.
— Я доложить пришел, — переминался с ноги на ногу Буканов, — машину я проверил. Мотор — как часы! Восемьдесят километров в час без звука.
— Ну и что? — не понимая, спросил Аксенов.
— Так вот я и говорю: восемьдесят километров это так, шутя, а то и все сто жиманем.
— Замечательно. Очень хорошо. С такой скоростью и поедешь.
— Да поехать-то я, конечно, поеду, — мялся Буканов. — Только вот ведь это как… Ну… В общем мне в машину четырех человек сажают.
— Ну и правильно.
— Чего ж тут правильно-то? А вы где поедете? — выговорил, наконец, самое главное Буканов и, не мигая, посмотрел в лицо майора.
— А я на другой поеду, — ответил Аксенов и почувствовал, что под внимательным взглядом Буканова у него по всему телу пробегает дрожь.
— Знаете что, товарищ гвардии майор, — отчаянно взмахнув рукой, подступил Буканов к своему начальнику. — Вы думаете, мы ничего не знаем. Все, кто на складе, знают, что порешили вы. Солдаты сейчас все придут к вам. Это никуда не годится — одним вам оставаться.
Буканов был неузнаваем. Непреклонный и требовательный, стоял он перед майором навытяжку и сверлил его взглядом.
— Так что же хотят солдаты? — спросил Аксенов.
— Всем вместе выбираться отсюда. Вот, — отрубил шофер и тихо добавил: — Нельзя же, товарищ гвардии майор, жизнь же у вас впереди, война-то кончается.
Аксенов хотел было ответить, что он выполняет приказ и поступать по-другому не имеет права, но слова эти показались чужими и не совсем искренними. Он обнял Буканова и тихо заговорил:
— А ты думаешь, мне жить не хочется? Вот поэтому мы и решили так. Все вы должны уехать и уедете — и никаких разговоров. Передай это всем, и чтоб больше ни одного звука!
Последние слова он проговорил, стиснув руки Буканова. Шофер вполголоса спросил:
— Разрешите итти?
— Да. Иди.
Инженер, склонив голову, рассматривал что-то на полу. Аксенов долго всматривался в его волосы. Потом встревоженно спросил:
— Иосиф, а ты давно седой?
— Я? Седой? Ты что? — усмехнулся Незнакомцев.
— Да ты посмотри. У тебя же половина седых волос.
— Шутки, — отмахнулся инженер.
— Какие шутки! Всмотрись, — подал ему карманное зеркальце Аксенов.
Незнакомцев долго рассматривал голову, то поднося зеркало к самому лицу, то отдаляя его от себя и взъерошивая волосы.
— Вчера ничего не было, — вздохнул он и, бросив зеркало на стол, отмахнулся, — а впрочем, чепуха все.
Чуть слышно прозвонил телефон. Аксенов взял трубку и узнал голос генерала Воронкова.
— Да, я, товарищ генерал… Слушаю, я, Аксенов… Слушаюсь! Выезжаем. — Аксенов с трудом поднялся с кресла. Он сам не мог понять, что случилось, но чувствовал такую расслабленность, что с трудом прошел к двери и, опираясь на поручни, поднялся по лестнице. Только на морозном воздухе почувствовал он облегчение и огляделся вокруг. На западе не утихал бой. За ночь он приблизился, и теперь доносились пулеметные очереди.
Буканов, словно зная обо всем, подбежал к Аксенову:
— Едем, товарищ гвардии майор?
— Да. На твоей машине.
Незнакомцев закрыл комнату, поставил к ней часового и за себя оставил командира саперного взвода, приказав ему никого не подпускать к складу.
Буканов лихо подкатил к майорам и, высунувшись из кабины, что-то говорил подбежавшим к нему шоферам.
— Ну, давай свои восемьдесят километров, — сев в машину, сказал Аксенов шоферу.
— Хоть сто, если нужно, — весело ответил Буканов и плавно тронул автомобиль.
— Зачем же нас вызывают? — проговорил после молчания Незнакомцев. — Неужели остановили немцев?
Аксенов тоже все время думал об этом, но ответить на вопрос не мог.
Возле оперативного отдела штаба армии майоров встретил адъютант командующего и передал, что их ждут на заседание Военного совета.
Аксенов и Незнакомцев прошли в дом командующего. В кабинете сидели генерал армии, член Военного совета и начальник штаба.
По утомленным лицам генералов было заметно, что никто из них не спал. Когда Аксенов и Незнакомцев вошли в кабинет и доложили о своем прибытии, Алтаев рукой показал им на стулья и продолжил прерванный разговор:
— …Вот-вот оборона кавалерийского корпуса будет прорвана. Все наши силы и средства введены в бой. Сейчас положение могут спасти только крупные резервы, а их нет. Маршал Толбухин передал мне, что Ставка подчиняет фронту танковый и стрелковый корпуса. Но они еще на марше, далеко от нас. И даже когда они подойдут, их нужно переправить через Дунай, а это очень нелегко. Нам нужно продержаться сутки, максимум двое суток.
Шелестов усталыми глазами смотрел на командующего. Он был бледен. Седина изморозью подернула темные волосы. Он сжал руку в кулак и, резко отпустив пальцы, проговорил:
— Продержаться сутки! Только сутки. Но как? Чем? Откуда взять силы и средства?
— Снять с других участков мы ничего не можем, — не поднимая головы заговорил Дубравенко, — везде и так жиденько. А противник может ввести в бой новые дивизии. Сейчас у немцев на подходе одна пехотная дивизия, она перебрасывается из Италии. Возможно, уже подошли или на днях подойдут танковые дивизии из Арденнского выступа, с англо-американского фронта. Девятнадцатого января оттуда ушли последние дивизии шестой танковой армии «SS» и пятой танковой армии…
Дубравенко откинулся на спинку стула и смотрел то на командующего, то на члена Военного совета, и Аксенову казалось, что генерал-лейтенант и словами и взглядами пытается убедить их в чем-то самом важном и существенном.
— Так что ж все-таки нам делать? — перебил его Алтаев. — Сложить руки и ждать, когда немцы окончательно сомнут кавалерийский корпус и прорвутся в Будапешт?
Дубравенко молчал. Шелестов прищурил глаза. На лбу Алтаева сбежались две глубокие поперечные морщины.
— Если говорить вообще, то взрыв трофейного склада боеприпасов полностью спасет положение армии, — проговорил Дубравенко и облегченно вздохнул. Казалось, эту мысль высказал он после мучительной борьбы и теперь радуется, что наконец-то сказано самое страшное.
— Взрыв склада… Взрыв склада… — повторял Алтаев, — взрыв склада. Докладывайте, что на складе, — кивнул он Аксенову и Незнакомцеву.
Майоры одновременно встали и также одновременно подошли к столу.
— Противник к складу еще не подошел, но бой идет на подступах, — первым заговорил Аксенов, — если задержать его на флангах и отвести наши войска, то он рванется, втянется на территорию склада и в прилегающие к нему районы, и это будет концом наступающей немецкой группировки. Взрыв уничтожит всю ее живую силу и технику.
— А какова будет сила взрыва? — спросил Алтаев Незнакомцева.
— История вряд ли знает взрыв такого огромного количества сильных взрывчатых веществ, — спокойно ответил инженер. — По предварительным подсчетам, в радиусе более десяти километров будет уничтожено все живое, в радиусе более пятнадцати километров будет уничтожено все, что находится на поверхности, не укрыто под землей и в крепких сооружениях. Общий радиус действия взрыва примерно двадцать — двадцать пять километров.
Командующий, член Военного совета и начальник штаба склонились над картой. Генерал армии циркулем обводил круги вокруг склада.
— Следовательно, от наших войск нужно освобождать территорию сорок на сорок километров, — проговорил Дубравенко.
— Да, не меньше, — согласился Алтаев, — но это все пустяки. Технически это можно сделать за одну ночь, даже днем отведем войска — и немцы ничего не поймут. Еще лучше днем. Мы им продемонстрируем такое бегство, что Гитлер сразу объявит о нашем разгроме.
Круг за кругом обводил он на карте жирные красные линии. Они отсекали от места, где расположен склад, равнину, дороги, населенные пункты.
— Пишите, Аксенов.
Он диктовал названия населенных пунктов, перечислял, сколько в них домов, и смотрел, как под карандашом Аксенова вырастает столбик цифр.
— Да, ужасная картина, ужасная, — пододвинув к себе книгу, заговорил он, — взрывом будет уничтожено пятьдесят населенных пунктов, из них двадцать четыре крупных, с числом домов от двух до трех тысяч… Всего будет сметено с лица земли более пятидесяти тысяч жилых домов.
Он резко отодвинул от себя книгу и встал. Стул с грохотом упал на пол. Шелестов запустил пальцы обеих рук в волосы и ладонями сдавливал голову. Темные, с проседью волосы текли меж пальцев и рассыпались, искрясь, словно наэлектризованные. Дубравенко оперся руками о стол, хотел, видимо, привстать, но какая-то тяжесть снова придавливала его к стулу.
Алтаев почти бегом прошел из угла в угол, дотянулся рукой до портсигара, схватил папиросу и, ломая спички, долго не мог прикурить. Аксенов щелкнул зажигалкой, поднес ему вздрагивающий огонек, но командующий сердито махнул рукой, смял папиросу и бросил ее в пепельницу.
— Даже если по три человека живет в доме, это сто пятьдесят тысяч мирных жителей, — попрежнему сдавливая руками голову, говорил Шелестов, — а если по четыре, то двести тысяч, и большинство дети, женщины, старики…
Аксенов вздрогнул. Никогда он еще не видел таким члена Военного совета. Только сейчас до Аксенова дошел весь ужас последствий страшного взрыва. Вместе с вражеской группировкой погибнут двести тысяч мирных жителей. Перед глазами мелькали лица мадьярских женщин, стариков, детей. Никто из них не знает сейчас, какая опасность нависла над ними.
Алтаев прислонился спиной к стене и закрыл глаза. Лицо его было безжизненно. Крупные градины пота покрыли лоб Дубравенко и катились по щекам.
— Нет, — резко стукнув кулаком по столу, вскочил на ноги Шелестов, — нет! Этого мы не можем допустить!
— Да, — встрепенулся Алтаев, — это не выход из положения.
Дубравенко устало улыбнулся и облегченно вздохнул.
— Товарищ командующий, — заговорил он, — тяжелое сейчас положение под городом Секешфехервар, очень тяжелое, но мы оттуда можем снять часть сил. Верно, оборона будет очень сильно ослаблена. Если нажмут немцы, они возьмут город. Но потеря этого пункта — это еще не поражение. Кутузов отдал Москву, но спас русскую армию. Мы потеряем город Секешфехервар, но не пустим гитлеровцев к Будапешту и спасем десятки тысяч мирных жителей.
— А что конкретно вы предлагаете снять от города? — подойдя к Дубравенко, спросил Алтаев.
— За счет расширения полос обороны остальных дивизий снять дивизию Горбачева, дивизию Василенко, часть артиллерии и все танки.
— Да, — вздохнул Шелестов, — город придется оставить. Только оставлять не без боя. Использовать каждый дом, каждое строение и хотя бы на сутки застопорить наступление.
Алтаев долго стоял, склонясь над картой.
— Приказ, немедленно приказ Горбачеву и Василенко, — проговорил он, — сейчас же начать вывод частей из-под города и занимать оборону позади кавалерийского корпуса. Просить будем командующего фронтом поддержать защитников города сосредоточенными ударами авиации. Организовывайте, Константин Николаевич, обеспечение марша и занятие обороны этими дивизиями, а я сейчас сам передам приказ командирам корпусов и дивизий… А за склад, товарищ Незнакомцев, отвечаете вы, — приказал Алтаев инженеру, — усилить охрану. Я начальнику тыла прикажу выделить автобат и рабочий батальон. Все дороги, все поля перекрыть фугасами. Если немцы прорвутся к складу, завалить все входы и увести охрану. Всю проводку, подготовленную для взрыва, немедленно уничтожить.
Дубравенко позвал Аксенова с собой. Они вышли из кабинета командующего. Генерал-лейтенант на крыльце пошатнулся, оперся о перила и минуты две стоял, тяжело дыша. Аксенов увидел, что он смертельно устал и еле держится на ногах. Ему было странно видеть этого человека ослабевшим. Уж если пошатнулся Дубравенко, значит напряжение достигло наивысшего предела.
IX
Из кузова автомашины, похожего на миниатюрный домик с двумя маленькими окошками и беззаботно дымившей железной трубой, один за другим выскочили два радиста. Один — высокий, без шапки, с расстегнутым воротом гимнастерки — припустился бежать по склону. Из-под его ног взметались клубы снежной пыли. Второй, пробежав несколько метров, хватал горстями снег, крутил снежки и бросал в убегающего товарища. Веснушчатое лицо его разгорелось. Светлые глаза задорно блестели. Он замахнулся очередным снежком, но бросить не успел, замер с поднятой рукой. По извилистой дорожке шла девушка в длинной шинели и с санитарной сумкой за спиной. Из-под шапки-ушанки рассыпались светлые волосы.
— Варя! — закричал радист и, утопая по колено в снегу, целиной побежал к девушке.
Она остановилась и с улыбкой смотрела на парня.
— Варя, здравствуйте, — подбежал к ней радист, протягивая руку, — здравствуйте. Вы что, не узнаете? Помните, в горах вас встретили? Помните?
— Да, помню, — радостно ответила девушка, — вы радист, да? Торбин, а зовут, кажется, Федя.
— Правильно, — сжал ее руку Торбин. — А вы Иволгина Варя. Я все время думал о вас. Вы тогда рассердились на меня за немца раненого, правда?
— Нет, что вы, ничуть. А знаете, жив он, тот самый немец, в госпитале лежит. Уже на костылях ходить понемногу начинает. Так радуется, так радуется! Я два раза забегала к нему. Веселый, смеется, на скрипке играет. Он же скрипач оказался. А вы как, Федя, радистом все?
— Да. Теперь на мощной рации, — показал он на автомобиль с домиком, — вот она, красавица!
— А где майор Аксенов?
— Не видел ни разу. Рассказывали ребята из нашей роты: опять его на какое-то специальное задание послали.
Они смолкли и неторопливо шли по дороге. Сад кончился. С высоты открывался залитый солнцем простор. Вдалеке виднелись тонкие шпили двух церквей села Ловашберень. Слева, подернутый дымкой, призрачно темнел лесок. Внизу рассыпались сады и домики села Вереб. С юга изредка доносились глухие взрывы.
— Весна скоро, — проговорила Варя, — смотрите, снег-то какой, уже опаленный.
— Нет, до весны еще далеко, — возразил Торбин, — январь только, а там февраль, март. Много еще будет и вьюг и метелей.
Он осторожно взял Варину руку. Девушка смотрела на него большими, искристыми глазами и улыбалась. Она сдвинула шапку на затылок, и колечки светлых волос рассыпались по лбу.
— Скажите, Варя, — встряхнул головой Торбин, — вы часто мечтаете о конце войны?
— Всегда, всегда, — прошептала девушка и, будто спохватившись, торопливо добавила: — Когда время есть.
— А у вас много работы?
— Очень! Бои-то какие, беспрерывно раненых привозят.
— Знаете, Варя, — несмело заговорил Торбин, — а я почему-то все время о вас думал. Видел только один раз, а запомнил, кажется, на всю жизнь.
— И я о вас думала, — ответила Варя и, густо покраснев, опустила голову.
Они долго шли молча по дороге.
— Федя, смотрите, — вскрикнула Варя, — облака-то какие страшные!
Громоздясь по небу, с запада наплывали черные острова. Солнце утонуло в свинцовых тучах. Лучи его, пробиваясь вверх, багровыми полосами разрезали вершинные облака, но, не имея сил пронизать их, кровянили нижние слои.
— Ветер, наверно, сильный будет, — ответил Торбин, — такой закат всегда к ветру. Вы не тревожьтесь…
— Нет, что вы, я не тревожусь, — словно разгоняя сон, встряхнулась девушка. — Это просто так я, засмотрелась…
Она грустно улыбнулась и пошла по дорожке вниз. Торбин поддерживал ее за локоть и полушопотом говорил:
— После войны поедем куда-нибудь в Крым или на Кавказ и будем по горам бродить, в море купаться, загорать на песке.
— И учиться, работать, — в тон ему отвечала девушка. Она повернула лицо, и в глазах ее Федя увидел радостное ожидание будущего. Девичьи глаза, темноголубые, с большими зрачками, светились счастьем. Он вспомнил, как сурово смотрели на него эти же глаза, когда замахнулся он на раненого немца. Тогда в них было столько презрения к нему, что он даже в мыслях не мог себе представить такой вот ласкающий свет.
— Давайте писать друг другу, а? — поборов смущение, предложил Федя. — А когда близко будем, встречаться, согласны?
— Хорошо, — после минутного колебания нерешительно ответила Варя.
Они обменялись адресами, и Варя побежала к домам, где располагался передовой пункт армейского госпиталя. Она неслась, словно подхватываемая ветром, и вполголоса напевала сама не зная какую песню.
У палисадника она остановилась и оглянулась. Федя стоял на пригорке и махал ей рукой. Ветер трепал полы его шинели.
Весь вечер она безумолку смеялась, подавая раненым то лекарство, то воду, то градусник, то поправляя сбившиеся простыни и одеяла.
В десятом часу приехал начальник госпиталя и приказал всех раненых эвакуировать в тыл. Варя вместе с санитарками перетаскивала раненых в машины, укладывала их, закутывала одеялами и, захлопотавшись, забыла поужинать. Оставалось перевезти всего несколько человек, и она думала, что как только отправит последнего раненого, побежит на кухню и выпросит у поваров что-нибудь покушать. У них всегда есть запас.
Где-то за деревней все время нарастал гул артиллерии. Несколько снарядов разорвалось недалеко от госпиталя. Ничего в этом особенного не было, и Варя на разрывы не обратила внимания. Сейчас должна подойти машина, и уедут последние раненые. Варя присела на крылечко и всмотрелась в темноту. В деревне происходило что-то тревожное. Она знала, что здесь стоит штаб корпуса и до фронта довольно далеко. Между домов суетливо бегали люди. Совсем рядом выстрелила пушка. Вслед за ней затрещали автоматные очереди.
— Немцы прорвались! — прокричал кто-то в саду.
Варя вскочила и бросилась в дом. На опустевших постелях лежали всего два человека: старший лейтенант с перебитыми ногами и сержант, раненный в голову и в плечо.
Старший лейтенант силился привстать и заглянуть в окно.
— Не волнуйтесь, товарищ старший лейтенант, — подошла она к постели офицера. — Сейчас подойдет машина, и вы поедете.
— Что там за шум, сестричка? Вроде очереди автоматные, — обессиленно валясь на подушку, прохрипел старший лейтенант.
— Да нет, что вы, обычный, как это вы называете, огневой налет. Несколько снарядов разорвалось.
Она не договорила. Маленький домик задрожал от грохота танков. Задребезжали выбитые стекла. Варя бросилась к двери, но навстречу ей прыгнули три фашиста. Они что-то кричали, водя перед собой дулами автоматов. На руках у них Варя увидела белые повязки с перекрещенными костями под изображением черепов. Первый подскочил к Варе и рванул ее за руку. Она не устояла на ногах и плашмя упала на пол под ноги фашиста. Он ткнул ее ногой в бок, перешагнул через нее. Варя увидела, как фашисты прикладами добивали старшего лейтенанта и сержанта. Она рванулась к ним, но удар по голове отбросил ее в угол комнаты.
Опомнилась Варя в каком-то черном, прокопченном помещении. Два факела пылали под потолком. Они освещали стены и каких-то людей, лежащих на полу. У дальней стены пылал костер. Раскаленные угли выглядывали из-под языков пламени. Посредине помещения стояло что-то похожее на стол, только без ножек. На нем виднелась остроносая наковальня и торчали лапы клещей.
«Кузница», — догадалась Варя. Кузница была недалеко от госпиталя, и Варя, пробегая мимо нее, видела старенького мадьяра, колотившего молотком по раскаленному железу.
«Что это? Почему столько людей в кузнице… факелы?» — мгновенно пронеслось в голове Вари. Она с трудом разомкнула распухшие веки и не сразу поняла, что творилось там, у этого стола с наковальней. Только всмотревшись, она увидела четырех человек с белыми повязками на руках и между ними пятого, совсем голого, окровавленного. Двое держали его, а третий совал ему в лицо добела раскаленное железо.
Варя в ужасе закрыла глаза и поползла в дальний полутемный угол. Стоны смолкли, и что-то мягкое упало на пол. Варя добралась до стены и обессиленно прислонилась к ней. Все ее тело дрожало. В голове метались обрывки неясных мыслей. Она хотела отползти дальше, но холодные руки схватили ее за ноги и потащили назад.
— Встать! — прогремел над ее ухом злобный голос.
Варя рванулась и, почувствовав, что ноги свободны, вскочила. Перед ней стоял здоровенный мужчина в зеленом фашистском кителе с большими карманами на груди и черепом на белой повязке рукава.
— Ты кто? — водочным перегаром дохнул он на Варю.
Она хотела ответить, что санитарка, но голос не слушался и опаленные губы никак нельзя было разомкнуть.
— А, большевичка! — гаркнул ее истязатель, и ослепительное пламя метнулось перед глазами.
От страшной боли в щеке она навзничь упала на пол. С ней что-то делали, но она чувствовала только палящий жар во всем лице. Опять кровавый туман наплыл на глаза. Все завертелось и потонуло в огненном бездонье.
Очнулась Варя на мокром полу. Все тело раздирала нестерпимая боль. Она хотела закричать, но рот не раскрывался. Горло обжигал горячий воздух. Варя хотела передохнуть, но почувствовала, что губ у нее совсем нет. Она дотянулась рукой до лица и вместо подбородка нащупала голые кости и мясо. Варя положила голову на локоть и раскрыла левый глаз. У наковальни опять стояли четыре страшные фигуры. К ним подвели невысокого парня в разорванной гимнастерке. Солдатский полевой погон с эмблемой связиста свисал с плеча. Он повернул голову в сторону Вари, и она сразу узнала Федю. Ей показалось, что он видит ее и сейчас что-то скажет.
— Ты кто? — раздался голос.
— Гвардии рядовой Советской Армии, — ответил Федя и откинул голову.
Варя всеми силами хотела оторвать от него взгляд, но сделать этого не могла. Боль сразу отхлынула.
— Где ты служил и чем занимался? — гремел угрожающий голос.
— Бил фашистскую сволочь и спасал свою Родину, — спокойно ответил Федя, и Варе показалось, что он сразу стал высоким, широкоплечим и стройным.
— А-а-а! — взревел гитлеровец и схватил Федю за руку. Варя едва заметила, как взмахнул молот и Федя, содрогнувшись, выпрямился. Половины правой руки у него не было. Из оборванного рукава лилась кровь.
— Бей, гадина, бей! Всех не убьешь, — прохрипел Федя. Зубатые железные клещи вцепились ему в грудь.
Варя закрыла глаза и, задыхаясь, хватала воздух. Голоса Феди больше не слышалось. Кто-то новый кричал в руках истязателей.
«Где же Федя?» — опомнилась Варя. Она с трудом приподняла голову и увидела очень близко от себя вздрагивающую спину. Пересиливая боль, она поползла. Человек обернулся.
— Варя, ты!
— Я, Федя, я, милый, — старалась она проговорить, но звуков не было. Только друг о друга металлически стучали зубы.
Федя пополз ей навстречу. Теперь Варя увидела, что и второй руки у Феди нет. Она поняла, что он истекает кровью и доживает последние минуты. Варя добралась рукой до его волос, и они, мягкие, шелковистые, защекотали ее пальцы.
Голова его опять безвольно опустилась на пол. Варя нащупала пульс на виске. Он едва бился, а через несколько минут исчез совсем. Рыдания потрясли девушку.
Она долго лежала на мокром от крови полу. Жизнь покидала ее истерзанное тело. Последним усилием она приподняла голову и сквозь красный туман взглянула на истязателей.
Варя почувствовала, как ненависть и гнев заполняют все ее существо. Хотелось рвануться, встать и зубами вцепиться в эти проклятые морды. Она приподнялась на локте, пыталась оттолкнуться ногами, но боль свалила ее назад. Она снова открыла глаза и у двери увидела невысокого немца. У него на груди висел автомат. Это, видимо, был часовой. Пухлое лицо его рыжело щетиной. Мясистый подбородок вздрагивал. Варя всмотрелась в его лицо. Он взглядом встретился с ней, и губы его плаксиво скривились, глаза заблестели, и он несколько секунд смотрел на нее бессмысленно, потом вдруг отвернулся к двери. Плечи его судорожно вздрагивали. Торчавшее правее перекошенного плеча дуло автомата вихлялось из стороны в сторону, словно порыв ветра раскачивал его.
Варя закрыла глаза, и слезы поползли по ее лицу, солоноватой влагой растравляя раны.
X
В эту ночь в штабе гвардейской армии было особенно тревожно. Перед фронтом армии зашевелилось все, зашумело, пришло в движение, словно долго не имевшая сил вспучить надтреснутые льды река вдруг получила с верховий приток мутной воды и разом затрещала, заскрипела, задвигала льдами, готовая ринуться вниз и в буйном разливе раздавить все, исковеркать, покрыть своими волнами.
Из всех штабов поступали донесения о передвижениях противника. Гудели танки и самоходные орудия, по траншеям перебегали пехотинцы, вспышки фар рвали серую темноту ночного снегопада. Войска противника пришли в движение и перед правым флангом гвардейской армии.
Офицеры оперативники и разведчики сидели около радиостанций, в аппаратных телеграфов, до хрипоты говорили по телефонам. На картах генерала Воронкова и полковника Фролова синели значки вражеских рот, батальонов, полков и дивизий. Они стрелками наползали к зубчатому извиву нашей обороны, густо заполняя все пространство от города Бичке до озера Веленце и от озера до берегов Дуная. На восточном берегу озера, там, где сходятся две шоссейные дороги и прямой магистралью уходят на Будапешт, множество стрелок и цифр слилось в сплошную угрожающую синеву.
В артиллерийском штабе подсчитывали количество стволов и снарядов, распределяли их по гектарам участков и метрам рубежей огня, покрывая красными кружками, овалами и прямоугольниками вражеское расположение. Глядя на карты артиллеристов, можно было подумать, что стоит только подать сигнал, открыть огонь артиллерии и минометов, как от скоплений вражеских войск и техники останутся только обгорелые скелеты машин и бесформенные груды трупов — все сметет сила огня «бога войны». Однако командующий артиллерией армии генерал-лейтенант Цыбенко был мрачен. Он сердито говорил офицерам своего штаба:
— Ну что вы намалювали? Снаряды-то где, снаряды? Чем будете давать этот огонь?
Снарядов попрежнему не хватало. Центральные переправы через Дунай в городе Дунафельдвар и в селе Дунапентеле пришлось разрушить. В этих районах немцы вышли на дунайский берег. Паромная переправа в селе Эрчи работала с перебоями. Она находилась под непрерывным огнем артиллерии противника. Оставался единственный понтонный мост в пригороде Будапешта — Чепель. Но и он был до предела загружен: из резерва Верховного Главнокомандования шли танковый и стрелковый корпусы. Опять пришлось перебрасывать боеприпасы через Дунай на самолетах.
Цыбенко выкраивал снаряды и мины только для поражения наиболее важных целей. Он исчеркал карту и, отодвинув ее, потребовал вторую. Целей было слишком много, и все они казались важными, наиболее опасными.
Штаб генерала Тяжева трудился над решением, казалось, неразрешимых вопросов. Нужны были танки и самоходные орудия, а их было недостаточно. Генерал Тяжев теребил ремонтников, требуя быстрее восстанавливать подбитые машины, считал и вновь пересчитывал уцелевшие танки и самоходки, раздумывал, где и как использовать их. Все было нужно, все находилось в бою. Ни одной свободной машины. Прорвется где-нибудь противник — и маневрировать нечем. Теперь Тяжев счет вел не подразделениями и частями, а отдельными машинами.
— Владимир Николаевич, — подозвал он своего начальника штаба, — с правого фланга снимем две тридцатьчетверки и три самоходки, от города Секешфехервар — пять танков и одну самоходку. Сейчас доложу командарму, и оттянем их на берег озера Веленце. А вы не слезайте с ремонтников, к утру чтоб девять машин были вот здесь, у нас на КП.
В доме армейского инженера обезлюдело. Только, скучая, сидели машинистка и чертежница. То одна, то другая из них неизменно отвечали на бесконечные звонки:
— Никого нет… Все уехали на передовую… На передовую, говорю, уехали все… Ну, товарищ, что же я могу сделать? Скоро должны вернуться.
А инженеры в это время вязли по колено в снегу на полях и обочинах дорог, устанавливали противотанковые мины и фугасы, преграждая пути фашистским танкам и пехоте. Саперов не хватало. Каждому приходилось работать за троих-четверых. На постановку мин и фугасов были брошены все офицеры — полковые, дивизионные и корпусные инженеры, офицеры инженерных штабов, даже тыловики саперных подразделений и частей.
В политотделе армии беспрерывно хлопали двери, возле домов гудели машины, фыркали подседланные лошади, выхлопывали на малом газу мотоциклы. Полковники, подполковники, майоры, капитаны и лейтенанты, политотдельцы корпусов и дивизий, парторги и комсорги, редакторы газет и корреспонденты заходили к полковнику Смирнову, к инструкторам и инспекторам политотдела, получали указания и спешили на передовую. Часам к двенадцати ночи в политотделе стихло. Сиротливо стояли пишущие машинки, посыльные сметали груды окурков. А в ротах, эскадронах и батареях к этому времени заканчивались партийные и комсомольские собрания, в траншеях и окопах беседовали с солдатами политотдельцы армии, корпусов, дивизий.
В редакции армейской газеты заканчивался набор очередного номера. «Бей фашистские танки!», «Сильнее, гвардеец, удар по врагу!», «Сталинградским ударом круши вражескую броню!» — на сырых оттисках чернели призывные заголовки.
Редактор газеты — смуглолицый грузин Меликадзе — передал пачку оттисков наборщику и крикнул в соседнюю комнату:
— Где наш поэт? Когда же будут его стихи?
— Еще не приехал с передовой, — отвечали ему.
— Почему? Без стихов номер не пойдет, не пойдет!
— Готовы, — вбежал взволнованный, с ног до головы засыпанный снегом майор.
— Давай, дорогой, давай немедленно, — бросился к майору Меликадзе, — как воздух, твои стихи нужны.
Суета и тревожное напряжение царили и в других отделах полевого управления гвардейской армии. Все ждали усиления ударов противника и готовились к отражению этих ударов.
Командующий, член Военного совета и начальник штаба армии сидели вместе. К ним стекались сведения обо всем, что происходило на фронте, в соединениях и частях, в тылах и в полевом управлении армии. Казалось, просторный восьмиоконный кабинет не в силах вместить всего, что каждый час вливалось сюда. Три молчаливых генерала, выслушивая доклады и донесения, без слов понимали друг друга. Дубравенко изредка выходил из кабинета и быстро возвращался. Шелестов вполголоса говорил по телефону с заместителями командиров корпусов и дивизий по политической части, с начальниками политотделов, с командующими родами войск армии.
Алтаев почти ни с кем не разговаривал. Его склоненная над картой голова блестела в лучах электрической лампочки, локти уперлись в стол, широкие плечи устало клонились вниз. Он, не изменяя положения, выслушивал доклады Дубравенко, отрывистым «хорошо» соглашался с его предложениями или так же отрывисто — одним-двумя словами — возражал.
До двенадцати часов ночи никаких изменений на фронте не произошло. Из корпусов и дивизий докладывали, что все войска находятся в боевой готовности и ждут ударов противника. Южнее села Барачка разведчики захватили в плен солдата танковой дивизии «SS» «Мертвая голова». Он показал, что в эту ночь, в ночь на 26 января, назначен решительный штурм обороны гвардейцев и фашистские танковые дивизии прорвутся в Будапешт. Во всей полосе армии немецкие самолеты разбросали листовки. Одну из них принесли в кабинет командующего. На четвертушке плотной бумаги крупным шрифтом было напечатано: «Бойцы гвардейской армии! Вы окружены, отходите в район Бичке, Торбадь. Толбухин».
— Поторопились, господа Гитлер и Гилле, — прочитав листовку, встал Алтаев, — слишком поторопились. Терпенья не хватило.
Он скомкал листовку и отшвырнул ее в угол.
— Наши солдаты не поверят этой брехне. Они похлестче читали и в более страшное время — и не верили! А нам с вами, товарищи, подумать нужно, очень серьезно подумать, — обратился он к члену Военного совета и начальнику штаба, — почему они эти листовки разбросали именно сейчас, ночью?
Он шагнул от стола и подошел к Шелестову.
— Вчера не бросали. И позавчера не бросали, а сегодня рассеяли по всем полям.
— Замысел их ясен, — заговорил Шелестов, — внести хоть какую-то панику в наши войска, деморализовать их в самую решительную минуту и ударить. Но все это чепуха! Самое главное в этой листовке — направление отхода.
— Вот именно, — резко взмахнул рукой Алтаев, — направление отхода.
— Расчищают пути для своей ударной группировки, — сказал Дубравенко и усмехнулся, — глупо, но внимания заслуживает. «Отходите на Бичке и Торбадь». Это как раз наш правый фланг. Значит, они думают расчистить себе дорогу на нашем левом фланге.
— Безусловно, — подтвердил Алтаев, — безусловно. Между Дунаем и озером Веленце. И главным образом по основной магистрали от озера Веленце на Будапешт. Весь шум перед правым флангом и центром армии — это демонстрация, попытка обмануть нас, сковать наши силы и ослабить наш левый фланг. Только ничего из этого у них не выйдет, ничего!
Алтаев отошел от Шелестова, присел на стул и взглянул на карту.
— Все танки и самоходные орудия с правого фланга и центра снять, — тихим, спокойным голосом продолжал он, — снять и подтянуть к левому флангу. Вторые эшелоны и резервы правофланговых и центральных дивизий подготовить к переброске на левый фланг. Сюда же собрать всю армейскую артиллерийскую группу и все истребительно-противотанковые артиллерийские полки. Мы оголим свой правый фланг и центр, но зато разгромим противника на главном направлении.
— Без риска ничего не бывает, — поддержал Шелестов, — а этот риск вполне разумный и крайне необходимый.
— Только быстрее, быстрее перебрасывать все. Противник вот-вот перейдет в наступление.
— Прорвать оборону сразу ему не удастся, — возразил Дубравенко, — пусть даже на очень узком участке сосредоточит все силы и средства. Для преодоления нашей обороны потребуется время.
— Это верно, — согласился Алтаев, — только всегда нужно рассчитывать на худшее. Это не перестраховка, а здравый смысл и бальзам от зазнайства, от самодовольства и самоуспокоенности.
Алтаев вызвал к себе начальников родов войск армии, посоветовался с ними, что целесообразнее перебросить на левый фланг, и приказал отдавать распоряжения войскам.
Через полчаса из штабов корпусов и дивизий потекли доклады о начале движения танков, самоходных орудий, пехоты и артиллерии в сторону левого фланга армии. Для встречи их выехали офицеры управления армии.
Был уже второй час ночи. Движение и шум в расположении противника не прекращались, но вражеская артиллерия попрежнему молчала. По всему фронту взлетали в воздух осветительные ракеты, трещали автоматные и пулеметные очереди, отбивая попытки разведчиков проникнуть к вражескому переднему краю. Главные силы и той и другой стороны огня не вели.
Теперь Алтаев только ждал, где обозначится главный удар противника. Член Военного совета и начальник штаба армии ушли к себе. Генерал армии остался один. Он снял китель, достал из чемодана новый, с орденами и медалями, и надел его. В кабинете сразу стало торжественно и нарядно. Только на столе в беспорядке лежали карандаши и рассыпанные листки бумаги. Алтаев собрал их и положил в папку. На столе осталась карта оперативной обстановки и один-единственный красно-синий карандаш.
«Откроют фашисты огонь или начнут без артиллерийской подготовки? — раздумывал Алтаев. — Если будет артподготовка, то это даже лучше. В темноте большого вреда не наделает. Зато это нас предупредит и можно будет разгадать, где главный удар».
— Начали, — поспешно войдя в кабинет, проговорил Дубравенко.
— Где? — неторопливо спросил Алтаев.
— По шоссейной магистрали восточнее озера Веленце, на очень узком участке, всего около четырех километров.
— Ясно! Какое сейчас положение?
— Пока идет бой за передний край. Артиллерия противника большую часть огня сосредоточила по району Барачка, Мартон-Вашар, Пазманд, Вереб. Бьют термитными снарядами, поджигают села.
— Понятно. Освещают дорогу своим танкам и пехоте, пытаются дезорганизовать наши войска.
— Товарищ командующий, — войдя без доклада, заговорил Воронков, — две группы танков противника прорвались через шоссе, обошли господский двор Петтенд и устремились в направлении Вереб и Валь. В господском дворе в окружении ведет бой один наш батальон мотопехоты. С ним восемь танков, шесть самоходок и артиллерийский дивизион. Мои офицеры держат связь с командиром батальона по радио. Он докладывает, что правее от него прошло семьдесят шесть танков и сорок три бронетранспортера, левее скрылись в темноте тридцать девять танков и более девяноста крытых автомашин с пехотой и пушками на прицепе. За этими колоннами беспрерывно идут танки, бронетранспортеры, автомашины.
— Так! Прорвался! — выслушав доклад, сердито проговорил Алтаев. — Прорвался все-таки! Теперь он устремится на север. Нужно преградить ему дорогу. Один батальон, два танка и артиллерийскую батарею выдвинуть и занять высоты и поселок. Полк из второго эшелона дивизии Панченко выдвинуть в Пазманд. Усилить его тремя танками. Две батареи ИПТАПа расположить вот здесь.
Он отрывисто диктовал, кого и куда поставить. Генералы Дубравенко и Воронков торопливо записывали. Это было совсем необычное решение командующего. Командующий армией, в руках которого находились крупные массы войск и боевой техники, всегда в своих решениях оперировал корпусами, дивизиями, бригадами и в редких случаях полками. Сейчас Алтаев со всего своего фронта собирал по одному танку, пушке, по роте и батальону, учитывая отдельную боевую единицу и стягивая все к участку прорыва. На узком фронте прорвались большие массы живой силы и боевой техники противника. Они распространялись к северу по равнине, явно намереваясь по кратчайшему направлению окружить главные силы гвардейской армии и затем рвануться на Будапешт. И со всех сторон, откуда только можно, Алтаев сосредоточивал к участку вражеского прорыва танки, самоходки, стрелковые роты и батальоны, артиллерийские батареи. Странная картина в эту ночь вырисовывалась на его карте. Синие стрелы колонн прорвавшегося противника жирными змеями неудержимо ползли на север. С запада, с северо-запада, с севера, с северо-востока и с востока к ним маленькими красными значками торопились советские танки, самоходки, пехота, артиллерия. Вот по шоссе на северном берегу озера Веленце движутся одна стрелковая рота и два танка. Они подошли к узкоколейной железной дороге и развернулись фронтом на восток. Перед ними появились синие значки противника. Он остановился. Сейчас там вспыхнул бой.
А на равнине в пяти километрах восточнее, на берегу реки Валь развернулся стрелковый батальон. И перед ним остановился противник. Эти два небольших подразделения образовали ворота коридора, по которому идут и идут войска противника. Левее роты по высотам у насыпей узкоколейной железной дороги занимают позиции две самоходки, стрелковая рота, четыре пушки, еще одна стрелковая рота, три танка, артиллерийский дивизион, стрелковый батальон. Западная стена коридора растет все время к северу, отрезая пути противника в тылы армии. Напротив нее, восточнее, по берегу узенькой речушки Валь, ширится живая стена коридора, преграждая путь противнику на Будапешт.
А с запада, с севера и с востока спешат новые подразделения, танки, артиллерия. У села Вереб развернулись два дивизиона тяжелых гаубиц и открыли огонь. Под их прикрытием к окраинам села спешит стрелковый батальон майора Бахарева. На берег реки Валь выходят два истребительно-противотанковых артиллерийских полка, дивизионы реактивных минометов, минометный полк, батареи дальнобойных пушек. Узкий коридор вытянулся на девять километров в длину. Внутри него противник продолжает еще двигаться на север, но теперь он уже вынужден отвлекать силы и вправо, против восточной стены гвардейцев, и влево, против западной стены. Его наступление все время замедляется. Со всех сторон бьют советские пушки, танки и минометы. Хоть и жиденькие стены прикрывают стороны коридора, но разберись-ка в ночной темноте… Куда ни сунься — везде стреляют. Тишина только на севере, между селами Валь и Вереб. Но и здесь, едва успели передовые части противника подойти к дороге и двум маленьким рощам, заговорили советские пушки. Это стали на огневые позиции два полка из резерва командующего гвардейской армией. Теперь замкнута и вершина коридора.
К рассвету продвижение противника на всем фронте было остановлено. В обороне гвардейцев образовался мешок шириной до шести и длиной около двенадцати километров.
Алтаев беспрерывно говорил по телефону, выслушивал доклады и отдавал распоряжения. От второго телефона не отходили начальник штаба и член Военного совета. Телефон адъютанта занял начальник оперативного отдела. Тут же в прихожей сидели радисты, выстукивая ключами. То и дело за окном гудели броневики, урчали автомашины, с хлопаньем потрескивали мотоциклы. Сейчас некогда было раздумывать и подолгу обсуждать. Секунды решали успех. В кабинет командующего приходили, торопливо докладывали и, получив указания, уходили командующие родами войск, начальники отделов, офицеры-оперативники, разведчики, шифровальщики.
— Противник остановлен, — громко проговорил Алтаев и отдернул штору на окне.
Утренний свет рванулся в кабинет. Все на мгновение потускнело, стены и потолок кутались в сизом табачном дыму. Электрическая лампочка сиротливо желтела, не имея сил бороться с неудержимым потоком света.
— Адъютант, — крикнул Алтаев, — раскрывай все окна! Утро разгорается.
XI
Ночью роту подняли по тревоге. Настя и Тоня поспешно оделись. По фронтовой привычке все было рядом: на табуретке сложены юбки и гимнастерки, на полу вещевые мешки, шинели и ушанки, около них валенки и носки, у изголовья постелей винтовки, противогазы, подсумки и лопаты.
Они выбежали на улицу. Взад и вперед сновали люди. Со всех сторон доносилось фырканье моторов.
Рота строилась. Старший лейтенант Рахматулин бегал от взвода к взводу, проверял людей.
Из-за дома броской рысью выехал кто-то на черной лошади.
— Готовы, Рахматулин? — по голосу узнала Настя Бахарева.
— Так точно, товарищ гвардии майор, — ответил ротный, — все люди налицо.
— Шагом марш, — скомандовал Бахарев и поскакал к другим подразделениям.
— А я все как-то не привыкну называть его майором, — шептала Тоня, — вчера два раза капитаном назвала. Неудобно так.
Настя ничего не ответила и молча поспешила за строем.
Ночью группа Бахарева вернулась с задания. Трех разведчиков принесли на плащ-палатках. Весь день Бахарев был в штабе армии, а к вечеру возвратился в новеньких майорских погонах, построил роту и объявил, что он назначен командиром батальона.
После обеда Настя, проходя по коридору, случайно открыла дверь в комнату Бахарева. Он склонился у стола над грудой каких-то бумаг. На полу темнел раскрытый чемодан.
— Простите, товарищ гвардии майор! — Настя хотела захлопнуть дверь.
— Заходите, Настя, заходите, — пригласил Бахарев.
— Дверью ошиблась, простите, — густо покраснела девушка, не зная, то ли уходить назад, то ли войти в комнату.
— Посидите немножко, — Бахарев провел ее к столу, — возможно, не скоро увидимся. А мы с вами как-никак полтора года вместе воевали.
Настя, все еще смущенная, села.
Она взглянула на стол. То, что казалось грудой бумаг, были цветные открытки и репродукции с картин.
«Откуда все это?» — подумала Настя.
— Мое богатство, — словоохотливо говорил Бахарев, — всю жизнь собираю, самое любимое с собой вожу. И теперь вот — все уцелело, а я беспокоился, пропали, думал.
Она взглянула на его лицо. Оно сейчас было каким-то необычным, мечтательным.
— Вот взгляните, — достал он с самого низу небольшую, размером в две открытки, картину, — Маковский, «Игра в бабки».
Настя увидела ветхий деревенский сарай и перед ним пятерых босоногих мальчиков. Один стоял в центре и прицеливался биткой. Старый, видимо отцовский, картуз он нахлобучил на головенку. Из-под него торчали рыжеватые пряди волос и бойко щурились едва заметные глаза. Вся его невысокая фигурка дышала уверенностью и силой. Он еще даже не размахнулся, но Настя была уверена, что мальчик обязательно попадет в рядок желтоватых бабок и выбьет больше всех.
— А знаете, он чем-то на вас похож, — указывая на мальчика, проговорила Настя.
— Ну, что вы, у меня никогда не было столько самоуверенности. Я скорее вот на этого похож, — показал он на мальчика, который сидел на земле и, опустив косматую головку, с горечью рассматривал бабку, — все проиграл, последняя бабка осталась.
— Ничуть вы на него не похожи, — качнула головой Настя.
— Возможно, — вздыхая, ответил Бахарев. — Мне кажется, что в каждом из этих пяти мальчиков есть что-то мое, родное, близкое, и не только в мальчиках, а даже вот в хворостинах на соломе, в наседке с цыплятами, в брошенном колесе, в синеве неба я чувствую такое близкое, от чего хочется без конца смотреть на эту картину… Я вырос в городе, а эта деревенская сценка родная мне. Вы помните, как Лев Николаевич говорил об искусстве?
— Нет, — призналась Настя.
— Он говорил, что искусство — это способность одного человека с помощью слов, красок, звуков передать свои мысли и чувства другому человеку, другим людям. Вот взгляните на другое, — вытащил он репродукцию с картины Шишкина «Рожь», — ржаное поле волнуется, бронзовеет под солнцем. А через поле вьется дорожка и скрывается вдали. Я не знаю, куда ведет эта дорога, но мне хочется пойти по ней и шагать, шагать без конца. Кругом раздолье, поля, леса, трепетное марево со всех сторон… А когда мне станет грустно, тяжело, я смотрю вот на эту засохшую сосну. Видите, какая стоит она одинокая, печальная, безжизненная. Доломает ветер последние сучья, источит червь когда-то сочный ствол, и упадет сосенка. Тогда у меня сразу появляется мысль: почему же, почему не устояла? Значит, не смогла бороться. И тогда мне хочется быть, вот как эта рядом, — гордой, сильной, с пышными ветвями, крепким стволом. А чтобы быть такой, нужно уметь устоять. И я всеми силами стремлюсь крепко стоять на ногах и, как бы ни оборачивалась жизнь, найти твердую опору и прямо шагать и шагать вперед…
Бахарев доставал одну картинку за другой и все говорил и говорил. Его рыжеватые волосы мелкими колечками вились на висках, привздернутый нос рябили редкие морщинки, на щеках круглились ямочки.
— Вечер уже, — взглянув в окно, сожалеюще закончил он, — простите, Настенька, собираться нужно. Встретимся как-нибудь в Москве, в Третьяковку сходим.
До сумерек ходила Настя, вспоминая все, что видела у Бахарева. Она вглядывалась в деревья, в постройки, в заснеженные поля. Ей вдруг захотелось без конца ходить и рассматривать все, изучать, отыскивать новые признаки каждого предмета…
И вот теперь он, Бахарев, командует их батальоном…
Под десятками ног хрустел снег. Подразделения шли ускоренным шагом. Невдалеке слышалась учащенная стрельба. Вчера вечером бой шел совсем далеко, а сейчас уже почти рядом. В строю метались обрывки разговоров. Кто-то рассказывал, что фашистские танки ночью прорвали нашу оборону, напали на штаб корпуса и подошли к штабу армии.
Настю опять охватила тревога за Аксенова. Если фашисты добрались до штаба армии, то Николай наверняка сейчас в бою. Может, лежит он в снегу и отстреливается от наседающего противника, а может… В штабе армии, наверное, и окопов нет…
— Ты что шепчешь? — спросила Тоня.
— Кто? Я? — удивленно обернулась к ней Настя.
— Идешь и нашептываешь, как во сне, Может, вздремнула и сон хороший увидела? — шаловливо трясла ее за рукав Тоня.
Настя хотела улыбнуться, но только горько поморщилась. Рота шла почти бегом, поднимаясь на пологую высоту. Командира роты вызвал Бахарев.
— Приказ, наверно, получит, — проговорила Тоня. — Неужели опять обороняться?
— А ты что думала — наступать? — сердито ответил кто-то из первых рядов. — Он, изверг, опять прорвался. И когда только угомонится!
Колонна перевалила гребень высоты, и впереди в сумрачном небе взлетали вверх радужные шары осветительных ракет, вереницей угасающих светлячков проносились очереди трассирующих пуль, бледно вспыхивали огнем и через мгновение гасли бесконечные взрывы. Где-то в лощине лежало село Вереб. К нему и спешил батальон Бахарева.
Прошли мимо позиций тяжелой артиллерии. Пушки стояли прямо на снегу, ни одного окопчика вокруг них не было. Видимо, они были спешно переброшены откуда-то и с ходу вступили в бой. Батареи стреляли беспрерывно.
Вернулся командир роты и бегом повел подразделения в лощину. На взгорке остановились. Ротный вызвал командиров взводов. Минут через пять подразделения рассыпались в цепь и начали оборудовать позиции. Сержант Косенко со своим отделением ушел в разведку.
Девушки, как и обычно, начали оборудовать парный окоп. Мерзлая земля не поддавалась лопатам. Мелкой крошкой отскакивала она, черня насыпанный из снега бруствер. Настя и Тоня сбросили шинели. Девушки уже устали, но окоп едва углубился на четверть. Впереди всполошно затрещали автоматные очереди. Засвистели рикошетные пули. Все, прекратив работу, вжались в землю.
— Продолжать работу, не прекращать, — пробегая вдоль позиции, вполголоса сказал командир роты, — зарыться в землю, рассвет скоро.
К роте, отстреливаясь, отходило отделение Косенко. К ним бросился старший лейтенант Рахматулин. Вскоре он вернулся и вновь забегал по позиции, на ходу объясняя солдатам:
— Противник в селе Вереб. Впереди в боевом охранении отделение Косенко. Продолжать работу! Внезапно противник не нападет.
Настя ожесточенно рубила землю. Лопата, ударяясь о камни, высекала искры.
— А знаешь, с нами был радист Степа Гулевой, — прерывистым топотом рассказывала Тоня, — вот парень! Смелый — я таких еще не видела — и душевный. Мы с ним все время вместе пробирались. Когда рванулись в последнюю ночь через канал, а вода-то как огненная. Прыгнула я, а лед тоненький, хрустит, и, знаешь, все внутри зашлось. Хватаю воздух, а вздохнуть не могу. Застыла вся и рта не открою. Так и думала — конец мне, застыну ледышкой в этом проклятом канале… Степа выручил. Как ребенка на руках выволок — и сразу флягу. Разжал зубы, — сама-то я ни за что бы не открыла, — и водки влил. Глотнула я, все зажглось внутри и враз тепло стало. Ну, а тут до своих добрались. В медсанбат нас, спиртом растирать, чаем поить. Отошли вот, ничего, и не заболел никто. А Степу теперь в штаб армии перевели. Ох, когда же я теперь увижу его?
— Отобьем немцев и вместе поедем, — улыбаясь, проговорила Настя, — теперь нам с тобой вдвоем-то лучше ездить.
— Вдвоем… — горестно возразила Тоня. — Твой-то майор, чин большой, а Степа ефрейтор только, радист. Я приеду, а его не отпустят.
— А мы к генералу Воронкову, — успокаивала ее Настя, — он поможет.
Окоп незаметно углублялся. Теперь уже можно было стрелять сидя и, согнувшись, укрыться от танков.
— Товарищ Прохорова, — прервал их работу командир роты, — ваша задача: снайперским огнем сковать противника. Бить по наиболее важным целям. Главным образом по офицерам и по расчетам орудий, пулеметов. Если в атаку пойдут танки, бить по смотровым щелям. Выбору позиций учить вас нечего.
Настя взглянула в его большескулое, с узкими прорезами черных маслянистых глаз лицо.
— Слушаюсь, товарищ гвардии старший лейтенант. Теперь нас опять двое. Все сделаем. Противнику ходу не дадим.
Рахматулин посидел немного возле окопа девушек и ушел. Настя и Тоня забросали бруствер снегом и прикрылись белыми маскировочными халатами.
Утренний мрак рассеивался. Неторопливо поднималось солнце. До села было совсем недалеко. Крайние дома отчетливо вырисовывались наличниками и маленькими, словно приклеенными, крылечками. На улицах и в надворных садах было пустынно.
Командир роты отвел отделение Косенко назад, и теперь между ротной позицией и селом была только пустынная снеговая равнина.
— Ну, Тонечка, начнем изучать, — проговорила Настя, — мой сектор от высокого дерева до углового дома, твой от дома до перекрестка.
Девушки приникли к окулярам снайперских прицелов. В воздухе все время с бульканием проносились снаряды. Немецкая артиллерия и минометы отвечали вяло, стреляя куда-то за позицию роты.
Настя долго всматривалась в прицел. На светлом кругу объектива вырисовывались дома, деревья, пустынные улицы. Предмет за предметом осматривала она и нигде ничего живого не могла отыскать. Ей уже начало казаться, что противника в селе вообще нет и рота напрасно лежит в снегу. Можно было рвануться и овладеть крайними домами, а может, и всем селом. Всегда в моменты, когда долго не удавалось обнаружить противника, Настю охватывало нетерпение. Она знала, что нужно побороть себя, заставить до боли в глазах всматриваться в прицел и по едва уловимым признакам суметь обнаружить замаскированного врага.
Она смотрела и смотрела, подолгу задерживаясь на каждом предмете. Руки и ноги заныли. Мороз проникал через шинель, телогрейку и ватные брюки. Пальцы онемели. Внезапно у дальнего сарая мелькнуло что-то темное. Настя всмотрелась, выжидая, не покажется ли еще что-нибудь. Оптический прицел к самым глазам придвинул угол сарая, заросли тоненьких, очевидно вишневых, деревьев и кучу чего-то белого. Внизу кучи, у самой поверхности снега, темнела узенькая полоса. Это показалось Насте подозрительным. Она подогнала прицел, добившись наибольшей яркости. Одно за другим в серой куче обозначались небольшие пятна, а в самом верху виднелся темный кружок. Это, без сомнения, был ствол пушки. На такой высоте могла быть только танковая пушка. Теперь было ясно, что у сарая таился замаскированный танк. Настя начала внимательно рассматривать весь сад и среди деревьев обнаружила еще несколько таких же серых куч. Оказывается, весь сад был заполнен танками.
— Тоня, — шепнула она подруге, — смотри в сад… У отдельного сарая замаскированы танки. Будем бить по экипажам.
Объектив прицела мог захватить только два танка, и на них Настя сосредоточила все свое внимание. Долго у танков не было ни одного движения. Начали возникать тревожные сомнения: неужели ошиблась, может, это совсем не танки, а вороха засыпанного снегом хвороста? Наконец на верху одной кучи что-то мелькнуло, и Настя увидела фигуру человека, по грудь высунувшегося из люка. Он настороженно смотрел в сторону наших позиций.
— Видишь? — шепнула Настя подруге.
— Вижу, — ответила Тоня.
Настя медленно подводила перекрестье прицела под темный силуэт. Смутно вырисовывалось бледнокоричневое лицо и бинокль перед глазами. Это, видимо, был офицер. Он наблюдал за нашими позициями. Все внимание и силы Насти ушли на прицеливание. Она не чувствовала теперь ни холода, ни тесноты окопа и только видела черного танкиста в перекресте прицела.
«Только не промахнуться, — мелькнула беспокойная мысль, — с первого выстрела, иначе спугнешь».
Она нажала на спусковой крючок. Винтовка дрогнула, серая куча и фигура танкиста метнулись из объектива.
— Готов! — вскрикнула Тоня. — Наповал!
Настя отыскала знакомый силуэт замаскированного танка и всмотрелась. Танкист свалился на башню, разбросав руками маскировавшие танк ветки. Теперь видна была вся верхняя часть танка. Голова и грудь убитого танкиста закрывали половину желтого креста на башне. К тому, кто только что сник под пулей Насти, подбежали от сарая три человека. Они вскочили на танк.
— Наблюдай, стреляю, — прошептала Тоня.
От ее выстрела свалился второй фашист. Настя торопливо перезарядила винтовку и сбила третьего. Выстрел Тони уложил четвертого. Вся маскировка с фашистского танка слетела, и оголенно чернел крутолобый «тигр». К трупам никто не подбегал. Настя увидела, что из-за сарая выглядывает несколько человек, но стрелять по ним не решилась, боясь не во-время демаскировать себя. Нужно было отыскивать более важные цели. Из домов одновременно застрочило несколько пулеметов. Пули засвистели над позицией роты. В ответ заговорили и наши пулеметы. Над окраиной деревни закипел огневой бой. Из домов стреляли автоматы и пулеметы. То, что казалось раньше пустынным и безлюдным, было сплошь забито вражескими солдатами. Визжа, проносились над головой и с треском рвались мины. Все чаще и чаще с той и другой стороны ахали батареи. Село Вереб потонуло в волнистом дыму.
Настя и Тоня беспрерывно стреляли. Целей теперь было слишком много. Под пулями снайперов смолкли два пулемета, рухнул в снег высокий офицер с белой повязкой на рукаве, замерли на башнях два танкиста.
Тоню охватил азарт. Она, не слыша близких разрывов снарядов и мин, прижалась к прикладу щекой и пулю за пулей посылала туда, где суматошились вражеские солдаты и офицеры.
— Комбат приказал приготовиться к атаке! — от солдата к солдату пронеслась команда.
— Комбат приказал приготовиться к атаке! — крикнула Тоня лежавшим левее и снова приникла к прицелу.
Фашисты тоже, готовились к атаке. Возле углового дома вокруг толстого низенького офицера столпилось человек десять. Толстяк кричал что-то, размахивая руками. Красное лицо его показалось на перекрестье прицела. Тоня выстрелила. Толстяк рванулся и медленно сел на снег. Все от него разбежались. Он руками хватался за воздух и пытался привстать. Вторая пуля свалила его на землю. Рука с белой повязкой откинулась за спину. На белизне рукава Тоня увидела черный череп и берцовые кости под ним. Это был опознавательный знак эсесовцев.
Наша артиллерия и минометы открыли огонь по крайним домам.
— В атаку, вперед! — донесся голос командира роты.
XII
Аксенов с вечера ушел на радиостанцию. Проводная связь часто рвалась. Почти все офицеры оперативного отдела находились в войсках, и Аксенову одному пришлось держать связь со всеми штабами корпусов. Он принимал донесения, торопливо раскодировывал, наносил обстановку на карту и бежал к генералу Воронкову. Едва успевал он вернуться с доклада, как из радиоузла звонили, что его ждут для приема новых донесений.
В час ночи вернулись из дивизии майоры Толкачев и Котиков. Втроем работать стало легче. Аксенов вырвал несколько минут и наспех поужинал. Донесения из корпусов поступали все тревожнее и тревожнее. Вот-вот начнется наступление противника. В три часа ночи порвалась связь с корпусом генерал-лейтенанта Фомина. Аксенову с трудом удалось поймать армейскую рацию, которая находилась при штабе корпуса. Радист ответил на вызов и поспешно доложил, что в село ворвались танки. Радисты ведут бой. На этом разговор оборвался. Только через сорок две минуты Аксенову удалось связаться с начальником штаба корпуса полковником Палагиным. Он работал на какой-то маломощной радиостанции, и Аксенов чудом напал на его волну. Слышимость была очень плохая, и удалось уловить только обрывки слов. По этим обрывкам Аксенов установил, что штаб корпуса отошел в лес и восстанавливает связь с дивизиями.
С записями переговоров Аксенов побежал к генералу Воронкову. Едва вышел он из сада, где располагался армейский радиоузел, как на окраине села послышался шум танкового мотора. Аксенов знал, что в этом районе никаких советских танков нет и появиться им неоткуда. Это могли быть только фашистские танки. Зенитчики уже изготовили орудия для стрельбы по наземным целям. Командир батареи звонил командиру полка, но тот сам ничего не знал и обещал немедленно приехать на батарею. Танк шумел уже совсем рядом.
— Есть ракеты? — крикнул Аксенов зенитчицам.
— Есть, — ответил командир батареи, и над окраиной села взвились одна за другой четыре осветительные ракеты. На снегу огромным жуком чернел танк. На башне отчетливо вырисовывался белый крест.
Не успел Аксенов обернуться к командиру батареи, как раздались выстрелы двух крайних пушек. Танк резко повернулся и в бледном свете догоравших ракет пополз назад. Взлетели еще две ракеты, но танк уже растаял в снежном тумане.
Аксенов поспешил в штаб. Его окликнул генерал Дубравенко.
— Танк немецкий, товарищ генерал, — задыхаясь, проговорил Аксенов, — зенитчики наши выстрелили, он развернулся и удрал.
— Только один? — спросил Дубравенко.
— Показался один, а позади не видно.
— Заходите ко мне, докладывайте, что на фронте, — словно забыв о танке, сказал Дубравенко и неторопливо поднялся на крыльцо.
— Где гранаты, что я приказал подготовить? — войдя в дом, спросил он молоденького лейтенанта.
— В комнате шоферов, — ответил адъютант.
— Два ящика в мой кабинет, ящик сюда в прихожую. И коменданта штаба ко мне.
Аксенов доложил о переговорах с Палагиным. Дубравенко отметил на карте, где сейчас находится штаб Фомина, и по телефону приказал начальнику связи дать провод к новому месту штаба.
Адъютант один за другим внес ящики гранат. Дубравенко вынул четыре штуки, вставил в них запалы и рядком уложил на полу около своего кресла.
— Ну, что еще, Аксенов? — улыбаясь, спросил он.
— Пока все, товарищ генерал, — недоуменно пожал плечами Аксенов.
— Вот и хорошо, — продолжал улыбаться генерал и тихо, словно невзначай, добавил: — Вы только не говорите больше никому о танках. Доложите Воронкову — и больше ни звука!
Выходя из кабинета, Аксенов столкнулся с комендантом штаба майором Меховым.
— Не знаешь, зачем вызывает меня? — встревоженно спросил он.
— Зайдешь — узнаешь, — отмахнулся Аксенов и заспешил к генералу Воронкову.
В оперативном отделе уже знали о попытке вражеских танков прорваться к штабу армии. Оперативный дежурный майор Гаврилов раздавал посыльным, ординарцам и шоферам противотанковые гранаты.
— Только никому в другие отделы ни звука, — предупредил он Аксенова, — генерал Воронков приказал не создавать паники и послал Можаева проверить готовность отделов к отражению нападения противника. Тебе сколько дать гранат?
— У меня свои всегда в запасе, — отказался Аксенов. — Ты лучше вот Соню вооружи как следует, а то Сережи Дивеева нет, одной-то ей страшновато, — добавил он, с улыбкой кивнув на присевшую возле Гаврилова машинистку.
— А что? Я умею бросать, — гордо ответила Соня, — даже противотанковые. Сережа научил. Это ты никому свои тайны не рассказываешь…
В кабинете Воронкова сидели командир зенитного полка и командир роты охраны. Генерал указывал им по схеме командного пункта, как лучше организовать отражение нападения противника. Он прервал разговор, выслушал Аксенова и приказал ему немедленно итти отдыхать, передав все дела майору Гаврилову.
В последнее время генерал Воронков особенно тщательно следил за отдыхом офицеров. В своей рабочей книге он пунктуально отмечал, кто, когда и сколько спал, и при малейшем возражении офицера на приказание отдыхать сердито ругался. Аксенов знал это и ушел в комнату отдыха. Он, не раздеваясь, прилег на постель, но сразу заснуть не мог. Опять тревожные думы о Насте беспокоили его. Ночью полк, где она служила, подняли по тревоге, и сейчас он побатальонно занимает оборону. Настя где-то около села Вереб. А там как раз прорвались фашистские танки…
— Вставай, Николай, вставай, генерал Воронков вызывает, — разбудил его майор Гаврилов.
Воронков встретил Аксенова возле своего дома и приказал ехать с начальником штаба армии. Аксенов хотел спросить, какая на него возлагается задача, но генерал легонько толкнул его в плечо, показывая в конец улицы.
— Беги, видишь — в машину садятся.
— Садись быстрее! — крикнул из машины Дубравенко. — Поехали.
В машине сидел, кроме начальника штаба, командующий артиллерией генерал-лейтенант Цыбенко. Позади шла вторая автомашина. В ней Аксенов разглядел генерала Тяжева, полковника Маликова и генерал-майора авиации Смирнова.
Ехали все самые близкие помощники командарма. Видимо, предстояла очень серьезная работа. Дубравенко и Цыбенко молчали. Изредка начальник штаба поторапливал шофера. В селе Шошкут генералов встретил высокий танкист в черном комбинезоне. Только серая каракулевая папаха и мужественное лицо с черными суровыми глазами выдавали в нем крупного военачальника.
— Командир танкового корпуса генерал-лейтенант Ахметов, — коротко представился он, пожимая руки генералам.
— Как дела? — изучающе всматриваясь в лицо танкиста, спросил Дубравенко.
— Корпус укомплектован полностью, боеприпасов и горючего достаточно. Все переправлено через Дунай и сосредоточено в районе Торбадь, Шошкут, Будафок, — на ходу говорил он, вводя генералов в дом, — четыре месяца в резерве Ставки находились. А сейчас к вам…
— Bo-время, как раз во-время, — отметил Дубравенко, — положение у нас сложное, очень сложное. Вы знакомы с обстановкой?
— В общих чертах, — ответил танкист.
— Эта ночь была у нас самая тяжелая, — разложил Дубравенко карту на столе, — противник на узком участке прорвал нашу оборону и вклинился на одиннадцать километров. Создался своеобразный мешок, ширина его пять-шесть километров. В этот мешок противник втянул четыре танковые дивизии, два отдельных батальона «королевских тигров», бригаду самоходных орудий «фердинанд», много артиллерии и особенно шестиствольных минометов. За ночь мы собрали все, что могли, и остановили его. Но сплошной обороны у нас нет. В основном стоит артиллерия. Мало пехоты и танков. Сейчас положение спасет только решительный, смелый контрудар.
— Да, — хмуря густые брови, задумчиво проговорил Ахметов, — обстановочка.
Он долго изучал карту, сутуля широкие плечи. Щеголеватый комбинезон не мог скрыть его довольно преклонного возраста.
— Ваш контрудар будет поддерживать вся армейская артиллерия и вся авиация фронта, — вновь заговорил Дубравенко, — дорога каждая секунда. Если противник узнает о вашем подходе и успеет хоть сколько-нибудь закрепиться, то успеха не будет.
— Да… Я немедленно, сейчас же наношу контрудар, — резко проговорил Ахметов, — только прошу сковать противника на всем остальном фронте.
— Командарм приказал, как только вы начнете движение, всем войскам армии на всем фронте перейти в наступление, — ответил Дубравенко, — никаких перегруппировок не будет. Наступать оттуда, кто где стоит. Главное — сковать противника и создать у него панику.
— Хорошо, — проговорил Ахметов, — давайте быстренько спланируем все.
Он чертил на карте маршруты бригад. Генералы Цыбенко и Смирнов намечали, куда будут бить артиллерия и авиация, обеспечивая наступление танкового корпуса. Инженер показывал, какие лучше использовать маршруты, распределял саперные подразделения, знакомил с особенностями местности. Офицеры штаба корпуса и Аксенов тут же записывали решения, оформляли их в боевые распоряжения и приказы и передавали в бригады, полки, дивизионы и батальоны. Изредка вспыхивали споры, но тут вмешивался Дубравенко, выносил окончательное решение. Работа успешно подходила к концу.
— А как вы думаете, — подписав последний приказ, повернулся Ахметов к Дубравенко, — какую бы вам поставили оценку, если бы до войны на экзаменах в академии вы сказали, что контрудар танкового корпуса можно организовать за двадцать семь минут?
— Круглый нуль с двумя минусами, — засмеялся Тяжев.
— И обязательно красным карандашом, — улыбаясь, добавил Дубравенко.
— Я прошу вас, Сергей Семенович, — подошел Ахметов к генералу Смирнову, — сейчас же, немедленно подымайте авиацию. Бомбардировщикам и штурмовикам громить противника, истребителям прикрыть мои колонны. Не дай боже, прихватит где-нибудь авиация противника, на любом ручье застопорит все движение, а перед нами их целых три.
— Через десять-пятнадцать минут — все в воздухе, — ответил Смирнов, — истребители будут над вашим корпусом патрулировать весь день.
— А вас попрошу, — обернулся Ахметов к командующему артиллерией, — поскорее дать огонь и немедленно артиллерийских наблюдателей в головные танки. Пусть оттуда управляют огнем.
— Я уже всех вызвал. Сейчас только укажу, кто кого будет поддерживать, — ответил Цыбенко.
— Ну, товарищи, по местам и за дело, — сказал Дубравенко, — главное — точность и быстрота действий. А вы, — подозвал он Аксенова, — поедете с головной бригадой и оттуда будете докладывать о ходе боя.
Бригада, в которую был направлен Аксенов, оказалась в этом же селе Шошкут, а командир бригады прибыл к командиру корпуса для уточнения задачи. Он вышел из кабинета комкора и, увидев Аксенова, спросил:
— Вы из штаба армии?
— Так точно.
— Подполковник Рыбаков. Поехали, что ли? Готовы?
Рыбаков был невысокий, почти квадратный в груди, рыжеватый человек лет тридцати пяти, с простодушным круглым лицом и серыми спокойными глазами. Он шагал вразвалку, не глядя на Аксенова, и окающим говорком неторопливо рассказывал:
— Понимаете, маршрут не изучен, дороги не отрекогносцированы, атакуй вслепую. Просил комкора хоть полчаса дать на разведку — бранится, атакуй, говорит, без дебатов и чтоб через полчаса Вереб занял.
— Обстановка такая, — проговорил Аксенов.
— Обстановка, обстановка, — ворчал Рыбаков, — а вот напорюсь на оборону противотанковую, тогда мне секим башка.
Когда подъехали к бригаде, моторы танков уже ревели. Они заполнили всю улицу села, скрываясь за домами и надворными постройками.
Рыбаков собрал командиров батальонов, уточнил боевые задачи и приказал:
— Действовать без задержек. Все решает быстрота и смелость. Тут некогда оглядываться направо и налево. Железку доотказа — и полный вперед.
К нему подошли четыре артиллерийских офицера. Это были артиллерийские наблюдатели от частей, которые поддерживали бригаду. Он указал им, в каких танках ехать, и предупредил:
— Только своих не побейте. А то ведь рванемся — и не поймешь, где свои, где немцы.
Над селом одна за другой появилось восемь пар истребителей. Они шли на разных высотах, описывая большие круги. Генерал Смирнов прислал к Рыбакову авиационного наводчика. Он приехал на грузовой машине с большим кузовом, над которым раскачивался длинный штырь антенны.
— Как же ты, милок, на такой громадине за танками-то поспеешь? — укоризненно качал головой Рыбаков.
— Неплохо, если вы мне танк дадите, — проговорил щеголеватый майор-авиатор.
— А где же я вам танков наберусь? Артиллеристам — танки, вам — танки, а сам-то я в атаку с чем пойду?
Он поворчал немного, но все же приказал выделить авиатору радийный танк и просил не удаляться от него.
— Вам, майор, тоже, небось, танк надо? — улыбаясь, обернулся он к Аксенову.
— Все равно, я и пешком пойду, — отшутился Аксенов.
— Вот добрая душа. Один только ничего не просит. А то всем подавай танки — и баста. Поедем со мной на бронетранспортере. Неприятно немножко: открыто все и броня от пуль только, зато обзор — куда ни погляди, все как на ладони.
Батальоны выстраивались в колонну. Вперед вышла разведка. Одна за другой над селом прошли на запад эскадрильи бомбардировщиков и штурмовиков.
— Ну, работа началась. Поехали, — махнул рукой Рыбаков и двинулся в голове бригады. С ним в кузове бронетранспортера сидели полковник — командир армейской артиллерийской подгруппы, майор-сапер и начальник штаба бригады.
Танки шли нескончаемой вереницей, один за другим выползая из-за домов. Из открытых люков, переговариваясь флажками, выглядывали командиры.
Впереди показалось село, где размещался штаб армии. Бронетранспортер на полном ходу проскочил крайние строения и громыхал по извилистой улице. За ним, не отставая, шли танки. На пригорке у самой дороги Аксенов увидел командующего и члена Военного совета. Генерал армии стоял без шинели. Правой рукой он махал танкистам. Лицо его разгорелось, глаза молодо блестели. Член Военного совета, как на параде, приложил руку к папахе и откинул голову.
— Начальство? — на ухо Аксенову прокричал Рыбаков.
— Да. Командующий и член Военного совета.
— Это хорошо, когда начальство большое провожает, на душе светлее как-то.
Из-за окраины села сквозь шум моторов доносились артиллерийская стрельба и гулкие взрывы. На высоте, в садах, Рыбакова остановил командир разведывательного дозора.
— Столкнулись с противником, товарищ подполковник, — доложил он, — в роще танки и артиллерия. Пехоты не видно. За гребнем высоты наши стрелки видели танки.
Рыбаков выпрыгнул из бронетранспортера и приказал вызвать командиров батальонов. Он прошел с разведчиком на опушку сада. Отсюда просматривалась вся местность. Впереди в наспех отрытых окопах виднелась реденькая цепь наших стрелков. Позади них из села стреляли две пушечные батареи. Справа темнела небольшая роща. В ней-то и затаились танки, о которых докладывал разведчик. От рощи к югу пласталась унылая заснеженная равнина, где-то далеко на западе выглядывали шпили двух церквей. Там было село Вереб.
— Где авиатор? — крикнул Рыбаков.
— Здесь, товарищ подполковник, — подбежал стройный майор.
— Ну, танк тебе пока не потребуется. Подгоняй-ко свою халабулу, и отсюда будем командовать. Все как на ладони.
— Машина моя рядом, — ответил летчик, — сейчас подойдут три эскадрильи штурмовиков.
— Вот это как раз то, что надо, — улыбнулся Рыбаков, — прочеши-ко всю эту рощицу и лощину за ней… Там, браток, зверье разное скрывается и все хищное: «тигры», «пантеры» и с ними короли «фердинанды». Рубани их как следует, а вы, товарищ полковник, — обернулся он к артиллеристу, — вот этот пригорочек и то, что за ним, возьмите-ко под обстрел.
Командирам танковых батальонов Рыбаков указал, где кому атаковывать, и, взглянув на часы, отрывисто приказал:
— Развертывайте батальоны, через двадцать минут — вперед!
В расположении противника было спокойно. Только по лощине за высотой рвались снаряды нашей артиллерии. Видимо, немцы ждали нашу атаку и готовились к ней.
— Узнай-ко, что делают соседи? — приказал Рыбаков начальнику штаба.
— Мотострелковая бригада развертывается позади нас. Танковая бригада занимает исходные позиции, — ответил начальник штаба.
— Ну, где же авиация-то, а? — беспокоился Рыбаков. — И артиллерия молчит. Так не пойдет, браточки. Я свои танки не брошу без поддержки. Это вам не сорок первый год… Теперь у нас всего вдосталь.
Из-за села на бреющем полете вынырнули штурмовики. Они парами устремились к роще. Невдалеке захлопали зенитные пушки. Штурмовики прошлись над рощей и свернули к лощине. Позади них взметнулись черные фонтаны дыма. В четырех местах вспыхнули пожары. Штурмовики развернулись и зашли на второй круг. По высоте и лощине за ней била артиллерия и минометы. Еще дальше к югу виднелась вторая группа штурмовиков. Они бомбили что-то за высотами и на дороге, густо обсаженной деревьями. Самолеты, отработав, ушли, и по всему фронту загрохотала артиллерия. Противник упорно молчал.
Рыбаков взмахнул ракетницей, и хвост красных искр взвился над полем. Со всех сторон, давя воздух, загудели танки. Они ровным строем двинулись из садов и потекли по снегу. Над селом показалась новая партия штурмовиков. Они шли метрах в пятистах над землей, развертываясь в круг. От рощи и с высоты открыла огонь артиллерия противника.
— Авиатор, — кричал Рыбаков, — давай по роще, по роще!
Самолеты выстроились в круг, один за другим падали к земле и мгновенно взмывали вверх. Под ними полыхали взрывы. Танки уже подошли вплотную к роще и скрылись за высотой. За ними на автомашинах и бронетранспортерах спешила мотопехота. Атака началась удачно, и теперь, казалось, успех обеспечен.
— Вперед, на высоту! — приказал Рыбаков, и его командный пункт переместился на искромсанный танковыми гусеницами гребень.
Совершенно другая картина открылась отсюда. По серой равнине километров на шесть в ширину и не менее четырех в глубину, полыхая вспышками, ползли танки. Их было не меньше трехсот. Одни шли на запад, другие стремились на восток. Над всей равниной клочьями плавал дым. Нельзя было разобрать, где свои и где фашистские танки. Все перепуталось в яростной схватке. Танки в упор били друг друга, отползая в сторону и вновь устремляясь вперед. Стрелки спрыгнули с автомашин и цепью залегли в снегу. Артиллерия с той и другой стороны прекратила огонь: в хаосе танкового единоборства можно было поразить своих.
— Пушки, пушки выдвигай вперед, — кричал Рыбаков, — на прямую наводку, вплотную к танкам!
Через высоту рванулось штук тридцать автомашин с пушками на прицепе. Одна вспыхнула, подбитая снарядом. К пушке подскочили человек двадцать стрелков и покатили ее вперед. Вслед за первой партией артиллерии через высоту поползли тягачи. Они тащили за собой длинноствольные орудия. Пушки с ходу развертывались, но ни одна не стреляла: перед ними были и свои и фашистские танки.
— Авиатор, — кричал Рыбаков, — пускай самолеты на артиллерию противника! Дави артиллерию, она житья не дает.
В разных концах поля полыхали разбитые танки. Бой кипел на одном месте, не перемещаясь ни назад, ни вперед.
От окутанной дымом рощи, где только что отбомбились штурмовики, до желтого поля неубранной кукурузы светлело пустое пространство. Фашистские танки и батальоны Рыбакова схлестнулись на равнине южнее.
— Держись ближе друг к другу, ближе! Не отрываться! Бить сосредоточенным ударом! — по радио командовал Рыбаков. — Карпов, Карпов, оттяни головные машины назад, назад оттяни. Артиллерии мешаешь. Сейчас огневой налет даю — и вперед!
Аксенов всматривался в пустое пространство на правом фланге. От леса на запад тянулся пологий скат и километрах в четырех переходил в седловидную высоту.
Если вырваться на высоту, то тылы противника окажутся под ударом. Это может решить исход боя. Аксенов хотел было предложить Рыбакову пустить в этом направлении батальон второго эшелона, но в это время далекий заснеженный гребень высоты разом почернел. Что-то широкое надвинулось на него и на мгновение закрыло горизонт. Аксенов напряженно смотрел вдаль и ничего не мог понять. Черная стена двигалась на восток, сюда, где светлело пустое пространство.
— Подполковник, смотри, — рванул он за руку Рыбакова.
Командир бригады сердито отмахнулся, продолжая по радио командовать батальонами.
Стена уже продвинулась более километра. Теперь можно было разобрать, что это сплошной шеренгой шли фашистские танки. Восемьдесят шесть машин насчитал Аксенов. Они шли на большой скорости, неудержимо приближаясь к роще. Еще пять-семь минут — и они вырвутся на фланг бригады Рыбакова, ударят по тылам, сомнут все: и боевые порядки, и огневые позиции артиллерии, и пустые машины мотопехоты.
Теперь и Рыбаков увидел опасность. Лицо его потемнело, на обветренных скулах забегали крупные желваки.
— Врасплох застать решили, — сквозь зубы проговорил он, — внезапно по тылам ударить. Чорта с два! Мы давно ваши уловки изучили…
Рыбаков сорвал шлем с головы и повернулся к офицерам.
— Артиллерист, весь огонь по танкам! — яростно закричал он, оглядываясь по сторонам. — А где сапер?
— Здесь, товарищ подполковник, — отозвался стоявший рядом с ним майор инженерных войск.
— Мины, мины ставьте между полем и кукурузой?
— Есть ставить мины, — ответил майор и одним махом выпрыгнул из бронетранспортера.
— Авиатор, вызывай штурмовиков! — крикнул Рыбаков.
— Вызываю, — ответил летчик, — через двадцать минут придут.
— Да ты что, голубок, — скосил на него покрасневшие глаза Рыбаков. — Сейчас же давай, не позже пяти минут!
— Не успеют, — угрюмо ответил летчик, — раньше нужно было вызывать.
— Ох, у вас всегда так, — безнадежно махнул рукой подполковник и схватил шлемофон. — Карпов, Карпов! Прикройся справа, прикройся справа! Разверни правые машины на север!
К зарослям кукурузы медленно поползли шесть тридцатьчетверок. Они на мгновение останавливались и снаряд за снарядом посылали навстречу стальной громаде. Оставалось меньше километра от нее до кукурузного поля. Фашистские танки шли, как на учении, безукоризненно ровным строем. Почти два километра занимала их живая огнедышащая стена. Впереди нее, позади, между машин рвались снаряды. Наша артиллерия била частыми, почти беспрерывными залпами. На поле уже полыхало несколько фашистских танков, но остальные катились вперед.
Между лесом и кукурузой суетливо перебегали крохотные фигурки. Они падали в снег, через мгновение вскакивали, отбегали в сторону и снова падали. Это саперы поспешно устанавливали мины.
До фашистских танков оставалось метров шестьсот. Танки с ходу били из пушек, направляя огонь на шесть одиноких тридцатьчетверок. Приземистые советские машины окутались дымом. Крайняя справа приостановилась и через секунду запылала. Вторая медленно попятилась назад и замерла на месте. Взрыв сорвал с нее башню и отбросил в сторону. Остальные четыре машины, ползая по кукурузнику, неумолчно продолжали стрелять. Фашистские танки почти вплотную подошли к ним. Трудно было представить, о чем сейчас думали те, кто сидел в советских машинах. По четырем советским танкам било не менее шестидесяти фашистских танков. Вспыхнули еще две тридцатьчетверки. Теперь перед лавой противника остались всего две одинокие машины. Еще одно мгновение — и они будут смяты, раздавлены и втоптаны в землю, но в это время у самой рощи фашистские танки наползли на то место, где только что бегали саперы. Разом вспыхнули на земле семь взрывов, и семь «тигров» застыли на месте. В центре блеснули еще три взрыва и остановились еще три танка. Остановились и остальные танки противника. Наша артиллерия и две тридцатьчетверки били по ним в упор.
— Комбат второго эшелона, — крикнул Рыбаков, — вперед батальон, в атаку!
На западе показались черные точки. Они, все время увеличиваясь, приближались к равнине.
— Авиатор, истребителей, истребителей! — одновременно закричали и Рыбаков, и полковник-артиллерист, и Аксенов.
Дым, взрывы, рев сотен моторов, пальба. Все больше и больше полыхало на поле дымных костров. Нельзя было понять — чьи горят танки.
Батальон второго эшелона развернулся, и танки устремились вперед.
К полю боя приближались фашистские бомбардировщики. Они шли тройками, развертываясь в круг.
— Да где же истребители? — отчаянно вскрикнул Рыбаков и, обернувшись на восток, облегченно вздохнул: на синеве неба серебристо искрились быстроходные машины. Они шестерками, восьмерками, четверками шли на разных высотах, быстро приближаясь к дымному полю боя.
— Восемнадцать… двадцать… двадцать пять… тридцать шесть… — вслух подсчитывал кто-то.
Фашистские бомбардировщики заходили с юга. От головного отделились капельки бомб и, увеличиваясь, полетели вниз. Откуда-то сверху на него наскочил серебристый истребитель, и «юнкерс», не успев выйти из пике, задымил и врезался в землю. Строй фашистских самолетов рассыпался. По всему небу ревели моторы, блестящими метеорами гонялись друг за другом самолеты, чуть слышно трещали пулеметные очереди. Один за другим, распуская длинные хвосты дыма, упали девять самолетов. Из-за высоты с ревом выскочили советские штурмовики. Они промелькнули над равниной и скрылись за высотой.
— По танкам бью, по танкам! — кричал летчик Рыбакову.
— Давай, давай по танкам, — радостно отвечал Рыбаков, — и по огневым позициям артиллерии! Глуши их, глуши, а мои орелики отсюда нажмут!
Бой теперь заметно перемещался к западу.
Бронетранспортер Рыбакова рванулся вперед. На поле чернел вспаханный снег. Вдали в лощине показалось село Вереб. К нему удалялся грохот.
— Побежали, побежали фрицы! — радостно выкрикивал Рыбаков.
Все село полыхало. На высотах за селом и южнее виднелись цепи наступающей пехоты.
— Наши, — крикнул Аксенов, — наши перешли в наступление на всем фронте! Смотри, и слева и справа — везде наступают!
К югу из тылов бригады Рыбакова выдвигались колонны танков и мотопехоты.
— Комкор второй эшелон вводит, — показал на них Рыбаков, — ну, держись теперь, фашисты, не видать вам Будапешта, как своих ушей.
Первые танки уже ворвались в село Вереб. Рыбаков развернул два батальона и направил их к югу, на село Пазманд.
За танками бежали рассыпанные по полю стрелковые роты. Они догоняли танки и, едва боевая машина приостанавливалась на мгновение, вскакивали на броню. Полем, обливаясь потом, бежали пулеметчики. За их полусогнутыми фигурами подскакивали на катках тупорылые пулеметы. Не отставая от пулеметчиков, артиллеристы прямо целиною катили пушки. Позади по всей равнине из тылов, из-за высот, из балок неслись на полной скорости полуторки, тягачи, переваливались от стороны в сторону гусеничные тракторы. Машины, тягачи и тракторы догоняли пушки, цепляли их и устремлялись за танками и пехотой. А из тылов уже бежали связисты, саперы, штабы, солдаты подразделений обслуживания. Все катилось туда к окраинам села, к оврагам и балкам, откуда гремело «ура», бурной радостью взметывались крики, в коротких схватках добивались последние остатки вражеских войск.
Бронетранспортер Рыбакова ворвался в узенькую улочку села. Танкисты устало вылезали из машин и, шатаясь, как пьяные, садились в снег, прислонялись к заборам и стенам домов. Повсюду сновали санитары, медицинские сестры, врачи. Грозное «ура» и рев моторов доносились уже с южной окраины села. Туда торопились пушки, автомашины, бронетранспортеры.
В центре села вокруг темных строений грудилась толпа пехотинцев, танкистов, артиллеристов.
— Что здесь? — крикнул Рыбаков и тут же осекся и смолк.
Толпа угрюмо молчала. Люди стояли без шапок, склонив головы к земле. Все молча расступились, пропуская Рыбакова, Аксенова и офицеров штаба. Из черных, прокопченных зданий санитары выносили полуголые, обезображенные тела. Уцелевшие куски обмундирования показывали, что это были советские солдаты.
— Врача, — прошептал старенький санитар, выходя с носилками из дверей, — жива, кажется, одна только жива.
На серой парусине носилок бессильно откинулась голова с нежными русыми волосами. Лицо зияло рваными язвами ожогов. Губы и левая щека были вырваны каким-то ужасным инструментом.
Аксенов бросился к носилкам. Девушка с трудом размежила веки, и на Аксенова посмотрели воспаленные глаза.
— Варя, — вскрикнул он и опустился на колени перед носилками, — Варя, вы?
Глаза смотрели на него. Они были сухи. Вдруг в них мелькнул едва уловимый проблеск жизни и в левом глазу у распухшего носа навернулась маленькая слезинка.
Девушка шевельнула рукой и раскрыла зубы с синими оголенными деснами.
Аксенов задрожал всем телом, и слезы потекли по его щекам. Он сдерживал рыдания, но они рвались из горла.
— Товарищ майор, прошу отойти, помощь оказать нужно, — тряс его кто-то за плечо.
Он поднялся, с трудом прошел несколько шагов и обернулся к носилкам. Вокруг Вари хлопотали врачи, мелькали бинты, пахло каким-то лекарством.
— Ну, варвары, за все поквитаемся, — яростно проговорил суровый голос.
Аксенов поднял голову. Среди танкистов стоял высокий светловолосый офицер. Глаза его смотрели куда-то вдаль.
— На всю жизнь запомню венгерское село Вереб и кровью варваров заплачу за муки наших товарищей, — в мертвой тишине раздался его грозный голос. Он, тяжело дыша, несколько секунд стоял молча, потом резко повернулся и крикнул: — По машинам! Там еще немало впереди таких вот Веребов!
Рыбаков и Аксенов на бронетранспортере выехали за село. С заснеженной высоты перед ними открылась вся обширная панорама развернувшегося наступления.
По лощине и дальше через поля до самого скрытого легкой дымкой Дуная устремились на запад советские войска. Впереди шли танки — колоннами, в одиночку, цепями; за танками устремилась пехота — на бронетранспортерах, на автомобилях, пешком; в разных местах виднелись пушки, «катюши», минометы — одни из них стреляли, другие передвигались, третьи только что выезжали на огневые позиции. И над всем, что стояло, двигалось, стреляло на земле, разносился мощный гул авиационных моторов. В густосинем безоблачном небе с ревом проносились на запад эскадрильи советских штурмовиков, неторопливо проплывали косяки бомбардировщиков, со свистом взмывали вверх серебристые ястребки.
Аксенов смотрел на наступление на земле и в воздухе и вспоминал все, что пришлось пережить в этот первый месяц 1945 года. Недолго довелось торжествовать гитлеровцам и на южном фланге советско-германского фронта. Советские воины двинулись вперед, на запад, на Вену, на «альпийскую крепость» Гитлера!
XIII
Тяжелые тучи, низко висевшие над Будапештом, раздвинулись, и в небе заголубели просветы. Изредка через них пробивались солнечные лучи, и тогда дымный, израненный город расцветал, как молодой лес ранней весной.
В разных местах, особенно на холмах Буды, то и дело хлопали ружейные выстрелы, перекликались автоматные и пулеметные очереди. Но в узких извилистых переулках Буды и на прямых магистралях Пешта с каждой минуты неуловимо разрасталось движение. Военные и штатские группами и в одиночку сновали в разных направлениях, мешая движению военных грузовиков, повозок, танков, тягачей.
Генералы Алтаев и Шелестов поднялись по крутой тропинке на скалистую гору Гелерт. И чем выше взбирались генералы, тем шире и величественнее открывалась перед ними панорама венгерской столицы. Широкий многоводный Дунай, разрезая город на две части, плавно нес свои забеленные мелким льдом и снегом могучие волны. Вдали, на севере, темнел широкий и длинный остров Маргитсигет. Там даже с большого расстояния простым глазом можно было увидеть спиленные и срубленные взрывами каштаны на месте его когда-то прекрасных парков, темные углубления окопов и траншей, разбитые здания санаториев, водолечебниц, отелей. Ниже острова, через всю центральную часть города, бесформенными нагромождениями металла и бетона выступали из воды остатки мостов — красы и гордости венгерской столицы. А по берегам Дуная, западнее и восточнее его, виднелись дома, скверы, улицы, сады. И над всем этим — красные, трепетно развевающиеся на ветру флаги и флажки, укрепленные и на готических шпилях парламента, и на башне королевского замка, и на домах, и на деревьях скверов, и на баррикадах, перегородивших улицы Буды.
— Ну, вот и все, — рассматривая город, четко, почти торжественно проговорил Алтаев. — Окруженная группировка противника перестала существовать.
Шелестов снял папаху и неотрывно смотрел на Буду — западную часть венгерской столицы с древними зданиями, построенными на долгие годы и разрушенными всего за два месяца. По описаниям и многочисленным фотографиям Шелестов хорошо знал Буду, но сейчас, глядя на город, он не мог отыскать ни одного знакомого здания. Узкие и кривые улицы и переулки из края в край были перегорожены баррикадами, завалены подорванными и разбитыми домами, вспаханы и перепоясаны траншеями, окопами, проволочными и противотанковыми заграждениями.
Рассматривая город, Шелестов думал, как трудно было войскам Второго Украинского фронта вести в этом лабиринте борьбу с немецко-фашистской группировкой, засевшей на холмах Буды и получившей категорический приказ Гитлера драться в окружении до последнего солдата. И эта группировка дралась, укрываясь за толстыми кирпичными стенами домов. Каждую улицу и перекресток приходилось брать здесь только штурмом, только ударами пехотинцев, танкистов, артиллеристов, саперов в упор. Пятьдесят дней и пятьдесят ночей не умолкал ни на минуту грохот кровопролитного сражения. Борьба шла на улицах и площадях, в домах и дворцах, в подвалах и катакомбах, старых крепостных замках и цитаделях, в подземных тоннелях и водосточных трубах. И чем больше всматривался Шелестов в разбитые, зияющие рваными проломами дома и в загроможденные разбитой техникой улицы и площади, тем яснее и отчетливее представлял кровавую трагедию, разыгранную здесь гитлеровским командованием, для десятков тысяч людей разных возрастов и национальностей. Какой смысл имело это страшное кровопролитие на завершающем этапе войны? Для всех было ясно, что фашистская Германия проиграла войну и уже никакие силы не спасут ее от поражения. Так зачем же нужно было заставлять бессмысленно гибнуть здесь сотни тысяч немцев, австрийцев, мадьяр? Какой смысл имела эта кровавая жертва, принесенная в угоду неизвестно кому? Неужели среди немецкого командования не нашлось ни одного здравомыслящего человека, способного трезво оценить положение и решительно сказать: «Хватит напрасного кровопролития! Довольно безумных жертв!» О чем же думал тогда этот хвастливый теоретик Гейнц Гудериан, выполнявший обязанности начальника немецкого генерального штаба, который так много кричал и еще будет кричать о человеколюбии, о сохранении германской нации, о благе немецкого народа? Но никто — ни Гитлер, ни Геринг, ни Геббельс, ни Гудериан и их сподвижники — не думал о немецком народе. Даже когда положение окруженной в Буде фашистской группировки стало отчаянным и солдаты, зажатые в нескольких кварталах, умирали от истощения, получая лишь по пятьдесят граммов хлеба в день, гитлеровское командование не приняло никаких мер и ограничилось тем, что приказало привести в негодность боевую технику, а уцелевшим войскам очертя голову броситься на прорыв из окружения. Обманутые, голодные и изможденные немцы, получив последние гранаты и по полсотне патронов на человека, собрались на Мариенплац и колоннами рванулись на северо-запад и на север. Сейчас, с вершины горы Геллерт, были видны результаты этого бессмысленного прорыва. Две улицы были сплошь завалены трупами немцев.
«Неужели немецкий народ забудет эти бессмысленные жертвы, — раздумывал Шелестов, — неужели он снова даст одурачить себя и позволит авантюристам и проходимцам бросить молодое поколение в еще более страшную мясорубку войны?»
— Какие жертвы! — вслух проговорил Шелестов. — Можем ли мы забыть их, допустить повторение этих ужасов? Нет! Не можем! Не имеем права!
— Да! Не имеем права! — повторил вслед за Шелестовым Алтаев, наблюдавший, как из подвалов и бункеров прилегающих к горе улиц советские воины выводили все новые и новые группы взятых в плен немцев. Пленных вели по улицам большими партиями под небольшим конвоем советских автоматчиков. Жалкое зрелище представляли эти немцы, уцелевшие при разгроме окруженной группировки. Худые, небритые, изможденные лица; опухшие, воспаленные, дико блуждающие глаза; вялые, нервозные движения и грязная у большинства изорванная одежда красноречиво говорили о всем пережитом ими за время пятидесятисуточной осады. Партии и группы пленных понуро брели со всех улиц и переулков, стекаясь на просторную площадь перед горой, где дымили штук сорок советских походных кухонь и белели колпаки поваров. Едва завидев кухни, пленные убыстряли шаги, стремясь обогнать друг друга, и жадными глазами глядели на поваров. Огромным веером стекались пленные на площадь, беспорядочной толпой окружая кухни. И только усилия советских автоматчиков и офицеров сдерживали и вводили в русло неудержимый поток голодных толп, готовых смять и раздавить все, что окажется на их пути.
— И эти не забудут, — показывая на пленных, сказал Алтаев. — Детям своим рассказывать будут, внукам и правнукам.
Питательные пункты, как сразу же прозвали наши солдаты места раздачи местным жителям пищи, были разбросаны по всему городу. И везде возле них моментально собирались толпы изголодавшихся, измученных венгров. Проходило полчаса, час, и повара сожалеюще разводили руками, спеша поскорее выбраться из толпы и заложить в кухню новые запасы продуктов и воды. А венгры все не расходились, веря и не веря, что снова вернутся советские двуколки. Трудно было советскому командованию одновременно накормить изголодавшийся город с миллионным населением. На помощь поварам с походными кухнями было брошено несколько сотен грузовиков, доверху наполненных хлебом, консервами, мешками сухарей. И вокруг грузовиков, так же как вокруг кухонь, выстраивались нетерпеливые, но спокойные и послушные очереди детей, женщин, стариков.
— Да, трудно Второму Украинскому, трудно, — глядя на все возраставшие очереди у питательных пунктов, сказал Алтаев. — Нужно и нам помогать.
— Обязательно, — подхватил Шелестов. — Бросить все, что можно: кухни, сухари, консервы. Запасов у нас хватит, да и трофейных продуктов целые склады.
Алтаев быстро написал распоряжение своему начальнику тыла и подозвал стоявшего невдалеке от него адъютанта.
А Шелестов тем временем смотрел на Дунай, где советские саперы, ныряя в ледяную воду, спешно наводили понтонную переправу. Другие группы саперов с легкими кругами миноискателей и длинными остриями щупов осторожно и неторопливо осматривали набережные, дороги и улицы, здания и площади, отыскивая мины, тут же их обезвреживали или обозначали знаками. И там, где проходили саперы, на стенах, на заборах, на фанерных дощечках и уличных столбах появлялись надписи на русском языке, которые мадьяры научились сразу же понимать: «Проверено. Мин нет!», «Опасно!!! Мины!!!», «Мины извлечены. Ходите спокойно!», «Осторожно. Дом заминирован. Не входить!!!»
Советские воины — пехотинцы, танкисты, артиллеристы, летчики, связисты, солдаты всех родов войск, всех специальностей и служб, — усталые, но радостные и веселые, многие с повязками, ходили по городу, беседовали с местными жителями, угощали их, чем могли. Из обозов, из танков, с артиллерийских лафетов были извлечены баяны, аккордеоны, гармони, гитары, балалайки и русские, украинские, белорусские, узбекские, казахские мелодии звучали среди развалин. Звуки «Молдаванески», напевы «Катюши», «Виют витры», «Ермак», «Есть на Волге утес» подхватывались неуверенными голосами местных жителей, и над Дунаем, над венгерской столицей разливался единый, пока еще разноголосый и неуверенный напев дружбы, спокойствия и счастья.
— Посмотрите, Георгий Федорович, на наших солдат, — говорил Шелестов. — Разве сломлен их дух, подорвана воля, иссякли силы? Нет! Они еще больше закалились, еще больше окрепли, приобрели такой огромный опыт, который позволит им сломить, преодолеть любые трудности. Скоро закончится война, вернутся они домой, и жизнь нужно для них создать такую, чтоб они отдохнули и залечили раны, набрались новых сил, окрепли, возмужали и вырастили новое поколение еще более сильных духом людей.
Эпилог Девять лет спустя
Невысокая полная женщина лет двадцати восьми в клетчатом домашнем платье в третий раз ставит на плиту кастрюли и, нетерпеливо посматривая на ходики, рассерженно говорит:
— Ну, уж это совсем ни на что не похоже! Девятый час, а его и духу нет…
Она присела на стул, обхватила руками округлый живот и снова беспокойно посмотрела на часы.
Наконец щелкнул дверной замок, послышались знакомые уверенные шаги и басистый голос весело заговорил:
— А вот и мы! Гвардейский пламенный привет хозяюшке!
Женщина вся встрепенулась и, вначале улыбнувшись, а затем сразу став суровой и строгой, что никак не шло к ее добродушному полному лицу, с возмущением заговорила:
— На что это похоже? Ну, подожди!..
— Тонечка, да я же у тебя самый что ни на есть дисциплинированный муж, — широко расставив руки, подходил к ней высокий стройный мужчина, явно намереваясь обнять ее и поцеловать.
— И не приближайся, не приближайся, — сердито махала на него руками Тоня. — Ты теперь полностью оправдываешь свою фамилию. Настоящий Гулевой! И я, дура, тоже согласилась свою переменить.
Она смолкла мгновенно, почувствовав сильные руки мужа на своих плечах, и вдруг резким движением оттолкнула его, теперь уже по-настоящему рассерженно сверкая глазами и возмущенно говоря:
— От тебя и водкой разит. Этого еще не хватало!
— А что ж, я и выпить не имею права? Пивные-то для людей строятся.
Гулевой снова хотел приблизиться и обнять жену, но она, отмахиваясь и пятясь назад, сердито и возмущенно бранилась:
— Скоро под забором тебя разыскивать придется!
— Это кого, меня, под забором? — возбужденно выкрикнул Гулевой и, сбросив кепку, ударил себя кулаком в грудь: — Да ты знаешь, кто я такой? Тебе не известно мое значение? А скажи, пожалуйста, кто дом двенадцатиэтажный отгрохал? Кто?.. Степан Гулевой и его бригада каменщиков. Вот! А кто сейчас поднял к небу пятнадцатиэтажную громадину на набережной?
— Ох, хвастун ты несчастный, — язвительно отвечала Тоня и, видимо, вконец рассердившись, сжала руки и короткими упругими шагами двинулась в решительное наступление на мужа:
— Ты воздвиг! Ты отгрохал! Был бы ты хорош с бригадой твоей хваленой, не подай мы во-время материалы, не работай для вас без минуты отдыха.
— Ну, Тонечка, ну я что, разве я отрицаю, — сдаваясь под решительным натиском жены, совсем трезвым голосом оправдывался Гулевой. — Вы же у нас не крановщицы, а снайперы. Настоящие снайперы! Куда махнешь флажком, туда и материал пулей летит.
Отступление мужа еще более раззадорило Тоню. Воинственно размахивая руками перед его лицом, она громко и настойчиво отчитывала его:
— А когда вы в прорыве оказались, кто помогал вам? Забыл?.. Ну, кто, отвечай же! Молчишь? Дутый авторитет у твоей бригады. Все работали, а славу себе присваиваете.
— Ну, это уж знаешь ли!.. — не выдержав, вновь вспыхнул Гулевой. — Про нашу бригаду вся Москва знает. Чьи портреты в газетах печатали? А? Чьи?.. Наши, и в частности мои! Передовики производства, новаторы! Наши методы работы на всех стройках применяются. Дутый авторитет! И как только язык-то повернулся сказать такое!
— Ну что ты расхвастался? Ну, печатали, ну, новые методы работы, а к чему же кричать об этом на всех перекрестках? Похвалили, отметили — и ладно. Работай, а не по пивным шляйся.
— Да когда я шлялся? Впервые зашел с ребятами. Закончили смену, вышли на берег Яузы — и ахнули. Стоит наш пятнадцатиэтажный дом и на всю Москву красуется. Ну, загорелась душа от гордости. Ребята говорят: «Пошли по рюмочке пропустим». Ну, и пошли. Да и как не пойдешь, когда душа поет!
Гулевой порывисто сбросил комбинезон и, подойдя к восхищенно смотревшей на него жене, робко добавил:
— Да и выпили-то мы всего по сто граммов и по кружке пива. За что ругаться-то?
Тоня широко открытыми глазами неотрывно смотрела на мужа, губы ее вдруг задрожали, щеки покрылись румянцем, и она, раскинув руки, прижалась к груди Гулевого, жарко нашептывая ему в лицо:
— Ох, Степка, какой же ты у меня богатырь!..
Гулевой обнял жену, прижимая ее к себе и целуя в голову, щеки, шопотом говорил:
— А ты, маленькая мама, не волнуйся. Я же, люблю тебя. Вот уже девять лет мы вместе, а мне кажется, только вчера встретились.
В семье Гулевых вновь установились кратковременно нарушенные мир и согласие.
— А ты знаешь, день-то сегодня какой? — накрывая на стол и посматривая на мужа, говорила Тоня. — Тринадцатое февраля. В этот день в Будапеште бои закончились. В этот день мы с тобой поклялись навсегда быть вместе. Помнишь?..
— Да, да! И поздравляли нас все: капитан Бахарев, Настя, Анашкин. Как бы я сейчас хотел увидеть капитана Бахарева!..
— Какой он капитан? Он второй год в полковниках ходит. В Ленинграде служит.
— Неважно, что полковник. Для меня он навсегда останется капитаном.
* * *
В кабинет полковника Аксенова быстро вошел полковник Бахарев и с ходу заговорил возмущенно и гневно:
— Вот полюбуйся на очередной трюк талмудистов наших, на зажимщиков всего нового и смелого…
— Подожди горячиться, присядь, — пытался успокоить его Аксенов.
Но Бахарев продолжал выкрикивать яростно и ожесточенно:
— И как можно терпеть такое? Я тебя спрашиваю, как секретаря партийной организации нашей кафедры, сколько можно мириться с начетчиками, зажимщиками, цитатчиками…
— Ну, еще раз прошу тебя, — настойчивее повторил Аксенов, — закури, если хочешь, воды выпей…
Бахарев сел напротив Аксенова, закурил и уже спокойно продолжал:
— Я подготовил лекцию для слушателей первого курса. Два месяца сидел над ней, все архивы перерыл, иностранную литературу поднял, иностранные журналы за последние шесть лет просмотрел. И написал. Потом дал другим прочитать. Учел все замечания. Переработал, отпечатал и доложил начальнику кафедры. Он две недели держал у себя, а потом вернул, и вот она, смотри…
Бахарев бросил на стол рукопись.
— Ты посмотри: ни одного существенного замечания, а только без конца одно и то же: «Это не по уставу», «Этого в уставе нет», «Откуда вы это взяли?» Что это такое? Неужели не ясно, что многие уставы и наставления устарели? Неужели он до сих пор не уяснил, что нельзя придерживаться устава, как слепой стены? Жизнь-то, жизнь идет вперед, каждый день, каждый час, каждую минуту нарождается новое. То, что вчера было хорошо, сегодня — плохо, завтра — вредно, а через неделю — преступно! Мы должны поспевать за жизнью, опережать ее, а не плестись в хвосте. Ведь об этом же, об этом говорят нам в каждом постановлении партия и правительство. Разве это к нам, к военным, не относится? Относится, да еще как!..
Аксенов молча смотрел на взволнованное лицо Бахарева. Курс академии, а затем два года преподавательской работы сделали из него вдумчивого военного специалиста, способного не только решать практические вопросы, но и заниматься серьезной научной деятельностью, глубоко и всесторонне анализировать факты, уметь из этого анализа сделать правильные выводы и — что самое главное — все добытое научным путем незамедлительно провести в жизнь, передать слушателям, сообщить войскам. Решительность и напористость во многом помогали ему, но эти же качества часто ставили его и в трудное положение. Бахарев всем и все говорил напрямую. Но начальником у Бахарева и Аксенова был человек, не любивший прямоты и всегда стремившийся сглаживать острые углы, избегать всего, что могло принести неприятности.
— И ведь не везде это так, — продолжал Бахарев, — а только у нас. Посмотри на первой кафедре. Там ключом бьет жизнь, настоящая, творческая. Да не только на первой. А возьми четвертую, пятую. Там же приятно и радостно работать. Я сейчас начал на их занятия ходить. У них слушатель не задачки решает, а думает, творит, действует самостоятельно, а преподаватель направляет его работу, контролирует, критически анализирует его действия, помогает методически правильно думать и решать. А у нас? Начетничество! Составят методичку, распишут все по пунктам, и вот изволь слушатель — живой, грамотный, умный — думать и действовать так, как решил составитель методички. Это ж мертвечина, а не учеба. А методички кто составляет и утверждает? Люди, которые сами отстали на полвека.
Подобные мысли, правда высказываемые не так резко и горячо, Аксенов слышал и от других коммунистов, да и сам видел, что многое в делах кафедры идет совсем не так, как на других кафедрах. Он несколько раз пытался говорить с начальником кафедры, но все разговоры неизменно кончались или шуткой, или обещанием все пересмотреть, организовать работу по-новому. Аксенов во многом сомневался, не мог определить, где основное и правильное решение; и результаты своих колебаний он почувствовал впервые на последнем отчетном партийном собрании, где коммунисты резко критиковали и его работу и работу всего партийного бюро. Вернувшись в ту ночь с собрания, он долго не мог уснуть и на вопрос обеспокоенной Насти, что с ним происходит, ответил, что он думает о предстоящих занятиях. Настя уснула, а он еще долго лежал с открытыми глазами, потом встал, поправил сползшее одеяло на кровати сына и вышел на кухню. На востоке едва заметно разгоралась заря. Легкие снежинки вихрились за окном, напоминая ему о ночах под Будапештом, о тех ночах, которые на всю жизнь врезались в его память.
— Ты во многом прав, Анатолий, — заговорил Аксенов, глядя, как Бахарев жадно глотает дым папиросы, — во многом прав, но нельзя рубить с плеча, нужно все очень хорошо обдумать.
— Ну что думать, когда все яснее ясного, — вновь загорелся Бахарев. — Ты хорошо знаешь наш план научной работы. Посмотри, какие там темы диссертаций.
— Да знаю я, знаю, — перебил его Аксенов. — Большинство уходят в глубокую древность и не берутся за решение вопросов современности.
— Совершенно точно. И я тебе больше скажу: ни одна из диссертационных тем нашей кафедры не имеет практического значения. Написал, защитил, получил процентную надбавку к зарплате, — а там хоть трава не расти. Тебе-то есть с кого пример брать. Вот тебе Настина диссертация. Это жизнь, сама жизнь, ее нужды и потребности.
— Кукушка хвалит петуха, а петух кукушку, — беззлобно засмеялся Аксенов.
— Это ты брось, — отмахнулся Бахарев. — Я серьезно говорю. У твоей жены многим есть чему поучиться. Сменный инженер, кандидат технических наук, общественница, мать двоих детей и замечательная хозяйка. Это я вижу по твоим воротничкам и пуговицам на кителе.
— А разве в твоей роте был кто-нибудь плохой? — вновь пошутил Аксенов.
— А что ж, — отпарировал Бахарев, — гордиться могу — и законно.
— Да, Анатолий, ты читал сегодняшние газеты? О Минькове — помнишь, маленький саперный лейтенант? — очерк напечатан. На Куйбышевгидрострое он. Предложил новый метод подводных работ. И этот метод его осуществил Мефодьев.
— Мефодьев? — переспросил Бахарев. — Минный дядя, сержант саперный?
— Да, да…
Оба минуту помолчали, вспоминая прошедшее.
— Видишь, как наши трудятся, — заговорил Бахарев. — И мы не можем молчать, мириться с безобразиями. Идем к генералу Алтаеву, поговорим.
— Нет, — хмуро ответил Аксенов, — генерал Алтаев болен, и очень тяжело. Вчера отправили в госпиталь, говорят, пролежит не менее полугода…
И два полковника, дружба которых зародилась и окрепла в боях на берегах Дуная, склонились над столом, раздумывая, как лучше искоренить недостатки и устранить препятствия, которые возникли на их пути.
* * *
В шестом классе мужской средней школы учительница опаздывала на урок. Ребята сначала перешептывались, затем заговорили громче, и скоро в большой комнате поднялся разноголосый шум.
Наконец учительница пришла. Ребята замерли на местах — кто на подоконнике у раскрытой форточки, кто с поднятой рукой, нацелившись и еще не успев ударить соседа, — и три десятка восхищенных, любопытствующих и удивленных взглядов обратились к учительнице.
Их Варвара Ивановна, так звали учительницу, была сегодня одета не как всегда. Тонкую, стройную фигуру ее обтягивало защитного цвета военное платье, и — что самое главное для ребят — на ее груди сверкал расходящимися в стороны лучами орден с надписью на белом круге по красной звезде «Отечественная война» и рядом с орденом бронзой отливала круглая медаль, где было написано: «За взятие Будапешта». Учительница придвинула стул поближе к столу, но садиться не спешила и стояла с опущенными руками, глядя на ребят большими, грустными, василькового цвета глазами. Красивое лицо ее было бледным и особенно бледными, почти белыми, были ее губы. Едва заметный шрам на лице покраснел.
Учительница несколько секунд молчала. Ее светлые волосы густыми прядями спадали на плечи, неширокие, хрупкие плечи склонились к столу.
— Ребята, — неожиданно заговорила учительница совсем незнакомым для учеников мягким голосом, в котором чувствовались и грусть о чем-то, и торжество, и ожидание чего-то самого хорошего. — Ребята, — еще раз повторила она, — сегодня в начале урока я вам расскажу одну страничку из великих событий Отечественной войны. Я расскажу вам о Будапештской операции Советской Армии, где наши воины одержали одну из славных побед, обеспечивших вам свободную жизнь и счастливое детство.
Детские взгляды со всех сторон тянулись к ней, с нетерпением ожидая, что еще сделает и скажет она, их учительница Варвара Ивановна Иволгина. И она заговорила о событиях, которые происходили на территории Венгрии.
В конце ее рассказа самый смелый мальчик в классе и ее любимый ученик Федя Иванцов поднял руку и, не дождавшись, когда учительница разрешит сказать, несмело, но настойчиво спросил:
— А вы были под Будапештом, Варвара Ивановна?
Учительница смущенно и, как показалось ребятам, болезненно улыбнулась, облизнула пересохшие губы и тихо ответила:
— Да, я была там, Федя.
Ее ответ мгновенно всколыхнул весь класс.
— Варвара Ивановна, расскажите о себе!
— Я не так много видела, ребята. Перевязывала раненых, выносила их с поля боя, помогала поскорее их вылечить. Я, ребята, лучше расскажу об одном мужественном воине, и вы поймете, каким должен быть наш советский человек. Был он радистом. Звали его Федя Торбин. Ему тогда исполнилось двадцать лет.
Учительница передохнула, и ребята увидели на ее щеках две большие слезинки. Она торопливо достала платочек и вытерла их.
— Недалеко от Будапешта в одно село, где был Федя со своей рацией, ночью внезапно прорвались фашисты. Наши бойцы упорно дрались, но фашистов было много и много было у них танков. Нескольких наших бойцов фашисты захватили в плен. Среди них был и Федя Торбин. Долго мучили фашисты Федю. Они хотели, чтоб он рассказал о наших войсках, выдал военную тайну. Но на все их вопросы Федя отвечал только одно: «Я гвардии рядовой Советской Армии. Я бью фашистов и спасаю свою Родину». Гитлеровцы кувалдами на наковальне отбили Феде обе руки, кузнечными клещами рвали его тело…
Варя смолкла и, закрыв глаза, с минуту сидела молча, бледная и почти безжизненная.
— Федя умер, истекая кровью, но военной тайны не выдал, — закончила она, не открывая глаз и продолжая сидеть, откинувшись на спинку стула.
Первым нарушил молчание Федя Иванцов, спросив:
— А как же вы спаслись, Варвара Ивановна?
— Меня, — ответила Варя, — спасли наши войска. Но это неважно, ребята. Мне хочется сказать вам другое. Вы вступаете в жизнь. Впереди вас ждет немало трудностей. Всегда будьте мужественными, честными, будьте до конца преданными Родине. Трусы и предатели умирают раньше своей смерти. А герои бессмертны, народ их никогда не забудет. Они живут в вас, во всех советских людях.
* * *
В приемной сидел немолодой колхозник. Худое, обветренное лицо его с седыми, опущенными вниз усами было усталым, но ясные и не по возрасту живые глаза с любопытством рассматривали портреты на стенах, мебель, стол секретарши в углу со множеством телефонов и папок с бумагами.
Обитая черной клеенкой дверь из кабинета бесшумно раскрылась и пропустила в приемную женщину средних лет.
— Пожалуйста, товарищ Анашкин. Дмитрий Тимофеевич ждет вас.
Колхозник привычным движением солдата оправил старую, но, видимо, тщательно хранимую военную гимнастерку, поправил два ордена Отечественной войны и четыре медали, потом сожалеюще взглянул на свои хоть и вычищенные старательно, но во многих местах залатанные сапоги и широким, размашистым шагом пошел в кабинет.
— Здравствуйте, Степан Харитонович, очень рад видеть вас, здравствуйте, — услышал он густой и приветливый голос.
Анашкин по-солдатски четко остановился, опустил руки по швам и ответил:
— Здравия желаем!
— Проходите, присаживайтесь.
Анашкин прямо перед собой увидел Шелестова и вновь также по-солдатски отчетливо, но уже с нескрываемой радостью в голосе повторил:
— Здравия желаем, товарищ генерал!
— Я теперь не генерал, — улыбнулся Шелестов. — Девять лет военного мундира не ношу. И если говорить правду, то и чести по-настоящему отдать не сумею.
— Ну, это дело наживное, — усаживаясь в кожаное кресло и неотрывно глядя на Шелестова, сказал Анашкин. — Если потребуется, то недолго старые привычки-то вспомнить. Это не то что заново учиться.
Он смолк на секунду, о чем-то раздумывая, с сожалением покачал головой и улыбнулся Шелестову дружески и просто.
— Стареете, товарищ генерал, заметно стареете. Голова-то совсем седая.
— Что ж, годы летят, — с улыбкой глядя на Анашкина, ответил Шелестов. — Не замечаешь, как старость подкрадывается. Как живете?
Вопрос Шелестова, видимо, вывел Анашкина из обычного состояния, и горбоносое лицо его сразу посуровело, глаза сузились и на блестевшей лысине выступили розовые пятна.
— Что ж, товарищ генерал… — заговорил он.
— Дмитрий Тимофеевич! — мягко и тихо поправил его Шелестов, но Анашкин, словно не услышав этого, продолжал все решительнее и настойчивее:
— Живем мы нельзя сказать, что плохо. Про свою семью скажу — живем хорошо. Дети учатся. Дочка в институте на агронома. Сам здоров. Да и колхозные дела лучше пошли.
— Лучше? — склоняясь почти вплотную к Анашкину, заинтересованно переспросил Шелестов.
— Несравнимо лучше, — еще больше оживился Анашкин. — Постановления-то последние жизнь новую в дела колхозные вдохнули, народ подняли.
— А в чем же конкретно произошли изменения, к примеру, в вашем колхозе?
Анашкин прищурил глаза, глядя куда-то в дальний угол кабинета, задумался, видимо колеблясь и не решаясь сказать что-то, потом решительно откинулся в кресле, расправил плечи и твердым, окрепшим голосом ответил:
— Что ж греха-то таить, Дмитрий Тимофеевич. Неважная у нас в колхозе была жизнь. И самое главное, как я думаю, дело-то все в людях. Ведь каждый человек пить-есть хочет, да и приодеться нужно. А на какие средства мог приодеться колхозник, когда не то что денег — хлеба-то на трудодень маловато получали. Еле-еле концы с концами сводили.
Он остановился, всматриваясь в лицо Шелестова, желая узнать, как воспринимает тот его слова.
— У нас в последние годы о человеке, о колхознике, мало заботились. Ой, как мало, Дмитрий Тимофеевич!.. Никого из начальства не интересовало, сколько получает колхозник на трудодень и как он живет. Десятки разных уполномоченных и ревизоров из района и даже из области в колхоз приезжали. Приедет, нажмет на хлебозаготовки или мясопоставки — и назад. А нет того, чтобы зайти к колхознику, посмотреть на его жизнь, а потом взять председателя за воротник, тряхнуть как следует и не на ухо, не шопотом, а громогласно, прямо в глаза: «Что же ты, такой-сякой, колхозников-то довел своих до такого состояния?» А ведь богатые мы, Дмитрий Тимофеевич, — разгораясь, продолжал Анашкин, — земли у нас плодородные, угодья благодатные, и люди — сами знаете, какие у нас люди! Вон какую войну вынесли и пол-Европы прошли. Наши люди горы могут свернуть, реки назад течь заставляют. И это сама жизнь подтверждает. Вот посмотрите: и году не прошло, как правительство и партия постановления о колхозах приняли, как потребовали изменить отношение к человеку, к колхознику, — и все пошло по-иному. Теперь бригадир не бегает по утрам людей на работу звать. Сами идут, и с охотой идут, с желанием. А, спрашивается, почему? Да потому, что человек знает: если он поработает, то и получит, а если получит, то жить лучше станет…
— Товарищ Анашкин, — осторожно прервал речь колхозника Шелестов, — а что еще плохо в колхозе, какие трудности и недостатки?
— Вот за этим-то я и приехал к вам, товарищ генерал. Вы простите, что я называю вас по-старому. Я и приехал к вам, как к генералу нашему. Приехал по делам колхозным, не по своим… Председателем колхоза у нас Козланюк. Прислали к нам его года четыре назад. В районе он до этого работал, на разных должностях. Ну, прислали, так работай. Работает. Хатенку мы ему дали, участочек, как положено. Семью он свою привез: жена и детишек трое. Скоро оперился наш председатель и в гору пошел. В районе его хвалят, в газетах даже писали. Ну что ж, это дело хорошее. Только стал я присматриваться, вижу: хвалить-то его хвалят, а дела в колхозе все хуже и хуже. Все планы заготовок мы выполняли исправно и почти всегда первые. А только колхозникам ничего не оставалось. А наш Козланюк все богатеет и богатеет из года в год. Дом себе выстроил пятистенный, сад развел, а в саду — пчелки. У него в прошлое лето было поболе двух десятков ульев. Посчитайте: по пудику меда с улья — и то двадцать пудов. Пару коровок завел, троечку поросят, гусей десятка три, кур. Одним словом, хозяйство что ни на есть образцовое. Дальше узнаем: построил наш председатель домик еще один, комнат на пять, в районном городе. Не так он прост, правда, хитрить умеет. Дом-то этот он на тестя записал. Но все знают, чей он в самом-то деле. Ну, народ-то и зароптал. Потребовали ревизию провести в колхозе. Меня выбрали председателем комиссии. Копнули мы — и ахнули: кругом недостача. Денег-то не хватило у него немного. Пять тысяч пятьсот двадцать три рубля. Только все эти денежки были израсходованы продуктами да товарами. Он кирпич, лес и доски покупал для колхоза, а вез себе. Так же и с воском для пчел и с кормами. Приехал тут сам секретарь райкома товарищ Верловский, приказал Козланюку немедленно уплатить деньги, которые он истратил. Через два дня деньги были внесены в колхозную кассу, и на этом все замерло. А я, понимаете, Дмитрий Тимофеевич, не могу. Вот гложет меня досада и злость. Воровал человек, жульничал, а ему все простили. Я на собрании выступил. Ну, тут подпевалы и подлипалы Козланюка и ополчились на меня. Так и скомкали все собрание. Тогда я в райком. И там секретарь райкома со мной не соглашается. «Ну, — думаю, — значит, заблудился я». Перестал я об этом деле хлопотать, а самого все сомнения гложут. Тут как раз перевыборы председателя. На собрание из райкома начальство приехало. Два дня шумели, критиковали, Козланюк самокритиковался. Дошло дело до выборов. Сам секретарь райкома предложил оставить Козланюка: опыт, дескать, большой, практика. А мы, говорит, вам агронома пришлем хорошего. Ну, народ зашумел, кто «за», кто «против». Проголосовали. Двадцать — «за» и сто семьдесят — «против». Начальство опять выступает. И опять стали голосовать. До утра сидели. Девять раз голосовали! Наконец добились. Сто — «за», двадцать — «против», остальные воздержались. И почему добились? Мужчин-то у нас мало. Большинство женщины вдовые. А Козланюк-то крутоват. Проголосуешь «против», — а вдруг выберут его? Держись тогда!.. Ни подводы в город, ни огород вспахать…
Все время, пока говорил Анашкин, Шелестов сидел молча, не сводя с него внимательного, изучающего взгляда. Когда Анашкин смолк, Шелестов поднялся, в раздумье постоял у стола и, не глядя на Анашкина, спросил:
— А вы успокоились на этом?
— Да нет, не успокоился. В бюро райкома написал. Только письмо мое пришло назад к секретарю нашей партийной организации.
— И что секретарь? — вновь присев напротив Анашкина, спросил Шелестов.
— Собрали партийное собрание. А нас всего партийцев пять человек. Козланюк, предсельсовета, бригадир, учитель и я.
— И что собрание?
— Постановили за клевету объявить мне строгий выговор с предупреждением.
— И вы согласны?
— Эх, не во мне дело! — с досадой махнул рукой Анашкин. — В народе дело, Дмитрий Тимофеевич, в народе!.. И никто меня не переубедит. Ведь только один учитель не из компании Козланюка, и он был против выговора. А эти два пьянствуют вместе с Козланюком. Каждый день пьянки. А на какие деньги? Да и по женской линии тоже дела творятся. Козланюк-то с женой не живет.
— Да, — вздохнул Шелестов, — про грязные дела вы рассказали.
— Дмитрий Тимофеевич, — несмело заговорил Анашкин, — я чувствую, что вы не совсем верите мне.
— Я верю вам, — остановил Шелестов собиравшегося было встать взволнованного Анашкина. — Но такие дела требуют очень тщательной проверки. Речь-то идет о людях, ведь сами говорите, что ценить нужно человека. Поэтому, прежде чем решать вопрос о ком-либо, нужно проверить все, взвесить.
— Все проверено, все до ниточки, — встав с кресла, запинаясь и спеша, воскликнул Анашкин, — и на все документы есть! Я же понимаю! Таких, как наш Козланюк, словами не пробьешь.
— И все у вас с собой?
— Вот то-то и оно, что нет. В обком партии я их послал. Написал большое письмо и послал вместе с документами. Только боюсь, как бы и в области не нашлись дружки Козланюка. Прошло более двух недель, а ответа нет. А вот тут прочитал я в газетах, что вас депутатом Верховного Совета избрали, ну и решил к вам поехать.
— Это хорошо, что приехали. То, что вы рассказали, для нас очень важно. Так вы говорите, документы в обкоме? Я сейчас проверю, по телефону переговорю.
Шелестов вышел, и Анашкин тяжело откинулся в кресле. Все, что он, старый, израненный человек, перенес в борьбе с Козланюком, сказалось сейчас, на последнем этапе этой борьбы. Он видел, как в конце его рассказа изменилось лицо Шелестова, из приветливого и веселого становясь хмурым и недоверчивым, как в его умных, проницательных глазах вспыхивали злые огоньки, как руки его — большие, чистые, с сильными пальцами — то сжимались в кулаки, то разжимались. И эти перемены в Шелестове поколебали его веру в успех поездки в Москву. Он верил, что Шелестов разберется во всем, разберется честно и бескорыстно, но знал он также и то, что у Шелестова слишком много работы и он едва ли сможет заниматься каждым колхозом лично сам, вынужден будет поручить это дело кому-либо из своих помощников. А этого как раз и боялся Анашкин.
Тяжело дыша и вытирая обильный пот на лице и на облысевшей голове, Анашкин ждал возвращения Шелестова и, едва услышав его твердые, сильные шаги, не по возрасту резво и торопливо встал, дрожащими руками одернул гимнастерку и, взглянув искоса на Шелестова, с радостным, просветлевшим лицом шагнул ему навстречу.
— Я знал… Я верил, — сбивчиво и торопливо заговорил он, глядя на веселое, приветливое лицо Шелестова.
— Да вы присядьте, Степан Харитонович, — как и при встрече, обеими руками сжав его руки, возбужденно и ласково заговорил Шелестов. — Я понимаю, как измотали, измучили вас в этой борьбе. Но правда на вашей стороне. Секретарь обкома сказал мне, что пять дней в вашем колхозе работает комиссия, все приведенные вами факты подтвердились и вас просят поскорее вернуться домой, чтоб на месте помочь обкомовцам в разборе дела.
— Я нынче же, от вас вот, сразу на поезд…
— Нет, нет, — остановил вдруг заспешившего старика Шелестов, — пообедаете, потом в театр сходите, а завтра Москву посмотрите. Мы устроим вас на самолет.
— Что вы, что вы! — замахал руками разволновавшийся Анашкин. — Зачем самолет? И театр не надо… И Москву после увижу… Домой скорее!
Счастливое и взволнованное лицо Анашкина, его горячая, сбивчивая речь и резкие движения старых жилистых рук вызвали у Шелестова глубокое раздумье. Он стоял, неотрывно глядя на старика, и вспоминал многих таких же вот простых, скромных и незаметных людей, прошедших тяжелый путь войны, но не упавших духом, а окрепших и с новыми силами взявшихся за мирное строительство. Конечно, недостатки, которые вскрыл в своем колхозе Анашкин, как и многие другие недостатки, существовали и раньше, и раньше этих недостатков и нарушений было значительно больше. И то, что теперь простые люди так воинственно и непримиримо выступают против недостатков и нарушений, безусловно свидетельствует о накопленном советскими людьми огромном опыте и о силе их жизненных устремлений.
— А наших встречаете кого-нибудь, товарищ генерал? — задал вдруг Анашкин неизбежный при встрече фронтовиков вопрос, под словом «наши» имея в виду всех, кто бывал с ними на фронте.
— Да, да. Встречаю и очень часто, — ответил Шелестов и, стараясь припомнить всех, кого видел в последнее время, и кого мог бы знать Анашкин, рассказал ему о сержанте Косенко, который окончил сельскохозяйственный институт и теперь работает директором крупной МТС, о полковнике Бахареве, об Аксенове, о его жене Насте.
Анашкин слушал Шелестова, то и дело приговаривая:
— Вот они, наши гвардейцы!..
Потом генерал и солдат долго стояли, глядя в окно. Над Москвой сгущались весенние сумерки, и, разгоняя мрак, один за другим в разных местах вспыхивали сотни, тысячи разноцветных огней.
Биографическая справка
Маркин Илья Иванович родился в 1919 году в деревне Жадомо Плавского района Тульской области. После окончания двух курсов Московского механического техникума в 1937 году добровольно вступил в Советскую Армию. В 1939 году, после окончания военного училища, в должности командира пулеметного взвода участвовал в боях с японскими захватчиками у реки Халхин-Гол. В предвоенные годы служил в Забайкалье и командовал пулеметной и зенитно-пулеметной ротами. В мае 1940 года принят в члены КПСС.
С первых дней Великой Отечественной войны, командуя пулеметной ротой, а затем стрелковым батальоном, участвовал в боях под Минском, Борисовом, в Смоленске, в районе Ярцево и под Москвой. В последующие годы служил в оперативных отделах крупных штабов и участвовал в битве под Сталинградом, в сражениях на Курской дуге, при форсировании Днепра, в Корсунь-Шевченковской, Ясско-Кишиневской, Будапештской, Венской и других операциях. За время Отечественной войны был трижды ранен. Награжден орденом Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, двумя орденами Красной Звезды и медалями. В 1948 году заочно окончил высшее военное учебное заведение.
Роман «На берегах Дуная» — первое художественное произведение автора.
Примечания
1
Эти дивизии советскими войсками были отрезаны и прижаты к морю.
(обратно)2
Офицеры оперативного отдела, работающие на определённом направлении.
(обратно)3
СТ — буквопечатающий телеграфный аппарат.
(обратно)4
ИПТАП — истребительный противотанковый артиллерийский полк, отсюда — иптаповский.
(обратно)5
«Лаг» (так в оригинале, правильно - «ЛаГГ» (прим. верстальщика))— марка советского самолёта-истребителя.
(обратно)6
Речь идет о парламентерах, которые были посланы советским командованием в войска немецко-фашистской группировки, окруженной в Будапеште. Гитлеровцы пропустили советских парламентеров, но когда они возвращались назад, предательски убили их.
(обратно)7
Котлованы, вырытые в земле для укрытия автомобилей, тягачей, танков.
(обратно)8
Бор — по-мадьярски — вино.
(обратно)







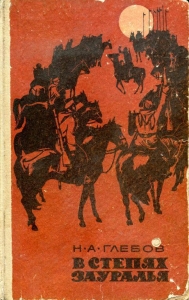

Комментарии к книге «На берегах Дуная», Илья Иванович Маркин
Всего 0 комментариев