Борис Анашенков Закон развития Рассказ
С утра городок наводняли жители окрестных деревень. Они стучались и звонили в квартиры, предлагали лук, картошку, морковь. Тихон Андреевич и брата принял за одного из этих коробейников, как он их называл.
— Не надо, ничего не надо! — с досадой бросил он в сумрак коридора, ибо это был уже четвертый звонок. — Сами можем предложить и картошку и морковь.
И хотел захлопнуть дверь. Невысокий, в коротком потертом пальтеце мужичок с фанерным баулом в руке быстро поставил между дверью и порогом ногу в сапоге. Тихон Андреевич пригляделся и ахнул:
— Павел!
— То-то же, — сказал Павел, входя в переднюю.
Братья обнялись.
— Дай, дай я на тебя погляжу, братишечка! — растроганно повторял Тихон Андреевич, отстраняясь от брата.
Павел хмурился, пытаясь придать лицу суровость и сдержанность, подобающие старшему брату в присутствии младшего, но у него ничего не получалось. Он улыбался как человек, который вообще-то шуток не уважает, но этой доволен.
Наталья Борисовна бурно приветствовала его. Павел медленно раздевался, прищуренными, пристально-насмешливыми глазами оглядывал невестку.
— Совсем барыня стала, — сказал он наконец, и Наталья Борисовна зарделась, точно ее похвалили.
— Как же это ты надумал-то? — изумлялся Тихон Андреевич. — Всю жизнь сиднем просидел и вдруг собрался. И не предупредил. Мы бы встретили тебя. Телеграмму-то хоть можно от вас послать?
Прошли в столовую. Наталья Борисовна хлопотала на кухне, то и дело подбегала к дверям.
— А Скурихины-то живы? — спрашивала она, улыбаясь. — А клуб новый, значит? Дом культуры!.. Это по-новому уже. У нас-то все больше избы-читальни были. С лампами керосиновыми сидели...
Она была из той же деревни, что и братья. Среднего роста, в меру полная, с живым, подвижным лицом, она походила сейчас на ребенка, которому вдруг навезли массу всяких подарков.
И Павел светлел лицом и тоже улыбался ей.
— Ты шуруй там, шуруй, — хмурился Тихон Андреевич. Проводив жену взглядом, вздыхал; — Та-ак, приехал, значит?.. Как надумал-то?
— Надумал, — посмеивался Павел. — Надумал.
На нем был длинный пиджак, застегнутый на все пуговицы, мешковатые брюки, заправленные в толстые, домашней вязки шерстяные носки, ворот серой рубахи туго стягивал коричневую морщинистую шею.
Заложив руки за спину, сильно сутулясь, Павел не спеша передвигался по столовой, осматривался. Помял ногами ковер, послушал, как тонко, нежно вызванивает в серванте посуда, щелкнул ногтем пианино.
Закончив осмотр, ткнул кулаком в тахту, осторожно присел.
— Приехал, значит?
— Приехал.
— Ну, ну! — Тихон Андреевич беспокойно заерзал, оглядываясь на дверь. Ему не терпелось показать брату свое хозяйство. Он очень гордился тем, что, несмотря на долгие годы ответственной службы, не утратил в себе того, что мысленно называл «крестьянством»: любое дело спорилось в его руках.
Смастерив буфет для кухни, переоборудовав в который раз уже кладовку, выточив ключ для замка, наладив мясорубку, которую жена собиралась выбрасывать, он с нетерпением ждал минуты, когда можно будет показать кому-нибудь свои труды. Его охотно и много хвалили, им восхищались, и Тихон Андреевич думал, что человек он все же не совсем обыкновенный.
И, конечно же, ему страстно хотелось, чтобы старший брат, сам мастер на все руки — и кузнец, и плотник, и слесарь, и каменщик, — оценил и одобрил его «крестьянство».
Будь Наталья Борисовна жена как жена, он бы и секунды не колебался. Но он знал, стоит ему подняться, как она вмешается и отравит эти дорогие для него минуты.
Павел сам помог ему.
— Показал бы, что ли, хозяйство свое, — сказал он весело. — А то все пишешь: хозяйство, хозяйство, — а мы никак в толк не возьмем, что за хозяйство, откуда ему у тебя взяться?
— Думаешь, сложа руки сидит здесь Тихон? — Тихон Андреевич вскочил, засуетился. — Пойдем, увидишь. Времени даром не трачу.
В передней он старался не шуметь, даже свет не зажег, но Наталья Борисовна все-таки услышала их сборы.
— Вы куда? Не пущу! — закричала она именно тем голосом, от которого у Тихона Андреевича начиналось сердцебиение. И включила внезапно свет. — Отец, что это ты выдумал? Человек только что с дороги, ванна греется, на стол сейчас накрываю...
— Ну, ты вот что, — сказал Тихон Андреевич, опуская глаза, в которых жена могла увидеть слишком много. — Ты шуруй там, шуруй, у нас свои дела, мужские...
Некоторое время братья шли молча. Тихон Андреевич переживал стычку с женой, у которой не было ни выдержки, ни такта; Павел осматривал городок: несколько десятков стандартных трехэтажных домов, составленных в прямые, будто разлинованные улицы.
Недавно сошел снег, и все кругом — дымившаяся на солнце земля, тонкие деревца, рассаженные тоже как будто по линейке, множество детей во двориках и даже самый запах отдохнувшей земли — все дышало свежестью и молодостью.
Осмотр хозяйства начали с гаража. Тихон Андреевич давно собирался купить машину, копил деньги, вел сложные переговоры с райпотребсоюзом, с очередниками, с какими-то бойкими, развязного вида людьми, но дело пока не подвигалось, и гараж использовался под мастерскую.
Тихон Андреевич бил каблуком в дощатый пол, выстукивал кулаками стены, открывал и закрывал массивные створки дверей, включил свет, хотя гараж был залит солнцем, а под конец спустился в люк и снизу победно посмотрел на брата.
— Видал? Не гараж, а дом хороший. Хоть зимой здесь живи. Вот она, наша порода! На все руки.
Многое из инструмента, развешенного над верстаком, — долотца, стамески, набор отверток, коловорот — Тихон Андреевич сделал сам. А деревянные насадки выкрасил морилкой и покрыл лаком. «Хоть на выставку», — повторял он, демонстрируя брату остроту, твердость инструментов, удобство в обращении. Павел трогал гнутым, стертым до блеска ногтем отточенные концы, кивал. Тихон Андреевич, избалованный шумными восторгами своих интеллигентных зятьев и дочерей, видел в этой сдержанности высшее одобрение и чувствовал себя все более уверенно.
Он ударил еще раз кулаком по стене, проверил водопроводный кран, огляделся и удовлетворенно сказал:
— Ну, теперь на огород.
Вышли на дорогу. Справа стоял хвойный лес, по левую сторону строились дома.
Тихон Андреевич указывал на валявшиеся по обочине бревна, доски, трубы, мотки проволоки, говорил с сарказмом:
— Хозяева хорошие, видал? На рупь построят — на тыщу потеряют. А у меня все в дело идет. Гараж, думаешь, из чего построен? Из этого вот мусора. У меня все пригодится, все.
И он вытащил из лужи доску, которую, очевидно, подкладывали под буксовавшую машину, бросил в кусты на другой стороне дороги.
— Посмотришь, какой я буфет из этих досок отгрохал. А стеллаж какой! Хоть на выставку.
На огороде смотреть, собственно, было нечего — участок только запахали, земля липла к сапогам, но Тихон Андреевич провел брата вокруг огорода и подробно объяснил, где что он посадит, сообщил, что в прошлом году взял пятнадцать мешков картошки.
— Лучше моей картошки ни у кого во всем городке не было. Пришлось зятькам попотеть, пока выкопали. Косточки-то не нашей породы, тонкие, интеллигентские.
— Продаешь картошку-то? — спросил вдруг Павел.
Тихон Андреевич строго посмотрел на него.
— Я не колхозник, не фермер. За прилавком мне не с руки сидеть в нарукавничках синих.
— Я к тому, что многовато для вас с Наталкой пятнадцать-то мешков, — пояснил Павел. Он смотрел в землю, лицо у него было озабоченное, казалось, он производил в уме сложные подсчеты. — А за прилавок не обязательно тебе садиться, жену бы послал. Беды нет, свое продашь, не краденое.
«Взыграла крестьянская жилка», — подумал Тихон Андреевич, а вслух сказал:
— Конечно, много. Сами едим, дочерей снабжаем, все равно остается. Выбрасывать за здорово-живешь жалко, вот и сажаешь каждый раз побольше. В прошлом году мешка три на свалку вывезли... Зазорного, конечно, в том нет, чтобы продать: свой труд, — но... смотрят у нас косо на это. Да и знают меня все.
— Давай я продам, — предложил неожиданно Павел и посмотрел на брата.
— Да ты что?!
— А что? Дело привычное, в мешке заметно, в баул можно насыпать. Чего добру пропадать?
— Да неловко как-то, — протянул раздумчиво Тихон Андреевич. — Приехал в гости...
— Ты на ловкости эти плюнь, — деловито посоветовал Павел. — Если бы чужой кто был, а то брат. Особенного тут ничего нет, я колхозник.
Павел снял картуз, пригладил коричневой ладонью седоватые короткие волосы. Лицо у него было узкое, темное, с глубокими складками вокруг рта.
— Коровой, кабанчиком не обзавелся?
— Куда там! — махнул рукой Тихон Андреевич, все еще думая о странном предложении брата. — Наталью разве заставишь теперь за кабаном ходить? — Тихон Андреевич всмотрелся в лицо брата и рассмеялся: — Уж не думаешь ли ты, что мы нуждаемся? Пенсия, знаешь, у меня какая?
Павел поднял голову.
— Какая?
Тихон Андреевич сказал:
— С такой деньгой можно и без огорода обойтись, но тянет меня земля, Паш. Ох, тянет! Полкартошины бросил — десять целых получил. Вот она, высшая математика.
— Математика, — протянул Павел. — Сад бы насадил, он бы вернее, счет-то, был.
— Это так. Только жизнь-то у нас какая? Сегодня — здесь, завтра — там. Хотим вот на Москву меняться. Сад с собой туда не повезешь.
— Тут оставишь?! — строго спросил Павел. — Не пропадет. Всю страну, небось, объездил, оставил бы везде по яблоньке, вот тебе и памятник, лучше не придумаешь.
Тихон Андреевич искоса взглянул на брата.
— А ты поэт прямо.
Павел опустил голову.
— Коммунизм ведь строим.
Тихон Андреевич снова вздохнул.
— Я сад-то выращу, оставлю дяде, а он возьмет да яблочки мои на базар и свезет. «Волгу» на них купит. Это как?
Павел словно бы в восторге хлопнул себя по бедрам ладонями, закричал:
— Ох, Тишка, голыми руками за тебя не берись! Гони, значит, картоху до самого коммунизма! А откуда же садам-то взяться? С неба?
Тихон Андреевич надул щеки.
— Я свое отсадил. Пусть молодежь теперь сажает.
Помолчали.
— В деревне-то колхоз какой? — вдруг поинтересовался Павел, кивая на деревеньку, лепившуюся по косогору на другой стороне ручья.
— Был колхоз, перевели, говорят, на совхоз.
— Ну, и народ как, не обижается?
— Не бывал там, — сухо ответил Тихон Андреевич.
— Зря, — сказал Павел.
Тихон Андреевич с любопытством взглянул на брата. Павел смутился, посмотрел на небо и надел картуз.
— На выставке мы были. Поспорили малость. Мужики домой поехали, а мне говорят: «К брату заверни, потолкуй. Он там высокую политику делает, не нам чета».
— Помнят?
— А как же! Ты у нас так высоко залетел.
Тихону Андреевичу было крайне лестно, что в деревне помнят о нем, что односельчане как бы прислали к нему своего ходока. За умом, за советом.
Он шел своим прямым, крупным шагом и громким голосом говорил, что колхоз — это коллективная форма собственности, а совхоз — общегосударственная; антагонистического противоречия между ними нет, на известном этапе происходит их сближение и слияние...
Павел семенил впереди, вобрав голову в плечи, так что большой картуз почти лежал у него на спине, он все прибавлял и прибавлял шаг, и казалось, вот-вот побежит. И только вновь спросил, бывал ли Тихон Андреевич в соседней деревне.
Тихон Андреевич, досадуя на забывчивость брата, вновь ответил, что в деревне не был, да это ведь и не обязательно увидеть, чтобы иметь свое суждение: главное в политике — знать общие законы развития.
И снова большой картуз лег на узкие, сутулые плечи брата.
Прежде чем войти в квартиру, спустились в кладовку, которая размещалась в подвале. В первом отделении хранились дрова и груда досок для столярных поделок, другое все было загромождено сундуками, опутанными, как паутиной, белыми ростками картофеля, бутылями, кадками; на полках выстроились батареи бутылок и банок.
Тихон Андреевич, забыв на время о брате, ругнул Наталью Борисовну, которая неизвестно о чем думает, стал ожесточенно обрывать с картофеля длинные белые нити.
Вытирая лоб, отошел к дверям, сказал:
— Через два месяца новый будет, а этого, видишь, сколько остается.
— Верных пять сот вывезешь, — сказал Павел. — А то и поболе. Насыпай с вечера баул, поеду завтра. Чего деньгами швыряться!
«А что в самом деле? — подумал Тихон Андреевич. — Чем выбрасывать, лучше продать. На деньги эти пиджак Павлу можно купить».
Он подумал, что такое решение устроит и Наталью, и повеселел.
— Ну, смотри, вольному, как говорится, воля. Ты старшой. Конечно, обидно, что пропадает добро. Ишь, целый лес вымахал. Говорят, что радиоактивным излучением сейчас ростки убивают. Опыты пока только.
Тихон Андреевич обошел кладовую.
— Разбаловалась Наталья у меня. Не лежит душа у нее к хозяйству. Доски преют, картофель прорастает, банки в паутине... И дочери в нее пошли. Беззаботные. Не ценят... Это я опята замариновал. Осенью их богато было, земли не видно. Что, думаю, добру пропадать! Семьдесят пять банок. Свой консервный завод. А это синенькие, огурчики, перчик. Винцо тоже свое, вишневое. Завод!
— Грибков-то многовато, — заметил Павел. — Положи мне несколько баночек в баул. Товар ходкий.
Тихон Андреевич рассмеялся.
— Что? Разгорелась душа? Бери, не жалко.
Наталья Борисовна уже накрывала стол.
Укоризненно взглянув на мужа, повела гостя в ванную.
Павел раздевался медленно. Стянул рубаху, посидел в одной майке, снял носки и опять посидел, разглядывая ступни, шевеля пальцами босых ног. А Тихон Андреевич, сильно толкая дверь, врывался в комнату то с одной, то с другой вещью, громко говорил:
— Видишь? Работка-то... Порода-а... А ты, небось, думал, сложа руки сидит Тишка? Нет, брат, мне сидеть не приходится.
Из двух старых шапок, которые Наталья Борисовна хотела выбрасывать, он смастерил одну, причем сам был и за скорняка. Дав Павлу подержать шапку, нахлобучил ее на голову, вышел и через минуту принес брюки, которые он перелицевал сам, и тужурку, переделанную из старого кителя.
Павел в одном исподнем стоял в ванной, когда Тихон Андреевич вошел к нему с весами в руках.
— Вот. Весы! — сказал он с гордостью. — Сам сделал, все сам. Над балансиром две ночи бился. Видишь, чашечки, как ни наклоняй, в горизонтальном положении остаются. Две ночи просидел над этой штукой. — Оглянулся на брата, переступавшего на каменном полу босыми ногами, подхватил весы под мышку.
— Ну, мойся, мойся.
Павел закрылся в ванной, а Тихон Андреевич, так и не сняв шапки, ходил из комнаты в комнату, трогал сделанные им вещи, взволнованно переводил дыхание.
В ванной зашумело и стихло. Павел позвал брата.
— Ну-ка, наладь кранты свои, — попросил он, — замучился совсем. То ледяная, то кипяток.
Тихон Андреевич объяснил про «кранты», смущаясь наготы брата, хлопнул Павла по спине.
— Как, покидаемся? Помнишь, как щелкал Тишку?
Хохотнул довольно и пустил душ на полную мощность.
— Много, много, куда? — запротестовал Павел.
— Лей, не жалей! — закричал Тихон Андреевич и, выйдя на кухню, велел жене подбросить еще дров.
Он стал скуповат под старость, не давала покоя мысль, что, получая все время большие деньги, не сумел скопить приличной суммы. Захотелось теперь машину — и приходится экономить. Себя он упрекать в чем-либо не привык, винил в бесхозяйственности жену, но легче от этого не становилось.
Сейчас ему было приятно не жалеть дров для брата.
Он прошел в столовую, удовлетворенно осмотрел стол.
— Шапку-то сними, отец, — сказала Наталья Борисовна.
Тихон Андреевич снял шапку, повернулся было и остановился, словно только сейчас вспомнил.
— Павел — чудак, — сказал он немного заискивающе, — пристал: дай, говорит, картошку вам продам. Чего добру пропадать!
Наталья Борисовна рассмеялась.
— Чего веселишься? — нахмурился Тихон Андреевич. — Я так и этак его отговаривал, он ни в какую. Узнал, что в позапрошлом году три мешка пропало, с лица переменился. Крестьянин! Сама из деревни, знаешь, каково на сердце, когда добро переводится зря. Для него это вроде удовольствия. Пусть попробует. Не здесь, конечно, в райгороде. А на деньги эти купим ему что-нибудь... Пиджак...
— Да ты что, отец? — Наталья Борисовна, казалось, теперь только поняла, о чем речь. — Что он, спятил?
Удивительный человек Наталья! Как к ней ни подходи, она обязательно найдет способ испортить настроение.
Павел внезапно вошел в столовую.
— Вот и я, — сказал он весело, с непонятной своей усмешкой в сторону. — Двадцать лет сбросил.
Тихон Андреевич покраснел. Ему показалось, что брат слышал его слова. Он смотрел на жену, но лицо ее расплывалось в улыбке. Конечно, она не чувствовала за собой никакой вины. Удивительный человек!
Сели за стол. Выпили. Братья помалкивали. Говорила одна Наталья Борисовна. На нее водка подействовала сразу, она раскраснелась, оживилась, глаза ее мечтательно блистали.
— Скурихины там, значит? — спрашивала она. — И бабка Катя жива? Ну, эта, с нашего краю, концом света которая всех пугала. Жива? Ты скажи на милость! Вот те и конец света.
Наталья Борисовна была одной из первых комсомолок на селе, работала секретарем сельсовета, организовала первую в районе избу-читальню. Она вспоминала, как ездила в город, на завод, за книгами, как бабка Катя не пускала ее в избу, называя книги сатанинской отрыжкой; сыну и дочери она предсказывала умопомрачение в том случае, если они будут читать книги.
— Ох, и попортила мне крови эта бабка! — качала головой Наталья Борисовна. — Сколько книг порвала! Бывало, улицу перехожу, она за мной идет, в след мой плюет и заклятия бормочет.
Наталья Борисовна смеялась, взмахивала руками, и в раскрасневшемся лице ее, в прическе, туго оттянутой назад, в аккуратном платьице с отложным воротничком проглядывало что-то прежнее, боевое, задорное, комсомольское.
— Да-а, сошла ты с пути, Наталка, сошла, — тянул Павел, задумчиво поглядывая на нее. — Тебе бы с характером твоим в Кремле сидеть сейчас. Огонь-девка была...
Наталья Борисовна сощурила, будто от внезапной боли, глаза, низко нагнула голову, повела ладошкой по скатерти.
— Так получилось... Не судьба... Дети... Тишу с места на место перебрасывали, я за ним... В институт поступила, на агронома хотела. Год проучилась, отца снова перевели — бараки, поле голое. Где уж там учиться...
— Вроде багажа, значит, ты за ним путешествовала? Так получается?
— Да, так...
Тихону Андреевичу не нравилось, что Павел так много внимания уделяет жене, да и весь разговор не нравился: в нем он различал что-то похожее на упрек себе.
— Так помнят, говоришь, меня? — спросил он, наливая себе водки. — За высокой политикой послали тебя мужички?.. Да-а...
— Помнят, послали.
То ли после ванны, то ли от водки, хотя пил он немного, может быть, и от усталости Павел погрузнел, постарел, резче обозначились морщины вокруг узкого жесткого рта, чаще кривились губы.
Наталья Борисовна пробормотала что-то насчет пирога и вышла, пряча лицо от проницательных глаз Павла.
— Зря ты разговоры эти затеял, — сказал Тихон Андреевич. — Она ведь всерьез все принимает. Пойдет теперь переживать, — он усмехнулся. — Все виновных ищет.
Павел промолчал. Пил он немного, к еде тоже почти не прикасался: сослался на больной желудок.
— Клин клином вышибать надо! — закричал Тихон Андреевич, снова наливая себе водки. — Я пока служил, каких только болезней у меня не находили! Месяцами на исследованиях разных... В отставку вышел — все как рукой сняло.
Павел снова промолчал. Лицо у него было такое же, как и на огороде, казалось, он производил в уме сложные подсчеты и никак не мог свести концы с концами.
Тихон Андреевич подкладывал себе холодца, заливной рыбы, огурчиков, пил, закусывал, снова пил, улыбался.
— Так помнят, значит, Тишку?
— Помнят, помнят...
Павел вдруг встал.
— Прилягу я, Тихон. Нехорошо мне что-то.
— Вот те раз! — зашумел Тихон Андреевич, тоже вставая. Лицо его блестело от пота, короткие влажные пряди липли на выпуклый крепкий лоб, он размахивал зажатой в руке вилкой, кричал: — Подводишь, Павел, нашу породу, подводишь! А я уж думал, стол сдвинем да и померяемся силенкой-то, а? Как бывало! Сдаешь, брат, сдаешь... А еще с картошкой собрался ехать.
— На картошку силенок хватит, — сказал Павел. — Силенка есть. От соленого меня, наверно, замутило.
Братья перешли в кабинет, где гостю постелили на диване. Горела одна настольная лампа, стены тонули в полумраке. Наталья Борисовна мыла на кухне посуду.
Павел, одетый, сидел в постели, потирал грудь, смотрел в одну точку.
— Вспомнили, значит? — Тихон Андреевич растроганно поморгал. — Конечно, в деревне, там высокой политики не увидишь, уперся носом в свой забор — и дальше ни тпру, ни ну. Главное тут — общие законы развития. Знай их — и дело как по маслу пойдет. Эх, мне бы к вам председателем!
Павел поднял голову.
— Чего же не приехал! Вот в Белоруссии один отставник как колхоз поднял... Инвалид войны. Москву бросил, квартиру, на разор поехал. А теперь на всю страну гремит, люди к нему со всего света за умом едут.
— Устал я, Паша, — негромко пожаловался Тихон Андреевич.
— Тебе пятьдесят шесть, ты устал, а мне шестьдесят... По двенадцать часов из кузни не вылезаю. И войну прошел, в шахте семь лет отработал, в колхозе какие только работы не перепробовал.
— У меня ответственность была, Паша, — мягко сказал Тихон Андреевич. — Штука тяжелая, не каждому по плечу. Думаешь, за что нам такие деньги платит государство? За красивые глаза? Только радости от них мало. Вышел на покой, только бы и пожить, глядишь — трах! — и нет человека. Как мухи мрут. И все ответственность, Паша. Все соки из тебя берет.
— А у меня разве ответственности нет? — сощурился Павел. — Не подготовлю инвентарь, сев сорвется, без хлеба останешься ты, Тишка. И тоже не одними руками, головой поработать нужно.
— Не то, Паша, не то...
Наталья Борисовна, в переднике, с полотенцем в руках, стала в дверях, улыбнулась. «Сейчас брякнет что-нибудь», — подумал Тихон Андреевич.
— Ты чтой-то, Павел, — наконец сказала Наталья Борисовна, заговорщически поглядывая на мужа, — картошкой, говорят, торговать собрался?
— А что?! — Павел выпрямился и тоже как будто повеселел. — Дело правое. Грех куском бросаться, верно, Тихон? Утратила ты, Наталка, крестьянство, утратила. Избаловал тебя Тихон. Ишь, лес какой развела в подвале! За косы бы ее, Тихон, за косы.
Он с неожиданной легкостью и даже веселостью вскочил с дивана.
— Пойдем, Тиша, наберем мешочек, чтобы завтра не возиться. Первый автобус когда в город идет? В шесть? Ну и ладно. Может, два раза еще обернусь.
Спустились в подвал. Павел остановился у входа, а Тихон Андреевич, повязав старый женин передник, стал насыпать. «Охота пуще неволи, — бормотал он. — Ходить, конечно, не придется, первый сорт картошечка, с руками оторвут, а все-таки...» Ему было неудобно держать мешок и насыпать, но позвать на помощь Павла он не решался. Жена снова вклинилась между ними, отравила все своим дурацким смехом, вопросами. «Удивительный человек! Ну, если бы я навязывал Павлу эту торговлю, тогда понятно, а то ведь он сам предложил. Для него это — удовольствие. После этого он просто увереннее будет себя чувствовать в доме... Э, да разве она поймет!»
Покраснев от натуги, он поволок мешок к лестнице. Павел молча посторонился. И снова Тихон Андреевич ощутил неловкость, досаду, снова не решился попросить Павла помочь ему поднять мешок.
Никогда еще он не испытывал такой острой неприязни, прямо-таки ненависти к жене. Ведь дура, явная дура, за всю жизнь рубля своим горбом не заработала, на всем готовом всегда прохлаждалась, птичьего молока только не имела, а лезет, лезет...
В прихожей Тихон Андреевич с грохотом бросил мешок на пол, вытер рукой лоб.
— Многовато принес...
Павел вдруг позвал Наталью Борисовну. Она появилась не сразу, искоса, осуждающе взглянула на одного, на другого.
— Наталка, а ведь он и впрямь готов меня с картошкой на базар отправить, — сказал Павел, с задумчивым, жалеющим интересом глядя на брата.
У Тихона Андреевича часто-часто застучало в виски, ставшие непрочными, тонкими, как бумага.
— Кто хочет?.. Ты же сам... Ты что, Павел? — забормотал он, не слыша и не понимая своих слов.
Много-много лет назад, еще до войны, Тихон Андреевич получил выговор по службе, а до выговора его дело долго разбирали всевозможные комиссии. Все обошлось лучше, чем он мог ожидать. С тех пор служба его текла мирно, но страх перед возможностью нового разноса не покидал его. Уходя в отставку, Тихон прежде всего подумал, что теперь не нужно будет бояться, хотя первые месяцы, пока он привыкал к новому положению, страх нет-нет да и давал о себе знать. Сейчас же ему вдруг показалось, что ничего не обошлось, разнос все-таки настиг его. И самый строгий, какой только мог быть. Никакого снисхождения! Никакой жалости!
И Павел, лицо которого расплывалось в глазах, отступало и никак не могло отступить, был уже не Павел, а высокий начальник. Как удары молота, падали из его рта слова.
— Вбок живешь, Тишка! — кричал Павел. — Мы в деревне участки свои обрезаем, чтобы силу не распылять, колхозное производство поднять, а ты с эдакой-то вышины и вон куда скатился! Сукин ты сын, Тишка!
Павел вдруг сморщился, взмахнул тугим, жилистым кулаком.
Наталья Борисовна перехватила его руку, обняла, повторяя:
— Не надо, Павлуша, не надо. Что ты?
Губы ее дергались, но слезы, мелкие и частые, так и сыпались из ее глаз.
Павел опустился устало на старенький диван в углу прихожей, уронил между плеч голову.
— Закон развития, — бормотал он, вздрагивая всей спиной. — Закон развития... Нет, не выбрали бы тебя у нас председателем. Я бы первый руку против поднял.
Наталья Борисовна сидела рядом с ним, не плакала и молчала. Вид у нее был такой, какой бывает у людей, решившихся после долгих колебаний на что-то твердое и определенное.
Тихон Андреевич снял с вешалки старый плащ и вышел.
На улице было темно, свежо. Боль, стучавшая в виски, на воздухе усилилась, голова раскалывалась от нее.
Тихон Андреевич быстро шел мимо темных, сливавшихся в сплошную стену сосен, мимо стройки с редкими, неяркими огнями и думал, что добром эта история для него не кончится, придется, очевидно, слечь в постель, и надолго.
Он дошел до шоссе, постоял и решительно повернул назад.
Мысль о том, что Павел сидит сейчас с Натальей Борисовной, говорит о нем, была невыносима. Он решил поначалу, что брат разыгрывает ее, а она по глупости принимает его слова за чистую монету. Теперь он чувствовал, что сам оказался в дураках. Он вспомнил ее смех, ее голос и все прибавлял шаг. Конечно, с Павлом она нашла общий язык. Что ж, он не возражает: отправляйтесь, Наталья Борисовна, в деревню, живите там, работайте в колхозе.
Вступив на территорию городка, Тихон Андреевич вдруг увидел впереди себя, под шапкой фонаря, темную невысокую фигуру. Не успев ни о чем подумать, отступил под сосны. Виски снова напряглись, сердце подкатилось к горлу. Показалось или нет?
Человек на дороге миновал светлый круг, в темноте слышалось только шарканье ног, кашель, бормотание.
«Показалось или нет? Показалось или нет?»— стучало в голове.
Шаги послышались совсем рядом. Тихон Андреевич прижался к сосне, затаил дыхание. Человек прошел мимо. Фанерный баул глухо бился о его колени. В нескольких шагах от Тихона Андреевича человек остановился, огляделся.
— Закон развития, — вдруг услышал Тихон Андреевич явственно, — закон развития...
Тихон Андреевич перевел дыхание. «Ну и ладно, оно и к лучшему», — подумал он, выходя на дорогу.
Пройдя несколько шагов, остановился, подумал, повернул назад. С дороги сошел на лесную обочину, зашуршал в кустах. Выпрямился, осмотрелся, как человек, потерявший внезапно дорогу, прошел еще немного и снова нырнул в кусты. Нащупав мокрый конец доски, перевел дыхание. Вытер доску о кусты, подхватил под мышку и широко, решительно зашагал к дому.
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg


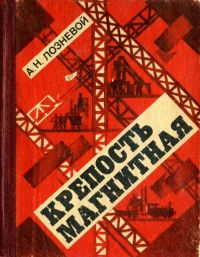

Комментарии к книге «Закон развития», Борис Алексеевич Анашенков
Всего 0 комментариев