Это случилось у моря
ЭТО СЛУЧИЛОСЬ У МОРЯ Повесть
Посвящается Н. В. Никитиной
Это случилось у моря на краю земли, там, где утром от солнца сгорают на скалах холодные тени и рождается новый день.
Зовется море Охотским, а поселок — Охоткой, потому что всяк охоч был поставить свою рыбацкую хибару у тихой голубой бухты, в которой рыбы полным-полно, хоть черпай ведром.
Только тишина там обманчива. Нет ее ни в час прибоя, когда гудят скалы, ни в ветреный вечер, когда чайки устают и им трудно взлетать.
Скалы так крепки и тверды, а море так широко и неспокойно, что даже в знойные несколько дней меж каменных глыб всегда настороже шуршит вереск.
Воды и берега древнее, чем люди, и между ними веками идет глухая борьба.
Борьба земли и воды.
Много в Охотке сложено легенд, и в каждой вода всегда хотела залить и потопить землю, только у нее этого не получалось, потому что и сама вода держится на земле.
За рыбацким поселком, за высоким обрывом глубинные тяжелые воды, и только у берега одинокая ленивая волна доносит шлепки по лбам катышей. Камни обросли мхом, и кажется, когда накатывает на них волна, они ныряют в воду. Чем шире, тем бездоннее небо. Если утром подуют сырые ветра, в воздухе дрожит белая холодная пелена водяной пыли, которая рассеивается вокруг на камни. Они голубеют.
Вода заливает их, обмывает, но камни остаются на берегу, на земле, как люди, о которых сложено много легенд.
Почему-то люди селились по берегам рек, озер и морей — видно, люди так же, как и вода и земля, друг без друга обходиться не могут.
Море любит людей смелых и отважных. Оно широкое и далекое, как степь. Если утром, когда на скалах пищат птичьи выводки: «пиу-пиу», вглядеться вдаль, можно заметить, что море будто захлестнуло горизонт.
То, что случится с рыбаками в море, превращается в целую историю. Одна из таких историй случилась в поселке Охотка в рыболовецкой артели.
1. Двое на берегу
Мария знает, как ночью шумят холодные воды Охотского моря. Она любит, уложив детей спать, Сашку и Наташу, приходить на берег к Отчаянной скале, которая выдалась в море вперед, разрезая острым углом волны при лунном свете. Отсюда, однажды Афанасий — ее муж — отплыл на баркасе на разведку косяка кеты и… не вернулся. Попал, должно быть, в жестокий шторм. В тот страшный день так же висела в небе полная луна, и одинокие волны нехотя накатывались на берег. За день они уставали подмывать Отчаянную скалу.
Мария стояла на берегу, дыша соленым ветром, и задумчиво смотрела вдаль. Где-то там… в седых холодных глубинах погиб Афанасий, ее любый человек.
Сегодня ночью луна светила ярко, словно в насмешку, напоминая ей о том, что было когда-то…
Вдовья печаль повела Марию по берегу. За высокими гранитными глыбами она увидела волны, услышала их шум и ощутила на щеках первые брызги…
Камни тяжелые, свинцовые от лунного света, обкатанные волной, как тюлени, блестели круглыми боками. Волны перемывали песок, гольцы оставались на берегу, и когда накатывала вторая волна — они шевелились и дробно стукались друг о друга.
Небо над морем бездонное и темное, в нем крупные зеленые звезды. Луна отражается на волне, и волна доносит это отражение до берега и разбивает его о скалу. Луна дробится на куски литого серебра, которые, смешиваясь с пеной и брызгами, просверкав, гаснут.
Ветер дул слабый, прохладный, откуда-то из-за горизонта. Он был влажный и приятно освежал лицо Марии, шевелил локоны черных волос, выбившихся из-под платка, и непослушная, начавшая седеть прядка, невесомо трепыхалась у виска.
А море шумит… неумолчное, холодное Охотское море. Сыплется из расщелин песок, выдуваемый ветром. Он шуршит, как пена, когда волна откатывает от берега. В расщелинах всегда от воды отстаивается соль, и чахлый вереск, белый от соли, гибнет.
Иногда Марии на берегу ночью через слезы плохо видно… Сегодня она не плачет, наедине с собой и морем.
В рыбацком поселке ее не обижают. Красивая, белолицая, с большими темными глазами, она героически, с самоотвержением таит свою печаль, ходит по земле уверенно, работает молча в своем рыбном цехе среди счастливых подруг, а если с кем и заговорит спокойным тихим голосом, губы ее всегда в полуулыбке.
Радуют дети. Сейчас у них праздник: лето и каникулы. Школа ремонтируется. Там много известки. Откуда только ее достали? Сашка, стриженый, верткий, пропадает около поселка с ватагой дружков, а вечером рассказывает, что они спугнули птичий базар, жгли костер и — вот вам — достает из-за пазухи печеные яйца: «Мам, они вкусные». А она вспоминает стихи московского поэта, которые они всем гамузом в рыболовецком цехе читали: «…Из них бы птицы быть могли! А птицы… петь бы стали!»
Или целый день он толчется на рыбозаводе. И тогда работницы высовываются из окон: во дворе стоит страшный перезвон-перестук. Это мальчишки стучат палками по пустым бочкам, определяя по звуку, в какой бочке сидит спрятавшийся.
А уж когда рыбаки возвращаются с лова и весь поселок встречает их на берегу, тут начинается игра взрослых и детей.
— Смотри, Саша, не оконфузься.
Мальчишки добираются вплавь до первого баркаса и кричат рыбакам: «Живую рыбку! Живую рыбку!» И если улов богат, рыбаки весело швыряют в мальчишек живыми рыбинами, и тут нужно не оплошать, поймать на лету живую рыбу, первым достичь берега и вручить ее самому старому на берегу. Тогда ты герой и тебе все время до следующего лова верховодить сверстниками. Сашка много раз был героем…
Однажды он заявил:
— Я, мам, рыбаком, как нашенские, не буду. Ловят — и все. Я стану военным рыбаком.
— Што?!
— Ну, понимаешь, чтоб пушки на баркасах. Мы на лове, а тут откуда ни возьмись… фашисты! А мы в них трах-бах, трах-бах-бах! И — белуга!
Вспомнился Афанасий. Это его словцо. Бывало скажет: «Мария! Сегодня лов гулевой. Ставь пол-литра! И — белуга!»
Наташенька, дочка, тише Сашки. Робкая, послушная, работящая. Не заметишь, как все по дому сама и сделает.
Где-то за горизонтом раздался тоскливый, протяжный гудок сейнера. Устало и тяжело рокотали моторы баркасов. Это возвращался с ночного лова Павел Игнатов.
Мария вспомнила, как на свадьбе Таньки Безугловой она и Павел оказались рядом за столом. Он посмотрел на нее пристально сбоку и стал предупредительно ухаживать за ней, поднося рюмочки красного вина. Ей запомнился его ласковый взгляд, когда уходила со свадьбы. А когда рыбак Водовозов старался у нее добиться расположения, запомнила еще и то, что Павел стоял в просвете дверей, ведущих в сени. На его круглом большом лбу дрожали светлые капельки пота, как росинки.
О чем он думал тогда?!
Застонала вспуганная кем-то чайка. Вспорхнула и, засеребрив крылья в лунном свете, прочертила небо и скрылась где-то в камнях…
Волна за волной… Волна за волной… Море, как вечный работник, катит свои волны на берег. Шуршит… шелестит… шумит.
Волны, как секунды, от удара к удару о берега.
Мария прислушивается к этому шуму и думает с болью на сердце: сколько она видела волн, сколько отсчитано секунд, и так незаметно, как волны, ушли ее годы.
Да… От одиночества нужно уходить. А куда? К кому?
Ходят слухи: пойдет ли она к Водовозову? Нет! Стыдно. Жива еще жена его! В рыбацком поселке бабы остры на язык, раззвонят повсюду — от одного сраму постареешь.
За большим щербатым камнем метнулась чья-то тень. Павел? Да… он. Широкоплечий, неуклюжий от рыбацкой брезентовой робы, как жесть, негнущейся. Чешуйки рыбы на ней блестели, точно иней. Резиновые сапоги выше колен терлись один о другой. Они вдавливали песок, но эти следы Павла тотчас же смывало набегавшей волной. Узнав Марию, Павел направился к ней. Он шел вразвалочку, горбясь, как виноватый в чем-то.
— Мария! Ты?.. Здесь опять?!
— Проходи.
— Устал я.
Помолчали.
Она посмотрела на его большую, чуть поникшую голову, грубое неподвижное лицо с раздвоенным подбородком и густыми бровями, стянутыми к переносице, из-под которых не было видно глаз, подумала, что по поселку и по берегу ходит он по-хозяйски, быстро, не обходя камни, и всегда в толпе рыбаков его можно различить по широкой спине и высокому росту. Но почему-то всегда один ходит. Ни родственников, ни жены у него… И ей стало жаль его.
В складках небрежно откинутого за плечи капюшона блестела вода.
— Много рыбы? — спросила Мария.
Надо было о чем-то говорить.
Павел встрепенулся, будто очнувшись, и вдруг рассмеялся, молодецки хлопнул ее по плечу.
— На всю страну хватит!
И тут она увидела его глаза. Они смотрели на нее открыто, большие, веселые, в зрачках метались лунные искорки.
— У Дальнего камня на косяк напали в обхват. Вот вернулись. Чанов и бочек не хватает. Куда рыбу девать? Не успевают ни коптить, ни солить, ни сушить. Заводишко-то наш мал.
В ночи слушались урчание рыбонасоса, гром пустых подкатываемых бочек, крики команд, далекие гудки сейнеров, а здесь рядом — разбойничий свист ветра в расщелинах скал.
«Куда рыбу девать… А долю мою куда денешь? Не спрячешь, не высушишь», — подумала Мария и услышала тихое, нежное:
— Дети дома?
— Спят.
Зашагали по берегу. Она заметила, что он наблюдает за нею сбоку, разглядывая лицо. Покраснела, опустив голову, ждала, что сейчас он скажет ей что-то хорошее.
— Что же ты никогда меня в гости не пригласишь?
У Марии обрадованно застучало сердце.
— А зачем приглашать? Мой дом открыт, не на запоре. Сам зайдешь.
На берегу потемнело, и море тоже стало темным.
Павел и Мария оглядели небо с тяжелыми облаками. Как чугунные, они нависли над морем, закрыли луну, сломали горизонт, и там, вдали, будто выходили, переваливаясь, из воды, и их округлые днища подмывало водой. Мария остановилась, раздумывая, идти ли ей дальше, но Павел шагал вперед, и она, помешкав немного, поравнялась с ним.
— У Водовозова жена умирает, — сказал он прямо.
У Марии екнуло сердце. «Знает о сватовстве».
— Умирает. Рак. Жаль ее.
Павел хмуро и презрительно выкрикнул:
— А человек уже себе новую жену ищет! А?
Мария остановилась и услышала:
— Он, говорят, и к тебе сватался?!
Она ждала, что вот он ее сейчас спросит: «Ну, и что же ты ему ответила?». Но он не спросил, и ей стало обидно, что он не спросил ее об этом. Зябко поежилась.
— Холодно что-то. К себе пора.
Над головой грохнула молния, лучи ее затрещали, вспарывая темноту. Волны будто присели, и шум их уже не так был слышен. Гром прокатился по скалам. Мария испуганно схватила Павла за рукав и прижалась к плечу. Он полуобнял ее, будто защищая.
Опять рассыпалась молния, упала где-то за камнями.
— Завтра принесу тебе чертов палец, — рассмеялся Павел. — Не торопись. — Он поежился. — Промок я. Озяб немножко. Сейчас бы спирту рюмочку.
— Есть у меня, виски натираю, когда голова болит.
— Уважь, поднеси. Я у калитки постою. Спасибо скажу.
— Не опьянеешь?
— Согреюсь. Если много нальешь — опьянею.
Мария засмеялась. Пошла побыстрее. Море с его шумами осталось позади.
Ее дом. Павел задержал Марию за руку, вздохнул:
— Вот смотрю я на тебя, Мария, и не знаю, что бы сделать для тебя хорошее?
— Хорошего на свете много. Сердце ведь свое не вынешь… не отдашь мне…
— Сколько в тебе печали… Знаю ведь, не одна у моря… с мужем разговор ведешь. Хороший был рыбак.
За калиткой звякнула цепью лайка Мушка. Мария устало прислонилась к калитке и доверила:
— Завидую я людям…
И вдруг неожиданно разрыдалась. Павел стал неумело утешать, обхватив ее за плечи, и услышал у самого уха ее прерывистый, горячий шепот:
— Я сейчас… Я сейчас. Забыла, зачем пришла.
— Мария, никогда не плачь! Слышишь?! Ты молодая и красивая, у тебя хорошие дети. Слезы женщине не к лицу. А мужчины ведь редко плачут. Ладно. Угощай, хозяйка. — Павел натянуто засмеялся: — Слыхал, к Водовозову идешь!?
— А тебе что? Выпей спирту и иди домой.
— Расхотелось.
— После работы можно. От простуды.
Ей было приятно смотреть, как Павел, большими руками обхватив стакан так, что его не стало видно, поднес к губам и пил медленно, большими глотками, как чай. Утерся рукавом, крякнул:
— Ну вот… тепло теперь. — И добавил: — Знаешь, не ходи больше ночью к морю. Береги себя.
Этого ей еще никто не говорил. Да и кто мог сказать ей об этом? А Павел — сказал… Но тут же подумала о том, что людям вообще легко говорить жалостливые слова…
Его рука легла на ее плечо, тяжелая и горячая, легла спокойно и нежно. Он кивнул ей, мол, не робей, все впереди — и ушел в ночь.
На побережье ничего нельзя было разглядеть. С берега доносился шум прибоя, и было слышно, как поскрипывает песок под уверенными шагами Павла. Засвистел в расщелинах ветер, скалы загудели — начался шторм.
2. Варька
Варька, тяжело ступая по холодным плитам гранитной скалы, глубоко вздохнула, разбежалась, и когда море ударило синевой воды в глаза, оттолкнулась ногами, выбросила тело в воздух и полетела, раскинув руки, как птица крылья. Ей нравилось стремительное падение со скалы в воду, и когда она считала секунды, приближаясь к воде, сердце захватывало от счастья, от ощущения полета.
Каждое утро она приходила на облюбованную ею скалу и каждое утро прохладные воды моря принимали ее. Она шумно плескалась у берега, долго ныряла и, продрогнув, одевалась, подолгу сидела на камне, уставившись в бесконечную морскую даль, силясь разглядеть: а что там, за горизонтом?!
Там были города и люди. Другая жизнь…
Она была одинокой, свободной. В двенадцать лет убежала из детдома, бродяжничала по берегам Охотского моря, а потом, когда вымахала в здоровую краснощекую девку, на которую стали засматриваться парни, прижилась в рыбацком поселке Охотке, да так и осталась, поступив работать поваром на сейнер.
В поселке о ней шла нехорошая молва как о гулящей. Ей было уже двадцать лет, когда неожиданно посватал ее вдовый рыбак из соседнего поселка Каменки.
Просто пришел он, Буйносов Федор, к ней в хибару и сказал:
— Давно слежу за тобой. Люба ты мне. Давай сойдемся. Я один и ты, вижу, одна. Вместе жить легче, — и почему-то встал на колени.
Варька растерялась тогда: никто еще не сватал ее, и она не знала, что это такое, но подумала, что вот человек, наверное, любит ее, раз пришел звать к себе в жены, и ей стало приятно.
Она подняла его с пола, усадила за стол и захлопотала у печки. Ей было жаль его, скромного, одинокого, намного старше ее; она замечала, как он опускал глаза, когда встречался с нею взглядом, как поправлял розовый вылинявший галстук и старался удерживать дрожь в руках, когда черпал ложкой щербу-уху.
«Пьет много. Ох, ты мой негаданный!» — подумала она о нем, жалеючи его, и еще подумала, что вот и начинается ее настоящая-то жизнь с мужем, в семье. А что?! Ведь выходят женщины замуж и у каждой муж рыбак, и дети! Видно, и ей пора такая настала, что этот мил-человек сам пришел и сам позвал ее к себе, ласково назвав «Варенькой», и все время почему-то прятал руки.
Потом он ушел. Варвара сказала ему, что подумает, и ночью долго не могла уснуть… Много женщин в поселке, много вдов и молодиц, а выбрал Федор только ее…
Много парней любовались ею, многие обхаживали ее, целовали, но никто всерьез не предлагал ей пожениться, а тут почти незнакомый, явился — и вот она должна решить: пойти в Каменку мужней женой или остаться в Охотке.
Нравился ей Павел Игнатов — мастер лова, высокий, русоволосый, но он, казалось, не обращал на нее внимания… Любила она его издали, крепко, до головной боли, и всегда искала встреч с ним. А он, как всегда, сдав рыбу, проходил мимо, и когда от этого щемило в душе, Варвара все ждала, что Павел придет к ней и скажет, как Федор Буйносов: «Давай, выходи за меня замуж — и все. Вот я свое сердце тебе положил на стол».
Но этого не было. И она ушла в Каменку к Буйносову.
Они тогда шли берегом, шли долго. Неспокойное море накатывало волны на берег. Федор, обняв Варвару за плечи, вздыхал о чем-то, а она смотрела в море, и ей хотелось искупаться. Она подумала, что это ее муж, о чем она мечтала!
И потянулись серые скучные дни. Федор, возвращаясь с лова, пил, и Варваре это было противно. Она несколько раз собиралась уходить, но было неудобно, да и жаль Федора, хотя настоящего счастья не видела, а только тоска, безрадостность. Поняла однажды, что живет она у Федора домашней работницей, и еще поняла, что без любви, только на жалости, и что жить так дальше не сможет.
Через два месяца она ушла от него. Вернулась домой, не хотелось жить просто так и на чужом берегу. А здесь, в Охотке, все было другое. Она почти каждый день видела Павла и ждала, что настанет такое время, когда и он будет засматриваться на нее, искать встречи.
А по утрам перед работой смотрела на себя в зеркальце, думая о том, что не такая уж она последняя да некрасивая, чтобы не понравиться ему. «Я красивая! Красивая!» — спорила она с отражением в зеркале. Нравилась самой себе.
На нее из стекла глядела улыбающаяся молодая краснощекая рыбачка с немного удивленными зелеными глазами.
Следила за походкой. Ей хотелось так шагать по земле, будто она не шагает, а летает, как птица. Но походка ее была тяжелой. Упругие груди выпирали из батистовой кофты. Она иногда закрывала их косами.
С Павлом Игнатовым Варвара познакомилась на сейнере, когда работала поваром. Он зашел в камбуз, промокший и злой. Встал у металлической обшивки котла обсушиться и приложил озябшие руки к горячей броне.
Она поставила на стол еду и, упершись кулаками в бока, веселым, чуть с хрипотцой голосом, пригласила:
— Кушайте, Павел Иванович. Остынет же!
Он долго смотрел на нее, моргая.
Она зарделась румянцем и подумала: «И этот любуется».
Съел все и попросил добавки. А потом долго курил и все смотрел на нее до тех пор, пока его не вызвали наверх, на палубу.
Приставали рыбаки — била их по рукам. Особенно приставал Водовозов. Она слышала, как Павел сказал ему однажды:
— Не преследуй девку — не по тебе она. Жена есть к тому же.
Вскоре Варвара перешла работать на берег, в рыбные цеха.
По вечерам она любила уходить к морю и слушать его приглушенный шум, смотреть в небо. Ей особенно нравилось, когда от горизонта до горизонта опоясывали небо белой лентой невидимые реактивные самолеты. Думала, что летчики эти обязательно из Москвы, что где-то есть другая интересная, веселая жизнь, и ей хотелось в Москву.
А когда видела в море корабль, гадала: военный или торговый, и все ждала, что корабль вот-вот подойдет к берегу, туда, где она сидит, и выйдут на берег моряки и сделают ручкой приглашение: «Пожалуйста, Варвара Михайловна, к нам в гости».
Редко в Охотке появляются новые люди. Разве почтовый катер с длинным рыжим почтальоном, который всегда подмигивает и нехорошо осматривает ее с ног до головы, да экспедитора по приему рыбы, приезжающие на пустом рефрижераторе.
Правда, еще иногда останавливаются в Охотке геологи дня на два, а потом уходят куда-то, так что и рассмотреть-то их некогда как следует.
Один в кожаной куртке и клетчатой рубашке, белокурый такой, сказал ей однажды: «Идемте с нами! Работа найдется. А то свою, кажется, вы не любите… Да и характер у вас такой, что вам все новое подавай…»
Она растерялась тогда и ничего не могла решить, хоть ей было и приятно такое приглашение.
Она любила Павла. Были еще демобилизованные из Германии солдаты. Она видела их на свадьбе Таньки Безугловой. А еще приезжал как-то корреспондент газеты из Москвы, веселый молодой парень, почему-то в морской офицерской форме.
Он всех фотографировал, уезжал с рыбаками на лов, обо всем расспрашивал и купался с мальчишками.
— Варвара, ты мне нравишься, — сказал он ей однажды и покраснел.
Все время фотографировал ее и на работе, и дома, и на берегу. Особенно ему нравилось, когда она как птица летала со скалы в воду. Он восхищенно ахал и щелкал фотоаппаратом.
Они любили наблюдать за морем и в штиль и в шторм, смотреть, как волны с шумом подкатывались к ногам и с шипением оседали, уплывая обратно. За волной тянулся шурша белый пенистый шлейф, пузырясь и лопаясь меж галькой.
Корреспондент заходил в воду, подставлял плечо волне, входил в нее, и вместе с волной выбрасывался на берег, хохотал.
— Вот, Варвара Михайловна! — шептал он. — Понастроим мы здесь городов, опояшем все побережье железными дорогами, в порта будут приходить из всех стран корабли… — И на лице его светилось что-то уверенное, восторженное, будто то, о чем он мечтает, непременно сбудется.
Варька внутренне соглашалась с ним, а вслух со смехом говорила:
— Зачем же железные дороги на побережье? Поезда всю рыбу распугают.
Корреспондент был вежливым, обходительным, не допускал ничего такого, что позволяли парни по отношению к ней, и Варьке иногда было стыдно того, что она ждет этого от слишком культурного человека.
А потом он уехал, пообещав на прощанье обязательно прислать фотографии.
Вот не прислал еще. Видно, занят. Он не объяснился ей в любви, хотя она и ждала этого, а еще обидней было, что он не догадался пригласить ее с собой в Москву, а только сказал однажды, что нравится она, Варька, ему.
А если бы пригласил — уехала б не раздумывая.
Уехала… А Павел? Остался бы здесь один на берегу. А ведь она любит его. Нет, Павла она не бросит. Вот понастроят люди и здесь города, опояшут побережье железными дорогами, насадят сады, в порта будут приходить корабли из разных стран — и будет у них здесь тоже Москва…
3. Птичий базар
Мария утром проснулась поздно. Сашки и Наташи в доме не было. Она всегда вставала раньше, чем дети, а сегодня проспала потому, что задержалась ночью в коптильном цехе: уж очень много поступило рыбы.
Она встала, торопливо умылась и, на ходу погладив по загривку лайку Мушку, бросилась искать своих детей.
У моря их не было. В рыбном цехе — тоже. «Где же они? Как же я проспала?.. Ведь хотела встать раньше… Где их искать?». Сашка обещал натаскать в бочку воды из колодца, а с Наташей они собирались постирать, и вот их нет… Отбиваются от рук!..
Мария остановилась, часто переводя дыхание, и нараспев прокричала по пустынному берегу: «Са-а-ша! На-та-а-ша!..» Никто не ответил.
Вот здесь стоит она на берегу, а направо от нее пепельно-светлое Охотское море. Она видит прибрежные обрывы, камни, торчащие из воды, и птиц. Чайки летают неистово, плачут. Топорки выныривают из воздуха, а кайры чертят по небу стремительные круги, потом устало машут крыльями и садятся или на ветку или на камень.
Навстречу ей по берегу шел Тимоша, рыжий и грязный.
— Тетя Маша! Я не плачу. Мне Сашка наподдавал.
— А где он?
— На птичий базар они пошли. А меня не взяли.
— А Наташи с ним не было?
— Наташка задается. Они пошли с девчонками водоросли таскать из моря.
Мария обняла Тимошку.
— Ну и почему же тебя не взяли-то?
— Сашка мне сказал, что я рыжий и птицы меня сразу видят. А ведь я тихонько-тихонько подползаю к гнездам. И вот, тетя Маша, я утром собрал целую фуражку яичек, а потом уронил: споткнулся… Ну, вот Сашка мне и наподдавал. Они сейчас там костер жгут и яички едят.
Мария не раз ругала Сашку за то, что он собирал дружков и вместе с ними разорял птичьи гнезда. А он говорил ей в ответ: «Мам, там так много яичек». И она, гладя его по вихрам, старалась разъяснить сыну, что в каждом яичке — птичка.
— Ну, Тимош, давай, пойду помирю вас…
На Охотском море много птичьих базаров. На скалах достаточно мест для гнездовий, но на Отчаянную скалу почему-то всегда прилетало больше птиц. И кайры, и буревестники, и бакланы, и конюги, и топорки.
— Костер, говоришь, жгут?
— Ага! При мне развели.
Мария вспомнила о бочке, в которой должна быть вода…
— Тетя Маша, а Наташка сегодня ругала Саню. Я слышал, когда с ними шел. Наташка его ругала: «Мам спит, а ты — удираешь». А Сашка дернул ее за косичку, стал показывать кулаки и говорит: «А что? Ты видела бочку? А воду в ней видела? Я всех раньше встал и давно воды натаскал, еще ты спала, и пусть мама меня не ругает».
Мария смотрела на Тимошку и улыбалась.
— Теть Маша, вон там они…
Мария увидела Отчаянную скалу, у которой она ночами ведет разговор с погибшим мужем. Над скалой неистово кричали птицы, кружились в воздухе, как будто не умели летать, и все припадали к граниту скалы, по-своему, по-птичьи стоная.
Не было вокруг для Марии ни неба, ни моря, ни земли, а только птицы. И где-то там на скале среди них бедокурил Сашка.
Тимошка протянул руку вперед и радостно крикнул:
— Вон там он!
— Где, где?
— Да вон на выступе! Смотрите: он подбирается к гнезду!
Мария пригляделась к Отчаянной скале и заметила Сашку, который беспомощно дрыгал ногами и все тянулся, перебирая руками, к гнезду, а над ним шумели птицы.
— Ой, мама! — вскрикнул Тимошка, — он сейчас упадет!
У Марии екнуло сердце. Она знала, что Сашка много раз был «героем» и первым доплывал до баркаса, откуда рыбаки бросали в него живую рыбу. Ей хотелось крикнуть: «Саша, не оконфузься!» — как всегда, но белое облако птиц закрыло его, и ей показалось, что птицы вот-вот заклюют сына.
— Теть Маша, вы подождите, я сейчас…
Тимошка карабкался вверх по синим щербатым камням, и Мария была по-матерински благодарна этому мальчишке — Тимошке, которому утром «наподдавал» Сашка… «Как же сын ее не мог понять того, что Тимошка может спасти дружка, как рыбаки спасают друг друга в море».
И вот уже она видит, что и Тимошку закрыло птичье облако, а потом вдруг птиц не стало, и она снова увидела высокую скалу, на которой цеплялись за землю двое мальчишек. Один висел над водой, другой, Тимошка, протягивал руку к ее сыну.
Она шептала:
— Саша, Сашенька… не оконфузься, держись, миленький… вот там веточка какая-то, ты подними руку, ухватись, подними ножки — упрись пяткой, подтянись!..
Стремительно с криком откуда-то издалека прилетел буревестник. Он сел рядом с гнездом и посмотрел на двух человечков и, может быть, понял, что они в беде…
«Вот их теперь трое».
Мария смотрела на них, на двух мальчишек и на птицу между ними: рука Тимошки чуть-чуть не дотрагивалась до белого крылышка. Потом она увидела, что снова прилетели птицы, снова закрыли скалу белым облаком, а… Сашки уже не было.
«Сорвался, негодяй, оконфузился… Ну, да бывает… Ох, сорванцы, ничего не боятся! Хорошими мужиками растут».
Тимошка, моргая, старался сдержать слезы, быстро, быстро на коленках подползал к матери друга и бормотал сначала шепотом, а потом все громче и громче:
— Саша… он… он… упал…
Мария обхватила руками Тимошку, прижала к груди, расцеловала его.
— Ну вот, я вас и помирила. Никогда, Тимошенька, слышишь, не прячь руку за спину, всегда протягивай ее вперед друзьям.
— Теть Маша, смотрите, Сашка-то плывет! Вон, вон!
— Плывет.
Мария не боялась за Сашку, плавать он хорошо умел, у них в рыбацком поселке с малых лет приводят детей на берег, и тут уж мужчины и женщины учат их плавать и привыкать к морю.
— Пойдем-ка, Тимошенька, на берег. Вон, видишь, Сашенька-то плывет и плывет. Ты только больше не плачь.
— Теть Маша, я ему руку сую, а он висит и все хочет гнездо схватить. Не взял мою руку-то. Я уж ему все простил, как он мне утром наподдавал. А вот когда руку-то я к нему протягивал, думал, убьется он, и я опять заплакал.
Они увидели девочек. Их платьица были развешаны на ветках изогнутых березок, а сами они, гомоня и брызгаясь, ловили у берега куски дерева — плавник, и вытягивали из воды, как веревки, длинные, тяжелые водоросли.
Наташка упиралась ногой в камень и долго, долго тянула из моря зеленую веревку.
Девчонки кричали:
— А у меня больше! А у меня больше!
Тимошка побежал помогать Наташке, и когда они дотянули водоросль и увидели на конце ее мохнатый желтый хвост, загородил спиной Наташку и крикнул:
— У нас больше всех!
Девчонки посмотрели и рассмеялись, а потом, взвизгнув, оторопели: прямо из воды вынырнул Сашка. Отфыркиваясь, он выплывал из воды веселый, и, когда увидел мать, крикнул:
— Мам, это я!
Мария погрозила ему кулаком.
Узнав, что мать здесь, на берегу, Наташка подскочила к ней.
— Мам, ты нас не ругай, что мы ушли. Ты так крепко спала, что мы не стали будить тебя.
Ее перебил Сашка, который вышел из воды усталый. Он отодвинул плечом сестренку и, шмыгнув носом, торжественно, как взрослый, протянул руку Тимошке.
У Марии к горлу подступил комок, она почувствовала, что веки ее потяжелели и вот-вот брызнут слезы из глаз. Она услышала:
— Наташка, слушай! Вот он…. — Сашка указал рукой на Тимошку, — он хороший. Мы его всегда-будем брать на базар.
Наташка захихикала.
Тимошка смотрел на нее исподлобья, сопел и приглаживал свои рыжие волосы.
Мария обняла Сашку, Наташку и Тимошеньку, чуть оттолкнула их, сказала:
— Ну, идите, играйте, — и медленно стала подниматься по тропе к рыбацкому поселку.
Отчаянная скала, от которой отплыл в море ее муж и погиб и с которой сорвался в море ее сын, но доплыл до берега к сестре, к Тимошке, к ее материнскому сердцу, осталась нависать, над морем, чугунная, грозная и седая от птиц.
А на берегу рядом со скалой играли дети. Их было много; они шумели, смеялись, брызгались водой, бросали друг в друга песок или, закинув кому-нибудь веревку-водоросль на шею, тянули к земле, и всем было очень хорошо.
Мария глядела на них сверху и видела их то на берегу, то в море; когда она их видела на берегу, то ей казалось, что никаких птичьих базаров на этом седом Охотском море нету, а есть один веселый, ребячий базар, где никто не сорвется со скалы и где всегда ребятишки протянут друг другу руку, если кого-нибудь из них настигнет беда.
Сколько раз она с мужем ходила по Охотской земле, сколько раз она видела и льды и туманы в море, и тайгу, и сочные луга, и лианы, и бамбук на юге. Тогда, на юге, родились ее дети. А потом, когда мужа перевели в Охотку, ближе к Аяну, она уже безропотно шагала сквозь хвойный лес по заболоченной тундре, овеваемая морскими и земными ветрами.
Она была рада, что дети ее растут хорошими, смелыми, честными…
И вот эти сопки, низкорослые горки, которые окружают Большую гору, никогда не закроют неба до тех пор, покуда живы ее дети, покуда она не вырастит из них настоящих людей.
«Что-то я задержалась на тропе-то!? Вот по этой тропе поднимался Сашенька недавно. Он принес мне тогда полную-полную корзинку голубики и брусники, а веточку с зелеными листочками спрятал за пазухой и, вынимая ее, сказал: «Мам, а это тебе!» и подал сразу в руки и веточку и корзинку.
А Наташка принесла домой охапку розовых веток Иван-чая, пучок зеленого мха и даже пучок белесого ягеля…»
Мария была довольна своими детьми, и когда, чуть не плача, прижимала к груди эти милые детские подарки от природы, то все больше убеждалась, что у нее в сердце всегда рядом на целую долгую жизнь две веточки — Сашенька и Наташенька.
Из них вырастут крепкие деревья, и никакой туман не закроет их, никакая льдина не остудит их, никакая волна не смоет их, никакой шторм не испугает их.
Мария спокойно пошла домой.
4. Встреча
Сопка называлась Большой горой, ее окружал глубокий овраг, поросший жестким кустарником. В ложбине оврага протекал холодный светлый ручей. Он не достигал моря и уходил в землю, под камни. У этого ручья каждый вечер собиралась поселковая молодежь. Девушки приходили с кружками, а парни доставали воду под камнями: там ручей бурлил, и вода была студеная, вкусная. Сегодня здесь никого, потому что все находились на берегу: заканчивался большой лов. Бродила только Варька. Ей хотелось побыть одной. Пусть там на берегу весело, а она вот попьет из ручья, сломает веточку кустарника и поднимется по Большой горе к небу.
И вот Варька уже на самой вершине. Ее обдувают ветра. Она смотрит вдаль на море и замечает, что моря нет, а это просто опрокинулось небо на землю, и хочется полететь туда, запеть песню или заплакать. Ей кажется, что никого вокруг на земле нету, кроме нее; да это сейчас действительно так: небо, земля, море и она…
Кто-то из-под горы закричал простуженным басом:
— Э-э-й!
Варька увидела человека, который карабкался по камням, выбираясь из оврага. Он махал ей рукой, будто хотел что-то сообщить важное и тревожное. Она узнала Водовозова. Он поднимался тяжело и неуклюже, часто дышал. Варвара смотрела на него сверху. Она стояла на сопке, а снизу к ней поднимался он; из-под сапог выкатывались камешки, когда он ступал на землю.
Варька подумала: «Есть небо — чистое и голубое, и есть земля — черная и каменистая… И много людей ходит по этой земле. И среди них — Водовозов…»
Она заметила, что у сапог были толстые подошвы, и когда он протянул к ней руку и крикнул: «Варвара!» — большой камень вывернулся из-под каблука и покатился вниз, туда, откуда Водовозов пришел.
И вот он встал лицом к лицу.
— Варвара… — замялся, — у тебя щеки румяные.
Варька смотрела на этого человека, который снизу дошел до нее, и еще раз подумала о том, что людей на свете очень много и среди них есть Водовозов. Она знала, что он ищет себе жену. Вот и сейчас он стоит перед нею. «Хе! У него ведь хозяйство… Почему он небритый?.. Скоро они уйдут с Павлом на лов. Вот ведь как в жизни получается! Он и Павел… Я, наверное, дура: не могу понять, у кого из них душа добрая? Конечно, у Павлуши. Водовозов мне вот жизнь предложит, а Павел — ничего… Люди, люди! Почему нет у меня счастья?!»
— Поговорим с тобой… И что ты к нему прилипла? Разве других… м-м… в поселке мало?
Варька разозлилась. Она приблизила свое лицо к его лицу и пристально посмотрела ему в глаза, и когда он странно заморгал и чуть вскинул руки, намереваясь ее обнять, крикнула:
— Павел… Вот где он у меня, черт осетровый! Моргни он мне — море переплыву! — ударила она по своим грудям ладонью.
Водовозов растерялся. Ему хотелось сказать Варваре, что жизнь проходит, как волны, ударяясь каждый день о берег, что он ее любит не так, как думают люди, а по-своему…
— Ну… Взять хоть меня. Я ведь всерьез. Детишки чтоб… Опять же, — он кашлянул, — хозяйство…
Варька закрыла глаза.
Павел ведь смотрит-то как… Насквозь! Кровь-то сразу в ноги и ударяет!
Водовозов потер руки и виновато посмотрел на нее:
— Ну, побалуется он с тобой, а жить не станет. Если бы ты вошла в мой дом, ты бы все хозяйство повернула!.. А… Павел… таких, как ты, не любит.
Варька засмеялась. Она сдернула с головы платок, раскинула белые полные руки, волосы ее распушились, и вся она была похожа на птицу, готовую вот-вот взлететь.
— Слушай, Водовозов. Я тебя не люблю. Не могу я любить тебя. Павел… Сама не знаю, что мне с собой делать.
Водовозов поднял голову и жестко произнес:
— Ладно. Не будет у тебя счастья.
Варька вспыхнула:
— Ты говоришь, у меня счастья не будет?.. Ты, думаешь, Мария его у меня отнимет?!
Варька вздохнула:
— Жалко мне Марию… Куда он полезет, в семьищу! Видно, жалеет ее и детей. Ох, жалеть легко, любить — трудно!
И вот они стоят вдвоем над оврагом. А где-то слышится море, тихое, спокойное. Днем Охотское море безбрежное, далекое. И здесь, если смотреть на него сверху, оно почти голубое и седое у горизонта. Водовозов поежился.
Варвара вот здесь, с этой скалы, утрами бросалась вниз головой в холодные воды.
«До моря дойти — несколько шагов, а сколько же шагов нужно, чтобы дойти до сердца любимого человека?!»
Варька вздохнула задумавшись.
— Пав-е-л! — крикнула она и снова раскинула руки.
Где-то вдали отозвалось эхо: по камням на берегу долго перекатывалось «э-эл!»
Водовозов заморгал.
— Варюха, Варюха…
— Ну, что тебе?
— Теперь слушай меня. Девка ты… хорошая. Я тоже неплох, ан ты другого любишь… Сейчас я уйду. Ты останешься одна. Я тебе честно предлагал… себя и жизнь. Так вот, Варюха, смотри — останешься ты одна на всю жизнь!
— Нет, ты постой, погоди! Послушай, Водовозов, как тебе не стыдно? Ведь у тебя жена еще жива?
— Есть… Жива.
— А ты ее любишь?
— Любил, когда была здоровой.
— Уходи!
— Варя, ну что ты?
— Вон с земли прочь!
Водовозов поник. Он поднял руку и чуть забоялся, потому что Варвара указала рукой на низ оврага, по откосу которого он так тяжело поднимался.
— Я не уйду.
Варька ничего не сказала в ответ и, будто не было Водовозова, подалась вперед.
Если стоишь на сопке и смотришь на море, то небо под тобой и те облачка, которые чуть не задевают твою голову, всегда рядом. Стоит только протянуть руку — и ты можешь по-мальчишечьи покачать облачко.
Но сегодня облачка не было. Варвара подумала о том, что есть Водовозов, а для нее это все равно: есть он или нет его.
…Там у берега, на скалах, зашумел птичий базар. Белые птички тормошили воздух и, как показалось Варваре, не было ни неба, ни моря, ни берега, а только птицы, птицы, как хлопья летящего снега. Скоро будет зима. Еще не растаяли прошлогодние льдины, которые, как одинокие люди, не могут пристать к берегу, и бывает же в Охотском море такая волна — возьмет да и ударит льдиной о берег. Здесь твое место! Льдины, льдины… Когда-нибудь они растают…
Водовозов подошел, смущенно тронул Варвару за рукав и кивнул головой вниз:
— Павел идет…
Варька вскрикнула:
— Где? — и сразу заблестели слезы на ее глазах. — Он, он! Пойду навстречу! Ты прости меня. Я тебе все сказала.
— Не прощу.
— Прощай.
Но Водовозов не ушел. Варька тараторила: «Прощай, прощай!» — будто спешила куда-то, а он отошел в сторону, смотря то на нее, то на сапоги. Варька глядела вниз, на Павла: она на небе, а он на земле, и уже не Водовозов поднимается к ней, а ее любимый человек. И вот он как будто вырос перед ней, закрыл плечами горизонт и небо, и под черными бровями она увидела огоньки его глаз.
— Здравствуй, Варвара! Не помешал?
Ей хотелось вскрикнуть: «Что ты?! Я так тебя ждала!»
Павел посмотрел на Водовозова, кивнул ему:
— Здорово!
Тот не ответил.
— Что это вы на сопке от людей хоронитесь? — спросил Павел строго. — На берегу нужно быть. Я искал тебя, Водовозов. В запасе — время. Проверь моторы и сети.
Варька подняла руку: она хотела погладить щеки Павла, но рука ее вдруг на весу сжалась в кулак, и она спрятала ее за спину.
— Павлуша, послушай меня. Вот этот человек меня любит, а я его — нет. Я не пошла на берег. Я хожу туда только тогда, когда ты приходишь с моря. Я тебе так много хочу сказать…
— Говори.
Мешал Водовозов.
— Послушай-ка, Павел, — сказал тот, тяжело и устало, — ты нам помешал. Мы с Варварой говорили о том, чтобы соединить наши жизни.
— Слушаю, слушаю. Это как же получается у людей!? А жена твоя?!
Водовозов взмахнул рукой.
— Жена не жилец на этом свете.
Они приблизились друг к другу, и Павел презрительно бросил ему в лицо:
— Дур-рак!
Варьке не хотелось, чтобы они поссорились, она порывалась все время что-то сказать, но знала: когда говорят рыбаки, женщине не место встревать в их разговор, тем более, что в этом разговоре решалась ее судьба…
Но Варька вмешалась, перебила их разговор, гневно затараторила:
— Вы, человеки! А что я вам скажу… Разве может на земле кто-нибудь мешать другому. Вон видите море? Там много воды и много рыбы. Море кормит рыбаков, земля рожает хлеб… И что же вы думаете, на этой сопке, на ее вершине, где можно достать небо рукой, не хватит места для всех. Водовозов, жалко мне тебя. Уйди ты, пожалуйста, туда… к жене, скажи ей какие-нибудь хорошие слова. Пусть, если уж бог посулил ей смерть, пусть она умрет легко, унося с собой в могилу эти хорошие слова… А нас ты оставь. Наши сердца, ты их не слышишь, стучат друг другу навстречу.
Павел смотрел на Варвару и удивлялся: «Откуда у этой женщины брались слова, мысли обо всем и обо всех?» Он залюбовался ею.
Водовозов ладонью утер губы и одиноко стал спускаться вниз к оврагу, где шумел холодный, светлый ручей, который, как казалось всем, разбежался по земле, споткнулся о камни и не добежал до моря.
5. Варькины вопросы
— Ну вот… Вроде обидели мы человека, — Варька провела рукой по лбу. — А ты меня… не обидишь?
Павел улыбнулся, проговорил:
— Варенька, когда я смотрю на работниц и они поют, вынимая рыбу из брезентовых ванн, я думаю о том, что если настоящий человек, то он никогда не обидит женщину. Ну, а уж если найдется такой — грош ему цена. А тебя я не обижу. Водовозову мы правду сказали.
— Какой ты хороший… Пойдем на берег. Я тебе скажу что-то.
Он взял ее за руку, как маленькую девочку, и улыбался. На душе у него стало светло и приятно, он повел Варьку в низ Большой горы, обходя камни: боялся, что Варя споткнется о них.
И вот оно — море! Даже не видно неба: наступила ночь, и из волн поднялась луна; откуда-то из далеких космических глубин она посылала свой печальный мягкий свет, освещая двух людей на земле, на берегу Охотского моря.
Камни были белые, как льдины, будто их швырнуло волной на берег, и остались они лежать навечно, не тая.
— Павел! Смотри!
— Куда?
— Вперед! Ты не видишь горизонта? А меня видишь? Смотри на море. Морей на земле много, но различаются эти моря тем, какие люди живут на их берегах. Охотское море одно из лучших потому, что на его берегах работают и любят друг друга особенные, добрые, суровые и отважные люди, с широкой душой… Вот, как ты… А теперь, Павлуша, на меня смотри.
— Варь, ты что это сегодня?..
— Я не сегодня, я всегда так. Ты ой какой умный! Научи, жить как?
Павел положил руку ей на плечо, она стряхнула его руку:
— Научи, жить как? Чтоб любили, а не лапали.
Павел молчал. Он не знал, как ответить ей, и только слушал ее гордый, веселый и отчаянный голос.
— По рукам бью, а обнимут — приятно. Обними…
Павел растерялся… Конечно, он бы мог ее обнять…
Варька вздохнула.
— Хм!… Сердце даже забилось… Павлуша, если ты будешь мой, я тебя всю жизнь буду целовать…
Варька откинула свои тяжелые косы за спину.
— Слушай меня. Живет человек на земле и живет… И вдруг его дом… горит. Он ищет дверь. А ее нет. Одни стены. Вот так и я. Павлуша, делай со мной все, что хочешь, я вся твоя. Не говори мне ничего. Я люблю твои губы, смотрела на них, но не целовала. Нет, не поцелую… Что-то к нам приезжать перестали… — вдруг переключилась она на другой разговор. — Хоть бы новый кто приплыл, высокий, удалой, уж я б ему полюбилась. Может, сядем?
Павел кивнул головой и подумал о том, что он бы не смог полюбить Варвару. Она такая доверчивая, добрая и отчаянная, родная сестра. Он только мог бы любоваться ею и знать, что в его жизни есть Варенька.
Варька сидела на камне, разбросав волосы на плечи. Ей не терпелось ткнуть в бок Павла.
— Ну, вот… мы и рядом. Садись, Павлуша. Сел? Хорошо. Слышишь море? Вода, волны. А мы с тобой — два человека. Я Варвара, а ты — Павел. Чуешь? Щеки у меня горят. Говорить стыдно. Сердце стучит. Отчего? Скажи.
— Говори, говори, Варя…
— Нет, ты ответь, почему сердце так громко стучит? Первый раз и… светло на душе! Какие у тебя руки… большие. Моя рука упрячется в твоей ладони сразу. Проверим?!
— Ну, давай, проверим.
Варька засмеялась громко и заливисто, кулак ее, зажатый рукой Павла, чуть дрожал.
— А что я тебе скажу… Только ты не смейся. Ладно? Я вот все на звезды смотрю. И каждой ночью они в разном месте. Сегодня вон та, яркая, висела над рыбным цехом, а завтра, глядишь, она светит над берегом, и чуточку тусклая. Отчего это? Ответь.
Павел вспомнил глаза Марии, ее вздох и зашептал растерянно и сбивчиво:
— Отвечу, отвечу… Звезды. Шар земной вертится. Звезды перемещаются. Если небо чистое и ветра нет, они светят ярко.
— Знаю я это. А ты мне ответь по душе, Павел. Купила я в городе, в Аяне, две косынки. Одну в квадратиках, другую — в полоску. Долго выбирала. Смотрелась в зеркало и видела не себя, а тебя. Будто смотришь ты из стекла на меня и качаешь головой: «Не бери». Квадратную я всегда ношу, а в полоску набрасываю, когда ты с лова возвращаешься… А хочешь, куплю алую, с китайскими желтыми драконами?!
— Я тебе сам подарю.
— Павлуша, а сегодня новые звезды. Почему?
— Варвара, тебе не холодно?
— Нет. А ты в Москве бывал? Я — нет. Снилась она мне. Все большие дома. В окнах — свет. В магазинах — много всякой рыбы. Это ты наловил ее… и кормишь всю страну.
— Варь…
— А?
— Мне хорошо с тобой.
— Понимаю.
— Говори, говори…
Павел накинул кожушок ей на плечи, и Варька как-то сразу сникла, тронутая его заботой, будто она не ждала этого.
— Что-то умное я хотела сказать тебе, да слова растеряла по тропе. Вот мы живем у моря и знаем друг друга. Неплохие, не последние люди. А почему, Павел, счастье не приходит человеку вовремя? Что ты на это скажешь?
Варька закрыла лицо руками… А Павел растерянно проговорил:
— Хороший ты человек. Уважаю я тебя. Вот я люблю Марию и…
— Марию? — удивилась Варька. — Ну и люби. Меня не забудь. Ведь я душу тебе всю открыла…
— Варенька… Будет у тебя счастье!
— С тобою было бы. У сердца тебя носила бы всю жизнь. С тобой в море поплыла бы. Дай мне руку твою и посмотри мне в глаза. Пустое болтала я тут, верно одно — не будет мне счастья без тебя. Вот я и вся сказалась…
Пустынный огромный берег молчал, камни громоздились над камнями, песок не шуршал — было тихо, и только слышался всплеск накатной воды, ленивой и сонной.
Варька смотрела вдаль, поверх голышей на море и тоже молчала. Ей казалось, что стоит только открыть душу перед любимым человеком, как тот встрепенется, удивится и тоже раскроет свою, и будет на земле все хорошо.
Сидят они оба у моря, два человека, и каждый думает о своем. Вода тихая, она опоясывает берег, и над водой и над скалами последняя чайка неистово летает, играя серебряными от луны крыльями.
6. Прощание
«Сколько лет может прожить человек на свете? Пятьдесят, сто, больше… И почему, когда человек рождается, то у всех праздник, а когда умирает, то горе? А вот если бы я умерла — ни праздника, ни горя!» — задумчиво говорила себе Варька. Она облокотилась на плетень и вдруг увидела Марию, которая шла, опустив голову, рядом с Водовозовым. Он специально взял ее под локоть и хитро улыбнулся.
«Хм. Куда это они пошли? На праздник или на горе?!» Поравнялись с ней.
— А-а, Варюха!.. — сказал Водовозов.
— Здравствуй, Варя, — поклонилась Мария.
— Вы куда? — спросила Варька.
Водовозов ответил:
— А мы с собрания. Ты почему не была?
— Я отработалась. Павла жду. У нас будет свое собрание.
Водовозов захохотал:
— Кто же из вас председатель?
— Рыбный промысел! Женихов пока еще себе не ищем. Успеется… За двадцать нам только… чуть-чуть.
Мария отдернула руку от Водовозова и покраснела.
Варька рассмеялась громко и заливисто.
— Иди, иди, чать больная-то жена глаз не выцарапает!
За поселком виднелись скалы и море. Сквозь туманную пелену неба тускло светило огромное дымчатое солнце, и жидкий свет его мягко ложился на камни, а тени в расщелинах были мрачные, чугунные. Не слышно ни ветра, ни прибоя, ни птиц. Разносился по поселку веселый Варькин смех, перекрывая злой лай некормленных собак Водовозова.
Мария быстро пошла вперед: «Посмеялась… А что она, как с цепи сорвалась?! Вот схожу, жену его, Агашу, успокою. До нее, наверно, дошли сплетни, что Водовозов сватается за меня. Он мечется: у него хозяйство и некому за домом смотреть. Детей нет и жена умирает… Человек он, вроде, неплохой, кому-то станет хорошим мужем, от пьянства его отучить можно… Тяжело ему, как и мне. Годы прошли — а жизни не видела. Да… жизнь, как обещание бесконечное, все ждешь и ждешь, когда настоящая-то исполнится… Посмотрим, Варечка, как ты жизнь свою устроишь. Будешь или не будешь искать женихов».
Она идет по дороге. Эта дорога отличалась тем, что к ней вели тропинки.
Мария смотрела на эти тропинки и думала: «А ведь в жизни бывают тоже дороги и тропы… Если человек прокладывает тропинки — это еще не то. Он должен проложить себе дорогу. Но дорогу проложить, к сожалению, не каждому дается!».
Мария боялась, что у нее спадет платок, которым она обвязывала голову. Эта Варька… эта встреча… совсем расхотелось идти к Водовозовым… Но надо… надо утешить несчастную женщину. Давно ее не навещала… А Водовозов говорит, что она доживает последние дни…
Они вместе подошли к дому. Изгородей было много. Стоял большой просторный дом с сараем, над которым провисал навес. Две собаки. Они залаяли, когда к ним подошли два человека.
— Не бойся, привязаны, — сказал Водовозов, взяв Марию за локоть.
Пригнув голову ниже притолоки в сенях, Мария вошла в дом.
На кровати пластом лежала Агафья. Она умирала от рака. Лицо ее желто-черное, губы сухие, глаза — лучистые. В них метались не те лунные искорки, которые Мария видела в глазах Павла ночью на берегу, это были другие искорки.
Она сказала себе: «Вот это да-а-а… Живет и живет человек на земле, и нет его, умирает…»
Агафья пошевелилась, спросила, вглядываясь:
— Кого ты привел?
Водовозов тяжело произнес:
— Мария навестить пришла.
— Это ты, Маша?! Подойди ко мне!
Мария подошла к Агафье.
— Дай мне руку твою…. — помолчала, рассматривая Марию. — Ты выглядишь хорошо. А я вот… — она не договорила, заморгала затуманившимися глазами, прикрыла их, и все крепче и судорожней сжимала сухими горячими руками руку Марии.
— Сказывали мне соседи про тебя и… мужа моего… Будто сватает он тебя… Женой ввести в дом хочет. Ждет, когда я…
Мария вырвала руку, отпрянула, чувствуя, как заколотилось сердце, опахнуло жаром щеки, остановило дыхание.
— Да что ты, Агаша, говоришь-то?! Врут они все. Я ведь зачем пришла. Навестить тебя пришла я. Соседи что?! Им языки потрепать. И муж твой здесь не причем Что у него на уме — неведомо. Тяжело ему…
Агафья вздохнула.
— Тяжело. Может, это я так думаю… от печали, от боли. И голова кругом идет. Все конца жду.
— Ну что ты, Агаша! Зачем так. Надейся. Может дело и на поправку пойдет.
Агафья закрыла ладонью глаза, покачала головой.
— Не думаю…
И заплакала.
Водовозов вздрогнул. Он издали наблюдал за двумя женщинами и не мог понять, в чем он прав, а в чем виноват? Он только знал, что люди на земле бывают разные, но очень жаль, когда это понимаешь поздно.
Мария с замиранием сердца посмотрела на умирающую женщину и почему-то инстинктивно перевела взгляд на Водовозова, который стоял и любовался ею, и подумала о том, что в море вода чистая и холодная, соленая и беспокойная, но у Большой горы ручей, где собирается поселковая молодежь, тот ручей чище и без соли.
«А мы… чем дальше с возрастом, — усмехнулась Мария, — живем уже с солью…»
Она погладила по щеке жену Водовозова, сказала:
— Агаша… надейся. В жизни все бывает.
— Я скоро умру, я это знаю, — сквозь рыдания произнесла Агафья и выкинула в неистовстве на одеяло свой сморщенный маленький кулачок.
Мария отшатнулась, закрыла глаза ладонями и застонала. Ей не терпелось выскочить из этого дома к морю, на чистый воздух, к своему мужу навстречу, на Отчаянную скалу, поговорить с ним.
Ее муж был хорошим рыбаком, он уходил в море и не боялся ничего!
А как он уходил в море?
Если он уходил на сейнере — стучали моторы, если он уходил на баркасе, то их подтягивали железными канатами.
Был жестокий шторм, глыбы вод обрушивались на головы рыбаков, смывали их с палубы и давили ко дну. Очевидно, в такой шторм попал и ее муж.
Мария выскочила из этого дома, на простор, к морю Она тяжело поднималась. Ей было жаль Агафью, она видела перед собой это желто-черное лицо; она видела этого грузного, мечущегося человека — Водовозова — и не понимала одного: как помочь им?! И можно ли тут помочь?
В гору подниматься тяжело. Можно подниматься по тропе, можно подниматься по дороге. Никто не знает, кроме Варьки, по дороге или по тропе поднималась Мария.
Мария шла в гору мимо невысоких рыбацких домов. Внизу стоял рыбозавод, вдали было море, а рядом с ней — Варька.
Варька произнесла:
— Ну и как!?
Они всмотрелись в глаза друг другу. Мария сжала кулаки и прошептала:
— Эх, ты! Не знаешь ведь, как там… Сходила бы, хоть утешила Агашу.
Варька покраснела.
7. Кто остается один
С ночного лова возвращались рыбаки. В это утро дети не пускались вплавь до первого баркаса, потому что ночным штормом к берегу прибило много льдин. В толпе рыбацких жен, матерей, седобородых отцов стояли Варька и Мария.
Варьке хотелось крикнуть слова: «Павлуша! Подойди ко мне».
Началась выгрузка рыбы.
По деревянному настилу береговой пристани вразвалочку, шурша резиновыми сапогами, натянутыми выше колен, шли рыбаки, как заслуженные моряки, и, сойдя на берег, начинали неуклюже по-мужски обнимать своих жен, целовать матерей, поднимать детей на руки.
Павел и Водовозов шли, отстав, и почему-то обнявшись. Никто не знал на берегу, что этой ночью волной смыло с палубы Водовозова. Когда прогремел возглас мастера лова Павла Игнатова: «Человек за бортом!» — утихли моторы, сейнер затормозил, и корабельный прожектор стал ощупывать поверхность моря.
Шлюпку спустить было нельзя, бросили спасательный круг, наугад, туда, где должен быть Водовозов.
Наконец его заметили на гребне волны, отчаянно боровшегося и устало взмахивающего рукой.
Луч следил за ним.
Павел, держась за поручни, лихорадочно думал о том, как помочь Водовозову. Он боялся, что волной может бросить рыбака о борт судна и оглушить его.
На палубе, после приказания, распутали трапканат, и Павел, не мешкая, бросился с ним в воду. Теперь их было двое за бортом.
Он добрался по лучу до Водовозова, протянул руку, крикнул: «Держи-и!» — и выбросил вперед конец лестнички трапа.
Их подтягивали обоих. И вот они уже на палубе, оба вымокшие и замерзшие.
Согревшись спиртом в камбузе, стали сушиться. Молчали.
Водовозов притих, благодарный, и уже не злился ни на Павла за то, что тот отбил v него Варьку, ни на Марию за то, что ушла от него к Павлу. Не до этого сейчас было. И то ведь, шутка сказать, чуть не погиб в пучине.
Он представил себе, как он, обессиленный и захлебывающийся соленой водой, идет ко дну в темные холодные глубины, и еще не дойдя до дна, превращается в льдину. Жил — и нет его! Его передернуло и зазнобило. Б-рр-р!
А где-то там на берегу светит солнце, на пристани поселок встречает рыбаков, там весело, и стучат моторы, урчат рыбонасосы, и никто не спросит о нем, никто не придет встретить… Ему сейчас стало жаль Агафью, и он не хотел, чтоб она умирала, а лучше б скорее выздоровела. Тогда и тепло теплом в очаге и дом домом. Но он знал, жена никогда уже не поднимется, и боялся, что дом останется пустым, невеселым, холодным.
Марию ему на себе не женить, а Варвара совсем помешалась на Павле. Интересно, будет ли она на берегу?
Павел Игнатов долго не мог заснуть. Он ни на минуту не забывал Марию, разве только тогда, когда спасал Водовозова. Утром на берегу она обязательно придет встречать его, радостная или задумчивая, придет встречать не рыбаков, а его, Павла. Ведь у них все уже решено. Разве он не помнит ее, всю, тихую и строгую, печальную и веселую, и их первый осторожный поцелуй, когда она вздохнула, встречи на берегу, разговоры, объятья, когда ей становилось холодно, и ту первую ночь, когда он назвал ее своею женой.
Он постучал в ее окно, притаился, прислушиваясь, подождал. Не проснулись бы дети!
Она вышла на крыльцо, позвала:
— Павел.
Стоит, чему-то улыбается, обхватив себя руками, в платье и платке, накинутом на плечи.
— Иди, Павлуша. В доме никого. Дети у сестры.
«…Да, что еще она говорила?» — не вспомнить. Все было как во сне. Он только помнит, как обнял ее, поднял на руки, как она обхватила его шею горячими руками и прижалась к нему вся, целовала его и все шептала: «Что же ты со мной делаешь? Не надо бы этого…»
За окном слышно было — хлопает от ветра незапертая калитка, чуть плещется тихое ночное море, шуршат на берегу тяжелые от соли высохшие сети да смотрятся в стекла окна одинокая грустная луна и крупные зеленые звезды, будто подглядывая.
Сладкий, томный и теплый сон-забытье. Горячие смеющиеся губы Марии, пахнущие молоком и вереском, ее упругое прохладное белое тело.
Очнулись. Она долго смотрела ему в глаза, наклонившись над ним, гладя его по щеке, и глаза ее светились виновато.
Радостно вздохнул:
— Ну, вот… — и с хорошей усталой улыбкой на губах откинулся на руки. — Теперь мы… и родные. Что молчишь?
Он привлек ее к себе, зарылся головой в грудях, отпрянул счастливый:
— Ночь. Все народы спят.
— Какой ты здоровый, могучий. И руки у тебя большие, крепкие. Ласковый ты…
Вдруг поднялась на локтях, будто испугавшись чего-то, и Павел заметил слезинки на ее ресницах.
— Что же я наделала, а, Павлуша? Грех-то какой.
Павел сказал спокойно:
— Не грех это, — и смолк, задохнулся: видно, не находил слов объяснить, что же это такое, если не грех.
— Не знаю… А только хорошо мне с тобой, Маша. И днем и ночью. И много еще будет наших ночей. Люблю я тебя давно. Все думал, когда ты станешь совсем моей.
— Ну, вот, теперь я вся твоя, — печально выдохнула она и добавила: — Люблю ведь, а боялась чего-то.
— Жить будем.
— Ведь я баба, да еще с детьми… Как же ты решишься на такое?!
— Ты… Маша. А дети… Люблю я их. И тебя люблю, известно! Жить будем дружно, весело.
— Как же это дружно и весело жить?
— Вчетвером не заскучаем. Всем по песне найдется!
— Целуй меня…
…На берегу толпился народ. Встречающие махали руками и платками, слышались приветственные крики, гвалт детей.
Сейнер, подтянув за собой два баркаса на буксирном канате, подрулил к пристани. Началась у причалов разгрузка.
Рыбонасос перекинули в трюм, и вот уже по транспортеру в рыбные цеха поплыла рыба — серебряно-белые косяки большого улова.
Павел и Водовозов сходили по дощатым трапам на берег.
8. Встречай, волна!
Глотая слезы и злясь на подступивший к горлу комок, Варька оттолкнула лодку от берега, прыгнула к веслам — и сразу качнулись небо, берег и спокойное вечернее море.
Хотелось побыть одной, уйти далеко-далеко, спрятаться, а потом и рассеять обиду…
Перед глазами все еще стояла веселая и шумливая толпа, рыбаки, гордые и усталые, сходящие на берег, гремя сапогами по дощатым настилам пристани.
Она снова как бы увидела воочию всех этих близких, родных, понятных ей людей — и среди них счастливую Марию, которую вел, полуобняв, Павел, Водовозова, растерянного, жалкого, и себя, одинокую, стыдящуюся…
Она так хотела, чтобы Павел подошел именно к ней, Варьке, или хотя бы кивнул ей, поприветствовал, но он прошел мимо, даже не взглянув, а может и не заметил. Водовозов подошел к ней тогда, спросил:
— Меня встречаешь?
Взгляд у него был робкий, голос радостно-ожидающий, лицо усталое, небритое.
— Нет. Всех встречаю.
А Павел с Марией уже поднимались по косогору к ее дому. А потом скрылись за калиткой.
Пошла она тогда по берегу прочь от счастливого шума, не зная, девать себя куда, ушла далеко, к маяку… До вечера она бродила по поселку, по берегу, по сопкам в надежде встретиться с Павлом, но его нигде не было.
Всё!
Остались в душе любовь и обида. Обида пройдет, а вот любовь-то куда девать?!
Да, Павлуша! Тебе хорошо теперь, радостно. Пристал ты к берегу, к сердцу Марии. Вот и началась у вас жизнь, как положено людям… А мне куда девать себя, кто пристанет к моему-то сердцу?! Ведь оно стучит только тебе навстречу, только тебе!
Варька и не заметила, как ушла лодка далеко от берега, как в борт ударила невесть откуда набежавшая первая волна, накренила лодку, ткнула носом в пенный гребень и обдала холодными брызгами.
«Надо бы к берегу», — Варька оглядела небо.
Покачивались у горизонта чугунного цвета облака. Над головой — серая пелена. Заморосило. По воде разбежались белые барашки пены.
Еще волна. Теплый упругий ветер погнал ее к берегу.
Пока не страшно. «Будет буря… ну и пусть!» Не страшно? Нет, не страшно!
Не раз встречала в море непогоду на такой же надежной рыбацкой лодке. Всегда прибивало к берегу. Вот и сегодня, если счастливая — донесут до земли на своих плечах волны. А нет — так нет!
Варька взмахивала веслами под железный скрип уключин: чьюр! чьюр!, смотрела сквозь моросящую пелену вперед, и когда корма опускалась, она видела громадный темный берег с тусклыми огоньками рыбацких домов, потом корма взлетала вверх, закрывая небо.
Корма снова опускалась, и тогда берег опять показывался, но был уже меньше, не таким громадным и темным, а огни становились еле-еле заметными. Так уходил берег, терялся в волнах.
И уходила Варька в море, удаляясь от прежней Варьки.
Берег уже скрылся, и ей показалось, что потопили волны и берег, и ее прежнюю жизнь…
И вот оно, это могучее, щемящее чувство свободы, той свободы, когда человек один и море одно, но они — вместе!
Кажется, воля и мужество, дремавшие где-то в глубине души, охватили все существо человека, наполнили сердце восторгом, гордостью и отчаянной радостью, и вот вырвались наружу, и нет страха, нет сомнения ни в чем…
Если шагнешь в глубину воды у берега — не пройдешь и шагу. А коль пройдешь, то сразу с головою возьмет тебя море, напоит соленой водой и тяжестью прижмет ко дну. И пусть ты сначала вздрогнешь от страха и перестанешь верить в дали, в простор спокойно-голубой, и пусть на чугунный берег, на глыбы, море выстрелит тобою, как пробкой, и, давясь от смеха, вслед тебе начнет раскатывать свое презрительное эхо и свои гремучие ветра… Ты там, где на песчаную корму берега накатывают волны, назло морю подставишь плечо волне, войдешь в нее и назло морю заставишь себя сквозь толщу вод пройти по дну.
А в бурю!.. В грудь твою ударами забьет тугой ветер крыльями, а ты назло ему выпрямишь парус, поймаешь в полотна дыхание морских громов, а когда успокоится море и, став голубым, голубым, прошелестит, прошепчет тебе: «Ты ма-ленький, человек, а я-то, море, — вон какое!»
Ты крикнешь в ответ: «И я — такая!» Всю жизнь нам по пути с тобою, море! Поднимай мою лодку на плечи волн, качай ее, кидай ее, кидай до самого неба — не страшно!
Варька опустила весла. Они упали, скрипнув, и заплясали, шлепая лопастями по воде. Лодка взлетела на гребень и ухнула вниз.
— Плыви, куда хочешь!
Варька крикнула, раскинув руки: «А-а-а!», но ее голос потонул в шуме ветра и громких ударах волн о борта.
Волосы ее распушились. Вся она была — порыв, руки раскинула, будто птица крылья, готовая вот-вот взлететь.
Сразу перед нею встали лица любимых и нелюбимых людей: Павла, Водовозова, Марии, ее детей, подружек, рыбачек, поселковых парней… Могли бы они вот так, как она, отдаться (на волю волн?! Рыбаков и то спасают рули, моторы и весла. Павел смог бы! И еще кто-нибудь, душу которых она не знает…
Там на берегу люди.
А что она им?! И что они ей?! Там все для всех, и ничего для нее! Осталось только это вот бурлящее, темное, могучее и глубинное море наедине с нею, ей по плечу и — только ее! Как любовь, захлестнувшая сердце через край, неистраченная… Не потонул в этой любви ни один человек, не изведал, а только коснувшись чуть, отошел в сторонку и полюбовался.
Варька упала на перекладину, не устояв, обхватила голову руками и почувствовала вдруг, как накатила тоска, подкралась бедою к сердцу, тяжелая, как море, горькая, как полынь с лебедой.
Какой-то внутренний боязливый и заботливый голос шептал ей: «Варька, Варька, ты сходишь с ума! Вернись! Погибнешь одна-то. Что тебе сделали люди плохого…» Люди! Ни один не под стать ее душе. Даже Павел не заглянул в ее глубины, не понял до конца, а только пожалел. Только море под стать. Только море и только горе…
«Варька, вернись! — стучит в висках. — Сумасшедшая!» — отстукивает сердце.
«Я не Варька! Я — Варвара теперь!» — отвечают мысли.
Павел читал однажды стихи: «Мою любовь широкую, как море, вместить не могут жизни берега». Это ей он читал.
Рыдания подступили к горлу, сдавили грудь. Затряслась в плаче от обиды, от страха и острого одиночества.
…Закружилась, затерялась лодка в Охотском море, и ни далекий блеклый луч маяка, ни волны, которые катил ветер к берегу, ни весла, ни люди, ни Павел, никто, казалось, не спасет ее теперь…
Варвара кричала, рот заполняли соленые холодные брызги. Дальше кричать не было сил — устала. Она, озябшая и промокшая, уткнулась в ладони, сползла на днище и успела укрыться брезентом…
* * *
Шторм стихал. Ливень, хлынувший внезапно, пробивал струями волны, прижимал, разглаживал их и заполнял собою и небо, и море, и землю.
От удара морского грома, чугунно гудели прибрежные скалы, молнии распарывали темноту, люди спали, и никто не знал, что где-то далеко в море волны швыряют и кружат, как щепку, одинокую лодку.
Человек вышел из-под навеса, где сушились сети и качалось желтое пятно фонаря, обошел бочки, по которым барабанил ливень и, пригибаясь, направился к берегу закрепить лодки. Он боялся, что их сорвет с привязи и унесет в море.
В зияющей, как пропасть, темноте ничего нельзя было разглядеть, только по гудению волн угадывались в нескольких метрах море, да по дробному шлепанью ливня о камни и скрежету гальки — берег.
Маяк вдали на скалах стрелял длинным ярким лучом, рассекал грохочущую тьму напополам, просеивал клубящийся воздух и тускнел где-то там, где гремели грома.
Взрывались в небе молнии и ненадолго освещали волны и скалы, словно лунным светом.
Человек еле дошел до причала. Приходилось нагибаться вперед, боком, будто раздвигать стену. Здесь, на песчаной косе, волны, разбежавшись в море, разливались половодьем, и только у причала гулко ударяли о мостики и гремели цепями на лодках.
«Стихает штормяга», — подумал он и вдруг заметил при вспышке молнии пустую лодку; он подождал, пока она не появится в ленте маячного луча, а когда лодка появилась, увидел, как весла прыгали по воде, вскидывались торчком.
«Наверно, оторвало от причала. Вот черт!» Он пересчитал лодки. «Нет, все на месте. Это чужая. А вдруг там есть кто?!» Мысленно представил расстояние и решил, что далековато от берега. Вплавь не добраться. «А-а, чем черт не шутит!».
Он выбрал полубаркас, снял цепь, оттолкнулся от осклизлого зеленого столба, мохнатого от тины и водорослей, прыгнул в лодку и, крякая, заработал веслами, держа направление по лучу.
Ливень не прекращался, но ветер уже стихал, а волны устало перекатывались, пошлепывая борта.
На горизонте появилась сиреневая дымка, вспыхнула теплая розовая полоска зари. Тучи с громами нехотя отплывали в сторону к далеким скалистым берегам. Вода еще ходила, качалась, пряча под белыми барашками свои темные рыбные глубины.
Одинокая лодка приближалась. Человек спешил к ней, ловко орудуя веслами, и вот уже лодки стукнулись бортами, скрежеща потерлись. Человек перегнулся, подтянул корму другой лодки, заглянул в нее и увидел что-то, накрытое брезентом.
Он ловко перемахнул к сиденью и чуть не упал на брезент. Откинул — и ахнул, увидел Варьку. Разглядел: бледное красивое лицо с закрытыми глазами, мокрые спутавшиеся волосы. Приподняв ее, почувствовал мягкое, горячее, бившееся в ознобе тело.
Он придерживал голову Варвары рукой, прислонив к плечу, прикрыв плащом ноги, и долго не мог откупорить флягу со спиртом.
Лодку шатало и подбрасывало, фляга вырывалась из рук. Наконец ему удалось откупорить флягу зубами.
Он осторожно разжал губы и влил ей глоток. Зубы стукались об алюминий. Она отпила, закашлялась, застонала со вздохом и открыла глаза.
— Кто это? — испуганно вскрикнула и отпрянула. Услышала глухой простуженный бас:
— Лежи, лежи знай. Глотни еще…
Глотнула раз, другой, откинулась на борт, вдыхая соленый воздух, ловя ртом влагу стихающего ливня. Снова закрыла глаза. Он, прикрепив цепью свою лодку, взялся за весла.
Рассыпалась тусклая фиолетовая молния, просвечивая капли ливня и капли брызг, похожие на ртуть.
И, когда Варвара снова открыла глаза, вздрогнула и пристально посмотрела на него в упор, узнала, обрадованно крикнула:
— Буйносов?!
Обхватила его голову руками, стала лихорадочно гладить небритые щеки и, не сдерживая слез, все повторяла печальным шепотом:
— Это ты, Федор? Это ты меня спас, Федя? Это ты, Феденька?
— Я-я! Вижу: носит лодку по морю, а в ней, вроде, и никого. Не думал, что ты… да я бы вплавь до тебя добрался. Со дна моря достал бы.
— Это ты, Феденька? Ох, судьба-то какая нынче. Вот и увиделись, вот и встретились. Скоро — берег…
…На берегу уже светало. Маяк потушил свой луч. Рыбаки проснулись и уже разделывают сети. Лают собаки. Вьются над крышами поселка Каменки дымки. К причалу подкатывает моторный катер из Аяна: привез почту.
Буйносов и Варвара идут рядом по берегу, плечом к плечу, молчат, оставляя за собой следы на песке. Последняя волна старается смыть эти следы, откатывает обратно, оставляя пену, которая закипает во вмятинах следов.
Варька глубоко вздохнула, подумала: «Ну и что же, что спас? Человек, стало быть, хороший… Отблагодарю его. Руку пожму… А кто знает, может быть, и без его помощи обошлось бы…»
Варвара останавливается и оглядывает все вокруг: и небо, и море, и берег, и скалы, и поселок.
Когда-то она жила здесь. Узнают ли ее люди…
Варвара глубоко вздохнула и подумала о том, что лично она разрешала бы законом жить у моря только сильным и смелым людям! Посмотрела на Буйносова. Было жаль его, Федора, человека, который спас ее.
Когда-то она читала где-то в книжке и помнит эти слова:
Мне все кажется: ты Не ушел, не уехал, Где-то рядом со мной…Варвара задумалась: «Вот именно? Где-то рядом со мной…» — и заключила:
— …Лишь невидимым стал…
А жизнь у нее, у Варвары, начинается… сначала! Что ее ждет, она пока и сама не знает. Но твердо верит, что свой берег, свою жизнь — рыбацкое и семейное счастье она найдет!
Где-то там… за морем осталась прежняя Варькина жизнь, а здесь наступает новая, еще неизведанная для нее. Может быть, эта новая жизнь станет такой, о которой Варька всегда с отчаяньем и беспокойством мечтала…
Свердловск — Аян — Челябинск.
ЛЮБАВА Повесть
Посвящается М. М. Окуневой, педагогу
1
Июльская жара прибила ковыли к потрескавшейся сыпучей земле, и тяжелый горячий воздух будто поглотил степь, закрыл огромное желтое солнце, дымчатое по краям, закружил округу в темном колышущемся мареве. Качается марево на ковылях — качается глухое бездонное небо, и растворившееся солнце подрагивает, мерцая. Поблескивают высохшие дороги, ядовитая зелень придорожных запыленных трав и камни — степные валуны. Все вокруг охватила глухая знойная тишина-дрема, и только изредка процвинькает где-то кузнечик, просвистит осторожный суслик, перебегая дорогу, да нечаянно зазвенит последний отчаянный жаворонок, и снова — жара, марево, ковыли и раскаленное солнце.
Твердая широкая дорога, древняя и избитая, белой лентой опоясала степь вкруговую и, пересекая железнодорожную насыпь, пропала за горизонтом. Тишину оглушил одинокий грустный гудок паровоза, который, дыша стальными боками и бодро лязгая колесами, тащил за собой четыре вагона — спешил к горизонту, в марево. Вот выбросился к небу вспуганный ястреб, закружил тревожно над оврагом.
Далеко-далеко виден всадник, он мчится по дороге, — должно быть, торопится навстречу поезду, к степному полустанку. Стучат копыта о твердую, как металл, дорогу — пыли нет, и в мареве всадник будто плывет по воздуху.
…Поезд остановился на полустанке, напротив нелепо большого белокаменного дома, покрашенного известью. Два деревянных домика с сараями по бокам расположились позади, окнами в огороды. Ни плетня, ни забора. Лестница спускалась с насыпи вниз к шлаковым кучам, и последняя доска ее ныряла в пыль дороги, заезженной вдоль и поперек подводами и машинами. Поодаль, рядом с туннелем, грустно стояла водокачка с цепью. Пыльно и малолюдно. Тихо. Только на бревнах лежали спиной к солнцу голые мальчишки и окатывали себя из ведра водой, громко взвизгивая и смеясь. Гуси стояли в луже у колодца, смотрели на поезд и не гоготали. Из вагонов выходили редкие пассажиры и разбредались кто куда, ища подвод и попутной машины. У колодца сидели с узлами ожидающие, не торопились, ибо давно знали, что поезд простоит здесь целый час, пока не пообедает машинист. В репродукторе здоровенный бас бодро пел «Пляшут пьяные у бочки»… Вот из окна паровоза выглянул чумазый парнишка, кому-то помахал рукой. Станционный дежурный в красной выгоревшей фуражке строго по форме поднял желтый флажок. Паровоз отцепился и поехал к водокачке набирать воду. Все так же тоскливо и дремотно, как всегда. Из заднего вагона вышла группа последних пассажиров с ящиками и мешками и уселась у колодца напиться воды. Они громко переговаривались, чему-то смеялись, и в этой тишине и дреме были слышны их голоса, перебиваемые басом радио…
— Ну вот и приехали, значит…
— А вода аж зубы ломит…
— Ну и сторона-страна…
Все они из города и прибыли сюда работать от треста «Жилстрой», куда приезжал человек из райисполкома с просьбой дать плотников, помочь совхозам в строительстве. Постройком поручил старшему — Будылину — создать бригаду на все лето. И вот она в степи…
Напившись у колодца, плотники вышли в степь. Она раскинулась перед ними, раскаленная и пестрая, дохнула жаром горячего тяжелого воздуха и защипала зноем лбы и щеки. Остановились у двух проселочных дорог, не зная, какую из них выбрать.
Вожак артели Будылин, громадный и строгий, в рабочем комбинезоне, сурово посмотрел вдаль и, достав из кармана лист бумаги со схемой, которую начертил ему приезжавший от райисполкома, долго и сосредоточенно водил по ней узловатым обкуренным пальцем, боясь ошибиться.
— Должно, эта! — сказал он басом и, запрятав бумагу в карман, показал на одну из дорог всей пятерней, выставив руку вперед.
Артель пробежала глазами по мысленному пути, поправила заплечные пожитки, взяв в руки инструменты, дружно вздохнула, двинулась в путь. Они шли медленно — пять человек, озираясь по сторонам. Говорили мало: утомились и разомлели от духоты. Степь им не понравилась жарой, безлюдьем и незнакомым перепутьем.
— Вот где пироги печь!.. — выдохнул, отдуваясь, толстый неуклюжий Лаптев. Ступив на раскаленную дорогу босиком, он подпрыгнул, постучал пяткой, словно пробуя твердость земли. Шлепая по сухой дороге короткими, чуть косолапыми ногами, он шагал впереди всех, таил на небритом лице восхищенную улыбку, поворачивая голову и заглядывая всем в глаза, бил ботинками, связанными за шнурки, по красным шишкам татарника.
— Да-а!.. Сахара-Гвадалахара… — откликнулся ему Зимин, маленький, худой старик, посасывая трубочку с головой Мефистофеля. И он и Мефистофель щурились и дымили, выставив одинаковой формы бородки вперед. Зимин выглядел аккуратней остальных — в сапогах, в фартуке и пиджаке, он перекинул за плечо на палку чемоданчик, в котором лежали образцы «алмазов» и стекло. Рядом с ним шел Хасан — молчаливый, лысый татарин в фуфайке, с буханкой хлеба под мышкой и с ящиком в руке. Инструмент в ящике гремел, когда он поворачивался и оглядывал степь.
— Шту мы издесь будим кушить? Га? Зимлю кушить?
Чуть поотстав от всех, шел высокий и нескладный Алексей, с белым чубом из-под кепки и длинными руками — самый молодой из них и самый хмурый. Все оглядывались на него, и было непонятно, отчего он хмур: то ли от жары в степи, куда он приехал впервые, то ли от дум о чем-то нехорошем…
— Алеша! — окликнул его Будылин, повернувшись глыбой спины к остальным. — Гляди! Да тут и хлеб сеют!
Алексей устало посмотрел в землю на низкие недозревшие хлеба и махнул рукой.
— Наработаешь здесь… редьку с луком! Не нравится мне. В городе лучше… А здесь и работа тяжелей.
Будылин разгладил ладонью усы, смерил взглядом длинную фигуру товарища.
— Не пахать приехали. Хэ, ты! Верста! — И зашагал дальше. За вожаком — вся артель.
Дорога ушла в овраг, по склону которого в тени росла густая зелень трав. Небо сразу стало меньше, и солнце куда-то пропало. Вдруг, отделившись от земли, будто прямо с неба, метнулся на плотников разгоряченный конь с всадником. Артель шарахнулась на обочины. Будылин поднял руку, выругавшись матом. Всадник резко принял поводья — конь вскинулся на дыбы, повел загоревшимися глазами в сторону отпрянувшего Будылина.
— Эй, не балуй! — прикрикнул всадник.
— Мать честная!.. Баба! Эк ее к поднебесью тянет! — захохотал Лаптев, ударив себя по бокам.
Вороной лоснящийся конь с потными худыми боками, громко гарцуя на месте, грыз удила, роняя хлопья пены на сильную грудь, переставляя стройные тонкие ноги, будто красуясь.
Разглядели и всадницу — сияющая красивая женщина. Ноздри раздуваются, губы спелые, чуть выпячены. Глаза искрятся — чистые, зеленые. Черные брови вразлет. Румянец — будто сквозь огонь мчалась, осталось пламя на щеках. Тяжелые черные косы уложены в узел и обвязаны шелковой синей лентой… В жакете, надетом на платье, в сапогах. Сумка через плечо, кнут в сильной загорелой руке.
— Кто такие?!
Голос грудной, сочный, со смехом. Сама смотрит на всех сверху.
— Здравствуйте! — чуть наклонившись, поприветствовал всадницу Будылин. — Куда ведет эта дорога?
— Любавой меня величают, — женщина похлопала по шее коня — смирила, не гарцует больше. — А смотря зачем идете… В совхоз дорога. Плотники, что ли?
Лаптев разинул рот, залюбовался ее красотой. Обрадованно спохватился, чтоб ответить быстрее всех:
— Хватка на глаз — угадала!
Любава рассмеялась.
— А мы как на войне — по оружию видим. Ишь как вы все увешаны.
Алексей стоял рядом и смотрел, смотрел на нее сосредоточенно и восхищенно. Любава заметила это и посуровела:
— Смотри, парень, окривеешь! Сниться буду!
— Поживем — увидим… — усмехнулся тот и отошел в сторону.
Она задумчиво вгляделась в его лицо, но ненадолго, жалеюще улыбнулась.
— Разглядишь, так увидишь. Коль в совхоз — нынче встретимся… А ну, расступись, деревянных дел мастера!
Любава захохотала, довольная шуткой, гикнула, ударила плетью коня, тот снова вскинулся на дыбы, заржал. Алексей отпрянул в сторону. Конь вымахнул из оврага, выбил копытами пыль, и всадница скрылась в мареве.
И опять степь и степь, раскаленная белая дорога и темно-желтое от знойного солнца небо. Вот взмыл от дороги кем-то вспугнутый ястреб и пошел писать круги, забирая все выше и выше, туда, где не так горяча земная испарина.
Плотники жалели, что встреча с красивой Любавой была короткой, гадали, кем она работает в совхозе, повеселели, приободрились и, хотя было по-прежнему жарко, пошли быстрее. Шутили все, кроме Алексея.
— Вот черт… попадись такой! — сказал он осторожно, боясь, что товарищи догадаются, как понравилась ему встречная и как глубоко запала в душу.
— Эх, красотой-то бог наградил — огонь! — вымолвил Зимин, и клинышек его бороды дрогнул. — Вот, Алексей, тебе и невеста нашлась.
Будылин покачал головой, иронически усмехнувшись:
— Верно… Возьмешь — наплачешься. Не на свадьбу идём — дело делать!
Лаптев, забегая вперед и размахивая руками, остановил всех, многозначительно поднял вверх палец:
— Братцы! А на меня она два раза посмотрела!
Все засмеялись его наивности. Хасан откусил от буханки хлеба, пожевал и философски заключил:
— Сирца болит — любовь говорит. Шайтан-баба. Алеша с ума сайдет. Она из него бишбармак исделит!!
Опять все засмеялись. Алексей пожал плечами, натянул кепку на лоб и серьезно, строго сообщил:
— Жениться я не собираюсь. Даже на такой… — и не договорил.
2
В совхозе, куда прибыла артель, казалось, не было зноя.
Сверкала на солнце золотая вода тенистого пруда. Радовали глаз прямые высокие тальники и густое широкое поле с тяжелой зеленью кукурузы… На взгорье — контора, жилой двухэтажный дом, и у пруда саманные домики, по главной уличке — столбы с сетью телеграфных проводов. Живое, давно обжитое место. Не было и дремотной тишины. Всюду сновали торопливые люди, у конторы тарахтели заведенные грузовики, в которых пели приезжие комсомольцы. Рядом степенный бородач кладовщик вешал на весах мешки с мукой. Толпились мальчишки. Чуть поодаль, у каменной ограды, заехав в крапиву, стояли тракторы-тягачи, и, лазая по ним, какой-то парень задумчиво постукивал ключом по железу.
Алексей догадался, что где-то поблизости подымают целину. По дороге Будылин рассказывал, что за совхозными владениями — пустая Акмолинская степь с озерами, полными окуней, казахские степные юрты, гуртовщики…
Ему казалось, что он попал в какую-то неведомую, непонятную жизнь, у которой свои радости, тревоги. Как будто все, что осталось за плечами, позади, приснилось ему: и город, где он жил в рабочем длинном бараке на склоне Магнит-горы; и завод, где он работал столяром — мастером дверных и оконных переплетов, каждодневная мечта — заработать денег, купить дом, жениться на скромной девушке, обзавестись хозяйством и жить, как все люди живут, просто и безобидно, без оглядки на удачливых соседей; и жалость к сестренке Леночке, которая учится в педагогическом училище, и забота о ней. Он должен и обязан помогать ей и вывести в люди.
Будылин уговорил его пойти с артелью в степь, обещал солидный заработок… Что же делать — придется ездить вот так еще года три, а то и больше… А мысль о женитьбе надо пока оставить. Будылину хорошо: он привык бродяжничать всю жизнь, набил руку и глаз, всегда вожаком ходит — знает, где можно легче всего подработать, и все его любят и слушаются. А что ему не бродяжничать? Пятистенный дом, жена — здоровая работящая женщина, взрослые дети. Семья живет в достатке. А с другой стороны, что бы ему не жить на месте? Нет! Знает себе цену, работать любит, но жадничает, ходит, как тень, за длинным рублем. Молодец! И все остальные — понятливые!
В совхозе их встретили обрадованно, чуть не обнимая. Сразу дали жилье, повариху, выписали продуктов… Начинай работу! Жить и работать можно. Впереди радость — деньги! Алексею показалось, что он давно живет здесь, давно знает директора совхоза — Мостового — и это место у оврага, где они всей артелью рыли фундамент для зернохранилища. Только Любаву не встречал он — канула, или, может, показалось ему: была ли она вообще? Ему так хотелось увидеть ее еще раз все эти дни! Но нигде ее не находил. В почтовой конторе однажды спросил шутливо: «А где ваш главный почтальон, который на коне?..» Ответили, что уехала в степь к трактористам — почту развозить, а заодно и к жениху своему. Он тогда досадливо почувствовал, что огорчился, и стало на душе неприятно.
Вскоре, когда артель уже ставила столбы и готовила перекрытия, заглянула к плотникам и сама Любава.
С сумкой на боку, веселая, чуть стесняясь своей красоты, она кивнула всем, как старым знакомым. Плотники подошли к ней, уважительно поздоровались. Любава поглядела каждому в глаза.
— Газеты, письма принесла я вам! Что вы на меня уставились?! Кто у вас Зыбин?
Лаптев указал на Алексея.
Любава встретилась взглядом с Алексеем и опустила глаза.
— Письмо — это хорошо. Газеты тоже… — проговорил Будылин, чем-то недовольный, поглядывая на брошенный инструмент.
— Вот ему письмо! — ткнула Любава в грудь Алексею. — Читай, твое? Почерк-то женский… От жены, что ли?
Будылин крякнул и повернулся спиной ко всем, о чем-то думая. «Вот пришла!.. Разговоры заводит… Сделала свое дело и уходи», — подумал он. Голос Любавы звучал дерзко и насмешливо:
— Знать, шибко любит тебя жена-то: следом письма шлет!
Письмо было от сестренки Леночки, и Алексей промолчал, задетый за живое, — не стал объяснять Любаве при всех: пусть думает, что женатый, спокойнее будет. Промолчали и артельщики — опасались Будылина. Скажет потом, что во вред девку обнадежили. Все заметили, что Любава огорчилась и торопливо стала застегивать сумку. А когда Будылин демонстративно ушел к своему рабочему месту, заговорили шутливо, шепотом, кивая на Алексея Зыбина:
— Перестарок он.
— Да нам и жениться-то некогда. Вот ходим-бродим…
— Жен у него много. Да вот ту, чтоб любила, никак не найдет!
Будылин отозвался неожиданно громким злым басом:
— Между прочим, ему сейчас это дело ни к чему! Артельный закон строг — полюбовных дел не терпит!
Любава обиженно поглядела в сторону Будылина и убежденно, с достоинством бросила ему, как вызов:
— А вот и женится! Здесь! В степи! — Усмехнулась догадке. — На мне женится! Ну, как, возьмешь такую!? — повернулась кругом, гордо запрокинув голову и задумчиво сощурив свои зеленые глаза.
Плотники ждали, что скажет Алексей. А он вздохнул, отвернулся и произнес прерывающимся глухим голосом:
— Женат я, — и, устало махнув рукой, отошел.
Любава грустно засмеялась:
— Я ведь шучу! — И ушла.
Будылин покровительственно похлопал Алексея по плечу.
…Вечером Зыбин встретился с Любавой на улице: вышел из-за угла дома, а она навстречу — столкнулись грудь в грудь, и руки их встретились, будто обнял Любаву. Она не отстранилась, только сказала насмешливо: «Ах, это вы…» Растерявшись, Алексей стоял с ней лицом к лицу, и от этой неожиданной близости ему стало и радостно и неловко, — опустил руки, уступил дорогу. Любава ушла, ничего больше не сказав. Он долго смотрел ей вслед, она оглянулась и погрозила ему пальцем.
С тех пор они часто попадались на глаза друг другу. Алексею было непонятно: то ли это случайно, то ли он сам ищет встречи. Когда Любава замечает его — всегда посмотрит так задумчиво-весело, улыбнется, будто что-то обещая, и отворачивается.
Вот сегодня пошел на пруд выкупаться — встретил Любаву. Она шла тихо, неся в руках стирку в тяжелом тазу, раскрасневшаяся и грустная. Предложил:
— Давай поднесу.
Оглядела, кивнула равнодушно.
— Ну что ж, поднеси, если добрый!.. — А глаза будто говорили: «Откуда ты такой выискался?! Смотри — берегись… Я бедовая».
Сказал осторожно:
— Красивая ты.
Хмыкнула, открыв белые чистые зубы. Заметил: похвала ей приятна. Оглядела его.
— Брови-то у тебя, парень, белесые! Глаза голубые — ничего! А вот веки будто в муке! — и рассмеялась.
Расстались у ее саманного домика. Сказала: «Спасибо» — и на вопрос Алексея, можно ли прийти к ней в гости, не сразу ответила. А когда он засобирался, разрешила:
— Приходи.
Приходил. Любовался красивым лицом. Говорил хвастливо: увезу, мол, в город, поженимся. Любава обрадованно смеялась над ним:
— А говорил: «Женат я». Оставайся здесь, насовсем. Тогда… полюблю.
Он узнал, что она из дружной большой семьи, где все уже взрослые. Ушла работать в совхоз почтальоном («Чтобы быть у всех на виду и самой все видеть»). Родители — пастухи, живут, в соседнем степном хуторке.
3
Все время здесь, в степи, Алексей чувствовал, что рядом живет уже близкий ему человек, мимо которого никак не пройти. Появление Любавы, встречи, короткие разговоры заставляли его думать о ней, и каждый день по-разному.
То он тревожился мыслью, что она просто заигрывает с ним, как с мужчиной, как с новым приезжим человеком, то обрадованно где-то в глубине души таил надежду, что придет любовь и он все будет делать, чтобы завоевать ее сердце, заставит Любаву любить только его, вырвет у нее признание в этом. Но каждый день сожалеюще думал о себе: еще пока нету в его сердце той большой и страстной любви, о которой пишут в книгах.
А вдруг придет она, эта любовь? Что тогда ему делать? Жениться, бросить артель, забыть город, сестренку и жить здесь, в степи, рядом с Любавой? Что делать — он пока не знал. И еще он не знал, гадая, что в его сердце: влюбленность, удивление перед красотой Любавы или ревность к другим?
Тогда он решил: «Любава будет моей! А там — увидим» и стал каждый день искать с ней встречи. В обед и вечером Алексей ходил по огромному совхозу, просиживал у пруда под тополями, ожидая Любаву у ее саманного домика.
Однажды он шел от пруда огородами по тропе, мимо плетней. Любава навстречу, но не одна. Под руку ее вел коренастый рябой парень с рыжеватым чубом и фуражкой, лихо сдвинутой набекрень. Он выставлял вперед хромовые начищенные сапоги в гармошку и что-то шептал ей на ухо. Она смеялась и легонько била его по щеке ладонью.
Алексей остановился, пораженный, упер руки в бока, задевая локтями противоположные плетни; здесь дорога стеснена плетнями, и пройти по ней можно только вдвоем.
«Так вот к кому она часто ездит с почтой! Жених!» — подумал он и позавидовал сытому краснощекому парню с довольной ухмылкой, а к Любаве у него в душе шевельнулось неприятное, горькое чувство обиды. Он никогда не видел Любаву с другим, вот так под руку, открытой и веселой. А он-то думал о ней каждый день, думал хорошее! Оскорбленный, сжал кулаки. Любава и парень заметили его и пошли медленнее. Алексей направился к ним навстречу. Встали друг против друга. Любава узнала Алексея, широко раскрыла глаза и, тронув его за плечо, с тревогой в голосе сказала:
— Алешенька…
Парень прищурился и достал папироску. В ушах Алексея послышались слова, сказанные Любавой в шутку плотникам: «Ой, до чего ж обидно! Много вас, а жениха себе никак не выберу!» Выбрала!
Дорога узка. Троим не разойтись. Кто уступит дорогу? Встали. Рябой парень тяжело задышал и плотно сжал губы. Зажатая папироска дымила ему в глаза, и зрачки парня показались Алексею стеклянными и ненавидящими. Парень дернул плечом:
— Приезжий… А ну, посторонись! — и пустил в лицо Зыбину клуб дыма.
Алексей почувствовал, как лицо раздвигает отчаянная усмешка. Подошел вплотную, взял рябого за ворот, притянул к себе. Тот уперся в грудь руками: «Погоди…» Любава, прислонившись к плетню, лузгала семечки и ожидающе улыбалась. Алексей заметил, что ей приятна такая встреча, и это придало ему храбрости. Кулаком ударил рябого по сытой щеке, потом по второй, в подбородок. Парень замычал, неожиданно вывернулся и, нагнувшись, двинул головой в грудь. Алексей откинулся спиной на плетень — в плечи больно уперлись сухие прутья. Выругался и хотел броситься навстречу парню, но тот навалился и заколотил кулаками по голове, по груди, по бокам и несколько раз ударил мимо — по земле… Любава, поджав живот руками, стояла над ними и громко хохотала:
— Ой, люблю, когда мужчины дерутся!
Алексей и рябой парень, сцепившись, катались по земле, осыпая друг друга ударами. Почему-то стих смех Любавы. Они расцепились и, сев на землю, смотрели, как поднимается Любава по тропе — уходит довольная.
Враги, увидев, что она ушла, встали: дальше драться нет смысла. Махнули руками. Разошлись.
Вечером Алексей засобирался к Любаве в ее саманный домик. Уже зажглись в небе зеленые звезды, и степь погасла, потемнела. Не гаснет только зарево за горизонтом — оно сине-красное, и кажется, что степь где-то на краю горит ясным и ровным огнем. Черно-синие тополя тяжело наклонились над прудом, и сквозь ветви видна сиреневая спокойная вода. Где-то в камышах и в тальниках крякают домашние утки и ухает ночная птица. В чернильной темноте у конторы горит яркая электрическая лампочка на столбе, и в желтом свете ее кружатся белые бабочки. Степь вся потонула в глухой ночной тишине далеко-далеко — ее не видно; светятся только вода, горизонт и небо. Играет где-то баян, слышны мужские и девичьи голоса. Из открытых окон несется, перебивая друг друга, музыка с разных пластинок.
У саманного домика Алексей остановился и заглянул в темное окно. Постучал осторожно. Сердце забилось в ожидании. Долго никто не выходил. Потом кто-то сзади тронул Алексея за руку. Он вздрогнул, обернулся и увидел глаза Любавы, темные, грустные, красивые. Стояла перед ним нарядная, в цветастом новом платье, на плечи накинут платок. Чуть отклонив голову назад, Любава негромко и радостно призналась:
— А я тебя ждала.
Алексей держал ее за руку и боялся, что Любава уберет руку, перебирал пальцы, мягкие, теплые, и все хотел что-то сказать благодарное и приятное, но не мог, а только смотрел и смотрел ей в глаза и, кроме них, не видел ничего. Любава улыбнулась:
— Лицо-то у тебя, как с войны пришел! Идем-ка, я тебя по улице проведу, людям покажу.
Алексею было все равно, куда идти, зачем, лишь бы с ней рядом. Они шли по улице на виду у всех, держась за руку, как дети, шли молча и медленно, и только изредка Любава, с которой все здоровались, отвечала на приветствия — кому слово «добрый вечер», а кому кивком головы.
«Знают ее здесь и любят», — думал Алексей. Ему это было приятно, и он немного позавидовал ей. Сказал в раздумье:
— А я здесь чужой.
Любава посмотрела в его лицо, показала на синяк под глазом:
— Уже не чужой.
Оба рассмеялись и вышли на окраину.
— Смотри, видишь элеватор вдали. Вот он пока пустой, а там, — Любава указала на степь, — землю подымают. — Помолчала и чему-то усмехнулась загадочно. — И Сенька рябой там… бригадирит у трактористов. Жених мой. Сватается, да только не люблю я его…
— Ты всему здесь хозяйка, — просто и искренне похвалил ее Алексей и заметил, как лицо Любавы сделалось грустным.
— Хозяйка… А жизни настоящей у меня нет. Любви нет. Мужа нет. Семьи нет. Вот ты приехал, и я подумала о тебе… как о муже — сердце подсказало.
— Правда?! — закричал Алексей, чуть отшатнувшись.
Любава погрозила пальцем:
— Не радуйся. Это я только подумала.
Она строго вгляделась в его глаза и вдруг поцеловала, обхватив руками за шею. Грудь Любавы, теплая и высокая, всколыхнулась рядом, задев его грудь. У Алексея вспыхнули щеки, и он закрыл глаза. Поцелуй был долгим, и губы ее, влажные и горячие, пахли молоком и укропом. Он притянул ее к себе и хотел поцеловать сам, но Любава покачала головой:
— Нет, — и только прислонилась щекой к его щеке, сказала твердо: — А теперь иди — я о тебе думать буду. Одна.
4
Умывшись у пруда, примачивая мокрым платком синяки, Алексей возвратился к товарищам и был удивлен тем, что никто не спал. Освещая бревна, стружки и земляные бугры, в камнях пламенел костер. На треноге висел котел, огонь лизал ему дно и бока желтыми язычками. Закипала вода. Плотники сидели на камнях, курили, ожидая, когда сварится уха свежего улова.
Уже было поздно: час ночи. Степь была залита мерным бледным светом луны. Она запуталась в тополях. От ветра с пруда ветви качались — и луна качалась, как подвешенная.
Алексей подошел, закрывая платком синяк под глазом, будто утирался. Зимин подвинулся, пригласил сесть, кашлянул:
— Что-то ты, Алексей, пропадать ночами стал. Утром не добудишься. Здоровье беречь надо.
Лаптев дремал, но, услышав, что у костра громко заговорили, встрепенулся и поглядел на Алексея.
— Думал, не придешь. Вот рыбы вскладчину купили… Э-э! Братцы! Кто-то Зыбину синяк подсадил! Отметина за любовь… Про-исше-стви-ие!
Хасан, полуголый до пояса, сидел на бревне и с наслаждением пил чай длинными смачными глотками. Уха не прельщала его. Поглядывая на всех с благодушным улыбающимся лицом, он убежденно проговорил, кивая в сторону Алексея:
— Влюбился адин рас — готоб чалобек сделился. Прощай на бсю жизна! Ц-це!..
Будылин, помешивая ложкой уху, строго и раздельно как на собрании, понимая, что перечить ему никто не станет, выговаривал:
— Что, схлестнулся из-за бабы? Беречься надо, право. Гнать их — они везде одинаковы. Липнут к нашему брату, а делу помеха. Смотри, женит она тебя на себе. Хитрый народ. Потеряешь голову… И себе жизнь испортишь и сестренке. И артели убыток! Ты не один — артель у нас. Так-то вот.
Плотники поддержали Будылина:
— Дело говорит.
— Точно. Работать приехали.
— Оно, конечно, и без бабы нельзя, а все-таки… товарищество подводить негоже.
Алексей смотрел в огонь, слушал, что говорят. Душила злость. Было непонятно, почему они все набросились на него. Какое их дело? Не ожидал он, что все, даже Лаптев, будут упрекать его.
— Ладно. Спать иду, — вздохнул он и отказался от ухи.
Прошла неделя. Любавы нигде не было: видно, куда-то уехала. Алексей затосковал. Ему все мерещилась она, нарядная, как в тот вечер после драки, и ее поцелуй, такой горячий и волнующий.
Артель уже возвела стены зернохранилища. Будылин ходил веселый — все работали споро. В субботу устали, рано улеглись. С поля приехали трактористы, и Алексею не спалось: должно быть, и Любава с ними. В субботу молодежь совхоза веселится допоздна: молодости попеть и поплясать не хватает дня.
Играл баян. У конторы собрался, казалось, весь совхоз: так шумно и весело отхлопывали ладоши собравшихся, вызывая танцоров в круг. Алексей лежал, рассматривая звезды на небе, равнодушный к голосам и смеху, доносившемуся оттуда. Кто-то закричал: «Любава! Любава! Покажи класс!» Баян заиграл старательнее и быстрее, усилился шум, и одобрительные возгласы, казалось Алексею, раздаются рядом, у самого уха.
Стало обидно. Думал: придет Любава, вызовет его, справится, как он тут, что — ведь неделю не виделись! Значит, забыла. А поцелуй? А все ее хорошие слова? Нет, видно, так это она — заигрывала!
Алексей все слышит и представляет, как отплясывает Любава, гордая и красивая, вызывая восхищение и зависть. Он только не поймет: то ли голоса не дают уснуть, то ли самому не спится. Видится ему: пыльный малолюдный полустанок; овраг и всадница на коне, взгляд и насмешки Любавы при первой встрече; лицо рябого парня, пускающего дым; первый поцелуй; ругающийся Будылин; плотники; стучащие топоры. Приподнялся, взглянул на спящего Будылина, на звезды, на контору. Там — Любава! Если встать и пойти туда, — не плясать, нет! А просто прийти, чтоб она увидела его. Как она отнесется к этому, что скажет? Выйдет из круга или не заметит — будто не узнает? А может, никуда не ходить? Уснуть. Не выдержал. Вскочил. Пошел.
Любава отплясалась. Алексей подошел к кругу, увидел ее, улыбающуюся, раскрасневшуюся, довольную. Обмахивается платочком — жарко.
— Любава! — позвал Алексей и чуть смутился: перед ним расступились. Замолчал баян. Стихли голоса. Переглянулся с кем-то рябой парень. Алексею стало неловко, он чувствовал вопросительные взгляды окружающих, и если бы Любава не узнала его и не сказала обрадованно: «Ты!» — он ушел бы.
Взял ее за руку, вывел из круга, бросив:
— Извините. Поговорить надо.
Отвел в сторону. Баян заиграл снова, и круг замкнулся. Оставшись наедине с Любавой, Алексей медлил оттого, что она смотрела на него насмешливо и не говорила ничего, не спрашивала. Стоит рядом и ждет. Веселье еще не сошло с ее лица. Грудь колышется, часто дыша.
— Знаешь… — устало посмотрел он, взял ее за руку, крепко сжал и неожиданно для себя самого отчаянно выговорил: — Люблю!
Любава удивленно подняла брови, не понимая, а когда поняла — не поверила и закрыла рот ладонью, чтоб не рассмеяться.
— Попался, милый! — Любава заложила руки за спину, наклонилась к его лицу: — Еще один! — и не сдержала смеха.
— Что? Ах, ты…
Алексей ударил ее по щеке, оттолкнул от себя и зашагал прочь с ощущением пустоты и облегчения. Сердце стучало: так-так-так…
Любава задышала гневно, оторопев; не ожидала такого. Ведь она пошутила! Как он так мог! Она долго смотрела ему вслед, а потом потрогала рукой щеку и обрадовалась: поняла — приезжий полюбил ее. Она хотела броситься ему вслед, догнать, извиниться за то, что огорчила, оскорбила его, но он уже скрылся, и она не знала, что ей теперь делать, — так радостно было на душе от открытия! Побежала на ферму. Вывела коня.
Закружилась степь вокруг нее. Впереди перед глазами — грива и голова лошади с вытянутой мордой. Кружатся степь и небо, пруд, звезды и ковыли. Только копыта стучат о твердую дорогу, высекая искры, и Любаве кажется, что конь на месте. Как хорошо вдруг стать счастливой и мчаться по ночной степи, и некуда выплеснуть эту огромную светлую радость, да и незачем. Для сердца она!
5
Земля лопалась от горячего звенящего зноя, высушивалась. Горели, сухо потрескивая, седые, не прочесанные ветром гривастые ковыли; а над ними опрокинулось темное, колыхающееся небо. Солнца не видать — расплылось! Не слышно в глухом душном воздухе жаворонков — видно, опалили крылья, спрятались. Где-то дремлют, посвистывая, томные суслики, и только одинокий осоловевший ястреб, распластав крылья, стремительно чертит над степью дуги — и ему жарко!
За элеватором на краю степного совхоза устало цокают топоры, сонно жужжат стальные пилы — это трудится плотничья артель, строит зернохранилище. К обеду все стихает, и наступает гудящая тишина, в которой горят ковыли.
Уходит с посудой на пруд толстая хозяйка-кормилица. Плотники дымят махоркой, спешат в густые прохладные тени — подремать.
Моргая, смыкаются добрые глаза медлительного Лаптева. Тускнеют веселые, узкие глаза старика Зимина. Хасан торопливо укладывается спать, будто на ночь, подстилая под себя фуфайку. Алексей Зыбин уже спит в зернохранилище в самой тени, и его не видно. Клонит ко сну и Будылина, строгой глыбой сидящего на бревне. Он, подергивая усами, колдует над чертежом, водя прокуренным пальцем по тетрадной странице в клеточку. Усы его дымятся: в углу жестких губ торчит цигарка, пепел сыплется на измазанный глиной фартук.
Остались последние дни. Артель торопится в соседний совхоз — ставить свиноводческую ферму. А здесь почти готово зернохранилище: ровны желтые стены, обшитые тесом; крепко вбиты столбы, просмоленные снизу, утрамбованные бурой землей. Только вместо крыши пока стропила чертят на квадраты небо, да зияют пустотой широкие двери и окна для ссыпки зерна.
Степь придвинулась вплотную к оврагу. Дымы ползут оттуда, качаясь над ковылем облаками, розовыми изнутри, — там гудит пламя, выбрасываясь к небу.
Будылин услышал из дыма женский бойкий смех и чиханье.
— Плотники, где вы тут?
Бригадир вздрогнул — к нему бежала, махая руками, Любава. Вот, запыхавшись, пошла шагом. Остановилась у козел, заглядывая под бревна, будто считая спящих.
Веселая, встала перед Будылиным.
— Михеич! А где… мой Алеша?
Он поднялся, хмуро взглянул на сияющую, теребящую платок в руках почтальоншу Любаву: «Принесла нелегкая ее». Лицо счастливое, губы раскрыла. Глаза с поволокой — чуть прищурены. Алые щеки, казалось, дышат. На загорелой шее от уха морщинки. Полные руки спокойны. В тяжелых черных косах, уложенных в узел, цветы. «Ишь… глазастая!» Взмахнул рукой — отрезал:
— Нету твово героя!.. Отослал я… за гвоздями!
Обманув, отвернулся и, для оправдания, подумал: «Смутит парня, а потом… выравнивай. Бабе все одно — прохожий ты или жених. Лишь бы мужиком был».
Любава помрачнела. Усмешка сделала ее лицо старше.
«Иль смутила уже?! Ишь мастера завлекает». Тронул за руку, отводя в сторону. Заметив, что плотники смотрят на нее, Любава смело взяла Будылина под руку, щекотнула в бок. Он выдернул руку. Глухо начал прокуренным басом:
— Ты вот что, девка-красавица… Что я тебе скажу! Не отбивай у нас парня… От дела не отбивай! Не морочь ему голову и камня на душу не клади. Побереги чары-то для другого какого… здешнего.
Любава рассмеялась громко.
— О-о! Что это ты, Будылин?! Ведь любовь у нас. Алексей… как муж мне уже!
— Ну это еще законом не установлено — любого мужем называть! — Усы под крупным носом Будылина поднялись кверху, в них застряли зернышки махорки. — А еще вот что… Не любит он тебя фактически!
Любава блеснула глазами, прищурилась, тихо смеясь.
— Уж я-то знаю, как он меня любит! Эх ты… старый! Завидно?
Бригадир, нахмурившись, поднял брови, усы угрожающе сдвинулись. Оттягивая лямку фартука на груди, Будылин загремел басом:
— Эх, как тебе не стыдно!
Любава сжалась, будто бас ударил ее по сердцу. Удивилась: как этот неприветливый человек смеет кричать на нее. Сдерживая смех, моргнула всем, притворно растягивая:
— Ох, мне и стыдно-о! Аж губы покраснели!
Плотники захохотали. Будылин крякнул:
— Иди — не мешай работать, красивая…
Любава повернулась вокруг себя, будто она в новом платье перед зеркалом.
— А что, правда ведь красивая, мужики?! А?
Хасан, рассматривая Любаву, почесал глубокомысленно подбородок и оценил:
— Нищава! Сириднэ!
Зимин, зажав бороденку в кулак, засмеялся надтреснутым старческим смехом:
— Красивая-то ты, молодица, красивая — это всему свету известно, а вот за старика не пойдешь, чать? А?
— Поцелуй, Любавушка, — дом поставлю! — отчаянно крикнул, подняв курчавую голову, небритый Лаптев.
Любава прохаживалась по щепкам, осторожно ступая.
— То-то! А вот Будылин гонит меня. Ой, боюсь — поцелует, усами защекочет!
Будылин побледнел, сплюнул.
— Теорема ты, фактически!
Любава обидчиво поджала губы.
— Плотники несчастные… Вам только топорами стучать да гвозди забивать, а не красоту понимать… До свиданьичка!
Пошла в дым, в степь. Повернулась, попросила:
— Лешеньке сообщите. Пусть придет.
Будылин крикнул вдогонку:
— Подумай, что говорил, Любава Ивановна!
Любава, не оборачиваясь, ответила:
— Мой Лешка, мой! — и скрылась в степи. Оттуда слышался ее смех, манил, будоражил всех.
Плотники одобрительно и восхищенно перебрасывались словами. Потом сразу стало скучно.
— Нейдет сон.
— Мать честная, жарища! Хоть в колодец головой!
— Опять в степи дымит…
— Айда смотреть?
— Разбуди Алексея!
Зыбин вышел из зернохранилища, выпрямился во весь рост, взмахнул длинными руками. Темные заспанные глаза его устало оглядели товарищей. Заметив, что они шепчутся о чем-то, посматривая на него, потер ладонями теплые щеки, взялся рукой за выбритый круглый подбородок, раздумывая.
— Проснулся, верста! — подмигнул всем Зимин и подошел к Алексею, маленький, тщедушный, сообщил, дергая бороденкой:
— Была почтальонша твоя, Любка-то. И ушла.
— Эх, ты! Куда?
— В степь ушла. Там, наверно, конь ее с почтой. Не ищи теперь.
— Что говорила?
Зимин указал на Будылина:
— Спроси у бригадира.
Алексей кинулся к Будылину. Тот, нагнувшись, невозмутимо тесал бревно. Исподлобья глядя на Алексея, предупредил:
— Приходила.
Алексей, равнодушно глянул на стесанные бока бревна, спросил:
— Ну и почему не разбудили?
— Сладко спал, — усмехнулся Будылин и положил руку на плечи парня. — Проспал свою жар-птицу.
— Ладно. Проспал так проспал, — обиделся Алексей и почувствовал неприязнь к бригадиру, сожалея, что случайно нанялся в эту артель.
Хотел уехать на целинные земли. Будылин отговорил: «Все одно, что там на целине, что мы в степи идем артелью. Совхозам плотники ой как нужны! «Специальный» приезжал из райисполкома! Почет! Дело верное. Да и заработок по совести — договор! Вынь да положь! И маршрут есть — не бродяги какие! Городские плотники, мастера! Артель почти готова — вот хорошего столяра не хватает…» Долго думал: где выгоднее и легче — с артелью или на целине? Решил, что с артелью: нет начальников, заработок солидный, да и дело-то всего — рамы да двери.
Заработает — поможет сестренке. Остро захотелось сейчас увидеть девочку, заботливую, строгую и умную, с косичками. Оба воспитывались в детдоме. Вырос — стал работать столяром. Забрал Леночку. Она научила бы его, посоветовала, как бывало, мать, что делать ему сейчас. Взяла его за душу Любава — красивая степная женщина. Будто радость нашел! Снилась во сне. Снилось, как он целует Любаву ночами в прохладном сене, а она шепчет: «Целуешь ты хорошо, а скушно. Ты меня на руки подыми, по всей степи пронеси — звезды посмотреть!»
Приходило решение: остаться здесь, в совхозе, с ней, забыть всех: жар-птицу поймал! Нигде больше такой не найдет! А на сердце и больно и радостно. Кто-то проговорил:
— Пожар айда смотреть?! — Кивнул, пошел.
За оврагами дымилась степь. Хасан и Лаптев, обнявшись, смотрели, как тают в огне травинки, как обугливаются толстые шишки татарника, и желтая трава становится красной, а дым смешивается с ковылем.
Алексей встал в стороне, где не так сильно пахло паленым и глазам не больно смотреть. Было грустно видеть эти горящие пустоши: на душу ложилась печаль, становилось жалко чего-то…
Глядел: темно-алое с синим отливом пламя раскидывало далеко свои красные руки и жадно ладонью сгребало высохшую траву, оставляя черный пепельный полосатый след, будто пашня. Пламя хлопало, трещало. Степь, казалось, убегала с огнем все дальше и дальше. Потом, после выхлопа, стихало все, клубился дым, рассеивался, пригибаясь к земле, и в воздухе дрожало горячее марево. И снова огонь выскакивал будто из-под земли, кружил — пламя плясало, как дикая вьюга, убегая к горизонту.
— Больно земле, мать честная! — слышал Алексей сдавленный голос добряги Лаптева, которому откликался Хасан, поглаживая лысину, напевая неизменное: «Прабылна, прабылна, нищава ни прабылна». Жарко подставлять щеки — они гладко лоснятся; так хочется холодной воды! Катятся дымные круги, обволакивают ковыльную грудь земли. Над выжженной степью, над голой черной растрескавшейся землей глухое небо тоже пышет зноем. Пустынная до боли, до грусти и тоски земля, пыльные столбовые дороги, озера, высохшие до дна, и ни одного степного пустоцвета, ни одной голубоглазой незабудки. Черно. Голо. Ни звука, ни зелени, ни жизни.
Он никогда не согласился бы остаться в степи, как все, кто работает здесь и проводит целую жизнь. У него есть свои планы и цели: жить так, чтобы быть хозяином самому себе; свою жизнь устроить получше.
…Жарко. Тяжелеет голова, и хочется полежать в тени. Представилась шуршащая, остроусая, наливная пшеница, золотые слитки колосьев, зарубцованные, собранные в колос зерна. Желтое море! Как хорошо войти в ниву, осторожно раздвигая стебли на две шумящих стены, упасть, вдыхая хлебный острый запах, уснуть или смотреть на небо, лежа на спине, и вспоминать чистые зеленые глаза Любавы.
Захотелось пойти в тальник, спрятаться в воду — родниковую, ледяную! Хасан и Лаптев ушли к зернохранилищу. Алексей направился к речке.
Речка плыла в овраге, журчала на мелководье по камням: в глубоких водоемах мокли жесткие тальники. Тяжелые старые тополя бросали густую ветвистую тень на воду. Подошел, раздвинул заросли. Услышал откуда-то из воды женский вскрик:
— Куда лезешь?! Ой!
Вздрогнув, узнал знакомый голос — Любава! Блестят в воде круглые белые плечи, глаза большие, строгие, с какой-то злой усмешкой, косы подняты и уложены вокруг головы.
— А-а! Это ты, Леша?
Смутилась.
— Не смотри! Не твоя еще пока! Отвернись!
Отвернулся, слушая обидно-веселые упреки:
— Ищи тебя! Случайно… пришел. Нет, догадаться… пораньше!
Плескалась вода. Меж тальников кружилась маленькая бабочка с разноцветными крыльями. Улетела.
— Кинь мыло! Не уходи!
Расхотелось купаться. От воды потянуло прохладой. Слышался плеск, мокли бурые тальники. Солнечные лучи прошивали тяжелую горячую листву тополей, и свет сонно качался на листьях. Берег зарос молочно-белой осокой, весь как кипень, в сиянии до неба, в мерцающих паутинах на кустах дремлющей смородины.
Тихо плещет водой Любава. Лег в траву на спину, закрыл от света глаза рукой. Вода заплескалась звучнее, и сквозь плеск воды слышался милый голос:
— Скоро уходит артель?
— Да.
— А ты как?
— Еще не решил.
— Останешься?
— Не знаю…
— Любишь меня?
— …Люблю!
— Ну и что ж маяться?! Оставайся. Будем жить… Все тебе отдам. Вся твоя буду.
Промолчал. Конечно, останется! Еще мало целованы губы Любавы, только руки ее знает он хорошо да плечо, когда укрывал пиджаком во время дождя. Можно вот так лежать в траве на берегу долго-долго и знать, что Любава ждет решения. В висках стучит: «Оставайся… полюблю!.. Будем жить. Вся твоя буду». Вот она одевается уже: прошелестела трава — шуршат чулки, щелкает по бедрам резинка, а он с закрытыми глазами, будто равнодушен, и чувствует, что нравится сам себе.
Подошла, наклонилась вплотную грудью, взяла за руку, подняла. Стоит перед ним свежая, умытая, глаза смелые, родные.
— Целуй! Чистая!
Испугался даже: это второй раз! Сама просит! Покраснел и, заметив грусть в ее глазах, припал к щеке.
— Ой, какой ты хороший… — поцеловала.
Губы ее влажные, жадные. Засмеялась по-детски звонко.
— Батюшки, родимые, как ты тихо целуешь! — Лицо ее было счастливо. Заалев, отвернулась, тяжело дыша.
— Давно я никого так не целовала, — сказала Любава уставшим и каким-то виноватым голосом и, повернув голову, краем глаза заметила, что Алексей вдруг помрачнел от этих ее слов, поняла: не уйдет он, останется — она сильней. От этого почему-то Любаве стало грустно. А он прошептал, обнимая:
— Не хочется уходить…
Догадалась.
— Быстрый какой! Вместе пойдем? — сняла его руку с плеча.
Он не обиделся. Ему льстило, что сейчас рядом с ним идет эта молодая, пышущая жаром, степная красавица.
Алексей знал: сватают ее часто, от женихов отбоя нет. Надоедают, объясняясь в любви. Отказывает.
— Зачем они мне? Я о них не мечтала… Каждый день их вижу! Кого сама полюблю, за того и выйду! Своей, верной семьи хочется.
Он с уважением подумал сейчас: «Это ее «большое» право», — и ему стало приятно, что вот опять сама его поцеловала. Представил себе надоедливых женихов, засмеялся, но решил скрыть радость.
Шли, ступая по глиняному твердому откосу. «Будто домой идем», — подумал Алексей и понял, что никуда не уйти ему от ее глаз, которые заботливо поглядывают на него. Понял и испугался: начинает забывать о городе, о сестренке, о музыке в зеленом парке, о красивых девичьих лицах в трамвае. Все заслонила Любава!
— Ну… я работать. Слышишь, топоры уже стучат.
— Иди, милый… Стучат.
Любава осталась у каменной ребристой ограды, возле которой, закрывая дорогу, разлеглось стадо гусей. Алексей пошел им наперерез. Гуси не шипели на него, не гоготали — пыльные, жирные степенно сторонились, поднимаясь, посматривая на него, словно люди, все понимая.
6
Степь потемнела. Расплывшееся солнце собралось в круг, заблестело ослепительно-холодно. Небо поголубело. Полдень кончался. Зыбин пришел, когда плотники поднялись на работу. Некоторые точили топоры и пилы на кругу, кантовали бревна, укладывали доски для распиловки. Будылин покрикивал:
— Поживей, ребята, поживей! Поторапливайтесь!
Алексей взял лучковую пилу для резки брусьев на рамы и двери, стамеску, долото, оглядел товарищей, направился к своему станку, где уже лежала гора опилок и колючих стружек. Он с какой-то гордостью отметил, что, когда рыли ямы, ставили столбы, обрабатывали бревна и выдалбливали пазы для крепления стен, — плотники работали нагнувшись, смотря в землю; а теперь, укладывая строительные фермы и собираясь крыть крышу тесом в два слоя, — зернохранилище почти готово, — все работают, посматривая на небо, гордо стоят на земле.
Только он, столяр, по-прежнему нагибается над рамами, откидывая рукавом стружки на землю, завидуя товарищам, у которых «земляные» и «небесные» работы.
Слышится: «Раз-два, взяли!», а ему: «Останешься! Любишь меня? Будем жить!» Любава будто здесь, среди них, и тоже работает там, где слышно: «Раз-два, взяли!»
Будылин не любил разговоров во время работы, но теперь, когда осталась крыша, отделка, и он уже не покрикивает: «Поживей, ребята!» — молчит.
— Последние дни робим, и опять путь-дорога…
— А куда торопиться — жара везде, будь она неладна!
— В соседнем совхозе, говорят, люди нежадные…
Будылин откликается:
— Это нашему брату сподручно.
— Семья моя из пяти человек. Каждого обуй, одень… Эва!
— А у кого их нет?! У Зыбина разве только.
— Ему легко: сбил рамы, двери — и айда по свету.
— А Любава?!
— А что ему Любава! Поцелует и дальше пойдет.
Будылин усмехается прищуриваясь. Семья его хорошо знакома Алексею. Были когда-то соседями: Будылин из рабочих. Рано женился. Детей — восемь человек. Будылин дома устраивает семейные советы после каждого заработка и распределяет деньги так: «Это на Семена, это на Нюру, это…».
— Алексей что-то веселый сегодня! — кивнул всем Зимин.
Опять начали трунить над Зыбиным, от веселого настроения или оттого, что он всех моложе в артели. Пусть, хоть и тяжело ему. Они не знают, что он любит! И хочется сказать им об этом, открыться, чтобы не насмехались над ним и Любавой.
— Братцы… — начал Алексей тихо, и ему сразу представились ее глаза, смотрящие сейчас в упор, с укором. Заволновался, заметив, как плотники подняли головы. — А ведь я, — проговорил он глухим голосом, — люблю! — И будто только сейчас при них почувствовал это «люблю» серьезно.
Наступила тишина: остановилась работа. Плотники молчаливо, как по уговору, подсели на бревна в круг, задымили махоркой. Только Лаптев, стоя на лесах, выжидательно свесился со стены, опершись грудью на обвязку: он во время отдыха не курил «отравы» и вздыхал по водке.
— Люблю… — повторил Алексей.
Зимин, поглаживая бороду, приблизился к нему и, ласково подмигивая всем, проворковал:
— А мы ведь, Алеша, знаем об этом.
Послышался смех. Будылин нахмурился, заложил руки за фартук.
— Люблю! М-м, эко счастье человеку привалило!
— С собой уведешь ее али как?
— Наверно… здесь останусь, — ответил Алексей, погрустнев, и шутливо выкрикнул: — Бейте меня, что хотите делайте, а только вот… не могу я!
Лаптев взмахнул рукой сверху:
— Хор-ррошо это, мать честная! Забавно! Ведь везде человеку, значит, можно жить, к примеру! В степи — пожалуйста, жена нашлась, дом поставил — живи! В тайге или у Ледовитого океана где… с моржами в чукче какой!..
— В чуме! — строго поправил Будылин.
— Вот я и говорю, в чу-ме! Только бы помочь сперва ему надо, по-товарищески, артельно, чтоб… миром. Так я говорю, эх ты, мать честная!
Хасан, слушая разговор, задумчиво хлопал в ладоши, как бы баюкая ребенка, пропел — ответил:
— Прабылна, прабылна… Нищава ни прабылна!
Будылин завозился, крякнул:
— Тише! Я скажу. — Помедлил. — Блажь все это! Дурь! Ветер!
Махорочный дым обволакивал лица. Плотники затягивались глубже. Будылин зря не скажет. Повернулись к Алексею, слушая бригадира, — казалось, это они сами говорят Зыбину.
— Ты человек молодой еще… Несерьезная она, а ты тем паче. Не получится у вас жизни… этой! — Будылин потряс ладонью, как бы взвешивая чего-то. — А еще вот что скажу. Артель подводишь! Ты останешься здесь, а мы как бы уже не артель… Одним мастером меньше. Столяр ты хороший. Рамы и двери — твоя забота. Кто их без тебя делать будет? Нет замены. А скоро в соседний совхоз идти… там и заработок выше. Любовь-то она любовь, а все же дело такое… артельно решать надо. Правильно я говорю, мужики, фактически?
Кто-то растянул со вздохом:
— Эт-то правильно… Так если!
— Да… — протянул сверху Лаптев, соглашаясь с речью Будылина. — Она ведь, Любава, не женщина, а прям, черт знает, что такое!
Алексей ковырнул ногой стружки. Зимин толкнул его в бок.
— Ну что молчишь. Алексей?
— А ну вас! — с горькой обидой выпалил Зыбин. — Душу раскрыл. Думал, легче станет! — Зашептал: — Заколдовала она меня… Горит душа, как степь.
Будылин понял тревогу парня:
— За версту ее к себе не подпускай! Тебе только дай губы — присосешься, не оторвешь. Об артели забудешь…
Зимин выбил пепел из своей трубочки.
— За версту… Это тоже несправедливо, Михей Васильевич. Надо же человеку когда-нибудь жизнь начинать. Надо! Случай есть! Баба по нраву — что скажешь?
— Я говорил уже — ветер это! Беда для него. Сгорит он в ее душе! Ишь закружилось в голове…
— Я артель не подведу, — вдруг устало произнес Алексей и отвернулся.
Будылин положил ему руку на плечо.
— Правильно мыслишь, сынок. Вместе собирались-нанимались. Маршрут есть, чертежи… Против общества нельзя бодаться. Иди скажи: мол, уезжаю. Побаловались и хватит. — Встал и, чтоб скрыть неловкость и грубость, проговорил: — Давай, ребята, поживей… время идет. Скоро Мостовой нагрянет с расчетом… ребятишкам на молочишко.
Алексей подумал о том, что коллектив — сила и что много в их словах было трезвой правды.
7
Мостовой действительно «нагрянул». Директор совхоза, никем не замеченный, появился неожиданно — вышел из зернохранилища, отряхиваясь, тяжело ступая сапогами по щепкам. Располневший, в зеленом френче с двумя «вечными» ручками в боковом кармане, он встал перед артелью, кудрявый, с рябым веселым лицом, на котором голубели спокойные хитрые глаза.
— Привет, милые работнички!
— Добрый день, товарищ директор.
Полуобнимая каждого, он вытирал круглый лоб красным платком, смеясь говорил, будто отчитывался:
— Не день, а пекло! Катил по хуторам — отсиживаются в холодке работнички! Это я о своих. — Указал рукой на постройку. — Храмина-то?! Изюминка! Закуривай всей компанией, — раскрыл пачку «Казбека» — черный всадник дрогнул и, скакнув, скрылся за рукавом Мостового.
Плотники поддержали «компанию», закурили папиросы, присаживаясь около Мостового на бревна.
— Ну как, не жалуетесь? Хорошо кормят? Спите где?! Ага, значит, неплохо!
Алексей ждал чего-то, зная, что Мостовой осмотрит работу, выяснит срок ухода артели, выдаст расчет. Тогда можно будет послать деньги Леночке в город, и, может быть, станет яснее: оставаться здесь с Любавой или идти дальше. Его начала уже раздражать мысль о том, что вот пришла любовь, а он растерялся, потому что любовь тоже, как работа, как задача, — серьезна и ответственна, и человек должен быть решительным, и нужно круто менять свою жизнь. А менять свою жизнь ему на хотелось.
— Так вот, милые, новость какая… — объявил Мостовой и встал.
«Милые» тоже встали. Мостовой начал издалека:
— Плата, как уговаривались. Продукты по назначенной стоимости. Вот записка кладовщику: сметану с маслозавода привезли, так я выписал вам…
Лаптев, поглаживая щеку, предложил:
— На жару надбавить бы надо.
Все засмеялись.
— А новость такая… — Мостовой оглядел всех, выждал паузу. — Решено школу-пятистенок ставить да дома работникам… Лес везут. Дело срочное, хорошее, мастера нужны. Может, кто из вас совсем останется… Жить здесь. А может, всей артелью, а? Что, никому степь не приглянулась? Ага, нет, значит…
Все промолчали.
— Нужны нам плотники, ой как нужны!
Будылин мял в пальцах раскуренный «Казбек», отвечал за всех:
— Это дело дельное… Обмозговать надо, как и что. Работы ведь везде много, и всюду мастера нужны, ко времени, фактически.
Мостовой улыбнулся:
— Вот, вот! За нами дело не станет. А знаете что? Перевозите семьи сюда. Каждому дом поставим. Вам ведь все равно: что шагать-работать, что на одном месте?!
Будылин взглянул на Алексея. Тот молчал, Зимин ответил:
— Мороки много с переездом-то.
Алексей встал и сел чуть в стороне, слушая разговор о том, что «мороки много», что трудно с насиженных мест трогаться, да и детишки по школам… кто где учится… Срывать с учебы нелегко… Оно ведь одним махом трудно… Подумать надо…
— Ну, подумайте промеж себя, — сказал нахмурившись Мостовой и, уходя, добавил: — А насчет сметаны… я распорядился.
Плотники повеселели: зернохранилище Мостовому понравилось, расчет выписан, значит на днях можно двигаться дальше. Начались приготовления к уходу, к дороге. В ларьке и магазине покупали промтовары, то, чего не было в городе, обсуждали предложение Мостового остаться, гордились тем, что они мастера и нужны.
— Рабочему человеку везде воля…
— Лаптеву бы здесь — простор: вина в магазине залейся.
— Надо выпить по случаю.
— Зыбин мается… Вот кому остаться. Здесь ему уж и жена нашлась!
Вечером выпивали. Лаптев пел: «Вниз по матушке по Волге…», «Ой, да по степи раздольной колокольчик…»
Даже непьющий Будылин пригубил стаканчик. Алексей отказался. Плотники шутили над ним:
— Любавы неделю не видно. Платье новое шьет.
— Укатила твоя фефела за почтой, по дороге молодцы перехватили!
Подобрели от вина, от гордости за свои золотые руки и «храмину-изюминку». Разговор вертелся вокруг степи, работы, Мостового. Хвалили друг друга и останавливались на Алексее и Любаве, с похвальбой и гордостью чувствовали себя посвященными в «их любовь», приходили к выводу, что Зыбин все-таки должен «не проворонить свою жар-птицу и забрать ее с собой, показать свой характер».
— Будылин что: у него жена — гром! Взяла его в руки…
— Ему деньгу зашибать…
— А что, правильно! О детях радеет…
Бригадир, посматривая на подвыпившую артель, усмехался невозмутимо:
— Чешите языки, чешите, — однако мрачнел, догадавшись, что они жалеют Зыбина и что сам он вчера в разговоре с Алексеем дал лишку.
— Любава — женщина первостатейная! Я во сне ее увидел — испугался. Белье на пруду стирала. И так-то гордо мимо прошла, аж родинка на щеке вздрогнула, — восхищенно произнес Лаптев.
— Скушно без Любавы-то… — грустно проговорил Зимин, морщинки у глаз затрепетали.
— Уж не тебе ли, старик?!
— А што, и мне! — Зимин медленно разгладил бородку, вспоминая Любаву. — Бывало, как лебедь прилетит, — и пожалуйста!
Будылин спросил Алексея так, что никто не слышал:
— Что нет ее?! Или отставку дала?
Алексею льстила хоть и насмешливая, а все-таки тревога товарищей, что нет Любавы. Ответил громко:
— Сам не иду! Ветер это! Блажь!
Будылин крякнул и отвернулся.
В теплом пруду кувыркались утки, мычала корова, откуда-то доносился старушечий кудахтающий выкрик:
— Митька, шишига! Куда лезешь — глубко там, глубко! Смотри — нырнешь!
К Зыбину вдруг подошел Хасан и, поглаживая лысину, мигнул в сторону. К плотникам бежала Любава. Зимин заметил, обрадованно вздрогнул.
— Алексей! Глянь — твоя!..
— Леша, Лешенька-а-а! — кричала Любава на бегу, придерживая рукой косы. Остановилась, перевела дух. В руке зажат короткий кнут. Через жакет сумка с почтой. — Иди сюда!
В глазах испуг. Губы мучительно сжаты. Лицо острое и бледное.
Плотники отвернулись, застучали топорами. За оврагом в степи топтался почтовый белый конь, шаря головой в ковылях.
— Слышала: Мостовой был! Уходите, да?! — приглушенно, торопясь, с обидой спросила Любава у Алексея.
— Ну был. Да, — нехотя ответил Алексей и сам не понял, к чему относится «да»: к «уходите» или к тому, что «Мостовой был».
— Ой, да какой ты! — печально вздохнула Любава, опустив плечи. Она как-то сразу стала меньше. Алексей думал: сейчас упадет на колени протянул руку и почувствовал ее горячую ладонь на щеке — погладила. Задышала часто — грудь дрогнула, замерла, затряслась в плаче. — Родимый ты мой, что же это у нас? Как же… Я ведь о тебе, как о муже думала. Ждала тебя — придешь… Сердилась, а сама люблю.
Любаве стало стыдно, щеки ее зарумянились, и она чуть опустила голову.
Зыбин молчал, чувствуя, как становится тепло-тепло на душе и хочется плакать как мальчишке…
— Как же так: пришли вы — ушли, а мне… маяться! Одна-то я как же… Ты прости меня, дуру.
— Ну-ну, успокойся! — Алексей обнял ее за шею, притянул к себе, и она вдруг разрыдалась, водя головой по его груди. Кто-то сказал:
— Тише ты стучи!
Алексей не мог определить кто: Хасан, Лаптев или Будылин, все замелькало у него перед глазами: степь, небо, фигуры плотников; жалость хлынула к сердцу, будто это не Любава плачет, а сестренка Леночка….
— Милая, — прошептал он и почувствовал: какое это хорошее слово. Любава исступленно целовала его в губы, выкрикивая «не отпущу», «люблю», «мой».
Алексей грустно смеялся, успокаивая:
— Так что же ты плачешь, Люба? Ну, Люба!
Любава смолкла, уткнулась лицом ему в грудь, закрыв свои щеки руками.
Плотники остановили работу, собрались в ряд, не стыдясь, смотрели на них. Каждому хотелось успокоить обоих. Шептали:
— Вот это да! Муж и жена встретились.
— Смотрите, счастье родилось! По-ни-май-те это!
— Поберечь бы их… надо.
Хасан кивнул:
— Прабылна… — Крикнул: — Прабылна! — и не допел свое неизменное «нищава ни прабылна».
— Эх! Мне такая лет тридцать назад встретилась бы… — вздохнул Зимин.
Лаптев остановил его рукой:
— Да ведь оно как когда.
— Счастливые!
Будылин порывался что-то сказать, теребил рукой лямки фартука. Бровь с сединками над левым глазом нервно подрагивала. Понял, что ни он, ни артель не имеют права помешать людям, когда у них «родилось счастье».
Кто-то неосторожно чихнул. Любава отпрянула от Алексея, оглянулась и покраснела, заметив, что плотники смотрят на нее и осторожно улыбаются. Шепнула:
— Леш! Приходи в степь… — Наклонилась к самому уху, обдала горячим дыханием: — Скажу что-то! Придешь?
— Где встретимся?
— А у почты.
Вытерла ладонью лицо и, румяная, смущенно смеясь, обратилась к плотникам:
— А я вам газетки принесла. Вот про Бразилию почитайте. Интересно!
— М-м! Бразилия! — вздохнул Лаптев, завистливо оглядывая счастливую пару.
— Я провожу тебя.
Алексей кивнул всем, взял ее под руку.
Любава радостно подняла голову.
Когда Зыбин и Любава ушли, все долго молчали, вздыхая: «Да», «Вот как!», «Здорово!» Первым заговорил Лаптев:
— Правильно Зыбин делает. Любить — так до конца!
— Любовь до венца, а разум до конца, — поправил Зимин.
Будылин сказал устало:
— Пусть… Хорошо… А ведь мы теперь… — обратился он к артели, ставя ногу на бревно, — должны, ребята, помочь Зыбину, что ли!..
— Это-то правильно. Чтобы праздник был у них…
По степи глухо и тяжело затопали копыта. Все увидели: по ковылям на белом, лоснящемся от солнца будто выкупанном, коне промчалась Любава. Алексей стоит у оврага и смотрит ей вслед.
Будылин поднял руку:
— Первое — не зубоскалить!
— Хорошо бы… дом им артелью… чтоб.
— Вроде общественной нагрузки!
— Второе! — перебил Лаптева Будылин и помедлил, задумчиво растягивая: — До-ом, — прикусил усы, покачал головой, — задержка получится.
— Зато отдохнем.
— А лесу где взять?
— Из самана сложим, — вставил Зимин.
Будылин тряхнул головой:
— Правильно! Ладно! Поставим! С Мостовым лично сам поговорю. Совхоз поможет…
Хасан смотрел на небо и, когда встречался с кем взглядом, улыбался.
— А как с заменой? Алексей у нас лучший столяр.
— Сам заменю!
Плотники молча кивнули бригадиру. Лица у всех серьезные.
— Айда храмину доделывать — крышу крыть! — Взялись за топоры и долго говорили о том, как помочь Зыбину с Любавой, решили: два часа работать сверхурочно.
8
Вечером над степью — сиреневое полыхание воздуха. В деревне тихо. Над крышами вьются прямые дымки. У совхозной конторы молчат трехтонки, груженные железными бочками с солидолом.
От деревни из улиц разлетаются по степи белые ленты наезженных высохших дорог.
В степи пыли нет. Дождевая вода давно высохла в обочинах: края дорог потрескались шахматными квадратами. Над ковылями качалась синяя тишина-прохлада, в которой слышались усталые посвисты сусликов, ошалелое пение невидимого запоздалого жаворонка да надсадное тарахтение далекого грузовичка.
Любава, откинув гордую голову, улыбаясь, вздыхала. Алексей, перебросив через руку фартук, шагал рядом, глядел вокруг.
— Посмотри, облачко… — по-детски радостно произнесла она, указывая на мерцающие синие дали, — это грузовик плывет.
Он с какой-то светлой грустью подумал о том, что без Любавы степь была бы не такой красочной. «Иди, скажи: мол, уезжаю», — вспомнил Зыбин совет Будылина и почувствовал себя хозяином этой женщины, которую любит. «Уезжаю… Хм! Легко сказать!» Кивнул в сторону.
— А ты взгляни!
Вдали за черно-синими пашнями у совхозов — элеватор. Освещенный потухающим закатом, он высился над степью, как древний темный замок, грустно глядя на землю всеми желтыми окнами.
— Громада, а пустая! — усмехнулся Алексей.
Любава посмотрела на него удивленно и вдруг недовольно заговорила, как бы сама с собой.
— Сам ты пустой. Там всегда зерна много. Ты что думаешь: районы при неурожае голодать будут?! Государство наше… М-м! Хитро!
Покраснела оттого, как ей показалось, что сказала это умно, мучительно подбирая слова. Добавила, прищурившись:
— Это мы здесь хлеб добываем. Степь нам как мать родная…
Алексей, завидуя ее гордости, уважительно взглянул на Любаву, вздохнул, тряхнул головой, соглашаясь. Из-под кепки выбился белый чуб.
— Лешенька…
Он перебил ее, кивая на элеватор:
— Забить бы его хлебом, чтоб на всех и на всю жизнь хватило!
— Осенью забьем… Кругом целина распахана. Дождя давно ждут… Вот если бы ты с год пожил здесь… Ты бы полюбил степь и остался. Родная сторона… Мы все здесь важные люди: стране хлеб нужен!
Любава погладила его руку, и он почувствовал острое желание схватить Любаву в охапку, целовать ее губы, щеки, глаза, волосы и вдруг грубо обнял за плечи.
Она обиделась, он не понял отчего: то ли оттого, что отвел руку, то ли оттого, что обнял за плечи.
— Не спеши… сгоришь, — строго сказала Любава и остановилась.
Ковыли расстилались мягкие, сухие, теплые.
— Здесь, — вздохнула она и обвела рукой вокруг, показывая на камни и кривые кусты степного березнячка. — Это мое любимое место, где я мечтала…
— О чем? — заинтересованно спросил Алексей, бросил фартук на камень.
— О большой любви, о жизни без конца, о хорошем человеке, который приедет и останется… со мной.
«Другого имела в виду, не меня!» — рассердился Алексей, и ему стало завидно тому воображаемому «хорошему человеку», о котором мечтала Любава.
— Хороших людей в нашей стране ой как много… весь народ! Вот такой… сильный, могучий!.. А мне бы хоть одного под мой характер.
…Затрещал костер, кругом стало темнее и уютнее. Дым уходил в небо, оно будто нависло над огнем, коптилось, и огонь освещал зеленые молодые звезды. Любава молча стояла над костром, распустив косы, освещенная, с темными немигающими глазами. Свет от костра колыхался на ее лице. Алексею стало страшно от ее красоты, и он подумал: будто сама степь стоит сейчас перед ним.
— Сказать я тебе хотела… — Любава встала ближе к костру-свету, побледнела, лицо ее посуровело, — люблю я тебя, а за что… и сама не знаю… Любила раньше кого — знала. За симпатичность, за внимание… А тебя просто так. Приехал — вот и полюбила, — она рассмеялась. — Смотри, береги меня! — Помедлила: — В эту ночь я буду твоей женой.
Алексею стало немного стыдно от этой откровенности. Ему не понравились ее прямота и весь этот разговор, который походил на сговор или договор, все это было не так, как во сне, где Любава виделась ему на душистом сене. И ему захотелось позлить ее.
— Что, все у вас в степи такие? Приехал, полюбила — и прощай.
Любава вздрогнула, сдвинула брови, внимательно и упрямо вгляделась в его глаза и, догадавшись, что говорит он это скорее по настроению, чем по убеждению, устало и обидчиво произнесла:
— Не понял ты. Я так ждала…
Взглянула куда-то поверх его головы, сдерживая на губах усмешку.
— Кто тебя любить-то будет, если ты женщину обидеть легко можешь?
Сейчас она была какой-то чужой, далекой. Алексей шутливо растянул:
— Да за меня любая пойдет — свистну только!
Любава широко раскрыла глаза, удивилась.
— Да вот я первая не пойду!
Она села рядом и, отчужденно-ласково заглянув в глаза, повторила:
— Милый, первая не пойду.
Алексей оглядел ее, заметил расстегнутый ворот платья и от растерянности мягко и тихо проговорил:
— Плакать не буду… — И этим еще больше обидел ее.
Отодвинулся, склонил голову на руки, сцепленные на коленях, сожалея, что сказал лишнее, потемнел лицом, ему стало грустно оттого, что сказанного уже не воротишь. Он досадовал теперь на то, что получился такой грубый разговор, что сам он ведет себя тоже грубо, потому что всегда помнит: он не свободен, тоскует о городе и о сестренке, и потому что знает: не останется здесь в степи, уйдет с артелью дальше. Досадовал на то, что у него такая душа: сегодня любит сильно — завтра сомневается. «А может быть, это не любовь, а просто меня тянет к Любаве, как к женщине?! Не знаю. Хорошо бы увезти ее к себе в город. Будет женой, хозяйкой в доме. Все мне завидовать станут — красивая!»
Любава, откинув руки, лежала на ковылях, подняв лицо к небу, молчала.
«Иди, скажи: мол, уезжаю…» — вспомнил он опять и, чтобы нарушить молчание Любавы, узнать, как она будет вести себя, когда он скажет ей об этом, проговорил, кашлянув:
— Наверно, уеду я… скоро. Уходит артель.
Любава закрыла глаза и откликнулась со спокойным смехом в голосе:
— Как же ты уедешь, когда я тебя люблю.
Алексей поднял брови.
— Как так?!
— Э-э, миленький… Сынок ты. Душа у тебя с пятачок… чок, чок! — Любава громко засмеялась и повернулась на бок к нему лицом.
Наклонился над ней, хотел поцеловать, ловил губы.
— Не дамся! — уперлась ладонями в его шею.
— Ты же любишь…
— А я не тебя люблю… а артель! — И пояснила, не скрывая иронии: — В тебе силу артельную.
— Как так?
— Ну, слушай, — весело передразнила: — «Уеду! Артель уходит!» Артелью себя заслонить хочешь? Куда иголка, туда и нитка? — помолчала, обдумывая что-то. — А я — красивая! Понимаю! Я детей рожать могу… Ребенка хочется большого, большого… Сына! И муж чтоб от меня без ума был — любил так. Со мной ой как хорошо будет, я знаю! Ты не по мне. Сердце у тебя меньше… Сгорит оно быстрее. — С досадой махнула рукой. — А-а! Ты опять не поймешь! Убери руки! — грубо крикнула Любава.
Алексей отпрянул, взглянул на нее исподлобья.
Любава испуганно всматривалась в его лицо.
— Знаешь, — призналась она, — обидно мне, что… ссора такая, что у тебя заячья душа, и это поправить ничем нельзя. Просто мы два разных человека… Не такой ты, каким мечталось.
Алексей тихо засмеялся, слушая твердый и жесткий голос Любавы.
— У меня простору больше… и степь моя, люди здесь все мои: к любому в гости зайду!.. А ты… в сердце мое зайти боишься! Почему? Ну, возьми мою душу! Не-е-е-т!.. Ты о себе думаешь, и все в артели у вас о рубле думают, а потому и сердечко у тебя крохотное, стучит не в ту сторону.
Алексей вскинул брови. Любава, волнуясь, продолжала:
— Не отпускали тебя ко мне: работничка, мол, мастера теряем…
Зыбин перебил Любаву:
— Мы товарищи! Мы рабочая артель. Сила! Руки — наша сила!
— Артелька! Какая вы сила?! Пришли, ушли — и нет вас! Для большой трудовой жизни не только руки нужны — и души!
Зыбин ничего не ответил — понял: она права, и обиделся сам на себя. Любава погрозила ему пальцем.
— А я тебя все равно люблю, — помолчала. — Думала, сильная я — нет… веселая! И характер открытый, не стыдливый. Люблю… От жалости, что ли? Парень-то высокий, ласковый… Хочу, чтоб ты, Алеша, другим стал — смелым… могучим… горячим… хозяином! — Посмотрела вдаль, в степь. Где-то далеко-далеко тарахтели тракторы. — И ночью степь пашут…
Молчали. Алексей встал. Любава подняла глаза.
— Здесь ночуешь?
— Пойду я.
— Иди.
Гас костер. Любава осталась одна. Над костром широко раскинулось черное холодное небо.
9
Алексей ходил как больной. Плотники заметили, что он осунулся, похудел, вяло отвечал на вопросы и после обеда, устав, уже не дремал, а молча сидел где-нибудь в стороне.
Он вспоминал ночь в степи, костер, Любаву и был противен сам себе.
Артель уже ставила сруб для дома, в котором будет жить он и Любава… Это было и приятно и грустно: из-за него люди задержались в этом совхозе, подводит он плотников. Ему было неудобно от подчеркнутой вежливости и внимания товарищей. Он замечал вздохи и понимал, что они теряют дни, а значит, и заработок, ему было стыдно и краснел оттого, что плотники не знают о его размолвке с Любавой в степи и строят им дом.
Отступать было некуда, и становилось тоскливо на сердце. Вся эта артельная помолвка, постройка дома, любовь к Любаве представлялась ему как конец пути, конец молодости! Разве об этом он мечтал, уходя с артелью в степь?! Ему всего двадцать пять… Он еще не был в Москве и в других хороших городах, не служил в армии по большой близорукости, не доучился… Ему всегда казалось, что если и придет этот счастливый денек, когда человеку нужно решать вопрос о женитьбе, то женится он на скромной девушке, которую встретит, и обязательно в своем городе, где такой огромный завод-комбинат, где у него столько друзей, где учится милая сестренка Леночка, для которой он как отец и мать на всю жизнь…
Нет, не артель, не заработок, не Любава — не это главное! Сейчас, когда все обернулось так серьезно, когда он все больше и больше без ума от этой степной красивой и сильной женщины, он понял, что испугался любви, от которой и радостно, и больно, и тяжело, испугался всего, что будет впереди, к чему не готов… Не готов к жизни! Пройдет молодость… жизнь в степи, а город и сестра останутся где-то там, за седыми ковылями, за элеватором и распаханной целиной. Может быть, возможно сделать все это как-то не так сразу? Обождать, например, не торопиться с Любавой… А еще лучше, если приедет к ней потом, когда сестра закончит свое учение. Вот тогда-то он заберет Любаву с собой в город, если она согласится… А что? Правильно! Ничего не случится! Любава любит его — она поймет… Вот сейчас пойти к ней и сказать об этом!
На взгорье стояли контора, старый двухэтажный жилой дом, склады и почта с выгоревшим плакатом: «Граждане, спешите застраховать свою жизнь». Алексей заторопился мимо подвод и машин, у которых бойко кричали о чем-то люди.
…Запестрело в глазах от дощатых заборов и крыш, от телеграфной проволоки над избами, над белыми саманными домиками и землянками. Ветер подернул рябью водоемы реки с крутыми глиняными обрывами. Она опоясала деревню, щетинясь вырубленным тальником на другом берегу. У конторы толпились работники совхоза. Разворачивался, лязгая железами, трактор-тягач, гремел, оседая, будто зарывается в землю. Рядом ребятишки деловито запускали в ветряное небо змея. Змей болтался в воздухе и не хотел взлетать.
Любава жила у хозяйки в саманном домике на краю деревни около пруда. Алексей вступил в полутемные прохладные сени на расстеленные половики и увидел Любаву в горнице: она лежала на кожаном черном диване, укрытая платком, — спала.
Кашлянул, позвал тихо:
— Люба!
Открыла глаза, поднялась, застеснялась, одергивая юбку, громко, сдержанно-радостно проговорила:
— Пришел! Садись.
Алексей огляделся: опасно молчало чье-то ружье на стене, разобранный велосипед блестел никелированными частями, пожелтевшие фотографии веером…
Любава заметила:
— Это сын у хозяйки… В ГДР он служит, — пододвинула стул к столу. Сама села, положила руки на стол. Пальцы потресканные, твердые. «Работает много… — подумал Зыбин, — не только, значит, «Бразилию» возит».
Посмотрели друг на друга, помолчали. На ее румяном загорелом лице чуть заметная усмешка ему не понравилась, и он подумал о том, что она, Любава, сильная — когда ее любят, а если нет — просто гордая…
— Знай, я решил. Ухожу с артелью, — начал он твердо. — Вернусь потом. Ожидай меня. В город поедешь со мной.
Ему показалось, что он поступает как настоящий мужчина, почувствовавший свою силу, твердость, и был уверен, что понравится ей сейчас.
Любава вскинула брови, убрала со стола чистую миску с ложками.
— Хитришь?! Зачем это? Нехорошо! Иди, не держу! Можешь совсем уходить. Ждать не буду. — В ее словах проскальзывала обида любящей женщины. Она откинулась на стул, поправила узел волос на голове, усмехнулась и вздохнула свободно: — Иди, иди, милый! Смотри — меня потеряешь! Другой такой с огнем не найдешь. А ваш брат, мужик, ой как быстро найдется! Мало вас?!
— Ты что говоришь-то?! — упрекнул ее Алексей. Любава нахмурила брови, сурово растянула:
— Правду говорю!
И повернулась к окну.
— Да меня уже и сватают. Вот, думаю…
— Врешь! — крикнул Алексей, привставая.
Любава так громко рассмеялась, что он поверил в то, что ее сватают, и опустил голову, а она начала говорить ему мягко и внятно, как провинившемуся:
— Распустил нюни! Эх, ты… И как я такого полюбить могла?! Бес попутал. — Помолчала, нежно и заботливо глядя ему в глаза. — Как ты потом жить-то будешь? А еще неизвестно… какая попадется. Вдруг почище меня, — улыбнулась, помедлила. — Ты теперь вроде брат мне. И жалко мне тебя. Бабы испугался… — Отвернулась к окну, с печалью продолжала: — Я ведь понимаю, милый, отчего это. Трудно ломать прежнюю жизнь. Вся ведь она в душе остается, с горем и радостью. А еще я понимаю так… — и доверила: — если бы тогда… в степи… узнал меня… ты бы не качался, как ковыль на ветру. Песни бы пел около меня… Эх!.. Душа! — Вспомнила о чем-то, посуровела: — Иди… Другой меня найдет!
Алексей помрачнел. Злость вскипала в груди. «Что это она все о душе да о душе? Вот возьму и останусь!»
Дразнил завиток волос на шее.
— Я ведь люблю тебя, Любава!
Кивнула:
— Любишь… в себе… втихомолку. А цена любви должна быть дороже! Да на всю жизнь! А ты мечешься. Не по мне ты. — Встала. Подошла. Поцеловала в щеку. — А теперь уходи. — Отвернулась к стене, зябко поежилась, накинула платок на плечи и не повернулась, услышав «до свиданья».
10
Будылин на ходу снимал фартук, догоняя Зимина, Лаптева и Хасана, направившихся к Любаве. «Еще скажу что не так — выправляй потом! А как я поведу себя, что ей говорить буду?»
Вспомнил, как Алексей пришел хмурый, отчаянно крикнул:
— Кончай топоры… Ухожу с вами!
— И ее берешь? — спросил Зимин.
Алексей начал неопределенно изъясняться:
— Нет. Не по мне она. Сгорю в ее душе. Подождет, если не забуду!
Будылин сказал ему прямо:
— Эх ты, тюря! Наломал дров, народ взбаламутил, а теперь в кусты!
Зимин, бегая от одного к другому, недовольно прикрикивал, доказывал:
— Да и она тоже-ть… хороша! То ревмя ревет, целует принародно, то не нужен! А нас не спросила? Дом-то вон… Заложен сруб… — Передразнил: — «Не по мне она!» Отодрать вас ремнем мало!
Алексей усмехнулся:
— Не любит она меня. И сватает ее кто-то… В общем, отставку дала. Сказала, я теперь вроде брата ей.
Артель оскорбилась. Заговорила бойко:
— Избу ставим?! Счастье бережем?! Как это не любит? Должна любить!
— На другого променяла… А нас не спросила…
— Вот змея! Отставку… Такой парень! Парень-то, Алексей-то, ведь неплохой — мордастый!
— Сватают ее! Ха! Поди-ка… Да как она смеет мастеру отказать! Он ведь какие рамы-то делает, а двери?! Открывай — живи!
Будылин растянул задумчиво:
— Эх, испортятся люди. Наломают дров. Как тут быть?
И тогда неожиданно, взволнованно заговорил Хасан, выкидывая руку вперед, как на трибуне:
— Мира нада! Айда, эйдем!
— Правильно, Хасанушка! Тут что-то не так. Хитрят оба! Ну, а мы разберемся, кто прав, кто виноват.
Все одинаково пришли к выводу, что Алексей и Любава поступают несправедливо и что артели нужно вмешаться в их любовь, разобрать, что в ней верно, что нет. И всем сразу стало легко и весело, будто Алексей да Любава нашалившие дети. Заговорили, тормоша друг друга:
— Пошли мирить! Она нашу просьбу уважит!
— Помирим! Пусть живут!
— Степные души горят! Айда степь тушить!
— Ты один не сможешь, — сказал Алексею Будылин. — Ляг, отдохни. Ишь глаза воспалены. Не заболел ли? Довела баба… Еще с ума сойдешь.
В небе, как в басовый колокол, тяжело и гулко ухнул гром. Загудел темный горизонт. За деревней в побуревшей степи гас черный дым. Воздух с первыми каплями дождя светился разноцветными точками, отражаясь в холодном круге пруда и свинцовой ленте реки. Ядовито блестел зеленый дым мокрых тальников.
Плотники остановились на берегу, наблюдая за Любавой, как она полощет белье и колотит вальком по мосткам. Одетая в джемпер с засученными рукавами, она наклонялась над прудом — будто смотрелась в воду-зеркало.
— Вроде неудобно… общество целое! — шепнул Зимин. — Может, не сейчас, а?
Будылин, выходя вперед, возразил:
— Когда она еще домой пойдет! Поговорим здесь.
— Гляди — ноль внимания на нас.
— Осерчала.
— Раз отставку дала — погуляем, да на чужой!
— Ты хоть нос расшиби, а если баба не хочет идти за Лешку: к примеру, ссора али раздумала — разлюбила… и тут уж ничего не попишешь, — со вздохом покачал головой Зимин и многозначительно поднял палец кверху.
— То хочет, то не хочет… Это как понимать?
— Здравствуй, Любавушка! — тихо пробасил Будылин.
Любава отряхнула руки, вытерла о подол, оглядела всех.
— Здравствуйте! Гуляете, да?
— Кому стираешь? Алексею?
Любава вздрогнула, поняла, что пришла артель неспроста. Ответила шуткой:
— Тут, одному миленочку…
Плотники подошли ближе, уселись, кто как мог. Мялись, подталкивая друг друга.
Будылину не хотелось брать сразу «быка за рога». Лаптев и Хасан разглядывали небо. Зимин сыпал табак мимо трубки. Будылин понял, что разговор придется вести ему одному.
— Дак что ж, Любавушка… — уважительно обратился он к Любаве. — Поссорились с парнем! Говоришь, сватают тебя! Правда это?
Любава нахмурилась. Молчала.
— Пришли мирить, что скрывать! Артельно, значит, решили сберечь любовь вашу, какая она ни на есть… Значит, что в ней верно, что нет… Домишко вот почти отгрохали… Не пропадать же!
Любава, выслушав Будылина, выпрямилась.
— Ну, замахал топором направо-налево!
Она отвернулась, улыбаясь грустно, и плотники подумали, что ей польстил их приход, и в то же время было обидно за вмешательство.
— Извини, — поправил себя Будылин, — в этом деле, конечно, равномер нужен… Однако как же и не махать?
Любава рассмеялась:
— Эх, артель вы… Подумаешь, дом построить! В нем любой жить сможет. А вы… человека сильного постройте, да с большой душой… Возведите, возвысьте душу его. Не хватит вас! Потому как вы… артельщики, — нахмурилась, — домик-то вы ему сколотили, а о душе забыли!
— Душа — дело не ваше. С какой родился — такого бери! — в тон ей хмуро подсказал Будылин.
— Ох, ты… Душа, что ль, плохая у парня?! — удивился Лаптев.
— Душа не голова — сменит! — заметил Зимин.
— У Алешки дюши пока сабсим ниту… — улыбнулся Хасан.
Заговорили все, перебивая друг друга, не обращая внимания на предостерегающие подмигивания бригадира.
— Избу ставим! Счастье родилось! Не можем мы мимо пройти как люди… Артель у нас… значит. Вот!
— Из-за тебя задержались… Ты должна понимать.
— Люба! Мы одна семья, так что ты уж уважь нас. Сходи к Алексею — помирись.
Любава усмехнулась.
— А мы и не ссорились будто. Как бы вам понятнее объяснить. Любим мы не так друг друга… По-разному!
— А сватает тебя кто?
— Да не чета вашему… Зыбину!
Любава засмеялась, провела рукой по лицу, будто смахивая жаркий румянец, и подошла ближе.
— Ты нам понравилась. Теперь вроде наша.
— Как же будет все это… Неужели так и ничего?
— Мира нада! Айда, Любкэ… люби парынь!
— Заметь! Вы с ним, можно сказать, на всей планете пара! Анна Каренина! Я читал! — Лаптев потряс руками.
Плотникам показалось, что Любава вдруг растерялась, и лицо ее стало счастливым. И глаза засияли. Все почувствовали, как она их сейчас любит, будто целует каждого глазами. Пусть глядит открыто каждому в глаза, пусть понимает, что Алексей Зыбин — не просто человек, а что-то большее. Он силен и красив товариществом!
Любаве захотелось прогнать плотников, остаться одной — у нее действительно стало хорошо на душе, но она дома, и прогнать их с планеты некуда…
Ее умилила их беспомощная забота. Только ей было остро обидно, что Алексей не пришел вместе с ними, она вдруг поняла, что люди просят за него, как милостыню, и рассердилась.
— Уходите! Ишь привязались. Какое дело вам до нас? Почему он сам не пришел… или с вами… на подмогу?
— Вот, вот! — глубокомысленно прищурился Зимин. — Ты не идешь из-за принципа, и он не идет. Из-за пустяка вы, хорошие люди, маетесь… Вот и семья распалась… Умерла! — Помедлил. — Красивая ты больно!
— Не сердись, хозяйка, дело говорим.
Любава помолчала.
— Что это вы обо мне да обо мне… Об Алексее ни слова.
— Приболел он, — соврал Зимин. — Спит, — сказал правду.
— Не грозой ли пришибло? — засмеялась Любава.
Лаптев пошутил:
— Сама пришибла! От любви загнулся.
Будылин метнул на него злой взгляд: испортишь дело, ворона!
Любава разоткнула юбку, приказала:
— Несите белье! Вон туда, в тот саман. — Указала на свой дом. — Хозяйка примет. А я… пойду к нему… Чур, не мешать!
…Алексей лежал под брезентовым навесом у выстроенного пустого зернохранилища, ожидая товарищей. На душе было светло и легко. Все было понятно и решалось просто. Он возвратится сюда и будет тверд в своих поступках.
Ему представилось, как он возьмет Любаву за руку и молча поведет за собой в степь, к тому самому месту, где она мечтала о хорошем человеке и где назвала его «заячьей душой». Ведь не может быть так, чтобы два человека, полюбившие друг друга, разошлись, если они «на всей планете пара», как сказал ему однажды милый Лаптев. Видно, все в жизни так устроено для человека: люби, живи и будь счастлив, коли ты хороший и люди любят тебя.
Он пожалел, что нет сейчас с ним рядом Любавы, которой он высказал бы все это. Пожалел — и вдруг увидел над собой ее глаза, лучистые, зеленые, родные. Увидел и засмеялся.
Любава подумала, что он спит. Перед нею встали взволнованные добрые лица плотников, она будто услышала, как стучат мужские упрямые сердца, и светлая грусть заполнила ее всю. Осторожно провела рукой по щеке Алексея. Он покраснел и с улыбкой отвернулся. Толкнула в бок.
— Вставай, муж!
Алексей, не поворачиваясь, спросил хмуро:
— Зачем пришла?
— Смотри — радуга! Лешенька!
— Я не Лешенька… Алексей Степанович!
— Ой, ты! — усмехнулась Любава в кулачок. — Боюсь!
Когда он встал, припала к нему, обвила шею руками.
— Ну, люблю… люблю!
— Пойдем в степь, — отвел ее руки от себя. — Разговор есть к тебе, — строго проговорил Зыбин.
Кивнула.
Над деревней дымились трубы. Рабочие совхоза где-то обжигали саман. Дым уходил высоко в небо. Грохотали тракторы-тягачи. А на пруду мычало стадо вымокших от дождя коров. В полнеба опрокинулось цветное колесо радуги, пламенея за черным дымом от самана. Стая журавлей, задевая крыльями радугу, проплыла в голубом просторе и вдруг пропала.
Серебрятся влажные бурые ковыли. Светится над степью голубая глубина холодного неба, а где-то далеко-далеко все еще погромыхивает темный горизонт. Ни ястреба, ни жаворонка, ни суслика. Вечерняя грустная тишина. Только двое, взявшись за руки, молчаливо идут но степи куда-то к хмурому горизонту…
У зернохранилища, прислонившись к стене, стоят плотники: Будылин заложив руки за фартук, Зимин, трогая бородку, Лаптев… Хасан поет себе под нос что-то свое, родное… У всех у них грустно на душе и жалко расставаться с Алексеем и Любавой: родными стали.
Скоро, после свадьбы, в которую они верят, артель тронется дальше по степным совхозам, и Алексей Зыбин будет присутствовать среди них незримо.
— Степь, она как тайга — раздольная… Могучих людей требует! Слабому и пропасть недолго… — задумчиво произносит Будылин.
— А Зыбин… возьмет в руки Любку-то! — уверен старик Зимин.
Хасан хлопает себя по груди:
— Песнь здись… Радыст!
Лаптев вздыхает.
Все смотрят вслед Любаве и Алексею, разговаривая о человеке, о хорошем в жизни, о судьбе, все более убеждаясь, что человеку везде жить можно и что иногда не мешает поберечь его счастье артельно.
— Алешка, Любка псе рабно ссор будыт! — смеется Хасан.
Будылин вздрагивает, хмурится:
— Тише ты… накаркаешь!
11
Они шли молча, оба настороженные и взволнованные.
Степь уводила их дальше и дальше, на широкий, омытый дождем простор, навстречу ветру и ночной свежести.
Вот еще один день жизни проходит, становясь воспоминанием, и этот день сменится вечером, а вечером дальше продолжается их жизнь, потому что они рядом и думают друг о друге.
Предчувствие разлуки и недосказанное насторожило обоих, и вот сейчас в степи они поняли, что не артель помирила их, а любовь и обида.
От неловкого молчания шли быстро, будто торопились куда-то. Алексей наблюдал за Любавой: прямая и гордая — смотрит сурово вперед.
«Все же пришла… Сама! Значит, тянется ко мне!» — похвалил он сам себя и усмехнулся.
Любава сняла тапочки, пошла босая, упрямо ступая в набухшие водой ковыли. Ныряли в ковылях ее белые тяжелые ноги, и Алексею хотелось поднять Любаву, нести на руках, чтобы она прижалась теплой грудью, обхватила шею милыми сильными руками, чтоб все забылось, чтоб она не отпускала его, а он нес и нес ее, туда, к хмурому горизонту.
«Звезды посмотреть…» — вспомнил он.
Небо потемнело. Радуга колыхалась, пламенела. Тепло. Пахнет укропом и чебрецом, и все вокруг торжественно в ночной тишине.
«Сапоги намокли, отяжелели, а дышится легко!» — отметил Алексей. И вдруг им овладело странное неясное чувство. «Я хозяин ее!» — и хочется смеяться над Любавой — она такая простая, слабая и родинка на щеке знакомая.
Подул ветер. Волосы раскинулись, запушились. Любава прихватила их косынкой.
— Радуга гаснет, — с грустью прошептала она.
— Все же пришла, сама! — сказал Зыбин вдруг. — Никуда от меня не уйдешь! — обнял Любаву за плечи.
Любава вздохнула, будто не расслышала, и Зыбину от этого стало неловко, хотелось повторить.
— Все вы женщины… играете в любовь! А помани вас жизнью серьезно — сломя голову прибежите!
Любава остановилась: мешали тапочки в руках, удивленно заглянула ему в глаза, сказала просто:
— Я не к тебе пришла! К совести твоей, к сердцу…
Алексей вдруг припал к ее губам. Горячие, но безответные, жесткие.
Спросила с издевкой:
— И чего это храбришься?! Умнеешь, что ли?!
— Ты… вся… моя!
— Во сне видел? — не рассмеялась, только презрительно окинула взглядом.
— Люба… — испугался: уйдет, разлюбит, ненавидеть будет. Этого он не хотел. Заторопился: — Любава, подожди…
— Я уже тебя не люблю, — отвернулась, — не любовь это — жалость. Ласка… — поправила ворот платья, — пусто здесь. Холодно… — рука легла на грудь.
Зыбин рассердился:
— Сердце забьется — прибежишь?
Промолчала.
— Целовала ведь, любила!
С горечью выкрикнула ему в лицо:
— Эх, ты!.. Жена, мать — прибежала бы! А так… — игрушки! Целовать — просто, любить человека трудней. Подумай на досуге, когда одинок будешь.
Наклонилась, погладила красные, исхлестанные мокрым ковылем ноги, надела тапочки — стала выше ростом, аккуратней и суровей.
— Прощай, человек! — сжала губы, подняла лучистые зеленые глаза и, тяжело дыша высокой грудью, повернулась, пошла.
— Что?! — не понял Алексей, протянув вслед ей руку, и когда остался один, понял, что это не ссора, это — конец!
Затаил дыхание. «Ничего, вернешься!» Бодрости не получилось. «Мямля!» — выругал он себя и подался в степь, на простор, к далям.
Ему хотелось оглянуться — сейчас! — посмотреть на Любаву, как она уходит, но сдержал себя. Ведь есть еще в нем мужская гордость!
Косынку сняла, наверное, идет с открытой головой, веселая и обидчивая. Чувствует ее за спиной: удаляется, удаляется…
Тихо кругом. Он здесь идет, она — там: просто идет по степи в совхоз, к себе домой чужая молодая женщина.
«Прощай… Хм! Легко!..» — недодумал, оглянулся: нет ее! Скрылась за березнячком, за камнями, где мечтала о жизни без конца, о хорошем человеке, где ему доверила мучительное, ласковое, счастливое: «В эту ночь я буду твоей женой».
Ударили грома. Небо-то, оказывается, все в тучах! Нагромоздились, нависли над степью, грозные, тяжелые, с ливнем!
Степь навевает раздумье, вся она видна, широкая, свободная, могучая. И сердце стучит сильнее, и петь хочется! Вот он один в степи, никого кругом, а она расстилается перед ним, зовет вдаль и вдаль, к розовой полоске горизонта.
По голове стукнули емкие, злые капли дождя. Похолодало. Дышится тяжело. Темно вокруг. Ковыли, как дороги, — ветер раскидал их по сторонам, уложил в длинные мягкие ряды. Ковыли, как пашня, — черные, набухшие, как бурые земляные пласты. Степь светлее неба!
Нет, он ничего не боится! Только вот один, без Любавы! Будто вынули сердце… Родная… Стоит перед глазами и смеется над ним. Никуда не уйти ему от нее. Это не привычка, не любовь даже! Это — выше… Чувствовать родного человека!
Вот какой-то обрыв: здесь степь темнее, чем небо. Да ведь это земля… Пашня! Услышал вблизи мужские голоса, хохот. Вгляделся в темень.
За кустами и старой коряжистой березой кто-то включил фары. Свет поднял над травой полевой вагон, грузовик, тракторы, дымный тлеющий костер, стол, треножник, скамьи, бочку, умывальник на березе. Кто-то включил фары сбоку — зашевелились, будто живые, ковыли: пашня, начинаясь сразу от корней старой березы, волнами переливала к небу. Дождевые капли вспыхивали на свету разноцветными бусами и, будто развешенные в воздухе, казалось, не падали.
Дюжие парни скидывали спецовки, хохотали, вытянув руки, подставляя дождю ладони и голые плечи. Только один высокий, накинув плащ с капюшоном, стоял, смотрел в небо, задумавшись о чем-то.
«Целинники! — сразу определил Алексей и всмотрелся в высокого. — Моего роста! Мда… Это уже не артель… На большую работу приехали — не за деньгами! И труднее им: с землей дело имеют». Вспомнил город. У заводских ворот суровые усталые лица рабочих, кончивших смену… Трактористы были чем-то похожи на них. Увидел: из вагона вышла женщина, закрыла от дождя голову рукой, позвала громко:
— Народы, хватит баловаться, обед стынет!
«Пашут и пашут… И днем и ночью. Вот… весело им», — позавидовал Алексей и подумал о своей профессии: «Хм, рамы и двери!»
— Народы, идите обедать! — опять крикнула женщина.
«Всех, что ли, зовет она?..» — усмехнулся Зыбин, как будто и он пахал. Нет, он не смог бы вот так, как они, пихать всю ночь и смеяться радостно, подставляя дождю горячие усталые тела. У всех у них какая-то большая, серьезная жизнь, оттого они так смеются громко! «Научиться можно. Привыкнуть к тяжелому труду, а душа сама окрепнет, — успокоил себя Зыбин и вспомнил о Любаве: Любава, Любава…»
Стало тепло в груди, повернулся, пошел назад быстро. К ней! Говорить хочется… По-другому и о другом. К ней! Пока не потеряна любовь! Сердце любит или человек человека любит?! Конечно, человека человек любит — его глаза, мысли, руки, дело его!.. Ведь вот его любовь впервые родилась здесь в степи, и проверил он сердце, себя, какой он человек, Алексей Зыбин. И не зря он сейчас торопится и думает о себе с ожесточением, чувствуя облегчение: «Говорят: в детстве характер складывается. А у меня… и сейчас его нет. И еще говорят: без характера жениться нельзя. Правильно, характера нет у меня, откуда ему взяться — душа мала. Моя душа, как ковыль на ветру: туда-сюда… и бурьяном еще заросла! Тугодум я. Жить надо, а я только… думаю! И раньше думал: хозяином буду… сам над собой, были бы дом и деньги. Хозяйчиком! Эва, философия какая!» — громко рассмеялся Зыбин. И ему впервые стало досадно и обидно за себя.
Проверил и решил: нужно идти в большую жизнь. Чтобы она была широкой и могучей, как степь, незнакомые люди станут родными, полюбят, помогут… «Ох, какой дурак я… Эх, мол, человек ты, сказала Любава, прощай! Воспитали тебя такого. Все ведь в жизни твое — бери!
«Бери душу мою!.. — сказала Любава. — Будь сильным!» Не взял! Испугался!..»
В лицо хлынул ливень, ударил струей, будто пощечина! Вот ливень шлепает по плечам, толкает, путается в ногах. А идти легко, радостно… К ней!
«Сердце маленькое — сгорит оно быстрее». Ан, нет! Вот придет он к Любаве ночью, возьмет ее душу, скрутит, зацелует — заставит любить! Вздохнул свободно. Обрадовался. Побежал.
За потоком льющейся воды различил овраг, за оврагом избы совхоза. «Глупо, бегу, как мальчишка… к матери». Сердце гулко стучало: останусь, останусь! Остановился, отдышался.
Конечно, он останется! Надо идти в большую жизнь. Сестра сестрой. Она сама себе человек и уже взрослая, умная. Ничего с ней не случится — учится! В люди выходит. Хватит ему в няньках ходить! Город… что город?! И здесь хорошие люди. Вспомнил об артели, о том, как упрекнула всех их Любава.
«Останусь! Покажу ей свою силу — вровень встану с ней! Не одной любовью душа сильна! И степь моя будет, и хозяином буду, и крепче и сильнее будет человек во мне!»
Прошел мимо выстроенного зернохранилища, стало тепло и радостно на душе.
За лаковыми черными водами пруда разглядел ее саман. Там она! Ее глаза там, сердце стучит… Он только дверь откроет, только в глаза посмотрит и поцелует… Примет ли?!
Дождевые тучи будто растаяли, ушли высоко, высоко в небо, пропали. Тихо на земле, и светло ночью, и люди спят.
…Не спит только Любава. Она стоит под навесом рядом с душистым сеном, чутко прислушивается к далеким громам, думая о происшедшем.
Ей хочется плакать. Плакать оттого, что человек остался один, в степи, оттого, что разлюбила — и теперь никто не заставит ее полюбить его снова. Но она сдерживает себя, упрямо обхватив плечи руками, и все смотрит и смотрит на дорогу, вздрагивая от вспышек и треска стреляющей зеленой молнии.
12
Утром плотники ушли. Ушел с ними и Алексей. По обычаю они посидели немного на камнях, у того места, где кормилица варила им еду, поклонились выстроенному зернохранилищу и двинулись по дороге в соседний совхоз — ставить свиноферму.
Грозы отгремели, и степь сверкала на солнце радужно и ослепительно; ковыли, за ночь набухшие водой, выпрямились, и от них шел пар, капли влаги блестели в них, не высыхая, и держались на стеблях долго-долго, до самого вечера. Небо было чистое, плотно-синее, воздух прохладный. Дорога, по которой шла артель, свернула за овраг и поднялась к пашне.
Алексей шагал впереди всех и смотрел вдаль безразличным, усталым взглядом. Тяжело нести в душе потерю любимого человека.
Он виделся с Любавой вчера ночью — она не приняла его, оттолкнула, высмеяла с ненавистью, с жалостью, с грустью.
— Надоело ходить… — сказал кто-то и замолчал.
Молчит суровый Будылин. Хитрый Хасан поет что-то грустное и, когда встречается взглядом с Алексеем, неодобрительно качает головой. Зимин опять курит трубочку с головой Мефистофеля, и кажется, что Мефистофель презрительно смотрит на всех и усмехается. Лаптев считает шаги.
Вдруг артель остановилась. Дорога куда-то пропала. Далеко-далеко раскинулись пашни: здесь подняли залежные пустоши, и трактористы перепахали все дороги. Казалось, идти дальше некуда.
Алексей рассмеялся: вот некуда им идти, дороги нет к длинному рублю! Что-то придумает Будылин?!
— Давай прямо по пластам, — хмуро приказал тот и шагнул на пашню.
Увязая в рыхлой мягкой земле, плотники пошли за ним медленно, оглядываясь. Алексей смотрел на них и смеялся: ему почему-то стало жаль всех. Он стоял на твердой земле и не двигался. Вдруг он услышал:
— Алеш-а-а!
Оглянулся. Скачет кто-то на коне. Любава!
Побежал навстречу. Вот он увидел морду лошади, лицо Любавы, вот она спрыгнула, подбежала, споткнулась… упала ему на руки и обняла. И он обнял ее. Оба молчали. Он гладил ее по щеке, целовал глаза, шею, лоб, губы, грудь и все повторял одно только слово: «Милая, милая, милая…» На глазах Любавы показались слезы.
— Алеш… Остановись… Алеш… Что с тобой?
Он вспомнил, как встретил ее первый раз на дороге, — а сейчас дорога перепахана, тогда Любава была чужой, — а сейчас родной и любимый человек, а он, дурак, мог ее потерять. Сказал:
— Я вернусь. Будем жить. Здесь будем жить, — и опустил голову.
Любава раскинула руки, задохнулась от радостного вздоха, вскинула глаза и провела рукой но лицу:
— Алешенька, Алешенька, родной ты мой… Весь мой… Я полюблю тебя снова. Уж как я тебя буду любить, всего зацелую. Приезжай.
— Приеду.
Любава прильнула к нему вся, обдала горячим дыханием.
— А вчера мне показалось, что разлюбила, что не вернуть мне тебя. А ведь я была с тобой счастлива, пусть немного, а была. А если верну тебя — могу стать счастливой на всю жизнь Ведь мы теперь… родные.
— Да, да!
— Ну, иди, догоняй своих… Иди. Они хорошие, но несчастливые. А ты будешь счастливым, я знаю… Ну вот и простились, ну вот и простили друг другу. Иди.
Алексей зашагал по пашне, оглянулся один раз, постоял, словно хотел навсегда сохранить в памяти ее милый образ. Кто знает, хватит ли у него силы в душе возвратиться сюда и зажить новой, большой жизнью?!
…Любава осталась одна. Она опустилась в ковыли, раскинула руки и долго смотрела в небо, думая о жизни, о встречах, о людях. В небе кружил ястреб, вот он, описав круг, упал вниз и сел неподалеку от нее.
На крыльях ястреба поблескивали капельки влаги. Он посмотрел на человека и лошадь грустным древним глазом и вытянул клюв. Любава с досадой погрозила ему кулаком, и он, вспугнутый, взлетел, хлопая крыльями, и вскоре пропал. Степь, степь…
Магнитогорск — Москва
ВТОРАЯ ЖИЗНЬ Рассказ
1
«И нет человеку покоя, — Егор махнул рукой и, ожегшись о круглый медный самовар, налил в стакан горячего чаю. — Вот и сиди здесь, думай от нечего делать. А лечит работа…»
В доме приезжих дневная тишина. Прихожая казалась пустой, холодной и тоскливой.
Степановна — старая женщина, которая встречала приезжающих и записывала их в толстую книгу, — сидела к Егору спиной и раскладывала на столе, как пасьянс, серые квитанции: подсчитывала выручку.
Егору говорить с ней не хотелось. Ему не нравились ее стальные холодные глаза и морщинистое злое лицо. А больше в доме никого не было, кроме кошки да слепого котенка, дремавших у печи на разношенных валенках.
— Вот теперь я приезжий, а дальше что? А по сути я конюх, Егор Ломакин, — сказал он вслух, обращаясь к самому себе, и, заметив, как покосилась на него Степановна, смутился и отвернулся к окну. «Взглянула… Ну и пусть!»
В окнах были видны голое синее небо, верхушки сосен и черные избы, нахохлившиеся в сугробах, да кромка замерзшей реки Сысерти. Плоский оранжевый круг солнца скатился за Сысерть и застрял в тесном сосновом бору, раскалывая его на две части. За окном заалели снега, и дома районного села вдруг заблестели окнами — стали светлей и приветливей.
От самовара шло тепло. Степановна встала и, перебирая ключи, поджав губы, с достоинством прошла мимо Егора в комнаты. Замурлыкала кошка, облизывая котенка. В черном круге репродуктора послышался звонкий женский голос, и вдруг много людей запели под оркестр:
Москва — Пекин! Москва — Пекин! Идут, идут вперед народы…Пели громко и величаво.
«Народы идут…» — отметил Егор и представил много-много людей, идущих по улице села, себя среди них, почему-то в первом ряду, и задумался, облокотившись на руку.
Перед отъездом в Сысерть колол дрова, ушиб палец. По дороге заехал в сельскую больницу. Вспомнил о враче — девушке с маленьким круглым лицом и косичками, как она старательно бинтовала. Усмехнулся: «Уважаемая, в халате, как в родильном доме. Боль усмиряет! Работа человечная!» Егор вздохнул и вспомнил себя молодым в своей деревне, в которой прожил уже пятьдесят пять лет.
Был когда-то здоровым, но невеселым, тихим парнем. Любил лошадей. Знал толк в рысаках. Еще мальчишкой, служа у арамильского винозаводчика, на ярмарках перед деревенскими богатеями и голытьбой, съехавшейся со всех сел, объезжал коней и останавливал их на полном скаку под аханье девок и завистливое молчание парней. Вечерами, на посиделках, сторонился гуляк и задир, сидел с гармонистом-дружком, не отставал от него ни на шаг. Любил бродить ночами с хороводом вокруг деревни, вздыхая о несбыточном и далеком, под смех девок и колкие шутки парней. И было непонятно, отчего в последние три осени перед женитьбой хороводы казались многолюднее и голосистее: то ли гармонист играл с каждым годом задушевнее, то ли оттого, что Егор Ломакин, став героем и завидным женихом, привлекал общее внимание. Случился под покров пожар на винном заводе. Егор вывел всех рысаков из сарая, а сам при этом обгорел. Волосы отросли скоро, но лицо так и осталось на всю жизнь рябоватым.
Женился на белолицой Марье, приехавшей из города. Ходили слухи, что она «больная и порченая». Егор только рукой махнул: так полюбилась ему Марьюшка за кроткий и добрый характер. Мечтал: будут у них непременно сыновья, здоровые и веселые.
Марья работала в поле. Рожала ему слабых здоровьем детей. Умирали. В душе мучился, затая обиду на «судьбу и несчастную жизнь». По ночам долго обсуждал с женой причины этой семейной беды. Гладил руки жены, успокаивал ее, плачущую.
И затихала и, глядя на мужа, становилась веселой: она считала деторождение такой же трудной работой, как и в поле.
Уже после гражданской войны, после кулацких покушений на колхозных коней, за которыми ухаживал Егор, родился у Марьи крепкий последний сын, а сама она умерла. Сильно горевал Егор по жене. С тех пор и жил вдовым, перенеся всю любовь на сына.
А вот недавно, перед отъездом в Сысерть, женил своего Павла, тракториста, на учетчице Наташе. И с тех пор не стало ему покоя. Сын жил сам по себе. У Егора как бы опустошилась душа, и он ясно почувствовал одиночество.
И сейчас, дремля и вспоминая обо всем, Егор грустил от мысли, что одинокому человеку тяжелее жить: всегда жаль прошедших лет, особенно молодости, и вообще неважно это — быть одному, все равно — при деле ты или не при деле.
Саднил больной палец. В дороге трудно было держать вожжи. Лошадь шла понуро, мотала головой. Веревка натягивалась и терла палец. Глухов, председатель колхоза, приземистый мужчина с большой головой и усталым лицом, привалившись к спинке саней, ежеминутно поправлял на себе красивый черный полушубок с белым воротником и сердился на конюха, на лошадь, на самого себя. Дорога с утра оледенела. Лошадь, спотыкаясь и скользя, шла осторожно. Чем ближе к Сысерти, тем беспокойнее становился председатель.
А Егор все громче и громче понукал лошадь, которая поранила ноги о ледяные иглы и отбила себе круп, падая на льду. Слушая басовитые приказания Глухова: «Торопи, торопи!», Егор чувствовал жалость к нему: плохи дела в колхозе, и вот председателя срочно вызвали в райком. А едут они вместе, будто и Егора тоже вызвали, и отвечать за колхоз они будут вдвоем.
«Мается человек, — думал Егор. — Если слухам верить, сымут его с председателей… А это несправедливо! Да! Глухов Степан Иваныч — работящий, с умом хозяин. Одному ему несподручно управиться со всем колхозом-то, если некоторые молодцы в лес смотрят. Развалился колхоз, а всю вину ему одному на шею. Эх, поговорить бы кое с кем!..»
Услышав: «Гони давай, чего мечтаешь?» — Егор вздрогнул и стегнул лошадь вожжами. Она, рванув вперед, упала еще раз и, встав, выволокла сани на снежную обочину дороги.
Остаток пути Глухов молчал. А сейчас он с утра в райкоме и ночевать будет у знакомых.
Егор вспомнил о Глухове потому, что уже наступал вечер, а председатель обещал заглянуть в дом приезжих в случае, если понадобится ехать куда-нибудь.
«Да, тяжело ему. Беда. В райкоме, наверно, отчитывают человека. Во весь рост ставят. А откуда у Глухова дела распрекрасными будут, если наша деревня — ни колхоз, ни город? Фабрика есть, школа, больница, артели всякие, да и в Сысерти на заводе работают наши люди из села. Все при местах, вот и некому в поле-то, у земли… Поприезжали агрономы, а двое обратно подались: не приглянулось. Это только в газетах гладко да громко выходит… Там слова, а тут живые души. Вот и получается, что крестьянской силы маловато. Всего шесть десятков человек. Молодежь на предприятия ушла, в армию, а из армии в колхоз не возвращаются, особенно женатые. Кто попроворней да без идеи в голове, те в города подались, на базарах работать, да агентами по всякому снабжению, на всякие горпромкомбинаты, тьфу, слово-то какое! А то и просто за деньги в очередях у магазинов за других постоять, к примеру, за «Победой». Все есть хотят… Все выгоду ищут… и где легче… А работать? А земля?!»
Егор вспомнил, как в Кашине заглядывал в избу, где старухи и школьницы-пионерки бойко орудовали формовочной машиной, изготовляя торфоперегнойные горшочки. Спросил одну старуху: «Ну, как машина?» На что та ответила: «В плечах болит. А машина хорошая. Урожай будет».
Сейчас Егору захотелось выругаться. Нахлынули мысли тревожные, злые, и он даже сам себе понравился — вот сидит у самовара один и думает думу обо всех и обо всем на свете.
«Поставили бы меня секретарем сельсовета, в районное начальство какое-нибудь. Смог бы?» У Егора даже дыхание захватило от этой мысли. И он, набрав в грудь воздуха, произнес вслух:
— Дельно наворотил бы!
Ему стало приятно разговаривать с собой и подзадоривать себя: «Ну, а что? Ну, а что?»
«Перво-наперво Глухова утешил бы! Ничего, мол, сообща решим! Хлеб сеять — не детей рожать! Потруднее дело! С дезертирами покруче повернуть. Ишь ловкачи! В райкоме так и скажут: «Глухов поймет…»
Он выпил чаю и вытер ладонью губы.
«Пятый стакан без сахару — не согревает».
С досадой на душе потянулся к махорке, но, вспомнив, что она отсырела в дороге, когда сани опрокидывались в снег, положил кисет на печь.
«А ко всему прочему выпить бы стакан водки. Там разберемся, что к чему! Вечером соберутся приезжие, пойдут знакомства, разговоры. Для веселости надо. Курева дорогого куплю. «Север» там какой-нибудь».
За окном стало сине. Все: и небо, и избы, и сугробы, и сосны — светилось последним матовым светом дня и казалось стеклянным.
По улице медленно двигались груженные ящиками и бочками машины. Слышались мальчишеские голоса и осипший лай собачонки.
Егор накинул тулуп и вышел на улицу прогуляться до первой чайной.
2
В чайной Егор сытно поужинал и возвратился в дом приезжих. Когда он чувствовал себя веселым, но одиноким, в его душе возникало неистребимое желание потолкаться среди людей, поговорить обо всем, познакомиться со всеми.
В такие минуты он особенно любил людей, и они ему казались все хорошими. Плечистый, с тяжелыми руками, одетый в дорожную вылинявшую гимнастерку с заплатами на локтях, в стеганые брюки, заправленные в большие теплые пимы, он занимал много места в маленькой прихожей и от этого стеснялся. Егору хотелось поговорить с незнакомыми городскими людьми, которые казались ему солидными и умными. У него была привычка обращаться ко всем с вопросами и всех называть ласково и одинаково: Миколай.
— Слышь, Миколай, у меня к тебе разговор…
— Что такое?
— Оно ведь как кому… агрономия там, скажем…
И не докончив мысли, принимался одубевшими черствыми пальцами крутить цигарку. И ждать, что собеседник продолжит разговор. Махорка сыпалась на пол, газетная бумага рвалась, и было непонятно, чем вызвано появившееся вдруг выражение досады на его лице: тем ли, что разговор не вязался и его не слушали, или тем, что он не может закурить. Глаза оглядывали всех, потом веселели, он сжимал полные губы, раскрасневшиеся щеки раздвигал улыбкой, и лицо его принимало умное и хитроватое выражение.
Приезжие Дома колхозника собирались поговорить, выпить чаю, почитать от нечего делать вчерашние газеты.
Раскурив самокрутку и разгоняя дым рукой, Егор, прищурившись, наблюдал за незнакомыми людьми, улавливал ухом разговор, подсаживался ближе, степенно молчал, кивая, и если чувствовал, что говорит невпопад, замолкал, досадуя на то, что теряется. Но все ему казались милыми, хорошими, как будто давно знакомыми людьми, с которыми он прожил много лет вместе. Егору не понравился только высокий, в темно-синей гимнастерке и галифе агент «Ростсельмаша», который, по его словам, приехал снабжать весь Урал сельскохозяйственными машинами; не понравилось, как он качался, бегая по комнате, и подпрыгивал, скрипя хромовыми сапогами и поправлял желтый новый ремень, как балагурил, расхваливая ростовский край и богатые урожаи, и все спрашивал Егора, хлопая по плечу:
— Ты из какого колхоза? Выпьем, а?
«Агент… Вот если б ты сам машины делал?…»
Егору не понравилось, что агент обращается ко всем на «вы», а к нему на «ты», однако предложенную агентом папиросу «Казбек» взял и поблагодарил. «Ладно, покурим!» Пересел к окну и заметил полную женщину в красной вязаной кофте с застывшим взглядом, которая стояла у двери, прислушиваясь от скуки к мужскому разговору.
Он знал от Степановны, что женщина эта актриса, и сейчас, всматриваясь в ее лицо, отметил, что оно белое, припудренное, подкрашенное, похожее на маску, что это лицо не смеется; а когда актриса открывает рот, то блестят ее золотые зубы, и это напоминает скупую улыбку. «Не крестьянской жизни человек». Он представил себе, как эта полная женщина утром ходит по магазинам, покупает шоколад разных сортов, а вечером играет в театре, и весь город осыпает ее цветами. «А, может, на своей пашне тоже устает!» Встретился с ее снисходительно прищуренными глазами и нахмурился.
Актриса подсела поближе к пожилому человеку в очках, с лысиной, читавшему газету у печи. Было жарко, человек этот расстегнул суконный зеленый френч; черные с проседью волосы его зачесаны назад, усы на добродушном лице раздвигались, когда он улыбался.
«Партийный какой-то, — определил Егор. — Все читает и наблюдает. Одиноко у себя в комнате! На люди потянуло!»
Актриса рассказывала о себе, обращалась ко всем:
— Я читаю людям сказы Бажова.
Егор с уважением посмотрел на актрису: «Я знал его. Наш, сысертский…» И, усаживаясь на место, подумал: «Вот мужик, а своим умом до писателя дошел! Ну и голова у него. Иванко-Крылатко, Широкое плечо… Читаешь и удивляешься: и откуда только что берется! Голова у него особая. Сел и пиши. Но у меня головы такой нету!»
Егор встретился с внимательным взглядом серых настороженных глаз человека во френче. Тот наклонился к Егору, снял очки и, поморгав, мягко спросил:
— Ну, что?
Егору стало неловко оттого, что оторвал почтенного человека от чтения, и он поджал под стул ноги в пимах.
— Вот… поговорить с вами хочу.
— Давай поговори!
Человек во френче улыбнулся — усы его раздвинулись. Егор обрадовался, что нашел собеседника, легонько обнял его за плечи и тоже перешел на ты.
— Вот я тебе про свадьбу скажу. Сына я женил по первой линии.
— Кто это? — спросил человек во френче.
— В колхозе, скажем, хозяйство, земля и все такое. А в городе заводы. Сын там на курсах был, он мне и говорит: «Папаня, есть там у меня одна знакомая — парикмахерша». Чуешь, к чему клонит?! «Пашка, говорю… — глаза Егора заблестели, лицо стало строгим. — В городе много их. Они только по земле умеют ходить, а в поле… Фить! — Егор развел руками. — А слыхал, говорю, в городе разводов сколь? Почитай газету! Не жизнь получается, а вторая линия! А в деревне разводов нету. Крепко! — Егор сжал кулак. — Парикмахерша твоя — обслуживающий персонал, да и только! Женись, говорю, по первой линии, по «крестьянской». И женился он на учетчице Наташе. Девка давно по нем сохла. У-у! Сейчас у них такая любовь разгорелась! «Пашенька» да «Наташенька»! Клещами не оторвешь дружку от дружки. А весной, известно, посевная… — И неожиданно спросил: — А что в газетах пишут?
Человек во френче не понял, что Егор ждет подтверждения своих мыслей о разводах, и ответил:
— Земли подымают. Люди едут в деревни.
— Я так и думал. В точку! К примеру… — Егор хотел рассказать о своем колхозе, но удержался, думая радостно, что в газетах пишут именно про его колхоз и люди едут именно к ним в деревню.
— На земле… — Протянув жесткие ладони, воодушевленно начал Егорша, — кроме всяких чудес, человек хлеб ростит! Хорошо это придумано — хлеб! Или вот на заводах — железо! А это главное: не земля кормилица, а человек — кормилец. Ведь вот что он может: и хлеб добывать и из-под земли железо. Конечно, обидно, когда у других руки даром привешаны. Земля она не вся земля, а та, что продукт рожает, получше бабы какой… Или города на плечах держит, лес ро́стит, во́ды питает. А есть пустая земля, как человек иной… оттого ее и «пустыней» зовут. В Африке — песок. На Севере — льды.
— Да, да… — кивнул собеседник, прислушиваясь. Газета зашуршала и выпала из рук. Он быстро поднял ее, и Егор спросил:
— А как Америка?
— Америка-то? Живет.
— Живут… люди. Пусть. Посевная, да-а. Человек, он тогда в смысле полном, когда свадьбу сыграет. А там работает… И чтоб дети росли вот такими! — Егор взметнул руками, показывая, какими чтоб росли дети, задержал их на весу, и снова обратился к человеку в очках: — Вы партийный или как?
Человек в очках долго смотрел на Егора, о чем-то думал, а потом улыбнулся и ответил просто:
— Нет. Беспартийный я. А работаю на своем месте. Бухгалтером. — Протянул Егору руку: — Иван Сидорович Козулин.
Егор пожал ее и сказал, как всегда говорят в таких случаях:
— Очень приятно… мне! Вот я думал: предложу вам выпить со мной, а вы откажетесь. Партийные люди ведь редко пьют.
— Отчего же? И поговорить и выпить можно.
«Душевный человек, — решил Егор, наклонив голову и внимательно разглядывая Козулина. — А все-таки он партийный!» И вслух сказал:
— Вы, Иван Сидорович, читайте газету-то. Мешаю я вам. Извините. Уважили вы меня, поговорили со мной. Хоро-шо!
— Да, да, — сказал Козулин и, надев очки, снова развернул газету.
Актриса спросила:
— Что вас так заинтересовало?
— Да тут статья…
В комнате стало тихо.
Вошли новые люди — три веселых молодых парня: двое — с папками, один — с чемоданом. Степановна засуетилась, приглашая их к своему столу оформлять на постой.
Егор разглядывал молодых людей, не похож ли кто-нибудь из них на его сына Павла. Один — круглоголовый скуластый, в военной шинели с петлицами и без погон — стоял, расставив ноги, и ловил свое отражение в зеркале.
«Ишь ты, лобастый, из армии только что или из пожарных…»
Нескладный детина в роговых очках распахнул бобриковое пальто и, поглаживая румяные щеки, улыбался Егору застенчиво, как девушка.
«Инженер али писатель», — определил Егор.
А третий — молчаливый и печальный, со сжатыми тонкими губами, небритый, в старом летнем пальто — хмуро искал, куда бы сесть, и вопросительно поглядывал на всех своими большими черными глазами и наклонял голову чуть набок, как бы прислушиваясь.
«А этот и не знаю кто. Подбитый будто. А умный! Еврей какой-то. Кто они такие? Интересно. Вот не знаю я их, а они в жизни чего-то обозначают! Граждане!»
Егор хотел спросить: «Ребята, кто вы такие?» — и досадливо усмехнулся. Никто из них на Пашку не похож. Не сельские они какие-то по виду. Ну, одно слово, приезжие.
— Что смотрите? Встречались где-нибудь? — чуть заикаясь, спросил черный парень.
— Да просто так смотрю… Сын у меня таких же лет, как вы. Женил я его. Разве чуть помоложе. Павлик у меня тракторист. Невестка — девка м-мм! Золотиночка! И стряпает, и убирает, и трудодни подсчитывает. Мой совет вам: женитесь скорей. Для рабочего человека это — первое дело. Пашка женился, так человеком стал. На свадьбе вся деревня три дня гуляла. Пьем и гуляем! Пьем и гуляем! Свадьба! Оно ведь раз в жизни.
Егор наклонил голову. Лысина заблестела на свету лампочки. Он покачал головой и заключил решительно:
— Дак на свадьбе-то… все красно́ было!
Козулин дочитал международный отдел и, щелкнув серебряным портсигаром, взял сигарету, прислушиваясь к Егору.
Степановна писала квитанции, посмеиваясь в кулачок. Командированный из «Ростсельмаша» уже не ходил по прихожей. Притих, доедал свой обильный дорожный ужин. Актриса успела переодеться у себя в комнате в цветной, с яркими полосами халат, в котором она казалась выше ростом и глупее лицом. Парни, ожидая, когда Степановна произведет запись в книге прибытий, слушали Егора со вниманием.
Егор, почуяв это, разошелся. Ему захотелось рассказать что-нибудь смешное и умное, и он, не найдя подходящих слов, закурил «Казбек», которым угостил его агент, и доверительно, шепотом произнес:
— А меня ведь дядя Егорша зовут.
Он вложил в это какой-то особый смысл.
— Нет в жизни человеку покоя. Куда силу девать? Молодым был — любили меня девки! Сейчас моя работа — вожжи держать… Конюх я. Любой это сможет. Вот в поле или на войне — работа!
Егор закашлялся и сбросил папиросу на пол. Она дымилась. Парень в шинели наступил на окурок ногой.
— Не старею! Еще оглобли ломать могу. На войне я нужен был. Сила моя там сгодилась. Я… ты… Все мы… Егорши. Победа была… Что ты думаешь? Это мы — Егорши! Сила! Я это понимаю, при себе держу. На войне тяжело работать с винтовкою-то. Тут — рыск! — Егорша поднял толстый палец. — Рыск нужен был! А ежели бомба? Р-раз! И… ног нету, милый! — Он погрозил кому-то рукой, задумчиво растянул: — А мы шли. — Егорша показал на окно, на огни села, на звезды над соснами. — Далеко-то. Туда-а! Дядя Егорша меня зовут… — Замолчал, взволновавшись, отодвинулся.
Ломакин сел к самовару.
— Я махорочкой подымлю. Она сытней. Пахучая, горит долго и дыму много. Вот еще… верят в бога, — продолжал он. — А я не верю — ни разу его не видел! А ну, покажись! Какой ты такой есть человек… на белом свете?!
Хлопали двери. Гасили свет. В прихожей лампочка загорелась ярче: и потолок, и стены, и пол стали словно чище.
По полу ползал маленький котенок. Егорша уставился на него, наблюдая, как он обнюхивает доски пола, бумажки и окурки.
— Смотри-ка, бегает.
Котенок уткнулся носом в валенок Егорши и, обнюхав, запищал. Егорша поднял его, положил на ладонь и выставил руку вперед. Этого котенка он недавно кормил кусочками колбасы и отгонял мать — большую кошку.
Он дул на этот сжавшийся комочек из шерсти и тепла, приговаривал:
— Ма-а-ленький! Тоже ведь сердчишко бьется. Жизнь! Эх ты, киска! Живешь, живешь, и ничего ты не понимаешь, как и что. Вырастет из тебя большой-большой кот — и всего дела. Начнешь кошек царапать и про мышей забудешь.
Котенок жалобно пищал, переваливаясь с боку на бок, упираясь передними лапками в толстые, огрубевшие пальцы. Егорша согнул их, чтобы котенок не вывалился из ладони на пол.
Все смотрели на Егоршу, думая каждый о чем-то своем. Наблюдали за котенком. И командировочным казалось, будто дом приезжих — их дом, а Егорша давно знакомый, родной и близкий человек.
Согревшись на горячей ладони человека, котенок свернулся в клубок и притих от удовольствия.
— Дунуть — и нет его. Сердце с горошинку.
Уперев локоть в колено, Егорша долго любовался котенком, ощущая его тепло и отчетливые стуки сердца.
— Ну, почему ты не родился человеком?
3
За окном ночь. Егор привалился к стене, наклонил голову к самовару; от нагретой меди шло тепло, и ему было приятно: щеки согревались, пылали. Козулин ушел к себе, шелестя газетой. Парни раздевались в соседней комнате, прикрыв дверь, и говорили о том, чтоб не проспать утром.
Актриса перестала улыбаться. Вздыхая, она посмотрела на веселого Егоршу, на безучастную ко всему Степановну, которая в углу стучала костяшками счетов и перелистывала толстую бухгалтерскую книгу. Постояв немного, актриса ушла к себе в комнату.
Дядя Егорша, посмотрев на Степановну, рассмеялся:
— Баланс! Баланс!
— Тш! Иди-ка спать, — встревожилась Степановна.
— Балансы, говорю, подводишь? — потянулся Егорша. — И меня под баланс! За две ночи вперед уплатил? Уплатил! Да-а! Я человек государству нужный. Не-ет! Не гони. Посижу, погляжу. Будут люди приходить… приезжие.. Ты что же им тоже — идите спать! Это ведь дом! Здесь граждане живут!
— Молчи уж! Какое тебе дело до людей? Спал бы да спал от нечего делать! — озлилась Степановна. — Ночь на дворе.
— Не пойду спать. Не желаю! И ночью жить хочу!
Степановна махнула рукой и засмеялась. Запищал котенок. Мигнула лампочка. Снова в доме тишина. Бродит, мягко ступая по крашеным доскам, пузатая кошка Марья Петровна с обгоревшим боком. И только за окном, в ночи, во дворе, слышен стук чьих-то шагов по дощатому настилу между оттаявшими сугробами.
«Нет, не одинок я… здесь, — думал Егорша. — А кто мне «здрасте» скажет? — Начал перечислять по избам первой улицы фамилии родичей, знакомых, деревенских земляков, живущих в Сысерти. Шевелил пальцами, будто брал что-то в руки, сжимал в горсть и отпускал. — На этой улице меня все знают-привечают! С другой начну…»
Кто-то открыл дверь. Потянуло сыростью. Лысиной и щеками ощутил холод.
Егорша исподлобья взглянул на вошедшую женщину. Она остановилась у закрытой двери, засунув руки в карманы фуфайки. Снова стало тепло.
«Наша, своя», — решил он.
В ее руках, в крепко сбитом теле, в пуховом сером платке, в глазах, казалось Егору, было что-то близкое, родственное, домовитое. Матовый гордый лоб без единой морщинки, круглые щеки, алые губы, в голубых глазах насмешка.
«Вот это баба! Муж, наверняка, каждый день радуется… И здорова́, и привлекательна».
Смеялось все ее лицо, хотя тонкие губы были плотно сжаты и чуть вздрагивали. Прищуренные потемневшие глаза ее обежали прихожую, потолок, печь и, задержавшись на Егорше, раскрылись — снова стали голубыми и холодными. Егорша вспомнил Марью. Вошедшая чем-то была на нее похожа, разве чуть старше, румянее и строже. В сердце его хлынула тоска, толкнула, забивая дыхание.
— Ну, а ты кто же будешь? — спросил он.
— Да уборщицей я здесь работаю! — крикнула она бабьим простуженным голосом. — Самовар вот у меня всегда кипятят. Сено лошадям тоже у меня. Да и соседи мы с домом приезжих.
Егорша покивал ей и с интересом спросил, глядя на ее толстые ноги, обутые в блестящие резиновые сапоги:
— Ты… чья?
— Я-то? — растерянно рассмеялась молодка, ища глазами стул. — А вдова я.
— Ну, и что же?.. Все мы вдовые, — степенно произнес Егорша и замахал рукой: вот можно посидеть, поговорить с вдовой, похожей на его Марью. Егорша налил из самовара стакан и придвинул его на край стола. Степановна, заперев счеты и книгу с балансами в ящик стола, заговорила:
— Ночь уже. Ты бы свою канитель закончила. Прибрала, полы помыла. Шла бы ты спать. Приезжих разбудишь!
Молодка пожала плечами, сердито взглянула на Степановну и, устало опустив руки, прислонилась к косяку двери.
— Скушно одной-то. Вот с тобой поговорю, — обиделась она на Степановну и, посмотрев на Егоршу, на его толстые губы, поднятые белесые брови, сморщенный в раздумье лоб и красные рябоватые щеки, улыбнулась, как бы ища поддержки.
— Садись, соседка!
— Завтра придет! Я здесь директор! — зло бросила Степановна и загремела ключами.
Егорша потянулся, поудобнее уселся на заскрипевшем стуле и посерьезнел, осматривая ладную фигуру женщины, вставшей к нему спиной. Его взгляд остановился на резиновых сапогах, туго обтягивавших икры ее ног; ему захотелось выйти на воздух, на снег, обнять обиженную Степановной женщину и что-то говорить ей.
А молодка отошла от старушки, повела плечом и печально произнесла:
— Пойду я! — и, оглядываясь на Егоршу, медленно затворила за собой дверь.
— Ушла, — грустно произнес Егорша. — За что ее не любишь так?
— Я-то? — удивилась Степановна. — Да она мне наилучшая подруга! А только люблю я во всем порядок. Отдыхали бы!.. — вежливо закончила она, подвязывая ключи к поясу.
Егорша кивнул с усмешкой: «командирша». Встав, он потянулся к тулупу и успокоил «директора».
— Лошадь проверю и тоже — спать.
Во дворе дома приезжих темно. У каменной стены молчаливо жуют сено лошадь Егорши и чья-то корова.
«Скотина, а тоже… как брат и сестра».
На сугробы легла желтая полоса электрического света, отброшенная окном соседнего дома. «Наверно, ее окно? Постучать — не выйдет. Вот живут на земле люди вдовые… вроде меня и ее. Это забота серьезная! У одних, скажем, с работой не выходит, у других с семьей неладно. А во всем должен быть порядок в конце концов!»
Спать ему не хотелось, и он никак не мог понять отчего: или потому, что одолевали думы, или потому, что в соседнем доме, где живет вдова, чем-то похожая на его умершую Марью, горел огонь.
Егор поплотнее укутался в тулуп, вышел за ворота и всмотрелся в окраинные улицы Сысерти.
У заводского пруда заливалась гармонь. Бойкие девичьи голоса выкрикивали частушки. Запоздалые машины сигналили где-то у базарной площади, и там, среди черных изб и деревянных двухэтажных домов, по дороге к школе сельских механизаторов, вспыхивали и плыли мягкие круги света от фар.
Прошел две улицы. На окраине, за высохшими соснами, остановился возле плетня, вздрогнул от визгливого лая собаки. В сосновом бору потрескивала наледь на коре. Ветер качал тяжелые ветки, и они старчески скрипели.
Егорша почувствовал, как сжалось сердце от охватившего его одиночества, и стало жутко, показалось, что там, в темном бору, кто-то притаился между толстыми стволами.
— Шуршит природа. К весне. День какой-то сегодня особый: и радостно и грустно.
Егорше стало все равно куда идти, что делать. Можно стоять вот так до утра и слушать, как потрескивает кора, как надсадно скрипят ветки, вдыхать холодный воздух, освежаясь ветром.
Домой он возвратился поздно и, раздевшись, повалился на кровать. Проспал до обеда, совсем забыв, что Глухов наказывал быть утром у райкома на всякий случай: предполагалась поездка в соседний колхоз.
4
К вечеру в дом приезжих пришел Глухов. Он поздоровался со Степановной и, как бы не замечая Егорши, прошел, прихрамывая, к вешалке, медленно снял свой красивый черный полушубок с белым воротником и присел на стул рядом с актрисой и Козулиным, которые грелись у печи. В его подчеркнутом равнодушии к Егору, в его молчании при встрече угадывалась обида и злость. Он сидел к Егорше спиной, изредка оборачивался и бросал тяжелые, обидные слова-вопросы:
— Ну, как устроился? — Это первое, что спросил председатель, и Егорша сразу понял, что Глухов пришел неспроста.
— Хорошо, Степан Иваныч. А ты как?
Глухов не ответил ему, говоря что-то актрисе, — она деловито подбрасывала в печь сосновые чурки. И потому, что Глухов не ответил на вопрос Егорши, не повернулся к нему, и по тому, как он пересмеивался с Козулиным и актрисой, разглаживая ладонью щеки, Егорша понял, что Глухов очень устал и что дела его плохи. Егорше захотелось спросить председателя о том, как порешили о нем в райкоме и что теперь будет с их колхозом, но подумал, что ему, виноватому перед ним, спрашивать сейчас неудобно, будто это их общая тайна.
…Ведь вот Глухов — еще председатель, еще никто не знает, как решилось его дело в райкоме, и он может сейчас приказать Егору запрячь лошадей и возвратиться в колхоз, жить и работать. И ничего, быть может, не случилось, и никто не виноват, а Глухов попросту устал.
Егорша сидел молча и курил. Ему было жаль Глухова. Махорка горчила. Дым царапал горло. Но кашлять было неудобно.
— Почему утром не подъехал к райкому? — спросил Глухов, подняв голову. — Забыл или пьян был?
— А что?
— Как что? — Глухов усмехнулся наивной растерянности Егорши и заговорил, никого не стесняясь, что утром с инструктором райкома целый час прождал Егоршу, что нужно было ехать в соседний колхоз и хорошо — подвернулась случайная подвода. Обо всем этом Глухов говорил со смехом, и от этого Егорше стало еще обиднее.
Глухов повеселел.
— Как с нами-то решили? — не удержался Егорша.
— Э, не твое дело! — отмахнулся Глухов.
Егорша встретился взглядом с Козулиным. Тот внимательно посмотрел на Егоршу. Через очки в его взгляде ничего нельзя было прочесть, и Егор с неудовольствием подумал: «Уважительный гражданин, а тоже в душу лезет», — и отвернулся.
— Ну, что молчишь, Егор! — неожиданно крикнул Глухов лающим басом и стал ждать ответа.
Егор вздрогнул, притих. Он уже не радовался, как бывало раньше, тому, что председатель чисто выбрит, что от этого лицо его стало приятным, молодым; неприятны были только металлический блеск больших глаз Глухова и новый френч с желтыми пуговицами, простуженный голос и самоуверенный взгляд.
— Молчу: разговору нет, — ответил Егорша, и его сердце тоскливо сжалось при мысли, что его начальник Глухов, которого ой возит уже восемь лет со Дня победы, сейчас какой-то далекий и чужой ему человек, к которому нет разговора.
Глухов подсел ближе к огню, вытянул рыхлые волосатые руки с узлами вен, стал греть пальцы и ворчливо доказывать, как Егор виноват перед ним.
Егор машинально раскрыл потрепанный синий журнал «Автомобильный транспорт». Слушая Глухова, листая страницы, он вглядывался в замысловатые чертежи обкатанных и тормозных барабанов, в схемы двигателей, амортизаторов, крышек картера…
«Вот и культура на селе… Читают приезжие. Кто-то что-то оставил и уехал добрым человеком», — думал он, рассматривая новые марки автомобилей и грузовиков ГАЗ-51 и ЗИМ-150.
Егор представил себе, что колхоз уже купил ЗИС и что он, Егор, везет на этом ЗИСе по хорошим дорогам не Глухова, а нового председателя с веселым взглядом и пышными пшеничными усами.
Глухов заговорил с Козулиным и актрисой о колхозе, о пашнях и урожаях. Они не обращали внимания на Егора, будто его и не было, а он не сумел войти в разговор, и от этого ему стало еще тяжелее. А еще было до злости обидно смотреть на равнодушную широкую спину Глухова, на его двигавшийся бритый затылок, обидно сознавать, что Глухов обругал его при людях, которым он рассказывал вчера о сыне и свадьбе.
Он крякнул.
— Пойду!.. Лошадь там!.. — поднялся и, схватив тулуп, вышел в сени.
На лестнице остановился. В ушах раздавались басовые выкрики, обидные слова Глухова.
Над лестницей, под потолком, тускло светила лампочка, вымазанная известью. От деревянных бревенчатых стен пахло инеем и сыростью.
В сенях столкнулся со вчерашней молодкой. Была она в пуховой шали. Он заметил, как со вздохом широко раскрыла глаза, остановилась и улыбнулась.
Егорше показалось, что она смеется над ним. Нахмурившись, он запахнул полы тулупа, посторонился и шагнул вперед. Но тотчас же остановился.
Ему захотелось поговорить с ней или хотя бы постоять рядом… подумать. Задержал ее за рукав фуфайки. Молчал, не находя слов.
— Ну, что? Ну! — спросила она, гремя ведрами о ступеньки.
Ответил хрипло, сдавленно:
— Да погодь! Звать как?
— А Софьей.
— Ишь ты! Царица…
Софья рванулась к двери, кивнула на сугроб, на забор и небо.
— Весна-то! — и засмеялась.
Егорша почувствовал в ее смехе, в ее нарочитой веселости отчаянность одиночества и боль.
В небе вечернем сине и бездонно; а такое время звезды только угадываются, они медленно начинают проступать мерцающими светляками. В открытый полог сеней видны избы; над ними колышется дым; окна кое-где уже светятся электрическим светом. За дальними улицами скрипит колодезный журавль и кричат одинокие грустные гудки Сысертского завода.
Здесь, в сенях, было темно, и только глядела с потолка своим желтым глазом тусклая лампочка. Егорша распахнул тулуп, подошел к ней и с особым сочувствием переспросил:
— Одна, говоришь?
— А что?
— Мужика подобрать себе надо. Молодая ты. Красивая…
— Щетину обрил бы… Женат, чать?
— Сын женат.
Вверху за дверью послышались голоса. Кто-то звякнул щеколдой, громко произнес: «По радио говорили…» Что говорили по радио, Егорша уже не расслышал. Софья отодвинулась и пошла, задумчивая, расстроенная еще больше, и он долго смотрел ей вслед, почему-то радуясь этому знакомству.
Утром Глухов уехал в Кашино знакомиться с новым колхозом. Уехал на автобусе по сибирскому тракту.
Егорша задержал лошадь у желтой металлической громады автобуса, наблюдая за сутолокой пассажиров, отъезжающих в Свердловск. Он гадал: достанется председателю место на кожаном сиденье или нет. Места не досталось. Глухов стоял у выхода в расстегнутом полушубке. Лицо его было печально; за ночь на щеках пробилась борода, и на шее от костяного воротничка появилась красная сыпь.
— Езжай, Егор, домой. Я вернусь дня через два, — сказал он усталым голосом, махнул рукой, и автобус тронулся.
Егорша постоял еще немного, пока автобус не скрылся за родильным домом, и пошел рядом с санями, думая о Глухове, о колхозе, о себе и о Софье.
Встретила его Степановна. Воровато оглядываясь, она прошла с ним в ворота к каменной стене двора, где обычно стояла лошадь Егорши и чужая корова. По дороге она бросала ему медленные фразы:
— Вы ничего не знаете?
Егорша насторожился: «Вежливая какая!» — и, не подав голоса, стал распрягать лошадь.
— Вы сегодня свободны аль нет?
«Что это Степановна мне: «вы» да «вы». Уж не случилось ли чего?» — подумал Егорша и, бодрясь, ответил:
— Со временем я.
Степановна засмеялась над чем-то, наклонив голову.
«Веселая какая», — Егор вывел лошадь из оглобель и привязал ее у стены. Степановна подошла, приблизила к Егорше лицо, сказала шепотом:
— В гости бы сходил к Софье Матвеевне.
— Как это?! — смутился он, а про себя отметил: «Выпила Степановна. И совсем она не злая. Душевный человек».
— Вы дом-то ее знаете? Вот ее окно, а дверь эта.
— Хорошо. Правильно, — кивнул головой Егорша и посмотрел на окно и дверь. Ему даже показалось, что в окно смотрит на него Софья, а дверь — вот-вот откроется, и Софья выйдет навстречу.
— Почему выкаешь со мной? — строго спросил Егорша.
Лицо Степановны потемнело, сузилось. Она открыла рот, подыскивая слова, ответила ласково:
— Имя-отчества твово не знаю, дурень.
— Балансы подводишь? Квитанции пишешь? Там мое фамилие.
— И то правда! — Степановна ступила на лестницу и оттуда громко проговорила, поправляя платок: — А чай сегодня в самоваре сладкий. Агент учудил. Купил сахару на весь самовар, высыпал и, нате пожалуста, пользуйтесь. Герой-человек!
Егорша покрутился около лошади, задетый за живое приглашением в гости. Не думал и не гадал. А вдруг обман… или насмешка?! И не Софья совсем приглашала, а «командирша» сама, от себя… сосватать решила… «Пойти или не пойти?» — думал Егор, не находя себе места. Ему льстило это приглашение. Хотелось увидеть Софью дома. Вспомнилась тоска в ее голосе, горькое одиночество и разговор в сенях, когда накричал на него Глухов.
«Не пойти — обидится. В сущности, ничего особенного не случится, если погостевать. Человек она отзывчивый. Душа параллельная! Да и разузнать о ней не мешало бы. Уж очень она на Марию мою смахивает…»
5
Ему хотелось увидеть Софью без фуфайки, в платье, по-домашнему. Он тихо отворил дверь на себя, шагнул в теплую полутемную комнату и, глянув вперед, увидел Софью. Она сидела к нему спиной и что-то шила.
Он кашлянул, Софья обернулась и с улыбкой стеснительно поднялась ему навстречу, посмотрела в глаза.
— Так вот, значит, ты здесь и живешь… — сказал он как бы для себя. И будто никого больше на свете нет, только он, Егор, и она, Софья. Будто они давно знают друг друга и прожили вместе много лет.
— Раздевайся, раз пришел, — попросила Софья, протягивая руку в сторону громоздкого, обитого железом сундука под наклоненным зеркалом во весь рост. Егорша снял тулуп и осмотрелся.
— Ну… проходи, садись, — мягко и певуче проговорила она.
Егора тронула ее вежливость, и он отметил, что ходить в гости самое приятное дело на свете.
— Я сейчас самовар поставлю, — Софья встретилась с ним взглядом и, по тому как он пристально посмотрел на нее, вспыхнула и заторопилась. Он весело кивнул ей и пожалел, что одет не по-гостевому, а по-дорожному. Это бы ничего, но ведь он сейчас не в доме приезжих, а в доме Софьи.
За раму зеркала были вставлены выцветшие глянцевые фотографии, на которых он безошибочно находил Софью: то чем-то похожую на икону, святую богородицу, то в цветном сарафане, то сиротливо стоявшую среди людей.
«Ты смотри, ты смотри! — удивлялся Егорша. А потом, вглядываясь в ее глаза на карточках, определил: — Одинокая душа. Глаза везде серьезные да печальные. Это от мечтаний у человека».
На самой большой фотографии был снят унылый сухощавый мужчина с бельмом на глазу. Над большими ушами белели седые полоски волос.
«Да-а! — Егорша погладил свою гладкую голову. — Лучше седина, чем лысина. Он с бельмом, а я рябой…» — и почувствовал что-то родственное к мужчине на фотографии. В воображении представил Софью рядом с ним и обернулся.
Крутобедрая, с широкой спиной, одетая в цветистое платье, она будто помолодела.
«М-да! Не по мужу цветочек. Сохранила себя!» Встретился с ее глазами. Лицо Софьи было серьезное, строгое, а взгляд тревожный и какой-то виноватый.
— Фотокарточки хорошие, но маловато… — Егор заметил, как зарделись щеки Софьи, — поняла, что хваля фотографии, хвалит ее. — Детских не видно и мужчина — один.
— Это мой муж. Двадцати двух годов вышла за него. Спокойный и добрый был. Михаил-то Петрович. Ведь ветеринаром в районе состоял.
— Что ж, умер он или где?..
— Война была. Вот Михаила Петровича взяли на войну и там убили. Хорошие люди-то долго не живут, а плохие… — Софья махнула рукой, и губы ее дрогнули, а глаза прищурились, заблестели. — Бумажка пришла: убит, мол. Я долго не верила ей. Веришь радости, а не смерти. Все ждала — вернется. Замуж не выходила. Вот и получилось, что не жила я вовсе. Бывало, ночью плачешь: мол, нет счастливой жизни, а все думаешь: придет когда-нибудь, что человеку-то хорошего положено.
Она замолчала, теребя платок в руке. Егор слушал, опустив голову, будто он был виноват, что нет у Софьи счастливой жизни, и ему захотелось утешить ее.
— Я тоже на войне воевал… Что ж, дело это народное. Одни жизнь отдали, других ранили, третьи пришли невредимы, победу праздновали. Да… простая ты, — ласково дополнил Егорша и стал с волнением свертывать цигарку.
Софья, засуетилась, прошла к печи и оттуда сказала вдруг изменившимся радостным голосом:
— Чай будем пить?
— Будем!
Выпили чаю, пахучего, сладкого; с вкусными мясными пирогами. Егорше пришлись по душе угощение и обходительность Софьи. Он как бы про себя отметил:
— Водочки бы… Винца… с тобой.
— А я не пью.
Егорша признался с сожалением:
— А я пью, — сокрушенно покачал головой и спросил как бы между прочим: — Чем живешь?
Софья подняла на него удивленные глаза и, как бы оправдываясь, ответила:
— Всякие у меня работы. В доме приезжих… стираю, шью. Приезжим… самовар кипячу, за двором смотрю. Уборщицей числюсь. Да и… коровушка выручает.
«Шла бы к нам в колхоз от такой-то жизни, — хотел посоветовать Егорша, но не решился, считая себя пока не вправе советовать и уговаривать. — У человека своя судьба, своя воля. Ну, да ладно! Не первая встреча. Образуем».
Егорша оглядел комнату Софьи: кровать прикрыта красным стеганым одеялом; стол покрыт клеенкой; на полу старенькие половики; сундук, зеркало с фотографиями и русская печь с посудой, да на потолке лампочка со стеклярусным абажуром.
«Обстановка простецкая, но чистая. Наша, крестьянская баба, не жадная».
Софья, погрустнев, следила за Егоршей, качая головой.
— Чудной ты! Обсмотрел… Да все у меня есть! А? Одной скучно вот…
И Егор рассказал ей о себе, о том, кто он такой и как он жил, что женил сына и теперь ему одиноко, что у него свой дом, но нет хозяйки, что колхоз их не ахти какой, а все-таки… и при хорошем председателе обязательно выйдет в передовые.
Софья, подперев голову рукой, задумчиво слушала и изредка восклицала: «Да?!», «Смотри-ка!», «Неужели?!» — и это Егору нравилось. И еще понравилось, что Софья вздыхала при этом и ласково смотрела ему в глаза, — значит он ей не безразличен и все она принимает на веру, то есть не умеет кривить душой. И захотелось ему сделать для нее что-то хорошее, а хорошее для нее можно сделать только одно — жизнь.
— Мужа бы тебе, — Егорша улыбнулся и погладил руку Софьи. Понял, что не имеет права, не сможет обидеть ее, как те, которым все равно. «Сердечная обходительность нужна, — подумал он и вдруг почувствовал себя хорошим. — На такой и жениться не грех. Вот был он один и она одна. А теперь вроде… оба! А значит: не одиноки».
Софья встала, отнесла на печь самоварчик и чашки и, возвращаясь оттуда мимо кровати, оправила подушки.
Подошла к столу сияющая, помолодевшая. В глазах веселый упрек:
— Сурьезный ты какой-то…
Он обнял ее за спину, усадил рядом. Когда-то они сидели так с Марьей…
6
Он долго не мог заснуть. В комнате, где спокойно спали новые приезжие, было жарко. Вечером на тайгу, поля и село упал мороз, и Степановна «поддавала жару». Вернувшись от Софьи, строгий и радостный, Егорша сам наколол дров.
Сейчас, лежа в кровати на прогретых простынях, он ворочался с боку на бок, крякал, курил, ощупывал свое полное тело и с беспокойством, с отчаянием чувствовал, что в этакой жаркой тишине ему, пожалуй, не заснуть. Он откинул верхнюю простыню, разметал руки и стал обдумывать свой скорый отъезд, встречу с сыном, невесткой, с новым председателем. Загадывал, как и что будет с колхозом дальше и встретятся ли они когда-нибудь с Глуховым и Софьей.
С Глуховым-то ему, пожалуй, легко будет увидеться: Глухов приедет знакомить нового председателя с хозяйством, сдавать дела. Да и Кашино не за синими морями: всегда съездить можно. А вот с Софьей — оно тяжелее.
Не выходит она из головы. И вот опять он загрустил… Хочется думать о ней, заботиться, решать что-то. И то сказать, не просто разговор-встреча, а больше: ведь почти доверилась она ему.
Раза два-три в гости наведаться придется — пусть порадуется. Перевезти ее к себе, в колхоз? Устроить можно. Уговорить проще простого. Но как сын на это дело посмотрит? Пашка понятливый, согласится. А Наташенька и слова не скажет. Бабы, известное дело, родные души!
Егорше стало легче, и не такой уж жаркой показалась тишина. Думалось хорошо, свободно, и все шло как нельзя к лучшему. Он лежал склонив голову в полузабытьи, в полусне, обдумывая нехитрые житейские мудрости, сожалея о том, что жизнь прожита как-то не так и очень быстро, и почему у человека одна жизнь, а нельзя ли прожить еще одну, новую?! И хуже всего, когда к человеку приходит смерть.
Ему представилось, будто готовится он умирать — по-русски, по-крестьянски, степенно, вроде собираясь в дальнюю дорогу. Что он уже старый и стоит на крылечке своего дома и смотрит на леса и горы, на пашни и небо. Будто он сел на крылечко и чувствует: прижалось плечо чье-то крепкое. Обернулся: Козулин рядом сидит в очках и во френче и так печально смотрит на него, будто жалеет, что Егорша умирать собрался. И будто произошел такой разговор:
— Вы что пришли? Газетку почитать али разговором уважить?
— Нет, Егор Тимофеевич Ломакин, пришел я к тебе за отчетом. А ну-ка, давай, Егор, отчет!
— Это какой такой отчет?
— А вот… как жизнь свою прожил, много ли людям добра сотворил?
— Ну что ж, милый, вот он я — весь отчет твой.
— Нет, этого мало. Тебя-то мы знаем. Ты про свою жизнь обскажи, как и что…
— Э-э! Стыдно требовать отчет с человека, милый. Он сам себя сперва отчитать должен.
— Ну, что ж, отчитывай. Я подожду.
— Ну, так вот… Я жил хорошо. Нет, погоди, не с того конца начал. Зачем я жил — вот в чем вопрос! Жизнь прожита и как-то так… и хорошо и плохо. Кто цветы подносит, а кто крапиву. Хоть и мало геройства было, а все же… Это потому, что не на глазах у людей прожил. А есть чему подивиться, и цену себе я знаю.
— Ну, это, Егор, философия пошла. Рассуждение твое. Ты давай самую суть, корень самый.
— Что ж, дадим и корень. Хоть и беспартийный я, а люблю вашего брата. Ну так слушай.
Работал, землю люблю. Растила матушка, бывало, богатые хлеба, людям на прокормление. А бывало, и нет. Гражданскую войну прошел. Вайнера и Хохрякова-матроса знаю. Первые партийные были. Не просто на митингах которые, а жизнь в бою отдали. О себе хвалиться не буду: в живых остался, но долго еще с белыми не на живот, а на смерть бились.
Марью крепко любил, не обижал. Жили душа в душу. Семью поднимали, потом колхоз организовался, чтобы жить крепче. В колхозе-то я конюхом был. Я по лошадям-то с детства мастак. С кулаками воевал, убить меня хотели за лошадей-то. Вот и жил, как люди. А потом война… — великая. Народы друг на друга пошли. На войне я хорошо работал, медали есть. И за победу тоже, хоть подвигов не совершал, нет. Чего нету, того нету. Вернулся, еще больше хозяином земли себя почувствовал. Сына женил. Жизнь по руслу пошла… Душе спокойней. Да… Вот и весь мой корень, вот суть делов моих. А мог бы больше сделать! А мог ведь!
Козулин слушал, слушал и сказал:
— Не умирай, Егор, погоди. Ты человек хороший, людям очень нужный. И будем мы за тобой смотреть пуще глаза.
Так и сказал.
— Смерть для человека, Егор, самое бедовое дело. Умирают хорошие и плохие. Мало люди живут, мало. Орлы и те больше. А вот слышал я, будто препарат уже есть такой, врачи выдумали. Приедешь с работы, выпьешь стаканчик, закусишь и… живи еще сто лет! И так далее.
— Это правда, милый? И впрямь, кому помирать охота? Ну что ж, поживу еще, если препаратом уважил. Значит, все-все и жить будем… Так детей ведь каждый год уйма рождается. На земле места не хватит! Где жить будем?!
Козулин и тут не растерялся:
— На других планетах. Как от села до села будем ездить.
— А-а! Слыхал! Видеть не приходилось…
— Живи, Егор, живи! Не умирай, пожалуйста!
Егору понравилась такая просьба, но его взял интерес: а что дальше, и он представил себя умершим и что умер он как-то по-особенному: в гробу лежит, а все видит и слышит и руками может шевелить. Вот он лежит и думает: как же это он все-таки умер? Не доглядели!
Вот его куда-то везут, а ему мысли всякие в голову лезут. Кто за ним идет да кто его в последний путь провожает? Всем колхозом вышли. Тут и Глухов, и Степановна, и Пашка-сын, и Наташа, и соседи, нет только партийного Козулина и Софьи, видно, очень не хотели они, чтоб Егор умирал! Ну, и на том спасибо. Везут его, а кругом фруктовые сады, уже без яблок. Осень. Урожай, должно, собрали. А везут его на этой же лошади, на которой и сам ездил и начальство возил. Оглянулся Егор и успокоился. Хоть хоронят-то честь-честью!
И все-таки, как и любому человеку, ему жалко стало себя, что он лежит в сосновом гробу, что он умер, что падает на его лицо печальный осенний снег, что милая лошадь оглядывается на него и смотрит грустными глазами. На одной из досок гроба он заметил запекшуюся смолу, отковырнул ее пальцем, но вспомнил, что мертвый, и убрал руки.
Убрал — и не мог не рассмеяться.
Не мог от радости, что смерти ему, Егорше, нет и что совсем умереть он не может и не сможет, что нужно жить и жить, как все люди живут, и с препаратом и без — и вскоре уснул.
Проснулся Егор рано. Заторопился поскорее уехать домой, к сыну, в колхоз. А то на стороне от всяких невеселых мыслей и впрямь помрешь.
Воспоминания о Софье развеселили его. Легче стало на душе и быстрее заставляла двигаться уверенность, что скоро с Софьей он будет вместе и они еще долго проживут.
А что? И свадьбу справит, как молодой, и начнет вторую жизнь, одинаково любя всех, но каждому зная цену. Потом, когда он увидел Степановну, Козулина, разряженную актрису, оглядел снежные улицы Сысерти и приготовил лошадь в дорогу, ему стало совсем весело.
7
Повалил снег. Чистый, хрупкий, он хрустел, как крахмал, и сеялся откуда-то из серого неба, ложась на дороги и избы тяжелым пухом.
Егорша запряг лошадь, уложил под сено мешок с покупками поближе к сиденью и стоял у саней в раздумье. Лошадь нюхала летящие хлопья снега тонкими ноздрями, слизывала снежинки с губ розовым языком и косила глаз на хозяина.
Из соседнего дома вышла Софья, покраснела, встретившись взглядом с Егоршей, и поклонилась. Егорша хотел подойти к ней проститься, но вспомнил, что решил скоро вернуться, кивнул головой и стал хозяйственно оправлять хомут на шее лошади, делая вид, что занят.
Откуда-то вынырнула Степановна. Она увивалась около Софьи, расспрашивая ее шепотом о чем-то.
Софья стояла строгая, неприступная. Егорша услышал, как Степановна спросила с настойчивым женским любопытством: «Ну, а он что?» Софья опустила глаза, покраснела и ничего не ответила.
Уезжать не хотелось. Не хотелось потому, что возвращаться домой предстояло порожняком, одному. Глухов сказал: «Езжай, Егор, один…» И вот Егор уезжает. Ничего не случилось: приехал и уехал человек. Вот и еще два дня жизни прошли. Не воротишь назад. Зато новых людей узнал, хороших, своих, которые не подведут и всегда уважат, которых он любит и до которых ему есть дело! Все эти люди надолго останутся в его памяти, и он часто будет о них вспоминать, а может, и встретиться придется. Работы уйма. Людей много требуется к земле, в колхоз. Приезжайте, милые. Жить будем.
На крыльцо вышел Козулин, в пальто, в кожаном малахае, с клетчатым шарфом на шее.
Увидел Егора, кивнул:
— Уезжаете, дядя Егорша?
— Да, в колхоз. К сыну. Погостевал я тут. Надоел всем.
— Да нет, что вы?! — Козулин добродушно рассмеялся. — Доведется ли снова увидеться и… поговорить с вами?
Егорша вспомнил бессонницу и, улыбнувшись, ответил:
— Непременно свидимся.
На крыльцо вышла актриса и, увидев запряженную лошадь, удивленно воскликнула:
— О! Уезжаете, Егорыч?!
Егоршу тронуло ее удивление и то, что она назвала его ласково «Егорыч», и он ответил:
— Уезжаю, уезжаю, гражданочка, — и поклонился.
Степановна открыла ворота. Софья стояла в стороне, глядя куда-то мимо Егора…
Проезжая, Егорша посмотрел ей в лицо и, заметив, как губы ее дрогнули, сказал тихо:
— Береги себя.
И отвернулся.
«Забрать, забрать ее надо отсюда! Нельзя одинокой ей жить. Да и мне тоже».
Вывел лошадь на улицу, остановил сани на дороге, чтобы проститься со всеми.
Взглянул на вывеску над дощатым ларьком, в котором были выставлены напоказ вино, сода в коробках, холодные пирожки и конфеты-подушечки. Внутри ларька в своем белом халате съежилась от холода продавщица, безучастно смотрела сквозь стекла.
Прочел вывеску. На зеленом листе жести красными ровными буквами было выведено: «Дом колхозника Сысертского райисполкома». Что-то сухое, бумажное заключалось в этом названии, и Егорше оно не понравилось.
— Эх, колхозник ты… Сысертского райисполкома!
Причмокнул, громко крикнул на лошадь:
— Эй, транспорт, трогай!
Степановна махнула ключами. Софья подняла руку и погрустнела; Козулин снял очки; актриса улыбнулась широко, и сейчас лицо ее не было похоже на маску.
— Счастливого пути!
Лошадь потянулась, судорогой мышц стряхнула снежинки с лопаток и зашагала, степенно держа свою громадную голову, навстречу избам, прохожим, дорогам, тайге и пока снежному простору земли.
В СЕВЕРНОМ ГОРОДЕ Рассказ
1
От зноя потрескалась земля, надломились и обвисли в канавах стебли крапивы, высохла широкая пойма горной реки, и на берегу, где в беспорядке громоздились бревна, а рядом булькала быстрая холодная вода, оседала, когда проезжали автомашины, серая дорожная пыль. Улицы деревянного северного городка дремали. На площади со столетними тенистыми кедрами в киосках и будках шла бойкая торговля хлебным квасом и мороженым.
Александр Петрович, председатель горисполкома, тучный мужчина, не спеша, покачиваясь, шагая по пыльной набережной, опустил тяжелые руки. Отвечая на «здравствуйте» кивком головы, хмурил голубые глаза, устало дыша: был не в духе.
До места работы оставалось пройти немного.
Длинный и узкий дощатый мост-дорожка с наглухо обшитыми перилами покачивался и скрипел на столбах, вбитых в грунт высохшей речной низины. Мост тянулся вдоль берега к старинному деревянному зданию с колоннами.
Александр Петрович шагал по настилу и утирал платком с синими полосками большой круглый лоб, мягкие щеки, пышные седые волосы, зачесанные назад. На нем была плотная, потертая, обтянутая на плечах, зеленая гимнастерка, обтягивавшая его богатырское тело. Был он туго подпоясан широким рыжим ремнем. Летние брезентовые сапоги запылились.
Навстречу шла женщина. Осторожно ступая по доскам и высоко подняв раскрытый запыленный черный зонт, она несла на руках белобрысого мальчишку. На малыша падала тень.
Когда женщина поравнялась с Александром Петровичем, он уступил дорогу, прислонившись спиной к перилам, успел взглянуть ей в лицо, позавидовал малышу: ему в тени зонта не жарко — и, решив, что это, наверно, приезжая, потому что осматривается по сторонам, потому что у нее кавказское лицо с острым подбородком и грустными глазами, недовольно пробормотал:
— Ну куда она потащилась с ребятенком в этакую-то жару?.. Тоже ведь выдумала: зонт!
Александр Петрович оглянулся: женщина остановилась у краеведческого музея.
«Так и есть приезжая! Вот и новый человек в нашем районном городе!.. — Он усмехнулся. — Разве это город?! Большая деревня!»
Александр Петрович оглядел широкую таежную долину, среди которой раскинулись пыльные кривые улицы, деревянные дедовские избы с палисадниками и огородами у глубокого оврага, по каменистому дну которого бесновалась холодная горная река. По отлогой горе поднимались вверх, в сосновый бор, новые избы с маленькими окошками и высокими заборами. И только здания почты, гостиницы, горкома и клуба — двухэтажные, хотя тоже деревянные и старые.
«Да… город стар! Нужен новый, каменный с многоэтажными, большими домами… Легко сказать: нужен! А ледник под землей, а глубинная вода! Попробуй, построй — через зиму осядет все набок… Даже дороги по улицам из дерева — лежневка! Весной расползается, сдвигается мерзлый северный грунт… А ведь я слышал, что в Норильске уже стоят каменные дома на мерзлом грунте. Открыли секрет!
Значит, можно и у нас! А здесь из строительных материалов только лес. Обыватели радуются: «Зачем нам каменные дома?! Тайга кругом! Бери бревна, строй гнездо с огородом и живи — охотничай, рыбачь, коси травы, пой песни про коровушку и торгуй. Можно не работать — земля прокормит!»
Александр Петрович стиснул зубы, отдышался после быстрой ходьбы и погрозил кулаком в сторону окраинных пустынных улиц.
— У, обывательская сторона! Замучили на приемах покосами и дровами, хапуги! Понастрою я вам каменных домов и общежитий! Хоромники!
Где-то вдали, на железнодорожной станции, послышался тонкий, печальный паровозный гудок… Александр Петрович вздрогнул и расстегнул ворот гимнастерки. «Жара, жара… Нет ничего хуже северной жары. И откуда она здесь, на севере?! Жарко, наверно, сейчас на всем земном шаре… Пора бы и дождям за дело приниматься. Сгорит в колхозах хлеб на корню. А в тайге, чего доброго, еще начнутся лесные пожары… Пожары! А что тогда поделаешь? Ведь в одном только нашем районе леса в два раза больше, чем в такой стране, как Швеция! Хм, Швеция… Жарко-то как!»
У берега в воде кувыркалась, брызгалась, бегала детвора.
Александр Петрович шагнул к реке, остановился, крякнул, пожалел, что ему уже шестьдесят, что не может, как мальчишка, раздеться и плюхнуться голышом в эту чистую, холодную воду. Почувствовал, как стеснило грудь, а сердце будто остановилось, вздохнул глубоко. Свернул в подвальное помещение с ярко-зеленой вывеской: «Книжный магазин».
В полутемной, прохладной комнате тянулись стеллажи с книгами, сколоченные из нетесаных досок. В углу на кирпичах разобранной печи лежали брошюры, связанные бечевкой; на бумаге, разостланной по полу, стояли в ряду, навалившись один на другой, тяжелые толстые тома энциклопедии, лежали кипы плакатов и художественных репродукций. Над ними возвышался на треногах дубовый стенд с ободранными красными буквами: «Новинки».
Александр Петрович подошел к витрине-столу, постоял около немного и покачал головой.
Навстречу ему вышел коренастый старик, одетый в просторную бархатную куртку, в роговых очках с толстыми стеклами. Он погладил свою красную лысину, зажал в ладонях бороду и стал перед председателем горисполкома, наклонил голову: глаза его робко поглядывали из-за очков и хитро прищуривались.
— Здравствуйте, Лев Дмитриевич!
— Да, да, здравствуйте!
Александр Петрович осмотрелся и, не найдя стула, чтобы присесть, весело произнес:
— Хорошо у вас, хорошо. Прохладно. Что, новые книги пришли? — Он подошел к стопке книг, прочел несколько названий вслух: — Олдридж, «Дипломат». Книга хорошая?
— Великолепная!
— «Заговорщики»… Мда! «Большой поток» — из Архангельска. — Александр Петрович перелистал несколько страниц. — Наверно, хорошая повесть, о лесе! Вот тут и картинка… Трелевочный трактор… тайга… лесорубы. Такие книги нам нужны. А что же это у вас сочинения Маркса и Ленина лежат в углу? Разобрать надо. Отдельную витрину заказать. «Капитал» Маркса на свет надо, чтобы видно было. Ну как, берут книги?
Лев Дмитриевич поднял голову.
— Покупают мало. Больше… детскую литературу и романы, которые в моде.
— М-да… Склад у вас, а не книжный магазин! Старое помещение. Узкое. Мрак. С горкомхозом Иванчихиным говорили? Есть ведь специальное решение горисполкома дать вам новое помещение.
— Говорил я, говорил! Обещает, а я верю и жду! Сыровато у нас, тесновато и… вообще… знаете.
— Вы тихий человек, Лев Дмитриевич! Требовать надо, напоминать чаще Иванчихину. Ко мне бы зашли, как вот я к вам, запросто.
— Я ведь верю человеку, Иванчихину то есть. Он честно ищет хорошее, сухое помещение для нашего магазина.
— Сколько уж времени прошло, как он ищет?
— М-месяцев пять!
— Ну вот! На одной вере жить нельзя. Позвоните ему сейчас же, при мне, от моего имени спросите. Что он скажет?
Лев Дмитриевич не спеша снял трубку, послушал и, кивнув кому-то, с достоинством попросил:
— Иванчихина мне.
Александр Петрович посмотрел на дощатый крашеный пол, на стены, уставленные книгами, на потолок, над которым слышались шаги, голоса и стрекотание швейных машинок, заметил, как замигала электрическая лампочка на побеленных синей известью бревнах потолка, и почувствовал, что ему почему-то стало холодно, почувствовал в душе злость на самого себя за то, что только от жары и усталости зашел сюда отдохнуть и подышать прохладой, а ведь мог бы и не заглянуть, пройти мимо…
— Что? — обратился он к Льву Дмитриевичу, растерянно стоявшему с трубкой в руках.
— Вот… опять обещает… Хороший человек, я верю.
— Дайте-ка трубку!.. Да! Я! Слушай меня, Иванчихин! Сегодня же пройдись по артелям, мастерским, магазинам, складам. Надо найти помещение — светлое и сухое, для книжного магазина. Обменять! Баш на баш! Доложить сегодня же! Думаю, для этого тебе не потребуется пяти месяцев?
Лев Дмитриевич делал вид, что просматривает книги, перекладывая их из одной стопы в другую, но по тому, как он обернулся и, держа очки в руках, посмотрел близорукими темными глазами, Александр Петрович понял, что он взволнован и рад.
— Витрину неплохо бы у входа поставить. А то что же это она у вас в углу стоит?
Тяжело поднявшись по деревянным ступеням, Александр Петрович вышел на улицу и зажмурился от солнечного света.
По каменистому берегу громыхали, подпрыгивая, машины. Жаркая пыль взлетала густыми клубами в воздух, переваливалась по откосу к реке.
Седой от пыли берег! И только молодые, недавно посаженные яблоньки, за которыми ухаживал уличный комитет, зеленели, оттопырив свои ветки в разные стороны.
Александр Петрович грустно усмехнулся, покачал головой, махнул рукой: «Что яблони… Эксперимент!» И вдруг увидел ободранную кору внизу ствола, рассердился, чувствуя, как защемило сердце. «Куда только милиционеры глядят? Вот ведь гложут козы яблоньки! Ну что это такое?!»
У центрального моста вдоль берета выстроились длинными рядами, как на параде, пивные киоски и галантерейные ларьки. «В городе до сих пор нет порядочной площади. Не поймешь, где центр, где окраина! Мост — центр! Здесь и пьяные драки… Да-а-а! Сам виноват… Заседаем!»
У Дома приезжих ждала пассажиров грузовая машина, курсирующая по району. В кузове одиноко сидел, прижимая к груди ружье и свертки, пожилой манси — с косичками, в белом платке.
Александр Петрович встретился с манси глазами, кивнул, сказал:
— Паче, рума! Здравствуй, друг!
Но манси не ответил на его приветствие: видно, задумался о чем-то. Александру Петровичу стало тоскливо, он вспомнил о жене и о ссоре.
Повздорил с женой из-за ее излишней заботливости, из-за слишком частых напоминаний о том, что он — председатель, «городской голова», а поэтому должен так-то одеваться, так-то и так-то держать себя при людях и гостях, из-за мелочных придирок, вспыльчивого характера и слез. Не любил, если она называла его при всех Сашенька, как мальчишку, и еще не любил смеха дочери, наблюдавшей за их ссорой.
Лина — взрослая дочь, приехавшая на летние каникулы из Свердловска, где она уже заканчивала медицинский институт, — никуда из дому не выходила, ничего не делала, только валялась на кушетке да целыми днями простаивала перед зеркалом — наводила красоту. Ее белые волнистые кудри спадали до плеч, и жена называла дочь «Прекрасной Еленой».
Александр Петрович знал, что Лина мечтает о замужестве, что между дочерью и матерью ведутся таинственные разговоры о будущем женихе, которого пока нет, но к появлению которого нужно быть всегда готовой, и злился, что дочь и жена скрывают все это от него.
Он не раз говорил жене, что мечтать и думать о женихе, которого еще нет, но который существует и где-то живет, ходит по земле, работает и совсем не предполагает, что о нем думают, — чистейшей воды обывательщина.
Вот сыном Маем он был доволен. У женщин в семье какой-то свой затаенный мир, а сын был ему другом.
В детстве Май дрался с мальчишками, лазил в чужие огороды, «нечаянно» бил стекла и несколько раз «случайно» уже курил папиросы. Но в школе он учился на «хорошо» и «отлично» и не хвастался этим, а повзрослев и закончив семилетку, именно с ним, с отцом, обсуждал, как равный, свое решение поступить в автодорожный техникум. Мать, узнав об этом, всплеснула руками: «Как же так?» Май ответил: «Мы с отцом решили!»
Когда сын уехал, с вокзала возвращались пешком. Шоферу разрешил покатать на пикапе товарищей Мая. В сумерках шли с женой лесом. В березняке было влажно и сыро. На душе и спокойно — как другу сына, и печально — как отцу. Жена то молчала, то плакала, то начинала беспокоиться о муже, как о ребенке. Обняв его, окутывала шею своим платком, прижималась горячей грудью, целовала. А он шутил: «Товарищ жена! Что же это такое, люди добрые? Целует среди бела дня! Ай-ай-ай!» И обоим было весело, как детям.
Тогда они поняли, что остались одни, что подошла старость, что нужно прощать друг другу вспыльчивость и ошибки, и шли, обнявшись, до дома, думая о детях, о старости, о жизни.
…Александр Петрович улыбнулся. Вспоминать о прошедшем было приятно. Горько было только, что годы как-то уж очень быстро прошли, что человеческой жизни положен предел — и что ни говори, как ни бейся, а вот придет когда-нибудь этот тихий денек…
Он остановился и зло выругался. «Чепуху какую-то понес! Эвон, смотри-ка, философ… умирать собрался!» И усмехнулся, прикрыв ладонью губы.
В душе все равно оставалась печаль. Александр Петрович старался о ней не думать, шагал быстрее, в такт шагам шептал короткие фразы и с удовольствием отмечал, что люди зовут его «хозяином», «папашей», «Петровичем» и официально «товарищ Александр Петрович». Знал, что любят его в городе. Любят и как человека, и как председателя горисполкома. «А может, потому любят, что председатель, власть? — вдруг остановился он. — Нет. Шалишь! Не потому».
В первые годы советской власти он работал воспитателем в детдоме. Из всей группы сбежали только трое — мелкие воришки, хулиганье… А остальные все — рабочий класс!
В годы разрухи служил на железной дороге, снабжал грузами отдаленные районы… А потом — райпотребсоюз… все время в разъездах. И только в городе Серове жил десять лет безвыездно, работал председателем профсоюза на транспорте. Здесь родилась Лина. И вот теперь в северном далеком городке, кажется, последняя остановка. Да-а! Друзья-то в большие люди вышли, в городах ворочают, в обкомах. А один даже министр!
Александр Петрович ступил на крыльцо горисполкома — двухэтажного деревянного здания с колоннами, прошел через вестибюль направо в коридор, где помещались приемная горисполкома и его кабинет, и почувствовал облегчение, будто пришел домой.
В приемной ждали посетители. Одни сидели на потертом кожаном диване с выпиравшими пружинами, другие сгрудились у перегородки, за которой у окна стучала на «Ремингтоне» рыжая толстая секретарь-машинистка. «Рано пришли. Прием с десяти!»
Из посетителей Александр Петрович заметил вихрастого высокого парня в узеньком пиджаке, старика и старуху Мышкиных, беременную женщину и девочку-школьницу, читавшую плакат «Граждане, спешите застраховать свою жизнь». Увидев председателя, посетители посторонились. Смолкли разговоры. Александр Петрович громко произнес:
— Здравствуйте! — и прошел в кабинет.
2
В большом кабинете — комнате с четырьмя окнами во всю стену — прохладно и тихо.
В одном углу стоит, свесив чуть не с потолка свои тяжелые широкие листья-руки, комнатная пальма; в другом — чуть слышно тикают часы в футляре. Над массивным кожаным черным диваном висит карта Советского Союза. На письменном столе два телефона, около стола радиоприемник и этажерка с книгами в красных переплетах. Середину комнаты занимает стол, накрытый красной скатертью, и стулья.
До начала приема осталось двадцать минут.
Александр Петрович сел в кожаное кресло и осмотрел хозяйство на столе, затем развязал тесемки пустой папки с этикеткой «Срочно», насыпал в трубку табаку из пачки «Дюбек», вынул из кармана очки, положил рядом с чернильницей. «Ну вот мы и дома». Он повеселел, закурил, забыв о жене, пыльных улицах, жаре, пододвинул к себе листок — чье-то заявление, оставшееся неразобранным.
Вчера вечером после работы Александр Петрович играл в шахматы с секретарем горкома Протасовым — милым, спокойным человеком. В начале партии он взял со стола листок бумаги, чтобы записывать ходы, не заметив, что листок — документ: на оборотной стороне было написано чье-то заявление.
Александр Петрович просмотрел ходы. «Наверно, где-то ошибся… Ну да! Неправильный ход конем! Жаль бедного короля». Он перевернул листок и прочел:
«Заявление.
Дорогой товарищ Александр Петрович.
Первая сторона — такая. Ваш работник распоряжался делянками на дрова и мою делянку отдал соседям Мочаловым, как бы у них сын на фронте погиб, а у меня никто. Такое дело я сочла как не по справедливым законам.
Мой муж тоже воевал с фашизмом, и я тоже числюсь как жена фронтовика. Такой закон есть. А что мой муж пьяница и ушел от меня, так это совсем другая запятая. И еще у Мочаловых детей нету, а у меня их целых трое. А вторая сторона — что Мочаловы сами даже и на фронте не воевали.
Вы, как председатель, должны вернуть мою делянку. А если нет, я могу пожаловаться. Есть другие и выше вас органы, куда я напишу в случае чего, так как у меня трое детей на руках и я так сочла… Гражданка Козодоева».
Александр Петрович почувствовал, как щекам стало жарко; он положил листок прямо перед собой, бережно разгладил ладонью. «Сочла… Делянка дров ей действительно нужна… Мужа бы ей вернуть — вот задача…» Он задумался над тем, какое решение принять. Таких заявлений много… но этот листок, эта женщина, мать троих детей, этот голос тронул его и своей искренностью и грубостью.
И почему осталось это одно заявление? Не заметил при игре в шахматы… А теперь какой ход сделать? Вернуть ей делянку или дать другую… Но при распределении лесных угодий все фондовое шло на заготовку топлива в школы, бани и другие учреждения… А ведь будут еще заявления…
Стрелка подвинулась к римской цифре X. Сейчас начнется прием посетителей…
Александр Петрович решил подождать с заявлением, положил листок в папку «Срочно», закурил трубку. Синие облачка дыма окутали лицо. Приятно запахло вкусным трубочным табаком. В первый раз зазвонил телефон.
По спокойному, мягкому обращению «Петрович» он узнал Протасова, секретаря горкома.
— Петрович, сегодня по городу пройдет сплав.
— Да, да… Знаю!
— Лесопильный завод стоит. Лес нужен.
— Мне тоже нужен лес. Мост через Пузыриху возводим… А также на закладку Дворца культуры.
— Вот и хорошо. Дадим! Но нужно помочь заводу… Главное — людьми. Завод стоит. Лес стоит. Я пришлю к тебе бригадира…
— У меня сегодня приемный день. Сплавом займусь после обеда.
— Прими Григорьева. Ряд вопросов реши с ним.
— Ладно, присылай.
— Поищи знающего человека… Людей сплавщикам прибавь. Не справятся сплавщики одни — лесу много!
— Человека поищу… Рабочих… поскребу среди своих…
— Значит, сплав! Решили. Ну, хорошего всего!
Александр Петрович повесил трубку. «Жаркая будет работа». И нажал кнопку.
Толстая секретарша открыла дверь кабинета и, улыбаясь, остановилась в дверях, смущенная.
— Можно? — Заметив кивок головы председателя, сказала громко, заикаясь: — Входите по порядку… Вы первые? — и пока задержала двух посетителей — супругов Мышкиных.
Александр Петрович сказал секретарше:
— Там женщина… с ребенком… то есть… — он хотел сказать «беременная», но раздумал и сказал: — в положении. Пусть войдет.
Но Мышкины уже вошли и уселись. «Вот нахальные люди, — подумал Александр Петрович, — вошли без приглашения, уселись, решили выждать».
По мнению Александра Петровича, Мышкины — самые неприятные люди в городе. Сын в Москве «чем-то командует»… Звал их к себе жить — не поехали. Хозяйство некуда деть — дом, огород, лошадь, коровы… Детей у них больше нет. Живут тихо на окраине, жадничают на старости лет: хозяйка торгует на рынке овощами, молоком, мясом, а сам работает ночным сторожем на лесопильном заводе. Копят деньги… Пришли опять «с вопросом о покосе». Рвачи! Сын сколько лет не был в гостях, не знает, какими они стали. А они чем старее, чем богаче, тем жаднее. Эх, люди!
Александр Петрович постукал трубкой о край пепельницы, оглядел Мышкиных, крякнул, подавляя в себе поднимающееся раздражение. Мышкин смотрел в пол, согнувшись, наклонив сплюснутую продолговатую голову с узким лбом, седоватой острой бородкой вниз. Весь он был похож сейчас на топор, готовый тюкнуть в пол острием — бородкой. Мышкина равнодушно сидела рядом, поджав ноги, скользя глазами по стенам. Оба они показались Александру Петровичу людьми из другого мира, случайно зашедшими к нему на прием.
Открылась дверь. Вошла беременная женщина, а с ней девочка-школьница с косичками, в белом платье.
— Подожди, девочка. Я сама скажу.
— Ну как же, мама! Ведь мы пришли по моему личному вопросу.
Александр Петрович почему-то обрадовался их появлению.
— Проходите, проходите обе! Садитесь, пожалуйста…
Девочка подвинула матери стул.
Женщина застеснялась, спрятала улыбку, нахмурилась, положила руки на большой живот и бойко заговорила:
— Чикмарева моя фамилия, Чикмарева. Нехорошо получается, товарищ председатель горсовета. Я в декрете хожу, а дочку мою — школьницу — посылают в колхоз на работу. А я ведь… Вдруг что… и дома нет никого!
— Действительно нехорошо получается, — согласился Александр Петрович. — Ну, а обращались куда-нибудь?
Мать плечом подтолкнула дочь.
Девочка смутилась, заложила руки за спину и, наверно, сжимала и разжимала пальцы, потому что плечи ее вздрагивали.
— Я директору нашей школы Петру Ильичу говорила, что мама больна и что я с удовольствием с подругами поехала бы в колхоз, потому что интересно — весь класс едет, но дома некому остаться.
Мать перебила дочь, сокрушенно качая головой:
— А он ответил: все, мол, едут, и ты должна. Мол, урожай богатый уродился — помощь требуется. И дочь моя… как комсомолка…
Девочка поправила комсомольский значок на груди и, вздохнув, отошла к двери. Видно, ей очень хотелось поехать с подругами в колхоз, но и оставить мать одну она боялась.
Александр Петрович улыбнулся и сказал, обращаясь к Чикмаревой:
— Хорошо, я позвоню директору школы.
Провожая ее к двери, он подумал: «Давай, хозяйка, рожай нам скорей гражданина!»
Двери с шумом распахнулись, и на порог вступил, пригибаясь и одергивая брезентовую робу, громадного роста, с кудлатой рыжей головой сплавщик Григорьев. Он посторонился, давая дорогу беременной, раздвигая жесткой улыбкой усы и бороду, хрустя резиновыми сапогами. Округлые бесцветные глаза его под выгоревшими бровями окинули лукавым взглядом кабинет.
— Мое почтение! — выкрикнул он басом и подал тяжелую руку Александру Петровичу.
— Садитесь, Григорий Тимофеевич. Значит… сплав!
— Да, нелегкая его побери… Остановили лес у притока в Пузыриху и у плотины. Вот, — Григорьев развернул на столе путевку, карту района, где красные стрелы обозначали маршрут сплава, и постукал желтым от никотина пальцем по синей линии реки за городской чертой, — вот загвоздка где! Плотина мешает! Встала, как идол, холера, и… ни туда, ни сюда!
— Плотина не помешает, — спокойно сказал Александр Петрович, — откроем ее. Воду в городской реке поднимать все равно надо.
— Надо, надо… — Григорьев грустно покачал головой.
— Раньше-то… хорошо было! Р-раз! И провел сплав прямо по городу к лесозаводу! Правда, без плотины и большой воды морока была, бревна-то дно бороздили, но зато лес прямехонько, как по нитке, шел! А теперь…
— А теперь, — подхватил Александр Петрович, — придется обогнуть горы… с километр — и через Пузыриху снова в городскую реку. Плотина в стороне останется.
— А там… в Пузырихе… пороги у стыка, — подал тихий голос Мышкин, безучастно сидевший с супругой в стороне.
— Пороги? А вы откуда знаете? — недовольно спросил председатель, подвигая карту к себе.
— Ну, а как же… Знаю! Я, чать, старый плотогон… Да вот Григорий Тимофеевич обо мне замолвит. Вместях плоты водили.
— Припоминаю тебя… Подручным стоял, — откликнулся Григорьев.
— Что подручный, что плотогон — одинаково сплавщик, — обиделся Мышкин и провел ладонью по бороде. — А только через пороги на Пузырихе вам все одно не пройти. Похлеще плотины будет… м-да.
Все замолчали. Александр Петрович оглядел фигуру Григорьева, от которой веяло силой и спокойствием, и заметил у него под усами спрятанную усмешку.
— Как с порогами быть, Григорий Тимофеевич? Обойти тоже?
Григорьев расстегнул ворот ситцевой рубахи.
— Обойти нельзя. А вот запруду поставить если… до середины Пузырихи?
— Как это? А пороги? — оживился Александр Петрович.
— Топить их, чертей, надо! Вода хлынет на пороги… затопит! Речка небольшая… и поймы хватит. Час работы всего.
— Как, товарищ Мышкин, правильно будет? — Александр Петрович взял толстый красный карандаш.
— Это можно… Дельно. — Мышкин придвинулся, раскрыл рот недоуменно, будто отгадали его мысль. — Я эту пойму знаю. Морды на рыбу ставлю там… Богатое место.
— Хорошо! Решили. Вот записка, Григорьев, к Иванчихину. Он мост через Пузыриху ставит. Возьмешь у него рабочих человек восемь и… ставь запруду. А я после обеда приду, — проговорил Александр Петрович, поставил красным карандашом крест на Пузырихе и отдал карту Григорьеву.
— Да! Людей вот маловато… — испуганно крикнул Григорьев.
— Как маловато… А я? А ты? Да вот Мышкин… поможет. Он старый сплавщик…
— Меня не надо, товарищ Александр Петрович. Я старый уже… Неспособный да и болен я, — выговорил натужно Мышкин, поглаживая рукой красную гусиную шею.
— Ага! Не надо? Правильно.
Александр Петрович как бы про себя проговорил:
— Пороги, пороги, — и постучал пальцами по столу.
— Ну, а людей, — снова обратился он к Григорьеву, — добудем. Есть у меня плотогоны… Вот всех после обеда с моста сниму — и к тебе… Рад?
— Уж как спасибо-то… — Григорьев привстал. — Ох, и красиво лес поведем… по реке… по городу… чтобы с музыкой.
Александр Петрович захохотал.
— Садись, садись, Григорий Тимофеевич! Ну, как дома-то у тебя… все в порядке?
— Дома?.. Да как будто хорошо. Вот только от Гарпины покоя нет. С утра детский сад водит… пузатиков своих, и все на свой огород… Тьфу ты! На свой испытательный участок. Вечером снова в огород — уже одна. Огородница она у меня. Воюет с уличным комитетом… Земли ей, вишь, не дают.
— Ну что ж, огороды нужны.
— Любит она выращивать. Вот вишню Посадила и молится на нее каждый день. А вишня-то козий хвост.. Махонькая. Не примется она здесь. А жена — свое: «Была бы земля, земля все рожает».
— Домой-то заходил?
— Нет. Некогда. Лес стоит. Сейчас в бригаду пойду. Людей расставлять. Да и запруду пора делать.
Александр Петрович проводил Григорьева до двери.
— А земли Гарпине отведем! — И попрощался с ним за руку.
Мышкин смотрел им вслед, молчал, ожидая своего времени.
А когда Александр Петрович набивал трубку табаком, Мышкин пересел с дивана на стул и, наклонив голову набок, заулыбался и торопливо заговорил, пряча руки под стол, нагибаясь вперед:
— Наше дело такое…
Александр Петрович слушал, кивая, смотрел в какую-то бумагу, сдвигал очки на лоб.
— Так, так… дальше.
Перед глазами его вставала та самая обывательская окраина, которой он утром грозил рукой.
Мышкин сидел в новом пиджаке, пахнущем нафталином, одеколоном, и часто повторял: «Мой сын в Москве». На этой фразе он щурился, откидывая голову назад, и всем своим видом как бы говорил: «Вот ведь я не просто так пришел, а по делу, и к власти свое уважение имею».
— Обида к вам, Александр Петрович. Покос наш самым дальним оказался от дома, почитай десять верст с избытком, м-да. Это ладно бы… да вот выделили нам сена-то только по разу на одну корову и на лошадь. На лошадь-то маловато одной деляночки… Работная она… Жрет много. Животность-то, она ведь такой народ… не понимает… ей сена подавай. Да чтоб на всю зимушку-зиму. Так вот, как же лошадь-то? Сенца бы ей… еще деляночку дали бы…
Слушая вкрадчивый, любезный, воркующий голос Мышкина, Александр Петрович одобряюще кивал, улыбался, а про себя давно уже решил: «Ничего я тебе не дам, а живность твоя не пропадет, сена и дров ты давно уже припас. А делянки нужны тебе для продажи… Хапуга!»
— Ну, а как с дровами у тебя?
Мышкин оживился, заметил улыбку на лице председателя и принялся размахивать руками.
— Теперь опять же дрова… Дали делянку и отобрали. Так что же это за номер такой?! Выходит, совсем не дали…
«Обиженный какой», — подумал Александр Петрович. Посмотрел на супругу Мышкина, одиноко сидевшую на диване, прислушивающуюся к разговору мужчин, приложив ладонь к уху. «Зачем она-то с ним пришла?.. В гости, что ли?»
— Дрова отобрали? — произнес вслух. — И правильно сделали! Сена вам положено, как всем. А на лошадь вы в состоянии прикупить. Живете вы, я знаю, хорошо… Да и сын помогает.
— Хорошо живем, хорошо, спорить нечего, слава богу, сын из Москвы подмогает, — Мышкин так и сказал «подмогает», — тыщу рублев. Как штык.
— А куда вы их деваете?
Мышкин смутился, не ожидал такого вопроса:
— Ды-ы… на хозяйство уходит. М-да!
— А насчет дров… — Александр Петрович привалился к столу, руки вытянул вперед, сцепив пальцы, — скажем честно… Вы же на лесопильном заводе работаете, кажется, ночным сторожем. И вам каждый месяц выписывают отходы.
Супруга Мышкина отняла руку от уха и выпрямилась.
— Это как же? Это не в счет! А я вот что вам скажу, Александр Петрович, председатель, обижаете вы нас… нам ведь, старикам, тоже пожить охота… — И она замолчала, хлопая глазами, прикрыв рот ладонью, потому что Мышкин громко крякнул: не лезь, мол, не в свое дело.
— Можете жаловаться куда угодно, а только я правильно решил, так мне кажется.
Мышкин замахал руками.
— Нет, что вы, дорогой Александр Петрович! Жаловаться… кхе… Свои люди…
Александр Петрович рассеянно посмотрел в окно. Там по улице, на зеленом дымчатом фоне тайги и гор, возвышающихся над избами, широко шагал председатель горкомхоза Иванчихин.
На солнце искрилась синяя полоска реки.
Обогнув запань, заваленную бревнами, в воду въехала подпрыгивая машина и остановилась.
Александр Петрович, строго блеснув очками, прищурившись на Мышкиных, проговорил:
— Дров я вам не дам. Сена на лошадь тоже.
Из кабины вышел шофер в трусах, с ведром и, нагнувшись, окунулся с головой в реке, а потом стал быстро наливать воду в радиатор и в боковую у кузова цистерну-патрон.
По бревнам балансировала худая, серая от пыли коза, пощипывая вкусную, клейкую от смолы кору… Мальчишки брызгали на козу водой, а она непонимающе поднимала голову, трясла бородой, жевала и только фыркала в свое удовольствие. Коза чем-то была похожа на Мышкина. А он стоял у стола, рассуждая вслух:
— Так, значит, так, значит… на лошадь сена нет. Дров тоже… Хм! Вот жаркие погоды пройдут… что тогда? Останется лошадь сиротой.
Александр Петрович раскрыл папку «Срочно» и на углу заявления аккуратно написал: «Выделить Козодоевой дрова — делянку Мышкиных». И усмехнулся, прочитав: «…что мой муж пьяница и ушел от меня, так это совсем другая запятая».
Мышкины заторопились.
— Ну, товарищ Александр Петрович, мы пошли.
Заметив, что председатель размашисто подписывает что-то толстым красным карандашом, они остановились в дверях.
— Так, значит, по нашему вопросу ничего?
Мышкины смотрели на Александра Петровича таким тяжелым, просящим взглядом, что ему захотелось выругаться, закричать: «Хапуги! Хоромники!» — но он сдержался. Мышкины наконец вышли и осторожно прикрыли за собой дверь кабинета.
«Ушли, ушли… Отняли время!»
«Отняли время или поработал с людьми?» Решил, что «отняли время». «Измором хотят взять черти!»
— «Сын подмогает», «сын подмогает», — произнес Александр Петрович вслух, подражая Мышкину, и ему стало весело, как мальчишке. — Деньги шлет им. В эту прорву. А Мышкины рады — крепнут!
О, это хитрый враг, с которым ему всю жизнь приходилось бороться. А Мышкины живы, не спрятались, окрепли. Это не равнодушный и не трусливый враг. Он даже чувствует себя хозяином, потому что знает законы, имеет свое уважение к власти, аплодирует чужим победам…
В далеком северном городе, где живет Александр Петрович, еще много обывателей, мещан с кулацкими замашками, со своей никому не известной второй жизнью, пьянством, драками, ночными грабежами, разводами, обманом, ленью на работе, стяжательством, страхом за свое добро — за избу с высоким частоколом, тяжелыми дверными замками, цепной собакой во дворе…
Ему не жаль времени, убитого на приемы, на разговоры, на разборы жалоб, — ему стыдно, что он не может единым взмахом разрубить запутанный узел двойной людской жизни. На это потребуются еще годы приемов, мыслей, бумаг, речей, заседаний, приказов…
«А самое главное, — думал Александр Петрович, — в том, что вместо изб и пыльных улиц здесь нужен новый город — город с многоэтажными домами, прямыми улицами, садами, дворцами культуры, школами, больницами, площадями; нужны заводы, рудники, леспромхозы с крепкими рабочими коллективами, овощные совхозы, животноводческие фермы, нужна культура… Да-а!»
Александр Петрович расстегнул ворот гимнастерки, набил трубку табаком, закурил, зашагал по кабинету и в такт шагам повторял пришедшие на память стихи:
Пусть шумит океан, Пусть ревет океан, Пусть вздымает он волны и кручи. Ты плыви, капитан! Ты люби, капитан…Он забыл последнюю строчку и остановился. «Кого люби?» Чьи это стихи? А-а-а! Васьки Макеева, начинающего поэта, про которого рассказывал Леонтов».
Вспомнился молодой очкастый парень с несуразным толстым животом — редактор городской газеты Леонтов, с которым были на слете охотников манси в далеком селе Буртанове. После слета охотились, ловили рыбу, ели свежую уху, пили водку. На обратном пути плыли по Лозьве на лодке. Леонтов опьянел, отчаянно кричал, подняв голову и упираясь шестом в дно:
Ты плыви, капитан! Ты люби, капитан…Он много раз повторял эти две строчки, прислушиваясь, как вдали по реке, между скалами и тайгой, катилось эхо: «Плыви-и! Лю-би-и-и!» И хохотал, захлебываясь словами, и с упоением кричал: «Слушай, тайга, гениальные стихи нашего местного поэта Василия Макеева!..»
…В дверь быстро и громко постучали.
Александр Петрович сел за стол и спокойно сказал:
— Войдите.
Вошла та самая женщина с кавказским лицом, которая встретилась ему на мосту утром. Тогда она была с малышом на руках и держала зонт над головой, а сейчас пришла одна. Стоя посреди кабинета и поправляя тонкими пальцами белый галстучек, она жестко спросила:
— Вы председатель?
И то, как она спросила, краснея от досады на себя за злую интонацию своего грудного, певучего голоса, и сам неожиданный приход ее заставил Александра Петровича смутиться. Он почувствовал за собой какую-то вину, хотя и не знал, какую именно.
— Да. Председатель. Садитесь, — произнес он тихо.
— Не сяду!
Черные косы ее закручены сзади в узел, а глаза, черные, удивленные, обрамлены густыми ресницами, и подбородок совсем не острый, как ему показалось утром, а круглый и вздрагивает.
— Слушайте, я не могу спать под открытым небом. Здесь не Кавказ, а Север. У меня малыш — мальчик. Я приехала к мужу. Он геолог. В гостинице мест нет. Все живут по броне. Дом приезжих полон делегатов конференции по животноводству — так мне сказали. Некуда вещи девать. Ребенка… в музее оставила, у директора Уварова! Что это такое? Извольте на улице жить! Странный принцип гостеприимства. Заходила в несколько изб — не у кого остановиться. Ломят такую цену за ночлег — удивляешься только! Скажите, это город советский или не советский?
Александр Петрович обиделся было, хотел громко крикнуть: «Советский!» — но взял себя в руки и снова предложил женщине сесть.
— Подождите, — нетерпеливо продолжала женщина, — я не все сказала. Муж меня не встретил почему-то. У него, наверно, срочные дела — уехал в экспедицию. А в управлении треста «Руда» не говорят, где сейчас находится мой муж. Секрет! Мой муж засекречен! Я и в музее узнавала о муже у директора Уварова. Муж писал мне об этом хорошем человеке. Но и Уваров, к сожалению, не знает. Я догадываюсь… Наверно, экспедиция открыла руду, а мой муж специалист по железным рудам. Он ведь сейчас где-то недалеко, за чертой города. Иначе как мог он приезжать к Уварову чуть не каждый день?! — Женщина глубоко вздохнула и посмотрела по сторонам. — Мой муж — геолог Коноплин. Маро Азарян — моя фамилия.
— Товарищ Маро Азарян, садитесь.
Женщина села и доверительно, виновато посмотрела в глаза Александру Петровичу.
— Значит, у вас два вопроса: жилье и муж, — сказал он скорее самому себе, чем женщине, и стал писать на форменном бланке отношение в гостиницу.
«Стыдно за город, — думал он, — если у приезжих в первый же день возникает чувство обиды на все плохое, что здесь есть. Конечно, она права, что с обидой пришла именно ко мне. Интересно, какая у нее профессия? Человек боевой по характеру, настойчивый, неглупый. Такие городу очень нужны. Вот муж руду открыл. Значит, будет еще один новый рудник, новый рабочий коллектив. А почему я не слышал раньше о Коноплине ничего? Ах да, он засекречен!»
Александр Петрович незаметно, закрыв ладонью лицо, усмехнулся, поставил точку и расписался на бланке.
— Квартирный вопрос я могу решить, — сказал он, вздохнув облегченно, — а вот с мужем… дело сложнее. Советую вам снова сходить в управление треста «Руда», сообщить в отдел экспедиции о своем приезде. Они обязаны известить мужа. Ну, не беда, если дня два вам придется подождать, пока он приедет.
Женщина кивнула головой, закрыв глаза, улыбаясь красивыми тонкими губами.
— Ну вот и все. Я погорячилась, накричала, простите, не могу спокойнее. Ехала, мечтала о встрече, об этом новом для меня городе, думала — все будет хорошо, как муж писал. Ну, ничего.
— А вы… кто по профессии? — спросил Александр Петрович.
— Инженер-металлург. Маро Азарян моя фамилия, — повторила она зачем-то. — Думаю, что скоро мне здесь работа найдется. До свидания, товарищ…
— Александр Петрович!
Азарян пожала руку председателю. Александр Петрович хотел сказать ей: «Сегодня сплав. Приходите посмотреть», — но она уже ушла.
«Ушла… — вздохнул он грустно, — пришла и ушла. Накричала. Так и нужно. Правильно».
Зазвонил телефон. Александр Петрович снял трубку и услышал голос жены.
— Это я, Александр Петрович, Зина.
— Зина, что ты?
— Саша, обед-то давно готов! У тебя дела, да? Я жду-жду… Опаздываешь.
— Приду, приду я. Как там Лина?
— Лина сидит за столом. Мы с ней окрошку сделали — очень вкусная! Лина хочет уезжать к себе в Свердловск.
— Как уезжать?! Ведь каникулы еще не кончились.
— «Скучаю», говорит.
— Ну, «скучаю»…
— А как же. Днями одна и одна. И купаться ходила, и книги читала, и спала. Места, говорит, себе не нахожу… Жизнь, говорит, у вас тут однообразная… Кончу, говорит, институт, в большом городе останусь жить, к вам не приеду. Это дочь-то мне в глаза.
— Ну что ж. Пора ей и одной пожить. А куда пошлют ее работать — это еще неизвестно. Комиссия скажет.
— На тебя надеется: папа, мол, поможет.
— Глупо и наивно, так и скажи ей.
— Ты, Сашенька, какой-то черствый к дочери. Она еще молода. У нее свои планы на жизнь. Поживет — оботрется, остепенится.
Александр Петрович слушал жену, злился на себя, что не может оборвать этот длинный, неприятный разговор в служебное время. Не может потому, что обеспокоен судьбой дочери, ее внезапным решением уехать в Свердловск, что вот сейчас отчетливо понял: дочь уже взрослая и вправе сама решать свою судьбу. Увы, Лина все больше и больше отдаляется от него. А он ее любит. Любит за то, что она гордая, умная, красивая, за то, что она его дочь. Но Лина теперь сама по себе, и он уже не может на нее повлиять.
— Говорит: «Мама, я уеду. Здесь и парней-то порядочных нет! Скушно…»
— Как ей не стыдно. Уездная барышня. Так ей и скажи. А ты тоже хороша… Потакаешь ей во всем… до пошлости.
— Саша, Сашенька… Ну разве можно так грубо со мной?!
Решение дочери уехать огорчило Александра Петровича. Вот и опять они с женой останутся одни…
У жены был испуганно-печальный голос; Александр Петрович слушал ее внимательно, ему было жаль ее, и он не хотел, чтобы в эту минуту кто-нибудь вошел в кабинет.
Но на пороге появился Иванчихин — высокий тридцатилетний мужчина с большой круглой головой на длинной шее. Он вошел без стука и остановился как вкопанный, одернул белый полотняный китель с железными пуговицами и опустил руки до колен, чуть сгорбясь, будто кланяясь, разглядывая носки поношенных кирзовых сапог.
Глядя в серые немигающие глаза Иванчихина, на его пухлые бритые щеки и редкие усы под большим носом, Александр Петрович отнял трубку от уха и резко спросил:
— Спешно?
Иванчихин широко улыбнулся толстыми губами, пожал плечами и неопределенно покачал головой:
— Да… не очень, чтоб уж очень.
— Покури пока!
Александр Петрович снова заговорил в трубку, называя жену по имени и отчеству:
— Зинаида Тимофеевна, может, она больна?
— Да нет.
— Ну пусть займется чем-нибудь полезным.
— Нет, нет, что ты, Саша, пускай отдыхает, как ей нравится. Шутка ли — такие экзамены с плеч свалить.
Александра Петровича рассмешил испуганный голос жены, и на ее вопрос, скоро ли ждать его к обеду, он досадливо ответил:
— Некогда, скоро… — и повесил трубку, а сам подумал: «Про ссору забыла… Ну и характер у моей жены — незлобливый, тихий. Ах, Зина, Зина, заботливая ты моя». Затем закрыл глаза, откинувшись в кресле…
Был молодым, двадцатичетырехлетним, вернулся с гражданской войны на село, агитировал за советскую власть. С парнями бродил по деревне, пел революционные песни, частушки. Однажды за селом подкрались сзади кулаки, ударили чем-то тупым, железным по голове. Запомнился глухой, ехидно-радостный голос: «Вот тебе и совецка власть, Александр Петрович!» Бросили в придорожную канаву.
Очнулся ночью же. Увидел над собой живые черные девичьи глаза и почувствовал мягкую ласковую руку на щеке. Рядом скулила собака, бегая вокруг телеги. Фыркала в темноте лошадь. Девушка платком перевязала голову, повезла куда-то. На вопрос: «Как звать-то?» — вздрогнув, громко ответила: «Зина, Зина я! Лежи знай…»
Зина, Зина!
Был молодым, дышал ночами полной грудью, бродил вместе с Зиной в сосняке, курил дешевые папиросы, надушенные одеколоном, — хотел понравиться. Приходил к ней из своего села. Она склоняла на плечо голову с косами. Дрожал, боялся частого стука сердца, берег ее. А потом, позже, целовались у ее дома до утра, а она плакала от счастья, молодая, горячая.
Такой она и запомнилась… С такой вот и жил всю жизнь… «Вздорим сейчас из-за пустяков, видно, стареем оба».
…Иванчихин курил, отвернувшись к окну. Александр Петрович любил этого веселого, добродушного человека за простоту, за молодость, за то, что он хороший работник.
«Вот и сейчас — Иванчихин сидит в стороне, не знает, что думаю о жене, не мешает… Это оттого, что человек он хороший, свой, и я его люблю».
— Садись, Иванчихин, поближе.
Завгоркомхоза сделал строгое лицо — привычка перед деловой беседой, — подсел к телефону, положил руки на стол; в одной руке химический отточенный карандаш, в другой — зажатая, согнутая пополам ученическая тетрадь.
«Белый китель, а пуговицы не почищены. Стирал, наверно, поржавели чуть-чуть от воды. Эх ты, холостяк! О книжном магазине пока умолчу».
— Ну, что там у тебя, горкомхоз — исполнительный орган? Давай.
Иванчихин поглаживал ладонью круглый белый лоб и произносил слова скороговоркой, будто заранее выучил их:
— Значит, во-первых, думал я насчет книжного магазина. Знаете… решил освободить дом рядом, в котором винный склад. А? Помещение сухое, светлое, окна в сад, двери на улицу. Я даже сам обрадовался, что так быстро нашел. А под вино книжный подвал в самый раз. А?
— Ну вот и решили. А то тебе все бы строить и строить, да обещать… Книжки, небось, читаешь? Ну вот. Ближе к делу. Слушаю.
— Значит, очистили дно Старицы на поселке бывших приисков. Значит, результат — там теперь купаются дети… А также очистили колодцы. Теперь есть на них крышки, привешены бадьи. Санинспекции нечего делать. Комар носа не подточит. Вот. А?
Александр Петрович кивнул головой и про себя отмечал: «Дальше, это я уже знаю. Говори, что тебя тревожит?»
И, как бы угадывая его мысли, Иванчихин, вздохнув, наклонив свою большую голову набок, начал рассказывать о строительстве моста через Пузыриху, о том, что рабочим теперь не придется делать большой крюк — обход, о том, что ему, Иванчихину, хочется с мостом закончить быстрей, да вот материала явно не хватает.
«Всегда так: начнет с мелочей, а подведет разговоры к главному. Молодец парень».
— Предъяви требование горпромкомбинату: обеспечить строителей лесоматериалом, штакетником, горбылями, кирпичом, известью и… что там еще?
Иванчихин засмеялся радостно и откровенно и тут же вдруг сжал толстые губы.
— Правильно, Александр Петрович, я уже об этом думал. Вот заявка, — и положил на стол лист бумаги.
— Давай подпишу. Да! Сегодня сплав. Строительство моста приостанови пока, сними с моста бригаду — пошлешь к Григорьеву. Всех рабочих на сплав. И сам туда же — понаблюдай…
Иванчихин нахмурился думая и недовольно замахал руками:
— Сплав, сплав… Это дело второе. Проплывут бревна — и все тут. А мост… мост-то стоять будет!
— Подождешь денечек. Чудак ты… Все равно сплав работать не даст. Глазеть будут работнички. Да и осторожность нужна. Пороги на Пузырихе… Затор мост покалечить может. А вот заявку с удовольствием подпишу. И нам с тобой ведь лес нужен. Обещал тут мне один человек… твердо.
Александр Петрович, читая заявку, слушал Иванчихина, который между делом говорил о решении горисполкома открыть согласно наказу избирателей сберкассу на Северном руднике, и отвечал, подписывая заявку:
— Подождут. Деньги некуда девать? Пусть дома полежат… Вот с мостами закончим, займемся кассой.
Иванчихин удивленно вскинул глаза, произнес «м-м», подумал о чем-то, погладил лоб.
— А ведь вы не правы, Александр Петрович!
— А?
— Как подождут? Как дома полежат?
— Что? Кто?
— Деньги-то! Они должны в кассе, в кассе у государства, как за пазухой, лежать! Так сказать, значит… с большой пользой, в движении.
— Что?
— Деньги.
— В кассе?
— Да, да.
— Знаю, знаю. Ишь, вскипятился, страж закона. Мост, рабочие — главное сейчас. Что, бросим все это и займемся кассой?!
— Да нет… Если параллельно, так сказать… одновременно.
— Ух ты какой? Ну, а что ты предпримешь в таком случае?
— Подумаю, Александр Петрович!
— Что ж, подумай.
— И вот что еще… — продолжал в такт председателю горисполкома Иванчихину, стараясь заполнить каждую паузу в разговоре. — А что, если все ларьки и киоски с берега перенести на базарную площадь?.. А то уж очень их много — целая улица…
— Давай, договорились, не возражаю. Давно пора, это ты правильно подметил.
Александр Петрович повеселел, встал, заходил по кабинету.
А Иванчихин уже что-то торопливо записывал в свою сложенную напополам школьную тетрадь. Он писал, не поднимая головы, будто оцепенев или уснув, и только рука его с химическим карандашом бегала по бумаге.
Александру Петровичу было приятно смотреть на его согнутую широкую спину, приятно сознавать, что горкомхоз Иванчихин — честный человек и хороший работник.
«Вот начнем скоро строить помаленьку новый город, крепкий, белокаменный. Сможем ли? По плечу ли будет это дело Иванчихину и мне?»
Иванчихин обернулся, заторопился, намереваясь что-то сказать.
Александр Петрович сам себе ответил: «По плечу». Подошел к нему близко.
— Слушай, когда ты женишься?!
— Я? Я женюсь… — Иванчихин рассмеялся. — Я, Александр Петрович, сватаю деваху в одной кержацкой семье, сватаю по их обычаям… Крепкий и хитрый народ, кержаки эти, старообрядцы… Прицениваются, выжидают.
— Ну, а дочь сама-то что?
— Да-а… Она, знаете, тоже… Неопределенный народ. И хочется, и колется.
— Как же будешь жить с ней?
— Жить просто будем — работать.
В кабинет вошел новый человек. По тому, как он, вздохнув, остановился на пороге, посмотрел по сторонам и не спеша прикрыл двери, было видно, что очень устал. Невысокий, щуплый, почти совсем еще юноша, он как-то растерянно улыбнулся, подходя к столу; спина синего плаща в репейнике, пыльные по́лы, на одном плече соломинки — видно, долго ехал на грузовой машине.
— Я из Москвы, — просто сказал он.
Александр Петрович прищурился, разглядывая москвича, пытаясь угадать его профессию по недорожной одежде, по красивому бледному лицу. «Писатель, корреспондент?» Вытянутой рукой он указал на кожаное кресло:
— Садитесь, будем знакомы.
Юноша знакомился, крепко сжимая ладони Иванчихину и Александру Петровичу, кивая в ответ на произносимые фамилии и должности, говорил оживленно:
— Был только что у заведующего отделом здравоохранения. Я детский врач, педиатр. Окончил Московский медицинский институт. Как молодой специалист, направлен к вам в районный город, в ваше распоряжение.
— Так, так. Очень хорошо!
Александр Петрович придвинул коробку с табаком, папиросы.
— Курите. — И, услышав «сейчас не хочется», почувствовал к детскому врачу невольное расположение. «Новый человек. Врач. Приехал к нам, на Север. Та-а-к! Молодчина парнишка». Он хотел спросить: «Комсомолец?» — но раздумал.
Иванчихин осведомился.
— Ну, как Москва там?
— А что Москва? Очень большой и красивый город. Конечно… Но специалисты и здесь нужны.
Александр Петрович задумался вслух:
— Врач. Детский врач. Детей, значит, будете лечить… Хорошо, хорошо. — И решительно проговорил: — А куда направить вас, молодой человек? Конечно, туда, где больше детей. Детей всюду много. Например, на рабочем поселке рудника. Но там есть специалист по детским болезням. Или оставить вас здесь в городе?.. В городской больнице крепкий коллектив… Да. Раз уж вы не побоялись приехать сюда, на Север, пошлем в район.
Молодой врач сказал Иванчихину, с которым разговаривал, «извините» и повернулся к Александру Петровичу:
— В район? Хм! Ну что ж… Согласен.
Александр Петрович с удовольствием отметил, что приезжий начинает ему все больше и больше нравиться. «Открытая душа, чистая… Молодость. Хорошие ребята пошли. Спервоначалу-то хорош, посмотрим, каков будет на работе».
— Есть у нас такое село Буртаново. Это, знаете, за девяносто два километра отсюда. Там живут манси. Хороший народ, древний, гостеприимный. Охотники, оленеводы, рыбаки. Не ошибусь, если скажу, что дети в жизни — самое главное. Вот я бы посоветовал вам съездить в это таежное мансийское село, посмотреть, как и что…
Молодой врач слушал председателя горисполкома с интересом; лицо его раскрылось в улыбке, он оживился, когда Александр Петрович сказал, что в Буртанове имеется большая школа-интернат, одна из шестнадцати школ типа интернатов, открытых для детей народов Севера, учиться в которую приезжают дети манси со всей округи.
— Обязательно должен поехать туда — посмотреть, — произнес врач громко и радостно, как мальчик. И даже привстал.
— Вы один или… — Александр Петрович хотел спросить прямо: «Женаты?» — но счел это неуместным и про себя подумал, что молодой врач, может быть, и есть тот «жених», о котором мечтает Лина, и что парень он, видать, неплохой… и даже родня по профессии… Наивно, а между тем все может быть.
Врач понял вопрос, смутился и промолчал.
Иванчихин собрался уходить. Александр Петрович остановил его жестом и, обращаясь к приезжему, проговорил:
— Туда ежедневно курсирует машина. Свой пикап я вам не могу предложить — занят. Поезжайте на грузовике, с народом, так сказать, округу посмотрите, пейзажи. Понравится Буртаново — оформим, и будете работать. — И как бы между прочим, поправляя ремень и одергивая гимнастерку, добавил: — А знаете… у меня Дочь Лина в этом году тоже кончает медицинский институт.
Иванчихин и врач рассмеялись, потому что получилось это искренне и по-детски, потому что была очень понятна наивная гордость, с которой была произнесена эта фраза.
Александр Петрович, недоумевая, заморгал, припомнил сочетание слов из фразы «у меня моя…» — и тоже рассмеялся, довольный тем, что ему нисколько не стыдно и что совсем не чувствует неловкости в обществе этих двух молодых, приятных ему людей.
За стеной, в приемной, послышался звонкий кудахтающий бабий выкрик. Александр Петрович узнал голос «тетки Гарпины с Украины», как ее шутливо прозвали. Она работает в детском саду завхозом. Ее образцовые огороды приходили смотреть жители всего города.
Гарпина, наверно, явилась с одной из своих бесконечных огородных жалоб.
Все трое прислушивались к шуму за стеной.
— Ты что же это, а? Милая, а? Мой Грицько наилучший ударник — на сплаве лес гонить… А ты мне — иди домой! Домой я всегда успею. Ты мне соседку, соседку мою успокой. Вона меня на усю вулицу крыцикуеть!
После паузы послышался вежливый, виноватый от растерянности голос секретарши, смущенной неожиданным приходом и формой обращения Гарпины.
— Зачем беспокоить Александра Петровича, отнимать время. По этому вопросу, тетя Гарпина, вам нужно обратиться в уличный комитет.
— Комитет! Комите-ет! Вон на покосе весь… Воны не поможуть… Я их разозлила, комитетчиков твоих… трошки раскрыциковала.
Александр Петрович ждал, что вот она войдет сейчас в кабинет, громко постучав, тихо откроет дверь, протиснется боком, встанет на пороге, готовая начать шумную атаку.
Но дверь не открылась, а за стеной после паузы повеселевшая отчего-то Гарпина примирительно и значительно произнесла:
— Ну, я ж завтра приду. К самому ему. Ось тогда и поговорим!
Иванчихин хохотал, прикрывая рот ладонью. Врач слушал голоса за стеной с серьезным выражением лица. Александр Петрович чувствовал себя неловко, будто в чем-то провинился. Поднялся и вышел за дверь, оставив в кабинете Иванчихина и врача. В приемной никого не было, кроме секретарши, сидевшей за машинкой. Поправляя рыжие завитки волос, спадавших на лоб, секретарша пудрилась перед зеркальцем.
— Что, никого больше нет на прием?
Секретарша почему-то покраснела, спрятала пудреницу, развела руками.
— Никого. Последняя ушла… тетя Гарпина.
— Что же не пустили ко мне?
— Да ведь вам обедать пора.
Александр Петрович посмотрел на часы. «Четыре! Обедать пора. Гарпину не вернуть — ушла. Ну да грозилась завтра прийти. Придет».
Он вернулся в кабинет.
Иванчихин и молодой врач попрощались и вышли, оживленно разговаривая о районе, плотно закрыв за собой дверь.
Александр Петрович долго смотрел на телефонную трубку, потом осторожно снял ее, приложил к уху и, позвонив домой, услышал отдаленный треск, длинные звонкие позывные. Кто-то снял трубку. Донесся смех Лины, потом жена подошла к телефону, вздохнула тяжело; и это дыхание, так хорошо ему знакомое, кольнуло, как показалось, в самое сердце. Александр Петрович мягко спросил:
— Зина?
Услышав обиженный голос жены, он грустно подумал, что она совсем закружилась с хозяйством, что надо бы ее как-то разгрузить, дать ей отдохнуть. И решил, что дома скажет ей что-нибудь хорошее, успокоит и обязательно решит вопрос относительно ее отдыха.
Поговорив по телефону, Александр Петрович откинулся в кресло и почувствовал, что устал. «Четыре часа. Ушло время, ушли люди. После обеда собрание избирателей; потом на рудник — жалобу рабочих разбирать, проверить распределение квартир. На конференцию животноводов завернуть — что там? А главное — сплав». Он вспомнил слова Протасова: «Подыщи знающего человека». Сам поеду! Нажал кнопку. Вошла секретарша, остановилась у порога.
— Шофера ко мне. Списки работников… кто где. Разнарядку, в общем.
Собрав бумаги со стола, он положил их в стол; высыпал окурки из пепельницы в корзину, встал, расправил плечи.
— Еду на Кименку, на перевалочный пункт. Оттуда на Пузыриху — запруду ставить. Кто будет спрашивать — я на сплаве. Да… позвоните от моего имени начальнику милиции, пусть вышлет отряд на берег. Сегодня сплав.
3
На улицы города опустились северные сумерки. От земли веяло прохладой, и только камни, нагретые солнцем за день, были горячи.
По берегам и над рекой плыл белесый редкий туман, над тайгой колыхалось марево — как бы струились в небе пышные верхушки деревьев.
Избы, мосты, лежневые дороги, река, берег будто погрузились в синий воздух, отчего кедры, сосны, черемуха казались светлыми и легкими.
На берегу уже не было полдневной жары, тишины и дремы, а желтые заборы и стекла окон, освещенные солнцем, не кололи глаза. Не пылили машины. За день пыль осела, рассеялась по щелям, и теперь земля была чистой и прохладной, как после дождя.
Можно стоять на берегу, ходить по дощатым тротуарам, смотреть на реку, мост, на людей в праздничных одеждах, слушать их голоса, пение, музыку, радио, доносящиеся из открытых окон домов, и предаваться тихому вечернему настроению.
Сегодня мимо города по реке должен пройти сплав леса. Значит, откроют плотину, поднимут воду.
Как по уговору, жители города сошлись на берегу, на мосту — посмотреть, как прибывает вода, как направляемые сплавщиками плывут бревна и плоты и как теряются за последними избами, где виднеются лесозавод, склады, железнодорожная станция…
В городе музыка, пение, шум, сутолока. По тротуарам прохаживаются парни и девушки. На площади — открытой поляне — под кедрами играет военный духовой оркестр.
К Дому приезжих, к стоянке машин подкатывают по лежневке грузовики. Из кузова спрыгивают на землю пассажиры — лесорубы-сезонники, геологи, мотористы леспромхоза, сплавщики — и разбредаются по городу.
У старого деревянного здания с колоннами — городской гостиницы — глухо рокотал мотор грузовика с высокими бортами. Машина вздрагивала, и казалось, вот-вот подпрыгнет и покатит. Возле нее суетились пассажиры, уезжавшие в район. Шофер, облокотившись на радиатор и покуривая, наблюдал за молодым парнем в щеголеватом плаще и шляпе, который неумело подсаживал в кузов миловидную девушку в пестром платье.
Александр Петрович узнал молодого врача и улыбнулся. Девушка взвизгивала и боялась закинуть ногу за борт. Врач встретился взглядом с Александром Петровичем и быстро направился к нему.
Александр Петрович стоял поодаль от моста, молчал, посматривал, слушал музыку. Рядом с ним — жена и дочь, взявшись под руки, как подруги.
Утреннее раздражение на жену и дочь давно улеглось. Он вернулся с запруды запыленный, в промокших сапогах, от усталости выпил стакан нарзана, плотно поужинал, повеселел, раскраснелся. «Ты помолодел у меня, Саша!» — похвалила жена. «Идемте смотреть на сплав. На берег», — позвал Александр Петрович. Жена сказала: «Ты гимнастерку-то сними — жарко, да и живот больно виден».
Александр Петрович надел просторную белую рубаху с открытым воротником и черные брюки. И вот стоит сейчас на берегу рядом с женой и дочерью, смотрит на людей, кивает знакомым, курит трубку — и снова чувствует себя молодым и здоровым.
Подошел врач, держа в руках шляпу, и, поклонившись всем, скромно встал в стороне. Александр Петрович взял его за руку.
— Зинаида Тимофеевна, Лина, знакомьтесь. Товарищ приехал к нам работать. Врач, из Москвы.
Лина вскинула голову, подняла брови, картинно прищурилась, как будто оглядывая молодого человека сверху вниз: ничего похожего на врача в нем нет.
— Правда? Ой, не подумала бы. Такой молодой и уже окончил институт, и уже приехал сюда прямо из Москвы. Как это вы решились?
Врач смущенно улыбнулся:
— Что же тут такого. Все очень просто. Направили сюда, да и, признаться, сам того желал…
И он вполголоса заговорил о том, что его жизнь только начинается, что Москва всегда с нами, что работу и жизнь нужно начинать там, где нужны молодые специалисты, что жизнь надо создавать самому. Похвалив город, тайгу, здешних людей, он неожиданно добавил:
— Александр Петрович говорил, что вы в этом году тоже кончаете медицинский институт.
— Да.
Александр Петрович сделал вид, что ищет трубку и отошел с женой в сторону.
До них долетали обрывки разговора о городе, тайге, сплаве, о Москве и диссертации, над которой врач будет работать. А когда разговор перешел на медицину и послышались непонятные латинские названия и Лина вскрикнула радостно громко, убежденная в своей правоте: «Да нет же, уверяю вас…» — Александр Петрович усмехнулся. Он был доволен, что молодые люди так быстро нашли общий язык.
Послышался протяжный гудок машины. Он относился к врачу, забывшему о том, что пора ехать, что пассажиры ждут только его.
Свесившись с борта и махая белым платком, громко срываясь на фальцет, тучный, краснощекий мужчина с планшетом через плечо кричал:
— Молодой человек! Молодой человек!
Шофер сидел в кабине и равнодушно смотрел поверх руля: «Ничего, подождем».
Врач заторопился и, пожимая руки, внимательно заглядывал каждому в глаза.
— Ну, до свиданья.
Лина кивнула головой, прошептала беззвучно:
— Счастливого пути. — И когда врач побежал, произнесла громко, с обидой, обращаясь к отцу: — Наверно, он хороший человек. — И в ее близоруких глазах вспыхнул какой-то веселый, злой огонек.
— Здешние парни не по тебе, — стараясь быть спокойным, произнес Александр Петрович.
Дочь поняла насмешку и покраснела. Зинаида Тимофеевна что-то говорила Лине, прильнув к ее плечу, и Александру Петровичу было печально смотреть на седые волосы жены, на ее грустные молодые глаза, на дочь — красивую, гордую, которая стояла выпрямившись, откинув голову и, слушая мать, кивала ей.
— Смотри, Лина. Молодой человек на тебя внимание обратил. Видишь?
Дочь покраснела и расправила воротничок платья.
— Ну и что же…
Александр Петрович взглянул в ту сторону, куда кивнула жена.
Позади группы людей стоял веснушчатый парень в коротком пиджаке, заложив за спину руки с книгой, и смотрел куда-то поверх голов, на небо. Александр Петрович узнал местного поэта Василия Макеева и повторил про себя: «Кавалеры, кавалеры…»
По тротуару прибрежной улицы двигалась подвыпившая компания. Женщины вели под руки молчаливых, спотыкающихся мужчин и пели песни на высоких нотах, стараясь кричать во всю мочь, чтоб было громче и, очевидно, красивей.
От гостиницы тихо отъехал пассажирский грузовик. Александр Петрович встретился взглядом с врачом, тот сидел рядом с девушкой, которой помогал сесть в кузов. Прощаясь взглядом, врач кивнул головой: «Все в порядке. Уезжаю».
Лина провожала взглядом грузовик, не поворачивая головы, задумавшись о чем-то, и когда машина въехала на мост и подпрыгнула на загремевших бревнах настила, вздрогнула и неестественно улыбнулась.
Александр Петрович обнял дочь и словно между прочим спросил:
— Ну, а ты, Лина, решила свои вопросы?
— Какие?
Александр Петрович добродушно засмеялся:
— О работе в нашем городе.
— Ну, папа. Какой ты… Вот мама сказала: сначала нужно окончить институт…
— Мама, мама. Все за юбку держишься. Ну, а ты… сама. Несерьезная ты… легкодумная какая-то…
Лина нахмурилась и промолчала.
И по тому, как Лина нахмурилась, и от того, что она не ответила на его вопрос, Александр Петрович почувствовал уверенность: со временем Лина станет проще, естественней, ясней и сама определит свою судьбу… У нее еще все впереди.
— Ну, ладно, Линок, не серчай. — Александру Петровичу показалось, что Лина обиделась на него, и, чтобы скрыть неловкость, он начал говорить мягче и задушевней: — Вот ты грамотный, самостоятельный человек. И, конечно, тебе обидно будет жить и работать здесь, в глуши, где на первый взгляд кажется, нет большой, интересной жизни, о которой ты мечтаешь. — Он замолчал, обдумывая что-то. — А эта большая жизнь зависит от тебя самой…
— Говори, говори, папа. — Лина вскинула брови, замерла, прислушиваясь, будто готовясь защищаться.
— Когда торопишься, глаза разбегаются. Жизнь одна, и хочется ее получше прожить. Хочется сделать много и везде побывать, хочется, чтоб все о тебе знали. И нам кажется, что большая, интересная жизнь проходит где-то в больших, многолюдных городах, рядом со знаменитыми людьми. — Александр Петрович не спеша снял ниточку с плеча дочери. Лицо его посуровело. — А ведь это… смешно! Ведь всюду жизнь, всюду труд, и хорошие люди рядом с нами.
— Понимаю, — сказала Лина.
— Нужно только бережнее относиться к ним и меньше любить самого себя.
Александр Петрович боялся, как бы все, что он говорил, не показалось Лине скучным и наивным. Помедлив немного, он заключил:
— Линок, я бы смог эти золотые последние годы прожить легко, на покое… Но мне было бы трудно сознавать, что большая, могучая, настоящая жизнь проходит мимо меня…
Машина проехала мост, свернула за угол книжного магазина и скрылась меж изб, где дорога, опоясывая гору, поднималась вверх, к небу.
Счастливого пути. Уходят дороги на рудник, на Кименку, в леспромхоз, на Буртаново. Там кончается лежневка, а дальше — таежные мансийские поселки, до которых нужно добираться по реке, тайгой, тропинкой в горах.
Там горные увалы и таежные болота, там живут манси-охотники и оленеводы. К ним и поехал врач-москвич.
Это где-то там, далеко, в тайге.
А здесь, в городе, стоял народ, шумел, ходил, переговаривался, пел…
За городом, где над избами поднимались таежные горы, образуя у реки синюю щель с отлогими скалами, раздался выстрел. В небе гулко отозвалось эхо. Казалось, сдвинулись и осели горы и выпрямились избы города.
Все на берегу вздрогнули.
Александр Петрович произнес: «Так» — и достал трубку.
Выстрел обозначал, что открыли плотину, пустили воду, и сейчас начнется сплав леса.
Река, как и прежде, равнодушно плыла меж берегов, отражая в себе серые избы. У самой кромки воды попарно стояли милиционеры в белых перчатках.
Жители сгрудились у берегов, группами бродили по улице, стояли на мосту и у домов, разглядывали безмятежный простор темной речной поймы — ждали сплав, наблюдая за прибывающей водой.
Босоногие мальчишки бежали по камням, боясь отстать от широкой волны, которая катилась от берега до берега, неся с собой пену, щепки, ветки сосны и березы.
Начался сплав.
Александр Петрович подошел ближе к берегу. Рядом с ним встала незнакомая женщина в белом платье, держа за руку белобрысого малыша, который тянул ее за собой и рвался к воде, где стояли милиционеры.
Александру Петровичу отчего-то захотелось заглянуть женщине в глаза. Он шагнул вперед, взглянул на нее и узнал приезжую.
«Кавказское лицо с круглым подбородком и грустные черные глаза. Маро Азарян», — вспомнил Александр Петрович, обрадовавшись встрече. Правда, теперь глаза у нее веселые, и вся она радостная, светлая, красивая в этом белом платье.
Мальчик тянул ее за руку.
— Коля, стой спокойно, — проговорила она певучим, приятным грудным голосом.
— Мам, мам! Река-то… А что сейчас будет?
Александр Петрович погладил малыша по голове и ответил за мать:
— Сейчас лес пойдет… Бревна будут плыть.
— Какие бревна? Вот такие, как столбы, да?
Женщина и Александр Петрович рассмеялись.
— Коле все здесь так интересно.
Александру Петровичу было приятно стоять рядом с Маро, молодой, красивой, радостной, и он даже пожалел, что уже не молод.
— Ну как, устроились с жильем?
— Да. Спасибо. Комнатка в гостинице уютная. И недорого.
— Ну, а мужа нашли?.. Встретились?
— Нет пока… То есть… ему сообщили о моем приезде. Завтра жду…
Они помолчали.
Александр Петрович спросил:
— Ну, как вам… наш город?
Женщина продолжала все тем же певучим, приятным голосом:
— Ничего городок. Грязный только… Несуразный какой-то. Жара, некрасивые улицы, пыль… Пора строить хорошие многоэтажные дома, как в других городах, знаете. У вас деревянная архитектура прошлого века — изба, забор, огород… Чего хорошего? А правда, что строить будут здесь металлургический завод-комбинат?
Александр Петрович кивал, слушал, удивляясь, что приезжая говорит то самое, о чем он думает каждый день.
— Правда! Вот видите — сплав?! И новый город строить будем.
Вынырнули первые бревна. Они плыли, переворачиваясь с боку на бок, приставали к берегу, а на быстрине, где бурлила вода, неслись во весь опор, раздвигая воду тупыми концами.
Женщина и малыш отошли в сторону.
Александр Петрович задумался о разговоре с Маро.
«Ничего. Скоро и бревна поплывут, а по дорогам и стальным путям понесутся машины с цементом и железом, платформы с бетоном и шлакоблоками».
На миг он представил себе новый город: высокие каменные дома, прямые улицы, фонтаны, площади — и на душе у него стало радостно и легко: «Дожить бы!»
На минуту смолкли голоса на берегу. По тротуару степенно двигался детский сад — группа малышей. Держа друг дружку за руки, они разноголосо пели песню, несли красные флажки, поспешая за тетей Гарпиной.
Александр Петрович невольно улыбнулся:
— Ишь, потопали, граждане, — и посмотрел на реку.
За первыми бревнами появились плоты; тяжелые, скрученные, они, покачиваясь, бороздили воду, и вся река заполнилась лесом — будто широкая, мощенная бревнами улица двигалась по воде вперед, вдаль.
Плотовщики с баграми направляли лес, плоты уверенно ходили по бревнам.
Одетая в новое платье, Гарпина махала большим платком и кричала первому плотогону:
— Грицько! Грицько! Коханый мой…
Дети недоуменно остановились и замахали флажками…
Александр Петрович дышал полной грудью, хмурил, улыбаясь, брови, весь подавшись вперед — туда, к плотогонам, к лесу, к реке, чувствовал, как сильно бьется сердце при мысли о новом городе.
«Да, так и жизнь — как сплав. На пороге запруды ставят, воду поднимают, а мачтовый лес идет вперед, без удержу рвется вперед, вдаль. Бревна ударяются о берег, роют землю, бьют комлями о камни, грохочут… Без плотогонов, без широкого пути — затор, беда».
В воздухе стало свежо от прибывшей воды, от разлившейся, разбухшей по краям реки, от леса, оттого, что за гору колесом закатилось огромное тускло-желтое солнце, и над синей тайгой, как зарево лесного пожара, охватила полнеба вечерняя холодная заря.
Слышались надсадные мужские и звонко-радостные мальчишеские крики:
— Лес идет! Спла-ав! Берегись! Ура!
Шум, пение, беготня, голоса людей, треск, удары бревен друг о друга, всплески воды слились воедино. И Александру Петровичу казалось, что сердце его стучит в такт этой могучей музыке жизни.
Подошли жена и дочь. Со словами: «А мы тебя потеряли», — встали по бокам, взяли его под руки.
Бревна на перекатах бились о камни, ворочали их. Сдиралась кора, летели щепы.
Ты плыви, капитан! Ты люби, капитан!..Дочь повернулась, недоумевая, удивляясь громкому шепоту отца, спросила:
— Это откуда, папа?
Александр Петрович обнял ее, рассмеялся.
— Это, Лина, Василий Макеев!
Он посмотрел по сторонам — на людей, с которыми жил, на лес, который плывет и плывет откуда-то с севера, где живут манси, куда уехал молодой врач-москвич, — и вдруг увидел Мышкиных. Они стояли в стороне, вздрагивая от гулких ударов бревен, глазея на народ, на сплав, на реку, на берег, и молчали, крестясь на старый северный город.
Александр Петрович с радостью подумал, что в его городе много и хороших людей, что они сейчас рядом с ним здесь, на берегу. И город этот — свой, любимый, родной город, потому что в нем живут эти люди, которых он любит и которые, пока он живет и работает, будут нести ему свои мысли, тревоги и радости.




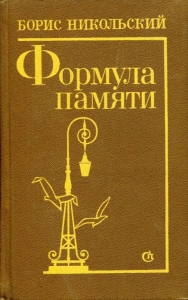
Комментарии к книге «Это случилось у моря», Станислав Васильевич Мелешин
Всего 0 комментариев