Теплое крыльцо
ИЗ ЖИЗНИ ИВАНА ЧЕЛЯДИНА
ИЗ-ЗА ДВУХ ОЗЕР
I
Электричка, миновав железнодорожный мост, прокричала освобожденно. Иван оторвался от окна, поглядел на сидящего напротив отца и подумал: «Жалко его».
Уже неделю отец возвращался с работы невесело. Мама встречала его с улыбкой, но он останавливал ее укоризненным взглядом, сам снимал черный железнодорожный китель и, не сказав никому доброго слова, шел умываться. Ничего не понимая, Иван, его двенадцатилетний сын, тоже молча, вопросительно глядел на мать, а она хмуро отвечала, что папа устал — летом у железнодорожников много работы.
В электричке отец с сыном ехали словно отдельно. Солнце стремилось забраться повыше, слепило, но отец не отводил в сторону глаз, держался, как раньше, гордо и прямо, и во всей его невысокой, отяжелевшей фигуре было столько еле сдерживаемой печали, что Иван подумал: «Может, сегодня утром мать недоговорила чего, и то, что по вине отца в его дежурство сошли с рельсов четыре вагона — не главное и есть что-то еще, о чем она решила — мне знать не надо».
По соседнему пути с грохотом пошел грузовой эшелон, и в окне, как в зеркале, среди мелькавших вагонов дрогнул задумчиво-красивый профиль отца. Грохот от проходящего поезда оглушал: по причине лета в электричке были открыты окна, — вагоны неслись, пьяно раскачиваясь, подступали к стеклу.
— Что грустишь? — еле слышно спросил отец.
— А чему радоваться? — ответил сын.
— Что? — не расслышал отец и качнулся навстречу.
— Я говорю — негрустный я, — громко сказал Иван и переменил разговор: — Ты, верно, спать хочешь? Ты с ночной смены.
— Приедем на дачу, посплю два часа.
— А мне что делать?
— Сходи в лес или начинай ягоды брать.
— Не люблю ягоды собирать, — с досадой вырвалось у Ивана.
— А есть любишь? — резко спросил отец.
— Не люблю. — Лицо сына тоже сделалось недовольно-сердитым.
— Не выдумывай! — Отец отвернулся к окну.
Повсюду, насколько хватало глаз, лежала солончаковая, бедная растительностью земля. По левую сторону железнодорожного полотна разбросанно тянулся поселок из типовых, одноэтажных, крытых шифером, зданий. Сын хотел спросить, кто живет в поселке, но, поглядев на отца, передумал. Электричка сделала поворот и, качнувшись вправо, Иван увидел знакомое, безлюдное озеро, оглянулся и в другом окне успел заметить такую же пустынную воду. Когда-то озеро разъединил железнодорожный путь, и стало два озера, обросших камышом, как старик бородой, таких успокоенных, что Иван ни разу не видел, чтобы в них купались или удили рыбу.
— Плохо я тебя знаю, — сердито глядя в окно, сказал отец.
— Это почему? — удивился Иван.
— Оказывается, землю не любишь.
— Люблю. — Сын примирительно улыбнулся.
— А когда любишь землю, все нравится на ней делать.
— Я землю копать люблю. Осенью, — тоже не отрываясь от окна, серьезно сказал Иван.
— И все? — снисходительно посмотрел на него отец.
— Пока все.
Иван смотрел, как мелькает за окном близкий лес и думал: «Чего он ко мне пристал? Плохо ему — вот и пристал».
— А помнишь, — спросил отец, — ты маленький был, мы с тобой ездили в мою деревню костянку брать?
— Помню. Там посреди пшеничного поля — береза.
— Точно! — обрадовался отец. — Я думал — забыл!
Электричка сбавила ход, за окном потянулись светло-коричневого цвета станционные постройки, сараи, магазин, водокачка.
— Вот и приехали, — взяв тяжелый мешок, сказал отец и позвал сына: — Айда, работничек.
В тамбуре, придерживая неширокую, с ладонь, двухметровую доску, прислоненную к стене, ждал выхода лысый, с больным лицом пожилой мужчина в железнодорожной форме. У его ног лежал битком набитый портфель.
— Здравствуйте, — поприветствовал он. Отец, пожав протянутую ему руку с узловатыми, вспухшими пальцами, сказал:
— Ну-ка, Ваня, помоги старому машинисту. Возьми портфель.
Зеленые двери с шипеньем открылись. Пока машинист, вяло переставляя ноги, задерживая напиравших из вагона людей, сходил по крутым ступенькам, Иван тихонько спросил отца:
— Кто это?
— Сергеич. Ты его знаешь. Он тебе путейскую дудку дарил.
— Не помню.
Видя, что старому машинисту тяжело нести сосновую, судя по свежему смолистому запаху, недавно распиленную доску, отец взял ее на плечо, а тот виновато пожаловался:
— Надо сделать кое-чего по хозяйству…
— Мы тоже решили малину собрать, да погреб будем чинить, — поддержал разговор отец.
— Хорошее дело, — сипло, как старый курильщик, сказал машинист. Взглянув в его светло-серые, пристальные глаза, Иван застеснялся.
По березовой, богато росшей аллее они шли первыми, за ними гомонили садоводы: пенсионеры, отпускники, их жены, дочери — все приехали собирать удачный в этом году урожай, а мальчику хотелось в лес. Машинист внимательно взглянул на него.
— Значит, работать идешь, — спросил, — а дружки, поди, на речку бегут?
— Ну и что, — раздосадованно ответил Иван. Машинист с отцом переглянулись с тайной улыбкой.
«Смеются еще, — думал мальчик. — А хорошо бы на речку».
Потом отец попросил:
— Иди, сын, вперед. Нам поговорить надо.
Ваня ускорил шаг, но как ни настораживался, слышал только обрывки фраз: «Знаешь, Сергеич, первый раз со мной. Стыд-то какой!» — И дальше Иван опять не расслышал, а старый машинист говорил: «Бу-бу-бу-бу, с кем не бывало. У меня в тридцать пятом году… — и снова: — Бу-бу-бу».
Когда они подошли к новым, свежеокрашенным воротам коллективного сада и расстались на первой развилке, Сергеевич, дача которого стояла крайняя, у ворот, сказал на прощание:
— Надо, Михаил, пережить. Я и не такое переживал. — Он подхватил доску на левое, отдохнувшее, плечо, взял из рук Ивана портфель, а потом, спохватившись, обернулся и крикнул в спину уходящим по аллее Челядиным:
— Спасибо.
Они обернулись, и мальчик подумал: «С отцом случилось сильно неладное».
Дачный поселок был ухоженный и большой. Каждая семья владела участком в шесть соток с небольшим домом, душем, сараюшкой, а в саду росли яблони, крыжовник, малина, смородина, земляника.
— Хорошо тут, — открывая калитку, обрадованно говорил отец. — Воздух какой! Свобода! — гремел он, идя к даче по засыпанной белым песком дорожке. — Знаешь, Иван, мне спать расхотелось. Будем ягоды собирать!
— Давай, — согласился сын. — Быстро соберем и — домой.
— Вот так всегда, — рассердился отец, — не успел приехать, как уже обратно лыжи востришь.
«Больше ничего не скажу», — обиделся Иван.
Малина росла в два ряда, ягод наспело много, и он с неудовольствием подумал, что на работу уйдет полдня.
Отец принес два металлических складных стульчика, сказал сыну:
— Будем собирать ягоды вместе, а не раздельно, как прошлый раз. Пойдешь по той стороне, а я по этой. Ты малину собирай в банку, а я в ведро.
И работа пошла.
«Лучше огород два раза вскопать, чем ягоды собирать», — расстроенно думал Иван.
— Чего вздыхаешь? — поинтересовался отец.
— Легкие вентилирую, — ответил Иван, и снова воцарилось молчание.
Отец брал малину чисто и ловко, сын тоже старался. Ягода легко оставалась в руке; от малины шел терпкий, сладковатый дух; пчелы с беспокойным рабочим гулом летали с цветка на цветок; в небе была синяя щемящая пустота.
— Хоть бы дождь пошел, — сказал Иван.
— Надоело уже?
— Что?
— Ягоды собирать.
— Дождя давно не было — это плохо для земли, — проявил заботу Иван.
— Надо же, — с иронией удивился отец. — С каких пор ты о земле заботиться стал?
— С тех пор, как мы с классом на увале, вдоль шоссе, березы сажали.
— Ну и что? Посадить — не растить! Вот посадил дерево, а после ты хоть раз пришел к нему?
— Я не одно дерево посадил. Может, семнадцать.
— Да не об том речь, — сказал отец. — Ты им помогал, ухаживал, поливал, когда засуха?
— Нет.
— Потому и землю не любишь.
— Папа, а чего ты, если так землю любишь, из деревни ушел?
— Гордый был. На отца обиделся — вот и ушел.
— А дед?
— Помирились, но в деревню я не вернулся, а надо было. От моей руки земля хорошо родила. Я когда огород поливал, такие разговоры вел: «Растите хорошо, картошка, огурцы… Я вас люблю».
Иван рассмеялся, а отец расстроился:
— Ну чего ты смеешься, пацан! Не понимаешь. У нас в области академик живет. Он с землей говорит, ухаживает за ней с любовью, а она ему за добро — добром. У него в колхозе урожаи сильнее, чем у других, потому что он с землей, как с живой. У него она дышит, воду пьет, родит. А в городе мне тоскливо стало. Тесно. Давит.
— Может, это потому, что у тебя неприятности? — растерянно спросил Иван.
— А с чего ты взял, что у меня неприятности? — встревожился отец.
— Кажется… — Иван спрятал лицо за ветку малины.
— Кажется, — повторил отец, подумал: «Резковато я с ним», — и сразу вспомнил аварию. Он, дежурный по станции, пустил порожний состав на занятый путь, потому что составитель с маневровым электровозом и восемью вагонами должен был остановиться на «северной вытяжке», а остановился на «седьмой малой», то есть не доехал. Стрелочница же, давно знакомая Челядину женщина, не посмотрев внимательно, доложила, что маневровый проехал в вытяжку, и Челядин заказал маршрут порожнего, и этот состав срезал четыре вагона у маневрового. За это пуще других наказали его, дежурного, чтобы не жмурился, не ленился проверить. И теперь надо рассказать обо всем сыну, но так, чтобы Иван не думал, что отец себя выгораживает: дескать, пострадал невинно, доверился. Конечно, можно и не говорить, но мальчишки во дворе такие быстроглазые, кто-нибудь дома услышит, что хваленого Михаила Челядина за аварию по головке не погладили, и скажет: «Ванька, с твоим отцом то-то и то-то!» — да еще надумает, а сыну — рана.
Малину брали, не отдыхая, и через час сосредоточенной, молчаливой работы Иван сказал:
— Пап, расскажи мне о своих. Я о них мало знаю.
— А что рассказывать… Работали всю жизнь, — спокойно ответил отец.
— Когда умер дед Павел, вы меня отвели на Битевскую, к маминой маме?
— Да… — Отец вопросительно глядел на сына. — Мы тебя отвели к бабушке.
— Но я вернулся.
— Тебе было пять лет. Ты не мог вернуться. Ты бы не нашел дорогу.
— Я пришел, когда все кончилось. У подъезда стояли две накрытые черно-синим ковром табуретки, и я убежал. Помню, было лето, жаркое.
— Ты путаешь. Дед Павел умер зимой, в декабре.
— Но табуретки были накрыты ковром? Я потом долго боялся их, как тех фотографий.
— Каких?
— Где бабушка Евдокия и дед Павел в гробу. Я думал, если долго глядеть на них, у нас еще кто-то умрет. Теперь я так не думаю.
Иван вспомнил, как он, затаив дыхание, собрал все бывшие в доме похоронные фотографии в черный пакет и спрятал его далеко в шкаф. И после Иван долго не вспоминал, где лежат фотографии, а сейчас вспомнил с мгновенным испугом.
II
Когда малину собрали, отец довольно сказал:
— Быстро управились.
Они умылись под краном над закопанной в земле бочкой, зашли на веранду.
— Я вздремну, — снимая майку, устало сказал отец, — а ты займись своим делом, но в лес не ходи. Отдохну, погреб оглянем.
— Что там?
— Кое-где доски подгнили, перестелем. Погреб обложим кирпичом, цементом зальем. Работы на несколько дней. Прежний хозяин дачи был ленивый мужик.
Иван сидел на диване, слушая, как вздыхает отец, и думал, что он не похож на себя прежнего: нервничает, подсмеивается: «Землю не любишь». Я никогда и не думал: люблю ее или нет. Хожу по ней, да и все.
— Нет, не могу уснуть, — недовольно сказал отец, и, с шумом надев ботинки, он вышел из комнаты, сел на диван — непричесанный, с сонным лицом.
— Не устал?
— Ягоды снимать — не работа, — с деланным равнодушием ответил сын.
— Ну и ладно. Теперь погреб смотреть.
— Давай! — Иван с готовностью встал.
— Оденемся потеплее.
Когда Иван надел потрепанный железнодорожный китель, забрызганные красной краской штаны и стоптанные зимние башмаки, отец большим гнутым гвоздем поднял короткие вместе сбитые доски, и открылась западня, из которой дунуло черным подземным холодом. Отец спустился по лестнице, сказал измененным голосом:
— Сюда.
Сыро, мрачновато скрипнула лестница. Иван встал на темно-желтый влажный песок. Подпол был неглубоким: отец гнул голову, сын стоял во весь рост.
— Да, принеси лопату, ведро и веревку, — сказал отец. — Я стану копать, насыпать землю в ведро, а ты поднимай ее на поверхность.
— Ведро очень маленькое. Лучше я покопаю.
— Нет. Еще простудишься.
— Ну что же… — Иван вылез из ямы, но, вспомнив, что отец не спал ночью, сказал:
— Потом сменимся, чтоб все по-честному.
Отец глуховато буркнул в ответ:
— Ладно, — и добавил: — Лестницу вытащи. Мешает.
Земля была тяжелой, но Иван, занятый мыслями, легко поднимал ведро за ведром, думая: «Отец не заснул, потому что волнуется. Что же случилось?..»
Иван в сердцах бросил веревку, принес с улицы лестницу, опустил в погреб.
— Ты чего? — равнодушно спросил отец.
— Иди наверх! Моя очередь.
Молча поглядев на сына, отец отдал лопату и послушно вылез из ямы.
Иван присел на корточки, огляделся: погреб был не обшит досками, земля мрачновато-тускло светилась.
— Долго тебя ждать? — нетерпеливо позвал отец.
Иван копал землю на полштыка и думал: «Если по-честному, отец не виноват в аварии…»
Ожидая, пока сын насыплет землю в ведро, отец тоже думал: «А если бы в поваленных вагонах были люди?» За тридцать лет работы на транспорте он видел только одно большое крушение, еще до войны, когда состав с углем врезался в хвост воинскому эшелону и несколько вагонов были раздавлены. В грохоте и шуме, в огне пожара, ездивший тогда кондуктором — его состав стоял на соседнем пути, — он бросился к раненым и видел, как начальник эшелона, потеряв от ужаса голову, бледный, с трясущимся подбородком, с револьвером в руке, подбежал к смявшему вагоны паровозу и отчаянно закричал:
— Где машинист? Застрелю!
В окне паровозной будки показался старик-машинист с окровавленным лицом. Поглядев на поднявшего оружие, он отворотил кожаную, закопченную куртку — на груди огненно блеснул орден Ленина.
— Стреляй! Я машинист! — страшно сказал старик.
И начальник эшелона смятенно опустил револьвер. Как выяснилось, стрелочник неверно перевел стрелку.
Через полчаса отец спустился в погреб и сказал сыну, что будет лучше, если они вдвоем поработают: сняв землю, накидают ее в угол, а вытаскают потом.
Им не было тесно. Лопаты легко резали землю, через западню немного сквозило. Работа спорилась, и скоро отцу стало нравиться, как сын привычно держит лопату, как он хорошо, без напряжения дышит. Иван больше не хмурился, вот он улыбнулся своим мыслям, и отец, подумав, что сын, если взялся за дело, никогда не работает по конец рук, передумал говорить ему про аварию.
III
На другой день Иван слонялся по пустому двору. Отец с мамой, когда он спал, ушли на работу; друзья были в разъездах: Баженов в Челябинске, Каргапольцев в пионерлагере. Иван сел на скамейку, вспомнил вчерашнее и представил, как отец в черном кителе, с желтым флажком в руке едет на подножке сортируемого вагона, кругом тесная паутина железнодорожных путей, ждут свободной дороги готовые к отправлению поезда. Отец теперь дежурный по парку, с прежней работы его сняли — это Иван после возвращения с дачи узнал от матери и не удивился, но за отца было обидно. О его работе Иван никогда раньше серьезно не думал: вся рабочая жизнь отца была, как за тридевять земель — обыкновенная, незаметная, идущая сама собой. Только сейчас Иван понял, что работа железнодорожника без дисциплины никак не возможна. «Вот почему он так возмущался, — думал Иван, — когда я не держал слова». Отец работал то в день, то в ночь, а Иван был у него на рабочем месте всего два раза: отец включал и выключал рацию, говорил по телефонам, к нему без конца заходили солидные люди, что-то просили; и сыну в голову не шло, что отец мог ошибаться, переживать; за рабочим столом, на подножке вагона он оставался каменно-спокойным, в его узких, карих, глубоко запрятанных глазах не бывало смятения, но последнюю неделю отец плохо спал, работал в саду и на станции с мрачным ожесточением. Теперь Иван знал, что отца сняли с дежурных по станции — на этой работе он побыл меньше года — и вернули дежурным в парк; и он подумал, что отцу теперь кажется — все думают про аварию, говорят: «Челядин Михаил — плохой работник». Иван представил, как невыносимо отцу, и на душе стало больнее, чем вчера вечером, когда он подступил к матери: «Расскажи, что с папкой? Я ведь знаю, ты мне утром не все рассказала!» На что мать ответила: «Отца сняли. Трудно ему. Кто его, родного, поддержит, если не мы».
Иван в синей рубашке и защитного цвета техасах сидел на скамейке под двумя не закрывающими от солнца молодыми березами. Его морозило. «Не заболел ли я? — думал он, не понимая, почему холодно на солнечном месте. — Что со мной? Я не мог заболеть, я уже год не болел. Мне жалко отца. Он всегда работает. Завтра снова собирается погреб чинить, но это завтра, весь день впереди, а я на скамейке сижу».
Иван встал, оглядел готовые на слом ветхие, разваливающиеся сараи и быстро пошел со двора.
Скоро он был в электричке, мелькнуло за окном озеро, а другое Иван не успел заметить. Электричка с пронзительным, тоскующим криком ворвалась в лес, и с близких к путям тополей и берез сорвалось воронье, заколдованно, не махая крыльями, полетело вровень с вагонами.
На даче, как прошлый раз, Иван переоделся в старый, великоватый железнодорожный китель, но штаны и ботинки менять не стал.
Тем же гнутым гвоздем, во всех приемах подражая отцу, он открыл западню, лег на пол и, глядя в погреб, стал размышлять, какую работу сделать. Он решил на штык углубить землю, подровнять стенки. «А там еще надумаю что-нибудь. Батя завтра приедет, скажет: «Кто наработал?» Иван повеселел, а следом пришла мысль: «Может, я не то делаю?» — но желание работать приглушило тревогу.
Выйдя из дачи, Иван постоял у двери, поднял лежавшую у порога лопату, хотел было спуститься вниз, но решил прихватить с собой складной стульчик, чтобы отдыхать, не поднимаясь наверх. «Куда он запропастился?» Не найдя его, Иван взял попавшееся на глаза сосновое полено, бросил в лаз, следом полетела, хищно колупнув землю, лопата.
Первым делом Иван сел на полешко и подумал: «Никто не знает, что я тут, и я сделаю ремонт не хуже отца».
Сильным толчком ноги Иван вогнал лопату у задней стены. На этот раз земля показалась темной и крепкой. «Что в ней особенного?» — подумал он и взял в руку немного земли, потер между пальцами, поднес к лицу: земля пахла снегом и еще чем-то дурманящим.
— Слово-то какое — з е м л я! — сказал Иван и подогнал себя: — Однако, надо работать.
Он копнул несколько раз, а дальше помешал столб, который поддерживал потолок. Столб стоял посредине стены, а всего их было три и еще столько же у противоположной стены, в которой ярким фонариком горела отдушина.
«Столб мешает! Вот черт! — с раздражением думал Иван. — Если один убрать, ничего не случится». Столб был давно не крепкий, с белой накипью на стволе. «Надо его заменить», — по-хозяйски решил Иван и копнул под столбом, а потом, поддев плечом, легко отделил его от стены. Над головой скрипнуло, и в образовавшуюся еле видную щель просыпалось немного земли. Иван потревоженно огляделся, но больше нигде не сыпалось, и он снова взялся копать. Тут потолок стал тихонько подрагивать, оседать, словно кто сверху давил… Мальчик отбросил лопату, и на него начала медленно опускаться доска, средняя, самая широкая, следом в погреб просунулась матица — чугунная рельса, а потом шпала, и в разваливающееся отверстие рванулось все, чем был утеплен погреб: как в воронку посыпались шлак и земля. Иван отскочил к противоположной стене, где столбы еще держали быстро проседающий потолок, но падающие доски достали мальчика, таща за собой, надавили. Иван на миг задержал их плечами и тут увидел лежащее под ногами полешко; и когда от тяжести подогнулись колени, он, падая, успел подставить полешко торчком, и оно задержало движение самой тяжелой доски, которая прикрыла его, как щит. В погреб ринулся синий дневной свет. Иван резко и близко увидел продолжающий обваливаться верхний край подпольной ямы и закрыл глаза.
Он открыл их через минуту, когда земля перестала сыпаться. Спасительное полешко стояло крепко, доски не рушились. В застывшей тишине Иван потрогал рукой полешко, задумался, а потом, осторожно перевернувшись на бок, подтянул к подбородку ноги, замер и услышал, как неровно, с перебоями, бьется сердце.
Легонько, насколько мог, Иван продвинулся, вжался в земляную стенку затылком и примерился выползти между ней и краем доски. Он выползал, подрывая землю руками. Потом, найдя рядом крепкую щепку, обдираясь об острый край доски, стал резать сухую, плохо поддающуюся стенку погреба. Иван ни о чем не думал, не пугался, а, как умел, выручая себя, работал.
Он выполз ободранный, грязный от пота и сел под сухой, раскидистой, не давшей в этом году урожая яблоней, глядя в огромную щель под верандой, откуда с таким трудом только что выбрался.
— Натворил, — медленно, словно про кого-то другого сказал Иван и, горько усмехаясь, отряхнул землю с плеч и волос. — Что я скажу дома?
Когда он поднялся, его качнуло, но мальчик собрался и, опустив голову, пошел в дачу.
Дверь на веранду была настежь открыта. Он осторожно поставил ногу на пол и, боясь, что доски обвалятся, встал на колено, заглянул в глубину и застонал. Погреба больше не было: нижние, державшие шпалы и землю, доски лежали обрушенные. Сердце больно кольнуло, дернулось и заныло. «Надо что-то делать, — думал Иван. — Одному ничего не поднять…»
Иван переоделся, выхлопал техасы, отмыл ботинки и… пошел к станции.
Наступал вечер, но улочки дачного городка были свободны. «Значит, электричка не скоро, — думал Иван. — Но все равно надо идти, хотя на станции сейчас одиноко, редко кто пройдет из людей, только поезда один за другим».
От дачного поселка до станции Иван шел, как издалека. В заставленном скамейками маленьком вокзале кассирша через тусклое, плексигласовое окно сунула ему билет.
— Чего рано-то? — сказала. — Электричка через сорок минут.
— А, ничего. — Иван раздосадованно махнул рукой и, не захотев пережидать в пустом месте, вышел на улицу.
Станционный вокзал был тесно обсажен березами, акацией, мало где стояли скамейки. Под тяжело груженным составом гнулись рельсы. В кустах акаций за пустым столом семеро мужиков в черных, отгоревших на солнце рабочих спецовках устало, молчаливо курили. «Путейцы, — подумал Иван. — Работу кончили, дрезину ждут». Он захотел пить, вышел из кустов и остановился. Из колонки, наклонившись, пил воду знакомый по вчерашнему дню Сергеич. Теперь он был без кителя, в чистой кремового цвета рубахе, а вместо портфеля рядом с ним лежала корзина.
Иван отступил назад и спрятался за спинами сидящих на скамейке путейцев, которые все так же молча курили.
— Дак поедем? — сказал один из них, крепколицый, с белой волнистой шапкой волос.
— Как решили — на электричке, — ответил самый пожилой из рабочих, впалогрудый, сильно морщинистый.
— Не… Это вы ждите, а я не могу, — таинственно улыбаясь, ответил светловолосый. — Что подвернется, на том и уеду. Меня ждут. — И с той же улыбкой он оглянулся — нет ли с востока поезда?
Сидя на траве, Иван глядел на них с любопытством и завистью. «Отработали свое, и ничего у них не случилось, все в порядке, а у меня… Эх!» — и он опустил голову.
Среди берез с корзиной в руке мелькнул Сергеич. Иван отвернулся, подумал: «Начнет расспросы, а где папа? Почему один?»
Вдалеке скучающе гукнул электровозный сигнал. Светловолосый, кудрявый рабочий поднялся, вгляделся.
— Мужики, — довольно сказал он, — кажись, уедем! — и, подхватив чемоданчик, пошел на платформу. За ним поднялся морщинистый пожилой рабочий и другие, а из-за тесно растущих акаций встали еще трое, отдыхавшие на траве. Иван поглядел на их торопливые сборы и зашагал следом.
К посадочной платформе он прошел за скамейкой Сергеича, который, увлеченно копаясь в корзине, не обернулся.
Путейцы остановились напротив крытого жестью, приземистого вокзала. Среди них на голову возвышался тот светловолосый, богатырского вида парень, который молчаливо смотрел, как подвигается электровоз.
Электровоз, как большой человек в очках, негромко подошел к станции. Сразу за ним были две открытые вагонные площадки, а дальше три закрытых почтовых вагона.
— Надо узнать, — пробасил светловолосый, — куда идет? — и подошел к электровозу, из которого спускался на землю помощник.
Совсем молодой парень, помощник, по-хозяйски огляделся, прошел вдоль машины, присел и стал внимательно осматривать электровозное брюхо. К нему подошел светловолосый путеец. О чем они говорили, Иван не мог слышать, но когда помощник вернулся в электровоз, а светловолосый с довольным лицом возвращался к своим, Иван, обойдя рабочих, вышел ему навстречу.
— Куда поезд? — спросил.
— В город, — глядя поверх него, ответил путеец и махнул: — Айда, ребята! Садись!
Весело гомоня, рабочие стали влезать на первую за электровозом платформу. Иван тоже, как подсаженный, мигом взлетел за ними.
— Куда, пацан! — сердито окликнул его пожилой путеец. — Сюда нельзя!
— Можно! — громко, упрямо улыбаясь, ответил Иван. — У меня батя — железнодорожник!
— Оставь, — заступился за Ивана светловолосый.
Большинство из путейцев присели на корточки у невысоких железных бортов, держась за них, другие сели посредине платформы.
Электровоз солидно крякнул, а Иван облегченно вздохнул: до последнего момента ему казалось — придет машинист и прогонит его, а сейчас ему больше всего на свете хотелось ехать с путейцами, с этим высоким, светловолосым парнем, который, как только электровоз набрал ход, встал, и ветер сразу распахнул его черный, потертый на работе пиджак, вздыбил длинные, красивые волосы, а парень крепко держался на качающейся, гремящей платформе, и все глядели на него, одобрительно улыбаясь.
Лес по обеим сторонам пути был неподвижен, и Ваня мог разглядеть каждое дерево и тропинку. На повороте электровоз накренился, ветер сдул с платформы каменистую пыль, она больно хлопнулась Ивану в лицо, но он засмеялся довольно, а светловолосый остался стоять, только повернулся к электровозу спиной, и мальчик видел его всего — улыбающегося. Путеец перестал щуриться, глаза, большие, синие с опаленными ресницами, стали глубокими. Мальчик вспомнил отца с тревогой и тоже решил встать, но ветер упруго толкнул в грудь, не дал подняться. Платформу замотало, и Ваня опасливо ухватился за невысокий темно-коричневый борт. С самой близкой к дороге березы взлетела сорока и, без умолку, запаленно крича, полетела в глубину леса.
Поезд мчался с ревом и грохотом, и все было не так, как Иван много раз видел из электрички. Сосны стали суровей и выше, березы белее, трава зеленее, воздух пах первым снегом и еще чем-то дурманяще терпким. «Так пахнет земля», — вспомнил Иван. А впереди открывался простор, лес кончился, электровоз шел под уклон.
Иван еще раз попробовал встать, но ветер снова посадил его коротким, сильным толчком.
— А-ха-ха-ха! — во весь голос рассмеялся светловолосый путеец, и многие на платформе сочувственно поглядели на мальчика.
Сначала Иван обиделся так, что слезы выступили, но он сделал вид, что в этом виноват ветер. Мальчик крепко зажмурился, слезы выкатились, исчезли, а когда он открыл глаза, никто больше не смотрел на него, и он подумал, что рабочие взяли его с собой, потому что у него батя — железнодорожник. И не надо подавать вида, что обиделся. Надо встать, чтобы они видели. «Батя, — подумал Иван, — где-то хлопочет на станции, не знает, что я возвращаюсь».
Обида прошла. Ему нравилось, что никто больше не обращает на него внимания, и он снова думал, как хорошо тут на грохочущей, ровно раскачивающейся платформе.
Когда он поднялся, вся долина открылась ему, а озера, которые он из окна электрички никогда не мог хорошо разглядеть, блеснули, как большие, белые крылья. Взметая кнуты, пастухи собирали напоенный табун лошадей, отчаянно-весело купались мальчишки, узкой тропинкой с длинной удочкой спускался к озеру рыболов, а еще дальше, на малом увале, выкликая из воды сына, стояла женщина в белом платье. Старой пыльной дорогой в лежащий светлым полукольцом город спешили грузовики.
Электровоз вырвался из-за двух озер. Радуясь возвращению, машинист нажал на гудок. Чистый, высокий, могучий звук поплыл над долиной. Иван стоял на дрожащей, перекатывающейся под ногами платформе, откинув лобастую голову, узкоплечий, с растопыренными руками, и, задыхаясь от рвущего ноздри степного, вольного воздуха, смотрел на лес, на озера, на уходящий за увал табун лошадей.
КОГДА СОЛНЦЕ ИГРАЕТ
I
Недалеко от школы, в Восточном парке, за бурым от паровозной копоти столом сидит в дежурке отец, внося в журнал недоступные моему уму цифры. По рации говорят, что прибывает скорый поезд «Новосибирск — Одесса». Отец включает микрофон, и его голос озабоченно мечется над путями, поднимает вагонников. Не закончив разговора, те идут смотреть — все ли в порядке; и настороженный перестук их молоточков хорошо действует на сидящих в вагоне людей: они видят вокзал, школу, не зная, что я мечтаю уехать с ними, но для меня нет места даже в общем вагоне. Начался учебный год, а с учебой мне не везет. Громыхание тяжелых, с лесом и углем, составов, легкий бег электричек не мешает учиться всем, кроме меня. Я сижу за последней партой, наблюдаю жизнь станции, а в форточку доносится кочевой посвист — из соседних, казахстанских степей налетел ветер. Отцу тем временем говорят, что с вагонами ничего не случилось. Он довольно тянет: «Понятно-о», — и новый его приказ уносится в холод, а в дежурке тепло, на столе в законном месте фуражка.
Путейский с длинной рукояткой молоточек был главной моей дошкольной игрушкой. Я сбивал им сосульки, и они лопались, как сигнальные ракеты в небе, помогая ручейкам, рубил лед — это было время, когда мы пускали кораблики. Маленькие, хлопотливые дети железнодорожников, пока солнце не сядет, мы бегали по двору, нечаянно рвали кирзовыми сапогами толь на сараях, а потом, затихая, предавались разговорам.
Чаще всего мы играли на паровозном кладбище. Баженов был машинистом, а я пробовал колеса прикованных паровозов, и где бы я молоточком ни ударил по колесу — везде было хорошо и звонко.
В окно мне виден хвостовой вагон уходящего поезда — люди едут к теплому морю. Не раз мы с мамой смотрели железнодорожную карту, и я знаю, что поезд минует Уральские горы. Они видятся мне утонувшими в тумане, предутренние и безлюдные.
Зовущий гудок электровоза ворвался в класс и пропал в коридоре, а я вздыхаю и, отставший от диктанта, ниже опускаю голову, ожидая, когда можно будет заглянуть к соседу в тетрадь. Баженов сосредоточенно щурит глаза и, похоже, не дышит — он любит диктанты, — а я, когда контрольные, просыпаюсь засветло, долго лежу в постели, гляжу, как утренний свет бьется сквозь шторы, и размышляю, как бы не ходить в школу…
До конца урока еще двадцать минут, и я пытаюсь разглядеть книгу, из которой Валентина Петровна читает диктант, но учителя умеют держать книги для контрольных работ: никогда не увидишь их названия. Да и попробуй узнай, какой на диктанте прочитают текст: о школьной линейке, как сегодня, или о походе Ермака в Сибирь. (Его казаки бывали на нашей реке Тоболе — это рассказывал нам учитель истории Георгий Романович.)
Раньше, до своей болезни, бодро и молодо входя в класс, Георгий Романович мог зорко оглядеть нас, мальчишек, и неожиданно громко сказать; «Разве так стоят будущие солдаты!?» Мы, переминаясь, оправляли школьные гимнастерки, а он, шагая между рядами, командовал: «Пятки вместе, носки врозь! Гляди веселей!» Пацаны тянулись молодцевато, потому что походить на солдат было заветным желанием. Мы родились через пять лет после окончания войны, но играли в войну в настоящих касках: их еще переплавляли на наших сибирских заводах.
А неделю назад Георгий Романович сказал: «Соберемся в свободный день у реки». Мы сели в автобус и доехали до прибрежной улицы. Тобол — река на просторе. Он неторопливо течет среди полей и перелесков. В его песчаных берегах любят селиться ласточки, потому что над рекой высокое небо и чистый воздух.
Ветер студил разгоряченные лица. Георгий Романович вел нас берегом против течения. Я глядел в его сильную спину, когда он оборачивался, видел незагорелый лоб, карие с острыми зрачками глаза и думал: так во время войны берегом неизвестной мне реки он вел солдат. Впереди громыхало. Уже отпадали звезды, и деревья стояли голые на ветру, а вода в реке была темной и без тепла.
Георгий Романович говорил, что наш город в семнадцатом веке начал крестьянин Тимофей Невежин. Мы, как за туманом, видели кряжистых мужиков, валящих лес у Тобола. Топоры смачно впивались в стволы. Деревья падали грозно, а верхушки сосен были, как боевые шлемы. Городище окружили бревенчатым тыном и в поле без ружья не ходили. Землю пахали с боевым топором на пояске. По ночам выли на полную луну волки, плескались в реке метровые щуки, студено мерцали звезды.
«Вот о чем надо диктанты писать», — подумал я, а классная, строго глядя черными, слегка подведенными глазами, продиктовала:
— Школьную линейку объявили открытой…
Месяц назад, первого сентября, мы тоже пришли на линейку и стояли на школьном дворе, когда к нашему 6-му «а» классу, прихрамывая, подошел с незнакомкой директор. Он, опираясь на трость, сказал: «Вот вам новый командир». А класс молча оглядел полную с мелкими кудряшками Валентину Петровну.
Мы стояли удрученные: слухи о замужестве и отъезде нашей классной руководительницы, которую многие любили, подтвердились, только Каргапольцев, в широкой, плоской, похожей на аэродром кепке, радостно улыбался.
Валентина Петровна подошла к нему и негромко произнесла:
— Почему в кепке? Некрасиво, молодой человек. Вы на линейке.
Серега обиделся, поведя плечом, отвернулся. Тогда классная поднялась на цыпочки, протянула полную руку, но до кепки не дотянулась, потому что Каргапольцев отшатнулся и неожиданно баском сказал:
— Осторожно. Я мальчик нервный.
А потом, стоило Валентине Петровне отойти, он ушел с линейки и из окна спортзала махал мне с Баженовым этой кепкой. Да, вспоминается… но надо писать диктант.
Тут, осторожно скрипнув, приоткрылась дверь, и в класс вошла девочка. Русоволосая и сероглазая, в школьной форме с ослепительно свежим воротничком, вся какая-то ладная. Она стала у белой стены и улыбнулась. Класс восхищенно вздохнул. Валентина Петровна недовольно подняла брови. Дверь опять распахнулась, и к нам, легок на помине, твердо шагнул директор. Все с грохотом поднялись. Он усадил нас и со знакомой хрипотцой обратился к Валентине Петровне:
— Эта девочка будет у нас учиться.
В дверном проеме я увидел полу шинели, плечо с офицерским погоном. Девочка оглянулась на открытую дверь и кивнула, а я подумал: там ее отец, который переживает, что дочка пришла в незнакомую школу.
Директор по-хозяйски огляделся, достал из пиджака массивные, мы знали, наградные часы.
— Извините, ребята. Помешал.
Он попрощался, не дав нам подняться, и девочка осталась с нами.
Валентина Петровна, все еще не двигаясь с места, громко спросила:
— Как вас зовут?
— Мариша, — спокойно и, мне показалось, гордо ответила девочка.
— Как окончили пятый класс? — спросила Валентина Петровна.
— Отлично. — Мариша посмотрела в окно.
— Садись на вторую парту. — Учительница показала на свободное, рядом с Каргапольцевым, место, и Серега от гордости, на моих глазах, стал еще выше ростом.
— Мы пишем диктант, а вы пока осмотритесь, — сказала Валентина Петровна. — Продолжим работу. — Поглядев поверх наших голов, она перелистнула страницу.
Девочки сделали вид, что ничего не случилось, парни зашептались, а Махалов с Кухальским, наклонясь, пытались что-то узнать у новенькой, но Мариша не обернулась на разговор. Она сидела, сложив руки, как первоклассница.
За окном прозвенел маневровый электровоз. Валентина Петровна постучала любимым красным карандашом: «Надо писать диктант». Баженов, задумчиво вертя авторучку, пропустил начало предложения, и теперь мне не у кого списать, а девчонки, сидящие впереди, не подскажут.
…Я стою в коридоре, и никто до сих пор не знает, что в кармане у меня освобождение от учебы. Врач в поликлинике дал его сегодня утром, но почему-то с завтрашнего числа.
Не обращая на меня внимания, идет по коридору новенькая. Может, она и не знает, что мы одноклассники?
Опять звонок велит идти на урок. На историю или ботанику он зовет меня празднично и светло. На физику я иду с неспокойной душой, а для Баженова школьный звонок ничего не значит: Валерка успевает по всем предметам. Готовый к уроку, он идет по коридору впереди меня, а я колдую, чтоб меня не спросили.
Окна кабинета физики плотно зашторены, но я освободил их. Свет ворвался в класс, и я увидел, что новенькая посмотрела на меня с любопытством.
Маленькая, подвижная Римма Ивановна быстро раскрывает классный журнал, ее правый мизинец снизу вверх плывет по странице. Все замирает. Стараясь не смотреть в склоненное, озабоченное поиском лицо Риммы Ивановны, я шепчу: «Не меня! Не меня!»
— Челядин!
Для многих это звучит, как спасительный голос в лесу. Одноклассники начинают шептаться, рыться в сумках, перекладывать тетради. Они становятся далекими, незнакомыми мне людьми. Как одинокий, застигнутый непогодой путник, я иду между рядами.
— Не тушуйся, — шепчет Баженов и, видя мой прощальный взгляд, делает знак, что обязательно выручит, а Римма Ивановна, довольная своим выбором, ждет меня у доски.
— Челядин, знаете, что было задано на дом?
— Да, — вздыхаю я. — На прошлом уроке мы изучали массу Луны.
— Очень хорошо, — довольно произносит Римма Ивановна. — Вот и расскажи нам.
— О Луне? — перебиваю я.
— О массе Луны, — поправляет она и садится на подоконник.
— Да, — говорю я и вижу… новенькая смотрит на меня, а Каргапольцев что-то шепчет ей на ухо, и по ее переживающим глазам я вдруг догадываюсь: он говорит, что я по болезни часто пропускаю уроки, что в точных науках я не мастак, а вот по истории…
Меня бросает в жар. Я, наверное, меняюсь в лице, потому что класс странно глядит на меня.
«Но я не хочу, чтобы новенькая знала, что я болею! — мысленно кричу я. — Это унизительно — болеть! Я стесняюсь болеть! Если бы вы все знали, как тяжело, когда тебя не принимают всерьез, а девчонки глядят на меня, как на пустое место, потому что каждый год я болею больше, чем все они вместе. Ты предатель, Каргапольцев! Ты сказал ей то, что она не должна знать!»
Охваченный стыдом и отчаянием, я умолкаю на полуслове, забывая все, что и без того скудно помнил, и подавленно гляжу на учительский стол, где лежат раскрытый классный журнал, дневник, мел и указка.
— Плохо, Челядин! Вы опять не готовы! — с негодованием на лице сказала Римма Ивановна.
Я шел к своей парте и слышал, как она своим скрипучим пером ставит мне в дневник огромную единицу.
До конца урока я украдкой глядел на Маришу, видел, что Каргапольцев старается ей понравиться. Он тянул руку, вслух поправлял отвечающих. Кухальский с Махаловым тоже пытались разговорить новенькую, и на один вопрос она им ответила. В конце урока я уже не смотрел в ее сторону, а, наблюдая жизнь за окном, видел улицу Кирова, которой мне возвращаться домой. Следующий урок физкультура, но я освобожден от нее по болезни.
На лицах ребят оживление: через минуту они побегут играть в баскетбол, — это время Кухальского и Махалова. Они покажут себя — это не ускорение измерять. Нужен талант, чтобы пройти без фолов и забросить мяч.
— Челядин! — недовольно окликает меня Римма Ивановна. — Почему не записываешь задание?
— Так вы дневник не вернули, — бурчу я в ответ.
Дневник плывет от стола к столу. В глазах ребят я вижу участие, и новенькая смотрит на меня как-то странно.
Конечно, я наделал глупостей. Но о Луне я кое-что знаю. Когда луна бледна — это к дождю, когда светла — к хорошей погоде, ну а если она красновата — жди ветра. Дед рассказывал, что в новолуние надо собирать целебные травы, строить дом, а когда в небе ущербный месяц — время косить траву, рубить лес, садить морковку и редьку.
Выйти из школы, спуститься с третьего этажа на первый — минутное дело, но вдруг по моей спине пошел жар, а в затылке я почувствовал боль, будто меня ударили кулаком. Меня повело в сторону, я замер и, чтобы сосредоточиться, закрыл глаза и — словно передо мной раскинули карту с изгибами рек, пунктирами железных дорог, красными точками городов…
Потом я услышал стук каблучков, с трудом приоткрыл глаза. Мариша поднималась наверх, а за нею, мягко ступая, шел Кухальский. На лестничной площадке она оглянулась, но тут, как из-под земли вырос Баженов.
— Домой? — Он обнял меня и убежал в спортзал.
В полном одиночестве — самом тоскливом для меня состоянии — я спускался по лестнице. На втором этаже навстречу мне вышла Валентина Петровна. Она нахмурила черные брови и сказала обиженно:
— Что же, Челядин? На единицы скатился?
А я стоял, расстроенно думал, что получил единицу по физике и еще неизвестно, как я написал диктант.
— Почему ты молчишь? — Валентина Петровна глядела рассерженно.
— Мне нечего сказать.
— Иди домой, — сказала она. — И подумай. С твоим здоровьем надо лучше учиться.
— Что вы имеете в виду?
— Не маленький. Сам понимаешь.
II
Каждое утро ко мне на окно прилетают дикие голуби. Они будят меня воркованием, хлопаньем крыльев и шелестом, словно я иду по опавшим листьям. Сидя на карнизе, голуби чинно ждут, когда я угощу их хлебными крошками, но стоит задержаться, рыжий и самый крупный голубь начинает постукивать клювом в окно. В комнате рождается серебряный перезвон, что означает: «нельзя ли скорее». На самом деле голуби никуда не торопятся. Если их накормить, они надолго останутся на карнизе…
Рыжий голубь давно стучит по стеклу, а я не встаю, потому что от головной боли заснул только под утро. С кровати видно, как рыжий, возмущенный, косится через стекло. В его желтом зрачке недовольство, раздумье: оставаться или полететь на другую сторону. Я поднимаюсь, подхожу к окну. Когда я открываю форточку, голуби кокетливо, словно в испуге, машут крыльями. Хлебные крошки падают на обрамленный решеткой карниз, и птицы забывают, что я есть на свете.
За окном был пустынный двор, ветер гнал облака. Над городом парил коршун, а я вспоминал, как в детстве мечтал побыть птицей. Мне хотелось пролететь над школой, заводом, где работала мама, покружить над старицей Тобола и крикнуть с высоты сидящим на крыльце дедушке с бабушкой:
— Это я, ваш внук!
А дед, не удивляясь, сказал бы:
— Видала, Максимовна? Какая наша порода! В небе летаем!
Птицы на карнизе готовились улететь, а я лег на кровать, переживая головную боль.
В таком состоянии я обычно думаю о хорошем. Через две минуты в школе будет звон-перезвон и ребята перейдут в кабинет истории. Там их встретит Георгий Романович. Раньше, объясняя урок, он любил ходить по классу. Где мы только не прошли с ним… С гренадерами Суворова шли через Альпы, с казаками атамана Платова атаковали французов на Бородинском поле, и я помню, что на галопе пика невесома в руке.
Я думаю, что новенькой понравится Георгий Романович, и он обратит на нее внимание, спросит: «Откуда, Мариша, пожаловали?» — а когда узнает, что в нашем городе она впервые, то отвлечется от темы урока и расскажет ей, что декабрист Башмаков прожил у нас с 1838 по 1853 год и однажды во время воскресной обедни, когда дьякон славил царя и его семью, семидесятивосьмилетний декабрист громко, на всю церковь, закричал: «Знаем мы этих благочестивейших!» — и демонстративно вышел из церкви.
И еще… Георгий Романович обязательно скажет: «А где Челядин?» Но даже на его уроке я бы смотрел на Маришу. С этой девочкой мне хочется побывать везде, где я раньше бродил один, и не потому, что у меня нет друзей. Серега Каргапольцев, Валерка Баженов тоже иногда уходят со двора, и никто не знает, где они, но я догадываюсь, что Серега ходит в музей — изучать карту звездного неба, а Баженов в автобусе едет на аэродром… Сидя в траве, он смотрит, как взлетают самолеты АН-2, а потом в небе распускаются парашюты…
Во двор декабриста Нарышкина мы с Маришей придем вечером. За цветными занавесками старого дома будут теплиться лампы, и я скажу Марише: «Хорошо, что в доме живут люди». Возможно, в самую отчаянную метель ссыльный декабрист, первый хозяин дома, не беспокоя жильцов, в коричневом сюртуке проходит по комнатам или, войдя с мороза, задумчиво сидит у горячей печи, греет холодные руки и под утро скрывается светлой тенью.
Мы с Маришей увидим крутой спуск к реке, стоящий на приколе катер и дорогу, которая ведет к лесу.
Возвращаясь домой, мы обязательно постоим у самых высоких в городе серебряных тополей. Их посадил декабрист барон Розен. Каждую весну молодые, они терпеливы в любую погоду; только при великом морозе, когда даже воздух дрожит, деревья негромко кряхтят.
В дверь позвонили. Так, словно трогает гитарные струны, звонит Валерка Баженов. Он заходит в переднюю, снимает плащ, а потом виновато хлопает меня по плечу:
— Филонишь?
Я приглашаю Валерку в комнату. Он садится на диван и смотрит на меня с любопытством.
— Отучился? — говорю я.
— Истории не было. Георгий Романович заболел.
Мы молчим. Баженов подходит к книгам и, улыбаясь, смотрит на меня:
— Сегодня классная сообщила, что парни плохо написали диктант.
— А ты?
— Я четверку получил.
— Ну, а я, конечно, два балла?
Валерка кивнул. Его серые, татарского разреза глаза засветились по-озорному.
— Это из-за новенькой столько двоек. Парням не до диктанта было, на девчонку пялились!
— И ты пялился, — сказал я.
— Да, — согласился Баженов. — Вместе с тобой.
— Я-то в твою тетрадку глядел.
— А чего ты пару схватил? У меня-то четверка. — Баженов, словно боясь кого разбудить, засмеялся тихонечко.
— Правда, она красивая? — сказал я Валерке.
— Кто?
— Девчонка эта. Новенькая.
Баженов подошел к окну. В небе набирали высоту голуби. Ветер сдирал с деревьев листву.
— Лишь бы дождя не случилось.
— А что? — сказал я.
— Завтра соревнование. Шестые и седьмые классы бегут на четыреста метров, а девчонки — на двести.
— И Мариша придет?
— Наверно… Она же теперь в нашем классе.
Вечером отец с матерью сидели на кухне, обсуждали мои дела: мама говорила с врачом, и он сказал, что анализ крови показал ревматическую атаку. В понедельник мне ложиться в больницу, а я думаю, что Мариша придет на соревнование: я должен увидеть ее, хотя пропускающему занятия школьнику неудобно бывать на людях.
III
Раньше мир думал, что вокруг Земли вращаются семь планет, и каждый день недели земляне посвящали определенной планете. Воскресенье считали днем солнца, но сегодня над городом серая хмарь, и люди, которые идут мне навстречу, недовольны этим.
Ночью восточный ветер сорвал с тополей последние листья. Самый вольный, он налетает, как орда из дальних степей. Тогда на улицах круженье, а телеграфные провода гудят, как земля под копытами. Западный ветер — с озерного края. Летом с запада часто приходят грозы и, отгремев, теряются на востоке.
Непогода сегодня с севера, и ветер нанес с завода запах окалины. Многотрубный, как пароход, он работает круглые сутки, но мамы сейчас нет на заводе: у нее выходной. Она, наверное, уже проснулась. На кухонном столе я ей оставил записку: «Ушел подышать. Оделся тепло». На самом деле, на мне только лыжный костюм и кеды.
У школы толпится много людей. Покрытая асфальтом дорога размечена краской. Похожий на борца, с обкусанным судейским свистком на груди, физрук Анатолий Дмитриевич суетится среди ребят, рубит воздух ладонью. Откуда-то появилась Валентина Петровна и заспешила к нему. Я отвернулся от нее и стал среди молодых, в мой рост, акаций: они растут с той и другой стороны улицы. «Где же Мариша?» Никто не видит, не замечает меня, а мне хочется быть с ребятами, вместе с ними слушать наставления физрука.
Пахнуло дождем — это сменился ветер. С озерного края наплывают на школу тучи. Баженов глядит на них, как на затобольских «пиратов» — заречных шпанят, с которыми мы не раз дрались на Бабьих песках. Серега Каргапольцев, длинноногий, разминается особенно тщательно, а потом легонько трясет то левой, то правой ногой, разгоняя по телу кровь. И тут я вижу — не я один ожидаю Маришу. У школьных ворот на скамейке сидит Павел Махалов. Всем своим видом он говорит, что если Мариши не будет, соревнование не имеет для него никакого смысла. Кухальский, я заметил, не подходит к нему. Чтобы не терять тепло, он не снимает похожий на кольчугу свитер; вокруг него столпились ребята; и по их развеселым лицам я понял — разговор у них не имеет отношения к бегу. Но вот физрук подымает вверх руки и громко хлопает — разговорам конец! Сигналит его судейский, видавший виды, свисток. Школьники рассыпаются нестройно и многолико. Физрук хлопочет на белой линии, выкликает фамилии. Тучи проседают все ниже. Из окон домов родители смотрят на своих сосредоточенных на старте ребят. Физрук подымает руку с красным флажком, и тут я вижу, как на соревнование спешит Мариша: она в осеннем плаще и коричневых туфельках. Мариша перебегает трассу, замирает среди болельщиков, потом встает на цыпочки, словно она потеряла или провожает кого. Наши глаза встретились; и она посмотрела так, словно знает про меня то, чего я о себе совсем не знаю и не догадываюсь. Сердце перестало сбиваться; я почувствовал легкость, будто она сняла с моей головы тяжелый обруч; и, сделав два шага навстречу Марише, я встал среди готовых к забегу ребят. Физрук крикнул:
— На старт! Внимание!
Я стянул через голову лыжную куртку, остался в спортивной майке, а куртку бросил на куст акации, за которым только что прятался.
— Марш! — Физрук бросил к земле флажок, и я помчался, а все кругом забылось и потеряло реальность. Словно я и не жил совсем, и мне отпущены первые в жизни четыреста метров, и я не знаю, сколько надо бежать, чтобы преодолеть расстояние. Я бежал, видя незнакомые спины, колени собственных необыкновенно легких ног, кто-то дышал с загнанным хрипом… А может, это мое дыхание? Потом я увидел, что впереди только два знакомых мне человека, но кто? Бежать — было одно, что я мог сейчас. На повороте ребята оглянулись, и по тому, как у них резко заработали локти, а головы стали подниматься над землей все выше, я понял, что не я лечу по воздуху, а они. И словно кто заголосил в лесу… и подбросили веток в костер, а опалило меня. И сразу я услышал топот ног за спиной, но не меня догоняли, а я гнался за кем-то призрачным впереди. Крики девочек и ребят доносились, как из ночной темноты, где бьются грозовые зарницы.
Финишная ленточка тронула меня, как принимают забытого, когда-то знакомого человека, а потом казалось, что весь воздух заглотили гигантские трубы работающего завода. Дышать было нечем, руки и ноги дрожали, сквозь потную пелену я видел грозное, с широко расставленными глазами лицо Валентины Петровны. Я сидел на скамейке у школьных ворот, а она стояла надо мной и кричала:
— Ты что? Ты в своем уме? Спортсмен объявился!
Мимо нас, уже в куртке и шапочке, прошел Махалов и, глядя мне в глаза, сказал:
— Знаешь, сегодня мне бежать не очень хотелось.
Домой мы возвращались втроем: Баженов, Каргапольцев и я. Валерка в забеге стал третьим. Второе место занял Махалов. Мы шли по улице Кирова, и я говорил ребятам, что по календарю сегодня день Солнца.
IV
Железнодорожная больница на окраине города, а за нею Рябковский лес.
Я иду по лестнице за медицинской сестрой, и это совсем не то, что было пять лет назад, когда по старой больнице меня вели на койку от палаты к палате: в первой спали в кроватках годовалые дети, в другой были мои ровесницы, и девочки в ночных рубашках стеснительно-осуждающе на меня смотрели, а в палате для девушек мне сказали: «Жених наш пришел!» Дальше, помню, я шел отчужденный, насупленный. На железных кроватях лежали старушки, лица и руки которых были цвета мокрого песка. Одна, худая, похожая на учительницу, свесив с кровати тощие, с темными пятнами ноги, сказала: «Какого к нам мальчика привели!» И старушки посмотрели на меня, словно я только народился на свет.
А дальше в палатах спали, читали газеты, разговаривали железнодорожники. Они смотрели на меня, как на давно знакомого, и всегда отвечали на мое «здравствуйте».
Со здоровьем у меня по-прежнему плохо, но я говорю себе, что все хорошо…
В просторном холле два стула, кресла, застекленные шкафчики.
— Посиди здесь, — сказала сопровождающая меня сестра и вернулась с дежурной, на которой был облегающий фигуру белый халат и косынка.
Дежурная медсестра села к столу, достала бумагу. Потом я ответил: кто я, откуда…
Дописав еще несколько слов, она сказала:
— Пойдешь в пятую. Там свободны две койки. Занимай, какая понравится.
Палата была наискосок от стола медсестры. Я открыл дверь. И вдруг из светлой глубины мне сказали:
— Заходи, Ваня.
За время, что мы не виделись, морщинки на лице Георгия Романовича стали похожи на шрамы, а выпуклый лоб на висках оказался вдавленным, словно Георгий Романович долго шел по дороге и эти впадины на висках выдул ветер.
— Ну, что ты стоишь? — сказал он мне.
Я несмело подошел к кровати. Георгий Романович протянул мне руку:
— Вот где встретились.
Никогда не думал, что буду лежать в больнице со своим любимым учителем, и тумбочка у нас теперь одна на двоих, и кровати рядом.
— А я и не знал, что вы в больнице!
— Три дня уже здесь. — Он улыбнулся. — Но завтра в хирургию переведут.
— Вот как, — расстроенно сказал я и, помолчав, прошептал: — Что у вас болит?
— Ничего серьезного. Расскажи лучше, какие новости в школе.
— Все по-старому. Только… К нам в класс, вы, наверное, знаете, новенькая пришла.
Георгий Романович вдруг крепко сжал губы, а его небольшой, повыше скулы, рубец покраснел. Через секунду-другую учитель, словно пережив боль, облегченно вздохнул:
— Новенькая, говоришь?
— Да, — сказал я растерянно.
— Здесь, Ваня, — глаза учителя посветлели, — хорошие врачи, а соседи по палате — интересный народ. — Он кивнул на спящих людей: один, очень седой, лежал на боку, протянув руку с разжатыми пальцами, другой спал лицом к стене.
— Воевали, — сказал о них Георгий Романович.
— А-а, — уважительно протянул я и заговорил шепотом: — Вы поправитесь. Наша больница железнодорожная, а железнодорожников хорошо лечат.
— Я не железнодорожник, — улыбнулся учитель.
— Зато наша школа железнодорожная, а вы нас учите…
Георгий Романович остановил меня:
— Лучше поговорим о другом. Я в прошлую пятницу на кружке хотел вам диафильм показать.
— Да-а? Жалко, что вы заболели… — Я горько вздохнул. — Но меня все равно бы не было.
— Ничего. — Поправив подушку, Георгий Романович неожиданно вполголоса стал рассказывать фильм, а рассказывать он любил.
Я сидел, облокотясь на спинку своей кровати, и, как наяву, видел пехотные каре на Сенатской площади, а от конной гвардии, готовой к атаке, меня закрывал вздыбленный «Медный всадник». Над ним плыли серые, тягучие, как смола, облака. Леденил ветер, но на этом, пришедшем с моря, ветру, дышалось свободно. Глядя по сторонам, я заметил, что люди готовятся встретить огнем кавалерию, и вместе с ними я подгонял амуницию, вслушивался в слова команд. Конная гвардия топотала на другом конце площади, и вперед уже выезжал командир эскадрона: конь под ним был вороной, а на черной кирасе конногвардейца червонел двуглавый орел.
— Эскадрон! — ветер донес пехоте слова команды. — Рысью! Марш! — Кавалерия с тяжелым, все нарастающим грохотом тронулась в нашу сторону. Могучие, злобные на морозе кони, набирая ход, прижимали уши, и скоро конногвардейцы перестали их сдерживать.
— Пли! — Пехотные каре окутались дымом, и многим скакавшим всадникам показалось, что земля разверзлась и они падают в глубокую яму, из которой не выбраться.
А потом в толпе разбитых картечью солдат на узкой Галерной улице я видел барона Розена, того самого, которого сошлют в мой город.
Не закончив рассказа, Георгий Романович закрыл глаза и сжал губы.
— Позвать врача? — испуганно сказал я.
— Со мной все в порядке, — громким шепотом произнес Георгий Романович.
Седой человек, сосед по палате, проснулся и сел на кровати, опустив мосластые ноги. У него были клочковатые брови, глаза с красными, как от бессонницы, веками.
— Извините, Семен Петрович, — сказал учитель. — Разбудил…
— Да чего там, — вяло потянулся Семен Петрович и снова поглядел на меня. Две крупные морщины делили его широкий лоб, но седой человек не хмурился, а глядел так, словно я взял у него нужную в хозяйстве вещь, вернул, но положил не туда, где брал.
— Кто такой? — спросил он.
— Челядин, — назвался я.
— Михаилу. Челядину кем доводишься? — спросил Семен Петрович и обул тапочки.
— Сын.
— А… Я тебя знаю. У отца в дежурке видел. Таким еще… — Семен Петрович распростер над спинкой кровати большую ладонь и обнажил в улыбке редкие зубы. — Отец в Восточном парке все так же дежурным?
— Ага, — сказал я.
Семен Петрович разбудил соседа:
— Чикин! Девки под окном весь снег истоптали, а ты все спишь?
— Так не выпал снег-то. — Чикин поднял с подушки кудрявую голову и прищуренными глазами оглядел нас так, будто каждому хотел помочь.
— Здравствуйте, — сказал я и улыбнулся — таким добрым показалось его лицо.
— Привет честной компании! — Чикин почесал затылок. — Однако, снег будет.
— Ты еще неделю назад пророчил, — шутливо усмехнулся Семен Петрович.
— Подвел барометр! — Чикин хлопнул себя по больным коленям.
— Вот у нашего попа был барометр! — Семен Петрович лег и поглядел в потолок. — Помню, два месяца дождь не шел. Поп собирает в селе крестный ход, и всем миром идем бога просить… Старухи на поле плачут, стоят на коленях, и… как в небе загромыхает, откуда что взялось! Ветер бабам чуть подолы не оборвал. Дождь хлынул — боже ты мой! Поп этим дождем к богу все село обернул. Через месяц только прознали, что у попа в доме на стенке барометр. По нему и определял, когда у бога погоду просить!
— Интересно. И куды ж вы того попа девали? — спросил Чикин.
— Я когда с гражданской пришел — попа в селе уже не было.
— Да, в бедности жили, — загрустил Чикин. — Мне в двадцатом году десять лет было. Посылает меня, значит, папаня в лавку, а штаны у меня одни и на коленях протерты до дыр, которые зашить нельзя. Ну, я и одел штаны задом наперед, да в лавку. Иду… Прореха, конечно, сзади. Захожу в лавку чин-чинарем, а тут девки за мною входят… На смех подняли!
Улыбнулся Георгий Романович, а мы с Чикиным рассмеялись. Дверь отворилась, и медсестра сказала:
— Тише, больные!
Мы замолчали. Из коридора доносились приглушенные закрытой дверью шаги.
— Нет ли у вас чего почитать? — спросил я Георгия Романовича.
Он достал из-под подушки книгу в стареньком переплете. Я открыл ее наугад… В заснеженном поле на кауром жеребце скакал воин бородатый и черноглазый, с заботой на смуглом лице — таким бывает мой папка, когда его ночью зовут на работу. За спиной гонца на красном ремне висели богатый, изукрашенный бирюзой колчан со стрелами и лук с натянутой тетивой. Из-под тегиляя — кафтана со стоячим воротником и короткими рукавами гонца виднелся край шубы, но он, все равно страдая от ветра, скакал, втянув голову в плечи. Год назад папка тоже ходил с бородой, но мама велела ему побриться.
Я подумал о них, лег на кровать и закрылся рукой.
К вечеру потянулись с востока серые тучи! Они светлели, синели, и все, что я видел в окне: кустарник, громада близкого неизвестного здания, уходящий в сторону лес, — тоже темнело, и скоро все замерло, как бывает в начале ночи.
В палате неярко светилась лампа. Георгий Романович о чем-то сосредоточенно думал, Семен Петрович с Чикиным переговаривались.
— Все от человека зависит, — говорил Семен Петрович. — Я это знаю давно. Чуть вожжи отпустил — тут и подкосит. Помню, решили мне операцию делать, йодом, где надо, смазали. А на соседнем столе тоже мужик лежал. Стали нас резать. Мужик заорал благим матом, задергался. Навалились на него. Не умолкает! Хирург, который его режет, нервничать стал, а мой врач спокойно работает. Я как лег под нож, так не ойкнул. Врач мне потом спасибо сказал. «Хорошо, — говорит, — вел себя». Так вот, я за две недели поправился, а мужика того еще месяц на работе не было.
— Что же ты с болезнью сердца не совладаешь? — грустно спросил Чикин.
— Это другой разговор… — Семен Петрович пересел к нему на кровать, и в неярком свете они показались мне молодыми. Сцепив руки «в замок», Семен Петрович сказал:
— Помню, сынишка начнет спрашивать: какая она война? А я молчу. Тяжело вспоминать. Когда он старше стал, я ему сказал: «Войну с чужого голоса не узнаешь. Разве что… Вот печка раскалена. Открой заслонку, и когда голову опалит жар, может, тогда что и поймешь из нашей фронтовой жизни».
И я подумал, что в доме у дедушки есть русская печка.
Рано утром меня разбудила медсестра:
— Иди кровь сдавать.
А когда совсем рассвело, мы увидели снег. Чикин глядел в окно.
— Не подвел барометр. Больные ноги чутче всякого механизма!
Врачи и медсестры вошли в палату, и она сразу оказалась тесной и невысокой. Постояв у кровати Семена Петровича, они посовещались, и по его довольному лицу я понял, что он идет на поправку.
Чернявый, лет тридцати, доктор водил по моей груди новенький стетоскоп, который был холодным, а потом нагрелся. Врач послушал и сказал старой, как моя бабушка, женщине:
— Не слышу. По-моему, ничего особенного.
Высокая и тощая, в накрахмаленном халате, она достала из глубокого кармана свой стетоскоп, и потому, как она прислонила его, я понял — это настоящий врач. Она послушала меня, потом сердито ткнула в сердце указательным пальцем и сказала:
— Здесь.
Молодой врач подхватил висевший на груди стетоскоп, послушал, где указала главврач, и, кивнув, заговорил по-латыни…
У кровати Георгия Романовича главврач задержалась недолго.
— Как себя чувствуешь, дорогой? — спросила она.
— Вашими молитвами, — улыбнулся учитель.
— Моли не моли, Георгий Романович… — Главврач ощупала его живот. — Надо оперироваться. Место в «хирургии» сегодня освободится.
— Благодарю.
— Если бы раньше обратился.
— Некогда было.
Главврач сердито поглядела на меня и сказала:
— Понятно.
В этот день снег больше не падал.
Собираясь в «хирургию», Георгий Романович с каждым из нас попрощался за руку. Пришла чужая, с бесстрастным лицом медсестра, и я заметил, как осторожно ступал Георгий Романович… «Хирургия» представлялась мне большой и светлой, с постоянным запахом йода, блеском металлических инструментов. Мне хотелось догнать учителя, сказать что-то хорошее, но я не двинулся с места. Он был любимый учитель, а я не знал, как заговорить об этом. Потом нянечка молча заменила белье на его кровати.
— Как-то прооперируют, — закинув руки за голову, вздохнул Чикин.
После отбоя мы засыпали в молчании. До больницы не долетал городской шум. Я сидел на кровати. Город разноцветно светился. Ветер метался по голому полю. Гасли огни в большом, на другом конце поля, здании. За дверью раздались голоса, и в палату под руки ввели полного, с испуганным лицом человека. У него были большие глаза, седые хохолки над ушами. Он глухо стонал и, казалось, вслушивался в себя.
— Не волнуйтесь! — говорили ему, укладывая на крайнюю, у двери, кровать. Следом вошел дежурный врач и пощупал у него пульс.
Скоро, насупив седые, узкие брови, толстяк спокойно уснул.
— Это Субботин, — прошептал нам Семен Петрович. — В управлении дороги работает.
Я засыпал, когда в палату из коридора проник свет, и я почувствовал тонко идущий сквозь оконные щели холод. Я отвернулся от света настольной лампы, который бил со стола медсестры, но зябкий сквозняк не давал согреться.
Я поднялся, нашел под кроватью тапочки, тихо закрыл дверь и, юркнув под одеяло, сжался в комочек. Темным пятном Субботин подошел к двери, приоткрыл ее, на меня опять дохнуло липким, как паутина, холодом. Полежав немного, чувствуя беспокойство, я снова поднялся и на этот раз твердо пошел к двери. Не больше пяти минут было темно и тепло, но Субботин не слышно встал и с легким скрипом приоткрыл дверь. Настольная лампа осветила его большой лоб, крутой подбородок. И тут я понял, что ему надо, чтобы дверь была все время открыта. Если захватит боль, он крикнет сестру, а в темноте он боялся.
Ночью мне снилось, как вертолетным винтом крутится, не выпуская меня из палаты, больничная дверь. Это был давно знакомый сон. Часто хворая, за день до болезни уже чувствуя необъяснимое томление, я всегда видел один и тот же сон: дверь моего дома кружилась в проеме, как винт вертолета. Может, засыпая, я всегда слышал надсадное гудение самолета в тяжелом, холодном небе?
На другой день, к обеду, у меня появился жар, а с ним и температура.
— Где тебя просквозило? — сокрушался Чикин, а Семен Петрович достал у старшей сестры замазку, и они с Чикиным убрали сквозняк, но меня уже трясло от озноба.
V
В день Седьмого ноября, когда в Москве отгремел военный парад и началась праздничная демонстрация, к нам еле слышно постучались. У меня забилось сердце, и я первым крикнул:
— Войдите!
Мама, в накинутом на плечи белом халате, остановилась на пороге и звонко сказала:
— С праздником!
Я кинулся ей навстречу. Потом мы сидели рядом.
— От папы, бабушки с дедушкой тебе привет. Велели поцеловать. — Мама обняла меня.
— Я скучал по тебе.
— Нас врач не пускал, — ответила она виновато.
Славно было, что ко мне пропустили маму, что удачно прооперировали Георгия Романовича… Потом я вспомнил, как мама, навещая меня в старой, на привокзальной площади, больнице, принесла большую коробку, на которой было написано: «Инженер-конструктор». Мама тогда открыла коробку, достала из сумки ветряную мельницу, похожую на настоящую, и стала рассказывать, как мастерить из деталей конструктора разные хитроумные штуки. Когда уже дома я однажды вспомнил этот подарок, папа сказал, что мельницу мама собирала после работы и тихо плакала обо мне.
А вечером ко мне в больницу пришли ребята, но в палату их не пустили: из меня еще не вышла простуда. Когда я узнал, что ребята ждут под окном, я встал на подоконник, открыл форточку. На улице было бело. Баженов и Каргапольцев стояли в мохнатых, как папахи, шапках и осенних пальто. Девочки уже были одеты по-зимнему, но Мариши я среди них не увидел. А я не раз представлял, как она приходит ко мне в палату, садится на край кровати.
— Георгию Романовичу операцию сделали! — крикнул я. «Хорошо, — думал я тогда, — если бы все дорогие мне люди жили со мной в одном доме. Георгий Романович поселился бы со мной на одной площадке. Каждый вечер я бы звонил ему по телефону: «Извините, пожалуйста. Вы не заняты? Можно прийти?»
Хотя я не был у Георгия Романовича дома, я знаю, что он живет в двухкомнатной, заставленной книгами, квартире, а в первой комнате, как войдешь, на стене картина, где сшиблись на конях французский гусар с поднятой саблей и казак с пистолетом в руках. Эту картину написал для Георгия Романовича художник, которого давно знает Валерка Баженов. От него я и слышал, что художник в нашем учителе души не чает. Они дружат с войны; и еще я знаю, что время после войны для нашего учителя было самым тяжелым. Его не дождалась невеста, а он вернулся, сильно хромая, израненный, и, бывало, говорил художнику: «Знаешь, пойдем туда…» Они шли к дому, где жила с мужем его бывшая невеста. Учитель долго стоял под ее окнами, художник мрачно курил, а потом они уходили к художнику в мастерскую.
И еще рассказывают. Георгия Романовича боялась, за километр обходила вокзальная шпана, потому что на фронте он был разведчиком и знал все приемы.
«Так вот, — думал я, когда в палате потушили свет, — я стану приходить к Георгию Романовичу в гости. Я люблю его. И еще, когда он поправится, прочитаю все книги, какие у него есть, а Георгий Романович поправится обязательно. Он человек смелый! На коней, Георгий Романович! Слышите колокольный звон, видите конницу — это пятитысячный отряд восставших крестьян атамана Новгородова покидает Курганскую слободу, идет сразиться с царским войском под Иковской, а мы с вами в атаманской конвойной сотне. На нас дубленые короткие полушубки, яицкие папахи заломлены на затылок, у левого бедра сабля, а в руках пики-разлучницы.
На дворе март. Снег на улочках слободы синий, колючий, но мы первыми выходим из слободы, и те, кто за нами, растопчут ночью выпавший снег в грязно-серое месиво.
Георгий Романович, видите, какая наша слобода. Раньше была изрядно застроена, ныне же много пустых мест и обвалившихся крестьянских домов, а офицерские дома разгромлены. В слободе правят крестьяне, и по их указу восстановлены старые укрепления, а кузнецы день и ночь ковали нам сабли и пики.
Народ провожает нас пообочь пути. Ежели нам не побить генерала Деколонга, его драгуны займут слободу, а на площади, против недостроенной каменной церкви, поставят виселицы.
Атаман Новгородов кланяется — народ как заступнику отвечает ему. Атаман ведет конных и пеших со всех окрестных деревень и слобод; за его спиной стонущий конский топот, а конь под ним пегий, степной — от тобольских татар. Они, примкнувшие к пугачевцам, сейчас в разведке. По еще крепкому льду умчались вперед — нет ли засады, везде ли хорош лед?
Колокола на деревянной невысокой церквушке ударили: «Прощай!» — гудят, клокочут.
Чем ближе к крепостным воротам, тем сильнее я вглядываюсь в провожающих. И когда атаман величаво плыл под проездной сторожевой башней, а мой конь ступил на деревянный настил, я в последний миг увидел Маришу: в сером крестьянском платочке, длинном до пят зипуне, плачущая, а потому бледная, она стояла посреди таких же с тоской и надеждой смотрящих на нас слобожанок; но Мариша не признала меня.
И пока сотня спускалась к Тоболу, ее красивое, заплаканное лицо стояло перед глазами, а потом подо мной споткнулся, чуть не упал гнедой жеребец, и Георгий Романович обернулся на меня недовольно: «Гляди за конем! На чистом месте под тобой падает!» Я виновато опустил голову.
Спуск к Тоболу был медленным и крутым, кони у других казаков тоже скользили, старались крепче ставить подкованные копыта.
Утро было прозрачным и морозным. Казаки и мужики, озабоченные проводами, холодно глядя по сторонам, — путь был неблизкий — настраивались на дорогу, на многочасовое движение по Тоболу. Под взмах руки Новгородова мы тронулись легкой рысью вниз по течению реки.
Георгий Романович теперь ехал рядом с атаманом, а я в первом казачьем ряду.
Так будет до Белого Яра. По правую руку — редкий, торчащий из сугробов кустарник, тополиные рощи, березовые колки, малые деревеньки, по левую — берег ниже, удобный для водопоя, кругом снег, редкое жилье, сбегающий до воды кустарник и волчьи, лисьи, заячьи следы на занесенном льду, и два раза поглядели на наше войско с высокого берега лоси. Другой раз казаки подстрелили бы их, а теперь нет, потому что драгуны и солдаты Деколонга уже в Иковской слободе. Надо спешить. Мы переходим то на галоп, то на рысь, а на галопе ветер выбивает слезы из глаз, сидишь в седле, как влитой, и кажется — еще немного и стрелой взлетишь над белой рекой.
Три дня мы сражались под Иковской, но, потеряв семьсот человек и три пушки, отошли разбитые, а Георгия Романовича, когда прикрывали отход, выстрелом из пистолета ранил драгун».
VI
В понедельник, после обхода, Семен Петрович ушел и вернулся сильно встревоженным.
— Георгия Романовича в другую больницу переводят.
Коридор был полон людей. Они спешили на процедуры, говорили о выздоровлении. Я шел мимо, и слово «переводят» пугало душу. В «хирургии» люди ходили медленно, как сбившие ноги. Палата Георгия Романовича была в конце коридора.
— Ванюша! Дорогой! — сказал он. — Как я рад.
Выражение его глаз изменилось. Наверное, так он глядел на передовой. Рассказывал же Чикин, что солдаты, отбивавшие у немцев деревни, врывались в них, почерневшие от бега, изможденные, жилистые. На Украине старухи выносили им молоко, помидоры; они на бегу, тяжело дыша, хватали по одной помидорине, запихивали ее в рот и спешили в огонь, а потом в село приходили другие солдаты, поспокойнее, у которых было время попить молока.
— Куда вас переводят?
— Это рядом…
Мы помолчали.
— Уже зима, — сказал я. — Хорошо зимой.
— А я, Иван, жду весну. Есть день весной, ты, конечно, не знаешь, когда ранним утром солнце играет. — Георгий Романович улыбнулся, а я почувствовал, он скажет мне что-то очень важное.
— К этому дню, Ваня, мать всегда шила нам, ребятишкам, обновы. Чистила ножом в доме полы — белым-бело все, — и я засыпал с уверенностью, что утром увижу, как солнце играет, а перед сном наказывал: «Мама, разбуди». Утром выбегал на крыльцо, а солнце как обычно светит. Обижался: «Ну как оно играет, мама?» — «Значит, ты поздно встал, — говорила. — Солнце отыграло уже». Так я все жду. Может, увижу, как солнце играет, — опять по-хорошему, но на этот раз виновато улыбнулся Георгий Романович.
Когда я вернулся, в палате оборвался важный разговор, но все сделали вид, что его не было.
— Куда переводят Георгия Романовича? — Я подошел к Семену Петровичу.
— Видишь ли, Ваня, все не так просто, — замялся он.
— Георгий Романович сказал, что это недалеко.
Семен Петрович подошел к окну и показал на всегда пугавшее меня огромное, на другом конце поля, здание.
— Это больница?
— Семен Петрович! — быстро заговорил Чикин. — Иван — взрослый уже парень!.. Ваня, слушай. Короче, больница называется — онкология. Там лечат… Доктор, говорят, там знаменитый. Со всего света к нему едут. Там и полечат Георгия Романовича.
Я прижался лбом к студеному от мороза стеклу. К зданию онкологии шли люди, а из узкой светлой двери тоже выходили какие-то люди, и все они спешили навстречу друг другу.
VII
Через неделю меня выписали, а еще через два дня я уезжал в Краснодар. Мне велели на время оставить учебу и уехать на юг. «Если хочешь стать здоровым парнем», — сказал мне на прощание врач. В Краснодаре жила мамина сестра. Она согласилась, чтобы я приехал.
Светлой от снега ночью мы вышли с мамой из дома и пошли по улице Кирова. Окна соседних домов не светились. Тополя стояли в сугробах. Уже давно спали дорогие мне люди. Что они видят во сне? Наверное, Валерка Баженов в комбинезоне десантника летит в самолете. На груди и за спиной у него парашюты: впереди трудная выброска, незнакомые горы, ночные бои. Серега Каргапольцев смотрит на Луну в телескоп. Мариша, старые солдаты Чикин, Семен Петрович спокойно спят, а Георгий Романович видит во сне весну.
До нас долетел поездной гул, прожектора рассекали над станцией темноту. Потом мы услышали деловую скороговорку отца — по двусторонней рации он беспокоился о прибытии моего поезда. Мы миновали школу. Идущий со станции свет отражался в ее пустых окнах. Завтра ребята придут на занятия, и Мария Петровна в 8.45 утра провозгласит им первую перемену.
Вокзал был уютным и сонным. На перроне одиноко ходил милиционер. Запыхавшись от бега, пришел из Восточного парка отец. Он был в черной железнодорожной шинели и шапке с кокардой.
— Отпросился на десять минут, — сказал он. — Айда на четвертый путь! — Скорым шагом мы пошли к сдержанно-гремящему поезду… Десятый вагон, дрогнув, замер там, где мы ждали посадку.
— Здорово, — сказал я отцу. — Как ты догадался, что мой вагон остановится именно здесь?
— Работа такая, — ответил папа, и они с мамой обняли меня на прощание.
— Возвращайся здоровым. Тете в саду помогай.
— Пиши, Ванечка! — просила мама.
— Ну, мне пора, — сказал я. — Идите.
— Нет, — ответила мама. — Мы уж проводим.
— Иди домой. Поздно, — настаивал я. — Не волнуйся обо мне.
Мы расцеловались. Потом я стоял у вагона, смотрел, как, устало сутулясь, они медленно уходили: мама с папой начинали стареть.
Купе освещал станционный свет. Я закрыл за собой дверь и подумал, что завтра рано утром увижу Уральские горы. За окном, держа в руке молоточек, прошел вагонник, и перестук по колесам не будил спящих людей. Сначала был слабый толчок, вагон потянуло, в окошко я увидел депо, паровозное кладбище, на котором в детстве играл с пацанами.
Когда проехали выходной светофор, я отошел от окна. Верхнее место было свободным. На нижней полке с подушки подняла русую голову сонная девочка лет пяти. Она внимательно, с любопытством оглядела меня и спросила:
— Вы у нас будете жить?
ГОСПИТАЛЬ
I
Над близким лесом, клубясь и разрастаясь, темнело облако. Колючие хлопья студили лоб. Иван опустил козырек ушанки и наклонил голову. Он шел по свободной от сугробов дороге. Ветер подвывал, как собака на привязи, телеграфные провода метались, словно кто бежал по ним — неведомый и тяжелый. Из-за размотанных ветром туч появилась и замерла луна.
Снег внезапно перестал; только ветер, разбиваясь о лес, продолжал носиться со свистом. В этом сосновом лесу, в километре от железнодорожного полустанка, был санаторий. Вчера Иван уехал из него навсегда, не застал а городе родственника, у которого хотел погостить, и решил не встречать Новый год на вокзале.
Нелегко возвращаться туда, где уже нет дорогих людей. Если крикнуть с порога: «Вера!» — эхо пронесется по знакомым коридорам и, нигде не споткнувшись, вернется к нему — совсем одному в новогодний вечер.
Тропинка, которая вела к санаторию, петляла между высоких, к вершине густоветвистых сосен. Тускло мерцая, перебегали тропинку тени, иногда с ветвей падал снег, а на столбе заброшенно светился огонек лампы. Месяц назад вечером Иван так же шел к санаторию. Земля и лес ждали снега, а он — выздоровления.
Позади остался столб с тусклым фонарем и ржавыми останками репродуктора. В подростковом санатории, куда шел переночевать Иван, всю войну был эвакуационный госпиталь, и репродуктор, прибитый на столбе, сообщал сводки информбюро. Гуляя в лесу, раненые садились под деревья и молчали.
Иван вспомнил, как однажды вышел из палаты на свет ночника. Нянечка за покрытым белой скатеркой столом не дремала, он спросил: «Что не спите?» — «Вы, школьники, бедовый народ. Напроказите», — хмуро сказала нянечка, но не прогнала. Она давно работала в санатории. «Пришла девчонкой, еще до войны, — рассказала, — когда командиры лечились. Все больше люди хорошие». Никого из них она потом не встречала.
После этого разговора Иван с Верой гуляли по лесным тропинкам, словно стеснялись кому помешать.
В лунном свете здание санатория серебрилось, как прожилки в скальном разломе. Иван увидел лестницу на чердак, округлость бревенчатых стен, ставни первого этажа и вспомнил: в черном отцовском полушубке, с шапкой под мышкой он объясняет Вере, как закрывать ставнями окно: «Надо развернуть их, как гармошку, и, прижав к окну, перепоясать кованой полосой, а узкий стальной наконечник пропустить в комнату через стену — в ней круглое, с пятак, отверстие…» Вера щурилась от солнца и отвечала, что впервые живет в доме со ставнями. А Иван рос в пятистеннике деда. Мальчуганом, когда расходилась метель, он вынимал кудель из отверстия для штыря и, прислонив ухо, слушал бурчание непогоды. Тонкой струей, принося запах снега, в комнату врывался морозный воздух. Утром бабушка открывала ставни, и он слышал сквозь сон, как за окном скрипят ее подшитые валенки.
Иван вдруг ясно представил: на дворе большой снег, глубоко в небе мигают звезды, в Битевском поселке, за полем, лают собаки, стынет непокрытая голова, а он, стоя на крыльце, думает; «Где-то живет девочка, которую я полюблю». Тогда ему казалось, что девчонки не могут любить и выбирать по сердцу. Ощущая любовь, как боль, Иван не мог поверить, что ее может вынести тоненькая, в радости светящаяся Марина, соседка по дому, или одноклассница Люда, которая однажды, по дороге из школы, обняла его, когда они, пятиклассники, возвращались домой среди гаражей, и он подумал: «Не может быть, чтобы Люда полюбила меня». Девочки были тайной. Трудно было представить, что они могут плакать из-за парня, переживать, когда он говорит с соседкой по парте веселее обычного.
Иван остановился под окнами санатория, потрогал ставень. Тот подался без лязга и скрипа. Тени от сосен полосовали осветленный луной снег. Иван медленно обошел дом. У входа, на расчищенной от снега площадке вчера стояли автобусы. Отдыхавших отвозили из санатория прямо к вокзалу. На перроне Иван с Верой долго стояли у вагона, а проводник, махая желтым флажком, торопил: «Простились — и будет!» Потом, ночуя на вокзале, днем гуляя по новогоднему городу, Иван впервые ощущал одиночество. Родственник, у которого он собирался остановиться, уехал по делам в Карелию, а Иван думал, что, как и год назад, летом, они сядут за стол, зажгут лампу с зеленым абажуром и он расскажет дяде о том, что отец его по-прежнему дежурный по вагонному парку, мама все так же ходит на завод пешком по улице Кирова, мимо обмелевшего озера, и не увольняется, хотя работа с кислотами. В последний день старого года не было солнца, и, гуляя по улицам города, Иван перебирал в памяти все, что было связано с Верой. Провожая ее, он не знал, что вернется в санаторий и это будет, как пробуждение.
Держа в памяти заледеневшие окна вагона и руки проводника, не пускающие Веру из поезда, и ее плачущий крик: «Не забывай!», Иван постучал в дверь санатория. За спиной кто-то живой прыгнул с высоты. Он вздрогнул и обернулся — это с поля прорвался ветер и сбил с дерева снег. Потом ветер ткнулся в темные окна — они ответили перезвоном. Здание санатория больше не походило на отваленный от скалы валун, Иван чувствовал: там есть живая душа — и стал бить в дверь кулаком. Окна не зажигались.
— Откройте! — закричал он. — Ну откройте же!
И знакомый пожилой голос спросил:
— Чего вам? Чего шум поднял?
Иван крикнул:
— Марья Васильевна! Это я, Челядин!
Приоткрыв дверь, не снимая цепочку, Мария Васильевна спросила:
— Ты как здесь? — Иван увидел, что узкие, теряющие цвет глаза глядят недовольно и заспанно.
— Переночевать бы мне…
— Начальства никого нет, — с раздражением ответила нянечка.
Чувствуя, как на скулах натянулась кожа, судорожно глотнув, Иван с обидой сказал:
— Тогда извините.
Дверь захлопнулась и снова, уже со снятой цепочкой, открылась. Нянечка громко спросила:
— А Вера твоя где?
— Вчера еще проводил.
— Заходи. Снег отряхни. — Она с трудом наклонилась, пошарила за дверью и подала ощипанный веник.
Иван чистил от снега ботинки и думал: «Конечно, кто я ей? Отдыхающий… бывший».
Нянечка, стоя на сквозняке, назидательно говорила:
— Задники не почистил. Мокро разведешь. Да резче сбивай!
Войдя в освещенный коридор, Иван потопал ногами. На чистой красной дорожке остались слетевшие с ботинок льдинки, и он заметил, как недовольно поморщилась нянечка.
— И куда же тебя девать? — сказала она и повела его в раздевалку.
— Голодный? — суховато спросила.
— Нет. Мне переночевать только.
— Переночевать только, — передразнила нянечка. — На дворе девятый час вечера. Где заночуешь?
— В своей палате, — ответил Иван.
Отойдя ото сна, нянечка уже без раздражения говорила:
— Значит, вернулся?
Не отвечая, Иван открыл дверь в раздевалку. Здесь, в этой комнатке, вернувшись с вечерней прогулки, он впервые увидел Веру. Болезненно-вяло, чувствуя тяжесть в руках, он тогда неловко снимал полушубок, как вдруг, прижимая к груди дубленую шубу, легонько толкнув его, вбежала в раздевалку девчонка в синем клетчатом платье…
Нянечка, заглянув в раздевальную, спросила:
— Уснул? Электричество переводишь.
Иван улыбнулся.
— Не надо сердиться. Сегодня Новый год.
И нянечка потушила за ним свет.
Палата Ивана окном выходила на лес. Опять падал снег. За лесом подал голос электровоз. Тишина была, как в тот день, когда он слег от простуды. Вера вошла в палату неслышно. Иван вспомнил, как взял ее за руку и попросил сесть на кровать. Она сидела, прикрывая коленки синим коротким платьем, но стоило ей шевельнуться, платье вновь задиралось, и она закрыла коленки руками. За окном с елки на елку, сбрасывая с веток снег, прыгала белка. На душе было хорошо, и он чувствовал, что скоро поправится.
Войдя в палату, нянечка с порога заговорила:
— В темноте, при свете — все сам не свой. Постельное белье тебе принесла. Отдыхай.
— Я передумал. Ночевать буду на втором этаже. — Иван взял стопку белья, и нянечка пошла досыпать прерванный сон, а он по неширокой скрипучей лестнице поднялся в комнату номер двадцать четыре.
Узкая деревянная кровать Веры тоже стояла у окна. Четыре койки с одноцветными одеялами казались давно оставленными. Заходить к девчонкам не разрешалось, и в гостях у Веры за смену он побывал всего один раз. Они сидели за столиком, и он рассказывал, как прошедшим летом, после девятого класса, работал в гидрологической экспедиции. Подперев голову кулачком, Вера задавала вопросы: какого цвета вода в Иртыше, какие люди живут по его берегам…
В Казахстане Иван рубил теодолитчикам просеки, таскал грузы. Иногда греб на веслах — надо было на большом участке промерить эхолотом глубину Иртыша. Как-то в конце рабочего дня Иван стал задыхаться: лодку уже выносило из створа. С отчаянной руганью, привстав с сиденья, он налег на весла и сумел выправить лодку. До следующего, в двадцати метрах, створа, он волок ее за собой на цепи; на быстрине играли мальки, а он черпал воду горячей ладонью, пил и не мог напиться.
Потом Иван рассказал Вере, как однажды дед привез из леса раненного дробью филина. Его вытряхнули из мешка и унесли в сарайку. Но скоро, услыхав громкие голоса у ворот, все, кто был в доме, выскочили во двор. На высоком дощатом заборе окаменело сидел филин, а прохожие стояли завороженно.
Иван вспоминал для Веры, как мохнатый, широкогрудый пес Боб дружелюбно позволял ему, трехлетнему, садиться к себе на спину, а зимой, запряженный в санки, весело катал его за старицей. У Ивана была фотография: они с Бобом сидят на прогретой солнцем земле, а бабушка рассыпает курицам корм.
Дед учил Ваню рыбачить. Бабушка открывала ворота, и они на мотоцикле уносились со двора. Деду было под семьдесят, но с техникой он справлялся, а в лесу и на речке был своим человеком. Восьмикратный бинокль и умение деда маскироваться открыли Ивану, что ласка может отбиться от болотного луня, а жаворонок поет о том, что видит кругом.
Однажды они с дедом привезли на озеро покатать на резиновой лодке маму: после ушиба позвоночника она долго не выходила на улицу. Пока приводили в порядок лодку, ветер надул тучи. Иван все же решил спустить на воду лодку, но ударом волны ее вышибло на прибрежные камни. Дождь сыпанул сразу. Они с дедом кинулись собираться к отъезду, а мама, полулежа в мотоциклетной люльке, смотрела на взлохмаченные облака, дождь бил ее по рукам и в устремленное к небу лицо, но она радостно улыбалась.
Иван посидел за столиком. Решив застелить кровать, поправил матрац. Коротко вспыхнуло зеркальце — круглое, маленькое. Оставленное неизвестной девушке, оно досталось Ивану. Вера говорила, что в пионерском лагере, где она отдыхала раньше, было принято оставлять подарок следующей смене, и она, девятиклассница, не забыла детский обычай. Иван подышал на зеркальце…
Застелив постель, он погасил свет. Сильный снежный ветер бился в окно. На потолке и в оконном проеме мелькали тени от близких веток: сумрачно отмахивались от снега ели, сосны принимали его, а оголенные березы растревоженно бились. С восточной стороны узкой полосой дом окружал смешанный лес. Ветер редко пробирался к санаторию с колхозного поля, но стоило человеку к ночи выйти из леса, как он бил так, что срывалось дыхание. Прогулки Ивана и Веры обычно кончались у поля.
Вера пряталась за спину Ивана, и они уходили от ветра. В хорошую же погоду на западной окраине леса они иногда смотрели, как уходит солнце и в ранних сумерках загораются светлячки близкого за полем села. В конце декабря, ближе к вечеру, они пошли до него пешком. Солнце рвалось сквозь полные снега тучи, поземка была рассыпной. Вера, чтобы не оступиться, держалась за его руку. Беспокоясь, не замерзла ли она, Иван сказал, что ей нельзя простужаться, а Вера посмотрела на него с удивлением — в санатории не было принято говорить о болезнях. Спохватившись, Иван выпалил, что в селе живут знакомые из санатория дворничихи.
— А я и не знала, — с улыбкой сказала Вера, — что ты им помогаешь.
— Просто я очень рано встаю, а женщины уже чистят снег. Иногда помогаю…
— Где они были во время войны? — Если речь заходила о взрослых людях, Вера часто задавала этот вопрос.
— Землю пахали.
Они шли по стылой земле, и Ваня говорил, что из Челядиных на фронте погибли трое. В память о старшем его и назвали Ваней. Говорили, что он на него похож: русоголовые оба и нос прямой, и улыбка одинаковая — челядинская, от которой морщинки разбегаются по лицу.
— Они сражались в пехоте? — спросила Вера.
— Сергей — в пехоте, а Иван — в танковых. В 1942 году к бабушке заехал после госпиталя офицер и рассказал, что его колонну на марше накрыли «юнкерсы» и наши легкие танки сгорели, как свечки. После этого разговора бабушка заболела. Спать не могла, говорила: «Закрою глаза, и сразу незнакомый лес… Кто-то выходит из чащи, а это Ванечка — военная одежда на нем разорвана, побитый на лицо, темный. В руке танкистская шапка. Кивает стриженой головой, улыбается. Я к нему кинуться хочу, и не могу — ноги отнялись…» Она уверена, когда сын в танке горел, то звал ее.
Село лежало в низине. На холме с подветренных сторон тополя берегли статную белую церковь. Лучами от нее расходились дома и приусадебные участки. Околица начиналась торчащими из оврага крышами; и с каждым шагом дома как бы выходили навстречу: сначала виднелись занесенные снегом кровли, обшитые досками чердаки, а потом рубленные из бревен стены, при обычной погоде бурые, мрачноватые, а на восходе и закате с теплым свечением. Молодые, набирающие силу дубки кое-где поднимались над крышами.
Огороды, не разделенные заборами, открытые непогоде, были обильно занесены снегом. Пройдя между участками по натоптанной дорожке в пустующий двор, Вера с Иваном открыли калитку на улицу. Свернув в проулок, они увидели мост через затерянную в снегу речушку. Играя в войну, на нем, как сорочата, стрекотали мальчишки: один в стареньком, подпоясанном солдатским ремнем пальто, в валенках и сползающей на глаза шапке пронзительно закричал в их сторону:
— Ванька! Иди сюда!
Иван вздрогнул и оглянулся… Во двор невысокого дома сумрачно открывал калитку парнишка с портфелем в руке. Опустив голову, не посмотрев на занятых игрой друзей, он вошел во двор, а Вера сказала:
— Двойку за четверть получил! — и улыбнулась грустно.
За мостом на них опаленно глянуло дупло огромного дуба. Разваленный молнией, дорубленный топорами, он был свален очень давно. Кряжистый, отполированный ногами мальчишек, вмерзший в речку дуб лежал, как выброшенный волной, всеми забытый лесной бог. Обожженное огнем дупло уходило в землю. Иван заглянул в него, как в колодец. Чуть дальше лежала, раскорячив оголенные ветки, отпиленная верхушка дуба, и в живом изгибе ветвей Иван увидел взметнувшуюся гриву и застылое на последнем судорожном вздохе лошадиное горло.
От моста дорога вела на холм — к окруженной тополями церкви. Рядом с поповским домом рос молодой тополь, к нему ржавыми гвоздями был прибит почтовый ящик. В углу двора за зеленым с белыми крестами забором стоял бревенчатый сарай. Они обошли закрытую на замок церковь. Фрески на стенах были скупы. От леса над полем летели чистые, облегченные облака, в заснеженном поле не было ни души.
Спускаясь с холма, Вера увидела правее дороги в ивовых кустах странно изломанный могильный курган. Сначала они не распознали, что перед ними. Обмерзлые, покрытые снегом деревяшки, веревки и ремни лежали в одной куче, как сметенные ураганом. Иван вгляделся и стал узнавать истлевшую конскую упряжь, старые седла, спутанные в клубок вожжи, проржавелые тележные оси, вырванные оглобли. Он вытащил из-под снега колесо от телеги и, не зная зачем, пересчитал спицы.
— Десять, — сказал он. — А я раньше не знал.
Самодельные, стянутые на изгибах выцветшими веревками упряжные сани валялись на боку, а полозьями кверху — другие. Торчали из-под снега опрокинутые, без колес, телеги, старинные, с деревянными зубьями, бороны. К иве была прислонена соха, а к ее отбеленным водилинам привязаны плечевые ремни. И тут Иван понял, что в военное безлошадье, впрягаясь в эти ременные петли, женщины и подростки пахали на себе… Тяжелый лемех нелегко вспарывал землю, самодельная деревянная станина дрожала от напряжения. Взяв соху за водилины, Иван потянул ее на себя. Искореженный лемех загреб снег. Иван чуть поддернул, но соха больше не двинулась. Он прислонил ее к иве, потрогал рукой. Держалки были белесыми от влаги и старости; крепления станины еле держались; привязанный к отвалу, сложенный в валик, мешочек со следами земли мерзло хрустел под рукой…
Они возвращались полем, когда сосновый лес осветили прорвавшие облачность солнечные лучи. Солнце уходило за церковь, и в ослепляющем белом свете не было видно ни куполов, ни крестов.
II
В коридоре потаенно, еле слышно скрипнули половицы. Иван поднял с подушки голову и подумал: «Нянечка ходит». На потолке сидели неясные, синие тени. Стены комнаты, зеленовато светясь, казались высокими. «Какая странная пустота кругом, — думал Иван, — будто никого нет на земле, или я в огромном, гулком колодце, а Вера среди тысяч людей идет по Невскому — нарядная, красивая, ей так идет синее пальто с капюшоном. Падает мокрый снег, щекочет лицо, она отмахивается от снежинок варежкой. Я не знаю, кто рядом с ней, но чувствую, как и мне, ей тоскливо в эту новогоднюю ночь. Пусть рядом с Верой самый красивый человек на земле — в большом городе так много красивых людей, — я знаю, она любит меня. Вера так плакала на вокзале. Неужели мы больше никогда не увидимся? Зачем я приехал сюда, где мы были так счастливы? Это пытка — сидеть на ее кровати, дышать ее воздухом, смотреть в окно на лес, который она любила, удивляясь, почему днем над ним всегда грязно-серое облако. В лесу нам было легко и свободно. Вера, родная! Теперь я знаю — любовь есть на земле. Как две кометы из огромной черной пустоты, мы неслись навстречу друг другу. И вот я один, и душа в капкане. Между нами, Вера, полторы тысячи километров, а будет еще больше».
Половицы под дверью опять скрипнули — прогнулись под легким шагом. «Кто там ходит?»
— Марья Васильевна! Нянечка!
За стеной знакомо, с гулким звоном щелкнул переключатель, и в холле, который был рядом с палатой, по-шмелиному загудел телевизор. «Заскучала», — подумал Иван о нянечке. Басовитое гудение прекратилось, и глубокий девичий голос рассказал, где какая погода.
— На юге Западной Сибири минус тридцать два градуса, — услышал Иван и подумал, что дома сейчас последние хлопоты: бабушка, конечно, помогает маме на кухне, а отец в выходном костюме, при галстуке занимает дедушку разговором.
Тяжело вздохнув, Иван стал одеваться. Скоро он вышел в холл. В люстре, как всегда по вечерам, горела одна лампа. В кресле у телевизора сидела девушка. Он увидел каштановые, прямые до плеч волосы и тонкую с бледными пальцами руку на подлокотнике кресла. На журнальном столике нянечка раскладывала чайные блюдца.
— Здравствуйте, — сказал Иван, подумав: «Откуда здесь девушка? — и встретил ее утомленный взгляд.
— А вот и кавалер, Надя, — шутливо-серьезно сказала нянечка. — Повеселит нас.
— Нет, Марья Васильевна, — смущенно ответил Иван. — Кто пировать, а я горевать.
— Ты это брось, парень, сегодня Новый год, — искренне удивилась нянечка. — Чай с баранками будем пить.
— А это кто? — наклонившись к старушке, стараясь, чтобы не слышала девушка, спросил Иван.
А Марья Васильевна выпалила:
— Она с тобой в одной смене была! Надя, ты ж его знаешь?
— Знаю, — не оборачиваясь, ответила девушка.
— Да? — Иван растерянно сел рядом с ней и, помедлив, сказал: — Странно… Как это мы раньше не виделись?
У девушки были карие с восточной грустинкой глаза, светлые тонкие брови, красивого рисунка губы. Она пристально посмотрела на Ивана, но ничего не ответила.
Иван откинулся в кресле и стал смотреть телевизор… В редких, освещенных солнцем тростниках, подминая крепкими ботинками молодую траву, одетые в маскировочную форму, осторожно передвигались наемники. На их суровых, выжидающих лицах был профессионально спрятанный, но все же заснятый оператором страх. В небе, нервно гудя, появился вертолет, и наемники сразу стали стрелять по густому впереди них далекому тростнику. Припадая на колени, падая и поднимаясь, они перебежками скрылись в зарослях, и оператор еще показал их напряженные, согнутые, тесно обтянутые пятнистой одеждой спины. А потом те, кто прятался в зарослях тростника и по кому наемники вели огонь, мирным шагом, одетые в невоенное, тоже прошли перед кинокамерой: бесстрастно нес винтовку плотный, смуглолицый крепыш, у высокого улыбающегося парня на костистом плече был гранатомет, а у кудрявого, строгого на вид мужчины через шею на выцветшем ремне висел трофейный американский автомат. Замыкающий цепочку черноглазый парень в хаки шел чуть раскачиваясь. Его удлиненное, усталое лицо было в поту, хаки во многих местах разорвано. Парень крепко нес ручной пулемет, и по тому, как он ловко держал его, было видно, что повстанец прошел не одной военной дорогой.
— Воюют, — грустно вздохнула нянечка.
— Воюют, — ответил Иван.
…Юноши и девушки в светлых рубашках и брюках строили баррикады, опрокидывали машины. В небе опять висел вертолет, и солдаты в маскировочных одеждах в тумане слезоточивых газов рысцой бежали в атаку на баррикаду.
Потом на экране снова шел бой. Среди больших наваленных друг на друга камней двое юношей, спотыкаясь и сгибаясь от тяжести, тащили носилки с раненым партизаном, а тот закрывал лицо согнутым локтем.
— Мальчишки совсем, — говорила нянечка. — Тяжело им. Куда они его? Камни кругом.
— В госпиталь несут, — вслух подумал Иван.
— В нашем санатории в войну хороший госпиталь был, — посмотрев себе на руки, сказала нянечка и, нахмурив брови, достала из хозяйственной сумки, прислоненной к ножке стола, связку баранок. — Давайте, ребята, чай пить. Новый год за окном. Вот-вот постучится.
Иван с Надей поднялись и, не глядя друг на друга, как незнакомые, сели к журнальному столику.
— Ты, Иван, родом откуда? — наливая заварку в стакан, спросила нянечка.
— Из Сибири.
— Ну? — Глаза нянечки радостно оживились. — Да не похож ты на сибиряка!
— Почему? — смутился Иван.
— Да росту ты невысокого.
— Дак я из тех мест, где Сибирь начало берет. Это дальше, за нами крупный народ.
— Ох, парень! — горделиво сказала нянечка. — Повидала я сибиряков, когда их в сорок первом году под Москву везли. Росту все двухметрового, в белых полушубках, валенки до половины кожей обшиты, варежки специальные, чтобы стрелять, с тремя пальцами, шапки на голове — ладный, красивый народ…
— Марья Васильевна, — перебила старушку девушка. — Вы нам расскажите про госпиталь.
— А что рассказывать? Чего старое ворошить. Работали, да и все. Я за ранеными ходила.
— К вам в госпиталь, когда первых раненых привезли? — спросил Иван.
— Да как война началась, через две недели. Поезд пришел, отцепили для нас несколько вагонов, а состав дальше по России пошел. До войны в этом доме, как и теперь, санаторий был, но для военных. Я в нем и работала. Э, да что старую боль вспоминать! Все-таки Новый год. Лучше будем телевизор смотреть.
— Нет! Нет! Марья Васильевна! — взволнованно заговорила девушка. — Расскажите про госпиталь. Вы говорили, что санитарный поезд пришел через две недели после начала войны. Какие они были, наши солдаты?
— Что значит, какие? — удивленно переспросила нянечка.
— Ну, отступали ведь. Какие они были?
— Этого я не помню.
«А ведь она помнит», — подумал Иван.
— Работали все, — негромко сказала нянечка. — Я, например, разную работу вела. У меня на руках было несколько палат. Мыла ребят, которые сами не могли. У нас в подвале — там теперь склад, вы не знаете, — была вроде как баня. Многие, особенно молоденькие, помню, стеснялись, не хотели, чтобы мы, женщины, их обмывали, а я говорила: «Закрой глаза и думай, что ты дома у матери, а она тебя разным видала. А уж мы, как мама, постараемся тебя хорошо помыть». Какие пораненные были! Боже ты мой! Вынимали их из вагонов беспомощных. Самые-то первые наспех обработанные были, а какие и хорошо перевязанные — все зависело от человека, который перевязку делал. А один танкист, помню, — и Мария Васильевна заулыбалась, а потом засмеялась в кулак, и ее лицо неожиданно помолодело, — ну до чего забавный оказался. Сначала совсем ничего не говорил. Контуженный. Лежал немой да слабый после контузии три недели. Я ему обед принесла. У него как раз аппетит разыгрался. Тарелку он взял, а ложку в руке не удержал. Упала на пол. Он в сердцах как даст матерка и покраснел, да так, что вся палата захохотала. А мне радостно — человек ожил! Ох, и юморной был! Такой острослов оказался. Мы, нянечки, тоже лечили. Следили, чтобы везде была чистота. А как мы мыли полы! Ножами скоблили, горячей водой шпарили, чтобы заразы какой не осталось. Людей любили, старались для них.
— А как они, солдаты, в часть возвращались? — спросил Иван.
— Им все новое выдавали: гимнастерку, шинель, сапоги — все. Придут к нам, слов хороших наговорят, расцелуем их на прощание. Бывало и так: пройдет месяца три — и опять тот же солдат или офицер штопаться пришел. Вот какая судьба.
— После войны ни одного солдата, который у вас лежал, не встречали? — спросила Надя.
— Нет.
— А кого из раненых особенно помните?
— Многих, кажется, помню. А может, мне это только кажется… Ой, внизу, вроде, телефон звонит! Вы не слышите? Директор меня проверяет или дочка звонит… — Нянечка заторопилась на первый этаж.
— Спасибо вам, — сказала ей Надя.
— Да за что, милая?
— Просто. Спасибо и все.
— Всем спасибо, милая.
— Славная она, — сказала ей вслед девушка.
— Да, — согласился Иван.
— Давай поговорим. — Надя внимательно посмотрела ему в глаза.
— О чем?
— Обо всем. О нянечке, например.
— Почему о нянечке? Сегодня Новый год. Поговорим о будущем.
— Знаешь, мне повезло, что я узнала обо всем сейчас, в начале смены. Я буду думать, как тут жили и выздоравливали раненые…
— Слушай, — решился спросить Иван. — Нянечка сказала, что мы с тобой были в одной смене. Почему я ни разу не видел тебя?
— Ты и не мог меня видеть. Первую неделю, когда все еще только осматривались, я простудилась и весь месяц была в изоляторе.
— Вот как, — посочувствовал Иван. — Теперь эти пропущенные по болезни недели ты будешь жить в санатории?
— Да.
— Понятно. Надо же, как не повезло тебе. Знаешь, я тоже лежал в больнице, не раз…
— Знаю. Мы же не на турбазе, а в санатории. Тут здоровых не держат. Но больше не будем говорить об этом. С Новым годом тебя!
— И тебя, Надя!
В люстре по-прежнему горела одна лампа. Светился экран телевизора, диктор объявляла, что самодеятельный хор из Пинежья споет обрядовую песню.
— Надя, в Пинежье хочешь поехать? — спросил Иван.
— Очень хочу.
Ветер покряхтывал за окном. Пинежцы водили хороводы: старушки в крестьянских уборах и старики в белых, вышитых на груди рубахах и черных заправленных в сапоги штанах пели:
Родимый ты мой батюшко, Отпадает да право крылышко, Отлетает да сизо перышко. Разве крылышку да не больно, Разве перышка тебе не жалко…Потом три старика играли на дудках, и один, бородатый, с озорными глазами, еще молодцеватый, весело помаргивал, словно куда звал за собой.
— Этот старик на моего деда похож, — грустно сказал Иван.
— Он жив?
— Да.
— Счастливый. А у меня ни дедушек, ни бабушек. В Гродно под бомбежкой погибли.
— Знаешь, Надя, что если бы все, кто на войне погиб, замерз, утонул, сгорел, враз бы ожили. Куда бы они пошли?
— Сначала домой. К матерям, детям, женам.
III
Иван лежал головой к окну и думал о Вере. Синеглазая, светло-русая девочка в синем клетчатом платье неотступно стояла перед ним; никогда в жизни он не переживал такой необыкновенно сладкой тоски и одиночества, от которых хотелось заплакать. «Вот и Новый год, — думал он, — а праздника нет, потому что я без тебя, Вера, дорогая моя. Вот как случилось… Мне труднее, чем тебе, Вера, потому что я там, где мы были вдвоем…» И еще Иван с горечью думал, что он в своей жизни еще ничего не смог и, наверное, Вера через полгода забудет его… Здесь, в палате, сорок лет назад, может быть, на этом месте стояла не деревянная, как сейчас, а металлическая, с никелированными шишечками на спинках кровать, и на ней маялся от ран танкист ненамного старше его и в предсмертной тоске звал любимую девушку, а в эту минуту, пока он, Иван, в чистой постели мечтает о Вере, где-то его сверстники выносят из-под огня раненых. «А я, что могу я? Ходить на веслах, пилить дрова, ловить рыбу, разжечь костер в сырую погоду, плавать. А спасти человека, когда он тонет? Нет! Силенок не хватит. Как ни сопротивлялся болезни, она все же отбросила меня от здоровых людей. Я отстал. В детстве я так любил слушать радио. За несколько минут можно было побывать где угодно: люди говорили, смеялись, пели, играли на гитарах. Хлопанье паруса, шум океана, морзянка — за каждым движением был человек, который знал ремесла, жил, выздоравливал. Куда ни поверни ручку настройки — везде были люди, работники, а я не с ними. Все мимо меня. Внизу, на первом этаже, спит нянечка, тоже всю жизнь работница, которая поднимала израненных на ноги, и это было главной в ее жизни, самой нужной работой, и ей спокойно».
И после всех этих мыслей ему вдруг стало обидно и стыдно за себя, что он слабый, не готовый к серьезному делу парень, в котором никто не нуждается, у которого никто не просит помощи. Ему нечего было рассказать о себе Вере, нянечке, Наде и даже вспомнить нечего, и здесь, в госпитале, неловко вспоминать о своей жизни, такой неинтересной, маленькой. Но он вдруг почувствовал, что вспомнить о своем ему зачем-то надо, даже необходимо, без этого что-то не прояснится, не сложится, не встанет на место. И Иван вспомнил, как он выходит из дедушкиного дома во двор и взбирается по старой лестнице на чердак. С крыши виден далекий лес. Сжавшись в комочек, он смотрит за старицу. Тополиный пух касается рук. Во дворе играют щенки, а совсем одряхлевший пес Боб, греясь на солнце, лежит в огороде. Ивану всегда казалось, на чердаке есть какая-то тайна, и крючок от дверцы он всегда снимал с трепетом и надеждой. На входе дурманила голову собранная и развешенная дедом лекарственная трава, под ногами неслышно рассыпался песок, сквозь прорехи в крыше точились мелкие лучики. Свет бил через открытую дверцу, и впереди Ивана шла ломкая тень. Он закрывал глаза и через минуту видел порванную конскую упряжь, тележные оси, колеса, а на иссохшем бревне почернелое седло. Все, что отслужило дому, прибранное дедом лежало как бы на отдыхе. Висели на гвозде уздечки, у печной трубы стояла тумбочка, в которой лежали куски резины, паяльники и россыпью бракованный шрифт. До войны дядя Шура, типографский слесарь, принес его на грузила. Осторожно ступая, трогая незнакомые вещи руками, неожиданно для себя Иван понимал их назначение — это было как воспоминание, как дорога на пашню, где горит костер, а подле него усталые от пахоты те, от кого родились дед, убитые на войне Иван и Шура, Сергей, мама — родные, близкие, в жизни которых пашня была за обычай… И больше не чувствуя себя одиноким, Иван крепко заснул.
А в эти минуты Нового года, за тысячи километров от бывшего госпиталя, в старом доме, на третьем этаже, в комнате с очень высоким потолком Вера писала ему письмо. Она сидела в огромном глубоком кресле, подобрав под себя ноги, ее острые локотки по школьной привычке ровно лежали на старинном красного дерева столе, а бумага билась в такт ее сердцу.
«Здравствуй, мой милый Ванечка! Вот я и в Ленинграде. Эти слова звучат для меня как приговор. Как грустно и тоскливо. Мне хочется вернуть все назад. Сердце рвется на части. Хочется кричать, плакать, бежать от этого жуткого чувства разлуки, утраты и горечи. Я не знаю, что задержало меня тогда в вагоне, еще минута и — я бы прыгнула к тебе на платформу. Видимо, меня удержал проводник. Я не помню, что он говорил, не помню, что делалось кругом. Мне было все равно. Все перемешалось в голове, твое лицо стояло в глазах, сердце обливалось кровью. Мне казалось, это поезд во всем виноват, это он, противный поезд, увозит меня от тебя. Как мне хотелось остановить эту железную машину, хотелось бежать к тебе, обнять крепко-крепко, чтобы никто не мог отнять тебя у меня. Потом я сидела у окна, но видеть ничего не могла, слезы туманили глаза. Так прошло даже не знаю сколько часов. Вдруг я вспомнила про твою фотографию, вскочила, побежала искать свою сумку, но никак не могла найти ее. Она оказалась у проводника. Он принес ее, и я машинально открыла, замок, достала фотографию. Я смотрела на тебя и все более успокаивалась, теперь мне казалось, что ты со мной. Пусть даже я не увижу тебя никогда, ты останешься со мной, в моей памяти на всю жизнь, ведь ничто не исчезает бесследно.
Дома я была тридцать первого декабря. Не знаю, как уж так получилось, но я сразу стала рассказывать о тебе, а мама с сестрой сказали мне: «Какая же ты наивная. Не залетай так высоко. Спустись на землю». Поэтому я не встречала Новый год дома. Я сразу собралась и уехала к двоюродной бабушке Тане. Я говорила тебе о ней. Она старая, очень больная, в блокаду погибли ее муж и единственный сын — офицеры, она осталась верна им. Бабушка Таня совсем одна, и мы никогда не забываем ее.
Я пришла в небольшой дом, зашла в подъезд, поднялась на третий этаж, открыла квартиру. Из современной обстановки я сразу попала в старинную. Огромная прихожая, высокие потолки, какие-то сундуки, чуланчики, полочки. Все очень напоминало старые времена. Такие квартиры бывают только в кино. Мне даже казалось, вот-вот появится красивая барыня в длинном-предлинном платье и скажет: «Бонжур». Но ко мне вышла старенькая, радостная, с ясными синими глазами бабушка Таня. Она так хорошо и ласково приняла меня. Обогрела, напоила чаем, я все рассказала ей. Какая она хорошая! Обняла меня, расцеловала и пожелала нам счастья.
Потом я принялась за дело: помыла полы, сняла редкую пыль и паутину. Вечером я вышла на улицу. Погода была великолепная. Настоящая русская зима. Все сверкало и переливалось. Деревья и дома, оттененные в сумерках белизной снега, будто плыли по воздуху. Снег, настолько легкий, что его подымало малейшее дуновение ветерка, хрустел под ногами. На улице было немноголюдно. Я перешла Львиный мостик, вышла на Театральную площадь, здесь находятся театр оперы и балета имени С. М. Кирова, консерватория. Пройдя еще небольшое расстояние, я вышла к Исаакиевскому собору. Дальше я пошла на Неву, гуляла по набережной. Вот я и на Дворцовой площади. Здесь я остановилась, достала твою фотографию и стала показывать тебе Александрийский столп, Зимний дворец. Хотя я порядком замерзла, но торопиться к бабушке Тане не стала, пока не показала тебе ростральные колонны и Медного всадника. Наконец, мы с тобой, Ванечка, поспешили домой. Мы пришли домой замерзшие. И я не раз пожалела, что была в открытом капроновом платье, а ты говорил, что это ты во всем виноват, не проследил, чтобы я оделась теплее. Отогревшись, мы сели за стол, и на нас нахлынули воспоминания о нашем житье-бытье в госпитале. Это был самый лучший Новый год в моей жизни. Когда пробило двенадцать часов, я зажгла Нашу Свечу и стала танцевать с ней, помнишь, как тогда, на прощальном вечере… А слезы катились сами собой. Все было так, как нам хотелось. Вот так прошел зимний праздник, он прошел вместе с тобой. Мне трудно сейчас; я не могу смириться с тем, что не увижу тебя долгое время или не увижу совсем; мне очень трудно потерять тебя, я не хочу терять тебя, не должна! Ты не сомневайся во мне, а я не буду сомневаться в тебе. Обещай мне. Обещай, что будешь любить. Мне нужна твоя любовь для того, чтобы жить, а я буду любить тебя так, как уже после меня не сможет любить никто. Я буду всегда такой, какой ты любишь меня. У нас все будет хорошо. Я хочу быть счастливой! Но для этого мне просто необходимо хоть раз еще увидеть тебя. «Все проверяется на расстоянии», — говорил ты. Пусть проверяется! Чему быть, тому не миновать. И все же… меня всю жизнь будет сторожить Белый Клык, которого ты подаришь мне, долго, долго мне будет сниться наш госпиталь, зимняя дорога к селу и река подо льдом».
IV
Когда рано утром нянечка пришла разбудить Ивана, он уже завязывал шарф.
— Едешь? — спросила. — Может, и не свидимся больше. — Нянечка грустно глядела на него.
— Отбываю.
Иван переложил Верино зеркальце в нагрудный карман, осторожно, бережно пожал нянечке руку, сказал:
— Спасибо за все.
На улице был легкий, сухой мороз. Деревья стояли обновленные. Иван оглядел здание госпиталя запоминающим взглядом и вспомнил, как лихо катился на санках лицом к стоящей на горке Вере, а она закричала: «Берегись!» — и он выкинулся из санок недалеко от столба.
Занесенной снегом тропинкой он шел вдоль леса. Позади остались горка и место, откуда они с Верой начинали путь к селу. Тропинка сменилась дорогой. Колол глаза искрящийся снег. Сухой морозец прихватывал щеки. Иван захотел еще раз оглянуться на лес. Из его глубины вышла и замерла девочка в длинном зимнем пальто и вязаной шапочке. Он узнал Надю, снял перчатку, радостно помахал ей и подумал: «Почему болезнь и смерть выбирают самых лучших, ни в чем не виновных?» Надя ответила коротким взмахом. Иван Челядин уходил медленно, прощально оглядываясь, пока девичья фигурка не затерялась в багряном свечении соснового леса.
ТЕПЛОЕ КРЫЛЬЦО
I
В зверинце пахло настоянной на солнце полынью. У клеток-вагончиков, вытаптывая разнотравье бывшего ипподрома, толпился народ. Пеликан, одинокий, стареющий, стоял, отвернув от белого света голову: клюв его, острый и желтый, лежал на груди, словно защищал от удара, поджатые крылья были грязны, перья топорщились, как от ветра. На клетке, в самом ее низу, прикрученная ржавой проволокой, висела табличка с именем пеликана. Челядин, студент второго курса пединститута, позвал: «Фома, а, Фома!» Но пеликан, переступив лапами, совсем отвернулся. Челядин вновь робко окликнул его. Фома съежился, еще больше втянул голову с редким хохолком и чуть приподнял неожиданно большие, сильные крылья — закрылся щитом. Тут Челядин вгляделся, увидел на грязном, щелястом полу конфеты в цветной обертке.
— Эх, Фома! — сочувственно сказал он и пошел дальше.
Гиена хрипло смеялась, бегала по клетке, подволакивая задние короткие, словно перебитые, ноги. Два нескладных лисенка играли тряпичным мячом. Волки, закрыв глаза, устало лежали на дощатом полу.
— Чего они лежат-то? — заговорила из толпы женщина с малышом на руках. — Эй, волки, подъем!
— У них же имя есть. — Ни к кому не обращаясь, сказал мужчина в черной форме железнодорожника. — Марс и Дик.
— Дик! Марс! — закричала женщина. Ребенок на ее руках удивленно таращил глазенки. — Хватит им спать-то! За всю жизнь, поди, отоспались, лодыри! Сейчас, кисанька, они подымутся, и ты их увидишь.
Шел мимо служитель в кожаном фартуке, нес ведро с пшеном.
Женщина крикнула ему:
— Товарищ! Вы бы подняли животных! Ребенок посмотрит!
Служитель остановился, поставил ведро, вытер почему-то руки, взял длинный, лежавший на земле, стальной прут и сказал:
— Вставайте, ребята.
Волки не двинулись с места. Тогда человек в фартуке просунул сквозь решетку прут и легонько ткнул старого волка. Тот открыл глаза, но не пошевелился.
— Вставай, Марс. Дите смотрит.
Волк снова закрыл желтые с огоньком глаза.
— Тебе говорят! — Мужик с заметной опаской толкнул волка в бок посильнее. Марс поднялся, а с ним и молодой волк.
— Худые-то какие! — разочарованно протянула женщина. — Ноги что плети! Мышцев нет! Не кормите, что ли?
— Как же! — ответил служитель в фартуке. — Норму даем! Мясо! Кости!
— Ну да, норму? Воруете, поди, у животных!
Мужик вскинулся:
— Не хулиганьте, гражданка!
День был жаркий, безоблачный. В соседнем вагончике, разделенные стальной сеткой, сидели медведь и медведица.
Бурый медведь собрал у клетки добрых два десятка людей. Большой и степенный, жмурясь от удовольствия, он умело снимал обертки с конфет и добродушно облизывался. Кланялся медведь, когда все на полу было съедено; кланялся профессионально, с веселыми ужимками, улыбаясь, низко сгибая морду, воровато оглядываясь. Люди на это громко смеялись. Топтыгин вдруг кувыркнулся, но места не хватило — кувырок вышел тяжелым и неуклюжим. Зрители благодарно захлопали. Медведь встал на задние лапы, макушкой достал потолок, хлопнул одной лапой о другую и зарычал протяжно, жалуясь.
Вернулся служитель в фартуке, широкоплечий, остановился у клетки и хмуро сказал:
— Не беспокойте животное. Старый он, нервы истрепаны.
Медведица сидела понурившись. Глазами уставшей на сенокосе крестьянки глядела поверх людей, могучие лапы с длинными, острыми, загнутыми когтями лежали у нее на коленях.
Челядин тихо шел мимо клеток. На окрашенном в зеленый цвет вагончике, неумело нарисованный, парил в небесах орел, а у вагончика, нерешительно зовя равнодушную к людям птицу, стояла женщина. В клетке, низко опустив лысую, горбоносую голову, сидел, как в глубоком обмороке, давно не летавший гриф.
Подошли к вагончику три солдата: распаренные, в расстегнутых гимнастерках, пилотки для лихости под погонами — и сказали:
— Концы отдает.
— Жарко.
Бегемот скрывался от людей в не широкой, но вместительной ванне: отгороженная, она стояла у вагончика. В болотной по цвету воде бегемот прятался весь, и только уши торчали, как залитые в половодье огородные колья.
Люди толпились у ванны: их веселило, что бегемот, раздраженный вниманием, иногда вставал в полный рост и обрызгивал их, черпая воду широкой мордой. Посетители зверинца, обрызганные возмущенным бегемотом, разбегались, а потом с опаской и настороженным смехом собирались у ванны, пытаясь увидеть в темной воде животное.
Когда бегемот открыл и угрожающе показал безобидную, со стертыми зубами, пасть, к нему подошла молодая в черном спортивном трико служительница, тронула плетью.
— Господи, мучения-то какие принимают, — как в темноту, сказала за спиной Челядина женщина в простенькой кофте.
До закрытия зверинца оставалось не больше часа, когда Иван Челядин решился постучать в дверь жилого вагончика. Ему не ответили, и он сам открыл дверь.
— Пришел? — спросил грузный человек в белой тенниске.
— Как видите.
— Оформился?
— Да, — негромко ответил Иван.
— Что так невесело?
— Да сложно у вас…
— Не понял. — Директор усадил Челядина в обшарпанное кресло и стал внимательней, чем раньше, разглядывать.
— Так где учишься?
— В пединституте, на историческом.
— Через сорок пять минут заступишь. — И директор пошутил: — Через урок, значит.
— Я пойду. Гляну, как зверей кормят. — Челядину было неловко под равнодушно-пытливым взглядом директора.
— Успеешь. Месяц здесь простоим. Хочешь, оставайся с нами до осени.
— Спасибо, конечно. Но не знаю…
— Верно, не торопись! Может, и не понравится. Вы, студенты, капризный народ.
Иван промолчал.
— Мы три дня как приехали, и все жара несусветная. У вас в июле всегда так?
— Нет. Просто на этот раз засуха. Поля горят.
Директор кивнул задумчиво:
— А у нас Марс-волчище помирает… Есть в ваших лесах волки?
— Говорят, они в Казахстан подались. Рыси недавно пришли из тюменских лесов — в газете писали.
Директор глянул в окно.
— Мотает нас по свету. Летом — Урал, Сибирь, зимой — в теплые края, в Ташкент — хлебный город.
— Звери маются…
— А чего им… Кормят, поят, как на курорте.
— Вы же их в закрытых вагончиках, да по дорогам. А у нас дороги… Пыль столбом. Задохнуться можно.
— Да нет, юноша. Моему зверью такая жизнь в радость. Они почти все — бывшие циркачи, отработали свое, на покое. Что лучше зверю? Укол, после которого ничего, или хоть в клетке, да солнце видно? Ну, парень, собирайся. Осмотри клетки — все ли заперты. И не спи.
Директор мрачно ушел, а потом и служители, которые жили неподалеку в вагончиках.
Иван проверял замки, когда за бывшим ипподромом, у железнодорожных путей, высветив часть зверинца, загорелся прожектор. Можно было не ходить по кругу, как часовому, а сесть в уголке, где не доставал прожектор: вагончики с клетками были, как на ладони.
Челядин тщательно проверял засовы. Метался леопард. Тигр стоял, потупив могучую голову. Волки лежали, распластавшись, вытянув морды на передние лапы, и ровно дышали. Иван прислушался. Крайний к нему старый волк дышал чаще и с хрипотцой. Челядин подошел к клетке вплотную:
— Марс. Марсик. Болеешь?
Марс поднялся и просунул острую морду сквозь прутья решетки.
— Где ты родился? В степи?
Волк напружинился, сухие ноги стали подрагивать, грудь раздалась, спина выгнулась. Он задрал морду, коротко взлаял, раздул горло и завыл страшно и одиноко. Звук ширился, рос и обрывался высоко в небе. Волк всхлипывал и снова тянул свою песню.
Утром, сдав хозяйство, помня тягучий, беспокоящий звериный запах, Челядин пошел домой. Его встретили разговором, но он закрылся в комнате и уснул.
Надвинулось забытье. Иван увидел себя на конюшне, где давно не бывал. Пахло деревом и опилками. Ловкий человек с хлыстом в руке говорил, что выведет во двор жеребца, а Челядину и еще двум студентам он велел стать в проломах забора — конь мог рвануться на волю.
Человек с хлыстом расставил всех по местам. Потом из темной, сырой конюшни, как со дна реки, он вывел длинногривого жеребца.
Жеребец вбил в землю копыта и фыркнул. Человек с хлыстом ловко отпрыгнул и рассмеялся. Тучи, как льдинки, бились одна о другую. Конь покосился глазом. Рокотал гром.
Широкогрудый, костистый жеребец огляделся — забор был высокий и крепкий.
Взметая из-под копыт песок, жеребец пролетел двор. Стоявший в проломе парень не двинулся, а когда до сшибки оставалось мгновение, вскинул руки. Жеребец, не сбавив бега, метнулся вскачь к другому пролому, где тоже застыл человек.
Потом конь опять играл посреди двора, бил хвостом и делал вид, что смирился, — Челядин знал это тайным чутьем.
Когда жеребец рванулся, Иван увидел надвигающийся конский лоб, копыта вразброс. Позади него была безлюдная улица — хотелось кинуться по ней без крика, но он вяло вскинул руки, и жеребец, вздыбив землю, скакнул в сторону, обдав запахом живого тела и пота.
II
На другой день Челядин пришел в зверинец задолго до начала своей работы. Пожилая, привыкшая к многолюдью билетерша кивнула ему как знакомому. Иван увидел, что у клетки с тигром свободнее от людей. Тигр расслабленно лежал вдоль решетки и вздрагивал, как во сне. Иногда он открывал большие, Челядину показалось, голубые глаза и прислушивался. Слепило солнце. Тигр видел смешливую женщину в сарафане и русоголового парня в линялой джинсовой одежде. В тени под вагончиком говорили рабочие. Тигр знал их крепкие голоса и запахи.
Женщина в сарафане, пряча от солнца глаза под козырьком ладони, поглядела на тигра и обратилась к рабочим:
— А какой вес у тигра?
Вялые от жары мужики, лениво переговариваясь, курили, и один ответил:
— Я не вешал.
— Ну, а все-таки?
— Сами взвесьте.
— Я боюсь, — кокетливо ответила женщина.
— Вот и я оттого не вешаю.
Потом этот рабочий вышел из-под вагончика, поднял с земли пустое, лежавшее на боку, ведро и угрюмо пошел мимо женщины в сарафане и Челядина.
Тигр вскочил, прижался мордой к прутьям решетки и проводил его жадно-пристальным взглядом. Рабочий в черном комбинезоне затерялся среди людей, а тигр застыл, подобравшись, как для прыжка. Челядин с непонятным беспокойством смотрел на его огромные лапы, настороженные, как бы живущие отдельно, уши. Но вот коротко и легко, как по барабану, тигр ударил лапами по дощатому полу, заиграл хвостом и таким же немигающим взглядом впился в эмалированное с чистой водой ведро, которое нес по проходу между клетками и забором рабочий. Словно кто невидимый будил зверей от немой дремоты: пантера черной лентой заметалась по клетке, леопард обнажил клыки, чаще задышала рысь.
Рабочий оставил полное ведро у клетки с тигром, вернулся под вагончик и молчаливым жестом попросил закурить. Потом он затянулся папиросой, заметно расслабился и тяжелыми веками прикрыл глаза.
Тигр, сразу обмякший, вглядывался в холодную, с чистыми опилками воду, топорщил усы, выпускал когти и, чувствуя идущую от воды прохладу, тянулся.
Женщина в сарафане, возмущенно передернув плечами, громко, чтобы услышали в тени рабочие, сказала:
— Оставили воду — зверя дразнить!
Челядин заметил, как дрогнули в усмешке губы рабочего, а тигр, медленно оглядев людей, судорожно вздохнул и, уйдя от решетки, лег на живот.
Рабочий поднялся, сунул руки в карманы комбинезона, прошел мимо стоящих за забором людей и вернулся, неся свежеокрашенную в малиновый цвет поилку с длинной, замысловатой рукоятью. Он бросил ее на землю рядом с ведром, лениво наполнил водой и, цепко ухватив поилку за рукоять, неожиданно ловко, не пролив ни капли, просунул ее под решетку, сказав чистым, поющим голосом:
— Иди пить, Барон.
Тигр вздрогнул и отвернулся. Длинными худыми пальцами рабочий пошевелил поилку — кругами разбежалась вода, тонко плеснула.
— Иди пить, — позвал рабочий. — Иди, зебра!
Тигр совсем отвернулся. Рабочий подождал, с грохотом выдернул из-под решетки поилку и, разливая воду, сделал два шага к клетке, где, обнявшись, дремали лев и львица.
Лев проснулся, звонко чихнул и ласково полизал львицу. Та, ровно сопя, не шевельнулась. Тогда лев, немного попив воды, зажмурился и снова уснул.
В другом, с толстыми решетками, вагоне ждал воду бурый медведь. Косматый и низкорослый, ловко передвигаясь, отстукивая когтями нервный ритм, он замысловато кружился по клетке.
Негромко громыхнуло… Медведь метнулся к решетке, лег и обнял поилку лапами. Он пил воду сосредоточенно и спокойно, широко открыв воспаленные, натруженные глаза. Иногда он поднимал морду и внимательно глядел на старое, потерявшее красоту здание ипподрома, по сторонам…
Облокотясь на забор, Челядин смотрел, как пьет воду молодой медведь, и размышлял. Умело отловив медвежонка, таежники привезли его в город; а пока везли в темном вагоне, медвежонок плакал по матери, тосковал по ее теплу. Громыхание вагонных колес напоминало грубые, протяжные голоса. Лязг отворяемой в товарном вагоне двери бил, как эхо выстрела. Людские следы на мокром после дождя асфальте пахли остро, как в траве поутру. В большом городе медвежонка научили танцевать, кувыркаться, играть в футбол, носить кепку с широким козырьком и клетчатые штаны, просить конфеты. Потом его стали тревожить сны и воспоминания: теплое урчание матери, запахи, которые она учила распознавать. Подросший медвежонок стал капризничать на манеже и скоро совсем отказался работать, потому что ему была назначена другая жизнь, а этой, освещенной прожекторами, раздражающе многословной, он не хотел.
На медведя оформили подорожную, и он стал жить в зверинце, который всегда в дороге и назначение которого — напоминать людям, что они не одни на свете.
Выматывали тряска по сухим колдобинам и вой тормозов. Душили отработанные автомобильные газы и пыль. Но судьба иногда выводила зверинец на лесную дорогу, и терпкий запах железа не перебивал дыхания леса. Тогда в вагончике медведь поднимался на задних лапах и сквозь отдушину пил родной воздух, как воду из родника.
Молодой медведь еще держал в лапах поилку, когда пришел рабочий в черном комбинезоне, нетерпеливо протянул за ней руку. Медведь опустил передние лапы в поилку с недопитой водой и, когда служитель дернул ее, обиженно не отдал.
Служитель отступил на шаг, пошарил в карманах комбинезона, удалился спокойным шагом и вернулся с палкой в руке. Сразу подойдя к решетке, не говоря ни слова, он взялся левой рукой за рукоять поилки, а палкой ткнул медведя в широкую грудь. Тот отшатнулся, но лапы из поилки не вынул. Тогда служитель легонько ударил его по крутому лбу. Медведь сел, подобрав задние лапы, а передние крепко оставил в воде. Служитель стукнул по ним. Медведь обнажил клыки и предостерегающе зарычал. Служитель возбужденно тряхнул головой и, еще ударив палкой по лапам, резко выдернул поилку из клетки — вода облила ему черный комбинезон. Недовольно хмурясь, он бросил поилку, поднял с земли давно немытое большое ведро и твердо пошел к другому вагончику — соседняя с молодым медведем клетка была пуста.
Жаркий день подходил к концу. Остывали накаленные солнцем вагончики. К прутьям решеток вышли звери. Люди плотно жались к невысоким заборам. Челядин увидел, как из толпы бросили в клетку волчицы огрызок колбасы. Бегая по кругу, беспокойная, она схватила его на бегу, лизнула, воды, намочила в поилке лапы и стала кружить спокойнее. Неожиданно ясно Челядин увидел на прутьях решетки паутину: трудяга паук успел сплести ее за короткий срок. Но волчица вдруг ткнулась носом меж прутьев, в самую середину паутины, похожую на прицел зенитного пулемета.
Место, где дети могли угостить и погладить зебру, было обнесено невысокой оградой; и дети окружили зебру веселой стеной. Всем хотелось коснуться полосатых ушей, короткой и жесткой гривы. Зебра отвечала на внимание, беря из рук хлеб, терпеливо снося прикосновения. Родители за спинами детей вели свои разговоры.
— Это дикая африканская лошадь, — сказал мужчина в темном костюме.
— Какая же дикая? — возразили ему.
— Интересно… Зебра — белое животное с черными полосами или черное животное с белыми полосами? — спросила женщина в сарафане. На этот вопрос никто не ответил.
— Как эту зебру кличут? — спросила старушка.
— Моряк, — прочитала табличку женщина в сарафане.
Все засмеялись, а красивая большеглазая девушка грустно сказала:
— Бедняга. Поди, и моря-то ни разу не видел.
Облака, как отара овец, уходили в степную сторону. В небе, уже чистом, неслись навстречу друг другу белые самолеты, а за ними пенились инверсионные следы. Челядин поглядел, как боевые машины вежливо разошлись в небе…
Сначала на мгновение он ощутил тишину, потом расплескался многоголосый крик; и глазами, уставшими от солнца, Челядин увидел черную, косматую тень с оскаленной пастью.
Выйдя из клетки, через ограждение тяжело лез молодой бурый медведь. Женщины пронзительно долго кричали, но в первые секунды никто не бежал. Все завороженно глядели, как медведь, наконец, перевалился через заборчик и метнул в толпу воспаленный взгляд. Женщина в сарафане первая скрылась в воротах, потом мужчина в темном костюме с малышом на руках, а следом бросились все остальные. Знакомая Челядину билетерша кричала:
— Спокойнее! Спокойнее! Медведь не опасен!
Дети заплакали. С трудом, через бегущих, пробирались к медведю служители. Встав на дыбы, он махал лапой, крутил мордой, порыкивал. Вокруг него уже образовалось пустое, без людей, место, но медведь ловко сместился и отсек дорогу высокому, с косящим взглядом мужчине.
Медведь лег на живот и угрожающе зарычал. Мужчина прыгнул за невысокий, в пояс, забор и оказался у клетки, где смеялась гиена. Испуганно, еще сильнее кося, странно, толчками, дергая головой, он пристально, не двигаясь, следил за медведем. Потом крутнулся, но бежать было некуда, и опять его лихорадочный, пронзительно косящий взгляд встретился с глазами зверя.
Служители: тот, в кожаном фартуке, и другой, в черном комбинезоне, грузный директор в белой тенниске и остальные, мускулистые, напряженные, которых Челядин раньше не видел, брали медведя в кольцо.
— Загоните медведя в клетку! — командирским голосом крикнул директор. — Все в оцепление! Ты! — крикнул он Челядину. — Чего рот раззявил?
Медведь не оглянулся на знакомый голос, а осторожно двинулся к испуганно косящему человеку.
Служители держали в руках веревки. Директор в мокрой от пота тенниске обошел медведя и закрыл собой человека.
— Чего же ты, а? — сказал он медведю. — Из клетки вышел? Нарушаешь? — У директора был будничный, спокойный голос, и Челядину показалось — ничего не случилось и все просто.
— Ну устал… — говорил директор. — Понимаю. А я не устал? Жарко. Иди в клетку. Прошу тебя. Зачем людей напугал? Ай-яй-яй! Нехорошо, брат.
Медведь вскинулся на задние лапы, и сразу с четырех сторон его шею захлестнули арканы. В небо кинулся медвежий рык. Животные забились в клетках, истошно крикнули обезьяны, раскинул крылья орел.
Служители затягивали петли, медведь рвал арканы из рук, греб под себя траву.
— Осторожно! Не задушите! — кричали в один голос директор, женщина в спортивном черном трико и Челядин. — Опутайте веревками!
Задыхаясь, медведь тащил за собой людей, но перед ним уже не было ни мужчины с косящим взглядом, ни директора в белой тенниске. Только гиена бегала по клетке, подволакивая задние короткие лапы.
Медведь почувствовал жажду, ветер принес лесной воздух. Он услышал, как сурово кричат в клетках медведи, и это были прощальные голоса.
— Нехорошо получилось, — тихо сказал директор, когда служители сгрудились вокруг медведя.
Челядин поглядел, как они суетятся у бездыханного зверя и, опустив голову, медленно пошел к выходу.
— Куда? — крикнул директор.
Челядин шел, похожий на слепого. Пахло полынью и потом, надрывалась милицейская сирена. Солнце, казалось, не клонилось к закату. Облака разбросанно кружились в небе.
Ни слова не говоря, билетерша отворила ржавую в петлях дверь, и он пошел не к людям, которые ждали известия, а в сторону железнодорожных путей.
Пройдя по густой крапиве, брошенным старым шпалам и «башмакам» путейцев, он пошел вдоль железнодорожной колеи.
Скоро он вышел к улице Станционной. Навстречу спешил невысокий старичок в круглых очках, в мятом шевиотовом костюме и начищенных сапогах.
— Сынок, где здесь чайная будет? — спросил старичок.
Иван указал на столовую.
— Пиво там есть?
— Нет. Пиво в ресторане.
— Где же он?
— Так вот… — Иван показал на молчаливый пока ресторан.
Дед шел рядом и радостно говорил:
— Пива мне надо выпить. С 1966 года не пивал.
— А почему?
— Восемь операций перенес. А сегодня врач сказал: «Пей, Михайлович! Теперь можно!» Он ко мне-то приезжает, спрашивает, как здоровье. У него машина «Жигули» своя…
Тут Челядин как бы очнулся от глубокого сна и понял, куда идет.
Он вышел к старице реки и скоро был у крепких резных ворот. Нерешительно постояв у калитки, вспомнив, что бабушки нет дома, Иван легко и просто, как делал в детстве, перемахнул высокий забор. Его охватило чувство, что он во дворе давно не бывал, хотя три дня назад готовил здесь снасти к рыбалке, говорил с бабушкой, что идет наниматься сторожем, а она собиралась гостить в деревню.
В крепкой поленнице лежали дрова. В глубине двора стояли качели, которые давным-давно для него из старого турника смастерил дед. Иван сел на крыльцо и вспомнил, когда он, шестилетний, первый раз раскачался на них, вокруг качелей собрались домашние гуси, удивленно тянули и без того длинные шеи, словно хотели выведать — каково?
Звенькнула, с надсадным скрипом открылась калитка. Иван услышал знакомо шаркающие, родные шаги, поднялся с крыльца.
— Чего всклокоченный? — спросила, отдавая тяжелую сумку, бабушка.
— Ты с автобуса? — Иван решил ничего не рассказывать.
— Приехала. — С привычным кряхтением, опираясь рукой на завалинку, она взошла на крыльцо.
— Что так рано?
— Живы-здоровы, повидалась и обратно. — Бабушка нашла в кармане черной длинной юбки ключ и сказала:
— Пойдем.
— Душно в доме, — уклончиво ответил Иван.
— Что же? — Бабушка открыла замок. — Сегодня не робишь?
Иван виновато взглянул на нее, сел на крыльцо, отвернулся.
— Ты что такой? — вгляделась старушка. — На работу не взяли? — И, передумав уходить, она села под окном на завалинку.
— Да нет, — глядя за старицу, ответил Иван. — Не стал я работать. Ушел! — И обернувшись, повысил голос: — Да, сам ушел! Не выгоняли!
— Не сработался, — укоризненно покачала головой бабушка.
Иван, как в детстве, подвинулся ближе к ней, оперся на дверь спиной и стал рассказывать.
Бабушка слушала терпеливо, и по ее усталому после дороги лицу Иван не понимал — одобряет она или нет.
— Значит, ушел? — дождавшись конца, сказала бабушка. — А звери твои остались.
Иван недоуменно, исподлобья взглянул.
— Жалко медведя, — продолжала бабушка.
— Он бы никого не тронул.
— Почем знать.
— Если бы ты знала, какой это был медведь… Живая душа.
Помолчав, она ответила:
— Не твое это дело — сторожить.
— Денег хотел заработать..
— Да разве так зарабатывают? Молодой, здоровый. В грузчики бы шел.
— Я как увидел медведя! Они его арканами…
— Не выдержал ты. Первый раз ударился и — бежать.
— Так уж и первый.
— Может, и не первый. Но по всему, крепко ты, Ваня, ударился. Через забор махнуть — легче легкого. Так и человека в себе потеряешь. Для того, чтобы в зверинце служить, ты еще не окреп. Да и не твое это дело. В плотники иди, в каменщики.
— У меня есть немного времени. Я и решил подработать.
— Вот и учись новому делу. В ученики иди к хорошему мастеру. — Бабушка поднялась с завалинки. — Теперь время такое, Ваня. Много работать надо. Ты ведь можешь?
— Могу.
— Дед-то у тебя работник был, каких поискать. — Бабушка поглядела за старицу. — А ты, говорят, в деда.
Бабушка сердито скрылась в дверях, а Иван подумал: «Это правда. Дед был и плотник, и жестянщик, и электромонтер, и каменщик — все умел. За свою жизнь он побывал на разных работах, а потом, незадолго до смерти, любил сидеть здесь на крыльце, глядеть за старицу». Иван вспомнил: дед любил ласкать рукой деревья и листья, давал себя жалить пчелам, подолгу глядел, как выводят птенцов скворцы. Ему нравилось превращение облаков в леса и реки с безлюдными берегами. Дед узнавал места, которые когда-то любил, но забыл. Иван часто видел, как, сидя на крыльце в пимах и тяжелом пальто, дед встречает и провожает день.
Иван Челядин лег на теплое еще крыльцо и сразу нашел в небе звезды Большой Медведицы. Они светились по-зимнему — недоступно и ярко. Иван подумал, что до того, как служители накинули на медведя арканы, он мог выскочить наперед, закрыть медведя собой и крикнуть всем, чтобы они оставили медведя в покое! Никуда ему, бедняге, не деться, пусть немного походит, и вообще, видите — невмоготу ему, так отпустите зверя где-нибудь в глухомани, отпустите в Сибири, он в жизни никого не обидел, просто не поддавался, а есть звери, которым все равно где быть, а медведи, волки — им в клетке не жизнь, потому что вольные.
И так стыдно стало перед всеми, кто знал его: перед дедом, перед Георгием Романовичем; мать с отцом простили бы, а Георгий Романович, наверное, не простил бы. Уже давно, много лет, он живет в городе Горьком у дочери, тоже учительницы. Иван вдруг сильно затосковал по нему и подумал: «Живой Георгий Романович или нет? Вот затерялся дорогой человек, я помню и люблю его; а когда он уехал в Горький, меня не было. Я вернулся из Краснодара, а его нет, и такая стала кругом пустота. Помню, пришел к деду, мы с ним сидели на теплом крыльце, молча смотрели за старицу. Дед все больше молчал, а когда он умер, я тоже молчал. Когда его собрались выносить и четверо шагнули к нему, я выскочил из дома, на огород побежал и зарыдал там навзрыд». Он ясно вспомнил тот день и подумал, что завтра надо идти на стройку, договориться насчет работы, еще месяц есть. Иван ясно представил, как он потом идет на вокзал, покупает билет до Горького, едет в поезде, в адресном столе легко узнает, где живет Георгий Романович… Светлый, чистый подъезд, лестница, дверь с медной табличкой, звонок, еле слышны за дверью шаги. Как сердце бьется! Шаги ближе, ближе, дверь открывается…
— Здравствуйте, Георгий Романович!
ДОРОГА ДОМОЙ
Семнадцатого марта, в день рождения брата, не вернувшегося с войны, Елена, тридцатипятилетняя замужняя женщина, видела во сне, как в изодранной шинели, с ручным пулеметом на правом плече он идет по лесу среди похожих на него усталых людей.
Сон был ясным, она хорошо разглядела брата, но весь рабочий день, сидя за сложным чертежом, Елена гнала воспоминание об этом сне, но опять видела перед собой сгорбленные, натруженные спины бойцов, цепью лежащих в корявых, редких кустах. За командиром, очень худым, высоким, который крикнул что-то, сразу поднялся Шура; не открывая огня, следом бросились остальные. От безлюдных, с выбитыми стеклами, после дождя темно-серых домов ударили немецкие пулеметы, Шура ответил им длинной, горячей очередью. «Вперед!» — кричал командир. Потом, невысоко вздыбив землю, что-то оглушительно хлопнуло. Шуру подняло, и он вроде как полетел, умирающий…
Цепенея от страха и наваливающейся на сердце боли, Елена, всхлипнув, закрыла лицо рукой, а сидящие напротив девушки посмотрели на нее с удивлением:
— Вам что, нехорошо?
— Нет. Все в порядке. — Она опустила руку с привычно зажатым в пальцах рейсфедером, и все чертежницы в маленькой, на пять рабочих столов, комнате увидели в ее глазах выражение долго не отпускающей боли.
Елена с нервным румянцем на щеках сидела, выпрямившись, глядя на неоконченный чертеж, и думала, что сегодня брату бы исполнилось тридцать девять лет и отец с матерью уже ждут ее. На столе в деревянной рамочке перед ними фотография Шуры: коротко стриженный, босоногий, он сидит на крыльце, в правой руке у него сапожная щетка, а на левую надет еще невычищенный сапог; на загорелом, чуть скуластом лице улыбка, по-утреннему спокойная. «Куда он собирался тогда? Не помню. — Она указательными пальцами потерла виски. — Какой страшный сон был про тебя Шура!» Вернись Шурка с войны, она бы сказала ему: «Идем к нам на завод, будем вместе на работу ходить».
На заводе Елена работала с пятнадцати лет, с тех пор, как в ее школу в 1942 году пришел мужчина в полувоенном, армейского цвета костюме и сказал семиклассникам: «Кто хочет помогать фронту?» Елена попала тогда в сборочный цех — бывший склад, посреди которого, одна на весь цех, топилась печка-буржуйка. Вдоль стен — она хорошо помнила — стояли длинные столы, на которых собирали гранаты, а все остальное занимали станки. Ее за несколько дней научили штамповать корпуса для гранат. Чтобы свободно доставать ручку станка, Лене, ростом небольшой, пришлось подставлять под ноги деревянный ящик; справа от нее в других ящиках, побольше, лежали заготовки гранатных корпусов, неотогнутые края которых надо было загибать на станке. Норму Лена перевыполняла, и никто в цехе не удивлялся, что пятнадцатилетняя девочка так хорошо работает: все знали, что у нее три брата на фронте и один из них пропал без вести в октябре 1941 года.
Когда она вышла из проходной, началась снежная кутерьма. Еще дотемна Елена видела из окна, как на северной стороне толпились черные, набирающие силу тучи, и самые близкие из них, как неповоротливые большие птицы, поворачивали на город.
Через сквер из высоких, прямых тополей она вышла на улицу, увидела в темноте квадратно-черную башню элеватора, на которой горели красные, похожие на самолетные сигналы, огни и подумала: «Натерпелся Шура от самолетов», — и представила его стоящим в окопе: перед ним на бруствере лежала винтовка, и, опаленный зноем до черноты, взмокший от пота, с грязными потеками на скуластом лице, Шура смотрел туда, откуда близился таинственно гудящий, то наступающий, то отступающий, режущий облака звук; потом все закрыла взрывами поднятая в небо земля, и она уже не могла представить, каким в эти страшно томительные минуты был ее брат…
Мысли о нем не оставляли Елену с той минуты, как ее разбудил страх за него. Она не успела увидеть во сне — упал он после взрыва на землю или нет; и опять, как и весь день, она гнала от себя этот страшный, нелепый сон: ведь в детстве ей казалось, что Шура будет всегда.
Она спешила к матери, зная, что в печи будет гореть огонь, мама вспомнит, каким Шура уходил в армию чернобровым, смуглым красавцем, и расплачется. А Елена часто вспоминала брата мальчишкой, одиноко из темноты смотрящим с улицы в кухонное окно. Его светло-карие глаза были широко, чтобы слезы не пролились, открыты, полные губы не дрожали, он крепко сжимал их… За спиной Шуры была такая же, как сейчас, похожая на мартовскую непогода; и, глядя в его испуганные, затемненные тоской глаза, она, восьмилетняя, рыдала, а гостившая в доме богатая тетка с тринадцатилетним сыном напирала, что пятьдесят рублей из ее сумочки взял именно Шура, и тогда Лена закричала: «Это ваш Колька украл! Он нас с Шуркой в буфет водил, мы там чай пили с конфетами, и он говорил: «Мне денег много дают. Я вас угощаю, а вы про то моей мамке не говорите!»
Теперь Елена была матерью и знала, что пережил отец, выгнав оговоренного теткой сына. Тетка везде чувствовала себя как дома и всех учила, как жить. Озябшего и голодного Шурку отец сразу вернул в дом, а Кольку, смущенно причитая, тетка выпорола ремнем.
Елена шла между не похожих друг на друга домов, ветки тополей и берез постегивали зажженные фонари, а все, что было дальше верхушек деревьев, было невидимым; и она опять ясно вспомнила брата, смотрящим на нее через оконное стекло.
С приездом тетки в доме тогда что-то сломалось, все стали держаться отдельно, каждый в своем углу, не собираясь по вечерам на долго не остывающем после солнца крыльце. Теперь Елена понимала, что это был молчаливый протест против тетки, и помнила, как проснулась с радостным ощущением, что в доме нет больше чужих людей…
Елена тогда лежала в уютном покое и думала, как в доме свободно и чисто, и опять удивлялась, почему тетка не уехала сразу, когда узнала, что деньги взял ее сын. А Шурка уже тихонько открывал дверь в спаленку и от порога шептал: «Не спишь? Айда со мной! Папаня два часа, как ушел. На озеро к нему пойдем, там и заночуем». Раньше он никогда не звал ее на рыбалку, и Лена благодарно таращила на брата глаза. Сначала они шли в тени стоящих вдоль старицы деревянных домов, только в конце Битевской улицы, где старица делала крутой поворот к Тоболу, свернули в другую сторону, и солнце снова крепко тронуло их.
Лена с интересом глядела на груженые, катящиеся им навстречу, телеги, в которых скучали незнакомые, разморенные на жаре мужики. С мягким топотом, медленно переставляя в пыли напряженные ноги, тянули груз лошади; и она чувствовала, как им хотелось в прохладный сумрак конюшни, и жалела их, а потом она сама устала на пыльных от зноя улицах. Слыша поспешающие за ним маленькие шаги, Шура молчаливо вел ее за собой и оборачивался, когда она робко спрашивала:
— Далеко еще?
— Нет, вон за тем курганом, — обещающе говорил он, ждал, пока Лена поравняется с ним, и они снова шли рядом. Когда он переставал спешить, Лена ловко попадала в шаг, глубже и ровней дышала, переставала размахивать крепко сжатыми для скорости кулачками.
Они уже давно шли по степи. Над заросшим травой огромным курганом парили, хищно раскидав крылья, птицы; и девочка хорошо разглядела, как, крутя горбоносой, маленькой головой, болотный лунь то становился темно-коричневой точкой, то возвращался близко к земле…
Поглядев с опаской на большекрылых занятых охотой птиц, Лена пошла рядом с братом, иногда касаясь пальцами его твердой, в сухих мозолях, ладони. Воздух был горячий, тугой; и казалось, она с трудом рвет его. Миновав редкий кустарник, они вышли к подножию кургана, и словно перед ними открыли калитку — так толкнул влажный, прохладный ветер.
— Смотри… — весело сказал Шура.
В жарком дневном мареве, как брошенное у реки тележное колесо, в круглой, ласковой полудреме лежал город.
— Надо же, дорога как поднялась, — сказала Лена.
— А вот мы на курган подымемся! Ну-ка!
Схватив ее за руку, по хлеставшей траве Шура бросился на самую высоту.
Скоро они стояли на вершине кургана, и стремительно уходящий вниз город шел по Тоболу, оставляя по берегам приземистые, под железными крышами, пивоваренный и турбинный заводы с высокими дымящими трубами, три моста — деревянный и два железнодорожных, — серебрящиеся в дрожащем степном мареве. Сверкая на солнце новыми стеклами, тянулась в небо обновленная макаронная фабрика. В полуденном зное томилась обветшалая церковь, а на другом конце площади, как гриб подберезовик, стояла пожарная каланча. Вспыхнул и погас солнечный луч, коснувшись медной каски стоящего под грибком пожарного.
— А озеро? Где озеро, куда мы идем? — нетерпеливо спросила Лена.
— Оглянись, — сказал Шурка.
Озеро с желтеющим по берегам камышом показалось ей прозрачно-пустынным, волны гнали перед собой сверкающие, похожие на выпрыгивающих рыб, блики. Над озером парили чайки, деревенские ласточки, стрижи, а над прибрежной степью трепетали жаворонки, оповещающие всех, что они там с высоты видят.
Но прежде, чем Лена с братом пришли к давно прикормленному, законному месту папани, они обошли половину озера и остановились у нескольких, растущих недалеко друг от друга, берез.
Лодка папани легонько качалась недалеко от берега, напротив берез; и Лена, забежав в воду по колено, радостно закричала: «Мы пришли!» А отец спокойно ответил: «У меня клюет, устраивайтесь пока».
Светлой, лунной ночью, после ухи и разговора, лежа в рассохшихся, давно приспособленных для ночлега лодках, папаня, Шура и Лена засыпали у догорающего костра. Лодки стояли рядышком, и, слыша негромкое, предсонное покашливание отца и замирающее дыхание Шуры; она тогда с благодарностью думала, что он насыпал ей сена побольше, и если сейчас поменяться, то его постель окажется, как он любил, твердой. Пока он носил, раскладывал по лодкам сено, Лена помыла с песочком миски и кружки, и, когда улеглись, она испытала чувство необыкновенного, долго не проходившего удивления отдающими свое тепло лодкой и сеном, ночным криком кем-то разбуженных чаек, таинственной возней в близкой к костру траве, многоголосым шелестом берез…
И теперь, спеша после работы к матери, Елена с болью чувствовала: знай она тогда, что Шурка, всегда работающий, всегда донашивающий за старшими братьями рубашки и брюки, не вернется с войны, она жалела бы его еще больше, жила для него, и Елена опять вспомнила его такого маленького, одинокого, молчаливо смотрящего из темноты в кухонное окно.
Когда началась война, братья Иван с Василием уже три года служили на Дальнем Востоке, Шуре было полных восемнадцать. Он сразу пошел добровольцем.
…С вечера, перед уходом на фронт, Шура нарубил много дров, принес из деревянного ларя ведро угля. И в шесть утра, пока он спал, мама с Леной растопили печь, завели блины; и, когда с раскаленной сковородки был снят первый, поджаристый, как любил Шурка, блин, по затаившемуся, даже печью не разгоряченному, лицу матери тенью прошла судорога; и, кривя узкие, потемневшие губы, она беззвучно залепетала что-то, а Лена, смазывая блин топленым маслом, испуганно глядела в ее расширенные бедой зрачки, пугалась ее сухого, рвущегося из груди, кашля. «Мама, ну что ты, мама?» — шептала она, гладя ее, чувствуя, как сильно толкаются о ладонь лопатки матери.
В то утро Шура сам не проснулся и на разбудившую его сестру посмотрел так, как если бы это был самый обыкновенный день: «Пора, Ленок? — улыбнулся. Она молча кивнула. — Иди, — со сна хрипловато сказал. — Я одеваться буду».
«Он идет на войну», — сидя в кухне на лавке, глядя, как мать грустно и ловко печет блины, думала Лена. Война представлялась ей огромным полем, а Шура вместе с другими солдатами, занимая поле, гнал врага все дальше и дальше, без отдыха, до самой победы. Война казалась ей бесконечным, без сна, боем.
Шура вошел на кухню, перетянутый солдатским ремнем, в начищенных ботинках, брюки и белая рубашка отглажены. Следом зашел, по виду не спавший всю ночь, папаня. О чем они втроем говорили, Лена не знала: она вышла в многооконную горницу накрывать на стол. Застелив ее белой, старинного тканья, скатертью, расставив тарелки и три стаканчика из синего стекла, она села на табурет. Из-за далеких, видных из окна, лесов — дом на высоком месте стоял — встающему солнцу в бок нацеливалась темно-синяя туча. Мягко, лениво разгоняясь, туча вывела за собой вереницей другие, поменьше, и скоро тучи заполнили южную сторону неба. Двустворчатая дверь отворилась, и в горницу вошел осунувшийся, будто ничего не видящий перед собой — такое заострившееся, слепое было у него лицо, — отец, следом, одергивая старенький, хорошо выглаженный пиджачок, широко шагнул через порог Шура. У него было спокойное, будничное лицо, только темно-карие глаза чуть воспаленно блестели. Мама несла тарелку с горячими блинами, наклонив голову, словно боялась на пороге споткнуться. Солнце горячечным румянцем тронуло ее правую щеку, открытый тонкий висок с бегущей по нему синей набухшей жилкой, чистый лоб, а ее темные, собранные в пучок, волосы тоже красно-огненно осветились.
— Ну что же, — стоя между выходящих на проезжую улицу окон, покашляв в кулак, негромко сказал отец и привычным жестом указал сыну место напротив. Мать с дочерью сели по правую и левую руку от Шуры. И в эту минуту в комнате потемнело, за Тоболом раскатисто громыхнуло. Обернувшись на окно, у которого только что сидела на табуретке Лена, Шура сказал растерянно:
— Вот так-так! Ко мне ребята хотели перед работой зайти.
— Придут, — сказала Лена. — Да и не будет дождя. Погремит да перестанет.
В комнате темнело быстро. Сначала сумерки отразились в зеркальном трюмо, на тумбочке, на бело-серебряной печке-голландке… Разгоняясь, как в речном водовороте, потемки сгущались вокруг сидящих за столом и скоро легли на них, оставив свой поднебесный свет. Еще печальнее, обостренней стало лицо матери, под глаза, сделав их глубже, легли серые тени. Шура сидел прямой, как на чужой свадьбе.
Гром из-за далеко растянувшихся туч, по краям застывших, посередине, как дым от огромного сигнального костра, клубящихся, разражался все больше. То, что дождь прольется, было видно по все убыстряющемуся дрожанию крепко прижатых к ветвям листьев осин; когда они в идущем от земли ветряном порыве взметнулись, дождь разом бросил их вниз.
Отец наказывал сыну, как вести себя среди людей. Мать смотрела обеспокоенно. Дождь ударился в окна, пошел сильнее, даль от густо падающей воды побелела, стала похожа на зимнюю, а старица была, как подо льдом, по которому ветер гнал снег.
— Ты там осторожней, — сказала мама и прикрыла лицо ладонью; и по тому, как резко заходили ее худые, длинные пальцы, все поняли, что она подумала.
Над старицей грохнуло, как из пушки, и Лена так боязливо ойкнула, что Шура засмеялся:
— Трусишь, Ленок?
Настежь с лязгом открылась калитка. Шура крикнул: «Ребята пришли!» — и выскочил из-за стола.
Четверо одноклассников окружили Шуру и, не выпуская из кольца, втащили за собой на крыльцо, а потом в сенки.
— В дом заходите! — звала их мама.
— Да мы на работу, в депо бежим, — старались улыбаться ребята. — Давай, Шурка, прощаться.
…Дождь уже кончился, когда Шура с вещевым мешком за плечами вышел во двор; он подошел к отбелевшей, ведущей на крышу, лестнице, потрогал ее, открыв калитку, не пошел в огород, просто оглядел начинающую цвести картошку, капусту, две пониклые яблони, старый тополь, заброшенный, провалившийся колодец; за густой прибрежной травой были сочно-зеленые камыши, спокойная с илистым дном старица, а потом заросший кустарником берег и дальше, до Тобола, низкие ивы, подрастающие тополя, крыши небольшого поселка, а за рекой еще простор и лес.
Закрыв калитку, Шура выпрямился, расправил плечи, глаза его, темно-карие, глядели, запоминая нас, обещая: «Все хорошо будет, вы меня ждите».
С таким же уверенным лицом Шура шел по Битевской улице, которой на работу спешили знавшие его люди. Старики, женщины, подростки здоровались первыми, и их «здравствуйте» в первую очередь было обращено к нему, а то, что известного им парня провожают на фронт, было ясно по его облику, а больше по отчаянным глазам матери, которая старалась идти в ногу с сыном и, не попадая в лад, крепко, двумя руками, держалась за его локоть.
Отец в рабочей одежде — от военкомата ему надо было на макаронную фабрику — шел, опустив плечи, по левую руку от Шуры. Лена же торопливо, часто оглядываясь на брата, шла впереди. На улице после грозы стояла теплынь, семицветно над старицей светилась радуга, отражаясь в чисто вымытых окнах домов, из которых смотрели только что проснувшиеся пацаны. Как и все на улице, они без улыбки, серьезно глядели на Шуру; и, когда он прощально махнул рукой одному, тот, в длинной незаправленной рубахе, застеснявшись, отпрянул и снова осторожно выглянул; и, уходя, Шура еще успел увидеть его, черноглазого.
К ночи, когда отец вернулся с работы и нашел жену с дочкой у военкомата, они пошли туда, где добровольцы грузились в вагоны.
С близкого круглосуточно работающего завода доносился металлический звон и лязг. На пустыре, через который от железной дороги к заводу шли рельсы, стояли готовые к приемке людей вагоны. Папаня, мама и Лена ждали там, где кончалась ведущая на пустырь шоссейка. Десятки женщин, стариков, старух и детей всматривались в темноту.
Сначала Лена услышала дрожание воздуха, какое бывает в лютую зиму, и сразу, разбиваясь на речной шум, шарканье ног, кашель, монотонное, иногда взрывающееся рокотанье, стал расти другой звук… Одетые в телогрейки, плащи, свитера, остриженные наголо, добровольцы и мобилизованные, с вещевыми мешками, баулами, чемоданами, шли строем, и ждущие на пустыре кинулись к уходящим…
Елена удивлялась, что память сохранила ей все, и ей казалось, что она никогда не была ребенком. «Говорят, мы раньше лучше были? Нет, мы просто молодые были, человека узнавали по тому, кто как работал». И в который раз за этот день она увидела перед собой брата: в шинели, в обмотках, в облезлой каске, с ручным пулеметом на правом плече, он переговаривался с бойцами и вроде поторапливал их; может, это был обыкновенный разговор на ходу, но Елена не знала, о чем говорят пытающиеся выйти к своим солдаты.
Остановившись под скрипучим, монотонно качающимся фонарем, она глянула на часы. Еще надо было пройти улицей Зеленой, миновать озерко, железнодорожные пути, а потом дороги — на двадцать минут. Она шла на Битевскую — в родной дом. Дом на старице был неизменным, вросшим в землю корнями. Ее же благоустроенная квартира в пятиэтажке оставалась для нее жильем временным, которое они с мужем и сыном могли обменять.
Из серой уличной темноты расплывающимся пятном выступила стоящая на углу, отличная от других видом и цветом, хата; ее поставил — она знала — оставшийся в городе после госпиталя демобилизованный по ранению украинец. Изба была белой, с невысоким плетнем, на колья которого были надеты два глиняных горшка. За плетнем бугрился защищенный снегом большой огород. «Шура, поди, на Украине лежит, зарытый», — подумала Елена и надолго горестно остановилась возле плетня.
Потом, свернув на исправно освещенную фонарями улицу, она сразу услышала неразборчивую с близкой станции путейскую скороговорку.
Со станции навстречу ей летел прожекторный свет, и все кругом: дома с еще незакрытыми ставнями, близкое озерко, посеченное темными полосами от стоящих по берегам дворовых заборов — все приобрело четко означенное, плоское, как на чертеже, выражение. За озерком и белой крышей одноэтажного, с высокими окнами, госпиталя для инвалидов Отечественной войны черно стояли девяностолетние тополя. И Елена вспомнила, что в начале войны она была в этом госпитале со школьной концертной группой. Она многое успела забыть, но память выхватила из той белой, госпитальной круговерти палату на четыре койки и лежавшего у окна безрукого парня, а что он так посечен взрывом, их, девчонок, предупредила перед дверью врач. Парень лежал по шею укрытый и улыбался смущенно — вот все, что вспомнила Лена и смятенно подумала: «Может, Шура тоже так лежал в госпитале, и сколько он там перестрадал, передумал о матери, об отце, братьях, сестре и той ночевке, когда спали в рассохшихся лодках?» Она ступила на деревянный, через озерко, мостик, и тут кто-то, грубо и цепко схватив ее за плечо, дохнул на ухо:
— Стой! — и развернул к себе.
Перед ней стоял длинноносый, выше ее ростом, узкоглазый, с тонкими, почти невидимыми губами человек в черном осеннем пальто и серой кроличьей шапке.
— Деньги давай! — сказал он свистяще.
Елена увидела, как его угрожающие глаза стали еще уже, и еле выговорила:
— Нет у меня денег.
— Врешь, сука! — выпалил он, и его левая рука с зажатым в ней стальным прутом дернулась. Другой, голой, без перчатки, рукой он рванул Елену к себе за пальто так, что пуговицы отлетели и стукнулись о мерзлые доски мостка.
— Врешь, сука, — снова, но уже тише повторил, а его рука прошарила внутренний, у пояса, глубокий карман ее старенького пальто.
— Вот же деньги, — опять негромко, с возмущенным лицом сказал. — А? — И его рука выдернулась.
— Так это рубль, — ответила ему Елена.
Он осматривал ее с головы до ног и подступал ближе:
— Часы снимай.
Елена поглядела ему за спину. Все там было пустынно. И ей показалось, что никого больше нет на земле.
— Ну! — прикрикнул человек в черном пальто, прут в его руке опять угрожающе дернулся. Лена сняла варежку и свободной рукой стала расстегивать неподдающийся ремешок часов, позолоченных, — подарок матери. Она расстегивала ремешок медленно, а человек глядел на это нервно и зло. Взяв часы в правую руку, она зажала их в кулаке; и он впервые поглядел ей в глаза — безразлично и нагло, как на свое; и тогда она вскинула руку и со всей женской силой бросила часы на промерзшие доски, себе под ноги. Глухо клацнув, часы разбились, а лицо, подбородок мужика, его нос, узкие серые глаза и шапка, как от гранатной вспышки, дернулись вверх.
— Что, фашист? Бей!
Человек в черном пальто отступил на шаг.
— Фашист! — задохнулась Елена.
— Ну ты, того… — с опаской проговорил он, оглянулся и, спрятав железку в рукав, побежал.
Не став смотреть ему вслед, Елена без сил прислонилась к перилам мостка. Впереди нее в свете станционных прожекторов клубились, похожие на взрывы, госпитальные тополя.
ЗАВОРИН
I
— Ты бы, паря, еще через полгода приехал. Для старика полгода не видеться — целая жизнь. Я каждую минуту могу помереть, — громко и раздраженно говорил старик, сидя на крыльце, и все норовил глядеть в глаза, а Петр растерянно отводил их.
— Ну да! Вы ж охотник, крепкий еще мужик.
— Ты военнообязанный? — продолжал сердиться Заворин.
— А как же? — удивился вопросу Петр. — Мне весной в армию, а пока учусь.
— На кого?
— На библиотекаря.
— Чего? — удивился старик.
— На библиотекаря, — негромко повторил Петр. — Что, не нравится?
— Удивительно как-то.
— А чего удивительного? Избачом в деревне буду работать.
— Изба-чо-о-ом? — что-то вспомнив, на этот раз уважительно протянул старик. — Так бы сразу и сказал, что избачом, а то библиотекарем. Тьфу! — плюнул старик. — Прошлым летом работала у нас в клубе одна библиотекарша-финтифлюшка, через две недели убегла. Культуры, говорит, у нас никакой, а для чо ее к нам поставили, как не культуру двигать. Крестьянин я вечный. А она к нам без уважения… Так бы сразу и сказал, что избачом, я бы тебе уважение оказал, а то, чертов кум, явился — не запылился, кто таков? Память отшибло. У меня вообще, как в двадцатом году на польском фронте взрывом вышибло из седла, с памятью бывает наперекосяк. Помню, встал с земли, трясет всего и глаза в разные стороны. С тех пор, как разволнуюсь, так чувствую — начинаю косить, а может, кажется, но лучше меня в деревне стрелка нет. Глухарей бью — я тебе дам… «Повело старика», — с легкой ухмылкой подумал Петр, а Заворин, с тихим смирением поглядев на него, сказал:
— Может, слетаешь письмецо бросишь?
— Можно, — с неловкой готовностью согласился Петр и поднялся с крыльца.
— Я насчет леса защиту ищу! — крикнул ему вслед Заворин.
Дом Иннокентия Кузьмича Заворина был на окраине. Вдоль крепкого плетня ходили куры, расхаживал и косился на редких прохожих петух с подкрашенным для приметы хвостом. Из ворот соседнего дома, толкая перед собой коляску, появилась одетая в черную телогрейку старушка, рядом, держась за палец ее правой руки, семенил в серой кроличьей шубке полуторагодовалый малыш. Позади них шли в одинаковых красных пальто две девчушки-близняшки. Синеглазые, синие ленты в косичках. Одна лукаво корила:
— Я ведь есть хочу!
Приветливо глядя на Петра, бабуся остановилась и ответила ей:
— Ничо, не замрешь! — И взяла малыша на руки — хотела усадить в коляску. Тот недовольно и протяжно, на одной ноте, заплакал.
— От ведь. — Старушка смешливо взглянула на Петра. — Мужик от он, парень хорошай. Своими хочет идти, — и продолжила: — Здравствуйте вам. Издалека ли, чо ли?
— Из города. — Петр суховато кивнул.
— Так к кому? — полюбопытствовала старуха.
— К Заворину.
— К шелопуту, к браконьеру этому?! Хорошай человек! — Она оборвала разговор и снова весело пошла по улице, а девчонки, как подрастающие гусята, потянулись за ней.
— Странные все какие-то, — недоуменно пожал плечами Петр.
Скоро они с Завориным сидели друг против друга за кухонным недавно поскобленным старухой столом и беседовали. Поначалу Заворин обиделся, что гость отказался выпить за продолжение знакомства: плодово-ягодное после первого глотка застряло в горле Петра, и он наотрез отказался. Чуть не получился скандал, но отходчивый старик скоро позабыл обиду, и разговор вошел в нужное русло.
— Так я повторяюсь, — доверительно говорил Заворин, — выбило меня взрывной волной из седла, и я на время сделался инвалидом, но стрелок оставался хоть куда… Никому было за мной не угнаться. Значит, написал я письмо, чтобы мне повысили пенсию, как раненному еще в борьбе с белополяками. Жду ответа. А я тогда подрядился пасти. Пасу за озером. Приезжает на мотоцикле сынок единственный — проведать. Сидим у костра. Он баит: «Папаня, вам письмо из Москвы». Я как вскинусь: «Так давай его сюда!» А он: «Дак я его дома забыл». Вот, дорогой товарищ, рожай таких дураков!
— Ну и как, добавили к пенсии? — без интереса, из вежливости спросил Охохонин.
— Добавили, — коротко ответил старик и перевел разговор: — А еще я с детства любил лошадей! Помню… «Эскадрон! — командир трубит. — Пики в руку, шашки наголо! Рысью! Марш-марш!» И, благословясь… Да… — Старик Заворин с каким-то странным удивлением и любопытством поглядел на свою дочерна загорелую правую еще крепкую, костистую руку.
— А вы, говорят, браконьер? — из озорства, решив посмотреть, как среагирует Иннокентий Кузьмич, выпалил Петр, и его краснощекое еще по-мальчишески круглое лицо оживилось.
— Кто говорит? Поди, соседка моя? — Старик сумрачно кивнул в сторону кухонного окна. — Не понимает… Зверя надобно бить, потому как он болеет, когда его много… Например, зайцев… Заражают друг друга.
— А я по глазам вижу, вы отчаянный браконьер, и никто на вас управу не может найти!
— Я лес знаю, — вдруг развеселился Заворин. — Никто за мной не угонится. — А потом насторожился: — Что ты, студент, все одно талдычишь: браконьер да браконьер! Какой я тебе браконьер?!
— Иннокентий Кузьмич, — решил сразу взять быка за рога Охохонин. — Я хочу своей девушке подарок на день рождения сделать. Мех лисий на шапку сварганить. Иннокентий Кузьмич, посодействуйте. Вы же мировой человек. Я это еще тогда, на вокзале, понял. Вы же — хозяин леса. — Выражение лица Петра изменилось: из спокойно-снисходительного стало скорбно-просящим. Старику Заворину это понравилось и, для вида строго задумавшись, он сдержанно согласился, но, лукаво усмехнувшись, предупредил, что дело это серьезное, даже опасное… Что, если охотинспекторы встренут?
— Вы не так поняли… У меня охотничий билет есть. — Петр торопливо зашарил в нагрудном кармане куртки. — Просто опыта никакого…
— С собакой пойдем, есть у меня, на заимке у внука держу. Ох, хорош кобелек! Два раза уже пытались украсть, потому и держу подальше от людских глаз. Лучший мой друг!
Давно спалившие цвет, немного косящие глаза Заворина увлажнились. Опершись подбородком на руку, в серой косоворотке, он сидел напротив Петра размягченный, с тоскливым лицом, широкие ноздри крупного, горбатого, когда-то перебитого носа возбужденно подрагивали.
«О чем он задумался? Будто с неба на землю глядит», — думал Петр Охохонин и с юношеской безжалостностью представил, что старика когда-нибудь понесут на деревенский погост: грязно-серые облака будут цепляться за лес, и журавли в небе прокричат Заворину последнюю песню.
Полгода назад Петр ехал к другу в деревню на выходные. На библиотечном отделении среди девчонок они с ним держались, как земляки за тридевять земель от родного дома. Мишка, отпросившись, уехал в пятницу, звал и Петра посидеть вечером у печи, поесть горячего деревенского хлеба, но Петр отказался, а в субботу после занятий, идя через виадук, увидя внизу грохочущий пассажирский состав, вдруг вспомнил теплый, ласковый вкус домашнего хлеба и, позвонив домой, сказал, что едет в деревню. Дожидаясь автобуса, он час просидел на автовокзале. Заворин тогда сам подошел спросить, сколько времени, хотя на стене красовались круглые, большие часы. По ним Петр и отвечал старику, который сильно скучал среди незнакомых людей. Петр не удивился его открытости: старик был в том возрасте, когда вся земля — родина. Весь час, пока говорили, Петр глядел на Заворина, удивляясь: неужели тридцать лет назад этот невысокий, щуплый, голубоглазый дедушка во главе взвода бежал в Берлине от дома к дому, кидал в окна гранаты и кричал бойцам, чтобы они не входили в двери, а врывались бы в немецкие дома-крепости через окна, так как двери гитлеровцы часто минировали. «Лимонки в окна, ребята, и следом», — рассказывал шепотком зачарованно глядящему на него парню Заворин, всматриваясь в толпу, словно искал побывавших с ним на войне.
II
Проснувшись среди ночи от внезапно захватившего удушья, старик долго не мог уснуть и думал, что приехавший к нему пацан, пока войдет в силу, много набьет шишек, потому что несобран, тороплив на решение и самолюбив. «Таких убивало в первом бою. Много с собой носится», — осуждал старик Охохонина и вспоминал, как в сорок четвертом году под Витебском новый, такой же молоденький, только из училища, командир роты шел ходом сообщения, проверяя людей, готовящихся к третьей атаке. Немцы вели артиллерийский и минометный огонь, солнце застила пыль. Ротный с удовлетворением глядел на солдат и новенькое, отлаженное оружие. На его молодой взгляд все было в порядке, но две атаки немцы отбили: стрелковый огонь наступающих был неплотен — немец не боялся поднять голову из окопов и встречал, как диктовала наука.
Взвод младшего лейтенанта Заворина был в резерве, но вот и его бросили в бой; и, видя кругом опасную для оружия невозможную пыль, Иннокентий Кузьмич, бывалый вояка, сразу отдал приказ: «Оружие в шинелки!» Ротный же, дойдя до его, ожидающего сигнала, взвода, наорал на Заворина: «…Автоматы из шинелей долой!» Но как только ушел, Иннокентий Кузьмич снова скомандовал: «Оружие в шинелки!» И у немецких окопов только его автоматы и ручники, не забитые пылью, дружно стреляли, у других же, поредевших взводов, повторилась та же, как в прежних атаках, история: автоматы ППШ боялись песка.
Атакуя, взвод Заворина вышел на бросок гранаты — столько метров оставалось до немецких окопов, — как пуля угодила Иннокентию Кузьмичу в самую верхушку левого легкого, и весь воздух из него вышел. Задыхаясь, Заворин упал на спину и судорожно забился в поисках воздуха, а когда, вроде, нашел его и поднялся на четвереньки, пулеметная очередь из хорошо знакомого по звуку немецкого пулемета «МГ-34» бойко хлестанула его по голеням, и, завалившись на бок, он покатился в воронку и только там закричал от боли.
III
Никогда еще Петр Охохонин не просыпался так рано, и первым его чувством было — продлить сон. Старик на печи глухо, надсадно кашлял и, судя по всему, не собирался снова ложиться, а Петру так не хотелось отрывать голову от подушки. Но, подумав: «Через год в армию, где надо будет в ночь, полночь вскакивать по тревоге», — он быстренько поднялся с постели и, ежась от комнатной прохлады, подошел к окну. «Черт меня занес в эту деревню, — глядя на медленно светлеющий небосвод, думал он. — Танька могла и без лисы обойтись. Таскайся теперь по лесу». В окно начинал видеться близкий предзимний бор, который в этот утренний час казался угрюмым и неприступным; и, человек городской, Петр с неприязнью подумал, что вымокнет в нем и, может быть, заболеет. Но тут же решил, что если он свалится от простуды, Татьяна придет его навестить; отец с матерью уйдут на работу, и никто не помешает им до одурения целоваться. Эта мысль развеселила Петра, и он оглянулся на старика с улыбкой.
Полуодетый Иннокентий Кузьмич стоял у стола, рылся в холщовом мешке, где что-то таинственно звенело.
— Не раздумал в лес с браконьером-то? — с бесстрастным лицом поинтересовался он.
— Насчет браконьера я пошутил, — раздосадованно ответил Петр и подумал, что зря обидел старого человека. Может, старик когда и провинился, а ославили на всю округу. У нас как повесят ярлык — не отмоешься.
— А чего? Может, я и браконьер… Считай, — обиженно-равнодушно говорил Заворин. — Но вот я всегда с собакой охочусь и подранков у меня нет. Кого стрелял — того взял, а которые без собаки — после них подранков.
«Мудрено старик объясняет», — собираясь, думал Петр.
— Не боись, у меня на лису разрешение, — сообщил, приглашая к столу, Заворин.
Закусив холодной картошкой, скоро они шли по лесу на заимку и молчали. Морозная и тихая погода стояла в лесу, пахло снегом и палым листом. Сосновый бор был неглубок, дальше в смешанном лесу берез валялось — не сосчитать.
— Берез-то! — решил заговорить Петр.
— В конце августа ураган прошел, — ответил идущий впереди старик.
— Так и сгниют?
— А как же. Лесник, чертяка, каждый день пьяный. Даже не сообщит о повале начальству.
— Почему?
— Лень-матушка… Разве что, за бутылку кому на дрова отпустит. А другим — пропадай моя телега… — Старик с возмущением хлопнул себя по бедру. — Глаза бы не глядели!
— Что же, управы на лесника нет?
— Не понимаю. Устал, что ли, народишко? Все прощают друг другу.
IV
Иннокентий Кузьмич рассказывал, что в этом месте, где он ставил Петра в засаду, лиса обязательно есть: соро́к очень много — верный признак.
— Стой за деревом, — учил, — да так, чтобы скрываться по грудь. Лисица, она, как и волк, понизу смотрит. Место хорошее, шагов на двадцать скрозь видать. Ну, парень, удачи тебе. Считай, рыжая у тебя в мешке. — И старик ушел, чтобы вскоре тихо пустить своего красногона.
Собака привычно, правильными кругами побежит опушками, на которых мышкуют лисицы, почуя свежий след, поднимет огневку, погонит… Тогда смотри… Не зевай…
Какой Петр Охохонин был стрелок, он и сам не знал. Одно — пальнуть в тире, другое, когда замелькает на мушке лисье тело. Тогда попади! «Попаду», — говорил про себя Петр и думал о старике, который по времени должен был пускать красногона. Странным в эту встречу показался ему Иннокентий Кузьмич. «И охота ему было ради незнакомого человека подниматься в такую рань? Удивительно… С апреля не виделись, а захотел мне помочь. Только оттого, что на вокзале расспрашивал его о войне? А за вчерашний день я так и не догадался поинтересоваться — болят у него раны, как тогда, или лучше стало? Он, кажется, в госпиталь собирался ложиться. Да и никакой он не браконьер! Сболтнула старуха. Наверно, любила его в молодости и до сих пор мстит, что не женился на ней. Бедовый старик!» — с радостью за себя подумал Петр. И тут запел, наконец, собачий лай. Сильный и звучный, он то поднимался на высокую ноту, то срывался до визга и всхлипов. Петр засуетился, открыл и закрыл подсумок, вспомнил, что ружье заряжено, разломил — капсюли были свежие, блестели ярко и весело. Он услышал, как быстро и громко бьется сердце, кровь стучит в висках, пульсирует в шее, и сразу увидел все: сожженную молнией березу, из ствола которой, еще сохранившего свежесть, вырван кусок коры, робкую сосновую поросль, пень, похожий на морду старого лиса, и горящую костром осину, листья которой еще по первозимью держались. Петр представил: ныряя меж сучьев, беря с налета повалы, пес гонит обезумевшую лису, и распрямились плечи, углубилась складка между бровей, приклад крепко вошел в плечо.
Все нарастающий собачий лай вдруг прекратился, и Петр с раздражением подумал, что красногон потерял след, и, чтобы прийти в себя, опустив ружье, стал разглядывать его, как незнакомое, а ведь когда шел за спиной старика, раз двадцать снимал двустволку с плеча — любовался ее строгостью.
Двустволку Заворин дал Петру с некоторым колебанием, зная, как меняется человек, когда он с ружьем — всякая неожиданность может случиться, но, вспомнив, каким сердечным человеком показал себя парень на автовокзале, серьезный разговор тогда прошел между ними, еще по дороге на заимку перестал беспокоиться.
Тульская 16-го калибра двустволка, с пятидесятых годов принадлежащая Заворину, была изукрашена охотничьим красивым чернением: серебряный олень трубил весеннюю песню на опушке соснового бора.
Несмотря на годы, двустволка гляделась как новенькая, и Петр с волнением представил свой первый выстрел. Вернув ружье к плечу, он снова пробно прицелился и, не успев удивиться, в двадцати шагах от себя увидел посреди наклоненных друг к другу невысоких берез большого бело-пегого пса с умными, встревоженными глазами, который сидел на опавшей, не затянутой снегом листве. Его сухое, длинное, мускулистое тело подрагивало, хвост метался.
Охохонин секунду стоял, прицелившись, а когда догадался опустить ружье, пес в три прыжка подскочил к нему, крутнулся на месте и глуховато-просяще гавкнул.
— Ветер! Что, Ветер, упустил лису? — Петр глядел в собачьи глаза и ждал, что пес, виновато взвизгнув, бросится исправлять свою ошибку, но Ветер в нетерпении перебирал лапами и лаял грубо-решительно.
— Ты что же, думаешь, я виноват? Она что, мимо меня прошла, и я ее не заметил? Шалишь… У меня зрение, знаешь, какое! — Охохонин наклонился, чтобы примирительно погладить собаку, но та увильнулась из-под руки и так залаяла, что он подумал: собака точно бранит его за охотничью бездарность.
— Ты что, зовешь? — Петр не понятно чему обрадовался. — Ты сам лису взял? А? — И он пошел за красногоном, который то отбегал, то возвращался к нему, взъерошенный, нетерпеливо-зло лающий.
Петр торопился за держащей дистанцию гончей, и все казалось ему знакомым, словно случалось когда-то: мягкое лесное предзимье, неглубокий снег, белый прозрачный свет, солнце из-за низких, по-октябрьски, облаков не везде проникало на землю. Мрачные, сырые участки леса он миновал, ускоряя шаг за нетерпеливо зовущим его красногоном. Иногда по привычной городской настороженности Петр останавливался, чтобы оглядеться, запомнить дорогу — мало ли куда заведет Ветер, — и, начиная приходить в себя, слышал гудение мачтовых сосен, безлюдное завывание ветра и беспокойно глядел, как в небе, становясь морозно-черными, меняются тучи.
Чем дальше в лес уводил красногон, тем большее беспокойство овладевало Петром. Когда справа от него в густом кустарнике что-то большое, теплое с каменным топотом ломанулось через кусты, а Ветер даже не поглядел в сторону рысью уходящего лося, Петр впервые испугался и, охваченный мгновенно подступившим к горлу предчувствием, побежал…
V
В миг нестерпимой боли старику показалось: кто-то пластанул его по спине косой, но, когда, потеряв равновесие, Заворин упал в небольшую воронку на брошенные сосной иголки, он сумел обернуться, и оказалось, никого нет за спиной, только из-за тесно стоящих сосновых стволов на него наступал синий туман. Скоро он заполнил все пространство вокруг лежащего на левом боку старика, а режущая сердце боль сменилась раскаленно-сжимающей, будто под ним оказались не серые прохладные сосновые иголки, половиком закрывающие влажную землю, а раскаленная добела стальная плита. Боль была точно такой, как в сорок четвертом под Витебском, когда он валялся в воронке неподалеку от немецких окопов. Но тогда на его крик: «Ребятки!» — пришли люди и вынесли в медсанбат, а сейчас некому было прийти на помощь. Заворин вдруг начисто забыл о Петре Охохонине и собаке, но, вспомнив о них, подумал о Ветре с любовью, а о студенте пришла мысль, что в облике девятнадцатилетнего горожанина-несмышленыша к нему в дом приходила смерть, а он, не распознав, принял ее, как гостью. Через секунду туман в глазах Заворина истончился, помутнение в голове, вызванное первым приступом острой сердечной недостаточности, прошло, и он подумал о студенте с надеждой и сказал жалобно скулящей, облизывающей его лицо собаке:
— Ищи Петра!
Синий, без запаха, туман вернулся, как тогда, в 1916 году, в Карпатах, когда немцы впервые пустили на русские окопы отравляющий дым. Тогда Иннокентий Заворин, намочив портянку в своей моче и дыша сквозь нее, выжил. После немцы пускали газы так часто, что даже пуговицы на русских гимнастерках и пряжках позеленели. Но сегодняшний синий туман был страшнее всего доселе испытанного.
Боль нарастала, и старик был уже не старик, а маленький мальчик, который шел в сторону уходящего на запад огромного зимнего солнца. Малолетний Кеша Заворин, в валенках, в зипуне из скатанной овечьей шерсти, нес на коромысле ведра с водой, думая, как обрадуются его помощи дед с бабушкой, немощные прародители, давно неспособные ходить к колодцу. Осторожно дойдя до накатанной санями серебряной, блестящей дороги, он вдруг подскользнулся и упал, разлив воду из ведер. Бойко поднявшись, оглянувшись — не увидел ли кто его неудачу, — Кеша Заворин вернулся к колодцу и сильно зябнущими руками набрал воду, но как не берегся, снова упал с ведрами в том самом месте, на санной накатанной колее, которую мальчику с коротким шажком трудно было переступить. На этот раз он вставал медленно, потирая ушибленный бок, безуспешно стряхивая с зипунка мгновенно застывшую воду. В непонятном, зачарованном страхе Кеша готов был отказаться от третьей ходки к колодцу, но старикам так была необходима вода, что он опять побежал за ней по тропинке. Декабрьский холод жег лицо, от солнца на небе остался тлеющий уголек; мокрые руки пристывали к цепи, но он все равно налил полные ведра и снова подскользнулся, ударившись правой рукой о ведро, и хотел заплакать, но ведра не лежали на боку, как раньше, а стояли по обе стороны от него, и воды в них оставалось ровно до половины.
Не останься в березовых ведрах воды, Кеша бы окончательно испугался возвращаться к колодцу. Холодным пауком посередке груди копошился за рубахой страх. Верилось и не верилось, что из черного, по-зимнему высокого поднебесья смотрит на него бог, и Кеша думал: «Коли бог есть, то почему не помогает людям, ни мне, ни отцу, ни матери, и зачем ему столько домов: в одной Москве, говорят, сорок сороков церквей?» Снежный мир был суров, бел и недоступно огромен; и мальчик готов был растеряться перед его молчаливой, морозной силой, таким беззащитно-маленьким стоял он на декабрьском холоде в зипунке, глядя, как затонуло в заснеженных бескрайних полях солнце; но смело, как из черной ямы вырвался из-за горизонта пламенно-прощальный луч, осветил величаво-подвижные в вышине багряно-синие тучи, веселым сиреневым зайцем пробежал под ногами мальчика и скрылся за его спиной, в застылом лесу; и все кругом на один счастливый миг стало живым и родимым; в теплых мирных домах готовились ко сну люди; и радостный, что живет, Кеша подхватил березовые ведерки и побежал к дому, думая, что на сегодня хватит водички, а с утра, когда солнце снова родится на свет, он еще раз сходит к колодцу.
Отец с матерью в тот год трудились на заработках, и обитую рогожей дверь ему отворил дед — бородатый, улыбчивый, синеглазый. Бабка, сильно сдавшая по здоровью, но сохранившая гордую сибирскую стать, собирая на стол ужинать, напевала, а дед шутливо ворчал: «Нашего внучка только за смертью посылать». То, что воды осталось по полведра, не удивило его, наоборот, он похвалил Кешу, который, счастливо улыбаясь, сам стал выливать воду в деревянный бочонок… На дне березового ведерка еще оставалась ласково плещущаяся колодезная, пахнущая румяным снегом, вода, но Иннокентий Кузьмич Заворин, вечный крестьянин и хлебороб, строго вытянулся и умер.
VI
Красногон впереди Петра взвизгнул и, напружинившийся, вытянувшийся в струну, понесся со всех ног.
— Куда!? — звал его Петр. — Я без тебя не найду!
Припозднившийся гусиный караван в небе кричал, что впереди долгий путь.
Красногон только один раз подал голос. И его тоскливый, смертельно пугающий вой точно вывел на место.
День стал похож на летний. Распушив хвост, белка прыгала с ветки на ветку, будто метался среди зелени влажно-серый язычок пламени.
Петр стоял над воронкой оцепенелый и испуганно-жалкий. Старик лежал на боку, вытянув вперед правую руку, словно был свален неизвестно как залетевшей в это безмолвие пулей. «Да что это я?» Бросив ружье, Петр соскользнул в воронку к Заворину, тронул его лоб и не почувствовал ни холода, ни тепла. Тогда он повернул старика на спину, судорожно торопясь, расстегнул на нем телогрейку, прильнул ухом к груди. Ему так хотелось, чтобы сердце старика пусть плохо, но дало о себе знать, но оно не билось. «Как же я не узнал — здоров ты сегодня, Заворин, или нет?» — тоскливо подумал Петр и бросился искать по карманам старика сердечное — валидол или нитроглицерин, — но не нашел. В старенькой армейской телогрейке и солдатских галифе лежали только нужные для охоты вещи.
Петр вспомнил, что надо попробовать сделать массаж, и стал с силой, двумя руками, ритмично давить на левую сторону груди Заворина. Скоро устав, в окончательной растерянности и страхе, он опять попытался услышать биение сердца… и обреченно сел в ногах старика.
VII
Когда волоком, сильно напрягаясь, он выволок Заворина из воронки и молча сел на колени рядом, пес взволнованно заскулил и требовательно, как друга, лизнул Петра в правую щеку.
Поняв его, Охохонин встал, вытер свое мокрое лицо вязаной шапкой, повесил на шею двустволки, а потом неловко, только с третьей попытки, поднял себе на плечи Иннокентия Кузьмича и, сгибаясь под неживой, тянущей к земле тяжестью, пошел за собакой, которой сказал:
— Домой!
Дорога по лесу была долгой и трудной, но Петр шел, как солдат, думая, что сегодня кончилась его молодость и началась другая жизнь, которой еще долго не будет конца.
ДЕВОЧКА В ОЧКАХ
I
Сергеев, мы с ним двенадцать лет не виделись, измучил меня телефонными звонками. «Слушай, — говорил он, — я новую квартиру получил, много всякого добра накопилось, а лишнее перевозить не хочу. У меня четыре коробки неразобранных книг. От деда остались. Самые хорошие давно на полках, а эти в дешевых бумажных переплетах… Пришел бы, посмотрел, что можно продать и за какую цену. Выручи! Я тебя отблагодарю».
Мы с Сергеевым вместе учились не то в девятом, не то в десятом классе, а недели три назад встретились в метро «Динамо». Холодная, неинтересная была встреча. Сергеев окончил пищевой институт. Холеный, уверенный в себе человек. Отца я его не знал, а дед, по школьным рассказам, был знаменитый медик, любитель книг. Только поэтому я и собрался к Сергееву. Вдруг в ящиках редкие книги? Купить — не куплю, так хоть в руках подержу.
Сергеев встретил меня по-домашнему: в старых джинсах, клетчатой рубахе и шлепанцах. У него, высокого, широкоплечего, была на удивление вялая, небольшая рука. Мы поздоровались, и он сразу повел квартиру смотреть. Еще ничего не было готово к отъезду. В больших чистых комнатах было много мебели, старинных картин и хрустальных ваз. «Живу хорошо, — говорил он. — А ты?» Я же отвечал, что третий год жду, когда отстроят кооперативный дом, где у меня будет двухкомнатная квартира, а пока снимаю комнату за пятьдесят рублей. И Сергеев торжествующе-снисходительно на меня глядел.
— Где же книги? Ты их уже уложил? С ними надо поаккуратнее. Они, как малые дети.
— Нет. Книжки буду перевозить в последнюю очередь. — Он провел меня в третью комнату, молча указал на книжные полки.
Книги были великолепные: русская классика марксовского издания, зарубежная проза, поэзия в крепких дореволюционных переплетах.
— Да, — с уважением сказал я, — у твоего деда был хороший вкус.
— Великий человек, не нам чета, — с гордостью ответил Сергеев.
— А где же ящики с книгами?
Одну за другой, тяжело отдуваясь, он принес в комнату четыре картонных коробки.
— Смотри. — Сергеев сел рядом со мной, грузно уйдя большим телом в английский, черной кожи, диван.
Я развязал ящик и, вдыхая терпкую пыль — предвестницу открытий, с наслаждением тронул первую книгу. Это был Джон Рид. «Десять дней, которые потрясли мир». Второе издание 1924 года.
— О! — сказал я. — Очень ценная книга. Не вздумай ее продавать. Оставь как реликвию.
Потом я вынул потрепанную роман-газету и чуть не задохнулся от радости: «Тихий Дон», напечатанный на желтой газетной бумаге, с очень выразительными из казачьей жизни рисунками!
— Одно из первых изданий, — стал рассказывать я. — Не продавай. Это должно храниться в вашей семье.
— Да! Но хоть что-то из всего этого, — он с надеждой окинул взглядом коробки, — можно будет продать?
— Не торопись.
Через два часа я отобрал то, что можно было предложить «Пушкинской лавке». Осталась неразвязанной синяя толстая картонная папка. Мы отложили ее на потом. Сергеев разрешил ее посмотреть, когда мной были установлены, а им записаны примерные цены на книги.
Я развязал папку и сразу увидел грязно-серую, захватанную пальцами тетрадь и только открыл ее, как перед глазами вспыхнуло:
«Утром 22 июня я еще считала себя самой счастливой в мире…»
Я смотрел тетрадь судорожно и быстро… Перелистнув еще семь страниц, читал:
«…от Миши с фронта больше не было писем. Сегодня распростилась с косой»…
— Это дневник военных лет. Какой-то женщины, — внешне бесстрастно сообщил я Сергееву.
— Его можно продать? — заинтересовался он.
— Не знаю, — растерянно замялся я. — Дневник обыкновенной девушки. Ничем не выдающейся. Блокадный ленинградский дневник.
— А?! — оживился Сергеев. — Это находка.
— Не думаю, — не стал я его обнадеживать. — Этим дневником могут заинтересоваться только приличные люди. И потом… Такой дневник нельзя продавать. Грех. Его можно подарить музею, архиву. И еще… Вдруг автор дневника — твоя родственница?
Сергеев взял у меня тетрадь, внимательно полистал ее и твердо сказал:
— Нет. Эта девушка из глубинки, из Сибири, а там у нас родственников никогда не было.
Потом его жена принесла нам две рюмки коньяка, черный кофе. Мы поговорили о пустяках, вспомнили школу, и Сергеев, улыбаясь, сказал:
— Какой я был дурак, что так бурно на все реагировал. А теперь понял: не надо поддаваться эмоциям. «Ловите миг удачи», — процитировал он и засмеялся, довольный, что книги в бумажных переплетах можно сдать в «Букинист».
Мы лениво переговаривались, а я не мог забыть о тетради. Как сложится ее судьба? Это непростая тетрадь, если дед Сергеева хранил ее у себя. Он, я помнил по школе, всю блокаду был врачом в Ленинграде.
Одеваясь, я вежливо прощался с женой Сергеева, она приглашала в гости, но я знал: больше я тут не нужен, никогда они не позвонят. Мне хотелось на снег и мороз. Я знал: идя по улице, хочешь не хочешь, я буду завидовать своему однокласснику — обладателю книжного богатства. А у меня всего четыреста книг, и надо много работать, чтобы книг в моей библиотеке стало еще больше. «Я их оставлю дочери, — решительно думал я. — Потом мои книги перейдут внуку. Да что это я?! Дочери только год, а я все за нее решил!»
Когда, открыв дверь, я шагнул за порог, Сергеев, вдруг как-то странно поглядев на меня, сказал:
— Подожди, — и ушел.
Он вернулся через две минуты, держа в руках тетрадь, которую я не рассчитывал больше увидеть, и мы с его женой удивленно на него поглядели.
— Возьми, Константин! — сказал Сергеев, протянув мне ленинградский дневник.
— Да что ты! — растерялся я. — Зачем? У меня и денег нет. Нет, не могу взять. — Я остановил его руку.
— Без всяких денег возьми. Тебе, дураку, говорят! — вдруг рассердился он и грубо засунул мне тетрадь, свернутую в трубку, в нагрудный карман пальто. — Пусть у тебя будет. Вечно.
Сергеев вызывающе поглядел на жену, а она была очень красива: тоненькая, длинноногая, с черными, до плеч, блестящими волосами, с золотыми кольцами на пальцах. И по ее глазам я понял: все, что сейчас произошло, ей никак не понятно: «Как так, ни за что ни про что отдать свою вещь?!»
— Вот так! — сказал на прощанье Сергеев и не то вытолкал из квартиры, не то дружески хлопнул меня по спине.
II
Когда я пришел домой, в моей тесно заставленной восемнадцатиметровой комнате свет не горел. Я осторожно прошел мимо детской кроватки, где спала дочка. Жена узнавающе-спокойно, зная, что я зажгу ночничок, отвернулась к стене. По полу дуло, и я подумал: «Надо завтра законопатить балконную дверь».
Тетрадку я положил перед собой на низкий самодельный деревянный столик. Включил маленький свет, но тетрадку не открывал. Мне почему-то было стыдно читать ее, неловко, словно я подглядывал за близким мне человеком.
Думалось о Сергееве, его жене, зимней улице, которой я возвращался от них. Трудно было представить лицо этой девушки, которая в голодном Ленинграде вела свой блокадный дневник. По отрывочным записям, что я успел прочитать на квартире Сергеева, я знал: она была маленькая, хрупкая и, наверно, ее не портили очки в довоенной круглой оправе, теперь, в восьмидесятые годы, такие хипповые, модные. «Девочка в очках», — подумал я и, зная последнюю запись в ее дневнике, догадался, как было с ней. Наверное, голодная, обессиленная, она упала на улице. Не знаю, сразу ли она умерла, но судя по тому, что тетрадка оказалась у деда Сергеева, девушка умерла в больнице. Может, дед Сергеева, врач, принял ее последний вздох, а тетрадка, как печальная память об одной из великих мучениц, умерших в блокаду, осталась ему?
«Девочка в очках, — снова подумал я. — В наше время так называют умных, некрасивых девчонок». И я открыл первую страницу блокадной тетради.
«9 сентября 1941 года.
Утром 22 июня я еще считала себя самой счастливой в мире. Учебный год подошел к концу. Впереди была поездка домой. Я уже думала, как сойду с поезда… Мама с папой встретят меня у вагона. Летом в Кургане солнечно, воздух чистый, с запахом трав… Улицей Красина по деревянным мосткам мы пойдем к нам на Пушкинскую… Мы живем в причудливом доме с башенками, который до революции принадлежал священникам. Мы, я, папа, мама, сестра, живем на втором этаже. До Тобола рукой подать. Я мечтала: поставлю вещи и сразу на речку. О чем я?..
Сегодня была первая страшная ночь. В 10.20 вечера раздался сигнал воздушной тревоги. Я уже легла, но еще не уснула, читала в кровати. Вдруг дикий шум со свистом — и дом качнуло. Как жутко! Ничего подобного в жизни не ощущала. Я сразу встала, надела на себя что под руки попалось, спустилась вниз. В подвале были наши девушки, но так мало. Вряд ли они составляли одну пятую часть из живших в общежитии техникума в мирное время. Остались те, наверное, кто не годен на фронт. Неужели я тоже совершенно не годная? Ходила в военкомат, но отказали. Не взяли потому, что у меня очень слабое зрение. Я прямо окаменела от горя. В детстве не берегла глаза, а мама настаивала! Мама! Ты каждое утро идешь на завод к станку и плачешь обо мне, а я плачу о тебе и обо всех бойцах, кто сегодня в бою.
11 сентября.
На работу хожу пешком. Полем. И, вздрагивая от выстрелов, как бы сжимаюсь. Сегодня я снова презираю всех самоубийц, даже некогда любимый образ Анны Карениной. Неужели боюсь умереть?
Я вспомнила, как тонула. Захлебывалась. Меня, семилетнюю, тянуло на дно, словно камень был привязан к ногам. Все стало голубым и синим. Люди на берегу Тобола рассыпались на миллионы водяных капель и брызг. Солнца на небе не стало, а когда заходила в воду, оно ярко светило. Я вдруг как ударю по воде руками, как заболтаю ногами с необыкновенной силой. Вышла на берег, упала — голова кружится.
Нет, нас не сломить! Потому что мы чистые. Мы хотим, чтобы люди не умирали, дети были здоровы, любили лес, небо и воду.
Начиная с 9-го, каждый день над головой гудение вражеских и наших самолетов, сухие выстрелы зениток. Воздушные тревоги начинаются с половины восьмого вечера и продолжаются с небольшими перерывами всю ночь. Днем работаю, а ночью сижу в убежище. В общежитие придешь — холодно, пусто. Одно меня успокаивает — может, это скоро кончится? Неужели у меня и других никогда не будет такого прекрасного, счастливого настроения, как в прошлом году. Этот хороший и в тоже время трудный год. Первый год в Ленинграде…
4 ноября.
Света нет. Радио молчит. Тревоги с семи вечера.
Бьют немецкие дальнобойные. Сегодня у Фрунзенского универмага снарядом разбило дом. Среди камней, огромной грудой наваленных, ходили закутанные в одеяла и тряпки люди, искали что-то, пристально заглядывали под камни; а на третьем этаже бился, снизу поддуваемый ветром, богатый персидский ковер, хлопался о стену, как парус… Один гражданин сказал мне: «Вы бы утром посмотрели, когда трупы отвозили машинами».
5 ноября.
Сегодня на работе было собрание, посвященное 24-й годовщине Октябрьской революции.
Иду после собрания. Только перешла Володарский, вдруг в воздухе с невероятным шумом и визгом пронесся снаряд, разорвавшийся где-то у Чайковской. До сегодняшнего дня я себя считала привыкшей к налетам, но вдруг испытала ужас. Кое-как добежала до дому, снаряды кругом рвутся… После артналета сразу воздушная тревога, которая длилась даже не знаю сколько. Одна в темноте.
14 ноября.
Целый день тревоги. Говорят, начался второй период немецкого наступления на Ленинград. Но, судя по вечерним тревогам, можно считать — это третий период, так как начало бомбежек не в 8 и 7 часов, как раньше, а в 6 часов вечера.
Нашла в шкафу забытый всеми кусочек хлеба, с жадностью набросилась на него и весь вечер считала себя счастливейшим человеком, даже набралась храбрости постирать кое-что из белья, а ночью так сильно стреляли зенитки, что я спустилась вниз. В общежитии морозина невыносимая, только в кровати можно согреться. Встав с постели, сразу продрогла. Вернулась из убежища, снова согрелась под одеялом и решила больше не подниматься, хотя бомбежки, артналеты продолжались всю ночь, а я думаю: «Ну и пусть бомбят. Если смерть, то не все ли равно когда — днем раньше или позже».
20 ноября. Войкова, 4.
На улице снег. Ночую у Маруси (вместе работаем). Нарезали капусты и ели так, с чаем. Если бы мне раньше сказали, что сырая капуста так вкусна, я, пожалуй, не поверила бы. Мы с Марусей целый вечер утешали себя капустой под звуки сирены, которая беспрестанно извещала то тревогу, то отбой.
27 ноября.
Двести граммов хлеба и один жидковатый обед в день дают себя знать. По лестнице еле поднимаюсь, ужасная апатия. Второй день тревоги с 12 часов дня и до 4—6 вечера, потом маленький перерыв, и опять бомбежки.
Есть хочется до невероятности. Жить еще неделю, даже больше, а талонов осталось всего ничего. Благодаря двум лепешкам, не выкупила хлеб на завтра, но завтра придет, лепешек не будет, а хлеба 185 граммов.
Гитлер, этот сверхизверг, хочет нас извести!
4 декабря.
Мороз впервые разукрасил окна. Раньше это было радостное событие, а нынче сердце щемит.
6 декабря.
Канун выходного. Думаю поехать к Марусе — напроситься на обед. У нее всегда есть продукты. Откуда? Не знаю. А я сэкономлю еду на рабочие дни. Это подло, но на завтра только 125 граммов хлеба на весь день, а есть так хочется. Нечестно? Но, может, люди простят меня? Особенно те, кто сейчас в Ленинграде.
10 декабря.
От Миши, моего однокурсника (он теперь командир взвода), пришло письмо. Вот радость-то! Говорит, что вспоминает меня. Даже не верится. Раньше я не обращала на него внимания. В техникуме сидели за разными партами. Высокий такой, беленький, серьезный, не очень веселый. Как он в окопах в такие морозы?
15 декабря.
Идут бои. Миша! Где ты!?
24 декабря.
Прихожу домой — мерещатся хорошие блюда, а есть нечего. Хлеба нет. Как там, в Кургане, отец, мама, сестренка, милые, дорогие, бедные? А в Тоболе можно рыбу ловить!
25 декабря.
Утром радость! Прибавили хлеба, дали 200 граммов. Радуюсь за людей, многие сильно истощены. Я тоже еле двигаю ноги. Но, может, это еще не настоящий упадок сил? Дома по-прежнему холодно, сижу с коптилкой, от которой у меня перед сном вид, словно, побывала в печной трубе.
5 января 1942 года.
В Новый год надо бы кричать «Ура!», но голоса и сил не хватило. Полмесяца, как прибавили хлеба, а я еще не привыкла. Съедаю все зараз и к вечеру хочу есть, как собака.
7 января.
Рождество. Вчера, ложась спать, загадала: кого увижу во сне, те выйдут из огня живыми; и всю ночь мы плыли на лодке втроем: мама, Миша и я. Больше никого не видела.
Как вы, папа и мама? Папа все так же кочегаром на паровозе? Он с шести лет работал на пашне, которая была рядом с железной дорогой. Рассказывал: «Пашем с отцом, а рядышком бегут поезда. Я сижу на коняшке, хворостинка в руке — правлю. Паровоз с грохотом пробежит, белый дым от него, я нюхаю паровозный дым с наслаждением». Отец ругается: «Чего ядовитый газ нюхаешь?» А я ему: «Нравится. Зовет куда-то».
8 января.
Как никогда тяжело душевно. Был… Предлагал мне… Я его с треском выставила. Слава богу, у меня еще есть силы не соблазниться на его предложение и особенно на золотые горы, которые он обещает. Ничего мне не надо! Я не могу отдать себя человеку, которого никогда не смогу полюбить. Он сволочь, думает, что я дойду до этого ради куска хлеба?! Чудовище 1942 года! Нет, поступить так — значит навсегда потерять к себе уважение, а без уважения к себе, что за жизнь?!
10 января.
Сегодня во сне ела чудные лепешки в масле. Так много, что, проснувшись, до сих пор сыта.
Лепешки были из сдобного теста, румяные, пышные, какие умел выпекать папа. У мамы такие не получались. В детстве папины лепешки были нашим любимым угощением. Садимся на кухне кружком, как зайчата. Мама все приготовит, сковородка на плите раскалится. Заходит на кухню отец, лукаво смотрит на нас, улыбнется в усы, а мы с него глаз не сводим. Он возьмет в руки кусочек теста, помнет в ладонях, аккуратно бросит его, размятое в кружок, на сковородку, и поплывет по кухне сладостно-дурманящий запах.
Я любила есть лепешки, сидя на подоконнике. Беззаботно глядишь в окно. На улице падает снег — праздничный, не опасный. Люди сыты и никуда не торопятся. У них на руках дети, закутанные в шали. В Кургане румяные, сухие морозы.
14 января.
Да, как много значит позавтракать. Как я раньше это недооценивала? Ну, уж как появится много хлеба, я регулярно завтракать буду.
20 января.
У меня день рождения. Исполнилось семнадцать лет. Вечером вязала бойцам варежки.
Я часто думаю о тебе, Миша. Ночью, когда не могу уснуть, я мысленно ищу тебя в темноте — на севере, востоке и западе. Везде, где война. Ты не думай, я три раза ходила в военкомат. С голода стала почти слепой.
23 января.
Ночую на работе, потому что в общежитии холодина. Как дома переночую, утром чувствую себя совсем больной.
Вечером зашла к Марусе. У нее все время народ. Налили мне тарелку супа, и так мне это показалось нехорошо. Просто ужас! Что она может подумать обо мне и все окружающие ее? Безусловно, я произвожу впечатление голодной нищенки. До чего дошла!
Шла от Маруси. Какая чудная ночь! Сильный мороз и светло, светло, как днем. Белым-бело, даже воздух белый. Шла у Марсового поля — это мое любимое место в Ленинграде.
28 января.
Вчера съела хлеб утром, а днем голодала. Вечером же совсем не ела, а утром соленой водички попила, и она даже оказалась вкусной.
…Кончился январь. Днем всюду трупы, ночью кошмары. Раньше хоть сны снились хорошие, всегда с обилием вкусной пищи, но теперь одни кошмары о покойниках.
5 февраля.
Сегодня была комсомольская конференция, потом концерт. Выступали знаменитости — Михайлов, Кедров. Дохнуло забытым, как будто навсегда потерянным счастьем. Как хорошо я себя чувствовала, хотя мы сидели далековато и в холоде.
7 февраля.
Вернулась домой в общежитие. Нет одеяла — девчата затащили в другую комнату. Потом мы все вместе вязали варежки. Увлеклась работой так, что, когда все легли спать, я продолжала вязать. Дорогие бойцы и командиры, будет ли вам тепло в моих варежках и носках? Пусть вам будет теплее, чем мне.
10 февраля.
Все так же: 300 граммов хлеба и водичка. Но теперь воды много пить не буду: многие от этого страдают.
12 февраля.
Все эти дни по вечерам вяжу.
15 февраля.
Первая добрая ночь после долгих мучений от удушья и кашля, но самое большое страдание — грязь в комнате, которую я не в силах убрать.
Живы ли родные? Мама, папа, сестричка Нюра? Миша? Я ему написала, что работаю в строительной конторе. Можно сказать, у меня оборонная работа. Строим…
14 марта.
Уже много дней не хочется есть — это серьезно и страшно.
Трамваи не ходят, воды нет, света нет. Пошаливает здоровье, опухло под глазами, особенно под правым. Неужели потому, что много пью воды? Писать не могу. Разбегаются мысли. Но я все перенесу. Уверена — немцев отгонят от Ленинграда.
9 мая 1942 года.
От Миши с фронта больше не было писем. Сегодня распростилась с косой.
22 июня 1942 года.
Сейчас по радио передали: «Пятнадцать минут десятого». Начал выступать Всеволод Вишневский, и вдруг завыла сирена. Это напомнило, что сегодня год, как началась война. На громадных пространствах идут бои. Миллионы раньше не знавших друг о друге людей делают одно необыкновенное и святое — сражаются с нацизмом. Меня среди них нет! Кто я? Маленькая свечечка, от которой никого не греющий свет. Зачем я жила? К чему готовилась? Думала ли, что настанет час, а я не буду готова к борьбе? Нет, не думала. Казалось, все потяну. И окопы. Теперь поняла: в моей довоенной жизни не было поступка, говорящего, что я могу подняться над повседневностью. Мне казалось, главное свершилось до моего рождения и нам больше не угрожают. Не верила, что будет война. Сколько было сделано, чтобы ее не случилось!
Да, я сама во всем виновата. Уже год война, а я еще ничего не сделала. Отдала колечко в Фонд обороны, вяжу бойцам-варежки и носки, мотаюсь по стройобъектам, черчу, считаю. Но все равно стыдно, как медленно я живу. Прямо черепаха какая-то. Раньше я думала, что никогда не умру! Теперь главное для меня — не поддаваться смирению, что смерть — избавление и покой.
И еще я думаю… Если бы от рождения люди наделялись способностью воспринимать чужую боль как свою, войны бы не было. Каждому, стреляющему в чужого ребенка, казалось бы, что он убивает своего! Фашист только внешне человек, все у него вытравлено!
Тревога длилась долго, но тихо. Только гудят в воздухе наши ястребки.
3 ноября.
Приближается праздник. По старой традиции люди ждут от него хорошего.
5 ноября.
Сегодня по радио слышала передачу для молодежи — письмо Наташи Петровой редактору, где она рассказывает из-за чего разошлась с единственной, любимой подругой: та живет одним днем и, выражаясь по-сегодняшнему, «крушит вовсю», ибо считает: война все спишет. Я бы тоже с такой порвала!
Раньше я боялась умереть с голода. Сейчас нет.
7 ноября.
Сегодня праздник. Навела дома порядок. Сейчас сижу за столиком, не могу отдышаться.
Завыла сирена, и наши зенитки забили так сильно, что я боюсь за окна. Зенитки так давно уже не работали. Я подошла к окну, отогнула шторину. Луна, прожекторы, вспышки зенитного огня. Глухое урчание самолетов.
3 декабря.
За хлебом очереди на квартал. Получила хлеб в восемь часов утра, вернулась домой и почти весь съела, кусочек убрала в шкаф, но есть так хочется.
5 декабря.
Все дни беспрерывно обстрелы. Как-то странно. Один выстрел в 15—20 минут и не в одно место. Обстрел кончился и сразу сигнал воздушной тревоги. С больной ногой еле добралась домой.
7 декабря.
Попала под обстрел, осколки сыпались как град. И как во время вчерашнего обстрела, который застал меня на площади Нахимова, я стояла в подъезде и дрожала. Не знаю, что со мной творится, не нахожу себе места. Бывают моменты — просто не знаю, что бы с собой сделала.
10 декабря.
Слабость, кружится голова, лицо опухает, становится землисто-серым. Сейчас ужасный обстрел. Бьют немецкие дальнобойные, дом беспрестанно дрожит.
15 декабря.
По дороге с работы долго глядела на Ленинград.
22 декабря.
Понемногу живу. Опухли руки и ноги. Сегодня встретилась одна наша рабочая. Я ее совсем не знаю. Она меня откуда-то знает. Вдруг подает мне свою пайку. Я расплакалась, но, конечно, взять не могла. Это ее великодушие я никогда не забуду!»
Настольная лампа на моем самодельном столе замигала и, коротко вспыхнув, погасла.
Обычно со света ничего не видишь перед собой, а тут из темно-синей ночи выступили громадные тени давно живущих на белом свете тополей и берез. Они, как и я, не собирались умирать, а девушка, тетрадь которой лежала передо мной, не дожила до восемнадцати лет. Деревья, если им не мешать, живут много дольше людей. Меня это всегда удивляло, и я позавидовал березам и тополям.
Я закрыл блокадный дневник. После того, что прочел, как-то неловко было возвращаться к мирной, нормальной жизни, хотя дневник, как я и говорил, был самый обыкновенный. Одна из тысяч умерших без имени и фамилии. Девушка. Простая душа. Не героиня. После тетрадных листков Тани Савичевой, где в нескольких записях уместилось все мученичество Ленинграда, в дневнике сибирячки уже не было того, что могло перевернуть душу незнакомого с войной человека, но все, что я прочел, было пережито, и в строгих, скупых словах была взрослая боль и самое главное для меня — способность не сдаться!
Я прислушался к сонному дыханию жены и подумал, что она у меня лейтенант медицинской службы в запасе. Я встал из-за самодельного столика, сел к ней на диван и погладил ее длинные, по случаю сна распущенные по плечам, русые волосы. Она сразу проснулась и секунду, возвращаясь ко мне, смотрела, не узнавая, потом улыбнулась, как наша дочурка, и снова, ни о чем не тревожась, уснула.
Через неделю субботним утром нас разбудил телефонный звонок.
— Слушай, — бодро сказал мне в трубку Сергеев. — Как жизнь?
— Да ничего. — Я окончательно проснулся и подумал: «Зачем я ему снова понадобился?»
— У меня вот какое дело, — замялся Сергеев.
— Ну что? — Я вдруг почувствовал раздражение.
— Да неудобно как-то об этом вести разговор.
— Слушаю!
— Да жена, — извиняющимся тоном начал рассказывать он. — Недовольна, что я тебе эту тетрадку отдал. Ну, ленинградскую. Говорит, твой приятель опубликует ее в журнале, заработает на этом деле…
— Так, — потерянно сказал я.
— Всю неделю поедом ест, как с цепи сорвалась. До чего жадная баба! Ты уж ее извини. У нее было трудное детство.
— Что же ты предлагаешь? — как можно спокойнее сказал я.
— Давай где-нибудь встретимся на нейтральной территории. Разопьем бутылочку коньяка, вернем ей эту тетрадь, а я тебе еще подписку на Гоголя сделаю!
— Иди ты! — закричал я на него. — Я эту тетрадь вам так верну, без всякой подписки! По почте пришлю! Адрес давай!
Через час мы вместе с женой и нашей маленькой дочкой были на почте. Старая седая женщина с побитыми ревматизмом пальцами завернула нам тетрадку в светло-коричневую бумагу, и я мысленно поблагодарил ее, что она, человек пенсионного возраста, еще работает. Потом я надписал на конверте: «Ленинград, Петропавловская крепость, д. № 3, Музей истории Ленинграда».
А Сергеев мне больше никогда не звонил.
КОЛОКОЛЬЧИК
I
Назавтра переезд в новый дом должен был завершиться. Сын со снохой, люди боевитые, в один день управились. Подогнали машину, загрузились — и пятистенник Москвиных опустел, только две кровати остались — деда и внука: железная, облупившаяся, с никелированными шишечками, с прогнутой панцирной сеткой и деревянная, на днях купленная, которую выбирали под цвет обоев новой квартиры.
Уезжая с машиной, сноха с сыном поставили обе кровати ближе к печи, сказав деду, что приедут за ним к девяти утра. «Отопление только сегодня включат, — объяснили. — Надо, чтобы квартира нагрелась, а то застудитесь там. Вы уж в последний раз у печи погрейтесь».
Москвин Николай Иванович долго стоял у окна, носом прижавшись к стеклу, провожая взглядом ревущий на колдобинах грузовик, и думал о сыне, который придерживал в кузове плохо закрепленный сервант: «Много добра нажил. Да что там, не украл, сам заработал. Ночь, полночь — зовут: «Давай, Олег, на электровоз». Поворчит, а идет. Машинист, не барыня какая-нибудь». Старик, довольно хмыкнув, оглянулся на внука:
— Тебе хотелось уехать?
Внук сидел у печи и, приоткрыв заслонку, грустно глядел в огонь.
— Я даже не знаю. — Он кинул в печку полено.
Старик поправил на плечах темно-синее, с черным каракулевым воротником, пальто. Поежился. В пустом доме ему стало еще холоднее. «Хорошо, оставили внука со мной. Не так одиноко на родном месте».
Месяц назад еще не знали, что дадут квартиру: стены в доме были побелены. Сейчас, когда стало свободно от мебели, белизна их казалась старику особенной. «Будто праздник какой»… — Он думал про стены, а десятилетний внук, обижаясь на отца и мать, скучал.
Раньше, оставаясь вдвоем, внук часто теребил деда вопросами, какая жизнь была в старину; но Николай Иванович говорил мало, вздыхал и думал: «Поздно Олег мне внука завел. Сил уж нет управляться с ним».
Теперь Николай Иванович много спал. Походит-походит по комнате, приляжет и сразу в сон. Бывало, внук о чем-нибудь житейском спросит, дед скажет два слова, на третьем запнется. Вроде, смотрит в окошко, а на самом деле видит себя во сне молодым.
II
Посреди ночи внука разбудил громкий незнакомый голос. Заслонка в печи была приоткрыта, моргающие, тлеющие угли отражались в черноте закрытого ставнем окна.
Внуку стало страшно глядеть в потолок: казалось, его вообще нет… Незнакомый голос снова звал:
— Денис! Нетунаев!
«Так это ж дед говорит», — испуганно подумал внук и повернулся на левый бок.
Переставив свою кровать совсем близко к печи, дед лежал на спине, выставив страшный, острый кадык. Оттого, что внук узнал, кто говорит в тишине, легче ему не стало. Хриплый, зовущий голос перешел в шепот, и внук содрогнулся, потому что в эту минуту старик жил потаенной, никому не подвластной жизнью. «Мы же такие родные, — с невидимой миру слезой подумал внук. — И ничего друг про друга не знаем!» — Мальчик заплакал. Он знал, что сон старика — раздробленное видение, не похожее на жизнь, и тосковал, что никогда не узнает настоящую, ежедневную быль родимого человека.
Если бы старик догадался, о чем плакал внук, он бы точно сел к нему на кровать и утешил его в пронзительном ночном одиночестве. Но Николай Иванович Москвин, пробудившись, опять мучился: все, что мозжило его душу, давно должно было отболеть, но пережитое в молодости словно пряталось где, может быть, в небесной тьме, и вновь, и вновь к нему возвращалось…
…На двух закапанных воском столах Николай Москвин, рядовой, увидел хлебное крошево. Вразброд лежали опорожненные, из красного дерева, немецкие фляжки, а на газете желтой горкой крутобокие огурцы. Солдат глотнул, вспомнив их запах — освежающий и семейный.
Поручик Шинкарев, двадцати пяти лет, невысокий, худой, еще шире открыл занавешенный одеялами вход в землянку. Оттуда в лицо Москвина дохнуло теплом и луком, оборванной гитарной струной и тоской.
— Он пойдет! — крикнул в землянку Шинкарев.
Третьи сутки шел мокрый снег. Люди в окопах с трудом привыкали к нему: они не забыли летнего солнца, хотели тепла, полной луны, но надвигалась сырая, промозглая ночь.
Москвин, огромного роста, второго года службы солдат шел по насыпному ходу сообщения и видел, как тихо мерзнут люди: одни, закрываясь от снега воротниками, прятали руки в карманы шинелей, другие сидели на корточках, стояли спиной к ружейным щиткам.
Москвин шел в свой окоп с надеждой, что поручик, изрядно хмельной, забудет о приказе: видано ли, привязать к колокольчику длинный шнур, подвесить его на немецкой проволоке, а офицеры, как малые дети, подергают за веревку, побеспокоят германцев — выявят, значит, новое расположение пулеметов.
Заняв место в окопе, у ружейного щита, Москвин сказал землякам:
— Поручик игру затеял.
Денис Нетунаев, подвижный, вспыльчивый тобольский татарин, хмуро глянул из-под бровей:
— Чо стряслось?
А узнав что и как, поднял к небу голову, заиграл кадыком, заматерился с тоской. Ветер прогнал брюхатые снегом тучи, солнце на миг глянуло, осветило нездоровые, бородатые лица солдат и скрылось за близким лесом.
В тихие без перестрелок вечера Москвин и Нетунаев, земляки, любили глядеть на лес, вспоминали, как детьми ходили по грибы и ягоды, строили шалаши и спали в них бок о бок, просыпаясь от тревожных шорохов, от шума бьющих о березовую листву дождевых капель. Кто знал, что придется жить так далеко от дома, месить грязь осенних дорог, засыпать на снегу, стрелять в людей.
— Денис, — позвал друга Москвин, — ко мне во сне мать-покойница приходила. Стоит на бруствере грустная. Предупреждала, выходит…
Он вспомнил, как в зимних сумерках мать не слышно подходила к топчану, крестила ему голову, потом живот, ноги — тайна шла от ее рук, неясного тела. Был он печально мал. Еще не заснув, жался в комочек, когда, шепча молитвенное, мать просила бога поберечь сына. Жить бы ей да жить, любимой душе. Да отец Москвина купил по весне коня: раз в жизни повезло — сумел заработать. Привел его с ярмарки, высокого, белогривого, остановил посреди двора — показывал жене. Сидя на крыльце, она хвалила: «Хорошего купил коня». Отец принес в деревянной бадье овес. Жеребец захрустел со вкусом, а Николка стоял рядом с ним. Вдруг жеребец дико вскинулся, ударил копытами — чуть не зашиб! Какой-то человек в овсе оставил иголку, она и воткнулась коню в горло. Отец с трудом поймал хрипящего, мучающегося жеребца. Глянули на мать, а она, раскинув руки, лежит на крыльце. Ей привиделось, что упавшему в испуге сыну жеребец размозжил голову, и сердце разорвалось.
Потом отец, потерявший от горя голову, отдал Николку в богатое село стеречь лошадей. Случилось там, потерял он в поле узду. Хозяин, жестокий черт, снял со стены в конюшне другую узду, с медными бляшками, и крепко побил пастушка. Николка очухался ночью, плечом открыл дверь и ушел. Под утро над головой с хлопаньем пронеслись утки, и он обрадованно подумал: «Скоро старица Тобола. Я никогда больше не стану батрачить». Но отец опять пристроил его к лошадям. На конезаводе Николка убирал навоз в денниках, чистил и купал коней. Закончив раздачу кормов, он шел по конюшне. Кони, сыто дыша, ели овес, а ему казалось: по низкой крыше гусит дождь.
К призывному году он освоил многие нужные конюшне ремесла. Старший конюх говорил, что Николу определят в кавалерию, но его забрили в пехоту.
Когда их Сибирский полк погрузили в эшелоны, ротный Шинкарев приглянулся солдатам: он приходил на остановках, спрашивал, как настроение, нет ли просьб. Он даже проехал с ними от Кургана до Шадринска в одном вагоне и тоже пел под гармошку: «Стальной штык четырехгранный грудь германскую пронзит!» И солдаты говорили, что наш поручик Андрей Петрович — офицер незлобивый. Но в первый месяц окопной жизни рота вдруг поняла, что он не умеет или не хочет ее поберечь: шестого августа в Полесье, когда по ним смертельно-метко ударили пулеметы, Шинкарев не поддержал приказа на отступление — «Георгия» зарабатывал. Рота потеряла половину людей, а когда Москвин, кутая бинтом руку, бросил в лицо Шинкареву матерные слова, тот поставил его под ружье. Москвин тогда затянул на груди лямки вещевого мешка, надел шинельную скатку, почистил козырек фуражки и встал в полный рост на бруствер, кинув на плечо винтовку, глядя в сторону германских окопов. Но с чужой стороны по нему не стреляли. Когда он через час на обессиленных ногах спрыгнул в окоп, в роте пошел разговор, что германцы, оказалось, тоже люди: понимают, какая несладкая жизнь в русских окопах. Бывший путеец Денис Нетунаев, давний друг Москвина, ночью шептал ему, что пришла пора разбираться, за что русские и немцы друг дружке хребет ломают.
III
Накрытый шинелью поручик Шинкарев лежал в землянке на топчане и видел сон… Студент университета, он идет к дому с колоннами, где его ждут мать и два маленьких брата. Солнце уходит. Редкие облака-кораблики тонут в огненных реках. Рассеянные, неслышные люди мягко проходят. И, еле видимый, навстречу идет отец. Вдруг пустынно, и они рядом: отец, молодой, в штатской одежде, взял его под локоть, и он узнал дорогую, но холодную руку. Они молодые, похожие, не разговаривая, прошли мимо затененного тополями дома. Андрей оглянулся: светились окна столовой. Он со страхом подумал, что отец два года, как убит на Балтике. Рука отца обнимала его локоть, и они уходили, теряя землю из вида…
Шинкарев проснулся. Офицеры простуженно пели:
Хаз-Булат удалой, Бедна сакля твоя. Золотою казной я осыплю тебя…Поручик отвернулся к стене, закрыл глаза и стал думать о доме. После смерти отца они с мамой оставили Петроград и вернулись на ее родину в Тобольск, откуда он, старший сын, ушел добровольцем. Забываясь, поручик слышал запах старого дерева, видел, как грустит мама, читая походные письма отца… Однажды в конверте оказалось зеленое перышко: его обронила птица, влетевшая через иллюминатор в каюту отца. Одно письмо, первое, долгожданное, Андрей помнил дословно. Они с мамой вместе разрезали конверт, и вечерами она любила читать это письмо у огня…
«1 октября. 8 утра.
Сейчас, Веруша, собираемся уйти из Либавы. Сначала предполагали это сделать завтра, а сию минуту перерешили. Все это время стояла суматоха — грузы прибывали каждый час и неизвестно что, куда. Путаница была страшная. Третьего дня я сел на паровой катер и слез с него вчера в час, урывая в промежутках время для сна и еды. Конечно, устал, принял вечером горячую ванну и чувствую себя именинником. Рассчитывал даже сегодня съездить на берег, но вдруг!.. Вдруг неожиданное решение: «немедленно уйти».
Спешу послать тебе последнее письмо из России. Телеграммой не могу уже уведомить.
Спасибо, милая, за обе телеграммы. Я ухожу спокойным и уверенным. Будь здорова, голубчик. Не падай духом и не настраивай себя на миноры. Ужасно люблю тебя, милая моя, ненаглядная. Сам я глубоко верю, что и на этот раз все обернется в лучшую сторону. Крепко целую милых моих ребятишек. Поскорее выздоравливай и тогда переезжай — я ведь всегда мечтал, чтобы ребята пожили в деревне. Андрею купи настоящий овчинный полушубок, всем настоящие валенки. Пусть поживут поближе к людям и к природе…»
Отец, один из немногих офицеров, вернулся из японского плена с незалеченной раной от осколка шимозы.
Погиб он в начале германской. Друг отца, штурман, рассказал, как все случилось. Он, раненый, лежал на палубе и старался укрыться от немецких снарядов, которые уже непрерывно попадали в крейсер и все сильнее разрушали его. Корабль кренился. Отец, флагманский артиллерист, подошел к штурману и потащил его через спардек на правую сторону судна, чтобы не попасть под корабль, когда он будет переворачиваться. Они перелезали противоминную сеть, когда на корабле громко прозвучал сигнал судового колокола: «Уходи все с корабля!»
«Уходи все!» — закричал контуженый, потерявший рассудок матрос и выстрелил в Петра Алексеевича из винтовки.
«Бедный отец, — укрывшись с головой шинелью, подумал Андрей Шинкарев. — Он был хороший офицер, а я не могу, потому как не знаю, зачем все это. Я уже не в состоянии каждое утро подниматься с этого топчана, одеваться, выходить из землянки. Мне хочется только лежать и думать о невозвратимом. Я ни о чем не мечтаю, я потерял эту способность. Я даже женщину не хочу и не болею об этом. Все время снег, снег. Мы на голом месте, а лес… даже лес у немцев. Там бы я мог облюбовать себе большую сосну и сидеть под ней, никому не мешая. Люди… К ним я стал равнодушен. «Народ безмолвствует» — так это у Пушкина. Моя беда в том, что я знаю конечный результат любого поступка. Люди не стоят, чтобы любить их. Мой отец был чистой души народолюбец, а смерть в грязном облике контуженого матроса срубила его под корень. За что? Господи! Не верю и креста не ношу. Равнодушие — то, чего я всегда боялся, — наступило, потому что я был жизнерадостен, любопытен, шел с любовью к хорошим людям, а таких отдают на заклание. Я обижен на жизнь. Я ее бывший раб. Она никогда не будет такой, как мы хотим. Всюду ложь, тупость, хаос и воровство. Когда я напиваюсь, я теряю способность видеть, но внутренне я чрезвычайно трезв. И я никого не прощаю.
Мама, моя единственная любовь, голубка, заступница, спаси меня. Дай мне силы выстоять! Выбраться, из этих грязно-белых болот. Я приеду в Тобольск, позвоню в твою дверь, и мы сразу уедем в лес, в охотничью избушку отца, и я, ничего не боясь, в полный рост пойду за водой к колодцу, а ты будешь смотреть на меня в окно, не веря, что я вернулся живой.
Шинкарев, как в детстве, подтянул для тепла колени к груди, улыбнулся счастливо и подумал, что ничего этого не будет. «Я обреченный, — решил он. — За меня уже все решили». Он скинул шинель и сел, спустив голые ноги на земляной пол. Офицеры посмотрели на него без любопытства. Мало ли что приснится спящему человеку. «Сволочи, — подумал о них Шинкарев. — Я скоро умру. И никому нет до меня дела».
Шинкарев, а с ним еще три офицера, пришли к Москвину, когда в темноте уже нельзя было различить мушки винтовок. Солдаты встретили господ молчанием. Еще не отрезвевшие офицеры были мрачнее тучи и говорили, как плохо без женщин, а тыловая сволочь сейчас вовсю… Всех бы! Шинкарев недовольно вгляделся в их высохшие, тесно обтянутые землистой кожей лица и подумал: «Неужели я такой же потерянный? Не может быть! И что это за дурацкая идея у подполковника — засекать пулеметные точки с помощью колокольчика? Дурацкий приказ, а солдату лезть в темноту. Да не все ли равно когда — сегодня, завтра, месяцем позже? Выжить надежды нет, а солдат на что-то надеется. Замечен в чтении каких-то листков. Пугачева вспоминал. Потому и пойдет».
Шинкарев развернул газету. Колокольчик был величиной с кулак.
— Привязывай шнур, Москвин! — Поручик взял из рук взводного большой моток крепкой тонкой веревки. — И с богом!
— Ваше благородие! — вымолвил из темноты Нетунаев. — Не дело это — на глупую смерть сибиряка посылать!
— Что такое? — силясь разглядеть лицо говорящего, громко сказал Шинкарев. Солдаты теснее окружили офицеров, задышали тяжело, угрожающе.
— Разойдись по местам! — крикнул взводный.
— Разойтись! — подали голоса офицеры.
Москвин еще больше ссутулился, завернул в тряпицу язычок колокольчика, чтоб не звякнул, не выдал у немецкой проволоки, перекрестился, сказал:
— Ухожу. — Вылез из окопа, и его поглотила тьма.
Холод бритвой полоснул по телу. Земля пахла людским потом и разрытой могилой. Москвин прополз и затих. Он лежал, уткнув лицо в согнутый локоть. Двигаться не хотелось. Снег лопотал, усыпляя. Тело в намокшей одежде, как срубленное, отсыревшее дерево, всасывалось землей. Москвину на мгновение показалось — кругом топь, но он сдержался, не крикнул, а робко продвинулся в темноту. Впереди сумасшедшим петухом закричал человек. Ракета вспыхнула, заискрилась, как лампа с догорающим фитилем. Москвин открыл глаза, когда мгла вернулась. Скоро ползти стало совсем тяжело: усталая от воды земля липла к шинели и сапогам, останавливала. Он дышал торопливо, вжимаясь в землю, когда нависали над головой голубые осветительные ракеты.
Первое проволочное заграждение он прошел без препятствий, в нем зияли проходы: столбы и проволоку давно посекли пулеметы, и Москвин пробрался через один из проломов.
«Ну что же, — стоя в окопе, вслушиваясь в мрачную темноту, размышлял Шинкарев. — Я послал человека туда, потому что привык посылать на смерть. Но ведь по всем божьим законам к этому нельзя привыкнуть? Какое во всем теле оцепенение, тяжесть. И никакого стыда. В университете нам говорили о величии человека, а теперь я камень. Статуя командора», — усмехнулся над собой Шинкарев и посмотрел в небо. Оно показалось ему расстрелянным. «Где-то, — думал Шинкарев, — живет девушка, предназначенная именно мне, но она никогда не будет моей женой… Кому сейчас труднее — ему или мне? — подумал о своем солдате поручик. — Наверное, мне. Я точно знаю, дальше будет еще хуже, дальше вообще ничего не будет, а он хочет вернуться из этой бойни».
Колокольчик подвесить оказалось делом нехитрым, но надо было вернуться обратно, да так, чтобы колокольчик не звякнул, не удивил немцев неожиданным появлением. Москвин полз боком, медленно отматывая тонкую веревку, и думал, что колокольчик не зазвонит, не заставит немцев поднять голову, прислушаться. Но он, маленький предатель, зазвонил громко, не скрываясь, когда Москвин был уже недалеко от своих окопов. Как ни старался он поберечься, шнур за что-то в темноте зацепился, солдат чуть поддернул его, и в ночной тишине колокольчик заговорил по-детски испуганно. В небе вспыхнули осветительные ракеты. Пулеметчики встрепенулись, и Москвин почувствовал, как его сильно толкнуло и обожгло.
Очнувшись, он, как с высокого берега, увидел лежащего на левом боку с неловко подвернутой рукой солдата и подумал: «Жаль Нетунаева». Потом вгляделся в него, копошащегося в снежной, глиняной жиже и понял — это не Денис Нетунаев, а кто-то другой, необыкновенно знакомый, но тяжело раненый и потому неузнаваемый. «Да это я сам, — испугался Москвин, подумав: — Значит, не убит, только кружится голова, словно я пацаном носился по лесу за отбившейся от стада коровой и не поенный, не кормленный выбился из сил, а домой боязно — хозяин прибьет. Ранило меня», — вдруг догадался он и, не чувствуя тела, попробовал шевельнуться и обрадовался: «Поживем еще». Когда ему удалось проползти два шага, боль слегка тронула правый бок, потом разгорелась, как сухой костер, стала невыносимой. Чтобы унять ее, он закричал, но услышал его только один, с нечеловеческим слухом, пулеметчик-баварец. «Ох-хо-хо», — прошептал Москвин, когда пулеметчик ответил на его робкий стон короткой, из трех патронов, очередью.
«Не бросят меня, — вспомнив Дениса, решил Москвин и вдруг ясно почувствовал, что тот где-то рядом. — Найдет, родная душа», — с тихой уверенностью сказал он и потерял сознание.
Очнулся он через мгновение, потому что невысоко, прямо над ним, вспыхнула осветительная ракета и нестерпимо горячий свет впился ему в зрачки.
Москвина вынес из-под огня Нетунаев: он втянул его, густо покрытого землей и глиной, в окоп и огляделся. Шинкарев, протрезвевший от пулеметной стрельбы и света ракет, быстро сказал:
— Молодец, Нетунаев! — Он приказал, чтобы Москвина убрали с прохода, а когда солдаты, столпившиеся у лежащего в беспамятстве, расступились, Шинкарев, заторопившись уйти, носком сапога чуть подвинул его безвольные, тяжелые ноги. Денис Нетунаев задержал офицера рукой и сорвал с его плеч погоны.
Шинкарев схватился за револьвер, и тогда кто-то ударил его прикладом по голове…
Солдатское волнение перекинулось на весь 55-й Сибирский полк 6-го Сибирского корпуса: солдаты не подчинялись приказам, жгли костры, кричали немцам: «Войне конец!»
Волнение подавили. В 55-м полку из роты покойного Шинкарева по приказанию начальника 14-й Сибирской дивизии генерал-лейтенанта К. Р. Довбор-Мусницкого 25 ноября 1916 года без суда и следствия были расстреляны тринадцать солдат. На рапорте генерал-лейтенанта о случившемся царь Николай II написал:
«Правильный пример!»
Москвин же оправился от ран и после допроса в следственной комиссии вернулся в свой полк, но только во второй батальон, где в первый же день по прибытии один старый солдат-сибиряк сказал ему:
— Знаем тебя. Колокольчик твой громче тобольских колоколов громыхнул.
ЛЕСТНИЦА В НЕБО
I
У хорошо знакомой двери Николай Радченко стоял долго, не решаясь протянуть к звонку тяжелую руку. Когда карабинным затвором клацнул замок, лоб Николая покрылся холодной испариной, но перед матерью друга он предстал все тем же сосредоточенным, уверенным в себе человеком. С тех пор, как Нина Петровна стала пускать его в дом — это случилось полтора года назад, — лейтенант Николай Радченко бывал здесь каждые две недели, общаясь с Сергеем, ее сыном, как с самым что ни на есть здоровым парнем и старым товарищем.
— Давно тебя в милицейской форме не видел. — Ухватившись руками за подлокотники кресла, Сергей напружинился и, подрагивая всем телом, поднялся.
— Вы куда поедете, чтоб я знала? — привычно-обеспокоенно спросила Нина Петровна и сама же ответила: — На озеро? Только долго не засиживайтесь. Обещали грозу.
Сергей криво усмехнулся на ее заботу, сделал первый неуверенный шаг. Лейтенант шагнул навстречу, но друг бросил:
— Нет! Нет!
«Он стал говорить, как глухой — жестко и громко», — думал Радченко. Сергей шел мимо него, раскачиваясь, широко расставляя руки, будто балансировал на цирковой проволоке.
— Ты стал лучше ходить, — соврал Николай.
— Чего трепаться-то! — глядя в пол, подтаскивая почти не гнущиеся в коленях, словно закованные в гипс ноги, вздохнул друг. По его усталому, незагорелому сухому лицу блуждала не то ухмылка, не то гримаса недоверия и боли.
— Никола прав. Ты окреп, — провожая сына до двери, говорила Нина Петровна. — Но я хочу пожаловаться — ты не любишь ходить. Прирос к телевизору, за уши не оттянешь, а позавчера в газете писали, один альпинист тоже поломал спину, но проявил волю, тренировался, снова вернулся к работе, даже женился.
— Да ладно тебе агитировать, — не глядя на мать, обиженно сказал Сергей. — У него, поди, травма пустяковая была, а у меня… — Левой рукой он опирался на черную трость: вместо обыкновенной удобной рукояти у нее теперь было навершие в виде голой грудастой русалки, и это не понравилось Николаю.
Под тяжелыми ногами Сергея гулко бухала лестница. Лейтенант шел впереди и думал, что Нина Петровна никогда не простит его: ведь она четыре года не пускала его на порог, хотя знала, как он мучился и казнился.
Сильным толчком правой, сжатой в кулак, руки Сергей открыл дверь и зажмурился от ярко полыхнувшего солнца. Воздух был не по городскому чист и горяч, над лимонного цвета шафранами, росшими у подъезда — каждую весну их высаживала Нина Петровна, — с радостным гудом летал шмель. И Сергей вспомнил, как совсем маленьким мальчиком с зеленым краснозвездным самолетиком, изображая полет, он бежит по огороду, высоко вскинув руку, а копавшие картошку мама с бабушкой смотрят на него с одобрительной, счастливой улыбкой. «За что же такое?» — с мгновенно вспыхнувшей неприязнью к другу подумал Сергей.
Лейтенант давно возился у мотоцикла: что-то проверял в нем, открывал, закрывал краник. Все той же неверной походкой Сергей подошел к нему и сказал сиплым, будто перехваченным от волнения голосом:
— Порыбачим сегодня, лодку взял?
Николай кивнул на багажник, что означало: все, как всегда, на месте.
Мотоцикл, отлаженно и ровно урча, вынес друзей на улицу Коли Мяготина. Глухо порыкивали ярко-оранжевые КамАЗы, сине-бело-зеленые проносились «лады» и «москвичи», и Сергей с иронической улыбкой видел, как настораживались при виде милицейской формы друга водители встречных и соседних машин. Сергей любил ездить на мотоцикле: ветер тепло и упруго бил в лицо, все, что двигалось, шло, светилось, лежало кругом, было видно до мельчайших подробностей.
После недолгой задержки у светофора, Николай увеличил скорость, и Сергей, подтянув до подбородка старенький черный полог, одобрительно поглядел на него. В белой мотоциклетной каске с кокардой, в новенькой лейтенантской форме Радченко был не таким, каким Сергей его знал, когда друг приходил в гражданском. «Будто сто лет прошло с тех пор, — думал он, — а с семи лет наша жизнь шла рядом, как следы от саней».
На озеро Орлово, где у них было любимое место, в последний раз они ездили месяц назад. Наблюдая за улицей, острые глаза Сергея отмечали на ней все перемены. Покрасили свадебный дворец. А это что?! У школы тополя вырубили! Таких могучих стариков под корень?!
За время болезни Сергей обнаружил в себе глубинную память. Оказывается, он знал себя с трех лет и всегда кругом него росло, излучая тепло и добро, дерево. Когда смертельно-неподвижный он лежал в хирургии, он особенно прикипел душой к тополям, как к единственной радости, которую видел в окно. Покочевав из больницы в больницу, поняв и полюбив дерево еще больше, как живое, Сергей мечтал, чтобы каждая семья жила в своем доме с садом и огородом, с счастливо растущими в нем тополями.
В этот июньский день небо было бездонно-синим, как глаза Нины Петровны. Лейтенант виновато поглядел на друга, наклонился, спросил:
— Все в порядке?
Сергей не ответил. Ветер трепал его выбившиеся из-под каски кудрявые, темно-русые, длинные до плеч волосы. Он сидел гордо и прямо, и все, кто видели его на улице, подумать не могли, что в мотоциклетной люльке везут бывшего спортсмена, полупарализованного инвалида.
Осталось позади угловатое, высокотрубное здание ТЭЦ. Миновав переезд, мотоцикл мчался асфальтированной дорогой. Справа на высокой железнодорожной насыпи его догоняла дрезина. За ее чистыми стеклами Сергей видел рабочих в оранжевых, надетых на голое тело, спецовках и вспомнил, как в конце лета, за полгода до своей беды, на такой же точно дрезине он с матерью возвращался из леса: ждали электричку на полустанке, и Нину Петровну узнал старший дорожный мастер, который когда-то лежал у нее в палате…
В дрезине Сергей стоял у лобового стекла, впереди лежал далекий свободный путь, и рельсы, впервые открытые прямому взору, жарко горели под солнцем, а мелькавшие шпалы показались Сергею лестницей в небо: именно тогда, в дрезине, он окончательно решил стать офицером-десантником.
Дрезина убегала от настигающей ее грозы, но не смогла убежать; и последние тридцать минут дороги над маленькой желтенькой быстро идущей по рельсам машиной по-медвежьи рявкал гром, голубые холодные линейные молнии, как эрэсы, яростно полосовали черное вздыбленное небо, и Сергей представлял себя командиром готовой к атаке роты десантников.
Берегом озера они ехали пять минут. Николай знал подъезд к большой воде по солончаковому полю. На его середине урчанием мотоцикла они вспугнули занятого поверженной добычей огромного в размахе крыльев луня. Тот тяжело взлетел, и его сразу атаковали две визгливо-нервно кричащие чайки.
— Черт-те что! — глядя на поспешное бегство луня, громко сказал Сергей.
— Что? — наклонился к нему Николай.
— Да вон, — недовольно кивнул Сергей, — чайки луня гоняют.
— А-а, — понимающе сказал Николай и выключил зажигание.
Озеро спокойно-голубовато светилось. Сергея охватила теплая, давно желанная тишина. Он посмотрел в небо, высоко-высоко там крутила фигуры высшего пилотажа черная молчаливая точка, и такая тоска нахлынула, что он закрыл глаза и решил не открывать их, пока не пройдет этот, ставший в его жизни обыкновенным, приступ смертельно-безысходного одиночества.
Лейтенант спрятал ключ зажигания в боковой карман кителя, слез с седла, расстегнул ремешок мотоциклетной каски и, сняв ее, провел широкой грубой ладонью по своим рыжим коротко стриженным волосам.
— Тебе помочь?
Сергей помедлил, потом негромко сказал:
— Да, помоги, Коля. Ноги затекли.
Помогая ему выбраться из коляски, чувствуя, как сотрясается плохо управляемое тело друга, Радченко думал: «Ведь каких-нибудь десять сантиметров доворота, и Серега бы нормально упал на ковер!..»
…Пять с половиной лет назад, в тот невыносимый день он проснулся с чувством недовольства и раздражения: с середины ночи шел мокрый снег, и ему не нравилось серое, скучное небо и тесная, без ремонта квартирка. Он давно мечтал жить в комнате с высоким потолком, чтобы в ней было много солнца и воздуха. Все утро до взвешивания так хотелось пить: за последние двое суток перед соревнованием он выпил только стакан воды. Стоя под душем в остужающей струе воды — при сгонке тело горело, сжигая в себе последние граммы лишнего веса, — Николай тогда думал о главном своем сопернике на ковре, у которого почти никогда не выигрывал. Самым трудным для него было бороться с Серегой. Взяв его на победный прием, под приветственный крик болельщиков кинуть его на спину, а самому остаться стоять, что в самбо считалось чистой победой, или, захватив руку Сергея на болевой, чувствовать — рука друга, как птица бьется, вырывается из железных тисков захвата… Все-таки это было несправедливо и странно: ходить с другом детства, раскудрявым, улыбчивым, кареглазым, которого так любили девушки, по спортивному залу, вокруг ковра, где шли отчаянные бои, стоять с ним, шутить, хлопать по плечу, решать — пойдут или не пойдут они вечером прогуляться в горсад, и вдруг услышать металлический голос: «На ковер вызываются борцы весовой категории до семидесяти четырех килограммов — Борисов, Радченко… В красном углу — Сергей Борисов, первый разряд. В синем углу ковра — Николай Радченко, первый спортивный разряд». Удивлявшая многих спортсменов странность заключалась в том, что в секции тренировались мастера, у которых Сергей никогда не выигрывал, а Николай мог сделать им на спаррингах даже болевой прием. Случалось, на соревнованиях, проиграв Сереге, он со злости мог кинуть сильнейшего борца через спину с колен.
Той зимой, в феврале, на первенстве города, Николай решил, наконец, сломать в себе эту распроклятую, ему самому трижды непонятную расслабленность перед другом, и все время, до их с Серегой выхода на ковер, он не подходил к нему, чего раньше не делал.
Николай хорошо помнил, как за двадцать минут до призывного гонга он ушел в раздевалку, сел там на скамейку, пристально глядя на пустую, свежеокрашенную синюю стену и стал думать: «Я должен выиграть. Я сильнее. Это все знают. Я должен выиграть» …Он настраивался на схватку, как никогда в жизни — сурово и зло, зная, что в идеале спортсмен должен выходить на борцовский ковер, как на самый последний бой. Николай одиноко сидел на низкой скамейке в молчаливом, цепком сосредоточении и с удивлением чувствовал, как в нем рождается гнев, до этого ему неизвестный…
…Только судья коротко-громко свистнул, как Николай сразу атаковал — провел ногой зацеп изнутри. Ошеломленный атакой, выведенный из равновесия Сергей покачнулся, ему показалось: на ковер вырвался не Радченко Николай, а железная, почему-то одетая в белую куртку, все сокрушающая машина.
Резким движением плечей вправо Николай вырвал отвороты своей куртки из рук Сергея, сменил захват, присел, кисти его ушли вниз, за поясницу друга, при этом левый локоть того тоже оказался захваченным, и, сильно прогибаясь назад, Николай сделал бросок через грудь, хотя раньше так никого не кидал. Прием знал только теоретически. Почему он применил именно этот прием, где все должно быть оттренированно и рассчитано до мелочей, Николай до сих пор не мог себе объяснить: наверное, шестым чувством борца понял — прием пойдет. Но он не рассчитал силу, с которой вырвал Сергея, да еще руку ему захватил — с кривой, по которой приземлил его на ковер. Сергей жалобно, вроде как обиделся, вскрикнул. Руки Николая разжались, еще какую-то долю секунды, ошеломленный, испуганный, он лежал подбородком на его груди, а потом откатился в сторону и, тупо глядя на друга, лежащего со странно подвернутой головой, встал на задрожавших ногах. Николай увидел, какие огромные стали у Сереги зрачки. «Почему у него такие зрачки?! — смятенно подумал он. — Что я сделал, что у него такие зрачки?!» От боли светло-карие глаза друга стали угольно-черными, больше Сергей не кричал. Что было дальше, Николай помнил смутно. Его, как штормовой волной, отбросили от лежащего без сознания Сережи хлынувшие на ковер судьи в белых рубашках и брюках, спортсмены в синих, красных самбистских куртках. Он помнил, что врач и фельдшерица не сразу пробились к Сереге через плотное людское кольцо. Николай рвался к другу, но его все время не пускали к нему широкие спины самбистов; еще он помнил тоскливые, молча осуждающие глаза тренера. Пока Николай не ушел в армию, он все время видел такие глаза у знавших его людей.
II
Спустившись с песчаного бережка, они долго стояли, глядя на тихо плещущую у ног воду. На озере или в лесу Сергей умел забывать свое постоянно раздраженное состояние. Ему нравился дурманящий запах водорослей и рыбы, летнее, зыбкое марево над водой.
— Рыбачить сегодня не будем. На берегу посидим, подышим. — Сергей повернулся и, опираясь на палку двумя руками, подволакивая ноги, стал подниматься к машине.
— Ты куда?
— У меня там одеяло в сумке.
Долго провозившись с замком, Сергей бросил одеяло Николаю, тот расстелил его на песке. Они скинули одежду. Лейтенанту, несмотря на протесты, опять пришлось помогать другу.
Прямо перед ними, в десяти метрах от берега, стоял в воде давно забытый, как водокачка, бревенчатый сруб. Сваи его давно прогнили, и сруб тяжелым брюхом ушел на дно. Вокруг, весело смеясь, по-гусиному гогоча, они пацанами любили играть в догонялки, нырять и загорать на плоской теперь торчащей из воды деревянной вершине. Вода тогда была намного чище теперешней. Под водой сновали мальки, иногда приплывали громадные красноперые окуни, такие умницы, что никогда не ловились на удочку.
Над озером уверенно-молчаливо, как единственные хозяйки, летали чайки. С западной стороны на вольный озерный круг наступало пшеничное поле, посреди которого высился хорошо видный с берега гололобый скифский курган. О том, что здесь кругом когда-то был тополиный край, напоминали четыре в лучшей своей поре тополя, которые оставило жить чье-то доброе сердце, чтобы уставшие во время страды комбайнеры могли передохнуть в тени и прохладе, идущей с воды.
— Хорошо бы построить здесь лодочную станцию. Я бы устроился сюда смотрителем, — глядя на противоположный пустынный берег, задумчиво сказал Сергей.
— Ты работу так и не приглядел, вроде на телефонную станцию собирался?
— Не надо мне этого, — грустно усмехнулся Сергей.
— Не понял.
— Там, оказалось, одни девчонки работают.
— Среди людей всегда легче, Серега.
— Я только для одного дела родился. Думал, стану десантником, жизнь начнется, не похожая ни на какую другую. Я высоты не боялся. Меня в небо тянуло.
— А теперь, как оказалось, у тебя для такого дела была кишка тонка. Знаешь, как про тебя думают? Говорят, Борисов расклеился, привык лодырничать, удобно живет: «Мама, подай, мать, принеси!» Я пока так не считаю. Я не думаю, что ты сдался. Но в тебе что-то сломалось. Неужели ты не поднимешься?! — Как ни жестоко казалось так начинать разговор, другого выхода у Радченко не было.
В синей картонной папке Нины Петровны, где хранились медицинские заключения и всякого рода справки, анализы, рентгеновские снимки сына, уже две недели лежало долгожданное, слезно вымоленное ею письмо из Москвы, из института, где удачно оперировали повреждения позвоночника. И вот теперь, когда пришла пора срочно собирать нужные для поездки бумаги, Серега забунтовал — отказался от операции и никак не хотел объяснить матери причину, отказа. Нина Петровна проговорила с ним много часов и стала думать, что вот и наступил тот день, которого она так боялась. Медицинская сестра, она всякого навидалась, и самым горьким воспоминаем для нее было, когда матерые мужики, сломленные травмами или болезнями, вдруг превращались в обозленных на весь мир, трусливых, капризных, как больные дети, людей. Нина Петровна поклялась себе, что с ее сыном такого не произойдет. Но, видно, предусмотреть всего оказалось нельзя. Может, ее душевного опыта не хватило? После вызова из Москвы, Сергей стал на глазах меняться катастрофически, он даже мог теперь накричать на мать: «Я не хочу операции! Ты ничего не понимаешь! Я хочу просто жить, смотреть в небо — мне этого теперь достаточно! А вы все торопитесь, бежите куда-то, и никто не знает, что все уже давно опоздали!» Он стал часто повторять эту фразу, которую Нина Петровна никак не могла понять. В конце концов она совсем запуталась и, растерявшись, переговорила со всеми друзьями, своими и Сережиными, но никто не сказал дельного, и тогда она бросилась к Николаю. Она не любила его, даже ненавидела, но обратилась к нему, как к человеку военному, награжденному боевой медалью. Еще она знала, что он много выстрадал из-за Сергея, поэтому и попросила у него помощи, хотя все материнское в ней всегда восставало, когда приходилось говорить с виновником несчастия сына.
Мучаясь своей виноватостью, Николай никогда, не осмелился бы обидеть друга, но Нина Петровна, самые близкие ее друзья до конца выложились — и по-хорошему, и по-плохому убедить Сергея согласиться на операцию…
— Что-о-о?! — кричал сидящий на песке Сергей. — Это я сдался?! Да я день и ночь думал, как мне подняться, снова одеть самбистскую куртку, выйти на борцовский ковер, взять свой захват и так кинуть тебя подхватом, чтобы ты воткнулся головой в ковер и хотя бы две минуты побыл в моей шкуре, чтобы понял, что я переживаю. Пока я снова не привык к тебе, я хотел одного — выздороветь и сломать тебе шею. Теперь я так не думаю, все прошло, а в общем, я не знаю, что со мной происходит!
Николаю казалось, все самое страшное было уже пережито им, но он опять не смог противиться памяти и снова его толкали, выталкивали из палаты Сергея две маленькие ладошки. «Уходи! Уходи!» — кричала Нина Петровна. В ту минуту ему можно было сломаться, выйти на улицу с разорванным сердцем и с тех пор только виновато глядеть на людей. Так бы и случилось: вокруг Николая тогда образовался вакуум, телефон в его квартире похоронно молчал. Он знал, многие собираются или уже вычеркнули его из памяти, и, бросив второй курс строительного техникума, Николай ушел в армию.
— Мать очень переживает. — Он сухой камышинкой чертил на песке какой-то странный, не понятный самому рисунок. Над сидящими у воды плечо к плечу друзьями низко, распластав крылья, нырками, летел полевой лунь.
Сергей проводил его откровенно завистливым взглядом и, еще не остыв, громко сказал:
— Обидно, такую сильную, большую птицу трепали какие-то чайки!
— А матери твоей не обидно? — посмотрел ему в глаза лейтенант. — Нельзя так, Серега. Она плачет.
— Что вы все как с цепи сорвались?! Накинулись на меня. Операция! Операция! Была у меня операция — и ни хрена, все без толку!
— Все думают, ты боишься, — спокойно-безжалостно сказал Николай, думая, Серега побледнеет, начнет махать руками, кричать, что все вы волки позорные, а он не трус и вообще никогда, ничего не боялся, даже смерти. Но Серега с мрачной, потаенной улыбкой вдруг согласился:
— Ну что же, они правы, мне действительно страшно.
Как только он узнал, что с операцией решено, как только подержал в руках белый листик бумаги, на котором был отпечатан строгий, вежливо-холодный вызов в Москву, к нему снова вернулся ужас прежних, старательно забытых им дней. Сразу потеряв способность уснуть, Сергей опять видел себя распятым на огромном, жестком щите и ему снова хотелось кричать: «Развяжите меня! Развяжите меня!» Его голову, сразу после травмы, в неподвижности держал, закрепленный на черепе двумя клеммами, пять сантиметров ниже макушки, девятикилограммовый груз. Неподвижность была абсолютной, жили только мозг и глаза. И оглушительная бессонница… Ночь, на потолке мертвенно-бледный свет уличных фонарей и кто-то неизвестный, но подлый безжалостно шепчет в уши: «Ты — труп. Ты — труп». «Вот и кончилась жизнь, — думал тогда Сергей. — Я — говорящая голова, и ничего больше». Потеря сознания от невыносимых болей служила спасением. Через шесть дней спина и поясница его стали краснеть — пошли пролежни. Тело начинало заживо гнить, но этот процесс в тканях, благодаря материнским заботам, остановился. Сергей часто думал, какой же он невезучий. Историю его изучали на разных уровнях и самые ответственные работники спорткомитета, и тренеры не могли вспомнить, чтобы с хорошо подготовленным спортсменом-самбистом случалась такая трагическая нелепица.
Тело Сергея, в секунду ставшее камнем, никак не могло привыкнуть к новому своему состоянию. После травмы главной силой Сергея стала душа, но вот и она надломилась.
III
Досаафовский самолет, пока друзья сидели на берегу, спустился пониже и на высоте трех тысяч метров крутил мертвые петли. Когда он показал в воздухе боевой разворот, Николай твердо поглядел на Сергея и сказал:
— Я не буду тебя уговаривать, просто посидим у воды.
— Вот и ладно. Я знаю — тебя мать просила. — Сергей смотрел в землю.
— Что ты все — мать да мать! Дома при мне ни разу ее мамой не назвал!
— Ты плохо не думай. — Сергей оскорбленно насупился. — Она самый дорогой мне человек. А, впрочем, ты прав. Земля из-под ног уходит. Обиженный я, а на кого обижаться? Судьба.
— Но уж не на мать.
— Досталось ей! Отец нас бросил, когда мне полтора года было, и сразу на другой женился. Я иногда вижу его с балкона.
— Ты, Серега, самбист.
— Какой я самбист? Не смейся!
— У тебя еще три досаафовских прыжка.
— Ну и что?
— А то… Был сильный страх перед первым прыжком?
— Конечно.
— Ну и что?
— Был да сплыл. От счастья, что парашют раскрылся, пел в воздухе.
— А что пел?
— Лучше нету войск на свете, чем десантные войска.
Николай рассмеялся, довольный, обнял товарища:
— Эх, Серега, друг дорогой, поедешь в Москву, прооперирует тебя светило, вернешься домой без палочки, на своих двоих. Оденешь самбистскую курточку и трахнешь меня подхватом.
Сергей молчал. «А в Москву я не поеду, — решительно думал. — Лечить позвоночник — самое сложное дело!»
Когда с головы Сергея сняли клеммы, к которым крепился девятикилограммовый, выправляющий позвоночник, груз, он испытал ужасную боль; с тех пор он особенно боялся боли, и все же это было не главное, чего он боялся.
Исподволь, потихоньку, через год после травмы, к нему пришло пусть не полное, но облегчение. Сначала он чувствовал пальцы ног, оживление поднималось выше, вот и пальцы рук начали шевелиться, самое дикое счастье он испытал, когда самостоятельно повернулся на левый бок. Когда же он прошел по комнате, раскачиваясь, как тополь во время грозы, и сам включил свет, он понял — это предел! Все эти маленькие, но в то же время чудесно большие радости были достигнуты им после трехлетних, ежедневных, многочасовых тренировок. Друзья-динамовцы его не оставили: навещали, помогли сделать тренировочные снаряды, брали с собой на загородные сборы — в лес, на реку Ик, — но Сергей все равно чувствовал ближе и ближе подступающее одиночество. Ребята шли вперед, росли, становясь мастерами, выигрывали большие соревнования и отдалялись. Взрослели просто-напросто. У каждого определилась своя дорога — счастливая, нелегкая или коварная. Надо было быть смелым и жестким работником, чтобы стать самым сильным и первым.
Однажды на сборах в середине августа ребята после ужина сидели у теннисного стола и трепались о спортивных перспективах на будущий год. Сергей, поужинав как всегда самый последний, шел к ним, радостно улыбаясь: он любил этот час отдыха, когда ребята становились самими собой, то умно рассудительными, как пожившие деревенские мужики, то наивно смешливыми, не потерявшими способности удивляться детьми. Самбисты из сборной сидели спиной к Сергею, и только один, когда-то слабый, проигрывавший ему, теперь стабильно идущий наверх спортсмен, увидел, как, запнувшись о горбатый сосновый корень, Сергей упал в траву и не мог встать. Опершись на кулаки, он пытался приподнять непослушное, слабое тело, но не получалось, и, дрожа головой, Сергей бултыхался в траве, стыдясь попросить о помощи, а тот, сидящий на теннисном столе лицом к нему парень, спокойно глядел на это: ему давно и порядком надоело возиться с калекой. Когда Николай Ефремович, тренер сборной, как будто что-то почувствовав, спросил: «А где Борисов?» — парень этот, буднично улыбаясь, сказал: «Да вон, в кустах отжимается». И все двенадцать самбистов, оглянувшись на Сергея, захохотали. Слыша этот здоровый смех, он хотел умереть от стыда и ненависти к самому себе. По раздраженному, недовольному взмаху тренерской руки все двенадцать мускулисто-красивых апостолов кинулись к поверженному товарищу, подняли его с тяжелой земли, как пушинку, посадили на скамью рядом с виновато глядящим на него тренером. С той минуты Сергей стал отдаляться от сотоварищей. Время его тренировок катастрофически сократилось. Он стал чаще смотреть телевизор: оказалось, что мир огромен. Он полюбил окно, часами сидел на балконе в плетеном высоком кресле.
«Снова полная неподвижность?! Сейчас я хоть как-то передвигаюсь. А вдруг там не повезет: рука у хирурга дрогнет или еще что… Не-ет! Снова стать говорящей куклой, пялить глаза в потолок? Нет! Я помню это счастье, когда сам повернулся на левый бок! Я люблю небо, люблю осенний лес, я даже могу километр пройти по нему, могу сорвать березовый лист, я даже купаться могу, ну не в прямом смысле: могу зайти в воду и, чувствуя, как легко в ней становится, могу прыгать в воде и хлопать руками, как подбитая птица крыльями. После двух с половиной месяцев лежки на вытяжке я не дам себя окончательно искалечить! Боже, какая была боль, когда сняли грузы! Меня свернуло в крючок!»
…Стихало над озером полдневное марево. Чайки, разомлев от жары, перестали летать. Только полевой лунь вел неустанный поиск добычи, мотаясь над озерными берегами.
— Наши самбисты, говорят, на Кубке хорошо выступили? — спросил Сергей. — Помнишь, когда мы были все вместе, из первого набора Ефремыча: Иван, Славка, Петро, Саня… Мы плакали, когда из нас кто проигрывал. Пацаны были, но я уже тогда думал: кто переживал просто так, с улыбкой, вроде как ничего не случилось, тот не борец.
— Да, — в ответ кивнул Николай. — Молодец Ефремыч! Набрал нас в секцию десятилетними пацанами. Иван теперь чемпион Союза, Саня первенство РСФСР выиграл, Славка — чемпион мира среди молодежи.
— А у тебя какой лучший результат, Коля?
— В начале службы стал четвертым на чемпионате ВДВ. Эх, Серега, — провожая взглядом учебно-тренировочный самолет, сказал Николай, — каких людей я там видел! Самых лучших наших людей!
На зеленой новенькой плоскодонке вдоль берега плыл старый, с рваным шрамом на черной от рабочего загара щеке, рыбак в надвинутой на лоб пожеванной кепке. На левой стороне выгоревшего под рыбачьим солнцем когда-то темно-серого пиджака скромно алела одна-разъединственная орденская планка. Сергей подумал, что это он должен, даже обязан был быть там, где служил Николай, и через сорок лет точно так, как этот старый рыбак, награжденный в жизни только один раз, но солдатским боевым орденом, с чувством, что жизнь прожита не зря, он бы спокойно плыл на такой же обыкновенной лодчонке… Как сегодня, сидели бы на берегу двое, но обязательно ни в чем не виноватых друг перед другом друзей. Им казалось бы, что перед ними на воде самый заурядный, каких много на земле, мужик: на самом же деле в его простой, некрасивой, раненой голове жила бы необыкновенная память о воинском братстве, которого ему, Сереге, теперь никогда не знать… Ему хотелось заплакать, но это делать было нельзя.
— Значит, не хочешь ехать? — мягко вздохнул Николай. — Ну, а мне-то как жить?
— А тебе-то что? Живи, — не глядя на друга, сказал Сергей. — Живи, как жил, шпану лови, если тебе это нравится.
— Жесткий ты парень, — Николай сумрачно усмехнулся.
— Знаешь… — Сергей нервно чертил на песке камышинкой. — Замнем этот разговор. Дай мне чистым воздухом подышать. Мне эти разговоры дома осточертели, а здесь тишина. Ты, вижу, тишину не любишь. У тебя больше в характере пошуметь.
— Нет, Сережа. — Лейтенант лег на одеяло. — Ничего ты не знаешь. Я как раз люблю тишину.
В голубом небе, как журавли перед дальним полетом, в две неровные линии строились ярко-белые облака, и Николай вспомнил: такой же белизны снег лежал на том неожиданно голом месте в сосновом бору, которое образовалось, видимо, давным-давно и почему-то не зарастало. Сейчас мысленно, до необыкновенности ясно увидев тот голый квадрат, он понял: просто он тогда остановился на занесенном снегом болотце, и снег на нем был небесно чист, а высоченные корабельные сосны, которые в любую погоду печально гудят, молчали, и это сильно насторожило. Оторвавшись от основной группы, на широких охотничьих лыжах он бежал в тот день за опасным для людей человеком и на восемнадцатом километре почувствовал резь в глазах, изображение плыло, надо было собраться: преступник, за которым он шел, оказался не по годам силен и вынослив и не догнать его было нельзя. То, что на той, окруженной вековым лесом, чистой поляне к нему пришло второе дыхание, было закономерным. Именно на поляне, в первый раз в этой гонке, он вспомнил Сергея, и, как всегда в трудных случаях, злость на себя погнала его вперед все быстрей и быстрей. Разбитый параличом по его вине самый дорогой друг Серега уже давно был его совестью. Когда волею судьбы, служа в группе захвата, он делал свою работу один и всегда очень надежно, его начальство от удивления разводило руками и говорило: «Нет, такое одному человеку не по плечу». А Николай думал на это: «Мы были вместе с Серегой». Но вслух об этом он никогда, никому не сказал.
— О чем ты сейчас думаешь? — подложив под голову руки, спросил Николай.
Сергей лег рядом, тоже поглядел в небо:
— Только ты меня поймешь. В горах такие, как я, парни везут грузы для кишлаков, итальянские мины снимают на дорогах, кто-то в эту минуту меняет в автомате диск… Я прямо вижу, как ему в лицо хлещут осколки камней. А я на песочке сижу, в покое. Эх! — Сергей сжал кулаки.
Николай медленно встал на колено, взял милицейский китель, вынул из внутреннего кармана сложенную вдвое светло-желтую, будто обожженную солнцем, бумагу и подал ее другу. В середине бумажки была фотография.
С серого, нерезкого снимка глянул на Сергея десантник в берете, с широким крестьянским лбом, чуть скуластый. В выцветшем хэбэ, беловолосый, небогатырского разворота плеч, по-детски улыбающийся, он стоял у кирпичной стены; светлые глаза глядели уверенно и одновременно тревожно. Отложной армейский воротник открывал уголок десантной тельняшки. Сергею показалось, он раньше видел этого парня, но где — вспомнить не мог. Много таких. Он поднял на лейтенанта глаза.
— Ты его не знаешь. Просто я хотел, чтобы ты на него поглядел. — Николай обратно взял фотографию. — Это сын нашего сержанта-водителя. До армии на заводе работал, фрезеровщиком.
Сергей развернул желтый, размером с ладонь, лист, на котором было написано:
«Здравствуйте, уважаемые Галина Викторовна и Виктор Васильевич!
На Ваше письмо об обстоятельствах гибели Вашего сына рядового Иконникова Анатолия сообщаю, что 22 декабря 1983 года подразделение, в котором служил Анатолий, выполняло задачу по обеспечению безопасности мирного населения уезда, подвергавшегося нападению душманов.
Свой интернациональный долг рядовой Иконников Анатолий Викторович выполнил с честью, зарекомендовав себя смелым и решительным воином. Защищая мирное население, проявил храбрость и мужество. Память о нем навсегда сохранится в сердцах его командиров и боевых товарищей.
С глубоким уважением к Вам
командир подразделения Нефедов. Полевая почта…»Сергей ссутулился над письмом, как человек, который за тысячи километров от родного дома в дождливый, ветреный день прячет от непогоды разгорающийся костерок. Он снова прочел бумагу и подумал о том дне и часе, когда материнские руки вынули этот листок из конверта. Сергей читал его еще и еще, впитывая слова, словно запоминал, а Николай, не мешая, глядел то на ту сторону озера, на после полудня кажущийся близким пустынный каменистый берег, то следил, как учится в небе летчик. Вернувшийся с дозаправки истребитель, крутя фигуры высшего пилотажа, уходил выше в небо, превращаясь в еле различимую точку.
Сергей сидел на песке с лихорадочно горящим лицом, настороженно напружинившийся, каким в последний раз Николай видел его за десять секунд до первого, обязательного перед набором в ВДВ, прыжка с парашютом, когда выпускающий открыл перед ним рампу.
Потом Сергей бережно расправил на ладони желтенький лист и сказал:
— Наверно, я поеду, Никола.
Летчик на борту досаафовского ЯКа оглядел такое родное ему голубое озеро и чуть тронул рукоять управления. Самолет, как послушный ребенок, откликнулся и вышел в прямой полет.
В наушниках раздался далекий голос диспетчера: «Борт шестой, возвращайтесь». «Еще немного», — подумал пилот и решил спуститься ближе к воде. Назавтра он ехал сдавать экзамены в военное летное и чувствовал, что поступит. «Я буду летать на боевых машинах», — думал летчик, но ему было грустно, что об этом на земле знало немного людей.
Озеро под ним закружилось, как детский волчок. Твердой рукой на заданной высоте пилот остановил вращенье машины и поглядел вниз — видел ли кто его умелый выход из штопора? Когда на северном берегу озера двое стоящих возле мотоцикла приветственно помахали ему, пилот улыбнулся счастливо и, прощаясь навсегда, покачал крыльями самолета.
У БОЛЬШОЙ ВОДЫ
I
В ночном полусвете Егор с трудом отыскал фигурку жены: среди торопящихся к самолету она была одна из многих, не приметная под чужим взглядом. Как жена ни прятала сына, перед входом в самолетное чрево бортпроводница придержала ее; и Егор увидел на Зоином плече сонно притихшего мальчика. За двадцать минут до посадки, когда они с ней сидели на разных краях скамейки, Петюня бегал между ними, смеясь, смотрел в отрешенные лица, а перед КПП, утомленный аэропортом, уснул. «Хорошо бы он не проснулся до конца полета», — думал Егор, прижимаясь к стальной оградительной сетке. Ненависть к этой способной к большой высоте машине он уже пережил. Улетающий в Москву самолет, на борту которого спал сын, теперь, когда впереди лежали две тысячи километров, надо было любить, и Девятов любил крылья машины, ее моторы, шасси. В свете прожекторов белая молния уже не грохотала, а выла, и Егор подумал, что сын проснулся и, увидев много чужих людей, заплакал: дети болезненно переживают равнодушие к себе.
Самолет оторвался со злым, неземным свистом. Еще какое-то время ТУ-154 должен был лететь над шоссе, и, расстегивая плащ — так сразу жарко стало, — Егор бросился к стоящему недалеко от ограды отцовскому «жигуленку».
Сначала он потерял самолет, потому что отвлекся, представив Петюню на коленях у матери. Мальчик, перестав плакать, вяло играл с машинкой. Прощаясь, Егор подал ее бывшей жене, чтобы она отвлекла сына от взлетных переживаний.
Самолет набирал высоту, но Егору не полегчало. «Откуда в ней такая жестокость? — думал он о жене. — Молчала до последней секунды, а в метре от КПП, когда передал ей ребенка, выдала, что сменила квартиру!»
Разлука с сыном только начиналась, а ему уже было невмоготу. Не сводя глаз с навигационных огней, Девятов знал, ничего хорошего в его жизни больше не будет. Надежда, что мальчик будет расти у него на глазах, рухнула.
II
Зачем-то подышав на холодное стекло иллюминатора, Зоя подумала: «Там, где остался Егор, тьма, а здесь солнце еще в силах погреть моего ребенка».
Солнце превратилось в раскаленный маленький сгусток. По нему ударила похожая на молот туча. Ярко-красная точка растаяла. Зоя вздохнула: «Хорошо, Петя не похож на Егора. Мама говорила: «Будь он в твоего мужа, я бы не полюбила его».
Мальчик во сне постанывал. Зоя потрогала его пульс. «Нет, здоровье у него прекрасное, не как у Егора. Я думала, гидролог, всегда на воде — закаленный, а он замучил своими простудами». Ее правое плечо начало затекать, и она ловко переложила ребенка.
III
Машину Девятова остановил красный свет. В отчаянии, что самолетные огни удаляются, он нажал на клаксон. Мятущийся, загнанный хрип понесся по улице. «Ни одно окно не зажглось, — глядя в стекла домов, думал Егор. — А ведь я прошу помощи!»
После суда он долго просил Зою отпустить с ним ребенка за Урал, к бабушке. По каким-то соображениям она согласилась, и Егор уехал в отпуск со странной надеждой, что можно будет продлить уединение с сыном. Перед отъездом с помощью правления кооператива они с ней разделили в своем доме трехкомнатную квартиру: двухкомнатную на пятом этаже — Зое с сыном, однокомнатную на первом — ему. Это было спасение! Больше всего он боялся жизни без сына!
Дали зеленый, но Егор не поехал. Городок, где он доживал отпуск, по ночам был безлюден, и Девятов позволил себе задуматься посреди улицы.
После женитьбы он скучал по Зое. Иногда она мерещилась ему на воде. Как святая шла, ноженьки не замочит. «Зачем мы все время лгали себе? Делали вид, что ждем встречи». Возвращаясь из экспедиций, пять лет он мечтал увидеть жену на вокзале. Егор брал такси и ехал домой, зная, что она у матери, а в квартире запустение и пыль. Зоя «прилетала» на моторе, оправдываясь: «У меня много работы» (ее НИИ было близко от мамы) — или ссылалась на простуду сына: «Ты перед отъездом плохо утеплил окна». Так он и жил, все равно считая — у него нормально, пока Камнев лицом к лицу не столкнулся с Зоей. Когда он позвонил, главное Егору было известно, но он набрался мужества выслушать до конца. «Егор, — взволнованно гудел в трубку Камнев, — можешь меня послать, но не могу отмолчаться, а ты думай. Вчера я был в НИИ, где работает твоя Зоя, у главного. До него рядовому сотруднику не добраться. Занятой, закрытый мужик. Я к нему по редакторским делам попал, мы его издаем. Заговорились. Кончились сигареты. Он снимает трубку. Входит без стука не секретарша, а твоя жена, приносит «Кэмел». Он ей: «Рад, что зашла. Но я занят». А она испугалась. И я растерялся. Тому невдомек, улыбается: «Как договорились, в семь»…
Камнев Зою Михайловну недооценил. Понимая, что ради дружбы Сеня не затаится, она все рассказала Егору.
— Если женщина идет домой с радостью, значит, все хорошо. А я давно иду к тебе без желания.
— Что ты все о себе?! — кричал ей Девятов. — У нас ребенок!
— Ты не обижайся, Егор. Ты хороший. Но я молоденькая была, не понимала, что не подходим друг другу. Как только я переступила грань, я узнала — все может быть красивее, восторженней, когда каждый жест — упоение. Ты сам виноват! — Она даже плакала. — Храня тебе верность, я нигде не бывала. Ты принимал это как обязательное, давно кем-то для тебя завоеванное. А меня надо было поддерживать. Разве я некрасива? Меня нельзя было оставлять одну!
— Ты забыла?! — кричал Девятов. — Забыла, что за день до свадьбы я хотел уехать, а ты, как чувствовала, прикатила и разрыдалась. «Пойми, — сказал я тебе, — это для твоей же пользы. Тебе наскучит моя кочевка. Реки вскрываются, мы, гидрологи, в путь. Не потянешь!» Говорил я? А ты в ответ: «Егорушка, люблю тебя!»
Проводив самолет, в бессильной ярости Девятов уговаривал себя, что никогда не любил жену.
Он тупо смотрел, как исправно работает светофор, и не трогался с места. «Пять лет тайного и явного раздражения друг другом. Разве не было?»
Когда народился мальчик, Егор заплакал. Теперь в машине ему казалось, он плакал не от счастья, а от земного таинства, которое совершилось. Отчистив, отмыв коммуналку, в тот субботний день он сидел в горячей ванне и плакал, а в дверь ломился пришедший с конфетной фабрики сосед Владимир, напоминая — время вышло и не надо томить пожилого усталого грузчика. Через год, став дедом, Владимир сам всплакнул в ванной, на все вопросы о внуке отвечая одно: «О, теперь это мой лучший друг».
Егор вдруг вспомнил, как получив письмо от жены, что она на втором месяце, томимый предчувствиями, он вышел на берег реки. На пароме, держась за единственное целое перильце, лицом к воде молилась старуха. Когда в быстро наступающей тьме она сошла на песок, Егор спросил: «Что же, в церковь не ходите?» — «А зачем? — голос у старухи был по-речному гортанный. — Что мне там делать? Священникам молиться? Так они распутники, нечестные люди. Бог — он всегда со мной. Он меня бережет, потому что мой бог — совесть». И не клоня головы, она пошла вверх, к ярким огням бывшей казачьей станицы.
«Еще один человек так живет», — подумал Егор.
На светофоре опять загорелся красный, и он не поехал.
«Нам было кого стыдиться, а вам?» — сказала ему мать, узнав, что он с Зоей в разводе. Потом заболел Петюня, и над ним, стонущим, она дала волю слезам.
— Вы эгоисты! — причитала. — Погрязли в гордыне. Вы-то еще начнете новую жизнь, а мальчику расти без отца?!
— Не я виноват, — говорил Егор над мечущимся в жару, беспамятным сыном.
— Надо прощать! — жалобно, еще на что-то надеясь, просила мать. — Миллионы обманутых — и простили.
— А я не могу. — Егор отвечал жестко, но когда в три часа ночи Петюне пригрезилось свое, детское, но страшное: вдруг из зрачков ребенка полохнул такой смертельно-взрослый испуг, — Егор содрогнулся, почувствовал себя виноватым и решил простить.
«Почему мы считали, что он ничего не понимает? Когда еще не было решено — развод или нет, мы сидели на кухне и, стараясь быть взаимно порядочными, решали свою судьбу. Я первый сорвался. Зоя ответила, и сразу в дальней комнате зашелся в крике ребенок, будто понял, что обречен».
«Простить? — Егор зло переключил скорость. — На суде она заявила, что моя женитьба — брак по расчету».
Ведя машину, словно впервые, он вспоминал, как на свадьбу приехали его старенькие родители, всю жизнь инженеры, коренные москвичи, которые так и остались на эвакуированном заводе.
Свадьбу играли скромную — не хотели целоваться на глазах у «нужных» людей. Егор помнил, как тесть, начальник управления, с тонкой усмешкой смотрел на его взволнованного отца, переживая, что, входя в семью трудяг-интеллигентов, дочь как бы делает шаг назад. Перехватив этот брошенный на седую рабочую голову взгляд, Егор отверг тестя, как и его приглашение жить вместе. «Нет и нет, — говорил Девятов жене, — поживем в коммуналке. Так многие начинали, а потом в кооператив».
Разменяв трехкомнатную квартиру, Егору оставили лишь раскладушку и тапочки. Он только усмехнулся, уверенный, что это заботы Зоиной матери. «Петюню жаль! — сразу после суда думал Егор. — Какое счастье, что он будет жить на моих глазах! Школа рядом! Подниму мальчика, оставлю ему квартиру и уеду на родину. Умирать у большой воды».
Вспомнив о сыне, Егор еще раз пережил его болезнь, стоны, температуру, и слабость… Укутанный в шаль малыш сидел в кроватке, листал старенький журнал «За рулем» и говорил: «Я люблю папу, бабу и деду». Егор чуть не заплакал, вспомнив эту детскую нежность.
Девятов умел все, что до́лжно уметь, чтобы растить ребенка. Об этом он сказал на суде. Ему ответили: «Ваша работа не позволяет заниматься воспитанием сына». — «Я сменю профессию, — говорил он. — Пойду в детский сад воспитателем». На это скептически улыбнулись.
«Кому и как доказать, что сыну будет лучше со мной?! Мы с ним родные! Когда мы играем, Петюня, обнимая меня, говорит: «Ты мой папа, а я твой сыночек». Теперь сын летел высоко в небе, не зная, что отец с матерью стали чужими, ненавистными друг другу людьми.
Подъезжая к дому, где его ждали, Девятов понял, что, раздавленный, не может показаться на глаза старикам. Они бы сразу поняли — пришла другая беда. Мать Егора подозревала, что Зоя, надеясь на другое замужество, сменит квартиру.
И Девятов поехал на берег Тобола — смотреть на черную, всегда любимую воду.
Егор чувствовал себя оскорбленным, обманутым, никому не нужным. «Лекарство от любви — другая любовь, — вспомнил он. — На время я смогу успокоиться. А сын, так на меня похожий, мой мальчик, будет в заложниках у чужих людей?! Каким его вырастят? В ненависти ко мне? Если лекарство от любви — другая любовь, то как быть с бедой, которая меня захлестнула? Здесь, у воды, вспомнить, что кому-то было или будет хуже, чем мне?»
Вот на Иртыше с чеченом Колей они плывут домой на моторке, и в узком, необыкновенно глубоком месте, у острого камня, торчащего из воды, Коля, тоскливо помаргивая, рассказал: «Тут в июне утонули два брата. Один десяти лет, горбатенький, учил пса Дона переплывать речку. Обратно с того берега собака не поплыла. Парнишка взял свои вещички и поплыл за собакой, не дотянул двух метров до берега и утонул. Другой брат — погодок — нырял за ним, звал, метался по берегу, снова нырял и тоже не выплыл».
Егор думал, что вспомнит об утонувших ребятишках, без надрыва, спокойно, как раньше, но он ужаснулся, проклял воду и затосковал о чужих детях, как о родных сыновьях.

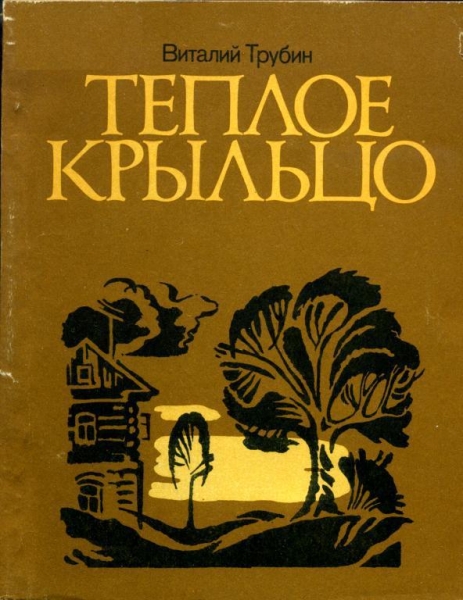



Комментарии к книге «Теплое крыльцо», Виталий Николаевич Трубин
Всего 0 комментариев